Алан Черчесов Венок на могилу ветра Роман
Памяти папы
Пройдет два века, прежде чем река сменит русло. Двести лет на то, чтобы время очнулось, вспомнило, простило, вернулось и свершило в спешке то, чему противилась пустота двести полых лет, лишенных времени. И тогда уже дело будет за рекой. В несколько дней она сметет одряхлевшие камни прошлого, оставив лишь самую малость их посреди своего гибкого тела, будто жалкий лоскут, прикрывший срам уничтоженья. Она оставит еще шесть хмурых пятен, тоже каменных, все так же набитых костями, как до того линявшая от ветра пустота, забытая временем и снесенная теперь сильной водой. Шесть склепов памяти, уцелевшей в пустоте и безвременье.
Но понадобится еще сотня лет (и новый грех), пока время не вспомнит о жизни. И тогда та примчится сюда на взмыленных конях, под вечер, прячась от погони и жажды, и, утолив ее (жажду. Но не саму погоню), заночует здесь под сытым звездами небом. А потом, всего в два года, жизнь прибавит еще одинокого путника, юношу, сбежавшего от себя, двух сестер и обоз чужаков, чтобы выстроить здесь пять домов, мост и даже мельницу, и за восемь лет несколько раз родит, прежде чем впервые споткнется смертью. И тогда за рекой, в другой стороне от склепов, выроет двумя руками первую могилу и посеет в ней первое зерно новой памяти...
В тот длинный день что-то изменится в воздухе, отворится бедой и почти тут же замкнется призраком круга, о котором они старались не думать целые восемь лет, доверившись реке и примеру ее течения — оглушительной силе воды, разорвавшей оковы веков и отвергнувшей участь убийцы, потому что отказалась их отравить вопреки всем преданиям и легендам. Река была потоком, натиском, бунтовщиком, простором, вытянутым в линию судьбы, чертой на длани, обещанием и дорогой. Ей было дано лишь начало; она сама творила свою протяженность и по собственной воле рвалась к своей неизбежности, без оглядки на то, что, быть может, найдет в ней только расплату за непослушание или кару за шальной восторг отречения. Река была надеждой и прощением. Она сама была истоком.
Прежде чем к нему припасть, каждому из них предстояло отпрянуть от русла своего прошлого.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Поначалу их было трое. И лишь четвертый выбирал. Стоя на припорошенной снегом вершине, увидев в низине слабый сизый дымок и крохотные точки, он вдруг понял, что не удивился. Был полдень. Солнце густо заливало его последней осенней прозрачностью, отгоняя туман вниз по течению, так что обмануться он не мог. Он видел их костер и стены, и двух коней у Проклятой реки, но все ж не удивился, будто забыв и вспомнив разом давнее свое ожидание, о котором сам не подозревал, однако, чтобы с ним встретиться, трижды сюда поднялся, а чтобы признать его и вернуться к нему насовсем, проделал это вновь, но уже с конем, парой вьюков и собственным именем, переставшим служить ему без малого тридцать лет назад, но теперь вот воскрешенным опять из долгого одиночества, которое глядело на них из больной бездны его глаз и не позволило им ему отказать, когда он подъехал месяц спустя к их хадзару[1], остановился у сиротливых кольев без плетня, отшвырнул поводья, спрыгнул с коня, двинулся на выставленные ружья и, чуть поведя перед грудью рукой, заставил ружья устыдиться и поникнуть, а потом едва кивнул головой и сказал:
— Да будет небо вам в помощь. И, когда они ответили, добавил:
— Раньше чем гостем сделаться, хочу разузнать про соседа… И было это снова против правил, только перечить они не рискнули — нутра не хватило. И тогда он спросил напрямик:
— Кто меньше вам в радость — вечный гость или тихий сосед?
Они помолчали, озадаченные эдакой дерзостью, переглянулись, посмотрели на ружья, а после один из них, поведя лопатками, внятно произнес:
— Бывает кое-что еще. Порой бывает, что нет ни гостя пригожего, ни соседа, а есть разве что путник, неприкаянный, словно бродяга…
— Ага, — согласился тот. — Только ведь путник сам себе привал выбирает. Да и не всякий путник — бродяга. Как и не всякий похитивший — вор.
Тут они поняли, что он знает. А тот из них, на кого он глядел, вздрогнул, потемнел лицом и снова повел лопатками, словно хотел отряхнуться. И тогда женщина, украдкой наблюдавшая из дома, встрепенулась и приникла щекой к стене, закрыв глаза и подумав: «Он не из наших. Слава богам, у него чужое лицо…» Потом она тенью шмыгнула к очагу проверить огонь и внезапно, встревоженной слепотой внутри себя, услыхала свою пустоту. Спустя минуту, уже скрывшись за пологом из вяленых шкур, женщина испуганно ждала, когда мужчины войдут в хадзар и тот, с кем вот уже шестой месяц она делила ложе, едва встретившись с нею взглядом, увидит, что она опять пуста, и притворится, что не понял.
— Может, кому и любо казаться бедовым, да только так и перестараться немудрено, — вмешался в разговор второй. — Тут уж ни гостем не быть, ни соседом. Дай Бог в путниках уцелеть.
Чужак усмехнулся, и им сделалось сразу неловко за прозвучавшую угрозу. По черной тяжести его взгляда они прочитали, что, если и есть на свете такая угроза, что может — не испугать его, нет, а хотя бы — не рассмешить и не оскорбить, ей все равно не сравниться с той, чьи следы, как дыханье усталости, принес он сюда в самом себе, в своих глазах, в бледном лике, в голосе и руках, в холодном своем спокойствии, в весомости выпуклой тени, что свернулась пятном под их ногами и, словно печатью, уже метила эту землю, пахнущую сладким безвременьем и прибрежным илом бесноватой реки.
«Нет, — подумала женщина. — Шел он не к нам. Он не задержится здесь. Здесь ему нечего делать. Если, конечно, шел он куда-то еще, а не к склепам…»
Незнакомец медленно огляделся, пожал плечами и произнес:
— Дичь, ягоды да вода… На троих маловато.
Те двое разом посмотрели на коня и вьюки, привязанные к его хребту, а тот, кому принадлежала женщина, сглотнул слюну и спросил:
— Вроде как что предлагаешь?.. Вроде как право хочешь купить?
Чужак опять ухмыльнулся, не разжимая губ, и повторил:
— Право? На что оно мне! Ваших прав нам хватит с лихвой.
— С лихвой только смерть да похмелье приходят, — хмуро сказал второй и, сверкнув зубами, шагнул было вперед, но как-то вяло, нетвердо, так что первый его одернул:
— Погоди. Дай высказаться человеку. Пока что он так ничего и не сподобился предложить, от чего бы мы смогли хотя бы отказаться.
— От его слов скулы сводит. А вовсе смолчать, как то гостю положено, теперь уж ему поздновато.
— Подождем, — сказал первый. — Из вежливости.
— Делим поровну, — сказал незнакомец. — Два мешка. Ну, как вам такое предложение?
Они переглянулись, и тот, чья женщина пряталась в хадзаре, притворился, что не понял взгляда приятеля, и, пока поводил лопатками и делал вид, что рассматривает ружье, убеждал себя: «Дело не в продаже. Рано или поздно это. должно было случиться. Мы не продаем и не продаемся. Просто делимся с ним землей, а он взамен делится семенами. Только и всего. Все равно что столковываться о взаимной услуге. Лучше уж так, чем…» Не додумав до конца, он сказал:
— Два мешка на четверых. Я правильно понял? По полмешка на каждого, считая… всех. Такое твое предложение?
— Если оно тебе по душе, — кивнул незнакомец.
И тогда тот, кто помладше, сказал:
— Надо бы и меня спросить. Как-никак, а я здесь тоже решаю. Или кто сомневается?
Его приятель нахмурился и подумал: «Все еще надобно убеждать себя в том, что он тоже мужчина. И убийство тому не помогло».
— Нет, — сказал он вслух. — Говори.
Друг перевел взгляд на чужака, встретился с ним глазами, задержался в них и начал багроветь скулами. Потом глухо, словно в себя, сказал:
— Пусть не считает, что это навсегда. Покамест пусть будет на время.
— Не гость и не сосед? — уточнил старший.
— Вроде совсем и не гость уже, но еще не сосед, — пояснил незнакомец. — Вот он о чем. Верно?
— Верно, — сказал младший. — Почти что никто. Потом распорядился:
— Ружье оставишь у меня.
— Не пойдет, — сказал незнакомец. — С ним я не расставался с тех пор, как перестал быть мальчишкой. Случилось это лет на десять раньше, чем ты появился на свет.
— Хорошо, — сказал старший и, пресекая возражения, предостерегающе поднял руку. — Не гость, не сосед и не пленник. Это можно. Это правильно. И делишься порохом.
Младший сердито потупился, развернулся на пятках и двинулся к дому.
— Тоской обиженный, — сказал незнакомец.
Старший вздрогнул, помешкал и исподлобья бросил на него угрюмый взгляд:
— С чего ты взял?
— С того, что друга ему недостаточно. Еще и враг нужен… Чужак тихонько щелкнул языком, и конь послушно подошел, склонив голову. Сняв с седельной луки толстый хурджин[2], незнакомец молча протянул его старшему, и сквозь потертую кожу тот услыхал пьянящий запах чурека и кислый сырный дух. У него сладко засосало под ложечкой, но ни хурджина, ни бурдюка он в руки не принял:
— Негоже так.
Спорить чужак не стал, и они зашагали к дому. Навстречу им уже шел младший с охапкой сена в руках. Небо ухнуло громом, и в тот же миг незнакомец ступил на порог.
«Гроза в октябре, — успела подумать женщина. — Дурная примета…»
II
Ночь была пряной и звонкой, как внезапно оживший сон. Слушая дождь, он лежал на подстилке из летней травы и, не смыкая глаз, думал о том, что с ним уже было такое однажды, много лет назад, когда он вошел мальчишкой в пустые, скользкие стены, которые так и не смог по-настоящему согреть, хоть пламя от воскрешенного им очага тлело в них без малого тридцать лет. За это время он утратил все, что оправдывало беспримерность его одиночества — упрямство, веру, силы, умение побеждать, — не обретя при этом ни спасительного безразличия, ни душной злобы, ни жажды мстить, ни даже права на покаяние — ничего, что позволяло бы ему остаться там, куда вернулся он к могилам предков тридцать лет назад и откуда позавчера вынес, наконец, вместе с дохлой очажной цепью опостылевшее всем одиночество. Он проиграл. Истощенный борьбой с напрасными поражениями, теперь он желал лишь покоя. Молчания и дождя, похожего на гаснущее эхо. Умирающей памяти. Чтобы избавиться от нее, он должен был отречься от будущего (покуда жила память, никакого будущего, в сущности, быть не могло, потому что оно, будущее, было не чем иным, как верным приютом памяти, ее продолженьем и следствием, ее усталым рабом), распрощаться с прошлым и отправиться вспять, к тому, что было предтечей, забвеньем, заслоном для всякого прошлого, если оно, это прошлое, могло уместиться в память, боль или людские сроки. А потому пришел он туда, где прошлое было мертво, будущее — далеко и зыбко, а настоящее лишь начиналось — несмелым ростком греха, про который ему даже не нужно было расспрашивать: мужчина, женщина и друг. И два коня. И неподвижность неба над головой, под которым пришлось сложить им стены хадзара, чтобы скрываться хоть на ночь от бледнеющих теней склепов, реки и глаз друга, стыдившегося самого себя (ведь помочь умыкнуть и бежать еще не значило стать мужчиной, еще не значило одолеть в себе юношу, а только и было, что свойством незрелости, из-за которой он перестал быть теперь просто другом, а сделался как бы третьим в доме для двоих, их младшим братом, угрюмым сторожем чужой судьбы). Но прежде им надобно было решиться — обосноваться здесь, у Проклятой реки, в долине склепов и беды, только б не попадаться на глаза тем, кто гнался за ними до перевала. Выходит, возмездие было страшнее, чем вековая пустынность места, помеченного клеймом. И даже настолько страшнее, что за многие месяцы они никому не рискнули выдать тайны своего убежища, которое поначалу было лишь каменистой, но жирной от влаги землей, заросшей гигантской травой и кишащей ленивыми змеями. Они предпочли числиться в изгоях, нежели двинуться дальше (куда угодно, в любую сторону, кроме той, откуда бежали), навстречу людям, обычаям и словам, — только б не объяснять, не просить и не оставить следа, на который, пусть ненароком, могли набрести те, чью кровь они опозорили. Стало быть, случайности они опасались больше, чем гиблости места, потому что и к поздней осени у них все еще не было ничего, чтобы покорить хотя бы клочок сочной вязкой земли, обуздать языческую плоть ее и опустить в ее просторное лоно крошечное семя, почти невесомое зернышко, теплую искру, а по сути — зародыш нового времени, которое не могло начаться ни с костра, ни с вырубленной травы, ни с первой подстреленной птицы, ни даже с возведенных стен, потому что сама земля все так же дремала, погруженная в слепые сны, и нежилась в истоме своей неприкаянной девственности, по-прежнему необузданной, противоестественной и порочной, как порочна налившаяся молоком женская грудь, равнодушная к устам младенца.
Они не ушли, невзирая на то, что все говорило против такого решения: предание, склепы, гулкий воздух, легкий и чистый, как пустота; надвигающаяся сквозь него зима; заканчивающийся порох; дичавшие кони, топчущие по ночам крадущихся к жилищу змей и грызущие с тоски кожаный повод; дичавший слух, различающий в темноте несуществующие голоса; но главное — присутствие женщины и неизбежность того, что оно обещало. Они никуда не ушли, а значит, им не хватило отчаяния — забыть про охотившуюся за ними расплату. Или отчаяние их было слишком велико, и оттого расплата казалась им неминуемой…
Дождь мягко шелестел по веткам крыши, дразня обманчивым уютом тишину, и незнакомец думал: «Что мне с того!.. Для меня уже все закончилось, и нет такой силы, которая могла бы то изменить. Пусть они не ушли, зато ушел я. Есть только дождь и ночь. И их достаточно».
В хадзаре пахло сопревшим сеном, бессонницей и тревогой. Слышно было, как всхрапывает чурающаяся мрака кобыла, как она бьет по луже копытом и льнет к бокам хозяйского жеребца. Поймав отражение вспыхнувших углей из очага, масляной копотью блеснул толстый голыш в стене и сразу потух, черкнув желтой полоской по щербатой прохладе камней. Где-то за рекой почудился крик лесной птицы, захлебнувшейся порывом ветра, и тогда незнакомец закрыл глаза, потому что это уже могло быть похоже на сон — настоящий, густой осенний сон. Сегодня он отогнал видения без труда. При мысли об этом он усмехнулся, потом ровно и неспешно задышал, растворяясь дыханием в размеренном гуле реки.
Однако снилась ему не птица. Когда он снова открыл глаза, дождя уже не было. Остался лишь привкус спелой горечи на губах, какой бывает после того, как утолишь долгую жажду ледяным холодом родника. По тишине, уныло плывущей на преждей воздушной волне, еще не срезанной приливом предрассветной свежести, он понял, что спал совсем недолго. Быть может, несколько минут, но их хватило, чтобы исчезнуть из ночи и отыскать себя в мальчишке, пропавшем без вести десятилетия назад, и вспомнить синие искры брызг из ручейка, бегущего по снегу. «Я вернулся, — подумал он. — Теперь уж точно. Я вернулся к тому, от чего не уйти». Сердце билось громко и широко, словно от радости, хотя назвать радостью то, что он сейчас ощущал, было нельзя. Скорее, это было печалью, и у нее был свой свет, свое мерцанье, как у мечты, устремленной в былое…
III
Они стояли у самой вершины, он и старик. Тропа подступала к истоку узким расплывом, едва различимой петляющей вмятиной, и, споткнувшись о мокрые камни, тонула в сверкающих нитях упругого родника.
— Отсюда она начинается, — говорил старик, отступив на шаг и оперевшись руками о палку. — С ледниковой слезы. С простого ручья. Из него еще можно напиться. Попробуй.
А он, застывая сердцем от страха, просил:
— Сперва расскажи.
— Как хочешь, — соглашался старик. — Только ты уже слышал и знаешь. Не надо краснеть. Ты боишься легенды, а это не стыдно…
— Они тоже боялись?
— Пожалуй. Наверно. Но потом — уже нет. Страх ушел раньше, вместе с надеждой. Они строили склепы и ждали конца.
— Ты уверен, что это река? Старик вздыхал, пожимая плечами:
— Так утверждает легенда. А с нею не спорят.
— Может быть, воздух?
— Нет. Только не воздух. Иначе б и мы тогда… Но мы уцелели. Выходит, их отравила река… Ветер ей не указ.
Ручей сбегал по искореженной вершине вниз, к обрубку скалы, потом терялся в ее изгибе и, вместо эха, растекаясь по зеву обрыва, окроплял потревоженный воздух легким радужным трепетом. Поплутав по ущелью и собрав его тающий сок, он врывался в долину безумным потоком, бурлящей рекой, похожей с горы на зеленую кровь стервенеющего чудовища. Однако рождалась она здесь, под хрупкой коркой нетвердого льда, с невинного прозрачного шепота, к которому еще можно было припасть губами, обманувшись животворной упругостью влаги. Было трудно поверить, что так же когда-то, с чистого плеска воды, зачиналось убийство аула, уничтоженного прихотью сумасшедшей реки, а потом и вовсе сметенного ею — в закатное никуда.
— Но почему? Кто-нибудь знает ответ? — спросил он старика.
— Узнать такое нельзя, — ответил тот. — Это можно услышать. Не веришь? Пригни колени.
Он повиновался, но не услышал ничего, кроме запредельной тишины неба над раненой горой. Не отрываясь, он следил за парящим над гребнем бельмом, маравшим безупречную синеву, в которой даже солнце казалось случайностью, каплей, лишним желтым мазком. Облако задело за гребень, но не порвалось, а только сомкнулось вокруг него сухой, пресной прохладой, потом скользнуло дальше, на восток, на мгновенье неровно оскалившись щелью, и он вздрогнул плечами, пораженный предчувствием.
— Я понял. Ему все равно, — сказал он. — Я правильно слышу?
— Все равно? — повторил старик. Седины в нем было больше, чем белизны в снегу.
— Да, — сказал он и поднялся с колен. — Оно лишь казнит. Я его ненавижу.
— Хочешь сказать — карает, — поправил старик и кивнул. — За ошибки и прегрешения.
— Ему все равно, — он упрямо стоял на своем, уже почти крича, раздосадованный нехваткой слов. — Сперва оно убивает, а все остальное — потом… Но ему все равно, оно никого не щадит!
— Погоди, — сказал дед. — Я знаю, о чем ты. Но тут ты неправ. Оно просто больше. Больше жизни и слов. Больше времени. Такое большое, что и смерти ему нипочем. Вот что ты слышишь…
— Я ненавижу его.
— В тебе говорят беда и обида. Ты слышишь другое. Раствори в нем беду.
Он не ответил, и старик отвернулся, чтоб ему не мешать. Упав на снег, мальчишка впился в кисть зубами, но, почувствовав, что это не помогло, поперхнулся стыдом и разрыдался в голос. Он плакал впервые за две недели, прошедшие с тех пор, как умерли его сестра и брат, родившиеся в один весенний день и в один же день, но уже июньский, похороненные под громадной могильной плитой, так и не успев понять, что были живы. Болезнь их длилась несколько часов, и к исходу суток все уже было кончено. Она оставила на лицах коричневые пятна, покрыв их губы волдырями, но умерли они не от них, а от удушья. Так говорили собравшиеся в дом старухи. Когда младенцев обмывали в деревянном жбане с холодной водой, он подглядел, как с чавкающим треском разгибают их прилипшие к щекам ручонки. Взвыв от ужаса, он бросился вон из хадзара и был найден лишь к вечеру в соседском хлеву, куда вошел хозяин, чтобы задать буйволу корм. Мальчишка сидел у стены, обляпанный соломой и навозом, и в глазах его не было ни слезинки. Буйвол стоял в дальнем углу и словно сторонился его, как дикого опасного зверька. Спустя еще три дня мальчишка поднял на ноги весь дом, отбиваясь средь ночи от собственной тени и сильно обжегшись об очажную цепь, которую хотел сорвать, чтобы замотаться в нее, как в кольчугу. А к концу новой недели, к поминальной пятнице, вернулся его отец, уехавший в крепость вечером в день похорон, чтобы возвратиться обратно тогда, когда боль хоть немного смешается с памятью. Наутро отец повел его с собой на охоту, и мальчик впервые увидел, как тот расстрелял все патроны, не уцелив при этом даже высунувшегося из норы в пяти шагах от них рыжего хорька. Он посмотрел отцу в глаза, затянутые мутной пленкой влаги, но сам сдержался, проглотив свой плач и мучаясь потом отчаянной икотой, которую отец не замечал, занятый своими торопливыми руками и изнуряющим молчанием, похожим на нескончаемый стон.
За все это время дед не произнес и пары слов. Окаменев спиной и устами, он сидел во дворе, смежив лохматые брови и глядя пустыми зрачками вдаль, а вокруг матери, метавшейся в бреду, хлопотали афсин[3] и невестки, ставя примочки на ее исцарапанное лицо, покрытое такими же бурыми пятнами, от которых взрослые не умирают и не могут того себе простить. Потом солнце устало, поблекло бесцветной дымкой, спряталось тучами и зарядил нудный дождь, пахнущий сладкой корой. Ее крутые завитки валялись вместе со стружками у забора, набухали желтой водой и отравляли ночь. Накинув бешмет и схватив стальной заступ, мальчишка выбежал под дождь и закопал их в жирной глине, обливаясь потом, но не слезами. Заровняв холмик, он обернулся и лишь тогда встретился взглядом со стариком, наблюдавшим за ним с порога. Дед опять ничего не сказал, а когда ночь прошла, позвал его и приказал собираться…
Теперь мальчишка знал, зачем они пришли сюда, к вершине, и поднялись по давно забытой всеми, призрачной тропе, заросшей травой, размытой годами, но все так же петляющей по живой памяти старика, не позволяя ему оступиться. Отрыдавшись до изнеможения, до резей в желудке, чувствуя слабость и порывистое кружение в голове, мальчишка склонился над ручьем и, уже без страха, напился из него и умыл отекшее лицо. Затем откинулся на руки и, прикрыв глаза, слушал, как гладит его по щекам теплый солнечный луч. В груди его приятным копошением росло спокойное смирение. Злоба и дрожь в висках куда-то исчезли. Тоска не терзала, а тихо печалилась там, где только что жадно вздохнуло сердце. Он поднялся, отряхнул одежду:
— Я готов.
Старик улыбался глазами и, казалось, смотрел на него из какого-то ясного далека.
— Вот и ладно, — кивнул он. — Пожалуй, я тоже готов.
Он не придал значения его словам, размышляя в тот миг о том, что уже не боится легенды. Смерть в ней была слишком гордой, слишком торжественной и опрятной, как эхо от песни, и ничуть не походила на ту, что уничтожила близнецов. «Наверно, это только сейчас, — догадался он и вдруг широко, по-собачьи, зевнул. — Для них-то, поди, иначе все было. И вместо коры со струганных на гробы досок было что-то другое, что им так же хотелось зарыть…»
IV
Дед говорил, зараза напала внезапно, как ураган. Русло тогда пролегало не здесь, а правее, и между лесом и берегом была каменистая светлая твердь. Там-то они и стали их строить. Сперва для того, чтобы хоронить в них умерших, не решаясь предавать кладбищенской земле изуродованные мором тела, потому как сами еще надеялись выжить и жать урожай — с того берега, где возвышался прежний погост. Но после те из них, кто раньше других надрывался душой, думая о совершенном, как о святотатстве, понимали, что отравлены тоже, и начинали слышать болезнь в себе. И тогда, закрывшись до самых глаз башлыками или укутавшись в платки, они отправлялись к мосту в свое последнее, короткое шагами, путешествие, и замуровывали себя заживо в узких стенах без единой двери, с крохотным окошком посреди, куда те, кто их любил, приносил им еду, оставляя ее на карнизе. Но потом наступал день, когда изнутри уже никто не откликался, и кувшин с миской оставались нетронуты, а коршуны, рассказывал старик, лишь кружили над склепом, но никогда на него не садились и не покушались на полати, и точно так же кружили они над рекой, будто над почерневшим вспученным трупом, и тогда те, кто был жив, решили, что, стало быть, это река, а значит, отравлены все и дело только во времени. И хуже всего было женщинам, кормившим младенцев грудью, темневшим лицом при мысли о том, что молоко их уже отравлено, и когда руки их, сжимавшие детей в объятиях, начинали гореть ядовитым огнем, они уходили тоже, и спустя день или два раздавалось из склепа рыдание, которое не надо было объяснять, но после него женщин тех так и не видели, а с карниза худая твердая кисть снимала лишь кувшин с водой, скинув наземь еду, и иногда, при жарком закате, оттуда слышалась протяжно колыбельная, от которой тем, кто прятался друг от друга на живом еще берегу, хотелось оглохнуть. А потом построенных склепов оказалось уже недостаточно, и хмурые мужчины стучали в ворота соседей и в двери сродственников, и те, кто посмелее, откликался на зов, и они шли с молотами и заступами на плечах через предавшую их реку к белым камням. И новые склепы были больше и просторнее первых, и изнутри щедрее выложены полатями. И вот, рассказывал дед, настала минута, когда кто-то из них покинул свой дом и, вместе с целым семейством, гордо прошествовал по пыльным улицам вымирающего аула к мосту. Там они дружно разулись и, закатав рукава, совершили последнее омовение, лишь затем перешли на левый берег и, помогая слабейшим, скрылись в узком окне прохладного склепа. И громкий смех оттуда был страшнее плача, ибо, заслышав его, прятавшиеся в своих домах ощутили, как липким потом, выступившим на губах, их покидает последняя надежда. И тут уж главным врагом для них сделалось время, потому что было это как пытка — ходить под смертью, пить ее и непрестанно лицезреть, и ожидать ее прихода уже куда сильнее, чем предстоящей жатвы.
— Ты понимаешь? — спрашивал старик.
И он не знал, что отвечать, ибо тогда еще не видел смерти воочию, как не видал самой реки и склепов.
— Но почему? Разве они не могли убежать? Взять пожитки и броситься дальше, хоть к лесу. Или сюда, за перевал?
— Нет, — говорил старик и горько усмехался. — Кто-то, конечно, пытался, да вот только она их уже околдовала.
— Река?
— Куда бы ни шли, они словно уносили ее за собой. Чего ж удивляться, что никто не уцелел…
— Почем ты знаешь?
— Память, — отвечал старик. — В ней для них и места почти не осталось, выходит, так и не пустили корней.
— Ты говоришь, почти?
— Так… Кое-что. Осадок. Тень.
— Расскажи.
— Будто бы двое из них изловчились, снарядили обоз и одолели-таки перевал. Они да их домочадцы, только это не помогло…
— Почему?
— Земля не приняла.
— Наша земля? Ты говоришь о ней? Дед кивнул и спрятал глаза.
— Они на ней не прижились.
— Тоже были больны?
— Так наши решили. Конечно, нельзя сказать наверняка… Как бы там ни было, а встретили их мечами… Нет, не убили. Провели перед ними черту, а потом по той черте пустили пламя, запретив переступать через выжженную полосу. Шла она полукругом, дугой, и нигде не подступала к воде ближе, чем на двести шагов. Ведь то была уже наша река… Чего ты хочешь — триста лет назад!.. Они боялись.
— А что же те? — Ушли.
— Ушли?
— Ушли назад. Похоже, что она их призвала обратно, они и так уже были порчены… Так говорит легенда.
V
И вот теперь мальчишка видел ее, темно-зеленое чудище, проклятье веков, владыку пустого ущелья, в котором если что нынче и жило, что-то в нем обитало, так только ее же свирепое эхо. Но после пролитых слез она казалась ему слабее, уже и, может быть, лукавей, чем полагалось древней тайне, настоянной на ужасе. И казалась куда меньше горя, которое он перенес. Ткнув пальцем в серый островок среди потока, он спросил:
— Отчего шесть? Так насчитала легенда?
— Нет, — сказал старик и, подмигнув, тряхнул головой. — Легенде тут уж все одно, что шесть, что десять… След — вот что важно.
Мальчишка не отводил взгляда от склепов на пятачке каменистой земли и что-то бормотал, словно силился вспомнить. Потом повернулся к старику:
— Разве следов не два? Ты забыл про вершину…
Дед лишь всплеснул руками. Внук улыбнулся и ковырнул носком арчит[4] зернистый снег. Когда-то здесь тоже высилась скала, неприступная и острая гранитными боками. Как топор, рассказывал дед.
— Мой отец ее помнил, — говорил он мальчишке, когда они сидели вечерами у огня в центре хадзара, чьи запахи еще не ведали вкуса набухшей коры. Растопырив ладони, будто вспорхнувшие над пламенем розовые крылья, он увлеченно продолжал: — Гляди… Исток начинался чуть в стороне, на самом краю хребта (когда-нибудь я покажу тебе). Скала же вздымалась большим тусклым лезвием, занесенным над самой рекой. На рассвете гранит сверкал верхушкой, как наконечник копья на костре, — какие-то минуты, пока солнце не очнется и не поползет ввысь. А потом она (река), видать, все же не выдержала, и как-то ночью наши услыхали грохот, да такой, будто сердце самой земли разлетелось в клочья, и тогда они увидели, как по черному небу ползет, осыпая прахом звезды, мятежная ее душа. А потом долго не наступало утро, и шум от крошащейся в бездну земли был похож на топот изгнанных небожителей, а наши слушали его, разинув рты, и старались понять, куда те боги бегут, чтобы вычислить, кого они затопчут первыми… И вот что удивительно, — горячился дед, а глаза его уже сияли медным отсветом тайны: — никакого землетрясения не было и в помине. Ни трещин, ни звона цепей в очагах. Лишь слепая, нездешняя пыль забивала им глотки да еще казалось, будто где-то поблизости буйствует тяжелый, громкий дождь. А потом, не успели они толком прокашляться и стереть грязь со лба, ночь замолчала, зашаталась и опрокинулась туманом им под ноги, и сильное, белое солнце осветило разбитую гору, словно голову, скошенную под скулу кривым серпом. На месте же прежней скалы зияла рана. Рана быстро затягивалась желтоватым рубцом, пока не исчезла вовсе, превратившись в синюю мякоть, в которой они не сразу признали осколок неба. В остальном все было как раньше. Только чуть изменился самый звук тишины, как бывает, когда вырубят новую дверь в стене. А еще через пару недель они-таки рискнули и пошли посмотреть, уже почти с подножия пробивая свежую тропу заместо проглоченной старой, чтобы выйти к изувеченной вершине и заглянуть за нее, туда, на другую сторону. И тут, — рассказывал дед, вскинув подбородок и странно лоснясь взволнованной бледностью губ, — им открылось такое, что напугало их еще на сотню лет вперед, ибо теперь они поняли, что она проклята дважды. Ведь убить аул ей показалось мало, ей было надобно его стереть, сожрать, соблазнившись обглоданными ветром костями, и, свершая попутно жестокую месть, уничтожить скалу. Она заметала следы и избавлялась от единственного оставшегося свидетеля (я говорил тебе — тусклое лезвие. Занесенный над нею ржавый топор, как извечный укор ее подлости)… Но что-то ей помешало, — говорил старик. — Быть может, непроглядность тьмы, а может, азарт да излишняя злоба, только впопыхах она допустила небрежность. Что-то ей помешало, потому что осталась досадная клякса, въедливый след, нарыв, плевок проклятия, что, как родимое пятно, уже не смыть и не стереть.
— Шесть склепов… Ты о них?
— О них и о судьбе, от которой даже ей было не спрятаться, потому что, сколько она ни пыталась от них отделаться, до одурения наливаясь ливнями и талой водой с ледников, ей не удавалось слизнуть хотя бы ветхую стену, одну-единственную, не говоря уже о двадцати четырех. И выйти из берегов, затопив поллеса, ей было куда как проще, чем дотянуться до полатей, так что в конце концов она отступила, сникла и сдалась, прикинувшись покоренной.
— Но кем? Неужто склепами?
— Судьбой.
— Это как? Объясни.
— Не сейчас, — уклонялся старик. — Когда-нибудь ты увидишь их вместе и поймешь…
Теперь он видел их, но вряд ли понимал. Однако спрашивать снова не стал, словно предчувствуя отказ, а за ним — удушливое смущение, способное испортить весь этот день, уже спекавшийся на горизонте в лиловую корку. Солнце скучало и уходило прочь. Пора было спешить.
— Вроде бы я готов тоже, — сказал старик, и мальчишка, послушавшись, шагнул к тропе…
VI
Только через два месяца ему станет ясно, что значили те дедовские слова: они поднимались к вершине еще и затем, чтобы старик попрощался, испил напоследок глубокой небесной печали и приготовился к уходу — к смерти, которую кротко встретил за тихим добрым сном. К утру на непривычно гладком лице его покоилась сизая паутинка, не волнуемая ни теплом, ни дыханием. Похоронили его рядом с давно умершей женой и обоими близнецами, и мальчишка подумал, что нынче все они разом сравнялись в возрасте, и, только теперь не сумев укротить расползающиеся уста, он надолго и горько заплакал, убежав с ненавистного кладбища.
Но спустя полгода, когда его оглушило бедой, слез не было вовсе. Он только ходил, кивал, молчал, ел, смотрел на чужие руки и словно на себя самого, из которого выбрался, вышел, сбежал, чтобы не захлебнуться болью и не переломиться по хребту от сознания того, что на него обрушилось. Он будто оброс со всех сторон мягкой, невидимой глазу стеной, мешавшей ему ощутить свою прежнюю — простую и близкую — связь с предметами, запахами и голосами, да еще вот все время его тянуло резко, внезапно обернуться и вновь встретить, поймать то, что изначально составляло неотъемлемую и главную сущность мира, в который он был впущен десять лет назад; мира, где не было ни этой нелепой равнодушной размеренности (стук деревянных колес по улице и скрип уключин, звук катящихся альчиков[5], бесноватый лай собак, плач капризничающих детей; родительская комната, гостеприимно принявшая старшего дядю с его молодой женой и спокойно сносящая их приглушенный полночный смех; шепелявое посвистывание нового деда, когда тот, что-то увлеченно обдумывая, скоблил ножом влажную соком тростинку; утренний шорох метлы, стирающий со двора плеск весенних луж; зеленеющая первая трава и возня воробьев над жирным червем — все это было неправильно, постыдно и гадко, потому что почти все это было и раньше, а оно, раньше, сгинуло для него навсегда), ни страшных черно-белых снов с зевающими ртами, ни мычания толстого, слюнявого существа с бестолковыми руками и рыхлым телом, которое дважды в месяц им с младшим дядей приходилось мыть в тесном низком корыте, предназначавшемся прежде для помоев, идущих на корм скоту. Тело колыхалось, пуская дряблую пузыристую волну, и издавало звуки, похожие на фырканье лошади, пока мальчишка тер его скребком и жарко ненавидел за то, что выжило только оно из троих, выжило, несмотря на то, что перестало быть человеком, а превратилось в слезливое прожорливое животное, названия которому никто не знал. Дни напролет оно лежало в нижней комнатушке, рядом с кладовой, и поводило выпученными глазами, непрестанно шаря руками по паху и животу, скуля по-звериному от постоянного, неутолимого голода, который могла унять лишь ночь — не сном (потому что глаза оставались открыты и все так же трудились, вращая зрачками по кругу), а каким-то восторженным изумлением перед тем, что делала с пространством темнота. Тело ворочалось и сопело, только мычания не было. Оно начиналось с рассветом, когда пробуждались руки и принимались сновать по тому, что было раньше шумным, добрым и веселым человеком, так удивительно похожим на отца, и вспоминать про это было вовсе нестерпимо, и оттого мальчишка старался не глядеть ему в лицо, чтобы не будоражить в себе тошноту, подплывшую к горлу…
Голову отыскали шагах в трехстах вниз от дороги. Она недвижно торчала из грязи, вросши туда подбородком, и, если б не руки, лихорадочно шарившие перед собой, можно было подумать, что голова отрублена и брошена здесь отомстившим врагом. Уже тогда он перестал отзываться на речь, будто проглотил со страху все слова. Труднее всего оказалось вытащить ступни из погнутых стремян — каким-то чудом он удержался в седле кобылы. Ее пришлось откапывать вместе с ним. От кобыльей морды осталось кровавое месиво с бурыми ноздрями, из которого вдруг, как вскинутая пружиной, вынырнула голая подкова лошадиной челюсти без зубов, и тогда мальчишку крепко схватили в охапку и утащили в аул. Там его привязали к коновязи, и афсин с невестками вылила на него несколько ушатов воды, прежде чем он перестал кричать и пинаться. Потом афсин велела отворить пошире рот и, когда он ослушался, больно двинула его локтем под дых. Мальчишка охнул и вмиг ощутил, как в рот ему вставили шершавую ступу, поднесли к ней бурдюк и влили ему в нутро вонючую араку.
Когда он проснулся на собственных нарах, в хадзаре было громко от рыданий и как-то по-зимнему душно. Он посмотрел на укрытые в бурки тела, но ни слез, ни крика уже в себе не нашел, а только устало подумал: «Я так просил их взять меня с собой…» Если он что-то и чувствовал в ту минуту, так это беспредельную, огромную обиду да дурноту от выпитой араки. Потом, наутро, он внезапно, с каким-то унылым изумлением, понял, что не чувствует ничего, ни-че-го, а только наблюдает за происходящим, как за окном, в котором, волнуясь, хлопочет множество людей, и при этом никто из них тебя не замечает, даже когда случайно поглядит в твою сторону…
Так он лишился отца и матери, и, пожалуй, среднего дяди тоже, хоть тот и выжил, угодив вместе с ними под сель. А еще через полгода, следующей осенью, он лишился и всех остальных, но — уже по собственной воле, потому что не пожелал отдать на откуп могилы, которые они, новый дед и двое его сыновей, променяли на пятерку угнанных ими коней, лучших в ущелье, двух из которых вполне хватило бы, чтоб обзавестись наделом земли за южным перевалом. Но он, мальчишка, вернулся — на целых тридцать лет, и вчера они закончились, потому что вчера он вернулся к тому, от чего не уйти. «Что бы ни произошло, умру я здесь, — думал он, глядя в сырой настил потолка. — У Проклятой реки. Я слышу это сердцем. Слышу это, как взгляд. Выходит, так тому и быть…»
VII
Женщина лежала на спине, чуть приподняв колени, и молила богов даровать ей прощение. Мужчина отвернулся к стене и неуклюже притворялся спящим. Он все еще ее стыдился, и оттого она чувствовала себя виноватой вдвойне. Сегодня к этому прибавилась еще и тревога: незнакомец ей не понравился. От него веяло какой-то горькой, пронзительной бесприютностью, которая пугала и отвращала ее больше, чем дикая неприкаянность места, где шесть месяцев назад им довелось заночевать под сытым звездами небом и где теперь стоял их дом.
— Он пахнет воском, — сказала она, посмотрев в плоский затылок, и замерла дыханьем, стараясь не пропустить его слов.
Мужчина долго не отвечал, потом почесал плечо и едва слышно буркнул:
— Пусть от него хоть псиной разит — мне и дела нету, пока вьюки его пахнут сыром и набиты семенами да порохом.
Женщина закусила губу и впилась ногтями в ладонь. Всякий раз после близости голос мужчины менялся и делался неродным, будто тот втихомолку над чем-то посмеивался или мысленно беседовал с кем-то невидимым третьим. В такие минуты он казался ей совершенно чужим, неприятным и, может, пустым даже, неумным человеком, и было непонятно и унизительно, что она лежит с ним сейчас в одной комнате где-то на самом краю земли и делит ложе из сухой травы, тертой хвои да нескольких кабаньих шкур. Но ненавидеть его долго не получалось, и от сознания этого иногда ей хотелось расплакаться…
Часто ей думалось о том, что будет, если она его потеряет, если он не вернется с охоты или будет снесен волной. И тогда она понимала, что страшнее этого в целом свете ничего нет и что, не дай-то Боже, случись такое — ее в тот же миг оставит душа. Он приручил ее, как приручают лесного зверька, околдовывая его терпеливой, спокойной силою, после чего сама собою рвется нить, связывавшая его с прежней наивной вольницей.
В тот главный день она боролась с ним, как могла. Рычала, кусалась, царапала ему лицо, ухмылку, шею, а он лишь скалился в ответ, заслоняясь плечом, и небрежно скидывал с себя ее руки. Она молотила его кулаками, норовя угодить в висок, впивалась зубами в ключицу, чуяла языком его обильную, наглую, пряную кровь, но он и не вскрикнул, а только шире раздвинул губы и как-то лениво даже, без труда и спешки, высвободился, нажав ей пальцем на впадинку под ухом, и тут же что-то ласково в него шепнул, всколыхнув в ней бесстыдство и ненависть. Наконец она нащупала в траве надежный голыш, со всего маху обрушила удар ему на спину, и тут он обмяк, потемнел лицом, затем резко выгнулся дугой и странно вздрогнул, словно встретил потускневшим взглядом смерть, и в то же мгновение ей стало очень холодно и громко. Под нею плескался штормом гром, и, прежде чем в нем утонуть, она увидела, как сквозь высокую траву в нее, в ее разверстое лоно, стекают серебром расплавленные звезды.
Спустя минуту, перестав кричать и уже прозрев от пронзительной тишины, она вдруг с отчетливой ясностью осознала, что опозорена. Перекатившись на раненую спину, мужчина прикрыл глаза и тихо застонал от боли. Она сидела перед ним, тупо раскачиваясь взад-вперед, и грызла растрепавшуюся косу, пытаясь вспомнить, откуда взялся этот белый, круглый, сальный взгляд, наблюдающий за ней из-за колышущихся зарослей тростника и мешающий ей совершить то, что она должна была совершить во что бы то ни стало. Сомнений в том, что это ей удастся, у нее не было. Потом она поняла, что это всего лишь луна, но переждала еще немного, соображая, как лучше подобраться к кинжалу. Он валялся в двух шагах от нее и блестел длинными ножнами. Где-то вдали, должно быть, с реки, раздалось конское ржание. Выходит, второй был по-прежнему там, а значит, воспрепятствовать ей все равно не успел бы. Однако и мешкать было нельзя. Она отерла рукавом кровь с губ, вцепилась в острые стебли травы, вскочила на ноги и бросилась к кинжалу. Схватив его, метнулась обратно, выпрастывая на ходу лезвие из ножен, но оно отчего-то не поддавалось, рука скользила по мокрым, толстым ножнам, а он уже вставал ей навстречу, выставив вперед широкую ладонь, будто взывал о пощаде. На мгновение она остановилась и почувствовала хлесткий, как плетью, щелчок по лодыжкам. Споткнувшись о него, не удержалась на ногах и стала жалко, беспомощно падать на мужчину, целя нераскрывшимися ножнами ему в лицо и понимая в исступлении, что удар придется мимо. Почти одновременно она услышала два близких, сочных звука, как будто лопнула гноем сама эта гнусная ночь, и в руках ее что-то задвигалось, лихорадочно изгибаясь. Тяжелая капля липко задела ее по щеке, и лишь тогда, взвизгнув, она разжала пальцы и покатилась прочь, туда, где стоял он и сжимал кинжальную рукоять. Нога его лежала на шее змеи, выжидая, когда та перестанет извиваться. Совсем рядом бился, перекручиваясь и уползая, блестящий отрубленный хвост. Женщина села на колени и завизжала было опять, но стоило ему крепко, как-то жестко и властно, взяться за ее подбородок, — крик погас, как лучина в золе.
— Добей ее, — сказал он и протянул ей кинжал.
Она замотала головой, не сводя глаз с его улыбки, в которой, как и в голосе, была не издевка, а какое-то гордое, нежное удивление, словно он любовался дорогой покупкой, о которой давно и тайно мечтал.
— Рысь и гадюка… — он тихо засмеялся, потом быстро нагнулся, и она услышала, как, глухо звякнув, мягко вошел в землю кинжал. — Пойдем отсюда. Омоешь мне раны.
Отдернув лицо, она медленно встала, оправила платье и, шатаясь, пошла на шум реки. Он не окликнул ее, и тогда она побежала, одирая о заросли кожу, к берегу, в ночь, скрываясь от его повелевающего взгляда, которого она, как подсказывало ей трепетавшее, маленькое сердце ее, ослушалась в последний раз…
Слезы застили ей глаза. Не разбирая пути, она бежала по черным теням тростника, опрокидывая их неистовыми руками, пока не сшиблась, охнув, с чем-то твердым и живым. Мир закружился перед ней, играя вспугнутыми красками. Запутавшись в них и не устояв от толчка, она опять упала. Едва подняв голову, решила было, что это он, что он настиг ее, и тут же в груди ее сладко заныло. Когда же пьянящая синяя пелена стала рассеиваться, она увидела, что обманулась, и тут же звонкая, жаркая кровь прилила к ее щекам. Она зачерпнула в ладонь горсть каменистой жижи и, процедив сквозь зубы проклятие, швырнула ею в осунувшееся лицо того, кто, понурившись, держал под уздцы лошадей и о чьем существовании она уже успела напрочь забыть. Теперь его призрак — бледный срам, угрюмый слух, слуга ее позора — восстал пред ней, но не посмел сказать и слова. Увернувшись от броска, он спрятал от нее свой взгляд и скрылся в высокой траве. Всхлипнув, она добрела до воды, опустила горячие кисти в обжигающий холод реки и предоставила их воле течения. Руки повисли в пенном потоке, как пара белых птиц, плывущих в облаке. Лишь посидев так с несколько минут, она вспомнила слова, которыми приказала убраться его другу, и вдруг негромко рассмеялась, потому что никогда и не подозревала, что знает такие слова. Потом она вспомнила, как бросилась на мужчину с сонной змеей наперевес, и засмеялась опять. Потом она смолкла и тут же, не успев перевести дух, самозабвенно заплакала, испугавшись своего смеха, постыдных слов, бескрайней сумасбродной ночи, собственной радости, но больше — самой себя, способной снести все это и не утопиться в гремящей реке. Потом она услышала неспешные шаги за спиной, и мужчина сказал:
— Скоро угро. Как рассветет, наберешь плавник для костра.
Она не ответила и только вжала голову в плечи. Когда он ушел, она подумала, что совершенно не помнит его лица. «Не помню лица человека, сделавшего меня женщиной». Она попыталась вспомнить его имя, но и это ей не удалось. Она лишь знала, что сможет распознать его из сотен других имен, если ей вдруг придется их все испробовать на слух. Только этого, верно, мало… Ей стало грустно и обидно за себя. «Наверно, я плохая женщина». Обхватив локтями колени, она почувствовала мягкую печаль и погрузилась в нее всем своим существом.
Когда она проснулась, солнце уже выходило из-за гор, и, чтобы успеть собрать хворост к его приходу, ей следовало торопиться…
VIII
Сперва был шалаш. Тростниковая хижина с низким входом и запахом прелой воды от бурых стеблей и прибрежной глины, оползавшей со стен всякий раз, как накрапывал дождь. Глина осыпалась и падала комьями в мелкий ров, очертивший жилище нечетким прямоугольником. В ненастье ров быстро полнился водой, она начинала просачиваться внутрь и подбираться к плетеным матам, на которых они лежали. Маты набухали и шевелились под телом, словно плоты на волне. При каждом движении они издавали звук, похожий на лопанье пузырей. Когда дул ветер, хижина дрожала и тонко гудела щелями, отчего ей, женщине, представлялось, что они плывут, поддавшись неведомому течению, которое уносит их безвозвратно в белый туман нездешней и праведной тишины.
Друг ночевал в расселине скалы в полуверсте от того места, где стояла хижина. Он отправлялся туда без коня, пеший, и, провожая его взглядом, они смотрели, как он карабкается в сумерках по развалу горы. Он растворялся в подступающей тьме, и какое-то время они еще сидели у гаснущего костра, почти не обмениваясь словами. Потом мужчина засыпал угли, брал ее за плечи, распускал ей косу, она послушно входила в хижину и, зажмурившись, вдыхала жар его тела, пытаясь отыскать во мгле стекающие звезды.
При полной луне стебли тростника едва заметно поблескивали, рисуя на стене мутный бесплотный овал. Укутавшись в бурку и неотрывно глядя в него, женщина молила небо даровать ей дитя. Она старалась как могла, но шли дни, проходили недели, а она все так же была пуста. «Он покорил меня, но не кровь, — размышляла она, сцепив в отчаянии руки под грудью. — С ней нам и вдвоем не совладать. Если так, я уйду раньше, чем он меня отсюда погонит. Река-то рядом, идти недалеко…»
Однако мужчина будто и виду не подавал. Только часто, оставшись наедине с собой, внезапно холодел зрачками и тяжко задумывался, лицо его делалось далеким и чужим, словно жизнь в нем замирала и ему открывалось нечто такое, чего нельзя увидеть обычному смертному. В такие минуты женщине казалось, что это и есть настоящая правда о нем и что ее самой для этой правды просто не существует. Очнувшись от пристального взгляда, он оборачивался и, все поняв по ее глазам, виновато улыбался, только от этого ей делалось хуже…
На рассвете мужчина вздрагивал, широко распахивал глаза и тут же, позабыв одеться, бросался за дверь проверить коней. Потом она слышала вздох облегчения за стеной и понимала, что их все еще трое. Хорошо это или плохо, она бы сказать не могла. Проще было об этом не думать.
Прежде чем друг возвращался, она успевала принести в кубышке воды, разжечь костер и развести в уродливом горшке из глины жидкую похлебку из улиток и крапивы, сорванной у запруды. Поживиться чем-то еще на этом берегу было трудно. Скалистая гора была почти неприступна. Разве что иногда им удавалось подстрелить какую-нибудь птицу или освежевать раздавленную конским копытом змею. Время от времени они бросали жребий, и кто-то из них, из мужчин, набивал газыри порохом, прятал их в кожаный мешочек, подвязывал его шнурком к затылку, разувался, напяливал сапог на ружье, опоясывался плетенной из тростника веревкой, и они уходили к реке. Стоя у хижины, она смотрела, как они тащат за собой длинную бурую плеть, всякий раз новую, как они крепят ее в два обхвата к огромному прибрежному валуну и тот из них, на кого выпал жребий, ступает в бурлящий поток. Тогда она поворачивалась и шла прочь, чтобы не видеть, как его будет швырять на камни и, калеча, сбивая с ног, уносить вниз по течению.
Случалось, они возвращались уже через час, истерзанные борьбой и сердитые до того, что не замечали ушибов и ссадин. Женщине не нужно было объяснять, что это означало. «По крайней мере, теперь им понадобится несколько дней, — думала она про себя и чувствовала, что от радости ее клонит ко сну. — Несколько дней, пока не высохнет порох. Все оттого, что у них деревянные газыри».
Лес стоял на другом берегу. Когда им (одному из них) удавалось туда перебраться, не замочив пороха, двое других слушали его охоту и считали прозвучавшие выстрелы. Здесь, у подножья скалы, они теряли силу, дробились сухими щелчками, и эхо катило их по ущелью, словно россыпь камней. После третьего выстрела оба — и женщина тоже — направлялись к берегу и принимались терпеливо ждать. По уговору, попыток могло быть лишь три. Когда охотнику везло, это было сразу заметно: согнувшись под ношей, он добредал до реки, бросал наземь добычу и начинал ворожить над тростниковой веревкой, потом делал знак, и они принимались тянуть за нее, пока не выпрастывали на берег завернутое в шкуру мясо. Если работа спорилась, разделанная туша, брошенная в каменную яму, служившую ледником, слегка дымилась и покрывалась мелким бисером капель. В погожие дни, нанизав мясо на прутья из плавника, они вялили его тонкими кусками на солнце, запасаясь впрок на зиму.
Бывало, однако, охотник приходил ни с чем, и тогда мужчины мрачнели, стараясь не упоминать в разговоре про напрасно истраченный порох и пули, которые тоже были наперечет. Застрявшую в подбитом звере пулю можно было выковырнуть ножом, а потом переплавить в отворе стального стремени. Очень скоро женщина выучилась смотреть спокойно на то, как они хлопочут и волнуются, ощупывая теплую, влажную, почти парную смерть, но поначалу следить за этим ей было тягостно.
В непогоду ущелье преображалось, чернело и словно бы делалось глубже, постепенно увязая в тумане и бледно светлея глухим, ослепшим небом. Оно походило на склепы и пустоту, в которой они, все трое, начинали явственно различать иные звуки — голоса веков, властвовавших в прежнем безлюдье, — холодное бормотанье камней и привольный гул ветра, пахнущего грозой. И тогда, с каким-то сладострастным ужасом, подступавшим к ней изнутри, из самых недр естества ее, женщина погружалась в томительное ожидание скорой развязки, кары, которой было не избежать, потому что мир их уже не слышал, уже о них позабыл, уже отринул их, раскрывшись серой изнанкой эха зову того, что их так и не приняло, не заметило и лишь оттого не прогнало сразу, ибо было больше и этого дымящегося туманом ущелья, и этой реки, и этих склепов, и даже взорвавшейся первым громом пустоты, треснувшей поперек измаранного тенями неба…
Но с наступлением нового дня на смену страху и ужасу приходил задумчивый, чистый, бездонный свет утра, а с ним — и покой надежды, что всякий раз возвращалась к ней в душу прозрачной каплей прохлады из какого-то заветного далека. И тогда ей очень хотелось жить, кричать, любить и плакать, хотелось замереть и не шевелиться, чтобы не выпасть из этого сочного мгновения, похожего на полет. И сразу мир вокруг представал уже совсем иным, оживая красками и словно исцеляясь дыханием; в нем не было ни угрозы, ни враждебности, ни стыда. Теперь в нем не было и прошлого, от которого они бежали, а на стенах белых склепов играли блики отраженной воды. Река наливалась светом, делалась гуще и сильней, греясь под лучами тонкой призрачной кожей, как, задремав на солнце, нежится в тишине чуткое тело змеи. Стерев последнюю дымку испарины, ущелье отворялось каждой складкой горы, каждой черточкой тени, каждым пятнышком цвета, рисуя восхитительную красоту там, где прежде властвовал гром. В такие минуты, минуты мучительного и прекрасного, какого-то воздушного откровения, женщина ощущала, как ее сердце наполняет невыразимый восторг, потому что она (они! все вместе, каждый из них, и даже птица в небе) обретала ту странную, невероятную невесомость, из которой сотканы жизнь и беспредельность пространства, которое пьешь и никак не можешь напиться, пока длится этот миг, оторванный от лавы времени и неподвластный ни памяти, ни страху о прошлом, ни страху о будущем, ни даже страху расплаты за то, что о них позабыл. Этот миг был верховье, исток, зачин, откуда все начиналось — все, что дышало, чувствовало, томилось, было, умирало, рождалось, копилось, есть и будет на этой земле и под этим небом и к чему они — мужчина, женщина и мужчина — имели отныне такое же отношение, как и свет, птица в синеве, буйная река, лес, горы, склепы, воздух, запах глины, искореженная вершина или вкус ветра, от которого кружится голова. Обуревавшее их чувство, пусть и не передаваемое словами, было могущественно и звонко. Его можно было уподобить пророческому озарению, после которого уже не бывает пути назад, к себе прежним. Ощущение было такое, будто они оказались вдруг на теплых ладонях богов. В такие дни с ними и происходило все самое знаменательное…
IX
Яйцо отыскал друг. Он принес его к исходу дня, когда они, насытившись собою до изнеможения, уже покинули шалаш и ждали его появления у костра. Едва он приблизился, женщина вскочила с земли и шмыгнула за полог из шкур, скрывшись в хижине. Присев на корточки, друг помолчал с минуту, нервно подрагивая ноздрями (словно чурается… Словно чует запах греха, подумала женщина), потом, кивнув на закипавшую похлебку, промолвил:
— Неплохо бы дичью сдобрить. Или хоть тем, что на нее похоже…
— Воробьем, что ли? — усмехнулся мужчина. Тот пожевал губу и сказал:
— Загадка: древнее птицы всякой, но младше любого птенца…
Мужчина перестал смотреть на огонь, перевел взгляд на друга и прищурился. Потом, уже поняв, цокнул языком, повел плечом и спросил:
— На гнездо набрел?
Все еще сидя на корточках, друг отрицательно помотал головой, сплюнул под ноги и сказал:
— В камнях застряло. Стоит себе торчком, словно пуп, и меня поджидает… На, погляди.
Приняв из рук пятнистый серый овал, мужчина ощупал его скорлупу, взвесил на ладони, немного подумал и только было собрался что-то сказать, как внезапно осекся от громкого ржания. Конь — его конь! — застучал копытом и встревоженно всхрапнул. В просторных сумерках, отмытых за день светом, всем троим было видно, что дурит конь неспроста. «Вот оно», — прошептала женщина и принялась истово молиться. Лицо мужчины пошло багровыми всполохами, он поднялся, неотрывно наблюдая за тем, как на крохотном пятачке перед шалашом меряет круг за кругом одержимое знамением животное, потом бросился к нему, чтобы не дать коню окончательно растрепать укрытую сеном крышу. Он попытался запрыгнуть на него на ходу, но конь увернулся, и мужчина, беспомощно крякнув, больно ударился оземь. Закончив круг, конь присмирел, подошел к хозяину и склонил к нему голову с огромным глазом. Поднявшись, мужчина отряхнулся, провел рукой по гриве, и ему почудилось, что шкура под его пальцами стала твердой и холодной, как подтаявший на камне снег. Он отпустил коня, и тот неспешно направился к берегу.
Когда мужчина снова подошел к костру, друг сказал ему с укоризной:
— Ты чуть не разбил.
Он поглаживал скорлупу, что-то насвистывая, и старался казаться беспечным. Мужчина обхватил голову руками и напряженно думал. Спина его быстро вздымалась и опадала, подчиняясь неровному дыханию. «Сейчас он ему скажет», — решила женщина. Но мужчина смолчал, и вместо него сказал друг:
— Приложи к уху и слушай.
И тогда тот, с кем она делила ложе, выпрямился и посмотрел на второго взглядом, в котором читался вопрос, и тут ей показалось, что он перестал дышать вовсе.
— В том-то и штука, — ответил друг. — В том-то и чертова штука. Тебе решать.
Мужчина не сразу кивнул, потом протянул руку и взял яйцо. Прикрыв глаза, он поднес его к голове и начал бледнеть, пока не сделался белым, как облако у него за спиной. Глядя на них из шалаша, женщина видела, как оно зависло прямо над ним чистым шаром и, роняя легкую пену, метило его родством, настолько явным, что не распознать его было нельзя. «О Господи, — промолвила она, потом затвердила: — О Господи, Господи, Господи!..» Было это, как благословение. Два белых пятна на мгновение соприкоснулись, потом облако оторвалось от его лица и стало отползать на запад. Почти в тот же миг мужчина вновь открыл глаза и, обратившись к другу, произнес:
— Знать, так тому и быть. Не передумаешь?..
Друг был готов ответить, но все ж потупил взор и переждал. Он попробовал улыбнуться, но губы дрогнули, исказив лицо, и он глухо сказал то, что (это было видно по его глазам и устам, лишь повторявшим слова, которые уже выучила наизусть тишина) сочинил раньше еще, чем возвратился к костру после долгой своей прогулки:
— Здесь, кроме нас, и огонь-то разжечь некому. И даже некому увидеть… Просто встать здесь и поглядеть… Коли уйдем, обратно не примет. Не такая это земля. Коли уйдем, уподобимся тем, кто не видит. А где такого глупца сыскать, что саморучно себе бы зрачки умертвил? Тем паче двух или трех таких дураков… Не бывает такого — быть посреди и желать откатиться к обочине. Первый сотому не завидует. И местами меняться с ним не захочет… Кто выше по течению к роднику припадает, для того и вода вкусней. Опушка всегда светлее леса, а для нас что вперед податься, что в сторону — все одно как в чужом лесу искать свою надочажную цепь. Назад же нет дороги вовсе, кровью размыло… И потом: спину всякого путника, пускай бедового самого, уцелить легче, чем остудить тепло в хадзаре, если хадзар тот в подходящем месте вырос и согрет любовью да дружбой. Верно я говорю?
С его лица катился градом пот, глаза сверкали в темноте, опустившейся к ним на плечи за то время, что он говорил. Костер бойко шептался с ветром, задувшим с реки, и брызгал похлебкой, про которую никто из них не вспоминал.
— А как же кости? — спросил мужчина.
Друг сглотнул слюну, кивнул — им почудилось, с облегчением, — и ответил:
— Кости нам не помеха. Рядом с ними и стены крепче будут…
Он засмеялся. Смех был настоящий: теперь он сказал все, что требовалось. Сказал то, что должен был сказать другой, тот, кому принадлежала женщина, ибо она была единственным залогом, единственной надеждой, обещанием того, что будущие стены послужат не только укрытием, не только спасением от холода и зимы, а сделаются общим домом. Но тот сказать все это не мог, потому что ему мешал он, сам друг, и может быть, даже мешал подумать, хотя бы в мыслях признаться в том, что задевало всех троих, обрекая его, третьего, на долгие годы покорного и одинокого терпения во имя того, чтобы двое других пускали здесь свои корни, помогали им крепнуть и растили новые стебли под самым боком у темнеющего и засыхающего ствола. А потому тому, кто ею, женщиною, обладал, сказать такое было не под силу оттого уже, что для дружбы всегда надобны двое, даже если кому-то из них (а может, и обоим сразу) эта дружба сделалась в тягость, не ставши при этом слабей — так сбитые в мозоли руки хранят верность усталости и, едва очнувшись после короткого сна, предпочтут безделью новые шрамы и муки труда.
Они были друзья — когда-то лишь в шалостях, проказах и потасовках до первых слез, потом — в притворных насмешках над теми, кто раньше повзрослел, в им проигранных драках и в зависти к их ломающимся голосам и пушку на щеках, потом — в вечернем молчании, полупризнаниях и похвальбе, следовавшей за ними повсюду вместе с запахом мужающей плоти, как незаметно выросшая тень, потом — друзья в предвкушении подвига, сумасбродства или проступка (смотря как ляжет жребий), когда просто ждать, дышать, ходить по земле и целиком теряться в желании, застывая влюбленным истуканом посреди бела дня, одному из них стало невмоготу, а второй был младше на год и не хотел с тем смириться, потом — друзья в ночи, когда они ее подстерегли, украли, были ранены и сами стреляли в ответ, угодив в человека, когда ушли от погони, несмотря на пулю в плече одного и кровавый след от укуса в бедре у другого, несмотря на веселый, бешеный страх и сутки дороги с двумя небольшими привалами под сенью впервые увиденных скал, пока один смотрел на взмыленных коней (они бродили, шатаясь и фыркая, по ярко-зеленой поляне, густая пена сползала с их крупов, словно износившаяся за день белая шкура, а тонкие ноги, лоснясь от влаги, мелко подрагивали, скользя копытами по траве), а второй не сводил глаз с завернутой в бурку женщины, размышляя о том, что ради этого вот существа, бившегося без устали в черном коконе бурки и не проронившего ни слова с тех пор, как он перебросил ее через седло и полетел по звонкой ночи прочь от всего, что могло когда-либо заявить на нее свои права, ради этого существа, боровшегося с ним с остервенением дикого зверя и впившегося ему зубами в ногу в тот самый миг, когда они покидали аул, слушая спинами обжигающую злобу метивших в них выстрелов, ради этого вот существа, ничуть не похожего на тот образ нежной кротости, который несколько месяцев кряду неотвязно преследовал его по пятам и был реальнее всего того, на что он натыкался телом или взглядом, ради этого вот существа он пожертвовал всем, что было прежде его жизнью, и жизнью его семьи, и жизнью его друга, убившего ради этого вот существа ни в чем не повинного человека — только потому, что так велела дружба, а значит, он поступил так не только ради этого вот существа, укрытого, как большое громкое сердце, в теплую бурку и непрестанно колотившего в нее изнутри, невзирая на стянувшие ее ремни. Сидя у каменного подножия незнакомой горы, мужчина неотрывно смотрел на нее, лишь изредка прерываясь, чтобы бросить взгляд на распухшее колено, и капля за каплей заливал рану аракой из бурдюка. Бледный друг, тускнея глазами, дремал в тени, перевязанный крест-накрест башлыком. Он потерял много крови и был далеко отсюда, будто силился вспомнить, придумать, рассчитать, кто он и как это здесь очутился. Словно со стороны наблюдая за ними, мужчина вдруг отчетливо осознал, что не узнает их обоих. Эта мысль, как ни странно, его не смутила, а, наоборот, принесла с собой приятное чувство — умиротворения, на мгновение почти заглушившего боль в ноге. Он улыбнулся и подумал, что не ошибся: любовь, как и дружба, могла удивлять.
Сердце его билось ровно и гулко, как шаг хорошего коня, вошедшего в границы эха, когда перед ним раздвигаются вдруг узкие стены расселины. Оно стало больше, и в отворившийся в нем простор хлынуло свежестью ощущение радостного приятия — этой женщины, умевшей быть разом и самой святой мечтой, и диким ее разрушением, и этого человека, измаранного кровью и сидевшего теперь перед ним без кровинки в лице. В этих двоих запечатлелось все то, что заполнило этот яростный день: тьма и свет, луна и солнце, страх и страсть, восторг, боль и в ней же вызревающее наслаждение, короткая, с выдох, смерть, упавшая под ноги коней, и бегство, длиннее которого была лишь дорога, бегство и погоня, погоня и азарт ее измотать, привал, погоня и опять привал, и кони, кони, кони, а позже — свобода, до которой — так подсказывало ему ставшее тонким и чутким, как собачий нюх, нутро — осталось всего ничего, каких-нибудь пять-шесть часов, пока сердце не перестанет слышать опасность.
К исходу суток они их таки измотали. Друг молчал, прильнув к конской шее, а женщина внезапно сникла и насторожилась, почувствовав пронзительную тишину, какой не бывает там, где хотя бы раз в сто лет пройдет человек или лошадь. Конь под мужчиной остановился и всхрапнул, потом замотал головой, пуская пар ноздрями. Друг привстал в седле и огляделся. В почти кромешной тьме можно было различить разве что расплывчатые очертания скал с трех сторон от терявшейся в обрыве дороги да вкрадчивое дыхание головокружительной высоты, на которую они взобрались. Друг что-то пробормотал, и мужчина, не разобрав ни слова, переспросил:
— О чем ты?
Тот тихо выругался, сплюнул сквозь зубы и сказал:
— Лучше б я служил овцой в отаре у кривого Зелимхана. По крайней мере, носил бы толстую шкуру или, на худой конец, согрелся б у него на костре…
— Ты потерял много крови, оттого и холодно, — отозвался мужчина, а про себя подумал: «Или оттого, что выстудил кровь другого». — Скоро разобьем ночлег, и ты согреешься.
Бурка под его руками шевельнулась и обдала ему ладони чуть влажным теплом, и он подумал: плачет.
— Скоро, — повторил мужчина. — Не успеешь пальцы сосчитать.
В мерклом свечении месяца он разглядел туманную дымку, бежавшую серой полоской по камням справа от них — там, откуда, как ему показалось, потянуло легкой, будто из ямы, прохладой.
— Как бы вместо пальцев себе ребра не пересчитать. Ни зги не видать. Перестарались. Это вот и называют каменным мешком? Как думаешь?
Вместо ответа мужчина осторожно развернул коня вправо и взялся наблюдать за тем, как тот робко поводит шеей, склоняет морду к самой земле и прерывисто, словно боясь уколоться, втягивает воздух. Потом конь поднял ногу, но, струсив, уложил копыто в прежний след, так и не сдвинувшись с места. Дав ему время освоиться, всадник легонько надавил пятками ему на бока и опустил поводья. Конь дрогнул и, прежде чем решиться, сперва отступил назад. Затем, поняв, что никто не собирается его принуждать, осмелел и сделал шаг вперед. Тогда мужчина, ободряя, цокнул языком и самую малость пришпорил. Конь жарко выдохнул, поднял голову и, пьянея от собственной смелости, вошел в туман. Мужчина тонко присвистнул, услышал за спиной нервное ржанье, а потом, почти тут же, — и мелкий перестук копыт, направившихся вслед за ними. Туман был серый, густой, с синими заплатами по краям, он доходил коню до самой головы, так что ни бурки, ни своих рук на ней мужчина больше видеть не мог. Конь тоже шел вслепую, целиком доверившись тому, что только что проснулось в нем мудрой лошадиной памятью. Она позвала его за собой — туда, где так давно не пахло жизнью, что даже выветрился запах последней из смертей. Конь больше ни разу не остановился, пока они не кончили подъем, не одолели вершину и впервые достаточно явственно не услышали того, что было знаком скорого ночлега.
То, без сомнения, была река. И сразу дымка перед ними рассеялась и показала им хрупкую тропу, сбегавшую под склон к воде. Конь под мужчиной радостно затрепетал и, коротко заржав, поспешил вниз, к черной долине, освещенной круглой луной (теперь они вспомнили, что там, за перевалом, тоже была луна, а не месяц, должно быть, их обманула наползшая туча, изгнанная с небосвода, покуда они одолевали вершину), множеством звезд и отблеском отражений с поверхности реки. На этом берегу тумана не было. Он стелился сбоку от русла и накрывал грязной тряпкой какой-то островок посреди с пятнами строений, а потому они решили, что аул расположился слева. Такой широкой и привольной воды они отродясь не видали, как никогда не слышали и столь совершенной тишины, обрамлявшей ночь надежным, толстым сном. До поры до времени никто из них, из похитителей, тревоги не ощущал, и только женщина судорожно сжалась в комок, когда мужчина снял свою ношу с коня и сам спрыгнул на землю, удовлетворенно озираясь.
— Это же надо, — сказал друг. Уже умывшись, он сидел у самой кромки берега как раз между жадно пьющими воду конями, чьи безглавые силуэты походили в темноте на перевернутые кверху дном котлы на треножниках. — Это же надо — забраться так далеко, что даже вспомнить про то, куда заехал, нечего. Ошибиться — и то не сможешь, потому как и для ошибки тоже надобно знать, с чем это можно спутать. Ты-то знаешь?
Мужчина пожал плечами, переложил плеть в левую руку, а правой указал женщине на реку. Она сидела, закрывшись платком, и не сводила с него горячего взгляда. Отвернувшись от нее, мужчина лишь острее почувствовал его ненависть. Он долго пил, потом опустил лицо в воду, наслаждаясь живым и пьянящим холодом, наполнил рог водой и осторожно поднес его к женщине. Едва рука его поравнялась с ее глазами, женщина ударила по ней, и рог упал к его ногам. Не нагибаясь, мужчина снова пожал плечами и ответил другу на его вопрос:
— Конечно, точно не скажу, но для загона, похоже, сгодится.
— Для чего? — удивился друг. Перестав плескать себе на рану, он смотрел, как мужчина достает из-под его седла тяжелое кольцо веревки и споро, но без спешки, сворачивает петлю. Он стоял вполоборота, и лица его видно не было, зато они хорошо слышали его голос.
— Для загона, — повторил он и дернул за веревку с двух концов, проверяя прочность узла, — чтоб усмирять строптивых кобылиц.
Женщина ахнула и метнулась к реке, но не успела сделать и нескольких шагов, как рухнула наземь, подкошенная арканом.
— Присмотри за лошадьми, — глухо сказал мужчина, — а у нас с ней неотложное дело имеется.
Он потащил за веревку, и только тут женщина впервые закричала, разрезая ночь нестерпимой болью своего унижения, словно молнией очертившей межу, через которую ему, другу, путь был заказан. Пытаясь укрыться от крика, он шагнул в поток, оскользнулся на каменном дне, упал на колени и едва удержал равновесие, подставив раненое плечо под напор воды и благодатный шум реки, облившей его равнодушною силою. Но и этой силы не хватило, чтобы начисто стереть отсюда крик, рвавший мглу и комкавший тени, — так сворачивает в черные окатыши огонь сухую шерсть. Кони отпрянули от воды и дробили тьму испуганными ногами, спотыкаясь копытами и тыча мокрыми мордами друг другу в шею. Сквозь рев реки, женский крик, лошадиное топтанье он разобрал еще один звук — секущий частый шелест — и вычислил по нему, что они вошли в пределы тростника. Крик взвизгнул последним отчаяньем, надорвался, эхом откашлялся в стон и пропал, уволоченный в тростниковые заросли.
Обессилев от усталости, воды и шума, друг поднялся с колен и с трудом дотащился до берега. Потом ему стало совсем темно и сразу вслед за тем — ослепительно ярко, как будто ему в глаза швырнули влажную пригоршню света, и, погружаясь в непрочное забытье, краем сознания он успел уловить, что кони уже снова стоят у реки, погрузив морды в воду, да, снова пьют, только не это главное…
Что было главным, он понял лишь тогда, когда опять открыл глаза, а может, эта мысль его и пробудила. Очнувшись от стеклянного звона в затылке, он вдруг с необычайной ясностью, каким-то шестым чувством, постиг, что эта земля пуста. Пуста так, как не бывает пусто ничто под луной, если только наделено душою. С тех пор, как они вошли в этот спящий мир, в нем ничто не изменилось, ничего не проснулось, не ответило, не возмутилось их появлением, не завопило птицей, не вспорхнуло крыльями, не засверкало огнем с того берега и не замерло дыханием с этого.
Ему стало скверно. Он лег ничком на гладкие камни, пахнущие невидимым мхом, и впервые за сутки вспомнил о Боге. Однако молитва тоже не помогла, она была напрасна, как если б он бормотал слова не в сокровенное таинство ночи, а в огромный порожний сосуд, слепленный из темноты, лишенной слуха и доверху наполненной холостыми отражениями эха.
Будто привороженные, кони не отходили от воды, словно боялись утратить ее громкую, спасительную близость, обещавшую им наступление утра, — ведь туда, где ревет и плещется вода, обязательно придет умыться солнце. Но поверить в то, что утром станет легче, человеку не удалось. «А может, — подумал он, — это и есть судьба. По крайней мере, какого иного слова для этого нету. Или просто мне оно неведомо».
Когда он распряг коней, действуя одной рукой и помогая себе зубами, шелест раздался снова. Звук стремительно приближался, петляя в зарослях, и еще раньше, чем она выбежала из тростника, он угадал, что будет беда. От столкновения с нею у него помутилось в зрачках. Боль была такая, словно его плечо разорвалось на тысячи мелких осколков (большое теплое гнездо приютило несколько маленьких жизней, а после кто-то жестокий разнес его палкой в клочки). Потом она произнесла такое, во что он отказался верить, хоть и послушно отошел, огибая ее, чтобы уйти с конями туда, где должен был ждать мужчина. Тот человек, кто только что сделал его третьим среди них, потому что второй отныне была она, женщина.
А на рассвете они увидели склепы…
X
На рассвете они увидели склепы — шесть белых призраков, словно посыпанных сверху меловым дождем. Чешуйчатые шлемы цвета прелой листвы. Дыры одежд на полых телах, повернутых к солнцу. Каждый из них был похож на выплывшую из леса слепоту, забредшую ночью в капкан посреди бурной реки и застигнутую там первым же светом.
Когда костер задрожал, стрельнул искрами и распрямил свое пламя, мужчина поднес к нему оструганный клинышек, дал ему раскалиться, раздул уголек и, вложив другу в зубы рукоять кнута, быстро приложил шипящее острие к лепестку распухшей раны, целя точно в лиловую плесень нарыва. Друг дернулся и взвыл, вцепившись руками в булыжник, который плавился, превращался в мякину и вытекал у него из-под пальцев пористой жижею. Несколько раз умерев и воскреснув, обратившись в пепел и вновь одев свою плоть, друг отворил глаза и провалился взглядом в многослойную голубизну. Камень — твердый плотный урод с щербинами по щекам — выпал из рук и щелкнул землю тупым гладким лбом. Потом друг нашел в небе солнце — юное, складное, босое — и тихо закачался в его мягких руках. Постепенно боль расставалась с яростью и норовила поуютнее, калачиком, свернуться у него в плече. Он сел и снова увидел остров — голую спину речного дна с полудюжиной склепов, — и тогда мужчина спросил, указав туда подбородком:
— Теперь ты вспомнил?
Он избегал смотреть другу в глаза, словно оберегая от стыда за то, что в эту ночь один из них повзрослел на целую жизнь, а второй возмужал лишь настолько, чтобы понять, что это не он. Укротить жизнь значило больше, чем жизнь отобрать, это понимали оба. Друг подложил плавник в костер и чуть тихо назвал ее имя:
— Проклятая река…
— Ни за что б не поверил, — хлопнул в ладоши мужчина и в возбуждении всплеснул руками. В его радости было что-то не то. Что-то деланное, неискреннее, от чего у друга засосало под ложечкой. «Неужто так и бывает, — подумал он в раздражении. — Стоит лишь с кем переспать, как сразу голова и зад меняются местами… Дай ему волю, со счастья такого возьмется лизать огонь с головни». Он спрятал повлажневшие глаза и, стиснув челюсти, молчал, пока тот продолжал: — Проклятая река! Ты только подумай… Искали б нарочно — никогда б не нашли, а тут впотьмах напоролись. Вот чудо-то! Все равно что по ошибке в худом котелке вместо ботвы луну сварить…
Он засмеялся, стараясь не глядеть по сторонам, поднялся на ноги и пошел, прихрамывая, к ружью, лежавшему у небольшой запруды, которую саморучно заложил с час назад.
— Пойду поохочусь, — сказал он, обращаясь то ли к женщине, то ли к мужчине, то ли к себе самому, — сказал так, как говорит хозяин, которому не перечат.
После его ухода друг долго смотрел туда, где горбился остров, и размышлял о том, что все потерял. На это ему хватило суток, в течение которых он перестал быть сыном, внуком, братом, лишился права ввести в отчий дом ту, что могла сделаться матерью его детей, разменял свою молодость на тоску, чужую любовь и гиблую реку, что когда-то отравила аул и, словно в назидание грядущему, оставила шесть тусклых бельм зиять на черепе чумного острова. «И еще, — думал он, — я убил человека. Надо не забывать. Это тоже вместилось в сутки. Я сделал это так легко, словно походя, так запросто, что даже не успел понять, хотел той смерти или нет. Конечно, я не желал ее ни до, ни после выстрела, о том и говорить не стоит. Но вот чего хотел я в миг, когда нажимал на курок? И почему сейчас это не близко, не внутри, не стонет, не кричит, не гложет мою совесть? И совсем не так страшно, как эта река, этот остров, эта женщина и этот лес, до которого нам так же не добраться, как и к себе домой, в тот запах из позавчера? И почему при мысли об этом мне лишь становится как-то особенно сонно, будто убийство — та же скука, от которой вянет душа? Что это значит? Взаправду все это? Кто я? Настоящий я или нет? Кто я был и кем стал, пока меня несло, калеча, по этому суматошному дню к больной безумьем реке на самый край света?»
Женщина медленно шла по нависшему над водой обрыву, низко склонившись к земле и подбирая улиток, приютившихся между камней. Сложив весь улов в десятке шагов от костра, она подумала: «Огонь и глина. Я слеплю горшок, а мерку сниму с его же папахи. Славный будет горшок». Кони паслись вдалеке, на темно-зеленом холме, теряясь в высокой траве и вновь вырастая из нее коричневыми боками. Женщине было хорошо и тревожно, как случается, когда очень хочется испугаться, чтобы потом разом стало смешно. В попытке вспомнить себя и снова выглядеть серьезной, она поднесла к разрумянившемуся лицу ладони, с минуту изучала их, потом осторожно коснулась жарким языком приставшей к ним росы и, чуть опустив голову набок, вдруг широко улыбнулась. Вкус у росы был такой, будто ее поила допьяна ночь. Со стороны скалы раздался выстрел и пробежал по ущелью трескучим альчиком. Женщина вздрогнула и оступилась, услышав под ногой хруст скорлупы. «Ну вот, — подумала она. — Бедная улитка». Однако жалости не испытала. Внутри ее звенело много быстрых, жадных слов, но слышала она их плохо и не до конца. «Коли промахнулся, — решила она, — рожу ему девочку… Только у него родиться девочки не может, покуда не будет мальчик. Кто-кто, а он не промахнулся. Не из таких…»
Вернулся он к закату, и в руках его не было ничего, кроме тушки сурка, хоть выстрелов прозвучало шесть, и тогда женщине разом сделалось стыдно и страшно, а друг отхлебнул араки из бурдюка, закивал головой и с мрачным удовлетворением сказал:
— Гиблое место. Трое в гостях у смерти. А один из них — дурак.
Мужчина бросил на него свирепый взгляд, но промолчал. Кинув тушку к ногам женщины, он растянулся на спине у жидкого костра и о чем-то долго думал, не сводя глаз с плеши солнца, спускавшегося в лес. Растаяла, растворилась, стекла в лохматую ложбинку горы последняя цветная зыбь, и небо, вмиг погрузнев, задышало над ними стойким вечерним холодом. Огонь послушно лизал розовое днище горшка, пахнущего то ли свежей глиной, то ли плотной сыростью, то ли памятью об обгорелой чуречной корке, съеденной ими еще вчера. Мужчина приподнялся на локтях и угрюмо сказал:
— Завтра отправлюсь в лес. Отыщу мелкое место, свяжем веревку из тростника, и я пойду в лес.
Друг оглянулся на него, погладил налитую свинцом левую руку, пошарил веткой в дремлющей золе и негромко подумал: «Ради нее ты перечеркнул свое прошлое. Теперь ради нее ты готов утопить в Проклятой реке свою жизнь. Только, сдается мне, она сама того не захочет. Потому как, едва тебя расшибет о камни и унесет, словно оступившуюся овцу, туда, где даже солнце станет плевком, едва ты утопнешь, как щенок, упавший в чан с водой, а потом покатишься грязью по камням, едва ты сбежишь от нее — она вдруг поймет, что ты ее обманул. Едва овдовев, она поймет, что ты выменял у реки свою жизнь на одну только жаркую ночь и исчерпал этой ночью ее и себя. А еще ома поймет, что отныне сама — лишь память о собственной гордости да стыдливое презрение к самой себе. Отныне она лишь обесчещенная потаскуха, сидящая на берегу с раненым глупцом, убившим ради чьей-то потной ночи, длиною то ли в миг, то ли в целую жизнь, незрячего плясуна, а заодно — и все, что было прежде в нем самом, за ним, вокруг него. И тогда им двоим останется только одно. Нет, правильнее будет признать, что не одно, а два. Им останется только покончить со всем этим или превратиться в скотов, одержимых, вместо жажды жизни, похотью ненависти, которая уничтожит их столь же верно, как тебя самого — лишний шаг в сумасшедшую воду. Ничего иного ты для них не оставишь. Ты даже не захочешь думать о том, что я сейчас тебе нарисовал».
Все так же приподнявшись на локтях, мужчина молчал, нервно перебирая галькой в руках. Друг с облегчением почувствовал, что у него уже не так кружится голова и темень обретает привычность очертаний. Он покосился на женщину. Обхватив руками колени, та сидела в десятке шагов от них и совершенно не двигалась. Круглая и безразличная, луна смотрела на него холодным ровным светом, в котором жизни было не больше, чем в склепах. Наверно, это и есть последняя правда, думал он, не сводя глаз с луны и слушая, как миг за мигом, плавно, но стремительно в его груди раздвигается неизмеримая глубина пульсирующего провала, в котором тщетно ищет опору его опрокинутая душа. Правда о бездне, разделяющей мглу и солнце, равнодушие и суету, покой и надежду. Разделяющей смысл жизни и саму жизнь. Он остро ощущал сейчас свою неприкаянность в обществе тех, кто, без сомнения, неподвижному взгляду луны предпочел бы стихию потока. «Не знаю, — размышлял он про себя, — ума не приложу, что сможет дать мне утро, чтобы уговорить на обман? Что заставляет пса тосковать по ошейнику?»
— Лучше начать с другого, — произнес он вслух в пустоту — голосом, пустотой рожденным. — Тебе будет лучше начать с шалаша.
Вместо ответа мужчина издал горлом сдавленный звук, а женщина медленно повернула в их сторону голову. Потом она поднялась и бесшумно пошла в темноту. Костер догорал. Пламя затравленно дергалось и чахоточно всхлипывало на неспокойном ветру. Друг сменил позу, перевернулся на здоровый бок и, чуть прикрыв глаза, принял вид, будто заснул. Он знал, что мужчина ему не поверил. Спустя несколько минут он услыхал, как тот, окончательно разозлившись, пнул ногой подвешенный на прут горшок, выплеснув из него зловонную жижу, вскочил на ноги и зашагал в том направлении, куда скрылась женщина. Чтобы не слышать запаха испускавшего дух костра, друг уткнулся носом в излом локтя и, прежде чем заснуть, нехорошо улыбнулся.
XI
Ему приснилось, что он слеп. Краски сменили кожу и теперь плавились перед ним подвижными расплывами теней. Пытаясь убрать наваждение, он захотел помолиться, но не сразу отыскал небо, свернутое в пелену на самой обочине сна — там, куда приблизиться даже мыслью было невмоготу: глаза начинало жечь едким маревом из невидимой глубины. Он постарался увидеть себя — свои руки, одежду или хотя бы честный обрубок тени, — но на том месте, где он дышал, было пусто и прело, как под осенней листвой, а потому различить себя он так и не смог. «Должно быть, я исчез», — подумал он и почувствовал, как сильный ветер влетел в него крепким снежком и, угодив прямо в горло, застопорил дыхание. Краски вспыхнули белым пожаром, мгновенно сгорели и тут же исчезли из сна, оставив после себя лишь толстый багровый след поперек его мыслей. Потом сделалось тихо и слышно, словно в норе, и, если бы не ощущение тревоги внутри, слепота показалась бы ему даже уместной. Лишенный зрения, он пробежался руками по клейкому дну кошмара, потом, униженный равнодушием тишины, собрал руки и спрятал их под себя. Потом он куда-то растаял, а когда снова заплыл в эту длинную мглу, вдруг подумал: «Теперь я знаю больше, чем всегда». В лицо ему дышала паутина, смахнуть которую он не решался, потому что не хотел никому — ни тьме, ни ее копошащимся образам показывать свои руки. В них крылась причина его слепоты. В них — и в плотно сжатых губах, помнивших какое-то слово. Кто-то прополз рядом с ним, задев его волосы, но он даже не вздрогнул. Я пропал, снова подумал он. Все кругом уходит в ночь, а ты ждешь, когда перестанет дождь и можно будет взяться за поиски себя самого.
Где-то неподалеку прошмыгнули чьи-то шаги и зачавкали копыта. Он нахмурился, пошарил памятью по своему телу и вспомнил про плечо. Услышал, как в нем дышит жаром прожорливая дыра. Вслед за тем отчего-то вспомнил вкус кнутовища на своих зубах и провел языком по иссохшим губам. В кровавой мгле вдруг назойливо и неотвратимо запахло женщиной и ее взглядом, от которого он чуть не застонал, но тут же, опомнившись, стих, чтобы не подпускать ближе ее глаза. Потом почувствовал, как паутинка отчаянно задрожала, натянулась струной и липко порвалась, а на лоб ему лег мокрой рукой остужающий холод.
— Ты права, — раздался голос, который он так хорошо когда-то знал. — Нужно сбить жар. Если к утру не оправится, придется ехать дальше.
— Или назад, — сказала женщина — сказала так. что в ее словах он легко распознал издевку.
Голос замер, потом, посопев, вздохнул и произнес:
— К угру оправится. По всему видать. Вон как задышал — ровно медведь в берлоге.
«Мне надобно открыть глаза, — подумал он. — Иначе они не дознаются, что я принял в себя его слепоту. Будто уже и напрочь забыли, что я не просто беглец или сторож их черных ночей. Раньше всего я убийца». Он замер, ушел в себя и постарался представить воочию, как на его зрачках растут серые ядрышки мути, потом слегка дрогнул веками, чтобы ощутить под ними плотные дробинки слепоты. На него снизошел гордый покой человека, только что доказавшего всем свою правоту.
— Ну вот, — сказала женщина. — Теперь выдюжит. Взгляни на скулы. Надул их с детские коленки.
— Я голоден, — сказал мужчина. — Я должен что-то съесть. Пока он спит, я околею. Если ты сейчас же меня не накормишь, я съем его коня.
Она тихонько засмеялась и сказала:
— Я накормлю тебя…
Ночь чуть потерлась их телами о его сон и, глубоко вздохнув, нырнула в его податливую мякоть…
XII
Яйцо зарыли на плоскогорье, там, где земля была твердой и прочной, как камень, но, стоило расковырять, наливалась зычной чернотой и начинала пахнуть парным молоком. Они выбрали участок шагах в двухстах от шалаша, сверяясь по солнцу, ветру, жесткой упругости склона и собственному чутью. Как раз на этот пятачок земли и падали первые лучи пришедшего в ущелье утра, а на исходе заката, отметившись здесь последней поволокой, ускользали за хребет, чтобы с рассветом вернуться сюда опять и ощупать прозрачными пальцами облюбованную пядь земли. Всю неделю мужчины лазали по горам и склону, подбирая большие и круглые, как черепа, голыши, которые должны были пойти на фундамент. Женщина внимательно наблюдала издали за их трудами, а затем, с наступлением сумерек, взбиралась наверх, робко подходила к крошечному холмику земли, уже покрытой здоровой влагой лени, трогала его ладонями и молилась. Уставшее от ожидания сердце гулко отвечало на ее торопливый шепот и шумным, перебивчатым волнением подсказывало удачу. Потом женщина спускалась обратно, к хижине, чтобы накормить умывшихся мужчин скудным ужином и, глядя в глаза одному из них, безмолвно объяснить ему, что предчувствие ее не обманет. Там она и зачнет от него первого сына: земля уже стала дышать, она слышала это руками.
Спустя семь дней, дождавшись полудня, мужчины переглянулись и, кивнув ей, пошли по склону вверх. Помолившись, друг вопросительно взглянул на напарника. Тот опустился на колено, осторожно наклонил бурдюк и вылил несколько капель воды на холм. Потом достал из ножен кинжал, взрыхлил почву вокруг, отложил кинжал в сторону и стал разгребать землю. Еще прежде, чем они его увидали, друг понял, что они не ошиблись. Только обрадоваться этому все же не смог.
— Слава богам, — произнес мужчина. От напряжения он весь вспотел, но, казалось, не замечает этого. — Все равно как кобылица во время течки. Смотри.
Он вытащил серый овал яйца и протянул его другу. Тот отрицательно помотал головой и, так и не подложив руки, произнес:
— Стало быть, место для первого камня выбрано. Осталось решить, какими будут длина с шириной.
— Мелочиться не нужно, — ответил мужчина. — Хотя и особо размахиваться тоже ни к чему, а то от одной только мысли, что надо в другой конец хадзара пройти, заранее уморишься.
Он улыбнулся. Ему хотелось смеяться, месить руками волну, бежать, сделать что-то большое и громкое, похожее на счастье, но ему мешало присутствие второго.
— По мне, — сказал друг, тщательно выговаривая слова, — уже довольно будет, коли бурка моя без складок развернется да рядом с нею кинжал уместится.
Мужчина вмиг помрачнел и сказал:
— Не могилу все-таки выбираешь.
Иногда он чувствовал себя особенно виноватым, и тогда ему казалось, что дружба — худшее из испытаний. В ней постоянно преданность мешалась с досадой от невозможности предать.
— Сколько бы ты ни запросил, полдома — твои, — сказал он глухо, сквозь зубы, а про себя подумал: чего ему еще? Не могу же я променять свою кровь на свою вину. Мне нужен этот дом, чтобы пустить здесь корни. И потом, он ведь сам на том настоял… — Ты отказался от шалаша, и я не перечил. Теперь ты отказываешься от того, чтобы стать ей братом. Так понимать?
Друг отвернулся, пожал плечами. Так и не поворотив к нему лица, ответил:
— Лисе нора нужна, а улитке и раковины хватает, только и всего. Ладно, не бери в голову. Лучше скажи, когда копать начнем?
Они начали в тот же день. Сделав разметку и обложив колышками углы, они взялись за работу. К вечеру они раскопали ровные желоба под две стены и почти напрочь забыли про давешнюю перепалку. Разрумянившись от трудов, они стали похожи на двух здоровых юнцов, за плечами которых не было ничего, кроме беззаботного чистого неба. Встретив их возвращение, женщина вдруг поняла, что выпала из их слов и мыслей на целый радостный день и что теперь ей предстоит покорно ждать, пока один из них не удосужится над нею смилостивиться и заново прозреть лицом. Это была ревность, справедливая, но унизительная, отчего женщине сделалось тесно и противно в себе самой. В такие минуты она с горечью думала, что недостойна быть его женой, и всячески старалась выказать приятие их дружбы, безжалостно пользовавшейся правом своего первородства. «Я недостойна его, — внушала она себе свою робость, чтобы разбудить в сердце стыд. — Так нельзя. Я должна научиться терпеть. Ради него, ради себя и ради ребенка».
Погода держалась такая, словно небо решило навеки избавиться от всего, что не укладывалось в синеву — не только от лиловой грязи туч, но даже от облачных белых лохмотьев. Когда они лежали, отдыхая, на спине и боролись с подступавшей дремотой, им представлялось порой, будто весь их отвесный мир, покуда хватало глаз, превращался в хрупкую береговую насыпь, ребристую кромку у едва колеблющейся громады непорочного воздушного океана, куда никому из них не суждено подобраться. Разве что женщине, думал друг. Да нет, ей тоже вряд ли. Хотя кто ее разберет…
Стены росли быстро и споро, будто торопили сами себя поспеть к сентябрю. Если бы не вынужденные отлучки, когда им приходилось, борясь с течением, преодолевать бурный поток и злополуку, дабы поохотиться в дальнем лесу, дом был бы готов даже раньше. По просьбе женщины они заложили еще четыре запруды вдоль русла, и теперь она часто уходила туда, захватив с собою острогу и уповая на везение, чтобы дождаться, когда в один из этих каменных мешков занесет течением злую форель. Она училась рыбачить. Но не только: еще она училась терпеть. Когда со стенами было покончено, они нарыли побольше прибрежной глины и тщательно смазали ею пол.
— Теперь нам нужен дождь, — сказал мужчина и уже ночью услышал, как по ветвистой крыше шалаша шуршит и стелется обильная вода.
Наутро в доме, на таком ровном с виду полу, не оказалось ни единой лужи, и мужчины удовлетворенно заулыбались: выходит, все было сделано правильно, и скат получился что надо. По всему явствовало — пора браться за крышу.
— Крыша — это не штука, — говорил друг, строгая заточенным камнем кряжистый ствол сосны, срубленной у подножья скалы. — Штука будет другое: выстроить мост.
— Дело, конечно, серьезное, — соглашался мужчина, взволнованно поводя плечом. — Только и не настолько хитрое, чтобы вдвоем не осилить. Не хитрее того, что уже позади.
Он был рад, что друг завел речь про мост. Это значило, что он все еще хочет быть другом. В самом деле, случалось, мужчина крепко задумывался над тем, как это странно, что за ними тремя не следит ни один человеческий глаз. Поверить в это было так же трудно, как и в то, что огромная эта земля совершенно бесплодна и не обременена созревшей невесомостью хотя бы единственного колоска. «Когда-нибудь, — думал он, — быть может, не слишком скоро, но когда-нибудь время подскажет нам выход. Мы еще будем смахивать крошки на землю и кормить ими воробьев».
Пару раз в месяц в их отношения, затаившись, вмешивалась беда: глаза второго наливались горячей мгой, а мужчина пытался этого не замечать, но быстро понял, что куда полезнее постараться вызвать его на разговор. Правда, было это труднее, чем убедить себя в такие минуты в том, что он, друг, ему по-прежнему нужен и дорог. Удивительно, но в те вечера, когда тот упорно предпочитал хранить немоту, мужчине почему-то казалось, что ее, женщину, он не любит тоже, и тогда сам он замыкался молчанием, размышляя о том, что делался младшим в их дружбе — союзе без передышки и без исхода, который на поверку оказывался крепче обиды или любви. Впрочем, возможно, это было не так. Возможно, то была лишь отсрочка. «Пропади все пропадом, — говорил он себе. — Дьявол бы их побрал. А лучше — меня самого…» В густой, почти кромешной тьме он уходил из шалаша, испытывая к себе неподдельное отвращение, мочился на сердитые угли костра, потом шел к коню и, не надев седла, запрыгивал на круп. Ухватившись железными пальцами за сухую, жесткую гриву, принимался пинать его пятками в бока, пока не заставлял пуститься галопом по черной пустыне ночи. Конь дико всхрапывал и, обезумев от страха и скачки, несся стремглав навстречу горькому ветру. Пьянея от бешеной гонки с судьбой, они успевали услышать, как позади, в покинутой ими дали, захлебывается ржанием и мечется вокруг коновязи жеребец друга. «Она войдет в меня громом», — радостно думал мужчина, наслаждаясь полетом опасности еще полнее, еще безграничнее, чем когда-либо — женскими ласками.
Доскакав до изножья хребта, они поворачивали обратно. Тело животного покрывалось пенными хлопьями и при слабом свете луны зловеще блестело. В висках у мужчины стучало. Убедившись, что тягаться с судьбой на земле совершенно бессмысленно, он осаживал задыхающегося коня, укрощал его шаг, а потом, грубо дернув за гриву, устремлял к реке, где долго смотрел на толстую, в ночных сугробах, воду и слушал ее звериную песнь. Она влекла к себе, кружа ему голову масляным вихрем бесконечного, напрасного, тщеславного движения.
Иногда мрачность друга не запиралась в оскорбительном молчании, а, не сумев устоять перед упрямой терпимостью того, с кого начинался и кем ограничивался теперь для него весь круг мужского братства, изливалась в долгий разговор, в котором слова значили меньше того, что за ними стояло, и потому такой разговор обладал куда большим смыслом, нежели просто беседа, заправленная постной начинкой из слов. Их дружбе, терзаемой одиночеством и любовью, требовался роздых, чтобы набраться новых сил и очиститься от раздражения и подозрительности, исподволь отравлявших им дни. А для того нужно было на время заслониться от настоящего, умалявшего, вопреки возводимым стенам, их единство и заставлявшего думать, что каждый новый голыш в стене являл собой не умножение их общей решимости достойно встретить удел, а, скорее, воплощал в себе быстро растущую преграду взаимного отречения. И чтобы преодолеть это настоящее, а тем паче оправдать предвкушенье грядущего, надобно было сообща совершить то, что в одиночку каждому из них сделать было не под силу: им нужно было выйти в прошлое и побродить в уютной его доброте. Погружаясь вдвоем в общую заводь воспоминаний, они становились сильнее, как если бы объявшие их воды обладали даром исцеления, и внезапно то, что было мукой для каждого в отдельности, превращалось для них двоих в цепочку блистательных приключений, пройдя через которые, они опять обретали сладкий покой смирения, возвратив себе самый вкус и восторг своей дружбы — ощущение беззаветной взаимной преданности. И тогда уже было проще обращаться памятью в то, что составляло их безумное вчера, воссоздавать в воображении подцвеченные вдохновением картины похищения, бегства и погони, скрываясь от которой, они тогда словно выскользнули из времени, разорвав его постепенность, и теперь, вспоминая те дни, нащупывали на самом донышке сознания только беспорядочные обрывки видений: расколотую пулей ветку, хлестнувшую по лицу, визг чьей-то свиньи во взбудораженном кражей ауле, эхо копыт в горловине ущелья, спелую половину радуги, взошедшей из-за хребта одновременно с рассветом, жажду, забившую глотки ржавым песком, кровь, теплой змеей стекавшую в сумерках по черкеске, смену коней в полчаса, чтобы разделить поровну риск и тяжесть похищенной ноши, внезапное, как обвал, наступление ночи и крохи пугливого сна, разбросанные в беспорядке по углям костра, долгое, считающее повороты, молчание и узкие звериные тропы, обегавшие аулы по скалам, а потом — почти белую пыль на каменной груди незнакомого плоскогорья, что поначалу показалось им лишь непривычно широкой дорогой, куда они выбрались перед тем, как заблудиться в последний раз, и, в конце концов, — громадную тишину, беременную вечностью, в которую они забрели, попав в окружение ночи…
Вспоминать вдвоем было просто. Прошлое покорялось и становилось легким, как шерсть, согревшая рану теплом. Но почти сразу после того, как мужчины прощались и расходились в разные стороны, рана опять начинала дышать. Любовь защищала от боли лучше, чем одиночество, но излечить ее была тоже бессильна. И по-прежнему, как все эти длинные месяцы, первое, чем распахивалось перед женщиной каждое новое утро, было его, мужчины, нервное пробуждение и стремительный прыжок за полог из шкур, чтобы проверить коней и понять, что их все еще трое. Ей оставалось уповать лишь на то, что с постройкой дома все, наконец, переменится…
XIII
На охоте случалось всякое. В плохие дни лес не дарил ничего, кроме горсти лесных ягод и загадочного ощущения покоя, возникавшего каждый раз, как укрывшейся за деревьями чьей-то пушистой жизни удавалось избежать пули. Как ни странно, вместо злости или отчаяния это вызывало у охотника лишь почтительное удивление да неподдельное уважение к тайнам, ответ на которые ведом был только богам.
Воистину лес был велик и громаден. И полон звуков, в которых можно было уловить то хлопанье крыльев, то шелест листвы, журчанье ручья, зевок ветра, фырканье чутких ноздрей, шорох лап, хруст вспугнутых зарослей, капельки света, пролившиеся белым соком сквозь кряжистые руки крон, то ровный сон теней, то хрумканье маленьких острых зубов, а то и рев почуявшего беду крупного зверя. Здесь пахло дождями и солнцем, сыростью с кровью, порой — падалью и тревогой, но никогда — костром. А потому каждый выстрел, обжегший порохом воздух, приводил этот стройный и девственный мир в смятение. Лес становился враждебным и отвечал то неистовым шумом, то пронимавшей до мозга костей тишиной. Если бы не врожденное чувство упрямого и гордого противления всему, что сберегала для себя самой природа, человек острее бы ощущал нелепую подлость своего здесь присутствия. Не случайно, едва удавалось кого-нибудь подстрелить — в движениях его проступала постыдная спешка. Второпях он комкал молитву, свежевал тушу и поскорее стремился выбраться к берегу, чтобы выйти из хмурых пределов им поруганного безмолвия.
Но в дни, когда охота не ладилась, человек, бывало, задерживался в лесу и, приникнув к шептавшей мудрость земле, благодарно внимал тому, как она вбирает в себя и утешает сумбурную речь его сердца. Он забывал про опасность. Тем временем лес ему мстил…
Как-то раз, ближе к осени, жребий выпал на друга. Благополучно перебравшись через реку и чуть передохнув, покуда с одежды стекала вода, он зарядил ружье и, бережно завязав тесьмой мешочек с порохом, отправился в глубь леса. Сегодня он решил попытать счастья на южной окраине, примыкавшей к ближней горе редкой опушкой, перед которой внезапно расступались густые заросли. Добраться туда можно было часа за три, если идти не слишком быстро, вглядываясь в чащобу в поисках добычи.
Пока он преодолевал этот путь, ему встретилась маленькая косуля, вынырнувшая сперва из-за широченного ствола лиственницы, а потом каким-то чудом — и из-под его выстрела, хоть бил он в нее всего-то с нескольких шагов. Пройдя с половину расстояния, он извел вторую пулю на мелькнувшую в зарослях тень, так, признаться, и не разобрав, кто там прятался. Услышав плоский щелчок, он понял, что промахнулся. Тщетно провозившись в поисках дерева, в котором застряла пуля, лишь сильно исцарапавшись и здорово устав, он рассудил, что такое начало не предвещает ничего хорошего. Несмотря на прозвучавшие выстрелы, в лесу было на удивление тихо, и даже обычный гомон птиц быстро сошел на нет.
Вскоре он добрался до холма, которым бугристо вспучивалась земля перед тем как снова, но уже с противоположной стороны, скатиться вниз и после уж только покорно стелиться хвойным ковром до самой опушки. Стало быть, до скалы оставалось не более часа. Вокруг царил такой покой, что, едва он сел перевести дух, у него смежились веки.
Нет, он не спал. Расслабив мышцы и сердце, он наслаждался глубокой первозданной тишиной так, будто встретился с ней впервые. В том, чтобы сидеть вот здесь, в прохладной полутьме, под свежим исподом горячего дня, был некий смысл, постигать который мелкой назойливой мыслью не возникало желания. Время шло, но — странным шагом. В нем не было присущего упорства и непререкаемой заданности навеки установленного хода. Оно гуляло беспечным ветерком по тяжелому тучному лесу и, словно раздевшись донага, стало совершенно прозрачным, по-детски невинным, как будто весь его непосильный злопамятный скарб из грехов человека оказался притворством. Прислонившись к пахучей сосновой коре, он размышлял о том, что сознает себя сейчас как бы разом и полностью, словно все личины его я, столь непохожие друг на друга, соединились в некую плотную целостность, единый портрет, примкнув без потерь, как клочья порванного листа, зазубренными краями границ к точному слепку своей перевернутой тени. «Это как зеркало, — думал он. — По справедливости, надобно прежде одолжиться его всетерпением, чтобы нехитрый разумом юноша ужился рядом с убийцей, которому всё всё равно. Я и не заметил, как им удалось уместиться в одном теле и вровень дышать общим воздухом. Во мне не осталось ни скорби ни совести, — невзирая на ружье в моих руках и ясную память о том, как я им убил человека. Мне не больно и пусто. Жизнь моя словно отложена на потом, только ждать ее скучно и лень. Я просто сижу, как в гостях у собственной смерти, и ни о чем не жалею…»
Приди ему сейчас на ум мысль о каре иль покаянии, его бы возмутила ее лживая благопристойность. «Я есть, — сказал он сам себе, — и я есть я…» Он знал, что это конец, потому что дальше не было ничего, дальше стерпеть любую тропу, любую дорогу, любой поворот или ухаб ее было так просто, что вовсе немыслимо, как и прозреть снова разницу между добром и злом. Странно, что я не сделал этого раньше, — подумал он, — когда я так мучился. Хотя нет: тогда я верил в грех. Нынче я отложен в такую даль, что мне она уже безразлична. Нынче я принадлежу только себе и лесу. На все остальное мне наплевать.
Опустив руку, но не глаза, он пошарил в траве и потянул за тесьму мешка с порохом. Когда она распустилась, осторожно обвязал ее вокруг курка, установил ружье так, чтобы дуло смотрело ему в переносицу, потом переложил его в левую руку, а правой взял за конец тесьмы и, подтянув к груди ногу, сунул ступню в образовавшуюся петлю. Дыхание было ровным и сильным, как у встающей волны, и он успел подумать: «Навсегда — значит то же, что и — никогда больше…» Мысль показалась ему очень удачной. С ней можно было уйти.
Он надавил на веревку ступней, и его темя срезало, как ножом, обдав лицо огнем и пороховой гарью. Последнее, что он успел ощутить, была горячая, быстрая кровь, хлынувшая из его лопнувшей головы и заливавшая ему глаза легким веселым дождем. Потом он почувствовал, что его душа — маленький юркий комок в груди с тонким голосом — закрутилась буравчиком в вихрь и, кусая за глотку, забилась в нем громкой обидой, затем, взорвавшись звездой, брызнула ввысь, остужая себя полетом, и вырвалась на свободу. Только тут он обрел безбрежный простор последнего своего безразличия. Это было блаженство. Лес, наконец, пробудился и закричал, зашумел ветвями, забился крыльями и задрожал, но его уже это не трогало. И даже когда из чащи в трехстах шагах от него вышел понурый кабан и, поведя по ветру мордой, озадаченно всхрюкнул, почесал землю копытом и направился на запах крови, его тело лежало, оглохнув, и держалось мертвой рукой за дуло винтовки. Кабан затрусил быстрее, подминая кусты, но, завидев бездыханного человека, остановился и опасливо кивнул клыкастой головой, словно соблюдая обряд почтительного знакомства с тем, кого время от времени встречал по запаху и следам вот уже несколько месяцев. Не сводя тупых зрачков с его лица, замер, ожидая ответа, потом неровно, дугой, двинулся к испачканному красным дереву. Подойдя сбоку к недвижному телу, он снова хрюкнул, и с морды его на кисть человеку капнула вязко слюна. Кабан хрюкнул опять, но уже торжествующе, и ткнулся клыком телу в грудь. Потом опустил морду к лицу и вдруг отпрянул, задрожав. Что-то его насторожило. Что-то неуловимое, как неизвестно откуда подступающая беда.
Голод был сильнее, а потому кабан не поверил. Запах крови и самый вид ее дразнил его свиные ноздри. Ударив для пущей решимости копытом, он бросился к телу опять.
Даже почувствовав, что оно оживает, кабан не остановился, потому что жизни в человеке было не больше, чем в каком-нибудь грызуне. Поднявшаяся рука так его разозлила, что он второпях, захмелев от свирепости, не рассчитал прыжка и только отхватил зубами какую-то мелочь. Наступив передними ногами человеку на грудь, он увидел, как широко распахнулись веки, и почти тут же острый железный палец больно впился ему в самый пах — так, что кабан взвился, уронив с человека копыта, а тот уже поднимался во весь рост — громкий, высокий, кровавый призрак расплаты. Схватив ружье и потрясая им, как дубиной, человек пошел вперед, яростно молотя вокруг себя воздух и заставляя хряка испуганно пятиться. От него запахло новой кровью, так что зверь, доведенный ею до безумия, внезапно встал и, оскалив клыки, ринулся в бой.
Удар пришелся прямо по холке, подкосив прыжок, так что свалить врага с ног и подмять под себя его руки кабану не удалось. Восстав из мертвых, тот неистово молотил его прикладом по голове. Шкура на морде у кабана треснула и повисла. Пятак был разбит, и теперь он не слышал запахов, как, впрочем, и собственного хребта. Кабан стоял, не в силах броситься в атаку или отступить, и шатался под градом ударов, пока не рухнул, словно подкошенный, под ноги прикончившей его ненависти. С ней не могло сравниться ничто в этом лесу — ни голодная жажда крови, ни гнев звериного поединка. Беспомощно подрыгав ногами, кабан затих, отворив противную дряблую пасть, а человек все не унимался, колотил по ней расколотым прикладом, пока не обессилел и не упал рядом, беззвучно рыдая сладкими от крови слезами.
Потом им овладел лихорадочный страх. Побродив в тихих улочках смерти, теперь он вернулся, отринутый ею, обманутый, туда, где очень хотелось жить. Плохо соображая, зачем он это делает, человек оглядел свою правую руку, чтобы выяснить, откуда в ней такая боль, и увидел, что на кисти не хватает двух пальцев. Он пополз к дереву с грязным от крови стволом, подобрал валявшийся рядом мешочек с порохом, растворил его и сунул руку внутрь, потом долго что-то припоминал, пока не вспомнил, а вспомнив, потянулся второй рукой к голове.
Похоже, череп был цел, но посреди него, вдоль темени, пролегла голая полоса, лишенная волос и кожи. Кровь слегка запеклась, но, стоило ему лишь тронуть хрупкую корку, хлынула снова. Тогда он осторожно, расплываясь взглядом, достал из мешочка щепотку пороха и посыпал им рану на голове. Немного посидел с закрытыми глазами, пытаясь унять головокружение, пошарил по черкеске и достал из-за пазухи огниво. Потом выбил искру на щепу из расколотого приклада и, поднеся чуть живое пламя к пострадавшей руке, погрузился в беспамятство.
Когда он снова пришел в себя, первое, чем он занялся, была повязка, которую он справил из разорванного подола черкески. Наложив ее на обугленную рану, он попытался заснуть, но от жажды не мог уже просто лежать, отдыхая в густеющей тени. Как ни было противно, а иного выхода он не нашел. Пришлось, опять ползком, двинуться туда, где валялась уже облепленная мошкарой кабанья туша. Повернув ее набок, он достал нож, провел рукой по тугому брюху и вонзил лезвие туда, где должно было остывать кабанье сердце. Подставив ладонь и отвернувшись в сторону, он подождал, пока ладонь наполнится, и медленно поднес руку к лицу. Его замутило, но он приказал себе вытерпеть и, давясь, сделал пару глотков крови, которой сам потерял слишком много, чтобы суметь сейчас встать и идти. Потом он снова ушел в никуда, провалился в колодец и долго падал, пока не очутился в реке. Она понесла его дальше, мимо отчего дома, пьющих коней и белых склепов. Потом изрыгнула его в студеную заводь, у которой прятался в зарослях старый вепрь, и тут он понял, что опять испугался, а значит очень хочет жить.
Очнувшись, он увидел, что свет из леса почти ушел, стало быть, над горами спускались сумерки. «Тот должен сюда прийти, — подумал он. — Только вот как он меня обнаружит?..» Он догадался разжечь костер, но собрать ползком достаточно хворосту было ему не под силу. Если тот, кого он ждал, уже в лесу, хватит и небольшого огня. Снова взявшись за нож, он стал срезать с туши полоски обросшей волосом шкуры. «Есть еще вонь, — думал он, неловко орудуя лезвием. — Ее он услышит…»
Когда крохотное пламя робко лизнуло щепки, перекинулось на скудное дерево, а потом занялось, он бросил в него ошметок шкуры. Запах был и в самом деле такой, что, если б и не сумел раздразнить издалека обоняние человека, то уж наверняка отпугнул бы любого зверя.
Так он встретил ночь.
Наутро тот его отыскал. Друг сидел, спиной прислонившись к дереву, и даже не вздрогнул зрачками, когда его увидал, словно все это — растаявшая мгла, подкравшийся рассвет, щебет птиц, хруст ломаемых веток и приближение человека — происходило у него на глазах в тысячный раз в одной и той же цепенеющей последовательности. Мужчина решил было поначалу, что опоздал. В грязно-желтсм лице не было ни кровинки, а цвет кожи на лбу был, как у обглоданной кости. Сложив на груди руки, друг безмолвно следил за ним плавным взглядом. Посреди слипшихся кровью волос пролегла черная борозда, пугающая и непонятная. При виде ее любые попытки мужчины вернуть его в мир простых, немудреных звуков казались попросту несуразными.
Сев перед ним на колени, мужчина быстро заговорил, укрываясь словесной преградой от безмятежных внимательных глаз. Ощупав обмякшее тело и не найдя на нем серьезных ран, он постарался расцепить руки и только тут заметил, что одна из них толсто обмотана тряпкой и сильно пахнет порохом.
— Не трогай, — приказал друг, — не надо. Лучше дай мне воды.
Мужчина радостно заспешил, суетясь руками, и пролил ему воду на грудь. Тот пил, медленно двигая кадыком, и не сводил со второго спокойного прочного взгляда. Потом приподнял веки, давая понять, что напился, и сосредоточенно задышал. Поняв, куда смотрит мужчина, пояснил, едва шевеля губами:
— Клыком пропорол. Едва увернулся. А черный — оттого, что порохом присыпал.
— И лицо? Сдается мне, его ты не только присыпал, но и спалил.
Вместо ответа тот поднял правую руку, подержал ее на весу, потом уронил и сказал:
— Пришлось прижигать. Пальцы оттяпал. Я стрельнул в него, но промазал. Вон там, повыше, над головой… Видишь пулю в стволе?
Мужчина встал и склонился над бурым пятном, потом отыскал в коре неглубокую ямку и, сглотнув сухую слюну, кивнул.
— Повалил меня с ног… Здоровый попался, как… Да ты сам на него посмотри. Этакий боров.
Он засмеялся. Сперва мужчина подумал, что тому просто не хватает дыхания или что он подавился воздушным шаром, но тут же в изумлении увидел, как плечи его затряслись и по лицу гусеницей поползла улыбка.
— Знаешь, что в этом самое главное? — спросил друг, когда смех, заикаясь, откашлялся, и он снова смог говорить.
— В чем — в этом? — попробовал уточнить мужчина, беспокойно нахмурившись.
— Самое главное, — продолжал друг, не обращая внимания на вопрос, — посильней испугаться…
Мужчина подождал, что за этим последует, но, поняв, что то был конец, пожал плечами. Продравшись круглым телом сквозь верхушки деревьев, на живот раненому упало отекшее солнце, спросонья уютно свернулось в желтый калач. Друг прикрыл глаза и сунул под голову солнцу свою замотанную кисть, а мужчина подумал: «Теперь он будет спать. С тех пор, как он стал похитителем и беглецом, я только и делаю, что охраняю его сон, блуждающий между жизнью и смертью, покуда я гляжу ему в лицо и силюсь его узнать».
Он неслышно отошел в сторонку и поднял ружье, от которого остались лишь дуло, замок да деревянный осколок приклада. Несколько минут он изучал содержимое мешочка с порохом, недовольно качая головой. Снова найдя в стволе крохотную вмятину, он аккуратно отколупнул кору вокруг, расщепил мешавшую древесину и, подцепив лезвием кинжала блестевший слюдой коготок, вытащил сплющенную пулю. Потом подошел к огромной туше и внимательно ее осмотрел. Разумно рассудив, что на обратный путь у них уйдет никак не меньше шести часов, он понял, что разделывать добычу бессмысленно: возвратиться за ней сегодня он ни за что не успеет, а стало быть, мясо так и так пропадет. Тогда он развел костер, нарезал сочных прутьев и нанизал на них кубиками нежное мясо с кабаньей спины. Ноздри защекотало терпким запахом, и он порадовался тому, что шашлык выйдет на славу. Сидя на корточках и медленно поворачивая над костром запотевшие прутья веток, он размышлял о том, что их все еще трое, и думал, как это здорово и хорошо. Но почему-то — то ли от дыма, щиплющего глаза, то ли по причине чрезмерной усталости, усугублявшейся мыслью о предстоящем пути, — настроение у него было такое, будто он что-то потерял и заметит это позднее. «В этом лесу слишком много чертей», — сказал он сам себе и плеснул водой на угли. Мысли его, однако, были совсем не о лесе…
XIV
С приходом чужака многое изменилось. Дело было не только в порохе, инструментах, скарбе и семенах, которые он с собою привез. С его приходом каждый из них ощутил, как в эту странную, непрочную языческую жизнь вмешалась грозная небесная десница. Он дал это понять им первым днем.
Увидев поутру, как он идет, умывшись, мимо дома от берега к горе, женщина почуяла неладное. В его размеренной твердой походке, прямой посадке спины и чуть вздернутом подбородке было нечто настолько необъяснимо-нездешнее, что впервые за все эти жутко-счастливые месяцы мир вокруг показался ей мельче и ближе. Почти не шевеля руками и не пригибаясь к земле даже во время подъема, он шел по скале, направляясь к вершине, и когда терялся среди камней, можно было с точностью до удара собственного сердца рассчитать миг его появления на следующем ярусе горной гряды. «Он накличет несчастье», — снова подумала женщина, прислушиваясь к нараставшей тревоге в пустоте своего чрева.
— Отказался, — промолвил вошедший мужчина и легонько пнул ногой мешок у стены. — Я предложил ему пойти туда вместе, но он ответил, что ни к чему. Привык, мол, сам бродить по скалам. Так и сказал: бродить, словно это ему прогулка какая… Хотя нам до того и дела нет. Поняла?
Он произнес это громче, чем требовалось. Женщина вздрогнула и послушно опустила глаза. Мужчине стало неловко за прозвучавшую грубость. Чуть помолчав, он добавил:
— А насчет воска ты права. Вроде и в самом деле — будто он себе и отец, и прадед, и брат, а сестра ему — свечка у гроба… Да и взгляд у него…
«У него такой взгляд, — подумала женщина, — словно он несколько раз умирал, прежде чем сюда добраться». Вслух она ничего не сказала. Утром такое не говорят. Может быть, позже, ночью.
Весь день напролет мужчины жадно трудились, почти не отвлекаясь на разговоры. Сперва они оба, один за другим, переправились через реку, страхуясь тростниковой веревкой. За плечами у них теперь были подвязаны тесак и топор. Срубив громадную ель, они ошкурили ствол и принялись тщательно и любовно строгать. Пахло дерево восхитительно: какой-то искренней чистотой и сладким, свежим теплом. Наслаждаясь работой, они не тратились на слова. Куда лучше было думать про будущий мост или урожай, который они соберут по весне. Или о том, что он, чужак, здесь не задержится тоже. Была в нем какая-то особая неприкаянность, с которой на одном месте долго не живут. Ее лишь переносят от аула к аулу, от ущелья к ущелью, из юности в старость в напрасной попытке найти ей приют, пока где-нибудь на пустынной дороге не оступятся последним падением. Странно, но его приход сюда заставил их осознать ценность построенных стен и ощутить острее пленительную неприхотливость своего почти что дикарского бытия. Конечно, каждый из них и прежде отдавал себе отчет в том, что рано или поздно потревоженный призрак забытой тропы приведет к их огню кого-то еще. Но облик того, кто вчера к ним пожаловал, никак не вязался с теми образами, что рисовало им их воображение. Особенно воображение того, кто грезил поскорей разделаться со своим одиночеством, а на поверку повстречал одиночество, в сравнении с которым его собственное было не более чем затянувшееся ожидание.
Сумерки спустились быстро, как по льду. Едва успев обернуться до их наступления и греясь в доме у жарко натопленного очага, мужчины невольно считали, как далеко можно забраться в горы, если «бродить» по ним целый октябрьский день да еще и весь вечер в придачу. Подняв увечную пясть, друг повертел ею у себя перед носом, потом приложил к рубцу указательный палец левой руки и сказал:
— Из трех так запросто четыре не вылепишь. Гляди.
Мужчина понял и ухмыльнулся. Тем временем друг растопырил трехпалую кисть и, снова поднеся к ней указательный палец здоровой руки, быстро свернул перед ним кукиш:
— Пусть знает, на что его упрямство напорется… Не гость и не сосед — это верно. Коли так, как бы за врага в темноте не приняли.
— Брось, — мягко ответил мужчина. — Раньше времени не горячись.
А сам подумал: сейчас он войдет в дверной проем и, как ни в чем не бывало, усядется рядом. Не надо себя обманывать. Все мы знаем, что ничего с ним не станется.
Они услышали, как за стеной порвалась тьма и тут же заволновались кони. Лишь кобыла пришельца всхрапнула и радостно застучала подковой по земле. «Ну вот, — подумал мужчина, — он уже здесь».
Но был чужак не один. Еще сидя внутри, они это поняли по нахлынувшим звукам, однако, пока не убедились воочию, никто из них не поверил. Выскочив наружу, они увидели, как он идет, не торопясь, к хадзару, а у его ноги послушно трусит тень.
— Черт бы его побрал, — пробормотал ошалело друг. — Или мне все это снится, или я сам снюсь какому-то дураку.
— Нет, — возразил мужчина, — не снится. Хуже всего, что мне это не снится тоже…
— Черт бы его побрал, — повторил друг и крепко схватил за гриву своего играющего коня.
— Это даже не волк, — сказал мужчина. — Ты только погляди…
Они приблизились, и сомнений уже не осталось.
— Добрый вечер, — поздоровался чужак. — Уймите коней. По всему видать, пес спокойный. На обратном пути прибился…
Потом вежливо добавил, разбавив их молчание:
— Места здесь у вас свободные… Красиво!
Поздно ночью мужчина проснулся и, услыхав по настороженной тишине, что женщина тоже не спит, спросил:
— Как он назвал свое имя? Не помнишь?
— Такое не забывается, — ответила женщина. — Оно для него — все равно что радуга для лужи… Ацамаз[6].
— Ацамаз? — повторил мужчина и, хмыкнув, надолго замолчал. Потом сказал: — Тут одной радуги будет мало. Оно для него все равно что весь свет, завернутый в горсточку праха. Коли он запоет, так весны нам лет сто не дождаться… Если и живет в нем какая песня, так — погребальная.
Они услышали злобное рычание за стеной, и женщина крепче прижалась к мужчине. Полежав так с четверть часа, плотно обхватив друг друга руками, они внушали себе, что ничто и никогда не сумеет их разлучить.
— Прошу тебя, умоляю, — вдруг жарко зашептала она ему в ухо, — сделай так, чтобы он ушел. Если не из ущелья, так хотя бы из-под этой крыши… В нем столько холода, что у меня студит нутро. Уговори его уйти, а если не послушает, гони!
Когда муж заснул, она глядела в потолок огромными глазами и думала о том, что ему не хватит духу. Она знала, что ему не хватит духу вытолкать чужака взашей. Тот ему неподвластен. Как неподвластен ни страху, ни силе, ни просьбам, ни проклятьям, ни даже упрямству судьбы, сбежавшей от него еще прежде, чем он ступил на хребет и увидел их стены. Теперь она отчетливо поняла: бесприютность его была совершенной и полной, как круглость луны. У него не было ничего, к чему он мог пусть ненадолго притулиться плечом: ни дружеской спины, ни прочных стен, ни звонкой памяти, ни слабенькой надежды, ни собственной судьбы, потому что и ей было с ним не ужиться, ведь и судьбе нужно убежище, чтобы взрасти, ей нужно какое-то русло. Для него такого русла не было, потому он и пошел к Проклятой реке. «Тогда я буду уповать на его милосердие, — решила женщина и свернулась клубком на краю их грубого ложа. — Я принесу ему в жертву свой сон и глаз не сомкну до тех пор, пока он над нами не сжалится…» Мужчина спал, уткнувшись в свой согнутый локоть, и был похож на крупного неумного ребенка. В целом доме было тепло и как-то пророчески тихо, а за его пределами шныряла вдоль реки проворная синева. Небо было низким, звездным, как перед жарким летним днем, и с любопытством вглядывалось в ночь мириадами юрких зрачков, ожидая какого-то крика. Однако внизу по-прежнему царила тишина, хрупкая, пугливая, как сердце…
XV
Первым делом он вынудил их вернуть имена. Теперь без них было не обойтись. Вспомнив собственное, отдыхавшее от него без малого тридцать лет, он заставил их взамен призвать из прошлого свои. По крайней мере, два из них. Потому что отныне мужчин стало трое, а для троих уже было мало того, чего вполне хватало, покуда их было меньше на целого чужака — простых, как кивки, указаний на то, который из двух имелся в виду, когда двое других (включая женщину) говорили о нем или думали «он». Отныне «он» всегда означало больше, чем один, а потому — и меньше любого из них, взятого в отдельности, так что без имени могли теперь обходиться лишь двое: женщина да тощий черный пес, невесть откуда взявшийся в ущелье, где не было триста лет никаких имен и даже самая память о них была выскоблена ветрами, обглодана рекой и стерта онемевшим временем. В его появлении здесь ничего случайного они не увидели. Не только потому, что в присутствии чужака любая мысль о случайности казалась им нелепостью. Штука была еще в том, что с первых дней знакомства с обитателями этого странного бессобачьего мира пес проявил неуемную преданность как раз к тому, кто был похож на него, как дождь на воду, как бывает похож зов на эхо или, скажем, ступня на оставленный след. Повсюду сопровождая чужака и ни разу при том не удосужившись благодарного его внимания — трепки по холке, отрывистого свиста или вкусного щелчка ленивых добрых пальцев, — он мгновенно поджимался и свирепел, стоило кому-то другому шагнуть в его сторону, слишком приблизиться или неосторожно вознамериться пройти мимо. Не зная, как он здесь оказался, и зная, что никогда о том не узнает, тройка «старожилов» тем не менее понимала, почему это произошло: рискнув возвести стены посреди забытых смертей, они сами подготовили его появление. Так повелось, что всякому хадзару нужен страж — отгонять от ворот непрошеных гостей да не в меру назойливых духов. Впрочем, здесь это значило одно и то же (если, понятное дело, не причислять сюда же чужака, но только ведь он, по уговору, гостем не был). По уговору, чужак гостем не стал, а потому, глядя, как чахнет день ото дня та, с кем он делил в тревоге ложе, мужчина наконец решил, что дальше так нельзя.
— Пойду и скажу ему, — он словно бы ее предупреждал. — Утром я дам ему знать, что все решено.
— Которому из них? — уточнила женщина, хотя могла бы догадаться.
— Тотразу, — пояснил мужчина. — В конце концов, я старше…
Ударили холода, и строительство моста пришлось отложить. Входить в ледяную воду им было не привыкать, но вот выбираться затем на подернутый инеем берег было равносильно самоубийству. За эти месяцы у них скопилось кое-что из еды, чтобы переждать на берегу длинную зиму: погреб был на три четверти набит сухим вяленым мясом и копченой рыбою. Потеплу они даже успели засеять семенами пришельца возвышенность, откуда прежде пришлось им выполоть всю траву и очистить площадку от гальки.
Закутавшись в бурки, друзья смотрели за реку, туда, где желтыми вязанками лежали струганные доски.
— Постарайся понять, — убеждал мужчина, избегая глядеть другу в лицо, — бабьи глупости, я согласен. Только это ничего не меняет, потому что он не уйдет, а она не уймется.
— Выходит, он взял нас измором? — спросил друг и внезапно в приступе ярости швырнул камнем в воду (мгновенный глоток и за ним — ничего: ни следа. «Прожорливая тварь», — подумал он о реке).
— Он дал нам порох и семена, — напомнил мужчина. — И потом, больше он никуда не пойдет. Упорствовать тут ни к чему.
— Зачем он здесь? Чего он хочет? Ты знаешь? Я вот — нет.
— У нас нет выбора, — ответил мужчина. — Она не выдержит. Скоро посыпется снег, и тогда будет поздно. Начать мы должны сейчас.
— Стало быть, он взял нас измором, — упрямо повторил друг.
— Пусть так, — нетерпеливо кивнул мужчина. — Только он все равно никуда не уйдет. Это не гость. У нас в ауле соседей тоже не выбирали…
Серое, грузное небо дышало хриплым холодом им в лица. Лес вдали казался застывшей пеной непонятного грязного цвета. С тех пор, как друг убил прикладом кабана, жребий чаще выпадал на мужчину. Незадолго до приезда чужака он смастерил себе лук из гибкой ветви молодого бука, подвязав к нему тетиву из тонкого, почти прозрачного сухожилия подстреленной косули. Держать лук в руках почему-то было приятнее, чем ружье. Он был тугим, как живая плоть, и умел дышать ветром. Пустив стрелу, можно было следить за ее летящим жалом и получать удовольствие от того, как она вонзается в цель, не оскверняя ее никакой гнусностью — ни запахом паленой шерсти, ни свинцовым укусом металла. Так что в этой охоте из лука была не одна бережливость. Вчера он повесил его на крюк у входа в хадзар, а сейчас вспомнил о том с какой-то искренней жалостью. Зима еще не настала, а он уже томился по лесу.
— Хорошо, — сказал друг. — Только говорить ему будешь ты…
Мужчина вздохнул с облегчением и повернулся к нему, протянув свою кисть. Рукопожатие вышло беглым и кратким, но крепким. Друг быстро пошел назад, в сторону дома, мужчина последовал за ним.
Ацамаз стоял на небольшом пригорке в сотне шагах от хадза-ра и наблюдал, сложив на груди руки, за тучей, выползающей из-за хребта. Пес сидел у его ног, подняв черную морду, и, не мигая, следил за приближением человека.
— Бог в помощь, — поприветствовал Хамыц.
Тот кивнул и обратил к нему свое лицо. Гладкое, почти без морщин, оно, казалось тем не менее, никогда не ведало молодости. В темных зрачках не отражался свет. Чужак опять перевел взгляд на облако и неожиданно спросил:
— Как считаешь, дождь в нем или снег? Хамыц пожал плечами и ответил:
— Кто его разберет? Пожалуй, что дождь. Для снега рановато. Не поворачивая головы, тот ухмыльнулся тонкими губами:
— Как сказать. Стоит обрушиться снегопаду, и завтра нам покажется, что для любого дождя уже поздно. А коли через пару дней вернется солнце, под его светом мы станем размышлять о том, как еще рано для осеннего дождя… Разве не так? «Рано» и «поздно» — всего лишь причуда.
Хамыц раздраженно подумал: ты мне еще про яйцо и курицу расскажи, а вслух сказал:
— Твоя правда. По мне, однако, хорошо бы вместо снега — дождь. А еще лучше, если туча вовсе мимо проползет…
— Не проползет, — сказал чужак. — Только, сдается мне, мы еще пожалеем, что это не снег…
И тут Хамыц понял. Воздух внезапно сделался тесен, тяжел и как-то грузно обмяк. Птица, парившая в небе прямо над их жильем, сложила вдруг крылья и орлом опрокинулась вниз, потом, пронзительно крикнув, вынырнула из воздушной ямы и стремительно понеслась, улетая над лесом в серую пустоту.
— Буря, — выдохнул Хамыц, и Ацамаз кивнул:
— Похоже на то.
Лежавший смирно пес напрягся, вскинул уши и зарычал, однако тут же сбился на жалкое урчание. Туча вышла из-за хребта и потянула за собой отрепья ядовитых облачков.
— Ты хотел мне что-то сказать? — спросил чужак, впервые внимательно поглядев Хамыцу в глаза.
— Да, — признался тот и почувствовал, что сказать сейчас не сможет. — Давай отложим на потом.
Чужак согласно кивнул и сказал:
— Сейчас и вправду не до слов. Взгляни на коней.
Обернувшись, Хамыц увидел, как лошади, прибившись к коновязи, топчут невпопад встревоженную землю, словно боятся об нее обжечься. Бросившись к дому, он на бегу заметил, как с берега вздымается ему навстречу грязный пыльный столб. Лес за рекой уже потускнел, опух и стал быстро растворяться в желтом натиске крепчающего ветра. Друг уже выскочил из дома и торопливо подвязывал постромками ноги беснующихся коней. Придя ему на помощь, Хамыц схватил веревку и попытался стреножить своего коня, но тут же был отброшен в сторону копытом кобылы пришельца. Свалившись на спину, он услыхал могучий гул, бегущий к ним из-под земли. Спустя мгновенье Хамыца подхватили сильные, пронзительные руки, втащили в дом и бросили к стене. Там уже сидела женщина и, обхватив колени, смотрела на него взглядом, в котором ничего, кроме ужаса, он не распознал. Раздался жуткий грохот, и в хадзар влетело страшное, бесформенное тело воды, вмиг смело очаг, всмятку разбилось о стену напротив и ослепило их сотней пощечин. Вслед за ним, по-звериному вскрикнув от боли, в узкий проем двери ворвался яростный ветер, пьяно качнулся волной и сразу исчез, удрав в дыру посреди растерзанной крыши. Едва придя в себя, Хамыц взглянул на женщину и заметил кровь у нее на руках. Она держала их, подняв кверху ладони, словно изучая невидимое зеркало. Лицо и одежда на ней были мокрыми, и только глаза оставались сухи. Что-то упало ей на ладонь, и он увидел немыслимо яркую капельку крови.
— У тебя разбито лицо, — сказала женщина, поднялась и, не обращая больше на него внимания, вышла за порог.
Не узнавая, он оглядел помещение, похожее сейчас не на хадзар, а, скорее, на заброшенный хлев. Двое мужчин с непокрытыми головами стояли у стены по другую сторону дверного проема и, тяжело дыша, отряхивали на себе черкески. Потом младший из них нагнулся и, разгребая слякоть, поднял с пола две шапки, молча передал одну чужаку. Однако тот словно и не увидел. Сев на корточки, он склонился над чем-то черным у дальней стены и ощупал его всеми пальцами. Потом осторожно взял на руки. Хамыц встал и, вытирая кровь, шагнул в огромное пространство дня. Женщина шла, оскальзываясь на траве, в сторону реки и, когда он ее окликнул, только ускорила шаг. Кони стояли у опрокинутой коновязи, прибившись мордами к шее кобылы, и часто всхрапывали, выбрасывая из широких ноздрей завитки пара. Поникший лес сменил окрас и стал теперь похож на Хамыцеву бурку, которая валялась в грязи перед домом. До нее было несколько шагов — не то что до женщины. Та преодолела уже с половину пути и вот-вот готовилась миновать место, где прежде стояла их хижина. Не став подбирать свою бурку, Хамыц побежал. Кровь заливала губы и, попадая на язык, сбивала дыхание.
Голова кружилась, и каждый шаг отдавался у него в ушах глухим хлопком.
Тем временем женщина скрылась за обрывом, и он, потеряв ее из виду, стал лихорадочно соображать, где лучше срезать путь. Так ничего и не решив, он побежал наугад к ближней запруде. Достигнув кромки оврага, он увидел краем глаза, как она метнулась к воде, и, вскинув руки, сорвался вниз, разбивая спину о каменистые выступы. Едва коснувшись ногами земли, он прыгнул ей навстречу, но, не дотянувшись какого-то мига до ее летящей косы, упал плашмя в слякоть. Все вокруг стихло и смотрело ему в затылок настойчивым глазом. Он поднял голову, но из-за грязи, залепившей лицо, не смог разглядеть ничего, кроме пятна размером с ладошку в сером тумане света. Потом он услышал смех, и сразу отчего-то ему сделалось все безразлично, как бывает только перед самым сном, и тут же вслед за тем — очень голо и грустно.
Женщина громко смеялась, постепенно обретая в его плывущем взгляде свои привычные очертания. Пытаясь подняться и предательски скользя коленями по дну своего унижения, какой-то крохотной, нечаянной, но проницательной частичкой сознания он успел подумать о том, что после этого смеха оба они перешли какую-то грань. Отныне прежняя власть его над нею уйдет навсегда, а если и сумеет сохраниться — так только ее, женщины, милостью.
Словно подтверждая эту мысль, из милости к его гордыне, она так и не подошла, чтобы помочь ему встать. Смех ее был искренен и беспечен, как у ребенка, и он вдруг с щемящим чувством прозрения ощутил, что любит ее так сильно и навеки, что не признается в том даже себе. «Я мог бы ее убить, — внезапно подумал он. — Мне хватило бы малого подозрения…»
Она стояла перед ним, заходясь в смехе, живее которого в целом свете было ничего не сыскать, и хохотала — над ним, над ужасом отчаянья и над рекой, от которых еще минуту назад ее отделял лишь какой-нибудь шаг. Мокрая, грязная, плачущая и родная, она была важнее всего, что оставалось у него за спиной, и того, что ждало его впереди. В сущности, ничего, кроме этого мига, и не было…
XVI
Пес выжил. Сперва им показалось, что он не дышит, а в полуприкрытых глазах его стынет стекло. Чужак вынес его из дома и положил на циновку, предусмотрительно подстеленную Тотразом. Они долго молчали, впервые, пожалуй, этим не тяготясь, и смотрели на бездыханное тело, думая каждый о своем. Им снова удалось уцелеть, и оттого в гибели пса читался им некий негрозный укор. Признаться, куда сильнее досаждала Тотразу земля. Покрывшаяся повсюду, куда хватало взгляда, слякотью, она пахла теперь сырыми корнями и затхлой водой.
Узким глазом сквозь мутное небо проглянуло солнце, опустилось ладонью им на спины. Думая о том, куда могли подеваться все птицы, Тотраз увидел вдруг, что тело дрогнуло и по нему пробежала едва заметная рябь. Пока они гадали, что это было — последняя судорога или вернувшийся вдох, — жизнь робко заскулила мольбою и прильнула к собачьим зрачкам. Пес шевельнулся и задышал, взглянув на них из-под седых ресниц, и тогда чужак произнес:
— Слава богам, отходит…
Он посмотрел на второго, и тот послушно кивнул, направился в дом и через несколько мгновений вновь появился на пороге, но уже — с кубышкой и черепком от миски в руках. Чужак услышал, как в кубышке плеснулась вода. Наполнив ею черепок, Тотраз осторожно поднес его к собачьей морде и подождал, пока очнутся ноздри и вынырнет розовый тонкий язык. Пес покорно слизнул с черепка воду и задвигал лапами.
— Лежи, — приказал чужак, и он тут же повиновался, прижав к затылку уши.
— Ребро? — спросил Тотраз.
Вместо ответа чужак поднял два пальца и ткнул подбородком, указав па брюхо. Тотраз присмотрелся и увидел, как при каждом коротком выдохе под шерстью с левой стороны отчетливо проступают два острых вздутия. Глядя на них, трудно было отделаться от ощущения, будто там, внутри, застряла проглоченная псом рогатина. Костяшками пальцев чужак отер с собачьей морды пузырьки кровавой пены и, словно сам себе, сказал:
— Если осталось чем дышать, вытерпит. — Потом добавил, обратившись к Тотразу: — Сейчас держи.
Тот взял пса за передние лапы и почувствовал, как в них, слабо хрустнув, беспомощным ручейком прожурчала то ли боль, то ли ненависть. Скинув с себя кожаный поясок, к которому был подвешен охотничий нож, чужак встал поудобнее у собачьей головы, опустил пятку на землю, а носком крепко вдавил в нее мохнатое ухо. Потом склонился над псом и быстро ткнул пальцами ему в подбрюшье. Пес сильно вздрогнул, захрипел горлом и стих. Каким-то неуловимым, молниеносным движением чужак просунул под него поясок и ловко подвязал его двойным узлом на спине.
— Все, — сказал он, — Можешь отпускать. Тотраз отошел в сторонку, огляделся вокруг и сказал:
— Вот тебе и река… Обгадила все в три минуты. Может, потому и прозывается Проклятой.
— Не поэтому, — ответил чужак. — Просто так легче… Тотраз нахмурился и смерил его взглядом с ног до головы.
Потом отвернулся и сплюнул через плечо. Чужак снова начинал его раздражать. Чтобы не думать об этом, он стал размышлять о том, как лучше будет наново справить крышу. Ясно, что балки на стропила они пустят прежние, потому что оставшиеся Хамыц захочет определить под крышу чужаку. Хамыц не отступится. Это уж как пить дать.
Едва он произнес про себя эти слова, как почувствовал жажду. Вспомнив, что вся вода из кубышки пошла на пса, он снова сплюнул в сердцах, подошел к своему коню, оттащил его от коновязи, сорвал с ног постромки и запрыгнул верхом. Поддев бока пятками, направил коня по дальней, пологой тропе к последней заводи, чтобы не встречаться с теми двумя.
Когда-то, давным-давно, он уже видел бурю. Правда, с этой она не шла ни в какое сравнение. В тот раз тоже срывало крыши, а еще ломало заборы и даже калечило скот. И все же давний тот ураган был просто взъярившимся ветром. Он свалился на их аул клубком горячей пыли, что катилась посуху через перевал и нагрянула к ним не с реки, а сверху, с бурого пекла небес, не знавших дождя целый месяц. Слышать тот ветер было не так боязно, как здорово интересно — и, пожалуй, не только оттого, что был он тогда мальчишкой, умевшим пугаться лишь грома да ночи, и совсем не страшился дня. Днем не могло случиться ничего худого, потому что все худое днем превращалось в неправду. Тот ураган был скорее чудом, сотворенным жарой из уныния белого солнца, постепенно, час за часом, превращавшегося в ожог. Ветер отхлынул от них, собрался эхом, пошептал за скалой, приосанился и опрокинулся на аул со странным хохочущим визгом. А уже через пару минут все было кончено, и, с трудом продирая глаза, они увидели, как скачет по ущелью вдаль его взлохмаченный вихор.
Тогда было смешно и громадно, потому что мир в самом деле оказался больше того, какой привык он встречать по утрам. Был он почти таким же, каким придвигался к нему в темноте, только на этот раз явился еще и не страшным — этакий исполин, решивший поиграть с ребенком. А потом пошел тихий заботливый дождь. Он был легким и добрым, как детский полуденный сон, и сочился с проемов в крыше серебристо-зелеными каплями. Только песок на зубах напоминал о буре. Овцы, заборы и куры были уже не в счет, потому что для чуда то была не цена…
Сегодня все было иначе. Он был уверен, что — из-за реки. А потому глубокомысленность пришельца, намекнувшего на ее невиновность, была им воспринята плохо. С тех пор, как Тотраз побывал у смерти в гостях, в нем обострилось какое-то особенное, внутреннее чутье, слышавшее жизнь так глубоко и верно, что всякий взгляд отныне, звук и мысль сверялись этим мудрым, тонким слухом. Он подсказал ему сейчас, что то — река. Тотраз не сомневался. Река была в самом деле проклята. И пусть она их все еще не отравила, — он знал, что это был обман. Они могли сегодня умереть. И был тому причиной не какой-то суховей, а вздыбившаяся вода, чуть было не настигшая их у порога.
Словно нарочно, она ждала целых полгода, покуда взрастут стены, чтобы затем наброситься на них и в отместку за дерзость напрочь вымести жизнь из этих камней, принадлежавших ей, ей одной, вот уже три столетия. Чужак был глуп. Он полагал, что ему все дозволено: думать, решать, сомневаться и говорить вслух то, что в лучшем случае могло быть полуправдой, а в худшем — похоже на нее так, что было и не отличить. А потому был он опасен. Он не верил в знамения. Точнее, в то, что за ними стояло. Казалось, он даже не очень и испугался, когда буря ворвалась в дом и хотела их уничтожить. Пока она летела к ним, сшибая свет и воздух, он действовал так, будто в точности знал, как лучше распорядиться руками, удачей и временем, чтобы избежать ниспосланной расплаты. Он сделал все, чтобы они спаслись. Но при этом — сделал так, чтобы не было чуда. А потом захотел очернить еще и само знамение.
В нем не было страха, — не того, что порочит мужчину, а того великого страха, что только и является свидетельством почтения к тому, что даруется тебе вместе с сердцем, печатью на длани и святым человеческим трепетом и составляет вкупе с ними высший промысел и удел. Пришельцу было все равно, а такого не скроешь. С одинаковым равнодушием он встретил бы любой исход и, коли предпринял все, чтобы остаться в живых, — так только по привычке. Ибо он привык бороться, доказывая себе (кому другому из людей он не стал бы доказывать даже того, что по-прежнему жив, хотя это-то уже и казалось непостижимым, если смотреть ему прямо в глаза), — а заодно и своему единственному противнику, — что готов тягаться с ним силами хоть до второго пришествия и уж, по крайней мере, до последнего вздоха, и было это между ними как растянувшееся в целую жизнь состязание по путаным и жестким правилам, в котором один из них может повергнуть другого в любую секунду, но рискует при этом проиграть какой-то важный спор, а второй никогда не признает себя побежденным, хоть и прекрасно сознает, что победы ему не видать.
Но и это бы еще ничего. Гораздо хуже было то, что в этом втором надежды — и той уже нет и в помине, нету настолько, что его не заботит, каким будет конец и чем обернется его поражение: позором или славой, улыбкой или слезой. Это нельзя было назвать ни геройством, ни мужеством, потому что обычно и то и другое рождается из чувства — негодования ли, гордости или чего другого. Но в том и дело, что в неспешной, молчаливой стойкости чужака чувства никакого не было, а вместо него в глубоком провале глазниц серым холодом давным-давно заиндевело дымкой безразличие. Вот чего не мог простить ему Тотраз: того, что чужаку равным образом наплевать и на жизнь, и на смерть, и на самую разницу меж ними. Был он в чем-то как река — не та, что на них сегодня обрушилась, а та, что час за часом, день за днем три века кряду старательно стирала все, что сковывало ее в выборе русла, пока не выскоблила все вокруг и даже внутри себя до последней дремучей пустоты. А после судьба — извечная ее соперница и сводня, — привела к ней трех наивных грешников и, только разбудила время, как тут явился он, кто сам — стихия, сам — строптивец и проклят небесами тем, что до сих пор не уничтожен, ведь было это лучшей карой — принудить жить того, кто сам того не хочет, кто равнодушен даже к смерти и видит в ней упрятанную в вечность тишину. Но он же горд притом настолько, что этой тишины не ищет, не просит и не ждет. Они вдвоем, река и он, чужак (да еще — черный пес), были ересью, кощунством и искушали Тотразову веру и вдохновенное наитие души его примером самонадеянного отреченья от всего, что могло быть начертано лишь небесным перстом, как, скажем, та мета, что вынес сам он из смерти черным шрамом у себя на лбу.
Иными словами, для чужака никаких чудес не было и быть не могло, в то время как для Тотраза весь мир с недавнего времени казался сплошь составленным из чудес и рассеивал их по его судьбе витиеватыми узорами, смысл которых был сразу непостижим, а может, и непостижим никогда, но только оттого не переставал быть смыслом. Вслушиваться в него и означало жить. А жить означало самое главное…
У запруды он спешился и опустил руки в воду. Она была мерклой и непрозрачной, как будто вымазана изнутри ненаступившими сумерками. Поднявшийся со дна ил медленно рассыпался в ней тягучими неправильными кольцами. Сама же река ничуть не изменилась, разве что стала наглее. Она бурлила в стороне от них и дышала Тотразу в лицо обманчивой свежестью. Изрыгнув на землю давно копившуюся желчь, река сделалась как бы легче и чище, и только вода запруды хранила в себе следы ее неизбывной испорченности. Пить из нее было немыслимо. Лучше было спуститься ниже и, встав у потока, ловить ладонями холодные пряди реки. Оставив коня утолять жажду у запруды, Тотраз пошел туда, где русло ширилось могучей громкой силой и поливало берег щедрой пеною. Странно, но на целом плоскогорье, вплоть до самых скал, не притаилось ни единого ручейка. Вода скрывалась где-то под травой участка, выбранного ими под семена, но до сего дня у них не доходили руки пробить поблизости от него хотя бы крохотный ключ.
Напившись, Тотраз уселся на камень и еще раз вспомнил то, что с ними сегодня произошло. Самым неприятным была его собственная безропотность, с которой он выполнил приказ чужака спешить в дом. Он даже не возразил, невзирая на то, что видел, как кобыла сшибла Хамыца с ног. Слава богам, он не утратил способности быть честным сам с собой, а потому некоторым оправданием такому поступку служило лишь то, что он, Тотраз, не струсил. Не будь рядом пришельца — и он, несомненно, скрылся бы в доме последним, даже если бы знал, что рискует не успеть. Он ни за что не оставил бы друга в беде, не окажись рядом чужак. Наверно, в любом случае он не должен был уходить оттуда раньше тех двоих. Однако почему-то сделал это, и сделал не раздумывая, словно подгоняемый внутренней убежденностью, что чужак Хамыца спасет. В чем тут крылась причина, он не знал, и это его угнетало. Конечно, в итоге им всем повезло — и даже коням, брошенным снаружи у стены, — это вот и было самым важным. Тем не менее на сердце у Тотраза было мрачно и тяжело от какого-то вредного чувства вины, не отпускавшего его с той минуты, как он вторично покорился воле чужака и побежал в хадзар за кубышкой для пса.
О том, что это все означало, додумать до конца ему не позволяла гордость. Вернувшийся ветер задул с горы, и его передернуло. Кликнув коня, Тотраз сел верхом и, взобравшись по смытой тропе на пригорок, пустил его слабой рысью. Справа на горизонте увидел две точки. Они двигались туда же, куда скакал теперь он. Только, пожалуй, думали совсем о другом…
XVII
Новую крышу справили за два дня. Чужак настоял на том, чтобы заново переложить все стропила, каждое из которых они вторично обстругали и подогнали к выступам в стене. Он же предложил замуровать щели илом, прибитым рекой во время бури, но, не сговариваясь, друзья отвергли эту затею, предпочтя копать глину в овраге. По ночам женщина долго не смыкала глаз, пока не погружалась в длинную дрему, в которой сон и явь сплетались в череду улыбчивых кошмаров.
Спустя пару таких ночей мужчина вызвал пришельца на разговор и сказал:
— Отсюда две дороги. Одна — назад, другая — за перевал. Сдается мне, никакая из них тебе не по нраву.
Чужак не ответил. Он лишь пожал плечами и, чтобы Хамыцу было легче продолжить, отвел в сторону взгляд.
— За тот месяц, что ты у нас, многое случилось.
«Чушь, — тут же подумал он про себя. — За этот месяц случилось гораздо меньше, чем хотелось бы нам. За целый месяц ровным счетом ничего не произошло, потому что все мы по-прежнему вместе, несмотря на весь этот месяц длиною в самый длинный год. А через пару недель настанет зима».
— Дальше так нельзя, — сказал он вслух.
Из-под шапки чужака выбивалась седая прядь. Он стоял, не оборачиваясь, и не сводил глаз со склепов. «Коли ему и нужен отдельный дом, — размышлял Хамыц, — так он давно готов. Их даже шесть, пусть выберет любой».
— Стало быть, сосед, — сказал чужак. — Ты об этом?
— Да, — признался Хамыц. — Да, мы решили.
«Если можно назвать решением то, к чему ты нас вынудил, — подумал он. — Будто ты дал нам такую волю — за себя решать».
— Можем успеть до первого снега, — добавил он. Чужак повернулся к нему и едва усмехнулся:
— До первого снега никак не успеем, — сказал он. — Да оно и не нужно: уйду я с рассветом.
Мужчина услышал, как у него в груди заворочалась шерстью живая нора и начала торопливо обыскивать свои закоулки.
— Куда? — спросил он, поведя лопаткой.
— Из ваших ночей. Ты ведь этого хочешь?
Чужак и не рассчитывал услышать на это ответ. Тот был уже неуместен, как и новый вопрос. Утро было светлым и умным, и где-то очень далеко в нем бродило тепло. Оно-то, утро, и подсказало ему выход. «Чудно, — размышлял пришелец, — как верят люди в злую силу. Им мерещится, будто она всегда не в них, а вовне, словно это орлан или сокол, парящий над ними и выжидающий случая вонзить свой клюв в их ожидающие дни».
Договорившись, что примутся за работу в тот же день, они разошлись. Для своего хадзара чужак подобрал участок шагах в семидесяти от северной стены их дома. Земля здесь была суше и тверже, и подмерзший верхний слой им пришлось разбивать острым заступом. Ни сам пришелец, ни кто-либо другой не позаботился о том, чтобы освятить место молитвой. Под фундамент вырыли только локоть земли, так что за стены взялись уже через день. Работали толково и споро, хотя и без азарта. Лежа на правом боку, пес внимательно наблюдал за всем, что делают люди, а ближе к вечеру, слизнув с миски еду, пока его хозяин ужинал в чужом доме, косолапо трусил вслед за ним к кривому и низкому шалашу, возникшему снова на месте первого жилища. Свою кобылу чужак оставлял у коновязи, доказывая тем самым не то свое полнейшее доверие к соседям, не то еще большую уверенность в том, что затея с переселением не стоит и ломаного гроша.
Пес спал у входа в хижину. Если кто из этих двоих и чувствовал какое-то неудобство, то это явно был не человек. Когда он изъявил желание подлатать развалившуюся и снесенную бурей хижину, дабы переждать в ней строительство, его намерение их покоробило. Но, пожалуй, больше всех оно возмутило Тотраза, хотя решение чужака казалось, как на него ни смотри, не только разумным, но и, по большому счету, великодушным. Идя навстречу тому, чего так хотелось Хамыцу и женщине, он будто делал лишний шаг в попытке угодить. Однако Тотраз рассудил иначе. «Ему просто надобно все испохабить, превратить гнездо в логово…»
И все-таки возненавидеть чужака Тотраз не мог. Было в том нечто такое, рядом с чем любая ненависть казалась мелкой местью. В нем было трудно ощутить врага, хотя сказать, что Ацамаз им не опасен, было тоже нельзя: всюду, как собственные следы, он оставлял за собой яд сомнения, который проникал в душу Тотраза, разъедая ее хрупкий уют, и тогда все, что было прежде — только что! — ясным, понятным, безмятежным и дорогим, начинало вдруг тускнеть и колебаться.
Как-то раз, во время передышки, чужак отпил из бурдюка воды, потом, заткнув его затычкой, бросил наземь и небрежно предложил:
— Погляди и скажи, на что похоже.
Бурдюк дрожал, волнуясь рыхлыми боками, и очень походил на то, чем, в сущности, и был: на желудок овцы, разве что чересчур полный.
— Не знаю, — ответил Тотраз. — Пожалуй, на большую жабу. Может, на мать ее. Не знаю. Хотя ближе к обеду он для меня будет похож лишь на голод. Так же точно, как вечер, усталость или мозоль.
Хамыц засмеялся, но как-то уж очень намеренно. В последние дни это случалось с ним часто. Смех будто сидел в нем и заранее ожидал подходящей минуты, чтобы вовремя встрять между ними и задуть едва разгоравшийся спор.
— Время, — сказал чужак.
Подобрав камень с поредевшей травы, он швырнул им в совсем было успокоившийся бурдюк и повторил:
— Время, вот на что это похоже. А мы все внутри и думаем, что нас настигла буря, когда какой-нибудь бездельник кинет палкой в его прожорливое брюхо. А потом приходят тишь да гладь, и мы уверены, что то сама милость Божья. А что, если бездельник уснул? Или его укачала скука?
Ответить поспешил Хамыц:
— Коли это и так, нам внутри все равно. Для муравья в лесу проходит вечность, прежде чем солнце сменит ночь, а для неба вечность эта ничтожней мгновения… Время течет по-разному для орла и для курицы. Что в том плохого?
— Он не про то, — перебил Тотраз, и чужак искоса поглядел на него, прищурившись, и удовлетворенно кивнул. — Тут дело не в солнце и муравье, а в реке.
Чужак опять кивнул и, опершись о колено, приготовился слушать.
— Все, что он собирался сказать, это то, что она ни при чем. Дескать, время ей неподвластно, потому что оно не течет, а только катается брюхом по мерзлой траве. И даже не знает, что такое поток. Верно? Потому что его, мол, попросту нет, а есть лишь какой-то бездельник, играющий временем, как бурдюком, и отпивающий лениво из него, когда одолеет жажда. Правильно говорю?
— Почти, — сказал чужак. — Ты говоришь даже лучше. Странно для человека, который не верит…
— Я верю в другое, — Тотраз уже завелся и почувствовал, как у него рвется голос, однако не умолк и не остановился. Речь хлынула из него гневным ливнем, и даже когда в нем остался лишь хрип, для других он звучал, словно эхо: — Я верю в то, что бывает взрыв, и тебя уносит в проклятье, а потом ты живешь, будто слушая смерть, пока не столкнешься с ней взглядом и не поймаешь себя за какую-то тонкую нить, дернешь ее что есть силы и вцепишься в жизнь, словно в чудо. А потом ты поймешь, что такое рождение — настоящее, то, в котором участвуешь сам по себе, где есть только ты, твоя боль, ослепительный свет да еще вот — борьба. Борьба и отчаяние… А потом на тебя нападает тоска, и ты знаешь, повинен в том сам, и тогда ты каешься, молишься, плачешь, ползешь и, все еще слушая смерть, собираешься выжить. Даже если на это придется истратить весь свет, свою кровь, всю тоску и весь воздух в придачу. Ты царапаешь землю ногтями, только б в ней не уснуть. В темной, как сажа, ночи твоя жизнь борется с тем, чем была. Она бьется с собой и со смертью. А потом наступает рассвет, и ты видишь, что солнце с тобою, ты знаешь, что выжил, и, стало быть, больше мир не двинется вспять. Есть только утро, дыхание ветра и птичьи голоса, и ты идешь за ними в день. Ты живой и покорный… И кроткий, а за тобой следит простое солнечное небо, и вы с ним — заодно. И тогда оно, время, распахивается перед тобой, и ты видишь длинный-предлинный след, похожий на отражение — не знаю чего; чего-то большого, как восход в спокойной воде. И отныне ты знаешь, что такое дорога и как к ней идти. Да, оно похоже на прозрачный след, след лучей, но только — когда ты знаешь, как увидеть это… Я видел, И не желаю верить в жабу и бурдюк. Время — не брюхо, оно глаз, прикованный к светящейся дороге. У нее есть начало и конец. До него надо лишь добраться… Свернешь — и оно уже за тебя не в ответе. Это как у путников в горах, связанных одной веревкой. Или как пуповина: перережешь — выкручивайся дальше сам. Тут уж оно тебе не указ, его просто нет для тебя, все равно как тропы для слепого. Только оно-то здесь при чем? Хороший охотник медведя по запаху чует, а плохой его с трех шагов за стог сена принять может, так не медведь же в том виноват! У Тамби из нашего ущелья трава и бурка всегда одного цвета были, Хамыц подтвердит. Но только никто, кроме Тамби, того не признавал. Кто был прав, а? И коли люди говорят, что время идет, а не булькает, то, стало быть, так оно и есть, хоть для кого-то оно бурдюк с подпревшей водой… Не знаю, отчего это кому-то так хочется, чтобы оно брюхом казалось, только я в такое не верю. Пожалуй, не поверю никогда…
Выговорившись сполна, он тяжело дышал, словно гонец, пробежавший расстояние ценою в собственную жизнь, чтобы передать известие ценою в вечность. Хамыц поднял с земли бурдюк и предложил ему напиться. По его нарочито небрежному жесту было ясно, на чьей он стороне. Что до чужака, то он даже не сменил позы и все так же сидел, опершись о колено, и смотрел на них с улыбкой, в которой читалась если не усмешка, то неподдельное удовольствие спорщика, убежденного в своей правоте. Стало быть, Тотраз выплеснул хоть и много, но все же явно недостаточно, чтобы его смутить или, по крайней мере, заставить отложить свой ответ.
— И где оно находится, твое «никогда»? Впереди или сзади? Рядом с «когда-то» или под боком у «когда-нибудь»? И что такое твое вытянутое в колею время, если прежде «никогда» для тебя значило то, что теперь превратилось в «недавно»? Ведь никогда раньше ты и не думал, что когда-нибудь окажешься у Проклятой реки, как никогда не знал, отчего она проклята, как не знаешь и теперь, почему она к себе никогда никого, кроме склепов, не подпускала, а вот тебя — сберегла, не отравив и не спугнув? И почему еще вчера ты твердо знал, что мне не быть для вас соседом — никогда, а уже сегодня сам мне помогаешь возводить стены дома? Что такое твое «никогда» и твоя озаренная светом дорога, если всякий раз ты натыкаешься впотьмах на яму из «когда-то»? Сколько сотен твоих «никогда» уже превратилось в эти «когда-то»? Что до бурки и травы — так в ночь они и впрямь одного цвета, а вот какого цвета твое простое солнце, ты скажи? Красного? Желтого? Золотого? А может быть, белого или розового? И какого цвета оно, когда отовсюду обложено тучами? Ты можешь назвать его истинный цвет? С чего ты решил, что время глупее тебя? Будто оно ползет себе, как груженная всеми грехами повозка, по дороге, которой не видно конца? Где ты видел дорогу, у которой бы не было двух хвостов, как двух «вперед» и двух «обратно»? Почему ты решил, что возвращаться назад дозволено лишь людям? И разве ты, спеша вперед, не обернул для себя время вспять? Спроси у Хамыца, что древнее, ружье или лук? Вода или масло? Хадзар или хижина? Река или мост? Камни или пашня? И куда мы сейчас идем — вперед или назад? Бежим или пятимся? И даже будь выстроен здесь целый аул, войдем мы в него как в твой прозрачный светом день, или просто вернемся туда, в тот миг, из которого выросли склепы? А может, в том и разницы нет? Тогда где же стрела? Где загадочный след восхода? Где направление? И где дорога? Веди туда, если знаешь ответ. Я не против. Только, сдается мне, для вас что вперед, что обратно отсюда податься — все равно что выбирать между огнем и студом. А потому сидите вы здесь, в подмышке этого самого времени, которое — куда захочет, туда и потечет, и из любого будущего может в два счета сотворить еще одно прошлое, а после любое прошлое вмиг превратить в настоящее, и потом завалится спать на пару веков, а проснувшись, выпьет его без остатка, сохранив на самом донышке только капельку будущего и мутный осадок того, что уже состоялось не раз и въелось во время настолько, что вынырнет ржой везде, где забьется волна. А ты говоришь!.. Нет, ты путаешь время с надеждой. Все мы путаем их иногда. Чаще — всегда… Вот тебе и еще одно слово — «всегда». Подумай над ним. Оно лишь изнанка твоего «никогда», это как перед и зад. Два разных бока у нашего бурдюка. Они впору друг другу так же точно, как тело и тень, только порой меняются местами. Разве нет? Ты говоришь мне, что время идет. А я говорю, что — не только. Еще оно движется, спит, убегает, уходит, стоит, сотрясается и поджимает… Пожалуй, еще и лежит, будто старая сука. Растекается, думает, мстит, повторяет себя, повторяет других, уползает в нору или жалит… Два вопроса: куда оно движется и — для чего? Ты полагаешь, оно это знает. Знает всегда, хоть никогда толком не объясняет. Я говорю почти то же: не знает оно никогда, а потому всегда не может объяснить. Вот и вся разница. А что до охотников — так и здесь ведь бывает наоборот: кто-то медведя за стог примет, а кто и стог — за медведя. А коли и впрямь медведь перед ними вдруг в трех шагах оказался, то тут уж поди разбери, кому из них проще… Впрочем, кажется, зря я это все говорю, ведь ты так и так не поверишь. Ни за что не поверишь, даже если опять у тебя что-то взорвется внутри и ты увидишь вместо дороги пятно пустоты.
— И будет прав, — вдруг вмешался Хамыц. — Потому что верить в то, что ты говоришь, значит не верить вовсе. По мне, так нельзя, даже если время и вправду — плешивая сука. Только это все-таки вряд ли. И коли нам в самом деле уразуметь не под силу, где тут перед, где зад, куда оно течет и отчего засыпает, так то, мне кажется, совсем не наше дело. А наше — строить дом, пахать и сеять. Слушать землю да звезды читать. Наше дело — перезимовать и выложить мост, вот и все. Наше дело — только взять у жизни свое и не расшвыриваться им перед тем, что никогда нашим не станет. Я так полагаю.
Чужак задумался. Он долго ничего не отвечал, и им показалось, что молчит он не потому, что никак не найдет, чем возразить, а оттого скорее, что возражать не хочет. Переждав еще с минуту, Хамыц поднялся и направился к выложенной вполовину стене. За ним поднялись и остальные. У друга багрово горела выползшая из-под нахлобученной на затылок шапки отметина, по ней им было ясно, что теперь он остынет не скоро.
До самого вечера им почти не пригодились никакие слова. После работы, наскоро разделавшись с ужином, они распрощались, и вскоре женщина и Хамыц остались наедине. Сегодня он чувствовал к ней неподдельную нежность, которая была правдивей и проще любви, потому что могла целиком уместиться в молчание. Лаская жену, он повсюду слышал под пальцами ее доверчивое сердце. Еще он слышал запах благодарной влаги на ее глазах. Не зная, что такое время, он знал, что такое сейчас, и в этом сейчас он был по-настоящему счастлив.
Он долго не мог заснуть. Женщина давно спала, уложив голову ему в предплечье, и кожа на ее лице матово поблескивала, когда угли в очаге вдруг вспыхивали искрами. Осторожно, чтобы не разбудить, Хамыц выпростал руку из-под ее теплого сна и тихо вышел за порог. Ночь низко дышала звездами, но, в сущности, была такой же, как и любая другая под голым небом. Далеко внизу шумела река. Дважды проклятая, как утверждал чужак, и все-таки неотравленная. Вода не убила ни их, ни коней, ни надежду. Река даже снабдила их плитняком, помогая выложить эти вот стены. А до того никого и близко не подпускала, словно и вправду была больна, двести лет тоже была больна и потом, осознав, что обречена, проложила себе новое русло, сметая прошлое, от которого подцепила болезнь и которому давно отомстила, не оставив ничего от него, кроме каменных струпьев на своем беспокойном теле, и умирала потом еще сотню лет, обрастая с боков травой, как могила — бурьяном, и потом все это вдруг стало неправдой, обманом (чума, отрава и вода, которую не пили даже звери, которая обязана была убить, но не убила), потому что она, река, напоила людей и коней чистой свежестью и пустила их в свое лоно, снабдив и глиной и плитняком, а еще прежде — бродом, проверяющим на прочность тех, кто не успел прихватить сюда с собой ничего, кроме собственного греха, и нынче уже сложил для него хадзар. Так что река оказалась здоровой. Она оказалась здоровой и отдала им все, что только могла дать взамен на их тайну, и ждала ее триста лет, будто ей не хватало своей — загадки неотравленья, благодаря которой она не только уцелела и выжила, но и заставила обвал выдолбить для себя новое русло. И тогда скатилась холодным потоком в отравленную пустоту, разделываясь с ее домами, склепами и костями, вымывая камнями чуму, скосившую давным-давно всех до единого, до последнего мужчины и последней женщины, которым отчего-то река ни в чем не помогла, если только пыталась помочь, но она, похоже, и не пыталась, и потому стала проклятой как сам источник заразы, но только все это было неправдой, и была она проклята лишь собственным здоровьем, несущимся громким потоком посреди болезни, раскинутой на целых двести лет по обоим ее берегам. И может быть, спустя те двести лет, в какой-то миг, устав от пустоты и одиночества, она даже хотела заболеть — наравне с остальными, хотела так сильно, что в конце концов не стерпела и выбросилась на болезнь, разливаясь по берегам, где та поджидала ее вот уже двести лет и думала, что тоже отравит, только из этого опять ничего не вышло, и тогда река, уже потерявшая невинность и даже дважды проклятая — своим здоровьем, отдалась тем, кто мог наконец взять ее извечную чистоту и укрыть на ее берегу свою тайну и грех…
Хамыц думал о том, что в сегодняшнем споре неправы были оба — и Тотраз, и чужак. Один — потому что слишком доверял судьбе и небу, другой — потому что не доверял им совсем. Истина, однако, лежала где-то посредине. Размышляя о том, что случилось с ними в последние месяцы, Хамыц приходил к выводу, что все начинается в тебе самом. Сперва ты влюбляешься, потом теряешь голову и решаешь похитить ту, кто заслонил от тебя не только целый мир вокруг, но и твой собственный разум, ты действуешь как во сне, наобум, потому что что-либо рассчитать тебе уже не по силам, ты просто делаешь то, чего не сделать не можешь, а в это время рядом с тобой оказывается друг, оказывается по той же причине: не может иначе, а потом этот друг стреляет в выскочившего из-за угла слепца, приняв за ружье его клюку, и тут же сам получает пулю в плечо, но вас уже ничто не остановит, вы мчитесь двое суток по едва знакомым дорогам, пока и вовсе не очутитесь где-то на самом краю земли под сытым звездами небом и не выясните наутро, что эта земля мертва. А может, даже «мертва» для нее не подходит, ибо, судя по склепам, смерть тоже отсюда ушла, не выдержав безделья и скуки, а спустя недели и месяцы вы все еще здесь и чего-то по-прежнему ждете, пока твой друг не найдет в голых скалах орлиное яйцо и все вы, не сговариваясь, признаете в нем знамение и посеете его в том месте, где решите выстроить дом.
Но только решите-то раньше! Вот в чем вся штука. Все начинается в тебе самом и только потом утверждается небом. Судьба не там, где ты слышишь знамение, а там, где ты слышишь себя. Слышишь так, что упрямишься перед голосом разума и поступаешь вопреки его подсказкам, а потом вдруг приходит знамение и расставляет все по местам, и ты говоришь: судьба…
Но и чужак не прав: он совершает ту же ошибку, что и Тотраз. Он говорит, что время не имеет смысла. Так может заявить лишь тот, кто этот смысл искал. В том и есть его ошибка! Это как с ветром: все равно что искать глазами его исток или пытаться по запаху найти его могилу. Чем больше ищешь, тем меньше понимаешь в рождении его и смерти. Не лучше ли просто в жару подставить под него лицо или укрыться буркой в холод?
Хамыц стоял, обхватив плечи руками, и смотрел, как из ущелья уплывает влажной дымкой пар, высвобождая пространство для глаз и рассвета. Снизу к нему поднимался, хромая, серебристый силуэт. Признав в нем пса, он усмехнулся, вообразив, как заволнуются сейчас проснувшиеся лошади. Пес шел не прямо, а петлял, словно старался представить все как случайность. В отличие от Тотраза, Хамыц относился к нему неплохо и без предубеждения. В сущности, его присутствие здесь Хамыца даже радовало: наличие пса, появившегося невесть откуда, тоже служило знамением, и это было хорошо. «На то они и нужны, знамения, — подумал Хамыц, — чтобы показывать нам, что все идет своим чередом. Прямо ли, криво, вперед ли, назад — не имеет значения. Главное, что идет своим чередом, и как бы при этом ни притворялось, все равно рано или поздно послушно доползет туда, куда нам надобно. Все как с этим псом: сколько бы ни петлял, а идет он сюда, и я это знаю…»
Глядя, как пес подбирается ближе и ближе к их дому, Хамыц вдруг подумал о том, как много вещей открывается с каждым рассветом. Теперь он знал гораздо больше, чем прошлой ночью или прошлым днем. Он знал, к примеру, что Тотраз стрелялся, и понял это потому, что вспомнил вдруг тесемку, запутавшуюся вокруг разбитого приклада, и слово «взрыв», и то, как налило оно кровью шрам на лбу; он знал еще, что друг его отныне никогда того не повторит, потому что верит в жизнь и время; еще он знал, что тоже верит в чудо, хотя не так, как друг, потому что чудо — не гром и не алтарь, перед которым падают на колени: оно просто подарок из кармана судьбы, которую творит не столько небо, сколько твое собственное упрямство и ей же, судьбе, непокорность; он знал еще, что быть ему отцом, и что младенцем будет мальчик, и знал, что будет это вопреки всему, что может сделать с женщиною страх, потому что в нем самом, в Хамыце, его нет и не будет. Еще он знал, что урожай взойдет и будет новый мост, и новые дома, и много испытаний, и знал, что через них пройдет, надеялся, что без потерь, и почти знал, что в это вот уже не верит…
Пес подошел к нему, обнюхал для порядка и, отойдя на шаг, уселся на холодную землю, покрытую густой синевой в этот предутренний час. Они смотрели друг на друга долго и в упор, не отводя глаз, и человек с одобрением отметил, что способна на такое лишь редкая собака. О чем думал пес, было не понять. Возможно, тот думал о том же самом, но только — применительно к человеку. Дом все еще спал, укутанный в тепло, и по-прежнему спали нечуткие кони.
— Выходит, мы поделили с тобой его пополам, — сказал Хамыц, обратившись к псу. — Это утро. Оно принадлежит лишь нам, тебе да мне…
Дрогнув ушами и высоко задрав морду, пес всерьез внимал тому, что говорил человек. Похоже, он был с ним согласен.
XVIII
Никогда раньше люди не видели такого обильного снега. Он выпал сразу, в ночь, и в таком невероятном количестве, что, если бы не чужак, не успевший навесить дверь в своем доме, остальным было бы просто не выбраться. Пока Ацамаз пробивал дорогу к хадзару соседей, пес полз за ним, погружаясь по уши в снег и поминутно фыркая белой, словно усыпанной мукой, мордой. На то, чтобы разгрести снег перед входом, у них ушло не меньше часа, после чего промерзший до мозга костей чужак уселся у очага, сунув чуть ли не в самый огонь свои одеревеневшие пальцы. Тело его непрерывно дрожало, будто кто-то невидимый тряс его, схватив за грудки. Пес улегся с ним рядом и быстро-быстро дышал, высунув язык и распространяя по помещению горький запах мокрой шерсти. Когда женщина незаметно приблизилась, у него впервые не хватило сил, чтоб на нее зарычать. Оставив на полу, сбоку от чужака, дымящуюся миску с бульоном, она шмыгнула на женскую половину и стала ждать, когда двое друзей управятся с лошадьми и вернутся в хадзар.
Примкнувший к дому с южной стороны навес, сработанный из тех же веток и тростника, что уже дважды до того шли на шалаш, ночью рухнул под тяжестью снега. Чужака хватило на то, чтобы отвязать коней и вызволить свою кобылу из-под обломков скудной крыши, заваливших все пространство вокруг. Разгребая слипшиеся от мороза ветви, он увидел, что повод, которым была привязана лошадь, лопнул и застрял, примерзнув между спутавшимися ветками, покрытыми, как стеклом, коркой льда, в который застывало много часов кряду дыхание испуганной кобылы. Ногами раскалывая этот прозрачный слепок страха, чужак понимал, что поспел как раз вовремя: стоило кобыле мерзнуть вот так, почти без движения, в хрустальном плену хвойных веток еще хотя бы час-другой — и ей уже не жить. Только освободив коней, он стал пробивать себе проход к двери хадзара. Он все сделал правильно. Теперь был черед друзей.
«Холод, — думал он, — что может быть хуже? Главный враг всего живого — холод. Я наглотался этого добра с избытком. Во мне сейчас его больше, чем огня в очаге…» Неловко обхватив ладонями миску, проливая на себя ее содержимое, он сделал несколько глотков — словно наугад, не успев даже обжечься глоткой, — а потом, разом опрокинув ее в себя, посмотрел, проверяя, на пустое дно и уронил миску на пол.
Глядя на него из своего укрытия, женщина подумала о том, что в своей дымящейся паром бурке он похож на серый столб, устремленный сквозь крышу вовне. Быть может, нынешним утром он спас им жизнь. Если так, случилось это уже не впервые, но размышляла она о том почти безучастно, по-прежнему не испытывая к этому человеку ни доверия, ни благодарности, разве что ощущала где-то очень-очень глубоко в себе какую-то слабую, ненастоящую, злорадную жалость. Она и не знала, что в ней живет такая жестокость, но по отношению к чужаку каким-то упрямым наитием женщина ощущала, что жестокость эта простительна — быть может, потому, что его ею не прошибешь.
Пока они втроем сидели в запертом снегом доме, никому из них не пришло и в голову, что он может не прийти, а придя, может не справиться. На сей счет они были спокойны, и только двое мужчин переживали за своих коней, не думая, однако, что к ним на помощь чужак придет раньше, чем к людям: лезть в одиночку в завалы навеса было слишком рискованно, они слышали это по обезумевшему хрипу и ржанью, время от времени раздававшемуся за стеной. Когда же по новым скользким звукам они различили, что он уже там, мужчины лишь пожали плечами, и по их лицам женщина поняла, что такой оборот их вполне устраивает. По сути, это означало лишь то, что они пробудут в тепле дольше, чем рассчитывали, что в том плохого?
В их отношении к чужаку была общая странность, в которой каждый из них, включая женщину, похоже, не отдавал себе отчета: всякий раз, как пришелец оказывал им услугу, они воспринимали это как должное, словно он совершал то, что был обязан совершить, как если бы по своей воле взялся безропотно и вечно отрабатывать право жить на их земле, и даже когда услугой оказывалась спасенная жизнь, пусть помноженная на три, а то и на пять (если считать их коней), — в том не было опять же ничего такого, за что они должны были его благодарить, ведь не придет же никому на ум благодарить возницу за то, что тот вписался в горный поворот, или бесконечно возносить хвалу кузнецу, починившему треснувший лемех…
Произошло это не сразу — постепенно, прорастая сквозь ежедневие все больше усугублявшейся ими от него отстраненности, как бывает, когда вместо ушедшего в смутную даль человека приходит ленивое творчество памяти, сохранившей от целого образа какой-то единственный штрих, простейший мазок, прямой и короткий, как прозвище. А потом все случается как бы само собой: человек возвращается, и тут уже не мазок сверяют по нему, а, напротив, его самого примеряют к мазку и удивляются, если вдруг непохоже.
Поскольку чужак никуда от них не уходил, им удалось лишь обложить его камнями, отгородившись от него двойной завесой из стен и чередой удачных дней, в которые получалось не приглашать его к своему очагу, предусмотрительно снабдив его погреб (едва была готова крыша) примерно четвертью запасов из их собственного и словно бы надолго наперед откупившись от его присутствия. Все вышло так, как хотели они, а потому им казалось, что он проиграл. С ним рядом всегда было так, будто нужно не проиграть. С ним рядом было так, будто он никогда не выигрывал. Так, будто выиграть он не имеет права, а стало быть, допустить того никак нельзя. С ним рядом было так, что лучше бы его рядом не было, а потому, спасая их, он словно бы платил за то, что они терпят его рядом с собой — его самого и настырную его, непостижимую готовность проигрывать вновь и вновь без всякого, однако, сожаления о том, что проиграл. С ним рядом было так, как бывает рядом с неудачником: чуть брезгливо, но и как-то безопаснее — если суждено стрястись беде, ты знаешь, что жертва для нее уже выбрана и эта жертва не ты.
Впрочем, на жертву чужак не походил вовсе. Была в нем какая-то сила, которой с избытком хватило б на то, чтобы снабдить необходимым мужеством и сноровкой десяток упрямцев из самых неробких. Не заметить ее было нельзя. Наверно, поэтому женщина и говорила, что от него пахнет воском, как от мертвеца: обрести такую силу на этом свете было попросту негде. Да и на свете ином она открывалась не сразу и не всем. По крайней мере, Тотраз, который уже бродил у смерти в ее пустынной прихожей, ничего оттуда не вынес, кроме неуемного стремления жить и столь же страстного неприятия того, кто явно жить особо не стремился, а делал это словно по досадной необходимости, которая и вывела его сюда, в тот уголок земли, где смерть и жизнь разделяли лишь буйство Проклятой реки да прихоть капризного ветра, туда, где они, люди и склепы, день за днем вот уже девять месяцев следили друг за другом, гадая, что произойдет, когда им доведется пересечься в невидимой пропасти времени, медленно просыпавшейся эхом ожидания у них за спиной.
Просыпавшейся медленно и неохотно, потому что за весь этот срок, которого кому другим, затерянным в ночах любви, хватило бы как раз на то, чтобы обзавестись ее первым плодом, им даже не удалось тот плод зачать, усмирив оскверненную кровь той, кто никогда не согласилась бы променять свой женский позор на благополучие девичьей чести, кто, может быть, больше другого, больше мужчины желала от того позора зачать их будущее на самом краю земли и готова была заплатить за это полным забвением прошлого. В ее покорности уделу таилась не столько послушная безропотность, сколько необузданная строптивость удел этот осуществить — до конца и как можно скорее. Лишь раз позволив судьбе вмешаться в свою жизнь, украсть себя из неги сонного родительского дома, она решила стать ее, судьбы, надежнейшей наперсницей и нетерпеливой подругой, спешащей приблизить заветную развязку, после которой ей не нужны будут ни прошлое и связанные с ним воспоминания, ни даже и сама судьба. Ей удалось превратить свой удел в свой же выбор — с легкостью, которой до сих пор не было дано никому из мужчин.
С ними все было труднее. Им нужно было всякий раз с чем-нибудь, да сверяться: с небом, с минувшим, с мыслью о них или с собственной совестью. Им не хватало той очень простой, естественной, бесшабашной и вовсе невразумительной для них мудрости, которой обходилась женщина, когда понимала, какой поступок ей сегодня нужно совершить, чтобы хоть чуть-чуть, хоть на самую малость стать ближе к своему материнству, которое (она знала это наверняка) способно оправдать все, что с ними произошло, происходит или еще произойдет, ничего при этом не объясняя.
Да, она молилась только об одном, но небо все чего-то ждало, все не решалось, медлило, тянуло, доводя ее порой до исступления ненависти, которую в минуты ярости она могла предъявить кому угодно: псу, другу, солнцу, мужчине или самой себе, но чаще — чужаку, насквозь пропахшему воском. Этот дух впитался в него настолько, что ей порой казалось, будто он для того лишь сюда и пожаловал, чтобы вернуть его шести склепам, откуда тот выветривался три долгих века кряду. Однажды она призналась мужчине:
— Странно, что он никого не убил.
— Почем ты знаешь? — спросил он. — И отчего оно тебе странно?
— У него другое лицо. Слишком гладкое. Глаже, чем у Тотраза. А разит от него так, будто помимо своей смерти он несет на горбу еще и с дюжину чужих и тоже неприкаянных…
— Нет, — сказал мужчина. — Кое в чем убийца и он. Да к тому же в таком, что мало кому до него доводилось.
Потом пояснил:
— Свое имя. Он убил его наповал. Непонятно только, зачем ему это понадобилось…
Но знать о том им не хотелось. На этой земле истории не продолжались, а зачинались вновь. Что-что, а это было им известно. И все же иногда, подглядывая за чужаком, женщина невольно пыталась угадать — не жизнь его, не прошлое, нет, скорее, — его душу. До сих пор она не слишком в том продвинулась. Во внешности чужака была своя особенность: всякий раз при пристальном взгляде на него ей отчего-то казалось, что она рассматривает его впервые. Это лицо было неуловимо для глаза, как промельк тени в подвижной воде. В нем не было того, что в лицах быть должно: какой-то главной зацепки, легко узнаваемого постоянства, характерной черты, делающей его похожим на самого себя сегодня, завтра и всегда, того приносимого с собой почти физического ощущения своей единственности, которое улавливает тот, кто на него посмотрел, раньше еще, чем взгляд различит подробности глаз, подбородка и лба. В нем почти не было следа последнего прощания, с которого можно было бы возобновить знакомство, и каждый раз женщина подмечала в нем какие-то новые, не распознанные прежде приметы, которые, однако, стирались уже при следующей встрече.
Порой в нем обнаруживалось то, что обычно трудно разглядеть в лице мужчины: к примеру, дышавшая впадинка под скулой или мягкие изогнутые брови, не редкие и не густые, а просто положенные двумя правильными овалами над равнодушно-тревожными глазами, цвет которых она тщетно пыталась определить. В зависимости от того, как падал свет, они меняли свой окрас от мглисто-черного до непрозрачной синевы, а иногда, перед самыми сумерками, он делался влажным и серым, как хмурое небо еще без дождя.
Сейчас в его глазах красноватыми искрами тлел их очаг, остывая в холодных зрачках бледной каплей. Губы чужака были плотно сжаты и казались твердыми той особенной белизной, в которую туманным днем превращается от крепкого мороза иней. Между тем женщина смутно припоминала, что нижняя губа его, особенно в предвкушении спора, умеет быть и другой, капризно-пухлой и очень розовой, точно румянец на щеках у больного ребенка. Однако удивительнее всего были ресницы — то частые и длинные, то едва различимые на почти голых веках. И лишь затылок его оставался самим собой: грубо скошенный от самого темени, помеченный у шеи внезапной сединой, он походил на запылившуюся лепешку смолы. По крайней мере, так думалось женщине. Руки чужака тоже было трудно спутать с чьими-то другими: небольшие и юркие, как птицы, они производили странное впечатление. С одной стороны, такие руки вполне могли принадлежать человеку, который за всю свою жизнь ни разу их всерьез не испачкал землей, навозом или кровью, как и не натрудил, берясь за топор, мотыгу, ружье или плуг; с другой же, — по какой-то неясной, подспудной, быстрой силе, таившейся в тонких пальцах, было легко распознать, что руки эти способны на все и уже многое из этого всего испытали. В отличие от лица, на них имелись шрамы. Шрамов было много, и они хорошо были видны сейчас, выделяясь прожилками на замерзших кистях. Кожа под ногтями стала лиловой, как у мертвеца, и об этом женщина подумала уже не в первый раз, глядя со своей половины на то, как чужак дрожит у очага и никак не может согреться.
За стеной мерно било по дереву острое железо и, смягчаемые снегом, топотали конские копыта. Внезапно женщина почувствовала слабость и сразу вслед за ней — жаркую боль, в которую, как в спрятанную яму, скользнула ее душа, столкнувшись с предчувствием. Ей вдруг почудилось, что где-то рядом шмыгнула ее собственная тень, которую чужак и не заметил. Лишь только пес напрягся, вскинул уши, кратко заскулил, потом поднялся и затрусил вокруг очага, внюхиваясь в пустоту и кося в ее сторону глазом. Предчувствие было таким настоящим, что женщина медленно осела, прошуршав плечом по косяку, и какое-то время не ощущала ничего, кроме слабого шевеления внутри себя. Только это была не жизнь, и она о том знала. Это было похоже на затерявшийся в чреве глоток, комочек хвори, отголосок постылого целомудрия, лишиться которого девять месяцев назад еще не значило от него избавиться.
Стиснув зубы и покрывшись крапинками пота, она давила в себе рвоту сомнения, проклиная себя за то, что не в силах совладать со страхом за совершенный грех, прекраснее и значительнее которого не было ничего в целом свете. Ее любовь к Хамы-цу выливалась в нетерпимость ко всему, что мешало ей эту любовь проявить, помочь ей расцвести, взойти ростками новой жизни на берегу, где понести и вызреть возможно было только ей одной, жене Хамыца, да еще самой земле, если, конечно, та не утратила за триста полых лет способности принять в себя семя, облечь его своим первозданным теплом, побудить его прорасти и робким стебельком подняться по весне к заботливому небу.
То, что жиревшей от солнца, безделья и воды земле оказалось забеременеть проще, чем ей, представлялось женщине жесточайшей несправедливостью, ибо та даже не старалась, той было все равно, она просто валялась, как пьяная девка, посреди плоскогорья и дремала, оглохнув от старости, пока они прокладывали по ней неглубокие борозды и бросали в них семена чужака. Они взойдут уже к апрелю, так сказал вчера Хамыц, принеся с собой мягкое зернышко со светлой бородкой ростка. Выходит, жизнь в ней, в земле, уже забродила. И было это хорошо. Только при мысли об этом женщине становилось тошно, как если бы она сама была прокаженной и ее выставили напоказ перед здоровой и неумной красотой.
Размышлять о своей пустоте было невыносимо. Она ведь знала, что не бесплодна. Она ощущала это сквозь жаркую женскую силу, которой переполнялась ее страждущая плоть всякий раз, как они оставались вдвоем, она и Хамыц. Им просто что-то мешало. А может, чего-то им не хватало для того, чтобы зачать от греха и любви сразу, едва они, грех и любовь, сольются воедино, как сами тела.
Сперва была голая ночь, звезды и стекающая в нее звоном луна, потом — тростниковая хижина с набухавшими влагою матами (они дышали под ними тихой мечтой уплыть отсюда навсегда, в вечную теплую ночь), потом были кабаньи шкуры и дом, и пришелец, и настойчивая, бессонная тревога, потом был дом для чужака, потом наконец все должно было сделаться хорошо, но тут обрушился снег. Обрушился снег, и явилась зима, а в ней, женщине, тупо забилась комком слепая хворь, и было это очень, очень, очень, очень плохо. Было это хуже, чем прежде, потому что тогда она еще могла надеяться, что причина сокрыта не в ней, а вовне. Теперь ей стало ясно, что все остальное тут ни при чем, а есть только собственный ее порочный изъян, разъятость нутра где-то в самой его глубине, в сокровенности чрева, в том средоточии плоти и души, где по-прежнему живо прошлое. И отныне ее ждала длинная, снежная, белая и пустая зима, сманившая зачем-то ее тень и готовая погрести под собой остатки их первого года у реки давних проклятий. Года, так и не сделавшего ее ни матерью, ни настоящей женой, а целиком ушедшего на то, чтобы учиться жить в соседстве со склепами у призрачной границы времени, отмечающей то ли исток его, то ли последний разлив — то ли волну, то ли пену. «А по весне что-то случится, — вдруг подумала она. — Пройдет зима, и с нами что-то произойдет, я это слышу. И тогда уже начнется что-то другое, только что — я не знаю».
— Дай чего-нибудь псу, — позвал чужак, повернув к ней свой профиль, — Женщина, покорми и собаку.
Не успела она дойти до кладовой, как дверь распахнулась и в хадзар вошли двое друзей. Хамыц держал в руках большой, с человечью голову, кусок зернистого серого льда. Совсем мокрый, посиневший от холода, он радостно улыбнулся ей с порога. Тотраз встал у него за спиной и, поочередно прислонив к стене блестящий заступ и топор, снова выпрямился, потом, пошатываясь от усталости, спросил, обращаясь к чужаку — так, будто продолжал только что прерванный разговор:
— А как ты назовешь вот это?
Тот изумленно оглядел его с ног до головы, но, так и не обнаружив смысла в его вопросе, предпочел смолчать. Хамыц по-прежнему стоял и улыбался, не выпуская из рук своей ноши.
— Как ты назовешь то, что мы вдвоем нашли сейчас в снегу, хотя совсем того и не искали, хм? — настаивал Тотраз, а глаза его победно горели. — Как ты назовешь такое совпадение: двое мужчин копаются в снегу, чтобы разгрести завалы рухнувшего в ночь навеса, и каждый из них вдруг находит что-то такое, чего здесь не было ни прошлым летом, ни ушедшей осенью? Чтобы было легче, начни с того, что у него в руках. Ну, как ты это назовешь?
— Может, поближе поднести? — спросил Хамыц и, сверкнув зубами, весело подмигнул другу.
— Не стоит, — сказал Тотраз и сел у очага напротив Ацама-за. — Он у нас и без того все знает. Это для него не загадка, а — тьфу! Я прав?
Чужак кивнул и отвернулся от Хамыца. Теперь он снова глядел на огонь.
— Соль, — сказал он. — А вот что накопал под снегом второй — мне неведомо.
— Ты смотри! — почти восторженно вскричал Тотраз. Хамыц бережно положил свою ношу на перевернутый жбан у стены.
— Заступом вырубил из стены, вместе со снегом, — пояснил он и сел рядом с псом. — Должно быть, здесь погреб когда-то держали. А я расколол лед и думаю: что за камень чудной? Вроде как горный хрусталь, только почему здесь, одиноким куском валяется, и где, думаю, та скала, что его отпустила? А потом подышал на него, отогрел, он и закрошился краем, я языком лизнул — соль!
Он засмеялся и потрепал по холке пса, тот неохотно зарычал и чуть отполз в сторонку. «Чему радуется? — думала женщина. — Если тут был их погреб, значит, был тут их дом. Вот тебе и тень! Вон она откуда!» Ее охватило какое-то мстительное, радостное отчаяние оттого, что беда вдруг вернулась извне, и стало быть, хворь в ее чреве была лишь этой беды предчувствием. Или предчувствием памяти о чьей-то давней беде.
— Навряд ли, — сказал чужак. — Нет. Ее бы давно размыло водой, коли размыло сам погреб. Только река сюда не добиралась.
— Стало быть?.. — не отступался Тотраз.
— Случай, — невозмутимо ответил чужак.
— Ну что я тебе говорил! — всплеснул руками Тотраз. Лицо его светилось азартом игрока, прячущего за спиной выигрышную карту. — Разве я в чем ошибся? Все ему нипочем! Упади ему за шиворот звезда, он только поежится да отряхнется, а после скажет тебе, что то лишь случайность, рассеянность неба, ну или там — раззявость богов… Ничем его не проймешь! Твой черед. Пробуй ты.
Он раздраженно махнул рукой и вспугнул обугленной палкой очажные искры. Чужак сидел, чуть сведя брови на переносице, и спокойно ждал, когда заговорит Хамыц. Со стороны могло почудиться, что пламя вздрогнувшего огня занимает его куда больше, чем то, что он готовится сейчас услышать.
— Сказать по правде, мне б одному ее не найти, — заговорил Хамыц. Он сбросил с плеч бурку и вытянул перед очагом мокрый бушлат, защищаясь им от искр, а заодно — скрывая от чужака свою улыбку. — Да что там одному! Нам и вдвоем такое не откопать, даже если очень стараться. Потому как, сам рассуди, копать человек берется там, где он надеется на что-то наткнуться. Или там, где что-то уже ищет кто другой. Но в том и штука, что никто из нас не искал и не надеялся, покуда помощь не подоспела…
Он пересел на корточки и, выдерживая паузу, снял шапку, сунул ее под мышку, сложил бушлат вдвое и, кряхтя, отер им свою бритую голову. Снова надел шапку, расправил бушлат, разостлал его перед собой на глиняном полу и сказал:
— Сдается мне, тут уж будет ему угадать посложнее…
— Угу, — подтвердил Тотраз. — Сам-то он там, поди, тоже все утро провел, однако ж вот не сподобился…
— Оно и не мудрено, — кивнул Хамыц. — Потому что в этом деле он ничуть не лучше нас. Такой же, как мы.
— Или как кони, — вставил Тотраз. — Каждый из них.
— Вот-вот, — сказал Хамыц. — Или как пес.
Теперь все они, включая женщину и собаку, не сводили с чужака глаз. Тот упрямо смотрел в костер и молчал, стараясь не верить тому, что подсказывал ему их разговор. «Боже мой, — прошептала женщина. — За что мне эти муки?! Если кто тут и проклят, так это я… Теперь вот еще и кобыла!»
— Ну? — спросил Хамыц и опять подмигнул, но уже не ей, а другу. Потом снова перевел взгляд на чужака и повторил: — Ну? Что скажешь?
Тот разом как-то осунулся и сник. На секунду к женщине вернулось чувство жалости к нему, которое она испытала незадолго перед тем, наблюдая за его бьющейся в ознобе спиной. Сейчас это чувство было искреннее и добрее. Чужак опустил голову на руки и помолчал еще немного, пока каждый из них по очереди не ощутил неловкости за то, что не может придумать за него ответ, который бы дал ему возможность не утерять достоинства. Когда тишина сделалась тягостной, как стыд, и звонкой, как тревога, он поднял с пола пустую миску, повертел ее в руке, потом смерил взглядом мужчин и сказал:
— На кого самый большой черепок покажет — того и жеребенок…
Потом с размаху швырнул миску в стену. Она разлетелась вдребезги и спугнула с места залаявшего пса. Обернувшись, мужчины следили за тем, как стремительно вращается перед ними ее расколотое днище, а потом вдруг быстро, разом, замирает, выставив свежим порезом почти ровный осколок туда, где сидит Тотраз.
— Тебе повезло, — сказал чужак. — Выходит, твой был конь. По весне ты сильно разбогатеешь. Можешь считать, что это судьба, а не случай. Попробуй втолковать это моей кобыле, которую покрыл твой конь. И не верь, если она заупрямится и будет кивать на другого. Коли выпало на тебя, значит, так тому и быть: твой конь и есть тот, кто покрыл ее по судьбе, а не по пустяковому случаю. Хоть у него, у Хамыца, тоже резвый скакун имеется, а не какой-то там мерин. Осталось лишь отыскать во всем этом высший, правильный смысл. Только и тут за тобой дело не станет. Верно?
Произнеся это, он поднялся, накинул на плечи бурку, коротко попрощался и сразу ушел. Голодный пес, клацнув клыками, выбежал вслед за ним.
— Гяур, — процедил сквозь зубы Тотраз. Щеки его покрылись темными пятнами. От былой радости не осталось и следа. — Когда-нибудь он палку перегнет…
— Нет, — возразил Хамыц, — он дал понять, что палку перегнули мы… Принеси поесть, — тихо добавил он, и женщина метнулась к кладовке.
Собирая на стол, она видела перед собой с какой-то четкой, но зыбкой маревом ясностью то, как это все происходило: вот они, двое мужчин и друзей, разгребают за южной стеной снежные завалы, а потом один из них, тот, с кем она тщетно делила ложе, замечает вдруг, что кобыла упрямо возвращается к углу своего недавнего плена и принюхивается к снегу взволнованными ноздрями; потом двое людей, заподозрив неладное, принимаются орудовать там заступом и топором, пока не выковыривают из земли толстую голову соли, а затем второй из них начинает приглядываться к кобыле и спустя минуту толкает первого в бок, мол, неужто в самом деле? И вот они подносят к ее морде соль, наблюдая за тем, как она жадно слизывает с трехсотлетнего камня предательский зернистый соблазн; пока она это делает, они обходят ее со всех сторон, ощупывая опытными пальцами брюхо, по которому еще ничего не видать, но уже можно почувствовать новую, мягкую тяжесть. И тогда они сговариваются о том, чтобы его разыграть, потому что самая мысль, что их жеребец (не важно, какой из них, важно, что их, и важно, что, может, не один даже, а оба) покрыл его лошадь, самая мысль эта для них слаще меда — ибо оба они мужчины, как и сам чужак, против которого, да, им никогда не совладать, пусть так, зато вот можно, ты гляди, покрыть его кобылу, выходит, жеребцы оказались проворнее своих хозяев, и теперь те спешат в дом, чтобы насладиться его поражением, которое он для себя на сей раз даже не выбирал, а потому проиграл вдвойне, проиграл слишком явно и неожиданно, чтобы суметь найти достойный ответ в изматывающем молчании, однако это ему все же удается — ответить, то есть проиграть так, чтобы выиграть у него для них стало равнозначно унижению, и ради этого он ставит жеребенка на кон и на мгновенье превращает их в соперников, и, конечно, не родившийся покамест жеребенок выпадает жребием тому, кто только и должен стать жертвой — жертвой случайной удачи, потому что насмешка для него уже готова, уже сочинена, она сильнее, чем удача. И теперь в нем беззвучным ревом беснуется шальная ненависть, которой в нем больше сейчас, чем даже в женщине — по отношению к судьбе, земле, кобыле или своей горделивой крови, — но ненависти этой все равно ему не хватит, чтобы выбежать в дверь и, догнав обидчика, поквитаться с ним, как с тем несчастным слепцом, что выскочил с клюкой перед ним на дорогу, потому что, думает она, из ненависти не убивают, из ненависти только мечтают убить, убивают по глупости, из страха, по ошибке и из мести, да, а для мести надобно время, нужно время и расчет. И, пожалуй, еще кое-что: сочувствие тех, кто всему этому станет свидетелем, а вот этого-то ему от них не дождаться. Этого ему не дождаться даже от самого себя.
Собирая на стол и вслушиваясь в поднявшийся за стеной ветер, она думает о том, что всем им стало стыдно, всем четверым, вот и все, чего они добились своей гордыней. А потом слышит один за другим два выстрела. В помещении делается тихо и пронзительно, как в разорванном сне. Им удается переглянуться и тут же отвести прочь глаза. Это может быть конь, кобыла или конь Хамыца, а может, два коня или же конь и кобыла разом. Если так, то теперь ему мести не избежать. Неужто он их все-таки вынудил? В лице мужчины она читает тоску. Просто чтобы уйти от молчания, он говорит:
— В кого, по-твоему, он там палил?
Конечно, он спрашивает друга. Вид у того такой, словно он только что ненароком перепрыгнул через собственную тень.
— Не знаю. В кого б ни метил, — коли он попал и попал оба раза, могу догадаться, каким будет третий выстрел.
Он встает и резко, будто опасаясь передумать, идет к стене, на которой висит его длинное, с заиндевелым от холода дулом, ружье.
— Погоди, — просит Хамыц, и всем им ясно, что просит только потому, что этого хочется другу. — На него оно непохоже.
— Вот как? — спрашивает Тотраз, и в голосе его им слышится не столько злость, сколько безысходность. — Непохоже, говоришь? А что же на него тогда похоже? Кто из вас возьмется мне растолковать, что на него похоже, а что нет? Ты вот, к примеру, знаешь что-нибудь такое, что на него непохоже? По мне, так на него похоже ровно столько, сколько непохоже. Но это бы еще ладно, еще ничего. Другое плохо: пройдет минута и может поменять их вмиг местами. Я знаю лишь одно: когда он не спит, на него похоже что угодно. Сдается мне, как раз сейчас он не спит, потому что даже ему, чтобы дойти по этому снегу от нашего порога до своего, взять ружье, спуститься с ним туда, откуда можно примериться к цели, взять ее на мушку, а потом дважды нажать на курок, быстро воротиться назад, лечь на заледенелую шкуру, закрыть глаза и заснуть, времени больше надобно, чем он истратил на то, чтобы выйти отсюда, сочинить, в кого стрелять, сходить за ружьем, прицелиться, пальнуть два раза и ждать, пока кто-то из нас не пойдет поглядеть, в кого он там метил. Сдается мне, сейчас он ждет меня…
Проверив и зарядив, пока говорил, ружье, он направился к выходу.
— Никого он не ждет, — сказала вдруг женщина, и от внезапности Тотраз остановился, замер на пороге. Она смотрела не на него, а прямо на Хамыца. Тот скривил губы, будто у него заныли зубы, и медленно поворачивался к ней, давая ей время опомниться и скрыться на женской половине. Однако взгляда она не отвела, хотя тоски в глазах мужчины было теперь больше, гораздо больше, чем прежде — столько, сколько воды в хорошем дожде. Взглянув на нее наконец и поняв, что она не уступит, он нащупал взглядом точку у нее на груди и осуждающе покачал головой.
— Пускай говорит, — сказал Тотраз, снова прикрыв бившуюся на ветру дверь, и тут всем им сделалось чуточку легче.
Почесав подбородок, Хамыц выдержал паузу, хмыкнул, пожал плечами и едва заметно кивнул.
— Вы забыли про пса, — сказала женщина. — Он единственный, кто тут совсем ни при чем. В кого другого стрелять он не станет.
И теперь они поняли. Тотраз обмяк всем телом и устало прошаркал обратно к стене. Пока он осторожно разряжал ружье и вешал его на место, у Хамыца и женщины было довольно времени, чтобы бережно встретить друг друга глазами и вновь ощутить, что опять спасены. Уже не таясь, мужчина почти с восхищением смотрел в ее спокойную мудрость, которой не учатся и не завидуют, а вместо того лишь внимают и подчиняются, как истине, открывшейся ясно и громко, как летний утренний свет. «Она права, — думал Хамыц. — Потому что она ее даже не пробует вычислить или понять. Она ее просто чувствует, как радость, как боль или страх. Выходит, правда всегда при ней?..»
Им бы такое и в голову не пришло, невзирая на их принадлежность к роду мужскому. А она вот смогла — не понять, а почти воочию прозреть то, что затем, после ее подсказки, открылось им с очевидностью неотвратимого: по сути, метя в пса, чужак стрелял в себя, убив единственное верное ему существо, более преданное, чем даже собственная тень его, готовое денно и нощно служить его одиночеству, которое убить он права не имел. Должно быть, это было предписано ему его отчаянием и упрямством. Похоже, они были в нем неразлучны еще за много смертей до того, как он явился сюда. Будь наоборот — и пес бы не пострадал. Возможно, пес уцелел бы, будь там одно лишь отчаяние. Упрямство — вот что его погубило. Стреляя в пса, он возвращал себе безмерность одиночества. «Вот оно, — подумал Хамыц. — Она почувствовала это, как запах. Запах воска». Стреляя в пса, он избавлялся не от собаки, а от привязанности ее и покорности, день за днем без всяких слов растравлявших ему душу теплом и беспокоивших давнишнюю унылость сердца, постепенно делая его, чужака, уязвимее и слабее (да, так и есть: уязвимее и слабее, потому что в миг первой встречи у них не хватило духу даже на то, чтобы опознать в нем хотя бы гостя, а уже нынче они ему смогли дерзить, словно он незадачливый сосед, над которым незазорно и подтрунить), ибо в нем подспудно просыпалась предательская надежда. Да еще то, что, словно ложь или запретный плод, никак не удержалось бы надолго на его бескровных губах — вкус к жизни. К обычной человеческой жизни — с громом в сердце, слезами в душе и с мыслью о завтра.
— Самодовольный глупец, — сказал Тотраз. — Что он там о себе возомнил?! Словно на него управы нету…
Он произнес это чересчур убежденно, чтобы они поверили в искренность этих слов. От голода и нетерпения у Хамыца засосало под ложечкой. Жестом предложив другу сесть, он потянулся к еде. Женщина скрылась за пологом, и Хамыц почему-то решил, что сейчас она будет плакать.
Тотраз едва притронулся к пище. Лицо его разрумянилось и чуть лоснилось от пота. Сидеть и молчать ему было невмоготу, и это было заметно. Если бы не полная абсурдность этой мысли, Хамыцу могло показаться, что друг его завидует чужаку.
— На хрена он мне сдался, — сказал Тотраз, — его жеребенок…
Чтобы не встречаться с ним взглядом, Хамыц оглядел потолок, повел лопатками, а потом уставился на его трехпалую кисть — большое, беспокойное существо без глаз.
— Я откажусь, — сказал Тотраз. — Я пошлю его к… Пусть палит потом еще и в треклятого сосунка.
«Пожалуй, пса ему жалко больше, чем мне», — подумал Хамыц.
— Не вынуждай его делать и это, — сказал он вслух. — Мы перегнули палку… Пожалей жеребенка. Он-то здесь при чем?
Зная, что не дождется ответа, он легонько коснулся другова плеча, поднялся на затекшие ноги и ступил за полог из шкур вслед за женщиной.
Она стояла на коленях спиной к нему, сложив перед грудью руки, и о чем-то молилась. Когда она обернулась, глаза ее были сухи и как-то слишком серьезны, словно она только что услыхала пророчество и подготовилась сделаться старше на целое горе.
— Как ты думаешь, — спросила она его, — они здесь и вправду жили? Тоже дом, тоже погреб?
— Нет, — ответил он. — Ты же слышала, что говорил чужак… Река сюда и близко не подступала. Призраки нам не страшны.
Хамыц сказал и подумал: я не имею права не верить в это. Я должен верить в это сам. Только так я заставлю поверить их всех.
Ветер за стеной разгулялся не на шутку, но все щели были тщательно замазаны и законопачены на совесть, так что метель проникала сюда лишь отголосками крепчавшего гула. Их дом стоял достаточно прочно на этой странной земле, которая только что в довершение всех испытаний обагрилась и первой кровью — безвинного черного пса, с которым Хамыц не так давно делил умное спелое утро. Тогда они ведать не ведали, что будет столько снега и что где-то под ним, как серый залог беды, будет прятаться огромная соляная голова.
Укутавшись башлыком и завернувшись в бурку, Хамыц вышел за порог, чтобы привести на ночь в дом коней и беременную кобылу. Признаться, люди не сразу заметили, как к ним в очаг спустился первый зимний вечер, чуть тронул пламя прохладной. рукой и кротко свернулся перед ним на глиняном полу в рыжее пятнышко. День прошел — и слава Богу!..
XIX
Когда они снова вошли в его дом без дверей, чужак развел огонь и присел перед ним на корточки, погрузившись в раздумья. Пес улегся с ним рядом, но, чувствуя, что хозяину уж слишком нехорошо, время от времени в тревоге вскакивал на лапы и совершал бессмысленные круги по комнате. Несколько раз, проходя мимо человека, он словно бы ненароком задевал его хвостом. Увидев, что тот не рассердился и остался недвижим, пес ободрился и впервые позволил себе то, на что прежде, зная хозяина, никогда не осмеливался: приблизившись к нему вплотную, он осторожно лизнул ему руку. Потом еще и еще раз. Человек перевел на него взгляд, но, увидев, как тот предусмотрительно и виновато поджал оба уха, не только ничего не сказал, но даже не убрал руки. Вместо этого он вдруг чуть цокнул языком, и тогда, чтобы проверить, пес робко вытянул морду перед его коленями, и тут случилось то, о чем он не смел и мечтать: человек ласково потрепал его по холке и провел ладонью по спине. От такой радости пес захмелел, полуприкрыл веки и, чтобы не спугнуть руки, приказал своему телу превратиться в бесчувственный древесный ствол. Лишь хвост легонько вздрагивал и до последней капли ловчился удержать на своем кончике щекочущий сладостный трепет. Потом ладонь устала, остановилась, и по тому, как она начала вновь наливаться чужой какой-то, не своею тяжестью, пес понял, что хозяин опять задумался о чем-то трудном и слепом, чего ни разглядеть в своем подвижном четком воображении, ни унюхать своим надежным глазастым чутьем пес не мог, как ни старался. Дважды он мелко переступал лапами, вдавливаясь боком в колени человека, но рука все равно соскользнула с выгнувшейся под нее спины, повисла вдоль тела и равнодушно умерла. Животное испуганно застыло, потому что ощутило вдруг, что оказалось совсем одно в этой холодной, глухой и враждебной комнате, несмотря на то, что хозяин был тут и, судя по всему, никуда уходить не собирался. Однако то, что он ушел, пес знал точно. Его хозяин умел уходить, оставаясь на месте.
Он уходил далеко-далеко, дальше сна или света, потому что там, куда уносило его из себя самого, не было ни света, ни запаха, ни даже слуха.
Чтобы прогнать тревогу, пес снова затрусил вокруг очага, меняя направление движения и обходя огонь то с одной, то с другой стороны, словно пытался нащупать след ушедшего из себя человека. Так и не справившись с этим, он опустил пристыжен-но морду и, сурово наказывая себя, начал внюхиваться в бродивший по полу колючий холод. Краем глаза он следил за хозяином, но тот оставался недвижим и только глубоко и ровно дышал. Вернее, дышал не он, а какая-то могучая, опасная сила в нем. Она разрасталась и пугала пса, потому что ее становилось все больше, а хозяин не возвращался. Пес заскулил — тихо, и все же настойчиво, чтобы человек очнулся и снова вошел в себя. Дальше безропотно ждать и ничего не делать было нельзя: что-то, очень похожее на собачье чутье во время охоты, безошибочно подсказывало псу, что еще немного — и для его хозяина в этом громко дышащем теле уже не останется места. Человек глубоко и хрипло вздохнул, положил ладони на колени и, вмиг вспотев от тяжелого внутреннего труда, притворился, что уже здесь. Пес настороженно глядел на него исподлобья и не верил. Человек прочистил горло, хотел было что-то растолковать, но передумал и сплюнул все невысказанные слова прямиком в очажную злость. Выпрямился во весь рост и вдруг сделался очень высокий, каким бывал для пса лишь по утрам. Потом подошел к порогу, нагнулся и зачерпнул пригоршню свежего снега, забившего поземкой им же оставленный след. Пожевав снег, он забыл слизнуть его крошки с посиневших от холода губ, снял со вбитого колышка ружье и снова направился к выходу. Пес опять заскулил, но уже обиженно и громко, постоял, перебирая лапами, у огня, однако потом покорно двинулся следом.
Все было почти как всегда и очень похоже на то, что они идут на охоту, хотя охотой это определенно не было. По крайней мере, к такой охоте под вечер и в глубоком, как воздух, снегу пес готов не был. Пока он бежал за ним, подминая грудиной мягкий упругий снег и попадая в путь, проложенный высоким и прямым, как скала, человеком, пес убеждал себя в том, что это он, его хозяин, и есть. А может, они просто идут туда, где тот стоит в снегу и ждет их, чтобы вернуться обратно. Конечно, пес не был в том уверен, но твердо решил про себя, что будет не отставать, потому что если тот, за кем он бежит, идет к его хозяину с тем, чтобы того убить, пес должен успеть перегрызть ему глотку прежде, чем он вскинет вот это ружье в два ствола.
Однако постепенно, чем дальше они отходили от дома, тем больше пес успокаивался, потому что с каждым шагом человек незаметно, едва уловимо, но совершенно явственно для собачьих ноздрей превращался в себя самого. Сквозь ровно и чисто падавший снег пес различал, как от движущейся спины перед ним начинал исходить знакомый запах хозяина — тот особенный, неповторимый запах боли, который в ком-то другом повстречался псу лишь однажды — не полностью, не до конца, а слабой ниточкой воспоминания. Он был похож на запах выступавших слез на глазах у подстреленной человеком и придушенной затем его, пса, клыками косули в лесу. Только в случае с хозяином это никогда слезы не были, а потому пес присмирел и застыдился, когда человек встал, обернулся, и он увидел, что глаза у него сделались близорукими, как у раненого зверя.
Торопливо, каким-то недолжным, рваным жестом человек скинул с плеча ружье, отвязал непослушными пальцами тесемку на шее, уронил бурку в снег и поднял ружье на уровень взгляда, в котором прочитать что-либо, кроме обреченной решимости, было нельзя. Пес растерянно огляделся по сторонам, не в силах понять, в кого будет метить хозяин, а потом, ошпаренный догадкой, отпрянул вдруг в сторону, увязнув по уши в сугробе и тут же оглохнув всем тем, что было вне его сердца и мозга, который вмиг стал теперь как бы слишком велик для собачьей головы и застучал в его висках горячей взбесившейся кровью. Пес вскинул передние лапы, с трудом выбрался из сугроба и, отряхнувшись по глупой привычке, поднял глаза на хозяина. Изо всех сил он пытался ему помочь и, в последний раз доказывая преданность, призывно зарычал, торопя с выстрелом. Услышав свой голос, он вновь разбудил окостеневший было хвост и только тут опять почувствовал себя настоящей собакой, а в груди у него тонко взвизгнула радость. По его глазам он видел, что поступить иначе хозяин не может. Теперь между ними витали только снежинки да расползался повсюду вокруг почти невыносимый уже для его собачьего нюха запах — боли.
Первым выстрелом пса отшвырнуло на пару шагов вверх по вытоптанной ими же тропе, но жизнь его не отпустила. Она лишь удивилась своему полету и тому, как он быстро закончился; ей так сильно хотелось его продолжить, что она лихорадочно забилась в уже тяжелеющем теле, хватая и тряся его за вытянувшиеся струной лапы, но не сумела уговорить его даже подняться, а потому заскулила и сникла, взглянув напоследок на оживший темнеющий снег, протекла в него теплой струей. Потом' что-то взорвало ее изнутри и размозжило собачий череп. И сразу все сделалось красочно и легко. Особенно красив был снег. Оказывается, вот это и есть красное…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Издали оно казалось живым. Река долго несла его на своей терпеливой спине, разминая, словно тесто, ладонями каменистых порогов, пока не вкатила на поворот, где несколько секунд оно цеплялось — не столько за острый валун, сколько за подобающую ему самому неподвижность, — но потом мягко свалилось в пучину, целиком растворившись на миг в белой пене, чтобы вынырнуть затем в десятке шагов вниз по течению. Скользя по обманчивой глади, оно обретало легкость и резвость волны, а заодно — позабытое здесь проворство мгновения: он[) дробило сонную прозрачность воды, застывшей в монотонной неизменности времени, на череду ленивых усилий, благодаря которым река смогла донести его сюда, до подножия Зеркальной вершины, к вечеру ясного теплого дня, того весеннего, широкого, яркого дня, когда в воздухе еще отчетливо пахнет зимой, но уже ощутимы запахи лета.
На подступах к водопаду русло выравнивалось в плоскую ленту искристого света. Попытавшись увязнуть в ней, тело дрогнуло, плавно перевернулось на живот, неспешно поворотило к речной обочине, уткнулось головой в прибрежный кустарник да там и замерло. И почти тут же в гору вошел закат, повиснув солнцем в рогатом проеме вершины. Покуда он длился, покрасневшее от натуги светило медленно втискивалось, сползая по скалам, в блаженство водной прохлады, предусмотрительно ощупывая ее чувствительными пальцами лучей. Все это время тело чуть колыхалось в зыби уставшей волны, отринутой громадой течения, и, казалось, всматривалось пристально в близкое дно, даже не пытаясь раздвинуть колючую поросль раскинутыми в сторону руками. Сверху, с расстояния в двести шагов, угадывалось, что лица у тела нет.
В быстро прибывающей полутьме человек спустился к реке, скинул с плеч бурку, преодолел, прыгая с камня на камень, оставшиеся препятствия на пути к незаметной доселе запруде, подобрался к кустам, склонился над ними, вгляделся в бледные очертания дрейфующих рук, снял шапку, отер ею вспотевший лоб, зачем-то встал во весь рост, отряхнул шапку о колено, помял, потом в досаде отшвырнул ее на берег. Сйова припал к земле и осторожно потянул тело за руку. Оно охотно послушалось, придвинувшись к нему правым боком, и он отметил про себя, что тело похоже на крест: ступни словно приросли одна к другой и почти не расходились при перемене телом своего положения. Несколько минут он собирался с духом, чтобы проверить то, что уже и так не вызывало сомнений, — наверно, из-за затылка, по которому (человек это понял тогда еще, когда лежал в двухстах шагах вверх отсюда на травянистом склоне и ждал закат), оказывается, возможно — непонятно как, но — определить, если что-то не так с лицом. С этим лицом было очень не так, потому что лица не было вовсе.
Вместе с ним труп лишился и возраста, не говоря уже об имени или других столь же неважных теперь вещах, как, к примеру, история его жизни или история гибели: их смыла вода, будто какую-то грязь, где-то очень не близко от этой запруды. Река смыла их, отстирав в своем размеренном равнодушии и уподобив лицо извечной своей, неизбежной волне — мириадам волн, настолько неотличимых одна от другой, что первым делом взгляд принимал их за единое существо без конца и без края. Вода внушала мысль о том, что вечность — это и есть отсутствие времени. А может, это ослепшее время, которое просто устало смотреть. Длительный сон движения, где нет никаких снов. В любом случае, река была ожиданием — смутным ожиданием давно позабытой цели, а то и ожиданием нового ожидания, а может, ожиданием ничего, кроме разве что самого ожидания, чья суть была — река.
Лицо, которого не было, походило на сильно распухший кулак. Кое-как справившись с отвращением, человек заставил себя развернуть труп, подтащить его к берегу, подальше от кустов, затем уцепился ему за шкирку и, оскальзываясь, выволок тело на камни. Проделав это, он решил передохнуть, брезгливо отступив на расстояние собственной тени, такой длинной сейчас при угасающем свете солнца — оно успело уже нырнуть по самую макушку в поддон темнеющей реки, — и призадумался. На его удачу, труп не смердел: смердит, как известно, время, а оно из него давным-давно и без остатка вышло. Человек подумал, что в своей жизни не видал ничего более пустого и напрочь лишенного содержания. Даже смерть тому не помогла. Разбухнув в трупе, она лишь заполнила изнутри его одежду противными вялыми пузырями, но теперь смерти в нем оказалось будто бы слишком много, словно сала в свинье, отчего никакого ужаса или сострадания тело не вызывало. Это была не та смерть, что отбирает жизнь у тебя на глазах, а смерть особого рода: что жизни уже и не помнит.
Человек думал до самого темна, но, видать, ничего не надумал, потому что встал лишь за тем, чтобы поднять с берега бурку, а потом, чуть пройдя по тропинке наверх, отыскать траву помягче и расположиться в ней на ночлег. Трупа он не покинул.
С рассветом он встал, умылся ледяной водой из реки и, несмотря на влагу, пропитавшую за ночь одежду, почувствовал себя почти счастливым. Спустившись к трупу, нащупал на его черкеске отверстия для газырей, вложил в них несколько собственных, отобрав поярче и покрасивей, не забыл перед тем пересыпать из них порох в кожаный карман своего пояска, постоял, почесывая затылок, вздохнул с сожалением и, перестав наконец колебаться, оторвал от своего башлыка тонкий неровный лоскут. Смочил его в воде, бросил под ноги и растоптал. Потом он прополоскал его в реке и, стараясь не смотреть в то, что скорее напоминало ладонь, нежели чье-то лицо, просунул лоскут у трупа под головой и повязал его слабым узлом. После чего закатал себе рукава и потащил тело к запруде. Уткнув его вниз головой в прибрежные кусты, придал трупу его первоначальное положение, разулся, приглядел камень побольше и, ступив в холодную воду, установил его за мертвецом по направлению течения реки, чтобы того не снесло шальной волной, даже если вдруг грянет ливень. Закончив труды, он стал карабкаться вверх по скале, туда, где лежал вчера, сторожа закат. Утро как раз набирало силу, и он с радостью подумал, что наступает новый день. Самый новый день в его жизни. В последний раз взглянув на Зеркальную вершину, он тихо затянул тонкую и невесомую мелодию, потом решительно тряхнул головой и зашагал туда, куда глаза глядят. Они смотрели на запад, в ту сторону, где обычно таял закат…
II
Подарив трупу свое имя и возраст, человек стал свободным. Это чувство было сладостным и пьянящим. Его не с чем было сравнить. Следуя день за днем по горным тропам и обходя стороной людские поселения, обнажаясь при звуке наступающего дождя, впивая горячей кожей его первозданную свежесть, утоляя жажду в сотнях родниковых приютов, он пробовал объяснить себе то, что с ним сейчас происходило. Он вдруг понял, что идет не по тропе и дороге, а как бы по целому миру, потому что с такой свободой, как у него, просто в тропу или дорогу было не уместиться. Еще он знал, что никакая тропа ее не насытит и что отныне ему придется немало поскитаться, прежде чем он найдет прибежище для того простора в груди, который переполнял ее с того самого утра, когда он отдал безликому мертвецу все то, в чем сам не особо нуждался, в обмен на то, о чем никогда всерьез не мечтал: на новую жизнь, в которой волен был выбирать не только любую дорогу, но и любую сказку о том, как на эту дорогу вышел. Приняв крещение от распятой рекою смерти, он ощутил себя вне пределов судьбы, потому что у его свободы никаких пределов не было. По крайней мере, он о них ничего не знал.
Наслаждаясь ею и окружавшим его заповедным молчанием, он понимал, что к свободе, как к большой и голосистой чужбине, нужно привыкнуть и приспособиться. Птице тоже надобно время, чтобы выучиться управлять крылами. Он привыкал, погружаясь все дальше в девственную глубь лесов и бесцельно бродя по горам. Слушая звезды и ветер, он многое открывал в себе самом. Ему нравилось охотиться, отстреливая по кустарникам дичь и ловя на острогу форель. Он питался земляничными ягодами, вкуснее которых была лишь звенящая всюду весна, и срывал со стволов кору, пахнувшую спокойной душистой памятью, так не похожей на ту, которой мучились люди.
С каждым днем весна становилась все больше, сильней, и радости от этого у него на душе прибывало ровно столько, сколько ей оставалось не в тягость. За эти дни он немало постиг. То, к примеру, что можно жить, не беспокоясь о хлебе насущном: когда идешь не по тропе, а по миру, с чувством голода приходит и способ его утолить. Горы, лес и вода оказались к нему непривычно щедры, одаривая мясом, тенью, костром, рыбой, ягодами, водой и хвоей как раз в те часы, когда он в том особо нуждался.
Однажды он подглядел, как спариваются олень и лань, и было это трогательно и просто. Потом лань ускакала в чащобу, а олень еще долго бродил вокруг пятачка, где они любились, и жадно вдыхал ноздрями пахнущий ее лоном воздух.
В другой раз человек наткнулся на небольшое кабанье стадо. Вспугнутое невидимыми охотниками, оно пронеслось в каком-нибудь шаге от него, а он недвижно стоял, удивляясь себе и тому, что в нем не было страха. Не было вообще. Словно он растерял его до последней крупицы где-то по пути сюда. В тот день он снова увидел людей.
Взобравшись на бук и укрывшись в кроне, он переждал, пока тройка охотников покажется вдали, минует этот участок леса и скроется в тенистых зарослях приближающегося вечера. Странно, но даже сидя на высоком дереве, он мог слышать, как очень далеко шуршат, толкая землю, их шаги. Наверно, что-то произошло с его слухом тоже. Он стал острее, чем прежде.
Человек почти не колебался, принимая решение. У него заканчивался порох, а следовательно, нужно было его раздобыть. Он крался за ними до ночи, пока разочарованные незадавшейся охотой люди не разбили у лесной речушки ночлег. Потом он выждал, покуда их сморит сон, и неслышно пробрался к их сумкам. Забрав пожитки (одну сумку ему пришлось вытаскивать прямо из-под головы, но страха так и не было, как, впрочем, не было и стыда), он отошел на полсотни шагов, послушный направлению ветра, и, подставляя извлекаемое содержимое под мерцание плотного месяца, тщательно отобрал то, что было нужно ему позарез (порох, соль, большущий нож, бечевку, два огнива), а то, без чего вполне можно обойтись, побросал обратно. Потом подвесил сумки на ветви ближнего дерева и двинулся своей дорогой дальше.
Вскоре смоль в его щетине загустела стальной бородой, а глаза научились бродить в темноте. В сущности, настоящей темноты ни в лесу, ни в ночи не было, никогда ее столько не набиралось, если не считать той пещеры, что обнаружил он на северном склоне горы, у которой едва было не напоролся на всадников, чьи силуэты возникли перед ним внезапно, будто оброненные на скалу сгоревшим закатом три черные головни. В тот пасмурный день, сплошь заклеенный тучами, к разговору с людьми он готов по-прежнему не был, а потому, заприметив провал пещеры, вкатился в нее, распластался у входа и вскинул ружье. Инородцы гортанно смеялись, неспешно спускаясь с горы к низовью реки — там тянулась дорога, — покуда он молился богам за то, что ему не пришлось в них стрелять. Мысль, что он мог на это пойти, не подивила и не расстроила. Похоже, она даже к нему не пришла. Вместо нее его посетила другая: о том, что им всем повезло, и вот она-то, пожалуй, была важнее, правдивей любой другой. В той пещере было действительно очень темно.
Бывало, по ночам к нему на свидание являлись кошмары. Проснувшись, он стряхивал их рукой со взмокшего лба, смотрел в глубокое днище неба, поворачивался на другой бок и засыпал опять, но уже по-настоящему: как спит лесной зверь, когда ему снится охота. В конце концов, ему почти это удалось — отделаться напрочь от памяти. Ведь она ему, по сути, уже и не принадлежала, а значит, сам он тоже не мог ей принадлежать.
Порой он начинал пробовать на вкус людские слова, будто предчувствуя, что они ему еще пригодятся. Какие-то из них были лишними, потому что ничего толком не означали. Их было много. Больше, чем остальных.
Особенно он полюбил грозу. Вопреки правилам и запретам, он садился под ствол самого высокого из деревьев и завороженно смотрел ей в глаза. Иногда ему казалось, что она сильнее всех в целом мире. И даже сильнее небес. Низвергающаяся с них вода была теплой, как слезы, и шумной, как плач. Он любил грозу и совершенно точно знал, что она его не убьет.
Но грозы скоро кончились и уступили место обычным дождям. Те тоже были по-своему хороши. Но, конечно, не могли сравниться с рекой. Той самой, что помогла ему найти труп и свободу. Рядом с ней хорошо было жечь костер и слушать негромкую вечность.
Охотник он оказался удачливый, чего в прежней жизни за ним не водилось. Твердой рукой он быстро скидывал с плеча ружье, прицеливался и мягко нажимал на курок, испытывая неподдельное удовольствие от каждого добротного выстрела. Главным на охоте была уверенность. То неприметное, но незаменимое чувство истинности движений, что свойственно, например, доброму хозяину, встречающему в своем доме друзей. Уверенность и спокойствие — вот что необходимо. Только не поспешность и злость. Не говоря уж о страхе. Слава богам, он его позабыл.
Все шло как нельзя лучше. Лето было уже в полном разгаре и даже потихоньку выдыхалось на залысинах скал в послеполуденный сероватый зной, когда он успел исходить вдоль и поперек два ущелья и выбрался к склону, откуда открывался вид на низину, на которой сплетались в узел несколько дорог. Соединившись в одну, они устремлялись к большому кривому пятну, закрытому дымкой тумана. То была крепость. Ничем иным это быть не могло.
Следя за тем, как снуют туда-сюда бесчисленные повозки, арбы, брички, всадники, экипажи, как медленно семенят муравьями темные точки путников, он хмурился, ощущая, как к нему возвращается шаткое чувство тревоги. В конце концов, он повернул назад и снова углубился в лес. Несколько дней он честно сопротивлялся, однако картина крепости перед его глазами не исчезала. Чтобы избавиться от навязчивого видения, он вспоминал, как много недель назад, еще по весне, далеко от этой развилки наблюдал из засады за приближающимся обозом в несколько телег. Прямо над обрывом, в том месте, где проселочная дорога переходила в навесной мост, у одной из телег отвалилось колесо. Возница успел перелечь на противоположный борт и выправить крен, но один мешок все же сорвался в пересохшее русло реки. Колесо застряло в зарослях можжевельника на расстоянии полутора десятков аршин. Оно висело над пропастью и покорно ждало людей. Зацепив его железным крюком, подвязанным к веревке, они выпростали его наверх и сообща приладили к телеге. Возница хотел было уговорить спутников подсобить ему еще раз, спустив его самого на дно русла, однако у торопившихся дальше товарищей поддержки он не нашел. Развернуться в том месте не было никакой возможности, так что он вынужден был уступить, и телега двинулась дальше.
Когда обоз скрылся вдали, человек вышел из укрытия, спустился к мосту и заглянул с него в пропасть. Над рассыпанным зерном уже кружили птицы, и с каждой секундой их становилось все больше. Странное то было зрелище: сотни черных и серых птиц, переставших летать и только жадно клюющих жито. Через пару минут их было не меньше тысячи. Зерна было вдоволь, но подобраться к нему могла уже не всякая птица, а потому очень скоро между ними завязалась война. Пока те, кто в ней участвовал, бился за право оказаться у самой кормушки, остальные в лихорадочной, но расчетливой спешке уничтожали зерно. Удивительное началось тогда, когда птицы насытились. Перестав клевать, они тяжело оторвались от земли и подпустили к корму вмиг угомонившихся драчунов. Сами при этом расселись кто где по кустам, ветвям и склону, лениво поглядывая время от времени на сменивших их у птичьего рая собратьев. Спустя какое-то время в воздухе что-то неуловимым образом изменилось. В нем словно вскрыли ножом потайную дыру, из которой душно повеяло холодом. Постепенно, одна за другой, сытые птицы стали срываться с мест и кидаться на тех, кто продолжал клевать зерно внизу. Лишь несколько секунд: камнем вниз, и тут же обратно. Скоро ущелье наполнилось гаем. У кого-то из нападавших в клюве застряли перья. Птицы бросались в атаку снова и снова, будто их чрезмерная сытость была опаснее и злее неутоленного голода. Потом ими окончательно овладело странное бешенство, и они принялись остервенело биться друг с другом. Противное то было зрелище.
Если человек и вспоминал о нем, то лишь для того, чтобы убедить себя не ходить в крепость…
III
Через три дня он в нее вошел. Поутру упрятал в кроне лиственницы ружье, подвесив его к ветвям в полуверсте от дороги, умылся в лесном ручье, почистил черкеску и бурку, сунул за пазуху огниво и украденный нож, вскинул руки в короткой молитве и двинулся к крепости.
Впервые за долгое время ему приходилось подставлять себя под людские взоры. С ним нынешним это произошло и вовсе в первый раз.
В пределах крепостной стены мир был теснее, чем в пещере. Петляя по кривым улочкам в поисках собственного смысла, неспокойный дух его сплошь и рядом натыкался на пустоты и тупики. Человеку здесь не понравилось.
Для начала он обошел городок наобум, пытаясь нащупать своим обостренным чутьем след той причины, что его сюда привела. С некоторых пор он смирился с тем, что сам для себя является тайной. Будь по-другому, он посчитал бы это за странность: он был знаком с собой лишь с весны, — и срок-то не срок!
Он слонялся без дела чуть ли не день напролет, дивясь обилию стекла на главной улице и похожести встречаемых лиц. На одних застыло выражение обиды, как если бы кто-то посмел попросить у них в долг и даже не извинился. Другие не видели тебя в упор, словно глядели насквозь, в ту точку, где, подобно грозно урчащим псам во дворах, их неприступную серьезность сторожила сметливая злость. Третьи лица умели лгать, не произнося ни слова, и лишь старались угадать, какую выгоду и когда они из этого извлекут. Иногда попадались лица теплые и хорошие, но их было немного.
Он видел лавки и лотки, аллеи и цветы, такие яркие и замечательные, что казались подделкой, если б не исходящий от них аромат. Видел красивых толстых женщин в странных нарядах, не стеснявшихся выставлять напоказ свою белую кожу и садящихся в лоснящиеся атласом двуколки, чтобы умчаться на них подальше от скуки в своих глазах. Видел веселых зазывал перед бродячим цирком, о котором, признаться, не подозревал, что это цирк, и еще меньше понимал бы, что это слово значит. Он видел славных, неправдоподобно чистых детей, словно рожденных для радости, и еще нескольких, не похожих на самих себя и казавшихся взрослее иной везучей старости. Видел военных с золотом в погонах и начищенным до блеска дорогим оружием, а еще — печальных шарманщиков, пропахших дурным вином и каким-то заскорузлым отчаянием, равнодушных ко всему, кроме своей судьбы (ее они, похоже, ненавидели). Рядом с ними даже нищие казались счастливее. Он видел церковь и церквушки, но они его почти не трогали. Кто-кто, а он знал, что для Бога дом не построишь.
К вечеру человек вдруг понял, что страшно проголодался. Город был полон запахов и еды, но ничего не умел подарить безвозмездно, как горы. А потому приходилось соображать, что бы ему такое предложить взамен. Как назло, ничего путного в голову не приходило, кроме, разве, того, что надобно соблюдать осторожность: сытость опаснее голода.
Несколько раз он ловил на себе подозрительные взгляды прохожих, скользящие у него за спиной. Наверно, не могли понять, что им в нем не по нраву. Что-то чувствуют, но никак в толк не возьмут…
Спускались сумерки. На длинной широкой улице, вымощенной квадратами камней, у трактира томились мужчины с пьяными недобрыми глазами. Один из них уставился на него, озадаченно икнул и, прервав взмахом руки громкий спор остальных, указал на человека пальцем, сплюнул и отчетливо выругался.
Теперь все разрешалось как бы само собой. Надо было только дождаться, когда они распрощаются. Отследив обидчика, человек нагнал его у ворот двухэтажного дома с чистыми окнами, схватил за грудки и, прижав к стене, показал свой кинжал. Пьяница задрожал и заплакал. Потом принялся несвязно объяснять про то, что на прошлой неделе схоронил свою душу. Человек молчал и давил ему лезвием под кадык. Потом, поддавшись на уговоры, вошел с ним в дом и попросил еды. Слуг в доме не было, однако стены его не пустовали, — это чувствовалось по дыханию темноты, что пряталась в соседней комнате.
Хозяин принес хлеба, поставил рядом блюдце с маслом и придвинул к нему полную тарелку чесночного холодца. Человек ел, пил тепловатую воду из графина и смотрел ему в глаза, а спина его внимательно слушала. Круглая тень от лампы с абажуром подсказала ему нужный миг, он обернулся и выбил ударом револьвер из чьих-то тонких пальцев. Почти наугад выставив кулак, сразил наповал кинувшегося на него с тыла хозяина и тут же снова оглянулся на женщину. Та стояла, описывая перед собой слепые круги беспомощными руками, и пыталась что-то сказать. Потом завыла в голос и рухнула на подставленный гостем стул.
— Зачем ты это сделал? Кто тебе позволял? Зачем ты спас его? — кричала она, и он не сразу понял, к кому она обращается. Хозяин по-прежнему лежал без движения и только хрипло дышал.
Человек взял графин, плеснул ему в лицо воды, потом приложился к горлышку сам и, осушив графин, вышел, не попрощавшись, на безлюдную темную улицу. Быть может, ему следовало забрать револьвер с собой, но возвращаться туда он не стал. Теперь город был ему почти что противен. Он словно дышал пороками.
Впрочем, что-то в крепости его завораживало. Возможно, бродившее повсюду здесь непредсказуемое движение. Или припрятанное на самом донышке его страдание, укрытое сверху безразличием и сделавшееся ощутимей к ночи.
Где-то ниже по мостовой вздрагивал смех. Человек направился туда. День подходил к концу, а он так и не разобрался еще, зачем ему понадобилось сюда являться.
Смех раздавался из шатра, перед которым горланили намедни зазывалы. Сквозь темную ткань пробивалась желтизна тусклого света. Приблизившись к входу, человек увидел спину охранника в дверях, поглощенного тем, что происходит внутри. Обойдя шатер сзади, человек встал в тени купола, укрывшись от фонаря с аллеи, достал из-за пазухи нож и вспорол полотно шатра, проделав в нем отверстие размером не больше ладони. Потом убрал нож, просунул в отверстие руку, заглянул в него и замер.
Он стоял так довольно долго, позабыв о времени и себе. Он не ведал, что такое возможно. Тот, кто заметил бы его в эти минуты подглядывающим в проделанную дыру за цирковым представлением, вряд ли бы верно истолковал истинную причину такого его поведения. Увиденным человек был действительно поражен. Но поразил его совсем не цирк.
Когда все закончилось, он отпрянул от шатра — так резко, словно ему плеснули кипятком в глаза, и быстро зашагал прочь к окраине города. Выйдя за пределы крепости, он хотел было еще затемно отправиться обратно в горы, но передумал. Он был не на шутку встревожен. Оказавшись на каком-то заброшенном пустыре, разложил слабый костер, улегся рядом с играющими углями и вдруг широко улыбнулся. Полежав так с полчаса, он перебрался в пушистый нежный сон, такой естественный и уютный под усыпанным до краев звездной пылью небом.
Наутро он вернулся в крепость. Цирк уже успел собрать шатер и теперь грузился на закрытые холстиной повозки. Подойдя к самой опрятной из них, человек потребовал главного. К нему вышел мужчина лет сорока, нервного вида, с очень длинным лицом и тощими плечами, на одном из которых застряла подсолнечная шелуха. Вопреки ожиданиям, мужчина ему понравился. Человек сразу приступил к делу:
— Мне все известно, — сказал он. — Я знаю, в чем там обман. Их не одна, а две. Достаточно проделать ямку в полу под тем большим ящиком. Верно?
Мужчина поморщился и отвернулся. Видно было, что его трюк раскусили не в первый раз.
— В синей повозке спросишь Андрона. Скажешь, что от меня. Выбери себе вещь по вкусу из тряпья у него в сундуке…
Но человек не дал ему уйти. Тихонько тронув его за рукав, он сказал:
— Не торопись. Я не за тем.
Отведя его чуть в сторонку, подальше от чужих ушей, он стал негромко что-то объяснять. Аицо у мужчины вытянулось еще сильнее и сделалось серым, как надгробный столб. Без сомнения, рассказ на него произвел впечатление.
— Которая из них? — вдруг вскрикнул он, не сдержав порыва чувств, и человек ответил:
— Та, другая…
— Хорошо, — сказал тот и быстро-быстро заморгал. — Хорошо. Ладно. Сейчас…
Но никуда при этом не двинулся, словно мысленно уже успел слетать туда и обратно, да так и не оправился от изумления.
— Я буду ждать у самых ворот, — произнес человек и, развернувшись на пятках, зашагал к крепостной стене.
Когда к полудню обоз бродячего цирка миновал городские ворота, он пристроился за последней повозкой и шел за ней до тех пор, пока та не достигла развилки. Почти не сбавляя хода, повозка открыла свой холщовый полог. Из-под него навстречу человеку спрыгнула девушка. Он подождал, пока она приблизится, потом указал подбородком на запад и пояснил:
— Нам туда.
Она смотрела за тем, как он сворачивает с обочины и уходит вверх по пыльному склону в сторону гор. Девушка колебалась, идти за ним или броситься за обозом вдогонку. Потом пожала плечами и пошла за человеком вслед. Никаких пожитков у нее с собой не было.
Незадолго до сумерек они добрались до буковой рощи, пред входом в которую человек развел костер и приказал его дожидаться, сам же отправился раздобыть чего-нибудь на ужин. Девушка оказалась не из робких. Мужчины не было с час, и за это время она набрала хвороста, нарвала тонких веток и ловко обустроила для них постель, обложив листьями землю в пяти шагах от костра. Вернувшись с парой фазанов в руках, он застал ее сидящей у огня плотно обхватив колени и напевающей что-то на неродном ему языке.
— Вот, принес. Почисти и осмоли, а я покамест изготовлю вертел, — распорядился он.
Девушка радостно взялась за работу. Человек все больше ей нравился. Ощипывая дичь, она думала о том, что охотник он, пожалуй, бывалый и опытный, а это уже немало. Да и он, человек, был доволен: чутье его не подвело.
Когда они отужинали и напились воды из его бурдюка, она спросила:
— Ну и где же твой дом? Он пожал плечами и ответил:
— Еще не решил. Если хочешь, решим потом вместе.
Она окоченела взглядом, нехорошо изменилась в лице и, на минуту связав его душу молчанием, сказала:
— Ты меня обманул.
— Нет, — сказал человек. — Не тебя. Его. Тебя я еще не обманывал.
Она замотала головой и упрямо повторила:
— Ты обманул.
На сей раз он не стал возражать, а только пожал плечами и ответил:
— Больше такого не будет.
Пламя от костра полоснуло его по лицу своим светом и тут же поникло, взявшись лизать на земле красные угли. Я ему верю, подумала девушка.
— Я не верю тебе, — произнесла она вслух.
Человек засмеялся. Смех его ее, как ни странно, не оскорбил. Чтобы рассердиться, она запустила руку в золу и, набрав полную горсть, швырнула ему в лицо.
Все случилось само собой: сцепившиеся руки, притворная драка, борьба, жар от костра, прорвавшийся стон, ухнувшая сова, хвойный запах ночи, запах бурки, запах леса и паленых перьев, тело, пахнущее землей, и сразу вдруг (как выстрел, гром, как перекушенная пополам нить жизни) — захватывающий дух надрыв неожиданной страсти…
Когда все было кончено и он лежал, запыхавшись, у нее на плече, настал ее черед смеяться. Выпростав из-под него свою руку и прикрыв ею грудь, она хохотала, глядя полными слез глазами в глупую ночь. Она ни о чем не жалела. Любиться с этим мужчиной было все равно что мчаться по отрогам горной реки, благополучно минуя крутизну поворотов.
— Знаешь, ты кто? Бесстыжий оборванный зверь, вот кто, — сказала она, насмеявшись.
— А ты похабная девка, — ответил он и крепко приник к впадинке у нее под ключицей. Она почувствовала, как вновь испускает дух, задрожала, выгнулась, охнула и притянула его к себе. Он коснулся ее лопаток и медленно поискал ладонью по позвоночнику. Девушка лежала, не двигаясь, боясь спугнуть, и слушала его руки. Они лепили из нее восторг. Она даже не стала им помогать, а лишь отдалась их воле и нежности, уплывая в невесомую глубь и ныряя в нее до тех пор, пока та не сотворила с ней чудо.
— Ты не зверь, — промолвила она заплетающимся языком. — Ты бог или дьявол.
— А ты — мой бес.
— Неправда… Я просто порочная девка… — уточнила она и провалилась в сон.
Человек глядел ее сну в лицо и размышлял о том, что красивее существа никогда не встречал и не встретит. Да ему оно и не нужно…
IV
— Как твое имя? — спросила она поутру.
К ее изумлению, он задумался и перестал ошкуривать ветку, выбранную под острогу. Потом повернулся к ней спиной и глухо ответил:
— Алан.
Через секунду, словно опомнившись, быстро обернулся, схватился взглядом с ее глазами и отчетливо повторил:
— Меня зовут Алан.
Она немного смутилась, кивнула и подняла с земли его рубашку.
— К реке я пойду с тобой.
Он не стал возражать. Рядом с нею он чувствовал себя сильнее, чем может быть человек. С нею рядом он в самом деле чувствовал себя и богом, и дьяволом.
Разувшись, он вошел в ледяной поток и двинулся к середине течения, а девушка присела на берегу и принялась полоскать его рубашку. Она не отрывала от него глаз. В этом месте река была узкой, а русло — совсем неопасным, так что девушка могла не волноваться. Лишь сейчас она обратила внимание на то, какие у него высокие плечи — подпирают облака.
Пока он бил рыбу острогой, нанизывая ее затем на подвязанный к шее прут, девушка скинула с себя одежду. Она по-прежнему не сводила с него глаз. Ее улыбка была светлой и настоящей, как сам этот день, как обоюдное их желание или как трепет пойманной рыбы, оставлявший на его ладонях невидимый след. Посмотрев на нее, он ничуть не разозлился, и ей сделалось от того очень весело и хорошо. Она помахала ему рукой, и он довольно усмехнулся. Брызги жгли ее обнаженное тело, было больно, но здорово.
Потом он выбрался к ней на берег, и она, чтобы его подразнить, побежала к лесу. Только он за ней не последовал. Когда она это поняла, ей вдруг сделалось не по себе: вокруг не было ничего, кроме мрачных деревьев и падавших сыростью ей на ноги плотных теней. Она встала, огляделась по сторонам и неуверенно окликнула его по имени. Человек не отзывался. Тогда она закричала во весь голос и почти в тот же миг, ужаленная комочком земли, перешла на визг. Он вышел из-за ствола, большой и надежный, и она кинулась к нему, обняла, замолотила кулаками по спине, увидела свои слезы на его загорелой груди и стала трогать их языком, лихорадочно постигая его тело своими летающими руками. На нем уже тоже не было одежды, и она, роняя веки, почувствовала, как мир врастает в их плоть, полнится мощной грозой и взрывается в ней восторженной яростью. Она подумала: мы словно хищники, вгрызающиеся жизни в глотку.
Любиться с ним было все равно что рвать себе вены и, рыдая от счастья, пить свою кровь…
Лишенная чешуи и нанизанная на прутья, форель едва дымилась и роняла в золу быстрые капельки жира, когда они поворачивали ее над углями и вдыхали в себя смешанный запах костра, реки и хвои, наслаждаясь умным безмолвием и ползущей по спинам прохладой.
— Мне кажется, — сказала девушка, — что я куда-то таю. Растворяюсь в каком-то дивном сне…
Мужчина улыбнулся:
— Тогда не вздумай просыпаться. И не оглядывайся назад. Он привстал с корточек, расковырял носком сапога угли и сунул в образовавшийся горячий кармашек рыбу со своего прута.
— Пускай как следует пропечется.
— Мне кажется, — повторила девушка, — что я знаю тебя давным-давно и все же не знаю вовсе. Кажется, будто ты был всегда за моей спиной и знаешь все обо мне из того, что даже я сама позабыла. Будто ты мое эхо, а я…
Она запнулась, и мужчина не стал ее торопить. Раздув угли, он прилег в траву и наблюдал за девушкой сбоку, думая о том, что слова им совсем ни к чему. Они только в тягость, если чувствуешь радость, как голод, и понимаешь, что его нельзя утолить.
На щеке у девушки заблестела слеза. Маленький высохший лист, оторванный дымом от ветки, скупо свернулся в стеблях травы у нее под рукой. Сквозь верхушки деревьев мужчина увидел, как полное облако подбирается к самому солнцу и, позволив ему напоследок глотнуть из омута неба, накрывает его целиком.
— Мне кажется, будто я уже умерла и жива лишь моя душа, и ее носит ветром по счастью, которого не бывает… Мне слишком легко и свободно с тобой, и мне от этого страшно.
Она обернулась к нему и смотрела отчаянным взглядом в его спокойные, внимательные глаза. Прут в ее руках задрожал и поник, уронив добычу в костер. Мужчина поднялся, провел пальцами по ее плечам, коснулся ими ее лица, потом нагнулся и вытащил прут из золы. Уложив рыбу на листья папоротника, сходил к реке за свежей водой и поднес бурдюк к ее пересохшим губам. Пока длился обед, никто из них не обмолвился словом. Потом он сказал:
— Завтра мы двинемся дальше. А пока приготовим ночлег.
— Я ничего о тебе не знаю, — крикнула девушка вслед удалявшемуся мужчине. Когда он скрылся в чаще, в ответ она услыхала:
— Я тоже…
По его голосу она поняла, что он не врет, и вдруг впервые и очень остро ощутила, что он в ней нуждается. Рыжий лесной муравей деловито скользил по ее предплечью, щекоча загорелую кожу, перебежал на тонкую расслабленную кисть, обогнул указательный палец и стремительно помчался по тыльной стороне руки обратно к локтевому изгибу, так и не поняв, что двинулся вспять. «Не оглядывайся назад», — вспомнила она слова мужчины и улыбнулась. Потом кивнула, сбила щелчком незадачливого бегуна, сладко потянулась, внезапно чуть всхлипнула, встала, отряхнула колени и, шмыгнув носом, прикрыла глаза и на миг погрузилась в истому. Перед нею плыл плещущий светом и громкой, всамделишной жизнью воздух, родом, казалось, из радости. Она вскочила на ноги и, подпрыгнув на месте, понеслась босиком по опушке туда, где звенела уютной тревогой пятнистая тень.
— Подожди, я с тобой! — закричала она, ворвавшись в упругое эхо лесной тишины. — Я с тобой!! Не дури, покажись!..
Он поймал ее за руки, сильно сжал их, привлек их к себе, уложил на груди и позволил наслушаться сердца. Тихо снял поцелуем жар с ее глаз, остудил языком ее веки, уколол щетиной подбородок и прильнул к отзывчивой жилке на откинутой шее.
— Так и есть, — прошептала она. — Я уже умерла… Или только рождаюсь.
— Так-то лучше, — бормотал он ей в самое ухо. — Так правильней…
V
День за днем, день за днем, ночь за ночью, постигая пространство свободы, они близились к пасмурной осени, забывая себя все прочнее, все туманней в ее наступленьи на лес, на ущелье, на солнце, умерявшее в быстро растущие тени свое прежнее, яркое, теплое, совершенное и обильное бескорыстие. Разбивая шалаш у ручья, под скалой ли, в расторопном соседстве реки, они не спешили понять, что лето уходит, и старались не замечать ни морщин на мякоти ягод, ни заиканья перепелов в мохнатых кустах, ни плоских разводов тускнеющих луж у ручья, ни сменившего голос дождя, — он возмужал и стал глубже, взрослее — унылый протяжный стон, наполнявший ущелье терпеньем и скорой тоскою, которых они тоже пытались не замечать.
Мужчина охотился, ловил рыбу и избирал маршрут, девушка стряпала и обживала теплом шалаши. Иногда над рекой или лесом они видели дым, напряженно прислушивались, желая распознать его источник, переглядывались и с удовольствием наблюдали за тем, как в глазах у другого опаска и серьезность уступают место лукавству. Свернув в котомку пожитки, они покидали укрытие и, покорные лишь веселью в душе и чутью, начинали выслеживать необычную свою добычу. Подкравшись к людям и хмелея от риска, они ждали, когда наступит нужный миг и можно будет совершить почти сладострастное в своем безумии преступление. Мужчина брал на мушку цель, ослепшую в неведении или сне, а девушка бесшумно, по-звериному ловко подбиралась к сумам и сброшенным седельным лукам, освещаемая то шуршащим в ночи переливом костра, то ярким полуденным солнцем, то святой близорукостью сумерек. Обливаясь потом, он впивался пальцем в курок, моля тишину и застывших коней не предать их в эту минуту, и уповал на благословенное небесами везение, изменившее им лишь однажды. В тот день, когда ветви и хвоя на их шалаше впервые покрылись инеем, растопившимся только к полудню.
Ее сильно знобило, но, отогревшись в его бурке и напившись приготовленного им отвара из трав, она заверила мужчину, что все миновало. Жар в самом деле прошел, но Алан по-прежнему хмурился, обдумывая решение, пока его не подсказал случай.
Ближе к вечеру вокруг вдруг сделалось тихо, как бывало обычно, когда готовилась заговорить земля. Припав к ней ухом, он услышал погоню, и очень скоро охота отметилась в лесу глухими выстрелами. Он вопросительно взглянул на девушку, и она, подтверждая, кивнула:
— Порох и соль уже на исходе. И потом, мне хочется хлеба. Мне так его хочется…
Она была бледна, но очень спокойна.
— Не волнуйся, я справлюсь, — заверила девушка. — Не подведу.
В теплых и ясных глазах ее было столько нежности, что у него защемило в груди. Он ощутил вдруг, что ему ее не удержать. Настанет день, и она покинет его. Было в ней нынче что-то такое, что изобличало в ней женщину больше, чем раньше. Раньше в смехе ее или грусти еще угадывался подросток. Теперь в ней появилась печаль — залог будущих тайн. Только ей самой о том еще было неведомо.
Охотников было пять. Прежде чем разделать тушу подбитого кабана, они пустили ему кровь, вырыли свежую щель в земле, обложили ее стеблями тростника и сухой травой, втащили туда кабана и запалили огонь. Очистив шкуру и соскоблив с нее нагар, они принялись свежевать тушу, не забывая протравливать солью ровные квадраты сала и мясную мякоть, чтобы выцедить из нее последнюю кровь. Отделив шесть кусков, они принялись жарить их на широком костре, довольно переговариваясь и даже ни разу не оглядевшись толком по сторонам. Мужчина, казалось, не сводил с них взгляда, но девушка чувствовала, что краем глаза он следит за ней, не доверяя до конца ее ровному дыханию и показной уверенности в себе. Положив ладонь ему на руку, она прошептала:
— Потом им захочется спать. Без отдыха не уйдут, ты же знаешь.
Он пожал плечами и ответил:
— Лишь бы дождь не пошел.
«Лишь бы ты уцелела, — подумал он про себя. — Скорее бы дождь…»
Сняв с огня шампуры, охотники наполнили рог и, вознеся хвалу богам, принесли им в жертву лучший из кусков, лишь затем приступили к трапезе. Укутав девушку в бурку и обхватив ее сзади за плечи, мужчина наблюдал за ними и думал о том, что, если понадобится, готов ради нее стрелять в них, покуда хватит патронов.
— Можно просто пойти попросить.
— Нет. Нельзя, ты же знаешь. Нас нет в этом мире. Для них мы прозрачные тени. Ты сам говорил. Я смогу.
— В другой раз. Не сегодня. — Сегодня… Сейчас.
Она делала все, чтоб продолжилось лето. Где та грань, что отделяет отчаянность от отчаяния, думал он. Мужчина почти физически ощущал, как время, по-прежнему чуждое, но уже неизбежное, слоисто кружило по лесу, готовя им плен. Серый ветер поднес к ним лохматую пригоршню дыма, и у него защипало в глазах. Девушка выскользнула из его объятий и неслышно спустилась по склону туда, где плескался покоем родник. Сумерки скрыли ее под волнами ряби, и мужчина плотнее прижался щекой к прикладу ружья. Охотники негромко переговаривались, полулежа у догорающего костра, и мужчина в который раз мысленно поблагодарил небеса за то, что с ними не оказалось собак. По влажному шороху за спиной он распознал ее приближение, но оглядываться не стал. Она дохнула ему в затылок теплом и тихой негой, и в следующее мгновение он почувствовал, как она коснулась его лица мокрым платком. Протерев ему веки, девушка зашептала:
— Я видела рысь. Большую, как…
Он обернулся и-бросил на нее встревоженный взгляд.
— Верно, поилась у ручья, а потом меня заприметила. Следила за мной, будто примерялась, стоит прыгать ей или нет. Да ведь я тоже дымом пропахла…
Девушка чуть слышно рассмеялась, и по смеху ее с внутренним содроганием он понял, до чего же она напугана.
— У леса свои глаза, — вымолвил он. — Я тебе говорил.
— Теперь я знаю, — сказала она и на миг благодарно прильнула к нему. — Рядом с тобой мне не страшно.
«А мне вот — наоборот, — подумал он. — Рядом с тобой я боюсь тебя потерять».
Лес, такой черно-желтый прежде, заметно поблек. Со всех сторон из него тянуло холодом, и от холода было не скрыться. В полутьме лицо девушки казалось расплывчатым, словно готовилось исчезнуть совсем. Охотники скормили костру новую охапку хвороста и расположились вокруг на ночлег. Луна уже успела промыть глаза и теперь глядела сюда свысока, зная все про них наперед. Мужчина поменял колено, отложил на минуту ружье, размял кисти рук, размял пальцы, подышал на них мшистым воздухом и, вскинув к плечу приклад, изготовился к стрельбе.
— Пора, — сказала девушка и, коснувшись его руки, быстро шмыгнула в полог из тьмы. Потеряв ее из виду, мужчина считал сердцем время, пока, с облегчением выдохнув из себя его горьковатый комок, не разглядел ее в нескольких шагах от костра. Никто из охотников не проснулся, когда она склонилась под потным скелетом бука над немудреным их скарбом. «Ты снова справилась», — легкой радостью пронеслось у него в голове, и он повел ненужным ружьем прочь от костра, в сторону кравшейся ночи, и в этот миг не столько зрачками, сколько ужасом в душе поймал мелькнувшую в полете тень и, прежде чем она успела накрыть девушку смертью, подхватил пятно в прорезь прицела, нажал на курок. Потом выстрелил вновь, но уже — во вспугнутое движение, прибивая охотников к земле и надеясь не задеть никого впотьмах. Упав к нему в объятия, девушка судорожно рыдала, тщетно пытаясь поймать слова. Зажав ей ладонью рот, он потащил ее в чащу, продираясь сквозь низкие ветви и спотыкаясь опасно на спусках. Обмякнув у него на руках, девушка, казалось, лишилась сознания, но взгляд ее в сполохах лунного озарения говорил ему, что это не так, и она смотрит, не отрываясь, в его лицо, застряв глазами в какой-то мысли. Повисшее на ремне ружье колотило его по колену, но перекинуть его за спину у него не доставало ни времени, ни соображения.
Когда вслед им раздались выстрелы, мужчина понял, что они спасены: пули резали лес шагах в трехстах в стороне. Теперь они вряд ли успеют прозреть. Взяв еще круче вбок, он различил впереди долгожданный плеск водопада. Добравшись до него, гадко, до острого спазма в груди, захлебнулся усталостью и, опустив девушку у струистой прохлады, рухнул в каменный желоб с водой, но сделать первый глоток сумел не сразу: прежде надобно было перевести дух.
— Мне больно, — услышал он ее голос. Отыскав ладонями гладкий обод каменной чаши, заставил себя приподняться и усилием воли подползти на карачках к свернувшейся в клубок девушке. Крови на ней не было. Осторожно ощупав ей спину, он убедился, что позвоночник тоже невредим, и тяжело уселся с ней рядом, прислонившись к мокрым ступеням водопада. Закрыл глаза и подумал: «Ей больно от страха. Это не страшно. Страх не бывает страшен по-настоящему, если он не сбывается…» На миг ему сделалось хорошо, словно он заснул и уплыл во сне в мягкий душистый свет, но, дрогнув нутром, он сам же все и испортил. Снова поглядел на девушку и увидел, как она впилась зубами в свой стиснутый кулак. Лишь теперь он понял, что это не страх.
От боли она не могла говорить, а он беспомощно блуждал руками над ее телом, пытаясь распознать причину страданий, исказивших ее лицо настолько, что памяти о нем самом в лице ее уже и не было. Ноздри широко раздувались и, казалось, делали невозможное, чтобы ее спасти, но, суетливо поливая ей лоб и грудь водой, он чувствовал, что надежда в нем, подобно сполоснутым луной бороздкам бесполезных капель на бледной ее коже, иссякает с каждой минутой. Он знал, что плачет, но это не имело никакого значения, потому что ничего в этом мире не имело значения, когда она умирала у него на глазах.
А потом она стихла и умерла, и где-то под сердцем у него порвался холодный пузырь. Время перестало жарко дышать и поползло толстым зверем в ночь, оставив после себя лишь слепое пятнышко света высыхать у девушки на плечах да прелый запах окончательной пустоты. Поднявшись с колен, мужчина поглядел на небо, на полудохлую луну, на бестолковость мелких звезд в ее окружье, забыл о них и попытался думать, но вместо мыслей или слов набрел только на черное молчанье воздуха, лепившего вслед за каждым его движением гулкую стылость звуков. Потоптавшись увальнем в вечности, Алан сморгнул с ресниц ее туман, подошел к водопаду и, как на плаху, опустил под карающий плеск свою голову. Почти оглохнув от студа, отпрянул от воды и, смахнув ее пленку, встретился взглядом с девушкой.
— Все прошло, — сказала она. — Так со мной уж бывало. Знаешь, стиснет железным кольцом — хуже цепи… Боль такая, будто я оступилась и упала глазами в огонь, а потом свет померкнет, и не можешь вздохнуть. А после — внезапно так, когда тебя уже почти и не осталось, — разом простор и легко…
Он помог ей сесть и теперь держал ее обеими руками за локти, словно боясь опять упустить. В лицо ее медленно возвращалась кровь. Глаза были такие большие, что под их взглядом он делался меньше на все свое мужество.
— Я дам тебе попить и разожгу костер, — вымолвил он, плотно запахнув ее в одежды и уложив младенцем в бурку. — Не спи.
— Взметнулась над головой, как серая тень. Кругом черным-черно, и вдруг — громадная серая кошка… Упав, она клацнула пастью. Это было так громко… Громче выстрела. Ты не поверишь, но я подумала в тот миг, что виновата… Перед тобой и перед ней. Я бежала так быстро, что ничего не помню. Будто выпрыгнула в беге из самой себя. А потом нашла тебя и перестала слышать. Глупо, да?..
— Ты вся дрожишь. Я разведу костер.
— Тогда они найдут нас, и тебе придется убивать. Костер ни к чему. Я скоро согреюсь. Зато теперь у нас есть порох и хлеб…
Мужчина спрятал взгляд себе под ноги, и она поняла, вцепилась ему в запястье:
— Мы все потеряли? Скажи! Где наш хурджин?.. Ты его уронил?
— Мы найдем его завтра. Если, конечно, повезет, а нам повезет. Нам ведь всегда везло, верно?
У девушки дрогнул подбородок и закрылись глаза. Плакала она без слез, одними плечами. Он гладил ей руки и ждал.
— Ты прав, — сказала она наконец. — Нам везло. Только это — раньше. Отныне будет труднее.
— Ты о холодах? Ну да, конечно. Нужно как-то перезимовать. Я что-нибудь придумаю. Да ведь зима ничего не меняет. Еще есть время выбрать место и осесть. Зиму мы как-нибудь переживем, если ты о ней…
— Нет, — сказала девушка. — Ты знаешь, о чем я. Теперь их мир настиг нас. Он нас видит. Мы утеряли прозрачность… Ты разве еще не понял?
Он упрямо замотал головой.
— Плевать на их мир. Если нам хорошо, мы его не подпустим. Сейчас разожгу костер, и ты убедишься… Везенье — это мы сами. Пока мы верим в него, ему от нас не уйти. Ты жива — и это везенье. Я сумел не убить их — и это везенье тоже. Сейчас я разведу огонь, но они не найдут нас — и это опять везенье. Его у нас столько, сколько рыбы в реке. Оно само как река. Можешь купаться в нем хоть всю жизнь. Надо только не сомневаться. Ты отдохнешь и согреешься, и везенье вернется.
— Прости, — сказала она. — Это у меня от усталости. К утру все будет иначе… Обещаю. Взойдет солнце, и мы выйдем к реке, умоемся в ней, как в своем везении, а потом ты испечешь в золе форель и мы пойдем искать место. До зимы еще далеко, и мы успеем запастись едой впрок. Пока не выпал снег, я еще не раз добуду нам порох и хлеб. И соль. Побольше соли, чтобы хватило на мясо и рыбу. У нас будет все, чтобы никого к себе не подпустить… Только не надо костра. Пожалуйста, не разжигай его пока. Лучше приляг рядом и покрепче меня обними.
Мужчина повиновался и, торопливо даря ей свое тепло, рассудил вдруг, что она сильнее. «Потому-то им оно и доверено небом — зачинать и носить в себе жизнь до самого ее рождения, а йотом хранить ее у себя на груди и, взрастив, чувствовать до конца своих дней ее первозданную хрупкость и неустранимое желание ее защитить, оградив от беды и от боли. Они сильнее нас. Я неспособен и на долю того, на что способна она. К примеру, не сумею соврать так, чтобы убедить самого себя в том, что сказал правду. Даже ради нее не сумею. Все, на что я способен — это отдать ради нее свою жизнь. Но подчинить эту жизнь насилу ее собственной — на это я не сгожусь. Вот в чем наша разница. Сухая ветка не дарит листьев, потому что от ветра ломается…»
Когда она уснула, он встал и развел костер, чтобы снова поспорить с осенью. Ночь прошла спокойно, но на душе у него смолой затвердела тяжесть. Осколок времени, ранивший их безмятежный покой. Ничего, сказал он себе, просто это — еще одно испытание. Я подготовлюсь к нему как можно лучше. Горы безмерны, и для двоих в них всегда отыщется место.
Едва он это подумал, как пламя вспыхнуло искрами и обожгло ему жаром лицо. И тогда он заставил себя замолчать и не думать про то, что даже чувствовать до того не решался, но только что ощутил, как колыхание воздуха от скользнувшего мимо примятой волной нездешнего, дальнего ветра.
Сегодня он еще себе не признается, что у них не будет ребенка. Сегодня он знает, что им предстоит зима. Этого достаточно, чтобы занять целиком его мысли. Девушка спит, и по ее нелегкому сну ползет гусеницей тревога. Наутро они жадно сольются в любви и впервые наткнутся в себе на грустную жалость к другому. Потом они отправятся искать свое везенье, по сломанным ветвям и кустам сверяя притупившееся за ночь чутье, и в глубокой ловушке оврага действительно обнаружат хурджин с украденным чуреком и солью. Свернутые маленькими тушками, в хурджине будут еще лежать мешочки с пулями и порохом, новое огниво, кривого лезвия нож с насечкой, несколько грузил и вяленая жила под лесу. В тот день мужчина подстрелит большого фазана и сразу вслед за ним — старого ястреба, которого убьет просто так, из неискреннего азарта, а может, из-за изжоги, закоптившей глотку кислой ржой, и почти тут же испытает досаду, потому что не должен был так поступать: ведь это уже не охота. По его настроению девушка поймет, что что-то не так, и до самого вечера будет весела, лишь бы только не плакать.
В новом шалаше им будет очень холодно, а на следующее утро зарядит грязный дождь. Весь день она будет сидеть в шалаше и дрожать, а мужчина уйдет глубже в горы, чтобы присмотреть там пещеру получше. Дойдя до самой вершины, он поглядит на низину с другой стороны и крепко задумается. На то, чтобы решиться сразу, у него не хватит духу, но отныне счет пойдет уже на недели.
Осень выветрит с гор запах лета и примется поджидать первый снег. Пещера будет похожа на влажный карман в одежде скалы. Обживая ее, они постараются вернуться к прежней свободе и беззаботности, но преуспеть в этом так и не смогут. Быть может, потому, что холода все чаще станут загонять их в каменные стены, где до того лишь змеи терпеливо сторожили свои отложенные яйца да свисали вразлет по ребристому потолку кляксы летучих мышей. А может, дело было не в холоде, а в чем-то другом.
VI
Вскоре все утра и сумерки принялись кутаться в сизую тайну тумана. По ночам он вползал в их убежище сквозь полог из шкур и молча принюхивался к их бессоннице или сну. Споро орудуя костяной иглой, девушка сшила из козьего меха теплые чехлы для ног, и теперь им приходилось заново приноравливаться к тому, чтобы ходить по горам. С каждым днем походы становились опаснее: влага на камнях едва успевала подсохнуть, как к вечеру на них опять выступала свежая роса.
От скалы до леса было около часу ходу, но мужчину это не смущало: будто переняв надежность у камней, он сделался крепче лицом и душою, а рука его стала так тверда, что ружье его теперь и впрямь не знало промаха. Запасов солонины было в избытке, но, случалось, несколько дней они к ней не притрагивались вовсе, питаясь свежим турьим мясом, жилистой дичью или сладковатой зайчатиной. Пещера была доверху набита сухим хворостом, и по ночам ветки уныло потрескивали в выложенном из булыжников и закрытом лепешками из обожженной речной глины очаге. Вырастая шатким столбом, дым выходил в потолочную щель плоским лезвием, унося с собой нагар и топя на ходу молодые снежинки. Иногда самой проворной из них удавалось упасть прямо под язык пламени, даже не уколов его искрой.
По ночам они любили друг друга сильнее и яростней прежнего, и, если бы не опытная, неуморимая, неумолимая нежность, какой они истязали наслаждением свою плоть, можно было решить, что по зиме в них пробудилась жестокость. Глаза у девушки сменили цвет, променяв летнюю зелень на влажную серость пришедших холодов, отчего для мужчины она стала лишь желанней и краше. Совсем не ведая стыда, а стало быть, и бесстыдства, наизусть изучив его тело и помня каждый миг его глазами, губами и пальцами, она поила его блаженством до смутных пределов отчаяния, наступавшего все чаще в конце их опасной любовной игры, после которой он слышал, как у него в груди вдруг замолкает сердце, отказываясь качать застывшую в истоме кровь. Умирание длилось совсем недолго, но всякий раз было истинным и почти полным. Теперь он знал, что смерть — это лишь медленно уплывающее в бесконечность драгоценное эхо жизни, а ночь — всегда коротка, чтобы успеть убедить себя в том, что им не грозила разлука.
Как-то раз он увидел сон, напомнивший ему, что страх существует. Ей он признался, что во сне встретился с ужасом:
— Мне приснилось, будто я знаю все. Ты понимаешь, все из того, что есть на свете. Это было хуже, чем стоять тогда над твоим телом и думать, что ты умерла… Ты и представить себе не можешь, каково это: все про все знать и долго не суметь проснуться.
Девушка отметила, что именно в тот день в горном ручье у пещеры злыми мальками искусали ей руки синие льдинки. Мороз стоял такой, будто весны здесь никогда не будет и не было. Странно, но чем гуще и свирепей становилась зима, тем спокойнее делалась девушка. Ей было трудно понять, отчего так тревожен мужчина, а потому она просто не стала об этом задумываться: что не почувствуешь сердцем, того не понять головой. На сердце у нее самой было уютно и пригоже, хоть, может, и не так просторно, как в сентябре. По давнему уговору не пускать свою память в их мир, они жили лишь настоящим, пытаясь нигде в своих днях не поскользнуться о множившиеся день ото дня стеклянные лужицы будущего.
Мужчина обходил его как мог. Он не спешил подниматься к вершине, откуда, как на внезапный обрыв, на него уже однажды наткнулся, сумев, однако, устоять на краю. Спасаясь по вечерам ее телом, он жадно вдыхал его запах, пил его сок, входил в него предсмертным стоном и растворялся в мягком, заботливом дрейфе. Похожие на робкие глаза, соски ее сперва только украдкой следили за ним, одновременно застенчиво и дразня, потом, разбуженные его пальцами, оттуда выпрастывались тугими ростками желания поспевшие твердые почки, и каждая из них волшебно и медленно превращалась в упругий смелый цветок, такой отзывчивый и живучий под его ласками. В пьяном мелькании света он начинал терять себя, и она брала его в объятия бедер, подставляла грудь, удивленно вскрикивала от радости, когда ловила наконец в своем лоне крохотного бесенка жизни, который стремительно рос и принимался дрожать, заполняя ее изнутри оранжевым трепетом, а потом распухал в горячий кулак и пытался пробиться на волю, пока не хватал ее сердце в охапку и не утягивал его за собой в долгую звонкую высь… Полетав в ней дикими птицами, они возвращались в ночь и пределы пещеры, отдыхали, поглаживая ладонями кожу друг друга, словно удивляясь тому, как столь тонкое, гладкое, почти прозрачное под взглядом огня покрывало сумело их вновь разделить, а после, опять услыхав в себе жажду, готовили новый побег из себя, упрямо надеясь на то, что им удастся, слившись воедино, остаться так навсегда. Изнуряя друг друга страстью, они снова и снова, стеная, терпели поражение за поражением, но не сдавались, покуда их не обманывал сон. Если мужчина засыпал первым, девушка принималась играть его естеством с любопытством ребенка, распознавшего жизнь в древесном сучке. Увлекшись, она пыталась в одиночку выдавить из него последние капли любви, пробуя ее на вкус и торжествуя при виде того, как та проливается ей в руку мольбой о пощаде. В пещере становилось жарко, и пар от их горячих тел стойко держался в воздухе обиженными призраками, глядеть на которые было занятно и весело, как на смешных, послушных шуткам человечков. С рассветом призраки таяли и оставляли их наедине с новым днем. Мужчина мрачнел и вступал в него с таким лицом, будто готовился к встрече с врагом. Как-то раз поутру, уже на пороге опутанный по самые лодыжки снежной пылью поземки, он без всякой на то нужды направился не к лесу, а к дальней скале. Закутав поверх шапки голову башлыком и подставив на пробу ветру свои слезящиеся глаза, он шел, ссутулившись, туда, куда, признаться, идти совсем не хотел, но почему-то — возможно, из-за дурного настроения, а может, по причине упрямства стерегущей его непокой нудной честности (этой младшей сестры свободы, желавшей всегда и все проверять до конца), — опять отправился к вершине. Рискуя жизнью, он упорно преодолевал подъем, час за часом отдавая горам свои силы и, словно взамен, вдыхая в себя их терпеливое мужество. Достигнув цели, он увидел, что низина сплошь покрыта туманом, за исключением малого пятачка величиной с его кожаную пороховницу. Внимательно вглядываясь в этот клочок земли, он лишь проверил то, что запомнил и так с того раза, когда попытался все это забыть, однако теперь, измученный холодом и подъемом, он ослабел настолько, что от нехватки свежей крови в мозгу у него кругом пошла голова и перед взором его в неспешном хороводе зачастили картинки качающегося дня. Вынужденный закрыть глаза, он заставил себя мысленно разложить видения по местам. Удержав их там в темноте, позволил себе вновь приоткрыться миру и впустить в себя его свет, дабы убедиться в том, что качка приутихла и уже не опасна. Поскольку смелость и отвага — всего только способы себя покорять, он снова справился, пройдя сквозь этот день, как острый нож сквозь дымку.
Воротившись в пещеру к вечеру, он был похож на почти ослепшего от холода скитальца, чудом добравшегося до спасительного огня. Едва разлепив его смерзшуюся в грязь одежду, девушка принялась растирать ему руки и грудь, а вслед за ними — ступни, колени, лицо и живот, затем быстро разделась сама и, подняв над плечами бурку, укрыла мужчину собой, стала теснить из него своим телом хмурь поглощенного холода. Выцедив из фиолетовых губ желтки сизоватого пара, йна согревала его побледневшую кожу и не пыталась мешать его забытью. Тело под ней медленно оживало, а лицо рассыпалось пятнами и вскоре заблестело мелким бисером пота. Когда его пробил озноб, она напоила мужчину горячим отваром и подождала, пока он заснет.
Задремав рядом и сплетясь с ним в прочном объятии, она помогла ему мягко спуститься из сумерек в снежную ночь. Потом очнулась, подбросила хворост в огонь и, подоткнув под бока ему бурку и шкуру, служившую одеялом, увидела, что у него пошла носом кровь. Проснувшись, мужчина удивленно следил за тем, как она укрощает быструю легкую алость, сметая ее чистой тряпицей с его лица. В голове у него заметно прояснилось. Кровь долго не унималась, и он сказал:
— Это от высоты. Я сжег себе холодом глотку.
— Попей еще отвару, — предложила девушка и в изумлении уставилась на свою ладонь. — Смотри, а ведь это уже моя…
Продираясь сквозь сочные тени и зеленоватый отблеск пламени на окоеме ее силуэта, он протолкнул к ней поближе свой взгляд, нащупал красную полоску и придержал ее зрачком. Порез аккуратно вместился в линию на ладони, скользнув по еле заметной ложбинке к судьбой прописанному пути, а там вдруг сник, сошел на нет.
— Я не касалась острого, — сказала девушка. — Странно. Будто лопнула кожа сама по себе… Ну, вот и все, — прибавила она, стерев с его лица последний развод. — Теперь мы стали еще роднее. В меня вошла твоя кровь.
«У всего этого должен быть смысл, — подумал мужчина. — Просто я его никак не пойму». Он знал, что скоро на все будет дан ответ, и тогда их жизнь сменит русло. Он даже догадывался, в какую сторону она потечет, но говорить о том, конечно, было рано.
VII
Спустя двенадцать снегов она сказала:
— Мне кажется, мы не одни.
Он попытался сдержать ее взгляд, но предпочел ничего не заметить и угрюмо ответил:
— Едва ли. Кроме нас да зимы здесь на десять верст ничего, камни только и снег. Даже чертовы козы попрятались. Тебе показалось.
Она не стала спорить и, незнакомо прищурившись, лишь внимательно пригляделась к его глазам. А вечером попросила:
— Хочу искупаться. Поможешь?
Мужчина кивнул. Обычно с этим она управлялась сама, но иногда он ей помогал. Правда, прежде на это он сам вызывался.
Вскипятив несколько раз котелок с талым снегом и наполнив водой подобие чаши в каменном дне пещеры, она разделась и села на корточки к нему спиной. Осторожно скребя ей кожу щербатым голышом, мужчина впервые не почувствовал желания и оттого немного смутился. Поливая из котелка ее смуглые лопатки, тонкий ствол позвонков, литые плоды ягодиц, он углядел вдруг, что она изменилась и стала женщиной, той настоящей, непреходящей, мудрой зрелостью женщиной, о которой он так часто мечтал в длинном ущелье последних недель. Но радость его оказалась пугливой, как гладь на чаше воды, так что он опять промолчал. Она повернулась к нему лицом, и он старательно выровнял взгляд с ее полураскрытым ртом, белыми, чуть крупноватыми зубами, вслед за рукой спустился к подбородку, скользнул по шее, окунулся в подвижные провалы ключиц, тронул груди и ощутил их новую тяжесть, отпрянул ладонью к выемке меж них и тщательно потер ее ребристой щекой голыша, потом, скорее нарочно, чем по неловкости, выронил железный котелок, вдребезги разбив какую-то чужую, но очень проницательную тишину, склонился, зачерпнул котелком из чаши и, присев на каменный выступ, принялся за блестящие лодыжки, как можно медленнее поднимаясь от них к овалам коленок и напрягшимся бедрам с сокровенной тенью из зарослей мокрых ресниц, но не успел к ней подобраться, как девушка, не выдержав, прижала его голову к своему животу и хрипло произнесла:
— Я чувствую, как он растет. Он уже больше меня. Я лишь придаток, потому что все мое тело принадлежит уже не мне и не тебе даже, а только ему одному. Разве тебе не слышно?
Бережно ощупывая ее округлившийся в глянцевый лоб живот с четким замесом пупка, он бормотал несуществующие слова, размываясь взглядом в желтоватом пятне ее выставленного напоказ материнства, и хотел принести ей добро, все добро целиком из того, что есть во вселенной. Когда ее внезапно стошнило на пол рядом с ним, мужчина поднял ее на руки и едва донес до постели, потому что, пока шел, стремительно истекал своей силой в собственные мокрые следы, а душа его впервые за много месяцев порвалась дырою страха.
С той поры, как он принял крещение от реки и полой безымянной смерти, такого с ним не бывало. Окончательно наскучив вечности, он был отпущен ею на мелкую волю дней, в прозрачную ограду времени. Оно росло и дышало с ним рядом, все больше отбирая у него тело женщины, грузневшее день за днем с такой неизъяснимой поспешностью, что, казалось, ей не дождаться весны. По ночам ему снились кошмары о том, как ребенок рвет ее плоть железными пальцами. Проснувшись, он стыдился того, что во сне его ненавидел. Женщина наблюдала за ним внимательно, но отстраненно. Порой она пыталась вернуть им давешнюю близость, однако мужчина, даже в минуту подступавшего наслаждения, не мог избавиться от ощущения чудовищности совершаемого греха, так что вскоре она отчаялась что-либо изменить. Плечи его, такие высокие прежде, чуть опустились, добавив ему лет, лишь бы только легче было прятать глаза и притворяться, что он не боится. На ярком свету в погожие дни глаза начинали гноиться, и мужчина сильно страдал от зуда на веках. Она лечила его своей слюной, перемешанной с золой от свежего огня.
Чем больше она с ним возилась, тем легче ей давалась беременность. Иногда ей казалось, что живот перестал расти вовсе. Тогда она принималась усиленно есть, поглощая подряд копченое мясо, вяленую рыбу, поджаренную на жирном сале дичь, сушеные коренья и подмороженные лесные ягоды в таких количествах, что вызывала у себя свирепые приступы рвоты и почти тут же — досадливую брезгливость к мужчине, неловко хлопотавшему вокруг ее отвращения к самой себе.
Холода долго не унимались, а потом вдруг разом им на ладони упала весна. Снег невесомо таял в руках и превращался в обманчиво ленивую воду, стекавшую сквозь пальцы быстрым временем. Солнце било в глаза и заново обживало горы, ложбины, ручьи, постепенно подбираясь к тяжелой печали леса. Женщина подставляла под грубые лучи лицо и с каким-то чувственным удовольствием отдавалась их проникающим сквозь запертые веки прикосновениям. Иногда мужчина заставал ее обнажившей плечи и грудь, с распростертыми навстречу солнцу руками и с выражением пойманного блаженства на влажных губах, и тогда, пронзенный острой ревностью доказанной измены, он бессильно сжимал кулаки, как вор заглядывая в ее чуть обожженное лицо с закрытыми глазами. Чем ближе подступало тепло, тем труднее было ему сносить множившиеся муки. Все реже соглашаясь дожидаться его в пещере, женщина упрямо вызывалась идти с ним на охоту или к реке. Живот ее, такой большой, тяжелый, откровенный, такой чужой в сравнении с той плоской душистой упругостью, что так возбуждала его еще сотню дней назад, казалось, ничуть ей не мешал — ни лазать по горам, ни карабкаться по тропам, словно был он принадлежностью не плоти, а одежды, — что-то вроде подвязанного к пояснице скатанного в трубу одеяла. Вместо того чтобы застенчиво присмиреть и вникнуть в брожение внутри себя, жизнь в ней и вовсе забила ключом, и теперь, спрятавшись рядом с ним где-нибудь в колючем кустарнике, женщина требовала от него разрешить ей пальнуть самой, а когда ей доводилось попасть, он замечал в ее глазах новый и злой восторг, от которого ему, мужчине, делалось не по себе. Вслушиваясь по ночам в ее ровное, сильное дыхание, он вдруг с неприятным удивлением подмечал в нем оскверняющие нотки урчания, будто в ней жил трудный разговор двух различных существ, встретившихся, чтобы поспорить о чем-то таком, к чему сам он не имел ни малейшего отношения. Его действительно стало меньше — даже для самого себя.
Порой ему казалось, что она не слишком нуждается в нем, и тогда он хотел уйти, сбежать навсегда из пещеры в растворившую створки тумана весну и снова стать тем изначальным, первым человеком, каким он был еще недавно. Но чтобы сделать это, у него не хватало трусости, оставить же все как есть мужчина тоже не мог, ибо уже не верил в то, что для нее — не лишний. А потому, едва начали чернеть в прогалинах тропы и стаял в кори-стую пенку снег, он приказал ей собираться. Смастерив широкие салазки на острых дубовых полозьях и густо смазав их жиром, он уложил пожитки, усадил посередке женщину, привязал ее кожаными ремнями к днищу саней и пустился в путь.
Глядя сзади ему в спину, она думала о том, что перевала им не одолеть: либо сани рухнут где-нибудь с обрыва, либо надорвется насмерть он. Чего ему хочется больше, она не знала, но знала, что должна терпеть. Иногда, чтобы не изводить его молчанием, она принималась негромко подпевать монотонной дороге, которая могла бы быть для них куда как легче, если бы он позволил женщине идти самой. Только ему зачем-то понадобился соперник. Он что-то пытался ей доказать, и было это плохо. Было это как предательство, потому что любовь ничего не доказывает. Любовь просто любит. Однако хуже всего было то, что теперь женщина и сама сомневалась, любит его или нет. Держа на коленях его исходящую паром шапку и отрешенно следя за тем, как он рвет впереди себе жилы, она обнаруживала, что ей почти противен его упрямый, похожий на плошку затылок. Раньше она этого не замечала, и оттого теперь все чаще мучилась вопросом: а куда подевалось от них это «раньше»?
Дважды за те четыре дня, что длился подъем, сани опасно сползали к обрыву, повиснув над ним полозом (внизу горбятся скалы, посверкивает онемевшая река, а сама ты маленькая, как птенец, заглянувший в огромную пасть), но мужчине удавалось ее спасти. В первый раз он успел закинуть ремень за придорожный валун и, используя его в качестве рычага, пядь за пядью вытащил салазки на тропу. Через день ему пришлось и того сложнее: ремень оплел ему удавкой ногу, и, скатившись вместе с санями на пару десятков шагов вниз по тропе, каким-то чудом, прежде чем они слетят в обрыв, он ухватился за рыхлые останки дерева в скале, сдержав удар не столько телом своим, сколько волею. Оба раза, несмотря на счастливое спасение, женщина испытала к нему горячее чувство ненависти. Он вынуждал ее себя жалеть, и прощать его за это она не умела. «С той поры, как мы встали на эту дорогу, у меня началась третья жизнь, — размышляла она, скрестив руки на тяжелеющем животе и высшей мудростью взрослеющей в ней женственности постигая, как у нее черствеет душа. — Первая была пятнистой и гадкой. Я томилась в ней двадцать лет. На нее легко было смотреть со стороны. Вторая длилась полгода, но стоила больше вечности. Теперь закончилась и она. Кабы не ребенок, было бы проще простого: один неверный шаг к обрыву — и от тебя бы осталось лишь эхо. Я не знаю, что будет дальше, но, что бы там ни было, мне придется во всем этом жить. Скоро я рожу ребенка, и станет легче. Быть может, я даже выучусь опять доверять его отцу. А пока мне надобно свыкнуться с тем, что отныне этой дороге может не быть конца…»
К вечеру третьего дня салазки сломались. Зацепив полозом смирный с виду камень на подступах к рощице в полуверсте от заветной вершины и ковырнув его, как ногтем, из земли, сани издали такой пронзительный треск, что у мужчины побагровели белки. Сев, обессиленный, на тонкую снежную корку поверх тропы, он тупо смотрел на копошение бледных жирных червей, лишившихся своего укрытия. Камень валялся тут же, подняв к нему черный бок, и равнодушно взирал на его смятение.
— Развяжи меня, — потребовала женщина и, когда мужчина повиновался, обняла его за плечи и подержала у своей груди. — Ты сделал все, что мог. Настал и мой черед стараться.
«Я растерял всю удачу. Она это чувствует и стыдится. Она помнит меня другим и будет делать вид, что все обстоит, как прежде. От моей свободы не осталось жалкого следа. Я и не заметил, как ее лишился».
Заново перевязав днище и обустроив его уже только под скарб, он потянул груз к роще. Женщина предпочла идти впереди. Несмотря на заметно отяжелевшую походку, выносливости она не утратила. Заночевали они в скалистом лесу, слушая, как волнуют ветви и скребут лапками по стволам в восторг напуганные белки. Прижавшись друг к другу, люди бережно кормили лаской молодое весеннее тепло, сохраняя его до утра у себя на груди и ладонях, а с рассветом поднялись, перекусили невкусно и наспех и отправились дальше к вершине.
Выбрав, как и намеревался, самый покатый из склонов, мужчина с досадой убедился в том, что размякший от лучей подъем здесь тоже чересчур ненадежен и крут, чтобы его могли одолеть сани с женщиной. Отдыхая каждые четверть часа и давая себе отдышаться, они следили за тем, как, уплывая на запад, быстро скользит по очень синему небу обманчиво жаркое солнце. Когда оно поравнялось с горой, откуда четверо суток назад они начали свое восхождение, усталости скопилось в путниках столько, что она мешала им думать. Чувствовать что-либо они разучились еще задолго до решающего рывка, а потому, дойдя до цели и упав без сил на колени, они уткнулись взглядом в последнее мгновение убегающего света, едва ли успев разобрать очертания низины с другой стороны. Сон больно играл истощенными мышцами, и сквозь него женщина ощущала, как тревожно гудит от тоски засыпанный звездной пылью живот. Посреди ночи она проснулась, отошла по тропинке назад, оправилась в колыхавшейся ветром чужой темноте, а когда вернулась обратно и уже вновь изготовилась спать, внезапно увидела в десятке шагов от себя поднявшегося на валун огромного черного пса. Вскрикнув и растормошив мужчину, она заставила его схватить ружье и дважды стрелять в лоснящуюся под лунной струею плотную тень, но оба раза пес даже не шелохнулся, однако, пока мужчина перезаряжал ружье, собака исчезла — то ли неспешно сойдя с валуна, то ли вовсе растаяв во тьме — они так и не поняли.
— Не бойся, — сказал мужчина. — Нам спросонья почудилось. И сам почувствовал, что еще никогда не изрекал ничего более глупого в ее присутствии.
— Им тоже было не до сна, если они слышали выстрелы, — сказала женщина поутру, глядя в низину и различая в ней разве что пятна строений и движущиеся точки вокруг. Завтрак явно подзатянулся, но мужчина не стал ее торопить, рассудив, что как бы ни берегла минута час, а дня ей все равно не скопить. Да и кому он нужен, этот лишний день?
Он объяснил ей про склепы и реку, и женщина, покивав головой, вдруг пожала плечами и замкнулась в себе. Что означал ее жест, он мог лишь догадываться. Словно оправдываясь, он пояснил:
— Кто бы они ни были — их тоже нет для других. Они сами другие, не похожи на остальных. С этими людьми нам будет проще, потому что для всех остальных их попросту нет.
— Как нас с тобой?
— Как нас с тобой, — согласился мужчина. — А может, их даже меньше, чем нас. И с ними есть женщина…
«В этом все дело, — подумала она, — тебе просто боязно принять из меня нашего сына. Боишься не справиться, а еще больше боишься потерять кого-то из нас. И оттого в этом Городе Мертвых мне предстоит родить ребенка и жить. Не знаю, прав ты или нет, но знаю, что ты не мог поступить иначе… Ты делаешь это, чтобы остаться мужчиной и вытравить из сердца страх. Ради этого ты готов навсегда распрощаться со свободой и летом. Не знаю, прав ты или нет…»
Спуск был труднее подъема, и было это хорошо: петляя шесть дней по подбрюшью горы, они привыкали к этому месту, проклятому так давно, что, признаться, их это мало трогало. Куда больше их волновали люди. Всякий раз, как они вновь появлялись у них на виду, выйдя по узкой капризной тропе под сильное солнце, они чувствовали, что замечены и за ними следят. На одном из крутых поворотов мужчина расщепил вконец истерзанное днище бесполезных теперь саней и развел на ночь костер, показывая тем, внизу, что не намерен ни прятаться, ни менять свой маршрут. Отныне часть ноши женщина взяла на себя, подвязав к спине котомку с одеждой и шкурой, что им заменяла постель. Мужчина нес ружье, съестные припасы и утварь, глухо позвякивая скарбом на каждом шагу. Им нравилось здешнее солнце — молодое и чистое, словно дитя.
Чем ближе они были к цели, тем веселее становился поводырь. Иногда он ощущал на себе невидимые дула ружей, и его охватывала какая-то стремительная радость, потому что ружья были совсем не страшны, и над ними можно было смеяться. Казалось, он вновь обретает прежнюю безудержную силу и, кабы не потаенный страх, из которого вдруг опять забило свежим ключом его мужество, женщина наверняка сумела бы убедить себя в том, что любит его, как и раньше.
По ночам их обволакивали заботливые звуки, которыми беседовала с ними здешняя тишина, и в них вселялся волнующий сладостный трепет — должно быть, оттого, что, слушая ее глубокий голос, они безошибочно понимали, что замечены не только людьми. Женщина стала молиться, а мужчина подолгу смотрел в кристаллики звезд, отрешаясь от внятных, бесследных мыслей в пользу редкостного покоя всех чувств.
— Эта земля — она действительно проклята? — спросила его как-то женщина, тепло блеснув глазами и тут же опустив их в низкий костер.
— Так говорят, — ответил мужчина. — Только, сдается мне, проклятье отсюда давным-давно убралось: оно не может долго без людей.
— Пожалуй, — согласилась она. — Мне кажется, зла здесь мало. Их только четверо, земли же хватит с лихвой на сотню дворов…
— Они нас не тронут, — заверил мужчина. — Зачем им рисковать? Их и так только четверо…
Женщина улыбнулась и подумала: «Ему так хорошо, что он и не заметил, как прихвастнул. Слава Богу, он перестал страдать. С тех пор, как нами пройден перевал, он обзавелся новым запахом. От него веет надеждой. А может, это лишь весна…» За спиной у мужчины сверкнула полоской змея, медленно, толчками, пропустила сквозь кольцо повисшего на камне желвака свое длинное тело и, прошуршав по земле, уползла восвояси. Где-то ловила тени крыльями птица, еще минуту назад бродившая окрест обычным ветром, а в пламени костра невыразимым озарением томилась хрупкая ее душа. Эхо донесло из низины лошадиное ржанье и поспешило припрятать его в изъянах скалы. Прохладные губы ночи коснулись гладкого женского лба, и она опять невольно улыбнулась, уплывая во сне в прозрачное таинство отрывающегося полета, свободного от цели и чрезмерности высоты — одно лишь невесомое скольжение по близкому уюту счастья да нежное постижение растворенного в воздухе света. Пчелою собрав его по крупицам, как пыльцу с дорогого цветка, она сшиблась с чьим-то ярким взглядом, вздрогнула, завертелась падением, открыла глаза и увидела прямо перед собой разноцветную колыбельку рассвета. Сидя на корточках и не решаясь его спугнуть, мужчина не услышал ее пробуждения, и отчего-то впервые за много недель ей захотелось кинуться к нему, растормошить его неприступность, извести ее поцелуями, укусить в литое ядро плеча, вонзить в себя его страсть, опрокинуть ему на лицо залысины неба и, утолив рассветом последнюю жажду, кончиться в нем навсегда… Вместо этого она тронула его за руку и хрипло сказала:
— Скорее… Я хочу тебя.
Неловко обернувшись к ней, он прочел все по ее глазам и стал срывать с себя одежду. Потянув кверху подол, женщина растворилась и впустила его, но чуть ли не в тот самый миг поняла, что совершает ошибку: соитие было беглым и потным, как поспешное рукопожатие переставших доверять друг другу людей. Вслед за ним, как издевка, пришло наслаждение — краткое, словно всхлип. Униженная испытанным удовольствием, она подумала: «Любиться с ним — все равно что признать в себе шлюху. Будто бы он берет не тебя, а только твое незнакомое тело… От этого человека у меня должен родиться ребенок. Завтра мы втроем войдем в Город Мертвых и станем жить у Проклятой реки. У меня в запасе четыре месяца, в течение которых можно не подпускать его к себе. Да он, пожалуй, и сам не захочет…»
Безмолвно взяв на плечи ношу и приладив к ней враз погрузневшее утро, они пошли вниз по тропе, женщина — впереди, мужчина — за нею. Он видел, как подозрительно дрожат ее ноги, обутые в меховые чехлы, и умирал от стыда. Посреди реки белели шесть старых склепов — остатки зубов на щербатом черепе вечности. Все другое вокруг было пустотой и горами. Только в низине дымила крышами жизнь, настороженно ожидая их приближения…
VIII
Как из маленькой тучи рождается гром, как в мелкой личинке спит будущий червь, — так и долгая грусть переходит в печаль, а печаль вырастает в отчаяние.
С ней приключилась страшная беда: она вдруг поняла, что не беременна. С тех пор как поселилась здесь, женщина не ведала покоя: какая-то странная сила сжимала ей душу укором и подозрением, избавиться от которого, как ни пыталась, она не могла. С каждым днем она ощущала, что становится легче, а живот ее неумолимо стягивает изнутри тугим узлом. Лицо ее осунулось, грудь отощала и поникла, затвердев понурыми сосками в унылую боль, схожую с той, что лепит в желудке голод, а в промеж-ности слезой копилась влага, как от неутоленного желания, пришедшего из невнятно-противного сна.
Сперва она подумала, что это все — от зависти, которую, должно быть, испытывала к ней та, другая — жена Хамыца, в чьем доме на правах гостей провели они семь первых дней. Потому она настояла на том, чтобы перебраться в шалаш (мысль перейти в хадзар к Ацамазу была настолько же дикой, как и затея уйти добровольно в какой-нибудь склеп), но и там, несмотря на л жаркие ее, упрямые молитвы, она продолжала худеть и возвращаться телом в прежнюю девчонку. Как собака, линяя, меняет шкуру, так и она стремительно избавлялась от своих волос: расчесываясь по утрам, она обнаруживала, что они выпадают целыми прядями, которые потом в дурной задумчивости заплетались ею в мертвые венки. Однако волосы ее чудесным образом едва ли не к вечеру, казалось, отрастали вновь, чуть изменив свой цвет: словно искупанные в жидком солнце, они золотились на голове короткими густыми завитками, делая ее похожей на сошедшего с небес повзрослевшего херувима. Стыдясь своих превращений, она плотно повязывала голову черным платком, который снимала лишь на ночь, и то — после того, как задует лучину. В ней не осталось слез.
В присутствии мужчины она вела себя так, будто ничего не случилось, но, бывало, впадала в оцепенение, откуда ее выводила разве что одна и та же назойливая мысль, которую она прятала от него в новой складке над переносицей. Сначала он ей не мешал, надеясь что все хоть как-то, да образуется. Вскоре, однако, признался себе, что она покидает его у него на глазах, и попытался пробиться к ее охладевшей душе через усыхающее день ото дня и вновь такое желанное тело. Тело ответило ему самоотверженной страстью, но душа еще больше остыла.
Рядом трудилась, примеряя краски, весна. Глядя на нее посторонним взглядом, он предельным образом понимал, что жизнь его кончена. Она утратила тот восхитительный и главный смысл, который, в сущности, и прежде был обманом. Разница состояла лишь в том, что теперь этого обмана больше нет, а есть только мнимая значимость времени, оскверняющего торжественную будничность пустоты. Раз за разом испытывая удачу (которая, он знал теперь, была не чем иным, как длинным поводком к удавке), он вброд отправлялся к склепам, где щупал руками покой пожелтевших костей, завидуя их равнодушию к своей истребленной памяти и полученной в награду возможности разъять себя на эти бледные осколки исчезнувших воль и судеб, смешавшихся в древней пыли, подобно отсыревшим головешкам для так и не состоявшегося костра. Усаживаясь на корточках под все еще прочными полатями, он давал своему сердцу передохнуть, потому что в склепах боль всегда отпускала. Впрочем, неправда: она лишь ненадолго замирала в молчаливом почтении. Он обнаружил, что когда недели напролет чувствуешь одно и то же, начинаешь понимать, что такое бесчувственность. Иногда только сердце перевернется с боку на бок и уколет тебя, словно раздавленный деревом еж, которого ты вытащил из-под срубленной под корень лиственницы, что пошла на доски возводимого сдобща моста.
Стройка была хорошим предлогом, чтобы покинуть шалаш на пару-тройку дней. В лесу было покойно и роднб, и по утрам громко и радостно пели птицы. Собравшись все вместе, мужчины отдавались своей нелегкой работе с азартом юнцов, бегущих наперегонки. Запах срубленного дерева был чуть кисловат, но снятая стружка пахла сладко и терпко. Смешавшись с опавшей хвоей и полежав с полчаса под солнечным лучом, запах обретал свой самый заветный привкус, лучше которого в лесу ничего не нашлось бы. Свежие заготовки сначала смолили, а потом натирали животным жиром и оставляли подсыхать на свету. В просверленные дыры вставляли толстые тростниковые веревки, просовывая их дважды в каждую доску так, чтобы получилась открытая сверху петля, потом связывали узлами веревки между собой и складывали все в высокий штакетник. В качестве опор для моста подыскали громадный дуб, над которым трудились шесть дней, орудуя сперва по очереди единственным топором, потом ошкуривая ствол и смоля его факелами, потом вытаскивая его на прогалину, к тропе, преодолевая затем расстояние в добрые полверсты до самой реки, чтобы там, уже на берегу, вырыть две узкие и глубокие ямы, разделить ствол надвое и установить столбы. Столбы были похожи на ворота к бурливой воде. Проложить дорожку моста от этих ворот к домам они намеревались уже к июню.
Но в середине мая на них обрушились дожди. Река поднялась в своем русле и жадно лизала волнами подступы к склепам. На том берегу, где стояли шалаш и хадзары, река подъела почву и оставила большущий овраг. После того как дожди отгремели, им пришлось выкладывать насыпь. Лето обещало быть душным и влажным, уже сейчас насыщая воздух особенной вялостью, противящейся дуновениям слабого ветерка, а он, Алан, все не мог решить, когда и как уйти. Ему все время хотелось посторониться под стекленеющим взглядом жены и пропустить его мимо себя, но еще больше и сильнее было желание остановить его на себе и заставить очнуться.
Когда наступила майская жара, женщина почти перестала покидать тень шалаша и только мерила его, босая, короткими шагами. Ступни у нее были маленькие и смуглые, как разжавшиеся детские кулачки. Он любил ее больше, чем раньше. Больше, чем прошлым летом, и больше, чем этой зимой, которая сейчас почему-то оказалась дальше от них, чем любое другое воспоминание. Он любил ее так сильно, что порою жалел, что она ожила тем страшным вечером холодной осени, когда он стоял перед ней на коленях и слышал, как оглушительным водопадом рушится мир. Он любил ее даже сильнее, потому что гнал от себя эти мысли и стыдил за них свою совесть, которая в отместку печатала у него под глазами черные круги. Пользуясь темнотой, он до рассвета терзал ее плоть своими умелыми ласками, но, натыкаясь на выносливую ее податливость, ни разу не смог ею по-настоящему овладеть. Их наслаждение было неистовым и обильным, однако далеко не полным, потому что лишилось главного: способности растворять друг в друге парение собственных душ. И если прежде, насытившись любовью, они удивлялись тому, что тела их, притворившись одним, существуют все-таки порознь, то нынче, сплетаясь ими в поту беспощадной и опытной нежности, они с отчаянием сознавали, что души их друг друга так и не нашли.
От ее мнимой беременности не осталось и следа (так, — сошедшая с раны опухоль). Она не могла простить ему того, что семя его было порченым. Теперь она знала, что понесла не от их любви, а от его дурных предчувствий, от его пошедшей носом крови, которая смешалась с порезом на ее руке, а потому беременность ее себя и исчерпала, произведя на свет не солнечного крепкого ребенка, рожденного где-нибудь в весеннем лесу, а нечто совершенно противоположное — их одиночество вдвоем, ушедшее в шалаш на берегу реки, считавшейся к тому же проклятой.
Он ревновал ее столь безумно, что не решался в том себе признаться. Мост еще не был достроен, а он уже принялся за собственный дом. Соседи охотно помогали, в особенности Тотраз, дни напролет тесавший камень, выкладывавший стены, прослаивая их пленкой глинистой земли и, борясь с течением, таскавший вместе с ним с противоположного берега толстые бревна для стропил. Сочувствуя его несчастью, двое из троих готовы были предложить ему свою дружбу. Что до Ацамаза — похоже, тот был не прочь поделиться с ним своей стойкой мудростью, однако, хорошо читая по их глазам, мужчина понимал, что вряд ли в состоянии все это вынести, и предпочитал молчаливую тень склепов, где можно было укрыться от солнца и времени и где горе его, слишком большое, чтобы пролезть вслед за ним в узкую щель окна, становилось покладистей и смирнее. По крайней мере, присутствие чужой и близкой смерти, почти такой же, как та, что когда-то крестила его на свободу, пусть самую малость, но — успокаивало. «Если я уйду, они себе этого не простят и потом долгие годы будут прятать в себе обращенное ко мне проклятие. Они не смогут проверить, жив я, вернусь ли назад или покончил с собой. Но не уйти я тоже не могу. Коли уйду, они оба обзаведутся призраком. Но ведь остаться с ними не могу я, как бы ни крепился!.. Так что вроде и выхода нет. Когда нет выхода, все равно что-то такое случается, рано или поздно. Только это уже от тебя не зависит, а потому может быть хуже всего. Вот почему мне нужно что-то придумать, иначе я изведу и их и себя…»
Он думал о многом, но ничего не выдумывалось, пока однажды вдруг, в самый разгар работы, когда он глядел исподлобья на то, как Тотраз, влезши на возведенную стену, кладет в нее последний плоский голыш, решение не пришло само собой. Переждав минуту-другую и проверив его дрогнувшим сердцем, он свистнул, чтобы привлечь внимание, и произнес:
— Кончим наш — за твой примемся… Негоже тебе жить в том доме, где хозяин с хозяйкой хозяевами лишь притворяются, а почувствовать себя хозяевами не могут, пока ты им каждую ночь стережешь… Отмерим участок под двор, выберешь место — и возьмемся за новую стройку. К середине лета поспеем. Здесь вот крышу накроем, доделаем мост, а потом пустишь клич, — и всем миром навалимся…
Тотраз ничего не ответил. Отвернувшись, продолжал подбивать упрямый камень. Затем спрыгнул наземь, подошел вплотную, отряхнул с рук пыль, встретился с ним глазами, синевой на шраме выдал на мгновение боль и сказал:
— Мне не к спеху. Хамыц мне как брат, а она… Она все равно что сестра…
— Как знаешь, — он пожал плечами. — Только и брат с сестрой иной раз в тесноте на всякую тень хмурятся. Особенно если чего-то долго ждут, а оно никак не приходит…
На том разговор и закончился. Спустя неделю-другую крыша была готова. В новый, еще пахнущий рекою хадзар Хамыц внес глиняную утварь, повесил на стену подаренный лук и похвалил скамью и нары, сколоченные Ацамазом специально к этому дню. Тотраз пришел последним, приведя за уздечку тщедушного жеребенка. В левой руке он держал длинный клин, который тут же вбил в десятке шагов от распахнутой настежь двери в упругую землю и подвязал к нему жеребенка. У хозяйки, тронутой их общей щедростью, на глазах впервые выступили слезы. Во главе застолья сидел Хамыц, старший не возрастом, зато первый домом. Людям было хорошо и радостно от того, что добро их воздвигло крепкие стены, но почему-то внутри этих стен веселье не клеилось.
Разом заговорили о предстоящем урожае, который, судя по солнцу и легкой утренней росе, созреет уже к сентябрю, и о том, что надо бы часть его пустить на араку. И все же дело, конечно, было не в араке. Под ногами у них невидимым ужом ползали тайны, о которых нельзя было сказать ни единого слова вслух, а в воздухе ясной прозрачностью разлился чей-то свежий дух. Возможно, ветра, потрудившегося с утра и притащившего с горы прохладу, какой они не встречали здесь с ранней весны. Бывают такие мгновения — свет, уют и тихий голос собственной души. И стены пронзительно пахнут рекой. В них нет ни прошлого, ни завтра. Вернее, и то и другое в них слилось воедино. Бывают такие мгновения, в которых много добра. В них трудно удержаться…
IX
Когда потащили в поток жилы моста, снабженные деревянными перепонками, страховочная веревка, опоясавшая Тотраза, лопнула, и его понесло по течению, разбивая о валуны. Зацепившись за одну из досок в днище, он уткнулся лбом в поток и, задыхаясь от холода и воды, почувствовал, как жизнь стынет в нем толстым стеклом. Шедшие впереди Алан и Хамыц сумели сдержать удар, хотя и упали один за другим на колени, едва их настигла оплеухой потяжелевшая волна. Поджидавший у столбов Ацамаз бросился в реку и подменил Алана, ухватившись за тростниковые канаты с вплетенными в них сыромятными ремнями. Хамыц уже тоже поднялся и, побагровев лицом, смотрел, как во второй раз за этот год его друг погибает у него на глазах. Алан исчез в потоке и вынырнул шагах в двадцати от того места, где стоял секунду назад. Подхватив Тотраза под мышки, он попытался помочь ему встать, но вместо этого рухнул сам, подкошенный натиском стремнины. В полувздохе от них закипал белизною порог. Теперь уже Тотраз спасал Алану жизнь. Длилось это недолго, но женщины на берегу за это время почернели лицами. Вцепившись в трос, Алан стал постепенно выгребать из пучины, колотя ногами по дну. Тотраза он держал за уцелевшее кольцо веревки на груди. Отпустить гибкое тело моста Хамыц и Ацамаз не имели права, понимая, что он, как змея, хлестнет хвостом по их же товарищам, едва только его подхватит река. Сдерживая немеющими телами ее напор, они смотрели, как борются с потоком два сильных человека.
Выбравшись на сушу, спасенные друг другом утопленники никак не могли отдышаться. Потом к ним добавились Ацамаз и Хамыц, ступившие на берег шатаясь от усталости и безропотно приняв помощь от женщин, кинувшихся обвязывать трос вокруг столбов, куда позже его подвесят мужчины к вбитым в стволы могучим скобам. Неровно повиснув над рекою, мост будет похож на гигантский расщепленный стебель, уроненный небом и застрявший в каком-то мгновении от сверкающего лезвия воды.
— Я твой должник, — сказал Тотраз, обращаясь к Алану ближе к вечеру, когда они сидели в новом доме у огня в ожидании ужина. Тишина жадно слушала их негромкие голоса.
— Мы квиты. Ты мне ничем не обязан. Чем раньше с этим смиришься, тем будет проще потом. Все хорошо.
Он старался поменьше встречаться с гостем глазами. Тот и без того казался смущенным и мог без нужды ляпнуть глупость. У хозяина, напротив, настроение было отменное, и очень не хотелось его чем-либо омрачать. Он был доволен тем, что прыгнул в реку, спас Тотраза, был спасен им сам, а после, надрывая жилы, вытащил его на берег. «Вновь река, — подумал он. — Смывает боль, врачует раны. Я снова счастлив. Как форель, что сорвалась с крючка и опять готова плыть против течения».
Женщина безмолвно поднесла еду и тут же скрылась. Тотраз попробовал сосредоточиться на угощении, однако кусок не шел ему в горло. Поговорив о том-о сем, они вскоре расстались. Выйдя за порог, Тотраз направился не к Хамыцу, а вниз, к зазывно бурлящей воде. Наблюдая за ним со своего порога, Алан увидел, как он внезапно переломился пополам и его стошнило в траву. Когда Тотраз выпрямился и оглянулся на капельку света в проеме двери, хозяина там уже не было. Посверкивая звездами, ночь пахла дневными слезами и нечистым теплом. У Тотраза немного кружилась голова и ломило все тело. Сойдя по тропинке к реке, он сел на гладкий камень и стал смотреть на воду, прислушиваясь к пустоте за спиной.
На следующий день он решил оградить ее стенами и сказал:
— Мне надобно выстроить дом. Подсобишь?
Хамыц кивнул и улыбнулся, доказав, что он все еще друг. «Ну вот, он знает, — подумал Тотраз. — Только виду не подает. Может, сам я знаю поменьше его. А знаю я точно только одно: дом мне нужен, чтоб не сбежать. Но это и он знает». Он вдруг вспомнил, что уже давно не пускал в свои сны человека, которого подстрелил. Они были полны совсем другим — его сны. Но размышлять о них он не хотел.
— Когда начнем? — спросил Хамыц.
— Как только место определим. А то, понимаешь, мне вас и на кувд[7] позвать некуда…
С неделю к этому разговору не возвращались. В день, когда Алан с Хамыцем отправились на охоту, Тотраз и начал копать. Проследив за тем, как они прошли через мост с винтовками на плечах и скрылись в чаще, он воротился в хадзар, взял заступ, зачерпнул в кубышку воды и, даже не взглянув на женскую половину, пошел к тому пятачку на большом холме, откуда одинаково хорошо просматривались все три дома. Словно пожелав замкнуть их с четвертой стороны света, он двинулся на север.
Работал он размеренно и от души. К полудню на высохшем дне кубышки ползали два земляных муравья, а яма глубиной в аршин была готова почти на треть. Присев на край ее и смахивая пот, он глядел на то, как внутри нее зеленоватой рябью колышется воздух. Постояв у себя на пороге, Ацамаз отвернулся и снова вошел к себе в дом. Жена Хамыца подошла к Тотразу со спины, плеснула из кувшина в кубышку и, сполоснув ее, доверху наполнила свежей водой, тихо удалилась. Напившись, он поглядел на руки и увидел, что сбил мозоли в кровь. На грязных ладонях выступили красные пятна, набухли легкой влагой и пустили алую слезу. Она была так красива, что у него не хватило духу отереть руки о землю, пока кровь не стала ронять в парную яму частые капли. Поплевав на ладони, он взял в них щепотку земли и размял ее в прах. Когда кровь остановилась, он скупо промыл раны водой, повязал руки тряпкой от изжившего век башлыка и опять приступил к работе.
Меньше чем через час к нему присоединился Ацамаз. За помощь ему он был благодарен, но по-прежнему чурался его присутствия, особенно если его нельзя было разбавить каким-то иным. Рядом с Ацамазом говорить было не о чем, да и молчать было непросто: несмотря на тишину, прерываемую лишь ударами металла о каменистую почву и двойными натужными всхрипами, казалось, между ними идет подспудный разговор, в котором один собеседник слышит другого насквозь, а второй слишком туг на ухо, чтобы распознать в речи первого не произнесенные вслух слова. С тех пор как Тотраз избавился от жеребенка, передарив его новым соседям, их отношения с Ацамазом заметно улучшились. Им стало легче встречаться глазами, как людям, неожиданно для себя вдруг простившим тех, кто успел уже простить их сам. Но неловкость осталась. Работе, однако, она почти не мешала.
Закусив под веселым прищуром солнца вяленым мясом, они продолжали копку до самого заката, вырыв за целый день квадратную канаву под фундамент. Потом распрощались и пошли по домам. В хадзаре у Хамыца Тотраза ждала горячая похлебка из пресной рыбы и запеченная куропатка. Плотно поужинав, он поднялся, взял циновку и отправился ночевать в покосившуюся хижину. Сон долго блуждал вокруг его праведно запертых глаз, пока не укротил его желание дурным забытьём. Когда он снова поднял веки, сквозь побуревшую хвою стен на него уже вовсю смотрело утро. Стало быть, я пережил еще одну ночь, подумал он и вышел наружу. Яркий свет ударил его в лицо и принялся глотать очертания горы напротив заодно с зыбким лесом, откуда сегодня к обеду вернутся охотники. Умывшись, он направился к лошадям. Отвязав их от коновязи, пустил пастись. Слева от луга начинало желтеть всходами поле, огороженное кольями и пересаженным с оврага кустарником. Ацамаз уже ждал его, держа в руках молот и толстое зубило. Кивнув друг другу, они пошли к скале, где уже трижды до того рубили камень под фундамент.
С прошлого раза разлом почти не изменился, только чуть потемнела пыль да глуше стали трещины в ребристых стенах. Первым взялся рубить Ацамаз. Искоса следя за его уверенными движениями, Тотраз не переставал дивиться его надежной выносливости. Удары были коротки и сильны и отдавались в ступнях рассыпавшейся дробью. Поймав нить трещины, он бил в нее зубилом, безошибочно выбирая угол и направление удара, о чем свидетельствовал плотный звук, который не сек пустым звоном по плоскости камня, а уходил внутрь, в его расколотое тело, словно нож, вскрывающий улиточную скорлупу. Не крупные, но жилистые руки работали без устали и не меняя ритма, будто кроили время по собственной удобной мерке. Когда по могучей спине Ацамаза поползли темные пятна, Тотраз понял, что настал его черед, и попросил инструмент. Солнце пекло ему голый затылок, каменная пыль быстро забила глотку и густо села на потное лицо. Стоило ему лишь самую малость забыться и подумать не о том, как удары начинали частить, становились слишком тяжелыми и слепыми, отбивая от стены холостые осколки, разлетавшиеся по сторонам беспорядочной стрельбой.
Ручей находился в какой-нибудь сотне шагов от разлома. Утолив в нем жажду, Тотраз вернулся и присел отдохнуть на один из выступов в скале. Ладони опять его подвели. Они кровоточили и саднили, а день только-только еще выплывал из длинного утра.
— Четыре дома — уже аул, — сказал Ацамаз. — Верно? Четыре дома, мост и пшеничное поле…
Что-то пробормотав в ответ, Тотраз принял от него зубило и молот. Работать было проще, чем поддерживать разговор. Еще труднее было думать о доме, где он поселит вскорости свою беду и будет прятать свои мысли.
Пошел дождь. Лился он не из туч, а из унылой серости неба, внезапно сменившей утреннюю лазурь. Не скупой и не щедрый, безразличный, как эхо, дождь плелся вслед за мрачнеющим днем к невесомым пещерам сумерек, до которых было так еще далеко. Сев на корточки под прикрытие расселины, мужчины глядели в низину и размышляли каждый о своем. Мысли их — неугомонная мошкара — кружили вокруг, задевая друг друга крохотными крыльями, и разбивались о потемневшую каменную пыль. После них оставалась печаль.
— Он что-то затеял, — сказал Ацамаз.
Тотраз не стал уточнять, о ком идет речь, а только вяло подумал: «Зря он это. На кой мне его сочувствие! Сам убогий, а лезет ко всем со своей искалеченной мудростью…»
— Затеяла корова быком стать! — сказал он вслух. — Из одного глотка троим не напиться… Два пальца в одно дуло не сунешь. Сердце, как чурек, надвое не переломишь…
Произнеся это залпом, он поднялся, чувствуя, что досада в нем так и не выговорилась, и вышел под дождь. Ацамаз наблюдал, как он берет в руки зубило, молот, а потом начинает в ярости рубить скалу.
— Ты и сам это понимаешь. Иначе б не стал строить дом. Сплевывая с губ липкий дождь, Тотраз не слушал его бредни.
— Хорошо, — сказал Ацамаз. — Ладно. Ты строишь дом, чтоб не стеснять Хамыца с женой. На том и порешим.
За спиной у рубившего прошуршали его шаги. Считая удары, Тотраз ждал, когда он уйдет достаточно далеко. Досчитав до сотни, в полном изнеможении он выронил инструмент и прилег прямо на камни. «Боже, — подумал он, — когда же ты сжалишься и поможешь? Коли дважды меня спас и вынудил жить, то дай хоть терпенье! Разве я прошу слишком многого?..» По хлопьям звуков далеко внизу он распознал голоса воротившихся охотников. Все так же лежа на спине под теперь уже моросящим дождем, он глядел небу в глаза и понимал, насколько оно живое. Однако так и не смог решить, есть ли в нем сострадание. День поскользнулся на глади хребта, вскинул серые руки и растекся мокрыми пятнами по подмышкам скалы. Тотраз поднялся, почувствовал, как в пустом желудке шевельнулся ядом голод, собрал инструмент и побрел вниз к людям, размышляя о равнодушной скупости небес. «Я уродлив, — думал он. — У меня на темени томится червем безобразный шрам, а на левой руке не хватает двух пальцев. Неужто недостаточно, чтобы смириться? Вместо этого мне взбрело на ум выстроить дом. Он решил сделать из меня посмешище, вот что он затеял, а Ацамаз — тот из жалости прикидывается, будто ему невдомек…»
Злость его была такой же неискренней, как и сами мысли. Удрученный, он шел, поникнув головой, и, каждым шагом своим приближаясь к аулу, ощущал все явственней, все зримей, все ока-яннее, что ведет его туда не злость, не расчет, не сила духа и даже не наивность, — надежда, вот что двигало его душой, когда телу и разуму становилось невмоготу. Пытка надеждой была нескончаема, как и упрямство сердца. Вдвоем они соперничали с временем. Быть может, это и есть жизнь? Во всяком случае, очень похоже…
X
Алан ушел еще прежде, чем Тотразов дом обзавелся соломой на крыше. Одолжив у Хамыца коня, он объяснил, что едет в крепость за семенами. Вряд ли кто-то в это поверил. Он был весел и возбужден, как человек, принявший важнейшее для своей судьбы решение, о котором никто не должен знать — до той поры, когда не узнать о нем будет уже невозможно. Стоя во дворе, женщина глядела на него не то печально, не то хмуро, а может, встревоженно. Когда он, вскочив в седло, поднял коня на дыбы и с радостным гиканьем сверкнул на нее глазами, ей стало вдруг стыдно и страшно. Вернувшись в пустой и, казалось, следивший за ней отовсюду хадзар, она присела на край скамьи, коснулась пальцами своих высохших губ, погрузилась в раздумье, запуталась в нем, потом больно вздрогнула телом. Зрачки ее лихорадочно заблестели, а на устах длинной, порочной бледностью проступила улыбка. Женщина снова двигалась, но как бы сама себя не замечая. Посновав от стены к стене, она замерла, пронзенная желтым лучом из окна, дошептала скомканные заклинаньем слова, гордо вскинула подбородок, сощурилась на мелькнувшую по кладке стены тень, распознала в ней свое будущее, вдохнула его смелыми ноздрями, быстро подобрала юбку и, пав перед ним на колени, впервые за много месяцев излила на пол обильные крови.
Наведя чистоту, она напилась воды, завернулась от холода в шкуру и, подогнув колени, прилегла на нары. Несмотря на жару, ее бил озноб, зубы мелко стучали, а по позвоночнику бегали цепкие муравьи. Проспав до полудня, она проснулась с ощущением спокойного парения, только что перебитого звонким кнутом, и почувствовала себя раненой птицей, провалявшейся без сознания и с заломленными крыльями в тухлом дупле. Луч прижался пальцем к подоконнику и подвернул напротив стены изнанку порога. Выпутавшись из шкур, она выглянула наружу — удостовериться в том, что мужчины все еще хлопочут на стройке. «Пять дней, включая этот, — сказала она сама себе. — Им тоже хватит. Потом я умру». Мысль ее не расстроила.
Проверив жеребенка, она сходила к реке за водой, нарвала трав для отваров, разложила сушиться по низкому настилу дома, пообедала копченым мясом, взяла острогу и вновь пошла к реке. Побив немного форели, вернулась в дом, раззадорила угли в очаге, утопила рыбу в золе и села у огня на корточки. Когда рыба запеклась, она попробовала ее на вкус и, передумав, швырнула за дворовый плетень. Спустя четверть часа — пока женщина управлялась со сложенным под навесом хворостом и переносила две охапки его в хадзар — в траву заныряли пятнистые коршуны, похожие в подлете на подросших ежей. Боясь спугнуть, она смотрела за их охотой из-за дверного косяка, подмечая заодно, как чуть дальше по холму настилают стропила на крышу.
Той же ночью она услыхала шаги. Распятая на нарах, кусала губы и обливалась потом, расчесывая пятками постель и постигая собственную низость. Шаги потоптались во внешнем приюте двери, подумали в кромешной тишине и, не решившись войти, тихо удалились. Наутро на приступке она увидела подмятый близорукой ночью пучок полевых цветов, перетянутый жилкой травы. При свете дня жизнь резко сменила запах на дух сухой земли с политого солнцем двора вперемешку с навозной дымкой из-под затрусившего прочь жеребенка. Во всех своих членах женщина ощущала приятную нетрудную усталость, как после долгой упорной любви. День застыл над горой, оперевшись о посох терпенья, и не желал никуда уходить. Она обманывала его работой, рутинным шепотом песен и праздными загадками одиночества, подкрепляя их окаменелостью поз, тягучестью дремотных мыслей и лживым покроем надежд, но он томил ее до самых сумерек, которые тут же окрасил по краям горящим румянцем заката. Перед тем как раздеться, она выставила за порог свою тень, подержала ее под струей сквозняка, бросила взгляд на звезды и уронила на землю слюну, заворожив ее молитвой. Спала она глубоко, погрузившись на гулкое дно подземелья с двумя факелами из глаз, в которых отражалась покоем тяжелая вода. «Осталось три дня», — подумала она, едва распахнув ресницы, и неспешно пошла по уже знакомой тропе к новому вечеру. Он был нежен, застенчив и долго дышал за стеной свежим добрым дождем. Крови теперь досаждали ей меньше, и оттого можно было весь сон напролет, коротая постную ночь, предаваться медленному греху.
Когда настелили крышу, она натаскала в дом побольше речной воды, согрела ее на огне и, обнажившись, стала купаться в корыте, млея от близости яркого послеобеденного солнца и надвигавшейся неизбежности того, что непременно должно было произойти с последним наступлением темноты. Вспомнив, что завтра умрет, она даже повеселела, потому что смерть ее была лишь ничтожной ценою за то, что ей предстояло. Это как дань благодарности. Готовясь к неминуемому свиданию, она испытывала безраздельное счастье, которого не ведала никогда до того. Оно действительно могло быть всеобъемлющим и полным, если за ним ничего не стояло: ни боль предстоящей разлуки, ни отрава сомнений, ни наивность надежд. Все уместится в одну только ночь, вслед за которой не должно быть более встречи со светом и временем. Иначе оно их убьет. Стоит только пустить его, время, красться по дому и вынюхивать ночные следы, как оно обязательно сочинит вину и придумает муки для совести. Сейчас этих мук еще не было: таясь за плечом ожидания, совесть благоразумно молчала, ибо была слишкОхМ бесплотна, слишком нелепа, невзрачна в сравнении с молодым здоровым телом, лежащим в воде и впивающим благовония искренних трав, брошенных на алтарь искрящегося светом корыта.
Искупавшись, женщина встала, ступила на пол и позволила каплям оросить циновку под распаренными в розоватый туман ногами. Встряхнув головой, она отжала отросшие волосы, выбрала длинную прядь, накрутила ее на мизинец и потянула за золотой узелок. Прядь потемнела, налившись обидой, но сразу, чуть она ослабила тягу, сделалась шире и светлей, словно была живая и перевернулась змеей с бледного брюха на спину. Расчесав волосы редким гребнем из кости, женщина вскинула их волшебной волной под лучи из окна и приняла ее обратно на свои влажные плечи. Больше всего ей хотелось выйти сейчас под сильное солнце и в последний раз насладиться его ласками. Вместо этого, подняв на скамью ногу, она задумчиво прошлась по ней ладонями, с удовлетворением отмечая, что это короткое путешествие пришлось рукам по вкусу. Внимательно изучив свой живот, она обнаружила две тонкие морщинки, расходящиеся ручейками в разные стороны от укромной ямки пупка. Нахмурившись, подумала, что ничего не проходит бесследно, даже бесплодие. Потом легла ничком на нары, уронила руки и представила себе, что она — это она и есть. В это было непросто поверить. Точнее, трудно было разобраться в том, кто ей более незнаком: та, что когда-то работала в цирке с сестрой, потом ушла с чужеземцем куда глаза глядят, а после высохшим под юбкой пузырем понесла от него пустоту и поселилась у Проклятой реки в окруженье изгоев и склепов, — или та, что отреклась от всего во имя одной лишь неправедной ночи? Если не очень в это вдаваться, ответ особого значения не имел.
Тишина сделалась почти оглушительной. Только чуть слышно поскрипывала дверь на ветру да щипали траву встретившиеся на лугу лошади. За всем этим стоял ровный голос реки. Погрузившись в его монотонность, женщина скользнула душой из хадзара и пошла искать обрыв на востоке горы, откуда ей предстояло низвергнуться позже восторгом полета. Однако увлечься им надолго она не смогла и потому уплыла в прибрежную заводь, где можно было сперва насладиться чистой прозрачной водой, а потом одним только шагом войти в гремящий поток, чтобы скорбная рыба времени, сокрытая внутри нее, взбунтовалась и вырвалась из бренного тела на волю, сливаясь с громадой реки.
Она была уверена, что он придет. Чтобы заранее увидеть свое будущее, женщине хватило лишь понять, что ничего другого впереди попросту нет. С тех пор, как она это осознала, ей удалось подчинить свои дни лишь ожиданью развязки. Когда спустилась ночь, она протянула к ней руки, подержала в них звезды и подарила луне переливчатую слезу.
Он вошел к ней быстрыми шагами, четко вторившими ударам ее сердца, и, запнувшись на приступке, решительно двинулся к нарам. Задув лучину у изголовья, она спокойно сказала:
— Быстрее… Ты должен уйти до рассвета.
В любви он был неловок и тороплив, но это ее не смутило. Достаточно было того, что он выплеснул на нее свою боль и, надрывая грудь, пытался укротить дыхание. Никто прежде не доверял ей столь безоглядно своего отчаявшегося одиночества и не взывал к спасению раздирающим душу молчанием. Она открывала ему свое тело терпеливо и бережно, словно выхаживая обессиленного больного. Когда он раз за разом беспомощно бился в ее объятиях, она испытывала такое неизъяснимое наслаждение, которое не имело ничего общего с тем, что жаждала ее плоть, но было больше, острее, пронзительнее, потому что возносило ее туда, где было зачато само мироздание — где не было даже намека на сомнение и утрату, а было лишь неспешное, нескончаемое обретение. Любиться с ним было все равно что утешать сиротливого ребенка. Все равно что целовать жизнь в самое сердце и копить в себе первозданный покой бытия. Облитая счастливыми слезами, она касалась его тела своей кожей, обратившейся в теплое море, накатывала на него невесомыми волнами и отступала в тот самый миг, когда он, задыхаясь от трепета, предавался агонии наслаждения и предсмертно всхлипывал горлом. Схватив ее стальными пальцами за плечи, он пытался удержаться на призрачной границе, разделявшей явь и кошмар, гром и пустыню, начало и конец, все и ничто, а потом, взлетев душою ввысь, стремительно падал, но всякий раз она успевала его спасти, подложив умелые нежные руки под его сжавшееся в кулак сердце.
— Со мной это впервые, — признался он, словно оправдывая свою неумелость.
— Я знаю, — сказала она. — Со мною тоже…
Он понял, что она говорит о другом, более важном, о том, ради чего он дважды выжил за этот год и только что стал подлецом. В прорезь окна он увидел, что ночь уже предала их, собрав с неба звезды, но про то, что скоро наступит утро, думать ему не хотелось.
— Ты пойдешь со мной, — сказал он ей и тут же почувствовал, что допустил оплошность: ей нельзя было приказать, как невозможно было покорить угрозой строптивый нрав реки за окном.
— Лучше молчи, — сказала она. — Не надо портить ночь. Ее и так осталось мало.
Покорившись, он затворил глаза и последовал за ней туда, где вместо света были вспышки, а твердь и воздух ваяли плавную мудрую взвесь. Потом она беззвучно зарыдала, а он, напуганный, не ведал, как может ей помочь, если горе в ней спустя минуты говорило уже не слезами, а смехом. «Я люблю его так, — думала тем временем женщина, — что не могу с ним расстаться. Я так его люблю, что готова сто раз умыться позором. Я так страшно его люблю, что не могу теперь умереть…»
— Ступай, — сказала она, когда рассветом подмыло небесную мглу. — Скорее, пока они не продрали глаза.
— Сегодня ночью я приду опять, — сказал он. — Если сумею пройти до конца этот день. Но я могу и остаться. Так будет даже проще. С ним вдвоем нам теперь не ужиться… Или он, или я. Ты же знаешь…
— Нет, — сказала она. — Я знаю, что мы его обокрали, хоть он ни в чем не виноват. Если ты останешься, мы покроем его позором. Он его не заслужил. Ступай и жди ночи.
— Опять воровать? Не хочу. Я хочу…
— Ты хочешь меня. А я не хочу добивать позором того, чья вина только в том, что мы его обманули. Вспомни, он спас тебе жизнь…
— Пусть теперь ее отберет, если сможет, только воровать у него я больше не стану.
— Хорошо, — сказала она. — Не воруй. Возьми и прикончи сначала меня, потому что больше меня никогда не получишь.
— Я останусь, и мы… Куда ты?..
Вскочив на ноги, женщина нырнула в платье и хотела было броситься вон, но он поймал ее у входа. Упав, они безмолвно боролись, она — с яростью в острых ногтях, он — в неподдельной растерянности от ее внезапного гнева. Усмирив наконец ее руки, он хрипло сказал:
— Ладно. Коли так — я уйду. Знать, тебе моя честь — все одно что кобыле слепень…
В залитых слезами огромных глазах ее он так и не смог ничего прочитать. Оставшись одна, она сидела на полу и стонала протяжно и глухо, не слыша уже ни себя, ни надвигавшегося утра, ни приблизившихся к двери шагов. Только когда прозвучали снаружи слова, она очнулась и, затаив дыхание, внимала им с испугом и облегчением.
— Всякое дерево к солнцу тянется, — сказал Ацамаз. — Разве стоит его за это рубить?
Помолчав, он продолжил:
— Подумай вот над чем: два человека дороги друг другу. Но одному из них вдруг это стало в тягость. Неужто второй будет мстить? Он лучше поможет. Лучше уйдет. Сперва уйдет, а после вернется, чтобы расставить все по местам. Потерпи. Не ходи сегодня к реке. Жена Хамыца тебе подсобит… А коли не хочешь, просто сиди и жди. И ничего не делай. А не сможешь без дела — следи за тем, чтобы не погас огонь в очаге. Вот тебе и забота на целый день вперед. А мстить он не станет. Не такой человек, чтобы из сотворенного своими руками гнезда силки делать. Да ты и сама это знаешь…
Шаги удалились. Она тихо заплакала. Плач был не горем, а другом с легкими и теплыми руками. Отплакавшись в радость, с каким-то внутренним ликованием она подумала, что любовь не крадет, а лишь берет то, что ей и так принадлежит… Берет свое и даже не оглядывается. «Наступит ночь, и он придет опять. Ради этого стоит жить даже в позоре, а умереть — умереть всегда успеется…»
Она была так несомненно права, что разом успокоилась.
Пережить утро, день, а за ними и вечер теперь казалось сущим пустяком. Не послушавшись Ацамаза, она смело вышла во двор и, сморгнув на яркое солнце, поглядела на жизнь вокруг сочувствующими глазами. Свежий утренний ветер вплелся ей в волосы и зашептал свою радость. Жеребенок ткнулся в плечо трусливой ноздрей, и она, засмеявшись, прижала его морду к своей груди. Мир был огромен, но все-таки мал для ее беспредельного счастья. Потерявшись в нем, чертили по небу круги восторженные птицы. Дыхание земли было ровным, как поступь заботливой вечности. Время покорно бежало за ней по руслу реки, добровольно доказывая свое смирение. Красота царила и царствовала, соединяя всех и все в одно громадное, подвижное целое. Прямо посреди него стояла женщина и изо всех сил крепилась, чтоб не запеть. Звали ее Мария.
XI
Через три недели вернулся Алан. Вошел он в аул ближе к полудню, ведя под уздцы Хамыцева коня. В седле его сидела та, что никак не могла там сидеть, потому что четверть часа назад скрылась в своем хадзаре, где почти месяц до того день за днем ждала наступления ночи, чтобы с приходом ее привычно загнать незлобивый дух ускакавшего в неизвестность мужа в темный угол комнаты, откуда он печально взирал до утра на то, как она дарит себя спасенному им же соседу. Однако та, что в седле, была, несомненно, она, хотя, конечно, не могла ею быть уже потому, что все они видели, как, выметя двор, она только что скрылась в хадзаре.
День был чистый и кроткий, как раз подходящий для всякого рода случайности, так что небеса им ничего не сказали, когда они невольно, проводив глазами коня с всадницей и шествовавшим рядом спутником, вскинули лица наверх в надежде высмотреть хотя бы смутные следы знамения.
Подведя животное к коновязи, Алан сложил поводья, обернулся, подал руку девушке, помог ей слезть с коня и без единого слова кивнул на хадзар: входи, мол, — сам задержался во дворе, лаская прильнувшего жеребенка. Потом они услышали крики и плач, и снова крики, а после — еще и рыдания, из чего заключили, что радость от встречи была больше той, что могла уместиться в голоса или слезы в раздельности. Словно подтверждая эту догадку, наступила внезапная тишина, и тогда они подумали, что чудо приходит так же почти, как пробужденье после тяжелого сна: сразу вдруг все становится ясным и ты говоришь: «Слава Богу!».
— Слава Богу! — сказал Хамыц и поглядел на жену. Глаза у нее были прозрачны, как пузырьки воздуха в утренней заводи. — Теперь он с ним просто поделится…
Женщина ничего не ответила, только чуть нахмурилась и опустила голову пониже. Наверное, подумала о том, что он так и не выучился толком пользоваться словами, если они выходят у него такие неряшливые, что способны опорочить чистый слух подобного мгновения. Она ощутила еще нежадную теплую зависть к тем, кто сумел обойти зреющую беду, поймав, словно бабочку в руку, нужную капельку чуда под самым носом у лиха.
Тотраз первым ушел к себе и не появлялся до тех пор, пока Алан не воротил заемного коня Хамыцу, поднеся ему в подарок закутанную в платок большую голову сахара и моток рыболовной нити. «Чтобы не было слишком солено и чтоб словил в реке свою удачу», — пояснил он. Едва закончился недолгий их разговор, Тотраз вышел из дому с перекинутым за плечо ружьем и очень ровным шагом проследовал к мосту. Перейдя по нему через реку, углубился в лес, поискал там прохладу, наткнулся на олененка, запутавшегося в кустах, вскинул ружье, надавил на курок, но выстрел осекся. Вхолостую щелкнув бойком, он только спугнул свою цель. Открыв затвор, Тотраз увидел, что зарядил его не патроном, а тряпичным пыжом. «Слава Богу», — невольно подумал и он, потому что вряд ли смог бы стереть из души эту минуту странного помутнения, завершись она столь бессмысленным и позорным убийством.
«Слава Богу, — думал и Ацамаз, вспоминая лицо Алана, когда тот пересекал аул из конца в конец, ведя под уздцы Хамыцева коня. — Он сумел обмануть неизбежность. Теперь разрешит обмануть им себя…»
Первые несколько дней сестры не расставались ни на час, сверяя, как по зеркалу, свое безупречное сходство и делясь взахлеб спрятанными в нем различиями, усугубившимися благодаря хлопотам врозь прожитого времени. Алан благоразумно не мешал, уходя из хадзара то на поспевшее колосьями поле, то к полноводью реки, а то и в лес, изводя скуку охотой. За все это время он ни разу к жене не притронулся, словно бы не хотел ошибиться, а может, просто не решался избрать, какую из двух ошибок стоит ему предпочесть.
Та, что ложилась с ним рядом на нары, давно уже стала чужой, и было это по-прежнему больно, потому что роднее нее было только воспоминание — про то, как они были близки и свободны, а потом вдруг все это кончилось, ушло навсегда вместе с стаявшим снегом, и следующее лето уже ни в чем им не помогло, и оттого пришлось ему собраться с духом, выжить и простить (а может быть, простить — да тем и выжить), чтобы начать кроить их новую судьбу придуманной случайностью.
Вскоре настала жатва, и всем в ауле сделалось проще. Работы было много, а дожди заблудились так далеко от ущелья, что запах пыли, поднимавшийся из срезанных колосьев, проникал в дома и настаивал духотой звенящие последним эхом зноя ночи.
Перемолов часть жита Ацамазовыми жерновами, женщины испекли первый хлеб. Тонкие и пресные лепешки были вкуснее всего того, чем питались они в этот год. Запивать их речной водой было одно удовольствие.
Зерно ссыпали в сколоченные чаны и оставляли сушиться на жаре. Слишком теплая осень предвещала снежную зиму, до которой, казалось сейчас, им ни за что не добраться. Время словно застыло и крепко задумалось, пытаясь вернуть себе память о том, чего могло и не быть — так старый лентяй ковыряет травинкой в зубах, стараясь припомнить, куда и зачем он тащился, пока не поймет вдруг, что стоит уже там, куда шел. Странные то были дни: все просто ждали.
— Хорошо, — рассуждал сам с собою Хамыц, не забывая, однако, проговаривать вслух свои мысли. — Положим, я ему предложу, и он согласится. Как я Алану в глаза смотреть буду, когда приду к нему сватать его же жену?.. Дураком притвориться настолько я не смогу, хотя, пожалуй, кроме меня притворяться и некому. Разве что Ацамаз?..
Женщина недовольно молчала, делая вид, что не слышит. Как бы ни было глупо играть в неведенье там, где все и всем было ясно, его нерешительность была гораздо глупее.
— Ничего, — говорил он, потирая колени, будто порываясь отправиться в давно предвкушаемую дорогу, которую в очередной раз не по своей вине был вынужден отложить, — у них не горит. Подождем день-другой — там видно будет…
Но видно было лишь то, что дольше ждать нельзя: Тотраз исхудал, вылиняв в мрачную тень, а под глазами у него темнели грязью лиловые круги, губы потрескались и были постоянно полуоткрыты, будто готовились произнести заветное слово, едва оно сложится само собой в его ищущей памяти. Если вокруг стояла жара, то внутри у него вовсе кипело пламя. Оно-то все и решило…
Сентябрь вяло плелся к октябрю, когда за рекой загорелся их лес. Они увидели пожар сквозь дырявые сумерки и тут же поняли, что Тотраза в ауле нет. Зарево жадно дышало, донося до них ветром приторно-горький вкус встававшего к небу костра. Кричали вспугнутые птицы. Они летали стаями над рекой, словно умоляли ее встать на дыбы и ринуться спасительной волной на пожираемые огнем деревья. Вспыхнувшие факелами кроны отражались в ленте воды золотыми и плотными кольцами. Стоя на своем берегу, люди смотрели, как гибнет лес, и не могли себе ничем помочь. Пожар распространялся вдоль прибрежной полосы и постепенно углублялся внутрь, споря со встречным ветром. Ветер метался по просекам, саднил ожоги, и ответом ему был лишь странный протяжный стон, будто лес был живым существом, пытаемым огнем, в котором исчезли уже и звери, и норы, и духи, ибо ничего, кроме этого стона, людям на другом берегу слышно не было. Мост кроваво блестел сочными пятнами зарева, хоть был от огня далеко — дальше, чем их — один на всех — оцепенелый ужас, в бессилии наблюдавший за тем, как свирепеет яростью природа.
Глядеть на это было очень тяжело. Первой не выдержала Мария. Хамыц ахнул, подставил руки и едва успел ее подхватить, когда она пошатнулась и, теряя почву под ногами, стала падать вперед на свои холодеющие глаза. Вдвоем с Аланом они уложили ее на землю и смотрели, как рвет на ней одежду сестра и хочет воплями согнать смерть с ее лица, белого и хрупкого («Все равно что задумавшееся о снеге стекло», — подумал сосед), причитая во весь голос и невольно тесня от бездыханного тела расторопную Хамыцеву жену с поднесенной чашей воды. Алан был очень бледен, не замечал, как давит пяткой скомканное платье и бестолково дрожал локтями, не решаясь склониться над женой. Она ушла за пределы мирского безмолвия — туда, откуда однажды ей довелось уже к нему вернуться, да ведь такое не повторяется…
Лицо его исказила гримаса, которую трудно было понять: словно улыбка сорвавшегося в бездну человека, она застыла между отчаянием и ликующим страхом полета. Ацамаз сутуло стоял у него за спиной и мрачно глядел на пожар и Марию, будто видел такое уже не в первый раз. Сполохи на обнаженной женской груди казались непристойными и заставляли отводить глаза.
— О-о-у-у-у-уП — кричала сестра, описывая запрокинутой головой одну дугу за другой и не ведая, как сама, сжав в кулаки ткань платья, безжалостно выдергивает коченеющее тело из постепенно обретаемой им слепоты, покуда пожар за рекой срывал с деревьев горящие глаза обращаемого в пепел ветра. — О-у-у-а-о-оп!
Крик ее сводил их с ума. Не выдержав, Хамыц в сердцах двинул локтем по чаше и велел жене принести из дома подаренную Аланом лесу.
— Свяжем ей руки, — сказал он Ацамазу, имея в виду сестру, и про себя подумал: «Иначе не даст к ней приблизиться — ни к живой, ни к мертвой…»
Ацамаз пожал плечами и притворился, что не видит слез в его глазах. Небо ухнуло и разразилось дождем. Ни молний, ни грома не было, но это был ливень. Он заливал жидкой стеной все пространство вокруг, дробя пламя пожара сперва на злые костры, потом — на коптящие очаги пристыженного пламени, пока не смыл его прочь, раз давив громадой воды. Держа на руках тело Марии, Алан твердил благодарные слова молитвы, а Хамыц возбужденно поводил плечом и зачем-то проверял на прочность рыболовную нить. Жена его обняла девушку-двойника и гладила ее по голове, покуда та бормотала на незнакомом языке свои признания. Дождь хлестал их по лицам и становился все гуще, потом и вовсе превратился в сплошную пелену, оглушившую их громким шелестом, из которого вырос вдруг сам Тотраз — дождя призрачный, величавый посланник. Тотраз сказал:
— Не знаю, угожу я в ад или в рай, но только что я был у них на самой меже…
Увидев Марию, он осекся.
™ Ничего, — сказал Алан, — теперь очнется… Помоги отнести ее в дом.
Запахнув одежды на груди, они уложили ее на нары, и жена Хамыца натерла ей крапивой и солью виски. Мария дышала, отзываясь ресницами на их возбужденные голоса. Смазав ей ступни турьим жиром, Хамыцева жена пояснила:
— Чтобы хворь не взяла…
Прежде чем уйти, Ацамаз скормил очагу несколько поленьев, и теперь огонь неровно вскидывал пламя, пытаясь спугнуть беду. Хамыц и Тотраз тоже вышли из комнаты под входной навес, поглядели соседу вслед и стали думать, о чем бы поговорить.
— Я видел, как он зачинался, — сказал наконец Тотраз. — Сначала это была только сухая хвоя; потом от нее пошел жар. Он был сильнее того, что прятался в воздухе. Потом я заметил легкий дымок и не поверил глазам, потому что огня никакого не было. Дым нырял сизым облаком вниз и вырастал снова, уворачиваясь волнами от ветра. Потом его стало так много, что сделалось трудно дышать. Я хватал его вместе с хвоей руками, и он обжигал их горящими иглами. (Вот, погляди на эти волдыри…) Потом я увидел, как его снесло ветром к опушке и медленно закрутило кругами вверх, пока не запалило им первые ветви. Я бросился было к реке, но вдруг увидел, как загорается тропа — знаешь, словно на пыльную шкуру упали огненные брызги, — и тут я понял, что бежать не нужно. Пламя стояло уже стеной, — какая-то сотня шагов… И во всю эту сотню шагов по земле и деревьям стелился черный дым… Я повернулся к нему спиной и пошел в лес. Я шел и шел без остановки, и все время, покуда я шел, передо мною мелькали вспугнутые звери: лисицы, зайцы, тур с разбитым рогом, волк и обезумевший больной кабан со струпьями на морде — они бежали в разные стороны, сильно пригнувшись к земле. Без единого крика, не замечая ни меня, ни будто бы даже друг друга… А вот птицы исчезли вмиг… Да. Птиц уже не было. Теперь припоминаю: последнюю я видел перед тем, как повернул обратно в лес. Она взметнулась с ежевичного куста свечою вверх, будто это огонь выстрелил ею в небо… Птенцы пронзительно пищали из брошенных гнезд, но скоро их я тоже слышать перестал. Лес за спиной трещал уже так, будто сами боги молча ломали его руками. Было страшно и вместе с тем — нет… Не могу объяснить, но мне было вроде бы радостно… А потом я почувствовал вдруг, что все остановилось, и больше не видно зверей, лишь сзади слышится какое-то чавканье — будто кто-то крошит челюстями лес, — и нет больше ветра. Нет совсем, как если бы его затянуло в воронку. Тогда остановился и я. Обернулся и увидел, что пожар стоит — очень ровно, навытяжку, все равно что живой человек. А потом я вспомнил о небе, и оно тут же упало на меня громкой водой. Да… Он взялся неизвестно откуда. Большой и сильный дождь сыпался на меня ломтями серой воды, и тут я понял, что все обошлось. Дым прибивало к земле, как крота, потерявшего нору. Гарь и копоть стекали с теплых стволов, а земля стала черной, будто смола. Я пробирался к реке, укрыв лицо рукавом, чтобы не чувствовать запаха гари, но он все равно пробивался мне в глотку. Я сплевывал его гнусную чернь, как свою бесстыжую душу. Теперь я не понимал, как мог быть таким подлецом… Знаешь, с тех пор как Алан воротился, я только и думал о том, что ему ни к чему больше жить. И месяц еще — перед тем. И даже раньше… Уж и не вспомню, насколько… Дождь дал мне возможность прозреть, хотя сквозь него и нельзя было ничего разглядеть. Но, будто стоя в бескрайней толстой воде, я продолжал идти, и было это так, словно он лился с небес для меня одного. Потом я все забыл и вышел к реке… Мост уже стоял передо мной, поджидая: я увидел впереди столбы и двинулся к ним. Реку я едва различал, хоть она и шумела, прямо подо мною. А потом мост закончился, и я увидел вас. Помню, в тот миг я еще был насквозь преисполнен дождя и сошедшей с небес премудрости, мне очень хотелось сказать что-то важное, что-то главное… Но тут я посмотрел Алану на руки и узнал ее… Помнишь тот день, когда мы впервые вышли к реке, а утром увидели склепы? Я сразу вспомнил то чувство и напрочь забыл все то, что собирался сказать. Погляди, как сверкает трава — словно ее кропили серебром. Скоро дождю конец. И кони всхрапывают — пугают мышей. Слышишь?.. Пойду к себе…
Внезапно прервав разговор, он обернулся и, больше ничего не сказав, направился к дому, исчезнув сперва в дожде, а потом и в звуке своих удаляющихся шагов. Хамыц присел на корточки и долго думал о том, что сделает завтра. На пороге появился Алан, прислонился спиной к косяку, помолчал. Потом перевел дух и сказал:
— Довольно маяться… Иди. Утром свидимся.
Им в лица плеснуло моросью, и они поняли, что ветер вернулся. Он заметался между дождем и хадзаром, гудя своей отдохнувшею силой и вынуждая мужчин заслоняться от резких порывов рукавами рубах. С Хамыца чуть не сорвало шапку, и он отчетливо екнул горлом, пока ловил ее рукой. Где-то очень близко заржал жеребец, и Алан пробормотал:
— Видать, его тоже пробрало… Ну и денек!
Толкнув дверь, он вошел в дом. Там было тихо и сухо. Женщины сидели на нарах и негромко переговаривались. Две из них были невероятно похожи. Были они не только сестры, но и сообщницы. Ему оставалось одно: не замечать этого так же точно, как и виноватого, смелого взгляда, с которым внимательно и не таясь на него смотрела Мария. Комната дышала теплым уютом, в котором для него самого, возможно, и места бы не было, если б не шумевший за стенами дождь…
XII
— Зовут ее София. Говорит, что родилась раньше сестры — на какие-то четверть свечи. Матери они не помнят, а почему — выспрашивать я не взялась… Отца называют князем, только я в то не верю: слишком не по-княжески судьба ими забавляется.
— У них свои князья. Нам в том не разобраться, — сказал Хамыц жене и принял от нее начищенный ремешок под кинжал. Черкеска на нем была многократно залатана, но, выстиранная и выглаженная раскаленным на огне плитняком, смотрелась почти что по-праздничному.
— Ты думаешь, они…
— Не знаю, не думаю и думать о том не хочу. Подай кинжал и помолчи.
В его нарочитой грубости чувствовалось беспокойство и неуверенность. Начистив до блеска салом свои сапоги, он сурово взглянул на жену и, поправив папаху, крепко стиснул челюсти, решительным шагом вышел во двор.
Увидев, как он идет к дому Алана, Ацамаз кивнул сам себе и пошел в сарай. Спустя минуту он появился снова, держа в руках гладкий посох, а за плечом — старый хурджин. Направился, не оглядываясь, по тропинке к горе, откуда год назад явился сюда умирать. Ноги скользили по непросохшей земле, но шел он уверенно и быстро, выказывая многолетнюю сноровку опытного странника. В глаза ему светило солнце, однако сегодня было заметно прохладней, чем все эти дни. Похоже, осень перестала таиться и решила наконец воспользоваться своими правами, покрыв облака синеватой каймой.
Сделав первый утренний привал, он поглядел на аул и подумал: «Еще немного, и они пустят корни. Поле нами уже возделано, земля вновь выучилась служить. Скоро у нас появится прошлое. Настоящее и надежное. Не то, что хочется забыть или простить самому себе, а то, от которого нельзя ни за что отрекаться. От него и зачнется их новая жизнь. Сейчас Хамыц сосватает другу жену, и они заживут в три семейства». Еще он подумал о том, что с тех пор как пришли сюда эти двое, небо сделалось ниже. Оно стало ближе к ним всем, словно Алан и Мария были отмечены печатью благословения и умели делиться им с остальными.
Давно он не взбирался по этому склону горы. Тропа, казалось, сделалась шире и не так крута, как это отложилось в его памяти. Наверное, оттого, что раньше он отправлялся по ней к себе самому — к приюту боли и воспоминаний. Там, на вершине, им можно было предаваться вдали от чужих глаз. Теперь он поднимался к Богу.
Продолжив подъем, он вскоре добрался до поворота, где когда-то, очень давно, споткнулась в тумане об обнажившийся корень сосны его навьюченная кобыла, но устояла', поддетая уздой. Сам он тогда изловчился ступить ногой на придорожный валун, нависнув над этой вот пропастью, такой мирной сейчас, будто случилось это совсем не здесь и не с ним. Остановившись на минуту, он заглянул ей на дно, где слабый ручей едва тревожил вездесущую тень сладковатой на вкус пустоты. От пропасти веяло убаюкивающим чувства спокойствием.
Сбоку и вверх по тропе крылся родник. Отыскав его на слух, он приставил посох к рогатине букового ствола и опустился на корточки. Пока он пил, с дерева сорвался листок и, покружив, присел на хрупкую воду. Лизнув его крылышко, родник оборотил его тонким черешком к себе навстречу, подержал на прозрачном языке и мягко скатил по прохладному желобку в извив крошечного русла. Опершись спиной о ствол, Ацамаз переждал, вслушиваясь в зачаровывающее журчание воды. Прикрыв глаза, он думал о том, что вечная эта, почти невесомая мелодия сотворена как раз для таких вот дней. Для дней, в которых ты собираешься разговаривать с Богом.
Оказывается, Его не надо было искать. Его надо было лишь дожидаться, не стараясь приблизить свидание. Ему не нужно было ничего доказывать, не нужно было спорить, восставать, роптать, грозить кулаком и ловить Его в глиняный образ, вытесывать в каменный идол или в угоду Ему кроить из податливого бруска грозный ликом истукан. Его нельзя было поймать в покой или буйство красок (в них можно было вместить лишь собственные свои сомнения и надежды, а потом сжечь их одну за другой в алчном пламени). Чтобы понять это, ему понадобилось сорок лет, которые он прожил вдалеке отсюда, питая душу единственно своим одиночеством и подспудным желанием его когда-нибудь обменять на окончательную правду о себе, времени и о Нем, если Он, конечно, все-таки есть и имеет к этой правде какое-то отношение. Десятки лет он боролся за это — поверить в Него или отринуть свою веру совсем, навсегда. Ради этого он сам избрал себе удел и был так ему предан, что уступил свое имя на тридцать лет вперед добровольному своему предназначению. Потом он проиграл и ушел, чтобы спуститься по этой забытой всеми тропе туда, где жизнь была сильнее смерти, и даже сильнее страха расплаты за то, что вздумалось ей смертью пренебречь. Смерть была в склепах, реке, ленивой земле и их чурающейся памяти, твердившей триста лет о том, что место проклято. Однако жизни было это все равно, и потому, испив до дна отчаяния, он решился примкнуть к ней, впервые позволив себе лишь созерцать ее и ни во что не вмешиваться. Было это непросто, не всегда получалось и стоило ему новых мук, унижений, прощения и боли — особенно за убитого им же пса. Но он и это снес, хотя, признаться, и сейчас не поручился б наверняка, проявил тогда мужество или, напротив, малодушие, когда взялся доказывать тем, другим, право свое на соседство ценою собачьей крови…
Пожалуй, они здесь были все-таки ни при чем, а дело опять было в Нем. Только в Нем, потому что все остальные служили Ему, даже если сами в том сомневались. Тем временем Он, забавляясь, играл их судьбою и чувствами, месяц за месяцем припасая им новые испытания: одиночеством и любовью, дружбой и ревностью, охотой и рекою, громом и стужей, благодарностью и мщением за то, что приходится ее принимать. И тогда он, Ацамаз, понял важную вещь: в присутствии следившей за нею — из склепов и памяти — смерти, жизнь все меньше смущалась ее (теперь почти будничного) суда. Она становилась отважней и проще, безрассудней и в то же время мудрее, продолжая строиться, надеяться и любить.
Вскоре она и вовсе презрела последние свои сомнения, когда пришли те двое и предъявили им свою решимость заодно с беременностью той, в чьих глазах они прочитали такую упорную силу, что она вмиг заставила их с благоговением отступить и, хлопоча, предоставить ей кров, угождая ее презрительной к ним и гордой собою уверенности — ведь крыша над головой нужна была не для того ей, чтобы спастись от дождей или ветра, а потому, скорее, что так оно просто удобней, особенно если ты носишь под сердцем ребенка и привыкла всегда и везде спать с тем, кто тебе его подарил.
Тут-то оно с ними и произошло — превращение.
Иначе и не назовешь, размышлял Ацамаз. Они узрели вдруг истинное средоточие своих воплощающихся надежд, и средоточием этим были уже не они, а пришельцы. Не столько оба пришельца, сколько она. Дело было не в одной только смуглости кожи, в которой они могли, но не решались — по крайней мере, вслух — угадать нездешнюю, буйную кровь, цветные шумливые пляски да раскинутый табор в степи. Причина была в том исходившем от нее душным запахом искушения грехе, на который никто бы из них никогда без нее не осмелился: она умела не подчиняться — ни долгу, ни стыду, ни совести, потому что они мало что значили, когда она оказывалась вдруг рядом с теми, кто привык сверять по ним свои похожие дни. Глядя на нее, они невольно поддавались необъяснимому, неправильному, однако явному и оттого обидному чувству ущербности, которое накатывало на них неприметной, но неизбежной волной, стоило ей смерить взглядом их лица и великодушно простить им то, что они осмелились повстречаться ей на пути.
Только один из них был, казалось, не в счет. Настолько не в счет, что она распрощалась с беременностью, ибо родить от того, кто привел ее к Проклятой реке, она уже не могла: слишком было бы это нечестно. Ей он был уже ни к чему, потому что она полюбила. Они все это видели. Мы видели и ждали. А потом тот, кто ее привел, выстроил дом и спас того, кого она полюбила, чтобы вынудить его перенять черед и выстроить свой. А потом он ушел, и она смогла выбирать. Мы это тоже видели, хоть и старались не замечать. В ночь, когда она выбрала, мы признались себе, что любовь ее стоит больше их чести, и даже чести того, кто ушел, чтобы им не мешать, и чести всех тех, кто марал ее своим молчаливым, неожиданным соучастием, так что наутро мне оставалось лишь дать ей понять, что все мы — сообщники. Но оказалось, что главный сообщник — тот, кто сюда ее привел, потому что теперь он привел к ней ее же сестру, о существовании которой никто из нас не подозревал, но, едва ее разглядев и поразившись их сходству, каждый из нас перевел с облегчением дух, поняв наконец, что в дело вмешался Он сам. Тот, Кого я искал столько лет, состязаясь с Ним в одиночестве, вместо того чтобы…
Мысль его беззвучно вскинулась и угасла. Родник журчал и был маленьким дружелюбным зверьком. Подав ему руку, Аца-маз разрешил ее поласкать, потом набрал в ладонь воды, вылил себе на лицо, отер его рукавом и поднялся. Солнце село в узкий полуденный паз между двух облаков и укололо темя тонким лучом. Надев шапку и подхватив свой посох, он снова вышел на тропу, продолжил путь. Земля кое-где уже подсыхала и резала трещинами утреннюю грязь.
За поворотом скала отступала, и ему радостно открывалась река. Еще одна загадка, в которой время обратилось в легенду, отравилось в ней ядом и растеклось пустотой на триста лет вперед. Что это: прихоть напуганного мором воббражения? Перст осерчавших небес? Обычная людская отговорка перед очередной непостижимостью? А может, это причуды вечности? Когда-нибудь, возможно, он поймет.
Река была величава и красива. Ущелье баловало ее внушительным эхом, отражавшимся на стенах горы и сопровождавшим ее течение гулким голосом вековых теней. Далеко внизу белел склепами Голый остров. Разделившись на рукава, река обнимала его с обеих сторон, обозначая четкую границу между жизнью на двух своих берегах и опрятной смертью посредине. От леса к своим четырем домам жизнь проложила мост. Смерть же за этот год никак не изменилась, и оттого казалось, что теперь ее стало меньше. Исповедоваться перед нею жизнь могла смело и без затей: не бояться же обглоданных ветром костей, когда в тебе день за днем бурлит радостью кровь!
Радостной стала и грусть. Он подумал, что Бог — это старый мошенник, хитрый и мудрый, могущественный и не лишенный озорства. Столетие за столетием, внушая безраздельное к себе почтение, Он вынуждает угрозами небесной кары служить Ему сообразно десятку совершенных истин, которые потом в один прекрасный день шутя выметает из озадаченных душ расторопной метлой. Великий умелец притворства, до поры до времени Он прикрывается смертью, как спиной преданного раба, таясь за ее торжественной поступью и тяжелым дыханием, а потом вдруг стряхивает с себя паутину ее дряхлых одежд и окунается — сильный, нагой, почти молодой — в звенящую свежесть солнечных волн. И тогда вдруг становится ясным, что Он — это жизнь, у которой нет никакого предела, потому что никакой предел не может ее исчерпать, никакая смерть не может ее укротить, обуздать и сломить, пока Он плещется в ее сверкающих водах. Вот и все. Вот и все, что о Нем надобно знать, когда идешь с Ним на встречу.
Я шел к Нему сорок лет, размышлял Ацамаз, и за весь этот срок видел столько горя и неудач, столько бесплодных потуг и смертей, что мне никогда не понять Его до конца. То, например, откуда в Нем столько жестокости. На что Ему было сеять месть и бесчестье там, где уже сторожили друг друга зависть и злоба? Зачем было искушать меня борьбою и проверять на прочность мой дух? Зачем творить легенды и плодить бесконечные беды для простосердечия тех, кто им доверял? И почему, по какому такому умыслу Он уничтожил аул, оставил склепы, проклял реку и потерял интерес к опороченной Им же земле? А спустя три века Он о ней вспомнил и решил приютить беглецов, меня и двух новых пришельцев, чьих общих грехов с лихвой бы хватило на то, чтоб нас уничтожить. Но вместо того Он дал нам надежду и новую веру в Себя. Как Ему удалось? И что Он хотел нам внушить? Какой урок?
Думать об этом было непросто. В самих вопросах, похоже, таилась неправда. Она заключалась в том, что Тот, о Ком он думал, человеком все-таки не был, и оттого мог позволить себе полнейшее равнодушие к ответам на них, как, собственно, и ко всему остальному, кроме того, что по неведомым причинам возбуждало в Нем любопытство, столь непостижимое, сколь и очевидное, когда дело касалось тех, кто уже много месяцев пользовался Его высочайшей милостью в попытке обустроить свою судьбу в соответствии со своими желаниями.
Ответов на вопросы не было. Ясно было одно: теперь Он уже не смерть, а жизнь, и жизни дозволено все, если она полюбила. Когда она любит, она готова украсть, сбежать, изменить и даже отречься.
Любя, они подвергали жизни опасности, размышлял Ацамаз. Но рисковать своей жизнью было легче, чем ею пожертвовать, оставаясь при этом в живых, а потому пример Алана был, пожалуй, главным из всего, чему они у себя научились. С Софьей было сложнее: она пошла на жертву ради сестры. Согласилась поменяться с нею местами, зная, что знают об этом все, и самый первый — тот, кто любит не ее, а ту, что ему изменила.
Поступок Софьи подарил им гордость за самих себя. Причастность к нему они доказали, согласившись презреть свою совесть во имя тех, чья безоглядная любовь, по счету этой самой совести, заслуживала лишь проклятия. Заслуживала, — но только не здесь, не у Проклятой реки, которая постепенно, луна за луною, рассвет за рассветом, внушала им, что жить под присмотром у смерти означало не только к ней неизбежно привыкнуть, но и испытывать диковинное, стоическое удовлетворение от того, что ты можешь явиться к ней в гости, посидеть в ее пыльной тени, подышать ее желтым молчанием, а потом вернуться обратно, — как если бы жизнь и смерть нашли вдруг общий язык, и за время неспешной беседы обе стали покладистей. После вчерашнего ливня жизнь, похоже, перестала бояться совсем. Теперь она рвется на волю, — ни дать ни взять, застоявшийся в конюшне жеребец.
Не то, подумал Ацамаз. Мне лезет в голову всякая мешанина. Лучше уж размышлять о другом. О том, например, как я обрел наконец здесь покой…
Сегодня он чувствовал в себе такой редкостный мир, будто долго-долго болел и метался в бреду, а когда снова очнулся, вдруг обнаружил, что вокруг очень светло и юркая ласточка вьет гнездо у него на груди.
До вершины было уже очень близко. Войдя в расселину последней скалы, он осторожно преодолел пространство тревожной прохлады, по опыту зная, как легко в полумраке наткнуться на жало змеи. Все обошлось: норы остались нетронуты, и только стекавшая по стенам слизь обдала его запахом разложения. На свету запах исчез, уступив теплым парам с хорошо прогретой земли вперемешку с сухими корнями, по которым карабкалась в гору раздвигающаяся тропа. Еще два или три поворота — и я у цели, сказал он себе.
Никакого волнения. Только тяжеловатое дыхание уставшего человека, которого трудно чем-то пронять. В сотне шагов от него появилась вершина — расколотый горб покалеченной тверди. Когда-то ее разбила карающая десница, уронив в реку обломок скалы, чтобы выправить русло реки и уничтожить обвалом чуть ли не все возведенные склепы. Должно быть, Ему наскучило ждать, и Он наслал сюда пустоту. Потом Он стал разбавлять ее временем, сочиняя забаву. А потом так увлекся, что и Сам втянулся в игру…
Сидеть на вершине было просторно и ветрено. Подставив солнцу лицо, он вдыхал в себя его благодать. Присутствие Бога было ненавязчиво и несомненно. Здесь им никто не мешал. Выше этой горы в обоих ущельях ничего не было. Вершина находилась как раз посредине между его прошлым и настоящим и навевала мысли о будущем, до которого отсюда было рукой подать. Подхваченный облаками, Ацамаз плыл по небу вместе с горой и рекою туда, где гора и река превращались в подвижную вечность. Тишина объясняла ему, что время и вечность — причуды юного, сильного ветра, хлопавшего его по плечам и теребившего ветхий башлык. Солнце могло быть венцом и началом, если бы не Великий Чужак, Который был всем. Моя единственная родня, подумал Ацамаз. Мне даже не нужно стоять перед Ним на коленях. Теперь я знаю, что главное — Его не судить и научиться прощать. Только так можно Его не спугнуть и, если удастся, спасти.
В душе его рождалась музыка. Она была глубокой и легкой, все равно что небо и облака. У нее не было мелодии, как не было теней и дна, — лишь ровное парение просторных добрых крыльев. Понять это означало смириться с тем, что ты избран. Быть избранным значило стать переправой, мостом. Мост этот вел повсюду и в никуда, как и положено истине. Слияние с ней было подобно соитию, в котором участвуют дух твой и свет.
Где-то внизу, далеко под ногами, крикнула птица…
XIII
— Все, что я помню о ней, — глиняный кувшин в руках и молоко, которым она нас поила… И еще — запах шелка с ее платья. Лицо ее было только пятном, в котором жили глаза, но увидеть их удавалось мне лишь во сне, потому что все остальное время — все эти годы уже без нее — они смотрели на меня, застя свет своим взглядом… Радом с нею мы были всегда только маленькой тенью, а она возвышалась над нами, как дерево, держа нас обеих на ветвях своих рук. Мать никогда не смеялась. Смех был ей ни к чему, она обходилась улыбкой — знаешь, такой, когда тебя видят насквозь и будто заранее прощают все то, что с тобой еще будет… Не думаю, чтобы она нас особо любила. По крайней мере, так отложилось в нашей почти что незрячей памяти. Если, конечно, любовь — это то, что слышишь сердцем прежде, чем постигаешь умом первые слова.
С матерью мы ее не услышали. Хотя возможно, что я ошибаюсь… А вот молоко и стерегущую двуколку лошадь с рыжей чесаной гривой я помню очень хорошо. Их видно столь ясно, будто они все так же стоят в той пыли, и перед ними плывет по прохладному воздуху прямо к моим ресницам темный кувшин с густым молоком. Я могу призвать их к себе в любую минуту, и они послушно возникнут из какой угодно тьмы и прозрачности… Понимаешь, о чем я?
— Да. Продолжай.
— Наверно, она была еще очень молода, но этого во мне не отложилось. Вся она осталась в прошлом, таком далеком, что, когда я пытаюсь связно думать о нем или о ней, меня бьет озноб. Это как слушать эхо в ночи и понимать, что оно звучит для тебя и при этом оно никогда о тебе и не вспомнит… (Смотри, лучина кивает нам головой, видишь? Будто стекает капелька пламени…)
Кожа у нее была белой, хотя, конечно, не такой, как то молоко. Что еще?.. Да ничего почти. Помню разве что самый конец: яркое солнце и шумный летний дождь, запах мокрой веранды и золотистую роскошь волос, пущенных по плечам. Она стояла к нам спиной и смотрела на дорогу в лужах, потом смахнула, как крошки, воду с перил, обернулась на нас, прикрыла собою солнце, поправила шляпку и спокойно ушла. Спустилась по ступенькам и, пачкая юбки, пошла по грязи. Пересекла для начала дорогу, сорвала попавшийся на обочине веник травы, отерла им туфли, швырнула в канавку и двинулась дальше, сквозь заросшее бурьяном поле. Больше мы ее не видали…
— А отец?
— И вот тут возникает отец… Понимаешь, прежде, пока была мать, его самого будто и не было. Ни одной картины с ними двумя.
Он был красив и богат. Я помню, как он однажды смеялся, когда наш сосед — лысый толстяк с моноклем в глазу (знаешь, такая стекляшка, как пробка, а за ней мучится щукой зрачок?) — рано поутру уносил в своей шляпе, прикрыв ее дрожащей рукой, ассигнации с золотом, которые только что выиграл в какую-то долгую (началась она еще прошлым днем) карточную игру. Заметив, что тот трусит, как бы он его не убил, отец хохотал — громко и искренне, — хлопая себя по бокам и стирая рукой выступившие от смеха слезы. И все говорил, пока тот пятился от него к экипажу: «Кабы не твое дворянство, дал бы тебе еще, честное слово! За просто так! Гляди, как они тебя будоражат. А я вот деньгам радоваться совсем уж отвык… Для меня они все равно что пружина для времени: растягивают дни до полной невозможности да томят ожиданием. Для тебя же, смотрю, они еще горячи!..»
Глаза у него были большие, пожалуй что черные. Обычно они совсем не блестели… С чем бы сравнить? Их будто насухо промокнули бедой, — так что слезы те я запомнила. В отличие от матери, смеялся он часто, но улыбаться совсем не умел. Бывало, доставал из футляров пистолеты и часами их чистил, — наблюдая за этим со стороны, я впервые увидела, как бесконечно умеет тянуться жизнь, изводя себя его терпеливыми пальцами и глухим ко всему молчанием, сквозь которое до него уже не доходили ни наши голоса, ни скрип двери, ни даже жажда с голодом. Чистя оружие, он забывал обо всем.
Отца называли «граф». Он был сух и подтянут, а кожа была, как моя — смуглая, гладкая. Иногда он впадал в жуткую ярость, брал в руки кнут, шел в конюшню и долго смотрел на своих лошадей. От его взгляда они делались нервны, начинали всхрапывать и бить по полу копытами. Было видно, как им хочется от него убежать. Потом он принимался хлестать кнутом по барьеру, ни разу, правда, не задев никого из коней, но страх их был уже на пределе. (Заметавшись в тесном загоне, лошади в ужасе ржали и ударялись крупом о стену и бревна, словно под ними горела земля).
Лошадей было пять или шесть, и два раза они его чуть не убили, выбросив на скаку из седла. Я помню, как его привозили во двор на каких-то крестьянских телегах. Только он был живуч. Нам с сестрой разрешали его навещать во время болезни, и я помню, как раз он лежал на измятых своих простынях с серым лицом и непонятного цвета губами, а на руки и грудь его наложили повязки. Он долго глядел нам в глаза, потом замотал головой, и нас увели. Пожалуй, нам было жалко его, но не слишком: наверно, больше тут было страху, потому что в повязках да лежа он становился для нас совсем уж чужим, больше, чем был каждый день. Понимаешь? Ведь он был нам отцом…
Мне кажется, доведись ему выбирать, — он выбрал бы мать, а не нас. Но матери там больше не было. Только слуги, огромный дом с пустыми окнами да его подвыпившие друзья… Куда она подевалась, мы так и не поняли, однако он, я думаю, знал и носил эту муку в себе. Матери там больше не было, но жили мы так, будто она там везде — в каждом нечаянном звуке, в шелесте штор, в колыхании ветра, в толкотне блуждавших по комнатам голосов, в зыбком движении тени от лампы — везде… Ее было там больше, чем нас и отца, понимаешь?
— Да. Она ушла, но не исчезла. Я понимаю.
— Странно, что мне запомнилось молоко… Быть может, оттого, что к груди она нас даже не подпустила.
— Почем ты знаешь?
— Служанка. Хотя, конечно, та могла и приврать. Я думаю, мать не хотела быть матерью. В чем тут причина, мне, конечно, неведомо, но, вероятно, дело было в том другом, к кому она смогла уйти по грязной траве, не оглянувшись на дом и детей. Отец не желал того пережить и готовился к мести. Не знаю точно, что там у них стряслось, но помню, что он с кем-то стрелялся. Нам было лет шесть, шла зима, и повсюду в поместье лежал сугробами снег. Крестьяне в овечьих тулупах пробивали в нем тропы лопатами. Когда его привезли на санях, он был ранен и бредил, но на лице у него боли не было и следа. Залитого по пояс кровью, отца перенесли в его покои и кликнули доктора. На следующий день нам показали пулю, извлеченную у отца из-под ребра: маленькая такая, блестящая мушка с вдавленным носиком… Мы с сестрой убежали к себе и хотели заплакать — нам отчего-то подумалось, будто он убил мать. Но потом он очнулся и принял нас, и по глазам его мы увидели, что в них заскользило тепло. Понимаешь, будто кто-то зажег в них лампадку. Выходит, была она жива, и теперь мог он надеяться… Но она не вернулась… Нет, погоди. Не нужно меня жалеть.
— Я не жалею. Мне жалко лишь ночь. Ты очень красива.
— Мне хочется вспомнить что-то такое, без чего никак тут нельзя. (Только у меня не получается. Словно прошлое нарезано в несколько слоев, и они уложены кое-как в моей памяти. Потому что так вот оно и запомнилось: сперва наша мать, потом он, потом то, как их вдруг не стало). Когда отец выздоровел, первое, что он сделал — приказал одеть нас понаряднее и запрячь двуколку. После завтрака двуколку подали к крыльцу, отец сел в нее, и служанка с покрасневшими от слез глазами подвела к нему нас с сестрой. Помню, сидели мы по обе стороны от него, накрытые мягкими шубами, а он самолично правил кобылой. Той, что стоит за стеной моих снов… Наверно, мы ехали к ней, к матери, потому что отец ничего не объяснял, но был весь такой торжественный и напряженный, будто готовился к важной встрече, на которой мы могли ему как-то помочь.
По дороге на нас и напали. Отец пытался отстреливаться. Его тут же хватили ногайкой по руке и, когда он выронил пистолет, стали сечь его отовсюду кнутами. Потом ему сжали горло удавкой и потащили с дороги в лес… И вот тут наша общая с сестрой память упирается в бездну. Какой-то провал. Представляешь, — ничего, кроме мрака, в котором сознание слепнет и потом все плывет и плывет в никуда. (В нем нет даже тревоги, только сплошное недетское забытье). Не знаю, как могло такое произойти, но дальше того морозного дня ни я ни сестра не находим ни единой зацепки до тех самых пор, как мы едем уже по летней степи вместе с табором к ярким краскам заката, а рядом с нами молчат пропахшие табаком и подсыхающим потом цыгане: седой старик, хмурый усатый мужчина и одетая в красное женщина с точеными руками. Она курит и не обращает внимания на проснувшихся детей с чумазыми лицами, а мы глядим на нее и узнаем в ней их мать…
Смотри, сколько насыпало звезд. Порой я придумывала себе, как я бегу по ним босиком, как по стеклышкам, и они оставляют у меня на подошвах сверкающие следы…
Ах… Подожди, не спеши. Дай рассказать.
— Ты устала. Потом.
— Хорошо. Только не надо меня целовать, а то я сорвусь, не успею… Нет… Стой. Иначе нам опять не хватит ночи…
— Пусть нам не хватит ее никогда.
— Когда ты меня обнимаешь, я чувствую, как повисаю сердцем в волне… Не торопись. Дай мне время ответить…
— Так?.. Или лучше…
— Ты нежен. Так нежен, что это уже жестоко… Я хочу, чтобы ты… Ладно… Делай, что хочешь…
— Я потерял с тобой стыд. Весь до последней капли.
— Жалеешь?
— Жалею, что нечего больше терять.
— Можно потрогать твой шрам?
— Если тебе не противно. Мне бы было противно.
— Нет. Мне нравится его касаться. Он — как слабая трещинка в зеркале лба.
— Я хочу, чтобы ты не врала. Обещай говорить только правду.
— По-другому я не смогу.
— А если соврешь?
— Разве что правда окажется ложью. Такое ведь тоже бывает?
— Не знаю.
— Ну вот. Ты сам и соврал.
— Случайно. И потом, я не врал. Я просто не знал, где тут правда…
— Больше я не могу… Ты отбираешь меня у меня самой… Перестань. Твои ласки похожи на казнь. Не надо…
— Вот и ты соврала… Надо. Повтори это слово за мной.
— Хорошо… Надо! Надо, надо, надо… Хватит… Я уже бегу босиком по звездам…
— А я тебя настигаю…
— Ты превратил меня в эхо.
— Тебе это нравится?
— Да. Я — лишь эхо. Я легка, словно воздух для воздуха…
— А что происходит со мной?
— У тебя все другое… Ты сделан из крылышек пламени и синей воды. Ты сплетен из тумана.
— Тут ты ошиблась. Я соткан из кожи и голода.
— Твоя кожа похожа на плотную ткань из воды вперемешку с нечаянным светом. Смотри, она так же прозрачна под взглядом огня, как душа, облаченная в плащ. Розовый плащ из заката.
— Плащ — это что, как рубаха?
— Скорее, черкеска и бурка в одном. Но это не важно. Слышишь, как замерло время? Будто падает в обморок вместе со мной…
— Хочешь остановиться?
— Нет. Продолжай… Докажи, что ты голоден мной.
— Не притворяйся, будто не веришь.
— В это верится только тогда, когда голод твой зол. Стоит ему утолиться хотя бы немного — приходят сомненья…
— Сомнения жадности? А?
— Сомнения женщины, кем… Подожди, я сейчас утону.
— Ты будешь тонуть много раз. Ты утонешь от жадности, ревности, но только не от сомнений. Я загоню тебя своим голодом прямо на дно. Ты будешь молить о пощаде.
— Я лучше тебе отомщу.
— Как?
— Еще не придумала. — Ты и не сможешь.
— Смогу. Возьму, например, и состарюсь.
— У тебя не получится. Старость приходит к другим.
— Старость приходит ко всем, если к ним до того не пожалует ее тощая тетка.
— Ты о смерти? Теперь мне придется топить тебя в гневе…
— Погоди. Я ведь в самом деле умру. Дай вздохнуть…
— Нечестно. Мой голод только взыгрался. Смотри, как он горд и силен.
— Сильный сумеет и сжалиться.
— Прежде — обидится…
— Неправда. Ты добрый. После пожара должен быть дождь, ты разве не помнишь? Повернись, не дури, я хочу видеть глаза. Ну пожалуйста… В темноте они теплые, словно нынче зима и они греют ночь двумя осколками лета.
— Чудная ты.
— Наверно, все оттого, что мне кое-чего не хватает.
— Ах вот как!..
— Погоди. Я — о прошлом. Мне кажется, у меня его попросту нет. (Вместо него я ношу за собой чьи-то воспоминания, как если бы на меня навесили гроздья чужих теней и незаметно выкрали из-под них мою собственную. Теперь, чтобы найти ее, нужно избавиться от всех остальных). Ты мне поможешь? Сейчас я отправлюсь обратно, а ты будешь идти со мной рядом по моим чужеземным следам и слушать — только и всего.
— Если так надо… Мне все равно. Что бы ты ни сказала — оно ничего не изменит.
— Как знать… Но если ты ошибся — я пойму. Ляг так, чтоб я смотрела тебе в глаза… Ты похож на рассерженного ребенка. Не хмурься. Еще слишком рано.
— Предупреждаю: будет скучно — я засну.
— Скучно не будет. Цыгане со скукой не дружат, так что я тебя развлеку…
Нашим цыганам не было скучно даже в степи, когда они сутками тряслись в кибитках по пыльным дорогам без видимой цели, словно подчиняясь не смыслу и чьей-либо воле, а, знаешь, чему-то совсем другому — быть может, всего только рыси коней. (А может, шагу самой бесконечности, если, конечно, это не одно и то же — не мне о том судить).
По ночам они разбивали лагерь, ставили брички в круг, треножили лошадей и разбавляли звездную мглу кострами и плясками. Пляски пьянили и всегда немного пахли бедой. (Знаешь, лучше слушай это, как рассказ о ком-то, кто тебе незнаком. Так будет правильнее…) Случалось, пляски заканчивались криком и драками, в ход шли ножи. (Но кровь друг другу пускали все же редко. Наутро враги выходили из шатров в компании зорких приятелей, чтобы не попасть впросак, если их приутихшая за ночь злоба окажется слишком покладистой в сравнении с той, что следит за ней со стороны. Убедившись в своей безопасности, ближе к полудню они почти успокаивались, а с наступлением сумерек кто-нибудь из старших цыган с напускной угрозой в голосе загонял их обратно в шатер. Так проходило несколько дней, пока ссора не забывалась сама собой. Иногда она забывалась настолько, что оба недавних врага в какой-нибудь новой степи в очередной потасовке выступали вдвоем против кого-нибудь третьего. Но порой бывало иначе, и каждый из них будто бы ждал момента, когда его обида сумеет наконец приладиться к удаче и отомстит за то, что ей пришлось столько ждать). Выходит, дорога была безобидней стоянок. Ты понимаешь, что я имею в виду? В быстрой реке не заводятся черви, как в лужах…
Тогда я еще не слишком-то сознавала, что всякая злоба жаждою распаляется, и жажда эта может присмиреть только в пути. Это как…
— Понятно. Как боль. Как чесотка, жадная до ногтей: что днем — досада, к ночи уже — сущая пытка…
— Ты понял. Все верно. Пусть в дороге не было смысла — в ней все же таилась цель. Напротив, лагерь был замкнут в круг, и в нем бесцельно кружило время. Если оно собиралось в клубок, все маялись ленью, изнывая от жары и ощущения полной заброшенности, но иногда, заскучав, оно придумывало тревогу, заставляло людей встрепенуться и немного себя поразвлечь. (Пока мы ехали, можно было подолгу спать или думать, сочиняя длинные светлые мысли и вплетая их лентами в горизонт. Стоило табору остановиться — и нам приходилось страдать, ведь мы помнили дом. Он был прочными стенами, а не холстиной, душистой доской, а не проселочной пылью. Он был выглаженной накрахмаленной чистотой, а не кислым потом. Мы помнили теплый уют, теперь же его сменило угрожающее спокойствие тех, кто спал рядом с нами на земляном полу и, заслонившись ровным сном, пугал своей непостижимой близостью к нашим телам. Глядя друг другу в глаза, мы плакали с сестрой над своим бессильным молчанием и слушали в себе мелодию родных когда-то слов, которые при свете дня забывали к нам путь, уступая слух тому языку, что был для степи все равно что хозяином, от которого не сбежать никуда ни коню, ни обиде, ни выгоде…)
Сперва нас продали цыганскому князю. Не знаю, на чем они там столковались, но как-то ночью нам заткнули тряпками рты, опутали ноги веревкой, связали руки и быстро понесли из табора вон. (Я помню, как качалось небо над головой и сверлила ужасом сердце запыхавшаяся тишина, покуда нас не швырнули где-то в глубокой траве на влажную землю, где потом, под громкое стрекотание кузнечиков, пятеро сводных братьев, один за другим, надругались над нами под внимательным взглядом нашей же сводной сестры, которая сидела на корточках в двух шагах от нас и следила, покуривая трубку, за тем, как они мстят нам за то, что успели к нам привязаться. Когда они закончили, она отвесила нам по паре пощечин и презрительно сплюнула, угодив плевком мне в живот). Представляешь? Пять сводных братьев и следившая за всем этим сводная сестра. Потом нас схватили под мышки и, обмякших, понесли обратно, пригрозив убить, если кому что расскажем. От страха и боли мы боялись на них поглядеть и, едва с нас сорвали веревки, мы крепко прижались друг к другу, чтоб не издать ненароком какой-нибудь стон или крик. А наутро их мать растолкала нас (только тут мы поняли, что заснули) и велела надеть те наряды, что прислал накануне сам князь. Конечно, мы пытались все скрыть, но, увидев избитую наготу, она сразу все поняла и изменилась в лице, однако смолчала, лишь спустя минуту каким-то очень уставшим голосом приказала дочери согреть побольше воды. Когда та воротилась, мать подняла лохань и с размаху плеснула кипятком ей в грудь и тут уж дала волю рукам. Разделавшись с ней, обернулась к нам и сказала: «Если узнает отец — им не жить. Выбор делайте сами. Только делайте правильно…»
Мы даже не плакали. Нам хотелось только, чтобы никто из них в нашей жизни больше не появлялся, а все остальное было уже неважным. (Все чувства в нас будто высохли, а на ненависть у нас попросту не хватило бы сил. Никто из нас, кроме разве их матери, не понимал тогда, что любовь может тоже быть подлой).
Братья стояли, скрестив на груди руки, и дерзко посмеивались, провожая взглядами праздничный экипаж, в котором для каждой из нас была приготовлена мягкая, из подушек, скамья, а князь сидел впереди, подбоченясь, и с удовольствием кивал на гиканье и выстрелы гарцующих вокруг повозки всадников. Думаю, им хотелось нас презирать, так было легче, хотя в душе они почти наверное плакали (я о братьях). Иначе как им было жить после всего, что случилось? Не знаю, жаль мне их или нет, но на ненависть к ним меня и сейчас не хватает.
Так мы с сестрой потеряли невинность… Я ведь предупреждала: слушай, как о чужой. Тем более что это и есть о чужой, о той, которой давным-давно как не стало. По крайней мере, я и сама бы ее не узнала при встрече.
XIV
…Поняв, что товар ему достался подпорченный, князь решил о том не шуметь, рассудив, вероятно, что месть, как мечта, сладка ожиданием, а в деньгах теряет лишь тот, кто не сподобится выиграть. И потому чуть ли не с первых дней стал он прикидывать, как можно нажиться на нашем бесчестье без вреда для себя и для нашего возраста. (И хоть приобрел он в нас не детей, а испуганных женщин, юность наша, лишенная памяти детства, все же молодостью еще и не пахла, и оттого предпочел он сперва распродать в нас подростков, а уж потом подобрать покупателя под то, что взрастят в нас порок, красота и особое наше проклятие — сходство).
Какое-то время мы были с сестрой не больше, чем редкостным угощением для его похотливых друзей. (Грешить нам было хоть и противно, но, в общем-то, сносно, словно бы сонно даже, потому что мы понимали: то, что происходит сейчас, происходит не с нами, а с теми двумя, что просто хотят спасти нам обеим угрюмые души и жизнь. Заодно мы учились и ненавидеть, но только не вслух, не напоказ, а незаметно, подспудно, пряча ненависть в память, как монеты в сундук, и зная при этом, что придет день — она нам понадобится. Вся, без остатка. А до того нужно хранить ее невредимой, чтобы выплеснуть в нужный момент, как пламя в лицо, и спалить за собой и в себе все то, что было чужим нам и грязным, что составляло наш долгий муторный плен).
Несколько раз князь играл на нас в карты, был осторожен и побеждал — до тех пор, пока однажды не проиграл в пять минут. Ясное дело, смириться с этим не смог и, бросив на стол обманувший прикуп, попросил подождать, вышел из залы, прошел коридор, распахнул настежь дверь на двор и помочился прилюдно с крыльца в предрассветную пыль, потом сверкнул оскалом в сторону утра, развернулся решительно на косых каблуках и, несмотря на нетрезвость, твердо чеканя шаг, позвякивая шпорами, воротился за карточный стол, объявил, что ставит на кон, чтобы нас отыграть, половину конюшни, а затем, словно для верности давая случаю взятку, добавил сверху еще и двести рублей серебром. Спустя полчаса он выиграл и на радостях, в знак примирения с раздосадованными противниками, приказал нам с сестрой выйти к ним и плясать на столе, собирая со зрителей дань за каждую снятую юбку. Отыгравшись в карты, он жаждал теперь отыграться еще и на нас — за то, что мы чуть не достались его вдребезги пьяным гостям. (Для нашего полного унижения просто тел и покорности ему показалось мало. Мы танцевали перед ними, обнаженные и захлестнутые тоской, на мокром от пролитого вина столе и распаляли их похоть тем, что на пару смуглых тел у нас было только одно лицо на двоих). Он позволил им взнуздать нас, словно кобылиц, поднесенной уздечкой, а потом повел всех за собой, стегая нам спины кнутом, по улице, дав предварительно клятву, что лучше подарит нас первому встречному, чем угостит нами тех, в чью собственность мы только что едва не перешли по глупой прихоти случая. Идя босиком по скользкой от росы земле, мы с ужасом узнавали впотьмах того, кто двигался нам навстречу, неровно выступая из серых разводов рассвета. Увидев его, князь встал как вкопанный, выставил палец и дико расхохотался, поняв, что затея его удалась больше даже, чем он ожидал. Отсмеявшись, он сказал: «Хромой, горбатый и вонючий, к тому ж без единой мысли во вшивой башке… Как раз то, что нам нужно!..»
Дурачка так и звали — Помойка. Урод без возраста и родства. (Как бы не человек еще и вовсе уже не животное, — не потому, что смышленее или, к примеру, чище какой-нибудь свиньи на подворье, а потому, что еще одной подобной твари Бог просто никогда б не потерпел… Был он чем-то иным, несуразным, невзаправдашним будто и потому обидно живым. Какая-то отрыжка преисподней, проникшая гадостью в и без того мерзкое утро…)
Признаться, поначалу мы не поверили, что князь сдержит слово: слишком безжалостным выходило его наказание. Но когда он взглянул на гостей и увидел, как те трезвеют на глазах, а в лицах их разгорается недобрым огнем торжествующее злорадство, поразмыслив секунду, князь подал им знак, и тут с нами случилось то, что не могло случиться ни с кем из людей, потому что никто из людей такое бы просто не вынес. Я и сейчас не уверена, что те две девчонки там все-таки были. (В сущности, может, всего этого и не было: слово «было» впору лишь для того, во что можно поверить, что можно принять и забыть. Но то, что случилось в то утро, нельзя ни забыть, ни понять. Я так думаю: если такое возможно, может, мира попросту нет…)
Едва он подал им знак, как они кинулись на нас, все скопом, повалили в прохладную пыль и, распиная уздой наши ноги, стали орать на Помойку, подбадривая, а князь стоял у того за спиной и молча бледнел, пока Помойка никак не мог взять в толк, чего от него хотят. А когда сообразил наконец, то прямо присел от испуга и радости. (Он слюняво глянул на князя, смекнул, что ему ничего не грозит, и, как корку с раны, стал срывать с себя грязнущие штаны… Пока все это длилось, князь с молчаливой, свирепой размеренностью бил его кнутом по ногам и горбу. Тот в ответ лишь повизгивал и хрипел от восторга).
Знаешь, как месит буйвол слякоть в хлеву, когда вдруг почует, что на прибранном поле тлеет дымом стерня? Он словно бы давит копытом пожар, а того все больше и больше… Тут было так же. Помойка все никак не мог остановиться… Он скулил и грыз нашу плоть, как щенок — перепавший кус мяса… (Конечно, тогда мы и умерли. Живым такое не снести.
Но когда мы все-таки ожили, вокруг нас толпился народ, рядом выл от счастья Помойка, а никого из господ уже не было. Я нашла взглядом сестру, и мы обменялись с ней душами. Тишина помогала не плакать: слишком явно ждала наших слез. Глаза сказали нам, что сегодня все кончится. Нам не понадобилось слов, чтобы объяснить друг другу, как теперь быть).
Близ дороги стоял колодец. Кто-то поднес нам воды в ведре, и сестра медленно излила ее мне на голову. Той, что осталась на дне, я полила ей руки. Обе мы понимали, что нам нужно море. (Море и ночь, но вокруг было утро и люди. Завернувшись в брошенные кем-то сердобольным к нашим ногам лохмотья, мы двинулись прочь, и тут же вслед нам, словно опомнившись, полетели плевки, только они уже мало нас трогали. Не в первый раз кто-то хотел себе доказать за наш. счет, что сам он лучше пришедшей беды, да тем отвести ее от себя подальше). У княжеского подворья мы свернули к пруду, к прибрежной траве, и спрятались в ней от мрачных, презрительных глаз и от света. (Недалеко от нас время жевало влажную грязь и превращалось в шаги. Шаги двигались к нам. Они сильно хромали). Помойка приблизился, уложил на нас теплую тень, обдал вонью, радостно всхлипнул и плюхнулся рядом на землю. «Думает, теперь мы — его», — сказала сестра.
(Помойка был идиот. Когда на него не смотрели, он будто бы вовсе переставал понимать услышанные слова. Они пролетали мимо, не узнанные, не распознанные и чужие, словно порывы негромкого ветра, запутавшегося на какой-то миг у него в бороде и тут же исчезнувшего навсегда из его немых ощущений). «Он считает, мы княжья подачка», — сказала ей я и подумала, что не боюсь. Сестре тоже было не страшно, и потому она спокойно и очень отчетливо произнесла: «Сегодня. До завтра не дотяну». Я согласно кивнула. Помойка старательно глядел на нас и робко, по-дружески ухмылялся. «Ну вот что, Помойка, — сказала сестра, посмотрев ему прямо в глаза. — Князь тебя обманул».
Она внимательно следила за его лицом, давя в себе отвращение, желая увериться, что немудреные слова ее попадают точно в цель. Помойка привстал, подтянул к себе ноги, тряхнул головой, показал ей кулак и замычал возмущенно. Мы поняли: это со страху. «Князь не прав, — сказала я. — Он не должен тебя убивать, потому что мы тебя любим…»
(Конечно, мы понимали, что делаем. Еще бы не понимать! Но стать убийцами душам нашим было легче, чем телам помнить то, как измывались над ними какой-нибудь час назад).
«Еще как, — подтвердила сестра. — Потому что ты лучше него. Нам будет жалко, когда он тебя прикончит». — «Хорошо бы наоборот, — сказала я. — Понимаешь?». Он понял. «А потом мы можем бежать, — сказала сестра. — Мы будем ждать тебя за воротами. Я знаю, как раздобыть лошадей». — «Правда?» — спросила я, на секунду забыв о Помойке. Сестра согласно кивнула: «У него же в конюшне. Как-никак, у каждой из нас там теперь должно быть по стойлу». — «Я сама отопру тебе дверь, — сказала я, обращаясь к Помойке. — Только запомни: должно быть очень темно». (Он шевелил губами, будто идя за нашими словами по пятам, и послушно кивал. Мы тоже кивнули. Время сделалось вязким и душным, как глина в горячей канаве, из которой навстречу нам поднимался жирный рой мошкары). Потом Помойка задрожал, облился слюной и робко потянулся рукою к сестре, но она отшатнулась: «Будь ты проклят, свинья!.. То есть — будь терпеливей. Нельзя нам сейчас. Потерпи». — «За воротами, сразу у входа, будет тесак. Тесак подойдет?..» — «Да, — сказала сестра. — Тесака ему хватит. Помойка с ним справится. Ты справишься, правда? Не забудь отрубить ему яйца». Помойка слушал, раскрыв рот, и пытался запомнить. Солнце слепило ему глаза, а на губах запеклась какая-то пена. «Сейчас меня стошнит, — призналась я. — Займи его покамест…»
Когда я вернулась, сестра настолько собой овладела, что умудрилась мне улыбнуться. Горбун углубился в камыши и что-то искал там, волнуясь. «Я сказала ему, что в них растет мой любимый цветок. Большущий и красный, как кровь», — пояснила она. Я промолчала. (Я знала, мы думаем в этот миг об одном: как так случилось, что мы обе все-таки живы, и: живы ли мы или нам это кажется?)
Остаток дня мы парились в бане, заплетали косы, молчали, обедали, спали и снова садились за стол, но уже не с прислугой, а с князем. Во время ужина он подарил нам по большому кольцу с рубинами, сказав: «Это вам за Помойку». Мы сказали: спасибо.
Темнело по-летнему поздно. Проведя перед этим бессонную ночь и трудное утро, князь к вечеру сдал. Поклевав носом за бутылкой вина, он поднялся к себе и заснул. Тесак ждал Помойку за столбом у ворот, а дверь в дом давно была отперта. Мы с сестрой притаились в сенях. Слуги все разошлись кто куда, но если бы кто задержался, клянусь, мы бы тоже не дрогнули. (Помню, я еще подумала, что убийца — это не тот, кто ошалел от злобы, потерял рассудок и жаждет расправы, а тот, кто просто перестал бояться — не только других, но себя самого).
Помойка вошел весь дрожа, сестра взяла его за руку и повела через комнаты к лестнице, а там, поднявшись по ступенькам, прижала палец ко рту и указала на дверь, потом жестом пояснила, что мы уходим за лошадьми, и быстро спустилась.
В конюшне было прохладно, но душно. Там пахло навозом и чем-то еще… (Наверно, так вот должна пахнуть правда, подумала я). Обе кобылы были уже оседланы и нервно били копытами по земле. «Подожди, — сказала сестра, когда мы выехали на двор. — Я кое-что для них припасла… Жалко так уезжать». Спрыгнув с седла, она достала из-под крыльца лампу и запалила в ней масло, потом швырнула ее в распахнутое окно сеней. (И в тот же миг, пришпорив коней, мы поскакали в поспевшую звездами ночь. Где-то позади занимался пожар, слышались крики, но нас это не тревожило. Мы многому выучились у цыган. Во всяком случае, здорово умели скакать по ночи и вдыхать ее неподдельную радость…)
Уже почти рассвело. Вон, как бьется жилкой заря над горой… (Спасибо тебе, что не струсил. Можешь ничего не говорить. Я знаю, сейчас тебе не до слов. Да и мне осталось немного). Не надо меня целовать, а то я решу, что ты лжешь…
— Это не то, что ты думаешь.
— Я люблю тебя. Я люблю тебя так, что мне больно. (Туда я вернулась в последний раз затем, чтоб больше никогда и не вспомнить. А тебе рассказала, потому что иначе нельзя. Не хочу, чтоб вся эта грязь волочилась за мной по пятам. Рано или поздно, — она бы вышла наружу и запачкала нас. Запачкала б гаже и — навсегда.
— Ты права. Прошлое убить труднее, чем тех, кто его отравил. Когда-нибудь я расскажу тебе о своем. Л сейчас — продолжай…)
Скакали мы долго, пока не загнали своих лошадей. Моя шаталась и хрипела, и в ноздрях ее пенилась кровь. Кобыла сестры словно взбесилась и не подпускала ее к себе ближе, чем на двадцать шагов, как будто боялась, что та снова вскочит в седло и уж теперь точно не успокоится, пока не разорвет ей сердце в клочки. Сестра села в траву и заплакала. «Мы забыли еду, — сказала я, чтобы что-то сказать. — Мы забыли оружие и деньги. Все, что у нас есть — это кольца с рубинами». Услышав про кольца, она содрала с пальца свое и швырнула его подальше в траву. (В степи было жарко и кисло от пустившей соки земли. Где-то за холмами могла быть река. Я пошла к ручью, спустилась в овраг и стала лепить из воды чистоту на ладонях. Кольцо я тоже сняла, но припрятала его на груди, зацепив за шнурок — точно такие шнурки носили те шесть заморышей, что на четыре года почти стали нам сводными братьями и сестрой. Вспомнив свой ужас в ту ночь, когда они готовили нам свое прощание, я усмехнулась: соплякам было невдомек, что такое настоящая боль. Сейчас они были так от нас далеко, что казались ничтожными. К тому же мне было совсем не до них: я знала, нам надо двигаться дальше, вперед, ну а они — они давно застряли где-то в разводах туманной дороги, какой она станет для нас лишь по осени. Я знала: задолго до осени нам предстоит выбрать новую жизнь, потому как помереть от стыда в прежней у нас отчего-то не вышло. Зато нам удалось из нее выбраться, а значит, теперь мы могли запереть ее поглубже в свою гулящую память, где уже нашли бессловесный приют три другие: жизнь с матерью, пять лет, проведенных с отцом, да четыре года с цыганами. Отныне мы были предоставлены сами себе, умели продавать свое тело и напрочь выскоблили жалость из душ. В целом свете не было ничего, что могло бы нас испугать. Мы не знали толком ни кто мы, ни куда держим путь, ни сколько нам в точности лет, но это и впрямь не имело значения: миру было на нас наплевать, и мы были готовы отвечать ему тем же). Для начала нам следовало подкрепиться и переночевать.
«Запали-ка костер, — сказала я ей, дав утереться оранжевой шалью, подаренной одним из княжьих друзей. Для пыльного дня и знойного солнца цвет у шали был как раз подходящий. (Глядеть на нее было все равно что поливать против света вином искристые стенки стекла). — Запали костер, а я пока придумаю, как нас теперь накормить, не съезжая с этого места». — «Не надо, — взмолилась сестра. — Не хватало тебе взять и ее кровь себе на душу». — «Все равно околеет, — возразила ей я. — Погляди ей на зубы. Она уже мертва, просто сама не догадывается. Надо убить, пока дышит».
Подсохший потник из-под седла валялся тут же, неподалеку. В притороченной походной сумке я отыскала нож, примерившись, покрепче взяла его в руку и пошла к своей лошади. «Погоди, — сказала сестра. — Сперва надо стреножить». Я послушалась, и мы, заманив лошадь в овраг, обвязали ей ноги уздой. «Совсем как нас этим утром», — пробормотала сестра. «Только везенье ее другое», — сказала я. Сестра смолчала. Кобыла едва держалась на ногах, так что повалить ее наземь труда не составило. Потом я зашла со спины и со всего маху полоснула ножом ей по горлу.
Все оказалось сложней, чем мы думали: глядеть на то, как она бьется и страшно хрипит на траве было невмоготу, так что я побрела вслед за сестрой в душную степь. (Пустая и ровная, она цепляла нас за ноги сухим ковылем и поднимала пыль к нашим лицам). «Видишь, — сказала сестра, — наверно, мы все-таки лучше». «Перестань, — сказала я, — не то я завою». Вторая лошадь сбежала в горизонт и, впечатанная в марево, была похожа издали на подросшего полевого кузнечика. «Если мы лучше, нам все же простительней», — твердила свое сестра. Я развернула ее за плечи к себе и громко сказала, не узнав своего голоса: «Ответь-ка мне как на духу: у кого это ты, праведница, все прощения просишь? У князя, цыган, у Помойки или, может, у Бога?.. Перед кем спешишь держать ответ? Кто тебе из всех этих выродков милей и дороже?» — «Я не о них, — сказала сестра, смахнув мою руку с плеча. — Я об отце и о матери…» От ее слов мне снова стало нехорошо. (Я вдруг поняла, что чуть ли не впервые за все эти годы наши души, слепо махая крыльями, больно сшиблись ими там как раз, где места было вдоволь не только для позора и горя, но и для грусти, простой и спасительной, как слеза). Крепко обняв сестру за плечи, я безмолвно, сердце в сердце, попросила у нее прощения.
Мы так и не сумели подойти к издохшей кобыле. (Я была рада за сестру, а она — за меня, потому что голод был легче грозившей нам сытости. Заночевав в степи, мы встретили новое утро очистившимся дыханием и искренним волнением в груди). Выловив лошадь, мы двинулись к югу, потому что туда перед тем отправился что-то искать деловитый, все знающий ветер.
А уже к вечеру нас встретил холмами задумчивый город. «Гляди, — сказала сестра, — ни одного шатра перед стенами. По крайней мере, отдохнем от цыган». Мы рассмеялись и, ведя под уздцы кобылу, вошли в широкие ворота. (На первой же улочке мы услыхали, что город говорит на том самом зрячем, гибком языке, который мы уже почти успели забыть, однако, едва зазвучав многоголосой речью, он тут же ожил в нас нечаянной радостью, от которой на глаза навертывались слезы. «Если ее здесь и нет, — подумала я (конечно, о матери), — здесь есть ее тень, а это немало»).
XV
В первый же месяц мы продали лошадь, кольцо и оставшийся шелк. Счастье наше было спокойно и сонно (ленивая передышка от жизни, когда ты плывешь рядом с нею на уступчивых волнах, слушаешь все ее звуки, но дышишь чем-то другим и потому никак от нее не зависишь).
Сон закончился вместе с деньгами. Очнувшись от дремы, мы стали торговать свободой: никакого другого товара у нас, в общем-то, не было. Этот зато имелся в избытке. Чтобы было легче решиться, сестра говорила: «Подумай сама: никто из них нам не нужен. Мы знаем им цену. Перестань себе лгать, и ты вспомнишь, как они плевали нам вслед. А вот наша с тобою цена теперь поднялась: одна обида в ней вон сколько стоит! Для нас они все равно что початки для мельницы — знай лущи себе с них золотое зерно, а пустышку выбрасывай свиньям!..»
Мы лущили по-разному. Веселее всего было красть. Хотя и рискованно очень. (Иногда обходилось и танцами, но чаще им нужно было лишь тело. Хорошо, если удавалось продать его на месяц-другой офицеру из щедрых или, скажем, купцу, но такая удача бывала не часто. А потом она, как всегда до того, отвернулась и вовсе.
Наверно, в том была моя лишь вина, только я не стерпела, а сестра — та не сказала и слова упрека, когда вдруг однажды мне стало как прежде противно, и я, озверев от громкого гула в ушах, вцепилась ногтями в жирную шею старого турка, державшего чайную за углом. Я давила потный кадык до тех пор, пока прямо подо мной не проступили черным тавром его выпученные от ужаса глаза. Я просто забылась от злобы. Все было так, будто я нащупала руками скользкое мясо червя, подкравшегося к запретной тьме моей памяти. А спустя минуту, покорно позволив мне обчистить карманы и сундуки, те же глаза безропотно следили, как я беру, запихивая в бумажный кулек из-под вишен, ассигнации и бестолковые побрякушки из серебра. Турок глядел на меня сквозь слезы и мелко-мелко дрожал, так его проняло. Слезы те он вполне заслужил — пострадал-то за дело. Он допустил непростительную ошибку. Ее благополучно избегли все те, кто умел не только считать деньги в своих кошельках, но и самую малость читать в лицах тех, кого они покупали. «Прекрати трястись и внимательно выслушай то, что я сейчас скажу. Я спаяю тебя, твою квочку-жену и весь твой выводок, если ты двинешься с места раньше, чем в это окно войдет над тобой посмеяться новое солнце. И даже тогда не вздумай сказать, что я тебя обобрала: это всего только плата — за один, но бесценный урок. Справедливости. Стоит он гораздо дороже. Поверь, тебе повезло…»
Так мы убрались из города. Оставляя его за спиной, мы ничуть не тужили: привыкший развлекаться чужими надеждами, смехом и выгодой, убытками, завистью, страхом или бедой, он не давал нам повода для грусти. Значил он для нас не больше, чем набитый хламом мусорный бак в коридоре гостиного дома, откуда мы только что сбежали, чтобы вновь поучиться покою дороги. «Знаешь, — сказала сестра. — А с цыганами все-таки лучше. С ними нам веселей'. Быть может, ей просто хотелось меня успокоить, утешить. Только, клянусь, я и сама ни о чем не жалела. «Эта скотина не желала платить, как уговорено. Мол, я ему нежности недодала…» — «Все в порядке, — сказала сестра. — Ты умница». Я ее очень любила).
— Почему ты молчишь? Ты сказала, красть было рискованно…
— Да. Но не очень. Скитаться по селам, предгорным аулам или ночевать в холмистой степи было ничуть не опасней, чем добывать себе деньги в стенах города. Иногда я думала о том, что люди не так уж и плохи, особенно если тебе не нужно ни с кем из них говорить. Чтобы не размышлять о себе, я часто думала об отце и о матери, причем про мать сочинять получалось даже лучше и глаже. (И хотя тень ее надо мной делалась все прозрачней и тоньше, она была важнее отцовского лица, которое легче вызывалось в моем воображении лишь с наступлением сумерек. Наверно, дело тут было в том, что мать была ярким днем, оглушительным светом, рядом с которым любое мерцание сумерек, как и бледность лица, казались непристойностью, словно трусость. Я не любила мать, но отвагу ее ценила выше страдающего отцовского терпения. Она была из тех, кто готов победить, даже если ради этого понадобится наплевать на приличия и предать собственную плоть и кровь. Кровь, но не душу). В общем-то, я ее ненавидела. Но не могла простить себе, что ненависть моя замешена на мечте и любви. Да, на мечте и любви. Ведь если я о чем и мечтала, так это о том, чтобы встретиться и не простить. Если чего и боялась, так это что встречу — и разрыдаюсь, да еще и сама же прощения попрошу — за то, что так ее ненавидела.
(Занимал меня часто и Бог. Разум упрямо твердил мне, что его нет и не было. Однако, случалось, Он все же со мной говорил (а может, говорила лишь я, но Он-то точно все слышал!). Как ни суди, а то, что сделали с нами, представлялось мне хуже и гаже, чем то, что сотворили когда-то с Христом. Если Он есть, думала я, пусть оправдается за нас и Помойку!
Убедить себя в том, что Бога нет, было достаточно просто. Труднее было в это поверить…)
Бывало, мы начинали скучать. Длилось это недолго: всегда можно было что-нибудь, да придумать. Например, наняться в работницы к какой-нибудь доверчивой казачке, не подозревающей, что на одно лицо у нас имеется по четыре руки и ноги, а потом попадаться ей на глаза тут и там, путая разум и доводя ее до припадка. Можно было проверять свою силу на пьяном вознице, внушая ему, что у него двоится в глазах. А то можно было войти в какой-нибудь городок, пересечь его с разных сторон и двинуться друг другу навстречу у всех на виду по базарной площади, притворяясь, что друг друга не замечаем, чтобы потом, словно бы ненароком, встретиться взглядами и остолбенеть от удивления, всплеснуть руками и разыграть немую сцену перед наивной толпой.
Как-то раз мы проделали это и в крепости. Толпа собралась мгновенно, так что играть было удобно и весело. Потом вдруг небо вмиг посерело и разразилось дождем. Народ разбежался кто куда, мы же укрылись под брезентовым козырьком у большого цветного шатра. Пошел град. Он молотил по матерчатой крыше грозой и кропил мелким льдом мостовую. Зрелище было какое-то дерзкое, чуть ли не бешеное… Хотелось громко кричать. Град стучал белыми зернами по камням, покрывая их кашей. Отчего-то стало вдруг очень светло, хотя солнце давно расплавилось вялым пятном где-то на самом краю блеклых туч. (Их резали молнии, обжигая свежие шрамы острым огнем. Грохот стоял такой, будто вот-вот раздастся окончательный треск и мир развалится буйными глыбами, погребая под ними наши глаза). Глядя на эту грозу, я ощутила внезапно, что обрела свой заветный полет. Я как бы вырвалась из себя в холодноватый огонь и, отлетая, услышала, как во мне орет жутким голосом счастье. (Я летела и падала, все это — в один миг. Вокруг меня бурлила гроза, звенели градины, плескался стоном свет, а я парила на руках у ветра, готовясь рухнуть сквозь него в зеркало синей воды). Все, что я помнила о себе, это ощущение грустной печали о том, что мне пришлось так страдать. А потом я увидела близко-близко свое испуганное лицо и поняла, что все кончилось. Мир чуть шатался надо мной, а сестра безутешно рыдала и била наотмашь меня по щекам. Рядом с ней стоял человек с длинным лицом, в котором не было ничего, кроме застывшей бледностью жалобы. Он вглядывался мне в зрачки, потом равнодушно щелкнул слюной и произнес без всякого выражения: «Обморок. Часто это с ней?» Сестра принялась отвечать, а я, заскучав, не стала их ждать. (Я попыталась ускользнуть от них обратно в забытье, но уткнулась в тупую и прочную стену. В ней была замурована память. Наверно, я была там, где, сочиняя свои просторы, властвует смерть, подумала я. И призналась себе, что мне там понравилось. Об этом нельзя было говорить даже сестре. Она не сводила с меня встревоженных глаз и все никак не могла сделаться вновь для меня интересной. В странном спокойствии я решилась смолчать, сознавая, что обзавожусь своей первою тайной).
Человек куда-то ушел хлопотать, и я огляделась. Лежа на твердой скамье, я слышала сильный запах опилок, вокруг которых в десятки рядов громоздились некрашеные скамьи. Быстрыми шагами подошел чистенький старичок, кивнул сестре и представился лекарем. Прослушав мне сердце, он картаво сказал: «Все хогошо, пгизнаться, почти что и здогово. По кгайней меге, совсем и не стгашно, если без надобности не пугать. Сможет и жить, и габотать, и много-пгемного гожать, гучаюсь своей богодой, если, конечно, кгасавицу эту отсюда уволят…» Потом похихикал немного и так же быстро исчез. Я равнодушно смотрела на купол шатра, пытаясь понять, кто здесь живет и зачем. Появились носилки, и два паренька с голыми плечами переложили меня на них, понесли куда-то вглубь, в тесноту коридоров с факелами на стенах вместо уличных газовых рожков. Заснула я в какой-то комнатке, сбитой из струганных досок. К вечеру сестра мне все объяснила и сказала: решай. Поразмыслив, я только пожала плечами.
Через три дня мы вышли на помост. (Возведенный чуть в стороне от арены, он служил маленькой сценой, отведенной под колдовство. Трюк был простой: одна из нас представала в наряде русалки перед шумливой толпой, пузатый факир с приклеенной бородой и несвежей манишкой произносил заклинания, сверху на железный каркас, внутри которого стояла русалка, внезапно падал белый холст, бил дробь барабан, покривлявшись, факир приближался к белому кокону и поджигал его брызгающей искрами и большой, как дубина, свечой. Тем временем в другом конце помоста, там, где стоял вместительный железный ящик с водой, распахивалась круглая крышка, и из нее, невредимая, вырастала русалка, бросая пену на зрителей. Пока она отвлекала внимание публики, полыхавший огонь заслоняли суетливые пожарники с ведрами. Не успевали они погасить пламя, как из-под слоя воды меж железных ребер каркаса вновь появлялась все та же русалка, вопреки тому, что какой-нибудь миг назад она нырнула у всех на глазах внутрь ящика. В общем, ничего сложного. Чистейшее надувательство. Все, что требовалось для номера, это иметь дыру в полу и не заполнять до пределов железный ящик водой).
Хозяин цирка был вечно хмур и как будто особо доволен тем, что несчастлив. Платил он нам хорошо, никогда, однако, не балуя подарками или вином. Исключая отца, это был первый мужчина в нашей жизни, которому было будто и невдомек, что мы женщины. Конечно, мы к нему привязались.
Цирк был тем же цыганским табором, только вместо плясок и празднеств здесь были трюки. Сделав последние сборы, он тут же грузил повозки и, растворившись в пыли, покидал городские ворота, чтобы отправиться унылой дорогой туда, где можно так же привлечь сотню-другую зевак, разбив свой цветастый шатер. (Самое главное в цирке было не думать о том, что будет с тобою завтра или, хуже того, через год. В нем было место только для «здесь» и «сейчас», и, пожалуй, нас это тоже устраивало. Если не вспоминать о нескольких стычках с теми, кто домогался нашей плоти, но получил в ответ лишь отпор, много месяцев кряду нам вообще ничто не угрожало). Денег хватало лишь на еду и недорогие вещицы, так что порой меня охватывало чувство, будто все, что я делаю, — это кормлю день за днем маленькое прожорливое животное, достаточно забавное, чтобы не утомлять моего терпения, и слишком ленивое, чтобы волновать меня своими жалобами, ночными тенями или зреющей в сердце тревогой. Так я приручила свою каждодневность. Плохо было лишь то, что в этом таилась опасность побольше…
«Что с тобой? — спрашивала сестра, озабоченно вглядываясь в мое лицо и тщетно стараясь сорвать с него маску. — У тебя такой вид, будто ты вспомнила вкус человечьего мяса… Что за улыбка?.. Немедленно спрячь эту гадость с лица». Не знаю в точности, что она там имела в виду, но, признаюсь, мне становилось неловко, словно я ее предала и даже не могу себя за то винить, потому что мне нужна уже не она, да, в этом весь ужас, мне нужна не сестра, а какой-нибудь взрыв, небо в клочья, кровь на листву — понимаешь?.. Я будто дурела от беспрестанного топтанья по кругу, в котором давно уже нет ни страха, ни слез, ни волнения. В нем только дорога и пыль, слякоть и снег, и разводы тумана над полем, и тупое молчание гор, этих кряжистых истуканов, в нем только бред покоя, стирающего все следы позади и вокруг… (И главное — все сплошь заселено моим же отражением, все тем же родным ненавистным лицом, которое хранит меня от благодати и надрыва одиночества, хранит с таким безнадежным радением, что уже нету мочи терпеть…) Короче говоря, я задыхалась.
И тогда пришел он. Он пришел и признался хозяину: «Я знаю, в чем там секрет». А потом пояснил, что речь не про трюк: «Я беру ее в жены, потому что искал ее с самой весны. Готов обменять». — «Это на что же?» — спросил наш хозяин. «Очень просто, — ответил тот. — Я готов сменять ее на ее же сестру». — «Это как?» — хозяин был совсем не дурак и наверняка догадался, что терпит издевку, но что-то его смутило. Пожалуй, он и сам давался диву, почему до сих пор не плюнул чужаку на его пыльные сапоги и не позвал цирковых силачей на подмогу. «А вот как, — объяснил ему тот: — Стоит мне сказать им два слова — и они уйдут от тебя». А потом добавил, угадав нужную ложь: «Ты ведь не знаешь, кто их родители? В том-то и штука». Хозяин молчал. «О том и толкую, — продолжил тот. — Только я ничего говорить и не стану. Лучше сменяю ее на другое. К примеру, на револьвер и немного денег в придачу. Ну как?» Они столковались. (Хозяин пошел за ним следом в какой-то дом на главной улице, где подождал немного в просторной прихожей, считая подсвечники и щупая украдкой атлас на стене, потом тот вышел к нему, и они покинули дом, который так и не показал новому гостю своих жильцов. Рассчитавшись с ним в переулке, чужак сказал: «Буду ждать за воротами крепости».
Там он и ждал). За час до отъезда хозяин позвал меня, объяснил вкратце, что' к чему, и сказал: «Если ты не захочешь, можешь остаться. Никто тебя не заставит. Я верну ему деньги, а заартачится — придется припомнить, что револьвер в самом деле хорош. В общем, решай сама». Про родителей он умолчал, чтоб не сбежали мы обе. Я влезла в повозку, легла там на дно, закрыла глаза и тихо представила, что меня ждет, если и сейчас ничего не случится. Потом улыбнулась, нашла в обозе сестру, обняла ее и попросила понять…
Вот, пожалуй, и все. Беда только в том, что я его не любила. (Быть может, его и не нужно любить, потому что он больше… Больше того, что дозволено сердцу. Понимаешь? Нет. Этого ни тебе, ни мне самой, как видно, понять не доступно… Только его беда — не любовь, а свобода. Без нее он — ничто, а это нельзя). Наверно, я тебя раню опять, пуще прежнего раню, раню так, что горше и не бывает, — но рана от правды быстрей зарубцуется, чем будет заживать нарыв из лжи… Прости меня, если все еще хочешь прощать, только я вынуждена тебе сказать и про это, без этого ты не поймешь: рядом с ним я чувствовала себя так, будто любилась с Богом. И долгое время, вплоть до новой весны, Бог не подпускал ко мне ни людей, ни тревоги, а потом вдруг стал человеком, только я простить ему этого уже не смогла. (Как простить Бога, если он — человек! Но потом я смирилась — и даже с тем, что он мне не мил, но, хвала небесам, оказалась пуста, хоть боялась поверить до тех самых пор, пока не влюбилась в того, кто лежит сейчас рядом со мной и дороже мне собственной жизни. А впервые его возжелав, стала как-то не сразу, но явно опадать животом. А когда обнищало чрево, я решила, что одна только ночь сладкой измены стоит дюжины жизней в плену — в плену у порядка и долга. Но после той ночи я стала мудра. Настолько, что стала еще и бесстыдна, и счастлива, и поняла, что отныне ничто не вправе встать поперек моей жизни, покуда я сама отвечаю за все, что творю). Оказалось, что женщина больше свободы, но меньше любви, и никакой Бог или дьявол тут ей не помеха. (Оказалось, что прошлое — это не сон, не кошмары всплывающих в памяти небылиц и даже не испытание. Прошлое — это единственный путь к тебе, и потому его можно простить. Можно смять, как записку о том, чего уже нет, что уже испарилось, и брезгливо вышвырнуть в утро. Его можно сплюнуть сквозь зубы, забить подметкой в пыль и попробовать улыбнуться… Только так его можно забыть). Я права?
— Ты права.
— В самом деле не вру?
— Так и есть. Это правда.
— Тогда иди на порог и выплюни все, что я рассказала.
— Хорошо. Только я уж и так ничего не припомню.
— Пойди, сплюнь сквозь зубы и улыбнись… (Боже, как я люблю его!.. Ты увидишь, я рожу ему сына…)
— Что ты там прошептала?
— Просто заметила вдруг, как у тебя по-собачьи топырятся уши. Ты и сам некрасивый и очень лохматый, как волкодав. Боюсь, тебе не дано меня удержать. По крайней мере, надолго. Не дольше, чем на одну только сонную скучную жизнь.
— И ты возражаешь?
— Я даже готова. И, пожалуй, готова родить тебе сына…
XVI
Отныне в доме было прохладно. Даже в последние жаркие дни уходящего лета сюда не пробрался августовский зной. У него так и не хватило духу заглянуть в распахнутую дверь и провести горячим языком по пружинистой ряби звонкого воздуха, иначе он с удивлением распознал бы в нем вкус искристой влаги из реки и застенчивый холодок прозрачных тайн из светлых сумерек. Впрочем, и тайны, конечно, тайнами не были. Но поскольку совсем без тайн было нельзя, оба по совести притворялись, а притворяясь, терпеливо созидали уют.
Отныне Софью звали Мария, и было это правильно, хотя и против истины. Истина же мало что значила, когда речь шла о правде. Уцелеть в ней и не солгать оказалось нельзя, а потому небольшое притворство во имя общего блага было почти что мудростью. Ну а мудрость была — София, даже если и звалась теперь именем своей сестры.
Поначалу, опасаясь не выдержать и сорваться, Алан почти не смотрел ей в глаза: слишком похожим было лицо и вместе с тем — слишком чужим, потому что оно и было чужим, и он о том знал.
Отводя от него взгляд, он размышлял о совершенстве подобия. Две капли воды, как и два волоска, были ничто в сравнении с тем, что сотворила природа, создав эти два похожих лица, два одинаковых тела, два волнительных запаха, неотличимых не только для его собственного, опытного и недоверчивого, обоняния охотника, но и для чутких ноздрей опрокинутой в медный сосуд отражений внимательной темноты.
И все-таки женщина рядом с ним, как ни старалась, была другой. Мстил он ей тем, что был благодарен. Притворяться еще и влюбленным он просто не мог. Она отвечала печальной улыбкой и никогда не пыталась внушить, что играет слишком всерьез. В конце концов, они были друг с другом честны, а значит, могли притворяться и дальше.
По ночам он был внимателен и нежен, стараясь не оскорбить ее чувства чрезмерной горячностью иль небрежением. Она была надежна, ласкова, искусна и всякий раз, отдаваясь ему, рисовала во мгле непостижимые узоры милосердной к нему красоты.
Его не покидало ощущение странности происходящего, которое вызывало в нем неподдельное любопытство: подолгу не смыкая глаз, ощущая на своем плече покладистую, кроткую тяжесть ее головы, он задавался вопросом о том, в чем же загадка их с сестрой рокового отличия? При всей своей очевидности, ответ раздражал: любой разговор о душе наводил на скучные мысли о Промысле, который — он почему-то это знал — был тут совсем ни при чем. Просто та, что рядом, была всего только повторением. Слепком с любви. Отголоском отчаяния и свидетелем боли. Прихотью случая, подарившего всем им обман. Она была второй. Выбери он ее год назад себе в первые — все могло сложиться иначе…
Впрочем, гадать про то было столь же бессмысленно, как и играть в прятки с судьбой. Судьбы же не было вовсе: она закончилась там, где его крестила смертью река. Только теперь вышло так, будто над его жизнью и впрямь упорно трудилась судьба — словно тихий паук незаметно соткал вкруг него паутину. Все было слишком сложно и путано, слишком близко к легенде и к склепам и чересчур близко к реке. Оставалось лишь ждать, что она им сюда принесет на залысинах волн.
Став Марией, Софья невольно старалась растворить последние крупицы призрачной их несхожести в усердном следовании привычкам сестры: парению хрипловатого голоса, когда он, поднявшись над облаком слуха, ныряет вдруг в родниковый шепот души; наклону головы и изгибу шеи, собирающих в тонкий невод дыхания проницательность тишины; прищуру глаз, устремленных на полосу света из-под двери да там и застывших прохладою мысли; быстрым губам, закрывающим свежий ожог на ладони, оставляя поверх смуглой кожи блестящее пятнышко влаги; пожатию плеч, когда те внимают неслышной беседе с хлопочущим сердцем; стойкой осанке, предчувствующей чужие шаги; внезапной улыбке, открывшей радость в пасмурном дне; нечаянной жажде, приникшей к кувшину; особенно же — глазам, забывающим в ровном сиянии счастья все, кроме радости…
Чем больше она превращалась в сестру, тем неожиданнее, упрямей в ней росла ревность. Ей снились улитки, битые яйца и медленно-юркие ящерицы, и из сна она выбиралась с ощущением прилипшей к спине скорлупчатой слизи, испытывая к себе редкое чувство гадливости. Усмиряла она его гордостью да чистой мелодией мыслей про то, что она, наконец, обрела свой пожизненный крест. Если не думать о том, что друг друга им не любить, муж ей нравился. В нем было много хорошего, а тщательно скрываемое страдание, облаченное в скромные одежды достоинства, заставляло ее сердце сжимать в груди крепкие кулачки. Он был очень силен, ее муж. И, пожалуй, красив своей силой.
Однажды, на исходе лучистого дня в сентябре, он позвал ее в лес поохотиться:
— Помнишь, как прежде?
И опустил глаза. Она лишь согласно кивнула и стала собираться в путь. Желание проверить, насколько окажется лживо лицо настоящего перед тем заветным обликом прошлого, что он по-прежнему носил в себе, ее не оскорбило, хотя и покоробило. С другой стороны, упоминание о том, что такое случалось «прежде», могло быть просто подсказкой, чтобы помочь ей без запинки отыграть свою роль на иных, незнакомых подмостках.
Из дому вышли с рассветом. Сразу за мостом чернели обгоревшие останки деревьев, издавая тоскливый запах подгнивающего костра. Смешавшись с землей, влажный пепел пачкал подошвы и чуть менял звук шагов. Петляя по едва заметной тропе и пробираясь сквозь полумрак в глубь чащи, люди не тратили попусту слов. Враждебно кричали вспугнутые птицы. Солнце плескалось светом далеко в вышине и было бессильно одолеть заслон из ветвей и темной прохлады, в чьей сырости прятались, недовольно шурша обильной листвой, истощенные за ночь трудами лесные духи. «Я не умею стрелять, — думала женщина, — но это не беда. Погляжу, как охотится он, и изловчусь повторить».
На первой прогалине они отдохнули, сев на примятый участок травы и подставив лица под прорвавшиеся лучи. Разбросанные по деревьям, земле и кустам солнечные подвески были похожи на потеки меда на дрожащем свету. Перекусив лепешкой и запив ее родниковой водой, они двинулись дальше. Дивясь легкости, с какой мужчина отыскивает нужные тропы в громадном лесу, она думала о том, насколько он готов к тому, что из охоты у них ничего сегодня не выйдет.
Становилось теплее. Ближе к полудню лес совершенно ожил. Вскоре она привыкла смотреть на то, как бросаются прочь от них из кустов шустрые зайцы. Где-то мелькнула небрежно хвостом лиса. Далеко впереди кто-то ломал тяжелым прыжком хрупкие ветви. Мужчина, казалось, не обращал на это внимания.
Лес был хитер и коварен. Он не прощал усталости и неловких движений. Один неверный шаг — и она оступилась, провалилась сквозь прореху во времени в смеющуюся пустоту, стремительно заскользила вниз по скрытой зеленью ложбине. Он бежал рядом, сбивая стебли папоротника в глубокую колею. Падение екнуло в ней отворенной глоткой и тут же оборвалось, ударившись о мокрое ложе овражьего дна. Склонившись над ней, он заботливо посмотрел ей в лицо, помог подняться, приобнял и дал отдышаться. Она услышала, как ее новый, кислый запах испачканного платья хлопнул его по груди и вернулся к ней унылым стыдом. Отстранившись от мужчины, Софья стала карабкаться по мутному следу наверх. Смахнув слезы с глаз, она очистила след перед собой, но ноги все равно оскользнулись на влажных стеблях.
— Не туда, — сказал он и развернул ее к себе. — Теперь нам лучше идти напрямик.
Так что он был опять впереди. Она шла за ним, окруженная стеной могучего папоротника, продвигаясь, как по узкому лазу, к неведомой цели. Потом стена исчезла, сменившись кустарником. Набрав в ладонь горсть ежевичных ягод, он поднес их к ее губам и спросил:
— Слышишь?
Она кивнула. Где-то совсем близко говорила вода. Он достал из ножен кинжал и в несколько взмахов прорубил в кустах широкий проход. Они вышли к ручью, и она жадно приникла к нему устами. Подождав немного, он решительно двинулся дальше. Шел он вниз по течению. Спустя двести шагов она увидела, как перед ними блестит черноватым стеклом небольшая запруда.
Недолго думая, он быстро разделся и вошел в воду, остужая в холодных волнах разгоряченное тело. Она стояла боком к нему и искоса следила за тем, как он меряет запруду мощными гребками и раскалывает поверхность на тысячи круглых осколков, потом ныряет ко дну и, появившись в десятке шагов в стороне, фыркает сильным зверем, швырнув брызги на непрочные кольца поднятой ряби.
Повернувшись к нему спиной, женщина медленно расстегнула застежки на платье, рывком стянула его через голову и тоже бросилась в воду. Холод пронзил ее насквозь, крепко схватил за горло и сдавил грудь, но лицо все так же горело от возбуждения. Заметавшись по воде в попытке согреться, она дважды преодолела запруду, проведя по ней расплывшуюся черту, потом вернулась на середину, вскинула кверху руки, вытянулась в струну и плавно пошла ко дну, наблюдая, как гаснут над ее головой солнечные лучи, образуя нестойкую взвесь, которая, уходя глубже вниз, превращается в воронку тусклого света, куда затягивает длинными водорослями ее потемневшие волосы. Пустив на волю хрустальные пузырьки спасенного легкими воздуха, она коснулась ногами вялого дна, оттолкнулась и, сменив руки на крылья, взлетела к пятну синеватого света. С шумом порвав его пленку, громко выдохнула, всплеснула руками, убрала волосы с лица и поискала глазами мужа. Он смотрел на нее новым взглядом, в котором разобраться сразу она не смогла, но зато ощутила вдруг настоящую радость.
Выйдя на берег, они легли ничком на мягкую траву и повернули друг к другу лица. Он почти не моргал. Она смотрела, как по его щеке ползет к губам большая яркая капля. Умытая солнечным соком из-под буковой кроны, она казалась такой свежей и вкусной, что женщине стоило труда не слизнуть ее языком. Глядя ему в глаза и чувствуя, как балует с кожей задиристый ветер, она все больше обретала столь нужную смелость, а когда обрела, рассудила: «Бог мой, чего я стыжусь? В конце концов, он мой муж!..», — привстала на локте и, колыхнув грудью, потянулась к его плечу, провела по лопаткам, склонилась над Алановой головой и выпила насухо вожделенное золото капли, но не насытилась, а только сильнее вскипела жаждой и в спешке стала искать алчущим ртом вокруг и дальше, потом вниз по шее, на позвонках, на крепких овалах мышц, в крохотной детской ложбинке над самым крестцом, победоносно встретила его выстраданный негой стон и тут же побежала по нему, как по эху, наверх, к бессильному всхлипу, пробегая тугими сосками по дрожащей тропе выгибающейся спины. Снова добравшись до шеи, она вплелась в нее дыханием, обманула поцелуем и, чуть покусывая тягучую мякоть, впилась ногтями в его напрягшиеся ягодицы. Вскрикнув, мужчина извернулся и яростно ответил ей смиряющими пыл объятьями. Его сердце гремело под ней, словно в груди у него билась каменоломня. Дразня, женщина попыталась выскользнуть, задвигала плечами, затолкала коленом, но он был упорен и не отпускал. Отыскав в желтой завесе волос ее губы, он накрыл их долгим, путающимся в извивах влажного фитиля поцелуем, забродил руками по ее спине, схватился за бедра, одним движением уложил ее под себя и, взяв в замок ее запястья, вынудил покориться, обмякнуть под быстрыми ласками, а потом заставил слушать с закрытыми глазами, как ласки становятся увереннее и спокойней, как они текут по ее восторженной коже, замирают на ней подушками пальцев, проверяют на ощупь пугливую наготу ее души и, пробуя на вкус одно за другим искрящиеся зернышки света в россыпи звонких мгновений, приглашают ее окунуться в бездонность свежего времени. Потом он вырвал время с корнем откуда-то у нее из пупка, поднял лицо и одним взглядом распугал клубящийся над ними ненужный рой мыслей и слов, распял под собой ее дыханье, стиснул зубы и гладко, юрко вошел в нее, как уж в знакомую нору. Она закричала, услышав, как разрывается мольбой ее голос и распыляется ветром по миру. Доведя ее до исступления, мужчина вздрогнул, закатил глаза и потемнел уткнувшимся в смерть лицом. Потом со стоном рухнул на нее, скатился на спину и в отчаянии зарычал, вонзив кулаки в землю. Боль его была родом прямо из сердца и была нестерпима, но все ж несравнима с той, что вонзилась женщине в грудь кинжалом обиды.
— Прости, — сказал он, когда вспомнил о ней.
Она не ответила и, вытянувшись на простертой в пустоту руке, следила за тем, как он идет к запруде, недолго плещется в ней и взбирается на противоположный берег, машинально защитив наготу длиннопалой ладонью папоротника. Глядя на бронзовый плеск его тени в дремлющей заводи, она шептала себе о том, что, наверное, должна его простить, но руки ее не находили места, они слонялись по траве словно в поисках корма для беды, что пришла так внезапно и теперь ожидала, чем еще поживиться.
Медленно встав, она пошла к их брошенной одежде. Поглядев на свое платье, она подумала, что не видала никогда ничего более похожего на дохлятину. Платье по-прежнему пахло кислой грязью от пустившей сок травы. Перекинув его через руку, она подняла одежду мужчины другой и неверными шагами двинулась к воде. Наступив на что-то мягкое и быстрое, отчего в тот же миг у нее по спине брызнули мурашки, она отдернула ногу, уже по щиколотку измазанную копошащейся кусачей гирляндой, притопнула ею о землю, пытаясь смахнуть приближающиеся к колену стремительные гроздья, но не смогла отделаться и от половины их черных плодов. Вскрикнув, она принялась сбрасывать их с себя нервными руками, с ужасом подмечая, что из своей раздавленной обители к ней ползет жирным пятном тысяча злых муравьев. Кинувшись наутек, она совсем забыла про воду и оказалась вдруг у той лиственницы, где час назад ее муж оставил ружье и котомку. Прижав приклад к животу, она взвела один за другим оба курка и надавила собачку. Глухой и толстый взрыв отозвался в ней добавочной болью и прошиб ее чувства насквозь. Поведя стволом над белым теперь блеском заводи, она нашла иву, под которой томилась тень, закричала проклятье и выстрелила опять. Потом снова взвела курок и надавила собачку, но услышала только слабый щелчок. Как перезарядить ружье, она не знала, а потому швырнула его на землю и побежала к воде.
Тень на том берегу даже не шелохнулась. Пуля шлепнула в ствол в какой-нибудь пяди над головой, это было понятно по звуку, но мужчина не стал проверять. Из его распахнутых глаз опять смотрело прозрение.
Женщина месила воду руками, покуда не истощила силы. Потом толчками поплыла к берегу, туда, где сидел на корточках муж. Словно боясь, что она свернет в сторону, он встретил ее на полпути к тенистому дереву, удержал, крепко обнял, поцеловал в глаза, потом подхватил на руки и понес к иве.
— Я хочу тебя, — тихо молвил он ей на ухо, и она почти что поверила. По крайней мере, пусть попробует, успела подумать она, прежде чем откликнулась на его осторожную нежность. Никто из них не пожелал закрывать глаза.
Когда он ею овладел, воздух стал чуть теплее и сделался совсем прозрачным. В нем плавала, покорная ветру, умная птица сочувствия. Склонившись над людьми, она прислушалась, но не распознала ничего, кроме заботы и робкой, застенчивой радости. Свив из легкого трепета листьев, воздуха и нескольких теней приятный узор, она проверила его на прочность, осталась довольна и, убедившись, что теперь все в порядке, отпустила время пастись по распахнутой кроне.
— Береги меня, — попросила женщина. — И тогда я тебе помогу.
— Мы спасемся, — сказал мужчина. — Нам будет вместе хорошо. Нам будет лучше и лучше…
Если это не любовь, что из того? Главное, думала женщина, мы созданы друг для друга, пусть только для того, чтоб не мешать любви настоящей, чужой.
Где-то не близко грянул гром, но сквозь лохматые плети склонившейся ивы никаких туч видно не было. Дождь забил пузырями по воде, застучал по траве, зашуршал по ветвям, роняя осколки брызг им на лица, но не убавил ни солнца, ни света. Такой дождь почему-то принято звать слепым.
XVII
Насколько им удалось разглядеть из низины, обоз составляли два всадника, полдюжины лошадей, четыре брички и пара буйволов, замыкала же его и умело правила им, подгоняя к хребту, новая тайна. Холодный ветер принес с горы тревогу и стал трепать на мужчинах одежды, пока они глядели, нахмурившись, на вершину и ждали, когда обоз взберется на каменную макушку и, словно опоясав ее растянутыми звеньями подвижной цепи, приступит к последнему отрезку пути.
Странная то была дорога: сперва по спирали вверх, потом по длинной дуге — к соседней вершине, чтобы скатиться затем оттуда по единственной крутой тропе к Проклятой реке. Словно змея на скале, думал Хамыц. Немного удачи — и могла не оставить следа. Каких-нибудь пару недель — и вместо грязного тумана, облепившего горы, повсюду лежал бы снег. Снег означал долгую зиму и сонный покой. До снега было рукой подать. Обидно!
Все, кроме Ацамаза, позаботились прихватить с собой ружья. Ружья были не столько предостережением или угрозой, сколько свидетельством того, что у этой земли есть хозяева, готовые за нее постоять. Правда, никто из них не взялся бы утверждать, что она в том нуждается. Выходит, ружья нужны были, чтобы крепче поверить в то, что земля эта — их и, стало быть, им решать, как быть с теми, кто на нее посягнет. То, что на нее посягнут, сомнений не вызывало.
Когда пришельцев и тех, кто не был им рад, разделял один поворот, между ними поземкой выстлались сумерки. Дразня серым запахом слух, они отвлекали его от реки и молчания, призывая с собою туда, где вынужденное ожидание и разводы далеких теней рождали едва заметный перестук копыт и скрип тележных уключин. Их тщетно пытался стереть из ущелья переменившийся и задувший вдруг из низины ветер.
Тотраз смочил слюной указательный палец, поднял его и неодобрительно покачал головой:
— Похоже, склепам они не понравились.
— Нам угодить им будет не проще, — сказал Хамыц и, переставив ружье себе за спину, задумчиво потер стволом под лопатками.
Ацамаз не сказал ни слова, только, как конь, прянул ноздрями, стремительно чихнул и ощутил внезапно странную боль над переносицей, отдавшую стрелой в затылок. Сквозь упавшую ему на лицо лужицу сумерек было не разглядеть, бледен он или это только им показалось.
Женщины внимательно следили за происходящим из-за плетня Хамыцева двора. Сестры ежились и молчали, деля мир надвое своей похожестью, по которой, как по зеркалу, играло слабой волной отражений шевеленье огня, доползшее сюда из распахнутой настежь двери. Жена Хамыца почувствовала, как дрогнули ее колени и зачесались соски под платьем, отчего-то вдруг горячо загорелась лицом и устыдилась. Воздух всхлипнул растерянно ветром, чуть слышно застонал и замер на мгновение у них над головами широким черным взглядом.
Обоз тем временем изогнулся спиной, расправил члены и показал им всю свою длину. Над его темным, задумчивым телом стыли пятнами и растекались в ничто угрюмые лица. Потом они приблизились и стали твердеть, обрастая глазами. Войдя в пределы аула, обоз притормозил, — как видно, для того, чтобы замыкавший его всадник пришпорил коня и присоединился к тому, кто шел в голове. Теперь их можно было разглядеть. Так же, впрочем, как и лошадей под ними.
Дав самую малость влево, всадники заставили обоз прочертить щедрый овал, оторвались от бричек и один за другим подъехали шагом к Хамыцеву плетню. Тот, кто постарше, спешиться не торопился. Перебирая в руках поводья, он смерил всех поочередно взглядом, в котором где-то на самой глубине аульчанам почудилось какое-то подспудное оскорбление, однако, как ни старались, они не смогли его прочитать и потому не нашли во взгляде ничего из того, к чему бы можно было придраться. Второй чужак был моложе, лет тридцати, но тоже умел смотреть так, будто держал перед собою ладонь, — для того, казалось, чтоб по случайности не измараться о того, на ком задержался глазами.
Подняв в приветствии руку, старший из двоих сказал:
— Да будет небо вам в помощь, солнце — в радость, и да хранит вас покоем всякая ночь…
Они кивнули, переложили ружья каждый в левую руку и стали ждать продолжения. Оно было кратким и внятным.
— На доброту вашу уповаем и просим смиренно извинить за вторжение. За то, что внезапностью появления подпортили вам тишину. Но коли не слишком растревожили мы ваши сердца, не откажите странникам в приюте.
Едва он это произнес, взгляды сцепились в узор паутины и, словно трещины дождем, стали обильно полниться молчанием. Оно росло и твердело, насыщая воздух пронзительным звоном, однако, казалось, оба пришельца ничуть им не обеспокоились, напротив, — пожалуй, что и наслаждаются им. Что-то в их лицах было не так. Но это «не так» было здорово скрыто. И темнота здесь была ни при чем.
Переглянувшись с остальными, Хамыц отметил про себя, что Ацамаз отвел глаза и теперь смотрит на реку. Туда, где брызгают маслом лунные блики. Дольше медлить с ответом было нельзя.
— Всякий гость — Божий посланник. А всякий хозяин — Божий слуга. Как бы ни был далек и насущен ваш путь, вечер, как водится, любит привал. Не взыщите, если здешний приют слишком скуден едою и кровом. Верьте, в том не наша вина: новое место сперва только спросит исправно, вознаграждать же скупится…
— Вижу, оно не богато домами, — отозвался второй. Голос его оказался до странного хриплый и низкий, будто был намного старше его самого.
— Так и есть, — ответил Тотраз. — Зато сами дома богаты огнем и теплом.
— Славно, — сказал тот, что постарше. — Действительно, славно.
Он ухмыльнулся, поскреб небритый подбородок, привычным движением кнута сдвинул к затылку шапку, тут же прихлопнул ее на своей голове, перемахнул ногою седло и спрыгнул наземь. Проделал он это как-то чересчур ловко — не только для своих лет, но и просто для странника, одолевшего путь длиною в целый день и прерывавшего его лишь затем, чтобы справить нужду да напиться. То, что путь был неблизкий, было ясно по лошадям. На крупах у них заскорузла потеками пена, а по мордам бродили разводы пыли, подбитой с многих троп и дорог.
Подойдя к Хамыцу, пришелец сощурился, сверкнул быстрым глазом и уверенно протянул для знакомства руку:
— Туган мое имя. А это — Цоцко, мой брат.
Они поздоровались. С рукой у Тугана было тоже не так: безымянный палец перерос размерами средний, а мизинец выдался ровней указательному. На ощупь рука была теплой и шершавой, как коровий язык. Она не держала мозолей, но словно бы помнила все укусы судьбы, сохранив от нее множество шрамов. Так и хотелось заглянуть ему в ладонь.
Чуть обернувшись, Туган присвистнул, и обоз стал выправлять к плетню. В бричках сидели дети и женщины, никто из них не проронил покуда ни слова. Одна за другой, скрипя колесами и толкаясь на кочках, подводы в минуту разместились на Хамыцевом дворе. Дети, почти все сплошь — подростки, споро управлялись с лошадьми, освобождая их от хомутов, треножа веревками и подвязывая уздой к барьеру. Глядя на них, трудно было отделаться от ощущения, что делают это они не впервой и, возможно даже, уже не в десятый раз. Мальчишеские лица выражали взрослую деловитость. В них не было и крупицы стеснения, так же, впрочем, как и подобающего моменту любопытства по отношению к тому клочку земли, где им предстояло нынче заночевать. Пока они хлопотали, Хамыц насчитал трех женщин, не меньше пяти подростков и крошечную девочку лет трех-четырех, рискованно петлявшую у них под ногами, но умудрившуюся ни разу не оступиться и не упасть в темноте.
Опустив глаза, женщины приблизились к женам аульчан и о чем-то заговорили прочными голосами. Тотраз и Алан отправились подсобить гостям, а Ацамаз стоял рядом с хозяином дома и заметно потел, давя в глотке икоту.
— Что-то не так? — спросил Хамыц.
— Одолела изжога. Будто головешка под горлом горит.
— Я не о том, — сказал Хамыц.
— Пока не знаю, — ответил тот. — Только странно все это…
Хамыц кивнул, но все ж опять спросил, теряя терпение:
— Что именно?
Ацамаз перевел на него грузный взгляд, прикрыл на секунду глаза, задержал воздух, смиряя пожар в груди, потом показал ему руки:
— Хотя бы это…
— Ты о пальцах? Да ведь такое случается…
— Кабы только о них… Есть кое-что посерьезней. Хамыц ждал. От накатившей вдруг на него тревоги стало трудно дышать. Ацамаз проверил взглядом его лицо, убедился, что тот в самом деле не разобрал, осуждающе покачал головой и сказал:
— Усталость. В них ее нет.
«Верно, — подумал Хамыц. — Вот оно. А я все гадаю…»
— Может, просто выносливей нашего будут? — спросил он негромко, глядя на то, как оба чужака вместе с двумя его соседями стаскивают с одной из бричек непонятный груз и, мелко труся под его тяжестью, тащат ношу в сторону дома. Вот между ними мелькнула рука, сорвала покровы с изнанки слоистой тени и снова упала в провал циновки, за края которой они держались, семеня.
— Еще и старик, — произнес Ацамаз. — Гляди-ка: седой, как смерть, да вдобавок тяжелый, как пропасть… Бедой такое тело не нагулять, а?..
Не сводя глаз с рыхлого, почти необъятного, похожего на трясину, живота старика, Хамыц мысленно выругался и отвернулся, чтобы скрыть раздражение. Взгляд его упал на лошадей, которым расторопные подростки уже успели поднести из сарая по охапке сена, сложив еду прямо у коновязи. Хозяину пришлось отметить новую странность: кобыльи морды выражали полнейшее равнодушие, хотя корм был отменный, душистый — отличное лакомство после изнуряющего пути. Однако лошади жевали его на удивление размеренно и лениво, все равно что терпеливо выполняя свой долг — так же, к примеру, как сносили бы смену подков или стальной вкус постылых удил.
— Отец мой, — пояснил вдруг вынырнувший из темноты Туган, и Хамыц тоскливо подумал, что не услышал его шагов. — Лет ему больше, чем слов в языке, к тому ж половину из них он давно разменял на вечность. Но по-прежнему властный, как гром. Чуть обживется у вас, еще его услышите!.. Говорит, здесь ему нравится. Да и как отрицать: дом твой пригож и к гостям благодушен. Спасибо, хозяин.
Он быстро ушел, направившись к бричкам, и из густеющей тьмы было слышно, как он отдает распоряжения и ему вторит хриплый безжалостный голос, похожий на звук большой и неострой пилы. Голос кромсал тьму, расчленяя ее на части и мерно складывая их затем, будто пожитки в кладовку, в глубокую пазуху ночи. Каждый окрик его походил на тяжелый удар и словно сколачивал из пространства надежные вместилища темноты, которые будет удобно грузить на подводы тогда, когда они вновь отправятся в путь. Этот голос тревожил сильнее всего.
Подавив нервный зевок, Хамыц воздел очи горе и увидел, что все наверху запорошено звездами, будто пылью, и вся эта пыль горит, как чесотка, на черной коже небес. Чуть сбоку над головой слезилась болезнью и главная рана — луна. Река внизу рыдала, а может, напротив, — смеялась, орошая брызгами склепы. Их было отчетливо видно во тьме: постаралась луна. Хамыц почувствовал, что время вдруг выползло из-под него скользким ящером, встало в рост у него за спиной и заклубилось дымчато, потянуло из души слух и зычность, опустошая грудь странной немощью. На мгновение ему сдавило ребра тесной петлей, и в тот же миг он сделался старым и мудрым, войдя, как в запруду, в прохладную грусть и печаль дальнего своего, отчего-то синего будущего. До самых краев постижения, покуда хватало глаз, оно было наполнено трудным светом уже пережитых страданий, от которых сейчас осталось дышать в нем лишь стойкое одиночество. В испуге он дернул руками, сбросил с себя наваждение и глотнул влаги из воздуха, освежая сухость в груди вернувшимся в ночь настоящим. Ноги окрепли, чуть вспорхнула душа, разместилась удобнее в теле, и все тут же закончилось. Впереди была целая жизнь, день за днем. Впереди была ночь. Ацамаз коснулся его плеча и сказал:
— Не спеши горевать. Им с нами не справиться. Они здесь не пустят корней: им больше по вкусу дорога.
«Лжет, — подумал Хамыц. — Или сам просто хочет поверить. Или видит дальше меня. Только я пока знаю одно: если даже не пустят корней, они здесь задержатся дольше, чем надо. Уже чересчур задержались».
В глубокой, пронзительной тьме, слушая ее нехорошую поступь, он вспоминал глазами весь день, начиная с минуты, когда жена заприметила со двора чужаков.
Вслед за тем, как старика и мужчин разместили в Ацамазовом доме, а подростков забрали к себе Тотраз и Алан, все три женщины и ребенок получили прибежище здесь, в их хадзаре. Ужин закончился скоро: быстро поев и не тратясь на праздные разговоры, гости отправились спать, прихватив с собой все свои тайные мысли. Опыт помог чужакам не крошить ими в присутствии тех, кто тщетно пытался вчитаться в их лица и разгадать их намерения. Старика кормили особо: Цоцко предпочел самолично отнести ему целый чурек, большущий кусок копченого мяса и четверть сырного круга, привезенного ими с собой. Вернувшись в дом, Ацамаз обнаружил, что в кадке почти не осталось воды. Выпить столько обычному смертному было бы не под силу и за день. Ни от кого не укрылось и то, что оба пришельца с особым, пристальным даже вниманием разглядывают того, кто явился сюда за полгода до них, успел стать хозяином нового дома и мужем жены, взявшей имя сестры своей, чтоб спасти ее счастье и честь. Они глядели на Алана так, будто видят его не впервой и дивятся, что он их не помнит. Тот чувствовал себя неуютно, как человек, чей беспечный сон наблюдали другие, пока он говорил в нем сам с собой, а потом он проснулся, забыл все слова и вдруг понял, что сон украден теми, кто за ним следил, покуда он полоскал у них на виду свою душу. Ощущение было тягостным и непонятным, как и весь этот ужин, в продолжение которого очажное пламя стояло торчком, а река за стеной издевалась над слухом, притворяясь то шакалом, скулящим в лесу, то медведем, рычащим на рану.
Тишина была хитрой и подлой, будто замышляла крик. Слышно было лишь время от времени, как буйволы чужаков колотят спросонок рогами в дощатые стены сарая.
— Ветер теплый, как перед снегом, — шепнула жена. — Скорее бы утро…
Он взял ее руку в свою и тихонько погладил. Она благодарно прижалась к нему, щекоча волосами, и Хамыц опоздал уклониться. Желание вспыхнуло в нем, позабыв о стыде, и, внезапно поддавшись отчаянию, он яростно ей овладел, упиваясь обманом свободы. Получилось грубо и громко, но он понял это только тогда, когда свет от лучины раздвинул вдруг близкие тени и в каком-нибудь шаге от нар Хамыц с ужасом разглядел сидящего на корточках ребенка. Широко распахнув глаза, девочка серьезно смотрела на них, кусая палец и что-то мурлыча под нос. Жена ахнула, вскинулась было, но тут же упала, натянула под горло одеяло, всхлипнула и замерла. Совершенно голая, девочка переложила себе ладони на бедра и, потирая их, старательно зажмурилась и стала тихо стонать. Хамыц окаменел. Неспособный сдвинуться с места, он не сводил с девочки глаз. Внезапно заскучав, та хмыкнула, щелкнула языком, поднялась на ноги, но, встретившись с мужчиной взглядом, на секунду замерла, словно продолжая игру, облизнула себе ладошку, медленно провела ею по животу, томно вздохнула, потом зевнула, почесав коленку, обернулась и заковыляла прочь, однако на середине комнаты остановилась и, встав на цыпочки, потянулась к лучине. Задув ее с третьего раза, она зашлепала босиком назад, выросла над его головой сопящей тенью, отпихнула его мешающую руку, вскарабкалась на постель и шмыгнула в еще горячую вмятину между мужчиной и женщиной. Устроившись головой у него на предплечье, закинула ногу на лоно жены и, не успев завершить начатый вдох, мгновенно заснула.
Боясь шевельнуться, они гладили черный воздух глазами, пытаясь унять его память и усыпить ее новой, пристыженной тишиной. Девочка крепко спала и на бесенка совсем уже не походила. Дыхание ее было ровным, как следы на стекле, и пахло теплым дождем. Три сердца бились у Хамыца в руке резвыми, легкими молотками, трудясь над прихотливым узором нечаянной радости.
— Ты слышишь? — спросил он жену.
— Тс-с!.. — прошептала она. — Конечно, я слышу…
«Что это? — думал Хамыц. — Как это понимать? Быть может, Всевышний наконец смилостивился и позволил зачать нам дочь? Или я ошибаюсь, и все это — проделки шайтана?» Под широкими, толстыми скобами ребер лежала навзничь его душа, почти готовая уже отдаться дреме. На тревогу она не отзывалась. Да, скорее, ему было светло, чем муторно или плохо. От спящей девочки исходил неподдельный покой. Покой был тем, чего ему не хватало весь день. Казалось, теперь его хватит уже до рассвета.
Когда они проснулись, девочки в постели не было. Она исчезла так же бесшумно, как и появилась средь ночи, с той только разницей, что сейчас оба они испытали не ужас, а облегчение. Найдя ее замотанной в теплый материнский платок, ковыряющейся во влажной от росы траве, Хамыц заглянул ей в глаза, но никакой памяти о ночи в них не было. Безучастно взглянув на него, девочка отвернулась, деловито склонилась над словленным кузнечиком, оторвала ему ногу и, поразмыслив, пустила его ронять свою боль по седой осенней земле, тронутой изморозью. Потом присела на корточки и справила нужду, следя за тем, как тонет в пущенном ею ручье незадачливое насекомое. Как ей удалось поймать кузнечика в ноябре, Хамыц себя даже не спрашивал.
Белый, болезненный свет наступившего утра вернул ощущение близкой беды, но объяснил его только тогда, когда далеко впереди, на главном привале реки, у подножия склепов, разглядел он пять братьев-подростков. Сначала он не поверил глазам, а потом, обуянный праведным гневом, закричал что есть мочи, пытаясь спугнуть.
Подобного святотатства он не мог и представить: разорив склепы, мальчишки играли костями, собирая из них остовы костра, кто-то стучал — словно пыль выбивая из шапок — найденными внутри черепами, а двое подростков лепили из глины коричневые снежки, запуская ими в освященные смертью стены. Бессильно взмахнув руками, Хамыц издал новый крик, полный страданья и возмущения, призывая на помощь спасительный страх тех, кто еще не увидел кошмара, однако, прежде чем появились соседи, наткнулся глазами на чужаков. Туган изумленно смотрел на него, стараясь понять, что его так испугало, а в руке у него висела, стуча головой о колено, подбитая сойка. Туган был в одной лишь черкеске и безоружен. Должно быть, воспользовался первым попавшимся камнем, сообразил Хамыц. Его вдруг захлестнуло отвращение, и он в бессилии выдохнул и отвернулся. Увидел, как, сидя на берегу, полощут в реке тройное тряпье поникших, заломленных крыльев безликие даже под взглядом рассвета создания. По воде расходились нечистым туманом красные пятна и, подхваченные течением, растворялись в потоке. Внезапно до Хамыца дошло, что это кровь. Что они уже поживились их лесом. Недалеко от оврага он увидел Цоцко. Тот сидел, подогнув ноги, на скинутой бурке и, вроде бы ничего не услышав, любовался представшей картиной. Рядом с ним лежало ружье. От моста черными каплями по камням петляла извилистая дорожка, подбиралась к Хамыцеву дому, поворачивала и, роняя фазаньи перья, стекала к реке, туда, где ощипывали подстреленную добычу три женщины. Воздух пронзило громом, и тут же, словно игрушечные фигурки, пришельцы засуетились и замерли, вперив взоры туда, где стоял на своем пороге Тотраз и хрипел стон и проклятья. К нему уже спешил, прихрамывая, Ацамаз, а Алан пытался выхватить у него из рук дымящееся ружье. Какое-то мутное, смазанное мгновение — и вот уже рядом с ними стоит и Цоцко, разводит руками. А еще через миг, едва поглядев ему в лицо, они вдруг теряют слова, заметно конфузятся, и только Ацамаз глядит исподлобья на то, как тот лениво пытается оправдаться, не взяв даже труда стереть с лица победную улыбку.
Что-то толкнуло Хамыца в бедро, и он спохватился. Запрокинув кверху лицо, на него смотрела девчонка. Кивнув властно и ободряюще, она призывно тянула к нему руки и ждала. Поразмыслив, он сдался. Присел на корточки, почистил взглядом ее лицо, сквозь разводы свежевысохшей грязи нашел то, что искал в нем, подавил в глотке дрожь и поднял ребенка на руки. Почти невесомая, девочка пахла травой и неведением мудрости, заплутавшей неведомо где. Он почти любил ее, почти ее вожделел, почти ненавидел ее и боялся признаться в исходящем от нее искушении. Искушении не для плоти его, разумеется, нет, а для духа, смущенного близостью рока, внезапным отвором судьбы, подготовившей новый черед испытаний. Испытаний не счастьем, любовью, надеждой, не смирением, не стихией небес и земли и не праведным страхом, а — злом. Непонятным, причудливым злом, разорившим за утро святое проклятье реки, сухость сумрачных склепов, вековое почтенье к легенде и к величию пустоты, что так бережно и осторожно заселялась ими надеждой в трепете риска и радости целый год напролет. Зло пришло с холодами и бросилось в бой напролом. Неужто это угодно и Богу?
Теплый ветер подул вдруг с реки и принес запах снега. Хамыц видел, как, отирая с надбровья пот, Ацамаз упрямо глядит на ухмылку врага. «Коли он дьявол, этот Цоцко, — подумал Хамыц, — у меня на руках сидит его сестра, а она-то, скорее, как ангел!»
Гулкий, эхом наполненный, почти что утробный крик заставил его содропгуться. Хамыц прислушался. Да, так и есть. Голос выл, разнося за собой по ущелью одно только слово: «Отр-р-рава!.. Отр-р-рава… Отр-р-рава!» Ребенок, казалось, не обратил на него никакого внимания и все так же спокойно и прямо смотрел Хамыцу в глаза, словно ждал от него ответа на простой и честный вопрос.
— Вот ведь как, — произнес где-то рядом Туган. — Не впрок ему ваша еда. Или дело в воде?
— В ней, пожалуй, — ответил Хамыц и, вместо того чтобы передать ее дяде, подбросил девочку вверх, услышал радостный смех и только тогда поставил ребенка на землю.
На рукав ему тихо упала снежинка — зима!..
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
Там, где смыкались ладонями две скалы над рекой, солнце готовило для себя короткий привал. Выскользнув из-за гор и зависнув в глубоком разрезе ущелья, оно подплывало к двойному острию почти соприкоснувшихся плит, напоминавших то ли завалившиеся надгробия, то ли расколотую пополам терпеливой суетой воды вершину. Нанизав свою призрачную плоть на два равных каменных выступа, солнце слепило в лицо буйным свечением, из-под которого постепенно на радужной оболочке глаз сквозь ажурную кромку разноцветной травы прорастало черное пятно круглого отражения. Оно оставалось тлеть на изнанке век еще несколько влажных минут, пока отлиняет в тень эта дивная и четкая симметрия, сложенная из безупречного яркого шара, обрызгавшего сотней бликов разгневанную воду под собой, и жесткого холода каменных плит, внезапно спаянных — на миг — звенящей лавой света. Длилось это и впрямь какие-то мгновения, минуту, а может, меньше даже — несколько глотков вдруг настежь распахнувшегося, чистого, упругого и девственного времени, проникшего эхом в самое сердце и задышавшего в нем щедрой волной. Мир словно поднимал завесу над своей главной и простой, как этот миг, загадкой: он был прекрасен, правилен и добр. Ради того, чтобы в том убедиться, стоило идти сюда полдня по турьей тропе, царапая руки в кровь и портя одежду, а потом, дождавшись и причастившись солнечной мудрости, уже на закате, спуститься ближе к реке и устроиться на ночлег в полумраке неспелой луны и полушаге от звезд, чтобы после, слушая нестрашную темноту, заснуть в полумысли от невозвращения — в себя самого и в грядущее утро, которое призовет обратно к тем, кого было так трудно понять и с кем было легче расстаться, чем поладить душой.
Да, с людьми было куда как труднее. Они не знали, что такое покой. Но рано или поздно он их все равно настигал. И даже дед его, проживший сто семь лет и ни разу за весь этот срок не повысивший голоса, словно признал это, когда поднялся напоследок на участок земли, до самых сухих, укромных недр своих насытившийся его потом. Дед вышел на середину делянки, хмуро поглядел по сторонам, увидел ясный желтый день, обвел прозрачным взглядом каждого из сыновей, племянников и внуков, в раздражении поморщился, затем, словно ища глазами выход из прижавшей его тесноты, тревожно посмотрел на ущелье и горы, однако не нашел, чего искал, опустил лицо, отрешенно уставился в землю, и им всем почудилось, что теперь его точно уронит, качнет или с корнем вырвет от них, но, едва переведя дух, он поднял голову и равнодушно так произнес:
— Устал я очень. Жить намаялся.
Отбросил под ноги мотыгу и твердой походкой пошел умирать. К утру он с жизнью справился, стерев с лица ее последние следы, кроме тех, что пригодились смерти, и стал похож на сам окропленный туманом рассветный воздух, в котором, как водится, было больше слепоты, чем солнца, а памяти меньше, чем в истаявших искрах звезд. Едва умерев, он перестал быть старым, потому что старость (тогда, стоя у гроба, они это поняли) — не что иное, как затянувшаяся схватка с жизнью без всякой надежды победить, — хотя бы оттого, что позабыта, утрачена цель.
Чтобы смириться, ему понадобился целый век — сто лет тяжелого упорного труда без права на болезнь и бунт, без права на отчаяние и слабость, — лишь размеренная череда скользящих сквозь нескладный разум дней, послушно следующих за раз и навсегда установленным круговоротом движения, привычно называемым судьбой. Судьба зачиналась прежде, чем сам человек: она готовилась загодя, вытягиваясь исподволь в бесконечную цепь странных событий, весь смысл которых, непостижимый до внятных глубин, сводился к тому, что небо не бездействует и сочиняет за людей их собственные жизни.
В случае с дедом все было ясно давным-давно, и вопрос заключался лишь в том, насколько стар тот успеет сделаться, прежде чем передаст черед сыну. Ибо в роду их так оно и шло: старый — молодой — старик — юноша — снова старый — и молодой опять, при этом строго соблюдался закон старшинства, по которому и передавалось сотканной на небесах судьбой это странное свойство являться в гости к смерти — тогда, когда уже стал так древен, что совестно глядеть в глаза живым, или тогда, когда уйти из жизни означало предать ее на самом громком вдохе.
II
Отец ушел через год, почти день в день. Едва справили тризну по молодому, как настало время поминать старика. Тот умер молча, отказываясь отвечать на расспросы и не обращая внимания на три поколения сгрудившихся у его одра родных, которым, за исключением девяностолетней старухи-сестры, сам был началом, истоком, главой и среди которых вот уже сорок лет не было той, кого, в отличие от них, ему только и довелось выбирать самолично и с кем он, возможно, нашел бы о чем перемолвиться словом перед тем, как отправиться за нею вслед.
О первой дедовой жене в семье мало кто помнил: жизнь ее не отметилась на фамильном древе ни единым побегом, ни единым ростком — так, разве что слабая зарубка на стволе как постыдный знак ее бесплодия — или беспримерного дедова упрямства. Потому что ему ее навязали.
Стараясь угодить судьбе, от которой, как он, вероятно, надеялся, и на том свете немало зависело, его родитель, сраженный чахоткой прежде еще, чем обзавелся морщинами, приготовился к смерти настолько, что успел завещать в жены шестнадцатилетнему юнцу дочь лучшего друга, не потрудившись перед тем поинтересоваться согласием молодых. Так что дед не хотел, а попросту подчинился чужой воле; вот только было не понять, чьей больше — смерти или отца.
За двадцать прожитых вместе лет он научился делить с женой напасти лучше, быть может, чем саму супружескую постель, и, конечно, жену таки без труда пережил, ведь иначе и быть не могло: шел он следом за молодым, а значит, должен был сильно состариться, но притом успеть сотворить наследника, которому со жребием везло гораздо меньше. По большому счету, отец дедов подставил не столько единственного сына, сколько собственного друга и дочь его, на двадцать лет вынужденную запереть свою душу в бесплодие; кому-кому, а ей хорошо было ведомо, что ее первенцу суждено. Возможно, знание то ей и мешало родить: непросто это — произвести на свет обреченность.
А когда она умерла (что-то в животе оборвалось внезапно, будто внутри шерсть горит, пожаловалась она), дед был еще мужчина хоть куда, однако, не желая рисковать, справив первую годовщину, поспешил жениться опять, безошибочно подыскав себе за много верст от ее поросшей травой могилки ту, что умудрилась потом рожать ему детей на протяжении четверти века, позволяя себе лишь небольшие передышки в год-два для того, чтобы не истощить свою утробу раньше, чем удастся окончательно запутать судьбу. Бабка старалась вовсю, но поначалу рождались лишь девочки. Муж был терпелив. Он знал, что нужно ждать, и верил, что справится.
Через пятнадцать лет детей у них сделалась дюжина, только наследника среди них по-прежнему не было. И тут бабка решилась перевести дух. Дед вел себя достойно и безропотно ждал, пускай и разменял уже шестой десяток. Однако спустя пять лет жена его, хоть понесла, сплоховала опять: случился выкидыш. Кто-то донес старику, что, изнывая от преследовавшей ее всю неделю духоты, назойливо бившей ей в ноздри невнятной тухлятиной, едва от печи, она опрометчиво вышла под хлынувший ливень как раз накануне внезапного июльского приморозка и что, дескать, в ту четверть часа, что смывала дождем одышку и запах, не уберегла она не кого-нибудь, а малыша. И тогда он, дед, впервые проявил к ней жестокость, которой она ему, говорят, так и не стала прощать. Вернувшись с косьбы (в его-то возрасте! Но куда ему было деваться: юнцов в доме не было ни единой души, вот и приходилось ему отправляться на самую дальнюю из полян, подальше от чужих глаз), не распрягая коня, он вошел в дом и, как был, с вилами в руках, направился к ней, будто и не слыша шепота и плача двенадцати дочерей, которых в тот день наверняка променял бы на первого встречного юнца. Бабка хотела было встать с топчана, однако он помотал головой, не позволив. Наверное, думал, что мужества хватит. Но, чуть она отвернулась к стене, пряча страдающий взгляд, как он с собой не совладал. Подцепив на вилы седеющую, но все еще толстую, как черенок для заступа, косу, он потащил ее к запруде. Сев в повозку и окаменев спиной, ехал он не медленно и не быстро, в человеческий шаг, и за все время ни разу не оглянулся, не покосился назад, на закинутые за плечи вилы. К бабкиному унижению аул был готов, и дед, хоть двигался вдоль расторопного безлюдья улицы, по теплой тишине услышал много острых глаз и даже взмок от напряжения. Стиснув зубы, его жена себе кричать не разрешала. Невзирая на боль, старалась идти ровно, не пуская руки не то что вцепиться в зубья вил, но даже подняться защитой к своим волосам. У запруды дед остановился, слез с повозки, потянул вилы перед собой и уронил бабку в воду. Не давая ей утонуть, он только жег ее холодом, время от времени выбирая ее, словно невод, за волосы из реки и заставляя дышать нестерпимым позором. Глядя на них в эти минуты, законно было предположить, что в мире этом нет ничего спокойнее истинной ярости, а упрямее ее может быть разве что гордая ненависть женщины, которая отныне никогда ему не уступит и не простит…
Сын родился ровно в срок, спустя девять месяцев, здоровый и голодный, как волчонок. Дед мог бы торжествовать, если бы не поведение бабки, своим молчанием выражавшей неявное, но устойчивое презрение к тому, кого прежде так почитала, но для кого, как оказалось, изношенная ее, но плодовитая утроба значила больше ее высыхавшей в коросту души. Коли тогда она не умерла, застудившись в запруде, так лишь для того, чтобы отплатить ему за унижение подачкой — на, мол, получай то, что хотел. Но только не то, что было.
В некотором смысле, в тот момент дед и закончился. По крайней мере, для судьбы и для нее. А то, что ему еще предстояло столько сердитых несвежих лет, как нельзя лучше свидетельствовало, что месть ее удалась. Еще через четыре года она родила ему сына второго, который для главной фамильной судьбы был совсем уж и не важен, зато — благодаря чему — стал показательно ее любимцем. Чувствуя ее, прячущее торжествующие глаза, неослабевающее соперничество, дед заметно страдал, и досада его была тем сильней, чем намереннее выказывала ему жена свою покорность, граничившую с издевкой. Строптивый сам, но по-мужски наивный, он не умел измыслить ничего, кроме как усмирять ее простейшим жеребячьим способом, а потому спустя еще шесть лет понесла она вновь — от смущенного старика, которому до семидесяти оставалось не более пары годков.
Мести женщины преданны больше, чем собственному желанию жить, так что она, должно быть, ликовала, глядя на свой обвисший и дряблый живот, болтавшийся у нее над коленями шишковатой пазухой, в которой места для новой жизни было чересчур, до страшного много, чтобы вместе с нею радовались муж или повзрослевшие и подросшие дети. В те месяцы, что им еще оставались, дед выказывал жене особое внимание и заботу, словно старался вымолить себе прощение, но бабка была непреклонна — возможно, уже лишь по привычке, а может, из простого желания довести дело до конца и в решающий момент не дать слабину перед человеком, который, доведись ему выбирать между ее унижением и рождением первенца, несомненно, снова бы выбрал второе. Он знал, что она не уступит, однако до последнего надеялся, что месть закончилась и что жена уцелеет.
Она того не пожелала — при родах умерла. Конечно, то был снова мальчик.
Его дед жаловал меньше всех. Даже меньше старшего и, как будто, самого нужного ему, необходимого для того, чтобы отчитаться добросовестно перед судьбой. Среднему повезло больше. Возможно, что и больше сестер: после смерти жены предпочтение перед всеми другими дед явно отдавал ему. Пожалуй, не только из-за нее, а оттого еще, что, в отличие от первого сына, тот получал возможность дожить до дедовых лет и тоже познать, что это такое — проигранная старость.
Конечно, потом, за сорок лет, многое изменилось, и все воспоминания о матери его детей для старика поблекли и отступили перед бесконечной суетой повседневности, но вряд ли его отпускало когда-либо щемящее чувство утраты, потому как в безукоризненной сноровке правильных и неспешных движений его легче было распознать умелое, матерое равнодушие, нежели мудрое и деятельное упорство, свойственное неутомимому сеятелю. Напрасно он изнашивал себя работой: сухое, поджарое тело его оставалось куда моложе брюзгливого морщинистого сердца. Старик не ведал радости, а потому с ним рядом было зябко, как на промозглом ветру, и отчего-то все время хотелось вытянуться в струнку.
Особенно почтителен к нему был старший сын, носивший на бледном и умном лице своем те же глаза. Разница была только в том, что глаза молодого умели смеяться и непритворно любили жизнь; что до дедовых, — они не улыбались даже тогда, когда он оставался наедине с собой и его вдруг начинала отовсюду обступать плавная, вполне равнодушная к мрачности его нрава предрассветная ущельная красота. Разумеется, он намаялся и устал. Еще б не устать — терпеть себя столько лет! Потом настал черед другого…
III
В то, что ему предначертано, казалось, сам он не верил. И только в утро дедовых похорон, распоряжаясь насчет могильного камня, отец сплоховал, невольно обмолвившись, что присмотрел у Горелой пещеры валун песчаника, почти белоснежный, да крупный такой, что и на два надгробия хватит. Не в пример старику, до последнего копавшему, пилившему, строгавшему и топтавшему свои постылые дни, отец торопился жить: смотреть, дышать, удивляться и слушать. Он был прирожденный обманщик.
На розыгрыши его не обижались, а россказням и сочиненным небылицам охотно доверяли — не потому, что был он столь горазд кого-то провести, а оттого, скорее, что в его историях становилось людям чуть уютнее и светлее, чем в простоватой правде их жизней. И когда отец рассказывал про смеющийся крошечный водопад, затерянный в лесу, или хромого горного козла, глумливо пускавшего газы в прицелившегося охотника, рано или поздно кто-нибудь непременно набредал и на хохочущий бурливый источник, и на пукнувшего тура, ушедшего, припадая на одно копыто, от промахнувшегося ловца в зеленоватую дымку расселины. Стоило ему придумать запутавшегося в облаке орла, как они, орлы, тут же множились под ищущими взглядами, увязая полетом в белой пене небес. С маловерами он никогда не спорил и, лишь бегло взглянув в их сторону легкой синеватой печалью, тут же отворачивался, чтоб не оскорбить кого своей грустящей жалостью.
На матери женился потому, что она его поразила — не столько красотой, сколько картиной, что при виде ее нарисовало ему его воображение: она стояла у своего хадзара и смотрела на то, как ее братья выносят из-под навеса семейный котел для кувда, рассказывал он.
— Калитка была распахнута, и сквозь нее я увидел, что в ее оцепенелых руках больше скорби, чем праздника. Она стояла одна, подвернув незаметно крылья, словно силясь не улететь, и было это очень красиво. Будто самый высокий гром, которого никто до меня и не слышал. Все вокруг оказались слепы, и только я разглядел. С тех пор так вот и сторожу ее руки глазами, а стоит мне задремать, как они в крылья и превращаются…
Будучи проницательна от природы, мать знала, что на ее месте могла оказаться другая, кто — почти все равно: в отцовом сердце жило столько любви и восторга, что переменчивый ветреный случай мог расплескать их на кого угодно еще. Просто ей больше других повезло. Рядом с ним всегда было тепло, хоть и немного волнительно: когда он умолкал, собеседник тщетно пытался разгадать по глазам его и дыханию, какой тропой пошли гулять его мысли, чтобы добраться туда, где быль и небыль привычно жмут друг другу руки и погружаются в искренний разговор.
Потом дед умер, и отец заболел.
Внезапно, исподтишка, на него нападали головокружения, он еще пуще бледнел, а в синих глазах закипала черная лихорадка. Когда отпустили первые приступы, он стал выбираться во двор и часами сидел там, наслаждаясь детской кротостью воздуха. Долго ходить он не мог даже опираясь на палку, и однажды, указав на собственную тень, посетовал вдруг:
— Плотнее, толще сделалась. Да и отяжелела порядком, едва за собой волоку…
Так они поняли, что он поверил. По ночам, особенно в холода, тень почти уходила, и тогда он бродил по двору, распрямив отощавшую спину, почти до утра, не в силах заснуть оттого, что боялся.
Лекарь, доставленный сыновьями из крепости, положил у его изголовья два пузырька с дурно пахнущей жидкостью и велел принимать каждый день натощак. По тому, что от денег врач отказался, им стало ясно, что дни отца сочтены. Он сделался раздражителен и, когда забывал об их присутствии, беспокойно рыскал глазами в поисках того, кто, оставаясь бесплотным, упорно прятался в уже неподъемную тень. Руки его исхудали, побелели и были так чисты, как бывают, наверное, лишь у святого. Болезнь поймала его в силки и не пускала мыслями наружу. Впервые им стало видно, о чем он думает, и то, как мысль его, терзаясь в неволе, тщетно старается вырваться из плена слабеющей плоти: мир был уже далеко, а болезнь — та повсюду. Он совсем перестал шутить, без повода раздражался и порой глядел на них, как на недоумков, совершенно не сведущих в том, чем открывалась ему поработившая дух его истина. Теперь им стало понятно значение слов «находиться при смерти», потому что он, несомненно, был от нее неотлучен, был к ней прикован — прочнее, чем даже каторжник к цепи. Просто смерть чего-то ждала, отчего-то ленилась, а он часами лежал без движенья, не решаясь ее потревожить. Он будто уходил от них в себя. И не только дыханием, почти растворившимся в застылости ладони на груди, но всем обликом, тающим телом, глубиной глазных впадин с тихим тонущим взглядом в них. А перед кончиной сказал:
— Никто из вас не знает, каково оно на самом деле.
И мать спросила:
— Ты о чем?
Он с трудом, словно жернов, передвинул поближе к жене свой взгляд, удостоверился, что к ней молчанием уже не достучаться, и, чуть заметно дернув подбородком, как бы желая пристыдить, негромко пояснил:
— Об одиночестве. Никто из вас не подглядел его в лицо, не знает, что это такое… — и, помолчав, добавил: — Громадная яма без дна и без стен.
Потом он впал в беспамятство и заметался в стонах по постели. Его давила боль, сминая грудь невидимыми пальцами, и смотреть на его мучения было невыносимо. Настолько, что каждый из них про себя умолял небеса сжалиться и призывал, торопя, его смерть. А когда она наконец заявилась, сквозь мутные слезы им удалось разглядеть буквальный смысл того, что крылось за словами «испустить дух». Тут-то все и свершилось, а сыновья его безошибочно поняли, что только что пережили самое страшное из всего, что им отпущено, быть может, на целый век вперед.
Дело было не в одних лишь страданиях, свидетелями которых им против воли своей пришлось стать, а, пожалуй, больше — в непостижимом преображении человека, доводившегося им отцом. Доводившегося, кстати, ровнехонько «пополам», ведь их появление на свет разделяли какие-то минуты, хлопотливый зазор в несколько возгласов восхищенной кривой повитухи, а потом сразу — вот он, первый, а вот второй, похожие, как два кулачка, левый-правый… Признак слишком ненадежный для определения старшинства. Впрочем, еще и отличная возможность озадачить судьбу.
Отец был несказанно рад, еще бы — два близнеца! Мало что первый случай в роду, — какая выдумка естества, какой остроумный обман! Гордость его в те дни была беспримерна, а ликование заразительно, только дед, казалось, его никак не одобрял: слишком долго ходил у судьбы на поводке, чтобы уверовать в ее нерасторопность. Отец же с наслаждением играл в их имена. Сперва порывался дать одно на двоих, был согласен на любое, лишь бы было мужское и не звучало, как кличка. Довод его сводился к тому, что их и вправду было не различить. Стоило переменить пеленки, и уже собственная мать терялась в догадках: левый — правый, первый — второй, а может быть, наоборот…
Однако старик ему строго-настрого запретил, растолковав, что мужчина, мол, на то и мужчина, чтобы именем дорожить, как лицом своим или честью.
— Лицо-то у них вроде одно, — пытался было возразить отец. — Да и честь общая…
— И общий отец, — добавил дед, а глаза его сверкнули гневом, — на которого когда-то впустую целое имя перевели. Проще было юродивым обозвать.
Так что отец лишь пожал плечами и подчинился. Но как бы не до конца, снабдив их именами, в которых только и было разницы, что крошечная подковка звука, еле отличимая запинка, колючка в теле слова, которое теперь так просто было тасовать с другим. Отец ведал, что делает, потому что, едва они немного подросли, любимым развлечением и баловством их оказалась игра в подмену имен, которые сами взрослые к тому времени успели смешать столько раз, что уж никто всерьез и не надеялся, что первенцем и вправду был Алан, а тот, кого спустя минуты кривая повитуха положила справа, — тот Аслан. По сути, вопрос заключался не в том уже, как одного распознать от другого, старшего от младшего, а в том, чтобы имена к ним хоть немного «прижились» и пометили их сознание тенью личностной памяти, благодаря которой если не лица их, так взгляды, выраженье глаз помогли бы отличать их лучше, чем надетая с утра одежда. Меняться ею значило меняться именем, желаньями, душой, потому как детская душа и есть ее желания. Отец их в этом поощрял, притворяясь, что не замечает нехитрых их уловок, в которых сам был несравненно изобретательнее.
Как-то раз, призвав к себе жену, он потребовал поднести зеркальце. Подняв его перед одним из близнецов, спросил, что в нем и кто это там прячется. Тот удивленно вскинул брови, потрогал скользкую, прохладную на ощупь лужицу и, убедив себя, ответил:
— Брат.
Проделав то же самое со вторым и услышав такой же ответ, отец, очень довольный и возбужденный, заявил, обращаясь не столько к следившему за ними деду, сколько к их матери:
— Смотри-ка, для них жизнь ровно вдвое глазастее, чем для нас с тобой. Потому что каждый из них для другого — это он сам и есть, только такой, что на него еще можно и со стороны поглядеть. Брат для них всегда ловчее, чем тот, кто только сидит у них в голове и следит за ним изнутри. Оттого-то каждый из них и признал в зеркале не себя, а другого, хоть этот другой и стоял в трех шагах от него. Стало быть, другой для них всегда умеет больше, чем тот, что внутри. И может, больше значит. А потому никак ты их не удержишь…
Он замолчал, а дед, не дождавшись, что тот объяснит, не утерпел и спросил:
— Отчего это их надобно удержать? Уж не от зуда ли всех кругом дурачить? Так то ведь им по наследству досталось…
Отец погрустнел и искоса поглядел на старика своей чистой, прощающей синевой. Тот смутился, наткнувшись взглядом на его спокойное сочувствие, в котором достоинства и мудрости было больше, чем в неуклюжей дедовой ревности, питаемой к сыну с тех пор, как старик превратил свою жизнь в своего же соперника, на цельгс полвека вперед отгородившись упрямством от мести женщины, что так и не сподобилась ему простить даже после собственной смерти.
— Нет, — сказал отец. — Они не дурачат. Они становятся друг другом, а потом — снова собой, чтобы тут же опять поменяться местами и стать для себя интересней. Им так лучше. Они лишь делают то, что остальным не под силу. В конце концов они это бросят — может, потому что надоест, а может, оттого что мы внушим им стыд. На самом деле мы им просто завидуем. По крайней мере, я…
Будь его воля, отец бы и впрямь превратил свою жизнь в игру: в игре всегда есть цель и смысл. И в ней есть правила, которые понятны и разумны. Есть пыл борьбы, погони, бегства, есть охотничий азарт. И только смерти нет. Та в ней лишь понарошку.
Пока был жив старик, его тщедушная, но резвая поджарость была прикрытием, защитой от судьбы, которая, пока старик был жив, томилась им, а не отцом. Пока старик был жив, он нес ответственность за все, что делал, потворствуя капризам неба, и свято верил в то, что прав. Так было легче: идти по намеченной свыше дороге, а не бежать наобум сквозь туман, даже если в нем примерещилась радуга. Отец предпочитал не вымощенную судьбой дорогу, а мерцающую заманчивым многоцветьем дугу. В отличие от деда, отец не верил, а знал, что прав. И если старик возроптал на жену, не сумевшую с первого раза уберечь в своей утробе долгожданный росток послания свыше, то отца хватило на большее: отважился он восстать против ниспосланного ему удела, предпринимая все, чтоб доказать, что следовать за радугой надежды достойнее и лучше, чем прозябать под брюхом у судьбы.
Он был счастливый человек. Возможно, потому, что, покуда был молод и весел, умел размышлять о своем недальнем конце как о чем-то внезапном, таком же, как хитрый поворот на самом гребне увлекательного рассказа, отчего тот сделается только совершеннее и прочнее. Его почти вызывающая беззаботность могла объясняться и тем, что линия судьбы их рода чуть запнулась — запятой, как раз перед его, отца, рождением. И разве мог с тех пор хоть кто-нибудь понять, пошел ли в небесный зачет тот недоношенный бабкой зародыш и нельзя ли им подменить звено ковавшейся в горних высях цепи? Иными словами, такая надежда была, а ему, отцу, с его жаждой пить из глубокого кувшина жизни огромными, взахлеб, глотками, этого было довольно, чтобы вести себя так, будто никакой рок над ним уж и не властен. А когда явились на свет близнецы, он уже по-настоящему торжествовал: в вязальном станке судьбы что-то испортилось, дало серьезный сбой, если никому из них, причастных к ней, не удалось разглядеть за спиной у младенцев зависший зыбью призрак их раннего иль позднего конца. Такого уже не бывало не одну сотню лет.
Выходит, отец добился, чего хотел: если и не он разорвет эту проклятую нить, то, по крайней мере, будет последним, кого задушит сплетенная из нее паутина. Обретая смелость улыбки перед лицом судьбы, он дарил близнецам свободу. Рядом с его иль дедовой — почти безграничную. Душой тоскуя по беспредельности плывущих в его воображении пространств, он слышал в них бескрайнюю задумчивость движения, в сравнении с которым смерть была секундным пустяком, никчемною помехой, все равно что мякиш грязи под блестящим солнечным колесом.
Пока был жив дед, отец не боялся. Потом к нему вдруг подкралась болезнь, и ему стало страшно. Им всем стало страшно.
Конечно, ушел он не так, как желал бы. Судьба умела мстить почище бабки: перед тем, как его уничтожить, она медленно и долго погружала его в холодную темницу одиночества, пока он не осознал, что нащупать в ней дно ему не удастся. Его конец был ужаснее дедова. Тот ушел весь, без затей и остатка, исчерпав за сто лет и себя, и терпенье свое, и глаза — так, что жизнь ему опостылела. Дед просто жил и терпел, пока ему не надоело, тогда он заслонился от них молчанием и призвал свою смерть, потому что в этом мире выжил все до последней капли, до запретной пустоты. Ею и объяснялось его равнодушие к тем, кто вместо него остается: они служили ей же, пустоте, только сами еще не знали об этом.
IV
После отца осталась боль. И страх, как знак вопроса. Неужто и вправду судьба настолько сильней? Неужто ее не обманешь? Кого она выберет в старшие, кто будет им: брат или я? Как нас разделить? А может, отцова болезнь была порождением страха? Сомнения в том, что под силу ее избежать? Что если б он вообще не боялся? Да разве возможно такое?
Ответ был неведом, но со дня похорон близнецы изменились. Вдруг сразу сделалось видно, насколько они повзрослели: на целые имена, которыми с того дня они не решались делиться ни на миг, словно отцова смерть застала каждого из них врасплох в самом себе да там и заперла — пожалуй, навсегда. Отныне Аслан и Алан были двое похожих, но разных людей, по крупицам собиравших и бережно складывавших в своей душе робкий опыт различий. Прежде чем что-то сделать, они примеряли возможный поступок на образ второго и, если такой выбор был, поступали иначе, чем поступил бы брат. Так, меняя старые и общие привычки, они обретали те, что нужны были имени, все больше отчуждая себя от своего двойника. Их врожденную близость, зачатую в один и тот же миг и поровну растворенную в обоих сердцах, одолеть было сложно. Чтобы ограничить ее даже самую малость, требовалась воля. Их общая воля, благодаря которой, все чаще удаляясь друг от друга в пространстве, времени и, стало быть, судьбе, они себя убедили, что у них воли две.
Разумеется, они ни о чем не сговаривались: к чему сговариваться, если каждый из них, едва научившись желать, в точности знал, чего желает второй, ибо чаще всего второй желал того же. Задача заключалась в том, чтобы выучиться как раз обратному: не свободно заглядывать в мысли другого, а сделаться настолько разными, чтобы в лучшем случае их угадывать, да и то не всегда. Оба были упорны, порой — чересчур, и тогда доходило до драки. Ровесников по аулу это здорово забавляло: занятно было смотреть на то, как мутузят друг друга два одинаковых человека с одинаковыми телами, одинаковыми лицами и одинаковым стыдом на них, притворно выдаваемым за одинаковую ярость. Дрались обычно молча и до крови, настойчиво метя сопернику в лицо, словно желая раз и навсегда разрушить совершенное, природой дарованное отражение самих себя в том, кто уже тоже совсем его не терпел и, сплевывая кровь, готов был биться до изнеможения с тем же вертким врагом.
— Не знаю, — говорила мать, прикладывая примочки к ранам, — так ненавидеть друг друга только за то, что кормились одной пуповиной… Не понимаю. Конечно, ваш отец бы растолковал, но я не умею.
Ей часто казалось, что в близнецах нет от нее ничего, кроме разве что боли. Да и той в них было больше, пожалуй, чем в ней: в их отце она любила мужчину, в то время как они — загадку и пример.
По непонятной, но веской причине, едва отказавшись от игры в подмену имен и пряток в душе у другого, они стали соперниками во всем, за что ни брались в попытке доказать свое различие. Два повзрослевших кулачка, левый-правый, и оба разом зачесались, — хоть каждый из них, близнецов, безошибочно знал, ощущая тягучей тоской в себе, что не сможет ни с честью победить, ни даже проиграть с достоинством, пока кому-то из них, по прихоти божественного росчерка, не придется уступить, вытянув, наконец, из глубокой шапки судьбы жребий на срок своей смерти. Ее они нисколько не боялись и, если б то от них зависело, вне всякого сомнения, избрали б долю младшего в семье.
Зато в любой работе не было им равных. Стоя плечом к плечу на сенокосе, идя за плугом по пашне или орудуя в сарае долотом и молотком, каждый из них трудился до самоистязания, вынуждая брата так же стискивать зубы, давить в груди вздох и, обливаясь потом, ни за что не уступать.
Им было трудно друг без друга. Стараясь избавиться от этой чрезмерной привязанности, они не упускали возможности расстаться. Выбирая привычку, Аслан чаще всего отправлялся к реке или в лес, а «старший», Алан, карабкался в горы.
V
Сложенная ладонями двойная скала приковывала взгляд и, поджидая солнце, кормила воздух причудливой прибрежной тишиной. Алан находил здесь покой, какого не ведали люди, какого не знал и он сам, едва оказывался среди них.
С ними было тревожно. С ними было так, словно его самого слишком мало, словно ему не хватает самого себя. Порой его обуревало чувство, будто часть его куда-то безвозвратно ушла, и без нее он — что чужак в самом себе. К двадцати пяти годам он понял, что скоро себя потеряет. Это странное ощущение было сродни тому, что испытал он в тот момент, как выучился плавать: внезапно выяснилось, что его тело умеет гораздо больше, чем ему до сих пор дозволялось. Оно умело открывать в себе стихию — неожиданного постижения спрятанных на самом дне бессознательной памяти навыков и умений, в сравнении с которыми привычные обретения его мужающего разума казались не более чем смешными подделками под то, что составляло суть главного, незаменимого знания, ради которого он прожил годы в предвкушении события, что навсегда вернет ему самого себя и позволит примириться с братом.
Скала, рассеченная надвое, служила посредником между его, Алана, сердцем и солнцем, сердцем небес. Он чувствовал, что должен внять посылу, который все еще не в силах разгадать, но чьим приметам, сиянию, свету он радовался всей душой, растекаясь ею по бескрайности царившей вокруг тишины, что вышивала солнечным лучом согласие реки, камней и леса под этой дышащей и чистой синевой. Лежа у воды, оглушенный прекрасным видением солнца, вмиг воссоздавшего целостность там, где только что была дыра и пропасть, он постигал себя. И первое, что ему открывалось, — его несомненная близость к той сокровенности и правде, которую можно было принять разве что за саму вечность или за самый стержень ее, — ибо была она вне времени, больше времени и много старше его, хотя и несказанно молода, моложе всякой мысли, но — и мудрее. Правда о мире был сам этот мир. Вот это солнце и эта вот скала…
Они были дороже родного аула и тех, кто его населял. В их присутствии он, Алан, никогда не мог отпустить свою душу бродить без присмотра по улицам, домам, желаниям и помыслам других людей, чьи собственные души были накрепко привязаны к их бдительным рукам, стиснуты скулами, распяты в темноте, шнурованы в суровом платье, подбиты мягким мехом или пойманы надежной теснотой, хранившейся у них за пазухой. В те редкие минуты, когда, расслабленный внезапностью покоя, похожего на тот, что он принес в себе с горы, Алан не успевал за нею уследить, его душа ускользала из наглухо запертых стен и отправлялась в путь. Иногда он отыскивал ее там, где было грязно и нехорошо, а то и опасно, и тогда, испачканную и возбужденную, он долго утешал ее, остужая прохладой терпеливого одиночества, пока та не погрузится в сон.
К двадцати пяти годам он так и не позволил ей понять, способна ли она любить, а потому его познание женщины ограничилось лишь ее телом, податливым и мягким, как обман, из которого можно было выбраться почти без потерь, если довериться буйному бесчинству плоти, а не надменности разума.
Он хорошо помнил тот дождь, когда, застигнутый в лесу с вязанкой хвороста, вышел по разбитой в грязь тропе к опушке, пересек ее, топча пузыри и почерневшие стебли травы, сквозь серую пелену воды и, оскальзываясь на подъеме, срезая пятками коричневую глину (попутно замечая краем глаза, как желтеют оставляемые за спиной следы), снова углубился в чащу и с четверть часа продирался по ней к реке, пока не понял вдруг, что заплутал. Сбросив с плеч хворост и с трудом переводя дух, он смотрел за тем, как играет ветвями рухнувший на лес дождь, превращая его в покорного свидетеля своего громкого, неоспоримого могущества. Примолкший птичьими голосами, расчерченный на ручьи и прибитый водой к поредевшим кустам, лес преобразился. Словно мокрая дворняга посреди бескрайней лужи, отнявшей у нее не только лапы, но и кураж, он смиренно ждал, когда смилостивится наконец гроза и разрешит ему отряхнуться первым же ласковым ветром. Пока же вода неистовствовала, смывая тени и полуденный свет, и наполняла воздух обманчивыми сумерками. Прилипшая к телу одежда, смешавшись с потом, теснила движения. Раздевшись почти донага, Алан выбрал крону пошире и прислонился к стволу. Через миг он почувствовал между лопатками странное жжение, словно его лизнула теплом щепотка огня. Невольно отпрянув, он поднял глаза и прочитал на коре искрящуюся строку протекшего меда. Блестящая полоска, расплескав впопыхах две издохших пчелы, вела к большому дуплу и там застывала, сложившись внутри вязкой сладостью. Попробовав мед на язык, он запил его водой с подвернувшегося листа и ощутил на губах чуть тревожный вкус радости. Поискав взглядом вокруг, увидел мелкие лунки следов, уводящие в чащу. Поразмыслив с минуту, принял вызов и, подстегиваемый вконец разнуздавшимся дождем, решительно двинулся навстречу ожидавшему его приключению. Отметив про себя странное поведение сердца, стучавшего взбу-дораженно и неровно и вместе с тем с каждым шагом, словно бы отстраняясь, погружавшегося в равнодушие гулкого сна, он одолел расстояние в полсотни шагов и тут услышал на себе искомый взгляд. Теперь он ясно ощущал себя охотником, вооруженным не ружьем или кинжалом, не изобретательностью присущего ловцу коварства, а — ведомым лишь хмелящим риском да первобытной похотью самца, почуявшего самку. И, пока дождь без устали насиловал лес, сам он, смежив брови и смахивая с глаз липкое водное семя, внимательно изучал поникшие листвой деревья. Когда ствол одного из них на миг испачкался тканью, он бросился туда, ломая ветви, и настиг добычу уже в следующую секунду. Упав в лужу, они свирепо боролись, превратившись в двух сильных зверей, и наслаждение от этой борьбы было таким же, как от убийства, когда не подвели ни меткость, ни ружье, ни крепкая рука. Он был охотником и зверем в этот миг, благословляемый дождем и раззадоренный строптивостью извивавшейся под ним в грязи и в кровь царапавшейся жертвы, в черных зрачках которой ничего как будто от жертвы и не было, а был лишь тоже голодный неистовый зверь, на глазах превращавшийся в жадную самку, а когда он ее победил, раздался торжествующий утробный клич, но только сам он к нему не имел отношения, сам он глухо стонал, застигнутый врасплох мгновенным наслаждением, которое было больше, пронзительнее, смелее наслаждения охотника, уцелившего удачу. Стремительность наступившей развязки ошеломляла и отнимала цену у того, что было до и будет после этого дождя.
Впервые познав женское тело, он понимал, что женщиною овладел: она лежала под ним, широко расставив мокрые ноги, безразличная к миру и времени. Сосредоточенно-слепое лицо ее выражало крайнюю степень внимания. Она слушала свое нутро, закрыв глаза и не дыша, словно пыталась не то внять шепоту торжествующего греха, не то постичь вдруг снизошедшее с небес откровение. Молодое лицо, молодая плоть, обмякшая и навзничь покоренная, белая грудь, блестящая от грязи и дождя, переполненная восторгом до самых набухших почками лилово-красных сосков. Разбросанные руки с черным лоном подмышек, дрожащие пальцы на размокшей земле. Сиротливость волос, подобранных мелким потоком. И грязное-грязное платье. Оно валялось в стороне, скомканное и изуродованное схваткой, тщетно силясь напомнить о предстоящем стыде. Рядом, множа глазницы луж, лежали черепки разбитого кувшина, роняя в воду легкие камешки янтаря. Капля меда, приютившая желтый сколок померкшего света, укрылась в ложбинке у шеи. Он коснулся ее языком, осторожно поднял губами и почувствовал, что девушка открыла глаза. Молодое лицо, отчаянно-смелое, родом из этого ливня. Молодая, опять пробуждающаяся плоть. Ускользающая от чутких пальцев взгляда мокрая кожа. Распахнутые бедра и упрямая, твердеющая грудь. Всполохи дальних зарниц и едва заметный шорох уходящего грома… Желание в нем быстро взрослело, обретая трезвость движений и вызревая в первые плоды заветного опыта. Закусив губу, девушка вновь зажглась взглядом и ответила ему буйной страстью, похожей на ненависть. Схватив его лицо руками, она не отпускала его ни на миг из-под своих налившихся бешенством глаз. Дождь хлестал его по спине, проливаясь ей на шею и грудь дорожками сумерек. Под его пальцами уплывала в пропасть земля, расползаясь множеством ручейков, неудержимых на ощупь, скользких временем и подвижных песком, в который она начинала крошиться, отлипая от свежего месива глины. Девушка торопилась, и он подчинялся ее прозорливой, знающей воле, постепенно забывая о земле, воде и боли в ладонях, израненных зубами вонзившихся камней. Потом он забыл обо всем, включая себя и крошечный шрам на ее переносице, но тут же почти, будто по волшебству, собрал все это в кулак своих обнажившихся чувств, все равно как грязную жижу, которую ловили его руки, пока он пытался спастись, удержаться в этом дожде, но что-то сверкнуло в нем полетом, вытянулось в струну, обратилось в огненный шар и, пролившись расплавленной бронзой, поразило судорогой лежащее тело под ним. Девушка дернулась, заскрежетала зубами, крепко прижала его к себе, впилась в него поцелуем, укусила в язык, толчком распрямила колени и растворилась в дожде. Веки были плотно прикрыты, дыхание спряталось и только влажная темная тень между рядами приоткрытых зубов украдкой что-то искала в невнятном провале рта. Почувствовав, что отторгнут, он вышел из нее, перевернулся на спину и стал смотреть ей сбоку в лицо. Дождь вдруг споткнулся и присмирел, перейдя на тихий ласковый шепот. Земля тут же ответила холодом, и он встал, передумал поднимать ее платье и вместо этого сходил за своей одеждой туда, где мог наконец без помех улыбнуться.
Когда он вернулся, она сидела на коленях к нему спиной и с обиженной скорбью разглядывала свое платье. Едва он подошел, девушка резко обернулась и спросила так, будто хотела плеснуть в него кипятком:
— Выходит, ты передумал?
По глазам ее он понял, что они знакомы, и знакомы давно. Вялое, шерстистое на вкус отвращение подступило к горлу, и он заставил себя проследовать мимо нее, лишь бы только спрятать лицо. Ибо оно ему уже не принадлежало, так же, пожалуй, как и сама эта нечаянная добыча. Насухо вытерев тело, он безмолвно оделся, слушая, как ему в спину летят упреки не подозревающей о своей оплошности девушки. Дождь закончился, небо очистилось, и солнце принялось наводить порядок в лесу. Казалось, оно глумливо смеется ему в затылок и, пустив из-под кроны прозрачные пальцы на ставшую вдруг нелепой в своей наготе, какую-то лупоглазую от свернувшихся в фигу сосков грудь, откровенно издевается над женщиной. Вот отчего он решил ее бросить, думал Алан, угрюмо глядя на то, как девушка всплескивает руками, заводится глазом и дрожит мстительно нижней губой, пытаясь добиться ответа. Едва отдышавшись, она взялась торговать своей болью. Выходит, грош той боли цена. Сказать ей, что я ему брат, — не поверит, мрачно подумал он. Такие верят лишь в то, что похоже на подлость. Случайность для них — всего только подлость подстроенная. Нет смысла…
Давно перестав ее слушать, он размышлял о том, что судьба — просто сука, если устроила ему эту засаду. Он без труда вообразил, как веселился бы брат, доведись ему узнать про то, что сегодня произошло. Сомневаться в том, что она «попалась» намеренно, не приходилось так же, как и в том, что «попалась» она лишь потому, что приняла его за брата. Случай лишь помог ей ошибиться, как ему самому — попасться в капкан. Добыча оказалась наживкой, на которую удалось словить самого ловца. Чтобы ответить хоть чем-то, надо было признать, что проиграл. Проиграл же он больше даже, чем думал: обнаженная девушка перед ним будила новое, нестерпимое, постыдное желание. Быть может, виновато в том было пышущее злобой, ее наивное и, в общем-то, отталкивающее неведение, а может, ненасытная одержимость плоти, которую ему вдруг захотелось заново подмять, разложить на кресте своей похоти, унизить и покорить, но уже — совершенно зряче, осознанно, грубо, без дождя, словно глядя в глаза судьбе и принимая от нее вызов, отвечая на него своей спасительной пошлостью, — все равно как похабным ругательством на издевку, противостоять которой иначе бессилен. А может, вдали от всех, кто мог его разгадать, вдали от угрозы разоблачения, вдали от занозливых нар своей совести, ему захотелось опять ощутить себя просто самцом, безразличным к стыду и раскаянию.
Подойдя к ней вплотную, он выдернул платье из рук, схватил девушку за волосы, поставил на корточки к себе спиной и, как осел, спаривающийся с крикливой ослихой, вонзил в нее тяжелым початком свое ликующее упрямство, даже не зажмурив глаза. Облитый, вместо дождя, кислым потом отвращения и похоти, он таранил ее плоть мстительными толчками, крепко стиснув челюсти и не отводя взгляда от насмешливого солнца. Излив в нее остатки семени, он отстранился, подвязал шнурком штаны, так и не сказав ни слова, развернулся на пятках в густеющей сохнущей грязи и пошел вон из леса, позабыв про хворост и женщину. Едва опомнившись, она заголосила ему вслед проклятья, но с каждым шагом прочь они делались забавнее и тише, уступая место громкому птичьему гомону…
«Должно быть, противно быть Богом и смотреть на всю эту гнусность всерьез», — отчего-то подумал он и в тот же миг совершенно отчетливо осознал, что Бога нет вовсе. По крайней мере, здесь и сейчас. Сердце его было на удивление полым и легким (как пустой карман, в который затекла случайная вода), словно начисто вымыто прошедшим дождем, — так, разве что ленивое шевеление безразличия и тупого чувства презрения к себе. Все оттого, что я никак не могу стать собой, думал он, глядя в наливающуюся темной силой тень у себя под ногами. Как и у всякого другого, она была у него одна. Только вот было и отличие: у него была одна тень на земле и всегда две — в помыслах и делах. Вторая выглядывала у него из-за плеча. Ненавидел он ее почти столь же сильно, как любил того, кто за нею стоял. Жить с ним рядом было с каждым днем все труднее. Им было тесно вдвоем, как двум крикам в одной израненной глотке. Что поделать, мир оказался теснее материнской утробы. Он был слишком отравлен судьбой…
VI
Казалось, однако, мало кто то замечал. Вокруг жили так, будто изнашивали одну и ту же одежку, которая, несмотря на очевидную потертость и неудобство, почти всем была в общем-то впору, а потому довольно было время от времени добавлять к ней лишь нехитрые корявые заплаты, и не пытаясь сменить ее на яркий наряд мечты. В большинстве своем люди были деловиты и скрытны, упорны в малом, терпеливы в большом и равно подозрительны в том и в другом. Пожалуй, часть правды заключалась в том, что им было скучно. Такая правда была им совсем ни к чему. Оттого они часто и не подозревали, что лгут. Отвага их тут и там мешалась с трусостью, мудрость — с глупостью, а зависть почти всегда укрывалась под зыбкой сенью выказываемой доброты. Думать о них было все равно что болеть мутной долгой болезнью, неизлечимой до той поры, пока ты понимал, что ты и сам — такой же.
После смерти отца их мир, мир людей и аула, опустел для Алана на целый свой смысл, и теперь был не чем иным, как плутающими по измятой карте избыточного времени подступами к яме, о которой тот говорил: вялый сон одиночества, бредущий по кругу в затылок судьбе. Сон был полон движения, почти нелепого в своей истинной сути, потому что плохо складывался в любую достойную цель. Выбирая из этого сна наугад, как из дряблого сита, созревшие на ощупь зерна памяти, он подолгу рассматривал их на свет, чтобы при случае опознать в завязи наметившегося ростка хоть какое-то подобие надежды — для себя и для тени, подглядывавшей за ним из-за плеча.
Жаль было мать. Но она о нем знала не много, а потому могла не очень и горевать, привычно видя лишь то, что не прятало солнце и не скрывала короткая женская ночь, сменяясь прозрачным рассветом, на границе которых, в укромном тепле поджидающей радости, всякий раз встречал ее их отец. «Он был снова живой и веселый, как прежде, — делилась она поутру, — и совсем не печальный, а даже, скорей, озорной… Ну, знаете, каким он бывал, когда шел к дому и нес в руках первый снег, а издали казалось, что у него из них сыплется под ноги серебро, а он просто шел себе и улыбался глазами… Мы опять с ним смеялись и говорили о чем-то хорошем, а потом он превратился в свет из окна, положил мне ладонь на глаза, и я сразу проснулась…» По счастливому лицу ее они видели: она искренне верит, что он жив и ему хорошо, просто живет он отныне не здесь, а там, где свет и тьма равноценно чисты и уютны.
Мать было жаль, но рядом с отцом, приходящим к ней ночью, она могла справиться с любой напастью: прошлое грело ее до сих пор, ломая непрочный покуда лед одиночества по-прежнему бойким домашними заботами настоящим, которое, как водится, спешило усыпать ей лицо морщинами, но было бессильно навредить ее тихо поющей душе. Конечно, она была снисходительна к миру: по большому счету, она его не очень и замечала. Ей довольно было того, что день сменяет ночь, а лето — зиму, и каждый день вырастает в жизнь, которой пока слишком много, чтобы всерьез задумываться над тем, что с ней надобно делать, кроме того как просто терпеть и расходовать тут и там привычным женским трудом.
Мать было жаль, но он знал: она сдюжит. Кроме нее был лишь брат. Но с тем было просто и вовсе: я или он. Кто-то старше из нас, а значит, везучей. Пусть будет им он.
С того дня, с того ливня в лесу Алан твердо решил: если уж первым был брат, то пусть им теперь и останется. Я попался на женщине, он попадется на первородстве. Каждый когда-то на чем-либо попадается, придет и его черед…
Считая весенние звезды на крыше их сакли, отчего-то он вспоминал, как однажды, едва близнецам исполнилось по тринадцати лет, они напросились на охоту с Шалико, лучше которого в ауле не было никого из тех, кто когда-либо вскидывал к плечу ружье и нажимал на курок. Шалико умел чувствовать лес, как свое дыхание. Ему не нужны были ни протоптанные тропы, ни зарубки на стволах, ни указки ветра. Заведя их в такие дебри, что впору было уповать на Божью милость, глядя в сырую, как пропасть, лесную глушь, Шалико не стал разводить костер, а только смочил себе губы водой из бурдюка и подал им знак ждать. Привалившись к дереву спиной, он вдруг прикрыл веки и задремал, не обращая внимания на накрапывающий дождь и пришедший за ним следом холод. Подражая опытному охотнику, близнецы притулились рядом, в нескольких шагах от него, но не смыкали глаз, пока крепкий внимательный сон не проделал это вместо них.
Они проснулись тогда, когда захрустели кусты и тут же стало слышно, как мимо дремы их летит в прыжке большое тело. Потом раздался выстрел, и тело рухнуло под ноги Шалико, царапая землю мохнатыми лапами. Выйдя из-за дерева, Шалико протер кулаком глаза и широко, неподдельно зевнул, потом покачал головой, небрежно двинул ногой распростертого барса и обронил:
— Плохой выстрел. Еще немного — промазал бы во второй раз. Мой старый знакомый, прошлогодний подранок.
То была настоящая смелость, будничная, без рисовки и без надрыва.
Спустя какой-нибудь месяц они увидели, как тот же Шалико трясется от страха под суровым взглядом маленького и плотного, как пенек, человека в погонах, властно выспрашивающего у него что-то на незнакомом языке, положив пухлую руку на сабельные ножны. Не понимая ни слова по-русски, Шалико, потный и какой-то неискренний, на всякий случай кивал, пожимая плечами, и все твердил, оправдываясь:
— Да ведь я не хотел. Клянусь своими глазами… Само как-то вышло. Уж ты, дорогой, извини… Чего так сердишься?!
На шум пришел их дядя Абисал и сказал:
— Он просит воды. Для себя и для лошади.
У Шалико отвисла челюсть, и все, кто там был, рассмеялись. Потом он и сам принялся хохотать, с заметным облегчением, но все же как-то слишком подобострастно, чтобы остаться в их памяти смельчаком. Однако был ли он трусом? Алан не знал. Как не знал и того, отчего так глуп порой бывает ум.
Ему не давал покоя случай, произошедший лет семь назад с их дальним родственником Астемиром. Лучший наездник ущелья, приглашаемый чуть ли не каждый месяц на скачки не только по соседству, но и в Алагир, а то и в крепость, пару раз бывало, что в Кабарду или даже Моздок, считался он завидным женихом. Отовсюду возвращался с трофеем, при виде которого у мужчин перехватывало дух, и в ломкой радости частенько их улыбка застывала в зубастый оскал. Пожалуй, особо скромен он не был, как не был он и сумасбродом, все обычаи исправно соблюдал, а потому никто и не предвидел, что именно ему, Астемиру, суждено пережить такое.
Оказалось, что все прежние награды и трофеи не стоили и ломаного гроша в сравнении с тем, что учудил он как-то раз сырым осенним днем на празднике Джеоргуба[8] в одном из дигорских селений. Скачки он, разумеется, выиграл, да только бурки и папахи из тончайшего каракуля вкупе с дагестанским кинжалом показалось ему маловато. Разгоряченный победой и крепко отпивши из поднесенной почетной чаши, он вновь решил посостязаться в резвости с дюжими местными молодцами. С приходом ночи прокрался в дом муллы, опробовав подаренный кинжал на глотках двух собак в его дворе, и, лишь чутьем угадывая в темноте дверные проемы, добрался до девичьей, там прислушался к глухому ненужному сну четырех сестер, по замершему дыханию пятой определил, где, на каких нарах, его дожидаются, спокойно набросил бурку на ту, что мечтала об этом с той минуты, как он, дьяволом вросши в седло, проскакал мимо нее сумасшедшим галопом, прихватив с собой ее вспорхнувшее голубкой сердце, затем, не встретив сопротивления, поднял ее на руки и вынес под зашатавшиеся звезды. Астемир был так пьян от опасности и любви, что потерял рассудок напрочь. Разума его хватило лишь на то, чтоб вычислить, что в этом доме сватам его вежливо, но твердо откажут: осторожный слуга Аллаха, ее родитель никогда не согласится выдать дочь за православного иноверца. Однако дальше сосчитать Астемир уже не смог, а потому добровольно отправился на поиски собственной гибели, ошалев от своей буянящей храбрости и соблазненный покорностью девушки, пахнувшей жаждущей светлой слезой.
Но насладиться ею в ту ночь он не успел, трижды подстреленный и почти труп уже в ту секунду, когда конь его, предоставленный сам себе, затерялся, наконец, в придорожной рощице за тридцать верст от родных яслей. Спасла Астемира она, похищенная Мадинат. Чудом выпутавшись из трофейной бурки, а затем и из-под потерявшего сознание джигита, она схватила его ружье и принялась отстреливаться, загнав коня в овраг, незадачливого же осквернителя своей чести спрятала за павшим сосновым стволом. В утреннем свете преследователи, во главе с ее же старшим братом, проигравшим накануне гонку и получившим теперь возможность отомстить, разглядели в полусотне шагов от себя ее измазанное кровью лицо и сильно смутились. Спешившись, они пытались увещевать ее словами, но было это все равно, что укрощать колыбельной взбесившуюся рысь. Стрелять в женщину никто из них, понятно, не брался, несмотря на то, что от испуганной рыси, загнанной в западню, ждать можно было чего угодно. Едва они к ней двинулись, раздались выстрелы, пять или шесть кряду. По непристойному звонкому вскрику она поняла, что кого-то уцелила, и громко, страшно расхохоталась. Спустя полчаса, потраченные на то, чтобы немного прийти в себя и перевязать раненого, они решили больше не рисковать — по крайней мере, прежде ее единоутробного брата. Приняв от него оружие, заставив опустошить даже кинжальные ножны, они послали его к ней. Однако, едва он вышел к тропе, она пальнула, не мешкая ни минуты. Брат побледнел и, завидев дыру в рукаве своей черкески, потрясенный, пал в обморок. Не зная, что предпринять, они держали осаду до тех пор, пока не сгустился туман, а потом, на всякий случай, давая похитителю время несколько раз умереть, — еще и до самой ночи. С наступлением темноты, дождавшись из села подкрепления, они потянулись к рощице со всех сторон широким кольцом.
Но тех на месте уже не было. Как в пропасть канули. На самом деле, повезло им больше: понимая, что теряет любимого, Мадинат, чуть засерел туман, взвалила бесчувственное тело Астемира на конский круп и пошла на шум реки, обернув лошадиные копыта в нарезанные лепешки каракуля. Теперь настал ее черед его похищать — у мести и у смерти разом. Не давая себе страху передумать, она покрепче подвязала его постромками к коню, вскочила в седло и бросилась в бурливший под нею поток, вмиг распятая холодом и обрушившейся водой до почти полного беспамятства.
Когда их прибило к берегу, захлебнувшаяся, избитая порогами лошадь была мертва, а постромки оборваны — то ли рекою, то ли женской рукой. Отдышавшись, Мадинат ринулась вон из поредевшей чащи, укрылась в кустах у дороги и стала молиться. Небо тут же откликнулось на ее зов, как то и водится с теми, кто умеет обратить свою жизнь в легенду, и очень скоро она разглядела сквозь морось арбу. Напав на возницу и сменив кинжал на его же заряженную винтовку, Мадинат вынудила пожилого изумленного крестьянина сначала бежать перед ней к берегу, потом растирать бездыханное тело Астемира ара-кой, затем тащить его на себе до арбы, развернуться колесами и во весь опор гнать через два ущелья туда, где она, Мадинат, никогда до того не бывала и где ждали ее не больше, чем затмения солнца.
К полуночи они прибыли. У его ворот она приказала крестьянину остановить, войти в дом и сказать отцу, что сын его возвратился с победой, только смертельно устал и нуждается в помощи.
— Если хочешь, можешь прогнать меня сразу, — сказала она его матери, — только ему без меня не жить.
Довольно было мгновения, чтобы, встретившись с ней глазами, не усомниться в том, что она не лжет.
— Обычно девушке надобно сначала женщиной сделаться, потом прожить столько лет и нарожать столько детей, чтобы женщину в себе возненавидеть, и уж потом, если ей удастся не потухнуть зрачками и вовремя не умереть, она только и может по-настоящему свекровь одолеть. С этой все было наоборот, — говорили о Мадинат старики, вспоминая на ныхасе[9] тот день.
Конечно, ссору до конца уладить не удалось, но и продолжать ее кровной местью родне ее было не с руки, как-то стыдно: чем идти воевать со своей же дочерью и сестрой, проще было ее проклясть заодно с шайтаном, что в нее вселился, и тем, кто был ими на пару похищен и водворен в христианский ад.
На отвары да молитвы в ауле мало кто уповал, и уж если Астемир выкарабкался с того света, так только благодаря ее любви. Про них говорили: солнце и утро.
И пусть они совершили грех — большой, непростимый, — однако никто их за то не корил. Вместо скучной хулы поступок их вызывал неподдельное восхищение. Точнее, не сам поступок, а невероятная удачливость той страсти, что победила не только разум и приличия, но и саму смерть, заставив ее боязливо витать, скулить рядом с торжествующим их безумием, а потом и вовсе сдаться и отступить. Увы, ненадолго…
Уже через год Мадинат умерла, на последнем месяце беременности оступившись и упав с карниза сакли, и тогда испуганного восторга перед нею у аульчан еще больше прибавилось. Оставалось только увидеть, как неуемная эта, непозволительная любовь замкнется в гордую петлю легенды, куда войдет он, Астемир, последним страданием и на собственной шее затянет потуже эту петлю.
Он и вправду пытался покончить с собой, но как-то все неумело: то неудачно взрежет вены, то плохо зарядит ружье. Конечно, целый год его оберегали, как могли. Но разве уследишь за тем, кому достаточно минуты, чтоб сделать то, с чем все давно уже смирились и о чем хоть на ныхасе и помалкивали, однако думать не переставали. Тут-то и произошло такое, к чему аул был явно не готов: Астемир женился. Оставил всех в дураках. Привел в дом юное наивное создание с застенчивыми руками и без промелька мысли в отрешенных глазах, заполненных до краев счастливым удивлением от своей невообразимой везучести.
Внезапно ныхас осознал, что предан: Астемир обманул его общий разум и выпал из легенды, как птенец из гнезда. Неловкость мужчин усугублялась той плохо скрываемой и непостижимой ревностью, с какой наблюдали за происходящим их дочери и жены. Завороженные примером всепоглощающей страсти Астемира и Мадинат, женщины еще долго не могли простить новой его избраннице той незаслуженной удачи, что ей позволила (вторично, после покойницы, но уже без подвигов и стрельбы) украсть его у смерти — и у них — из-под самого носа. Но постепенно, с удовлетворением узнавая о его участившихся поражениях на скачках, смакуя свое злорадство, они подготовили в себе жалость к непутевой дурехе, что еще вчера выходила замуж за героя, а уже сегодня оказалась женой неудачника, от которого, презрительно отвернув свой рассерженный лик, все дальше уходило его громкое недосягаемое прошлое.
Глядя на то, как меняется его жизнь, обрастая ровной, словно частокол загона, чередой блеклых дней, мужчины морщились от отвращения. Проведя вокруг пальца свою летучую и разящую, как стрела, судьбу, Астемир променял ее на вязкое существование, похожее на забытье, на убаюкивающий покой привязанности, ибо просто любить и быть любимым на поверку значило для него больше, чем торжественная память аульчан, куда он мог бы при желании достойно удалиться, оставшись навсегда для них непобедимым и завидным воплощением доблести. Особенно их оскорбляло и откровенно угнетало то, что он нисколько не страдал своим негордым нынешним состоянием, а, напротив, был им видимо доволен. И тогда, размышляя над его странным выбором, Алан впервые удостоверился в том, что человек действительно может быть шире отведенного ему удела, а судьба — не что иное, как жесткое русло истории, уместившееся в берега одобрившей ее молвы. И если отец близнецов пытался грести против ее течения и не рассчитал при этом сил, то Астемир поступил куда как проще и естественнее: завидев протянутую руку, он уцепился за нее и выбрался из реки вон, обустроив в угрюмом шепоте одураченного его выходкой соседства свой собственный укромный уголок. Так он стал свободным. И свобода его могла научить большему, чем была бы в состоянии научить отвергнутая участь. Его свобода доказывала, что стоит только в нужную минуту уцелеть, — и человек способен на самом крутом вираже судьбы вырваться в иную, новую совсем и удивительную жизнь, найдя в ней тихую сладость спасения.
Только остальных почему-то это не радовало. Наверно, людям неприятно было думать, что в каждом из них может обитать кто-то еще, кого они нисколечко не знают. Свыкнуться с этим они не хотели: среди них не было близнецов.
VII
В чем-то Аслан был явно смелее. Прыгая с дерева наземь, переходя речку вброд, затевая ссору со сверстниками или исчезая по ночам на поиски приключений, он, похоже, наслаждался опасностью, едва ли отдавая себе отчет в том, что может ей проиграть. С тех пор, как не стало отца, в нем поселилась какая-то покоряющая отвагой безоглядность, нерассуждающая прыть, легкая порывистость движений, вязавшая из подгнивших нитей молью истраченной скуки расписанных загодя лет грубые лохматые узлы, при помощи которых он, как по канату, взбирался на макушку очередного постылого дня, умершего, казалось, прежде еще, чем проснулось осветившее его недужную бледность солнце, зажигал там сердитое огнище бесшабашного своего упрямства, бегло осматривался хищной птицей и, заприметив новый склон в разводах сумерек, находил себе тем самым дело и на завтра. Всякий выигранный спор (орлиное гнездо на крутой ущельной скале, разоренное лишь для того, чтобы в который раз доказать свое превосходство в бесстрашии; пылающий уголь, доставленный в голых ладонях из очага в придорожную лужу; шапка снега, не снимаемая на морозе с головы несколько часов подряд; сырое мясо медвежьего ребра, съеденное без щепотки соли и глотка воды; мякоть собственной голени, пронзенная в потном молчании досиня раскаленной спицей; самоубийственный, запретный, восхитительный нырок в водопад с карниза речного порога) был сам по себе откровенно бессмыслен, но утверждал его в рискованной (и, пожалуй, завидной для всех остальных) уверенности в том, что старый, затхлый мир этот можно расшевелить и пронять до нутра, лишь соревнуясь с ним же в безумии. Победить свою жизнь можно было лишь перестав дорожить ею вовсе. А потому была в нем какая-то потаенная сладкая ярость, прорывавшаяся наружу всякий раз, как он вспоминал об отце: тому-то ярости как раз и не хватило.
Конечно, брата боялись. Наблюдая за ним — за тем, как он ходит и дышит, за тем, как бежит за конем, как со скрипом зубовным побеждает на скачках и в споре, терзает издевкой свой же нечаянный смех, презирает настырную, давнюю боль и дерется, — Алан понимал, что, в отличие от сдавшегося на милость болезни отца, безотлучно, до самой кончины, кротко сидевшего при блуждающей вкруг него смерти и наблюдавшего за тем, как она равнодушно ворожит в тяжелеющем воздухе ленивыми узорами кошмаров, брат носил смерть с собой — словно подобрал в подполье злого котенка, сунул за пазуху и не пожелал с ним расставаться — до тех пор, пока тот не подрастет и заматереет настолько, что новый удар приютившего его ненависть сердца разбудит в нем дикую жажду испробовать его кровь. Рано или поздно, но котенок должен был выпустить когти. Вопрос был в том, как глубоки окажутся шрамы.
В самом начале мая пронесся слух о том, что в одном из соседних аулов пропала девушка. Падким до подробностей шепотом передавалась весть про то, что пропали, в сущности, двое: догадка о ее возможной беременности мгновенно и прочно приладилась к слуху, все равно как муха к хвосту. Иначе и быть не могло: из всех вероятных причин разум привычно выбрал самую грязную. Но уже через пару дней их опытную проницательность едва не постигло разочарование, потому как через два-три дня, чуть только слух укрепился в своих подозрениях, в аул въехал всадник, сошел с коня и, держа его под уздцы, степенно направился к ныхасу, где, обменявшись приветствиями со старейшинами домов, рассказал, хмуро глядя им в лица, что поиски отменены, но не оттого, мол, что девушка найдена, а, напротив, потому, что она вроде как и не пропадала. Какая-то путаница, только и всего. Будто бы целую и невредимую обнаружили ее у дальних родственников в Кобанском ущелье, куда она отправилась по приказу отца на рассвете, о чем сам тот забыл уже поутру, с трудом уцелев в глупом сне, где всю ночь напролет тонул в волнах широкой нездешней реки. Сон и вымыл водой из него крохи прежнего дня… Так что все обошлось, слава Богу.
Рассказ был встречен аулом вполне благосклонно, а ответом ему щедро звучало в речах всеобщее облегчение, ведь причина для беспокойства отпала сама собой. Однако следом за этой причиной отказалось исчезнуть само подозрение. Признаться, оно только усилилось, заблестело близкой разгадкой в глазах и, послушное времени, с каждым часом все явственнее и охотней превращалось в предвкушенье уверенности. Потому что если уж кто начинает рассказывать вслух свои сны — дело явно нечисто. А если он рассылает вокруг еще и гонцов, значит, страх позора затмил ему разум.
Аслан сперва помрачнел. Известие об исчезновении девушки заставило его насторожиться. Казалось, он ходит и прислушивается к тому, как прорастает у него в груди бедой тревога, неумелая и досадная, как дурное предчувствие. На целый день он словно выпал из плескавшегося на ярком весеннем свету бойкими красками времени, погрузившись в цепенеющее ожидание. Потом вдруг встрепенулся и ни с того ни с сего под самый дождь отправился в лес на охоту, чтобы вернуться оттуда к закату ни с чем, кроме мокрой одежды, кровоточащего, впопыхах перевязанного колена, подбитого старого зайца да стона, занесенного в чуткую ночь вместе с черным страданием в глазницах. Затем он впал в забытье — словно сорвался, не умея плавать, в омут чужой неопрятной души — и долго метался в его объятьях, пока не был разбужен рассветом. Взглянув ему в лицо, Алан увидел на нем улыбку, от которой у него побежали мурашки по коже: впечатление было такое, будто он смотрит в зеркало, а оттуда ему его же лицом ухмыляется черт.
— Проверь-ка колено, — сказал Аслан, заметив оторопь брата. Не говоря больше ни слова, он лишь брезгливо поморщился и отвернулся к стене, словно имел дело с олухом, которому легче соврать, чем расходовать попусту правду.
Рана опухла и покрылась по краям коркой сукровицы. Алан сходил в хадзар, зачерпнул в очаге пригоршню пепла, поставил воду на огонь, велел, как вскипит, приготовить отвар, успокоил скупой отговоркой мать и сестер ее, вернулся в комнату и первым делом распознал с порога теплый запах крови. Брат сидел, свесив ногу с одеяла, и с любопытством следил за тем, как из-под сорванной повязки падают вниз послушные капли, сворачиваясь на полу круглым ярко-красным зрачком.
— Давай скорей, не то дождемся — загноится, — велел он Алану и в нетерпении протянул вперед руку. Смочив рану аракой, он обильно посыпал ее сверху пеплом, уронил на него искорки соли и залепил их сверху прозрачной слезой древесной смолы. — Ну вот, теперь уймется. Жалко только штаны.
К вечеру он вновь загорелся глазами, и брат понял, что утром он уйдет. Человек, собирающийся совершить убийство, похож на тяжелобольного, принявшего усилившуюся лихорадку за прилив сил. В нем жаром дышит обреченность. Ее нельзя предотвратить. Но иногда бывает возможно устроить подмену. «В конце концов, у нас одно с ним лицо, — думал Алан. — И я тоже познал эту женщину». Если уж грех их был один на двоих и требовал жертвы, то он готов ее принести. Все остальное было бы трусостью. Решимости кому-то мстить в нем не было вовсе, но это вряд ли имело значение, потому как было в избытке другое — решимость сделать это вместо брата и тем самым спасти ему жизнь. Наверно, в этом и был главный смысл их родства: быть расторопнее там, где расставила сети опасность.
Дождавшись, когда Аслан уснет, он вытащил из-под нар конскую сбрую, осторожно приблизился, набросил ее поверх одеяла брату на ноги и, не затягивая петлю, проделал то же с его руками и грудью. Опустившись на колени, он связал под нарами обе узды, не спеша поправил ремни, вгляделся в безмятежный сон двойника, успел подумать о том, что впервые за долгое время изнуряющего обоих соперничества не испытывает к нему ничего, кроме хорошего, теплого чувства братской привязанности (общая пуповина, невидимая, но осязаемая сердцем, которую чувствуешь, почти как собственную душу), и рывком затянул все узлы. Не давая опомниться, пробкой воткнул ему в рот припасенный заранее кляп, а в распахнутые настежь глаза произнес одну только фразу:
— Из нас двоих ты оказался старший. Прости…
Подождав с минуту, проверил прочность ремней, довольно кивнул, улыбнулся напоследок, молча провел, намекая на девушку, мизинцем у себя над переносицей, подмигнул и вышел вон под звезды.
Ночь была красивой и тихой, гладко светила луна, освещая путь и помогая мыслям плавно кружить по теплому воздуху. Сверяя по ней свой пружинистый шаг, он размышлял о том, что может погибнуть. Размышлял легко и спокойно, как если бы думал о нешуточном долге, который удалось вернуть в самый срок. Дыша полной грудью, он, казалось, самими легкими ощущал глубину своего одиночества, которое было прохладным и чистым, как ветер с горы, и так не похоже на то, о чем толковал их отец. В нем крылись простор и свобода. Они выстилались в дорогу, которую он пройдет до конца, потому что так выбрал.
Вдруг он понял, что дорога и есть его цель. Она сама, а не то, к чему она приведет. Но эта быстрая, как вспышка, догадка не сумела оформиться в мысль, только и жалеть об этом не стоило. Ему было и так хорошо. Бывают на свете минуты, когда завидуешь сам себе. Для него это было в диковинку.
Иногда ему представлялось, что зависть — самое неизменное и ненасытное из всех людских ощущений, которого сам он был напрочь лишен, а потому сплошь и рядом наблюдал его с неослабным интересом, пытаясь разгадать его секрет. Выяснялось, что испытывать его можно по любому поводу и в любом виде: от кислого вкуса сплетни до жара исступленной ненависти. Распалить зависть могло что угодно: богатство, удача, отвага, радость, случайное слово, мысль или просто безмятежный покой, но обязательно — чужие, не свои, и чем больше их набиралось вокруг, тем нетерпимее становилась и зависть.
Бывало, она распространялась стремительно, как зараза, и, забыв на время мелкие распри, объединялась с другими в голодную стаю, взявшуюся, совсем по-шакальи, травить кого-то одного. Чаще всего зависть бывала совсем неразумна, ибо ухитрялась завидовать даже тому, чего в ее собственном погребе было в избытке. Но главное — она всегда была. И была, как правило, жестока.
Прощала она очень редко, легче — покойникам, но когда настигала живьем, могла замучить жертву насмерть. Не потому ли, думал он, над горами вкруг аула, где он сейчас проходил, высились пять хмурых башен, недостроенных главами пяти родов и обветренных прохладой пяти времен, нашедших — каждое свою — причины помешать их возвести чьей-то вдохновенной силе, которую снизу так легко и удобно было принять за гордыню? Не потому ли вяли на корню надежды тех, кто измыслил способ — в разные годы и на свой лад, — как хоть чуть-чуть, самую малость оторваться от бренной земли и приблизиться к небесам, кто предлагал отстроить в камне храм в том месте у скалы, где томилась трещинами в гниющих стенах покосившаяся от древности часовня, в которой век за веком охотно, но посмертно воздавали почести таким вот неугомонным мечтателям, всем тем, кто сполна испытал тщетность своих устремлений, столкнувшись с дружным противодействием тех, кто в результате пережил их благодаря завистливому упорству коренастой своей заурядности?
Люди жили вместе, но — сами по себе, укрывая каждый от другого свои маленькие мысли, так похожие на те, что были спрятаны от них по соседству под такой же вот крышей. Казалось, их отношения сложились так потому, что некогда, давным-давно, настолько давно, что не осталось о том даже снов, их предки чем-то крепко обидели друг друга, и с той поры всем, кто являлся сюда после них, приходилось растрачивать свои встревоженные души на запоздалую месть. Впрочем, все могло объясняться иначе — кто их, людей, до конца разберет!.. Ясно было одно: они не слишком нравились себе. Сказать по правде, у них были на то основания.
Аул остался далеко позади, когда в небе забрезжил рассвет. Дорога вилась мимо реки, затем уходила вверх к самой круче, чтобы почти сразу снова нырнуть к обрыву над берегом, к подножию света и мира, который, казалось, в этот утренний час являл собой спокойное согласие со всем, что в нем было и будет. За время пути Алану так никто и не встретился. Только бегущая полоска подбитой пылью колеи да уютные, бесчисленные голоса толковой тишины. «Странное дело, — думал он, — кругом все так, будто в мире есть только я и вместе с тем меня-то как раз в нем и нет. Совсем не похоже на то, как бывает, когда ты идешь куда-то и знаешь, что должен вернуться».
Солнце выползло из-за гор и призвало его немедля к ответу. Сделав короткий привал у обочины, он стал чистить ружье, из которого сегодня ему предстояло убить того, кого пока он даже не знает в лицо. Глупая история, навязанная ему судьбой. Расплата за то, что ты человек. Пресловутая месть, сквозь муки которой надо пройти, чтобы спасти свою честь. Ту самую, о которой ты даже не вспоминал, когда, поддавшись похоти, по-скотски спаривался в объятом ливнем лесу с той, что приняла тебя за другого, а теперь, понеся неизвестно от кого из двоих, внезапно исчезла, настигнутая местью того, кто тоже спасал свою честь и не нашел ничего лучше, как истребить молодую, наивную плоть раньше, чем у нее начнет распирать позором живот. Вот она, истина. Хуже, чем самая гнусная ложь. Хотя обе они нужны лишь затем, чтобы скрыть настоящую правду. А правда-то в том, что никто не желает прощать: опасается, что окажется вмиг обесчещен. «Я не знаю, кто это был — отец ее или кто-то из братьев, но — кто-то из них, потому что больше и некому. Сегодня я это выясню, едва заглянув им в глаза. Я буду им мстить, потому что такой же. Потому что мстить им хочет мой брат. Потому что не трус. Потому что виновен. Потому что мне все равно и меня с этих пор больше нет. Потому что так выбрал, когда не хотел выбирать. Потому что не смог избежать. Потому что я трус и боюсь лишь того, кто во мне, кому наплевать и кто мог бы вернуться назад и признаться, что цели и нет! Потому что так мне действительно проще: стрелять и убить, или быть убитым, быть принятым снова за брата. Это мне проще, чем взять и восстать — против всех и судьбы, восстать против чести, похожей на шлюху. Проще сдаться, чем пытаться снабдить смыслом жизнь, чем искать его там в одиночку, где его отродясь не бывало. Я такой же. Такой же, как все, только хуже, ибо знаю, что это неправда. Как бы ни было, конец тут один. Противно лишь то, что он мне по вкусу. И что все это — ложь, но Бога-то нет, и выходит, не страшно. Теперь я свободен, потому что не верю. Я свободен, как пустота. Позади — тоска и терпенье. Впереди — чертов выстрел. К нему я готов».
Он поднялся, закинул за плечи ружье. Яркое солнце слепило глаза, заметно сбивая шаг. Отчего-то стало труднее идти, словно был переполнен желудок. Пройдя в обход еще два аула, он пожелал сократить себе путь, свернул на козью тропу, с полчаса шагал по горам, а потом, весь в поту, вновь спустился к дороге. Едва он вышел из-за скалы, как наткнулся на всадника. Тот кивнул ему бегло в ответ, проскакал было мимо, но передумал, осадил коня, развернул его и приблизился.
Разговор был недолгим. Потом всадник снова пришпорил коня и исчез за поворотом, оставив после себя лишь хлопья пыли, повисшие в воздухе двумя пугливыми призраками. Они медленно растворялись в жарком солнечном дне. Алан сидел, сложив под себя ноги и обхватив руками голову. Потом лег в траву и зажмурил глаза. От бессонной ночи они сильно слезились. Время сделалось гуще и тверже. Казалось, его можно потрогать руками, пока оно ползет, подгоняемое ветром, и обволакивает кожу бескорыстной летучей свежестью. Солнце было везде. Оно все видело, все знало. Дорога, солнце, ветер, время… И одинокий человек, лежащий без движения в просторном их плену.
Наконец он поднялся, постоял, борясь с головокружением и размышляя о чем-то, что появилось только что рядом с ним нежданной, пронзительной явью, неспешно напился из бурдюка, справил нужду, закинул за спину хурджин, подобрал ружье, тщательно его зарядил, прицелился солнцу в расплывчатый лоб, но отчего-то раздумал, ухмыльнулся недобро, спустил вдруг штаны, приложил ствол к колену, осмотрел с интересом горячий курок, погладил его большим пальцем, спокойно зевнул и нажал на собачку. Выстрела не последовало, однако Алан этому совсем не удивился. Похоже было, он лишь проверил то, в чем вовсе и не сомневался. «Она взяла меня в залог, — подумал он о судьбе. — Не быть мне больше братом. Другое у нее на уме. По крайней мере, девчонка жива, стало быть, надо вернуться. Очень хочется спать…»
У расселины он сделал новый привал. Вползая в черную влажную тень, он ощутил почти что блаженство. Сон его был глубок и надежен. Никаких видений и голосов, только маленькая уютная смерть без тревог и волнений. Он хорошо отдохнул, прежде чем продолжить свой путь. В сущности, это был не путь, а предпутье…
VIII
Итак, она была жива, а значит, их честь была не задета. Странно, но жизнь ее, так мало значившая для обоих братьев в сравнении с ее же смертью, позволила покуда уцелеть не только им, но и тем, кто мог быть причастен к ее несостоявшемуся исчезновению. Судьба вынужденно брала передышку, и Аслан, похоже, был тому даже рад. Чтобы не утратить внезапно обретенную близость, братья так и не решились заговорить о том, что произошло. Пожалуй, слова здесь были ни к чему: довольно было ощущения душевного сродства, позволившего каждому из них почувствовать себя вдруг чем-то обязанным другому. Способность уступить, не свойственная никому из них доселе, теперь как-то сразу сделалась очевидна и оттого особенно ценна. Отныне их соперничество не имело ничего общего с жадностью или азартом. Они словно бы протянули друг другу руки и дали мысленный обет беречь не только каждый двойника, не только жизнь его или упрямство чести (к этому они были готовы и раньше — всегда), но и саму возможность его победы в споре с судьбой за право быть младшим. Так что теперь оба доверились случаю. Выходит, они повзрослели. Почти неизвестная прежде, скупая на щедроты мудрость поделилась с ними одной из своих простейших тайн. Слава Богу, обоим хватило ума внять ее шепоту.
Они и не заметили, как взамен она потребовала привычную чуткость их слуха. Иначе не объяснить, отчего сплетни обошли их стороной…
Так уж сложилось, что, в отличие от аульчан, никогда и не видевших ту, чью плоть они оба познали в постыдных объятиях страсти (не удосужившись, впрочем, познать заодно и незрелую, строптивую, вздорную душу ее, познать — и простить, пощадить), никто из них, из братьев, не дал себе труда усомниться в верности слов пришельца. Как видно, усыпить их настороженный разум было угодно все той же судьбе. А может, это было угодно не ей, а реке.
Как бы то ни было, а она уже несла в своих водах оггухшую смерть, которую две недели спустя выловил из прозрачной волны у Зеркальной вершины Алан, когда по давней своей, сокровенной привычке отправился туда на встречу с предзакатным солнцем. Потом он ушел, крещенный безвестным трупом, передав ему имя свое, свою долю и гроб, и Аслан остался один.
На него обрушилось столько боли, что он перестал ее чувствовать. Мать снова выжила, хотя горе в считанные дни наколдовало из нее старуху. Когда хоронили сына, она забыла заплакать, потому что слезы теперь были не для нее. Слезы были для тех, у кого билось сердце, а не только смотрели глаза. Своего сердца она не услышала — ни тогда, когда ей сообщили страшную весть, ни тогда, когда принесли в дом обернутое в бурку тело, ни тогда, когда она бдела рядом с ним две ночи кряду, погруженная в яму безмолвия, под крепким пламенем свечи, отбрасывавшим ровный свет на лицо, которого даже и не было. Не услышала она его и после, когда пошла на погост, внимала молитвам и пустым бесконечным речам, и потом, когда роняла первую щепоть земли в свежевырытую, пахучую травой и червями, могилу. После поминок она наконец заснула, но проснулась наутро с мерзким ощущением предательства, потому что в ту ночь к ней впервые не пришел ее муж. Призвав к себе теперь единственного сына, она поглядела ему в лицо, простила сбежавший взгляд и сказала, что умрет уже осенью. «Справлю поминки, наполню погреб едой, свяжу тебе рукавицы. Женишься без меня…» Он зарыдал, она попробовала его обнять, но вместо этого нечаянно от себя оттолкнула, словно бы вспомнив в последний миг, что сама уже насквозь пропахла смертью. Пораженный, он смотрел на ее руки, которых прежде не знал: костлявые, бледные, отороченные синей сетью прожилок, они были похожи на большие куриные ноги с загнутыми внутрь когтистыми пальцами. У его матери были совсем другие руки. У нее были другие глаза. Эти глаза принадлежали не ей, а всецело — бескрайнему ужасу, у которого, казалось, нет ничего, кроме этих вот глаз.
Через двенадцать дней она сказала: «Отца твоего нет как нет. Что, по-твоему, это значит?» Он нервно пожал плечами и не нашелся, что ответить. Тогда она разъяснила сама: «Это значит, что мы хоронили другого. Твой отец не мог не прийти ко мне и сказать, что они повстречались. Не таков твой отец…» И тогда, чтоб спасти себя и свой разум, он впервые солгал ей: «Это не так. Он приходит ко мне каждый день». Мать нахмурилась, пристально посмотрела на сына, холодно уточнила: «Кто из них?» Замешкавшись с ответом, он налился краской и тут же поспешно, как можно правдивее произнес: «Отец. Он приходит немного печальный, сердит на Алана, но твердит, что у них там все хорошо… Они вместе и помнят о нас». Выставив вперед ладонь, мать удержала его от подробностей и отвернулась к окну. Он тихо ушел, но потом, снедаемый стыдом, подкрался на цыпочках к двери, заглянул в хадзар и увидел, как она гладит руками старинный медный крест в углу. Голос ее был ровен и тих, но он слышал каждое слово: «Прости его, Господи!.. Он врет, потому что боится. Потому что не верит в Тебя, не верит в отца своего и в пропавшего брата… Прости его, как прощаешь всем тем, кто тебя проклинает со страху. Ты ведь знаешь, иначе он пропа-дет…
И тогда в нем опять пробудилась отчаяньем ненависть.
В нем пробудилась ненависть, и он не стал ее укрощать. Время шумело в ушах долгим стоном, стремительно мчалось прочь, отрывало от него кровавые комья души, но было нескончаемо и ненасытно. Ему хотелось терзать свою кожу, топтать свое сердце, в месиво раскрошить свой гудящий и слепнущий мозг, но на пути попадались лишь толстые куры, ржавый чан с прилипшей к воде мошкарой, всполохи света, плетень да застрявший палкой в земле тяжелый топор. Когда он выдернул его, схватил двумя руками, поймал на лезвие солнечный луч, дети, игравшие в альчики на дворе, испуганно замерли и умолкли, глядя на то, как он стоит, прижав топор к груди, и вращает в бешенстве глазами. Самый младший из них чуть слышно охнул, привстал с колен и тут же окропил чувяки блестящей струей. Аслан застыл, уронил взгляд на лужу, пошарил глазами вокруг и, отыскав, со звоном вонзил топор в покачнувшийся раскрошенным плечом деревянный чурбан. Потом бросился прочь со двора — подальше от солнца, отыскав себя через минуту стоящим в полумраке перед слюнявой мордой буйвола. В хлеву очень воняло. Запах навоза был нестерпим. Со всего размаху человек обрушил давно ищущий цели удар на череп ошалевшего животного. Кулак пришелся в самую вмятину между рогами. От неожиданности буйвол оцепенел, замычал, забил копытами и попытался ответить, но теснота стойла и прочные балки не пустили растерзать обидчика. Легко уворачиваясь от острых рогов, тот продолжал наносить удары, разбивая руки в кровь, пока не поплыл глазами. Наконец, плюнув буйволу в морду, он вышел вон. Ненависть все так же продолжала клокотать в груди. Вытащив нож, он решительно направился к загону на заднем дворе. Вцепившись мертвой хваткой в душную шерсть, не обращая внимания на истеричное блеянье, он с шумом выпустил воздух из легких и отхватил одним ударом седое ухо овцы. Кровь брызнула из раны, на секунду замерла, потом потекла скупым родничком по трепетной шкуре. Оттолкнув овцу, он склонился над свернувшимся в женское лоно клочком, нанизал на кончик ножа, повертел перед небом и стряхнул его в пыль, потом вытер в ней лезвие и прибрал его в ножны. Облизнув разбитые пальцы, сплюнул кровь и сунул голову в бочку с водой, стоявшую тут же. Он пил и пил, распираемый жаждой, но ненависть его не напивалась. Она лишь ждала, пока он устанет, чтобы тут же, едва затянется пленкой поверхность воды, показать ему его же лицо. Расплескав его локтем, он двинулся в дом, в тень, в ее стылые стены. Очутившись в знакомом пространстве тревоги, в той комнате, где провел четверть века вблизи со своим двойником, он присел грузно на нары, услышал запах еды из хадзара и покорился настигшему ноздри и глотку отвращению. Ненависть росла, наполняя его существо задыхающимся от страха ужасом. Она раздирала его изнутри, цепляла за ноги, кусала в блуждающие по койке ладони, выпрастывалась зудом из груди и унижала его беспредельным стыдом. Пытаясь ее укротить, он сжимал в кулак свою кожу, кропил водой лоб, обхватывал локти, скоблил плечами выступы стен, однако все было тщетно. Наконец, сдавшись и зарыдав, он выхватил ее из штанов и, словно желая с корнем вырвать из себя ее жало, предался позорному рукоблудию. Земля впивала в себя все то, что испокон веков составляло ее главную пищу: кровь, пот, воду, семя и слезы. И, конечно же, ненависть…
IX
Мать сходила с ума и тянула его за собою. Время вконец разнуздалось и будоражило слух мириадами звуков, слонявшихся по жаре насмешливым роем слепцов. Они бодрствовали даже тогда, когда наступала душная ночь. Ветер пропах костром и доползал в полный призраков дом обожженным засухой, ободранным погорельцем. Хотелось новой, последней боли или дождя, но вместо них повсюду властвовал зной, нагоняя полчища мух на подпорченный трещинами заквас не добродившей земли. Зной плавал в воздухе растопленным салом и плавил мозги.
В горах было легче. Там было прохладней и тише. Там было ближе к концу.
Дождь не являлся все сорок дней. Затем обрушился грозой на поминки, утерся пронизывающим ветром и сладким холодом выстудил грудь. Аслан заболел.
Материнские отвары не помогали. Порой он терял сознание, растекался им в сиреневую пелену забытья и долго бредил, пугая ближних неодетыми в разум словами. Жар поселился внутри, пылал горячим маслом и изводил душу распахнутым настежь преддверием близкого ада. Лицо заострилось чертами, подчинившись прямым, как колья, занозам мыслей, на которых другим было дано разглядеть лишь насечки злобы да выстраданный призыв поспешить, обращенный, вероятно, к судьбе.
Однажды ночью, когда он метался в поту, оскалив стиснутые зубы и цедя сквозь них тягучие нити ругательств, над его верхней губой мать увидела треугольник знакомой уже белизны. Позвав Абисала, мужнего брата, она негромко призналась: «Смотри. Видишь?.. Быть ему мертвецом. Предал меня, как и двое других…» Потом отерла сыну испарину со лба, понюхала тряпку и в привычном к утратам отчаянии стала скорбно качать головой. Вот и этот меня обошел, думала она, удивляясь не столько жестокости неба, сколько своей нерасторопности. Шаркая ногами вокруг очередной беды, она чего-то тщетно искала, все озиралась, гася своим взглядом каждую вещь, каждое слово, любое воспоминание, стирая молчаньем их вкус, их шепот и цвет, словно водила по ним кистью тумана. Все так же поглаживая медный крест и бормоча глухие молитвы, теперь она не слышала отклика — того привычного зоркого эха, куда они вплетались до сих пор волшебной невесомостью приятия, как струйки пара, усылаемые очажным огнем в безвозвратность согревшейся ночи. Отныне ответа ей не было. Молитвы будто зачахли, пустили порчу, вроде лишенных света плодов растерявшего соки растения. Но она продолжала упорно бубнить, обращая к Богу невнятные призывы — не потому, что по-прежнему так уж на Него уповала, а оттого, скорее, что просто не нашла, чем заместить их в постыло-сти удлинявшихся дней.
Приходя временами в себя и сознавая, что жив, Аслан оправлялся от бреда — и тут натыкался с досадой на свою неуемную волю. Ее было столько, что смерти не справиться. Он это знал и потому прокручивал в голове раз за разом свое предрешенное будущее. Оно медленно вырастало из отступавшей болезни, наперекор приметам и Божьему равнодушию вытесняя недуг из качавшейся комнаты на пустые задворки надежд. Когда же он встал и впервые вышел на свет, мать пала пред ним на колени и стала жалобно выть, воздавая хвалу небесам и милосердию их Хозяина. В том, что разучилась внимать Его знакам, она винила только себя: «Я старая дура. Он говорит, а я совсем не слышу. Видать, и впрямь настала моя пора. Скорее бы осень…»
Аслан не отвечал. Он знал, что Бог здесь как раз ни при чем. Котенок подрос и выпустил когти. Ярость его притаилась и выжидала момент для броска. Мать снова сходила с ума и звала его за собой: «Коли Всевышний нас не забыл, мы найдем его. Ты отыщешь сбежавшего брата. Скажи ему, я прощу. Скажи, я не отважусь уйти без него. Пусть же сжалится».
Приходя на погост, она укоряла отца. На вторую могилу смотрела искоса и недобро, как на помеху. Люди шептались и цокали языком. Где-то здесь, в пограничье стыда, уже опять вызревала беда…
Посреди бесконечного лета Аслан понял, что медлить нельзя. Короткие, трудные ночи никак не могли дождаться утра, чтобы вымести из темных углов оживающей в сумраке комнаты летучие говорливые тени. Иногда и ему вдруг начинало грезиться, что брат его жив, а он одурачен. От таких подозрений голова шла кругом.
— Хорошо, я найду его, — согласился он как-то в отчаянии, только бы прекратить эту муку занудной мольбы, и тут же подумал, что врать сумасшедшему, глядя прямо в глаза, — все равно что бить кулаком ребенка. Отступать, однако, было поздно да и некуда. Правда и ложь сплелись в единый комок, как две неразлучных змеи. Проще было их растоптать, разорвать, искромсать, чем безропотно ждать, что еще они сотворят с твоей жизнью. — Если он действительно жив, я его приведу. Я приведу его на поводке, но не простом, а с колокольчиком, чтобы звенел при каждом шаге, и заставлю рыдать, целуя тебе в раскаянии ноги, но это только начало: потом я заставлю его разрыть своими руками свою же могилу, вернуть реке чужака, оттяпать ножом себе ухо и схоронить его у всех на глазах в опустевшей кладбищенской яме, чтобы гнило там, внимая ползучим секретам червей… А чтоб никто никогда не смог его спутать со мной, даже когда он напялит шапку себе на висок и попытается скрыть свой позор и увечье, я изобью его так, что он еще позавидует тому мертвецу. Потом я…
— Сначала его приведи, а там увидим, — сказала мать. Впервые за долгое время она показалась ему совсем здоровой, словно, нынешней ночью умыла глаза в прозрачном взгляде отца. Его передернуло. «Если он жив в самом деле, я отомщу ему тем, что с ним поменяюсь местами. Будь он трижды неладен, если он жив…»
— Прошу тебя, будь терпелив, — спокойно добавила мать и погладила его по лицу. Руки были неожиданно мягки и пахли мукой. Сердце дрогнуло, сжалось, закашлялось скукой, сдавило жалостью грудь, потом разозлилось, сглотнуло слезу, сравнялось шагом с мыслью и пустилось ковать свою боль.
Поиски, однако, пришлось начать не с брата: сплетни, наконец, добрались и до его двойника. В ночь перед уходом ему снился сон: полный поворотов коридор без стен, вместо которых висят по бокам бычьи раздутые пузыри. В каждом из них колеблется дым. Он разного цвета. Аслан идет меж них по узкому проходу, а по земле, журча, бежит отравленная ржой вода. Она разъедает его сапоги, и он понимает, что нужно спешить. Аслан идет наугад, пытаясь не закричать, но с каждой минутой его покидает надежда. Выход должен быть там, где прячется свет. Сапоги забрызганы уже по самую щиколотку, но как отворить это замкнутое пространство, он все не может понять. Страшная, шипящая в спину догадка преследует его по пятам. Он бежит от нее, ударяясь о тяжелые пузыри, меняя ряд за рядом, но света все нет. Тогда он хватает из ножен кинжал и начинает их вспарывать, хоть понимает, что это ошибка, но совладать с собой уже не в силах. Вырвавшийся на волю дым застилает все вокруг разноцветными клубами. Теперь приходится пробираться на ощупь. Ноги вязнут в грязи и разъезжаются в стороны, а времени остается все меньше. Выход должен быть где-то рядом, поблизости, он чувствует это так, как чувствуют наступление утра, но отвора все нет. Аслан мечется, натыкаясь плечами на сотни тугих пузырей, и они постепенно сжимают мир в мягкую, плотную тесноту, коридор становится уже и уже, но Аслан не хочет сдаваться, хотя догадка уже почти настигла его, вот-вот предстанет перед глазами. В порыве гнева, смазав удар, он роняет кинжал, пытается нашарить его руками, но тот куда-то уплыл, подхваченный ловкой водой. И тут Аслана озаряет спасительная мысль: выход там, куда течет ручей. Это яснее ясного! От радости он не сразу находит русло, к тому же мешает дым. Хорошо, что им можно дышать: к легким он милосерден. Аслан разводит руками цветные хлопья дыма и расчищает видимость настолько, что может распознать в воде свои испачканные сапоги. Вглядевшись в ржавый ручей, он с удивлением обнаруживает, что стоит на самом верху течения, потому что вода равномерно стекает с ног во все стороны разом. Оказывается, река начинается именно здесь. Но где же все-таки русло? Он делает шаг вперед, потом еще один, потом еще, еще, еще, но всякий раз, замерев и вглядевшись, убеждается в том, что вода ведет себя так же странно: объяв ему ноги кольцом, она спадает с них, роняя петли, и те ровными складками выстилают одинаковые круги. Куда бы он ни пошел, — он везде на проклятой вершине, он и есть тот искомый исток. Словно подтверждая это, пузыри теперь сами неслышно расступаются перед ним, а потом смыкаются за спиной сплошной стеною. Наконец он останавливается, поднимает в бессилии голову и видат то, о чем догадывался с самого начала: выхода нет, потому что он повсюду, а разноцветный дым в пузырях — не что иное, как ломающийся в помноженной на ужас пустоте обычный солнечный свет. Куда бы он теперь ни пошел — ему до него не добраться. Кругом лишь полумрак. Такой, как если бы свет лежал совсем рядом, и нужно только сдернуть с него покрывало. Только это ему не дано: он запутался в сне, точно рыба в сети, и теперь стоит посреди сухих, гладких, раздутых в вымя бычьих пузырей, словно в окружении тысяч овальных зеркал, покрытых изнанкою света. Ибо вместо света — лишь мнимость его отражений, пятна тусклых следов…
Потом сон закончился, присмирел перед утром, растаял, но не забылся, и ему пришлось забрать его с собой. С матерью он прощался так, будто знал, что больше ее не увидит. Она ничего не почувствовала.
Новый дождь настиг его уже на перевале. Спрятавшись в складках скалы, он не смог укрыться от холода. К утру грудь вдоволь испила влажной прохлады, и снова поднялся жар. Солнце парило кожу, разъедало глаза, но не решалось помешать болезни. А может, было даже с ней заодно. Пути же назад не было: слишком многое ждало впереди своего прояснения.
В Кобанском ущелье он ее не нашел. Родственников девушки там попросту не было. Никто из соседей также ее не видал. Выходит, догадка его была неверна. Стало быть, мать ошибалась. Чтобы проверить это, ему понадобилось три дня. За это время болезнь подружилась со смертью. Он понимал, что может не успеть.
Новый путь отнял двое суток. Погоняя встревоженного коня, Аслан несколько раз терял сознание и падал с седла. Но воли в нем по-прежнему было в избытке, так что он уцелел. Сон, конечно, был тот же. Извести его можно было только одним: в явь облаченною истиной. Пока что она его подвела. Он хотел обрести ее там, где могла быть надежда. Сама же надежда незаметно сложилась из двух мучительных «да», двух сомнительных, но заманчивых допущений: что мать, возможно, права и, значит, брат его жив; и что, если он жив, искать его надобно там, где прячется девушка.
Оказаться там же у Алана хватало причин. Его могла подвигнуть на это жажда поступка — такого, на который сам он, Аслан, был, увы, неспособен. В отличие от него, готовность заковать свою жизнь в цепи долга и замаливать общий их грех (взамен на согласие собственной совести) брату его могла показаться удобней, нежели чувство вины и невольной своей сопричастности к неминуемой гибели девушки. А может, она вовсе не была ему безразлична, и тогда он действовал сгоряча, зато — по велению сердца, ибо все остальное теперь означало позор, а позор, как на него ни смотри, был хуже обмана, хуже предъявленной матери смерти и хуже их горя. Если брат был действительно жив, он мог прознать и про то, что их обманули, и тогда я опять иду по следам, думал Аслан. Если он мертв — остаются девчонка и месть.
Мысль о том, почему он должен им мстить, его даже не посещала: она была надежно укрыта, заморожена ледниками времен, в которых брали начало родники горской жизни, заплетаясь оттуда в века и бурные реки свершавшихся судеб. Все было действительно предрешено, оставалось только исполнить, невзирая на одолевавшую его усталость и пьющую силы болезнь. «Если бы мне удалось успеть это прежде, возможно, брат был бы жив. Уйди я раньше его — и у него не осталось бы выбора». Все было предрешено, только роли могли меняться, — вот, пожалуй, тот главный, печальный, непростительно скверный, но крепкий истиной вывод, к которому он пришел в одиночестве своего отречения. От отречения до свободы было рукой подать…
В прошлый раз ему не повезло: притворившись, что идет в лес на охоту, он был вынужден отправиться пешком. Проклятый дождь разбил все тропы, и в сумерках, на подходе к мосту он оступился и упал, разбив ногу о камень, укрытый высокой травой. Рана была пустячной, но колено уж больно кровоточило, чтобы он смог осуществить задуманное еще тогда. Получалось, вся твоя жизнь зависела всего-то от случая. Это и есть пресловутая участь — подлый маленький случай у тебя на пути.
Впрочем, это его уже мало тревожило. Дорога скоро закончится, и он узнает последнюю правду, за которой пошел. Однако, если брат все-таки мертв и действительно похоронен рядом с отцом, если девчонка жива, но готова стать матерью — как быть тогда? Он об этом не брался и думать. Хвати у него мужества себе в том признаться, он согласился бы, что погибнуть или убить ему проще, сподручнее, правильней, чем стерпеть унижение, даже если оно исходит от неба. Проще, чем покориться, принудить смолчать свою дерзновенную ярость и, как следствие, мирно жениться, чтобы исправно плодить свой собственный стыд новыми жизнями, со дня появленья на свет отмеченными печатью презрения, которое неминуемо передастся по наследству тому, кто будет так же обречен сносить глумления насмешливого рока. Такому, как он, легче броситься в водопад со скалы, а затем повторять попытки снова и снова, чем смотреть годами на то, как он, водопад, дразнит тебя твоим же испугом. Завидуют всадникам — не костылям. Охрометь своей гордостью он ни за что б не решился…
Впрочем, ему не пришлось. Измученный дорогой и недугом, снедаемый лихорадкой горячки, с опухшими и ввалившимися глазами на бледном, как воск, лице, едва держась в седле, чуть живой, он въезжает в пределы земли, где ждет его, приготовившись к встрече, последнее испытание. День стоит яркий и светлый, равно пригожий для праздника и для суда. Много света. Много теней. Много звуков. Он въезжает в аул, где не знаком ни с кем, кроме лживого всадника и беспутной девчонки, которой в ауле, быть может, и нет. Взгляд его выражает одну лишь усталость, но на самом дне ее уже тлеет угольком облегчение. Он знает, что добрался туда, куда надо. Вот он, самый краешек мира. Конечный его горизонт. Мерцающая паутина границы…
А потом всадник вдруг исчезает.
Все. Его больше нет.
Заподозрив неладное, ветер спешит с холма, по переливчатой траве, вниз к дороге. Застав на ней пустоту и следы, уже даже лишенные запаха, возмущенно вздымает их в пыль, зависает крючком над аулом, поддевает им воздух и звуки, все, что в нем есть. Тщетно. Им ничего не известно. Осерчав, он бросается вниз на аул, бьет по крышам, выбивая песок, вынуждая тех, кого поймал на пороге, дворах, на единственной улочке, отирать рукавами глаза. Не сумев утолить свою злобу их слепыми слезами, он снова и снова повторяет попытки, швыряет себя на аул, против воли своей стирая с поблекшего дня последние черточки смысла. Однако того, кто был только что всадником и въезжал на усталом коне в обжигаемый солнцем тупик своей подневольной судьбы, ему уже не найти. Он исчез. Растворился. Иссяк. Он исчерпан…
Никто не может с точностью сказать, когда человек себя покидает. Вот он только что был — и вот его нет уже, скрылся. Никто его больше не встретит. А встретит — рискует не признать: он просто закончился. Происходит это сплошь и рядом. Обычно потом остаются следы. Со временем они исчезают тоже. Но пока они есть, их можно услышать, потому что эти следы нарисованы не на снегу или пыльной дороге, а в бездонном пространстве податливого к их поступи бытия. Они идут кругами, заворачиваются в спираль, уплывают в запретную даль, потом возвращаются, играют в прятки с ветром, путешествуют по узким тропкам времени, но остаются невидимы, как душа, и терпеливы, как вечность. По этим следам совестливые люди сверяют свой путь и — удел. Их очень много на небе, таких вот прозрачных и ласковых мет.
Аслан исчез совершенно бесследно. Мать не услышала ни шагов его, ни следов, и потому поняла, что его больше нет. Следы Алана мерещились между тем ей повсюду. Ранней осенью к ней снова явился отец и отвел ее смерть своей твердой и теплой рукою. Она опять научилась видеть нужные сны и коротала часы в ожидании ночи. Жизнь решила пока с нею не расставаться и обставляла ей старость простыми заботами белых и чистых, как облако, дней.
Сколько ей их еще предстоит и что в них отмерено ей? Какой ей дан срок?
Едва ли это имеет значение. Мать есть мать. Она живет, пока есть надежда. Ну а надежда бывает покорна, пока живет мать…
Вот, пожалуй, и все. Пора оставить ее наедине с ожиданьем и снами.
X
По разбитой дороге, сквозь извивы холмов, ковыляла арба. Она была так стара, что казалась живой. Точнее, жива она была лишь едва. Всхлипывающие на поворотах борта, хмельные колеса, стянутые тут и там напрасной честностью искореженных скоб, трухлявость оглоблей и скрип колесной оси с неизбежностью наводили на мысль о тронутом тлением, но терпеливом к невзгодам страдании, решившем вдруг выползти из темной обители грусти на цепкий солнечный свет — затем, чтоб пострадать самую малость еще.
Арбе помогала кобыла. По ее тощему крупу угадывалось, что до старости ей не дожить.
Возница являл собой нечто среднее между кобылой и плетущейся следом арбой: с одной стороны, он был стар; с другой — непростительно худ, словно бы время, десятилетиями считавшее его хвори, мозоли и дни, поставило себе целью морить его голодом и справлялось с задачей не хуже, чем со сменой ночей на рассвет.
Посреди арбы, на грубом ложе затянутых брезентом досок лежало маленькое существо, запеленатое в дырявую холстину. По причине наступивших холодов оно было укрыто сверху еще и свалявшейся буркой, под которой иногда просыпалось любопытством движение. На коленях у старца покоились длинные руки, сроднившиеся с поводом настолько, что вспоминали о нем лишь тогда, когда арба накренялась над пропастью или беспомощно вскрикивала рассохшейся древесиной, наткнувшись на выбоину в пути. На руках у возницы дремало ружье, равнодушно скользя стволом по левому рукаву и прильнув прикладом ко впадине правого. Лицо старика мало что выражало. От ненужных волнений его хранило молчание — толковый, покладистый собеседник, сговориться с которым всегда можно было быстро и без труда.
Арба вскарабкалась по косогору, заныла уключинами, притормозила, перевела оглоблями дух, в который раз за сегодня простила кобылу и, обреченно застонав, позволила ей резво сбежать по трясучему спуску вниз. На всякий случай у поворота она жалобно взвизгнула, но все опять обошлось. Отсюда дорога надолго вытягивалась в ровную колею, не сулившую ни особого риска, ни неприятностей.
Постепенно старик засыпал. Сон ему не мешал: он был лучшим дозорным внимания, предусмотрительно выставляемым вперед каждый раз, когда смекалистая, мудрая усталость позволяла себе немного передохнуть. Сон сильнее подсек кожу у глаз и глубже взбороздил загорелые скулы, отчего морщины сделались сразу внушительнее и тверже, придав лицу больший смысл. Казалось, оно напряженно размышляет о чем-то важном и умном, чему упорно противится свет.
Кобыле было сложнее: она все так же шла, доверившись не столько ленивому зрению, сколько тертой памяти лысеющих подков, и пыталась смахнуть неуклюжим хвостом надоевшего слепня. Сон старика она научилась распознавать давным-давно, с тех пор как жеребенком находила странное, неуемное и, в общем-то, хлопотное удовольствие в своем радостном беге, рвущемся из нее будто бы из-под самых копыт. Временами он загонял ей сердце в восторг, и в такие минуты жизнь представлялась ей искусным наездником, умевшим, как никто другой, дергать за вожжи и править огромной телегой, куда помещался весь мир. Потом прежние прыть и наивность были утрачены под бесконечным гнетом труда, восторг надорвался, поник, лишь только бледная тень его посещала единожды в год кобылью понурую душу, когда, накормленную отборным овсом, ее отводили на задний двор соседского дома, где терпеливо спаривали со злым каурым коньком, пытавшимся всякий раз ее запугать, прежде чем приступить, роняя из пасти пену, к своим несложным обязанностям. Постепенно жизнь изменила себе, лишилась удали и, даже если неплохо справлялась, погоняя кнутом целый мир, — ее, кобылью, повозку отчего-то всегда умудрялась перегрузить. С такой повозкой, к примеру, месить натощак зимнюю грязь на горной тропе бывало невмоготу. Но кобыла пока что справлялась. Сегодня и вовсе было легко: до зимы еще предстояло пройти сквозь пожилые ноябрьские дожди (долгие и занудные, как голод), да и пустая арба не слишком-то ей докучала.
Сон старика пах кислым мхом, какой обычно водится на мокрых камнях речного прибрежья, передается ноздрями испитой воде, а потом мучит отрыжкой весь день напролет. Запах был кобыле противен. Прядая ушами и недовольно отфыркиваясь, она сердилась на деда и немного его жалела, потому что не знала, кто будет возницей, когда он умрет. Его сыновей она не любила: от них исходили презрение и опасность, к тому же их руки слишком дружили с кнутом. Старику приходилось прощать, ограничиваясь лишь недовольными толчками, донимавшими скрипом арбу, да страшным оскалом задираемой кверху пасти, кусающей небесную хмурь.
Шевеление в бурке усилилось и перешло в возню. Покряхтев, оно проклюнулось крошечной мордой щенка. Затем показало две лапы, задумалось, переждало немного и, послушное баловству, отпустило щенка на волю. Первым делом он отыгрался на бурке, смочив ее бурым разводом, потом ткнул в него носом, еще разок криво чиркнул струей и, шатаясь от тряски, перебрался туда, где кончалась холстина и начиналась спина старика.
Ружье тем временем вело себя просто предательски: воспользовавшись слабостью возницы, оно медленно, неумолимо сползало с руки, намереваясь удрать. Щенок того не замечал. Внезапно он услышал, как что-то сорвало с воздуха тень, налило ее черным цветом и пронесло над ним распахнутыми крыльями, потом уткнулось в невидимую преграду, застыло пятном и плавно уселось большой страшной птицей на играющий борт арбы. Какое-то время щенок удивленно смотрел на грозный блестящий глаз, громадный клюв, от которого бесшумно скользнул к нему по бурке острый внимательный клин, затем испуганно подобрал лапы и прижался спиной к старику. Очень подробно, хотя и сохраняя внешне невозмутимость, сойка оглядела арбу и быстро удостоверилась, что поживиться здесь нечем: ни одного колоска или зернышка, ни одного приличного стручка — так, разве что отсыревшая шелуха да запах погибшей травы. Спешить, однако, было некуда, к тому же глупый лохматый комок на краю арбы так дрожал, что она решила наградить его представлением. Пару раз ткнув для приличия клювом в трещины борта, сойка покосилась на щенка и, продолжая пугать, прикрыла мутной плевой глаза, надолго замерла, притворившись убитой. Когда ей это наскучило, она потянула крылом, повела головой и тут увидела на бурке перед щенком белую бабочку. Несмотря на задорный свой нрав, птица была серьезной и взрослой, и не в ее правилах было пренебрегать подарками дня. Мгновенно наметив удар, она стремительно ринулась на добычу, приведя щенка в неописуемый ужас. Он заскулил и попятился, но убежать его не пускала спина старика. Плохо понимая со страху, что делает, щенок в отчаянии впился в нее зубами, спина вздрогнула и подскочила, старик вскрикнул, метнулся от боли, вмиг согнал с себя сон и вдруг почувствовал, как что-то лязгнуло металлом и вонзилось ему снизу в беспомощный пах. Проверив опасность взглядом, увидел собственное ружье и приуныл. Упав прикладом на землю и угодив им в уютный паз дорожной выбоины, оно стояло торчком, безнадежно запутавшись дулом в широких штанинах. Вмиг осознав чудовищность своего положения, дед щедро облился потом, залепетал руками вокруг штанов, но так и не отважился к ним прикоснуться, снедаемый тоской, к которой, словно дразня, летучим сумбуром примешивались обрывки воспоминаний. Ощущение было такое, будто его сажают на кол. Кобыла стояла, не двигаясь, и от такой очевидной удачи дед невольно перевел с облегчением дух, но почти тут же столкнулся с новой изменой, обмер, и у него тихо и как-то очень протяжно засосало под ложечкой: прямо перед кобылой, запыхавшись и глядя ей в глаза, щетинился облезлый волк.
Честно отдавшись сну, старик не ведал, что арба встала в тот самый миг, когда сойка решилась атаковать неразумную бабочку, как не догадывался он и о том, что удар промахнулся, и птица, чтоб не упасть, вцепилась когтями в шерсть бурки, где внезапно и позорным образом затерялась. Причиной тому стал щенок: карабкаясь вон из арбы и что есть мочи орудуя лапами, он уронил сначала на птичий клюв холстину, потом присыпал ее сверху пыльным каракулем, а в довершение всего, отброшенный спиной старика, свалился и сам туда же, погребая сойку под незаслуженной тьмой и бодрыми корчами своего лохматого тела. Вся сцена нарисовалась в какую-то секунду, а потом время отпрянуло прочь, не спеша оценило картину и подвело искусным росчерком забавный итог: беззаботная бабочка вспорхнула с арбы чистым бьющимся лепестком, попетляла мигающим оком в мерзлом воздухе и бесследно в нем растворилась, оставив внизу напуганного щенка, напуганную птицу, напуганную кобылу, напуганного старика, ошарашенного волка и равнодушное ружье, похожее сверху на подпирающий днище подводы безжалостный перст Провидения.
С дороги возня сойки с щенком была плохо заметна и потому мало что значила. Вскоре она прекратилась и вовсе. Все ждали. Старик и кобыла, объятые страхом, предались печали и погрузились в длительное оцепенение, из чего волк безошибочно заключил, что преимущество на его стороне и, значит, можно достойно удрать. Огрызнувшись свирепым ворчанием, он помотал усталым хвостом, обидно, словно намекая на ничтожность поживы, из-за которой не стоило рисковать своей шкурой, клацнул зубами, повернулся плешивым боком, на всякий случай проверил глазами повозку и лошадь и, больше не оборачиваясь, затрусил дворнягою в лес.
Кобыла опомнилась первой. Едва он исчез, она дернула за оглобли, сорвав с места колеса и повергнув возницу в ужас, и услышала громкий, жалобный треск, который старик, покорившись судьбе, принял за звук своего пронзаемого пулей позвоночника. Не обращая на него внимания, арба покатилась вперед.
Особой боли возница, к счастью, не чувствовал. Разве что возмущенно заныл ушибленный копчик, когда, подкошенный движением, старик рухнул задом в арбу. В остальном смерть оказалась вполне терпимой и даже не сразу вырвала его из привычных покровов плоти. Вокруг, на удивление, мало что изменилось. Через минуту-другую он оглядел себя с ног до головы, но не нашел никакого убытка на теле. Поняв, что по-прежнему невредим и что ружье, слава Богу, не выстрелило, старик сначала перекрестился, потом осклабился, вкусно ругнулся заслуженным словом, повторил его вслух, удовлетворенно отметил, что оно ничуть не испортилось, крякнул, больно хлестнул лошадь кнутом, отер слезу со щеки, но тут вспомнил про ружье, потянул за повод, сошел на землю и на тяжелых ватных ногах поплелся обратно. Ружье ничуть не пострадало, — в отличие от штанов, которые были распороты в аккурат по шву и походили теперь на тонкие перепонки летучей мыши, повисшей вниз головой. Отзывчивые к порывам крепчавшего ветра, они расплескивались в разные стороны и, особо не церемонясь, выстуживали старику фитилек уцелевшего мужества, правда, его это мало тревожило: в сравнении с тем, что он пережил, холод был почти что приятель.
Вернувшись, однако, к арбе, старик предпочел с ним распрощаться немедля. Его бил озноб, зуб плохо отыскивал зуб, а спина вдруг стала чужой и бесчувственной, все равно что седло без попоны. Сорвав с арбы бурку, старик опешил вновь и выронил душу в арчита, потому что навстречу ему рванула молнией сойка. Задев крылом ему лицо, она метнулась к деревьям, а сам он бестолково остался глядеть на скулящую пухлую тушку, царапавшую лапой холстину на дне. Наконец он признал в ней щенка, схватил его за шкирку, вскарабкался на повозку, сунул щенка за пазуху, причмокнул губами и поиграл в остылом воздухе дряблой вожжой. Лошадь тронула, виляя хвостом, потом опомнилась и загрустила, удрученно свесив вниз хвост.
Постепенно холод отступал. Вскоре старик негромко засвистел тягучий мотив. На душе его было светло, а на бледных губах колебалась улыбка. Щенок свернулся на груди приятным теплом и тихо посапывал, обретя наконец покой и защиту.
— Вот видишь, отъязви свинью в подмышку, как оно обернулось… — сказал человек. — Никогда ведь не знаешь, что на уме у старого ружья. То изводит осечками, то вдруг сподобится выстрелить, когда совсем и не ждешь. Сколько раз так бывало, разъетит твою мать!.. Но сегодня нам повезло. Хороший день — удачей запомнится.
Он прислушался, о чем-то вспомнил, бережно взял в ладонь щенка, переложил его в арбу, развязал на груди башлык, остановил кобылу, слез с телеги, расставил ноги и вдел в распоротую штанину конец башлыка. Выудив его из-за пояска за спиной, соединил со вторым концом и заплел их в узел на боку. Потом снова уселся в арбу, поднял щенка и подал знак кобыле.
Дорога снова шла в гору. Сквозь стойкую пелену облаков проглядывало слабеющее солнце. Оно медленно катилось к закату. С первыми сумерками будем на месте, подумал старик. Щенка подарю внучке. Старухе придется полночи латать штаны. Кобыла, хоть и паскуда, но вела себя молодцом. А вот волк испугался не меньше моего. Пусть скажет спасибо ружью. Будь оно у меня в ту секунду в руках, ему б пришлось считать дырки в шкуре, да не по одной, а сразу по паре. Хотя… кто его знает! Старость метка только снами да смертью.
Воздух что-то шепнул, обдал лицо свежей влагой, заморосил мелкий дождь. Старик чихнул, отер ладонью глаза, теснее укутался в бурку и нахлобучил шапку на уши. На дороге лежало пятно. Пока старик решал, как с ним быть, лошадь уже осквернила его грязным копытом. Оглянувшись назад, возница проверил догадку и, поразмыслив, не стал тормозить: чувяк был один, а значит, поднимать его толку не было. Арба размяла его колесом, крепче вдавила в землю, и возиться с ним охоты совсем не осталось.
Однако спустя сотню-другую шагов старику стало совестно: бедность не знает брезгливости, зато не прощает лени. Еще через сотню шагов, на узком перешейке у самого перевала, валялся второй чувяк, так что совесть смогла взять свое. Спешившись, старик отряхнул его от воды, проверил подошву, сбил грязь о днище арбы, погладил по мягкой разношенной коже и, удовлетворенный, приказал лошади ждать, сам отправился по дороге назад. Находка была не Бог весть какая, но сердце все-таки радовала. Пара лишних чувяков никогда не бывает лишней, думал старик про себя, возвращаясь обратно. Добыча висела у него на шнурке, притороченном к поясу. Дождь усилился и подчинил себе ветер. Идти в гору было гораздо труднее, чем по горе спускаться. Над вершиной сизым паром собирался туман. Арбы и повозки там не было…
Старик остановился, огляделся вокруг, открыл беспомощно рот, оступился, едва не упал, побежал, задыхаясь, вперед, но глаза уже застили слезы, а сердце тревожно стучало в груди, торопя приговор. Свежая, отчетливая колея быстро полнилась глубоким дождем, мерно дробилась каплями и уносила с собой его жизнь. Старика душил стыд. Потом пришла ярость, и он извергнул ее из себя раненым воплем. Эхо ответило сразу и гадко. Когда оно отгудело, ущелье осталось пустым. От такой пустоты старик словно оглох. Подойдя к краю бездны, он посмотрел вниз на скользкие скалы, сорвал с пояска пару дохлых чувяк, бросил их на обочину, скинул шапку и бурку, отцепил свой кинжал, снял черкеску, стянул сапоги и, оставшись только в штанах с обнявшим срам башлыком, сложил все стопкой, поглядел на нее расплывчатым взглядом, осторожно перекрестился, промолвил несколько слов, но, не услышав их смысл, быстро вздохнул и, босой, шагнул в пустоту, заполняя ее до краев своей голой и громкой душою. Предсмертный миг отозвался в нем грустью полета, тело разбилось о выступ горы, разлетелось по небу болью, смерть срезала лезвием тонкую нить, и, подхваченный звоном разбитого вдребезги мира, он вошел в неизвестную глубь бытия. Там, казалось, царили покой и терпение. Вечность открыла глаза и развела ему навстречу хрупкими руками: ничего не поделаешь!..
XI
В сущности, Цоцко арба была не очень-то и нужна. Так же, впрочем, как и полудохлая кляча. Но не забрать их у старика он тоже не мог: уж больно хороша была задумка. Он просто проверил ее на деле, только и всего. Так часто случалось: видишь какого-нибудь чудака, наблюдаешь за ним из укрытия, подмечаешь каждую мелочь, сочиняешь из них его главный изъян, а потом, если и впрямь приходит охота, если время позволит и если не лень, устраиваешь себе потеху.
Изъянов у людей было много. Прямо на удивление. Во-первых, чуть ли не все поголовно были трусливы. Трусость, конечно, бывала различна, но в каждом сидел свой собственный, тайный, подчас убийственный страх. Стоило лишь его угадать и нащупать — и человек становился твоим. Целиком, как крот в мышеловке. Крот — подходящее слово, потому что люди были, как правило, слепы. Нет, в самом деле. Любой кабан в лесу, любой осел, запряженный в телегу, любая белка на суку, любая лань недели от роду были осмотрительнее и умнее. Они умели чувствовать опасность. Подстерегавшая угроза щекотала им ноздри, заставляя нервничать и искать спасение там, где чутье подскажет покой. Люди же видели только себя, ну а слышали и того меньше — лишь то, казалось, что не мешало им видеть себя в лучшем свете. Выходит, были еще туги на ухо. Как, впрочем, еще и завистливы, льстивы, скрытны, болтливы, заносчивы, алчны, злорадны, надменны, хвастливы, бесстыдны, подлы и двуличны. Большинство из них не стоило и ломаного гроша. Цена других была самую малость повыше. И лишь очень немногие умели воистину постоять за себя. Обманутый старик к ним относился едва ли.
Конечно, сцена была хоть куда, когда перед арбой на дорогу выбежал волк. Правда, в последний миг чертова псина сбежала. Удрала обратно в лес и все откровенно испортила. Видать, среди волков тоже встречаются шавки, так что посмотреть на то, как грызет глотки голод, сегодня не удалось. Но все равно получилось занятно. Стоило чуть пораскинуть мозгами — и решение пришло само собой. Особенно радовало то, что старик ни в чем не ошибся и отыграл свою роль так, как оно за него и было задумано. Ну и, конечно, не меньше удовольствия доставили приятные пустячки — отрада для разума, — вроде того, что один грязный и мокрый чувяк не стоил ничего, а уже два грязных и мокрых чувяка так подскочили в цене, что легко обменялись на кобылу, арбу, подпругу, ружье, холстину и в придачу — завернутого в нее дрожащего щенка… Если учесть еще, что чувяки принадлежали не Цоцко даже, а его племяннику Казгери — получалось и вовсе здорово, складно. Туган будет доволен. Да и Казгери посопит, посопит — и не выдержит, рассмеется. Уж он-то точно порадуется от души. Способный малый. Хваткий. За ним сейчас уже нужен глаз да глаз, не то проведет тебя вокруг пальца да еще заставит тот палец лизать. Лучше быть с ним построже. С таким, как он, дать подзатыльник сейчас значит избежать подножки завтра… Пусть лучше боится. А еще лучше — боится по-настоящему. Как боялись мы своего отца.
Он вспомнил, как сам едва не помер от страха, когда тот впервые его наказал. Прошло уж лет двадцать, не меньше, а у него все мурашки по телу бегут всякий раз, как он видит себя распростертым над пропастью, висящим вниз головой и пытающимся увернуться от своей же мочи, стекающей ему из штанов прямо в рот. Отец стоял над ним, вытянув вперед руку и намотав на нее в два кольца узду, к которой были привязаны ноги. Он просто стоял и молчал, внимательно глядя на сына, и по глазам его Цоцко с ужасом понимал, что он всерьез размышляет над тем, не выпустить ли эту ношу из рук прямо сейчас, чтоб не терпеть от нее бед в дальнейшем, когда она подрастет и научится новым паскудствам. Он помнит, как, закусив губу, рядом с отцом стоял Туган и тихо трясся со страху, не решаясь двинуться с места или хотя бы отворить рот и что-то сказать. Потом Цоцко устал кричать и плакать, почувствовал, как у него закатываются глаза и сжимается в кукиш мошонка, разглядел в облаке кверху брюхом парящего коршуна, выпростался душой и потерял сознание. Он так и не видел тот миг, когда отец наконец передумал и сжалился. И потому, пожалуй, мог утверждать, что на его памяти тот никогда не менял ни одного из решений, как ни разу не подчинился и жалости. Отец был само воплощение силы и стойкости, да еще — несгибаемой воли. Он был справедлив и жесток, как возмездие, которого не дано избежать никому. С него хотелось всегда брать пример.
С того дня, что он уцелел, Цоцко сделался предан ему, как собака. Странное дело, но тогда, не раскрыв даже рта, отец научил его тому, что составляло с тех пор для Цоцко главный семейный завет, важнейшее правило, святейший закон, соблюдать который было необходимо, чтоб выжить. Закон был нехитрый, но мудрый. Если бы кто-нибудь взялся облечь его в слова, он бы гласил: есть свои и чужие. Свои всегда правы. Те, кто считает иначе, — чужие. Чужим можно мстить. Отомстить им выгодней прежде, чем они успеют ответить. Своих нужно беречь. Беречь означает беречь постоянно, во всем. Кто не согласен — перестает быть своим. Отныне он просто не нужен. С ним можно вести себя, как с чужим. Вот, пожалуй, и все…
В тот раз он нарушил это семейное правило, позволив себе откровенную дерзость. И пусть он был тогда совсем еще малец — лет десяти, не больше, — кара его была, безусловно, заслуженна. Конечно, кому другому это могло показаться невинным проступком, обычной детской шалостью. Но только не отцу. Уж он-то знал: большой пожар начинается с малой искры. Главное — вовремя ее растоптать. И потому, когда Цоцко, напялив на себя овечью голову, вошел посреди ночи в каморку, где, раскрыв рот, душно, коряво и маетно спала его бабка, от крестца до пят разбитая параличом и вот уже много лет день за днем, как милость насильника, ожидающая смерти (а чтобы было легче ее привечать, хранившая под кроватью чарку араки, к которой прикладывалась несколько раз перед сном, посреди сна и сразу после него, под утро), — когда он шагнул на порог, развернул рога книзу, подсветил свое появление горящей свечой и, нарочно гнусавя, представился ангелом, пришедшим забрать ее душу, когда бабка поверила, съежилась, утонула в постели, залепетала мольбу пощадить и стала второпях, беззубо пуская слюни, рассказывать про тайник с припрятанным в нем серебром, предлагая взять все его целиком взамен на краешек собственной жизни, — отец был взбешен и непреклонен в решимости осудить младшего отпрыска по всей строгости за это первое, но такое изобретательное и посему многообещающее преступление, которое грозило в будущем расплодиться целым выводком новых грехов.
Цоцко тогда повезло. Он остался в живых и испытал настоящее счастье: побывав в пограничье пропасти и небес, он был чудом прощен. Какое-то верное, непостижимое, гордое чувство вызрело в нем озарением, едва он пришел в себя (фиолетовый вечер, тихо плещется свет из хадзара, брат сидит с ним рядом на нарах и отрешенно смотрит в крохотное окно, в котором тает последний день его, Цоцко, короткого и вспугнутого детства), подсказало ему, что к этому чуду причастен лишь Бог. Но не тот, что прячется где-то в подполье вселенной, там, где его никогда не достать, — а тот, кто сумел подменить его здесь, на земле, кому сам он приходится сыном.
Если Бог — это тот, кому верят, служа душою и телом, на кого уповают, кого чтят и боятся больше, чем грома, страданий, беды и даже самих себя, тот, кто постоянно, хоть и очень по-своему, прав, что бы только ни делал, — если все это Бог, то отец, несомненно, им был. Стоило это понять — и жизнь изменилась. Отныне она до краев наполнилась ожиданием. Оно длилось два года. Когда же он наконец дождался, и бабка умерла, Цоцко подождал еще и темна, разрыл тайник под голыми нарами, собрал в рубаху монеты, отливки и кольца и, замирая сердцем от счастья, отнес все это отцу. Тот только вздрогнул бровями, нахмурился и кивнул, но на своей спине, уходя, сын чувствовал взгляд, ради которого стоило мучиться и терпеть столько месяцев эту пытку молчанием.
А уже через день отец подозвал его и впервые доверил коня, поручив съездить в ту лавку в соседнем ущелье, где продавались навынос продукты и утварь. Он дал ему денег — несколько тертых медяшек — повелев купить спички, соль, две подковы, новый кожух для хомута и полфунта отборного русского хмеля. Поглядев себе на ладонь, Цоцко убедился, что денег не хватит, поднял глаза на отца, увидел, как тот, вытянув губы, безмятежно жует недозревший ржаной колосок, сжал ладонь и смолчал, потому что сказать означало ославиться.
К вечеру он благополучно вернулся, исполнив в точности отцов наказ и привезя с собой спички, соль, две подковы, кожух и хмель. Отец проверил, вскинул бровями и снова кивнул, и тогда Цоцко достал из бешмета пригоршню слипшихся леденцов, не говоря ни слова, один из них сунул в рот, а остальные ссыпал, считая, на громкий трехногий стол, затем неспешно отряхнул туда же ладони. Потом вышел во двор разнуздать коня, почистил его скребницей, отвел к водопою, умылся в реке и, свежий, серьезный и взрослый возвратился домой. Отец его не выспрашивал. Вместо него это сделал Туган. Но Цоцко пожал плечами и отмахнулся: мол, меня послали, и я купил, что же тут такого?..
— А как же тогда леденцы? — не отставал старший брат.
— На сдачу… — ответил Цоцко и уснул.
Он так им никогда и не открылся. Нужно было убедить отца в том, что теперь он достоин доверия — всегда и во всем. Похоже, это ему удалось. Ведь если у младшего сына уже в двенадцать лет хватило смекалки на то, чтоб восполнить двойную нехватку монет, из него должен быть толк. Ясно было одно: к врученной сумме он добавил что-то еще. Этим «что-то» могли быть три вещи: то, что он приберег для себя (к примеру, бабкино серебро, не донесенное в общий котел и учтенное им в качестве собственной доли. Раз так, — мальчишка проявил сообразительность и проворство, заслуживающие не наказания уже, а, скорее, осторожного уважения к способностям, за которыми явственно проглядывала недюжинная гибкость натуры. К тому же ему не только хватило наглости перепрятать часть серебра, но, что важнее, еще и достало мужества решительно пустить его в дело, едва только это потребовалось: риск вероятного разоблачения оказался для него предпочтительнее, чем сознание упущенной возможности, а это говорило о многом); то, что приберег для хозяина лавки (убедительность речи ли, ловкость ли рук — особого значения не имело, ведь с задачей он справился и при этом не наделал шуму, а значит, преуспел вдвойне); или то, наконец, что приберег он для кого-то другого, кто встретился ему на пути между двумя аулами и у кого он смог добыть (хитростью ли, угрозой, тем и другим ли вместе — оставалось догадываться) недостающую половину монет.
Любое из предположений казалось правдоподобным, но особую гордость отца, пожалуй, вызывало то обстоятельство, что сын умеет смолчать, даже когда есть чем похвастаться, и значит, все предположения по-прежнему одинаково хороши, что, в свой черед, доказывало способность сына к счету: три — всегда больше, чем один, и притом больше втрое.
Так он впервые доказал, что умеет служить, беспрекословно выполняя отцовы наказы. Спустя полгода он осмелел настолько, что решился их упредить.
Случилось это по весне, на исходе распутицы, когда ленивая земля уже пустила ростки свежей травы, а по ночам во влажном воздухе звенело комарами жадное, изменчивое ветром, намеками расплывчатое ожидание. В такие дни люди бывали особенно рассеянны и уязвимы. Одному из них Цоцко решил отомстить.
Нестор был их соседом. Отец его не любил. В сущности, отец не любил никого из тех, с кем им выпало жить по соседству, но к кому-то из них неприязнь его была особого свойства. Нестор был как раз из этого числа. Долговязый, нескладный, как сама его жизнь, в которой каждый день, казалось, был длиннее и неудачливей предыдущего, он воплощал собой все то, что было отцу ненавистно: покорность судьбе, пугливую совесть, ожиданье беды. Слабый здоровьем и волей, Нестор не ведал удач. За что бы ни брался, все валилось из рук и ломалось, обращаясь в осколки и прах. Аюбая случайность умудрялась врасплох застать его душу, отчего в его облике было что-то убогое, жалкое, почти что порочное, вроде паутины на пыльном образе в освященном семейном углу или, скажем, дыры на подметке, заложенной изнутри стыдливой латкой чахлого лопуха.
Свое невезенье Нестор словно лелеял, предаваясь странной отраде терпения. Восемь погодков-детей, сварливая, вдобавок еще и кривая на глаз, жена, покосившийся набок хадзар, пара грязных овец, облезлый теленок, у которого в рыжие струпья непрестанно крошились рога, да единственный буйвол, перед каждой грозою изводивший тоскливым мычанием аул, — вот, пожалуй, и все его состояние. Не считая, конечно, смутной надежды на то. что невзгоды он терпит не зря. Цоцко по опыту знал: бывают такие люди, у которых от всякой новой беды лицо будто сытым становится — дескать, иного и быть не могло. И еще вдоволь будет точно такого и даже похуже. Только в глазах у них от мыслей этих не отчаяние прячется, а тупит взор плутоватое изнанкой довольство. Потому что люди эти лукавят. При всей своей внешней смиренности и безропотном приятии собственного удела, в глубине души они убеждены, что рано или поздно, но им непременно воздастся. И потому в каждом встречном они выучились узнавать не просто сродственника или соседа, а того, кто когда-нибудь будет повержен примером внезапного торжества их незавидной пока что судьбы. Страдание для таких вот людей — все равно что духовка, где печется огромный пирог на их будущий праздник. Они просто ждут. Ждут и ждут, терпя издевательства времени, пока выдержки хватит. Но однажды им тоже захочется не уступить…
Так уж случилось, что одним очень ранним, укрытым ворсистым туманом утром Нестор с отцом повстречались на главной аульной дороге, едва обогнувшей петлей первый склон с восточной его стороны. Отец как раз возвращался в аул из похода в крепость, Нестор же аул покидал, отправляясь на чьи-то поминки. Чтить память любого однофамильца или знакомца было делом хоть хлопотным, но без убытка: попасться на глаза тому, кто больше него дружен с удачей (а значит, всякому из тех, кто не был им самим), означало высказать немой укор человеческой черствости, способный, коли повезет, пробудить в двух-трех душах недолгое сострадание и брезгливое желание поскорее помочь да тем самым отделаться. Известно: если бедный родственник — что след на февральском снегу (обычное дело), то родственник нищий — все равно что понос (сплошная досада). Повозки двигались навстречу друг другу, одна — запряженная конем, вторая — мозглявым буйволом. Между ними лежала развилка, сильно сдвинутая к аулу, так что преимущество расстояния было за буйволом. До развилки он добрался первым, сбавил ход, но не остановился, а напротив, вместо этого вышел на узкий участок пути, словно в упор не замечая того, кто каждый день перед сном бил ему копытом в перегородку, разделявшую конюшню и хлев. От такой наглости конь закусил удила и перешел на рысцу, глаза его загорелись, туман перед ним расступился, и повозка пошла резвее, стуча по рытвинам колесами и срывая с них обильную росу. Будто разбуженный копытами, Нестор повел плечами, зевнул и открыл глаза. С тридцати шагов в них было нетрудно прочитать удивление, но еще легче было заподозрить, что оно не искренне, а поддельно. Когда уста Нестора растянулись в приветственной улыбке, буйвол встал, однако продолжал вести себя строптиво: опустив рога и замычав, он словно призывал коня помериться с ним силами. Почувствовав кнут на спине и громкую ярость за нею, конь радостно отозвался и сильнее рванул поводья. Было видно, рассказал им отец, как с лица соседа ухмылка неудержимо стекает куда-то вниз, в клочья тумана, который стелется лохматой шкурой по земле и заполняет серой мышью каждый ухаб. Споткнувшись об один из них, конь вдруг падает. Он словно рушится, увлекая за собой повозку, которая, ударившись оглоблями в валун у обочины, чудовищно скрипит, стопорится колесами и накреняется над пропастью, едва не сбросив в нее седока. Уцепившись за вожжи, тот долго висит над ущельем, не в силах найти опору для ног, а в груди его остается в живых только гнев. Гнев вытеснил оттуда даже голос. Отец видит, как в нескольких шагах над ним склоняется худое ненавистное лицо, как оно что-то бормочет бледными губами, а потом, жалобно хныкнув, пятится назад, и в ту же секунду отец начинает толчками ползти по пыльному боку обрыва наверх. Рядом с душою он слышит утробное ржание подыхающего коня и свое медленное дыхание, в котором копится столько всего, что важно не расплескать. Через какое-нибудь мгновение, которое вытягивается для него в одну маленькую, дрожащую временем струйку беспомощной вечности, он уже лежит на том самом месте, где минуту назад его конь сломал себе ногу. Отец Цоцко лежит и вдыхает горько-сладкий туман. Потом он встает, с земли поднимает ружье, коротко целится и громко стреляет в коня, а потом, не моргая, смотрит на то, как тот вздрагивает крупом, семенит копытами в воздухе, но спустя миг замирает, захлебнувшись хлынувшей кровью, и быстро, совсем по-человечьи, стекленеет увидевшим бездну коричневым глазом. Потом наступает провал и долго ничего не слышно, хотя тот, кто стрелял, не сводит взгляда с оправдывающегося ничтожества перед собой. Брезгливо отстранив его от себя, он делает шаг и, точно острогу, втыкает дуло ружья в голову буйвола, прямо между рогами, но выстрелить вторично не успевает. Внезапно слух открывается, и он невольно морщится от крика за спиной. Оглянувшись, он видит страх, от которого приходится отойти, чтоб им не замараться. Повесив за спину ружье, отец удаляется вниз по дороге, уходит в аул, где только к вечеру, после того, как освежуют коня и справят по нему хмурую тризну, расскажет все как было своим сыновьям, и Цоцко представит себе все, как оно есть. Потому что оно по-прежнему есть, пока сосед, благоразумно спрятавшись в пятнадцати верстах от дома, ждет, что с ним будет, и уповает всей душой на то, что, коли Бог даст, с ним не будет ничего.
Но уже через день или два, когда Нестор возвращается из Алагира от родственников, которые, несмотря на постные лица, обещают в случае чего защитить, он едет в сумерках мимо погоста и размышляет о том, как ненадежна правда живых, одновременно гадая, насколько она надежна у мертвых. Слезать у могил ему лень. Сегодня, думает он, можно обойтись и без этого. Мысль еще не закончилась, еще шевелится пухом у него на губах, как он вдруг с ужасом замечает, что к нему на арбу пристраивается сзади привидение. Он видит, как оно выходит из-за надгробия его, Нестора, прадеда, кто, по преданиям, выигрывая спор, просидел в одиночку три ночи кряду на чьем-то разоренном склепе, держась за ножны и припадая к бурдюку араки, а потом, не успев еще протрезветь, помер сам через сутки, застудив кишки страхом. Нестор видит, как привидение бесшумно скользит, упрятанное в белый саван, по насыпи, чуть слышно роняет щебенку под колеса повозки, а потом, укутавшись в тишину, невесомо садится на борт арбы. Обливаясь холодным потом, Нестор не решается оглянуться. Буйвол шумно раздувает ноздри, но и у него не хватает духу замычать. Рука Нестора непроизвольно тянется к кинжалу на поясе, но, промахнувшись, безвольно свисает, послушная ритму движения. Привидение несколько раз сочувственно вздыхает, словно жалея того, чья спина дрожит перед ним в предчувствии кары, потом начинает тихонько насвистывать и равнодушно озираться по сторонам, из чего Нестор с надеждою заключает, что, быть может, у белого призрака к нему пропал интерес. Однако сердцу становится холодно, будто его завернули в метель и прижали сверху льдиной отчаяния. Он слышит, как привидение ерзает на арбе, потом громко зевает, потирает ладони и, так ни слова и не сказав, легонько касается рукой его плеча. Нестор замирает, мгновение считает бегущих по спине пауков, потом, прижав их копчиком, натягивает поводья, останавливает арбу и ждет, разлетевшись взглядом по черной траве на обочине. Спрыгнув с повозки, призрак машет руками. Впечатленье такое, будто он шлепает крыльями провинившийся воздух. Нестор сохнет душой и косится краешком глаза на то, как в подступающей тьме привидение очищает себе от теней дорогу. Потом оно так же безмолвно растворяется пылью в ночи на самых подступах к аулу, и почти тут же в лицо человеку летит черный ком. Он бьет его по щеке и, пока падает наземь, Нестор вдруг понимает, что ничего до сих пор и не ведал об истинном страхе. Когда он немного приходит в себя и негибко, почти что увечно склоняется над колеей, он видит дохлого ворона с оторванной головой и понимает, что жизнь его кончена.
Наутро в небе свирепствует гневным простором гроза. Цоцко встречается за столом глазами с Туганом, и тот, подмигнув, говорит:
— Странное дело, гром гремит, а соседского буйвола даже не слышно. Уж не приболел ли чем?.. Как бы чего не съел с голодухи… Например, сгнившие отруби. Да мало ли гадости сыщется в их нищете! В таком-то хлеву, поди, и крысиный яд — пища…
Цоцко понимает, переводит взгляд на отца и видит: тому такой разговор по душе. Какое-то время все трое только жуют, трудясь челюстями. Мясо сочное и молодое. Самую малость не додержанное на очажном огне, оно еще помнит питавшую его силой кровь. Солить его совсем не хочется. Дождь хлещет в дверь, стоит пеленой за окном и режет молниями чрево неба, возвращая миру воды многих недель. Лучше молнии может быть только выстрел, думает младший брат. Потому что выстрел, если он точный, пахнет правдой. Он пахнет болью и порохом. Но стрелять больше вроде как не в кого.
— Говорят, занедужил сам Нестор, — произносит Цоцко, безошибочно чувствуя миг, когда настал и его черед подхватить разговор. Сказав, он делает паузу и, как ни в чем не бывало, подает чашу брату, разливающему как раз из кувшина черное пиво. Оно приятно пенится и чуть отдает золой и поджаристой коркой чурека. — Говорят, он вчера с собой смерть привез. Подсадил к себе на арбу у самого кладбища, да так прогнать и не решился. Говорят, была она белая-белая и с широкими рукавами, из которых во все стороны мукою страх сыпался.
Отец допил свое пиво, вернул чашу столу, опустил ее точно в обод влаги, отер губы, повис пальцами в бороде, потом, словно вскрыл ножом большую раковину у себя в груди, выпустил наружу заждавшуюся отрыжку и, не дав себе труда закрыть рот, внимательно посмотрел на младшего сына.
— Выходит, опять не повезло человеку, — заключил он и стал размеренно и неспешно ковырять у себя в зубах. — Вы это хотели сказать? И что никто тому даже не удивится… Вот, мол, как оно случается, когда тебе всегда не везет. Все правильно… А с него — так и вовсе довольно. Только кто теперь раздобудет коня?
Туган опустил глаза, но Цоцко выдержал вновь и не отвел взгляда. Отец лишь презрительно от него отмахнулся и поохотился щепкой в зубах. Щелкнув слюной, изучил добычу, воткнул щепку в сапог, сломал ей хребет и внезапно спросил:
— Коли ты такой смышленый да ранний, может, ты не оголец уже, а мужчина? Так скажи, чтоб я знал. Да не просто скажи, а заставь меня еще и поверить. А чтобы мне проще было, взрослость свою докажи. Но не смекалкой уже или хитростью, а тем, что плодится из них и зовется рассудком. — Он положил свои руки на стол, почесал о край бугристые ладони, поднял их на уровень глаз и, сплетя пальцы, громко хрустнул костяшками, затем, свернув дулю, поиграл ее тенью на ближней стене, сочиняя фигурки зверей. Перебрав лису, собаку и ворона, остановился на ящерице. Любуясь ее гибким хвостом и не сводя с нее взгляда, снова спросил: — Ответь-ка, умник, в чем залог удачи? Настоящей, злой, от которой кулаки звенят да в зубах искры пляшут? Чем, к примеру, отличается каждый везучий от любого из тех, кому не везет?
Цоцко вдруг почувствовал, что впервые они говорят почти на равных, но сумел не смешаться. Тем более что сам вопрос ему не показался сложным.
— Везучий на то и везуч, что ему везет всегда, а всем остальным — тогда только, когда повезет очень-очень, — ответил он и тут же понял, что — невпопад.
Ящерица на стене качнула насмешливо головой и шепнула:
— Вот и нет. Мимо. Везучему везет тогда только, когда он по-о-омнит о том, что на сей раз ему, как и любому другому, то-о-оже может не повезти, но уже все приготовил к тому, чтобы этот раз сделать следующим.
— А когда он приходит, этот следующий раз, что тогда?
— Тогда он переносит его на потом, и так — постоянно…
— А если все же однажды не повезет и ему?
Хвост на стене превратился в большущий глаз, глаз — в дыру, а потом дыра заскучала, растопырила пальцы и рассыпалась мертвым крылом. Отец усмехнулся, смахнул со стола крошки, сбил щелчком ту, что прилипла к ладони, и очень серьезно сказал:
— Тогда он поймет, что был недостаточно зол, и чему-то научится. Тому, например, как забрать у жизни долги, и при этом знать, что с этой секунды она должна ему больше, чем он в состоянии вынести от нее в один день, в один год и даже в один человеческий срок. Этому учишься долго, зато после бывает легко. После ты знаешь, что вы никогда не будете квиты, сколько б ты у нее ни забрал. Тогда и приходит везение.
— Выходит, везение — это просто-напросто злость? Злость на жизнь? — спросил вдруг Туган. В глазах его было что-то такое, что отцу не понравилось.
— Едва ли. Скорее, другое… Это сама твоя жизнь, когда ты точно знаешь, что она в долгах, как Несторов буйвол в струпьях, — по самую холку, и все эти долги принадлежат по праву тебе. Вот что такое везение. Но, как видно, сегодня вам того не понять, так что идти за конем придется мне самому…
Когда настал новый день, после трудного сна мир и впрямь казался намного умнее. Дождь не прошел. Он просто прибрался на небе, стер с него трещины и облака, размазал их серым бельмом, растопил в воде гром и сделался ровным, протяжным. Наверно, где-то на пути к земле повстречал бушевавший ночь напролет северный ветер, окружил его тишиной, а потом взял, да повесил его на своих острых нитях. Дождь не прошел, но отца уже не было.
Он вернулся к темну, горячий и мокрый. И сильно пах чем-то очень знакомым, что, казалось, пряталось где-то рядом, поблизости, однако упорно молчало, скрывая секрет.
На дворе стоял конь. Они вышли его посмотреть и долго, со знанием дела, оглаживали бока, дули в ноздри, заглядывали в пасть, щупали твердые бабки колен, лохматили гриву и проверяли подковы, невольно сравнивая с тем, что погиб. Новый был явно не хуже. Лучше даже, решили они. Потом Туган повел его к реке, а Цоцко пошел в хадзар, встал в углу с кувшином и наблюдал за тем, как жадно, красиво и радостно уничтожает похлебку отец. Дождавшись знака, он снова плеснул ему в рог араки, поддержал словами молитву, пересчитал по небритому, похожему на поросший соснами склон, кадыку большие глотки и тихим голосом, как если бы беседовал сам с собой, сообщил отцу все, что случилось здесь за день: Нестор по-прежнему в жарком бреду, совсем, видать, плох, жена же его, похоже, из ума выжила, потому что вдруг заявилась сегодня к ним в дом и стала кричать на их мать, роняя угрозы. Будто они к чему-то причастны. Насилу утихомирили. А без повязки увечный глаз ее все равно что яйцо раздавленное — весь непонятный, противный и в шрамах. Скорлупа вперемешку со слякотью. А буйвол и вправду издох. Изошел, говорят, блевотиной и мордой в корыто уткнулся. Только глаза остались смотреть. Вот незадача. Как быть? Похоже, тот уже не жилец. Я про Нестора. Только мы здесь при чем?.. Странные люди!.. Алибек вон тоже сегодня косился. И Дабе. И Камбол. А Туган все чистил ружье и на каждый вопрос огрызался. А Нестору вроде все прадед мерещится. За живот держится и что-то ловит внутри, говорят. Неохота и думать, что будет, когда он это возьмет и поймает… Только, сдается мне, ждать нам недолго… Пойду добавлю огня.
Отец молчит. Цоцко наливает рог до краев, ставит кувшин на стол и идет к очагу. Склонившись над ним, внезапно сталкивается с догадкой. Теперь он знает, откуда тот запах. Если залить угли водой, получится то же. Мокрая одежда отца висит на веревке в двух шагах от очага. Но запах у них один, общий. Выходит, догадка верна.
— А еще я слышал, — говорит младший сын, предусмотрительно обогнув лавку и встав у отца за спиной, — будто где-то пожаром конюшню спалило. Только так и не понял, где точно. То ли в нашем ущелье, то ли в Кобанском…
Уши отца наливаются кровью. Цоцко невольно отходит к стене и смотрит, как родитель, вспугнув над столом острую тень, начинает медленно разворачивать голову. Когда их взгляды ветречаются, сын видит, что суровость лица постепенно сменяется чем-то другим, что сперва, по разгладившимся морщинам на переносице, можно принять за желанье чихнуть, однако лицо на этом не останавливается, оно словно бы идет дальше и вбок, расплываясь губами в улыбку, и так — до тех пор, пока для нее хватает места в рельефном подножии скул, потом, поддетая лепестком над верхней губой, улыбка задирается кверху, уста разжимаются, обнажив два ряда очень белых зубов, подбородок вздрагивает и запрокидывается назад, рука плашмя ударяет по столу, и в тот же миг лицо, окончательно преобразившись, взрывается хохотом. Теперь оно похоже на оживший грот, окруженный кустами и черными пятнами заводи, а у самого входа его, отмечает Цоцко, развешены в строй берцовые кости оленей. Отец смеется громко, гулко, просторно, рассыпая внезапную радость монетами по сторонам. Они катятся по земляному полу, собираются посреди комнаты у огня и, переняв его жар, превращаются в горящие хлопки, которые отец гонит голосом в ночь, за порог, за плетень, по соседству, — туда, где томится в преддверии смерти поверженный враг, и с какой-то восторженной гордостью сын понимает: будь отцова воля, и он бы швырнул этот смех даже дальше — в лица тех, у кого раздобыл жеребца, спалив им сегодня конюшню. Будь его воля, он рассмеялся б в глаза всем богам.
— Там уже голосят, — произносит Туган, появившись вдруг на пороге. В глазах его растерянность мешается с ликованием. Чтобы быть услышанным, он старается говорить как можно громче, и потому, когда отец смолкает, голос Тугана, застигнутый тишиной, кажется нагим и глупым (воображение рисует Цоцко повисший кишкой на виду у скорбящей толпы героический хобот осла, везущего дрожки с гробом к погосту), и от этого им становится еще веселей. Спустя минуту, отсмеявшись в слезы, отец наконец говорит:
— Хорошо… Честное слово. Давно мне не было так хорошо. Теперь даже думать о похоронах противно… Да и кони у нас слишком резвые, чтобы сидеть болванами и ожидать, когда нас найдут и пристрелят. Что скажете?
Сыновья переглянулись. Цоцко сдержался, и Туган, на правах старшего из них, переспросил то, что они вроде бы поняли с первого раза, но во что пока не решались поверить:
— Кони? Ты так сейчас и сказал — «кони»?.. Отец снова захохотал.
— Обо мне, понятное дело, разное можно подумать. Только едва ли сыщется тот, кто назовет меня благодетелем. Брать одного там, где их целых пять сразу, — не по мне это. Правда, двум из этих пяти не очень-то повезло. Для шашлыка — и то пережарились. Пришлось довольствоваться тремя. Тоже вроде неплохо, а? На каждого — по коню. Расчет вполне справедливый. Почему на дворе лишь один? Да потому, что заявиться сюда среди ночи с тремя лошадьми, когда весь аул помнит, что еще утром у тебя ни одной не водилось — все равно что снять рубашку, развернуть лопатки в дугу, нарисовать между ними кружок и позвать к себе пулю. С этим мы пока подождем. А вот со всем остальным поспешить не мешает. Собирайтесь… Уйдем до рассвета.
Когда они уезжали, было по-прежнему много дождя и еще достаточно ночи. Она довела их до леса, потом — до развилки, потом — до утра, а потом взяла и исчезла заодно с уставшим дождем. Огромный, прохладный свет глядел на них с неба, в котором не было ничего, кроме избыточной, разъедающей глаз синевы.
Так начались их скитания. Они длились немало ухабистых лет. Любой из них по отдельности был переполнен событиями и, в общем-то, стоил того, чтобы жить.
XII
Скитания продолжались много лет, целиком ушедших на то, чтобы каждый из них, включая примкнувших со временем к обозу невесток и народившихся в дороге детей, успел (кто — чутьем, кто — сердцем, кто — пробудившимся разумом) постичь, как удивительно много мира вокруг и как всякий раз его мало, чтобы вернуть им сполна все долги. День ото дня долгов становилось все больше, потому что длиннее становился сам пройденный путь. Он не прекращался даже тогда, когда обоз утыкался в какой-нибудь мутный туманом аул и, прогремев по нему повозками, смирял свой ход, чтобы на виду у любопытных хозяев чужой и скучной земли распрячь покрывшихся пеной коней — бывало, на дни, бывало, на месяцы, а случалось, что и на годы. Пару раз за эти пятнадцать с крошками лет вокруг привала вырастали вдруг новые стены, а вокруг стен — крепкий забор, скрывавший от посторонних глаз все то, что копило силы и злость в укрытии коренастого дома, при виде которого смотрящим отчего-то приходили на ум боевая фамильная башня, каменный шлем нездешней скалы или семейная усыпальница, но — как бы без памяти и без костей.
Сравнение со склепом, столь верное издалека, вблизи этих стен сходило на нет. Наверное, оттого, что смерть была продолжением жизни, ее венчаньем и сном. Ей пристали покой и порядок, печальный строй расплывчатых грез ни о чем. Тот странный глубокий уют чуть пыльного эха, что свойствен лишь слепнущей памяти, когда она бредет, оступаясь, летним оврагом по своим прошлогодним следам и размышляет исподом сознания о зимнем молчании гнезд, да о том, как легко их покинули птицы.
Здесь же было все по-другому.
Дым не мог никого обмануть. Обильный по утрам и слишком терпкий к вечеру, он был чернее, гуще, смолянистее того, что вился рядом, по соседству, словно по пути, пока добирался от очага до потолочной прорези, успевал объесться жирной, влажной сажею, какая оседает под дождем на боках котла, когда в нем варят жертвенное мясо. Однако каждый в дом входящий мог убедиться в том, что здесь не только кормят, но и кормятся, как все, — похлебкой да лепешками. С той, правда, разницей, что в этом вот хадзаре сосед иль гость вдруг отчего-то начинал мешать слова, заметно сох устами и ощущал в себе неловкую сонливость, как если б не спросясь вошел туда, куда ему совсем не след входить, и вот, еще немного — он потеряет мысль, запнется, сникнет и уснет, увязнув ею в жиже стынущей похлебки. Такое чувство странное, что он спешил уйти. Как правило, его не удерживали.
Дом явно что-то прятал. Но что — никто не знал. Однако точно — был то не уют. Казалось, этот крепкий дом взращен не терпением и надеждой, вскормлен не потом и радостью, возведен не молитвой и временем, а возник над обрывом благодаря безразличному умению рук, работавших хоть споро и в полном согласии с навыком, но вместе с тем неверно,''плохо, едва ль не святотатственно, ибо у каждого, кто смотрел на него с противоположного берега реки, возникало ощущение, что эти прочные, гладкие, ровные блеском от тщательно пригнанного плитняка стены строились как бы не в лад со временем, а будто даже вопреки ему — ибо время о нем ничего толком не знало. Это было видно по реке, которая, осыпая дом зыбкими брызгами отражений, текла всегда не рядом с ним (как текла рядом с самим аулом и его тесными улочками, сотни лет кряду все так же пытавшимися угнаться за мгновенной стремительностью ее волны), а словно бы мимо него, опасливо обходя хадзар стороной. Даже в ясный погожий день где-нибудь в середине лета, когда у солнца, вошедшего в изголовье ущелья, получается все, кроме жатвы теней, дом отмечался в реке только патиной контуров да ржавеющей сединой затянутого пузырем окна (будто острый солнечный луч, едва добравшись до его бельма, тут же гас, умирал и катился в пенистый рокот волны потухшим медяком позора).
Год уходил за годом, а дому все, казалось, нипочем: даже зима не могла соскоблить с него блеска, дым по-прежнему жирно висел над горой, а калитка, ворота и двери пахли всегда то ли свежей сосной, то ли взрытой колесами глиной. Дом был настолько недвижен, что без сомнения таил в себе какое-то движение, отголоски которого порой докатывались до аульчан возникавшими из-под самой земли мудреными слухами, поверить в которые было так же непросто и глупо, как и не верить им вовсе, А потому оставалось лишь опасаться и ждать, уповая на лучшее, но, как водится, готовясь к иному — дурному и худшему. Другими словами, следить. Ну а следить, конечно, умели.
Какое-то время соседи уверяли, что по ночам им мешают шаги. Будто ходили они кругами, начинаясь всякий раз за стеной, а потом удалялись по ней на двойную общую крышу, чтобы затем вернуться с другой стороны на гулкий тревогою пол и снова мерно приблизиться к недремлющему слуху тех, кто на несколько месяцев потерял всякий покой. Шаги не смолкали даже тогда, когда сосед взбирался с ружьем по лестнице наверх и освещал лучиной обманчивую пустоту. Они исчезали с рассветом. Едва пробуждалось солнце, как они с шарканьем удалялись из уставшего страха, чтобы уже следующей ночью посетить его вновь.
Страдания прекратились лишь тогда, когда как-то поутру, на исходе влажной весны, едва соседи сомкнули глаза, за забором раздалась пальба. Выскочив из дому, они увидели быстро собирающуюся толпу и с удивлением узнали, что у жены Тугана только что, четверть часа назад, родился первенец. По ходу шума выяснилось, что она мучилась родами всю прошлую ночь, непрерывно голося что есть мочи, о чем охотно свидетельствовал растроганный батюшка, за которым помчался Цоцко в Алагир ближе к вечеру, когда брат его не на шутку испугался и пошел против воли отца, который, насколько было в ауле известно, на любую бороду в рясе смотрел не иначе как на шарлатана, продающего воздух по цене молока. Так что покуда святой отец не уехал — изрядно испив перед тем даровой араки, чей жар пробудил в нем внезапный поток задорных и не слишком пристойных сану песен, — новоявленный дед и не спустился поглядеть на внука. А когда все-таки вышел к народу, заглянул в колыбель и спросил:
— Какой из отцов его так обслюнявил — небесный или тот, что за ним посылал? Кто бы ни был — хорошо бы прокипятить…
И ушел, не подняв поднесенного рога. Проводив взглядами его спину, гости уставились на молодого отца. Лицо у того было такое, будто ему секунду назад защемили клещами оба детородных кулачка. Отчего-то вдруг всем сделалось стыдно, так что настоящего веселья, как ни вызывали его затем самоотверженной пьянкой, опять не вышло. Одна удручающая сонливость…
Зато с той поры соседи почти перестали слышать ночные шаги — так, разве что уханье сквозняка да шепот чего-то ищущей впотьмах тишины. А когда через год с небольшим, в дождливую летнюю ночь, доведенная до истерики семенящими по окну молниями и трескучим громом, похожим на дьявольский смех, Туганова жена поспешила вторично разрешиться от бремени, — они опять не услышали криков, хотя на сей раз кричала она пуще прежнего, но докричалась уже не до поповского благословения (наученный прошлой ошибкой, Туган не рискнул звать священника, вместо того всю ночь бормотал одиноко молитвы, не сводя глаз с огня в очаге), а до жестокой пытки пучившего ей утробу времени, которое разрешилось наконец казнящими судорогами рождения, искромсавшими ей лоно в кровавый небритый рот и разорвавшими ей сердце в клочья. Под утро муж ее, бледный и опухший, словно с простуды, вышел на порог и стал палить из ружья в посветлевшее небо, где, наверное, уже плыла, не отзываясь, по таявшему бархату облаков ее упокоенная душа. Собравшиеся на призыв с уважением отметили, что ему хватило мужества не промочить глаза слезой, хотя вид у него был такой, будто он не беснуется потому только, что надорваться боится. Будто у него кишки узлом затянуты, а он не знает, в чьей руке веревка. Жалко было его до боли сердечной, что о том говорить… Однако отчего-то так никто и не решился похлопать его по плечу.
Мальчик родился здоровый и очень смешливый, только вот, как его туго ни пеленали, даже и научившись ходить, удивлял всех необычайной кривизной толстых, словно поросячьи око-рочка, лодыжек, которые уже при его появлении на свет оказались расторопнее головы и ощупали воздух на прочность сразу следом за ступнями. Да. В том-то и дело: вошел он в дом ногами вперед, так же точно, как ушла из него его мать, и был, наверно, в том какой-то высший смысл, которого ни аульчане, ни домочадцы не постигали. Разве что сознавали, что ему от рождения суждено что-то такое, чего не под силу сделать другим. Но что бы ни было ему предписано, а вызывал он у многих брезгливость.
Спустя еще два года отпраздновали свадьбу. Туган женился вновь, сосватав на сей раз где-то в высокогорном Цамаде, под самым носом у озадаченных богов, долговязую молчунью без грудей и без возраста, будто хотел обрести в ней не столько жену, сколько сестру, дочь, а может быть, мать себе, ведь его настоящая мать — сухая болезненная старуха с несчастным лицом, чьего имени в ауле даже в день похорон так никто и не вспомнил, — умерла как раз за год с небольшим перед этим событием, заново просмолив поблекший было траур по первой Тугановой жене чернотой повязок на шапках.
Для аула она ушла совсем без следа. Но только не для отца.
Когда ее не стало (умерла она странно — сидя на корточках рядом с кроватью. Наверно, пыталась подняться, да не хватило сил, а звать на подмогу она не решилась. Так смерть ее и застала — крошечной, как подмерзший птенец, и сидящей, обхватив колени, уперев в ребро узких нар спину, в густой тишине комнаты, как-то вдруг принявшей не только очертания, но даже и запах гнезда), старик не находил себе места. Дни напролет он все ходил и ходил по двору, хадзару и раскисшей лужами улице, горя глазами, словно собирался что-то предпринять, да только никак не мог дождаться повода иль знака. Сперва он сильно похудел, потом серьезно заболел ногами. Они опухли и стали походить на перевязанные тесьмой столбы. Лишенный возможности самостоятельно передвигаться, теперь он часами сидел на коновязи, подогнув под себя упертые в брус и укутанные шкурой ноги, и все поигрывал огнивом, с которым отныне никогда не расставался, храня его в кожаном кармашке пояска вместе с пороховницей и пулями, в надежном соседстве с кинжалом, будто собрав под рукой воедино все то, что могло в любую минуту отомстить железом, выстрелом или огнем, случись вдруг такая необходимость. Старик подолгу сидел на коновязи и смотрел в сторону гор, завороженный тучами. У него было такое лицо, словно он слышал им воздух и то, что скрывалось за мнимой его прозрачностью. По вечерам, с трудом воротившись в дом, он долго кряхтел, пока устраивался за фынгом[10], но потом в один присест уничтожал все то, что подносилось ему в качестве угощения. Затем неспешно запивал еду двумя ковшами воды, перебирая в промежутках между глотками бесчисленные ругательства и пугая домочадцев остановившимся взглядом да прятавшейся где-то на дне его прозорливой улыбкой.
Словно пытаясь восполнить вдруг наступившую с уходом жены пустоту, старик стремительно раздавался в размерах, превращаясь в огромную глыбу, которой вскоре стало непросто протиснуться в проем двери. Однако еще труднее было дважды в день, после завтрака и обеда, выносить эту глыбу на плечах к коновязи. Тяжесть колышущегося, рыхлого, но жесткого хваткой и беспощадного грузом тела давила на сыновей укором их собственной слабости, которую оба отчетливо ощущали всякий раз, как оказывались впряженными в растущую день ото дня неизбывную ношу.
Удивительным было то, что причиной подобного превращения была тщедушная старушка, чья незаметная, тихая жизнь озадачивала при встрече с ней каждого, кто еще совсем недавно и всякий раз внезапно натыкался на ее неожиданное существование. Пока она жила, ее появление на людях всех заставало врасплох: никто как будто по-настоящему не отдавал себе отчета в том, что она есть и что она жива. Младенцы тянулись подергать ее за морщины, как видно, путая повисшие упреком складки с гребешком ощипанного индюка. Женщины, в особенности вдовы, дивились тому, какое такое горе смогло сотворить из нее столько старости. Что же до мужчин, то, независимо от трезвости и прожитых лет, глядя на эту несчастную, они не могли избавиться от неприятного ощущения, что, прежде чем встретиться им на пути, она успела несколько раз помереть, ни разу, однако, того не заметив. Иными словами, для аула старушка вроде как не жила. Другое дело — семья.
Когда Туган женился вторично, все как-то сразу подумали, что породить кого-то еще отныне ему не судьба: слишком явным казалось бесплодие той, кого взял он в невесты. По ходу жиденькой сйадьбы народ разглядел, что избранница не только суха, как ивовый прут в плетне, не только жилиста, как мясо закланного по случаю печального бычка, не только большерука и костлява, как свирепствовавшая в тот год в низине чахотка, но еще и как-то незнакомо, неправильно косоглаза. Стоило приподнять с ее лица фату — стало ясно, что глядит она не прямо и не в перекрест (что, конечно, все-таки было б привычней), а как бы в развод, совсем в разные стороны, так что тем из старух, кто стоял от невесты сбоку, не удалось даже рожи скорчить при виде такой «красоты». Однако «достоинства» молодой жениха, похоже, ничуть не смущали. Свекор к ней относился не сказать чтобы ласково, но, в общем, пристойно. Глядя на то, как управляется она по хозяйству, он одобрительно сплевывал и незлобиво сквернословил ей вслед.
Потом женился Цоцко. Тут только поняли, что живут они в этом ауле уже не меньше десятка лет, потому как невесту он взял не столько из родительского дома, сколько из одного давнего воспоминания, впечатавшегося в его сознание яркой картинкой с запахом прибитой травы и подбежавшей пыли от пшеничной шелухи: сидит под стогом маленькая девочка, рядом с нею стоит, надзирая, серп полуденной тени, а из-под нее ползет навстречу двум загорелым коленкам змея. Зеленая на зеленом. Девочке года четыре, не больше. Она беззаботно смеется, снимает с ноги дырявый чувяк, кропит молоком из вросшего в землю кувшина и, как приманку, кладет его пред собой, не сводя озорного взгляда с приближающейся змеи. Насторожившись, та подбирает голову и висит пустым глазом над серой обувкой, а девочка тем временем осторожно шарит ладошкою за спиной. В миг, когда змея вползает в дыру, проделанную в сыромятной коже чумазыми пальцами детских ног, ребенок обрушивает ей на голову гладкий булыжник и прижимает его что есть силы к земле. Пока змея бьет хвостом, с лица девочки не сходит восхитительное выражение победы и удовольствия, сродни тому, что испытывает в эту минуту наблюдающий за ней, раскрыв рот, полуюноша-полуподросток. Оставшись незамечен, он видит алчный кончик ее языка, лизнувший губы, и слышит, как в нем, вопреки обманутым ожиданиям (он-то искренне думал, что ловчее будет змея), вопреки здравому смыслу и даже стыду поднимается вожделение, о котором, в отличие от подсмотренной сцены, он никогда никому не расскажет, зато пронесет его в теплом чехле своих грез сквозь череду проверяющих лет, в течение которых оно будет говорить в нем все настойчивее и громче, пока не станет изводить его липкой пакостью предрассветной насмешки, а он будет терпеть, скрипеть зубами и ждать, вспоминая вползающую в детский чувяк змею и улыбку девчонки.
А когда она подрастет и под сукном ее платья он разглядит робкие дульки вызревающей женственности, Цоцко сойдет на целые сутки с ума и подастся из дома в изгои. Он уйдет не спросясь, потому что решит, что не сможет вернуться, ну а на бегство соизволенья не спрашивают.
Он будет брести по дороге без видимой цели, пока не смешаются в сумерки новый день и новая ночь, и тогда перед ним вдруг застынет в узорчатый ужас овал почти полной луны. Выступив из-за утеса, Цоцко положит ладони под холодный лучистый свет и умоет в нем дрожь и сомнения. Потом сядет на корточки и станет следить, как осыпается звездами низкое небо. По спине его быстрой пыткой прольется озноб, но он просто поленится встать и набрать в чаще хворост. Ему будет не до костра. Мысли покружат над ним переменчивым ветром, поспорят листвой, оторвутся от крон и станут строиться в ряд за волной тишины, из которой затем потекут сквозь него упоеньем свободы. Теперь он поймет тайну Бога: чтобы Им стать, надо презреть того, кто Им только что был. Луна перескажет ему все что знает про ночь, и он мирно заснет в теплой позе зародыша, чтобы утром проснуться, спуститься к реке, присмирить ее взглядом и приступить к омовению, похожему на обряд. Холод будет над ним почти что не властен. Стиснув зубы и спрягая мышцы в металл, он увидит, как его изнутри распирает медленно сила, в сравнении с которой любая досада и боль покажутся ему маетой.
Из реки он вернется другим. Взрыхлив ножом почву, он полезет в пороховницу, достанет оттуда последний стежок давнишнего серебра и уложит его в каменистую ямку. Он ему отныне не нужен. Все, что начнется теперь, он найдет по пути. Отец прав: надо уметь выбивать из жизни долги. Для этого только и потребуется, что не прощать ее даже по мелочам.
В аул он явился голодный как волк. Отец и брат ни о чем не выспрашивали, словно безошибочно почувствовав в нем присутствие новой, сокрушительной воли, которую лучше бы не тревожить по пустякам. Потом было несколько дней напряженных раздумий. Когда многое можешь, труднее всего остановиться на чем-то одном. В конце концов, он решился.
XIII
Хорошо, когда свекор почтенен, умен и богат. Хуже, если он к тому еще и тщеславен. И совсем уж негоже, когда ему стать твоим свекром хочется меньше, чем, к примеру, дедом ублюдков. А потому свекор такой вроде как ни к чему, тем более что и замечать тебя не желает.
Но вот как-то раз у него пропадает отделанный бронзой чубук. Беда не из малых: трубке столько же лет, сколько громкой легенде об удалом храбреце и славной заморской войне, наградившей геройского предка за раны его и за мужество. В семье настоящее горе. Проходит день, потом два, а потом в хадзар вдруг приходит Цоцко, говорит, что зашел ненадолго — так, малость самую потолковать. Хозяева не скрывают недоуменья: не в привычках угрюмых соседей так вот просто ходить по гостям. Что-то тут явно неладно. Но когда разговор застревает в какой-то двусмысленности (что-то насчет повседневных крестьянских хлопот и коровьего вымени, которое, если его не доить, лишь бедою может прорваться), Цоцко спохватывается и, пошарив за пазухой, вынимает оттуда чубук. Вот так радость! Даурбек, конечно, признателен, чуть теперь не вдвойне хлебосолен да к тому же растроган немало: дорога не вещица-то, нет! Дорога больше гордость за то, что она по-прежнему есть… Можешь не объяснять, благодушно кивает Цоцко. Все равно что быть потомком князей, позволяя себе иногда про то вспоминать втихомолку. Или в стойле кобылу держать, что когда-то могла обскакать хоть какого пригожего жеребца даже из самых резвучих, а нынче так стара сделалась, что за жизнь цепляется лишь бы только тебе угодить. Верно?.. Отвечать Даурбеку не очень охота. Гость оказался глупее, чем мог о нем предположить подобревший было хозяин.
Настает пора прощаться, и Цоцко говорит: «Я и не стал бы переживать, да вот сомневаюсь…» Даурбек ждет продолжения. Тщетно: гость вдруг делается осторожен и молчалив. Он озабоченно потирает ногтем лоб, хмурится, мнется, затем произносит: «Ну, покамест и ладно, прощай». И на полном серьезе готов уж уйти, однако хозяин его не пускает. Похоже, он заинтригован. Не дав юноше сделать шаг за порог, он выставляет у него перед грудью ладонь: «Э-э, нет, погоди. Договаривай, что тебя гложет?.. И при чем это я?» — «Да так, — отвечает Цоцко и застенчиво машет рукой. — Чепуха одна. Я передумал…» Но Даурбек уже не отступит. Он быстро находит предлог, что прощаться им вроде как рано. Гостю приходится даже вернуться за фынг и принять новый рог из хозяйских внимательных рук. Наверно, тот пытается сделать его посговорчивей. Наконец Даурбеку это почти удается. «Видишь ли, — произносит Цоцко, — порой я и сам себе удивляюсь… Смеяться будешь, если правду скажу». — «Вовсе нет, — уверяет хозяин, теряя терпение. — Ты парень смышленый. Оборотистый даже. Вон как трубку нашел!.. Сам-то я там вчера целый день своей палкою шарил впустую. Какой уж там смех! Говори». — «А может, ничего в том такого и нет, чтоб тебе выдавать да тревожить. Не губи ты меня, Даурбек! Не хочу быть посмешищем…» — «Брось, — раздражается пуще хозяин. — Томишь недомолвками, словно мы не в хадзаре сидим за столом, а друг у друга зубы украдкой считаем… Ты сказал откровение?» Цоцко кивает, подает для храбрости за спину рог, чтоб наполнили, произносит за добрых соседей положенный тост, с разрешенья хозяина пьет. «Неудобно мне, право, — извиняется он. — Вдруг тебя огорчу — так потом себе не прощу. Ты человек уважаемый. Поди, трудно такое стерпеть». Даурбек озадаченно крякает, пытаясь понять, кого имел тот в виду, говоря последнюю фразу. Лицо его краснеет и идет полосами. Будь гость самую малость умней, он без труда бы заметил, что терпение хозяина уже на исходе. Похоже, Даурбек всерьез подумывает о том, не прогнать ли взашей болтуна. В конце концов невелика и заслуга — напороться с безделья на трубку в траве. Повезло дураку, а теперь вот сноси его целый вечер…
Однако застенчивая улыбка гостя его в который раз обезоруживает. Да и глупо мучить себя битый час догадками, чтобы потом, так и не узнав, ради чего было скормлено зря столько араки, позволить ему уйти. «Ладно, — говорит Даурбек. — Порешим-ка мы вот что: ты выложишь как на духу, а я обещаю сдержаться. Не обсмею, даже если твое откровение будет смешнее щекотки. Идет? Говори!..» Цоцко размышляет, глядит ему прямо в глаза. Чтобы его ободрить, хозяин делает знак своим сыновьям удалиться, и, пока они покидают хадзар, Даурбеку впервые приходит на ум, что гость вовсе не глуп и не пьян. Но это — лишь на мгновение, потому что потом тот несет вдруг такое, что никакому полоумному и распоследнему пьянчуге вовек не сочинить.
«Видишь ли, — начинает Цоцко, — дело и впрямь странновато. Я ведь чубук твой совсем не искал». — «Да-да, понимаю, — кивает хозяин. — Просто случай помог. Да ведь это бывает». — «В том и беда, что не случай… Кабы случай — чего огород городить! Вместо случая тут откровение. Спишь и видишь вдруг, будто ныхас опустел, а с него камушек катится. Откололся и катится прямо в траву, а в траве уже что-то блестит. Пахнет матерым, добротным, из костра будто вынутым древом и какой-то чуть слышной тоской. А ты спишь и зубами подушку терзаешь, словно сон твой наполнен страданьем. Так что потом, едва свет по окну полоснет, уже мчишься туда, на пригорок. А она там действительно ждет и сверкает. Трубка твоя. Странно, правда?» — «Да-а, — согласен и Даурбек. — Только чему тут смеяться? Такое раз в жизни чуть не с каждым бывает. Я вот помню, мальчуганом во сне капкан на медведя поставил, а в него олень угодил. Что ж ты думаешь — через день дядя мой…» Договорить ему не удается. На удивление бесцеремонно Цоцко перебивает: «Если бы… Если бы только раз, я б тогда не роптал. А то ведь преследует по пятам, будто богам больше отдохнуть ночью негде, кроме как в моем сне… Что на ум им взбредет — мне почти тут же известно становится. Иногда — просто страх. Вон, к примеру, мать когда моя тихо кончалась, мы и не знали, дом-то весь спал, а я помню, как во сне до утра ей руками поддерживал голову, чтобы, значит, на пол не упала… А потом просыпаюсь — слезы в глазах, а в ладонях седой ее волос запутался. Ну, како-вог..
Хозяин мрачнеет, подозрительно смотрит гостю в глаза, пытаясь уловить в них то ли искорку святости, то ли проблеск лукавства. Как бы то ни было, а сейчас хорошо бы и выпить. Арака помогает ему укрепиться в своих подозрениях, но минуту спустя они испаряются сами собой, потому что он видит: гость плачет. Слезы катятся по щекам, попадая в искривленный рот, и мешают ему говорить. «Заклинаю тебя, — умоляет Цоцко. — Ты только не смейся… Мне и так тяжело». Даурбек очевидно смущен. Он не думал смеяться. Какой уж тут смех! Прекратить бы все это да выйти на воздух. «Ничего, ничего, — повторяет он, чтоб подбодрить. — То в тебе душа заметалась. Тесно было в тепле да покое, когда рядом старушка свою смерть обретала… Не тужи ты так на ночь. Время, знаешь ли, позднее. О дурном говорить — дурное накличешь…» — «Но ведь я еще не признался…» Хозяин вскидывает бровь: «В чем?» — «Да в том самом, о чем ты просил меня давеча: рассказать без утайки. Или ты передумал?» Даурбеку становится не по себе. Однако, вроде как уж пора кончать эти глупости! Он кивает решительно: «Так не тяни! Хочешь раньше уйти — поскорее рассказывай».
Цоцко вытирает глаза, в передышку сморкается, нервно щиплет себя за губу и приступает. Поначалу рассказ его, будто увалень, топчется неуклюже на месте, потом набирает ход, чтобы затем обрушиться на хозяина лавиной пророчеств. «В том и штука, что ты меня не щадишь вот уж месяц. Не оставляешь, признаться, в покое. Сперва мне снится, что вскочил у тебя гнойник на руке, а спустя день я вижу тебя с по локоть замотанной кистью и гадаю, с чего это мне пригодилось вчера в твое завтра заглядывать? Потом ты врываешься в сон с гневным криком и грозишься испачкать бедой, а уже через сутки узнаю я негожую новость: будто у Даурбека издохли на пастбище разом три яловых овцы… Иногда же мне снится такое, что мне не проверить, потому что оно может ведомо быть одному лишь тебе. Взять в пример хоть бы пятницу прошлую или четверг: отчего-то привиделось мне, будто пуще другого ты боишься свалиться, заплутавши во сне, в отстойную яму, а когда ложишься с женой, тебе трудно уснуть, сквозь ворочанья думаешь, как бы так не пускать ее вовсе на нары. Тебе кажется, будто рядом с ней лазает смерть. Жена слишком стара, чтобы ты был спокоен… А еще снится мне, что ты хочешь убить меня, потому что, дескать, я знаю, как мне стать хоть сейчас твоим зятем. Этот сон хуже всех. Он меня угнетает. Это просто погоня. Чуть ночь — я спасаюсь, бегу. Глаза не успеют закрыться, а я уже мчусь со двора, из аула, чтобы к утру увязнуть все в той же беде. Я бегу к повороту, меня мучит жажда. Задыхаюсь. Мне нужно спуститься к реке. Там меня сторожит нехороший рассвет. Он облил нашу реку горячей смолой. Стоит мне склониться к воде, как в глаза бьет клинком солнечный луч. Мне становится больно. От резкого света во мне шкваркой сала на жарком огне тают силы. Тут меня настигает тот сон. Словно шумной волной яркий свет подхватив на ладонь, переносит меня, будто щепку, в твой дом. Там толпится народ. Людей тьма, как бывает на похоронах. Дочь твоя плачет, горе кричит в ней рыданьем. Меня здесь никто и не видит. Я иду сквозь их взгляды, как тень, в глубь хадзара. Очень-очень темно, но комната громко и медленно дышит. Я пробираюсь на ощупь, пока не наткнусь вдруг рукой на что-то холодное, — мягкое, твердое — с ходу не разобрать. И тут до меня внезапно доходит, что это же ты, только мертвый. Ты лежишь на струганных досках, и глаза у тебя приоткрыты. Из-под век на себе ощущаю я пристальный взгляд. Почему-то ты здесь единственный, кто меня вообще разглядел. И ты говоришь: Видишь, как оно все обернулось. Зря я тебе не позволил забрать ее, как ты меня и просил. Поладь мы тогда — никаких похорон на сегодня бы не было. А я не пойму: Ты о ком это? — Брось. Не дури. Теперь не до шуток. О ком же еще? Конечно, о дочери. У меня, не поверишь, прямо слезы в глаза от обиды, потому что ведь дочь твоя вроде мне как совсем ни к чему. Ну, думаю, что смерть с людьми перво-наперво делает! Из памяти их уходящей небылицы какие плетет! А ты говоришь: Вот я грех-то на душу взял, а те-перь мне и муторно. Все гордыня моя. Прости, что пришлось мне к убийству прибегнуть. Погорячился. Тебе-то вон нынче легко, хочешь — на небе нежишься, а хочешь — по земле грустным ангелом можешь бродить. Самому мне иное судом уготовано. — Не знаю, о чем это ты, говорю. Кого ты убил, мне оно неизвестно. И про небо какое толкуешь, мне не понять. — Да тебя ж и убил, когда ты явился посвататься. Неужто не помнишь? Знал ведь я, не отступишь. — Послушай, говорю я в ответ. Что-то ты перепутал. Дочь твоя мне совсем и не люба. И потом — я живой. Это ты же и помер, а со мной все в порядке. Тут ты даже приподымаешься, чтобы лучше меня разглядеть. Я шарахаюсь в сторону и спешу было скрыться, но меня держит прочно твой взгляд. К тому же теперь говоришь ты уже не словами, а им, этим взглядом: И охота тебе издеваться? С того дня, как в лесу тебя подстрелил, мне кровавые куры мерещатся.
Что бы это, по-твоему, значило? Я пожимаю плечами и по-дружески так отвечаю: Это совесть в тебе говорит. Коли и впрямь ты меня пристрелил, кур тебе предстоит перещупать немало: нелегко это — пересчитать мою жизнь на несушечью кровь. Хоть сочувствую я тебе, Даурбек, да помочь ничем не могу. Вроде ясно все. Я собираюсь уйти. Ты умоляешь меня задержаться, признаешься вдруг: Она тебя любит. И слезы сейчас не по мне она льет. — Неприятен мне твой разговор, говорю. Ну при чем тут дочка твоя? Мне даже имя ее незнакомо… — Не губи ты ее. Заклинаю. Ей теперь тяжелее всего. Отец — тот убийца. Жених — вовсе призрак. Жизнь — мука одна. Погляди на нее. Неужто не жалко?.. Смотри, отомстит. То она ведь меня отравила… Тут я чувствую на плечах шевеленье — две девичьи руки. Она крепко меня обнимает, пытается удержать слезами и ласками, а мне долго не удается из-под них ускользнуть, как будто в ее объятиях я вновь обрастаю костями и плотью, и сразу вслед за тем во мне огнем вдруг вспыхивает ярость. Я грубо толкаю ее от себя, а потом в сердцах одним махом опрокидываю доски, на которых стылым крюком покоится твое привставшее тело, потому что я знаю: в кошмаре этом твоя лишь вина. Тело падает на пол, ударившись оземь, кажется, не столько окоченелостью, сколько в этот же миг наступившим молчанием, и тогда я в ужасе просыпаюсь… Такой вот жуткий сон.
Ты прости меня. Наверно, не стоило и говорить. Глупость какая-то… Только рассказать у меня была своя выгода. Может, думаю, после того, как узнает, он больше в мой сон не придет… Ну там, к примеру, всхрапнет, с боку на бок перевернется и душу свою ко мне уж резвиться не пустит… Ты уж, правда, прости. Теперь понимаю: напрасно я это затеял. Вон какое лицо у тебя… Я, пожалуй, пойду».
Он поднимается в оглушительной тишине. Ссутулившись, неслышно выходит из комнаты, оставляя хозяина наедине с его мыслями. «Какая чушь, — произносит тот минуту спустя. Губы пересохли, а голос заметно осип. Наверно, от выпивки. Зря не велел подогреть араку. — Большей глупости отродясь не слыхал. Надо б его не пускать никогда на порог, чтоб не пачкал его разной пакостью».
Уснуть он долго не может. Жена его, омыв ему ноги, пристраивается на краешке нар и быстро, по-старушечьи, засыпает. От нее и впрямь исходит какой-то робкий запах, будто что-то протухло в бескрылом дыхании. А может, ему только кажется. Во сне он скользит по стене грязной ямы, несколько раз просыпается и идет во двор размять ноги. Утро начинается с больной головы и усталости, которую он несет, как килу, за порог, чтобы согреть под лучами свежего утра, но вдруг слышит крик. Обернувшись, он видит, как дочь его — не красавица, но совсем не дурнушка — идет от забора к хадзару и держит на вытянутых руках издохшую курицу. Голова птицы непристойно кивает треугольной тенью на платье. Даурбек замечает, как лицо дочери брезгливо морщится, однако страха в нем нет. «Уж не подстроено ль все?» — мелькает угрюмая мысль. Он долго не сможет теперь ее от себя отогнать.
Проходит неделя-другая. Даурбек успел сильно осунуться и похудеть. Его задумчивость вызывает в семье беспокойство. Внезапно он принимает решение перекопать отстойную яму у себя на заднем дворе. Прежняя яма засыпается обильно, с верхом, так что сотни червей не могут нарадоваться жирному кушу и испещряют ее вдоль и поперек подвижными розовыми прожилками. Весь день у Даурбека отменное настроение. Но уже к утру он вновь погружен в печаль. Причина ее никому не ясна. С женою он сделался как-то неряшлив и груб. При виде ее он часто досадует и отворачивается. Когда она утирает в углу хадза-ра слезу, он, похоже, испытывает искренний стыд, но это ровным счетом ничего не меняет. Дочь тоже страдает — но уже от его подозрительности. Ей и невдомек, что у него за тревога. Три пятницы кряду они находят у себя во дворе мертвых птиц: подбитого воробья, огромную черную сойку и раздавленного цыпленка. По лицу Даурбека трудно что-то понять, но его домашних не покидает чувство, что его причастность к этим странным событиям значительно превосходит их собственную. Только как все это проверить?
В понедельник он идет на охоту. В лесу все как прежде, только ему отчего-то мерещится тень. Она следит за ним, бесшумно продираясь сквозь заросли, а когда он в нее внезапно, в подкидку, стреляет, тень растворяется в облаке дыма. Он спешит за можжевеловый куст, где она мелькнула мгновение назад, и находит на палой листве несколько круглых капелек крови, однако проследить того, кто был ранен, ему не под силу: следы теряются через пару десятков шагов, как раз над обрывом, откуда под ним обнажает спину река. Впечатление такое, будто тень сорвалась с обрыва в пучину. Или, напротив, вознеслась с него крыльями на небо.
Вечером Даурбек идет в дом к Цоцко. Найти предлог несложно: обломился кинжал, а всему аулу известно, что лучше точильного камня, чем у пришлых молчальников, отсюда на двадцать верст не сыскать. Цоцко внимательно изучает поломку, а тем временем Даурбек изучает его самого. Никаких повязок, только разве что самую малость одно плечо кажется толще другого, круглее. Чтобы проверить, Даурбек склоняется над присевшим у камня Цоцко и как бы ненароком кладет на ключицу ладонь. Парень вздрагивает, поднимает глаза и твердо, будто острый, негнущийся гвоздь, устанавливает их у Даурбека на переносице. У того такое чувство, словно глаза кричат от боли и вместе с тем громко смеются.
— Так ведь могу и пораниться, — говорит учтиво Цоцко. — Не ровен час, лезвие соскользнет. А там, не дай Бог, и в тебя угодит…
— Извини, — говорит Даурбек. — Залюбовался на твою работу. Увлекся.
И, словно бы в подтверждение добрых чувств, дружески щупает кость на плече, а потом с размаху опускает на него пятерню, не сводя взгляда с лица вспотевшего юноши. И вот тут Цоцко предпринимает такое, от чего у Даурбека громко урчит в животе: опустившись на колено, юноша укладывает на точильный камень ладонь, расправляет ее, точно платок, играет мгновение пальцами, потом замирает и рассекает кожу излеченным лезвием. Потом поднимает ладонь к лицу, рассматривает хлынувшую кровь и спокойно так говорит:
— Вот видишь. Все как будто в порядке. Теперь будет служить тебе верой и правдой до смерти. Хотя никому загодя и не ведом отмеренный век.
Даурбек понимает, что он имеет в виду не кинжал. Судя по глазам, угрозу нельзя назвать совсем уж пустой. Наверное, оттого гостю не просто вот так сейчас взять — и повернуться к ней тылом.
— Спасибо. Славная вышла работа. Только ни к чему было кровью себя заливать, когда хватало довериться взгляду… Добрую работу и так ведь видать. Особенно когда точно знаешь, что умельцу терпения не занимать. Да и потом — так и крови не напасешься. Сколько я тебе должен?
— Оставь. Настанет время — сочтемся…
Конечно, гость понял. Они прощаются. А когда Даурбек идет за порог, Цоцко произносит вдогонку:
— Хорошо бы ты так же ушел и из сна… А то давеча прямо измучил меня своей дочкой. Опять за свое. Женись да женись. Я почти уж поддался, но, слава богам, изловчился все же да выкрутился. Ты бы ей поскорей жениха подыскал, может, это спасет… Вот и люди уже говорят…
— Люди? Какие люди? Что ты мелешь? Чего они там говорят? Цоцко отмахивается:
— Ой, Даурбек, не поверишь. Сознаваться мне в этом больнее, чем руку кинжалом калечить. Только дальше негоже скрывать: у нас с тобой за спиною, почитай, не одну уж неделю шепоток смешками прохаживается. Я, конечно, тебя понимаю. Ты, видать, давно про то знаешь, если сам ко мне в дом вдруг идешь, словно хочешь с глазу на глаз столковаться, да все не решаешься. Сперва вроде решишься, настроишься, и не жалко тебе свой кинжал покалечить кусачками. А потом как придешь — застыдишься, печалью измаешься. Я, признаться, тебя не виню. Нелегко это, когда все вокруг вон в охотку судачат, будто богач Даурбек дочь задумал свою навязать Цоцко в жены, да покамест не очень оно у него получается. Обидно и слышать… Вот и брат мой уже говорит: плохо это, что ты стал к чужому позору причастен. Надо б по-христиански соседу помочь. Только как тут поможешь? Девчонку-то жаль, право слово. Кто ж теперь на нее и позарится, коли она по ночам в чужих снах умоляет ее пощадить?.. Люди глупые, сам знаешь. А глупцу только глупость подай, — он ее разнесет, как заразу, не успеешь опомниться, все кругом уже ею отравлены. Даже самые умные и неверы упрямые сомневаться потом начинают. Вот где беда!.. А тут, сам посуди, еще и тебя угораздило отчего-то в меня пострелять!.. Представляешь, что будет, если им о том станет известно?.. Вовек не отмоешься. Прямо не знаю, как быть. Одно к одному, как нарочно…
Он продолжает еще говорить, но Даурбек его больше не слышит. Он слышит другое. Когда рушится мир, ты все так же стоишь, почти что навытяжку, перед его обломками, не в силах занести лезвие и покончить разом со всем, что тебе еще предстоит. Ты просто повержен, а потому тебя хватает только на то, чтобы упрятать дрожащей рукой кинжал себе в ножны и выйти из всей этой гадости вон. Но уже на улице тебя пригвоздит пронзительный свет, от которого тропа под ногами будет скользить, как от снега, но ты, Даурбек, с этим справишься. Ты справишься с тем, что живешь, и тебя охватит тоскою презрение. Эта тоска не пройдет. Просто спрячется где-то на дне тебя, словно ком болотного ила, но поскольку ты выжил однажды — ты сможешь это и вновь. Нельзя спорить силою с тем, кто умеет силой играть, как кнутом. Испробовав этот кнут на себе лишь однажды, ты понимаешь: второго раза не вынести. Однако хуже всего, что, поняв это, ты не сможешь этим спастись и уйти. Теперь ты труслив, Даурбек, как огрыжная кляча, и очень боишься. Не кнута, а того, что под гибкую плеть его попадут уже те, за кого ты в ответе. Больше всего тебе страшно за трех сыновей и шестерых твоих внуков. О том, что ты струсил, никто не узнает. А презрение — к черту его, когда речь заходит о том, чтобы выжили дети твои, Даурбек. Ради этого можно отдать свою дочь. Цоцко ее любит. Иначе зачем ему резать ладонь?.. Будь он проклят. Он запер тебя под замками позора и страха. Не случайно и брата приплел. Мол, Туган-то все знает. Меня, мол, убьешь — твоих точно не станет жалеть. А стреляет тот так, что смерти за ним не угнаться…
Даурбек страдает всю ночь. Его одолевает переполненный пузырь, который он несколько раз обильно, по-конски, опустошает. Откуда в нем столько воды?..
Утром он призовет к себе дочь и задаст ей вопрос:
— Хочешь замуж?
Та невольно зардеется, попытавшись отделаться шуткой.
— На днях подыскал жениха тебе, — скажет хмуро отец. — Парень неплох. Правда, не очень-то знатен, но в обиду не даст. Грозился заслать к нам сватов.
— Кто же он? — спросит дочь. От волнения она закусит губу, потом украдкой пробежит по ней языком и заставит отца рассердиться.
— Что, не терпится? Жмет?.. Ничего, подождешь. К вечеру явится. Ну-ка, вон из хадзара!.. Бесстыжая.
Перед тем как уйти, дочь поглядит на него исподлобья, и во взгляде ее отцу примерещится искрой угроза. Даурбек даже поежится. «Черт его знает. Может, и впрямь они стоят друг друга, — подумает он и устало зевнет. — Если я его правильно понял, сегодня нам и вправду ждать сватов. Что ж, коли этого не избежать, заявлю им такой калым, что и во сто лет они за нее не расплатятся…»
XIV
Но, видать, столковались они на другом. Потому что никакого такого калыма особого за невесту предложено не было. Зато в первый же год после свадьбы вся семья чужаков вдруг снялась и отправилась в путь.
Когда они грузили подводы, аул с удивлением обнаружил, что за десять лет скрытной, замкнутой, но проворной удачами жизни у них набралось столько добра, сколько кому из местных не скопить и за десять веков. Глядя на весь этот скарб, на все эти холщовые мешки с зерном и шерстью, циновки, карцы[11], бесконечные котлы, щипцы для мяса, ковшики, кастрюли, ломти солонины, звонкие ящички и неподъемные сундуки, гирлянды обувок, охапки одежды, семнадцать винтовок и три бочонка пороха к ним, глядя на блестящий солнцем слесарный инструмент да пять заморских кувшинов, чье узкое, нездешнее изящество казалось преступным в сравнении с грязью на размякшей дороге, взбитой мочой застоявшихся при погрузке бычков, — глядя на это, народ понимал, что ограблен. Но оставалось неясным, как и когда.
Оскорбительнее всего было то, что, несмотря на самые разные слухи, возникавшие время от времени и, принюхиваясь дворнягой, бродившие вокруг этого толстого, крутого боками забора, никто в действительности и помыслить не мог, что чужаки богаты. Всем разом вдруг вспомнилось, как десять лет назад три изможденных дорогой, суровых лицом оборванца явились сюда на трех разбитых подводах, укрытых провисшей дырявой холстиной, а к последней арбе перетертой веревкой была подвязана близорукая пара коров, натыкавшихся мордами на мосластую задницу встрявшего буйвола, и следом за ними брели, редко блея от холода, полтора десятка овец и облезлый осел с подрезанным ухом, а на средней подводе испуганным воробьем сидела сухонькая старушка, и на руках у нее почему-то лежало ружье, а у мужа ее взгляд был такой, будто он год напролет хоронил близких родственников и теперь вот очень устал и хочет поспать, а на первой подводе, скрестив ноги, сидела девица и ровно горела глазами, без стеснения глядя по сторонам, а на вид было ей лет двенадцать-тринадцать, но что-то в этих тринадцати было не так: то ли времени в них вместилось побольше, то ли порока, — не ясно, а два ее брата были совсем не похожи на мать, потому что, казалось, ее и не видят, видят только отца да коней, а кони под ними, и правду сказать, были такие, что впору от зависти лопнуть, хорошие кони, скакуны, а не кони, и выходило, что чужакам, хоть они и бедны, все же есть, что на что обменять. К примеру, отдать коней за земельный надел.
И сначала они отдают двух коней и ружье, что лежало на тощих коленках старушки. Да еще серебро. Но сколько — знает один лишь довольный сосед, Даурбек. А потом всю весну и все лето в шесть рук они строят дом (а девчонка им помогает), выносят к дороге забор и молчат, все молчат, стиснув зубы, даже когда с каменистого склона смывает дождем урожай. Но зимой над их крышей вьется сажистый дым, хотя мясом там и не пахнет. А когда они выживают и после подкравшейся засухи, надел их даже растет, потому что к прежней земле они прикупают новый участок. Одеты в лохмотья, но платят опять серебром. А потом наступает погожий сезон, они жнут да молотят зерно, молчаливо считая мешки и треножа в снопы терпеливое сено. Все, казалось бы, так, как у всех. Только эти, пожалуй, почаще уходят. А потом возвращаются с новою тайной в свой загадочный дом. Дом умеет молчать не хуже самих чужаков. Он что-то скрывает, ясно любому. Однако никто и подумать не мог, что тайн в нем так много…
На Даурбека больно сегодня смотреть. Прежде считался он первым здесь богачом, а теперь вот стоит дурак-дураком, потому что вместо калыма достались ему лишь холодные стены. Да, именно он получил этот дом — вместо того, что мог получить, догадайся о правде. Вместо того, что всходило добром в этих долгих глубоких подвалах. Нынче все из них вынуто, нынче все на подводах и едет обозом за ворот горы. И обоз-то длиннющий. Все еще вон виднеется хвост. Только лучше б глаза Даурбека его не видали.
Он идет по подвалу с зажженной свечой, тут и там утыкаясь в объятья чуть слышного эха. Пустота здесь повсюду. Дом был на ней возведен, а потом заполнял ее год за годом несметными в счете припасами. Только подумать: вчера еще Даурбек подарил под них две арбы, полагая, что сделка не так уж плоха: разве цена — две подводы — за то, чтоб избавиться с ходу от тех, кто тебе ненавистен?! А сейчас ему стыдно поднять на кого-то глаза.
Семнадцать новехоньких ружей! Семьдесят пять мер овса!.. Кладовая пахнет овсом до сих пор, а по всему подземелью плавают запахи масла, копченостей, сыра, муки и в придачу к ним — теплый запах чесаной шерсти. От них голова идет кругом. Все они, эти запахи, не пускались в хадзар десять лет. Вход сюда был сработан на славу: двойные плотные ставни, сразу за ними — крутая ступеньками лестница и просмоленный войлок, с обеих сторон прибитый к стене. Даурбек идет по дому и отворяет одну за другой его двери. Здесь они прятали утварь. Здесь вот плодили детей. На этих вот нарах дочь его потеряла невинность. А вот где и когда была ею утеряна честь?.. Это же надо, ничего не сказать родному отцу!.. Цоцко — тот воистину знал, кого брать себе в жены. Она нас всех предала. Почему??
На этот вопрос не ответить.
Ни одна из дверей не скрипит, словно дом — это хитрый капкан, дожидавшийся жертвы. Что здесь делать теперь, его новый хозяин не знает. Ему трудно дышать. Он выходит в хадзар, видит пыльный очаг с трупным прахом под кашицей гари, и только теперь замечает висящую цепь над золой. Это, конечно, насмешка. Цепь они не забрали. Дескать, мы хоть ушли, но дом-то не твой…
Однако и это не все: на дальней стене что-то есть. Он подходит поближе. Подносит свечу. С нее капает воск, пока он глядит на рисунок. Со свечи мерно капает воск, а из глаз его тихо капают слезы. Есть в жизни моменты, когда лучше ослепнуть. «И она это видела, — думает он. — Что же это за зверь в ней проснулся, если может оставить такое отцу?.. Наверно, смеялась здесь вместе со всеми. Боже. Куда подевался тот податливый, теплый комок?..» Отчего-то ему вспоминается, как у дочери в детстве играли уютные ямки на пухлых щеках — два круглых обернутых внутрь глазка. Она была чистой, душистой. Да и потом, когда подросла… Разве нет? Разве она не была лучистым, как радость, ребенком? Не полоскала свой смех в дрожащей от счастья отцовой душе?.. Что ж случилось? Чем ее отравили? Не понять. Никак не понять.
Спустя несколько порванных в клочья мгновений, он сгибается, шарит по полу взглядом, поднимает какую-то ветошку (сальная, в пятнах топленого жира. Перед тем, как убраться, видать, протирали клинки), окунает в очаг, чернит ее густо и пытается гневно замазать золой намалеванный факельной гарью рисунок. Со стены на него изумленно глядит большеглазый осел. В конце концов, затереть его в грязь Даурбеку почти удается. Хотя бы это…
Даурбека снедает уныние.
XV
Туган был парень не промах: высокий, ладный, смуглый и мускулистый спиной. Одна беда — стеснялся руки. С левой все было в норме, а вот правая — та ни на что не похожа. Отчего у него безымянный палец длиннее всех остальных, никто не мог объяснить без насмешки. Отец шутил: «А ты возьми, отрежь указательный и рядом с мизинцем пришей. Тогда будет рука как рука…» Туган делал вид, что его это совсем и не задевает, но отец знал, что он врет. Заметив, что его старший сын пытается на людях управляться все больше левой рукой, а правую полусжимает в кольцо и прячет за спину, он взбеленился: «Если самого себя стесняешься, то чего от тебя дальше ждать, когда подрастешь и жизнь тебе, как любому другому болвану, велит встать перед ней на колени? Даже свинья себя не стесняется, хоть постель у нее — вонючая лужа… Да что там свинья! Сомневаюсь, чтоб Тот, Кто там, наверху, стыдился хоть сколько себя и своих безобразий».
В тот день Туган понял, что нет страшнее стыда, чем когда твоим же стыдом тебя устыдили другие. Приходилось терпеть, взрослеть, приспосабливаться — не столько угождая отцу, сколько проверяя собственную догадку о том, что не бывает стыдно лишь тому, кто сумеет заставить свой стыд обернуться в забаву или даже в достоинство. Постепенно Туган стал извлекать из своего несходства маленькие, но полезные преимущества. Вскоре выяснилось, что никто из сверстников не может похвастаться таким кулачищем. Кулак у Тугана был и вправду бугрист. Под такой лучше не попадаться. К тому же драки Туган любил. После них жилось как будто задорней. Все дело в том, объяснял он свою силу дружкам, что мизинца как бы и нет. Вместо него — два средних пальца величиною с газырь да еще безымянный, размером с целую ветку. Куда вам против таких великанов?..
Немного соврать было даже приятно. Сам-то он знал, что причина кроется в боли, которую он месяцами учился терпеть, разбивая в кровь кисть о деревья в лесу и обжигая ее крутым паром с кипящей кастрюли. В конце концов он почти ее приручил, свою боль. Теперь он не сомневался, что рука его выдержит истязания и пострашней. Тем более что она их определенно заслуживала: сколько он из-за нее пережил да намучился, не догадался бы и Цоцко, а у того глаз на секреты был наметан получше отцова. Однако даже брату было невдомек, что сжать правую руку в кулак Тутану было гораздо труднее, чем левую: плохо мирясь с несуразностью согнутых пальцев, ладонь мстила им тем, что совсем не давала уют. Поначалу любой неуклюжий удар мог выбить палец из сустава и серьезно травмировать кость. «Все равно что заставить лопату ногти срезать, — в отчаянии думал Туган о своей непутевой руке; в такие минуты он почти себя презирал. — Но здесь одно из двух: или я ее изувечу, или меня изувечит она…»
Как-то он явно переусердствовал: забывшись от боли, смазал новый удар и услыхал сухой хруст. В глазах почернело. Скорее всего на секунду он потерял и сознание. Когда он снова в себе его подобрал, возвратились и сами глаза. Они долго смотрели на трещину в толстой доске, потом увидели руку, разбитую в кровь. Однако на сей раз дело этим не обошлось: главный его бедокур, этот строптивый упряжной в ездовом порядке руки, был очевидным образом сломан. Рука стремительно пухла. Палец был вывихнут и наливался лиловым соцветьем кругов у последней фаланги, странным образом выгнутой внутрь (словно обернувшаяся на оклик шея ладони в тщетных поисках несуществующей головы). Потом боль приосанилась, перестала кричать и надулась. Туган старался с нею поладить: сперва убаюкал ее на весу, потом нежно подул, остудил немного от жара, осторожно сходил к роднику, обвязал ее плотно, надежно узелком чуть колючей воды, дождался, когда посинеет, обложил подорожными листьями и унес боль с собою домой.
Она тоже была терпелива. Но куда тягаться ей с ним! Через неделю боль все же сдалась. «Вот и славно, — сказал ему брат, — теперь твой урод стал еще и хромым. Да ведь ему не бежать. Радуйся, что не попортил другие». Туган и радовался. Особенно когда выяснил, что отныне скандалист присмирел и стал ловчее сворачиваться в ладони. Все равно что отмычное лезвие в большой складной нож. А драться ему и прежде-то было приятно. Привязаться же к слову было вовсе легко. О них-то ведь всякое говорили…
Женился он по указке отца. «Бери жену, пока бедный. Поймет, что у тебя за душой что-то есть, — возомнит о себе невесть что, а потом и тебя заставит поверить. Выбирай, как хорошего пса, — потоще чтоб да позлей. Глядишь, угадаешь. А не угадаешь — ненавидеть научишься. Все польза…» Он и выбрал. Взял из бедных — беднейшую, зато с норовом и не без ума. Она охотно трудилась как в поле, на меже, так и по дому, в хадзаре. Мать тоже ее одобряла. Невестка не знала устали ни днем, ни ночью. Она выказала такое рвение, что сразу после свадьбы Туган, краснея под взглядом отца, смастерил себе новые нары: прежние были стары и громко стонали от неуемных утех молодых. Но, как они ни старались, а детей у них не было. Быть может, потому что им была не судьба там осесть, — точно так же, как там, где отец сотворил ту задумку с конями, где они за двадцать пять прожитых лет сумели с землей не сродниться и покинуть ее в долгий дождь.
По правде, той земле они никогда не принадлежали: отец поселился там после того, как решил выкрасть мать из-под носа ее жениха. Было то еще в Грузии, куда отца занесло переменчивым ветром удач на целых три года. Когда ему надоело пить впустую вино, слыть умелым работником и пасти чьих-то жирных овец, он выкрал княжьего сына и продал его с выгодой ждущим на гребне горы семерым сговорчивым кровникам, запросив у них не только хорошую мзду, но и одежду хозяйского сына. О коне речи не было. Конь должен был остаться у того, кто украл его заодно с незадачливым княжичем. Так что теперь у отца был конь, были деньги и в придачу обличье молодого грузинского князя. Можно было ехать домой.
Однако домой не очень хотелось. За несколько верст до Дарьяльского перевала забрел он на свадьбу. Приняли его по одежке, а значит, по-княжески. Ближе к ночи взыграла в кем алчностью кровь: не видя невесты, он решил ее отобрать. «Уж больно жених был довольный, — объяснял он потом сыновьям. — Да и гонора было в нем — что сала в свинье. К тому же я знал: искать-то будут грузины грузина. Пока поймут, что да как, я ее двадцать раз обрюхатить успею. Короче, весело было, оттого и рискнул…»
В общем, мать их познакомилась сначала с седлом его, пинками колен да с быстрой расчетами плетью, а уж потом, когда они укрылись в какой-то пещере и он ее приручил, разглядела в нем грозного княжича. Говорила, что был он красив. Что касается удали — та сомнений не вызывала. Мать робела пред ним до конца своих дней.
А привез он ее не домой, а туда, где никто их не знал… Это лучше: ни тебе порицаний, ни опасливой памяти, ни занудных восьми стариков, один из которых считал его сыном, да только ему самому был ничуть не дороже других. «Угу, — говорил отец сыновьям, когда они подросли, — бывают дома, как хоромы, да только нам в них не жить. А бывают дома, где шаром покати, но нередко там даже смеются. Если податься совсем уже некуда, в них можно укрыться на ночь, но не больше: немудрено заразиться от их нищеты… А бывают дома-муравейники. Страшное дело. Пять десятков мужчин да еще столько же угождающих им перестиранных юбок, а ты должен помнить всех по именам и слушаться каждого третьего лишь потому, что он старше. Эти дома хуже всех. Погребут тебя заживо. В них смех притворен, бедность ссорится с нищетой, а властолюбия больше, чем даже в хоромах. Там каждый — лишний, но без него почему-то нельзя. Я выбрал другое…»
Он выбрал горы и поселился с женою там, где никто их не знал. Выкупил хиленький дом у аула и стал в нем жить-поживать. Аул коптил поднебесье, считая под ногами облака, и назывался Сабыр-кау. Это отца вдохновило. «Представляете, за столько-то лет не встречал смирных людей, а тут — целый аул под названьем Смиренный… Любопытно мне стало».
Разочарование настигло едва ли не сразу: люди были здесь ровно такие же, как и везде. В глубине их смирения таилась какая-то давняя злоба или хмурая зависть, так что был он не прочь снова отправиться в путь, но сыграл тут по-своему случай: захворала жена, потом наступила зима, а потом уж приспело и время рожать. Узнав, что на свет появилась девчонка, отец даже обрадовался: красавицей вырастет — хороший калым получу, а будет страшилка — тоже неплохо, почитай, что на век вперед дом обзавелся бесплатной работницей. Как бы то ни было, пока мать ее грудью кормила, лучше было с дорогою не спешить, хоть, наверно, и очень хотелось.
В тот год отец впервые подвесил себе над кинжалом брюшко и стал еще больше похож на алдара[12]. Вскоре, однако, поползли слухи о том, что ни княжеским сыном, ни даже алдаром он не был. Правда, тот, кто их распускал, той же осенью угодил в переплет: покусала своя же собака. Сбесилась она ни с того ни с сего, накинулась вдруг на хозяина, разорвав ему ухо и щеку, да вдобавок искромсала клыками запястье ему и бедро. Конечно, собаку пришлось пристрелить. Такой вот двойной и обидный урон. В общем, делалось здесь интересно.
Затем на смену интересу явился азарт: аул явно отца невзлюбил и мечтал его выжить. Частенько в несомненной близости от следящих глаз чужак находил трусливые следы неприятия — то дохлую крысу подбросят во двор, то ночью потопчут жнивье, и непременно, конечно, разом умолкнут, стоит ему лишь взойти на ныхас. Никто и не догадывался, что от выходок этих у него только поднимается настроение. Теперь он ощущал над ними свою власть. А от власти своей добровольно никто не уходит. Они просчитались.
Он не уехал, даже когда умерла его дочь. Дочь задохнулась от смеха.
В полдень проснулась, заплакала, требуя дани, но спустя три глотка от нее отказалась, сплюнула прочь материнскую грудь изо рта, громко икнула и сама же себе рассмеялась. Она все смеялась и жмурилась, как от щекотки, на доброе теплое солнце, сучила радостно ножками, не переставая икать и ухватившись за мочку склоненного к ней материнского уха, словно хотела в него пошутить, да все не могла совладать со своим непонятным весельем, а потом вдруг взрыгнула и смолкла, и глаза ее широко, как у взрослой, открылись. Мать заглянула туда и отпрянула. Такая вот смерть… «Во что они с нею играли?» — спросил через месяц отец. Но ответа он не услышал. Одни бесконечные слезы…
Мысль о том, что его покарал всевидящий Бог, вынуждала скрипеть от злости зубами. Отец мстил Ему тем, что посылал в небеса безответно проклятья и изводил богохульством редевший ныхас, который отныне быстро пустел при его появлении. Ему хватило нескольких недель, чтобы убить в зародыше людское к себе сочувствие и разменять его на прочную ненависть сплотившейся опасностью общины, которая только усугубилась после того, как на святейший из праздников Джеоргуба он позволил себе и вовсе кощунство: вместо барана Святому Георгию в жертву принес ослиные уши. «Разве так не разумней? Пусть, как и все мы, довольствуется тем, что заслужил. Осла, правда, жалко…»
Надо отдать ему должное: мать он ни в чем не винил. При чем здесь она, когда у него свои счеты с небом!..
Прошло года три. Даром времени он не терял. Как-то раз аульчане увидели, как он возвращается в новой подводе и рядом с ним восседает по-квочьи, насупившись, толстенная старуха. Подъехав к воротам, он снимает ее с арбы и в одиночку несет на руках к себе в дом, который она с той поры никогда не покинет.
Так он привез в Сабыр-кау свою мать. Те аульские жены, которым под разным предлогом удалось проникнуть к ним в дом, утверждали, что бабка лежит за ширмой из шкур и чуть ли не с утра уже балуется глиняной чаркой, доставая ее из-под нар. Трудно в такое поверить, но здесь было легче: очевидцы разом припомнили, что, сидя в подводе, старуха была как-то странно пряма, точно к спине ее была палка подвязана, а потом, едва он снял ее и понес, — надломилась, откинулась шеей назад, закатила глаза и, расплескиваясь укрытой платком головой, послушно кивала под каждый им сделанный шаг. Тогда всё списали на старость. Теперь же добавили к ней и грешок. Непонятны были две вещи: зачем ему понадобилось везти ее издалека на чужбину, и почему она тому не воспротивилась? Известно ведь, смерть благосклонней при встрече со старостью там, где ты к ней готовился целую жизнь, а не там, где стены тебя не успеют даже запомнить… Словом, бабка казалась отчаянной. Наверно, такой и была, только едва ли сама о том уже что-нибудь понимала.
Жене он объяснять ничего и не стал. Просто упомянул как-то раз в разговоре, что они теперь снова вдвоем на него одного. По мелькнувшему в глазах озорству она догадалась, что мать он тоже украл. Вот так штука: похитить мать свою у своего же отца. Такое бы в голову никому не пришло. Но этот был весельчак хоть куда, ее муж…
Чтоб угодить ему и свекрови, она не ленилась учить осетинский язык, но, привыкши молчать и скрывать свою кровь, вслух говорить не спешила. На любые расспросы соседок лишь затравленно улыбалась и отвечала короткими «да», «нет», «конечно», «спасибо», «я тоже», а посему никто из «смиренных» так и не понял, что она из грузин. Да, похоже, она и сама о том почти уж забыла: жизнь с отцом зачеркнула все то, что когда-либо было с ней прежде. Похитив ее, он словно бы разом отрубил все ненужные корни, превратив ее в черенок, приживавшийся робко, но крепко к его твердокаменной воле. Потом она поняла, что давно его любит. «Ваш отец, — говорила она сыновьям, — в одиночку мог реку связать себе в пояс. Кнутом надвое льдину перешибить. Завидев его, до сих пор даже волки робеют. Он не просто мужчина. Он такой мужчина, перед которым пасует судьба…» Пожалуй, говоря о судьбе, она имела в виду свой удел. У отца не могло быть судьбы. Для огня не сошьешь ведь черкески. Потоп не поймать на рыбачий крючок…
Когда приспело время обзаводиться наследниками, отец уже точно решил, что покамест те толком не вырастут, он не уедет: «Чего торопиться оттуда, где тебя уже не выносят? Человек — не сопля, ему тоже закалка нужна. Без закалки он — точно конек без яиц, — убожество, слякоть…» К сыновьям был он очень суров. Мать боялась роптать. Ей и так приходилось несладко: женщине трудно, коли вокруг только глупые сплетни и притом ни родни, ни подруг. Она мучилась снами, в которых все было легко и покойно, а потом обрывалось и падало в гул пустоты, в никуда. Предательство снов ее угнетало. В конце концов, словно чтобы отделаться враз от худших из них, она вернулась к тому, с чего начинала: так родилась у них снова малышка, Роксана.
Отцу мать вполне угодила. Он был полон гордыни и даже надменен будто больше обычного: с небом он поквитался. Оставалось его приструнить навсегда. Что ж, сделать это проще простого. Надо лишь жить, как жил до сих пор, — вроде бы не оно над тобой, а сам ты над ним, и совсем ничего не боишься. «Знаешь, — признался он как-то жене, — мне было страшно лишь дважды. Первый раз — когда я вдруг понял, что одинок. И второй — когда я осознал, что меня захотят непременно лишить одиночества… Тогда я просто ушел, чтобы спасти его и себя. С той поры лишь делю его с теми, кто и так — мое продолженье. Ты ведь тоже из них?..» Разве он мог сомневаться!.. Конечно, она была его продолженьем, а продолженьем его продолженья были их трое детей. Только кто была бабка?
Снохе не хватало ни отваги, ни соображенья, чтоб ответить на этот вопрос. А потом отвечать на него стало просто ненужно: бабка скончалась.
Хоронили ее в Сабыр-кау. Людей собралось предостаточно, уйма: всем интересно хотя б напоследок поглядеть без препятствий на ту, что была несомненно старее всех здешних старух, при этом и выпить не дура, и кого похитил к тому же собственный сын у его же отца. Да, по ущелью ползли и такие вот глупые слухи. В них, правда, мало кто верил, но повторять эту шутку было приятно, как месть. Никто из любителей посудачить насчет чужаков и не догадывался, насколько шутка эта близка была к истине.
Мать много плакала. До сего дня она и не сознавала, как привязалась к этой вредной и толстой старухе за какие-то несколько лет. Возможно, дело было в том, что когда-то давно та оказалась причастна к рождению того, кто заменил ей собою весь мир. Хотя, может, и нет. Когда любишь мужа, бывает и так, что свекровь незаметно становится даже роднее собственной матери, — в том смысле, что обе вы каждый день друг для друга возникаете из одной и той же тени. Это злит, но сближает. Жалко старуху… Без нее дом стал больше и холодней. А впрочем, шел ведь декабрь. Земля подмерзла, разбивать ее кирками было непросто. Звон с погоста раздавался такой, что его было слышно в хадзаре. Лицо у старушки расправилось и стало опять незнакомым, и только теперь, пристально глядя в него, мать поняла, что ничего о ней так и не знает. За молчаливыми распрями им так и не довелось ни о чем толком поговорить. Мать сильно плакала. Никто не решился ее упрекнуть в какой-то неискренности. А отец в самый день похорон встал рядом с ней и тихо, сквозь зубы, сказал: «Не смей разводить тут мне сырость. Это уже не она, а только ее скорлупа. Нечего дурой прикидываться…» Но мать не прикидывалась. Просто свекровь хоронили рядом с их первой дочуркой. Изведет она ее там, подумала мать и опять тихонько заплакала. Отец отвернулся презрительно. Когда гроб опускали в могилу, пошел теплый снег…
XVI
И вот они впятером. За мальчуганов мать не боялась, а вот дочь огорчала: что хорошо в самом муже, не может быть здорово в малом дитя.
Нравом та в самом деле угодила в отца. Пяти лет с небольшим Роксана резала кур, била скалкой овец, загоняла в ограду, и умела, отправляясь на пашню, не обернув головы, разговаривать с буйволом, заставляя послушно брести за ней вслед. Случалось, она огрызалась отцу, а он отчего-то прощал. Конечно, не совсем уж так запросто, а понуждая ее перед тем повиниться. Однако мать понимала: это — так, одна видимость.
В восемь лет он позволил ей выстрелить. В качестве цели избрали дохлую крысу, в который раз подброшенную к ним во двор. Со второй попытки Роксана попала и стала визжать. Радость ее была велика. Ровные белые зубы. Алый рот. Не девчонка, а хищница прямо. «Когда-нибудь ты подстрелишь того, кто ее к нам сюда подложил», — сказал, ободряя, отец, намеренно громко, в расчете на то, что поднявшийся ветер разнесет слова за соседский забор, а потом уж и дальше по улице. Так и есть: отныне никаких крыс на дворе. Разве что только живые, но без тех, как известно, не обходятся даже подвалы церквей.
Лет с десяти он доверил ей жеребца. Девчонка скакала на славу. Она была справной и ловкой. Такой и росла. А мать тосковала: останется нам. Никто не возьмет. Порох в хозяйстве хорош, когда лежит себе в погребе, а не лезет обняться с огнем в семейный очаг. Достаточно было взглянуть девчонке в глаза, и становилось ясно, что они никого не боятся и вроде бы даже никем на свете особо не дорожат. Мать понимала, что глаза эти — не для гнезда. Для беды они, прости Господи… Так и случилось. Но это — потом.
А пока дочь росла, догоняя сынов. Если Туган был явно помечен свыше рукой своей, то Цоцко — пожалуй, глазами. Их проницательность многого стоила. Мальчуган был смекалист и, в общем, бесстрашен, хотя и не так очевидно силен, как его старший брат.
Зато младший был скрытен. Скрытен так, что язык его словно не знал, что творит голова. «Вот и ладно, — говорил ей отец. — Тоже неплохо. Понимает, что нельзя никому доверять. Повзрослеет — дойдет до того, что верить и мне перестанет, только я не в обиде. Недаром присловье: внимай да умом проверяй. Пусть поступает, как ему нюх подсказывает. Он у него прямо волчий. Хорька давеча вычислил в поле. Говорит, что по запаху. Не каждый сумеет. Может, конечно, и врет, да только на то, чтоб соврать и заставить поверить, тоже дар надобен. Нет, малый не пропадет…»
Наблюдать за тем, как пблнится погреб добром, хлев — скотом, а кладовая — потайными нишами, матери было, конечно, тревожно, хотя и не стыдно: чего там стыдиться, если сама она счастье свое обрела через дерзость обмана и кражи. Чай, не дешевле скота и вещей… И потом, в ней давно говорила привычка: что бы ни делал и как ее муж, все было нужно и правильно. Только б беды не накликать.
Но беда заявилась совсем не оттуда. До нее было несколько лет…
А пока — сыновья подросли. Можно было сниматься. Отец только ждал подходящий момент. Он все больше сердился и больше скучал. Видать, эта земля ему надоела: в ней не было проку. Она погрузилась в терпение. Похоже, и вправду смирилась. В общем, тоска…
И потому, стоило Нестору лишь оступиться, отец схватил быка за рога. Сыновья его поняли и подсобили. Мать мелко дрожала от страха, и тогда он впервые при всех на нее накричал. Дочь молчала, укрыв глаза поволокой, и отец разглядел в них мечту, а в мечте той — дорогу. Дочь очень любила скакать. Забываясь от чувства полета, она несколько раз едва не угробила им жеребца. Отец крепко сердился, но, похоже, ее понимал и прощал. Что до матери — та рассуждала иначе, но, конечно, не вслух — про себя: за увлеченностью дочери скачками она распознала такое, чем не просто делиться, крестясь, даже с собой. Стыд и срам ей такое подумать. Потому мать о том и не думала. Всякий раз перед тем, как лицо ее дочки загорится запретным огнем, лучше было успеть отвернуть от позора свой взгляд. Нет, подумать о том, что скачки ей заменяют мужчину, мать не могла. Нельзя такое подумать про дочь. Ах, будь что будет!..
Отец раздобыл им коней, и они ускакали. Сабыр-кау не рискнул им мешать.
Они забавлялись дорогой, покуда хватало тепла. Потом пришли холода, и они встретили зиму в одном из дигорских ущелий. Жить в гостях у людей, чья речь, как щекотка, смешила их слух, было, в общем, неплохо и даже занятно. К тому же наблюдать, как приютившие тебя хозяева стараются отличиться радушием и хлебосольством, а по глазам их любой щенок разберет, что им не терпится выпроводить тебя подобру-поздорову, да обычай не позволяет, — было вовсе одно удовольствие… Что ж тут поделать: гость — Божий посланник. Надо его привечать.
Привечали их целый год — то при казачьих станицах, то на востоке, а то и на юге, в близком соседстве от материнской родни. Они прожили там почти месяц. Каждое утро, пока хозяева спали, мать умудрялась шмыгнуть за порог и долго смотрела, как гладит первое солнце ее родное село. Между ними пять верст всего — и целая жизнь. Она шептала по-грузински молитвы, и голос ее ей самой казался чужим, но отцу было весело. «Может, нагрянем? Только представь, какие у них там сложатся лица!.. А что — я, пожалуй, схожу». Но сходил к ним не он, а Цоцко. Не смог удержаться. А вернувшись, разбудил среди ночи отца, рассказал, что наделал, предложил собираться немедля.
Они уехали на рассвете, захватив припасы еды, которыми на радостях одарили их благодарные за отъезд хозяева. Когда ближе к полудню они сделали первый привал, стало ясно, что каждый из них прихватил еще что-то свое. Отец показал им новый башлык и серебряную пороховницу, Туган похвалился кувшином вина и мешочком с душистыми специями, а малышка-Роксана, сестра его, повернулась спиною, прошлась по груди, освободила от пуговиц петли на платье, застегнулась и тут же раскрыла ладошку, на которой они с изумленьем увидели золотой сияющий крест. «Сняла прямо с шеи, когда обнимались», — пояснила она, вызвав смех. Цоцко не спешил. Мать не сводила с него влажных глаз. Он спокойно поел, прилег отдохнуть, погрелся на солнце, позевал, а когда настало им время трогаться в путь, чем-то щелкнул за пазухой, озабоченно встал, как будто прислушался, хлопнул себя по бокам, прошелся руками по тулову, тряхнул резко кистью и, словно сам удивленный находкой, из рукава на ладонь уронил темно-синие бусы. Мать так и ахнула: «Да это ж мои… Где взял?» — «Там, где ты их оставила лет эдак двадцать назад…»
Он умел удивлять, ее сын Цоцко. Скрытный был только, как неродной, но мать почитал — когда вспоминал о ней за своими заботами. Туган был попроще, зато терпеливее и сильней. Хорошие мальчики. Да и невестка смышленая. Только все никак не родит. Хотя оно, может, и к лучшему: небось, не бродяжка — в пути младенцем опрастываться. Скорей бы отец им пригожее место надумал…
Он и надумал. Через год с небольшим нелегких, признаться, скитаний они вышли к узкой громкой реке. Припав устами двух улиц к ее бурной волне, над склоном гладкой боками горы подвис на солнце аул. С виду он был совсем ничего: огромная башня на толстом зеленом холме, ветряная лопастая мельница да два десятка прилипших друг к другу дворов. За ними — густой темный лес, над которым летит стая птиц. Дело близится к осени. Самое время всерьез обустроить жилье.
«Все в порядке, — говорит, воротившись, Туган. — Ничего про нас не слыхали. Можно ехать». Но отец продолжает примериваться. «Что там за стены из кизяка? Не туда смотришь. Видишь — там, где крыша порушена?» Смекнув, куда клонит отец, Туган улыбается: «А это у них — развалюха. Не сарай и не дом. Говорят, прежде когда-то священник там жил, только они его из аула прогнали, потому как араку уважал пуще божеской службы, через то и с небом разговаривать разучился: несколько лет у них — то сель, то потоп, то свирепая засуха. Как прогнали — все изменилось, наладилось». — «Мудро, — кивает отец. — Всегда лучше пить самому, чем доверять это дело другим. А что там за башня на самой скале?» — «Семь этажей.
Пять веков им уж честь сторожит. У нее и легенда имеется: мол, окружили аул их враги, взяли в осаду, а они всем аулом в башне попрятались. Бьются месяц, второй — ничего. Только попусту порох изводят. Бьются год, бьются два, а у тех, что внутри, уже ноги от голода пухнут. Осталось с десяток овец да две-три козы, ну и вроде корова одна, чтоб детей хоть поить молоком. Только тем, что внизу, приходится хуже: животы всем свело и в глазах начинает двоиться. А тут наступает зима. Видят те, что внутри, — врагам их тоскливо. Дым от костров совсем уж прозрачный, почти и без запаха, да к тому же день ото дня снег на взгорье сильней чернотой прорастает — могилами, значит. И тогда они поняли: время. Самый старый старик их испил полный рог араки, проглотил кусок мяса, чтобы, стало быть, твердость вернуть и ногам, и, конечно же, глотке, вышел к бойнице и закричал: Погодите стрелять. Все равно от пальбы вашей толку не больше, чем от предсмертного пука. Оголодали вы очень, даже отсюда видать. Так нельзя. Не годится нам — воевать с дохляками: сердце кукишем сводит от жалости к вам… Ну-ка, эй, ну-ка, прочь, ну-ка посторонись! Тут они начинают швырять из бойниц все съестные припасы, какие там только ни есть. Осаждавшие думают: коли у них для врагов нашлись и баранина, и соль к ней, и сыр, и целая туша быка, и зерно, — сколько ж у них там еще припасено для себя?! Э-э, нет. Тут нам до смерти сидеть, а они пировать в башне будут да молиться за наши подмерзшие души… Короче, осада закончилась, и аул уцелел. С той поры наградил себя именем: Фидар-кау», — «Стойкий? Вот как…» — говорит с интересом отец. — «Да. Фидар-кау. Так и есть». — «Может, проверим, насколько он стойкий? — предлагает отец. — Эту легенду я уж раз восемь слыхал, да все в разных местах. Но башня у них вправду справная. Гордая башня. Поглядите, как в небо тычет…» Словно сверяя, на что это похоже, он выставляет перед глазом средний палец и замеряет им башенный силуэт. Женщины тупят взоры, а оба сына смеются. Потом отец приказывает всем надеть что похуже, измазать пылью лица и думать о чем-то плохом. О том, например, что у них пали кони. Сыновья пытаются прочитать по его прищурившимся глазам, насколько он шутит, а насколько всерьез говорит. Дочь глядит исподлобья, не веря ушам своим. Неужто не будет теперь у нее жеребца? И все — из-за какой-то там развалюхи и тощей братовой жены, что пыхтит чуть не всякую ночь, словно сова в лесу ухает, да все вхолостую — родить никак не сподобится.
Тем временем мать их возносит молитву богам. Не вслух, разумеется, а про себя.
Отныне она все больше так и живет — про себя. В хлопотах да тревогах она и не заметила, как состарилась. А когда поняла — застеснялась. Муж ее был по-прежнему крепок и бодр. Рядом с ним она ощущает себя иссохшим колючим кустом. Когда он отправляется куда-то по делу, она знает, что он идет и затем, чтоб насладиться мужской своей доблестью и одарить ею чью-то пышную плоть. Мать тужит. По ночам иногда ей так тягостно, что впору сбежать. Превратившись в кобылу, она скачет куда-то, а под нею неровной дорогой стелется страх. Копыта стучат по нему, рассыпая звездочки искр, и они тут же гаснут, сбитые крупом преследующего ее жеребца. Она не чувствует ног, только слышно чужие копыта. Погоня длится так долго, что у нее захватывает дух и она думает: мне бы только проснуться. Но проснуться не удается. Перед нею летят ночь, рассвет, туман над рекой, бесконечный отчаянный день, а потом — вскрик, удар, снова звезды и мягкая пыль вкуса первого меда. Жеребец ее настигает и душит приятно зубами, вонзая себя в ее чуткое ловкое лоно, вонзая упорно и долго, пока она под ним не умрет. А потом — еще сон не закончился — кобыла очнется вдруг и поймет: жеребец ускакал, а сама она — дохлая кляча. Разве ей после этого жить?
Выручали лишь внуки. Продолженье того продолженья, что до того продолжила она сама. Хотя в это ей тоже теперь мало верилось. А тут еще новые испытания…
Когда ей пришлось своими руками принять из невестки второго ребенка, а вместе с ним — ее смерть, мать сильно сдала. Порой, притаившись от всех, она убегала откуда-то с черного хода своей подуставшей души на задворки неясного света и робко плутала там чужаком вокруг собственной жизни. Что-то в ней было не так. Мысли пугались и путались, и на смену им почти всегда приходили воспоминания. Вот они строятся в ряд, одно за другим. Она помнит их все наизусть. Взять хотя бы свое похищение прямо из-под венца, из прежней задумчивой жизни, из отмеренной свыше судьбы, заодно — и из гладкой тенью струящегося до сих пор по отзывчивой заводи снов языка. Или рождение дочери, захлебнувшейся смехом от щекотки нагрянувшей смерти. Вот возникшая словно из бездны свекровь, ни разу за несколько лет не взявшая себе труда протрезветь настолько, чтобы взглянуть снохе прямо в глаза и запомнить, затвердить себе ее лицо (она помнит, как это было обидно…). Потом — оставленные могилы, о которых не стоило горевать, потому что он ей сказал: там их нет и в помине, одни лишь гнилые скорлупки, но ей было больно. Больно ей до сих пор. Потом — появленье сынов, один из которых носил на руке непонятную метку уродства, а другой перенял от зимы серый взгляд. А потом — дочь, вторая. О ней не хотелось и думать. Весь мир для нее был всего лишь седлом. Сел в него — и скачи, словно ветер. Отцова любимица. Ему и достанется… Наконец, новый дом, перешедший к ним от дурного попа, которому было все недосуг побеседовать с Богом. Муж сказал: подходящая тень. Заменим кизяк на голыш, но молиться не станем. А потом — и рождение внуков. Один из них по ошибке был даже крещен. Второй покрестился смертью собственной матушки и с тех пор все чего-то смеется. Жутко это, хотя малыш ни при чем. И за этим за всем стоит воровство. И дорога. Дорога не знает конца. Они живут так, словно к чему-то готовятся, длится это годы, всегда. Все время куда-то спешат. Но куда — ей и сейчас невдомек. Матери кажется, она слишком устала. Когда-нибудь и муж ее, быть может, поймет то, что недавно, глядя на воду в реке, совершенно случайно постигла она, только еще не совсем себе в этом созналась: жизнь и впрямь обрастает долгами. День за днем, год за годом она притворяется, что сдается и пятится перед тобой и твоим атакующим гневом, кается, отдает покорно все что ты ни запросишь. Но сколько б ты при этом ни взял — мстит она тем, что крадет у тебя себя же саму. Жизнь крадет у тебя твою жизнь, и делает это совсем незаметно. Вот такая догадка… О ней она никому не расскажет. И потом — куда ей кого-то учить, с ее-то умом! До сих пор мешает простые слова, с которыми прожила тридцать лет в общем доме. Вот и давеча «дрожь» с «превращением» спутала. Оттого, наверное, что невольно дрожит при мысли о том, во что превратилась сама.
Она размышляет сразу о многом и разном. Такого с ней никогда не бывало. Сейчас вот, к примеру, знакомится с мыслью о том, что бабка ее одолела шутя целых семьдесят лет. Ей самой всего пятьдесят. Но в ней старости больше, чем в бабке. Это наверняка. Хуже всего ее загрубелые ступни. Она прячет их от своих же презрительных глаз, но как не услышать шарканья ног по гулкому полу?..
Наплыли на небо тучи. День какой-то увечный. Скорее бы дождь…
Но дождя нет как нет. Воздух сух и протяжен какой-то тревогой. Ночь томится от жажды, которую не утолить. Перед смертью матери снится большая корова с колокольчиками на обоих рогах и добром исходящий от них серебряный звон. Он выносит ее за порог, подает ей шубу из звезд. Земля мягка и податлива, прямо пух. Мать врастает в нее навеки ногами и понимает, что никуда не уйдет. Теперь она — большой и красивый цветок. Поутру он распустит свои лепестки и умоется сладкой росою…
Однако на рассвете они отчего-то подумают, что она — воробей, убоявшийся беспокоить их сон. Куцая птичка, свернувшаяся клубком у остывших нар. Обидно!..
XVII
У Цоцко на уме непонятное. Впрочем, как и всегда. Лучше его не расспрашивать, все равно толку от этого нет. Туган живет себе поживает с новой женой и, в общем, доволен. Беспокоит только отец. После смерти их матери с ним творится неладное. Кабы дело было в том, что он непрерывно растет — еще полбеды. В другом тут забота. По всему видать, ему снова неймется, хочется в путь. Но Туган не спешит. Ему впервые вдруг лень. Лень куда-то сниматься, месить колесами грязь и сочинять небылицы, знакомясь с чужими людьми. Жена у него тоже не слишком охоча до всяких дорог. Съездить с ним на базар ей — и то мука. Дорога — каких-то три дня, а на ней лица уже нет. К тому же и без всякой дороги все идет хорошо: закрома переполнены, масла хватит на много недель, а оружья да утвари столько в подвале скопилось, что можно лет пять торговать. Вот это Тугану вполне по душе — торговать. Но заикнуться о том он не смеет: отец не поймет. Жена говорит: конечно, он старший и знает, как лучше. А вот что она при этом думает про себя об отце — можно только догадываться.
К детям она благосклонна и ласкова, даже балует слишком, так тоже нельзя. Только сестру не очень-то жалует. Та сама язва. Чуть что — ввернет в разговоре такое, что не слишком-то хочется слышать. Ей бы только скакать да резвиться. Охотится чаще мужчин. Кабы не отец — Туган задал бы трепку. Но тот опекает ее пуще прежнего с той поры, как мать умерла.
Когда ее хоронили, Туган глядел в гроб и не мог все заплакать, словно то и не мать была, а в нее одетая кем-то чужая покойница. Странно. К могиле ее отец даже не ходит. Ни разу не попросил отвести его на погост. Это как раз и понятно: всякий мертвец для него все равно что мышь дохлая. Что до матери — той ему и на сердце хватает. Говорит, что не может простить ей того, что ушла. Потому, видать, что у него перед тем не спросилась. Но как бы ни был силен человек, — даже самая хилая смерть подюжее его будет, самостоятельнее.
Сам Туган горевать — горевал, да только не очень. Будто мать отошла куда-то в сторонку, но скоро вернется. Вот ведь глупое чувство! Знаешь, что никогда не придет, а в душе у тебя так, словно узелок вам на встречу повязан. И никогда она ему не приснится. Бывает, скажешь даже себе перед сном: неплохо бы свидеться с матерью. Пока не провалишься в дрему, все о ней думаешь, прямо под веками щиплет. Ан нет! Не идет. Может, просто хочет от нас отдохнуть? Тогда все понятно. Поди, немало намаялась за столько-то лет.
Приходит весна. Жжет глаза ярким солнцем. Работы, как водится, невпроворот. От отца теперь толку поменьше. Цоцко трудится истово, за двоих. Туган посильнее, да вот злости в нем меньше. У Цоцко же ее предостаточно.
Как-то раз после пахоты, ближе к вечеру, затаившись у хлева, он манит пальцем сестру, долго смотрит ей прямо в глаза, ожидая ответа. Удивительно прямо: ничего не спросил, а ответа вот требует. Не дождавшись, отпускает пощечину. Заслышав ее, обе стельных коровы и бык перестали жевать, поднимают мохнатые морды. Роксана хватает ладонью лицо, трет щеку, языком проверяет цельность зубов и тихонечко цокает, с любопытством пускает из губ тягучую ниточку крови, вскинув голову, вмиг оживает глазами и негромко смеется. Будто не он ее, а она его ударила по лицу. Цоцко замахивается опять, но передумывает. Вместо этого говорит:
— Больше не потерплю, так и знай. Думаешь, мне неизвестно, чего это мать так рано угасла?
— Не твое это дело, Цоцко, — отвечает сестра. — Поостерегся бы лучше встревать. А еще раз ударишь — мозги тебе вышибу.
Тот, похоже, такого не ожидал. А может, как раз не ожидал от нее ничего другого. Как бы то ни было, а впечатление такое, будто произнесенные слова обоих здорово утомили, словно были это не слова, а жернова, которые они выстроили друг перед другом и не знают теперь, что с ними делать дальше. Пока гадают, они жадно вдыхают в себя тишину. Коровы мерно жуют рядом сено, выпуская пригоршни хриплого пара из горячих ноздрей.
Цоцко Роксана совсем не боится. Она выдерживает его серый взгляд, ни разу не отведя от него собственный. Чего ей бояться, когда она сама себе и судья и хозяйка. Кому-кому, а брату нельзя выдать страх свой. Вот она и смеется в искаженное злобой лицо.
Рука его беспорядочно ковыряет толстую балку. Так можно и пальцы занозить. Наконец Цоцко говорит:
— Не дай тебе Бог опять заболеть. При матери ты уж болела два раза. А сама перед тем по горам все скакала, как бешеная. Может, кто и подумал: чего это, мол, не сидится ей. Только не я. Я-то знаю, что тебе за собой никогда не угнаться. Ты другого хотела — от ноши избавиться. Я все знаю.
— Вот и знай себе, — говорит, сверкая глазами, она. — Даже можешь с отцом поделиться. А что — с тебя станется… Только я знаю что-то другое, чем могу поделиться взамен. То, например, отчего у тебя словно в глотке волдырь вырастает, чуть завидишь на улице Даурбекову дочь. Если очень попросишь, я тебе догадку свою расскажу.
Он молчит. Она его не торопит. Роксана сбрасывает с лица паутинку волос, кладет ее за ухо, трет пальцем ямку в ладони, слизнув с нее невидимую росу, нехорошим голосом добавляет:
— А догадка такая: брат следит за сестрой. Ему уж двадцать скоро, а он все за ней в дырку подсматривает, когда она корыто вскипятит и купаться разденется…
Он бьет ее по лицу. Бьет сильно. Она лишь утирает рукавом разбитый рот и продолжает, как будто ничего не случилось:
— Он так к ней внимателен, что ей порой кажется, лучше брата нет на всем свете. Одна тут загвоздка: постепенно она понимает, что он ей не хочет быть братом. Сестра ему не нужна. Сестру он как раз ненавидит, сестра лишь мешает, да ничего тут поделать нельзя: сестра — она сестра и есть, и даже по смерти своей сестрою останется… А сестра у него такая, что нужен за ней глаз да глаз. Вот он и следит. Ну просто тенью ходит. Только и он уследить не может, когда она садится в седло и скачет куда-то на жеребце. Тут ему за ней не угнаться…
Она умолкает, решив добить его новой, еще более подлою тишиной. Цоцко облокотился на балку и скрестил ноги, напустив на себя презрительный вид. Он и не замечает, что бычок рядом с ним поднял морду и подозрительно принюхивается, как если бы почуял в воздухе интерес. Тишина висит над ними духом коровьих лепешек и наплывающей из угла темнотой. В хлеву очень тепло. Лицо Цоцко леденеет от пота. В хлеву слишком тепло и тесно от тишины. Ее прорезает звук бьющей струи, и Цоцко невольно отпрыгивает от балки, чтобы не замочить арчит. Бык стоит как ни в чем не бывало, будто бы не имеет к звуку ни малейшего отношения. Сестра ухмыляется и дважды жадно облизывает губы. Лучше бы рассмеялась…
— Если ты не прочь, я пойду, — говорит она. — Конец истории тебе и так известен. Кто-то из двоих должен бы уступить. Оба мы знаем, что случится то не сегодня. Но, как бы нам ни угадывалось, руки свои ты больше не распускай, а то, неровен час, простить я тебя не сумею…
Она уходит. Он стоит, бессильный в своей злобе, и в голове у него проносится листьями вихрь. Покинув хлев, он направляется в конюшню. Собственно, это обычный загон, накрытый тростниковой крышей с двумя кизяковыми стенами по бокам. Третью стену заменяет каменный выступ горы, а четвертую — плетень да подвязанная к нему калитка.
Завидев Цоцко, кони бьют копытами, возбужденно кусают воздух. Подойдя к чубарому жеребцу, он гладит его по шее, треплет по холке, потом встает на колено и подкладывает руку под доверчивое копыто. Достав из кармана отточенный коготь перекушенного щипцами гвоздя, он тщательно пристраивает его сбоку от подковы, осторожно лепит к кости мякишем теплого воска и маскирует прохладной грязью с земли. Жеребец озадаченно нюхает ногу, но разобраться с тем, что Цоцко сотворил, конь не в силах. В темноте глаза человека влажно блестят, и жеребцу становится неспокойно. Чтобы его как-то отвлечь, человек начинает игру. Ничего особенного. Привычная шалость: закрывает руками конские глаза и крепко держит за морду, чтобы не дать жеребцу себя укусить. Конь угрожающе всхрапывает, но обоим понятно, что это всего только шутка. Потом Цоцко дает слизнуть ему с руки овса и быстро уходит. Жеребец пытается его удержать тонким ржаньем, но тщетно. Больше человек не оборачивается. Он словно забыл про коня. Другим теперь занята его голова.
Наутро он отомщен: сестра калечится, упав со споткнувшегося жеребца где-то на склоне горы и едва не скатившись с обрыва. Жеребец сильно хромает. Когда они кое-как добираются обратно домой, Цоцко самолично исследует глубокий порез над копытом. На все расспросы отца Роксана упрямо молчит. Раза два в этот вечер взгляд ее встречается со взглядом Цоцко. Его участие кажется совсем неподдельным. Ей становится страшно. Она понимает, что он победил. Бравада ее бесследно исчезла. Дождавшись, когда он уйдет, она предается слезам. Что теперь будет с ее вечно бегущей дорогой? Неужто ее оборвал сегодня тот склон?.. «Я лучше умру, — твердит Роксана себе, кусая бескровные губы. — Лучше умру, чем признаю его правоту…» Хорошо бы в это поверить. А пока — надо оправиться от непривычного, странного страха и перестать хоть немного дрожать. Зря вчера она вспомнила дочь Даурбека. Нельзя было о ней ему говорить. Теперь не простит.
Она проклинает свое сходство с соседской девчонкой. Оно не столько в лице, сколько в части его — в глазах и губах. Женским чутьем Роксана безошибочно понимает, что Даурбекова дочь столь же отчаянна, неизбежно грешна и ненасытна, как она сама. Достаточно посмотреть на то, как она косится и краснеет, когда Роксана едет верхом мимо их двора. Она тоже из скакунов, и Цоцко о том знает. Только очень надеется ее укротить. Сам, в одиночку. И навсегда. Словно в отместку сестре. Похотливый подлец. Стонет, поди, по ночам и подушку грызет. Ничего. Я придумаю, как его излечить. Он у меня запоет…
Не проходит недели, как Цоцко в самом деле поет. В сущности, вопль его можно песней назвать лишь с натяжкой. Скорее, это похоже на рев норовистого конька, которого скопит нож возмездия, превращая в покладистого мерина. У Цоцко рябит от боли в глазах. Надо ж было такому случиться! Схватившись рукою за пах, он различает сквозь слезы окровавленный гвоздь в коновязи, куда только что сел по привычке, не заметив того, что под балку подложен брусок. Вырвав его, он беспомощно смотрит на кружок просверленной долотом дырки, и крик его, постепенно ссыхаясь, морщится в воздухе болью, превращается в хрип. Широко расставив колени, он неловко торопится в дом, впопыхах на пороге задевает ступней подкравшийся заступ, и тот метко бьет его в самый низ живота, заставляя исторгнуть из глотки очень искренний всхлип. Доковыляв наконец до стены, Цоцко прилипает к ней лбом, шарит в поисках ковша рукой и понимает, что кто-то переставил кадку с водой в дальний угол хадзара. Слава Богу, хоть ковш не тронули с полки, и он не пустой. В нем плещется влага. Цоцко спешит остудить свою боль, делает жадный глоток, и в тот же миг ему в нутро обрушивается громом пламя. Он изрыгает его из ноздрей, плавится нёбом, воет, кружится у кадки юлой, подскакивая и шипя, как юродивый, пока не ныряет туда с головой. Вода рвет ему горло и лениво стекает по пищеводу туда, где горит равнодушный пожар. Цоцко теряет сознание, и время танцует в его забытьи смешными обличьями смерти.
Когда он приходит в себя, над ним хлопочет весь дом. Особенно старательна Роксана. «Это ж надо, — причитает она, — проглотить топленое масло, приготовленное для пирога… Бедный ты, бедный! Неужто тебе не запахло?..» Запахло, вспоминает он, и пахнет до сих пор. Он пропитался запахом масла насквозь. Его сильно тошнит, но если его сейчас вырвет, он непременно умрет. Боль внутри — не передать. Глаза застят слезы. Такое чувство, что душа его распята болью сверху вниз от глотки до желудка, а посреди его плавает мерзкий прогорклый шкварок. Где-то в паху насмешкой пульсирует кровь. Сестра склоняется над ним и тихо шепчет в самые глаза: «Тебе за мной не угнаться. И не надейся». Незаметно для остальных она касается губами его влажного лба, и взгляд ее при этом хохочет. У Цоцко нет ни голоса, ни сил, чтобы ей отвечать.
Выздоровление идет тяжело. Унизительнее всего то, что ей удалось убедить отца лечить его маслом. Облизнуть кусочек губами и потихоньку глотать. Туган ни о чем не расспрашивает, но по глазам его видно, что он в случайность не верит. Чуть ли не месяц кряду Цоцко не может ничего сказать. Первым к нему возвращается шепот. Хуже всех его слышит Роксана. А впрочем, Цоцко к ней и не обращается. Он ее словно не видит. Отец несколько раз в раздражении говорит: «Что-то я не пойму, как тебя нюх хваленый подвел? И чего это вдруг тебя жажда прижала?..» Цоцко пожимает плечами. Отец, без сомнения, чует неладное, но искать причину и он не спешит. Иногда Цоцко кажется, что отец испугался. Поскольку этого не может быть, он просто отбрасывает вывод за ненадобностью.
На работе состояние Цоцко почти никак не отражается. Вообще все идет своим чередом, пока он не пробует заговорить. Голос его изменился. Теперь он старше Цоцко на добрых сто лет. «Зато ты можешь болтать с аулом голосами его мертвецов», — заключает отец и глядит на него с особой суровостью: парню нельзя раскисать.
Парень не раскисает. Он совершенно спокоен. Даже когда сестра подходит к нему совсем близко и задевает его своею косой, на лице его не дрогнет и мускул. По ночам они долго не могут уснуть: мешает возня и грозный вой Тугановой жены. Просто удивительно, что она все так же бесплодна.
Снова приходит весна. Цоцко до нее дотерпел. Роксана — та вовсе весела, беззаботна — ну прямо отрада отцу. Сам он стал огромен, как уаиг[13], больше прежнего сквернословит, но никого, похоже, это уже не коробит. Внуки растут и посмеиваются втихомолку, подглядывая за тем, как после сытного обеда и пары чарок двойной араки старик свирепо храпит на своем топчане. Что-то он в последнее время к выпивке пристрастился, но попробуй, скажи ему что-нибудь!
Туган немного хитрит и для пробы сбывает в соседнем ущелье за сносную цену часть укрытой добычи. Добычи своей, о которой не знает никто. Ему нравится, как по его возвращении улыбается тайно жена. Еще ему нравится смотреть в ее глаза, пытаясь угадать, каким предстает перед ней этот мир и как это ей удается — совместить в себе его раскосый разомкнутый образ.
Но больше всего он любит смотреть на нее, когда она без одежды. По-мальчишески длинные ноги и упругие мышцы на животе. Вместо груди — два выпуклых глаза, таких же раскосых, как те, что на лице. Забавно… Детей она любит, пожалуй, больше даже его самого, про отца же всегда говорит, будто тот во всем прав. Что еще пожелать женатому человеку!
Потом исчезает Цоцко. Нет его целые сутки. Когда он является, в глазах то же, что в голосе. Лучше не связываться. Порой Тугану приходит на ум, что брат покидает себя, когда занят трудом, когда ест, когда слушает или молчит. В Цоцко будто эхо вселилось: совсем его не понять. Будто эхом с тобой разговаривает, а откуда оно, это эхо, исходит, поди разбери…
Той же весной Цоцко женится. Невеста на зависть — Даур-бекова дочь. Аул в толк не возьмет, как такое стало возможно. Роксана так рада, что плачет от счастья, обнимает невестку порывисто, щекоча ей ухо суетой и словами. Та улыбается и мило краснеет. Однако и месяц спустя после свадьбы Цоцко не пускает ее на прогулку с сестрой. Роксана даже пожаловалась было отцу, но тот отмахнулся: «Он ее стреножил, ему и кнутом погонять…» Сам Цоцко говорит: «Держись от нее подальше». Ему достаточно произнести это дважды: один раз — жене, другой — сестре, чтобы вопрос был закрыт навсегда.
Ближе к осени Роксана вновь занеможет. Такое случается с ней не впервой. Только раньше она укрывалась в комнатушке у матери, и кроме них никто туда не допускался. Теперь все изменилось. Бледная как смерть, она идет к Цоцко и говорит: «Я опять наследила. Если не лень, можешь меня пристрелить». На ней лица нет. У Цоцко дрожат желваки. Той же ночью он заставляет жену ночевать у сестры и молчать обо всем, что услышит. Дочь Даурбека нервно ломает руки, облизывает губы и густо краснеет. Она согласна. Однако Цоцко на том не успокаивается. Дальше так продолжаться не может, а потому через пару дней он идет к отцу и долго с ним говорит, заперев дверь на крюк. Несколько раз в хадзаре из-за стены слышится оглушительный смех и долгий кашель отца. Похоже, все улажено без меня, думает Туган, и становится ему немного тоскливо.
Дело не просто улажено, а улажено так, что любая надежда остаться здесь испаряется вместе с росой. Не успеет солнце отогреть макушку горы, как отец призывает к себе обоих сынов, внуков, невесток и бледную дочь, чтоб сказать им:
— Что-то мы засиделись. Пора снова в дорогу. Тем паче что выхода и нет: Цоцко изменил уговор, и теперь заместо калыма нам придется отдать этот дом. Собирайте пожитки…
Весь день вплоть до вечера супруга Тугана шепчет под нос, что старец, конечно же, прав, надобно, мол, не роптать, надо слушаться, но в раскосых глазах ее муж замечает растерянность. Как если б впервые за все эти годы мир отказался сложиться под взглядом ее воедино и, разломленный надвое, искромсал ей разломом лицо. Стиснув зубы, Туган отгоняет неприятную мысль, что жена его как-то вмиг подурнела и стала похожа на пожилую батрачку с глуповатой ухмылкой подстать своим перессорившимся глазам. Отогнав эту мысль, он начинает размышлять про то, как лучше спрятать в обозе их потайные припасы, чтобы ни брат, ни отец, ни невестка не смогли ничего заподозрить. Вот так задача. Не позавидуешь сегодня Тугану. Впрочем, у него, слава Богу, своя голова на плечах, так что решение приходит не то чтобы быстро, но вовремя: он прикажет жене вшить добро в холщовые пояса, а потом преспокойно повяжет их ей же на грудь. По ее худобе никто не заметит…
Никто и не замечает. Едва тронувшись в путь, обоз возвращает им первозданность почти позабытой мелодии — мелодии тряской дороги, которая для них (теперь это постигает каждый из мужчин, не говоря уже о едущей рядом с ними верхом бледной женщине) никогда и не умирала. Она лишь притихла на десять лет, чтобы дать им возможность проверить себя в бездорожье и памяти. Но теперь все в порядке, и даже Туган разрумянился, словно выпил вина. Они покидают аул под тяжелые взгляды тех, кто, живя с ними обок, ничего про них, по сути, не знал. Несколько раз, еще прежде, чем достигнут они перевала, жена Цоцко громко прыскает, не в силах сдержаться от смеха — верно, вспомнила нарисованного осла на стене. Цоцко остается невозмутим, словно не сам озорство то придумал. Ни он, ни Туган не признаются даже и взглядом, что сегодня каждый из них, но сам по себе, убегал на погост попрощаться. Старший брат положил на могилки еловые ветви. Получилось красиво. Младший явился чуть позже, постоял, помолчал. Потом развернулся на пятках и двинулся в дом. Теперь дома нет. Дома нет, потому как он больше не нужен. Отец бы сказал: скорлупа. Так и есть. А дорога — дорога живая…
Она петляет по горам, прячется в скалах, играет в прятки с рекой, забирается выше и выше. Четверо всадников, жалея коней, переходят на медленный шаг. Обоз тянется в гору, на которой серой лепешкой висит пятнистое облако. При виде его всем становится холодней. Жена Тугана плотнее укутывает в бурку пасынков. Похоже, они задремали. Дорога ее угнетает. Тряский путь укачивает, от дороги она устает. Веки ее смыкаются, только локти крепко прижаты к бокам, будто боятся их потерять. Не успела она погрузиться в неспелую дрему, как малыш Казгери, спрыгнув с повозки, стремглав бежит по обочине. Он бежит на кривых голенастых ногах, заливаясь счастливым смехом, и оставляет позади себя сначала буйвола, потом второго, потом одного за другим высоченных коней: отцова, дедова, Цоцко, — но долго не может догнать оторвавшуюся от обоза Роксану. Запыхавшись, он все же хватает за хвост ее жеребца и громко хохочет. Осадив коня, тетя дает ему руку, подсаживает на круп перед собой и прижимает к груди. Она тоже смеется, но как-то не так. От ее гладкой щеки над его затылком исходит сильный жар. Руки на поводе мелко дрожат. Казгери оборачивается и внимательно смотрит Роксане в лицо.
— Тс-с, — произносит она. — Мы никому ничего не расскажем.
— У тебя что-то болит? — любопытствует он.
— Вовсе нет. Я притворяюсь.
— Перед кем?
— Перед дядей Цоцко. Такая у нас с ним забава.
— Игра значит?
— Можно сказать, что игра.
— И кто побеждает?
— Пока неизвестно. Но выиграет тот, кто не сдастся сейчас… Казгери озадачен. Он дергает плечом и ерзает, хочет что-то спросить, но Роксана его отвлекает. Она принимается колоть ему ногтями бока и тыкать пальцами в ребра. Его врожденная смешливость отвечает ей тут же заливчатым хохотом. Нет, что ни говори, а дорога — веселое дело, живое…
XVIII
Но потом наступает привал. Он длится недолго. Везде и всегда дорога берет свое. Она стелется перед ними два месяца, до декабря. Зимовать им приходится где-то в Кобани. Хороший лес, хорошая река, и даже мало снега.
А в марте Цоцко становится отцом. Конечно, мальчик, кто ж еще! До следующего — меньше года. Оба младенца крепки и здоровы. У обоих на левой коленке одно и то же пятно. Дед их доволен: не остались без метки, стало быть, не пропадут, наша кровь…
В отличие от Даурбековой дочки, жена Тугана все так же бесплодна, но, похоже, и сама уж привыкла к тому, что ей не рожать. Она только ждет, когда они где-то осядут и, как прежде, примутся жить-поживать. Однако старик никак не пристроится замыслом ни к какому селу: ему скучно. Все аулы как на подбор: неприветливы, хмуры и жалки. Так, разве что чем поживиться, а вот чтобы пустить опять корни — нет, не то. Но его терпение тоже не вечно. Да и месить весеннюю грязь удовольствия мало. К тому же — младенцы… Цоцко, конечно, не ропщет, но иногда дольше обычного застывает глазами на отцовом лице. Уж что он там думает, Сырдон[14] — и тот бы не разобрал.
Дорога стелется дальше и дальше, оставляя на лицах мужей паутинки морщин. Они все едут и едут, а куда — никому невдомек. Как и раньше, причина — в отце. Он все чаще забывается мыслями, начинает трудно дышать. Чувство такое, будто у него клокочет пеной теснина в груди. Будто что-то стискивает сердце ему невнятной заботой. Будто без этой постылой дороги ему несвободно до духоты. Однако и она, дорога, не слишком уже помогает: он становится раздражительней, злее. Жизнь уже показала ему куцый хвост, и он торопится с ней рассчитаться. Сделать это непросто: теперь жизнь должна ему ясный ум, утраченное здоровье, истаявшие силы и ускользнувшую молодость. Как их забрать — вот вопрос!
Иногда в нем обрывом просыпается его жена. Он падает к ней сквозь узкую щель угасающей памяти, упрекает, ругается, плачет, угрожает кнутом, но вдруг обнаруживает, что ее рядом нет, и смущенно, по-старчески, шамкает ртом в пустоту. Наверно, он думает, что торгуется с пустотою словами.
На вид отец все так же громаден и грозен, но вот внутри одряхлел. Однако назвать его слабоумным никто не рискнет — не то что вслух, про себя даже. Порой в нем бурлит, как прежде, потоком кипучая мысль. Случается, отец набредает в своих уводящих скитаниях на себя самого и произносит такое, что у всех дух захватывает: «Помню, однажды мальчишкой к заводи вышел, а в ней звезд насыпано — уйма. Стал пить — они прочь покатились. Тогда я в первый раз понял, что небо — сплошной обман. С того дня и задумал его проучить. Долго думал, почти до мозоли на лбу. Потом дождался беззвездной ночи, выбрался из дому, к заводи побежал и смотрю. А она — никакая. Сырое пятно у ручья, да и все. Только луна бельмом поверху плавает. Взял я тогда и полил ее сверху растопленным жиром. То-то она засверкала! Тысячи звезд мальками зашастали, искрами затолкались — похлеще небесных обманщиков. Я в ладошку собрал себе полную пригоршню, языком их слизнул и домой воротился. Так вот оно с той поры и выходит: коли хочешь звезду ощупать на вкус, сам ее перед тем и зажги. Иначе ни с чем останешься…»
Отец, конечно, любого может еще поучить, но — уже не всегда. А потому Туган говорит:
— Неужто на всей земле уголка не сыскать, где бы можно было четыре стены возвести, пламя меж ними разжечь и погреться? Чего ему надобно?
Цоцко пожимает плечами:
— Этого нам не понять. Одно ясно: скорлупа ему не нужна. И уже про себя договаривает: «Боится не выбраться. Старый стал. Изведет теперь нас капризами».
Время плетется за ними услужливым псом и все к чему-то принюхивается. Только Роксана, как будто его и не замечает: ей уже двадцать четыре, а по виду не скажешь. Словно годы ее вовсе не задевают. Так, — прольются дождем и тут же подсохнут у нее на лице первым ветром. Даже супруга Цоцко выглядит нынче постарше. Оно и понятно: роды никого моложе не делают. А приглядишься к ней повнимательней — кажется, будто опять вызревает. Вот ведь как. Плодится, что кошка… У Тугана челюсти сводит от зависти. Хотя, если правду сказать, он должен быть благодарен за то, что его жена скудна чревом: брюхатой ей бы столько дороги не вынести. Живут они душа в душу. Только свекор иной раз обидно пошутит. Отгадайте, дескать, загадку: пила бревно пилит, визжит, а кругляк напилить не сподобится…
А так — вообще все пригоже и правильно. Снохи дружат между собой. Роксана им не препятствует. Она любит возиться дни напролет с малышами Цоцко. Сам он при этом хмурится, однако молчит. За семейными хлопотами сестра его реже охотится. Зато в меткости может посостязаться теперь не только с ним, но и со старшим, с Туганом. Иногда, правда, с ней происходят и странные вещи: уединившись в лесу, она долго сидит у ручья, расстегнувши ворот на платье и обхватив руками тяжелую голову. Если за ней подсмотреть в такие минуты, может почудиться, что она или спит, или плачет. Но это не так. Она просто слушает чистую воду и безропотно ждет. Быть может, ждет какой-то подсказки от жизни, но, похоже, уходит ни с чем. Зато со здоровьем теперь все в порядке: дорога ее исцеляет надежнее снадобья. Кому только в радость лечиться тогда, когда недуга уж нет и в помине?..
Итак, дочь Даурбека опять готова рожать: опухла с лихвой, даже больше обычного. Цоцко беспокоится. Нужно что-то предпринимать.
Помогает, как водится, случай. Раз, снявшись с очередного двора, они долго, занудливо едут под крапом дождя по извиву Дарьяла. Заночевав на перешейке горы, встречают озябшее утро, обнаружив, что кем-то ограблены. Пока они спали, этот кто-то стащил пару сырных кругов и отсыпал муки из мешка — вон и дырка! Потеря, конечно, невелика, но с непривычки они никак не оправятся от удивления.
— До аула ближайшего восемь с четвертью верст, — говорит отец, оживившись. — Стало быть, все еще здесь он. Вор где-то поблизости. Бьюсь об заклад, за нами следит. Хорошо бы, как тронемся, у поворота приманку забросить.
Сыновья кивают и собираются в путь. Все подводы погружены, ремни затянуты, скотина и овцы пропускаются мудро вперед. Обоз трогает с места, идет сквозь туман. Замыкает его увечная скрипом арба. Как и условились, на повороте борт ее накреняется, и с него падает вниз небольшой холщовый мешок. Обоз потери не замечает. Вот он исчез за соседней горой, слышится лишь стук колес по дороге да блеянье. Спустя минуту-другую кто-то тихо спускается турьей тропой со скалы и бежит к нежданной добыче. Вот так удача: мешок почти вполовину наполнен сухими лепешками. Однако унести их преступник не успевает: его поджидают в засаде два небритых жестоких лица. Вскрик, возня, испуганный плач. Сопротивление бесполезно, все закончено очень быстро. Воришкой оказывается женщина лет тридцати с небольшим. От страха она заикается. Братья дают волю рукам, но, обыскав ее, ничего не находят. Соблюдая строгую очередь, они бьют ее по лицу, заставляя признаться, потом вместе с ней поднимаются к маленькой складке в горе, где спрятаны сыр и мука. Цоцко говорит:
— Теперь мы проверим, что ты хоронишь под юбкой. Туган ухмыляется, грубо мнет ее грудь.
— Погодите, — умоляет их женщина. — Не творите мне зла. Не то себя я при вас и убью.
— А вот и проверим…
В четыре руки они принимаются срывать с незнакомки одежду, но потом останавливаются: женщина закатила глаза и не дышит, уронив голову вбок. Им приходит на ум, что она умерла.
— Ну и дела, — выдыхает Туган. — Пойдем-ка отсюда. Цоцко не нужно второй раз повторять. Затолкав кое-как сыр в мешок, они торопятся вон из пещерки. Бездыханная, незнакомка лежит, распростершись в холодной тени.
— Ну и сука, скажу я тебе, ну и дела, — произносит Цоцко, когда они снова стоят на дороге. — Кто ж мог знать…
Туган долго сморкается, будто поймал в нос жука, и молчит. Да и что тут ответишь! Убить человека всегда нелегко. Особенно если убивать его ты не собирался.
Идут быстро, почти уже минуют поворот, когда сверху доносится крик:
— Эй вы! Верните хоть сыр…
В самом деле — она. Надо же! Так попасться ей на крючок, да еще вдвоем сразу… Вот так бестия! Рассчитала до мелочей: захотят догонять — взбежит на пригорок и тут же укроется в чаще, а с миром уйдут — как себе такое простить?..
— Жаль, винтовку не захватил, — цедит сквозь зубы Туган. А Цоцко только щурится, хоть солнца нет и в помине.
— Послушай, — кричит, — отчего бы тебе с нами дальше не двинуться? Спускайся, поговорим…
Она сгибает в локте руку и, похоже, высовывает наружу язык.
— Нашел дурочку! Оставь мешок и иди себе прочь. Не то потороплю.
В подтверждение слов она достает из-за камня двустволку, вскидывает к щеке приклад и тщательно целится. Цоцко дрожит кадыком, Туган только ежится.
— Хорошо, — кричит младший брат. — Покажи свою меткость.
Не успевает он развернуться, как вразлет по ущелью катится выстрел. Мешок пробит насквозь. Из него струйкой сочится мука. Туган чертыхается. Цоцко не отводит глаз от отверстия, хочет было заткнуть его пальцем, но передумывает и опускает наземь мешок.
— Ладно, — говорит он, кивнув головой. — Убедила. Попробуем снова. Пока поостынь, а захочешь опять встретиться — отыщешь нас с другого бока горы.
— На хрена с нею связываться? — недоумевает Туган, когда они идут налегке по шуршащей дороге. — Тебе что, в мешке дырки мало? Хочешь еще и в папахе дыру заиметь?
— Да нет, ничего, — отвечает Цоцко. — Просто подумал, что дикая кошка лучше царапается…
Разъяснять свою мысль он не хочет. И хорошо: что бы он там про себя ни решил, все не так обернулось. Совершенно иначе.
Вышло так, что она заменила отцу их ушедшую мать. Для этого многого ей не потребовалось: забота да нежность. Обманула дорога. Кто ж мог подумать…
Так и вышло: Дзака разрешили прибиться к обозу, а она прибилась к семье. Чудеса да и только. Две недели — а все изменилось. Отец приосанился, помолодел, снова черен бровями и рокочет день напролет, упиваясь и властью и силой. Сыновья же, напротив, унылы и ходят с опухшими веками, как от бессонницы. Немудрено! Цоцко Дзака ненавидит. Туган старается не замечать, а снохи — те давятся злобой, когда она хлопочет по хозяйству на правах новой афсин и смеет указывать, что им делать и как. Жена Тугана еще больше ссутулилась и отощала. Она прячет свой взгляд и непрерывно что-то бормочет. Никому, правда, до ее бормотанья нет дела. По ночам же ее почти и не слышно. Только и это мало кого занимает. На подобные мелочи попросту времени нет: «Мужчина желает того, Мужчина требует этого, мне нужно Мужчине подать, как бы Мужчина не рассердился…» — вот что слышат они день за днем много раз, изнывая от злобы. Ну и женщина! Сатана — и тот остерегся б с такою шутить. Отца она прямо приворожила, в том нет ни малейших сомнений. «Женщина!» — гремит его грозный призыв, и угрюмые снохи распознают в нем свирепую силу самца. Что до сынов — те лишь тушуются и вбирают головы в плечи. Вот ведь как!..
Забыв о возрасте, старик ведет себя непристойно, но сам того не замечает. «Женщина!» — зовет он Дзака, и в его голосе слышится им громкая, сытая гордость. Она звучит как пощечина, полученная каждым из них от новой свекрови и мачехи. С этим мириться нельзя. Но как же им не смириться?..
«Женщина!» — кричит отец, и жену Даурбека мутит, потому что ей снова нужно разрешиться от бремени, а рожать ей не хочется: разве трех сыновей не достаточно?.. Однако причина, конечно, в другом: ей очень страшно. Она боится Цоцко. Чутье ей подсказывает: будет беда. С Дзака ему в одиночку не справиться, только он все равно не утерпит… Туган ему здесь не помощник: кишка тонка. Да и Цоцко с ним ничем не поделится, даже если придумает, как ее приструнить.
А он думает. Думает только об этом. Неужто нет на свете хитрости хитрее хитрой женщины? Не может быть такого. Если хочешь быть богом, надо помнить о том, что других богов нет. Стоило вспомнить про это отцу — и он снова стал исполином. Дзака ему в том помогла. Про нее им известно лишь то, что она сама рассказала. Что там правда, что — ложь, им пока не узнать. Говорит, что ушла от погони. Дескать, мужа убили абреки. Напали в дороге, когда он, она и сынок возвращались домой из дзуара, святилища, где дары подносили за то, что в семье их давно уже лад и достаток. Выходит, сами беду и накликали. Абреков[15] напало с десяток. Муж, однако, был не из робких: разговаривал дерзко, — так, будто не о трех жизнях разом заботился, а о том лишь, чтоб честь свою не уронить. Постепенно те распалялись и ссорились. Не успел он кинжал свой достать, как вожак его пристрелил, вогнав пулю в лоб, как в полено. Сыну было двенадцать. Вроде не мальчик уже, но и явно не муж. Он крикнул, метнулся, выхватил из материнских волос костяную заколку и бросился на вожака. Целил в шею, но тот увернулся. А потом привязал его вожжей к подводе, распряг их коня, пустил тут же на склон, попастись, а мальчишке в рот сунул удила, приказав одному из абреков покрепче держать за узду. Потом все и вовсе пошло кувырком: отцепив от брички одно колесо, они покатили его к каменистой скале, прислонили к ней и приладили женщину сверху. Но попользовались ею не все: у двух или трех не хватило на это задору — после того, как вволю наслушались, как вопит ее сын. Отвернуться или хотя бы опустить ниже голову его не пускала узда. От отвращения Дзака почти ничего и не чувствовала, кроме тупой боли там, где прежде, прижатая ужасом к сердцу, трепыхалась птицей душа. Она все глядела на сына и не могла отвести своих глаз. Потом вожак притомился им мстить и приказал остальным собираться. Она все так же смотрела сыну в глаза и понимала о нем, что ему теперь лучше не жить, только вместе с тем думала, как его ей спасти, а потому постаралась уговорить его взглядом смилостивится над нею и не покидать. Муж валялся в подводе ненужным мешком, раскинув в стороны руки, лицо его оставалось повернутым прочь. Дзака говорит, что не сразу припомнила, кто там такой, когда отвернулась сама, чтобы не видеть, как абрек, державший узду и подаривший черед свой другому, приткнул дуло винтовки к виску ее сына и взвел тихий курок. Раздался выстрел, и ей сделалось легче, потому что теперь она могла никого не стыдиться и умереть. Однако вожак решил по-другому. Он приказал ее развязать и даже не трогать кобылу с повозкой. Они сами вырыли яму и скатили в нее мертвецов. Потом присыпали грунтом и предложили Дзака отправляться за ними туда, где всем на все наплевать. Она отказалась. Абреков она презирала: за излишней грубостью и бравадой скрывалось трусоватое смущение. Когда они уехали, она пригладила могилку, обняла ее и заснула, не заметив, как подступила ночь. В темноте ей вдруг сделалось страшно, как будто за нею, незрячей во мгле, следит сотней глаз заставший ее врасплох и почерневший стремительно мир, так что от страха она не могла пальцем пошевелить, не говоря уже о том, чтобы броситься в пропасть и покончить с собой. Потом ночь прошла, и она поняла, что зевает. Ей сделалось жутко при мысли о том, что она может спокойно зевать, когда в двух шагах от нее под землею томятся тела ее мужа и сына. Она растерялась. Рядом стояла кобыла с повозкой, которой абреки, прежде чем ускакать, вернули на ось колесо. В пыли под копытами валялась ее костяная заколка. Поправив волосы, Дзака вдела ее в косу, повязала платком, напилась воды из издохшего в прель бурдюка и уселась в подводу. Что-то твердое уткнулось ей снизу в бедро. Откинув солому, она разглядела кривой пистолет с длинным дулом, который ей откуда-то был точно знаком. Когда она наконец поняла, что это тот самый, что торчал из-за пояса застрелившего сына абрека, в груди у нее что-то всхлипнуло и порвалось. Отрыдавшись, Дзака взнуздала кобылу, укрыла повозку в лесу, а сама, отметив крестом перевязанных веток взгорок свежей земли, помчалась по следу убийц.
«Человек никогда не знает, ради чего живет, но еще меньше понимает, во имя чего он не умирает», — сказала она им в тот вечер, когда спустилась к обозу и попросила поесть. О том, что какой-нибудь час назад она познакомилась с Цоцко и Туганом, Дзака не обмолвилась словом. Так она дала им понять, что готова принять их в сообщники. Наряду с ее меткостью, подобная хитрость заставляла поверить их в то, что в здравом уме за правду принять можно было только с натяжкой. Но рассказ их потряс. Особенно пронял старика. Впервые в жизни они увидели, как тот прослезился. Не скрывая подробностей, она поведала им, как два с лишним года была занята одной только местью, подстерегая абреков что в дождь, что в снег в семи разных ущельях (включая два в Грузии и одно в Кабарде), пока не расправилась с каждым из тех, кто над ней надругался. Она сыпала их имена, загибала пальцы в счете, а на лице ее играла задумчивая улыбка, пока она вспоминала, как отстреливала их одного за другим, добывая тем самым оружие и порох для следующего. «Двоих я оставила, — сказала она. — Вожака и того, кто убил мне сынка. Я вдруг поняла, что лучше пули изведут их кошмары и страх. А убью их тогда, когда смогу сжалиться. Видит Бог, случится это не скоро…» По глазам отца они поняли, что он наконец повстречал свою тень — тень не плоти его, а души, — и была она в женском обличье. Рассказ его не только растрогал, но и странным образом возбудил. Поначалу он просто не захотел ее отпускать, — так ему было с ней интересно. Потом он увлекся, рискнул, дал себе волю и неожиданно встретил согласие… В нем так взыграло его естество, что он позабыл о годах и приличии. Впрочем, о приличиях он и прежде не слишком заботился. Но то, что происходило сейчас на глазах у целого рода, было вызовом. Отныне старик пренебрег куда большим, чем почтенье семьи или сыновья крепкая преданность: он дал им повод понять, что бог, которому, как похотливому жеребцу, попадает вожжа вдруг под хвост, уже и не бог вовсе, а старый развратник. С того дня, как Дзака приворотила его своею бедой, своим мстительным нравом, а вскоре — и женской покорностью, отец растерял все былое величие. Отныне у него, этого ожившего доблестью и громогласного исполина, появилась тень за спиной, и была эта тень в женском платье и с длинной косой…
Цоцко эти волосы сводили с ума. Стоило Дзака отправиться к ручью и распустить их по плечам густой лавой неги, как он начинал испытывать душное, упругое, головокружительное ощущение, похожее на дурманящее ноздри сладострастие исходящей трепетом ненависти. Насытить ее могло не мгновенное обладание, а власть. Полная, медлительная власть над существом, совратившим его отца и унизившим его самого долгим бессильем. Подарить эту власть могло только знание. Он добывал его по крупицам пять месяцев, а когда наконец добыл, вышел из своего укрытия и сел на корточки у нее за спиной. Следить, предвкушая победу, за моющей голову мачехой было куда занятнее, чем когда-то давно безнадежно следить за купающейся в корыте сестрой.
Покончив с волосами, Дзака встряхнула головой, подвязала их платком на макушке, встала с колен, ополоснула голые ступни в воде, надела арчита и разом застыла, вдруг осознав, что она у ручья не одна. Дзака не сразу обернулась, стараясь совладать с волнением, и Цоцко с одобрением оценил ее волю, наблюдая, как вздымаются гордым дыханием ее сильные плечи. Потом она повернулась к нему, проглотила вскрик, овладела собой и сложила руки под грудью, тем самым показывая, что начинать разговор придется ему. Он и начал:
— Отгадай, почему на лису капкан ставят? Да ты знаешь. Еще б тебе не знать!.. Аиса-то лукава, думает, всех кругом обхитрить ей — раз плюнуть, достаточно только хвостом повилять да след замести, но умелый охотник про себя лишь тихо посмеивается и не ленится обождать. Бывает, она мелькнет в кустах совсем близко, а он все равно не стреляет — чтобы мех, не дай Бог, не попортить. Больно у нее он хорош. А хвост — тот просто загляденье. Вот как твоя коса. Всего-то и разницы, что у лисы хвост — золото, а коса твоя — бронза. Зато когда лиса в капкан попадает, охотнику только и остается, что петлю ей набросить на пасть, а потом — делай с ней что ты хошь. Хоть пушистым хвостом сапоги протирай… — Он делает паузу, ухмыляется, потом вмиг леденеет зрачком и говорит металлическим голосом: — Ну-ка поди сюда, мать.
Она в замешательстве. Как же она не похожа на ту Дзака, что предстала пред ним минуту назад! Обозленная своим мимолетным страхом, та была полна ярости и смотрела рассерженной самкой, готовой биться с ним в кровь. А эта — эта просто жалка. Она вся дрожит и кривит рот, пытаясь сохранить улыбкой лицо, которое сбегает от нее куда-то прочь, словно прячась от объявшего ее позора. Цоцко наслаждается ее покорностью точь-в-точь так, как мечтал. Он жестом приказывает ей сесть на землю и, когда она повинуется, срывает с нее платок и выставляет вперед свою ногу. Где-то что-то когда-то он слышал такое про Бога. Не помнит, правда, про какого из них. Но сегодня их точно здесь нет. Никого из богов, кроме разве его самого. Цоцко торжествует. Дзака неслышно плачет и безропотно отирает влажными волосами его грязные сапоги. Она знает, что этим все не закончится, а Цоцко точно знает, что она знает, что этим у них не закончится ни за что. Только он кое-что приготовил.
— Довольно, — отстраняет брезгливо коленом ей голову. — Поскольку мне ты вроде как мачеха, я не могу тебя взять. Хотя оно, может, было б тебе очень даже по нраву… Но пока ты мне мачеха, я почти тебе сын, так что ты не надейся. А надейся-ка лучше на то, что, пока ты мне мачеха, я, быть может, смолчу. Так что просто старайся быть мачехой да веди себя поскромней. Замени нам ушедшую мать. Докажи, что нас любишь. Кое-кто сомневается, а ты докажи. Для начала внуши ты отцу, что пора нам иметь свои стены. А потом знай себе береги старика и слушайся сердца. Оно у тебя, чай, не глупое… Да еще вот бесплатный совет: размышляй о мышах. Они ведь какие? Живут себе и живут. Уж сколько их ни изводят — все без толку. Просто они очень умные, очень серые и все время в тени. Серый цвет — он хороший. Тебе подойдет. Станешь серой — может, я тебя не всегда и примечу. Выходит, не сразу и вспомню, кто ты там есть. Поняла?..
Она кивает. Ее бьет такая дрожь, что Цоцко противно смотреть. Заикаясь от слез и рыданий, она предлагает:
— Если хочешь, я просто уйду…
Он удивленно вскидывает бровь, стискивает зубы, надувает рот и тужится, но все же не выдерживает и хохочет. Победа полная. Полнее не бывает. До Роксаны ей далеко. Вот что значит кровь… А Дзака он так говорит:
— Э-э, нет. С этим мы подождем. Посидишь покуда в капкане, а я помолчу. Главное — отца береги. Ты, конечно, нам мачеха и все такое, только, сдается мне, мачеха нам ты до тех только пор, пока он тебе муж и живой… Сама делай выводы.
Той же ночью Цоцко истязает жену голодными ласками. Она по опыту знает, что таким он бывает, когда победил. Утихомирится он лишь к утру, а дочь Даурбека тоскливо признает, что ей все равно ведь рожать. «Он так со мной обращается, будто я какой-то колодец, — размышляет она. — Будто из камня и износу мне нет…» С этой мыслью она засыпает.
Роксана не спит. Не дает ей покоя Дзака. Сегодня та была сама не своя. Вспомнить хотя бы, как она испугалась и вздрогнула, когда призвал ее к себе отец. Что-то с ней сегодня случилось, чего Роксана не знает, что пришло к ним извне. Чаще других в эти месяцы отлучался Цоцко. Брат явно что-то замышлял. Иногда он оставлял обоз на неделю-другую, договорившись с домочадцами найти их позже в таком-то ауле. Но, возвращаясь, вел себя так, словно чего-то опять не успел. В последний раз он воротился три дня назад, и вид у него был такой, будто он ночевал перед тем в сундуке с золотыми монетами, а уже поутру тот сундук потерял. Давно такого с ним не бывало. Роксана не знает что думать.
Туган ни о чем таком даже не думает. Им овладела нудная вялость всех чувств, когда кажется, будто жизнь — это плот, который несется по бурной реке к неведомой цели, а сам ты сидишь на холодной земле и лениво вдыхаешь запах подгнившей травы с постылого берега. В последнее время Тугана не покидает ощущение, что сам он тоже бесплоден. Как если бы подхватил эту заразу от своей непутевой жены. Ему и впрямь не хочется ничего. Разве что ни о чем таком сегодня не думать. А потому он не думает, тупо глядя в рассвет и слушая ржанье коней, которых вскоре пора вести к водопою.
Слаще других спит в эту ночь Казгери. Накануне ему удалось обыграть брата в альчики, влезть на скалу, помочиться с обрыва на речку и безнаказанно надергать конского волоса с гривы впряженной в бричку кобылы. Еще он успел разжиться порохом у Цоцко и продать ему за три газыря небольшую и давнюю быль, случайно подслушанную месяц назад в ущелье под Алагиром. Казгери услышал ее — да забыл. А вчера вот вдруг вспомнил, подумал, прикинул, обмозговал хорошенько, подложил под нее подходящие торгу слова и пошел предлагать ее дяде. Тот прямо ахнул, когда услыхал. Чуть в позвоночнике не переломился. Занервничал так, что и торговаться не стал. Такие вот чудеса… Цоцко обменял ее на порох, газыри и уговор, что сам Казгери сей же час ее напрочь забудет. Конечно, он обещал! Забыть ему проще простого. А вот когда она заново вспомнится — от него и не очень зависит. Сдается Казгери, что коли ее можно будет вторично кому-то продать — она себя ждать не заставит. Только он-то тут при чем, когда это приключается без его ведома, как бы само собой?..
Не проходит и месяца, как они разбиваются лагерем на подступах к укромному аулу в предгорье. Имя аула ничего им не говорит: Развязка. Действительно, село расположено на перекрестье дорог, одна из которых ныряет в ущелье, чтобы следовать за рекой, а другая торопится ввысь, теряясь меж скал и лесов в массиве огромной горы, за которой — великая бездна. В бездне бушует поток. Это Ардон, Бешеная Река, знакомая им с той поры, как была жива мать. Поглядеть аул изнутри отправляют Цоцко с Казгери. Когда они возвращаются, Дзака украдкой ловит взгляд пасынка, пока тот сообщает отцу, что удалось им разведать. Встретившись с глазами Дзака, Цоцко незаметно кивает.
Ближе к вечеру, оставшись в повозке наедине с грозным мужем, Дзака говорит:
— Хочу, чтоб ты знал: во мне бродит твой сок.
Старик сидит, отвесив челюсть, и в мутных глазах его сквозь влажную желтизну она узнает страх и сомнение.
— Неужто ты удивлен? Удивлен тем, что мужчина?..
Она умеет с ним говорить. А он никак не научится ей не поверить.
— Я просто не думал, — он вроде оправдывается и прячет глаза. На какое-то мгновение ей кажется, что старость в нем сейчас свернет его в клубок, съежит стручком и швырнет ей большой куклой под ноги. — Я как-то давно уже не…
Нужного слова он не находит. Она говорит:
— Не ты ли делил со мной ложе шесть месяцев кряду? Не тебя ли я ублажала почти всякую ночь? Не твой ли рог засыпал в моем логовище? Чего ж ты тогда от себя ожидал?..
Он сражен наповал. Он истерзан и счастлив. Он стал очень стар, но молод настолько, что сумел породить еще одну жизнь.
Кто-кто, а женщина эта не станет обманывать. Уж если она рассказала такое, от чего любая другая сгорела бы со стыда, — нет, Дзака говорит ему чистую правду…
Она в самом деле не врет. Пусть эта правда будет ее ответом Цоцко, Отныне ему ею не помыкать: она носит в себе его сводного брата… Теперь они квиты. Он будет молчать и молчать.
— Я так рад… Наконец-то, — произносит старик. — Еще бы!.. Конечно… Я верил, что так и случится…
— Вот и славно, — с облегченьем вздыхает Дзака, берет в свои ладони его голову и ласково кладет к себе на грудь. Такое она себе позволяет впервые. Впрочем, с этого дня она себе и не такое позволит.
— Нам нужен свой дом. Свои нары. Люлька своя и очаг. Я давно об этом мечтаю…
Она опять почти не врет. Стройка заканчивается к самой Пасхе. В семействе двойная радость: по весне жена Цоцко и Дзака — обе ждут прибавления. Роксана не играет больше с детьми. Наверное, те чересчур подросли, а может, ей сделалось скучно. Ей почти двадцать шесть. Хотя нет, должно быть, поболе. Но возраст, как прежде, обходит ее стороной: все та же девчонка-подросток с большими глазами, большими губами цвета кизиловой ягоды и легкой поступью скакуна. Ее снова манит дорога. Тем паче что вскоре рождается у нее не брат, а сестра.
От бремени Дзака разрешается на две недели раньше снохи. У той опять мальчик, четвертый. Но дело не в нем. Дело в том, что Роксана больше отцу не нужна. Она это чувствует кожей, особенно когда склоняется над люлькой и гладит пальцами пухлое тельце с родимым пятном между ног. У нее такое чувство, словно это она наследила здесь черной слезой. Девочку звать Ацырухс[16]. В самом деле она будто соткана вся из солнца и света. В ней их больше, чем в небе или луне.
Цоцко пытается жить безразличьем наружу. Дзака не дает покоя унылая мысль, что он далеко не повержен. Цоцко ведет себя так, будто ничего непредвиденного не произошло. Напротив, все идет так, как должно. Идет себе и идет, чего там такого?..
Как-то раз он, нарочно нетрезвый, позволяет себе ввалиться на женскую половину, когда кроме мачехи там и нет никого. Дзака кормит дочь грудью. Не сказав ей ни слова, он берет ее волосы в руку, нахально заглядывает в лицо, а другой рукой шарит незряче в открытом разрезе, больно сжимает выловленный оттуда сосок. Дохнув на нее перегаром, поднимает ладонь, нюхает белую каплю, задрав голову, ловит каплю себе на язык и с издевательским чавканьем пробует молоко на вкус. Потом удовлетворенно кивает, но, прежде чем выскользнуть за порог, неожиданно бьет наотмашь мачеху по лицу. Вот и вся его месть. А больше — ничего, словно все прощено и забыто.
Но спустя ровно год, в такой же почти гладкий день, мальчик его умирает от кори, заразившись от дочки Дзака. Сама Ацырухс поправляется. Жена Цоцко сереет лицом и глохнет от горя. По ночам она громко беседует, проклиная весь дом и Дзака. Цоцко пытается ее утихомирить руками и ласками, веревкой, потом кнутом, но даже к боли она безучастна. У него ничего не выходит.
— Оставь, — говорит отец. — Время ее образумит. А на крики ее я и Женщина не обращаем внимания. Пусть ее говорит и ругается… Это пройдет.
Цоцко безучастно кивает. Той же ночью к нему приходит Дзака. Жена ее даже не замечает. Дзака настолько безумна, что остается в комнате с ним до рассвета. Уходя, она плачет. У Цоцко горько во рту, словно он жевал гребень. Чтобы не повторилось, на какое-то время он переходит спать к сыновьям. Дзака его ненавидит. Они снова враги. «Ну и черт с ней, — думает он, — черт с ней и с Роксаной…» Нет, неправда, он никогда ее не хотел. Ни одну, ни вторую. Та всегда была для него лишь сестрой.
Роксана страдает. Она будто ревнует отца к белокурой малютке, которую сама же и боготворит. Все это так глупо, что она переносит свой гнев на Дзака. Несколько раз они нехорошо, подло ссорятся. У Роксаны такое чувство, будто та ревнует не меньше ее. Разве возможна такая вот ерунда?..
Иногда ей хочется стать некрасивой и старой, и сидеть на лавке у теплой печи, сложив на дряблых коленях коричневые морщинистые руки. Ей хочется, чтобы умерла ее плоть. Какое счастье, должно бьггь, сжав бедра, обнаружить в своем средоточье лишь кисть сухого укропа, закрывшего промежность мягко-мертвым пучком!.. У нее же внутри по-прежнему жар. Все те же беда и томленье… «Я никому не нужна», — в тысячный раз в этот день привычно и скоро размышляет она, облизнув горячие губы, и уже точно знает, что ей опять не сдержаться. К полудню она запрягает коня…
Туган вполне счастлив. О жене его нечего и говорить: кончились ее страдания, сбылись молитвы. Оба они словно разом ожили и даже чуть округлились. У Тугана наметилось брюшко, а супруга его всем на диво разрумянилась в пламя щеками. «Похожи на двух воробьев у кормушки», — думает о них Казге-ри и весело, задиристо смеется.
— Ты чего? — озадачена мать.
— Что дурачишься? — отец больше сердится.
Казгери пожимает плечами, убегает, ничего не ответив. Что-то разъяснять за просто так он не привык. Слова нужны тогда, когда их можно с толком обменять. Все остальное — болтовня.
Казгери парень смышленый. Хотя кохму-то в ауле нет-нет, да и покажется, что только недоумок может весь день напролет носиться без дела на своих кривущих ногах, радуясь непонятно чему и раздражая достойных людей своим смехом. Однако носиться так у Казгери есть свой резон. Его цепкий взгляд подмечает буквально все и сразу. В особенности то, что выдает запах тайны, а если повезет, то сложится в ее разгадку, продать которую — раз плюнуть. Надо только знать, когда и кому. Если не ленишься бегать, можешь неплохо заработать на беготне. Не сейчас, так потом. Коли тайн много, ты просто ждешь, когда они должным образом вызреют, а потом продаешь их одну по одной тому, кто тем временем сам поспел для того, чтоб услышать разгадку. Все просто.
Когда Казгери понимает, что между Дзака и Цоцко пробежала какая-то тень, он пробует выследить ее, идя по пятам, но у него сперва не выходит. Потом он видит случайно, как плачет Роксана в лесу, положив свою голову на плечо мужчины. Ба!.. Да это ж Цоцко! Примерз словно камень и только руку отводит за спину, будто хочет ее удержать от беды. Казгери любопытно. Что за этим стоит?..
Однажды он все понимает. У-у-у-у… Такую тайну опасно и знать. Он бежит от нее, покуда хватает терпенья и страха, но жажда продать все же сильней. Сперва он идет прямиком к свой тетке, петляет нашкодившим псом вкруг да около, ищет, с чего бы начать разговор, но, едва приступив, получает пощечину, а вдобавок к ней — крепкий пинок.
— Пошел-ка ты вон, шакаленок бесстыжий!.. — Роксана совсем по-мужски плюет ему вслед. — Мне на то начхать. Расскажи ты хоть деду… Вот дешевая мразь!..
Слова ее просто обидны. Они Казгери задевают. Только подумать, вроде красивая, умная, а поди ж ты, оказалась дурой из дур… Пусть пеняет сама на себя.
Казгери понимает: Цоцко все известно и так. Соваться к нему он не может: под горячую руку тот горазд покалечить. Об отце нечего и говорить: тому нужен лад да покой, а не распри с позором. К деду он не пойдет, потому что, коли тот вдруг помрет от расстройства, Казгери никогда не простят.
Остается Дзака. Похоже, у той с Цоцко свои счеты. Коли он с сестрой заодно — пусть теперь отдувается…
Дзака слушает очень внимательно. У нее такое лицо, будто в эту минуту окунают ей ноги в блаженную взвесь облаков. Она не скупится, дает десять монет серебром и поручает докладывать новости впредь.
Роксану теперь не спасти. Цоцко сознает это слишком уж поздно. А когда сознает, вопреки пониманию хочет ее увезти. Откуда прознала Дзака, он не может ума приложить. Впрочем, сейчас не до того, ему надо спешить.
Но Роксана только смеется. Он встречает ее на развилке, открывает беду, а она лишь беспечно смеется, приобняв на мгновение брата за плечи, целует бережно в лоб. Второй раз. Второй и последний: он не в силах ее удержать. Она скачет галопом к отцу. Не успевает тот рта раскрыть, как она сама на него и накидывается:
— Старый развратник. Это ты во всем виноват. Проклинаю свое с тобой сходство. Мы не люди, а выродки. Ты такой же, как я. Только я даже хуже, потому что теперь никому не нужна: ты сам меня предал…
Все. Все кончено. Такой вот последний галоп… Чтобы люди меньше судачили, Цоцко предлагает устроить всеобщие поиски.
— А когда ничего не найдут, что тогда? — вопрошает отец. У него на лице плачет вечность.
— Тогда мы им скажем, что она у родни отыскалась. Никто ведь здесь и не знает, какая у нас родня…
Они почти что успели. Не хватило каких-то двух суток, чтобы продать надел и дом и тихо сняться с места. Кто ж мог подумать, что к ним вдруг заявится тот, в ком храбрость была лишь жаждой конца — тот самый Аслан, от которого понесла торжеством отреченья позор свой Роксана?..
Вот тебе и Развязка. Говорящее имя…
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
I
С тех пор, как заявились чужаки, с землей творилось неладное. То ли она растеряла прежнюю стать, то ли это река вдруг прибавила в силе, но чувство было такое, будто аул тронулся с места и тихо плывет по зиме, оторвавшись от тверди, вместе с горами и лесом туда, где его поджидает несчастье. Причастность реки была несомненна, хотя в чем-то и спорна: если аул куда и плыл, то вряд ли по ее течению. Скорее наоборот. Ощущение было сродни тому, что испытывает взошедший на гребень вершины путник, когда, свалившись на спину и роняя дрожь из раскинутых в стороны рук, с трудом переводит дух, уставившись пьянеющим взором в скользящие над ним облака, покуда те влекут за собой его душу.
День за днем месяц кряду шел снег. Его бесшумная поступь покрывала пухом весь мир, навевая сонливость и скуку на тех, кто недавно еще был исполнен надежд и восторга. Нескончаемый снег убаюкивал страсть. Вяло сплетаясь телами в его роскошном плену, они предавались любви как постыдно-бесцельной тоске, когда нужно и хочется что-то спасти, но вот что — очень трудно припомнить. Прячась от холода в недужных объятьях, они растворялись во снах ни о чем, пустив свои души в потемки по следу умершего ветра.
Когда же он ожил, впервые за много недель обрушив на них свою мощь, старожилы (включая сюда сестер и Алана) подивились тому, что он пахнет уже не зимой, а подгнившей травой. Вслед за яростным ветром на аул обвалился туман. Он вползал к ним в хадзары, залеплял паутиной глаза и трогал огонь, неохотно, ворсисто мешаясь с беременным дымом. От тумана мир делался зыбким. Он словно играл с ними в прятки.
Таким был январь.
А потом пришло солнце. Снег стремительно таял, истекая корками льда, и вливался ручьями в смоль почерневшего русла, готовя разлив. Пока мужчины строили дамбу, их жены старались не верить тому, что река победит. Чужаки были споры в работе и как будто спокойнее всех. С того дня, как они осквернили здесь утро и склепы, больше не к чему было придраться: даже дети вели себя так, словно каждый из них, как стекло, носил в руках тишину. Их будто бы вмиг подменили. Только разве такое возможно?..
Потом приключилась и вовсе занятная штука: река присмирела и выдохлась, несмотря на весеннее солнце и стаявший снег. Собравшись у дамбы, люди глядели, как падает в русле вода, словно на дне его она отыскала большую ложбину. И тогда ощущенье того, что земля их подмыта и тронулась в путь, перестало быть просто догадкой.
Жена Хамыца призналась, что почуяла ступнями шелест волны под собой, но он только буркнул в ответ и отмахнулся сердито. В последнее время им стало непросто друг с другом молчать, а говорить особо тоже не очень-то сочинялось. Ближе к марту женщина обнаружила, что по центру хадзара взломан трещиной пол. Конечно, то была не беда, но ей показалось, что беда где-то рядом. Залечив трещину щебнем и глиной, она взяла себя в руки и заслонилась от того, что теперь им предстоит, показным хладнокровием. Хамыц ничего не заметил. Она была ему благодарна, но несколько дней в раздражении молола зерно на муку и украдкой кусала ночами косу, словно силясь припрятать в себе какой-то ненужный порыв.
По весне чужаки окончательно справили дом. Он был больше, чем все остальные; оно и понятно: столько тайн и людей могли приютить только очень высокие стены. Двухъярусный дом вздымался, как солнечный парус, отражая гладью боков слепые лучи. В погожие дни он был очень похож на блестящую реку, а пошедший на стройку плитняк отливал на свету чешуей. Издали дом казался влажным и скользким, как если б был сложен из тысячи мелких сиреневых рыб, окруженных, как неводом, прочным квадратом забора из подобранных с острова голышей. Выходит, он и сейчас не давал им покоя — нелепый маленький островок.
Сами склепы сменили одежду и стояли теперь сплошь в заплатах из разводов от быстро сбежавших дождей. Лишившись былого величия, они будто поникли. В них не водилось уже ни грозного эха, ни мрачной суровости, ни глухого покоя обитавшей здесь столько веков, торжествуя густой пустотой, привередливой смерти. Она окончательно уступила небрежению назойливой жизни, ходившей к ней вброд по реке, чтобы собрать шелуху последних секретов из-под этих дряхлеющих стен.
Соблюдая наказ, никто из подростков внутрь склепов, однако, уже не входил. По крайней мере, уличить их в этом никому из взрослых не удавалось, препятствовать же тому, чтобы дети пришельцев время от времени скоблили мшистые камни и подчищали с них червивую тишину, было тоже как-то неловко: поклоняться тому, что ушло без возврата, — все равно что порочить последнюю память о нем. Не случайно все чаще сам остров теперь называли попросту Голым. Он словно бы сморщился по краям, оскудев берегами, и стал зарастать тут и там нехорошим, седым, пучковатым бурьяном травы. По теплу завелись в нем ушлые змеи. Проворней других на них охотился кривоногий крепыш Казгери. Нанизав гадюку на палку, он пугал лошадей, вызывая зависть у братьев.
Во всем остальном было тихо. Разве что иногда аульчане с досадой внимали тому, как где-то под вечер со двора Ацамаза полощется плач одинокой свирели, умолкавшей только тогда, когда небо вокруг равнодушно покроется звездами. Закрываясь от них темнотой и дерюгой в окне, Тотраз спасался в Марии, погружая лицо свое в мягкие кольца волос и кладя невесомо ладонь на отзывчивый холм ее живота. Живот с каждым днем делался туже и глаже, как почка, набухшая соком, и дарил ему теплую мысль о близком отцовстве. Когда Тотраз засыпал, Мария украдкой снимала с себя его руку и, томимая страхом, молила луну пощадить ее и не дать умереть. Тревога ее была непонятна, хоть искренна. «Перестань, — говорила София. — Ты боишься того, что его подведешь. Только это напрасно. Все случится само по себе, вот увидишь. Посмотри на меня: я совсем не боюсь. Мне вовсе не страшно…» — «А Алан?» — «Алан молодцом. Ты так сильно боишься?» — «Да. Я боюсь потерять…» — «Хорошо. Я признаюсь: мне боязно тоже. Теперь тебе легче?» — «Не знаю. Но ты ведь солгала? Не лги мне…»
София почти не лгала: дело было не в ней, а в Алане. Из зимы он вышел другим, — потухшим, сутулым и даже каким-то обрюзгшим. Взгляд его часто блуждал нагишом по земле, выдавая сомнение. Плечи болезненно заострились и подвернулись мослами к груди, очертив на спине глубокие дуги лопаток, похожих на два припрятанных заступа, которые копали его изнутри бесплодною мукой, когда он шел прочь из аула в горы или в недобрый, насторожившийся лес, чтобы наедине с собой предаться там непостижимой воле отчаяния, накатывавшего на него огромными волнами света от непривычно безмолвного солнца, язык которого он как-то разом и полностью позабыл. София не знала, что по ночам ему снится гнетущий прозрением сон: озябший всадник, неверно держащийся в истертом седле и упрямо едущий к своей неминуемой гибели. Сон был пророческим, однако своего пророчества не раскрывал: стоило всаднику одолеть холодный рассвет и приблизиться к извивам ущелья, за которыми угадывался уже согретый лучами аул, совсем чужой, незнакомый, — как сон прерывался беспокойным полетом, угрюмым вторженьем в запретную высь облаков, заглушавших невольный, пронзительный крик горькой пеной паденья, от которой при пробуждении на губах у Алана серебрился невнятный осадок какой-то болотной гадости.
Ничего об этом София, конечно, не знала, но с опаской следила за тем, как в нем немеют глаза и пытаются удержать себя в новом дне. Тяжесть копилась в нем подобно усталости, собравшей за ночь столько могильных камней, сколько хватило б на целое кладбище мыслей. Наблюдая за тем, как он движется по двору, с трудом переставляя свинцовые ноги, она дивилась тому, что за ним терпеливо бредет, царапая землю, худая когтистая тень. Судя по мужней походке, их, теней, вполне могло быть и две.
Чем ближе было рожденье ребенка, тем сильнее одолевала его обидная, непристойная хворь: в самых нежных, укромных, любимых местах его тела жена обнаруживала назойливые крошечные пузырьки, покрывавшие кожу противным налетом. Зло сдирая их ногтем, он вычесывал сыпь из себя до крови, и та застывала у него на груди, за ушами, в подмышье, в паху в бляшки перхотных корок, приводя его в ярость от сознания внезапной своей, незаслуженной, подлой, отвратительной нечистоты. Пытаясь унять его зуд и стыдливость, жена врачевала их лаской, покрывая болячки крылатым дыханьем любви вперемешку с соленой крапивой. Все тщетно: сыпь надолго освоилась в нем и, словно ловкий кузнечик, скакнула к лицу, затаившись в бровях и небритости скул, чтобы вскоре взойти там позором смешливых веснушек. Алан свирепел. «Ничего, — утешала София. — Постарайся представить, что это шалит так твой сын. Скоро он перестанет». Но сама она думала — это другое. Его сглазили. Кто — догадаться несложно: конечно, они, чужаки.
В самом деле, по тому, как внимательно, странно, почти что лукаво встречали его их глаза, она понимала, что им ведомо нечто такое, о чем она, Софья, не имела понятия, о чем сам Алан знал покуда не больше ее, но все же носил в себе это, как мету, невидимую для ее берегущей любви, и была эта мета родом из прошлого, о котором он не рассказывал, — наверное, полагала она, потому что отрекся, так же примерно, как сама она отреклась от всего, что было с ней прежде, чего в ней теперь не осталось, чего, в общем-то, не было, потому что такого с ней быть не могло, если была она нынче женой ему и делила с ним ложе, умащенное обоюдной их жертвенностью и укрытое искусным витьем из клубка добровольных их умолчаний, и ради этого она отреклась еще и от имени, как от последнего ненужного следа — следа того, чего с ней никогда не случалось. Однако и ей было невдомек, как можно отречься от прошлого больше, чем способна вместить в себя твоя о нем память?..
По сути, София ничего о муже не знала. Впрочем, для любви знать было не обязательно. Для любви важнее было терпеть. В том, что терпенья ей хватит в избытке, она убедилась давно, — тогда, когда выбрала мудрость. Потом она родила.
Роды взорвали ее изнутри страшной болью, которая, пока длились схватки, раз за разом вытягивала ей душу в стрелу, мчавшую ее куда-то в кромешную умопомрачительную быстроту, лишенную пространства и цели, чтобы потом, спустя мгновение, с громким звоном воротить обратно, в средоточие ее естества, где шла тяжелая, жестокая, изнуряющая работа — не столько плоти ее, сколько духа, постигавшего через причастие боли вечное таинство деторождения, которое, в свой черед, объясняло ей пыткой, как явился на свет сам этот мир. Когда все закончилось, она тихо заплакала, потому что отныне, что бы с ней ни случилось, самое главное уже к ней пришло: она. сделалась матерью.
Мария разрешилась от бремени на следующий день. Как и сестре, ей помогала Хамыцева жена — единственная из трех, кому не довелось еще даже зачать, невзирая на то, что об этом были все ее помыслы. Выполняя роль повитухи, она боролась со смешанным чувством восторга и зависти, чтобы в конце концов преисполниться чистой, прозрачной глазами и пальцами, вдохновенной гордостью за то, что сумела дважды за сутки принять в свои руки первозданную жизнь и сделаться если не матерью ей, так хотя бы роднёю. Обоих мальчиков окрестили именами отцов, только не тех, кто почти год назад оделял их собственным семенем, а тех, кто, пойдя на подмену имен своих жен, каждый в отдельности был мальчуганам супругом их тетки. Тем самым их окрестили прочнее, надежнее, чем водится у людей — в том смысле, что связали крест-накрест взаимным признанием дружбы на долгие годы вперед, и теперь сын Алана с Софией был крестник Тотраза, а его двоюродный брат получил от них имя Алан. Так пустила здесь жизнь свои новые корни…
II
Все бы было неплохо, кабы знать, куда он плывет, их аул. Но дознаться до истины было им, кажется, лень, слишком хлопотно, вязко, а за трезвой заботою дней — так как будто совсем недосуг. Легче было об этом не думать, как не думать о том, например, отчего в их лесу не сыскать уже следа оленей; или, скажем, о том, почему на ветру не колышется нива с обильным жнивьем.
Разве можно их в том упрекать? На свете есть много такого, о чем и не стоит распытывать протяженность летнего неба, особенно если оно, со своей стороны, не терзает тебя ни грозой, ни мороком засухи, ни унылым бескрайним дождем. Солнце светит, даруя тепла ровно столько, сколько нужно тебе для вот этого ровного дня, за которым в назначенный час придет новый, такой же, почти что безоблачный, гладкий, точно так же, спокойно и тихо, перекатится звездами в ночь и возьмется прохладой играть там твоим синим сном. Чего ж тут роптать? Жизнь текла без препятствий, бесшумно и просто, забывая, что было вчера, повторяя его в каждом завтра, размывая границы любого «сейчас».
Тем временем дети росли, встретили первую осень, первый зуд холодов, первый снег, первый шепот весны, первый шаг свой и первое слово, первый смех над споткнувшимся братом и первую боль. А потом к ним прибавились новые дети, обе — девочки, обе — смуглянки, обе — в мать и обе, к тому же, рожденные с первым майским дождем. Их назвали, конечно, Мария и Софья. И тоже крест-накрест: в честь теток, совладавших со схватками, совершенно как прежде, день в день, а если по правде — так в честь самих матерей.
Хамыц оставался бездетен… Оттого и грустил сам с собой.
Что же все-таки было неладно — с ним и его отощавшей женой? Неужели они чем-то слишком особенным прогневить умудрились богов? Вроде нет… Тогда в чем их вина? Где то прежнее чувство победы, когда сам он, всему вопреки, созидал, не спеша, свой уют? Где тот тесный шалаш, под чьими ладонями они слушали ливень и так робко любились, впивая сердцами гулкий голос земли? Куда все ушло? Почему вдруг земля замолчала? Где тот радостный страх от своей же безмерной отваги, когда он, обвязавшись петлей тростника, шел охотиться вброд? Почему им теперь все равно, чем ответит земля на их каждодневный покой? Словно больше не будет пожаров в лесу, ни вепрей-убийц, ни обваленных крыш, ни хищной воды в три наката… Отчего все вдруг кажется мельче и суше, будто чахнет в огромном глазу очага? Как же можно так жить? Сколько можно так жить? И кому, наконец, завещать этот мутный покой?..
Наблюдая за тем, как он возится с пятилетней теперь Ацы-рухс, жена его в сердце своем обливалась слезами. «Боже, как нам спастись? — вопрошала она. — Что нам делать с Твоим жесточайшим проклятьем?.. И как его снять? Подскажи!.. Я готова отдать свою жизнь в обмен на ребенка. Неужто и этого мало? Что тогда?.. Дай хотя бы мне знать…» Никакого ответа. Разве только свирель Ацамаза, но и та — не ответ, а вопрос…
Чужаки между тем затаились. Покидая аул — на неделю, на месяц, когда и на два, — они возвращались с поклажей на крупах коней, а то — с пересыпчатым грузом под грубой холстиной, чья невидная тяжесть отдавалась вихляньем повозных колес. Лишь Туган иногда умудрялся вернуться ни с чем, но по его румяным щекам можно было вполне заключить, что и он прокатился не зря: такое лицо — признак тех, кто прячет в себе лишь довольство и радость.
Похоже, место им очень нравилось, пришлось по душе. Соблюдая данный обет, они его не нарушили: в аул приезжали лишь те, кто его ненадолго оставил. Никаких посторонних ушей или глаз, ни новых гостей, ни нескромных расспросов. А потому терпеть их присутствие было не так уж и в тягость. По крайней мере, достаточно просто их было не замечать, замкнувшись в своих повседневных делах и предаваясь летучей, курящейся кольцами, невесомости тихого времени.
Оно по-птичьи чертило круги и никуда не росло, ни над чем не довлело, словно избавившись от необходимости пробивать себе путь сквозь упрямство чьей-то судьбы. Его шаг было почти что не различить, если не обращать внимания на его случавшиеся по ночам проделки, когда сестры вдруг с удивлением обнаруживали в легком похрапывании мужей внезапные обрывы дыхания, будто на какие-то пугающие минуты в сон хозяев их жизней являлась нежданная смерть. Впервые встретившись с этим, Мария просто опешила, зашлась в испуге, толкнула Тотраза в бесчувственный бок, но ответом была его неподвижность. Торопливо разъяв свое сердце на ленточки страха, она принялась выстилать их ладонями по его замершей груди в попытке вернуть ее сокровенную гулкость, однако это не помогло, и тогда она в леденящем отчаянии разожгла большую лучину, поднесла к каменевшему перед нею лицу и увидела в нем семенящую прочь чужими морщинами старость. Отогнав ее светом, она вырвала волос из собственной пряди и покрыла им мужнины ноздри и рот — удостовериться, что обозналась. Но то ли лучина была негодна, то ли ее подвело утомленное зрение, только муж ей опять не ответил. На ощупь тело его было теплым, пожалуй что даже горячим, словно жизнь его закипала теперь изнутри. Приказав себе ждать, она улеглась с телом рядом, прислонилась задумчивой, чуткой прохладой груди. Вскоре кожа ее покрылась бисером пота, хоть плечам и ногам было зябко, как на снегу. Она прошептала: «Наверное, я помешалась. Причина во мне, а не в нем». Убедить себя в этом она не смогла. Потом вдруг ей сделалось все безразлично — настолько, что не сразу услышала плач из угла. Идя за полог, она ощутила, что ночь как-то особенно бесконечна и далека, словно эхо, забытое временем где-нибудь в бесприютной пустыне ущелья…
Она так и заснула, склонившись над колыбелью. Ребенок сосал ее грудь до утра, укрощая терпеньем ее безучастие, пока она не услышала над собой негромкий голос Тотраза:
— Если так пойдет дальше, девчонка совсем тебя съест. Другим ничего не достанется. Включая сюда и меня, — добавил он со смешком. — Не надо ей потакать.
Он был уже одет и собирался отправиться в лес — не столько чтобы собрать обещанных сыну ягод, сколько поохотиться на тура, про которого твердил всю неделю.
— Не уходи, — попросила она.
Он вскинул брови, и шрам на его голове вильнул резко вбок, образовав у самой верхушки подбритого лба треугольную лужицу света. «Как гладкое зеркало, с которого стерли все отражения», — подумала она и пояснила:
— У меня дурное предчувствие…
Он нахмурился в недоумении, и лужица вытекла прочь, оставив по себе отпечаток лилового посоха, немым укором уставившегося ей в лицо.
— Понимаешь, — попыталась продолжить она, — конечно, все это глупости, только мне показалось…
Она запнулась, опустила глаза, положила ребенка в корзину, потом рассердилась сама на себя и сказала:
— Впрочем, делай как знаешь.
Он приблизился, обнял ее, пробежался губами по шее и тихо шепнул:
— Все обойдется. Я его подстрелю. С той поры, как мы с тобой вместе, мне не доводилось промахнуться дважды подряд. Нынче ему от меня не уйти.
— Что тебе снилось? — вдруг спросила она, обращая к нему встревоженный взгляд, который, как она ни старалась, все же выдал ее беспокойство. Тотраз подумал, пожал плечами, хмыкнул и разочарованно цокнул языком:
— Черт его знает… Не припомню так сразу.
Перед тем как уйти, он обернулся и подмигнул, оставляя в залог ей веселость:
— Штука не в том, что тебе снится, а в том, что ты хочешь увидеть, когда снова откроешь глаза. Больше не смей уходить от меня среди ночи, слышишь?
Он не врал. Скорее всего, решила она, ему ничего и не снилось. Может, все это мне только почудилось.
Поделившись с Софией тем, что сегодня с ней приключилось, она вдруг увидела, как сестра напряглась и долго смотрела ей поверх головы. Потом устало сказала:
— У тебя седина… В том же месте, что у меня. Только с другой стороны. Погляди.
Развернув к ней свой профиль, она потянула за светлую прядь у затылка.
— Видно, нам с тобой было обеим несладко, коли этаким зеркалом отпечаталась ночь.
Она рассказала Марии про то, что с Аланом такое бывало не раз и не два: вдруг как умрет. Потом засопит как ни в чем не бывало, словно просто давал себе роздых на час.
— Что же это такое, сестра, поясни? — попросила Мария.
— Кабы знать… Помнишь, такое бывало с тобою? Город, цирк…
— Нет. Не то. Тогда я и впрямь умирала. С ними другое. С ними так, будто их уже нет, потому что они все в себе. Ведь они никуда не уходят. Правда?
— Но это и лучше. Лучше так, чем как ты…
— Да, — сказала Мария, только было не очень понятно, согласна она или нет. — Да, конечно. Лучше так, чем как я.
Сестры сидели друг против друга, держа на руках дочерей, соединенные воедино, как пуповиной, двумя сплетающимися тенями на холодном полу, одна — от белого света из нагого окна, другая — от распахнутой настежь двери. Им нечего было больше сказать. Со двора было слышно, как спорят о чем-то, толкаясь, их малыши-сыновья…
III
Тотраз не мог не признать: лес утратил былую отзывчивость. Он замкнулся в себе, упразднив свою душу из внимающих пазух ветвей, где доселе привычно скрывал благодарную листьям добычу, угадываемую нюхом опытного охотника лишь по едва заметному трепету в настороженном воздухе да мимолетному, терпкому запаху страха, почти не отличимому от сладкой росистой пыльцы, рассыпанной тут и там по несмелым подсказкам травы, чья примятая скользкая шерсть еще помнила брюхо мелькнувшего зверя. Раньше лес готовился к схватке, одинаково важной для себя и того, кто явился сюда состязаться с ним в силе и ловкости, а охота была испытанием, долгим обрядом, посвящением в то, что было законом земли, распорядком природы, главным правилом жизни: верх одержит лишь тот, кто достоин, ну а если он проиграл — значит, выигрыш был просто отложен.
Так было прежде: и тогда, когда здесь вот, за елью со вскинутым суком, принял он посвященье в охотники, умыв руки кровью первой подстреленной жертвы (восторженной лани, подрубленной пулей прямо в прыжке и взиравшей на него изумленно из своих стекленеющих быстрой, заботливой смертью каких-то косивших, чуть заячьих глаз); и тогда, когда он и Хамыц сменили ружья на луки и стрелы, погружаясь во время все глубже назад и теряя в томлении дней ощущенье всамделишности происходящего; и тогда, когда он в нем, во времени, окончательно заплутал и решил уйти от него и себя в искупленье греха, что вдруг стал принадлежностью чьей-то другой и надломленной жизни, — того, кем он был, совершая убийство, но совсем не того, кем он сделался здесь, у реки; и тогда, когда выжил и понял, что жизнь победила его, сделавшись чудом, которое он ограждал от нашествия всяких сомнений, чтобы позже, значительно позже, обрести как в награду любовь, испытать унижение собственной подлостью и вместо расплаты получить громаду из счастья, облекавшего их и весь добрый, покладистый мир мириадами тонких созвучий, от которых плодилась сияньем душа…
Теперь всё не то что ушло, а как-то скудело цветами и тенью, словно лес перестал быть соперником, другом или судьей, река перестала быть откровением, а склепы и солнце — границей отсчета, залогом духовных расплат и видящим все алтарем. Казалось, еще немного — и они совершенно уступят людям свою первозданную роль. Роль творцов, созидателей, судей и сторожей, допустив их туда, куда им не стоит входить, ведь ворваться туда означало лишиться почтения к лесу, склепам, реке, перенесшим увечье горам, их легенде, ожиданью возмездия, солнцу и даже к судьбе. Тотразу туда не хотелось. Но что-то как будто влекло и его в ощущении новой свободы, отменявшей богов и молитвы, память, сомненья, тревогу за завтрашний день. Как знать, возможно они заслужили тот смелый покой, что помог им проститься с ненужным надрывом и страхом, проверявшим на прочность их волю всякий раз, как они устремлялись в отчаянный спор с давнишним проклятием места, сея здесь первый стон, первый выстрел, первый камень под стены, первый стебель ростка и первую жизнь.
Возможно, так оно было им суждено, хотя разом поверить в это было сложно (слишком все делалось просто, легко, чересчур как бы прямо, а так, Тотраз знал, не бывает нигде), однако не верить было еще тяжелей, ибо свидетельств тому находилось огромное множество: стоило что-то задумать — и оно получалось. Сбывались, казалось, любые надежды: урожай, рожденье детей, их здоровье, душевная близость жены, невозвратность беды, одиночества, грусти, меткость выстрела, стойкий дух забродившей земли, перламутр волны перед ливнем, твердость свежих мозолей, счастливое ржанье коня перед тем, как он пустится вскачь, уползающий шелест змеи из-под ног, голосистость ущелья, — всего этого было в избытке, так чего же желать?..
Тура выследил он у скалы. Тот был очень хитер: в прошлый раз он завел его в чащу, увлек через толстый ручей, потерялся в овраге, накропал там следы, вдруг вновь вынырнул у горбатого бока горы, подождал, пока человек взберется на выступ, и, тряхнув, ободряя, рогами, поскакал по козьей тропе, вынуждая Тотра-за спешить, оступаясь рискованно шагом над растущим обрывом внизу. Скала была почти неприступна, но лишь для новичка. Тотраз ее знал хорошо. Чтобы подняться по ней, надо было дважды свернуть с тропы и вскарабкаться скользким склоном на один ярус вверх, где тропа становилась чуть шире и тверже. На это ушел целый час, в течение которого он несколько раз подмечал, как тур с ним играет, оставляя на острых камнях седину плотной шерсти и роняя дробное эхо копыт в двух десятках шагов впереди. Будто хотел показать человеку, что не боится его ну ничуть… Раззадоренный этой забавой, Тотраз ощущал, что они почти подружились — лишь затем, чтобы встретиться вновь у вершины на крошечном пятачке и уж там и решить, кто из них оказался ловчее. Несмотря на усталость, он был весел и жаден, как опытный волк, долгий день копивший в сердце прыжок, до которого было теперь совсем близко.
Но когда они там оказались, все вышло не так, как за них загадал человек: тур действительно ждал у обрыва и, завидев Тотраза, призывно заблеял, однако охотник, для верности легши себе на живот, все не мог хорошенько прицелиться, сбитый с толку лучом, звеневшим в глазах, отражаясь от блеска ствола. Понимая, что солнце вот-вот ослепит, он нажал на курок, однако взамен не услышал тупого удара, заключив, что промазал. Полоснув по ущелью раскатом, выстрел тут же рассыпался в прах. Тур не шелохнулся. Передернув затвор впопыхах и надвинув шапку пониже, Тотраз попытал удачу опять, но, едва он прицелился снова, тур исчез, оставив глазам человека лицезреть лишь выщерб скалы. Было слышно, как он катится вниз по скале, стуча по камням рогами.
Подбежав к краю обрыва, Тотраз увидал строптивца-козла в двухстах шагах от себя. Тот мирно пощипывал травку, точно знал, что теперь человеку в него не попасть. Тотраз и не стал расходовать порох, рассудив, что негоже превращать неудачу в досаду на глазах у того, кто сегодня тебя одолел. Это особенно привлекало в охоте: способность признать за животным хитрость, ум и готовность к проделке. Так рождался азарт, в сравнении с которым цель добыть пропитание выстрелом казалась скучной рутиной, поддаваться которой означало безбожно обкрадывать лес — и себя — на ощущенье достоинства.
Но и сегодня, едва охотник убедился, что тур опять его ждет, все повторилось отнюдь не так, как видел Тотраз всю неделю в своем разгоряченном воображении. Стоило им подняться по тропе к пятачку на скале, а потом застыть там друг против друга, как он понял вдруг, что козел отказался от схватки и утомительные минуты погони были всего лишь притворством, прикрытием, за которым был спрятан некий важный и целостный смысл. Угадать его сразу Тотраз не сумел. Тур глядел на него в упор, словно за что-то его укоряя, за что-то даже мстя — упрямым своим недвижением, каким-то глубоким презрением, исходившим от всей его позы. И даже когда человек осторожно прицелился, тур лишь боднул рогом воздушную рябь и направился прямо к нему. От неожиданности Тотраз сплоховал: пуля чиркнула по рогам с неприятным, жалобным звуком, животное покачнулось, но смогло устоять на ногах. Пока охотник перезаряжал заевшее вдруг ружье, тур мог успеть дважды скрыться, но отчего-то не захотел, вместо этого еще больше приблизился к человеку. Тотраз не сводил с него беспокойных, растерянных глаз. Он уже различал на рогах след пули, похожий на расщеп витой ветки граба. Выстрелив вторично, увидел, как тур вскинулся, нырнул мордой вниз и упал, оставшись лежать без движения — так же точно, как до того стоял у обрыва, словно поменял отвесность пространства на более надежную равнинность земли. Из маленького отверстия в белой шерсти сочилась струйка крови. Кабы не она, было б непросто поверить, что тур в самом деле убит, — настолько странной казалась его стремительная смерть, не успевшая отметиться ни глотком последнего вдоха, ни агонией подогнутых копыт.
Склонившись над ним, Тотраз не сразу заставил себя освежевать его тушу. Кровь быстро свернулась, покрывшись блеклой пленкой конца. На вершине скалы было холодно, и у Тотраза плохо слушались пальцы, пока он неловко, раня теплую смерть, работал ножом.
Спустившись вниз с обернутой в шкуру тушей, он устало подумал, что день сегодня выдался хлопотный, но объяснять себе мысль он не стал. Несомненно было одно: лес, который он так любил, который так понимал, так безошибочно чувствовал, вдруг сделался для него неуютен и чужд. Все вроде бы было как прежде: те же деревья, та же тропа, тот же воздух, те же ручьи, те же тени. Но сейчас за ними как будто ничего не стояло, кроме таких же деревьев, тех же теней, троп, воздуха, тех же желтых колец и уключин высокого света над головой, и даже птицы, казалось, немного осипли и как-то вмиг поглупели. Однако еще удивительнее было навязчивое ощущение того, что отныне этот лес ему принадлежит всецело, он в нем сегодня хозяин, ибо только хозяин может так безоглядно не верить, что в его закромах есть все, кроме тайн. Только хозяин может пресытиться этим настолько, что заскучает вдруг от того, что не может придумать, как назавтра еще и зачем приумножить достаток. Только тот, кто богат, знает точно, чего не хватает богатству: малой толики бедности…
Осерчав на себя за подобные думы, Тотраз сделал привал. Разводить огонь не хотелось: пустоту все равно не согреешь, а дарить время костру, когда так спешишь обратно домой, было тоже не слишком разумно. Перетерпев полчаса сидя на корточках в исцарапанной птицами тишине, он снова поднялся и взвалил на себя то, что утром еще было его наваждением, целью, непокорным соперником и надеждой победы, а теперь вот лежало у него на плечах дохлой козлятиной.
Вскоре он вышел к участку сожженного леса. Вспомнил, как четыре года назад здесь буйствовал страшный пожар, и усмехнулся печально тому, как давно это было. Скоротав себе путь, он пошел через холм, хоть это было гораздо труднее. Взмокнув и выбиваясь из сил от крутого подъема — особенно трудного, если идешь с такой ношей на затекшей спине, — он почувствовал себя значительно лучше. Слава Богу, он почти что пришел.
Только пнув ногой калитку и увидев во дворе играющего в глиняных уродцев сына, он вспомнил, что совершенно забыл собрать для него обещанных ягод…
IV
Роксаны давно уже не было, но ненависть к ней у Цоцко не прошла. Напротив, она словно сделалась горше, сильнее саднила, бередя душу пуще прежнего, ведь теперь ее нельзя было выплеснуть даже взглядом, потому что той, кого он ненавидел больше всех на свете, никаким взглядом было уже не достать. Оказалось, что смерть, о которой раньше он думал как о чем-то никчемном, ущербном, ничтожном, смердящем стервятиной (все одно что потроха закланного в жару барана); смерть, о которой, как он всегда полагал, не стоило и размышлять, тратя время на трусость; та самая смерть, что столько раз встречалась ему на пути, но никогда при этом не смела всерьез задеть его сердце и разум, — эта смерть умела быть и другой: изворотливой, мстительной, подлой — прямо на диво! — если была способна вот так досаждать, преследуя его по пятам невозможностью с нею расправиться — так, чтобы навсегда зарыть ее в яме презрения и больше никогда о ней не вспоминать. Словно в насмешку, она попадалась ему на глаза каждый день, по сути, даже Цоцко и не узнавая, хотя сама сохранила свое лицо в точности ровно таким, каким он его и запомнил в тот день, когда она пришла к ним по следу Роксаны, чтобы испортить все то, что он сочинил за них всех и во что уже сам готов был поверить. Теперь она вновь ожила, приняв облик Алана, чтобы плодить здесь детей — по соседству с его, Цоцко, хмурым унынием, о котором никто, включая жену, отца и Тугана, разумеется, и понятия не имел, но которое с каждым днем, с каждым годом и каждой истраченной мыслью об ускользнувшем возмездии становилось все безнадежнее, все тоскливей и гаже, подвергая пытке бессилия, хуже которого он пока ничего не встречал. Выходило, что смерть, которую ты сотворил своими руками, коварнее той, что к тебе просто пришла, как усталость, простуда, как дождь, как туман или снег, — ибо так оно было с их матерью: та лишь взяла и ушла, ничего по себе не оставив, кроме прозрачного облачка немого присутствия, совершенно безвредного и, в общем-то, даже уютного в своем бескорыстии, потому что оно никогда его так не тревожило, ничего от него не ждало, ничем себя не проявляло, пока сам он не призывал этот робкий пугливый парок своей собственной волей. Так же точно было и с сыном, похороненным тоже в далеком краю и ни разу к нему не пришедшим на встречу, постепенно бледнея и тая лицом, которое нынче, по прошествии нескольких лет, он, Цоцко, не мог уже ни объяснить, ни втолковать своим пепельно-серым глазам, даже когда закрывал их с намерением вспомнить. Наверное, так было правильно. Было это, как надо, потому что — не ходить же на привязи у того, что с тобою когда-то произошло!..
Здесь же было иначе. Все было так, словно он очутился в плену. И если он давно для себя уяснил, как ему быть с умножавшей все время долги (чтоб смиренно платить ему дань по ним) жизнью, то с ее главным соперником было куда как сложнее. Цоцко осознал вдруг, что смерть-то и есть его истинный враг, против которого он никак не мог взять в толк, что же ему предпринять, — что и когда. Как бы то ни было, а вызов он принял. Оставалось томиться, теряясь в догадках, что делать дальше, потом.
Совсем как ловец, изнуряющий годы терпением, постигая повадки опасного зверя, Цоцко придирался суровым надзором к ее повсеместным отметинам: иссохшим стволам, поникшему стеблю, дичи, подбитой ружьем, задавленной мыши, подстреленной белке в лесу, сброшенной шкуре змеи, угасанию дня, кисловатому запаху старости, обитавшему в дреме отца, гниющему снегу, хрупкому телу листа, упавшему сухостью в осень, цвету мха на камнях, вою долгого эха, трупу дохлой совы, неучтиво исклеванной коршуном, израненной памяти скал, безымянности троп, на которые он забредал иногда, чтобы первым за, может быть, триста молчавших здесь лет одолеть чей-то путь, почти стертый со склона дождями и временем. Но, как ни старался, нигде он не мог отыскать той изнаночной правды, что звала его за собою, покрывая туманом свой след. Цоцко продвигался за ней по наитию, по азарту сердитой души, оскорбленной обидным незнанием — того, почему вдруг какой-то мертвец раздражает его похуже любого из живших, хуже мысли о том, что, поддавшись затеянной смертью игре, он ведет себя словно стервятник.
Казалось, они поменялись с Роксаной местами, и теперь уже не он подсматривает за ней в щелку двери, а это она наблюдает за ним из злорадного своего ниоткуда, хохоча над любым его шагом, любым начинанием, каждым разумным поступком, любой мыслью и всякой попыткой ее никому не раскрыть. Сестра поступила с ним так, как не имела права с ним поступать: она его предала. Предала в тот момент, когда он был связан с ней общей тайной, взаимной борьбой, взаимной же ненавистью и общей любовью, которая, если быть честным, была лишь подспорьем, приманкой, затравкой для ненависти, но все-таки она была, а теперь от нее ничего не осталось, поскольку нельзя ж, в самом деле, любить ту, кто тебя предал, кто оказался упрямей тебя и отомстил тем, что настоял на своем против правил, потому что — ценой своей гибели. Без Роксаны слух окружавшей его пустоты сделался тоньше, навязчивей, глубже, как тишина в ветхом доме, из которого вынесли вещи и мебель вместе с пеплом, цепью и памятью. Было так, словно нигде и везде вдруг слились воедино в насмешливом воздухе, которым ты дышишь и будешь дышать до тех пор, пока не расправишься с той, кто в нем растворен. С ее надоедливым призраком. Пока не убьешь наконец саму смерть.
А потому, присматриваясь к ней и пытаясь постичь ее силу, Цоцко все чаще утыкался пристальным взглядом в неискренний сумрачный остров посреди Проклятой реки, знавший больше о смерти, чем любой из гробов и погостов: кладбище помнит лишь то, что подносят к могильным камням в своих душах и мыслях живые. Что касается Голого острова — смерть в нем давно не копилась, а просто жила, предоставленная себе самой на три длинных века, в течение которых никто к ней туда не заглядывал, разве что краешек солнца да ветер, но у тех и подавно ему не дознаться подсказки.
Сам отправиться к склепам Цоцко, понятно, не мог. Был для того Казгери: толковый парнишка, хоть, конечно, изрядный подлец…
Цоцко не спускал с него глаз: «Когда что-то найдет, я увижу. Не такой он мастак, чтобы спрятать секрет от меня».
Ждал он долго. Порой Казгери приносил под бешметом какую-то дрянь: пожелтелые кости, обрывок шнурка, черепок от разбитой посуды, паутинку истлевших волос, огрызок монеты, обмылок поблекшего Бога с деревянного образка, острый клык серебра, наконечники стрел, превращавшихся в рыжую крошку, стоило их чуть-чуть потереть, прах сухой, непонятной земли, треугольник слоистой лопаты, треснувший жезл ее черенка, кармашек бесчувственной кожи от чьей-то обувки, осколок кинжала, беспорядочность нищенской утвари, — все это были следы ни о чем, отпечатки скучающих мыслей, потому что их, вещи, все до одной можно было собрать из нетрудных догадок о том, что там есть, в этих склепах, даже если ты в них не бывал.
Так что Цоцко было рано пока выдавать ему свой интерес: Казгери ничего не нашел из того, что было ему любопытно. По правде, эта затея начинала его угнетать, несмотря на забавность им сделанных как бы по ходу открытий: о том, например, что племянник его намеренно лгал, доставляя им с Голого острова обвислые плети гадюк, потому что тварей этих там почти не водилось. Вычислить то, конечно, можно было и раньше — откуда, скажите на милость, в камнях вдруг такое количество змей?.. Цоцко тогда не сподобился: если в голову и пришло что-то вроде сомнения, то почти тут же угасло — не до того. Но теперь, едва он приладил друг к другу концами два поступка племянника, повторявшихся кряду много недель, едва убедился, что те пришлись впору, сложились, — тут же все прояснилось: Казгери никогда не ходил к островку без того, чтобы прежде не отправиться к камышам у излучины, где гадюк да ужей было пруд пруди. Выходит, он просто отпугивал тех, кто мотался за ним словно хвост и кого ему с его кривыми ножищами обогнать было раз плюнуть, но вот надолго избавиться — для того нужно было еще плутовство. Выходит, он лишь выигрывал время — не только на то, чтобы раньше других одолеть бурный брод и прикинуться, что успел, едва взойдя на свой остров, опознать змею на камнях, изловчиться ее разозлить, быстро с нею расправиться и нанизать в доказательство червяком на гвоздатую палку, — а на то еще, чтобы внушить им страх ходить сюда в одиночку и задерживаться здесь дотемна. Так он выигрывал время вдвойне. Вопрос был в том, на что ему это время понадобилось?..
Узнать про тайник племянника Цоцко большого труда не составило: он мог быть лишь там. куда бы никто не явился с намерением копать даже по прихоти случая. Он мог быть там, куда Казгери убегал почти каждый день и в любую погоду, но куда добирался не напрямик, а — в обход, чтоб запутать тем самым любого, кто пожелал бы пойти за ним следом. Тайник хранился там, где только и могла найти приют жадность лукавого малого, которую ему, когда очень уж занеймется, можно было проверить, обгладить руками и неторопливо пересчитать что в снег, что в слякоть, что в дождь. Стало быть, тайник был где-то поблизости и явно не на вершине горы и, конечно, не в пределах их дома, двора иль надела, а где-то совсем-совсем рядом от них, в удобном соседстве — как от его, Казгери, веселых, покладистых снов, так и от всеобщего их неведения. А потому тайник Казгери стоило искать у тех, кто ничего о нем не подозревал, — но таких было ровно столько, сколько всего и жило в ауле, за вычетом одного, того самого, кто, не выходя из собственных стен, шел по пятам, чаще — ночью, когда спит весь дом, похожий на парус, поймавший ветра покоренного времени. Помимо Цоцко, вычитался и сам этот дом (еще бы: слишком рискованно даже для Казгери делать ставку на неведение тех, кто восполнял его своей недоверчивостью), вычитались и те, чьи дома не могли спрятать собственной тени от следящих за ними окон чужаков, вычитался и тот, кто был одинок (резче слух, подозрительней взгляд), — оставались Тотраз и жена его, Софья. И поскольку их дом стоял на холме, обернув свои окна на юг, значит, он, Казгери, мог подкрасться к ним только лишь с севера, проторив к его стенам дорожку по крутой каменистости склона, который был виден лишь сверху, с холма, да и то, если пройти вокруг дома, что, в свой черед, никому из них было не нужно, а приняв во внимание любопытство растущих детей — так еще и опасно, особенно по зиме, и потому, едва сыну Тотраза исполнился год с небольшим, отец его выложил по обоим бокам от стены корявый забор, заперев таким образом наглухо двор и уняв свое беспокойство.
Да, тайник мог быть спрятан лишь там, у стены. Оставалось проверить. Однако Цоцко не спешил: он читал по глазам Каз-гери точно так же почти, как по свежепримятой траве, лесным звукам, ветру и звездам на небе. Лишь спустя месяцы (да и то — не с сомненья, а как бы от нечего делать) он впервые пробрался туда, где давным-давно побывал — и не раз — своим расторопным чутьем. Простучав едва слышно все камни, он нащупал пустотный провал, отворил его, сдвинув валун, и увидел тщедушные признаки смерти — не признания ее, а слепые следы. Казгери ничего не заметил. Наивный, он думал припрятать все то, что его возбуждало, как тайна. Цоцко понимал, что тайна — ничто, пока на подмогу к ней не явятся хитрость и опыт. И если хитрости его племяннику было не занимать (ее в нем хватало даже в избытке), то вот должного опыта он еще не скопил. Будь иначе, он знал бы, что хорошая тайна — не та, что может быть спрятана в яму, а та лишь, которую ты навсегда схоронил у себя в голове.
Год за годом он ждал. И однажды дождался. Казгери вернулся от склепов другим. Ему было непросто унять свои руки, по которым Цоцко постигал его каждый успех. Впервые дело продвинулось только тогда, когда под ногтями племянника он стал подмечать ободки серой грязи. Значит, тот проник внутрь и что-то копал, но покамест вгрызался не в грунт, а по-прежнему в камни. Постепенно грязь меняла свой цвет, становясь все темней, откровенней, будто ближе к земле. Проверяя почти каждый день его глупый тайник, Цоцко убеждался, что там ничего не прибавилось. Вместе с тем Казгери становился рассеянней, злее, больше бегал и больше спешил, торопясь поскорее разделаться с тем, что ему поручали по дому. Вскоре грязь под ногтями стала просто землей, и Цоцко посчитал про себя, что теперь уж недолго…
А когда Казгери воротился с лицом, похожим на сытость шакала, Цоцко безошибочно понял: час пробил. Поздно ночью, скользнув из постели на волю, под широкий раскидистый дождь, он пробрался впотьмах к тайнику, сдвинул камень на ощупь, запалил просмоленную ветошь, посветил себе внутрь, запутанный тенью, долго искал, перебрав почти все барахло, а потом вдруг почувствовал пальцами холод металла, коснулся ладонью, достал, поднял это к глазам, осветил, насладился, огладил, пошептал, согревая, потом снова вложил осторожно в тайник, пересыпал костями, как было, прикрыл валуном и ушел, озираясь в волнении по сторонам.
Спустя день или два он вернулся опять, но уже на рассвете, посчитал их, теперь уже общий, прибыток, усмехнулся удаче, замел все следы и отправился к берегу речки. Голый, жалкий, словно побитый паршою, остров лежал перед ним. До него оставалось всего ничего, какая-то пара недель. «Вот ведь как, — размышлял голосисто Цоцко, — чтобы с нею разделаться, надобно прежде разобрать все ее закрома. До дна выгрести. Когда он сделает это, я с нею слажу. Потому что смерть — ее тоже можно убить. Она жива до тех пор, пока не убита душа ее. А душа эта — прошлое. Стоит им завладеть — и смерть, почитай, у тебя как на привязи сука. Остров да склепы — только начало. Потом я расправлюсь и с ней. Мне всего-то и нужно — приманка для двойника». Что-то ему подсказало, что эту приманку он сыщет скорее, чем падет на них снег…
Через дюжину дней, когда лето было в разгаре и нещадно палило спины косцам, повисшим на склоне, Казгери, насквозь пропахший травой вперемешку с пьянящей усталостью, первым заметил вдали свою мать с женою Цоцко и пронзительно свистнул, оповещая всех остальных, что настало время обеда. Где-то вдали, в ста шагах левее от них, косили Хамыц, Алан и Тотраз. Их жены запаздывали. При мысли об этом Казгери рассмеялся.
Ловко вскарабкавшись по подвязной веревке на холм, он быстро распутал узел на мокрой груди, припал к кувшину с водой, полил из него на лицо и на темя, нырнул в одну из корзинок рукой, выудил теплый, пахучий чурек, обломил его дважды подряд, поделился им с братьями, прихватил кус влажного сыра и, толкнув кулаком пьющего брата в плечо, заставил его захлебнуться, прыснул радостно и помчался, счастливый, к горе. Взбежав кривоного по узкой тропе на подъем, он почти обогнул его сзади, одолел спуск прыжками и, на секунду задержавшись у одинокой сосны под пригорком, проверил глазами то, что и так уже знал: на холме — никого. Теперь он ступал совершенно бесшумно. Сунув в рот остатки чурека и не глядя под ноги, он привычно нащупывал шагом то зернистый валун, то подушечки мха, то покладистость нужного камня, пока не взлетел полуселезнем, полуорлом на северный склон, к подножию дома Тотраза. В последний раз он наведывался сюда позавчера, в тот день, когда потерял интерес и к разграбленным склепам, и к самому островку. Выходит, он выдержал целых два дня. За это время ничего, как будто, не изменилось. Тайник был все так же присыпан песком и обманками дерна. Смахнув их рукой, Казгери отодвинул валун, подпер его камнем, чтоб не скатился, и, едва примерился сунуть руку в дыру, как оттуда торчком зашипела гадюка. На какой-то немыслимо долгий, беззвучный миг Казгери оцепенел. Потом спохватился, попытался привычным движением скинуть к кисти широкий рукав, поймал пустоту и уныло припомнил, что на нем нынче нет черкески — только рубаха. Он метнулся спиной к валуну, первый бросок успел отразить носком сапога, но потом заскользил подошвой по мелкому щебню, понимая, что это конец. Защищаясь предплечьем, защемил змею в изгиб правой руки, а левой схватился за вихляющий хвост. Оторвав ее от себя, он хлестнул ею несколько раз по камням, придавил ее стынущей пяткой, отыскал две кровавые точки под правым плечом, разорвал у локтя рубаху и впился губами в припухлость на немеющем клубне ужаленной мышцы. Он отсасывал яд, боясь не успеть, потому что слышал все громче приближение дрожи и жара. Сплевывая наземь жиденько кровь, он тихо, по-песьи скулил, порываясь левой рукою откатить подпертый валун, чтоб прикрыть свой тайник. По спине его быстро скребли расторопные ножички страха. Уже в лихорадке, он попытался было забрать из зияющей ямы то хотя бы, что вместить способна ладонь, но наткнулся на кости и хлам. Вороша их здоровой рукой, он вдруг понял: его обокрали, и, уплывая сознанием в хмурь, завопил, что есть мочи, — жутко, утробно, почти что не слышно.
Отыскали его только ближе к ночи…
V
Впервые это случилось с ним еще в Фидаркау. Точнее, не в самом ауле, а в близлежащем лесу, куда он забрался, чтоб попугать куропаток. Ружья ему покуда не доверяли, а стащить его у отца он не всегда и решался. Лес там был темный, пригожий, густой, и, коли быстро бежать по тропе, — совсем и не холодно, пусть тебе всего-то от роду одиннадцать лет с небольшим. А когда тебе так вот резво и весело, когда ноги проворнее собственных глаз, то ничуть и не страшно. Чего тут бояться, если каждая тварь в лесу, угадав в тебе человека, бросается в панике прочь…
Уже тогда Казгери был стойко и преданно рад тому, что удачлив. Во-первых, родился он человеком, а не каким-то там кабаном, медведем, пичугой или, еще того хуже, прыщавой лягушкой-квакушкой: на любого из них и даже всех вместе хватило б одного-единственного ружья да щепотки пороху, не говоря о том, что под их нерадивость можно было приспособить капкан, сочинить ловушку или обустроить незатейливую западню (что до лягушки — на ту хватило б и камня, только кому она, к черту, нужна!) Нет, быть человеком куда как сподручней. Где сыщешь такого зверюгу, чтоб был всех сильнее, хитрей да еще уплетал все подряд, включая огонь, на котором зажарит, спечет и отварит и мясо, и рыбу, похлебку, коренья, и душистое пиво, и араку…
Во-вторых, Казгери был удачлив вдвойне, потрму что — пронырлив и быстр и умел, как никто из подростков, подмечать даже то, чего не могли углядеть глаза взрослых, включая Цоцко и отца, а уж эти-то двое мастаки были просто на славу. Но в способности чуять ложь там, где, казалось, ее отродясь не бывало, где она только-только пускала ростки, обособилась крошечной спорой, да покамест сама не сознала, Казгери равных не было. Он ловил ее первым же взглядом, движением, первым словом, даже если не до конца понимал его смысл. Он ловил обман там, где тот только готовился, зрел, оставаясь покуда неведом для того, кто его совершит. Это было как дар, дар предвиденья, это было как дедовы старые кости, когда их заломит под вечер, предвещая наутро им дождь.
Казгери не на шутку был горд этим даром: тот ни разу его не подвел. Но еще потому, что, когда дар старался, он делал его будто сразу взрослее отца и Цоцко, взрослее упрямого, грозного старца и почти что ровесником бабки, испуганной пленницы, убежавшей от них на заре год назад. Никто из домашних тогда ничего такого не ждал, а он вот, Казгери, прозорливо почувствовал, что старуха обманет, еще за полгода, зимой, когда бабка вдруг стала ловчить и коверкаться в шепоте взглядом, скрывая его глухоту. С той холодной зимы взгляд ее слышал лишь смерть. Казгери слышал правду. Она ему подсказала, что бабка уйдет. Новость эта была без искринки — скучна. Все равно что паук в паутине. Обменять ее было не на что. Так, увы, с Казгери случалось не раз…
Было много такого, чем он мог бы похвастаться, кабы точно не знал: проку будет лишь миг, а ущерба — на целые годы. Иногда поделиться чем-то с другими равносильно было тому, чтобы предупредить загодя вора о том, что тебе все известно о краже. Гораздо умнее дождаться, когда он ее сочинит, решится затем совершить, потом подсмотреть, куда вор упрячет добро, улучить преспокойно момент и, как наградой, завладеть разом тем, что ты даже не крал, зато вычислил влет, как охотник добычу.
Больше многих скрывала, конечно, Роксана, но ему пока с ней не везло: даже с такими ногами, как у него, было никак не угнаться за лучшим конем, на котором она им лгала. Когда-нибудь Казгери непременно обличит и ее. Но это не значит, что он выдаст ее кому-то другому: все будет зависеть лишь от цены.
Роксана умна и красива, будет жаль продавать ее тайны кому-то еще, а не ей же самой.
Однако больше всех остальных вместе взятых прятал, пожалуй, Цоцко. Вот кого он боялся!.. Казгери и не знал, стоит ли рисковать и вынюхивать то, от чего пострадать можно раньше еще, чем нажиться… Вопрос только в том, как суметь удержаться…
И совсем уж, признаться, смешные загадки собирал его же отец, добровольно (разве что тише) деля их, как нары, пополам с его мачехой: они просто пытались иметь свой карман, да пошире, потуже, быть может, набитый, чем то виделось всей их родне. В данном случае лучше было не только молчать, но и по мере уменья пресекать любые о них подозрения. Потому что — зачем подставлять то добро, которое рано ли, поздно (а скорее всего — так когда ему просто наскучит терпеть), но — будет его, Казгери, достояньем. Старший брат был не в счет. Старший брат был лишь старше годами и, пожалуй, покрепче рукой, только это как раз ничего не меняло. С такими задатками легче пни корчевать да на пашне с сохой тужиться, а вот чтобы арканы да петли повязывать — тут нужно другое: чутье. Да, старший брат был не в счет: он был ровно как все… За это его Казгери и ценил. За это и был он судьбе благодарен.
Конечно, она поступила нехорошо, паскудно с ним поступила, когда, не успел он родиться, отняла у него несчастную мать, но, коли судить по всему остальному, — потом передумала, может, раскаялась даже, потому что снабдила его всем тем, без чего жить на свете было б куда как трудней и накладней, а так — совсем ничего вроде, здорово даже, потешно…
Бегать было гораздо приятней, чем ходить, сидеть или ждать, когда что-то возьмет и надумается. Казгери умел видеть ногами. Видеть столько, сколько нужно, чтоб ни к чему под подошвами даже и не присматриваться. Он и не заметил, как углубился в лес на добрые три версты, хотя ноги его — те видели все, вплоть до коряги, припрятанной ветром под жвачкой буреющих листьев, вплоть до скользких, неряшливых, рыжих мазков давешнего дождя.
К тому же у ног его была память: стоило им один только раз пробежать по тропе иль бестропью, как они, будто пара злых умных псов, с легкостью брали след вновь.
Выбежав к чаще, Казгери встал, пощупал ладонями воздух, напряг слух, подкосил глоткой вдох и шагнул осторожно к трусливым кустам, притворявшимся, будто они смотрят мимо. Распахнув бешмет и достав из-за пояса ладную, теплую, стройную, великолепную на ощупь пращу, он вложил в ее кожаный лемех заготовленный камень, помешкал, наслаждаясь растущей улыбкой в себе, потом резко ударил ногой по кустам и, завидев вспорхнувшие крылья, расторопно пустил по ним метким хлопком звенящую боль. Поняв, что попал, он раскатисто захохотал: нет, как ты там ни ловчи, ни таись, а дальше себя все равно ведь не спрячешься! Кто ж тебе виноват, что ты глупая птица…
Поохотившись так с полчаса, он почувствовал голод, нахмурился, почесал поскучневший затылок пращой, сунул ее под бешмет, подышал паром на руки, подержал в них дымок, укатал его насухо в стылость ладоней, отломил от сосновой коры комочек смолы, пожевал его, сплюнул, поддел ногтем прилипчивый мед на десне, промокнул затем палец травой и направился было обратно, но внезапно прислушался, хмыкнул, отворил в себе настежь чутье, пустил его по лесу в разные стороны, быстро прибрал воедино назад, стер кулаком в нетерпении капельку влаги с кончика носа, перемахнул за кусты и, теснотою локтей укрощая в себе возбуждение, приладился грибом на корточки, стал смотреть в распах глаз на ползущую из-под стволов тишину. Постепенно — поначалу едва ощутимо, а потом все доходчивей — бугорками колючек из нее, словно почки, выпрастывались теплые звуки погони: шелест веток, испуганный крик осуждающих птиц, бестолковость петляющих зайцев и, конечно же, шепот земли. Он приближался и делался внятней и громче, превращаясь в топот бегущих копыт, пока не принес на себе отчаянье серны, ворвавшейся вихрем на просеку и потерянно замершей, будто гадая, куда ей метнуться теперь. В тот же миг, взлетев из-под веток кратким волчьим прыжком, ее настигла беда. Подмяв под себя несчастную серну, она впилась клыками ей в глотку, вертляво кружа лохматым хвостом, пока серна пыталась подняться, оторвать от зубов свою шею и вернуть беспокойным ногам спасенье земли.
Волк был опытен и силен. Казалось, он не спешит, сжав челюсти плотным кольцом и дожидаясь, когда жизнь устало прольется сквозь них последней каплей надежды. За все время борьбы он не издал ни звука. Серна трепыхалась под ним, на миг застывала всем телом, как будто хотела провести, обманом упрятаться в смерти, которая была уже так желанна, близка, но еще до нее не добралась, не снизошла, — все тщетно: волк оставался неумолим. Призвав на подмогу все силы, серна принималась неистово биться, скрести копытами воздух, швырять в него пар, пачкать хрипом, а потом вдруг пронзительно взвизгнула, позорно боднула туман, поняла, что совсем уже мимо, и сдалась, кинув голову вбок.
Казгери не сводил с нее глаз. Во рту у него пересохло и сделалось липко, наверное, от сосновой смолы. Сердце гудело и наполняло сбивчивым эхом все его существо, виски сдавило горячим железом, а внутри у него что-то росло, вздымалось возмездием, вонзалось тупо в живот, распирало восторженной болью, пока не взорвалось, не лопнуло, не истекло лихорадкой толчков, уронив его на спину и отобрав у него из-под сердца непосильную громкую радость от того, что он только что видел. Задыхаясь обидой и страхом, он коснулся рукою штанов, брезгливо отдернул ее и заплакал. Птицы кричали, будто ужаленные бедой, и бросали упреки в опухшее небо. Казгери едва не стошнило.
Он поднялся, истерзанный, нищий, с кружащейся головой, и побежал, оступаясь, домой. Впервые ноги его подвели и не слушались. Кое-как добредя до ворот, он укрылся в хлеву, вдыхая запах навоза и кислый дух застоялого сена. «Вот я какой, — думал он, глядя бездной зрачков на жующего буйвола. — Даже ему для этого надобно, чтоб была буйволиха. И еще — чтоб не стало противно… Со мной все не так, по-другому. Отчего это?»
Ответа он не нашел. Сам же вопрос попытался забыть, уничтожить, отмыть в деревянном корыте, а последний осадок его навсегда оставить в ночи, но уже на рассвете, стоило им с отцом и Цоцко взяться резать барана на праздник, он опять ощутил то же волнение, ту же странную подлость в паху, тот же трепет томления, что и в лесу. Стыдясь восставшей культи, распиравшей предательски швы и тяготевшей уже к предсмертию жалкой овцы, он поспешно сбежал, удрав к старой разрушенной башне на самом холме. Уронив штаны наземь, Казгери с отвращеньем смотрел на свое естество, колыхавшееся на весу, подобно живому початку, одноглазо искавшему в полумраке тени сладострастного мига забвения. Растопырив обе руки, Казгери ни за что не давал себе прикоснуться. Огромный, тяжелый, почти что увечный в своей недетской величине, этот вздыбленный кол казался чудовищем, внезапно проснувшимся лишь для того, чтоб обозреть смятение подростка и изрыгнуть затем ему под ноги свое презрение. Стиснув легкие и почти не дыша, Казгери боялся и шелохнуться, умоляя зверя уйти, отпустить его с миром, не унижать, простить, образумиться. В конце концов, будто вняв мольбам, чудовище неохотно кивнуло, поразмыслило, посомневалось и стало медленно засыпать.
Подвязав ремешок, Казгери, измученный, но благодарный, пустился что было духу в аул, однако у ныхаса вдруг словно вспомнил что-то и оглянулся. Так и есть: башня была заодно. Она была тем же самым. Поддев рогом небо и похотливо раздирая им облака, она вожделела чего-то своего, но столь же запретного, дерзкого, бесноватого, настоящего, как миг последнего соития жизни и смерти, что был подсмотрен Казгери вчера и уже сегодня отозвался в нем неуступчивым эхом. Возможно, она вожделела дождаться конца, того ослепительного мгновения, когда земля приручит, изувечит, убьет непокорное небо, если, конечно, небо вперед не прикончит ее…
С той поры Казгери опасался прилюдного кровопускания, хоть и очень надеялся, что недуг этот поправим. Странно, но женское тело, обнаженная женская грудь, так же, впрочем, как ливень распущенных женских волос, пухлость розовых губ, скольженье улыбки, хрупкость девичьего стана, даже запах истомы (так похожий на запах изношенной кожи от перетертого постромка), щедро сеемый мачехой утром в хадзаре после ночи любви, самые звуки возни из их комнаты, ее громкие стоны взахлеб — все оставляло его равнодушным. Мысль о том, что когда-то ему придется делить с кем-то ложе, Казгери отвращала. При виде спаривающихся коней, бычьих копыт на хребте у коровы, собачьего шороха в закутках, петуха, защемившего курицу, ему делалось грустно, противно. Настолько противно и плохо, что хотелось кого-то убить. Скрывая от сверстников свой очевидный изъян, он прикидывался таким же самцом, как они, но чувствовал себя при этом так препаршиво, как бывает, когда угодил голой пяткой в дерьмо.
Шли годы, а женщины Казгери по-прежнему не волновали. С его-то уменьем почуять, бесшумно подкрасться — подглядеть их в минуты стыда было проще простого. Но, как ни старался он этим себя возбудить… хотя нет (не настолько ж он лжив сам с собой и наивен), пусть бы чуть раззадорить — все тщетно. Не стоило и пытаться. Огромный его, неуемный в размере, толстый, жилистый набалдашник беды пробуждался только тогда, когда он встречал на пути первозданный, загробный, предсмертный страх, сдобренный кровью и корчами жертвы. Тупо взирая на то, как вздувается силой угрюмый его, норовистый враг, как лениво грозит ему кулаком своей мести, Казгери погружался в уныние: мучительно трудно признать, что мужчина в нем был лишь притворщик, обуза, а может, проклятье, от которого он обречен так страдать, неизвестно за что, непонятно, зачем, чего ради, непостижимо, как долго…
А потому, рискуя навлечь на себя подозрения в малодушии, Казгери на охоту почти не ходил. Разве что сам, в одиночку, ибо выдать свой главный секрет было гораздо опасней, чем просто его присмирить, успокоить, задобрить, пролив его семенем вперемешку с обидою слез на траву, на грязь или снег, а потом затоптать и стереть в пустоту отвращения. Для этого было довольно какой-нибудь белки, фазана, убитого влет, тупой куропатки, прыткого зайца, ведь цель, по сути, была не важна, важна была смертная мука. Всякий раз наслаждение было тревожным и долгим, как пытка. Оно изнуряло не только плоть Казгери, но и дух. После него чувство было такое, будто он начисто выпотрошен и непоправимо, неправильно одинок, потому что в обычные дни одиночество было другим: обходительным, говорливым и даже веселым и никогда его не тяготило. Оно было впору и всегда было впрок.
Слава Богу, дни для расплаты бывали редки, так что жизнь Казгери не особенно и удручала. Напротив, с жизнью он очень дружил: она была кладом. Нужно было уметь лишь за нею следить. Он умел. Он следил. В таких вот делах ему не было равных…
То, что склепы и остров им лгали, он почувствовал в первый же день: неспроста там скопилось столько костей, неспроста столько лет они ждали его, Казгери, появленья.
Разговоры про реку и то, что она отравила село, были чушью: отчего же тогда она пощадила других, тех, кто жил по течению ниже на добрую дюжину верст и при этом жил все эти двести и триста лет так, как живет до сих пор — чередуя рожденья со смертью с промежутком на скучный свой век, обходясь — и сейчас, и тогда — без чумы и небесных напастей? Казгери проверял, так и есть: три аула, прилипшие к речке, к той самой воде, что течет вот отсюда, с урода-горы, только все там спокойно и тихо. Выходит, легенда врала. Возможно, врала для того, чтобы что-то здесь скрыть. Хотя, может, врала по привычке, — как любое другое поверье.
Как бы ни было, а чутье подсказало, что надо искать. К тому же, что ж еще делать-то в жизни?..
Уловка со змеями пришлась Казгери по душе. На берегу их водилось в избытке. Бояться их было попросту глупо: в сравнении со змеем, укрывшимся у него под одеждой, любая гадюка казалась не более чем червяком. Он и давил их, как червей, голыми руками, испытывая мстительную радость от своей полной власти над тем, что, конечно, было всего лишь ничтожным подобием его горделивого недруга, зато повергало в страх и трепет тех, кто следовал за Казгери по пятам, подчиняясь мальчишеской зависти. Любопытно, думал он иногда, как бы они себя повели, узнай правду?..
Чтобы избежать малейших о ней подозрений и не разоблачить себя ненароком чрезмерной отвагой, Казгери притворялся порой, что смелость его — напускная. Так было проще: стоит только людям чуть показать то, что им приятно увидеть, как тут же то, что они видят наяву, перестает их особо интересовать. Потому, когда он, пуча в страхе глаза, неуклюже бежал от змеи, разыграв человечий испуг, зрители были довольны.
В конце концов, ему почти удалось отбить у них охоту являться на остров следом за ним. Для этого было достаточно несколько раз, перейдя реку вброд, затаиться за склепом и выпустить из чехла обезумевшую от мрака и тряски змею. Потом откликнуться на зов с того берега и подождать, пока не раздастся ужасный, убегающий крик.
Конечно, было им невдомек, что змея совсем не опасна: прежде чем спрятать гадюку в чехол от отцовой винтовки, Казгери выжимал ее яд на подвернувшийся камень, а потом не спеша выдирал из пасти ножом оба клычка. Не накликать же лишние неприятности! Если б змея кого покусала, обвинили б во всем Казгери, да еще б навсегда возбранили являться на остров. Такого риска он, понятно, позволить не мог. К тому же опыт подсказывал: надежнее страха запрета не выдумать.
Постепенно он их оттуда отвадил. Само собой, не в месяц иль в два и не раз и навеки, но достаточно быстро: за год с небольшим, из которых бы надобно вычесть обе зимы, по разу — весну и капризную осень, а к ним подложить добрый ломоть жары из первого здешнего лета. Зимою брод был даже легче: поменьше воды, послабее течение, а коли не чувствовать холод —. и вовсе пустяк. Однако соваться туда по зиме означало навлечь подо-зренья, испортить все то, что уже сотворил. И пусть говорят их, что, дескать, один ум — всегда хорошо, да не очень, а два — дважды лучше, Казгери в такие вот штуки не верил. Он знал: где пасется чутьем один ум, второму в том месте делать что-либо поздно, да и попросту нечего…
Но дальше, признаться, пошло все гораздо трудней. Голый остров был крепкий орешек. Расколоть его разом, увы, Казгери не сумел. Подолгу плутая по белым камням, он больше всего полагался на ноги: вдруг что-то услышат, поймут, разглядят сквозь толщи времен. Порой ему удавалось нащупать залог — какой-нибудь ветхий стручок занесенного оползнем древа, обломок кривого креста, которым, должно быть, они защищали себя от чумы и который теперь, спустя много веков, оставался таким же никчемным, только еще и раскрошенным ветром, изъеденным сыростью, служившей приютом для бледных личинок и мелких жучков-грызунов. Все было не то, баловством пустоты, Казгери было нужно другое. Что — он, понятно, не ведал, но что-то такое, чье немое присутствие он узнавал по тому, как молчала земля.
В отличие от берега, цеплявшего его за подошвы отчетливым гулом брожения, остров берёг тишину, под которой лежала другая, а за нею — еще тишина, а вот дальше уж было не слышно. Верхний слой тишины был понятен: забвенье. Под ним — безразличная смерть. Нужно было добраться туда, где она становилась надеждой, потому что лишь только надежда способна на то, чтоб упрятать последний секрет. Тот из них, кто подумал, что выживет, тот, кто больше других не хотел умирать, тот, кто прежде еще, чем построили склепы, вырыл яму, доверив ей все, чем богат, тот, кто был там хитрее всех прочих и привык рассуждать точно так, как теперь рассуждал Казгери, — тот был просто обязан оставить ему какую-то метку, подсказку, намек, потому что иначе он, правда, не мог, ибо смерть и болезнь с каждым днем подступали все ближе, возводя для себя здесь десятки гробниц, и, пока он был жив и здоров, он надеялся, участь сия его пощадит и минует, а потом он вдруг понял, что — нет. И когда стало поздно, он страдал больше всех, ибо все остальные боролись за жизнь и молились, ну а этот совсем не молился, а боролся за то, чтобы не потерять — не столько себя, сколько то, что уже приобрел, закопал, не желая делиться ни с кем из здоровых, обидно-здоровых, потому что они были рядом и слишком, проклято близки, по любому расчету — преступны удачей, без всякого права на то, незаконно, если им суждено его пережить — просто так, по ухмылке судьбы, не познав даже крох той могучей и тайной отрады, что давала ему его молчаливая власть…
Да, так, пожалуй, и было. Властью не делятся: она или есть или нет. И поэтому он предпочел не раскрыться, до конца сохранив ее только себе, а как понял, что обречен, порешил отомстить смерти тем, что воскреснет — в том, кто будет таким же, как он, и когда-нибудь сможет услышать долгий сон ожидающей власти, распознать ее в груде камней и прицелиться заступом, выкопать всю, целиком, без ущерба и порчи, а потом понести на себе все в ту же мечту. Так что он был обязан оставить свой знак. Знак почти что невидный, но такой, что не стерся б ни ветром, ни тлением и не рекой…
Но искать его Казгери пришлось целых пять лет — с передышками на зиму и раздумья, которые были хуже, труднее, теснее любых из известных работ, потому что всегда замыкались досадой обмана и внезапным, слепым тупиком. Тупиком из неверия. Казгери давно бы все бросил, кабы не упрямый, настойчивый дар подмечать даже самую ловкую ложь. И потому он терпел и трудился, перерыв для начала все склепы один за другим (перерыв их буквально по пяди, а затем, чтобы не наследить, так же точно, по пяди, засыпав обратно), потом — круговые подступы к ним, каждую толщу камней (здесь он просто их все перебрал, незаметно меняя местами с ровной пустошью в складках столетней пыли), каждый холмик своей же тревоги, беспорядочно рыскавшей по островку, отчего тот ему стал почти ненавистен, почти глух к его пяткам и совсем безразличен к чутью.
Как-то раз, подстегнутый летом, Казгери вдруг наткнулся на солнечный луч и, пронзенный догадкой, крепко смежил глаза. Захотелось взвизгнуть от счастья. Он и взвизгнул, но только душой, пустив в воздух лишь вздох облегчения. Изнывая от радости, день напролет просидел, словно сторож, на берегу, изучая молчание склепов. Время от времени он всплескивал руками и принимался шагать туда и назад по границе бурлящей воды. Наконец, он дождался заката, перешел опостылевший брод и вдоль поперек стал мерить шагами пространство вечернего света. А когда солнце скрылось в лесу, он вернулся домой, проглотил впопыхах, не увидев, еду и, как в омут, нырнул в торжествующий сон.
Он проснулся еще до рассвета, в мгновение ока оделся и, доверившись памяти ног, пересек еще черную ленту воды и прыжками взобрался на остров. Солнце вышло сперва ободком, потом выросло в красный, подстегнутый радугой месяц, обратилось в оранжевый круг и упало всей мощью на чело скалы за рекой. Он провел там все утро, следя за лучом, как он медленно движется от аула к волне, зажигает ее, а потом начинает проворно скользить по камням, подбираясь к шести белым склепам. Проверив к полудню все то, что хотел, Казгери рассчитал, что копать начнет завтра: на сегодня проделал достаточно. И вправду, он очень устал: почему-то болела спина и смолою слипались глаза. Видно, радость была не из легких.
Он копал точно там, где и должен был прятаться след, неподатливый прихоти случая, очевидный и вместе невидимый и свободный всецело от множества лет. Он копал точно там, куда не заглядывал солнечный луч, заслоненный спиною горы, обходил ее долго, как вечность, а потом, ближе к сумеркам, успевал только чиркнуть последним теплом по приступью покрытого мхом и камнями глубокого лежбища тайны.
С той поры Казгери ходил туда каждый день, на часок — на другой, но не больше, потому что боялся спугнуть шаловливую близкой победой удачу. Если б кто за ним подсмотрел, то подумал бы, он ковыряет в земле, охотясь привычно на змей, собирая улиток. В самом деле, ему приходилось их в том убеждать, доставляя с собою гадюку да в придачу десяток закрученных в узел скорлуп. Ничего, скоро он всем покажет… То есть, конечно, не покажет он им ничего: власть, когда она есть, не нуждается в том, чтоб ее выставлять напоказ, как новую шапку. Власти достаточно знать, что она здесь владыка. А обжиться, она — обживется везде… Предвкушая ее приближенье, Казгери ощущал почти что озноб — так его будоражила эта надменная сила. С нею было возможно презреть все преграды, кроме, пожалуй, себя самого, но с собой-то уладить всякую распрю дешевле… Власть — это то, с чем можно остановиться, вдыхая в себя торжество. А без власти — сплошная за нею погоня…
С копкой важно было покончить до осени, до холодов. Дело, правда, шло даже быстрее. Восхищаясь придумкой того, кто когда-то здесь был Казгери, он твердил про себя в сотый раз (но мысль ему нравилась, не надоедала): это ж надо додуматься — заручиться поддержкою солнца. Все равно что поддеть его на крючок и исправно вести с того света на леске из собственной воли сквозь года и века в неназначенный час, когда кто-то, как ты, приглядится, приценится, сверит чутьем и поймет наконец, где ты спрятал свою неумершую душу. Задумка была хоть куда — связать по дуге, словно ниткой из света, каждодневность восточной зари и закат, а потом рассчитать пятачок слепоты, куда солнце почти и не смотрит, а значит, никто никогда не построит там дом, не разложит ночлег, не задержится пристальным взглядом…
Неделя ушла лишь на то, чтоб построить подмостки, которыми он, Казгери, подпирал изнутри глыбы влажных камней. Заготовив проход, он мог двигаться дальше. Когда появилась из ямы земля, он расчистил площадку, уснащая проход голышами, проверил снаружи, насколько надежен валун, запирающий вход, остался доволен и начал тихонько копать — всякий раз лишь по часу, не больше, покуда хватало огрызка свечи. Вскоре заступ уперся в плиту. Казгери уже чувствовал пятками откровенную, прочную дрожь. Очертив всю плиту в нестойкий квадрат, ковырнул ее киркой, придумал опоры, зацепил по углам, обнял толстой веревкой и, призвав на подмогу все силы, стал тащить плиту на себя. Когда тяжесть поддалась, он заботливо подложил плиту валуном, обвязал по бокам и впервые приблизился к лазу. Было трудно дышать, но гораздо труднее бывало оставаться послушным свече. Ааз был длинный и узкий, неглубокий, как ров под арык. Казгери приходилось ползти по нему, не всегда узнавая в потемках кривизну потайных поворотов.
Наконец он добрался до клада. Незвонкий железный сундук был похож на суровое сердце земли: погребенный под обвалами грунта, он открылся тому, кто искал его, как предназначение, с самой минуты рождения, двадцать лет уж, выходит, всю жизнь, вспоминая его сквозь все жизни, прошедшие мимо, — он открылся неровным пригорком, по причуде скользнувших над ним, ненашедших времен перенявшим овальную форму большого и ржавого сердца. Казгери не рискнул его выдернуть разом из плена трухлявой земли. Осторожно, любовно, подчиняясь внезапной, но легкой печали, он кинжалом сдирал с сундука последнюю вялость одежд, а когда раскопал целиком, не спешил отворить, долго трогая пальцами ракушки тлена. Потом он вдруг понял, что стало темно, взвыл от громкой обиды и, снедаемый страхом, попятился раком назад. Выход был где-то рядом, но где, он не сразу нащупал чутьем, пережив в этот жуткий, длиннющий, как сама вырытая им по наитью нора, совершенно глухой, убийственный миг спазм ужаса.
«Ну и ну, — думал он, — это ж надо — найти свое счастье и так оплошать. Я едва не задохся там, в этой берлоге…»
Позже, ночью уже, перебив странный сон, где его неподвижные ноги грызла целая стая кротов, он вдруг очень отчетливо вспомнил, что словно прилип к сундуку и как будто не мог от него оторваться. «Неправда, — сказал он губами тому, кто им был три столетья назад, — ты же знаешь, что это неправда. Просто я испугался. Еще бы! Тебе ли не знать, каково это — стыть в темноте, когда рядом с тобою такое богатство…»
Выносил он его незаметно, по крохам, для пущей острастки любой нелепой случайности маскируя находки под щелк лесных орехов в своих штанах. Мысль о том, чтоб оставить все как есть, Казгери, конечно, отверг: среди тех, кто ему доводился родней, было двое умельцев читать по следам, как по снегу. Но больше отца Казгери опасался Цоцко. Смерть Роксаны тот ему не простил, хотя доказательств причастности к ней младшего из племянников у него, разумеется, не было. (Кто-кто, а Дзака умела молчать. Особенно если тем самым брала в залог его, Казгери, благодарность. А благодарность — такая штуковина, которая вроде бы и ни к чему, вроде б совсем бесполезна, однако, коли ей дать отстояться, может еще пригодиться поболе, чем, к примеру, хорошая горсть серебра). Цоцко не врал даже взглядом: в последнее время Казгери подмечал, что дядя его вовсе уж как-то презрительно, показно даже от него отворачивается, словно не хочет напрасно мараться. Что ж, тем лучше. Проще будет его провести.
А потом все пошло кувырком. Разом рухнуло, стало бедою.
Весь август Казгери пролежал в забытьи, горячкой борясь с каплей яда, что снедала его изнутри, просочившись в кровь и кусая за сердце клыками бессчетных и юрких гадюк, что когда-либо он умерщвлял своими руками и которые нынче, пока он метался в бреду, подбирались ручьями, растущим липучим плющом к его глотке, ни разу, однако, за все эти дни, за все эти ночи и мокрый туман, наползавший ему на глаза ворсистыми струйками гусениц, не исторгли из глотки его ни полслова, ни звука, ни вздоха, ни выжимки памяти, а когда он впервые почувствовал сильную боль и, как тень от нее, — нестерпимую жалость к себе (и тем понял, что выжил), оказалось непросто расклеить уста, потому что они превратились в коросту от раны — так крепко он их запирал, вонзаясь зубами в губу…
А потом покатились неровным потоком унылые дни, когда он, обрезав на веко оба глаза свои и каждый свой взгляд, бесконечно смотрел в потолок, не моргая, и учился заново думать. И сперва он надумал, что просто возьмет и убьет, едва только на ноги встанет, но потом рассудил, что неправильно это и слишком уж быстро, а ему самому после этого будет издевкой целая жизнь, с укоризной глядящая прямо в затылок, за которую он опротивеет сам себе неудачей настолько, что не раз пожалеет еще об упущенной смерти. Нет. так не пойдет. Нужно что-то другое. Нужно снова найти и забрать. Эта месть куда лучше, хоть, конечно, труднее.
А когда он стал понимать их слова, они ему рассказали, как в тот вечер, распластанный навзничь, он был найден Цоцко за оградой, вот здесь, у забора, с той стороны, где они до того уже несколько раз проверяли, но, видать, он дополз туда позже, удивительно прямо, как, ужаленный, смог он столько ползти. От камышей-то, не меньше, поди, чем три сотни шагов, и потом, вот что странно, к реке они тоже ходили, но, наверно, смотрели не там и не так. «Что тебя туда понесло? — удивлялся отец. — Неужели твой разум моложе тебя на целый твой ум? Доигрался… А я ведь тебе говорил!» Казгери устало кивал, не перечил, а потом, вновь оставшись один, объяснял сам себе: «Значит, им про тайник неизвестно. Значит, он меня притащил на своем же хребте. Значит, он порешил меня обмануть моей же болезнью. Хорошо, я сыграю с ним в эту игру…»
Постепенно он выяснил, что дядя его уезжал из аула раз пять за то время, что лежал он, привязанный к смерти, неспособный ему помешать. Вероятно, тот и не думал его убивать. Просто хотел посмеяться над полным его поражением. Казгери был уверен, что Цоцко их продал. Но теперь его ненависть сделалась глубже, мудрее, помогая себе потерпеть, подождать: Цоцко тридцать пять, стало быть, есть у него, Казгери, лет пятнадцать иль двадцать в запасе. Шаг свой надо ему хорошенько, до искры в глазах, подготовить, примерить, обмозговать.
В сентябре он поднялся и вышел впервые во двор. Ноги были чужие, налитые тяжестью, глухонемые. Но уже через пару недель Казгери обнаружил, что стал возвращаться к ним слух. Он почувствовал, как земля уплывает куда-то, словно стала большим кораблем. Не поверив себе, он решил дожидаться, покуда к ногам вернется и зрение.
К тайнику он сходил только раз. Шел кисленький дождь, было, в общем-то, даже промозгло — в самый раз для таких вот затей. Отодвинув валун, убедился, что в яму никто не заглядывал. Разумеется, кроме того, кто сюда приходил в тот памятный день подобрать его самого. Он пришел и опешил, однако, прежде чем взять и взвалить Казгери на себя, аккуратно присыпал тайник мешаниной щебенки и дерна. Для чего? Чтобы просто внушить ему, будто это он сам? И внушить заодно, что он самолично сумел доползти от стены Тотразова дома до их же двора? А может, он просто хотел показать Казгери, что это вовсе не он, не Цоцко?.. Дескать, кто-то другой обустроил весь этот обман? Мол, Цоцко в самом деле его заприметил, лишь когда его тело, почти без кровинки в лице, поднесли, как подбросили, к их же забору?..
Только, что' он ни думай тогда и теперь, Казгери ему больше не обморочить.
И все же, когда месяц спустя, в октябре, Цоцко вдруг спросил его: «Что ты там прятал?», Казгери будто окоченел.
VI
— Не вздумай хитрить. Я сыскал тебя у тайника, только там ничего, кроме старых костей да разбитых горшков, уже не было. Говори, что ты прятал?
Казгери смотрел ему в серую прорву глаз и не знал, что сказать.
— Да так, ничего… Мелочь всякую.
Цоцко замахнулся и щелкнул кнутом ему по ногам. Казгери невольно подпрыгнул. Было больно и жгло. Он подумал: «Нет, я его все же убью…»
— Говори-ка мне правду, не то мне придется вышибать ее из тебя вот этим кнутом. Что ты там хоронил, в тайнике?
И тогда Казгери вдруг подумал: пусть услышит, подавится тем, что сам же недавно украл, перепрятал и сам же продал. Пусть прикинется, будто это не он. Ложью он пронизался настолько, что я б и из склепа услышал, как смердит он поганым враньем. Я бы это услышал, даже если б был тем, кто был мною здесь три с лишним века назад.
— Хорошо, будь по-твоему. Я расскажу. Только ты приготовься услышать, потому что на это силы нужны. Это только когда потерял, силы уже не помогут. Для потери, сдается мне, лучше бессилье, чтобы не было сил отомстить.
— Ты не умничай. Будет словами мухлевать…
— Хорошо. Там был клад.
— Там был… что?
— Там был клад.
— Там был клад?..
— Там был клад.
— Там был клад, ты сказал?.. Что ж там было, в том кладе? Сундук с серебром? Или, может быть, с золотом?.. Не трави-ка мне байки.
— С бронзой. Но такой, что не снилось ни золоту, ни серебру, — те там были лишь только для весу, все равно что вода для мешка.
— Что ж за бронза такая? И много?
— Ровно столько, чтоб стать богачом.
— Почему ж ты не стал?
— Не успел. Обокрали. Вместо этого стал я глупцом…
— Но сперва изловчился ты стать негодяем. Никому ничего не сказал.
— Верно. Если б я вам сказал, стал бы глупцом еще раньше.
— Вот только теперь ты навроде как дважды глупец.
— Зато ты у нас умник. Умнее любого другого. Куда с таким умником справиться дважды глупцу?..
И вот тут-то Цоцко рассмеялся. Он смеялся так долго, что у племянника зазвенело железом в ушах. А когда он свое отсме-ял, Казгери был почти что повержен. «Мне такое ни в жизнь не понять. Он настолько меня презирает, что швыряется ложью мне прямо в лицо и при этом уверен, что я ей поддамся… Он же знает прекрасно: меня ему так не пронять».
— Погоди-ка, дай отдышаться… Ну, стервец, ты меня уморил!.. Стало быть, ты порешил, что то мог быть лишь я. Что ж, спасибо за честь. Только если то я был, зачем же тогда мне такого паршивца спасать?
— Вот ты сам и ответь. Мне приходят на ум одни лишь догадки. А догадки глупца нам с тобой ни к чему.
— Знаешь, ты ведь и вправду дурак. Но не дважды уже, а, пожалуй, что трижды. Ты настолько дурак, что не хочешь быть тем Казгери, у которого прежде хватало смекалки притворяться ослом, чтоб никто не заметил его хитромудрых проделок. А теперь тот осел в самом деле вдруг начал икать. Ты свихнулся. Ты забыл, кто такой твой единственный дядя Цоцко. Кабы то был Цоцко, ты б сейчас полоскался душонкой на небе. Но скорее бы попросту гнил под землей. Кабы то был Цоцко, он нашел бы возможность схоронить тебя прямо в лазу. Я ведь знал, что ты там копаешь. И, конечно же, знал, где ты вырыл тайник. И, пожалуй, я даже кое-что из него доставал, чтоб прицениться, сколько то стоит. Только после всегда возвращал все назад. И задумка моя заключалась лишь в том, чтоб тебя проучить, а спровадить тебя на тот свет — это, братец, мне было не нужно, потому что твой страх Цоцко выгодней здесь, а не там, где его пережрут червяки. Я мог взять его вместе с той бронзой, да так, чтобы ты был мне очень обязан и молил меня жарко молчать. Я бы взял их в дороге, без которой бы ты все равно не сумел ничего обменять. Только я, как и ты, опоздал. Нас с тобой обхитрили. Так что я, получается, тоже дурак… Но не смей никогда мне про то говорить. Не смей даже глазами…
Он свернул вполовину свой кнут, смерил взглядом племянника, проверил в нем оторопь, вскинул голову кверху, прищурился скупо, подержал глаза в сентябрьском небе, перевел их обратно Казгери на лицо, заставил его покраснеть, отвернуться, затем опустил острый холод зрачков на помятость штанов, усмехнулся одними губами, полистал их концом языка, сплюнул белым, попал Казгери на арчита, наступил сверху пяткой и, толкнув его в грудь, проследил, как он падает задом в траву.
— Так-то вот. Знай свое место. И помни: ты отныне мой постоянный должник. Если что-то удастся пронюхать, не пре-мини рассказать. А не то…
Угрозу свою Цоцко не стал подкреплять ни словами, ни жестом: тот и так ее понял.
Казгери сознавал, что он врет. Но, однако, не мог убедить себя в том, что он врет до конца. Значит, где-то во лжи его пряталась правда. Или, может, не в ней, а за ней? Иначе с чего бы ему затевать такой разговор? Но если представить, что Цоц-ко не соврал, — где искать тогда правду? По соседству с каким из дворов?..
Казгери находился в отчаянии. Будь ты проклят, Цоцко.
VII
Рыба хватает наживку не тогда, когда голодна, а тогда, когда ее к ней забросят. Она хватает наживку, потому что не может ее не схватить. Рыба хватает наживку по одной лишь причине: потому что она рыба.
Но порой, если крепко течение, наживку относит в сторону. Рыба видит ее и послушно плывет вслед за ней. Так устроено Богом и бывает исполнено сильной волной…
Маленькой Софье минуло летом четыре. У нее было двенадцать зубов, косичка ростом с ее локоток, две шитые матерью куклы, небольшой погребок, где хранился любимый засохший цветок, ожерелье из шишек и постелька для глиняной дочки, свитая из камыша. Еще у нее было в запасе несколько тайн, пара маленьких шрамов на круглой коленке, превращавшихся, стоило оказаться на корточках, в узкокрылую бабочку, подсевшую думать с ней вместе про сладкую начинку медового пирога, было три гадких подслушанных слова (их она не пускала к себе на уста, а одно — так и вовсе не очень-то помнила), большая беда размером с божью коровку, пятном застрявшую у нее на щеке (последствия кори, противной болезни, из-за которой теперь никто ее не полюбит), и беда очень большая — братец Тотраз.
С ним она не особо дружила. Был он мальчишка упрямый и вредный и всегда заставлял подчиняться, снося его шутки. Взять хотя бы тот случай, когда он вынудил ее целый час просидеть за длиннющим амбаром — да еще на карачках, среди мошкары, — заверив сестру, что будет искать, ну а сам притом вовсе не думал играть с нею в прятки. Сам он взял и ушел со двора, чтобы вместе с Аланом, сыном тетки ее, мастерить из головок подсолнуха соты для пчел. (Хорошо, что у них ничего из затеи не вышло. Через день или два к ним в подсолнухи вполз лишь небритый жучок).
Так бывало не раз и не два: возьмет и обманет, все же старше на год, хоть ведет себя так, будто старше на пять. А еще он ей выдумал прозвище — Фося, чтоб не путать, мол, с теткой, если кто позовет. Так оно и прижилось: Фося да Фося. Мать сперва отругала его, но потом перестала сердиться — и зря, потому что сама не заметила, как вскоре поддалась и, словно забыв ее имя, обращалась все чаще к ней этой же кличкой. Лишь отец был всегда на ее стороне. Потому-то Тотраз его и боялся: не хотел повстречать его грозный, напрягшийся взгляд.
Софья брата совсем не любила. Он был пакостник и драчун. И противно хватался за волосы, когда ей удавалось его разозлить. Было это нечасто, но все же случалось. Как-то раз она ненароком сболтнула, что Тотраз лазит к Цоцко за забор. Отец тогда так рассердился, что она убежала к реке, а потом, от души там поплакав за брата, испекла ему пять глиняных звезд — ровно столько, сколько умела тогда сосчитать без ошибки. Она очень старалась, а Тотраз принес молоток из сарая и все их, одну за другой, разбил в порошок. Софья его до сих пор не простила. А ему вроде это совсем все равно.
Хотя было однажды, что она вслед за ним полезла на сук — посмотреть, как видят оттуда их птицы, — но ветка дрожала, и она вдруг почувствовала, что больше уже не птенец, а щенок, неуклюжий и толстый. Сук шатался, он словно хотел ее сбросить, и она заревела, прилипла к нему животом, описалась, обняла ветку крепко, так крепко, как только могла, но потом вдруг земля побежала стремительно в небо, небо крикнуло солнцем, спугнуло ее, и она, зацепившись подолом за сук, опрокинулась взглядом на ствол и повисла, а руки ее быстро-быстро хватали за воздух, и тогда ее брат, уже не смеясь, спрыгнул вниз и стал во весь голос звать Ацамаза, который в тот день ковырялся зачем-то на острове в белой пыли. И когда Ацамаз ничего не услышал (очень шумела река), Тотраз, ее брат, догадался схватить из валежника ветку побольше и приткнул ее к дереву под углом. Софья смотрела сквозь слезы, как он, вверх ногами, снимает облезлый бешмет и кладет его сверху на ветку, а потом, выставив руки вперед, тихо зовет: «Ну, давай!..» А когда она шмякнулась вниз, набив громкую шишку, он склонился над ней и, посыпав ее синеватыми зернами глаз (она подивилась тому, как их много, не меньше, чем лежит у ствола желудей), осторожно спросил: «Тебе больно?», и она заместо ответа саданула его кулаком в мокрый лоб. Только он с ней не стал даже драться, просто вытащил из-под нее свой бешмет, противно, как взрослый, ругнулся и пошел, горделиво страдая спиною, к мосту. Тем же вечером Софья дозналась, что не дрался он с ней лишь оттого, что боялся — не сладит: у него поломалась рука. Рука очень вздулась и, казалась, сделалась больше него самого (будто сходила вперед лет на двадцать, а потом воротилась, забыв поменять свой размер).
На расспросы отца брат молчал. А когда она, Софья, решила открыться, посмотрел на нее, как на дрянь, и потом отвернулся, будто видеть ее ему было больней, чем терпеть свою опухшую руку. И тогда она подбежала к нему, схватила за ворот рубахи и стала трясти и кричать: «Ты ведь сам виноват! Признавайся!.. Ты трус и дурак!» Только ей было жалко его, жалко пуще, чем стыдно самой за себя. А потом очень долго ей хотелось себя наказать. Она трогала шишку, чтоб сделалось больно и чтоб рассердиться, ну а он ей в отместку упрямо молчал, словно даже дразниться ему показалось ненужно и скучно, так что несколько дней он сестру в упор не замечал. Когда брат засыпал, она пару раз, как будто случайно, натыкалась в потемках на две бараньих кости, обхватившие твердой повязкой горячую руку, и тихонечко гладила их, пока он, как всегда невпопад, не проснулся однажды и, протяжно зевнув, не сказал: «Коли хочешь виниться, валяй. А не хочешь — щупай лучше свою пустую башку».
Ну как ей жить с таким человеком?!.
Правда, он своего почти что добился: с тех пор она на него ни разу не донесла. Разве что припугнет иногда, а ему все равно наплевать. Вот такой вот урод, ее брат. А сегодня он взял и принес ей в постель живую лягушку. Ну и крику тут было!.. Сама не своя, она дико визжала, прижавшись к стене, а он, ее братец, заявился опять на порог, сияя бесстыжей ухмылкой, и спрятал лягушку в карман — точь-в-точь в ту секунду, как вбежала в комнату мать. И, конечно, мать Софью спросила: «Что случилось?», а она ей ответила: «Сон». Будь Тотраз поумней да не будь таким наглым, мог бы после сказать ей спасибо за то, что она его не сдала. Но вместо спасибо он подбросил ей в миску с похлебкой крестового паука. А потом он вывел из хлева телка, сел тому на загривок и пустился хлестать хворостиной, нападать на нее. А потом он опять притворился, что стал вдруг хорошим, попросил ее сбегать к реке и слепить — что б вы думали? — дюжину дулек, потому что, всем ведь известно, лучше маленькой Софьи никто глину не уговорит. А когда она воротилась, он прикинулся, что удивлен, и спросил: «Что такое?» И тогда она догадалась, что это подвох, но, надеясь еще, что Тотраз позабыл, пояснила: «Дульки. Ты же сам и просил». И тогда он как расхохотался, стал себя колотить по бокам и кричать: «Поглядите на глупую квочку!.. Сколько кукишей ей ни давай, а ей мало, никак не хватает… Ну и жадная Фоська до дуль!..» А она от обиды стала кидаться, да все мимо, все как-то не так. А потом побежала в хадзар, за подмогой (она вправду хотела, потому что — сколько ж можно такое сносить!), только матери не было в доме, и, конечно, Тотраз о том знал. Он кричал со двора: «Что, не вышло? Снова дуля? Ну тебе и везет!» И тогда она вспомнила, что Мария, подруга ее и почти что родная сестра (в тыщу раз лучше этого вот обалдуя), захворала вчера нехорошей простудой, «лютой» — так сказала ей мать. Значит, к ним сейчас мать и ушла. Отец — тот с утра боронил на участке ленивую землю. Можно было бы сбегать туда (ей любилось смотреть, как земля, растворяясь, выползает изгибом, неспешно плетет себя в косы под гребнем густой бороны. Если долго на это глядеть, на тебя будто исподтишка навеется точно такой же неспешный, уползающий в радугу сон).
Нет, идти ей сегодня к отцу не хотелось: не удержится, скажет ему, а потом пожалеет. Матери — той-то можно: заступилась бы за нее и брату б поддала, хоть, конечно, ему не очень-то больно, но все-таки — лучше, чем ничего. Но к сестре сейчас путь был заказан: только что к ним во двор побежал непутевый Тотраз. Как же, нужно похвастаться перед Аланом, — тот такой же смешливый балбес. Стало быть, Софье надобно перетерпеть. «Пусть они отсмеются свое, а после забудут. Тогда и пойду».
Впустую слоняться по дому было слишком тоскливо. Смотреть на огонь в очаге — недолго уснуть. Лучше уж побродить по двору, собирая привычную мзду: одуванчики, камушки, окатыши оброненной шерсти, стрекачей-кузнецов, пляс травы, тропки ветра по ней, возню муравьев… Насмотревшись на всю эту скуку, Софья решила идти вдоль забора, споря с временем, еще одним своим нехорошим врагом. Было важно его обмануть и не сразу достигнуть калитки (просто так вот сидеть, как цыпленок, на корточках, делая вид, что тебе интересно, было невмоготу). Софья знала по опыту: труднее всего в жизни быть очень медленной и притворяться, что ничуть не спешишь.
По пути попадались ей тут и там осколки разбитой вдребезги глины. Стало снова досадно, но ей удалось не захныкать — мало ли что, вдруг увидит, а потом ее изведет. Вот ему! Она растоптала строптивую дульку до крошек. Не успела сделать и пары шагов, как вдруг зацепилась носком за какой-то кусачий, когтистый, пронырливый камень, охнула, наклонилась, поразмяла пальцами боль, поискала глазами обидчика, достала его из травы и вдруг радостно вскрикнула: то был вовсе не камень, а какой-то зеленый чудак. Пухло легши ей на ладонь, он смотрел на нее провалом оленьих глазниц и был очень тяжелым, очень красивым, ненастоящим каким-то, будто был тоже вылеплен кем-то, неизвестным искусником-силачом, из твердой-претвердой смолы, а может, даже из стали, или, там, из большого куска непонятного цвета железа. Вот это находка!.. Тотраз лопнет от зависти. Только она так сразу ему, ни за что ни про что, не покажет. Не-е-ет уж, дудки… Не на такую напал. Сперва она его помучит загадками, а потом станет расписывать, на что это было похоже. А потом, если ей повезет, она слепит из глины такой же и скажет: «Видал? Только тот был, конечно же, лучше стократ». А когда он начнет умолять ее: покажи, она выкрутит кукиш и скажет: «А вот это ты узнаешь? Догадайся с трех раз, кто из нас дурачок?..» Тогда-то мы и посмотрим! Еще будет прощенья просить…
— Эй, Фося-Софося, где твой брат?
Она оглянулась. В калитку входила дочь толстяка-чужака Ацырухс. Софья и не заметила, как та подошла к их ограде. Вот и отец всегда говорит: ходят бесшумно, как тени. Их, мол, видишь только тогда, когда услышать уж поздно.
Ацырухс была старше их с братом на добрых лет пять. Софья ее ненавидела: та была так хороша, что быть с нею рядом девчонкой становилось позорно. На лице ни единого пятнышка, даже корь ее остереглась. Говорят, она ею тоже болела. Софья ее ненавидела жарко и стойко. Пожалуй, еще оттого, что Тотраз, глупый брат ее, вечная боль и морока, лазал к ним за забор неспроста, а затем, чтобы лишний разок поглядеть на нее, Ацырухс. Софья знала: доведись ему выбирать между ними и приставь даже к ней самой еще и Алана с Марией, он ничуть не задумавшись выберет эту вот…
Волосы Ацырухс разметал легким золотом ветер, и они колосились на солнце широкой волной. Софья больно подумала: «У нее такая белая кожа, будто сделана прямо из льда. И глаза… Такие глаза, что смотреть в них труднее, чем на огонь. А еще она ходит, будто плывет. Вот бы мне научиться…» Она осеклась и нахмурилась:
— Зачем тебе он?
— Да так, хотела спросить кой о чем…
— Это о чем же?
Но, казалось, та ее уже и не слышит. Ацырухс подошла к ней вплотную:
— Что ты прячешь там за спиной? Покажи-ка мне. Ну?.. Софья вдруг ощутила, что вот-вот оплошает, уступит, а потом будет долго себя проклинать. Та уже к ней тянула ладонь.
Прижавшись спиною к забору, Софья силилась не поддаться ей, утерпеть. Ацырухс спокойно ждала, подарив ей ладонь на томительный миг, словно выставив напоказ ее светло-розовой чашечкой, сорванной с какого-то диковинного цветка. Заглянув внутрь этого гладкого, почти прозрачного по краям лепестка, чистого, словно ушко младенца, Софья медленно потащила из-за спины свой кулак. Но, не успел он разжаться, как она, то ли со злости, то ли просто смущенная тем, что он так непростительно, постыдно смугл и чумаз, неожиданно развернулась и, что было силы, швырнула находку прочь. Пока летел мертвой птицей за забор, олень перестал быть оленем и сделался разлапистой помаркой, которую было совсем и не жалко проводить своим взглядом на Хамыцев двор. Покраснев от отваги и гордости, Софья вновь посмотрела на Ацырухс и, не скрывая злорадства, спросила:
— Что, съела?.. Не все быть по-твоему.
Ацырухс лишь пожала плечами, убрала ладонь, поселила ее ненадолго белым облачком в волосы и, расправив пальцами локон, безразлично произнесла:
— Ну и дура ты, Фоська. Хотя лепишь неплохо. Напрасно стесняешься.
— Ничего я тебя не стесняюсь!.. Да и кто ты такая, чтоб я постеснялась тебя? Просто нечего нос свой совать, куда незачем, потому что нечего нос свой совать, если суешь нос, куда совсем и не след… — Она окончательно запуталась, но, чтобы не подать виду, весомо закончила: — Я же к тебе не хожу.
— Ты-то не ходишь. А вот брат твой частенько бывает.
— Потому что брат мой осел! Я вот отцу расскажу, он его отдерет, как…
Внезапно она замолчала, ошарашенно глядя на то, как ладонь Ацырухс накрывает ей мягкой подушкой уста:
— Тс-с-с… Тихо ты. Ну-ка пригнись.
Беспрекословно повиновавшись и вдыхая ноздрями волнительный, непонятный, воздушный какой-то, по крайней мере, совсем нетутошный запах прильнувшей руки, Софья села на корточки и, проследив за глазами непрошеной гостьи, вдруг сделавшейся здесь полноправным хозяином, стала тоже глядеть сквозь ограду на то, как спешит мимо дома в сторону выгона возбужденный Цоцко. Он был очень доволен собой и что-то тонко насвистывал, поливая кнутом по ногам свою радость. Так их и не узрев, он раз или два смачно щелкнул кнутом по забору, заставив девочек вздрогнуть. Потом шаги удалились, и Ацырухс убрала руку с Софьиного рта.
— Опять надумал что-то, — сказала она. — Кому-то вскорости не поздоровится. Можешь не сомневаться: уж я-то его знаю.
Поднявшись на ноги, она отряхнула колени, оправила платье, откинула пряди со лба и, красивая, свежая, непонятная, опять совсем чужая, помахала Софье рукой:
— Ну ладно, Фося-Софося, я, пожалуй, пойду. Мои тоже не любят, когда я к вам хожу.
Задержавшись на Софье глазами, она вдруг прищурилась, шаловливо мигнула и, внезапно склонившись над ней и волшебно обдав ее колыханьем волос, коснулась легонько губами (все равно что лучик упал, мелькнуло в головке у Софьи) ее загорелой щеки. Та зарделась и чуть не заплакала. Мгновенье спустя, словно силясь ее удержать — в пределах двора, в объятиях своего отворенного настежь прыгучего сердца, — Софья позвала, попав взвизгнувшим голосом в удалявшийся стебель спины Ацырухс:
— Так чего ты к нам приходила? Чего от брата хотела? Что-нибудь ему передать?
Ацырухс улыбнулась и, махнув на прощанье рукой, прислала ей с ветром ответ:
— Передай ему, что цветы мне понравились. Только я его все равно не люблю…
Вскочив на ноги, Софья схватила с земли комок дерна и швырнула ей вслед. «Что за день такой, отчего я все мажу да мажу?..» И тогда, не спросясь ни у неба, ни даже у вредного карлика, что стерег, оставаясь невидим, все грехи и грешки ее, считая во тьме барыши, не спросясь ни у страха, ни у въедливой совести, предававших ее иногда стыдливой слезой, впервые, пугаясь себя, она призвала к себе на подмогу из памяти нехорошее, подлое взрослое слово, прошептав его кряду шесть раз.
Потом пришла мать. День скоро закончился. Очень скоро растаял и его светлый след. Так никто никогда не узнал, что сегодня две упрямых девчонки да беспутно, напрасно влюбленный в одну из них, упорхнувшую бабочкой со двора, мальчуган (тот самый, что, удачно сбежав со двора, не нашел, слава Богу, того, что сыскала затем лишь от скуки случайность, а потом, очень вовремя и очень впопад, прочь отбросила зависть по-детски ревнивой рукой), — что они, все втроем, спасли жизнь человеку, весь тот день напролет боронившему склон. И, конечно, никто не узнал, ценою чего…
VIII
Прошло пять дождей, пока Казгери не наткнулся на то, что искал. Искал, не особенно веря, что сможет найти или должен.
Начал он с Ацамаза. Причина понятна: только он ведал больше о склепах, чем кто-то еще, не считая сюда самого Казгери. Пока он был болен и метался в безмолвном бреду, Ацамаз побывал на их острове с дюжину раз. С чего бы?..
Брат рассказал, что ходил он туда в одиночку, но с заступом, все чего-то копал да взрыхлял бесконечную пыль. Потом, правда, бросил, но был до того недоволен, что каждый закат изводил им свирелью. «Старина Ацамаз совсем спятил, — объяснял ему брат. — На прошлой неделе я видел, как он несколько раз запрягал свою клячу, а потом, передумав, распрягал ее снова и все чего-то ворчал. Будто хочет куда-то уехать, да никак не решится, куда…» Как бы то ни было, а лаз Ацамаз не сыскал. Казгери, конечно, проверил. Там все было, как прежде, только хуже: сплошь раздрай для души…
Подозрения его, однако, окрепли, когда он увидал, как Ацамаз чертит палочкой что-то по влажной земле, осторожно сверяет рисунок по солнцу, а потом, чтоб не дать никому подглядеть, вытирает подошвой свои закорючки и, осуждающе покачав головой, долго хмурится, глядя на их сверкающий стенами дом. Дождавшись, когда он, нацепив на себя патронташ и ружье, покинет хадзар, Казгери без труда проник в короткий оградою двор, прополз до порога на брюхе, в мгновение ока распахнул тяжелую дверь, прошмыгнул в нее и снова прикрыл за собой, и почти тут же в ноздри ему ударил скорбный дух одиночества, похожий на чуть расплавленный воск. За все эти годы Ацамаз обзавелся лишь шаткой скамьей, низкими нарами, парой шкур на железных крюках да уродливой кухонной утварью. В хадзаре не было ни чулана, ни подполья, ни даже ниши в стене. Простучав все утлы, Казгери убедился, что все это зря: дом был пуст, как и вся Ацамазова жизнь. Это ж надо, прожить столько лет лишь затем, чтоб ничто сюда не вселилось даже настенной зарубкой о погубленных днях…
Он смотрел и в сарае, и в ветхом амбаре, и в заброшенном старом хлеву, где, похоже, никогда не стоял за изъеденной сыростью балкой ни буйвол, ни какой-никакой, но бычок. Посмотрел под куцым навесом, где обычно дремали пять убогих овец, посмотрел и на заднем дворе, просчитал пядь за пядью забор, но опять же — напрасно. Ноги молчали, а чутье подсказало, что это — не то.
Стало быть, если не он, подходил черед другого соседа, Тотраза: тот был, в общем-то, глуп, но хитер. Казгери довелось наблюдать как-то раз его на охоте. Упрямый и ловкий, как плющ. Тотраз — тот умел обмануть неудачу терпеньем. Помнится, все уж отчаялись выследить волка, что зарезал им на аул за неделю десяток овец, а тот вдруг уперся, сказал, что так вот негоже, что намерен в лесу задержаться и дело доделать один. И они лишь спросили: насколько? Он плечами пожал и ответил: на пару деньков, коли мне повезет. И Цоцко ухмыльнулся: а если вдруг нет? Если, мол, везения ты все ж не приманишь? А Тотраз поглядел на него исподлобья и тихо сказал: ничего. Везенье — не штука. Штука — если ты не мастак обходиться совсем без него. Тут вмешался Туган: про везенье тебе лучше б нашего старца послушать. Только, может, тебе оно поздно уже. И Хамыц, чтобы не было ссоры, отвел друга в сторонку. Они негромко поспорили, но, похоже, без толку: Тотраз был непреклонен, и тогда Ацамаз и Алан развернули котомки и отдали все, что было у них из съестного, а Хамыц — тот просто сказал: коли ты к послезавтрему не воротишься, я приду за тобой, подсоблю. Тот кивнул, и они разошлись.
Только Тотразу хватило и суток. Через день он вернулся со шкурой, которой с лихвой можно б было укрыть весь ныхас. Он его и укрыл, а Туган всякий раз, как всходил к ним туда, от зависти прямо весь морщился, словно зубы ему кизиловыми ягодами подменили, а те не успели созреть. Потому что любому известно: метче Тугана, отца Казгери, верст на сто от ущелья есть только Туган, отец Казгери. Но, в отличие от соседа, Тугану тогда не хватило терпенья. А что, если этим терпеньем Тотраз притворяется, что не ведает ничего про тайник?..
Но и тут Казгери ждала неудача. Сколько он ни следил, ни провел там бессонных ночей, сколько он ни старался услышать подсказ, разговорить его стены и землю, — все тщетно. К тому же очень уж ныла душа, подтверждая его опасенья: Цоцко просто солгал. Уверенность в этом росла в Казгери с каждым днем. Но мешал ему страх перед дядей, потому что, коли то был Цоцко, значит, выхода не было: признав, что ему все известно про клад, тот словно тем самым предупреждал: дескать, я начеку. А когда Цоцко начеку — он способен на все. Достаточно вспомнить Роксану…
Казгери приходилось в себе сомневаться, вытравляя сомнением страх. А когда ты напуган, верить в то, что ты лишь мудрее пугающей правды, вроде как легче уже.
Так что он занялся потихоньку Аланом. Но и там было чисто. Совсем ничего. Ни единой зацепки. Только риск быть пристреленным, словно вор, по ошибке проникший туда, где и украсть-то нечего.
Оставался Хамыц. Почти безнадежно: тот был честен и прям, как его же ружье. Недаром меж них родилась поговорка: если Хамыц угодил в кабана, значит тот был иль пьян, или очень уж жалостлив, или умер от смеха, пока тот в него попадал. Хамыц был почти что не в счет. Казгери все больше грустнел. Стало ясно: теперь не отвертишься, это — Цоцко.
Однако дни шли, а Цоцко и виду не подавал, что помнит тогдашний их разговор. Это могло означать лишь одно: он выжидал. Но чего? Того, что племянник его вконец собьется со следа, или, может, того, что он его наконец-то возьмет?
Как-то раз Казгери осенило. Он отправился к деду, ведь тот, как его ни кори за глаза, как ни смейся, а умел объяснять поумнее других. Частенько ему хватало лишь пары рубленых слов, чтобы вдруг все простое представало немыслимо сложным, а всякая сложность на поверку выправилась проще любой простоты.
Казгери обождал, пока старик отобедает и привычно наполнит утробу четырьмя ковшами воды, потом — пока тот погрузится в дрему, под самую крышу заполнявшую дом раскатами грозного храпа, услыхал, как храп постепенно сменился причудливым свистом, предвещая отборную брань, набрал полный рог двойной араки, взял в руку осьмушку чурека и смело вошел. Дед сидел на широких, в повозку, дубовых нарах, ковыряясь в носу и уставившись взглядом в несоразмерно дородные ноги, будто приставленные к нему двумя стволами переживших свои когда-то могучие кроны деревьев. Он был похож на великана, замышляющего снова вырасти до размеров своих раздутых конечностей, но позабывшего вдруг, как это делалось.
Безмолвно приняв от внука рог, старик опорожнил его в три глотка, подождал ответ от желудка, отрыгнул облегченно и, только теперь приподняв усилием воли свой взгляд, удивился глазами:
— Ты? Где женщина?..
— Чешет шерсть во дворе, — сказал Казгери и тут же, пока тот не взялся ругаться, приступил немедленно к делу. — Я вот подумал намедни: отчего это люди врут, когда даже обмануть не стараются? То есть знают, что вруг, и знают, что им не поверят, а все равно почему-то упорствуют? В чем тут выгода?
Старик, казалось, не слышал. Он был занят тем, что вслепую шарил рукой за спиной, словно пытался приподнять себя за штаны. Потом достал оттуда клюку, примерился и запустил ею дротом во внука:
— Прочь, бездельник! Твоей головой лишь орехи колоть… Позови-ка мне женщину.
Казгери разогнулся, поглядел на оставленный палкой синяк на стене, поднял клюку, повертел недолго в ладонях, прикинул в уме возможный ущерб для себя, не сумей он вовремя увернуться, потом прилежно поставил ее в уголок, поклонился покорно и тихо сказал:
— Спасибо тебе. Я все понял.
Дед пошамкал губами, ковырнул взглядом внуку лицо, заподозрил подвох, плотнее укрылся морщинами, хмыкнул презрительно и вопросил:
— Уж не задумал ли ты меня смирением пронять? Тогда твоя голова и для гнилого ореха — глум.
— Оно конечно, — сказал Казгери, — обзываться попроще будет, чем взять да растолковать. Особенно если и сам не уверен в ответе…
— Подай-ка мне палку, и я тебе вмиг растолкую, негодник! Заодно поучу, как дерзить…
— Не надо, дада. Я лучше пойду. Видать, мне сегодня умом не разжиться.
Старик презрительно крякнул, посмотрел искоса, сплотил начерно брови, пожевал ртом слова, махнул рукой и сказал:
— Не знаю, что там скребет твою сучью душонку, только вижу, ей хвост защемило. Выходит, явился ты неспроста. Но ответ мой тебе все равно не помощник.
— Почему? — спросил Казгери. — Может, мне он важнее сейчас, чем уши мои и глаза: сколько ими ни слушаю, ни смотрю — крутом глушь да туман. А мне тропка надобна…
— Коли очень надобна, сдается мне, ты уже на нее и набрел. Просто кишка тонка сдвинуться с места. А ответ мой тебе известен и так: люди, если не дураки, врут всегда. Особенно — когда говорят чистую правду.
— Это как?
— А вот так. Правда — лучшая из приманок в устах у лжеца, потому что соврать ею может он легче, чем самым искусным враньем: все равно не поверят, зато сторожить будут истину там, где ее не водилось.
— Значит, ему сподручней правду сказать, чем выдумывать ложь?
Старик кивнул: — И навыворот.
— ???
— Честному легче соврать, чтоб поверили, если вздумает вдруг всех провести.
— Но тогда он тоже вроде как лгун?
— Конечно. Все лгуны, просто до поры до времени кое-кто не догадывается. Но потом распознает в себе потребность соврать, тогда и поймет, что прежде сам был одним лишь притворством.
— А ты часто врал?
— Нет. Чаще мне доставало сказать чистую правду. К примеру, про то, что место это отравлено. Но разве кто из вас в это поверил?
— А с чего ты решил, что оно так уж отравлено? Место как место. И даже получше других. Разговоры про реку — мура.
— При чем здесь река!.. Не она нас погубит. Тут другое. (Погляди на этих сестер.
— Что с ними не так?
— А то, что так не бывает. Раз уж с нами такое случалось. Вспомни того наглеца…
Казгери вспомнил Роксану, потупился и промолчал. Дед был прав: столько разом зеркал не бывает. Но дед ошибался: любое зеркало, если мешает, можно разбить без труда (в первый раз они так и сделали, хотя, признаться, не знали еще, что у Аслана есть в припасе двойник). Только зачем разбивать, когда может оно пригодиться?.. У Казгери имелся на это свой надежный расчет: в зеркалах есть всегда свой обман, а обман может стоить немало…
— Скажи-ка, дада, а кто тут у них самый честный? Тот ответил совсем не задумавшись:
— Хамыц. Обмануть у него пока что и повода не было: слишком Бога боится, а жена все никак не снесет. Он-то думает, это все от греха, что когда-то он взял себе на душу. Не научится, как замолить. Неспроста Ацырухс с ним так дружит. Он ей будто любимая кукла, можно играть, обижать и ронять, — все стерпит.
— Стало быть, если Хамыц захочет соврать — никто не поймет?..
— Он-то вряд ли захочет. Разве что…
— Что — разве что?
— В жизни всяко бывает. Только этот соврет — как оступится. И не больше чем раз: совесть после замучит. У него она есть. Он не ты…
«И, конечно, не ты», — подумал украдкой взволнованный внук. Ноги звали его за собою по следу. Он почувствовал голод в груди. Разговор продолжать ему было, пожалуй, не нужно.
— Я пойду, — сказал он.
— Позови-ка мне женщину, — приказал ему дед, а потом вдруг добавил: — Знаешь, а ведь бабка тебя никогда не любила. У нее имелось чутье. Брат твой был ей куда как милей. А в тебе ей звереныш чудился. Дескать, скалится да ногами сучит, что твой волчонок. Ты и был, как звереныш, только чуть тупее клыком. А теперь ты уже не звереныш. Но еще и не зверь. Зверем станешь, когда одолеешь Цоцко. Но его ты едва ль одолеешь…
Казгери покраснел. Неужели старику что-то стало известно?
На дворе света было не по-осеннему много. Он Казгери раздражал. Надо было дождаться ночи и проверить все то, что сказал ему дед.
Когда Дзака вошла к мужу, он показался ей совсем больным и уставшим. На лице у него была прописана боль.
— Помоги мне, — сказал он. Она заперла дверь на крючок, присела с ним рядом, привычным движеньем руки распахнула платье у себя на груди и положила туда его голову. Старик дышал ее кожей и подрагивал веками, встречая ими свои короткие, как пчелиный укус, и разящие мысли. — Когда я умру, урони мне в могилу немного слез, настоящих. Если сможешь. Ты сможешь?
— Смогу. Но ты не скоро умрешь. Ты сильнее их всех.
— Неправда. Они меня изведут'. Ты им тоже поможешь?
— Ты мне не веришь?
— Я верил только старухе, Роксане и Ацырухс. Две из них меня уже предали, а третья… Третьей то и не нужно: Ацырухс никогда не была мне верна. Она сама по себе. Словно солнце.
— А что же твои сыновья?
— Сыновья нужны лишь затем, чтоб доживать за отцов их грехи и плодить из них новые. Дочери — это другое. Они приходят сюда для того, чтоб за эти грехи расплатиться.
— Ты никогда мне об этом не говорил.
— А я никогда о том и не думал. Просто день сегодня такой — умнее меня самого. Никак мне с ним в одиночку не разобраться.
— Я тебе помогу. Говори.
— Я чувствую, как все вокруг трещит по швам, но ничего не могу поделать. Стоит мне умереть, и вы разругаетесь. А я буду смотреть на вас из своего темнющего далека и сердиться. Я знаю, так оно и будет. Потому что эта река идет кругом. У нее нет конца, а зачата она давным-давно и не здесь, не на этой вершине.
— Ты о чем?
— Я видел все это прежде. Там тоже была река. Я ее ненавидел. В нее стекали все наши дни, а взамен она поила нам новые, такие же пустые и гладкие, как те, что ушли. Там ничего не менялось. Все было так, будто жизнь — лишь река, и в ней никогда ничего не случится.
— Ты говоришь об отце?
— Его я ненавидел похлеще реки. Он был очень красив, очень набожен и совершенно безгрешен. Он любил рассуждать о добре, а сам не скопил ничего, кроме спеси, что может вот так, терпеливо и ровно, прожить столько лет, сколько отмерено свыше, и ни разу не запятнать себя нетерпением. Он не скопил даже долгов, по которым можно было б хотя бы не расплатиться и тем самым накликать иную судьбу. Мать его ненавидела тоже. Он превратил ее словно в батрачку своей чистоты, а чистота эта была, как ладонь без единой складки. Когда я впервые солгал, он привязал меня постромками к плетню и на глазах у всей родни обработал кнутом мою спину, приговаривая: «Борюсь за дух твой через наказание плоти твоей, покуда она в тебе им заправляет». Но это, клянусь тебе, было не так. Плоть моя была ни при чем, потому что дух мой уже тогда был на целую гордость сильнее. Он-то и подсказал мне в тот день решение: что бы там ни случилось, а я отца проучу. Не может быть, чтобы в таком вот праведнике не завелись за столько-то времени черви. Я стал их искать. И, конечно, нашел, а потом собрал их всех вместе в длинную цепь, подвязал ее плетью к руке и дал себе слово, что пущу ее в ход лишь тогда, когда он опять решит из меня ангела делать. И вот однажды, узнав, что я обзавелся новым ружьем, не заплатив за него, видит Бог, ничего из того, что было похоже на деньги, отец позвал меня и сказал: «Придется с ружьишком расстаться. Негоже людей их же тайнами обременять. Иди и верни, а потом я попробую поучить тебя бескорыстью молчания. Будет это больно, но правильно. Только, боюсь, кнутом нам с тобой на сей раз не отделаться. Придется что-то другое придумать. Например, зерно под колени, да на целый день». И я сказал: «Как бы не так». Он посмотрел на меня, будто плохо расслышал, и я повторил: «Как бы не так. Ничего не получится. Ружье будет при мне, пока я не решу обменять его на какую другую выгоду. Есть у меня кое-что про запас, да такое, что сам ты и купишь…». Он побледнел, как кость, и затрясся, хотел было встать, да не смог, потому что я глядел на него его собственной правдой, от которой он пытался уйти столько лет. Он так и не сподобился что-то сказать, тогда я достал свою плеть, сочиненную из его же червей, и принялся ею хлестать. «Помнишь, был у тебя давненько дружок, Таусби? Говорят, не разлей вода были. Только вздумалось Таусби, у тебя не спросясь, приглядеть себе девушку, да так выходило, что она вроде как тоже в своих снах на него натыкалась, а днем Таусби увидав, вся румянцем сплошь покрывалась и становилась от скромности своей еще краше, хотя казалось, что краше уж некуда. Однако тебе было то совсем не по нраву, пусть ты и виду не подавал. Таусби был парень приметный, да робкий. Из хорошей опять же семьи. Да и девушка была хоть куда. А отец у нее и вовсе священник. Пастырь Божий на грешной земле. Стало быть, святости дочери не занимать. Короче, парень и девушка друг другу были небом предписаны, да только вдруг приключилось с ними такое, что и на правду-то мало похоже, меньше даже похоже, чем хорошая ложь, меньше, чем, к примеру, стриж на орла или еж на подмышку. Но коли оно приключилось, значит и спорить тут нечего. Таусби отчего-то надумалось невесту свою воровать, хотя было сподручней сосватать ее и венчаться благословеньем ее же отца. Только он ни с того ни с сего порешил влезть к ней ночью в окно. Говорят, едва он там показался (точь-в-точь разбойник, по глаза замотанный башлыком), как невестин отец в него и пальнул. Попал очень удачно, прямо в лоб, как если бы ждал, что к ним явится в гости непрошеный враг. А когда башлык развязали и на лицо поглядели, стало понятно, что святой отец пристрелил совсем не того, кого надобно, кого, быть может, изготовился с вечера и хотел пристрелить… Да вот было совсем непонятно, отчего это тот, кто должен был там оказаться заместо бедолаги Таусби, в это время крепко спал у себя в постели, ни о чем не ведая и ничего не подозревая, хотя Таусби, говорят, ему доверялся настолько, что недели за две до того уже и с родителями своими обсудил, что хотел бы его видеть' дружкой на свадьбе, и те согласились: да, мол, лучшего дружки тебе не найти. Но теперь выходило, что насчет свадьбы своей Таусби вроде как передумал, словно что-то такое прознал, отчего у него вмиг пропала охота жениться как то положено, через божеское и родительское благословение, зато взыграла в нем бравада невесту похитить — причем в одиночку, без друга. До сих пор не очень понятно, с чего это вдруг он пошел воровать себе счастье один, да еще без коня, только в черном бушлате, словно больше всего собирался он спрятать лицо, да ведь его-то, лицо, все равно бы первым делом к истории этой приладили. Глупо. Даже для Таусби. Зато вот приятелю его повезло с той поры куда как поболе. Говорят, не прошло и черного трауром года, как сосватал он ту же невесту и не встретил отказа. Говорят, сразу после того, как они поженились, отец ее сделался мрачен и даже плаксив, а потом взял с горя да помер, привалившись спиной к алтарю. Вот ведь как приключилось, и молитвы не помогли. Но тут и дивиться-то нечему, потому как молитвы — те же монеты, только цена им — ломаный грош. Ты-то знаешь, поди. Уж кому тут не знать, как тебе. Ты-то с Богом беседуешь дни напролет, все как будто хочешь задобрить. А я вот что подумал: кабы то был я сам, а не ты, право слово, сочинил бы разом две лжи, и одну из них я, пожалуй, отнес бы в часовню, пригрозив святому отцу, что, коли он заупрямится и не выдаст дочь за меня самого, я ее просто похищу, ведь свадьба уж близко, стало быть, нужно спешить. А потом я бы взял и сходил к Таусби, рассказав ему, как вернейший из лучших друзей, по секрету, что его тихоня-избранница по ночам привечает какую-то тень, будто видел то сам я, клянусь небесами. И тогда бы уж мне осталось лишь чуть потерпеть, пока оба обмана не сойдутся во тьме и не встретятся выстрелом. Вот что б я сделал, будь я ты двадцать три года назад. Только после того как все вышло, я б не стал тратить сил на молитвы Тому, Кто и так меня раз уж покрыл. И, поверь мне, не стал торговать с Ним единственным сыном. Так что двадцать три года спустя не пришлось бы мне покупать нынче это ружье, как тебе, обменяв его на молчание, своего же коня, двенадцать рублей серебром в старом медном кувшине, закопанном в нашем подполье (все, чем я, будь я ты, разжился б взамен на пристойную жизнь в двадцать три года ценой), и еще — разрешенье уехать со всем этим скарбом туда, куда просит душа (она просит — подальше отсюда, от цепкой твоей нищеты, от покорности лживой, от тебя самого, потому что ты хуже, чем я, ты хуже, чем все, ты хуже того, кем ты был даже двадцать три года назад, когда стал подлецом и почти что убийцей, ты хуже — потому что теперь ты еще неудачник). И, конечно, мне, как тебе, не пришлось бы сегодня, купив у сына ружье, подарить его тут же тому, кто тебе его продал, потому что ему оно ой как надобно в длинной дороге. Мне не пришлось бы сидеть, как тебе, за собственным фынгом и смотреть, как прямо в глаза тебе говорит твоя совесть, от которой бежал ты сюда, в этот день, целых двадцать три года подряд. Бежал, да не вышло, потому что ее ты однажды продал, да не всю, а когда она продается — лучше продать ее всю до конца и забыть, но ты вот не смог. Ты надеялся, что она тебя пощадит, зарубцуется давняя рана, просто нужно, мол, жить впредь лишь правдой, чтобы сделаться через нее страдальцем и праведником, почти что скопцом для своей же постылой любви, потому что ради нее, ради этой любви, похожей на муку, предал ты больше чем дружбу. Ты предал раскаянием все из того, что пришло вслед за ней. Ты плодился, терпел, обжигался о память душой, изводил себя потом на пашне, не давая пощады не только себе, но и тем, кто был рядом с тобою. Ты надеялся, что уцелеешь, сумеешь сполна оплатить свой должок, жертвуя небу по капле не только себя, но и всех, кем ты нынче разжился, заставляя жену свою, дочь, сыновей непрестанно трудиться во имя прощения. Только тут ты ошибся. Ошибся покрепче, чем двадцать три года назад. Потому что — нельзя воровать у себя самого. А ты попытался. Ты хотел все представить, как просто случайность, да еще и поверить в то так горячо, словно сам ты и правды не ведал. Ты решил быть рабом, а мог попытаться стать богом. Ты решил замолить все грехи, хотя мог бы из них сотворить беспримерную, страшную силу. Рассуди-ка по здравости, а не по кресту: большего грешника, нежели Тот, Кому платишь ты, словно оброк, ежедневную, подлую дань трусливой, позорной молитвой, на земле не сыскать, потому-то, видать, Он пасет наши души на небе. Только я не овца. И не трус. И не буду страдать и терпеть. Я хочу взять свое и уйти, чтобы больше тебя и не встретить. Вот ружье. Ты готов заплатить? Конь, свобода и старый кувшин с серебром — в обмен на молчанье…» Он сидел, обхватив свои плечи руками, словно старался себя удавить, сделать меньше, исчезнуть, а я не сводил с него глаз. В этот миг он был жалок, презрен, как никто для меня до того. Странно было, что он мне отец, и я тогда же подумал: «Если этот мозгляк мне отец, значит я сирота. Такой отец мне и даром не нужен». А потом он принес мне кувшин с серебром, скинул с крюка поводья, протянул мне седло и сказал: «Будь ты проклят. Вот такое тебе от меня достается последнее благословение. Убирайся сейчас же, пока я не помню, как тебя звать и кто ты мне есть. Вечер с ночью тебе не помеха». И я усмехнулся: «Конечно. Ночь мне совесть не жжет. У меня вместо совести — гордость». Потом я уехал и долго скитался, жил по жадности в полную грудь и кормил сердце лихом, пока как-то раз на беду не столкнулся в дороге с напастью. Двенадцать абреков с обеих сторон поджидали в засаде. Они отняли все, чем я к тому сроку разжился. Я пытался удрать, но они оказались ловчее. Прежде чем скрыться в лесу, они привязали меня к толстому клену в обнимку, распороли черкеску, всю, вдоль спины, а потом взялись долго, умело играть по ней плетью. Совсем как отец. Понимаешь?.. А когда я опять догадался, что жив, их уже в чаще не было. Я стоял на коленях, прижавшись к стволу, и не мог расцепить свои руки. А потом я припомнил, что сделался нищ, и постиг сквозь безмерную боль великую, грозную ярость. Я был так унижен, что стал как бы другим. Все, что было доселе, казалось теперь мне смешною забавой. Отныне, я понял, все будет иначе. Я был почти счастлив, потому что сейчас от меня самого меня защищала лишь эта веревка. Стоило только ее развязать — и я становился свободен. Свободен так через край, как не дозволено никому из людей. Тогда я взялся за дело. Я потрошил свои узы о ствол и с каждой минутой острей обретал свою новую силу. Попадись мне в ту ночь волк, кабан или даже медведь — им от меня не уйти. Я бы смог придушить их одной своей волей. Понимаешь, о чем я?.. Боже, как все было давно… Вот что трудно — понимать, как все было давно. Гораздо труднее, чем знать, что конец уже близок.
Он замолк. Тяжело задышал ей на грудь, поискал рукою ей губы, пальцем проверил глаза, убедился, что те совсем сухи, и негромко сказал:
— Ты страшнее меня. У тебя на уме только хитрость.
— О чем ты? — спросила Дзака.
— Ты знаешь. Просто мне оно нынче почти все равно. Смерть кружит надо мной черной птицей. У нее широкие крылья, — красиво. Помоги мне…
— Конечно.
Подержав его голову в чаше ладоней, она принялась растирать ему пальцами боль на висках. Старик застонал и укутался дремой. Когда он проснулся, Дзака уже запахнула разрез на груди и сидела в углу на скамье, вдыхая покоем забытого взгляда в окне пришедшие сумерки.
Он спросил:
— Ты будешь со мной до конца?
— Если ты пожелаешь.
— Хорошо. Тогда будь со мной до конца, а потом уже делай что хочешь. Не знаю, кто из вас там кого одолеет, только ты ведь не сдашься. А?
— Я не сдамся. Даже если ты пожелаешь другое.
Они помолчали. Первым из них намолчался старик. Он сказал:
— Отчего это мне ничего неохота? Может, это конец?
— Нет, — сказала она. — Ты пахнешь коровьей лепешкой и шкурой медведя. С мертвецами так не бывает.
— Иногда мне чудится, что душа моя давно уже умерла. Осталось только это жирное, рыхлое, неподъемное тело.
— Неправда. У такого, как ты, душа не умрет, пока прежде того не проснется. Она в тебе не проснулась.
Старик засмеялся, закашлялся, а отдышавшись, сказал:
— Лучше тебя никто никогда не умел со мной говорить. Ты умна и жестока, как дьявол.
— Брось. Нам с тобой прекрасно известно, что дьявола нет. Мы сами заместо него. Верно?
— Верно. Только я ухожу, а ты остаешься. Вот и разница вся.
— Расскажи-ка мне лучше про мать. Почему ты похитил ее?
— Это проще простого: когда столько украл, что и не сосчитать, хочется выкрасть что-то такое, чего никому никогда не давалось. Я решил украсть мать. Разве плохо?
— Неправда. Сдается, ты не был уверен, что сумел рассчитаться с отцом.
— Может быть. Только я поступил, как был должен. Тощий конь да двенадцать рублей серебром — не цена, согласись. Мать была совершенно пьяна, когда я пробрался к ним в дом. Я прямо глазам не поверил. Было даже желанье найти его, разбудить и прикончить. Но я передумал: опозорить его было лучше. Представляешь, на старости лет у тебя похищают жену, которой исполнилось больше, чем сумела прожить вместе с ней ее память!.. В голове у нее перепуталось все: дни, года, события, лица — все. Раза два перед тем как уйти на тот свет, она окликала меня «Таусби!». А мне, клянусь кадыком, было это даже приятно.
— Выходит, ты отца проучил.
— Да. Так оно и выходит. Только порою мне кажется, что мать была виновата не меньше. Перед смертью она протрезвела и будто вовсе забыла про араку. Все чего-то там вслушивалась и припоминала. Длилось это несколько дней. Я ждал, что поделится, но она посчитала иначе: молчок обо всем, что пошло бы на пользу живым, но не очень-то нужно в могиле. А когда померла, мне Цоцко рассказал про ее серебро, которого под нарами было спрятано столько, что много даже для жадности вредной старушки. Не знаю. Возможно, она лишь хотела тем самым мне отомстить. Но за что?.. Иди сюда, разбуди-ка мне ноги.
— Уже не болят?
— Нет, давно не болят. В том и штука. Они словно жбан, наполненный доверху тестом, а сам я как каторжник, закованный в кандалы. Теперь уж мне не уйти. Но и корни пускать — не по мне. Понимаешь?..
В окне грустной полоской мелькает закат. В доме тихо и очень тепло, как на праздник. Только праздников здесь отродясь не бывало. Обычно здесь их встречают, как долг: подходящим обычаем, тостами и аракой. Тишина колышет воздух безразличной, чуть дряблой волной. Еще самую малость, и настанет долгая ночь. Настанет ночь, прольется дождем на аул, и Казгери побежит в ней по следу. Во дворе у Хамыца он отыщет к рассвету доказательство дедовой правоты. Сочиненный из бронзы олень, покрытый седой пленкой патины, будет валяться в грязи у ограды и сторожить чужую беду. Сколько их повидал он на своем неоленьем веку?..
Потрясенный находкой, Казгери подкрадется к порогу и подслушает сон. Словно почуяв чужое присутствие, жена Хамыца невольно застонет и опрокинется птицей-душой в глубокую яму тревоги. Пробудившись, муж возьмется лечить ее расторопностью рук. Она откроет глаза и сквозь странные слезы, пришедшие к ней на лицо за время дождя, ответит ему преданно нежностью и бездонностью взгляда. Не в силах сдержаться, Казгери уронит им на порог свое вязкое семя в тот миг, когда женщина вся насквозь изранится ласками и застонет совсем уж предсмертно, словно предчувствуя то, что постигнет ее через год. Дождь ничего не услышит. На то он и дождь…
IX
В ту же ночь она понесла. Что-то тихо сказало ей правду, отозвавшись внутри каплей света на ее задумчивый взгляд. Он бродил в ней по тонкому звону души, предвещая великую радость, и берег ощущенье чудесной прохлады, из которой дрожащим мерцаньем ростка возрождалась в ней новая жизнь. Глядеть прямо внутрь себя было истинным счастьем, потому что мудрее того, что в ней было сейчас сплошной добротой и любовью, в этом трудном и хлопотном мире испокон всех ушедших, а также грядущих времен, ничего никогда не водилось. Да, она понесла. Слава Боже, Тебе и Твоей всепрощающей милости!..
Хамыцу она ничего не сказала. Эту радость сперва нужно было взрастить, удержать и, конечно, не сглазить. Слишком долго она дожидалась ее в бесконечном молчании дней. Слишком часто та от нее ускользала.
Осень шла своим чередом, насылая им ветры, туманы и пас-мурь, теребила одежды и ухала ночью совой в дымоход, но на сердце у женщины колыхался восторженной гладью покой, от которого в доме сразу делалось словно пригожей. Ей хотелось дарить себя без оглядки тому, кто покамест не взял себе риска не то что поверить, но даже спросить ее, пусть бы только глазами, отводя их растроганно прочь от ее просветлевшего лика. Если он догадался, то сам же и принял игру, притворяясь, что все в их желаньях как прежде. Теперь они оба, Хамыц и она, дорожили до скупости каждым пройденным днем, как подарком, ниспосланным небом, а их руки — их руки творили мечту из любого занятия и дела: охоты, посева, готовки, косьбы, колки дров, уборки двора, легкой скуки помола, перешепта бесед ни о чем, когда их голоса, заплетаясь вместе с руками в мелодию хрупкого счастья, говорили им больше, чем какие угодно слова, чем политые солнечной пылью стыдливые взгляды под утро и больше, много больше, чем в тысячный раз познававшие в темноте друг друга тела, потому что теперь им хватало простого пожатья плеча, заслонившего их от сомнения, летучести пальцев, тронувших краешек платья, морщинку щеки, угадавших — на ощупь — благодарность мгновенья. Им хватало дыхания рядом с собой, подхватившего общую мысль и внимавшего долгий безмолвный ответ из едва приоткрывшихся губ, на которые можно наткнуться вслепую ладонью. Теперь им хватало того, чего прежде казалось так мало. Теперь им хватало себя, потому что их теперь сделалось трое…
По зиме она сшила себе пуховый корсаж, защищаясь от холода, а Хамыц натаскал им в хадзар непокорную зелень душистых еловых ветвей. А потом они встретили год, свежее и чище которого был разве что теплый, пушистый, искрящийся снег, покрывавший им счастье уютом.
Как-то раз муж принес в дом из леса задорного рыжика — белку, смастерив для нее просторную клеть. Подавать на ладони орешки из шишек было очень приятно, щекотно, но все же, через день или два, порешили они ее отпустить: побоялись ее несвободы. Предостаточно было огня в очаге, чтоб часами смотреть на его бескорыстную, гибкую ласку. Опасаясь простуды, он просил ее пить отвар облепихи, янтарем обжигавший ей глотку. Иногда, прислонившись друг к другу плечом, они слушали тихое пенье. Сочинившись из ветра, огня и любви, оно плавало в воздухе легкой заботой о главном — о том, что им предстоит, когда жизнь в ней созреет и станет проситься на волю.
А потом наступила весна, и он стал подносить ей с рассветом ароматную россыпь подснежников, отогретых сперва у него на груди. Иногда к ним ему удавалось добавить горсть фиалок и ноготки желтых крокусов, и он говорил:
— Вот, взгляни-ка, скала разродилась. Прямо диву даюсь, до чего же тебе повезло.
И она понимала, что это неправда, что цветы он принес не с ближней горы, а с далекой альпийской вершины, что он сделал это вчера, а потом все цветы схоронил под соломой и шерстью в сарае, обвязав их короткие стебли лоскутом своего башлыка. Он такой стал хитрющий и глупый, что она и не помнила, каким же он был всего лишь полгода назад, когда было их двое и этого было так мало…
— Знаешь, лучше тебе полежать еще лишний часок, — говорил ей Хамыц, и она отвечала:
— Лучше б мне вообще не вставать. Тогда ты узнаешь, что такое плохая жена. Я стала ленивой и толстой. Тебе меня ни за что не поднять.
— Ты стала красивой. А толстой ты будешь недолго. К тому же мне нет в том нужды, чтоб тебя поднимать. Но если ты очень попросишь — могу попытаться.
— Не надо. Не желаю тебя надрывать.
— Коли вдруг передумаешь, скажи мне заранее. Не хочу я напрасно пупом рисковать: неплохо бы мне для начала попрыгать в обнимку с кобылой. Все легче…
— Ах вот как!.. Ну хорошо. Я тебя проучу за такие слова… Все утро они колдовали объятья. Иногда он просил обнажить ее грудь и с улыбкой выстилал ей цветами узор.
— Вот глаза и ресницы… А это — улитка. Погляди, как ползет по тебе, поспешая к соску. А это — твой лучший дружок.
— Перестань! Ты бесстыдник…
— Разве? А может, я просто стыжусь не того, чего так стыдился когда-то, а того, что годами в моем неуклюжем стыде потешалась над нами стыдливость?
— Не путай меня. Убери свой рисунок. Лучше сделай-ка мне стрекозу.
— Вот тебе стрекоза… Добавлю сюда же пчелу: слишком много в тебе нынче меду.
— Почем тебе знать? Ты, поди, уж забыл его вкус.
— Я готов и припомнить. Где твой улей?
— Ты и вправду какой-то похабник.
— Не ври. Я совсем не похабник. Я твой пасечник. Коль не веришь, спроси у пчелы.
— Не хочу. Сотри, вдруг возьмет и ужалит. Что ты делаешь?
— Сочиняю орла.
— Не надо. Сочини мне тихонько родник.
— Будь, как скажешь. Он бежит по холмам, огибает предгорье, устремляется ниже в лощину, спотыкается в заводи, кормит в ней свои силы, а потом стекает в траву… Видишь?
— Вижу. Теперь можешь пить из него. Я шучу. Не дури… Ты что-нибудь слышишь?
— Конечно. Я слышу, что он здорово слышит меня. Но ты слышишь больше?
— Да. Иногда я отчетливо слышу, как стучится в меня его сердце.
— Расскажи.
— Не могу. Это совсем не для слов. Что ты делаешь?
— Догадайся сама.
Он роняет с ладоней капли воды на тропинку цветов, помогает ей разглядеть в них брызги призрачной радуги. Получается очень красиво. Потом они вместе собирают росистый букет. Она говорит:
— Вот и утро. Мне надо вставать. Отпусти меня. Хватит.
Хамыц повинуется. Начинается длинный, переполненный чуткостью день, которым дышать — не надышишься, как бывает раз в жизни и только весной. Ее запах повсюду. Ее славных примет — не перечесть. Март торопит апрель, апрель зажигает цветенье. Май приходит грозой. Хамыц ей застигнут на поле. Воротившись домой, он делит ее со своею женой, позволяя ей тесно прижаться к нему своим телом, чтобы всхлипнуть душой у него на плече. Стянув с него мокрую кожу рубахи, она челноком окунает в нее лицо и читает закрытыми веками весь его путь без нее, начиная с утра.
— Ты опять был в лесу. Я слышу запах чего-то такого… Земляника!
— Сходил до первого грома. Правда. Ягоды здесь.
Он достает из бешмета пригоршню слипшихся ягод и подносит их ей к губам. Пока она собирает с ладони сладкую мякоть, он смотрит ей прямо в глаза. За стеной полощется громом гроза. Реку не слышно. Им кажется, что так хорошо, что так громко им будет всегдск Вкуснее всего трогать затем ее губы. Поцелуй их похож на слепого щенка, отыскавшего в теплом своем предрас-светье первый дар хрупкой маленькой жизни, застигшей врасплох его сон без него.
Летом Хамыц преподносит жене своей новое платье. Его привозит из крепости под сделанный загодя тайный заказ вездесущий Туган. Оно темно-синего цвета с серебристым порядком подвесок и окладом из белого атласа на груди. Хамыц, конечно, не скажет, на что он его обменял. Что бы там за него ни отдать — все мало, так рада жена. Но примерить его прямо с ходу она, понятно, не может: слишком она потолстела. Ничего, утешает Хамыц, платье шьется не на двоих. Где ты видела платье, в котором бы сразу два человека уместились в одну красоту? Не бывает так… Сам он думает: прошло целых семь лет, а чувство такое, будто сейчас только все и начнется.
Вот уже пять недель кряду он украдкой от всех ходит в лес мастерить сосновую люльку. Работа дает удовольствия больше, чем отдых. По ночам жена слышит, как из него неподдельной отрадой прочь струится усталость. Он ее заслужил.
У женщины изменилось лицо. Оно округлилось и стало похоже на шар, рожденный луною и солнцем. Отражаясь подсветом углей, на лице горят две звезды, два глубоких сиянием глаза. Она сторожит ими два ровных сна и ликует улыбкой. Каждое утро для них затевается с птиц.
В середине июня Хамыц вдруг встречает в лесу семнадцать косуль, одну за другой. Он не верит глазам: неужто вернулись? В руках у него очень легкая радостью люлька. По бокам его зрячей рукой и терпением вырезаны смешные фигурки зверей. Каждый шаг отдается в люльке странным шуршанием — то кряхтят в ней еловые шишки, нанизанные на рыболовную нить и с обеих сторон переложенные, словно бусы, скорлупками земляного ореха. По всему видать, Хамыц успел позаботиться и о погремушках тоже.
Когда он всходит на мост, у него екает сердце. Дверь в хадзар утробно распахнута, а по двору в беспорядке бродят тени овец. Он спешит, переходит на бег, но, споткнувшись, путается ногами в тревоге. В доме жарко и звонко. Из кувшина в корыто льется тайной вода. Перед ним два лица, одинаковых, словно два эха.
— Началось. Уходи, — велит ему прямо с порога Мария.
Он не знает, что делать. Ему нужно войти и увидеть ее, передать в руку клятву, но он лишь стоит истуканом, понимая, что его сейчас попросту нет. Есть только тот, кто готовится выйти на свет из нее, огласив появление криком. В комнате тихо, и это Хамыца пугает. Положив люльку наземь, он плетется во двор, отворяет калитку, натыкается взглядом на Казгери и кивает ему машинально. Тот взволнован и бледен, но Хамыцу, конечно же, не до него. Солнце ярко блестит на реке переливчатой лавой, и Хамыц, передумав, сворачивает к ближней горе. Он и не помнит, как добрался до той самой расселины, где когда-то, семь лет назад, коротал свои ночи Тотраз. Легши внутрь, Хамыц широко растворяет глаза, но увидеть какую-то мысль ему сейчас не под силу. Так скользит мимо час, потом два. Потом он вдруг слышит, как воздух взрывает винтовочный выстрел, и цепенеет душой. Все. Пора.
Пока идет к дому, он пытается сдерживать шаг. На пороге хадзара — Тотраз, Ацамаз и Алан. Лица их освещают улыбки. Слава Богу, все кончилось. Если есть в мире счастье, то — вот оно…
Оно застилает Хамыцу глаза и не видит парения ястреба над его плоской крышей. Заметить, как там же кружат вороньем беспокойные мысли Цоцко, ему уж совсем недосуг.
У Хамыца рождается мальчик.
X
— Назовем его Георгий, в честь Уастырджи[17], ведшего его к нам сюда по трудам и тревогам столько в точности лет, сколько вместе дает святое число. Так и быть тому!.. Аминь.
Они помолились. Каждый из них окропил ребенка тремя каплями араки и осенил крестным знаменьем. Запахнув на нем холщовые пеленки, Софья поклонилась и быстро исчезла с корзинкой в двери Хамыцева дома.
Выпив из рога, мужчины отведали свежей баранины, пирогов с горячей начинкой из сыра и ковырнули чурек. Хамыц привечал сегодня гостей. Четверо были ему совсем и не в радость, но что тут поделать, когда ты им сосед. По правую руку сидел Ацамаз, по левую — лучший из лучших друзей, беспалый Тотраз. Вслед за ними — не по возрасту, а по значению — восседали Алан, Туган, холодный глазами Цоцко и его два племянника. Все как положено в кувд. И Хамыц здесь хозяин. Женщины все хлопотали в летней пристройке. Муки им отмерено столько, что достанет с лихвой на все трое суток. Радуйтесь, гости, пейте, ешьте и смейтесь!..
Погожий и ласковый, день дышал на них с гор приятной прохладой. Из низины доносился гремучий голос реки. Небо было синим, широким, как бескрайняя свежестью заводь для дымчатых облаков. Тосты шли друг за другом в должном порядке, навевая слезливость на сонных кобыл.
Когда подняли тост за отца, Казгери поперхнулся, закашлялся, лицо побагровело, а выпученные глаза налились слезами, кровью и, кажется, стоном.
— Ты чего это? — спросил недовольно Туган.
— Сам не знаю, — ответил тот, отдышавшись. — Видать, горлом ошибся.
Случилось — забылось. С кем не бывает! Только почему это Ацамаз так внезапно нахмурился и помрачнел, будто опять заподозрил неладное? Вечно с ним так — насупится ни с того ни с сего и уйдет, словно камнем на дно, своим взглядом туда, где темно, как в пещере. Отправляться следом за ним никто не спешит: не портить же праздник!.. Поглядеть на Алана — тот уже захмелел, потерялся улыбкой в расплывчатом солнце. У Тотраза привольно на сердце, как крыльям в высоком полете. Сегодня их дружба с Хамыцем венчается подлинной радостью. Да и застолье, похоже, на славу.
— За таким столом не грех и состариться, — Тотраз подставляет свой рог под кувшин, который склоняет над ним старший мальчишка Цоцко. — Надо проверить мальца. Пока мы сидим да пируем, он уж, поди, перерос свою люльку, ходить научился, усы отрастил и кинжал примеряет.
Шутить Тотраз не мастак, но иногда ему почти удается. Гости довольно смеются. Честь и хвала этому дню!
Прикорнув в волнистой тени хадзара, счастливая мать кормит мальчика грудью. Молоко ее пахнет глиной, солнечным светом и росистой травой. Младенец сосет, не сводя с нее глаз. В них еще плещется лужицей вечность. Скоро она начнет уступать любопытству мгновенья и времени. Но пока оно от них далеко. Им оно и не нужно, потому что мать с младенцем вполне обходятся тем, что умещается в ее объятия и налитую силою грудь.
Все эти дни женщина копит в себе отраду и гордость. Она и не помнит, что было с ней до сих пор. Прошлое превратилось в труху и рассыпалось с первым же ветром. Роды она почти не услышала, так была занята тишиной. Чтоб ее не спугнуть, она ни разу не вскрикнула, не застонала. В сравнении с тем, что ее занимало, боль была так ничтожна, что она ее не заметила. А потом тишина откликнулась жизнью, стала хныкать и превратилась вот в этот комок, дороже которого в целом свете нет ничего и не будет, и это, пожалуй, в нем, в свете, самое лучшее…
Мальчик похож на отца: те же руки, то же упорство, тот же разрез внимательных глаз. Только вот ноги немного кривые, но это — пока. Подрастет — переменится, так говорят в один голос Мария и Софья. Им ли не знать?.. Женщина дремлет. Ей кажется, что от нее спелым облаком счастья исходит покой. Так и есть. Попробуй-ка с этим поспорить.
Ее соседки-подруги лепят начинку для пирогов, ворожат у печи, готовят тягучее желтое тесто. Им помогает Дзака и ее две невестки. Кабы не это, сестрам было бы вовсе легко: хорошо, когда праздник, когда пахнет сыром, мукой, взбитым маслом и топленым жиром. День качает аул на своих прозрачных руках, но, похоже, задумался, стоит ли плыть ему дальше.
Ацырухс на лугу заплетает венок. За ней водится эта привычка: сочинять из цветов их последний уют. Сперва вырастает гирлянда, она замеряет ее своею косой, поправляет на ней лепестки и вплетает в нее нить своего волоска. Теперь в ней поселится солнце. Ацырухс любит круги. Она может их рисовать на земле в единственный росчерк прута. Она помнит круги наизусть: от большого ковша, от котла, от ведра, золотого колечка на пальце Дзака, от слезы, уроненной в песок, от тени листка, от закатного солнца, от зрелой луны. Ацырухс нижет их все в цепочку зрачков на своей непоседливой памяти. Неизвестно зачем, непонятно, надолго ль, но они в ней живут — откровенной росой самого бытия, потому что оно состоит из таких вот кругов, повторяясь ими в мгновении.
Все закончено. Уложив гирлянду в венок, Ацырухс надевает его разноцветной короной на волосы, поднимает руками печаль, не дает ей упасть сетью плена на свое вдруг запевшее сердце, укрощает ладонями маленьких птиц пустоты, позволяет им поклевать свою грусть и потом, подбросив их к небу, отпускает печаль в вышину. Она так одинока, как бывает лишь красота и ее спокойная тайна. Ацырухс одинока, но знает, что это и есть ее самый счастливый удел. Все, что надобно, — в ней и в кругах, по которым она сверяет привычкой свой день. Этот вот в самом деле похож на летучий и солнечный обруч.
Очень старый старик бормочет в свой сон надоевший полдневный кошмар. Мертвецы, заглянувшие в скучную дрему гостями, все молчат как один, словно ждут от него покаяния. Он пытается им объяснить, что такое его бесконечная жизнь, но они безучастны: старуха, младенец, жена, тощий глупый сосед, ненавистная дочь и ее погубитель со странным и бледным лицом (оно постоянно двоится и зыбко). Все они заодно. Старик хочет спрятаться в женщине, но постель рядом с ним холодна. Дзака далеко.
Она месит тесто, подавая лепешки невестке. Пару раз та роняет их, не успев подхватить. Откуда такая рассеянность? У Тугана жены на уме наваждение. Она думает: вот бы сейчас искупаться в запруде. Очень жарко. Печь немного чадит, разъедая дымом глаза. Когда-то Тутан рассказал ей о море. Сам его он, понятно, не видел, но рассказывал так, будто ездил туда много раз, выправляя сквозь волны челнок своих грез. Ей хочется тоже повстречаться с бескрайней и синей водой, потому что вода ведь бывает прозрачной и мутной, желтой, черной и грязной, и даже совсем никакой. А вот синей она никогда не видала. Обжегшись о противень, женщина дует на палец, пытаясь унять свою боль. Дзака недовольно шипит на нее, окунает ей палец в сбитое масло (плошка и масло — как завязь позолоченной сливочной почки). Дочь Даурбека, хихикнув, шепчет на ухо:
— Гляди-ка, мамаша заботливой стала. Видать, муженьку почти вышел весь срок…
Она снова беременна. Впервые за эти пять лет, что они поселились в ауле. Всем известно, что она ждет девчонку, хватит с них этих трех сорванцов. После смерти четвертого сына она не простила Цоцко. Словно он был тогда виноват. А может, дело все в том, что она безошибочно чувствует на себе, как укор, бессловесную ревность Дзака. Обе они ненавидят друг друга — почти что в охотку. Кабы не было этой забавы — совсем скукота. Скоро что-то случится. Даурбекова дочь это слышит нутром. Лучше даже, чем пробуждение плода. Для нее имя дочки давно уж готово — Роксана. Она понимает, что это — как месть, как ее важнейшая тайна, как расплата за то, что сама несвободна. Он ее обуздал, как того жеребца, что достался ему от сестры, для которой придумать узду даже он не сподобился. С той поры, как она умерла, жить с Цоцко стало в тягость: он всегда был на страже, будто пес на звенящей цепи. Когда бы она ни проснулась — он уж смотрел на нее, пугая глазами, в которых неясным бельмом затвердела какая-то мысль. Но она его все равно не боялась. Потому что бояться того, кто боится себя (пусть лишь только себя!), было глупо. Так же, впрочем, как страдать и молиться, уповая на то, что имеется в мире какая-то цель и надежда ее обрести. Но надежды, конечно же, не было. Вместо надежды была только правда, и дочь Даурбека давно с ней смирилась. Правда эта заключалась лишь в том, что, если упряма, ты сумеешь дойти до конца, чтобы после всего, что прошла, отдохнуть от дороги своим безразличьем. Вон, как свекор, к примеру. Он теперь — что те склепы: пуст глазами, заскорузлый лицом, в пыль и прах обветрен нутром и душой. Стынет холодом, будто ледник. Цоцко послабее — горячий. Ничего, я его остужу, размышляет она и в ту же минуту ранит руку ножом. На муку быстро капает кровь, превращаясь в сметанные ягоды красно-белого цвета (словно теплые зернышки бархата, размышляет она). Дзака негодует:
— Что с вами? Обе будто кверху ногами росли…
От вида крови Марию воротит. Она спешит во двор переждать там мгновенье. Муж ее смотрит ей прямо в лицо. За столом никто и не видит, как они, приласкав друг друга глазами, разом вдруг полыхнули душой. У Тотраза сжимается сердце от боли. Хмель прощает ему невниманье. Когда Мария исчезает в пристройке, муж ее переводит взгляд на Алана.
Тот отвечает ему чуть приметным кивком. Он все понимает. В этот миг Алан ему больше, чем просто сосед, больше, чем друг, и больше, чем был все эти годы. Их навеки сроднила любовь к этой женщине, ради которой они пережили в себе ревность, подлость, отчаяние, ненависть, гордость…
Софья чуть притомилась, снимает передник и отряхивает с него воздушную пыль от муки. Положив два куска пирога и осколок овечьего сыра на миску, уходит в хадзар. Малыш уже спит. Его мать сидит, уронив голову на руки и склонившись над люлькой. Впечатленье такое, что она прильнула губами к сладкой струйке его спокойного сна и никак не может напиться.
— На, поешь, — предлагает ей Софья.
— Спасибо, Мария, — отвечает ей та, и Софья думает: с тех пор, как мы поменялись местами с сестрой, никто из них не ошибся ни разу. Странно. Неужто дело лишь в платье? А может, в том, что у нас с ней теперь два различных пути?.. Ее — по любви, а мой — по терпенью? В глубине души она понимает, что это не так, но боится спугнуть свое счастье. Она любит Алана, а тот почти уже любит ее. А почти — почти и не слово, ведь правда?..
Жена Хамыца плавна каждым жестом, каждым движением. Материнства в ней столько, что Софья чувствует себя рядом с нею недозрелым птенцом. В порыве нежности она обнимает ее, прижимаясь щекой к ее коже, пахнущей свежим пшеничным зерном, замечает на шее веснушки. Они так хороши, что хочется ей об этом сказать, но она не решается. Вместо этого она произносит другое:
— Я пойду. Не скучай.
Звучит глупо, и улыбка супруги Хамыца о том говорит. На улице ветер цепляет Софью за платье, треплет ногтем косынку, играет светом в снежки с частоколом ресниц. Мужчины сидят за столом, погрузнев голосами, и ждут, когда сквозь череду нескончаемых тостов подберется к ним вечер и разведет их всех по домам.
Казгери среди них нынче тоже совсем не скучает. Обычно, стоит ему засидеться с четверть часа, как его настигает удушливой жаждой лихорадка движенья. Ему хочется быстро, проворно бежать, догоняя себя в перебивах дыханья. Но сегодня он занят другим: сочиняет Хамыцу беду. Ведь тот обокрал его дважды: первый раз — когда потрошил богатый тайник, а сейчас вот — второй: он присвоил себе чужое отцовство.
Казгери верит в то, что это он сам тогда постарался. Почему же иначе за целых семь лет до того Хамыц, как ни тужился, породить никого не сподобился? Для Казгери тут все ясно: его семя сильней. Он способен зачать им, не познав даже женщины. Они ему так же противны, как и пять лет назад. Но разве что-то это меняет? Просто он больше мужчина, чем все эти мозгляки, которым всякий раз приходится столько пыхтеть и стараться, прежде чем женское лоно согласится явить им помет. С Казгери все иначе. Он может зачать даже взглядом. Вернее, только взглядом и может зачать. Чтобы в том убедиться, довольно любому неверу взглянуть на кривущие ноги младенца. А Хамыц — тот в сравнении с ним холощеный. Ему от меня не уйти, рассуждает сам про себя Казгери, выбирая из многих возможностей ту, что позволит ему поквитаться пусть не скоро, зато уж враспах и наверно… Казгери не скучает сегодня. В нем радостью копится злость.
Цоцко ощущает тревогу. Много месяцев минуло, а племянник по-прежнему трус. По тому, что он больше о бронзе с ним не обмолвился, Цоцко догадался, что он ее отыскал. В самом деле, там, куда он его подложил, олененка спустя день уже не было. Однако проходили недели, осень сменилась зимой, вслед за ними распутицей и дождями прошмыгнула весна, а теперь уже лето в разгаре, но месть Казгери не спешит. Если б он о ней не помышлял, непременно доверился б дяде: тот бы точно Алану кражи такой не спустил. Но Казгери затаился, а значит, готовился сам. Приходилось терпеть. Куда же деваться? У Цоцко порой поджимает тоскою живот. При этом чувство такое, что он обманул сам себя. Он гонит его из своих наторелых и кряжистых мыслей, как шелудивого пса со двора. Одно хорошо: Роксана ему почти теперь и не снится. Так, — разве что промелькнет иной раз на скаку и обдаст его жаром дыханья. Чтобы отвлечься, Цоцко принимается думать о том, как поступит, когда их покинет отец. Недолго уж… Скоро отмучится. А пока он живой, нужно стеречься Дзака. В последнее время той не сидится на месте, прямо квочка на треснувшем яйце. Поручу-ка жене присмотреться… Арака туманит, колеблет, рябит его взгляд. Хорошо… Плохо только, что после придет отрезвленье. «Боже, как я их всех ненавижу!..», — размышляет Цоцко про себя.
У Тугана коптится парами лицо. Он покраснел и поводит плечами, едва поспевая за торопливостью глаз. Ему тяжело: слишком много собралось на сердце, чтобы все это тихо, подспудно держать при себе да еще и прикидываться, что ты заодно с тем Туганом, который жил-поживал с тобой в полном ладу сорок лет. Что бы там ни случилось, а он никуда отсюда не двинется. Надоело мотаться. Лучше так, как сейчас: собираешь в гнездо свой прибыток и немного припрячешь в отдельный свой прок. Года два уж прошло с той поры, как Туган повидал в русской крепости чудо: стоит себе высоченным таким кирпичом громада-завод и коптит дымом небо. А внутри — все в железе и в стружках. Людей — просто тьма. Каждый что-то несет, соскребает и точит. А на выходе, на огромном дворе, — тридцать восемь готовых повозок. Все блестящие, в краске и в черном брезенте на выпуклых крышах. Вот где дело так дело!.. А сколько там денег — станешь думать, голову цифрами расшибешь. Все звенит и грохочет, совсем как монеты, коли их пересыпать могучей грозой.
С того дня Тутан заболел. Торговать, воровать да дурить простачков по ущельям ему как-то наскучило. Хочется, чтобы гремело, лилось, просыпалось с рассветом, остывало металлом в ночи, а потом прогоняло ее огнедышащей печью и громом. Об увиденном он рассказал пока только жене. С отцом говорить не хотелось. А с Цоцко поделиться — дороже себе: изведет он отравой вопросов, а потом ухмыльнется и положит в карман твой же хитрый секрет. Нет, Туган поумнел. Теперь есть у него свой расчет, своя тропка в тот день, когда станет он старшим в семье и примет отцовы поводья. А пока — пока он хранит свои мысли в тепле да темне. Так надежней.
Ацамаз угрюмо молчит. По его неприступному взгляду прочитать что-либо невозможно. Только кажется, он как будто не здесь. То ли в прошлом, которого им не узнать, то ли в будущем, от которого им не укрыться. Впрочем, никто на него и не смотрит. Приближается вечер…
XI
В августе начали таять слезой ледники, и река взбеленилась. Напоенная недельным дождем в три ручья и достигшей вершины жарою, она почернела водой и вскинулась в русле на добрых двенадцать локтей. Аул спасла дамба, а вот склепам на острове пришлось нелегко. Подмывая его берега, река насылала бессчетные волны на камни, давно позабывшие время и поток его пенистой брани, от которой на долгих пять дней остров сделался мелким болотом, отдававшим безумью реки, словно нищую взятку, последнюю скудость костей. Они плыли, подобно обглоданным веткам, растерявшим свою кожуру, застревали занозой в кустах, выжидали удобную щель и мгновенье для бегства, а потом, юркнув спицей в нее, эту щель, уносились течением прочь, в никуда, в безразличье далекого моря. Смерть, разъятая до основания, до праха, предалась на милость волны и покинула склепы, превратив их тем самым в шесть каменных гнезд ни о чем.
Чуть проделав эту работу, река присмирела, оправилась гладью теченья, отслоила на берег плавник и запрелую дрянь тростника, отказалась от луж и почти стерла заводи. Они подгнивали на солнце на радость воронам, копавшимся в иле совсем не зазря: столько жирных червей и улиток, личинок и мух они не видали даже в самом привольном из глазастых чутьем птичьих снов.
Уцелев в который уж раз, остров сделался грязным пятном, бездомным бродягой, прикорнувшим на теле у времени, которое было рекой, а река становилась судьбой, посылая знамения. Люди слушали их, но никак не могли разобрать содержания. Быть может, просто отвыкли жить повседневной борьбой в пограни-чье меж тем, что питает надежду, и тем, что ее ежедневно стремится убить.
Оно и понятно: земля баловала их вот уже целых пять лет, а возможно, и дольше. Но точно, что пять лет назад подобной удачи никто из них не рискнул себе даже представить: год за годом их нивы исправно всходили колосьями, лес дарил им коренья, плоды диких груш, сладкий мед из дупла, обилие дичи и мяса, а река — та снабжала их рыбой и прозрачной, лучистой водой, отражаясь в которой, небо делалось лавой бескрайнего света, чьи брызги ловила в себя говорливая песнь тишины. Теперь у них была мельница, было пастбище, была насыпь у берега, надежная дамба, был свой длинный, прямой углами забор, ограждавший аул с трех сторон, и был свой посредник — Туган, — превращавший избытки добра в скот, кругляши серебра и покупки. Только не было главного — ощущенья того, что они день за днем беспокойно творят себе счастье, потому что в соседстве от них вызревала тревогой напасть, о которой покуда никто из них даже не думал, но которую чуял душой, как забытый уже, но отчетливый запах страдания, отодвинутого, переложенного из сейчас на потом.
В августе тени стали короче, а в сентябре совсем не росли, словно солнце, заскользив на разливе реки, оторвалось от прежней орбиты и пошло гулять в вышине, отстраняясь все больше и дальше от того, что ловило его побеленный в известь, расплывчатый взгляд здесь, на притихшей земле. Солнце смотрело на них будто сквозь пальцы — перистых, лиловатых по ободу и странно рыжих уроненной тенью облаков, — как глядит на росчерк чьей-то судьбы умный пророк, предсказатель. Воздух был то совсем невесом, то тяжел, как пропитанный потом и жалостью.
Мост подмыло теченьем реки, расшатало столбы и заставило их сообща выйти на зиу[18]. Чтобы его укрепить, им пришлось снова рубить, тесать и строгать четыре дубовых ствола, затем протравлять их смолою и жиром. Заменив подточенные водой и жучком, почерневшие влагой опоры, они утрамбовали их камнями и глиной, подстраховали положенной чередою молитв, окропив те, в свой черед, свежей кровью овцы. После чего много недель подряд помогали себе новой работой на поле, проходя сквозь осенний туман и расходуя дни на простые заботы.
В октябре у Алана случилась болезнь: он лежал, как в горячке, сжигаемый собственным взглядом, от которого по лицу у него, над бровями, пошли волдыри. Казалось, его снедает опасный огонь, в сравнении с которым огонь в очаге был детищем холода, наступившего на аул в этот год месяцем раньше обычного и плутавшего от дома к дому бесприютным скитальцем, прогоняемым отовсюду упрямством людей и жарко растопленным пламенем посреди их хадзаров. Из чадящих отдушин в безглазое небо встревал черный дым, оставляя на нем, как след пятерни на бумаге, плотный сажный развод. Ветер покинул их, напомнив о том, что такое уже однажды бывало, и вместо него по ущелью поплыло, как стон, глухотой занудное эхо, слышать которое ночью было хуже даже, чем днем, потому что ночи стали длиннее, чутче, усталей, чем прежде, а у дней появился соперник, кравший свет у них в пользу всегда шевелящейся мыслями тьмы — бесконечные сумерки. Они тянулись дрожью блеклого полусвета, навевая то тучи, то дождь, и ни разу за осень не пустили к себе ясный зрением луч. В остальном же все шло, как обычно.
София твердила губами одно только слово: «пройдет». Муж отвечал ей молчанием или слабой улыбкой, в которой она все реже узнавала себя и все чаще — его равнодушие. От болезни он сделался худ и почти что прозрачен руками, в чьих белых ладонях стыла льдом его незнакомость, бледная мета воспоминания, куда вход ей был воспрещен и заказан, потому что там был кто-то другой, кто-то, с кем она никогда не встречалась. Алан беседовал с ним языком неизвестных созвучий, сверяя по ним свою жизнь, словно дурное подобие уже раз когда-то испытанной боли, разделять которую с кем-либо, пусть даже с Софьей, он не хотел.
Уходя на свиданье с отцом, он поверял ему свои сокровенные мысли, ведь живым вслух такие мысли не говорят, особенно когда есть мертвец, который, по сути, никогда для него, для Алана, по-настоящему не умирал. Отец был горизонтом, границей, до которой теперь было рукой подать. Он был повсюду, куда только хватало глаз, потому что отныне их хватало на то лишь, чтоб обозреть сквозь горячку болезни весь пройденный путь, замкнувшийся вдруг в четыре стены, подсказавших Алану концовку: жил человек, пытался уйти от судьбы, обманул ее, утопив в реке все следы, обрел свободу и любовь, а потом ему пришлось выбирать из них то, без чего он не мог уже обойтись, и он, конечно, выбрал любовь, а потом любовь его предала, и он остался ни с чем, и тогда он решил подарить ей взамен свою жизнь, чтобы вновь найти смысл и понять, что жертва его ценнее всякой любви и старше всякой свободы, потому что в ней, в жертве, скрыта правда о том, как красива судьба, если ее выбираешь ты сам, а потом он терпел и копил в Себе силы для новой любви, и она, подойдя к его сердцу вплотную, оказалась совсем не похожа на ту, что он уже испытал, потому что была не восторгом и страстью, а прощеньем и мудростью, которые значили больше, чем все, что он до сих пор испытал, были больше тревоги, пробуждавшейся в нем всякий раз, как он слышал душою прохладу, а это случалось все чаще с тех пор, как сюда пришли чужаки и земля опьянела покоем, в сравнении с которым даже склепы, казалось, впадали в смятенье, словно предчувствовали свое разоренье поднявшимся бунтом реки, а потом человек вдруг услышал, как внутри у него разжигается болью недуг, будто разом, оседлавши приволье волны, пожелтелые кости проклятья разнесли на капельках брызг заразу чумы, и теперь он гадал, отчего это столько кряду веков до того они никого не травили, и думал, что дело и впрямь, пожалуй, в воде: лишь когда они вместе, река и бесхозные кости, — наступает беда. А поняв это, он, человек, ощутил вдруг, что заперт болезнью в былом, потому что впервые он стал повтореньем — примера отца, потерявшего веру и цель, и тех, кто принял здесь муку три века назад, возведя вдали от домов своих рослые стенами склепы, не оставив себе даже дверей, ибо двери нужны лишь тогда, когда ты можешь не только войти в них, но еще и надеешься выйти. Им же это было не нужно. Им надобно было только войти, а для того вполне хватало окна, похожего на черную глазом бойницу, сквозь прищур которой они могли видеть, как привольно плывет по неправедно-чистому небу огромное солнце, а заодно — могли целиться проклятьем в судьбу и встречать печальные взгляды тех, кто, пока сам был здоров, подносил им питье и еду, проверяя, насколько они отдалились в своем замершем, оцепенелом и заповедном страданием путешествии к небытию.
И вот теперь, спустя триста лет, прошлое будто проснулось и стало вдруг оживать в нем, в Алане, страшной болезнью, обрушившейся столь внезапно и жадно, что он покорился ей целиком, поленившись даже противиться, словно нашел в ней пристанище для своей безмерной усталости, и не заметившей, когда и как сквозь мелкое решето ее дней просочилась вон тонкой струей и иссякла пряная кровь настоящего, от которого не осталось в нем ничего, кроме искренней жалости к тем, кого породил он отчаяньем воли и нежностью, щемящей жалости к Софье и детям, чьи лица он ночь за ночью все глубже и дальше уносил с собою туда, где они превращались в белые стоном цветы постепенно меркнущего и холодеющего света и расплывались одинокими отражениями, утерявшими свой исток и уступавшими пространство ярким и черным, очень черным вспышкам зажигаемой жаром тьмы. Он понял, что это — конец, потому что в нем, в его жилах и мыслях, текло победившее время былого. Время, несущее его на волне в никуда, не давая ему возроптать и опомниться духом, как было тогда, когда он, приняв крещенье реки и чьей-то безликой, удачливой смерти, порешил начертать для себя безграничной свободой иной и великий удел, но потом он споткнулся об осень, о любовь и желанье постичь чрез нее смиренную радость деторождения, ибо такая свобода, какая была у него, всеобъемлюща, но и бесплодна, потому что она не способна зачать ничего, кроме собственных призраков, кроме призраков лета, мгновенья и вечности, различимых в этой свободе лишь только словами, но отнюдь не своим существом, а чтоб стать кому-то отцом — для этого надобно время, не вечность.
И когда он то осознал, он ступил в него, вышел из вечности, уронив свою жизнь под лавину весенней капели, попытался построить мостки между тем, что не знало границ, и тем, что плодило их каждым прожитым днем, заставляя его, человека, пробивать себе русло в мелководье людской участи, и, покуда все шло хорошо, он был полон упрямства и верен своей слепоте, не заметившей сразу, что он уже не любим, отвергнут уже, потому что весна пришла теперь для другого, того, кто ждал ее преданно, трепетно, безнадежно, как чуда, которого попросту нет, но без которого — вот в чем беда! — нет вообще ничего, одна пустота, и тогда он, Алан, сотворил это чудо своими руками, чтобы спасти всех троих и придать святость греху, честнее которого был лишь его добровольный обман. А потом он служил ему несколько лет, постигая пределы заботы и глубину женской мудрости, и всепро-щенья, и терпения, стойкого мужеством, и отвагу двойничества, осознанного, как предназначенье, и почти сумел подрасти под них вровень душой, чтобы вновь полюбить (полюбить — как покаяться в своей навсегда неуемной тоске) и родить от него двух детей, обрести наконец вдохновенное, скромное счастье, объяснившее, что отныне мир сделался ясен и прост, как блестящая солнцем роса, и что все в этой капле покорно и впору круговерти неспешного, непреходящего, могучего статью движения, которое и есть тот главный смысл, что искал он сперва в свободе, потом в любви, а потом и в своем от них отречении…
Однако что-то в нем, в этом смысле, было не так. Что-то подспудно его отравляло, как его, Алана, непонятные сны, как ощущенье плывущего мимо реки, помимо реки, над рекой, по причине реки и без всякой причины аула. Как внезапная сыпь и нарывы на теле, как тяжелая тень и волокущая ее за собой, словно борону в дождь, чужая шагами походка. Как невозможность раскрыться, истаять в свете душой, даже когда все вокруг хорошо и покойно. Как утомительность долгих часов по ночам, считавших напрягшимся слухом гулкий шаг что-то знавшего, но немого и злобного сердца.
Потом случился потоп, и Алан занедужил. Жизнь брезгливо спасалась бегством из его обмякшего тела, а взамен тяжелыми всходами поднималось в нем прошлое — тихий голос отца, его взгляд, растущая яма без стен и без дна, куда он, Алан, медленно и непоправимо погружался вслед за тем, кто однажды так обидно не сладил с судьбой, завещая ему до того не сдаваться. Только все оказалось напрасно. Теперь Алан это знал. Жизнь взята в плен, окольцована мягкой петлей повторения. Вот она — цель любого пути: как бы ни был он долог, сноровист и крут, он всегда — повторенье всех и всяких дорог — в никуда…
Софья страшно страдала. Смотреть, как он умирает, и притворяться, что он не умрет, было труднее, чем его ненавидеть. Ненавидела она его искренне и почти уже не таясь, как врага, что, не зная пощады, непременно тебя уничтожит. Она перестала молиться, одичала глазами, все время куда-то спешила руками и в конце концов напрочь закрылась молчаньем, стиснув зубы от чувства презрения к его вялой, покладистой немочи, предававшей ее и детей. Муж запретил подпускать их близко к себе, и она послушно кивнула, не ответив ни слова, но во взгляде ее он успел прочитать отвращение. С той поры, как он сдался, она не заплакала, не простила ему ни единой минуты прозрения, в которое он устранялся, мутнея стеклом обернутых внутрь зрачков. А когда он признался, что хочет отправиться к склепам, чтобы там, на подгнивших трухлявых полатях, в холоде, встретить свой очевидный конец, она усмехнулась, подумала и подсказала:
— Не забудь прихватить с собой страх. Он нам здесь тоже не нужен.
Алан удивился. Подобной жестокости он в ней не знал. Ему сделалось больно, так, будто сердце проткнули неострым прутом. Он попросил ее — немо, ладонью — уйти, и она лишь пожала плечами. Алан подумал: «Отец был прав. Никто из них и не догадывается, каково это, когда остаешься один». Однако покой его был нарушен. Тот самый последний, уютный покой отреченья и парящей легкости духа, пришедший было на смену борьбе. Только к ночи он снова обрел безразличье, запутавшись мыслями в долгом бреду.
Наутро он понял, что смерть подступила вплотную и хочет его увести. Ноги отнялись, ребра сдавило, стало трудно дышать. Волдыри уже не свербели, грязные пятна на теле стыли глиной, мешая страдать. Софья вошла с дымящейся миской отвара, уронила взгляд ему на лицо, скользнула им мимо, к груди, провела им по телу, задумалась, потом вылила миску на пол и ушла. Через минуту дверь отворилась, и в нее робко протиснулись сын Алана и дочь. Подтолкнув их к отцу, Софья негромко сказала:
— Обнимите его, да покрепче. Он так слаб, что не сможет вам помешать. А заразы не бойтесь: она не страшна. В нем такая болезнь, что делиться он ею не станет. Это вроде как жадность, которая свила гнездо, а лететь из него — нету крыльев… Ну же, смелей.
Он хотел закричать, но не смог. Четыре детских руки испуганно, плотно сплели у него на груди, как венок, бескорыстье любви и тихонько всплакнули. Их лица коснулись его, укололи слезой, обдали пахучим теплом, шепнули под ухо два поцелуя и тут же исчезли. Он услышал, как скрипнула дверь, зарыдал, сотрясаясь всем телом, а когда глаза высохли, в темном провале окна разглядел очертанье давно позабытой мечты, не поверил, сморгнул и вгляделся опять, но за окном ничего, кроме сумерек, не было. В тот же миг чья-то рука тронула светом лицо его, пролетела по векам, смахнула тень с его глаз и накрыла каскадом волос, полоснула дыханием щеку, убежала и вместо нее ему на уста положились сочувствием губы. Он узнал их. — Мария…
— Да. Это я. Здравствуй. Я пришла, чтоб сказать тебе: ты…
— Не надо. Не пачкайся ложью.
— Я не лгу. Ты в самом деле мне нужен. Ты нужен нам всем, потому что иначе мы будем хуже, чем есть. То есть нет. Я просто хочу, чтоб ты жил. Ты должен помочь нам. Пойми… Если Софья тебя потеряет…
— Это она позвала тебя?
— Нет. Просто сегодня она разрешила. Я пыталась прийти еще пять дней назад. Тотраз знает.
— Хорошо. Передай ему, я благодарен.
— Я передам. Только ты не должен сдаваться. Подумай о Софье.
— Она посчитала, я струсил. Но это не так. Ты мне веришь?
— Конечно. Но перестану, если умрешь. Дай мне руку. Ты слышишь? Ты помнишь?..
— Это как пытка. Зачем?
— Извини. Я просто не знаю, как быть, что сказать…
— Ты плачешь?
— Да. Боже, мне так сейчас плохо… Мне трудно, прости.
— Я понимаю. Тебе не следовало сюда приходить.
— Но я так хотела…
— Иди. Не надо виниться. Ты ни при чем.
— Мне кажется, я никогда не смогу убедить себя в этом… Почему ты прячешь глаза?
— Мне все еще больно. Мне больно смотреть на тебя. Уходи.
— Обещай мне, что выживешь. Ты спас меня, когда я умирала. А потом спас, когда я жила…
— Ты мне ничего не должна. Уходи, умоляю. Мне больно… Закрыв плотно глаза, он дышал тяжело, словно до того только и делал, что бежал всю свою жизнь, а теперь вот упал, обессилев, на краю — вершины, а может, и пропасти, призывавшей его оторваться от тверди и довериться бездне последним броском.
Воздух вспорхнул сквозняком, и он безошибочно понял: Мария ушла. День клонился к закату. Болезнь старалась поспеть вслед за ним, чтобы уже до утра смениться небытием. Она тоже очень устала. Он подумал, что смерть — это не забытье, а все-знанье о мире, который становится ближе, придвигается к тебе всем своим существом, и ты чувствуешь его лучше, теснее, чем кожу, стянувшую сухостью плоть. Он вспомнил давний свой сон, когда ему привиделось ужасом, что он знает все. Стало быть, смерть приходила тогда к нему на свидание. Теперь она стала союзницей. Она и отец. И тот всадник, что безмолвно въезжает сейчас ленивым гонцом в его дрему. Все хорошо. Все как должно. Все правильно. Разве что тишины слишком много…
Разорвав ее на лоскутья, внезапно в комнату хитрым зверем проникло движение. Алан был в бреду. Тотраз, Ацамаз и Хамыц подхватили его, подладив словами свою осторожность, переложили на свежесколоченные носилки и быстро вынесли из дому. Софья ждала у порога, скрестив на груди свои руки. Хамыц поглядел ей в глаза, и она лишь кивнула. В сгустившихся сумерках они поспешили к реке. Чужаки наблюдали за ними, гадая, что они собираются предпринять. Придя ненадолго в себя, Алан с тоской смотрел в три лица, ни одно из которых ему не ответило взглядом. «Вот они и решились, — подумал он про себя. — Сомневались, сколько могли, а потом согласились, что я годен теперь лишь для склепов».
На берегу они опустили носилки на землю, перевели дух, поиграли руками, снимая шапки и отирая пот, потом Ацамаз произнес, изучая ладонь в темноте:
— Будет холодно, но ты, конечно, потерпишь.
Он сделал знак Тотразу. Тот лишь пожал плечами, вопросительно посмотрел на Хамыца и, когда тот отвел глаза, буркнул горлом свое недовольство, но все же склонился над телом, лежащим прямо под лунным лучом. Без всякой охоты скинув служившую одеялом шкуру, он принялся за одежду. Алан вцепился пальцами в ворот рубахи, не понимая, зачем им понадобилось его обнажать, но тут же встретил отпор сильных Хамыцевых рук.
— Не мешай, — сказал тот. — Нам противно и без того.
— Тс-с-с-с, — сказал Ацамаз. — И ничего не говори. Как-нибудь без твоих слов обойдемся. Проку от них — что от сопель в метель.
Теперь они работали в шесть рук. Когда на теле не осталось ничего, кроме стыда и отчаянья, они подняли его, словно вязанку хвороста, и понесли к бурливой воде.
— Может, лучше двинуться к заводи? — спросил Тотраз — как-то придавленно, горлом.
— Она сказала — к реке, — пресек Ацамаз и ступил в ледяную волну. — Ну, теперь только держись…
Софья следила с порога за тем, как ее мужа окунают с головой в стремнину, держат в ней, словно бревно, а потом поднимают на вытянутых руках, чтобы не дать ему захлебнуться в потоке и его осеннем, чудовищном холоде. Проделав это несколько раз, мужчины вышли на берег, растерли тело в три башлыка и укутали его в шкуру и бурки.
Когда они воротились, их ждали уже на столе арака, бараньи горячие ребра и парящийся дымом чурек. Наскоро выпив и перекусив, они попрощались, бросив взгляд на полог, отделявший женскую половину хадзара, и ушли, возбужденно и громко смеясь. Спустя минуту Софья отбросила полог и, простоволосая, теплая, гордая, босоногая и очень родная, вышла к Алану.
— Прости, — сказала она. — У меня не было выбора. Понимаешь, это вроде клин клином… Вроде как отстирать барахло в проклятой реке, чтобы вылечить прошлое временем.
Он понял. Она победила.
— Детей я отправила на ночь к сестре. Ну-ка, подвинься…
Он неловко и трудно повернулся на бок, лицом к стене, и услышал растроганно, как она укрывает его от видений, недуга и скорби чередою летучих объятий. Потом он уснул, оторвавшись от боли, выплыл в звезды под ночь и увидел в себе вереницы белых снегов под могучим и ярким солнечным светом. В этот миг он стал облаком. Облако жило…
XII
У Дзака не сложилась судьба. Впрочем, для женщины это не внове. Необычным было лишь то, что она не сложилась ни разу.
Началось все с того, что Дзака родилась в нищете. Расти в ней радости мало, но и это ей дозволялось недолго — лишь до тринадцати лет. Затем, чтобы как-то разбавить унылость голодных и мстительных дней — своих и семи сыновей, — отец обменял ее на калым в три бычка, шесть овец и корову, отдав свою дочь за тщедушного старца и скрягу, схоронившего к тому летнему дню четверых своих жен. Поначалу Дзака ликовала: впервые за ее полудетскую жизнь довелось ей вдоволь и вкусно наесться.
Муж ее был свиреп, но по-своему прав, справедлив. В первый же вечер он ей пояснил: «Я старше тебя на целую жизнь. Но это не значит, что я умру раньше. Это значит лишь то, что я пережил четверых. Как будет с пятой — не знаю…»
Она его очень боялась. Пожалуй, ему это нравилось больше всего. Он походил на седую ворону, чей клюв постоянно искал, в кого бы воткнуть свою злость. Дзака от него доставалось немало: то за пролитый суп, то за перья в метеном дворе, то за беглый, испуганный взгляд, которым она ненароком в него угодила. Прошел год, потом два, потом у нее родился ребенок. К тому времени все, что было ей нужно от жизни, свелось к одному: пережить старика хотя б на часок, чтоб успеть насладиться своею свободой.
Дело было даже не в нем, а в его старшем сыне, про которого снились ей сны. Конечно, она их стыдилась, да вот только поделать с собой ничего не могла. Непонятно было, как их сделать явью…
Собственный сын, так уж вышло, интереса в ней вызывал куда меньше: стать ему матерью оказалось ей проще, чем забыть, от кого он зачат, а потому всякий раз, предлагая ему свою грудь, она сомневалась, кормит радость свою или беду, оттого молоко ее было жидким каким-то, понурым, как размазанный каплей дождя белый воздух тумана, и пахло то ли кислым исподом пеленок, то ли вовсе ничем, как ничто. Ребенок часто и громко рыдал. С его плачем она быстро свыклась, так же точно, как с тишиной внутри своих грез. От того и другого было впору оглохнуть.
Однажды старик увидал, что сидит она, безразличная, странная, очень чужая, и держит в руках пустоту, завернув ее, словно младенца, в слепое объятье, между тем как их отпрыск надрывается рядом в углу и беспомощно сучит ногами в тесноте древней люльки, из которой давно вышли в мужество его пять сводных братьев (включая того, кто отныне занимал все мысли Дзака, уводя их с собою в загон для греха, чтобы там их и бросить, оставить без всякой надежды испытать этот грех наяву). Разумеется, муж пришел в ярость, да такую, что его молодая жена посчитала за счастье отделаться криком да взбучкой.
Однако с тех пор, словно вмиг помудрев — до бесстыдства, — она поняла, что обязана выдумать, как себя от него уберечь, навсегда, потому что иначе старик ее точно прибьет — уж он-то найдет, как, когда и за что. Осторожно, внимательным глазом следя за своим отраженьем в заржавелом зеркальном овале и прикладывая к распухшему синяками лицу бесполезные соляные примочки, она размышляла о том, что склонна, готова и чуть ли не рада пойти на убийство, лишь бы только ему отомстить.
Началось все с того, что она собрала в близлежащем бору лесные поганки и стала травить их в ковше кипятком. Выцедив яд, она сдобрила им краюху чурека, положив его прямо на фынг под руками того, кто был уже обречен. Скрывшись за пологом, Дзака преспокойно пошла к колыбели, взяла оттуда младенца — он показался ей легким, как вздох, почти невесомым, как радость, — и небрежно дала ему грудь. Малыш не издал ни единого звука. Он старался смотреть ей прямо в глаза. По углам ее рта блуждала пороком улыбка. Оставались часы…
Но старик был живуч. Ужин в нем не отметился даже пустячной желудочной болью. Он был крепок и жилист, как бук под дождем.
Дзака опечалилась, сникла, но сдаться уже не смогла. Выдумывать средство избавиться вмиг от того, кто тебе ненавистен, все легче, чем видеть, как он тешит тщеславье подлым, угодливым страхом твоим, не боясь получить взамен ничего, кроме рабской покорности и доказательств благодарного повиновения. По крайней мере, теперь она обрела над ним подобие призрачной власти, позволявшей ей сочинять для него бесславный конец. Ее мысли были куда свободнее глаз, чьей первой задачей было спрятаться, поскорей увильнуть от его беспощадного взгляда…
Наблюдая за тем, как старик чинит лемех для плуга (стоит внезапно сорваться с черенка молотку — тот пронзит ему лоб), правит лошадью в снежную пору (только-только кобыла оступится — и он упадет, заскользит от дороги к обрыву, а там уже — дело удачи и Бога, а Дзака — та совсем ни при чем), косолапо, натужно влезает на крышу хадзара по тщедушной, скрипучей в шагу ветхой лестнице (коль ступенька подломится — уж его тут ничто не спасет), как он полнит внимательным пальцем, прикусив от старания язык, газыри, подсыпая в них порох (достаточно искры — в секунду спалит все лицо), как дремлет, приветив весну, на дворе (так и хочется бросить за шкирку гадюку!), как он треплет руками форель (где-то в ней поджидает его незаметная острая кость. Возьмет и застрянет вдруг в горле), как он спит, запрокинувшись в храп головой, выставляя большой и косматый кадык, словно дразнится, хочет ее испытать (где тот нож, где отвага проткнуть ему глотку?.. Вот бы было что просто!), — наблюдая за ним, Дзака ободрялась надеждой, ведь смерть, сочиненная ею так здорово, ловко в каждом этом мгновении, уже привыкала к нему, подступала все ближе, а значит, могла невзначай и его навестить.
Годы шли, рос ребенок, превращаясь все больше в обузу, потому что теперь приходилось давать ему не грудь уже, а слова, уследить за которыми у Дзака не всегда получалось. Как-то раз он сболтнул в разговоре с отцом то, что даже не очень-то понял. Он сказал: «Ненавижу тебя». В устах пятилетнего сына прозвучавшее слово было знаком того, что он услыхал его неспроста.
Муж приблизился к ней, заглянул ей в глаза и спросил: «Это правда?». А Дзака затряслась, побледнела, съежилась, потом зарыдала, поперхнулась визгливо и рухнула, пала пред ним тяжело на колени, воздевая беспомощно руки к милосердию того, кто его, милосердья, не знал. И тогда он решил проучить ее тем, что заставил ползти за ним следом к двери, потом — по двору, а потом — и по зною злорадной, всевидящей улицы, унижая ее перед всеми, кто стоял у плетней и молчал. А потом он сходил с ней на кладбище (она, понятное дело, не шла, а ползла), показал на могилы и громко сказал: «Полежишь здесь с недельку, послушаешь их разговоры, а затем я решу, как с тобой поступить…»
Через день он скончался. Дзака поняла, что отомщена. Никто никогда не узнал, отчего это вдруг старика среди ночи хватил жесточайший удар: все лицо перекошено, веки странно загнулись, отказавшись прикрыть напоследок глаза, руки заперты в диком страдании, подвернувши ладони когтистым крюком, а в коленях, костлявых колючих коленях, застыл подрезанным бегством прыжок. Жутко даже смотреть, хоть, признаться, забыть невозможно. Хоронили его в соседстве от жен. Дзака плакала в голос и ликовала: уж они ему там зададут!..
Старший сын старика горевал больше всех. Дзака траур был тоже к лицу. Соседи шептались. А она неустанно и жадно предавалась греху. Никаких особых тревог. Разве только сомненье: что будет, когда год пройдет и новый хозяин (днем — пасынок, ночью — любовник ее) обретет вновь законное право сосватать жену?..
Ближе к этому сроку она вдруг почуяла: дело неладно. Он, однако, упорно молчал, делал вид, что ее не предаст. На поминках народу толпилось — не протолкнуться. По взглядам людей Дзака поняла, что отныне пойдет для нее по-другому, потому что они ни за что не простят. Для них она была проклята, порчена и презренна. А вот чем для него?.. Было трудно сказать.
Согревала ее лишь любовь, но до той еще надо было дойти, добрести сквозь удушливый день, бездыханные сумерки и длинный, насмешливый вечер. Ночь пришла — и Дзака все забыла.
Где-то под сердцем зрела в ней новая жизнь… Говорить о ней вслух она все же пока не решилась.
Еще спустя месяц пасынок ей приказал снаряжаться в дорогу. Дескать, сыну ее к дню рождения надо в крепости кое-что присмотреть. Она не поверила. Что-то ей подсказало: обманет. Взгляд его торопил ее страх. Чтобы как-то спастись, она повела с собой за руку сына. Они сели в повозку втроем. Тот, кто был для нее единственной целью и смыслом, всю дорогу молчал и насвистывал нервно нескладный мотив. Она думала, думала, думала, но все как-то мимо, без мыслей. Ребенок сидел рядом с ней и дрожал. Что-то чувствовал тоже? Кто знает. Через неделю ему будет пять…
К полудню дорога нырнула на тенистую просеку. Стало легче дышать. Только свист его сделался громче, призывней, словно очень хотел подстегнуть тишину, разогнать. Когда это ему удалось, с десяток абреков верхом окружили подводу и принялись им угрожать. Он что-то кричал, обзывая их трусами, и хватался рукой за ружье. Абреки смеялись. Он очень сердился. Глаза его были полны противным стыдом. Привязав его к самой повозке, они взялись глумиться, раздевая Дзака донага. О сыне ее позабыли. Сперва он сидел, перепуганный, маленький, страшный, спрятавшись за колесом. А потом он исчез. Дзака не увидела, как это было. Она потеряла его.
Надругавшись над нею, абреки забрали коня и повозку, поиграли кнутом по спине у того, кто остался лежать в почерневшей пыли, а ее положили измятым кулем тут же, рядом с его несмол-кающим стоном, самым жутким из звуков, которые есть на земле. Дзака поднялась, закуталась в платье, подобрала косынку и пошла от него — прочь, подальше, туда, где не ждал ее бесконечный, все знающий лес.
Умереть она не сумела. Возможно, из-за того безразличия боли, что проникла повсюду в нее, как сквозь сито вода. А может быть, оттого, что вдруг поняла: между жизнью и смертью теперь разницы нету, потому что, когда умирает душа, остальное уже не имеет значения.
Потом ей сделалось холодно, но не так, как бывало, когда настигала зябкой стужей зима, а совсем по-другому: как будто бы холод шел изнутри, а вокруг было жарко, как в печке. Потом она вскрикнула, села на корточки и опросталась. Через миг или два в ней была лишь одна пустота.
Копая ногтями червивую землю, она торопилась зарыть в ней, как послед, кровавый комок. Этот день еще не закончился, а она осталась ни с чем. Ни любви, ни несчастного мальчика, который ни разу не слышал в ней мать, ни того, кому она матерью быть так хотела, мечтала, но теперь была рада, что не смогла. Возвращаться к тому, кто так ее предал, было свыше ее истощившихся сил. Но с каждой минутой сумерки делались гуще и глуше, ночь была уже очень близка, не проверить же было никак ей нельзя. Дзака побрела по лесу обратно.
Дорога запомнила только след колеи и копыт. Пахло чуточку кровью, а может, уздой. Мужчина, конечно, давно уж сбежал. Верно, сговорился с абреками повстречаться где-нибудь ниже по склону, здесь должна быть тропа, размышляла она с какой-то невероятной, последней, спокойной отчаяньем ясностью. Все вдруг стало понятно ей, тошно, и так захотелось дождя. Потом пришла ночь, и она попросила у темени скрыть ее от себя навсегда. Темень ответила сном, а когда Дзака снова проснулась, небо было исполнено звезд. Посмотрев друг на друга, звезды и женщина тут же опять затворили глаза. Она закричала, принялась больно хлестать себя по лицу, но слез уже не было. Откуда им взяться, если нет ничего, если не о чем больше жалеть?..
И тогда она стала метаться, колотить кулаком по земле, грызть косынку зубами и выть, чтобы не рассмеяться.
Свет застиг ее у ручья. Держа его вместе с водой на ладонях, она вспомнила вдруг об исчезнувшем сыне и впервые ужали-лась сердцем о свою к нему опоздавшую беспощадно любовь. Хорошо, если он сейчас в доме отца. Для него лучше быть сиротою, чем надеяться, что мать его где-то носит позор и жива. Стало быть, он выбрал брата. «Прятался за одним из деревьев. Сперва от абреков, а потом от меня, — произнесла вслух Дзака, проверяя голосом правду. — А потом он дождался, пока я уйду, и вернулся туда, на дорогу, по которой я уж теперь никогда не пойду. Тот подлец рассчитал все как должно. Вот они от меня и избавились. Странно… Отныне меня для них вроде как нет».
Ее не было, однако был голод. Три с лишним дня она с ним боролась, перебиваясь водой да пригоршней ягод в лесу. А потом она вышла туда, где коптился костер, и увидела снова абреков. В сущности, разницы не было, как ей теперь поступить, если жизнь в ней желала лишь выжить. Так бывает с людьми. Так частенько бывает…
Делить с ними ложе было почти все равно, что делить с ними хлеб. Так прошло года два. Она их совсем не считала. Лесные друзья полагали, что она лишилась ума. Это было похоже на истину. Но где-то подспудно рядом с ними все время бродила их смерть. Сочинять ее для Дзака было не внове. Наконец она выбрала день, вместе с ним окунулась воздушной тревогой в синеву лунной ночи, подождала, пока все уснут, подобрала кинжал вожака, наметив его в свою первую жертву. Убивать оказалось труднее, чем знать, как должно быть это легко. Просидев над абреком с ножом битый час, она разрыдалась. Вожак услыхал ее плач и проснулся. Ничего не сказав, он вынул спокойно кинжал у нее из руки, вложил лезвие в ножны и, улегшись удобнее, повернулся к Дзака равнодушной спиной. Она поняла, что больше не может…
Утром абреки ее не нашли. Дзака их покинула, прихватив с собой лишь ружье да одну переметную суму с едой. Никто из них о ней не обмолвился словом, хотя в мыслях своих и старался постичь ее непростую судьбу, в сравнении с которой удалая, беспутная жизнь их была образцовым порядком.
Дзака скиталась недолго — пока не прибилась к чужому обозу, обокрав его прежде на два сырных круга и муку из мешка. Виной тому был Цоцко. Кабы не он, она ни за что б не пристала к семье. Но при виде его ей почудилось, будто жизнь порешила предоставить ей вдруг вторую попытку. Это было и вправду похоже: древний злобный старик, схоронивший жену, и статный его, неуемный гордыней, почти величавый своей преданной подлостью сын. Он пронзил ее серым сумрачным взглядом, в котором она распознала ту же волю идти во всем до конца, презирая любые преграды и совесть. Вот он, враг, самый верный и самый опасный, а когда появляется враг, появляется смысл с ним бороться.
Для начала она взяла в залог его ненависть, покорив отца-старика мудрой ложью, заботой и стоической нежностью. Наслаждение властью было подобно ощущению вечного грома в душе, которая вдруг ожила и вернулась. В Дзака стремительной силой вырастала приятная, звонкая злость — отрада для мести, ждавшей в ней столько лет сокровенного часа расплаты: за отца-неудачника, гнусность брака, жестокую щедрость побоев, за рождение мальчика, в котором она не успела опознать свою плоть и кровь, потому что лишилась себя еще прежде, чем сумела зачать его, укрываясь тем временем в грезах о том, что было запретно, недостижимо. Она готовилась мстить им за все: свое ползание перед целым селом на коленях, за два дня на погосте, за застрявшую прямо меж ними жуткую ночь, за обман и короткое счастье любви, изменившей в тот самый момент, как она понесла от нее первый плод, за то, что он умер, не познав еще даже рожденья, за абреков, за то, что унизилась голодом, что пропала душой, ублажая два года сотни потных, презрительных ласк, за то, что лицо ее носит морщинистым трауром тень десятка непрожитых лет, за свое неподъемное горе, за безумство, которое было в ней способом выжить, за то, что так долго не могла никому отомстить, хоть о том лишь мечтала, сторожа в себе гнев, изнывая проклятым терпеньем, за то, наконец, что жива — несмотря ни на что…
А потом все опять обернулось кошмаром, потому что Цоцко оказался хитрей. И когда он дал ей понять, что разжился всей правдой, она уступила, ведь ничтожество прошлого было сильней, чем стремленье с этим прошлым сквитаться, вырвав с корнем последнюю память о нем. И теперь ей пришлось дожидаться, как подачки, подмоги от старца, лет в котором скопилось побольше, чем ясных значением слов. И в конце концов у нее получилось: она от него зачала. Это было как чудо, ибо сам он, привыкший за долгую жизнь чудесами сорить, видя в них лишь проделки безбожной отваги, отказался в то сразу поверить: слишком много в нем было упадка, слишком часто звала его смерть за собой. Но Дзака — та смогла его убедить и тем самым заручилась молчаньем Цоцко, ведь он, кабы вздумал раскрыть старцу тайну, навлек бы тогда на него нестерпимый позор, разрушительный не только для прежнего грозного образа бога-отца, но и для гордыни слабеющего умом старичка, вдруг способного сделать ребенка. Кабы он ему все рассказал, Дзака не жила бы и дня. Она видела, как это было с Роксаной… Это было потом, но, понятное дело, такое могло приключиться и раньше. Хвала небу, раньше Дзака родила…
А еще спустя год, когда ее дочь занедужила корью и уже через несколько дней (если точной быть, то две недели. Ровно столько же дней разделяло и их появленье на свет) заразила мальчишку Цоцко, Дзака ощутила вдруг: грянет беда. С Ацы-рухс, слава Богу, все обошлось, а вот младший в их доме скончался. И тогда, надрываясь внезапно душой, презрев страх и опасность, обезумев от ночи и горя, от того, что так близко страданье Цоцко, Дзака ринулась в новую пропасть, потерялась в ней жаждой любить и предала себя его ложу. Это было подобно закланью.
Но Цоцко подчинился ей только лишь раз, а потом ускользнул, предпочтя ее жертве привычную ненависть, которой отныне она защищала себя от его серых глаз. И поскольку в ней все-таки жаркой обидой бурлила гневливая ревность, Дзака рассчиталась с ним тем, что купила постыдную тайну сестры, бесстрашной Роксаны, заплатив за нее Казгери сразу десять монет серебром, а потом, тем же вечером, там, все в той же Развязке, поднесла ее удивленьем в постель к старику. Так впервые она отомстила. Так впервые она поняла, что, ничтоже сумняшеся, стала причаст-на к убийству. Пережить это было нельзя. С этим можно было лишь жить.
Она и жила. Иногда ей бывало настолько противно, что хотелось сбежать. Но бежать было некуда: все пути вели к ней же самой.
Старик умирал. На теле его она различала чуть заметные язвы. Ей пришло вдруг на ум, что по ним она может читать его боль и грехи. Порой ей казалось, что в нем просыпается совесть, но она понимала, что это не так: он чрезмерно усердствовал оттянуть свой конец, а совесть — та могла его только приблизить.
Странное дело, у Дзака случалось время от времени чувство, что она обязательно справится с тем, что ей еще суждено. Причиной тому — Ацырухс. Дочь ее правда прекрасна. Она так красива, чиста, что Дзака нужно мужество, чтобы к ней прикоснуться. Она никак не поверит, что дочь от нее: слишком много в ней кроется счастья и света, будто все то, чем была так бедна ее мать, чего отродясь не бывало в ее дряхлом, жестоком отце, досталось сполна плоду их же совокупленья. Значит, чудо все-таки было тогда…
Однако Дзака до сих пор не поймет, любит дочку свою или нет. Наверно, скорее боится, чем любит. Потому что любить означает отдать всю себя, а вот этого, право, Дзака и не хочет: опасается вымазать грязью. Кто-кто, а она понимает: стоит только лишь раз запятнать себя чем-то — вовек не отмыться. Ацырухс для нее подобна святой. Дзака молится втайне о том, чтобы дочь от нее убежала. Она молится искренне, страстно, попадает молитвой в закат и тихонько, скомканно плачет…
В такие часы она ощущает себя только дрожью да еще, может быть, пугливой, прозрачной слезой. Хотя б на мгновение ей хочется сделаться птицей, оторваться от пола, улететь куда-нибудь взмахом крыла. Потом она вспоминает, что такое Дзака, и вмиг каменеет губами. Ненависть требует много терпенья. Особенно если вокруг кроме нее-то и нет ничего.
Опять наступает весна. Для Дзака она хуже, чем осень: по весне у нее появляется зуд. Кожа чешется, шелушится, опадает снежинками, будто линяет. Вот бы так поменять свою душу… Что-то странное здесь происходит — то Алан, то старик, а теперь и она. Крыша дома их обрастает чешуйчатой скользью. Ветер хлещет по ней, но не может пронять.
Как-то раз она видит: на заднем дворе Казгери напряженно следит за калиткой Хамыца. Ей известно, что означает сей взгляд. Впрочем, ей до того нету дела. Она идет в дом, чтоб ничего не понять. День еще зачинается. Солнце лениво ползет из-за легких, обманчивых туч в прохладу бездонного неба.
Она слышит, как дверь отворяется, по шагам узнает Казгери, замирает с кастрюлькой в руках, переводит вопросом глаза на сноху свою, тощую бабу Тугана, та в ответ пожимает плечами и с вызовом ей говорит:
— На охоту собрался. Что тут такого?
Дзака соглашается. К ним в хадзар входит с полным ведром вторая сноха. Она охает, обливается потом. Скоро ей снова рожать. Сквозь окно Дзака замечает, как Казгери не спеша бредет по мосту. Вот так штука! Впервые кривоногий хитрец не бежит, а степенно треножит свой шаг, словно вдруг решил поиграть в растяжку со временем. Это так необычно, что у Дзака рассекает морщиною лоб. Она хочет не думать о том, что готовится в воздухе, но в глазах у нее раз за разом нежным розовым облаком возникает младенец. Тот самый, которого ждали семь лет кряду. Что-то в ней обрывается страхом, заставляет выронить нож, она думает: «Только не это. Боже, Ты не позволишь ему…» Но, едва эта мысль промелькнула, как она понимает: конечно, позволит. Он позволит им все, как всегда позволял до сих пор…
Скинув фартук, она выбегает во двор, отворяет калитку, семенит неуклюже по улице (еще бы! Никогда до того не пыталась спасти никого, — только губила), добегает до дома Хамыца, влетает растрепанно в теплый, пахнущий крошечным детством хадзар, застает там хозяйку с распахнутой грудью (та как раз ею кормит ребенка, в лице изумление. Оно тут же сменяется гневом), подойдя к ней вплотную, Дзака переводит мгновение дух. Все слова утерялись, осталось лишь чувство. Оно наконец говорит:
— Скорее… Торопись! Где Хамыц? Он ушел на охоту?
Женщина думает, потом лишь кивает. Ребенок невинно сосет ее грудь.
— Оставь его мне, а сама беги в лес. Верь мне… Я знаю. Но пронять ее не так просто. Прижимая к сердцу ребенка, она лишь испуганно, глупо водит в стороны головой.
— Пожалуйста, верь мне… Этот подонок что-то замыслил. Будь я проклята больше, чем есть!.. Ну, скорее! Что ты хочешь еще от меня? Он почистил ружье и двинулся следом. Но не так, как всегда. Понимаешь?.. Казгери не бежал. Он крался, а перед тем весь рассвет наблюдал со двора. Боже!.. Как мне тебе доказать?!
И тогда она встала. Вскочила, протянула было ребенка Дзака, но потом передумала, снова крепче прижала младенца к груди. Запахнула неловко рукой свое платье и метнулась молнией прочь. Дзака поспешила за ней.
И вот она видит, как Хамыца жена, скользя по дороге, направляется к той, кто была ей почти что родня. Через пару коротких, как вдох, и долгих, как годы, секунд она покидает дом Софьи, но уже без ребенка, и мчится, роняя следы, по мосту в темный лес.
Солнце, плотное, влажное солнце только что, в этот вот миг, вышло комом из-за горы и, лениво зевая, зависло над миром. Призывая его доброту, Дзака мяла руками платок и была почти счастлива. Что тут сказать?..
Разве только спасибо. Спасибо тебе, что дала себе волю вернуться — к тому, с чего начиналась. С чего начался любой человек… У тебя впереди целый час, а потом ты узнаешь, что опоздала. Но в этот пленительный, радостный час ты снова живешь, дорогая Дзака…
XIII
С той минуты, что внесли в дом ее бездыханное тело, Тотраз неотлучно стоял у ворот. Аул тихо готовился к своим первым похоронам. Чужакам поручили выстрогать доски на гроб. Все они, исключая Тугана, отправились в лес. Ацамаз хлопотал по хозяйству, подбирая котлы, обсуждая с соседями, как ее провожать и где лучше, разумней будет им разметить погост. Туган больше молчал. Алан жал плечами и со всем соглашался. Отвечать приходилось Тотразу, потому что Хамыц ничего не слыхал. Только раз он одернулся, вспомнил, разлепил свои губы и приказал: «Никого из родни не зовите. Не нужно. Для них она давно умерла. Что ж теперь, умирать ей для них и вторично? Запрещаю вам звать кого из родни…»
Заглянув ему прямо в глаза, друг увидел в них зоркость такого страдания, что не смог удержать в нем свой взгляд.
Мелко высыпал дождь. Потом высох, полистал облака ветерком, и на место его пришло солнце. Было трудно смотреть на него.
Женщины все как одна собрались внутри дома. Соборовали смерть, как могли, привели под нее в порядок все комнаты, завесили выцветшей тканью облезлое зеркало, оба окна, окружили носилки печалью, но покуда не стали терзать тишину. Плакать в голос им показалось неловко. Причитанья брюхатой супруги Цоцко быстро сникли, упершись в единодушное неодобренье. Труп лежал посреди их смиренья и, казалось, пытался простить им грехи. Время длилось, копилось, терпело, а потом вдруг упало под ночь.
Потихоньку народ расходился. Бдеть у тела остались лишь сестры, Дзака и Хамыц. Тотраз караулил беду во дворе. Очень ярко светила луна. У нее было много помощниц — мелких, прытких и жалящих звезд. Наконец он услышал шаги, обернулся, разглядел на пороге сутулую тень, подождал ее, не решился тревожить, потоптался на месте, вздохнул тяжело, перестал ждать, хотел было тронуть какое-то слово, но смешался, прокашлялся и наконец услыхал:
— Все. Спасибо. Иди. Увидимся завтра.
— Может быть…
— Завтра. Сейчас мне нужна лишь она. Покорившись, Тотраз пошел к дому. Оказавшись один в полумгле, стал жадно, честно зевать. Он сидел у огня, положив на колени ладони, и думал. Ничего не надумалось. Глаз Тотраз не смыкал. Ему было сонно, но сон он не звал. Ночь тихо скучала. Вспоминать в эту ночь ни о чем не хотелось. Но скажите, как было не вспоминать?..
Утомившись от стольких видений, промелькнувших в его изможденном мозгу, он решил ждать упорно рассвета. Бдеть ему, глядя в низкий очажный огонь, было легче, чем встать и отправиться спать. В дальней комнате с нарами было зябко и пусто. Марии не будет всю ночь. Он сидел, погрузившись в оцепененье, и смотрел, и смотрел, и смотрел на огонь…
Как всегда по весне, это утро началось тоже с птиц.
Облачившись в чистую черкеску, Хамыц холодно оглядел теперь уже в голос, искренне, не очень впопад причитающих женщин, нахмурился и вышел из дому. На пороге задержался, кивнул столпившимся у ворот мужчинам, провел рукою по газырям на груди и двинулся по тропе к пустому ныхасу. Добравшись до него, он обернулся и требовательно посмотрел на оставшихся у его хадзара горцев. Те тихо переговаривались, все еще недоумевая, потом четверо из них, старшие других домов, медленно направились туда же, вверх по тропе. Он жестом предложил им сесть, но они отказались, из уважения к чужому горю продолжали стоять, слегка склонив головы.
Хамыц сказал:
— Хочу просить вас…
Самый старый из них, Ацамаз, произнес:
— Говори. Мы тебя слушаем.
— Она первая, — сказал Хамыц. — До нее никто в нашем ауле не умирал…
Все согласно кивнули, и по их лицам он прочел, что они не догадались. В голове у него скопилась тяжесть, и он с раздражением подумал, что дело же яснее ясного. Он молчал, подыскивая слова, но те, такие жесткие и убедительные прежде, пока он шел, будто рассыпались у него под ногами. Он чувствовал в пальцах подступающую злость.
— Она первая, — повторил он. Возможно, громче, чем следовало. — За восемь лет… И она не старуха.
Четверо мужчин напротив потупили взоры и опустили плетьми руки, выражая соболезнование. Они не понимали. Он стиснул зубы. Тяжесть в голове мешала собрать мысли. Он вяло подумал, что не помнит имен этих людей, хотя один из них был ему ближе брата. Птица клевала на тропе его слова. Он слышал вой женщин из своего хадзара. Утро убегало вниз по реке. До полудня многое предстояло сделать.
— Вот что, — сказал он. — Ничего не надо. Один управлюсь.
Они удивленно вскинули брови, а Ацамаз покачал головой и сказал:
— Народ поможет.
— Я так хочу. Сам сделаю.
Мужчины беспокойно переминались с ноги на ногу. Ветер принес с реки прохладу. Ее было хорошо слышно, как и саму реку.
— Так не положено, — хотел было вмешаться Туган. — По обычаю…
— Не нужно, — перебил он и вздрогнул. Опомнившись, поднес руку к груди, но немного спустя упрямо повторил: — До нее ведь никто в нашем ауле… Так о каком обычае ты говоришь?..
Они помолчали.
— Здесь пять домов, — сказал Туган. — Их сложили за восемь лет… За восемь лет обычай не умирает.
— Он и не умер. Она умерла.
Они пристально посмотрели друг другу в глаза.
Хамыц лениво отметил про себя, что глаза-то у людей, оказывается, больно живые. Непохожи на сами лица. Никудышные глаза.
— Я должен это сделать сам, — сказал он.
Мужчины размышляли. Воздух играл у них за плечами. Небо было ясным, как студеная вода. Хамыц прищурился и внимательно поглядел на синеющий холм за мостом. С той стороны чуть слепило солнце.
Ацамаз негромко спросил:
— Людям собираться к вечеру? В голосе его мешалось сомнение.
— Да, — сказал Хамыц. — К вечеру. Только завтра. Мужчины переглянулись. Один из них, тот, что был роднее брата, сказал:
— У меня есть бык. Он твой. Ты же знаешь… Хамыц поморщился.
— Нет. Он твой и твоим останется. Завтра мясо будет. К закату все будет. Пусть женщины займутся тестом. Пусть они идут по домам.
— Ладно, — сказал Ацамаз. — Но если ты передумаешь…
— Не передумаю. Я решил.
Они снова склонили головы, потом пошли вниз по тропе. Он смотрел им в спины и ждал. Когда дом его опустел и последняя женщина скрылась за своей калиткой, он еще раз окинул взором холм вдали и редкую траву под ним, отер пот со лба и зашагал к хадзару.
На тело, облаченное в синее платье с окладом, он не смотрел. Поднял кувшин у стены, допил остатки сопревшей за сутки воды, ощутил ее тухлый вкус, но не оставил ни капли на дне. Потом сходил в сарай, принес отсыревшую попону и бросил на пол рядом с табуретками, на которых лежало тело. Подошел к кровати, сорвал с нее покрывало и неспешно двинулся обратно. По-прежнему стараясь не смотреть, он завернул труп в покрывало, убрал доску и уложил тело на попону. Потом сел на табурет, снял шапку и заставил себя опустить глаза. Недолго подождал, встал и вышел взнуздать коня. После этого он вернулся, поднял на руки попону и то, что в ней лежало, поднес к коню и привязал все постромками тому на спину. Забрал из дому мятый бурдюк вместе с рогом, сунул их рядом, под постромки, конь всхрапнул, он взял его под уздцы и повел к реке. Тяжесть в голове давила, и он подумал, что зря пил воду.
Они шли к мосту, было тихо, и по этой тишине он знал, что за ними следят. По пути он несколько раз взглянул на реку, на Голый остров посреди. Как кусок мяса в мелком котле, подумал он. Далеко за рекой молчал лес. Пока что он, Хамыц, не слишком глядел туда. Идти было нетрудно, но он пошатывался, приноравливаясь к шагу коня. Тот настороженно поводил ушами и косил на хозяина глазом. Они прошли через висячий мост над стремниной, и, когда вновь ступили на берег, ноги животного перестали дрожать, и человек вполголоса сказал:
— Молодец, смелый конь. Быстро успокоился.
Они взобрались на пригорок и двинулись дальше, к холму, идя по редкой траве и шуршащей гальке. Через некоторое время человек остановился, отпустил коня, присел на корточки и ощупал руками землю. Конь сделал еще несколько шагов и робко стал рядом, вытянув морду и принюхиваясь к чему-то глубокими ноздрями.
Человек достал кинжал из ножен, приложил его к земле и отметил порезом недлинный прямоугольник. Потом подоткнул за пояс полы черкески и принялся за работу. Копал он долго и сосредоточенно, ни разу не подняв головы и не передохнув. Конь видел, как на спине хозяина выступили два черных пятна, стали шириться, соединились и поползли вниз. Лезвие голо впивалось в твердый грунт, взрыхляло его, и руки выбрасывали землю из неровной ямы. Конь стоял, перебирая ногами, изгибался в шее, пытаясь укрыться от дурного запаха, и иногда нервно всхрапывал, опасаясь странной ноши. Человек не обращал на него внимания, и яма росла, ровняя стенки, и рядом с нею росла горка земли.
Наконец он кончил, вытер рукавом кинжал, спрятал в ножны, подтянулся, опираясь об уцелевшее место на поверхности, тяжело выбрался и сел на неподатливую почву. Выдернул травинку и сунул в зубы, думая о чем-то своем. Потом поднялся, подошел к коню и снял с луки бурдюк, плеснул из него в рог, поднял руку и медленно выпил. Затем осторожно снял с коня попону и то, что в ней было, спрыгнул, ударившись плечом о выступ, с ними в яму и бережно положил все на дно. Снова наполнил рог, но уже до краев, что-то тихо пробормотал и вылил жидкость себе в глотку. Он забросал руками яму, пригладил могилку ладонями и пошел к реке. Там он отыскал подходящий камень, прижал его к груди и, пока шел обратно, весь побагровел от натуги. Он приладил камень к свежей горке земли, опять снял шапку и о чем-то помолился. Потом он сказал:
— Еще не всё. Я принесу тебе его кровь.
Постоял немного, взглянул на небо — солнце дышало у него над головой — и повел коня к мосту. Умылся у реки, ополоснул в ледяной воде ноги и заспешил в обратный путь.
Дома он разнуздал коня, проверил газыри, снял с гвоздя винтовку и тщательно ее осмотрел.
Потом он шел к лесу. На кисти петлей белела веревка, другой конец неплотно облегал шею ягненка. Тот трусил сбоку мелкими шажками и изредка жалобно блеял. Дома человек оставил стены, коня и несколько серых овец. Больше у него ничего не было. Или что-то было, о чем он забыл. Он шел, сверяя время по гладкому солнцу, и о том, что ему предстояло сделать, думал невнятно, как о чем-то в далеком прошлом.
Вскоре он добрался до леса, чуть сбавил шаг и косо осмотрел то место, где завязло, облепленное мошкарой, жирное пятно. Несколько минут, продвигаясь глубже, он сдерживал в глотке дурноту, вовсе не думая об осторожности. Ягненок, озадаченный расколотым под деревьями светом, иногда останавливался, поймав под ногами тощий луч. Но веревка натягивалась и упрямо толкала его вперед, в прохладную тень.
Они шли довольно долго, и тень делалась все плотнее, пока не стала влажной, как шерсть в овечьем паху. Только шерсть была всегда теплой. Несколько раз им попадались маленькие зверьки с пушистым хвостом, таких ягненок никогда прежде не видел. Они прыгали у корней и ловко взбирались на ствол. Бояться их, конечно, не стоило. Они пахли листвой, шишками и пряной землей. А дважды что-то длинное и скользкое мелькнуло под сапогами у человека, и это, хоть человек и не заметил, было уже страшно, и потому ягненок задрожал, заблеял и тут же осекся.
Они вышли туда, где было светлее. Человек встал, деловито оглянулся, снял с руки веревку и крепко привязал ее к высокому темному дереву. Он затянул потуже петлю на шее ягненка, достал из-за пазухи тряпочку с солью и дал слизнуть соль с собственных рук. Потом он проверил, откуда дует ветер, отошел подальше и вверх, нарезал веток и сложил их над широким кустом. Сунул в прорезь дуло винтовки и сел позади на корточки.
Теперь он ждал, всматриваясь в долгие сумерки. Встревоженные птицы успокоились, привычно зачастили тающими голосами. Тишина скребла сухим языком по ветвям, дышала на листья. Человек сложил руки на груди и смотрел, как из раны в дереве стекает густая ниточка сока. Одинокая слеза. Одна-един-ственная, равнодушно подумал он. Слегка дернулся ветерок, и человек почувствовал, что начинает зябнуть. Он растер плечи, подышал теплом на ладонь и отогнал прочь сон. Впереди щипал траву ягненок. Человек оторвал комок земли и швырнул в его съежившееся тельце. Ягненок обиженно заблеял, и человек усмехнулся.
…Вспоминалось как-то само. Он не пускал мысли, но подсознательно, как зрачками, шарил памятью по последним годам, собирая в горсть то, что теперь уж следовало бы отбросить. Но вспоминалось само, хоть и трудно, упрямо…
Он вспомнил, как ее нашли в подлеске, изуродованную когтями и с перебитым позвоночником, без лица. Она была мягкая и тяжелая, как мука, а потом отвердела и стала холодной. И была без лица. Без сына. Без него и без себя. Он не хотел вспоминать…
Он глядел на ягненка, принесенного в жертву, тот мирно щипал траву, и было тихо. Когда придет время, он почует, и почует человек, но пока что и тот и другой были спокойны. Человек говорил себе: да, я спокоен. Я сделаю все, как надо, я принесу ей его кровь. Она не сможет меня упрекнуть. Женщина не должна упрекать, а она настоящая женщина.
Он улыбнулся. Он не стеснялся своих мыслей. Им хорошо было вдвоем. Иногда даже ему казалось, что женщина — самое главное в жизни. Он ей этого не говорил. Ему нравилось ее тело, а по ночам он любил смотреть ей в глаза. Он видел их. Они бродили по тьме, как две маленькие жизни. Они редко разговаривали по ночам. Она была похожа на глоток, большой глоток, глянешь — как окатило… Или нет. Похожа на свои пальцы. Тонкие и неугомонные, вот и молчать всласть. Пальцы говорят. А губ своих стыдится. Тронет ими — будто украла, и тут же голову в сторону отдернет… Смешная. Да и много ли ей надо (он тихонько засмеялся), тронет — и голову спрячет. Или вот еще волосы. В руках держишь — как снег сухой, хоть такого не бывает… Не бывает, только у нее есть.
Отовсюду кругом к нему сбегалась мгла. Заблеял ягненок, но человек по-прежнему негромко, порой даже вслух, играл своей памятью и покачивал головой. Ему было хорошо, хоть он и чувствовал где-то в глубине, под самым горлом, дробно пульсирующую жилку, будто что-то забыл или потерял. Даль смешалась с близостью, наливая ее густым цветом, но его это, похоже, не тревожило. Он сидел на корточках, удобно упершись в колени, и сочно бормотал в ночи легкие слова. Ягненок заблеял опять. Человек привычно потянулся книзу, оторвал ком дерна, приподнял руку, немного выждал, занятый своим, и в рассеянности выронил ком на землю. Он будто ослеп, глаза округлились и сделались крепкими, как два ногтя. Ягненок уже почувствовал и блеял что есть мочи, потом, испугавшись пуще прежнего, прижался к твердому дереву и задрожал всем, что было в его теле. Человек не слышал. Он хитро улыбался, причмокивая губами, смолкал и ощупью продирался сквозь упрямые мысли. В голове снова стало тяжело, но сейчас это не слишком ему досаждало.
Он думал о том, как однажды повел жену к холму за мостом и, затерявшись в высокой траве от чужих глаз, нарвал полную ладонь маленьких голубых незабудок. Еще было много солнца, а, она смотрела ему в лицо и вся побледнела. Он подошел к ней, взял за плечи и притянул к себе. В тот же миг на них рухнул ливень. Они любились под дождем, а кругом громыхало и плескались молнии…
А еще был случай, когда он лежал на выгоне и его укусила змея. Он щелкнул кнутом и перехватил ее пополам, и ему почудилось сперва со страху, что это гадюка, и он весь затрясся, ходуном заходил. Вот смеху! А потом он пришел домой, рассказал и показал рану, а она разревелась и долго еще после не решалась коснуться его руки…
Как-то раз тоже было. Чурек пекла, а он в тесто монетку бросил, на интерес: кому выпадет. Чего гадал — к ней монетка пришла, потому что счастливая… Радовалась, как воробей, честное слово!
А корыто зимой расколола — злилась, как черт, губы надула и зрачками на него засверкала. Все потому, что он рассмеялся. Не любит неловкой выглядеть. Подвижная, прыткая такая…
Или вот солнце в ладошку ловит, будто ребенок малый. То же с огнем вытворяет. Подставит ладонь против глаз и смотрит, как ее насквозь высвечивает.
А порой задумается и, словно конь какой, даже ухом поведет… Уж что там слышит или чует — куда ему понять! Да и то — лишь бы ей в охотку было. Мне-то что… Женщина! И по-пригожей других. Иногда, правда, как из бросового ручья напилась, глаза потускнеют, и лицо белое, изменится, одичает, вроде бы и не сама по себе. Но то — пустая ходила когда… Не теперь.
А родила легко, как посмеялась. Играючи прямо родила! Сами женщины удивлялись… Чего ж, говорю, столько в себе таскала, если дело для тебя пригодней, чем миску масла сбить! Покраснеет, хоть и наедине мы, видно, и вправду стыдно, что ждать заставила лет — целый ворох. Да ведь всякое бывает…
Весна вон в самой поре. Весну она любит. Весной, говорит, жизнь тебя как за двоих соком поит. И запахами закидает, так что каждую каплю помнишь. И то верно. Вот только…
Он осекся, слух его проснулся. Он сразу вспомнил. И почти тут же прозрел. Медведь лениво заносил лапу, оттеснив ягненка к стволу. Вон оно, значит, как, проплыло в мозгу у человека, и он окаменел. Услышал, как задрожали локти и тонко проскулило его собственное горло, пока зверь трепал клок бьющейся шерсти. Человек вспомнил и не мог пошевелиться. Он видел, как это было. Зверь был огромный, как само его прозрение, с ними двоими было не совладать. Так же сидя на корточках, скомканный в темноте, человек больше не проронил ни звука. Он вспомнил и теперь досматривал все до конца, обманутый и безвольный, не в силах приказывать телу. Оно прогнало его и больше не повиновалось. Он смотрел распахнутыми глазами и видел все отчетливо, как днем, словно смерть не вместилась во тьму. Словно страх в нее не вместился. Зверь зажал шерсть меж лап, помял, придушил ее и дал выход молодой растревоженной крови. Хамыц слышал, как она стекала из раны и разливалась по громкой земле. Тогда он закрыл глаза и попытался хотя бы найти свой голос, потому что знал: с ним самим, Хамыцем, покончено тоже. Но голос скрылся, исчез, будто отказавшись от него. Остался один слух да дрожащие на коленях локти.
Он сидел долго. Намного дольше того, как очистился слух и открылись снова глаза. Потом он встал, повесил на плечо винтовку и пошел прочь. Ноги затекли, и идти было трудно.
Домой он поспел к самой мгле. Впотьмах подошел к надо-чажной цепи, пропустил ее между пальцами и подумал, что и сейчас не плачет. С конем он решил не прощаться, и заняться теперь было нечем. Оттягивать не имело смысла. Он наклонился, поднял головню подлинней, прошел в угол комнаты, удобно сел на табурет, поставил на пол вниз прикладом винтовку, осторожно взвел курок и медленно поднес к нему головешку. Очень хотелось пить, и было это странно. Я ошибся, подумал он, нельзя было о ней, как о живой…
О чем еще подумать, он не знал, но все же не спешил. Было даже любопытно сидеть вот так, выпрямившись, без движенья, и искать, о чем бы подумать.
Потом он понял, что пора. Вздохнул, резко надавил на головню, услыхал щелчок и спустя мгновение успокоенно решил, что смерть мало чем отличается от жизни. Открылась дверь, и он увидел друга. Тот держал в руках прут с зажженной паклей и внимательно вглядывался в пространство, потом заметил его, вошел и прикрыл за собой дверь.
— Ты все успел? — спросил Тотраз, и Хамыц понял, что смерть снова его одурачила.
Он выронил винтовку, переждал озноб и глухо выругался. Затем поднял мокрые глаза и хрипло задышал. Друг нахмурился, приблизился к цепи, опустил прут и разжег огонь в очаге. Обернуться он не торопился. От огня повеяло жаром, и Хамыцу стало теплее. Он сказал:
— Я струсил.
Тотраз вобрал в плечи голову, но не повернулся. Хамыц пояснил:
— Я ничего не сделал. Не смог. Я струсил.
Тишина треснула щепкой в очаге и подсыпала света. Они молчали. Потом друг встал и посмотрел на него:
— Ты можешь пойти еще.
Хамыц отрицательно покачал головой:
— Оно сильнее меня. Ты не знаешь… Я видел, как это было. Я сидел там и забыл, а потом увидел и вспомнил…
Друг не спускал с него блестящих глаз. Он что-то прикидывал в уме, затем взглянул на винтовку, потом опять на него и согласно кивнул.
— Ты хорошо решил?
— Без нее у меня нет ничего. К тому же я струсил. Друг раздраженно указал на винтовку:
— Но почему здесь? Здесь твой сын жить будет. Ваш сын… Хамыц раскрыл рот и замотал головой.
Друг кивнул:
— Не скажу. Ни ему, ни кому другому. Хамыц сглотнул слюну и сказал:
— Ты и сейчас друг.
— Скорее, теперь я друг твоего сына. В этом все дело. Хамыц поднялся, подобрал винтовку и спросил:
— Где?
— Не спеши, — Тотраз поморщился. — Вставь патрон и скажи клятву.
— Какую клятву?
— Богам и мне.
— Я не знаю.
— Ты забыл. Клянись, что тебе хватит этого патрона. Хватит, чтобы унести позор на небо и ждать там суда.
Хамыц заново смазал винтовку, открыл затвор, сменил патрон и, прежде чем ответить, удовлетворенно подумал про себя, что этот будет вторым. Вторым, а не первым.
— Клянусь, — сказал он. — Клянусь богам и тебе… Они помолчали.
— Теперь куда?
— Ты не можешь лежать рядом с ней, — сказал друг. — Ты будешь лежать сам по себе, вдали ото всех.
Тот кивнул. Очень хотелось пить. Друг сказал:
— Иди к реке. Я скоро туда приду.
— Голый остров? — спросил Хамыц.
Тотраз вынул из огня прут и вышел первым. Хамыц вышел за ним. Воздух обдал его свежестью и запахом долгого прошлого. Над холмом уже теплело небо.
Он шел к реке, и было много, о чем стоило думать. Трудно лишь было решить, с чего начать. Он склонился к воде и напился пряного холода. Вот и все, с облегчением подумал он. Услышал шаги. Тотраз шел по берегу, неся в руках плетеную корзинку.
— Что в ней? — спросил Хамыц.
Друг не ответил, и тогда Хамыц в ужасе догадался.
— Ты вроде как хочешь его окрестить? Моей кровью?
— Твоей очищенной кровью, — сказал Тотраз. Хамыц взял его за руку.
— Он спит.
— Да. Даст Бог — ничего и не услышит.
Хамыц промолчал и стал думать о том, что такое жестокость. Они ступили в воду. Река катилась по камням и крепко задевала по ногам. Друг взял чуть повыше и крикнул:
— На середине не спеши. Пригибайся.
Хамыц решил молчать и молчал, стиснув зубы, внимательно следил за скользящей над водой корзинкой и давил в себе ярость. Тотраз едва не оступился, и тогда он крикнул:
— Я не знаю такого обычая!
Друг не отозвался и продолжал шагать через пенящийся поток, беря по течению выше и выше. Он шел слишком быстро, и Хамыц подсознательно брал прямее и ниже. Винтовка неловко висела на шее, а вода подбиралась к груди. Он подумал: а ведь был мне роднее брата. И теперь возьмет себе моего же сынка. Потом он одернул себя и сказал: все правильно. У трусов детей не бывает…
Полпути они уже одолели. Между ними под слоем воды лежала дюжина шагов, а до острова оставалось втрое больше. Человек подумал: Голый остров. Груда булыжников. Ни куста, ни земли. Как хоронить будет? И зло усмехнулся: не моя забота. Хамыц не сводил с друга глаз.
Он не сводил с Тотраза глаз и видел, как тот покачнулся, взмахнул руками, охнул и выпустил корзину. Та нырнула в реку, проползла густым куском, выпрыгнула на поверхность и понеслась, торопя самую быструю волну. Мгновение Хамыц стоял, раскорячив немые руки, потом бросился вперед, в бурлящий поток, цепляясь пальцами за воду. Его оглушило, ударило об острое дно, закрутило и тоже понесло, только он промахнулся, и его уже несло за ней, за корзинкой, за крохотной жизнью внутри, на которую река не имела права, на которую никто еще права не имел. И он летел, подхваченный сильной водой, помогая ей своим напруженным телом, и простирал руки с молящими пальцами, и что-то обжигало его холодным железом, и он схватил это прямо за железо и потянулся вместе с ним, поддел, придержал, поймал руками и прижал к щеке, а потом распахнул во весь мир глаза и увидел, что река мельчает, становится уже, сильней, и значит, еще не все, еще только полдела. Тогда он собрал весь свой дух воедино, лег набок, нырнул, у порогов ударил ногами по дну, по волне и снова по дну, врезался в камень, успел перекинуть за камень корзинку, вцепился в него онемелыми пальцами и попытался так бороться с кипучим течением. Он ждал. Время размякло, остыло и разделилось в нем на этот камень и то, что будет после него, когда ослабнут пальцы. Он лежал на животе, корябая коленями по дну, задевая его скользкое брюхо, и думал о том, куда его унесет и где он так и не узнает, что же там, за этим вот камнем. И когда пальцы его оторвала волна, он воспринял это с разочарованным удивлением, — слишком скоро! — но его швырнуло вдруг мимо, в сторону, совсем не туда, куда скатилась волна, и тогда он схватился руками за землю. Рядом стоял мокрый друг и тяжело, очень больно дышал. Потом Тотраз сел, и Хамыц подумал: почему молчит? Что же там? И где это?..
Он приподнялся, голова слишком отяжелела для шеи, и он с трудом управлялся с глазами. Корзинка лежала не так далеко, и он пополз к ней, волоча за собою винтовку, похоже, даже не замечая этого. Он пробежал по корзинке руками, и грудь его затрепетала, потому что внутри жил голос. Хамыц ощупал веревки, понял, что не размотать, и сломал плетеную крышку. Потом он крикнул, отвернулся, и его стошнило. Из корзины высунулся черный щенок, жалобно заскулил и выбрался наружу.
Тут-то и раздался смех. Он толкал в самый желудок, и Хамыц обернулся. Потом взял холодное железо и выстрелил прямо в смех.
Тотраз схватился за плечо, смолк, посмотрел на рану и сказал:
— Ты давал клятву. Следующая пуля не для тебя. Они молча глядели друг другу в глаза.
— До заката еще целый день, — сказал тот, кто всегда был Хамыцу роднее всякого брата. — Мы пойдем туда вместе.
Хамыц положил винтовку на камни, лег на спину, прикрыл веки и услышал, как начинается с птиц новое утро…
— Вставай, — услышал Тотраз. — Пора.
Сон оборвался. После него стало легче дышать.
— Если б ты знала, что мне сейчас снилось, — сказал он жене. — Какой-то ужасный кошмар.
— Не хуже того, что нам приготовил Хамыц, — сказала Мария. — Совсем обезумел от горя. Говорит, что желает ее хоронить только сам. Мол, не нужно ни гроба, ни плача и никого из людей. Представляешь?.. Не знаю, что делать. Ацамаз — и тот уже спорить устал…
Тотраз побледнел.
— Ты куда? Что с тобой? — спросила Мария, но он, подхватив ружье со стены, уже мчался из дому вон.
«Я должен успеть. Управлюсь до сумерек, — думал он, спеша через мост к черно-белому лесу. — Коли есть в этом мире хоть капелька правды, я не смогу не успеть…» На опушке он оглянулся. Да, так и есть: Хамыц вел коня в одиночку к холму. На крупе мертвым грузом лежала попона.
Весна голосила неистово пением птиц. Возможно, о том, что дни весной, хоть теплы, все равно — коротки. Надежда только на дружбу…
XIV
Как получается смерть? Как угодно. Иногда ее нет как нет восемь лет, а потом вдруг она настигает облавой и в пять дней жнет серпом урожай. Пять дней — и три разные смерти: молодость, старость и то, с чего обе они начались, — первый день пробуждения к первому свету…
А затеялось все с Казгери. С его неудачной ловушки. Правда, он постарался как мог: вырыв яму в два человеческих роста на тропе, по которой ходил на охоту Хамыц, он присыпал ее валежником, а затем накидал сверху дерн, проложив его в свой черед тут и там липким мартовским снегом. Получилось совсем хорошо. Для себя он припас лишь рогатину и ружье. Замысел прост: заманить в ловушку Хамыца, приколоть его по-червячьи к земле, а потом, угрожая ружьем, заставить молить и признаться. Казгери вожделел этот миг второй год. С той поры, как помог он Хамыцу в отцовстве. С той поры, как сумел обмануть себя верою в то, что способен воздать за убожество плоти своей и за скудость убогого духа. Почему ж он решился на это только сейчас?
По причине все той же весны. Она ведь начало всему: и любви и стремлению выжить. Убежать от нее не сподобится даже зима. Что тогда толковать о невольнике страсти своей Казгери?.. Да и что есть на свете мстительней страха? Особенно коли мстит он тому, кто на целое сердце храбрей. И потом, отказаться от мести Хамыцу означает признать, что для мести наметить придется другого — Цоцко. Казгери не настолько дурак. Чтобы выжить, ему, как и всякому злу, надо поперву выследить жертву. Но это — полдела. Затем нужно жертву поймать. Яма вырыта. Ловушка готова. Остается дождаться.
Он ждет всего день или два. Лес тем временем дышит весною все громче и звонче. Он приветствует солнце грозным треском ветвей.
Не все этот звук понимают. Например, медвежонок, родившийся месяц назад. Попробуй ему объяснить, что это — всего лишь недвижные льдистые ветви. Они с треском ломают стеклянную корку зимы.
Разомлев под лужицей света, медведица дремлет, презирая его толкотню. Детеныш скулит и пытается скрыться глазами в ее шерстистом паху. Отшвырнув его, словно докуку на пути у теплого сна, мать сердито урчит. Медвежонок обижен. Чихнув, он уходит. Воротиться никто его не зовет. Теперь точно он знает: справедливости попросту нет.
Он идет и идет, прислонившись слухом к дыханию за своей лохматой спиной. Оно слишком ровное. Похоже, мать спит. Медвежонок упрям и сердит. Вот и просека. Здесь деревья гораздо враждебней. Шарахаясь прочь от их треска, он неуклю-? же и кругло трусит по невидимой, ему совершенно безвестной человечьей тропе. Привлеченный запахом свежей земли, а также глубокой, доброй (совсем по-берложьему) тени, он подбирается к месту, где, притворившись обманом зернистого снега, скрыта она под гниющей травой. Осторожно ощупав его недоверчивой, мшистою лапой, медвежонок решается выяснить, кто там живет. Сделав шаг, он катится в яму. Распахнувшись изнанкой навстречу ему, мир внезапно его предает.
В яме очень темно и ужасно. Медвежонок визжит, надрывает бока. Он пытается встать. Только что-то его не пускает. Он замечает в груди у себя остроту, пригвоздившую сломанной веткой его мягкое, пухлое тело к приставучей и жесткой земле.
Услыхав его крик, мать-медведица встрепенулась, вскочила, помчалась, обманувшись летающим эхом, заблудилась в прыжках. Потянула ноздрями страдающий воздух, расплела впопыхах в нем заветную нить и тут же, подминая кусты, спотыкаясь в осколках косых и колючих лучей, она ринулась порванным сердцем на крик. Замерев у обрыва зияющей пропастью ямы, самой черной и самой глубокой из всех, что когда-либо встретились ей на веку, она взвыла, пропала глазами, заметалась вокруг, а потом, чтоб не кончиться болью от горя, понеслась по невнятному лесу туда, где смутной надеждой почуяла запах спасенья. Птицы визгом ее провожали, проклиная, казалось, весь свет. Лес редел, подбираясь опушкой. Из нее тревожной волной вырастало пятно. Рванувшись к нему и скрестив с ним свой бег, медведица встала, поднялась на задние лапы и взмолилась о том, чтобы женщина ей помогла. Когда между ними осталось не больше мгновенья, та вдруг вскинулась взглядом, тихо охнула, но обозналась, увидав пред собою лишь грозного зверя — не мать, — а потом захотела куда-то бежать, но медведица кинулась следом, норовя ее обогнать, только женщина, внезапным проворством сознанья угадав несуразный ее, тяжелый прыжок, скользнула за дерево, спряталась, затрепетала, вынуждая медведицу дико, утроб-но рычать. Далеко-далеко, там, куда так стремительно, жидко стекало последнее время, вдруг раздался пронзительный всхлипом и жалобный крик, от которого в сердце медведицы взорвалась отчаяньем ярость, и тогда, не в силах больше терпеть, она призвала на подмогу когтистые, сильные лапы, попыталась ей снова все объяснить… Но в ответ женщина лишь задрожала, поникла, присела и безвольно прикрыла руками глаза. Аес взорвался скрипуче ветвями, переждал, сокрушаясь, минуту стыда, а потом, будто съежившись, как от бесчестья, отвернулся, смутился, отрекся от них — навсегда.
Где-то в том же лесу Ацамаз и Хамыц тащили с пригорка тяжелый ствол тиса. Чтобы его подрубить и свалить наповал, ушла неделя трудов. В одиночку справиться с этой махиной было непросто. Право, здорово, что, уморившись от стольких работ и почти уже сдавшись тянуть, надрываясь впустую, зацеп с громадным могучим бревном, Ацамаз повстречал на дороге соседа. Тот был весел и рад от души ему подсобить. Так они поменяли тропу. Но не только. Так они поменяли вслепую судьбу…
Цоцко, конечно, о том и не ведал. Заступая хозяином в лес и пьянея от власти и страха, он сперва не почувствовал, не распознал. Только ноги, казалось, немного скучали, но в целом было именно так, как он рассчитал. Разве что малость дольше нужного срока взгляд его не умел разглядеть очертанья врага впереди.
Постепенно у Цоцко под пятой зарождалась сомненьем тревога. Он невольно прибавил в шагу, остерегся бежать, но потом, услыхав по тропе впереди вопли зверя, стремглав бросился прямо на них. Увидав на дне ямы бурую шерсть медвежонка, он не сразу поверил глазам, а к тем уж навстречу, он слышал, из чащобы спешил неистовый рев. Казгери оплошал, задержался у края ловушки, беспорядочно выщипал взглядом следы и траву, только они ему ничего не сказали. Оставалось укрыться в кустах. Нанизав на прорезь прицела медведицу-мать, Казгери не решился нажать на курок: опять то же чувство… Проклятое чувство пред-смертья, от которого вмиг защемило позором нутро. Медведица взвыла и скрылась, а он, проливаясь горячим стыдом на холодную память земли, приближался к минуте презрения — к жизни, случаю и (впервые так ясно, так грубо, непоправимо) к себе самому.
О том, что жена Хамыца погибла, он узнал позже всех: до полудня слоняясь скитальцем по лесу, изводил он ногами печаль. А когда заявился в аул, то услышал стенания — в доме, для которого больше года берег он беду. Вот беда и пришла, но совсем не к тому, к кому нужно. — к другой. К той, кого Казгери, не умея любить, почти научился держать в своем сердце беспокойной надеждой, уповая на щедрую милость богов. Но «почти» — нехорошее слово. У него почти нет берегов. Ему почти все безразлично, все впору. Почти все изменяется в нем на почти полный смысл. Казгери оплошал. Вот почти и все чувство, что принес он с собою в аул. Остальное — почти что не чувство: так, одна шелуха без ядра…
В день, когда обезумевший скорбью Хамыц порешил хоронить в одиночку жену, Тотраз поспешил упредить свой ужасный, пророческий сон. Он шел по наитию, вспоминая дорогу тревогой. Вот тропа. Тает жидкой коричневой грязью. Вот опушка. Вблизи от нее застыл мошкарой не услышанный вовремя крик. Вот угрюмые тени молчанья. В них плещется рябью сомненье. Лес внезапно вдруг сделался прежним. Он снова наполнен душой, и, пожалуй, душа его — тайны. Где-то в нем терпеливо ищет Тотраза прозренье.
Он выходит к нему по-охотничьи тихо, почтенно, согбенно, согревая молитвой уста. Вот и яма. В ней жаждет с ним встречи дыханье. Прижимая приклад к дрожащей щеке, Тотраз наставляет блестящее дуло чутьем, раздвигает прицелом несвежую, рыхлую темень и находит на дне ее жарким ожогом глаза. Они ненавидят его, но, похоже, давно уже ждут. У медведицы прямо под лапой лежит, пригвожденный навеки к земле, очень маленький, преданный всеми, послушный покою комок. Тотраз каменеет. Он долго не может надавить на упругий курок. Медведица смотрит ему на ружье и свирепо рычит, когда он, изнемогши от тяжести взгляда, опускает винтовку, не в силах сносить ее мук. Отвернувшись, он хочет уйти, но знает при этом, что лишен того права. Все, что было с ним до сих пор — и убийство слепца, и попытка убийства себя самого, и сегодняшний сон, — было лишь подготовкой к тому, что ему предстоит через миг. Выстрел короток, но как много всего уместилось в него, ведомо только Тотра-зу. Выстрел короток и одинок. Он дарит пощаду, отпустив на свободу бескорыстную, щедрую кровь. По крайней мере, одним страданием меньше. Эта мысль помогает Тотразу, пока он цепляет петлю вкруг ствола, бросает веревку в глубь ямы и по ней же спускается внутрь. Разделывать тушу ему не впервой, но сегодня рука особо тверда, словно он ею не истребляет, а строит. Аес колышет ветвями, забавляясь лучом. Очень пахнет весною…
Ближе к вечеру дело сделано. Тотраз доставляет в аул огромную голову и четыре когтистые лапы. Никому он не скажет про то, где все это нашел. Яма снова засыпана. В ней остался лежать медвежонок. Над ним вновь побежала тропа. Про ловушку — ни слова. Для начала он должен все выяснить сам.
Хамыц принимает его подношения с выражением едва ли не скуки на мглистом глазами лице. Он не знает, что делать, как быть ему. Горе — это когда ты повсюду видишь одно лишь ничто, и ничто тебя в этом ничто не тревожит.
Тотраз говорит:
— Повидался бы с сыном. Мария твердит, целый день он не знает покоя, заходится в плаче…
В словах друга Хамыц различает упрек, только что ему нынче упреки! Он не хочет идти никуда, потому что нигде ему нету приюта. Он бы рад взять и выдумать дело, но у горя дел нет, кроме разве что горя. Оттого-то тяжелые руки в беспокойстве шныряют по газырям.
А ребенок и впрямь изнывает, как будто все понял про мать. Мария и Софья хлопочут, угождают ему почем зря: крик его не умолкнет ни разу, покуда, слабея, не вплетется усталой косичкою в ночь.
Этой ночью Хамыц вдруг проснется — совершенно один, отреченный в мгновенье от ладного, лживого сна, — окунется глазами в беду и бесшумно заплачет. Это страшно, когда столь бесшумно, калечась плечами, плачет в отчаянной тьме человек…
В эту ночь тихо бродит поблизости новая смерть. У одра старика, гордо выпрямив спину, сторожит ее появленье Дзака. Взгляд ее позабыл себя где-то, но не здесь, не в ауле, а далеко.
— Когда я уйду, не хочу, чтоб стояли толпою да зарились, — произносит старик. — Знаешь, как это бывает: поглядите, мол, что у нас есть… Не поленитесь ждать — и у вас такое же будет… А глазенки горят торжеством. Не хочу. Хочу умереть втихомолку. Ты да я. Хорошо?
— Хорошо, — отвечает Дзака.
Муж ее никак не поймет, чего в ее голосе больше — безраз-личья иль вялой, бездомной тоски. Но как будто и дознаваться сейчас недосуг: слишком мало текучего времени оставила ночь на вопросы. Он думает быстро про то, что вот это, пожалуй, и есть примета конца, когда вовсе нет времени уяснить очень важную правду. Впрочем, не менее важным ему в этот миг представляется то, во что его облачат и зачем было все, что с ним было, а еще интересно заранее знать, где он себя потеряет, на каком повороте сознания, что будет последней его неуступчивой мыслью перед самым с собою прощаньем. Из рассудка его куда-то ушел весь порядок, нарушился строй. Мысль колеблется тоненькой нитью между крепкими стенами и потолком, вяжет в них по углам паутину, а та, в свой черед, рассыпается сетью стезей, протянувших отсюда бессчетные трещины на бессчетные годы дорог, промелькнувшие (вот ведь что!) мимо, словно вскользь его памяти, от которой сейчас не осталось в нем ничего, кроме зряшных плодов суеты и обмана несвязных картин. Чего уж таить — он боялся этой минуты, опасаясь навлечь на себя торжествующий гнев оглушительной, мстительной совести, но вместо нее он слышит в себе лишь недоуменье: как же это, если нет ничего, отчего бы теперь ему стало хоть самую малость прозрачней? Нет ни грома, ни страха, ни чувства стыда. Только трудно дышать и воздух какой-то чужой. Он понимает, что болен — неизлечимо, постыло, потому что болезнь его — все его прошлое. Хворь копилась в нем множество лет. Рядом с ним сидит изможденная женщина, которую выбрал он сам в провожатые к смерти, но немое присутствие неохочей до слов, неприступной Дзака не спасает его от сомнений: разве не странно, что ему сейчас даже не больно? Ни ногам, ни строптивому сердцу, ни прохладной душе? Отчего это мнится ему, что он невесом, будто полая капля в тот миг, когда превращается в пар?
Чтобы выкроить повод к беседе, он просит:
— Позови Ацырухс.
Жена повинуется. Дочь тихо подходит к кровати, склонив низко голову, словно она не желает смотреть на него. А может, просто не хочет таким вот запомнить — ее старику и сейчас не понять. Он говорит:
— Поцелуй меня на прощанье. Сумеешь?
Опустив веки, ждет, когда ее волосы упадут волшебной волной ему на лицо. Ацырухс касается ртом его лба, и тогда он невольно ловит в этой летучей волне очень сладкую мысль, что, коли ему повезет, жизнь вот так же покинет его — милосердно, — подобно легкокрылому щекотанью волос, от которых у него на щеках, пока плотно закрыты глаза, остаются полоски искристого света. Дочь его так красива, что у него чуть клокочет восторгом в груди. Закашлявшись, он дает знак жене поднести ему чашу с водой, но вкус у воды отчего-то совсем не такой, каким должен быть вкус у последней воды.
Расплескав чашу мимо высохших уст, старик раздраженно машет рукой на Дзака, наказав никого больше не подпускать. Все. Теперь в нем осталось лишь равнодушие. Он пытается думать о мертвецах, тех, кого непременно повстречает уже за порогом, едва отправится в свой печальный поход. Однако никто из них почему-то не отзывается на его вялый клич. Смерть заступает к его изголовью вовсе не так, как он ожидал. Чтобы проверить ее серьезность на деле, он задает Дзака тот вопрос, что давно уж припас на прощанье:
— Женщина, скажи-ка мне как на духу: может, я был неправ? «Еще бы», — размышляет Дзака про себя, но вслух произносит:
— Ты был прав. Ты был прав почти что во всем и всегда.
— Вот и славно, — соглашается он, а сам с невольным лукавством признается себе: вот ведь как, даже ей невдомек, что мне дела нет, что мне безразлично. Неужто же смерть — лишь последний способ всех одурачить?..
Минуту спустя он постигает всю правду как есть. Вместо слезы на погасших глазах Дзака замечает в углу его рта кроткую слюнку. «Вот и все, пора плакать, — рассуждает она, положив на мертвые веки припасенные два пятака. — Надо собраться с духом и зарыдать. Чего проще?» На лице старика заскорузла гримасой то ли боль, а может, улыбка — ей не понять. «Пусть разбираются с этим другие, — решает Дзака. — Мне и разницы нет». Прижимая платок к сухим, как песок, глазам, она подходит к двери, не в силах ссутулить прямую, упрямую спину. Ночь как раз посреди — между тем, что уж сделала смерть, и тем, что ею еще сотворится…
На гроб старика идут те же доски, что однажды пошли на гроб той, что была похоронена вовсе не в нем, а в толстущей конской попоне. Туган со своими двумя сыновьями строгает и пилит, неспешно, со знанием дела, гвоздит для отца громадный ковчег. Цоцко недоволен: негоже в траур новому старшему дома само-ручно плотничать гроб. Достаточно было доверить это соседям, чай, справились бы не хуже него. Но Туган разрешил все по-своему. Попробуй ему теперь запрети! Цоцко замечает, что несколько раз его брат, как в раздумье, глядит на свой безымянный, увечный избыточным ростом, скособоченный в талии палец, словно никак не может понять, зачем ему нужен этот урод. Потом, как ни в чем не бывало, Туган продолжает строгать.
Забот у Цоцко полон рот: не только грядущие бдения, сами похороны да поминки вослед. Ему надобно кое-что поскорее уладить с Дзака. Выбрав минуту, он подает ей знак перейти из хадзара в пристройку и, не успевает она туда заступить, говорит:
— Вот что, мать. Чтоб тебя в неподъемном горе твоем не тревожить еще и загадками, скажу прямо: коли вздумаешь вдруг кому что сболтнуть про внучка своего Казгери да ловушку в лесу — жди беды. Женщины мне все рассказали. Видели, как в то утро ты поспешала к Хамыцеву дому, а потом оттуда вдруг к лесу побежала жена его, что три дня уже как не жена, а подружка червям да покойница. Не знаю, что ты ей там набрехала, зато мне известно другое: откроешь хоть раз еще рот — чем заткнуть его, мне не надо гадать. Даже не мне — Казгери. Это он мне тогда тебя продал. А теперь вот со страху с него станется перепродать всю тебя с потрохами уже дочке твоей, Ацырухс… С таким-то позором, сама посуди, будь она трижды красавица, ей не ужиться. А тебе и подавно. Придется отсюда уйти. Только мне вот сдается, скитаться тебе не по нраву. Мне сдается, ты всю свою жизнь искала гнездо…
Он был прав. Дзака лишь кивнула. Если хватит ей духу, она-то уж знает, как его провести. Похоронят отца его, справят поминки, — а там будет видно.
Вернувшись к носилкам, на которых лежит, ожидая земного прибежища, безучастный мертвец, она вглядывается долгим покоем в его заострившееся лицо и размышляет: «Надо же, а ведь мнил себя чуть ли не богом. Стоило опочить, как сразу сморщился, скис. Кажется, будто вдвое усох против прежнего и оплюга-вел. Старик как старик, никакого отличия от других мертвецов. А бывало, все гневался, все топотал да гремел на весь дом, упиваясь своей громкой властью. Где ж теперь эта власть?.. Когда рассказал мне про мать и отца, я поняла его тайну. Это тайна побега. Был он так непростительно грешен, настолько повинен сам для себя, что нашел лишь единственный способ с этим ужиться — стать всевышним судьей. Вот и вся его чертова власть. Одна видимость. Тошно…»
Старика хоронят на том же холме, где тщедушно бугрится землею другая могилка. Два дня кряду затем идет нудный дождь. Несмотря на него, поутру каждый раз на обеих могилах круглым светочем памяти у креста серебрится рассветом свежий венок. Ацырухс мастерица плести их, любому известно. Завернувшись в лохматую бурку, Хамыц тихо глотает слезу… Пятый день пошел нынче, как случилось несчастье.
В этот день Даурбекова дочь приступает рожать. Схватки длятся до ночи, ей больно. Больно так, как ни разу и не было ей до того. А когда наконец появляется плод с гневным криком, Тугана жена, потрясенная, навзничь падает на пол. Дзака совладает со страхом. Лишь она да сама роженица продолжают бороться за новую жизнь. Наконец все закончилось. Вот он, ребенок. Пуповина зарыта. Можно кликнуть Цоцко.
Мокрым призраком входит он в комнату, пристально смотрит на дочь. В глазах его ужас. Огромным полетом, начиная с лица и до ног, тело крохотной девочки, словно ожогом, изучевено жутким родимым пятном. Ему кажется, он распознал в нем бегущую лошадь в галопе: грива, круп, отпечаток копыт… Что за жуткое зрелище! Как ей жить под пятой у такого уродства?..
Впрочем, она и не соглашается жить. До утра они молятся, шепчут, страдают. Мать лежит, заперевшись глазами в ночи, пока хилый, убогий ребенок нежадно приник к ее равнодушной груди. Но с рассветом они замечают, что пятно багровеет, все жестче сжимая распятой ладонью беззащитную, жалкую плоть. Цоцко несколько раз покидает хадзар, будто хочет отмыться дождем, а потом возвращается и, завороженный скорбью, смотрит на то, как медлительна смерть, когда ты ее призываешь.
К полудню он слышит, как на заднем дворе пилит свежие доски Туган. Если б все это с нею закончилось ночью, можно б было ее схоронить без свидетельских глаз. А теперь не укроешься, не сбережешься. Ничего, решает Цоцко, мы закутаем тело холстом. Никто не узнает. А узнает — не сможет увидеть. Уже хорошо.
В самом деле, в хадзар к чужакам никто не заходит: Цоцко повелел отвечать, что жена его слишком плоха и не совладает, если кто-то придет к ней ощупать слезой ее горе. Ведь это второй уж ребенок ее. Второй, потому что был первый — тот самый, что помер когда-то от кори. Не надо тревожить ее…
Аул соглашается. Мужчины сгрудились перед калиткой высокого дома, чьи скользкие стены колеблются зыбью под мелким дождем. Туган пилит доски на гроб, самолично строгает. Такая работа привычна уже для него. Навес шелестит водянистой печалью, считает усталостью капли дождя. Туган ощущает такую сонливость, что впору зевнуть. Он глотает зевок. Когда ж будет легче? Что ждет их за этим унылым и пасмурным днем?..
Но мысль не приходит. Ответа сегодня не будет. Тугану не терпится выспаться, позабыться дождем. Вдруг, ни с того ни с сего, он неловко цепляет рубанком за сук, теряет рукой направле-нье и тут же, подавшись плечом в пустоту, впивается лезвием в свой незадачливый палец. Боль глушится кровью. Поглядев на нее, он видит глубокий надрез, подкосивший фалангу ровнехонько там, где она выдавалась проклятьем вперед. Впившись зубами в губу, он в потемках, смеркаясь сознаньем, достает из ножен кинжал и, примерившись, рубит, будто это вихляющий хвост, никчемный огрызок того, что внушает ему отвращенье. Что внушало ему отвращенье столько тягостных лет…
Ребенка хоронят так скупо словами, что не стоит о том вспоминать. А дождь все идет, поливая могилы. Может, это и к лучшему, когда люди устали от горя, и им не хватает надрыва и слез…
XV
Прошло сорок дней. Справили трижды поминки. А потом вдруг исчезла Дзака. Да, взяла — и исчезла, никому ничего не сказав.
Цоцко скрежещет зубами: поди догадайся, что у нее на уме. Но, что бы там ни было, а выходит, она его провела, ведь теперь никакому позору за ней не угнаться. Напротив, стыдно то, что из их же семьи сбежала афсин. Цоцко не найдет, чем унять обиду и ярость. Он давно научился любить злость в себе, но сейчас его злость не придумает, как ей насытиться местью. Вроде все было сделано правильно, все рассчитано и учтено. Только вот отчего-то не задалось, вышло вкось, получилось навыворот.
Разумеется, очень подвел Казгери: кто ж мог подумать, что он примет за вора того, у кого не хватило соображения даже на то, чтоб отправиться после по свежим следам за причиной нечаянной смерти жены.
Когда это с ней только случилось, Цоцко тут же почуял неладное, а потом укрепился в своем подозрении, увидав, как к его оторопелому племяннику приближается твердым шагом Тотраз. После их разговора Цоцко подождал еще вечер, чтобы мукой продлить Казгери тревожную ночь. Но в итоге дождался другого — быстрой, хоть ленивой шагами на целые годы, какой-то безвременной смерти отца.
А потом ему было не до того. Потом ему было так худо, как не было даже тогда, когда он, ничтожный мальчишка, висел на отцовой руке, распростертый над бешеной пропастью… Да, ему было так худо, что он и не знал, почему он, Цоцко, по-прежнему жив.
Но потом и это закончилось. Просто шел день за днем, и Цоцко, будоража свое же упрямство, продвигался за временем вслед. Горе было лишь испытаньем на прочность. Как, к примеру, недуг или сильная боль. Цоцко его выдержал, перетерпел. Лишь жена его сделалась сущей бедою: что ни ночь — лихорадит ее и знобит. Умоляет его сняться с места и отправиться снова в дорогу, словно можно дорогою выправить душу. Все это впустую. Ее уговорам Цоцко не поддастся. Не сейчас, потому что сейчас он еще не готов.
Возможно, все дело в угрозе, что поведал ему Казгери. Он признался: Тотраз предложил ему срок — до поминок, а дальше им, дескать, надежней убраться, потому что иначе он расскажет Хамыцу про то, как погибла жена. Только он не расскажет, Цоцко в том уверен: побоится греха, не захочет крови. Все равно что Дзака: даже та не дерзнула делиться с Аланом секретом того, как пропал его брат. А она-то куда как покрепче, да и гаже Тотраза душой. Опасаться его откровений нет, пожалуй, причин.
Только вот отчего у Цоцко не проходит странное чувство, будто он уже несколько месяцев кряду живет, подбирая ладонью мозоли в прах разбитого прошлого? Будто прошлое это, чем дальше, тем меньше послушно воле его, а та иссякает от напрасных усилий приручить каждый новый им встреченный день? Что такое с Цоцко происходит? Что творится с его проницательной злостью, которой все чаще не хватает малой малости или мгновения, чтоб добиться, успеть сделать то, без чего нету злости его ни покоя, ни гордости? Ибо так получилось с Роксаной, с проклятым Асланом, так было с братом его и теперь вот — с Дзака… Так оказалось с Туганом, который всем видом своим нынче будто желает сказать, что их скакунам не бежать больше в общей упряжке. Так обстоит и с его, Цоцко, благоверной женой, что поклялась ему на прошлой неделе в реке утопиться, коли ей суждено рядом с этой рекою и склепами гнить. Она так и сказала: «Утопиться мне легче, чем гнить. Погляди мне на зубы. Они сами, как склепы». Вбила в голову, что причина в реке. Ну а зубы — зубы сгнить могут где угодно. При чем тут река?..
Иногда ему кажется, сыновья тоже с ней заодно, что все трое его чураются, что глядят исподлобья, с опаской, будто вскорости позовет он их вместе с собой в беду. Цоцко понимает теперь, каково было отцу, когда оба его повзрослевших упрямством и разумом сына распознали в нем первую правду о том, что на место могучего старца заступил сумасбродный старик. Наверно, он чувствовал это, только, в отличие от Цоцко, у него хватило достоинства притворяться, будто ему наплевать и на их недовольство, и на хмурость ныряющих взглядов, и на шепот злорадства за его широченной спиной. Неужто был он все же сильней?
Цоцко не хочет об этом и думать. В самом деле, разве сподобился он, его богоподобный родитель, хотя бы единственный раз изловчиться и разбогатеть не поживой, а сразу — сокровищем? Цоцко не пришлось его даже копать. Не он в поте лица добывал его месяц за месяцем из-под сокрытых веками загадок земли. Он просто заставил всю эту бронзу покорно приплыть к нему в руки из-за реки. Ему только и понадобилось, что размышлять за других их же хитрыми мыслями, а потом кольцевать эти мысли своим прозорливым умом. Кому еще приходило в голову нажиться на прошлом, о котором никто ничего и не вспомнит уже, даже если его, это прошлое, расстелить перед взором затейливой бронзой? Цоцко, однако, это вполне удалось. Быть может, оттого, что хватило духу бросить прошлому вызов, доказать, что и с ним можно справиться, коли не отводить взгляда от его пустых и бездонных глазниц. Конечно, помогла ему в том Роксана и жадная ненависть к ней, к ее смешливому, неуязвимому призраку. Неуязвимому до тех пор, пока Цоцко не нашел ключ к дверям, за которыми пряталось все былое и бывшее. Раздобыть к ним отмычку означало проникнуть туда, куда путь остальным был заказан: в заповедное таинство истинной власти. Потому что расправиться с тем, что случилось, что было вчера, что ходило за ним по пятам всезнающей, мстительной тенью, означало еще и способность к бескрайней свободе, ибо если нет прошлого — нету границ, нету даже начала, нет ни истока, ни русла. Есть лишь собственный миг твой, которому ты полноправный хозяин, все остальное ему только служит. Этот звенящий весенними грозами миг подобен в своей протяженности небу. Он был так близко… Так рядом к Цоцко…
Но потом все сломалось. Отчего, он не знал. Кто сыграл с ним жестокую шутку? Почему Казгери утверждал, что нашел он оленя не там, куда был тот подброшен (рукою Цоцко, рукою судьбы, как он думал, ведь судьба в те покорные дни подчинялась ему же, Цоцко!), а там, куда его перенес переменчивый, ветреный случай?.. Кто подстроил ему западню? Казгери просто шел за его же подсказкой, но в последний момент отчего-то расслышал не то. Стало быть, их вдвоем обманули. Но кто?!
А ведь прошлое было так беззащитно, так хрупко, так мелко, когда он в первый раз уложил его бронзой в ладонь… В ту минуту он осознал, что оно очень лживо, потому что стремится спастись красотой. Перебрав одну за другой все фигурки, Цоцко испытал отвращенье: они были неправдой, ибо были запретно, бесстыдно прекрасны, воплотив в поседевшем металле, казалось, само совершенство — так стройны были линии в них, так четки овалы, безупречны и слишком уж живы тела… Цоцко понимал, что так не бывает. В мире все по-другому, он скроен не так. В мире нет ничего, кроме жажды. Жажда эта безжалостна и совсем не похожа на красоту.
Так что расстаться с фигурками для Цоцко труда не составило. Обменять бронзу на золото было, правда, сложнее, но и с этим он быстро управился — покуда племянник его копошился убогим сознаньем в бреду. Выбрав в крепости самую огромную домину, отстранившуюся гордо от улицы узором чугунных ворот, Цоцко рассудил, что именно здесь ему улыбнется удача: по всему было видно, что хозяин (оказался им молодой генерал с блестящим расшивом погон) больно падок до красоты. Столковались они полюбовно в неделю. Осторожный Цоцко не спешил продавать все зараз, дав понять, что есть у него про запас много больше того, что готов он сейчас показать. А когда привез в крепость последнюю горсть безделушек, не забыл намекнуть, будто все, что он обменял до сих пор, — чепуха. Будто есть у него кое-что поприличней… На обратном пути оставалось ему притвориться, что не чует копыт за собой, беглых звуков наивной, петляющей слежки, а потом подстеречь ее за большим валуном и неспешно, держа под прицелом, раздеть — догола. Было весело видеть, как тот офицер (адъютант, Цоцко даже слово запомнил), прикрывает фуражкой свой срам и отчаянно хочет совсем не бледнеть, пока он его грабит. Так к надежному золоту через час с небольшим прибавилась ненадежная (с генеральской конюшни!) кобыла. Развернувшись, Цоцко в тот же день обменял ее в той же крепости на хорошую горсть таких же чеканных монет. Удача ему опять улыбнулась, подтверждая его правоту: чем ты больше берешь, тем тебе больше должают. Развязав адъютанта, Цоцко попросил: «Дай мне слово, что будешь мне мстить». Тот смолчал, и Цоцко рассмеялся.
Как давно это было!.. Сейчас ему кажется, будто он опоздал, упустил будто, что-то рассыпал. Все не так. Все свершилось помимо него, а он одурачен и больше, чем раньше, пронизан насквозь, как тоской, переменчивым, призрачным прошлым. Он не смог с ним расправиться, не совладал. Разбудить его, выкрасть, продать и нажиться было все-таки мало — оно защищалось бессмертьем, сея новую смерть наяву и плодя чрез нее свою силу. Неужели же это и есть тот последний секрет: чем стремишься упрямей убить неугодное прошлое, тем прочнее ты вязнешь в нем, словно в топи или в грязи?..
Кабы не было так, отчего же тогда его дочь задохнулась под тенью Роксаны?.. Отчего, как исчезла Дзака, ее прошлое будто переселилось в Цоцко и гнетет его черным бессмысленным грузом? Отчего за спиной у него всегда будто бездна, громадная бездна с глазами?.. Отчего он стоит посреди поглотившей его пустоты и не знает, зачем ему время?.. Отчего на душе у него глухота? Отчего в ней не слышно привычной горячей дыханием злости? Отчего он один, но не так, как всегда, а как будто один против собственной воли?..
Он не знал. Он пытался себе не сознаться, что знает. Майским солнцем ему опалило щеку. Он прикрылся рукой, проследил за лучом сквозь распятие пальцев, отыскал его ярость в наполненном жбане с водой, подстегнул себя жалящей прямо в глаза слепотою и пошел на нее, словно ринулся в драку с врагом. Обхватив толстый жбан плотным, в шорох, объятием, он напрягся, собрал свою силу, зубами стиснул червя сомненья, убедил себя в том, что способен поднять и котел, и всю жизнь свою вместе с тем, что в ней плавает бременем муки, крякнул, выпростал сердце, будто кулак, из груди, поднатужился, охнул и… надорвался. Соскользнул вниз пришибленным взглядом, им наткнулся на паука (тот соткал свою вязь у самого днища котла, распустив ее веером по пяди притоптанной почвы). Паутина нетронута. «Стало быть я проиграл», — подумал Цоцко равнодушно, покатился затылком на землю и сразу оглох.
День прошелся весной по его неподвижью, потрепал черный край башлыка и, не встретив ответа, пустился вприпрыжку догонять ветерком облака…
XVI
Ацамаз, Алан, Хамыц и Тотраз ставят столб посреди островка. В том памятном месте, где когда-то, теперь уж давно, Казгери раскопал из столетий свой клад. Приструнив валуном высоченный ствол тиса, они тянут веревки, пытаясь поднять этот ровный, причудливый перст над землей, что, похоже, устала скользить по реке в никуда.
По летней дороге, сквозь зной, за собой поднимая ленивую пыль, уползает в скалистую гору обоз. Впереди, на кауром коне, держит ровным надгробием почти что отцовскую спину Туган.
Вслед за ним на подводе едут два его сына с женой, а за ними, подвязаны к бричке уздой, огрызаясь, трусят придирчивой рысью три гнедых жеребца. Позади них грохочет повозка. Ею правит младший отпрыск Цоцко. Мать его сидит рядом. По лицу ее выстлался гладью покой. Если сверить его с ее пристальным взглядом (он бежит по дороге и только вперед), можно сделать вывод о том, что она еще долго не обернется, а когда обернется — затем лишь, чтоб проверить какую-то тайную радость. Ведь в повозке лежит сам Цоцко.
С той поры, что он надорвался кишкой, его мучит кровавый понос. Вот еще незадача — он не слышит почти ничего. Когда свет — все вокруг для него совершенно беззвучно. Когда тьма и он погружается в сон, — тут же звуки нахлынут враждебным согласьем и начнут изводить его пряжей гроз и ветров. Но сейчас он не спит. Сквозь брезентовый раструб повозки он смотрит на узкий, неслышимый мир. У жены его стянуты в жгут красивые косы. Если их расплести — закроют собою все тенью.
Вслед за этой повозкой бредут две кобылы. На одной из них восседает его средний сын. Самый старший обоз замыкает и смотрит угрюмо за тем, чтобы не разбредались коровы и овцы. А больше в обозе и нет ничего.
На распутье, у самого плоскогорья, Туган приручает уздою коня. Спешившись, ждет, когда из повозки выйдет навстречу для разговора Даурбекова дочь.
— Не передумала?
— Что ж сомневаться. Все в ауле еще решено. Меня-то ему еще вынести можно, но тебя… Ты же первый теперь, вдобавок на целую жизнь наперед здоровей. Не захочет он быть при тебе, чтобы быть при тебе лишь никчемным калекой. Ты же знаешь.
— Да. Ты права.
Попрощавшись, они снова садятся. Женщина лезет в повозку, он — на коня. Спустя пять минут на горе два обоза. Они вьют там встревоженной пылью кольцо. Ацырухс остается с Туга-ном. Она едет на бричке с его косоглазой женой. Казгери неспокоен. Стоит им выехать за поворот, стоит только аулу укрыться от них плечистой скалою, как он тут же, спрыгнув с брички, спешит что-то просить. Услыхав его оклик, Туган опять стопорит шаг коня, в нетерпении ждет.
— Понимаешь, совсем я забыл… Мне надобно что-то ему передать. Вот увидишь. Я потом расскажу… Дай коня. Я мигом. Туда и обратно. И сразу вас догоню…
Туган смотрит ему неприятно и жестко — будто правдой — в глаза. У того сводит спазмом желудок. Сплюнув наземь, отец произносит:
— Никакого коня. Пробежаться тебе ведь в охотку. Вот тогда и беги. Только помни: ждать я особо не буду.
— Конечно… Спасибо! Я враз, — твердит Казгери, а ноги уже понесли его, ноги уже побежали.
— Куда это он? — кричит с брички женщина. Туган в ответ только машет небрежно рукой.
Бежать вниз по пылюке все легче, чем затем подниматься на гору по такой же точно пыли. Казгери так спешит, будто спорит с порывистым ветром. Не проходит и четверти часа, как он нагоняет овец, хватает за повод кобылу и, ни словом не объяснив даже тетке свое появленье, забирается внутрь повозки, теребит за черкеску Цоцко:
— Эй, очнись! Так тебе не уйти. Признавайся-ка, кто это был? Ты? Ведь ты? Ты? Я знаю! Не ври. То был ты?
По глазам его дяди трудно что-то понять. Здесь, в повозке, к тому же темно и мешают дурацкие крики. Отпихнув от себя его сына, Казгери выправляет из ножен кинжал:
— Ну-ка, все пошли вон! Коли нет вам нужды стать вдовой и тремя сиротами, — все вон!..
В его глотке свирепо и тихо шипит неподдельная ярость. Они повинуются. Казгери наклоняется к самому уху Цоцко:
— Заклинаю тебя, говори!.. Кто то был? Кто украл? Ты же знаешь, все изменилось. Ты теперь совсем никакой, зато я могу вмиг твою душу отпустить прямиком на костер к сатане… Видишь этот кинжал? Ты теперь целиком в моей власти…
Но глаза Цоцко не боятся, не трусят. В них рождается жаркий мигающий огонек. Отведя от себя его потную руку, Цоцко произносит (а голос его будто сделался тоньше, моложе):
— Ты осел. И всегда был ослом. Кабы не был ослом, сам бы понял… Да и власти твоей хватит разве на то, чтоб потом утереться со страху. Что ты знаешь о власти? Ты даже не знаешь о зле, которое в каждом из нас от рожденья. А зло, я скажу тебе, зло — всегда непоседа. Только власть в состоянии привязать его крепко к земле. И коли сегодня все мы едем куда-то, будто бежим, выходит, власти той нам опять недостало…
— Перестань мне дурачить мозги. Отвечай только: кто??? — вопит Казгери. — Скорее, не то не смогу я тебя не прикончить.
— Ты опять убежишь.
— Я убью тебя. Погляди мне на губы! Повторяю: убью тебя. Ну, говори!..
— Пораскинь-ка мозгами.
— Ты?
— Кабы я, то тебе бы и вовсе хана.
— Тогда кто? Мой отец?
— Я не понял.
— Мой отец? Это он?
— Что за чушь… Хорошо, я скажу тебе правду. В одиночку ты до нее все равно доползти не сумеешь. То Алан был.
— Алан?
— Ну конечно… Сам подумай: зачем там был нужен двойник? Все за нас учтено, все прописано небом. Где-то что-то берешь, где-то позже затем возвращаешь…
— Я убью его.
— Ты убежишь.
— Я убью его.
— Нет. Ты на то не сгодишься. Я бы справился, — только не ты.
— Почему ж ты не справился?
— Поздно понял. Ну, оставь меня. Утомил. Уходи…
Казгери проверяет натужно зрачками, ищет правду в ухмылке того, кто презрительно щурится, словно нет в нем и капли сомненья… Что ж, теперь он докажет — ему и себе. Резко выхватив из-под циновки ружье, чтобы тот не успел помешать, и защелкнув патронник, Казгери покидает его. Он бежит вниз по склону, туда, где под солнцем, ярким, радостным, бережным солнцем, отдыхает душою аул. Смеха вслед Казгери не услышит: слишком занят он местью и страхом за то, что не справится с трусостью, не одолеет. Он спешит. Он бежит. Он торопит себя.
Между тем столб поставлен. Соседи, закончив работу, возвращаются все вчетвером по домам. По широкой спине Ацамаза проползла откровеньем дыра: совсем распоролась черкеска. Да и сроку ей — столько даже бурке не жить.
Хлебосольный Тотраз приглашает всех испытать в его дом араки. Да и есть ведь причина: отныне чужакам здесь, похоже, не жить. Согласившись, они ненадолго уходят, чтобы встретиться вновь через час.
За столом собираются дружно, впервые с дня последних поминок. Сам хозяин сегодня — за тамаду. Тосты помогают им быстро согреться глазами. Ацамаз хоть доволен, но все же немного смущен: непривычно ему получать никакие подарки, а теперь вот — смотри-ка, во что облачен! То Алан преподнес ему эту черкеску. Почти новая, ладная, желтая, пахнет чистой женской рукой… До того одевалась лишь дважды: когда у Алана с Тотразом справляли аулом рожденье детей.
Гости все уместились за маленьким фынгом. Так им проще. Так лучше им слышать братство сплотившихся плеч. Разговор их неспешен и легок. Рассуждают все больше про то, что теперь у них будет часовня. Не сразу, понятно, — попозже, когда вокруг тиса возведут они башней и стены. Ацамаз это славно придумал — припереть островок могучим столбом. Говорить вслух о том, что всем им понятно, неловко. Каждый знает и так, что затея с тысячелетним стволом родилась неспроста в голове Ацамаза: триста меньше, чем тысяча, больше, чем втрое. Даже если то триста непрожитых лет. И куда уж там против таких вот расчетов их годам на этой земле!
— Девять лет, — произносит Тотраз.
— Ровно девять, — кивает, подумав, Хамыц.
Остальные молчат, потому что их срок здесь скромнее. Только это молчанье не менее в сладость им, чем разговор.
— А про солнце ты как сосчитал? Как сумел ты его-то промерить шагами?
Это снова Тотраз. Он имеет в виду, что отныне их тисовый ствол ловит первый же луч и холит его, словно струйку звонкого света, на себе вплоть до сумерек. То же будет зимой.
— Да все просто, — признается ему Ацамаз. — Когда есть под ногами земля — расчертить по ней можно какую угодно длину и порядок.
Мужчины кивают. В его речи они услышали то, что им кажется правдой — глубокой, надежной, как, к примеру, приятный беседой сам сегодняшний день.
— А знаешь, — говорит Ацамазу Алан, — ты как будто помолодел. Поглядите-ка, разве не верно?
— Точно! Словно умылся в счастливом ручье…
Застолье теперь переходит в веселье. Тамада вспоминает любимую песнь. Он тихонько поет, а другие, чтоб невзначай не испортить, помогают песне вызреть в молчании и полететь. Голос Тотраза крепчает, становится глаже, свободней, ему тесно уже среди каменных стен. Он плывет сквозь прохладу хадзара на волю, лаская отзывчивый воздух уютом простых, очень искренних слов. Песня Тотраза стара, как преданье, только вместе с тем вроде юна, как рассвет. Говорится в ней про весну, про огонь, про лань на вершине, про мечтанья и, конечно, про реку, про лес, про любовь и про дождь.
Ацамаз ощущает в груди переливы волненья. Что-то копится влагой по углам его глаз. Чтобы выдержать песню достойно, не плача, он испрашивает разрешенья хозяина знаком покинуть хадзар.
Выйдя в море бескрайнего света, Ацамаз потирает глаза. Он идет не домой, не туда, где живет одиночество грустной печали, а бредет вслед за песней — к скалистой горе. Аул изумленно глядит ему в спину, размышляя, казалось, о том, отчего это нет в ней сегодня тревоги. Отчего Ацамазу изменило чутье…
Он взбирается вверх по пыльной дороге. Вот уже одолел поворот. Все. Теперь он остановился. Сел на корточки, слушает свой разговор.
Глядя сверху на реку, на остров, на очень зеленую землю, признается себе робкой радостью в том, что, похоже, обрел наконец назначенье. Аул так далеко, что он чувствует сердцем: это — его. Может, это и есть его родина? Может, все, что случалось с ним до сих пор, было лишь трудным путем?..
Он глядит на громадный ствол тиса, и в нем пробуждается гордость. Этим прочным столбом он сумел, как надежным мостом, вновь связать воедино небо и землю. Отныне она будто вбита навеки гвоздем. Ей уже не скитаться под ветром, не держаться за кости, не тлеть в приречье гнилым плывуном. Ацамаз видит вечность. Он слышит: она пахнет чуточку временем, и это как раз хорошо. Ибо время теперь изменилось. Оно выросло, вызрело тысячелетним ростком, поднялось из борьбы за судьбу и за веру. Оно больше не лжет, как бывало, когда в нем беспечным обманом, словно призрачный сон ни о чем, безразлично жило ощущенье свободы, что несло их с собой в никуда… Это было, как зло, потому что оно, это зло, поселилось соседом на годы к их недолгому счастью, чтобы рядом с ним ждать и копать, ковырять подозрением землю, сквернить эти склепы, пачкать время безвременьем прошлых грехов.
Он подумал: «Пожалуй, я теперь кое-что осознал. Может, в этом и есть вся загадка о жизни: возвести верой то, во что сам ты покуда не очень-то веришь?.. Как часовню? Чтобы верили те, кто, не ведая, веры этой лишь ждет…»
Он вспомнил Тотразову песню. Понял вдруг, что она от пего не ушла, подержал ее облачком в глотке, но не смог, не стерпел усмирить. И тогда она вырвалась кличем наружу. Ацамаз во весь голос запел, и его распахнувшийся голос воспарил, словно птица, привольем, разбежался крылами в безмерность пространства — живого, как безграничная сила души. А потом он сорвался. Лишь эхо все несло и несло его песнь, угасая, тихонечко тая в первозданном величье небес…
Ленивая пуля неуклюже, устало, на самом излете, нырнула в него со спины, угодив своим жалом в седое пятно на затылке. Будто целилась в мету судьбы.
Ацамаз умер вмиг, не почувствовав боли. Впрочем, разве для счастья придумана боль?..
Аул ничего не услышал. Он смеялся и пел. Потому, вероятно, что был защищен от беды.
XVII
Ацырухс и Хамыц сидят на холме у вершины. Той самой, что дает начало ручью, из которого, словно из времени вечность, разливается бурным потоком река.
— И тогда вы решили схоронить его в склепе?
— Да, — кивает Хамыц. — Под самой часовней. Под тисом. Так лучше. Теперь там уж точно нет пустоты.
— А потом Алан взял и увез отсюда Марию?
— Скорее, это она его увезла. Не Мария, а Софья. Но это не важно. Подрастешь, и я все тебе расскажу.
— А зачем им понадобилось уезжать?
— Не знаю. Думаю, дело в черкеске: пуля могла ошибиться. Не знаю. Знаю только, что Софья сказала сестре: мол, довольно зеркал. Не хочу, дескать, больше чужих отражений. И Мария ее поняла.
— А я — нет. Объясни мне.
— Я и сам не совсем разобрался… Полагаю, причина тут в двойниках.
— То есть?
— То есть в том, что негоже иметь две судьбы: ненароком ведь можно их перепутать. И потом, это словно делить целый мир пополам. Понимаешь?
— Не очень.
— Вот и я понимаю не очень. Только это опять же не важно. Важно то, что ты тоже ушла. Расскажи мне еще раз, как было.
— Да никак. Просто я не могла… Знаешь, мать перед тем как уйти, мне сказала: «Коли хочешь остаться собою, сделай так, чтобы не было в них для тебя особой нужды». И еще: «Не верь ничему, что расскажет Цоцко…»
— Потому-то сперва ты решила, что тебе по пути не с Цоцко, а с другим?
— Да. Но потом испугалась, потому что с ним был Казгери. Он нагнал нас почти у другого ущелья. По глазам его я догадалась, что случилась беда. А потом я подумала, это с тобою. Я ушла. Убежала от них навсегда…
— Вот и славно. Ты будешь мне дочкой.
— Мне тринадцать. Я сумела бы стать и женой…
— Ты будешь мне дочкой.
— Я могу воспитать тебе сына.
— Не дури. Ты еще так мала…
Ненадолго они замолкают. Что им слышно в такой тишине?.. День спокойно уходит за гору. Пробежав взглядом небо, Хамыц поднимается:
— Вроде все. Пора уходить.
Ацырухс помогает ему унять молчаньем неловкость. Она знает, что сможет его одолеть. Она искренне верит, что любит. Знает лишь потому, что так хочет кого-то любить…
На лугу под вершиной она просит его не сердиться и вприпрыжку бежит за цветами. Собирая в ладошку букет, она сочиняет, как сплетутся отсюда четыре венка. Хамыц отдыхает у речки. Здесь она широка, не меньше полдюжины взрослых шагов. Ацырухс возвращается.
— Знаешь, о чем я мечтаю? Заплести огромный, как память, венок и найти ту могилу, где прячется ветер… Представляешь? Он ведь так одинок…
Хамыц пожимает плечами. Улыбается, долго любуясь ее красотой. Вдруг она цепенеет, прижимает охапку цветов, защищаясь, к своему животу и испуганно шепчет:
— Смотри…
Он спешит по следам ее взгляда, замирает глазами на русле реки, видит вдруг, как по ней, марая одеждой волну, несется течением вниз чье-то мертвое тело. Вот оно колыхнулось, сломало мгновенье, поменяло порогом крест рук, покатилось, укрывшись лучом и водою, туда, где сидит сам Хамыц, упираясь ногами в траву, потом юркнуло вбок, отскочило, отпрянуло, будто обжегшись о берег, отвергнувший камнем его слепоту, а затем, словно по волшебству, предстало внезапно пред ними не телом, а пугливым корявым бревном.
— Вот так штука, — шепчет сдавленно горлом Хамыц. Облегченно вздохнув, он смеется. Ацырухс подбегает к нему, какое-то время безуспешно лепит руками слова, а в больших, очень синих глазах ее бескорыстным теплом зреют бисером слезы. Потом, размахнувшись, она вдруг швыряет букетом в бурный хохот реки, обнимает Хамыца — так крепко, будто дарит ему в этот радостный миг все силы свои, всю свою громкую детскую душу, и, заплакав от счастья, Ацырухс заливается смехом. Так они и стоят, приникнув друг к другу восторгом, мешая его с прозрачным дыханием ветра, как делает солнце в погожий и ясный сознанием день. И в эту минуту, украдкой скользнув золотистой, как волосы девочки, мыслью из-под собственных рук на плечах Ацырухс, Хамыц думает: «А может, это только начало?.. Может, я еще себе пригожусь?..»
Что ж, если это начало, то вначале был смех…
Вниз по теченью рогатый олень осторожно, одним лишь раствором ноздрей, робко трогает воздух. Озадаченно смотрит на реку и видит на ней половодье плывущих навстречу цветов. Постояв перед ними и так ничего не поняв, он презрительно фыркает вслед и, тряхнув головою, в пару крупных прыжков одолев расторопность волны, скачет к ждущему лесу. В своем беге он так несравненно красив, как бывает лишь только олень в своем беге. Ногам его очень легко и просторно бежать по упругой земле.
Может быть, потому, что она ему помогает?..
Виперсдорф, 20 апреля 2000 года.
Примечания
1
Хадзар — жилой дом, а также помещение, в котором семья проводит большую часть своего времени — готовит пищу, обедает, отдыхает (осет.).
(обратно)2
Хурджин — переметная сума.
(обратно)3
Афсин — старшая в доме (осет.).
(обратно)4
Арчита — обувь из сыромятной кожи (осет.).
(обратно)5
Альчики — надкопытные суставные кости барашка, используемые в прошлом для игры осетинских детей (соответствует русской игре в бабки).
(обратно)6
Ацамаз — в осетинском нартском эпосе — певец и музыкант, обладатель чудесной золотой свирели.
(обратно)7
Кувд (куывд) — пир, праздничный стол (осет.).
(обратно)8
Джеоргуба — праздник святого Георгия, покровителя воинов и путников (мужчин), а также праздник изобилия. Отмечается в конце осени по окончании основных сельскохозяйственных работ (осет.).
(обратно)9
Ныхас — место сбора мужчин селения, аула для обсуждения всевозможных вопросов (осет.).
(обратно)10
Фынг — круглый стол-треножник (осет.).
(обратно)11
Карц — овчинный полушубок (осет.).
(обратно)12
Алдар — владетель, господин, помещик.
(обратно)13
Уаиг — сказочный великан, одноглазый циклоп (осет.).
(обратно)14
Сырдон — популярный персонаж осетинского нартского эпоса. Отличался хитростью, остроумием, находчивостью, а также склонностью ко всяким козням — злой гений нартов.
(обратно)15
Абрек — разбойник (сев. — кавк.)
(обратно)16
Ацырухс — дословно — божественный свет (осет.). Имя прославленной красавицы в осетинском нартском эпосе. В одних сказаниях она дочь Солнца, в других — алдара, сестра или воспитанница великанов.
(обратно)17
Уастырджи — Святой Георгий, покровитель воинов и путников (осет.).
(обратно)18
Зиу — здесь: добровольные коллективные работы (осет.).
(обратно)
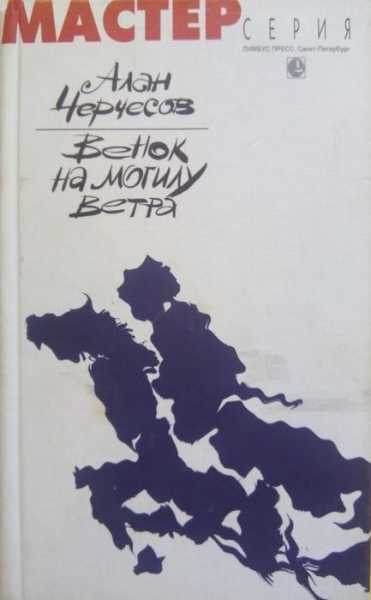
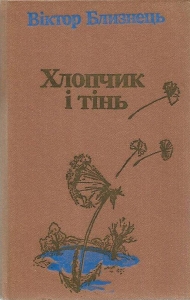
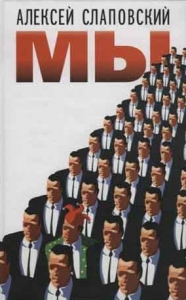





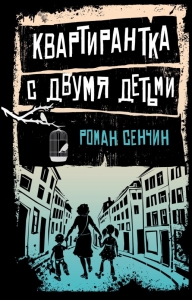

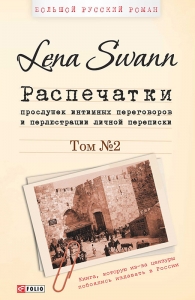


Комментарии к книге «Венок на могилу ветра», Алан Георгиевич Черчесов
Всего 0 комментариев