Борис Юрьевич Земцов Бутырский ангел. Тюрьма и воля
Игорь Дьяков Анатомия ада
Прочистились мозги и организм.
Понятней стал и власти механизм.
(Из лагерного фольклора)Быть может, двусмысленно и даже кощунственно звучит, но период жизни, проведенный в местах, не столь отдаленных, и тем более совсем не комфортных; период, после которого большинство, как правило, ломается, оказался для Бориса Земцова подобием творческой командировки.
Или именно таковой — творческой командировкой, что называется, по совместительству.
Вот уже на протяжении нескольких лет и нескольких книг он дает скрупулезный, честный и беспощадный анализ тому аду на земле, с которым, к великому горю нашему, оказались связаны судьбы миллионов и миллионов соотечественников: тюрьмы и зоны.
В предлагаемой книге рассказов это писательское расследование продолжается. И продолжается в явном развитии, выходя на новый уровень, так как писатель, кажется, в своём творческом полёте полностью отбросил неизбежные «первые ступени», как-то: подробный бытовизм, общие характеристики лагерных «страт», вполне понятное содрогание от попадания из нашей какой-никакой, но жизни, в подлинный ад, который, оказывается, всё время находился — и продолжает находиться! — буквально под боком.
Его освещают те же салюты, на которые мы любуемся с детишками на плечах; он таится за ближними кустами, за спинами целующихся пар, за памятником Родине-матери в Волгограде.
В нём слышны те же звуки улиц, по которым ходят-ездят «вольняшки», то есть мы, не ведающие, что в современной нашей не-жизни любой, буквально любой может оказаться в этом аду!
Борис Юрьевич, по всей видимости, опирается в своём творчестве на свои всё более поздние и, соответственно, более кропотливые записи, когда уже экспозиция описана, и можно переходить к художественному осмыслению данности непосредственно.
Да, анатомические действа Земцова включают и анализ звуков, и анализ цветов — восприятие тех и других несчастными, попавшими в ад.
«И вспоминаются здесь чаще всего звуки самые обыденные, бытовые, домашние. Например, шкворчание котлет, что жарятся на кухне на сковородке, накрытой крышкой. Или мурлыканье кошки, что угрелась у тебя в ногах. Даже шум лифта, позвякивание ножей и вилок, хлопанье извлекаемой из бутылки пробки — всё это, поднимаясь со дна памяти, звучит по-иному, ласково и добро». Этот тихий гимн жизни, которую мы далеко не всегда ценим, — из рассказа «Говорит и слушает… тюрьма».
Рассказ «Серый и бурый» посвящён зловеще-убогой цветовой гамме: «Читал, слышал, догадывался, представлял, как скромен спектр тюремных красок, но чтобы так, чтобы настолько…»
Конечно же, красной, можно сказать, кровавой нитью через рассказы Бориса Земцова проходит тема несправедливости самого попадания в ад для многих, слишком многих. Таких историй на зоне и в тюрьме — масса. И придумывать их смысла не имеет — все они тщательно проверяются на воле компетентными неформальными органами (то есть, пардон, «пробиваются» братвой), и итоги проверки этой доводятся до всех сидельцев в соответствующих «малявах», доставляемых в каждую камеру по «дороге» и в каждый барак «блаткомитетом».
Из рассказа «Ангел на пальме»: «В «пятёрке», в СИЗО № 5, где до приговора отсидел почти полгода, сменил он три камеры. За это время прошло перед ним больше сотни арестантских судеб. И ни одна эта судьба не была озарена торжеством справедливости или счастливого послабления. Это означало, что никто ни из одной камеры на волю не вышел: все только на этап, только в зону, только из одной разновидности неволи в другую».
Жернова крутятся строго в одну сторону: на беспощадное перемалывание людских судеб.
Процент оправдательных приговоров у нас на порядки ниже, чем в сталинские времена.
У судей негласная норма: выносить в год приговоров НА ТЫСЯЧУ ЛЕТ!
Апелляционные судьи, как правило, торопливы и/или откровенно спят, когда исполненный наивной надежды зек аж звенит от напряженного ожидания справедливости.
Пример из Земцова, как пьяненькому мужику пришили «три гуся» (суровую статью 222, за незаконное приобретение оружия и т. д.: «Ситуация комедийно-трагическая. Не охотник, не стрелок, не владелец оружия, наконец, просто совершенно не имевший на тот момент денег, очень и очень пьяный человек вдруг покупает патроны. Да и с каких пор в пивных ларьках начали торговать боеприпасами?»
План, план, план! Борьба терроризмом!..
А уж такие тонкости, как «внутренние качества», в наших судах не учитываются уже давно и тотально. Это машина по переработке человеков. И сегодня, пожалуй, самый прожорливый её элемент — «народная» 228-я статья, по которой перемалывается, кажется, целое поколение русской молодежи.
Другой важный аспект, обойти который честный писатель не может — это абсурдность самой формы наказания, против которой в «Воскресении» мощно выступал сам «матёрый человечище».
Какое там исправление?!. Лучше Толстого не скажешь, но кое-что добавить можно.
Герой Земцова, осмысливая количество недель, месяцев и лет, которые ему предстоит провести в аду, рассуждает: «Никогда не думал и представить не мог, что обычные цифры, выстроенные при помощи самых простых арифметических действий в несложную, даже не систему, а обыкновенную очерёдность, могут уподобиться… катку, что немилосердно и необратимо раскатывает волю, а заодно и всё сознание, во что-то плоское, безликое, совершенно тебе уже не знакомое. Выходило даже, что не волю и сознание тот каток утюжил, а всю человеческую сущность и достоинство уродовал и уничтожал».
Что таить, автор этих строк, проработавший в журналистике больше сорока лет и никогда в жизни даже в милицию не попадавший, тоже… угодил. Подсуетились добрые люди. Об этом — только для того, чтобы вы понимали, какими глазами приходится читать земцовские рассказы, и что мнение сие не есть мнение кабинетного бумагомараки.
Очень невесело, надо сказать, смотрится окружающий мир из тюремной камеры:
Бурелом до горизонта. Море сломанных судеб. Потаённый фронт без фронта. Жизни клятой горький хлеб. Здесь — пародия пародий. За стеною — псевдо-жизнь. Две России, два народа, Двуединый организм. Прихоть псевдо-государства — С воли стон, в неволе стон. Власть, не скрыть тебе маразм свой, — Попран Божеский закон.Пожалуй, больше всех «пробил» рассказ «Чёрный зверь, лежащий на боку». Это очень точная метафора зоны — громадного хищного зверя, который «питается нашей энергией, нашим здоровьем, нашей жизненной силой. Мы, арестанты, — пища для этого зверя».
Птиц над головой здесь не бывает. Все маршруты пернатых обходят лагерь стороной. То ли чуют энергетический столб чёрного горя людского, то ли сторонятся смрадного дыхания чёрного хищника.
Подметил писатель и такое, казалось бы, мелкое явление (вообще-то мелких явлений там нет), как особые лагерные кошки. Они настолько вызывающе свободны, что без зазрения совести сношаются перед трибуной, наполненной лагерным начальством.
Но и к птицам, и к кошкам «Чёрный зверь» равнодушен. Они ему недоступны и неинтересны. Ему нужны людишки!
И зеки остаются годами в облаке его смертоносного дыхания. Без союзников, хотя бы в виде какой животины.
И Чёрный зверь с удовольствием жрёт! Впавший в дурной азарт Лёха Барабан повесился из-за проигрыша в 50 тысяч. Костю Грошева, который «без флага, без Родины», то есть из хохлов и без российского гражданства — тромб свалил за две недели до воли. Беда и с Вовой Слоном, и с Тёмой Маленьким…
В рассказе «Серебряные стрелки, хрустальный циферблат» возникает другой точный образ: жернова. «Только реальные, пусть киношные, мельничные жернова, перемалывали зерно, умножая тем самым его и без того великую жизненную силу. Условные же, лагерные, жернова перемалывали арестантские жизни. Результатом этой работы был не белый, ласкающий глаз мучной ручеёк — символ сытости и плодородия, а чёрная труха переломанных арестантских судеб».
Но всё же не «тварь дрожащая» превалирует на зоне. Вечно трепеща, не выживешь. Одна минута отчаяния — и падаешь в пропасть, из которой можно и не выбраться.
Более того: как ни дико это может кому-то показаться, но сильный человек, выстояв, способен извлечь пользу для себя даже из пребывания в аду.
Ты научаешься (если раньше не умел или умел плохо) «говорить со всей ответственностью «да» и «нет», жестко определять круг своего общения, намечать и различать близкие и далекие цели… Ничего здесь не спрятать, не утаить… В зоне человек со всеми своими «плюсами» и «минусами», сложностями и достоинствами прозрачен, как нигде».
Что верно — то верно, — это можно утверждать с тем большим основанием, чем дольше ты работал, к примеру, в Государственной Думе!
А справедливое наказание за подлость, которую скрыть практически невозможно, здесь практически неизбежно.
В рассказе «Третье погоняло» Борис Земцов внятно описывает эту систему наказания, которую неплохо в известных пределах и формах применять и на воле, особенно среди чиновничества: «переселить с участка «для порядочных» в проходняк «для обиженных», то есть «просто в иное измерение… Кстати, угодить туда — означало пробыть там непременно до конца срока, ибо механизма возвращения оттуда не существовало вовсе. Туда — можно. Обратно — нет! Как в некоторых видах зубчатой передачи. Движение только в одну сторону».
На эту тему сладко мечтается, например, когда пытаешься понять, куда делись 10 триллионов пенсионных рублей тех работавших и не доживших до пенсии русских людей, кто умер с 1995 по 2015 год…
Мужественный оптимизм писателя простирается до очень серьёзного вывода: «для порядочного, думающего арестанта — время, ушедшее на тюрьму, лагерь не вычитается из количества, отведённых судьбой и Богом лет, а приплюсовывается к ним. Отбытый срок просто раздвигает, удлиняет человеческую жизнь».
Хочется констатировать особую точность и такого наблюдения:
«Чем ближе освобождение, — пишет Борис Земцов от лица одного из своих героев, — тем больше пугал тот мир, из которого арестант надолго выпал, в котором он был уже никому не нужен, а лишь всех настораживал, всем мешал. Мало кто в этом признавался даже самому себе…»
Кажется, уместно бросить и свои «пять копеек»:
Когда бы не тюрьма — самообман бы длился. Ты б руки пожимал, готовые душить. Один лишь взмах судьбы — и занавес открылся. Распахнут балаган, в котором прочил жить. Застольный возбуждёж и заверенья в дружбе… Восторженность… В ответ — ухмылка и навет. Холодные глаза, корпоратив на службе. От тайного врага неискренний привет. Теперь я вижу всё за роговицей глаза. Там — аспидный клубок рептильного ума. Лжеца и подлеца определяешь сразу. От скольких пропастей нас отвела тюрьма! Ты отмотал свой срок, но сэкономил годы. Чистилище пройдя, ты качества достиг И жизни средь людей, и подлинной свободы. Отныне — адамант на воле каждый миг!Ощущение свободы, которая именно «наваливается», передано в рассказе «Сладкая водка свободы». Момент выхода из зоны незабываем, как первая свадьба или… Да не с чем это не сравнить! И видишь урочище «Чёрного зверя», из которого вот только что вышел, со стороны: «Фабрика? Наверное, действительно, фабрика. Фабрика по уродованию человеческого материала. Фабрика по уничтожению личности. Фабрика жестокого, трижды неестественного отбора».
И сторожко озираешься вокруг, чутьём угадывая, что здесь, на этой нашей нынешней воле, «гуманизм и милосердие сродни импортным лекарствам, сработанным азиатами в каком-нибудь подвале», что «здания без решёток, люди не в робах, люди без дубинок, машины, дети, женщины», — всё это лишь декорация свободы…
Один из последних рассказов Земцова — «Как дед Калинин детским писателем стал» — построен по законам эпоса или сказки: герой, немолодой бывший зек, пытается издать свои рассказы в трёх местах, и отовсюду уходит после мерзопакостных предложений «добавить рассказик». Мерзопакостных, ибо довески заключаются в восхвалении тех, кто в существующей системе никакой похвалы не заслуживает: это менты, якобы способные кого-то исправить; содомиты, которые нынче в тренде; и правозащитники, никого не защищающие и защищать и не думающие.
Здесь Борису Земцову удалось сделать очень удачный взрез писательским скальпелем. Исстрадавшаяся без справедливости русская душа, истоптанная свинцовыми мерзостями нынешней жизни, лицом к лицу сталкивается с полным набором гадости, что плодится через «окна Овертона». И дед Калинин выдерживает удар. Душа русская выстояла! Обошлась без липучих компромиссов, для неё смертельных…
Тащит, тащит упорно Борис Земцов свои рассказы в наше убаюканное симулякрами сознание. И не подпускает к себе ни казённого оптимизма, ни излишнего греховного уныния, — ибо, читаем между строк — и то, и другое от лукавого.
А вообще-то… душа рыдает.
«Отрыдаться бы…», — так начинается один из самых пронзительных рассказов сборника — «Ангел на пальме».
Игорь ДЬЯКОВ
Ангел на пальме
«Отрыдаться бы…» — вывел он в засаленном блокноте, уже приговорённом быть до последнего листка его тюремным дневником. Дневником именно тюремным, а, значит, главным, если не единственным его собеседником на весь срок неволи. Со всей серьёзностью, и, неминуемо, жестокостью…
Вывел машинально, смысл написанного настиг его позднее, когда обратил внимание, как испортился почерк: буквы были разного роста и стояли под неодинаковым углом к линии строки, если бы таковая присутствовала на нелинованном блокнотном листке. Показалось даже, что толщина букв разная, а сами очертания этих букв неправильные: дряблые и прерывистые.
«Можно и не читать, можно и не уточнять, кто, где и в каком настроении написал… Всё по буквам понятно… Не надо графологом быть…»
От этой мысли стало ещё хуже, хотя только что казалось, что за все прожитые сорок лет так плохо, как сейчас, не было никогда.
«Диагноз!» — хлестануло где-то внутри. В самый последний момент безоговорочный тон приговора в собственных мыслях сменился обнадёживающей вопросительной интонацией. Потому что вспомнил, как адвокат вчера говорила: «касатка» отправлена, в следствии неточностей и откровенных ошибок куча, словом, есть серьёзные основания для переквалификации «сто пятой» на «самооборону», короче, есть шанс.
Шанс… Если не на обретение самого важного, так, по крайней мере, на робкое движение в эту заветную сторону. Очень слабое движение, но движение со знаком «плюс». Это, потому что в ту сторону, откуда свободой пахнет. Удивительный запах! Несидевший человек, не то, что не оценит его, просто не унюхает. Это как ветку жасмина совать под нос тому, у кого жестокий насморк.
Почти улыбнулся, хотя вряд ли со стороны можно было обнаружить даже подобие чего-то радостного в чуть изменившейся конфигурации его губ.
Тут же другое вспомнил…
В «пятёрке», в СИЗО № 5, где до приговора отсидел почти полгода, сменил он три камеры. За это время прошло перед ним больше сотни арестантских судеб. И ни одна эта судьба не была озарена торжеством справедливости или счастливого послабления. Это означало, что никто ни из одной камеры на волю не вышел: все только на этап, только в зону, только из одной разновидности неволи в другую. Со ступеньки на ступеньку вниз, ближе к очень долгому, а потому кажущемуся окончательным, беспросветному будущему. Это будущее — несвобода. Как много мог бы он отдать, чтобы такое будущее в один миг стало прошлым.
Верно, и это — движение. Только уже не со знаком «плюс», а со знаком «минус». И не робкое, а жесткое, решительное и, главное, с твоими желаниями ничего общего не имеющее. Принудительное, короче, движение, когда не идёшь, а тащат тебя и волокут.
Потому и мысль про адвоката, с «касаткой», им сочинённой, как-то поблёкла, а потом и вовсе из сознания пропала, будто не было её там никогда. Вместо этой мысли, которая, пусть с фантазией и натяжкой, но привкус надежды имела, цифры появились. Точнее арифметические действия. Действия простые и от простоты этой… откровенно жуткие.
9 на 12. Это — 108. Сто восемь! Девять — это объявленный судом срок. Девять лет. В каждом году — 12 месяцев. Отсюда и сто восемь месяцев.
Сто восемь месяцев — много! Так много, что и в голову не втрамбовывается. Можно, конечно, из этого срока полгода подследственных, уже в тюрьме проведённых, вычесть. Только что от этого изменится? Разве намного определённый судом срок сократится?
Опять в голове заворочались те же действия из начальной, самой простой, но такой нехорошей арифметики. Пусть, восемь с половиной на 12. Это всё равно почти сто восемь. Всё равно 108! СТО ВОСЕМЬ месяцев неволи, когда вся жизнь между сплошными «нельзя» и «не положено» футболится.
А в продолжение к этой арифметике ещё одно действие напрашивалось. Такое же простое, но жуткое уже в квадрате. Если эти… 108 на 30. То есть, число месяцев на количество дней умножить. В итоге выходило что-то такое, что вовсе за пределами разумения находилось. Разум здесь просто капитулировал и признавался в полной неспособности выполнять своё предназначение — помогать тому, кому он принадлежит.
Никогда не думал и представить не мог, что обычные цифры, выстроенные при помощи самых простых арифметических действий в несложную, даже не систему, а обыкновенную очерёдность, могут уподобиться… катку, что немилосердно и необратимо раскатывает волю, а, заодно, и всё сознание, во что-то плоское, безликое, совершенно тебе уже не знакомое. Выходило даже, что не волю и сознание, тот каток утюжил, а всю человеческую сущность и достоинство, уродовал и уничтожал.
Между тем, количество дней наваливающейся несвободы можно было умножить ещё и на двадцать четыре, на число часов, которые заключает в себе каждые сутки. Калькулятора в его распоряжении не было, столбиком считать часы грядущей неволи он не осмелился. Инстинктивно чувствовал, что в результате этого примитивного арифметического действия родится не цифра, а… зверь, хищный и безжалостный, перед которым он безоружен и беззащитен.
Уже не стоило удивляться, почему буквы в единственной фразе, что недавно в блокноте вывел, такие некрасивые и неправильные. Действительно, в нынешней обстановке такую фразу с учётом формы и содержания и как диагноз и как приговор расценить можно.
«Отрыдаться бы!»
Перечитал ещё раз. Не быстро, будто читаемое не двенадцать букв, а пару абзацев убористого текста составляло, и всё написанное… зачеркнул. Старательно и основательно зачёркивал, каждую букву по отдельности вымарывал, а потом всю фразу в сплошной тёмно-синий, почти чёрный, прямоугольник превратил. Выдохнул с облегчением. Потому что смог написанное уничтожить до того, как это кто-то прочитать успел. Впрочем, кому читать? Сейчас в камере у него всего-то трое соседей оказалось, да таких, что ни одному из них, что печатное, что написанное постигать — задача невыполнимая.
Хотя совсем не этих людей сейчас он видел, и вовсе не от них хотел скрыть свою слабость, если не что-то куда более важное, что было сконцентрировано в той, уже превратившейся в безмолвный тёмный прямоугольник, короткой фразе.
Двух своих сыновей, погодков, тринадцати и двенадцати лет, очень явственно и очень близко увидел он в этот момент. Прямо на фоне не щедрой на краски и детали панорамы бутырской камеры. Стояли они между умывальником с угрюмыми проплешинами отбитой эмали и тюремным столом-дубком, сваренным из стальных уголков. Молча, стояли, смотрели на отца с грустью и состраданием, нисколько не обращая внимания на окружающую обстановку, о которой раньше только по книгам и кино отдалённое представление имели.
«Зря вы, ребята, сюда, нечего здесь вам делать…», — на полном серьёзе подумал, будто впрямь могли его дети здесь очутиться, миновав стены, сложенные ещё в екатерининский век, и прочие препятствия, что наглухо разделяют волю и неволю.
На том же серьёзе с удовольствием отметил, как хорошо, что не увидели сыновья некогда выведенную в блокноте, под дневник приспособленном, недавно вымаранную фразу. Ещё бы, ведь в таком неприглядном виде могла она представить перед ними их отца, а оправдываться, что-то объяснять, в этой ситуации возможности нет.
«Потом, потом объясню, может, к лучшему, что это не сейчас, а потом, что всё на очень долгое время откладывается, за это время и сыновья подрастут, разума накопят, и у меня настроение отстоится, а, значит, более подходящие слова для объяснения найдутся…», — сам себе растолковал, сам себя успокоил. Кажется, уже, было, и успокоился, да возник внутри неизвестно откуда вопрос. Шершавый и горячий, неудобный по всем параметрам:
«А если, всё наоборот: и ума у них не прибавится, и слов тех нужных у меня не отыщется?»
Растерялся от этого вопроса, заворочался на продавленном шконаре, зашарил беспомощно глазами по сторонам. С радостью отметил, что сыновей в промежутке между дубком и умывальником уже нет. Возможно, их там и не было. Да и откуда им там взяться? Без страха и удивления предположил, что, наверное, именно так сходят люди с ума. Только, когда такое происходит с другими — это одно, а когда такое творится с тобой самим — это совсем другое. Тут самое страшное — нарастающее осознание собственного бессилия перед безумием, которое не просто овладевает тобой, а начинает вытворять с тобой совершенно непредсказуемые вещи.
Всё равно подумал, скорее, заставил себя подумать, что ничего плохого, тем более, страшного, в этом нет, что скоропостижное сумасшествие — это один из видов реагирования человека на окружающую обстановку, значит, один их видов существования этого самого человека. Возможно, это даже… особенное проявление мудрого инстинкта самосохранения. И чего здесь плохого, тем более, страшного? Вот тут, правда, внутри какой-то рычажок щелкнул и кто-то одёрнул, что пролаял: «Отставить! Не наш путь!»
Чуть кивнул он сам себе и так же сам себя спросил едва слышно: «А где он, наш то путь?» Будто в поиске ответа на заданный вопрос ещё раз осмотрелся, и сказал веско и убедительно, но уже про себя: «Отсюда путь только один — на этап, в зону, без вариантов!»
Конечно, опять вспомнил про… движение. В ту сторону, куда не идут, а волокут и тащат.
Хотел было при этом сам себя утешить, перетасовать какие-то тёплые и мутные слова, среди которых самые желанные, а потому и различимые, были «адвокат» и «касатка», только не сложилось с утешением. В оконцовке и эти немногие различимые слова растаяли. Вместо них в сознании что-то вроде заставки замаячило. Вроде и разноцветной, но всё равно тёмной и тяжелой. А потом…
«Не хочу в зону! В зо-ну не хо-чу! Не хо-чу в зо-ну!», — застучало в нервном дёрганном ритме в голове. Только не в висках, как писатели пишут, а где-то глубже, да так сильно, что зубы подобие дроби выдавать начали. Понимал, что это постыдная и непростительная слабость, но изменить ничего не мог. Не было для этого ни сил, ни желания. Вообще, никаких желаний не было. Даже курить не хотелось.
Желаний не было, но то «Не хочу!», адресованное к собственному очень близкому и неминуемому будущему, внутри по-прежнему стучало. Казалось, уже не только в голове, а во всём теле.
«Да это же истерика… Натуральная бабья истерика…», — бесстрастно и безжалостно определил он и в очередной раз испытал что-то похожее на радость, потому что рядом не было никого из тех, перед кем ему могло быть стыдно за это состояние. Тут же так же безжалостно пошутил сам над собой: «А валерьянки накапать некому и душеспасительных слов никто не произнесёт…»
Поспешно попытался вернуть себя к реальности: «Какая, к чёрту, валерьянка, кому здесь, в бутырской камере, читать мне душеспасительную мудрёнку…»
И ещё дальше заспешил он в направлении той самой реальности. Да так заспешил, что со всего маху врезался в то, что отбросив интеллигентские сопли и христианские трафареты, иногда можно считать выходом из очень сложного положения. Хотя разве можно врезаться в то, что считается выходом? Тут какая-то путаница, в которой воображаемое и осязаемое перемешались. «Выход» — само слово очень решительное и мужественное. Ну, и вся его начинка, весь его смысл нынешней ситуации соответствует. Выход такой: уйти! Именно… уйти!
Совсем не хотелось ему в тот момент даже в собственных, никому не озвученных и даже не доверенных тому засаленному блокноту, мыслях употреблять громоздкое со многими тупыми углами слово «самоубийство». Слово можно и не употреблять, но смысл его остаётся. Понятно, в связи с обстановкой у этого смысла здесь своя специфика. Жесткая специфика. То, что на воле всегда под рукой, всегда к услугам твоим, здесь просто исключено. Согласно правилам, где «нельзя» — «не положено» во главу поставлены.
Это вольному человеку, «уйти» пожелавшему, представляется богатенький выбор: можно под поезд, можно с моста или с балкона высотки, можно газовый кран крутануть, можно… Много чего можно… Как красиво можно расквитаться с жизнью, если чуть-чуть начитан и что-то огнестрельное под рукой нашлось! Хочешь в традициях белой гвардии ствол к виску, хочешь, если с Фрейдом знаком, тот же ствол — в рот. Ещё можно Хемингуэя вспомнить: взять ружьё, опять же тот же ствол в рот, а на курок не совсем эстетично, но надёжно, — большим пальцем ноги пустячное усилие… Не говоря уже про аптеку со всеми разновидностями снотворного и болеутоляющего. А тут… Тут всё существование из одних «нельзя» и «не положено» состоит. Потому «вольные» варианты «ухода» здесь не актуальны.
Конечно, и тут «уходят»… По своей воле, по своему желанию, по причине отсутствия прочих хотя бы каких-то вариантов собственного будущего… Буквально пару дней назад мусора раскидали хату этажом выше после того, как там цыган-наркоша удавился. Умудрился удавиться! Потому как та хата заселена была с избытком (некоторые даже спали на одном шконаре по очереди), кажется, каждый на виду у стольких глаз, и вдруг… такой кульбит. Чтобы «уйти», тому цыгану пришлось с головой одеялом накрыться, потом к прутьям кровати в изголовье жгут из простыни приладить, и голову в петлю из этого жгута вставить.
Как можно лёжа удавиться представить сложно, только у цыгана вышло.
Кажется, и на «петрах», где он первые две недели своей неволи провёл, тоже рассказывали про такой же вариант арестантского самоубийства. Только тогда про какого-то крутого бобра — предпринимателя с именем речь шла, кому светило срока столько, сколько у дурака махорки бывает. Впрочем, детали эти ни к чему сейчас из памяти выскрёбывать, куда важнее на самом главном сосредоточиться. А самое главное сейчас то, что только тебя касается. К месту вспомнил афоризм местного тюремного производства, на стене в прогулочном дворике нацарапанный: «Каждому — своё, а своё — никому!»
«Смогу я так?» — спросил он сам себя. Показалось, что вопрос вслух произнёс, хотя рта, кажется, не раскрывал.
«Нет, не осилю…», — это уже точно вслух ответил, даже почувствовал, как пересохшие губы друг о друга прошуршали. Совсем не к месту вспомнил, что очень похоже, летом крылья у стрекоз шуршат. И другое, уже больше настроению соответствующее, вспомнил, что с тех пор, как в несвободе оказался, регулярно приходилось с темой этого самого добровольного «ухода» в лоб сталкиваться. На тех же «петрах», где его неволя старт брала, обратил внимание, что алюминиевые кружки для питья, которые трижды в день арестантам в открытый кормяк просовывали, сплошь без ручек были. «С чего так?», — не сдержал он тогда своего любопытства.
«Ручки отклёпывают, чтобы мы из них заточки не делали, потому что этими заточками кому-то, в первую очередь самому себе, кровь пустить можно!», — пояснил ему бывалый сокамерник. Показалось, с наслаждением пояснил, потому как смаковал своё уверенное, основанное на собственном опыте, превосходство над испуганной растерянностью первохода.
Очень к месту вспомнилось, что арестантам в СИЗО и наручные часы иметь строго воспрещалось. И этому в самом начале своей неволи успел он искренне удивиться. Опять же хожалые соседи с матёрыми прибаутками пояснили: так, мол, мусора про наши драгоценные жизни беспокоятся — ведь каждые часы стеклом снабжены, это стекло разбить можно, и его осколками по венам полоснуть, чтобы тот же «уход» обеспечить. Короче, понятно…
Тогда, правда, никаких мыслей про «уход» и в помине не было, а сейчас — вот они: упали откуда-то, покружили хороводом, а потом и навалились. Очень подходящее слово в арестантском арго для определения подобной ситуации есть — «нахлобучило». Именно нахлобучило, будто колпаком глухим накрыло, от всех забот отгородило, а под колпаком этим только мозг собственный один на один с этими самым мыслями про «уход» и всё, что с этим связано.
Удивительное дело, эти мысли все прочие темы куда-то на задворки сознания отодвинули, свою диктатуру утвердили. Жесткую диктатуру, потому как ни о чём другом думать просто не получалось. Будто мозгу сверху команды кто-то рявкал, и мозг в струнку вытягивался, под козырёк брал и все команды эти неукоснительно выполнял. Вот сейчас команда «Ищи вариант ухода!» прозвучала. Соответственно цыган с простынёй жгутом скрученной возник, и заточки арестантские вспомнились. Только не к месту всё это объявилось, совершенно без всякой пользы. Никакого намёка на пример для подражания или руководство к действию. Пока никакого намёка на пример для подражания…
Ещё картинка из недавнего прошлого, уже отмеченного клеймом «несвобода», всплыла. В той же «пятёрке» в соседней хате парень «ушёл», накануне всё «колёса», что в камере были, проглотив. «Колёс» много набралось (от кашля, простуды от болей в животе и т. д.) Кто-то из соседей видел, в три захода по пригоршне забрасывал. Сработало! Вроде как спать лёг, только уже не проснулся, возможно, и не засыпал: утром сокамерники обнаружили его с открытыми глазами и с засохшей, почему-то блестящей струйкой зелёной слюны из уголка рта.
Проплыла картинка эта, как рыба подо льдом, да тут же прочь отъехала, потому как очередная команда грянула. Собственно, не команда даже, а вывод. Почти тот же, что после того, как цыгана, лёжа удавившегося, вспомнил: «Не твой вариант… Не твой способ… Не твой путь…»
Вывод, вроде, и безоговорочный, только за ним следом без паузы на раздумья, вопрос вздыбился, ещё более жесткий: «А какой он, мой вариант? Да и есть ли они вообще здесь варианты? Может быть, и нет никакого резона эти варианты-способы искать, потому как ни один из них не пригодится, потому как любой из них вдребезги разобьётся об… элементарную собственную трусость…».
Трусость… Нехорошее слово. Склизкое, рыхлое, вялое. И в то же время монолитно твёрдое, укреплённое изнутри арматурой невиданной прочности, коли так лихо расшибаются о него все эти варианты-способы.
Совсем не к месту, а, может быть, наоборот, самый раз вовремя, аккурат, «в яблочко» вспомнил, как давным-давно читал книгу то ли американца то ли англичанина про ту же, хоть и буржуйскую, комфортную, но всё равно, давящую и уродующую, тюрьму. Герой той книги, доведённый страхом и отчаянием «до точки», свой вариант «ухода» нашёл: размозжил себе голову о бетонную стену камеры. И не с одного даже раза у него это получилось: дважды или трижды повторять пришлось.
Опять вопрос возник, резкий, как удар под дых: смог бы так? Сразу ответил, совсем не тратя время на раздумья: не смог бы! Мгновенно определил и причину: та же трусость! Безжалостно определил, хотя маячило на задворках сознания нечто спасительно-оправдательное про то, что негоже так в полном здравии со всего маху головой в бетон колотиться. Вроде как не для того человеку голова дана. Мол, гомо сапиенс, и всё такое. Тут же и что-то рациональное, рожденное некогда обретённым инженерным образованием, замигало: не те габариты у пространства бутырской камеры, чтобы разбегаться. А без разбега никакого эффекта. Можно, вероятно, и без разбега, только это уж совсем глупо выйдет, опять же человек — это всё-таки человек, а не дятел какой-нибудь. И опять, не сколько звучащий, сколько ощущаемый, голос за кадрами сознания выдал очередную порцию бесстрастного и безжалостного: это — опять трусость, да ещё и самолюбование совсем не мужское, ишь ты, некрасивым показалось головой в стену! Только всё равно за всем этим — та же трусость!
В придачу подумал, что англичанин или американец за решеткой — это одно, а русский — совсем другое. Разве представишь, чтобы тот же Достоевский в такую ситуацию своего героя вставлял. Хотя, при чём здесь Достоевский, и все темы про почву и корни, когда кровь у всех людей одного цвета. Наверное, и звук от удара башкой о стенку каменную одинаковый, независимо от того, кому эта башка принадлежит. И опять жестокость по отношению к самому себе проявил, потому как посчитал, что за рассуждениями об особенностях национального характера в данном случае опять трусость нагло выглядывает, и мурло своё в торжествующей гримасе кривит.
— Шлёнки давай! — как из другого мира голос баландёра прорвался.
Голос услышал, но про себя отметил, что перед этим должен был раздаться лязг кормяка откидываемого и грохот телеги, на которой баландёры еду обычно развозят. Не слышал! Отшутился сам для себя: значит, вот так глубоко в мысли о национальном характере ушел. Будто для этого лучшего места и времени не нашлось. Хотя… Как не крути, а тюрьма для русского человека — это что-то трижды особенное. Это, вроде как, и обязательная составляющая национальных декораций, и оселок для становления опять же чисто национального характера, и ещё много чего очень своего, очень русского, что веками формировалось, и что, нисколько в разговорах размусоливать можно, сколько улавливать и ощущать надо. Только за что же такой крест у народа, частью которого являешься? На этот вопрос никакого ответа в собственном сознании не обнаружил, зато с грустью отметил, что самое время ему что-то о Боге подумать. Кажется, самое время и самое место. Самое место и самое время. Только… не складывалось.
Верно, в самом начале неволи своей крутилось что-то в его голове на эту тему: каждый в тюрьме про Бога вспоминает, в какую бы веру крещён не был. Только все эти мысли какие-то водянистые и невнятные были, а, если до конца честным быть, выходило, что про Бога вовсе ничего конкретного не думалось. Вот так! Тюрьма, где про Бога думать принято, была. Бог, в которого он верил, разумеется, был. И он сам, тот, кто уже частью тюрьмы стал, и кому почти девять лет неволи предстояло расхлебать, наличествовал. Только всё это как-то раздельно, то ли в параллельных мирах, то ли на разных орбитах. Тут и совсем крамольное откуда-то вкралось: Бог — он только для тех, кто на воле! Для тех, кто среди сплошного «нельзя» и «не положено», его — нет! Вполне складно выходило: коли столько в неволе этих «нельзя-не положено», значит, и Бог в эту категорию угодил. Значит, для арестанта, Бог — это то, что и «нельзя» и «не положено» в «одном флаконе». Чётко и логично складывалось: живёт человек на воле — есть для него Бог, угодил за решётку, неважно даже, виновным — невиновным, Бога для него уже нет. По ту сторону решётки остался. Для тех, кто на воле. Для тех, у кого жизнь из событий и движений состоит, а не в куцый коридор между «нельзя» и «не положено» втиснута.
Понимал, не разумом, а чем-то более глубоким и куда более важным, что эти мысли — неправильные, от которых только отчаяние и прочее внутреннее разрушение, чувствовал, что гнать прочь эти мысли надо, что бежать от них надо, но ничего с собой сделать не мог.
Возможно, ещё немного и довели бы его подобные мысли до окончательной беды, только не случилось этого. Будто кто эти мысли, как коней у обрыва, в самый последний момент подхватил под узцы и, сначала удержал, а потом и куда-то прочь отворотил. Просто пропали эти мысли. Правда, после них в голове что-то чёрное и тяжелое осталось. Но и это ненадолго.
Кажется, он уснул, потому что не слышал ни скрежета ложек о шлёнки (время ужина), ни шума воды из открытого крана (мылась посуда), ни голосов сокамерников (обсуждались тусклые тюремные новости). Но мозг работал, и производимые им мысли были совсем непохожи на то, чем ещё совсем недавно было наполнено сознание. Сначала они крутились вокруг всего двух фраз: «Не ты — первый, не ты — последний… И в зоне люди живут…» Затем к ним прибавилось чужое, но очень правильное, давно где-то прочитанное: «Что нас не убивает, то делает нас сильнее…»
Дальше вместо мыслей, обличённых в слова и предложения, появилось что-то цветное. То ли яркий орнамент, то ли панно какое-то из разных кусков составленное. В этих разноцветных пятнах и кусках определённо улавливалось нечто системное и даже красивое, вот только… цвет этих компонентов… Куски и пятна были раскрашены в совершенно незнакомые цвета. Никакого красного, никакого оранжевого, никакого желтого! И ничего похожего ни на зелёный, ни на голубой! И никакого намёка на синий и фиолетовый! Были выстроенные в определённом порядке разноцветные куски и пятна. Были то подчёркивающие то дополняющие друг друга сгустки разного цвета, но слов, чтобы назвать эти цвета не находилось, потому что не было в привычном человеческом мире таких цветов, соответственно не находилось и человеческих слов, чтобы их описать.
«Всё-таки подвинулся, рехнулся», — первая мысль после картинок нездешних цветов была. Даже показалось, что был у неё спасительный привкус. Только это на самую ничтожную долю секунды. Тут же внутренний голос и прокомментировал. Ехидно и мстительно: «Легко отделаться хочешь… С дурака и спросить нечего…» И уже знакомое добавил, как гвоздь вколотил: «Не твой это путь!»
Теперь уже совершенно ясно было, что он не спал, потому что широко открытые глаза его блуждали по сторонам, патрулировали взглядом уже до мелочей знакомое ближайшее нависающее и давящее пространство. Похоже, он инстинктивно пытался найти какое-то объяснение тому, что секунду назад явственно, почти осязаемо маячило в его сознании и удивляло цветами, которых в обычной жизни не существовало. Ничего, даже похожего на объяснение не находилось, но беспокойства и волнения от этого не возникало. Наоборот внутри появилось и уверенно набирало уверенную силу ощущение чего-то правильного и доброго. Уже случайной нелепостью на этом фоне вспомнилась всплывшая из детства шутливая запоминалка: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Каждый — красный, охотник — оранжевый, желает — жёлтый, и так далее. Выходило, что ничего тот охотник желать знать не мог, и жирная неуклюжая, даже летать даже толком не умеющая, птица здесь просто не причём.
Ещё раз крутанулась в сознании шутливая детская запоминалка, царапнула словом «сидит». На автомате вспыхнуло возражение: «Не фазан, далёкий и абстрактный сидит, а ты — вполне конкретный, близкий, осязаемый, и не придуманный охотник в тебя целится, а девять лет или сто восемь месяцев ещё более конкретного строгого режима опять же к тебе примериваются… Кстати, фазан посидит-посидит, да и на другое место переберётся, у него всё-таки свобода, а у тебя девять лет обязательно-принудительного нахождения в рамках «нельзя» — «не положено»… Слаще судьба, выходит, у этой жирной, не очень летающей птицы…»
И всё-таки, откуда взялись эти нездешние краски, эти цвета, прежде невиданные? Если признавать, что они только что были, что они вообще есть, значит, впору ждать, что, того гляди, звуки, а, следом и запахи, объявятся, которые прежде никому не известные. И как всё это привычными мерками мерить, как всё это между теперешними «нельзя» — «не положено» Хорошо бы опять всё списать на тот случай, когда человек не в себе, попросту сказать, рехнулся человек? В последнем случае всё куда понятней и логичней, только не приживалось в сознании, кажется, вполне, естественное в этой ситуации, объяснение.
Мало того, не приживалось, через мгновение от него ни тени, ни напоминания не осталось. Зато опять маячила внутри, но уже собственная, уже безо всяких потусторонних команд, жёсткая уверенность полностью соответствующая формуле «НЕ ТВОЙ ПУТЬ!» А следом и шёпот раздался, тихий, но возражений не допускающий: «Это время будет нелёгким, но самым памятным и самым нужным в твоей жизни, за это время ты получишь ответы на все самые важные вопросы, то, что родится в твоём сознании, это станет твоим оружием, с которым ты пойдёшь дальше по жизни и будешь одерживать только победы…»
Мелькнуло там же, на краешке сознания, подобие сомнения: «Сколько там этой жизни осталось, когда уже в пятый десяток въехал…», только спустя миг и от этого сомнения ничего не осталось, зато пришла ровная уверенность, что этой жизни будет обязательно ещё много.
Ещё несколько мгновений прошло и уже безо всякого шепота, самим собой, подумалось: условия нынешней жизни таковы, что очень много у него сейчас свободного времени, и что это время совсем не по делу расходуется, что самый раз теперь заняться тем, до чего раньше руки в суете и хлопотах, не доходили.
На автомате рука под подушкой засаленный блокнот нашарила. Тот самый, дневником быть приговорённый. Под тёмно-синим прямоугольником, в который превратилась недавно записанная фраза, начал набрасывать он перечень нового содержания нынешней своей жизни. Почему-то торопился, потому и не было в этом плане логичной последовательности и мудрой очередности. Пункт «отжиматься утром: три по пятьдесят на кулаках… через две недели увеличить на полтинник…» соседствовал с «выучить «Отче наш», напоминание «заказать английский самоучитель…» стояло перед «записывать каждый день наблюдения и ощущения…», установка «делать дыхательную гимнастику у форточки…» следовала за «перечитать житие протопопа Аввакума…» Ещё много чего неожиданного было в том перечне. Если и не каллиграфическими, но вполне ровными и правильными были на этот раз выводимые им строки.
Ни с того ни с сего вспомнилась недавняя картинка в собственном сознании, состоявшая из кусков невиданных и, вроде как, несуществующих цветов. Восстановить её в памяти уже не получилось, но огорчения по этому поводу не было. Зато было волнение, откуда всё-таки могли взяться краски, которые раньше в природе и в мире никак себя не проявляли. Впрочем, волнение это длилось недолго и сменилось мягким сонным покоем. Глаза при этом он не закрывал, смотрел по-прежнему в сторону стены, крашенной по бутырской традиции в нездорово-бордовый цвет, который бывалые арестанты называли цветом мёртвой печени. Совсем недавно видел он здесь двух своих сыновей. Видел, понимая при этом, что быть их здесь не могло. Сыновей, возможно, и не было, зато по-прежнему присутствовали в поле его зрения и раковина с угрюмыми проплешинами отбитой эмали и край сваренного из уголков стола-дубка.
Было уже желание закрыть глаза, чтобы, если не заснуть, так, по крайней мере, просто не видеть этой постылой панорамы, но взгляд нечаянно ушёл вправо. Туда, где должна стоять двухъярусная койка, по странному капризу мусорской администрации ещё не заселённая арестантами, потому и лишенная матраса и прочих предназначенных для арестантского блага тряпок. Всё правильно! На месте шконарь! Никто не изымал его из тюремного интерьера. Вот он, железный, плохо крашенный, тронутый ржавчиной, с продавленной панцирной сеткой, арестантский шконарь — обязательный компонент убогого интерьера камеры в любом российском СИЗО. Кажется, ничего не изменилось в его облике.
Впрочем, совсем иным был уже этот шконарь. Потому что на втором ярусе, говоря тюремным языком, на пальме, он увидел… ангела. Белого, очень белого, даже неестественно белого, слепящего глаз, цвета.
«Всё-таки рехнулся!» — нашёл он самое близкое объяснение увиденному и поспешно зажмурился, почти уверенный, что, когда откроет глаза, пальма койки напротив будет пустой.
Ошибся! На месте был ангел, ещё и шевелил полусложенными крыльями. Казалось, это движение негромким, но явственным шорохом сопровождается. Показалось, что и голову он поворачивает, будто со снисходительным интересом оглядывает убогий бутырский интерьер.
Почему-то сам себя спросил про того, чьё неожиданное присутствие обнаружил здесь, в бутырской камере: «Он сидел, парил или просто был?» Вместо ответа сам себя обозвал: «Дурак! Сидишь здесь пока только ты сам, а к ангелу такие формулировки вообще нельзя применять, он просто… или есть или нет…»
Ещё раз зажмурился, но уже совсем по другой причине: боялся вспугнуть своим, наверняка безумным в этот момент, взглядом невиданного гостя.
За время, пока не открывал глаз, опять сам себе спросил: какой он, тот, кто появился на пальме койки напротив. Вопрос слишком сложным показался, потому его на более мелкие вопросы попроще пришлось разбить: какого размера ангел, на кого похож лицом, какое оно, само это лицо… Ответов не нашлось, зато появилась чёткая уверенность, что вопросы эти неуместны, соответственно, ответов на них просто быть не может.
Следом и то ли объяснение, то ли понимание появилось: никаких человеческих и прочих привычных параметров у того, кто на верхнем ярусе шконаря появился, быть не может. Потому что… Вроде бы и готовы были появиться в его сознании какие-то правильные слова по этому поводу, но почувствовал, что это — лишнее. Настолько лишнее, что даже захотелось голову в плечи глубже спрятать. Ясно он понимал, что никаких объяснений по поводу всего происходящего не существует, но мозг, скорее по инерции, чем по разумению выдал очередные вопросы очень похожие на утверждения с ничтожными комментариями.
«Знамение?» — это просто слишком. С какой стати? Это ближе к святости и к подвигу, я к этому никаким боком, реалистом быть надо, таких, как я, в стране во все времена многие тысячи…
«Награда?» — вроде как компенсация за нынешние мытарства. Возможно, только кто это подтвердит. Почему, именно мне… Почему, именно сейчас… Почему, именно в таком виде… Опять же, почему мне, когда таких, как я по всем российским централам пруд пруди…
«Аванс?» — а чем такой аванс отрабатывать придётся, как бы не вышло, что потом отдавать не пришлось куда больше, чем получаешь. Хотя… Разве можно здесь, в этой необычной ситуации что-то измерять обычными мерками и понятиями. Да и кто здесь будет возиться с линейками и весами…
Велико было желание открыть глаза, он и не стал противиться. Правда, схитрил: глаза открыл не полностью, оставил их прищуренными, когда со стороны полная уверенность — закрыты глаза у человека, но из-за опущенных ресниц ему всё видно. Он и увидел: на месте ангел, только своего необычного белого цвета прибавил. Теперь этот цвет настолько ярок был, что совсем мешал ещё раз разглядеть детали облика гостя. Собственно, цвета уже и не было вовсе, вместо него был только свет. Оказалось, что очень вовремя прищурил он глаза, иначе было бы им больно от этого света. И не было сомнения: погасни в этот момент единственная светившаяся едким тюремным светом лампа под потолком камеры, всё равно было бы здесь светло, хоть книгу читай.
Сами собой плотнее зажмурились глаза, но теперь было ясно; если их открыть никакого ангела на пальме шконаря уже не будет. Ясность — ясностью, но краешек надежды оставался: вдруг ещё побудет здесь белый светящийся гость. Ясность сильнее надежды оказалась. Когда глаза открыл, пустым увидел верхний ярус койки напротив. Всё, как и прежде: и плохо крашенные тронутые ржавчиной железяки главного предмета арестантской мебели, и продавленная панцирная сетка — всё на месте. Только источника необычного, очень белого, почти слепящего, света не было. Источника света уже не было, но сам свет ещё оставался. Сначала он полностью повторял своими искрящимися границами контуры фигуры недавнего гостя, потом стал уменьшаться в размерах, наконец, скукожился в пятно размером в кулак. Потом и пятно растаяло. Пятно пропало, но уверенности не убавилось: на этом месте совсем недавно был свет, источником света был… ангел. Как, зачем и почему появился он на пальме шконаря в бутырской камере, думать не хотелось. Но уверенность была, что так было надо.
Будто в подтверждение последней уверенности музыка появилась. Именно не зазвучала, а появилась, будто осязаемой плотью и объёмом обладала. Удивительно, не в его голове, не в его сознании она родилась, а появилась откуда-то со стороны, чуть ли не от окна с двойными решётками, из которого, кроме куска кирпичной кладки стены напротив ничего не видно. Очень торжественной, не по-земному величественной, была эта музыка. Увертюра, гимн и марш — всё вместе, если обычными стандартами жанр определять. Только совсем не угадывалось в ней привычных музыкальных инструментов, даже обычных звуков там не было. Всё это заменялось другим, чем-то куда более серьёзным и высоким.
«Ну вот, вслед за нездешними красками, такие же звуки пожаловали…» Хотел было опять схватиться за спасительный, всё объясняющий ярлык «Всё-таки рехнулся…», да всплыла не менее знакомая жёсткая формулировка «Не наш путь!». И как то очень чётко своё место в сознании заняла. Аккурат, рядом с ясным, уже отстоявшимся, воспоминанием о том, кто появился и явственно присутствовал недавно на втором ярусе арестантского шконаря напротив.
Серебряные стрелки, хрустальный циферблат
Когда-то понятие «время» для Олега Пронина ассоциировалось с календарём, часами разных видов, словами «год», «месяц», «неделя», «выходной», «праздник».
Но это — до посадки. До того момента, как он из свободы то ли шагнул, то ли, поскользнувшись, со всего маху плюхнулся в несвободу.
Вот уж, действительно: от сумы, от тюрьмы…
Следовал дальнобойщик Пронин на своей гружёной фуре по казённому делу, на полпути до пункта назначения, на стоянке, трое шустрых крепеньких пареньков подвалило: «Куда, откуда, что везёшь, платить надо…».
Иногда в подобных ситуациях и отстёгивал, платил Олег, рассуждая, что время нынче такое… А тут… Нервы сдали. Потому как тяжело отходил после недавнего развода (загуляла жена — медсестра с новым хирургом в своей больнице). Да и на работе с начальством накануне крепко поцапался (пытался выяснить, почему одним и командировки выгодные, и машины хорошие, а другим — рейсы копеечные и запчастей на фуру не дождёшься). Будто взорвался. Буром на троих пошёл. «Платить? С какой стати?»…
Был у Олега с собой нож обычный дорожный. На случай колбаски порезать или контакты зачистить.
Один раз только и ударил. Оказалось — очень правильно с анатомической точки зрения. Аккурат, в сердце. Рэкетир — ничком на землю. Дружки — ноги в руки. Олег с трупом на стоянке среди ночи оказался. Сам в «скорую» позвонил (сгоряча, понятно, что незачем), сам полицейских вызвал (те лишь к утру приехали и только сверхточному удару удивлялись).
Вот с этого момента всё, что ранее имело отношение к понятию «время» из его сознания исчезло. Исчезло, и — окончательно…
До этого там всё, как на школьной доске ясным почерком отличницы написано было, а теперь — р-р-раз, будто взметнула мокрые космы тряпка, и… вместо слов и предложений, образов и смыслов на эту тему — только влажный пустой линолеум. В этом линолеуме что-то отражается, но это «что-то» никакого отношения к ранее написанному не имеет. Словно ничего написанного там и вовсе никогда не было.
Что со временем всё совсем не так уже в подмосковном изоляторе, где Олег в качестве подследственного находился, стало ясно.
Оказалось, что наручные часы здесь иметь нельзя. Те, кто важно величал себя представителями администрации (они же — те, кого постояльцы изолятора называли «мусорами»), однозначно бурчали по этому поводу — «не положено…».
У арестантов со стажем по этому поводу свои объяснения были. Якобы, есть специальное «мусорское» предписание, строго запрещающее сидельцам тюремных изоляторов иметь часы. Потому что циферблат там прикрыт стеклом. Вдруг иной отчаянный это стекло разобьёт, и его осколками себе вены вскроет…
Вроде бы как логика. Вроде бы как забота о жизни человеческой.
Только никто из постояльцев изолятора всерьёз подобный аргумент не принимал. Ведь те же бритвенные станки, из которых лезвие вытащить проще простого, в тюрьме иметь не возбранялось, и прочих режущих и просто острых предметов в любой хате[1] хватало.
Так что для желающих вскрыть себе вены в изоляторе проблем с «инструментом» не было.
Да и не сходился свет клином на этих самых венах для решившегося покончить здесь счёты с жизнью. Вариантов «ухода» хватало. По беспроволочному, но всюду проникающему арестантскому телеграфу, регулярно передавалось: Этажом выше парень на «дальняке»[2] за повешенной клеёнкой на «коне»[3] удавился, в другом корпусе бедолага на нижнем ярусе двухэтажной шконки[4] занавесился[5] с двух сторон, приладил рубаху к «пальме»[6], и… туда же… В соседней камере какой-то «наркоша»[7] съел горсть «колёс»[8], заснул и не проснулся…
На таком фоне запрет на наручные часы казался глупостью беспросветной. Только факт оставался фактом — часов здесь ни у кого не было, и быть не могло.
В тюрьме «который час» можно спросить у продольного[9], что призван круглые сутки по коридору ходить и через «глазки» во все камеры заглядывать: вдруг арестанты что-то неположенное затевают. Этой возможностью Олег поначалу пользовался.
Сначала пользовался, а потом перестал, потому как вышел однажды конфуз, едва не обернувшийся тяжёлыми последствиями.
Раз спросил Олег у продольного про время, через пару часов снова на ту же тему поинтересовался. А продольный — здоровенный прапорщик с лицом, будто свекольным соком натёртым, взял, да и проявил бдительное рвение — накатал рапорт про подозрительное, его Олегово, поведение. В том же рапорте автор до вывода додумался: если арестант так настырно интересуется, который час — значит, с помощью находящихся на свободе сообщников, непременно готовится к побегу. Соответственно, реализацию подобного умысла надо пресечь, а за интересующимся временем постояльцем — глаз да глаз.
Разумеется, вызывали Олега к «куму»[10]. Понятно, написал Олег объяснительную на имя начальника изолятора, в которой заверял, что временем он интересовался исключительно по оставшейся с воли привычке, и никаких планов о побеге не вынашивал.
Уже потом, в зоне, Олег понял, что только чудом не обернулась для него та ситуация «полосой»[11] и особой отметкой в личном деле — «склонность к побегу».
С такой отметкой в лагере строгого режима, где жизнь и без того не сахар, проблем прибавилось бы: назойливое внимание оперчасти, регулярные проверки — лишнее беспокойство, лишнее унижение.
В принципе, часы в тюрьме арестанту и не нужны. Потому что хлопоты на тему «куда спешить, куда опоздать» здесь исключение. Завтрак, обед, ужин — привезут. На встречу со следователем, с адвокатом (редкая роскошь для небогатых, в основном, постояльцев), с родственниками (если таковые есть, и если свидание с ними разрешил следователь) — позовут. Грохот открываемого «кормяка»[12] здесь сродни ударам курантов. Потому как через этот «кормяк» вся информация и поступает. И про привезённую казённую пищу. И про всякое грядущее перемещение арестанта по тюремному пространству.
Ещё один аргумент обоснования ненужности часов в тюрьме — почти отсутствующая разница между заведённым здесь дневным и ночным распорядком жизни.
Что день — что ночь! В общей хате — всё едино: горит свет, работает телевизор (если таковой имеется), стоит ровный гул арестантского быта (кто-то стирает, кто-то разговаривает, кто-то чифирит). Порою «движухи»[13] ночью даже больше, чем днём. Потому как ночью и «дорога»[14] работает, по ней грузы[15] разгоняются, малявы[16] гуляют, а то и прогон[17] грянет, который полагается сразу же вслух для всей хаты зачитать.
В тюрьме не только день с ночью, но и будние дни с выходными, рабочие дни с праздниками спутать запросто.
Потому что ничем, абсолютно ничем друг от друга эти дни не отличаются. Всё одним цветом. Всё с одним запахом. Всё в одну заунывную череду. Вот и казалось Олегу тогда, что никакого времени там не было, не присутствовало, не существовало. Соответственно, никаких часов, никаких циферблатов со стрелками даже представить не получалось. Зато часто казалось, что где-то рядом качался маятник, тяжёлый, как язык церковного колокола, и этот маятник без конца повторял: «твой срок…», «твой срок…», «твой… срок…».
Много раз от бывалых, от уже сидевших слышал Олег не без бравады произносимое: «Скорей бы суд, да в зону! На зоне движухи больше, там время летит…».
Дождался и он суда, лихо отвесившего ему шесть лет строгого режима. Мог бы и больше, но мог бы и меньше, потому как на суде там про нож в руке Олега через слово повторялось, а про обрезки арматуры (гранёная «шестёрочка», легко любую кость ломающая) в руках у каждого рэкетёра никто и не вспомнил.
Добрался он и до зоны.
Верно, и пространства, и воздуха здесь было больше, и какое-то, почти свободное, перемещение (барак — столовая — промка[18]) допускалось, только ощущение времени к норме не вернулось. И это несмотря на то, что часы носить здесь не запрещалось.
В первой же посылке получил Олег Пронин наручные часы. Не электронные (на зоне с батарейками лишняя морока), а, как он и просил, механические, почти уже старинные, советские, знаменитые своим качеством (жена специально на ближайшей барахолке всех старьёвщиков обошла). Застегнул утром ремешок на запястье почти с удовольствием, а к вечеру обнаружил с вялым удивлением, что на циферблат за это время ни разу и не взглянул. Вроде, как и повода не было.
На проверку — скомандовали.
Про завтрак и обед — напомнили.
На работу машинально за соседями потянулся.
Выходило, что и на зоне часы не нужны.
Кстати, висели в бараке на стене большие круглые с узорчатыми стрелками часы, но и на них редко кто взглядом останавливался. Зачем? Про подъём дневальный проорёт, ещё хуже кто из «мусоров» заявится, да на весь барак просамогоненной глоткой грянет. Про обед, ужин, всякие построения — опять же кто-то из отрядных «козлов»[19] непременно озвучит. В этом их предназначение и заключается, ради этого к своей голове они «рога» до конца срока (точнее, на всю оставшуюся жизнь) и навинчивают[20].
Не вернулось в зоне и ощущение разницы «выходной — невыходной», «будни — праздники». Это потому, что на промку выходили здесь арестанты по скользящему, или, как они сами говорили, вечному графику: четыре дня во вторую смену — выходной, четыре дня в третью смену, то есть в ночь, и опять тот же выходной. И никаких понедельников-вторников, суббот-воскресений. Опять, как в тюрьме, вместо времени — та же самая сплошная монотонная и одноцветная тягомотина.
Конечно, существовала в лагерной жизни пара примет-признаков, по которым одни дни недели чуть отличались от всех прочих.
В среду каждому арестанту полагалась котлетка, диаметром аккурат в пятачок советской чеканки, в которой сои было куда больше, чем мяса.
В субботу на ужин давали варёное яйцо почти такого же размера и кусочек жареной рыбы неведомой породы.
Только кулинарные особенности не становились здесь признаками времени. Они как-то размазывались по всему прочему вневременному, на этом фоне блекли, выветривались, а то и вовсе сливались с тем же самым сплошным и монотонным, что без цвета и запаха.
Выходило, что и здесь, в лагере, не было никакого времени, а то, что должно было хотя бы отдалённо напоминать время, ассоциировалось ни с циферблатом и стрелками, а с грандиозными, изрядно стёртыми веками, медленно вращающимися жерновами. Такие Олег видел в краеведческом музее глухого северного городка, куда забрёл ради скуки, дожидаясь попутного груза в очередной своей дальнобойной командировке. Что-то похожее видел он и в каком-то чужеязыком фильме про средневековье. Только реальные, пусть киношные, мельничные жернова, перемалывали зерно, умножая тем самым его, и без того великую жизненную силу. Условные же, лагерные, жернова перемалывали арестантские жизни. Результатом этой работы был не белый, ласкающий глаз мучной ручеёк — символ сытости и плодородия, а чёрная труха переломанных арестантских судеб.
На втором лагерном году (третий год общего срока, первый год на изолятор и этапы ушёл) ощущение отсутствия времени для Олега только укрепилось. Правда, картина с жерновами отодвинулась, стала забываться. Вместо неё другой образ в сознании заворочался. Не сам его Олег придумал-выдумал. Просто вспомнил некогда увиденную в журнале репродукцию какого-то художника — то ли продвинутого, то ли не совсем с головой дружившего. На той картине тема времени присутствовала, соответственно, и часы присутствовали. Только в очень странном виде. Циферблат весь искорёженный, сплющенный, погнутый. Или адским огнём наказанный, или в кислоте побывавший. Стрелок на тех часах, кажется, и вовсе не было. То есть, часы — вот они, в наличии, а время или замерло, или куда-то в сторону идёт. Не раз эту репродукцию Олег вспоминал и только удивлялся, как точно иностранный художник суть момента ухватил, будто сам на российской зоне не меньше трёшки отмотал.
На фоне такого настроения, таких декораций и календари, как таковые, (не важно — настенные, крупные, либо карманные, размером с пачку сигарет) выглядели здесь чем-то лишним, потусторонним, а то и откровенно раздражающим. Какой прок шарить взглядом по чёрным рабочим дням и красным праздникам — выходным, когда график твоей жизни с этим решительно ничего общего не имеет («четыре дня в первую», «четыре дня во вторую» и т. д.).
Впрочем, разночтение «выходной-невыходной» — это пустяк. Календари в зоне имели куда более серьёзное, точнее, жуткое предназначение — напоминали о практической неподвижности срока, определённого приговором, подчёркивали ничтожность арестантской жизни и самой личности арестанта по сравнению с махиной этого срока.
Особенно болезненно это было для тех, у кого лагерный стаж только начинался. В дрожь бросало при одной попытке сопоставить срок, приговором определённый, с количеством прожитых лет. Для иного тяжеловеса[21] совсем мрачная арифметика складывалась: приплюсует годы, которые ещё предстоит отсидеть к тому, что уже прожито, и… полученная сумма меркнет и съёживается по сравнению со всем известной средне статистической нормой продолжительности жизни мужчины в России.
Не легче было и тем, у кого срок заканчивался. Порою приближение, кажется, долгожданной свободы вовсе не бодрило, не разворачивало крылья за спиной, а только давило, норовя вовсе расплющить. Потому что для многих так было: чем ближе освобождение, тем больше пугал тот мир, из которого арестант надолго выпал, в котором он был уже никому не нужен, а лишь всех настораживал, всем мешал. Мало кто в этом признавался даже самому себе, только причём тут было это признание?
Это, похоже, как на суде: признал ты вину, или не признал, раскаивался слёзно на допросах или угрюмо отмалчивался — у судьи и у тех, кто за ним стоит, — всё заранее определено. И приговор, и срок, и соответствующие слова в бумагах, с которыми ты по этапу и по всей дальнейшей жизни будешь двигаться.
Когда к экватору, к своей половине срок стал приближаться, появилась у Олега потребность думать о том, что же всё-таки здесь со временем происходит? По-прежнему присутствовало гулкое ощущение, будто никакого времени здесь вовсе нет. Потому что время — это то, что меняется, что движется. Что само меняется, само движется и меняет, передаёт движение всему, с чем соприкасается. А здесь, в лагере, — ни перемен, ни движения. Нет движения, нет перемен — значит, и времени нет.
Только, если так, как же всё остальное — жизнь человеческая, история государственная, и всё, что образованные люди и хитрые политики прогрессом называют?
Что-то здесь не так, что-то здесь не то.
Читал когда-то Олег про какие-то чёрные дыры, что в мире, якобы существуют, где всё вроде бы как обычно, а на самом деле всё в другом измерении, в котором время другое, и чуть ли не в обратную сторону движется.
Разве похожа российская зона строгого режима XXI века на эту самую чёрную дыру? Да и кто знает, как она выглядит, эта самая чёрная дыра?
Думал об этом арестант Пронин много, но своими мыслями ни с кем не делился.
Знал точно, с подобными догадками, сомнениями и выводами на зоне лихо можно было в категорию ненормальных угодить, о ком с едкой издёвкой говорили: «Да у него гуси полетели!». А с этим ярлыком здесь строго — стоит только раз повод дать, чтобы окружающие так сказали-подумали, и до конца срока не отмыться, не оправдаться. Больше того, это тавро и на воле тебя сопровождать будет. Так что один на один сам с собой переваривал Олег свои пространственно-временные наблюдения и выводы. Сначала своих мыслей пугался, потом приладился, всё по полочкам расставил, все причины-выводы по местам разложил. Какая-то система в итоге сложилась.
Наконец, и главный на тот момент вывод подоспел.
Что-то похожее он раньше ещё в подмосковном изоляторе, от старых, правильных арестантов слышал. Тогда он чужим откровениям значения не придал. Теперь сам до похожего вывода дошёл.
А вывод серьёзный: для порядочного, думающего арестанта — время, ушедшее на тюрьму, лагерь не вычитается из количества, отведённых судьбой и Богом лет, а приплюсовывается к ним. Отбытый срок просто раздвигает, удлиняет человеческую жизнь.
Дерзкий, неожиданный вывод. Скажем, написано по Судьбе человеку шестьдесят лет прожить, а он уже в зрелом возрасте по мусорскому беспределу или по бытовой нелепице выхватывает себе пятерик[22], который с честью, ничем себя не запятнав, отбывает. После этого откуда-то сверху Судьба человека корректируется — вместо первоначально предписанных шестидесяти лет он уже шестьдесят пять проживает. Непременно и обязательно.
У самого Олега с арестантской репутацией всё в порядке было. Весь срок в мужиках[23], на общее выделял[24] регулярно, ни в чём сомнительном не замечен. Вроде как, следуя им же самим открытой логике, имел Олег Пронин все шансы на продление своей земной жизни на срок, неволей зажёванный. Тем не менее, когда время возможного УДО[25] подошло, то и он соответствующее заявление написал.
Шутка ли — на два года раньше вернуться в жизнь, которая к тому моменту уже не реальностью представлялась, а чем-то сказочно-заоблачным? Разумеется, и какие-то планы на эту будущую большую жизнь выстраиваться начали.
Планировал, мечтал, да не сложилось…
К тому времени, когда УДО для Олега подоспело, уже существовал в лагере неписанный, никем не провозглашённый, но строго соблюдаемый, чисто коммерческий подход к любому случаю возможного досрочного ухода арестанта на свободу. Подход однозначный, вариантов не допускающий — УДО только за деньги. Схемы «заноса» денег с воли были разные: через «хозяина»[26] и прочих высоких лагерных начальников, через суд, который формально всё и решал, через местную прокуратуру, мнение которой, согласно Закона, должно быть обязательно учтено, просто через каких-то знакомых, что доводились знакомыми тем, кто в силу своих полномочий был способен решать этот вопрос. Не важно «как» — важно «сколько». И это «сколько» составляло от трёх до пяти тысяч рублей за каждый недосиженный месяц. Даже по самому минимуму набегало столько, сколько ничего общего с доходами (главный из них — нищая нынешняя российская пенсия дожидавшейся Олега старухи матери) не имело. Знал обо всем этом арестант Пронин, и всё-таки рискнул (вдруг, чудо?), подал заявление и прочие необходимые документы на УДО. Соответственно, не очень удивился, когда на суде, призванном подобные заявления рассматривать, и проходившем прямо в здании лагерной администрации зоны, услышал скороговоркой произнесённое кем-то из нелагерных начальников (то ли судьёй, то ли прокурором), невнятное по звучанию, но исчерпывающее по смыслу: «Пронин? Что-то у тебя поощрений маловато, и в актив ты не вступил. Не получится…».
Не удивился, совсем не удивился Олег результату суда, только всё равно почувствовал в тот момент и медный привкус во рту, и выхлоп жара в лицо, и ещё что-то, что нормальный человек непременно испытывает во время унижения, в момент внезапного хамского оскорбления.
Конечно, сокрушённо и растерянно произнёс внутри неведомый голос — «Значит, ещё два года…». Конечно, заскрипели где-то рядом уже почти забытые, замшелые безжалостные жернова, с которыми когда-то ассоциировалось в лагере понятие «время». Только всё это как-то ненадолго, мельком, невсерьёз.
Ровным сном правильного арестанта спал в ту ночь Олег Пронин, а наутро всё, что произошло накануне в суде, казалось уже далёким и совсем безболезненным. В традиционном утреннем внутреннем разговоре (завёл такое правило Олег в последнее время) не успокаивал он себя, а спокойно и размерено объяснял опять же сам себе: «Два года — это всего навсего двадцать четыре месяца… По сравнению с сорока восемью уже отсиженными — пустяк… Главное — не расслабляться, и из этого времени максимальную пользу извлечь: побольше умных книг прочитать, вот бы ещё курить бросить, да здоровья поднабрать, на турник и брусья в локалке[27] надо не только каждое утро, но и каждый вечер выходить…».
Опять высветилась в сознании давно прежними арестантами обнаруженная и заново им, Олегом Прониным, открытая истина про срок, что не сокращает, а продлевает жизнь человеческую ровно на столько, сколько срок длится. Разумеется, при строгом условии непременной правильности этой самой жизни.
Тогда же поймал себя Олег на совершенно новом и очень важном ощущении. Опять на тему времени. Оказывается, это самое время даже в условиях несвободы, всё-таки существует. И не просто существует, а живёт своей, вполне конкретной жизнью, при этом перемещается, течёт, движется. Верно, не так быстро, как хотелось бы, особенно здесь, но движется! Налицо приметы этого движения. Вот уже до половины заполнена выписками из серьёзных книг общая тетрадь. А книги — эти те, которые он уже здесь, в лагере, прочитал. Да что там, в лагере… До лагеря Олег вовсе не читал, как-то не тянуло, не было потребности, всё больше кино, да телеящик, а тут… покатило, только удивлялся, почему до этого столько времени даром пропадало.
И ещё много, очень со стороны странных и очень-очень личных признаков движения этого времени обнаружилось. Например, начал в лагере Олег зарядку делать, вначале три раза едва-едва на турнике подтягивался, а сейчас — десять раз и легко. Ровно столько же раз подтягивался он, когда служил срочную, а с тех пор почти двадцать лет минуло.
Следом — очередное, внутреннее, глубоко личное то ли открытие, то ли откровение грянуло. Его Олег мог вполне чётко и понятно сформулировать, хоть сейчас учеников в круг рассаживай и записывать заставляй. Оказывается, в какой бы ситуации человек не находился, и как бы худо ему при этом не было — никогда не надо торопить, пришпоривать время. Потому как время — это твоя жизнь, которая, сколько бы она не длилась, — всё равно коротка, и которая пролетает так быстро, что только горевать, да сожалеть остаётся.
В начале последнего года срока щелкнул неведомый тумблер где-то внутри Олега Пронина, и пришло к нему собственное персональное ощущение времени. В чём-то немного прошлое, «допосадочное» а, в основном, совершенно иное, новое, никаких аналогов со всеми его прежними ощущениями во все пережитые им годы не имевшее.
И это время ассоциировалось с часами.
Необычайными были те часы. Ничего похожего Олег ни в кино, ни на картинах, ни в снах своих, даже детских, акварельных и сказочных, никогда не видел.
Имели те часы хрустальный гранёный циферблат, мерцающий разноцветными тонкими иглами и причудливой формы тронутые благородной патиной серебряные стрелки.
При каждом внутреннем взгляде на эти диковинные часы, какое бы положение не занимали те стрелки на том циферблате, на душе становилось спокойно и правильно. Это ощущение только усиливалось, когда следом приходила уверенность, что эти часы, несмотря на ажурность стрелок и хрупкость циферблата, никому не сломать, не разбить, и что этим часам отныне вечно сопровождать владельца по жизни, какими бы каверзами та не обернулась.
И про это открытие никому не рассказывал Олег Пронин. Даже не потому, что кто-то мог сказать: «Да у него гуси полетели…». Просто не допускал, чтобы кто-то чужой касался своими руками с нечистыми ногтями до этого циферблата, до этих стрелок.
Зато сам вспоминал о них часто. Порою в самые неожиданные моменты.
Вспоминал молча, но догадаться об этом было несложно. Выдавала лёгкая, чуть рассеянная, немного чудаковатая улыбка, появлявшаяся в тот момент на его лице. Да и само лицо тогда становилось другим — светлело, будто кто-то особым фонариком его изнутри подсвечивал.
Как дед Калинин детским писателем стал
Было Сергею Дмитриевичу Калинину уже пятьдесят с хвостиком, когда привёз он в зону по беспределу полученный червонец. За жмура. Которого не убивал. Даже в глаза никогда не видел. Ни мёртвым, ни живым.
Так в Отечестве нашем бывает. Потому что у Фемиды российской нынче глаза не то, чтобы тряпочкой стыдливо прикрыты — скотчем наглухо заклеены. Вместе с ушами. Зато на одеянии громадные карманы нашиты. Для рублей, долларов и прочих подношений. И в руках не весы, чтобы чью-то вину взвешивать, а калькулятор с уже стертыми клавишами, чтобы размер этих подношений определять.
По всем правилам предстояло ему со своей десяткой в зоне и остаться. Навсегда остаться. Потому как не для зоны этот возраст. То ли наши зоны на стариков не рассчитаны, то ли наши старики для них не предназначены. Короче, очень быстро умирают здесь старики. Он — выжил! Выжил только потому, что очень хотел рассказать на воле про то, что в неволе творится. Пафосно звучит, только никакого пафоса в его личных особенностях стремления к свободе не было. Каждый в неволе имеет цель, ради которой отсюда поскорее выбраться желает. Мало кто про это вслух говорит, некоторые в этом даже сами себе не признаются, но у любого арестанта такая цель присутствует. На автомате, на уровне инстинкта, чуть ли не у зверей позаимствованного. Кому не терпится к жене и семье вернуться. Кому позарез надо с теми, кто его посадил, поквитаться. Кто просто хочет как можно скорее эту самую волю с её бабами, с хорошей жратвой, с водкой, а, то и с кайфом наркотическим потусторонним, получить. Получить в неограниченном количестве и через край, фыркая и захлёбываясь, хлебать.
Впрочем, все эти философские выводы и логические обоснования сейчас, спустя три месяца, как по звонку расстался Сергей Дмитриевич с лагерем, для него и не важны были. Сейчас его только одно интересовало, как реально исполнить то, о чём он все десять лагерных лет думал и мечтал. Для этого только и требовалось, что подборку рассказов про житьё-бытьё в зоне в какое-нибудь издательство пристроить.
Эти рассказы ещё в пору неволи написаны были. Раньше никогда Калинин писательством не занимался, но образование высшее имел, литературу художественную читал и любил, так что особых трудностей, чтобы всё виденное и пережитое запечатлеть не испытал. Куда сложнее было свои творческие опыты в зоне сохранить. Для этого свои откровения он с хитринкой под ходатайства по своей делюге маскировал. Так делал: в первых строчках писал, что обращается в Верховную Прокуратуру с просьбой разобраться с его насквозь несправедливым приговором, а дальше, со второй или с третьей строки, уже следовал текст про нравы в зоне, про какую-нибудь лагерную историю, чью-нибудь судьбу в деталях и подробностях. К тому же всё сплошняком писал, без разбивки даже на слова, не говоря уже про абзацы и предложения. Не раз эти бумаги мусорам на шмонах в руки попадали — сходило! Благо, среди них грамотные и догадливые — великая редкость.
На воле только и осталось, что в этих черновиках разобраться, один рассказ от другого отделить, кое-что по стилю поправить, на компьютере набрать. На всё это первые три месяца свободы и ушли, а дальше… Дальше началось то, к чему он с учётом всего своего жизненного, включая бесценный тюремно-лагерный, опыта совсем не готов был.
В первом издательстве его дамочка встретила. Внимательная, показалось, даже неглупая, настолько её вопросы в тему приходились. Правда, не по возрасту коротка юбка на ней была, да и макияж опять по той же причине ярковат был. Только стоило ли на эти мелочи внимание обращать? Ведь за десять лет жизнь на воле вперёд идёт, а не на месте, как в зоне топчется. Потому и мода, привычки, манеры — всё меняется и то, что человеку, десять лет на воле отсутствовавшему, кажется странным, на самом деле — вещь естественная и заурядная…
Чутко дамочка Сергея Дмитриевича выслушала, вопросами своими только помогала. И рукопись, и флешку со всеми рассказами попросила оставить, обещала через пару дней позвонить. Со звонком не обманула, но ничем конкретным не обрадовала, только попросила:
— Дайте мне, пожалуйста, ещё неделю… Читаю внимательно… И проконсультироваться надо… С людьми серьёзными встретиться хочу…
Тогда таинственным её голос Калинину показался. А ещё ему показалось, что от этой таинственности счастливой надеждой повеяло.
Через неделю дамочка, действительно, позвонила, время встречи назначила. Почему-то встретиться предложила не в издательстве, а в кафе ближайшем. Последнее Калинина совсем не обрадовало. В голове сразу несложная схема отстроилась: два кофе — это рублей пятьсот, минимум, четыреста, если ещё колы или фанты ей захочется или, не дай Бог, пирожное пожелает — за тысячу перевалит…
Ни скрягой, ни жлобом он не был. Просто для вчерашнего, тем более, ныне нетрудоустроенного, зека тысяча рублей — серьёзная сумма, степень её серьёзности оценить может только отсидевший, на которого воля спустя десять лет обрушилась.
«Бюджетные» опасения Сергея Дмитриевича напрасными оказались. За оба кофе дамочка сама расплатилась, накануне его попытку потянуться к карману жестко пресекла:
— Сегодня я угощаю… Вы будете угощать, когда гонорар за свою книгу получите…
И короткий пальчик с хищным маникюром решительно вверх воздела.
От услышанного Калинина теплой волной обдало, в голове в бешеном ритме застучали и запрыгали междометия всякие, а между ними, будто наугад набросанные слова: «издадут», «книжка будет», «книжка», «издадут»…
А дамочка продолжала. Негромко, вкрадчиво:
— У вашей рукописи очень хорошие перспективы… Тема вполне социальная… Язык правильный, сочный… Наблюдения ценные… Проблемы затронуты важные… Но, главное, конечно, социальное звучание… Такая книга, безусловно, явлением будет… Очень может быть, что даже предложения от иностранных издательств последуют… Ну а там гонорары в валюте, на конференции международные приглашать будут… Вы уж тогда не задавайтесь, не забывайте, кто Вас первым на щит поднял…
Чуть-чуть кокетливо последнее предложение прозвучало, и от этого внутри ещё теплей стало. Теперь Сергею Дмитриевичу очень хотелось себя ущипнуть или губу до крови прикусить, а в висках не застучало, а откровенно забухало, как в колокол, торжественно и раскатисто: «Из-да-дут», «Из-да-дут»…
Поймал он сам себя в этот миг на ощущении, что расплывается его лицо в откровенно глуповатой улыбке.
Тут же в качестве иллюстраций для образовавшегося настроения в сознании кадры хроники ближайшего возможного будущего замелькали. Сначала: вот он, Сергей Дмитриевич Калинин в ведомости расписывается, после чего какие-то солидные люди ему руку жмут и пухлый конверт вручают, а в конверте или зелёненькие заветные доллары или пёстренькие не менее заветные евро. Деньги, возможно, и разные, а пахнут одинаково — свободой и благополучием. Потом — опять же, он, Сергей Калинин. Да не в пиджаке, а в смокинге по ступенькам в ковровой дорожке поднимается к президиуму, из-за которого кто-то ещё более солидный опять ему руку трясёт, что-то не по-русски говорит и какую-то статуэтку вручает, статуэтка тяжёлая как гантель и такая блестящая, что не понять, кого она изображает. И ещё: снова он, вчерашний зек, дед Калинин, как его в последнем лагере звали, снова в смокинг упакованный среди массы нарядных и очень торжественных людей, из которых половина — шикарные женщины в платьях с голыми спинами. И все опять за ручку ним, как будто поздравляют с чем-то очень значительным.
На фоне подобных картинок все последующие произнесённые дамочкой слова как-то тихо прозвучали:
— Повторяю, у Вашей книги очень хорошие перспективы, однако есть некоторые насущные требования, которые необходимо учесть, иначе проект просто не состоится… Сейчас все издательства в бедственном положении… Денег попросту нет… Выживают, кто как может… В основном за счёт спонсоров… Вот у Вас есть спонсор?
Ответ на этот вопрос, похоже, был просто написан на лице Калинина, потому и собеседница, обойдясь без паузы, продолжала:
— Вот именно… Со спонсорами у всех проблема… Сегодня состояние общества таково, что никому не хочется в издательское дело вкладываться… Тем не менее, ни одна книга без начальных вложений не может быть издана… Представляете, расходы на редактуру, корректуру, верстку, полиграфию… Никто оплату и на транспорт, на склады не отменял… А сколько с нас магазины дерут только за то, чтобы наши книги принять и выставить… По большому счёту, сейчас ни одна книга без предоплаты не издаётся…
Ничего из услышанного Сергей Дмитриевич ещё не переварил, но по тому, как засосало под ложечкой понял, что того гляди случится что-то недоброе. Наверное, предчувствие чётко отпечаталось на его лице. Да так резко, что дамочка заторопилась упредить:
— Не волнуйтесь, с Вас за издание никто денег не требует… Мы понимаем, откуда у вчерашнего арестанта деньги? У нас для Вас совсем другой вариант… Деньги мы сами найдём… Эти деньги мы у тюремного ведомства возьмём… Я по личным каналам узнала, у них в бюджете серьёзные суммы на формирование положительного имиджа предусмотрены… Уже первый этап переговоров прошёл… Там, кажется, очень заинтересованы… И рукопись вашу я показывала…
Ну, понятно, там такие люди работают, что читать не сильно приучены, но общее понимание есть… К тому же сейчас, так случилось, что время на нас работает… Вы же слышали, у них там в ведомстве ЧП — часть начальников под суд попали: взятки, откаты и всякие там коррупционные штуки… Им сейчас самое время имиджем заниматься, репутацию в глазах общества поправлять… И тут — проект с вашей книгой… Всё вовремя, всё по делу… Конечно, предисловие от какого-нибудь руководителя из их ведомства потребуется… С фотографией, чтобы в форме, с погонами, со всеми своими значками… Они в фуражках очень любят фотографироваться… Конечно, дурной тон, но мы им разрешим, главное, чтобы проект состоялся, чтобы книга вышла… В предисловии положено автора представить, это Вам — плюс, ну, пусть и они свою работу покажут, похвалятся, что число побегов сократилось, воспитательная работа разворачивается, зеки на путь исправления становятся… Для них сейчас это очень актуально… Конечно, писать они не умеют, но Вы не волнуйтесь, Вам за них писать не придётся… У нас в издательстве своя пиарщица есть, всё сделает…
Калинину душно стало. Это, несмотря на то, что в кафе на полную мощь кондиционер работал. Ещё ему очень пить захотелось. Пожалел он, что свой кофе в два глотка выпил, с тоской посмотрел на вазочку, в которой в воде какой-то цветок красовался, зацепился завистливым взглядом за соседний стол, где какие-то молодые люди разноцветную шипучку по бокалам расплескивали. Что-то ещё хотел взглядом в окружающей обстановке нашарить. Нервно шарил. Будто ему это что-то сейчас могло помочь. Ничего не нашарил. Облизнул пересохшие губы, хотел что-то сказать, только не получилось ни одного слова произнести. Почти с ужасом понял и другое: сказать ему в этот самый момент решительно нечего, потому как там, где положено рождаться и храниться мыслям, там, где минуту назад раскатисто ухало волшебное слово «из-да-дут», теперь было совсем пусто.
Не догадывалась ни о чём подобном собеседница Сергея Дмитриевича, потому и продолжала с той же вкрадчивостью и доверительностью:
— В целом все вопросы по вашей книге с представителем тюремного ведомства я обговорила. Трудные были переговоры… Ничего… Мы свою линию провели в целом… Кажется, всё нормально должно быть… Только Вы в одном пустяке помогите… Чтобы эти полковники с нами, с издательством окончательно по рукам ударили, этот сборник Ваш ещё одним рассказом дополнить надо… Пусть он коротким, совсем маленьким будет… Но чтобы там в сюжете обязательно такой поворот был: как арестант, возможно, рецидивист даже, благодаря кропотливой работе сотрудников администрации встал на путь исправления, порвал, так сказать, с прошлым, получил заслуженное УДО и, вообще, начал вести честную жизнь… Вы же напишите? Вам же нетрудно? Вы же постараетесь ради того, чтобы книга состоялась?
Снова ухнул в голове Калинина колокол. На этот раз тревожно, почти набатисто. Одно только слово выдал, как приговор безжалостное: «НЕ ИЗ-ДА-ДУТ!»
В этот момент лицо Сергея Николаевича приняло совершенно не свойственное человеческим лицам выражение, потому дамочка на очень решительный шаг отважилась: своей сухой и горячей ладошкой аккуратно уже совсем мокрую руку Калинина накрыла. Шаг, возможно, очень даже своевременный, потому как в этот момент его рука казённую скатерть на столе терзала и комкала, будто норовя всю накрахмаленную ткань в одном кулаке упаковать.
Плохо помнил Калинин, как поднялся из-за стола, как буркнул под нос «подумаю», как пошатываясь, пошёл к выходу, задевая чьи-то локти и спины. Уже на улице вспомнил Сергей Дмитриевич, что флешка с его книгой осталась у дамочки, остановился, сделал шаг назад, многоступенчато выругался, крутанул головой и очень быстро зашагал в сторону ближайшей остановки.
Забрать забытую флешку с рассказами он приехал через два дня. В издательстве был встречен той же находчивой дамочкой. При всей своей находчивости в ситуации с книгой Сергея Дмитриевича она совершенно не разобралась. Потому и с порога встретила его охапкой радостных вопросов:
— Ой, Вы снова к нам? Уже с рассказом? Так быстро успели?
Нелепости услышанных вопросов Калинин уже не удивился. Отвечать на них не стал, косноязычно, путая падежи и склонения, попросил флешку. Вышел, не попрощавшись, только про себя повторил ещё раз то заковыристое ругательство, что сорвалось у него два дня назад на выходе из кафе. Удивился только вечером, когда позвонила издательская дамочка. Домой звонила. По-другому и быть не могло, потому, как не успел ещё бывший арестант Калинин обзавестись мобильником. Удивился, потому что, как ни в чём, ни бывало, она спросила:
— Вы на что-то обиделись, Сергей Дмитриевич? Извините, если мы Вам душу разбередили, о вашем недавнем невесёлом прошлом напомнили… Ну, так, что с нашим проектом? Готов рассказик, о котором мы говорили? Пора бы уже книгу в работу запускать… Кстати, мне уже и человек из Тюремного ведомства звонил — там всё подтверждают, даже предисловие набросали… Текст, конечно, кондовый, но мы другого и не ждали… Его уже наша сотрудница причёсывает… Завтра закончит… Теперь только за Вами дело… Ждём Ваш рассказик, очень ждём… Не затягивайте…
Нечего было Калинину этой дамочке ответить. Потому что, если отвечать, надо было даже не последние десять лет, а всю жизнь пересказывать. И ещё не факт, что она хотя бы что-то правильно поняла. Потому и не нашёл Сергей Дмитриевич ничего лучшего, кроме как положить телефонную трубку. Сначала на рычажки аппарата, а потом рядом на стол, чтобы повторного звонка не последовало.
Удивительно, а, может быть, и вполне естественно, но после всего случившегося, ни обиды, ни досады он не испытывал. Почувствовал что-то вроде сожаления по поводу потерянных нескольких дней. Про себя рассудил быстро и кратко: пустяки, издательств в Городе много, не во всех же такие дуры работают. Готов был и вовсе не вспоминать эту историю. Другое вспомнил: как в середине своего срока выпал в его лагере крутой шмон, когда громадная бригада чужих, прикомандированных из других зон, мусоров целый день всё крушила, переворачивала, ломала и перетряхивала. Разумеется, при поддержке масок-шоу, бетеэр которых потом, верно, для устрашения ещё два дня на лагерном плацу серой глыбой маячил. После того шмона поднятые полы неделю в бараках колом стояли, почти столько же времени ушло на то, чтобы в разбросанных вещах разобраться, из которых уже что-то испорчено было, а что-то — вместе со шмонавшими пропало.
Тогда, едва мусора-погромщики убрались из лагеря, затеялось в проходняке, где жил Калинин, чаепитие. По принципу «шмон-шмоном, а чифир — по расписанию». Говорили мало, как-то вовсе не говорилось на фоне жуткого разгрома. Разве что мусоров костерили, потому как никакой причины для такого жестокого шмона не было. Просто у хозяина не заладились отношения с блаткомитетом, и вздумалось ему свою власть и силу арестантам показать. Словом, очередной мусорской беспредел, каких к тому времени зек Калинин видел уже немало и каких ему, отсидевшему лишь половину срока, предстояло видеть ещё много. Тогда, за чифиром, будто в придачу к едкой горечи потребляемого напитка, пришла к Сергею Дмитриевичу пронзительная, но очень простая мысль: чтобы в нынешней российской тюремной системе хотя бы что-то изменилось, эту систему надо напрочь уничтожить, взамен с нуля создать новую. Принципиальный момент: в новой системе не должно быть ни одного человека, кто в прежней работал. Более того, в новое ведомство надо категорически запретить брать на службу тех, у кого предки или родственники в прежнем, то есть, в нынешнем, тюремном ведомстве работали. Чтобы вся эта вертухайско-мусорская мерзость с генами не передавалась.
Тогда такая идея была несбыточной мечтой. Такой же, возможно, ещё более наивной мечтой она и ныне представлялась. Похоже, в ином виде она и не могла существовать.
А с рукописью своей Сергей Дмитриевич по новому адресу направился. Не совсем наугад двигался. Ещё в зоне попала ему в руки одна книжка про тюрьму современную, вполне правдивая. Прочитал её Калинин с интересом, а телефон издательства записал на всякий случай. Вот теперь такой случай и представился.
В издательстве его мужчина встречал. «Уже хорошо, что мужик», — про себя отметил, вспомнив бесславные мытарства с недавней дамочкой. Мужчина оказался генеральным директором. «Опять хорошо, с начальством без посредников дело иметь придётся», — ещё раз порадовался Сергей Дмитриевич. Как и его предшественница-коллега, попросил генеральный директор на пару дней электронную версию книги. «Это что у них в издательствах как под копирку единый стиль работы с авторами?», — на этот раз насторожился Калинин. Тут же сам себе и успокоил, рассудив, что по-другому просто и нельзя, наверное. Ведь, чтобы судьбу рукописи решить, её прежде прочитать надо.
Вторая встреча с генеральным директором издательства в его рабочем кабинете состоялась. На фоне стен, сплошь из книжных полок состоящих.
Похоже, что Михаил Григорьевич (так звали генерального директора) рассказы почестному прочитал, потому что при этой встрече он вопросы по существу задавал, и что-то почти на память цитировал. Только всё это напомнило разминку перед самым главным. Потом и это главное началось.
— Что для Вас сейчас важнее: просто издаться или издаться так, чтобы книга Ваша и Вы, как автор прозвучали?
Ни секунды не дал собеседник Сергею Дмитриевичу подумать. Сам за него стал говорить. То ли размышлял. То ли инструктировал. То ли поучал.
— Нынче тюремно-лагерная тема в литературе — своего рода бум переживает… Много книг издаётся… Ещё больше рукописей по издательствам пылятся — своего часа ждут… И проза, и публицистика, и даже стихи… Очень часто хороший язык, хороший стиль, и позиция гражданская прослеживается… Только, понимаете, всё это как-то одинаково… Оно понятно, в этом ничего плохого… Учителя у всех одни — Солженицын да Шаламов… Только кто-то должен и дальше идти, кто-то должен веяние времени отражать…
Сказать пока Калинину было совсем нечего. Потому и слушал, молча, машинально помешивая в предложенной чашке чая, хотя сахара туда вовсе и не бросал. Исподтишка, разглядывал собеседника. Не углядеть было в нём ничего особенного. Рост средний. Телосложение среднее. Цвет волос размытый — что-то светлое, но не рыжее и не белое. И по лицу пройтись — зацепиться не за что. Мусорским языком говорить: без особых примет. Да что там — «без особых»! Вообще без примет: такого час в упор разглядывай, через день в толпе нос к носу столкнёшься — не признаешь. Зато манера говорить… Вроде негромко, вроде слова обыкновенные, а в напряге держит… Каждое слово, как тонкая иголка под кожу — входит незаметно, а двинуться захочешь — боль и беспокойство, потому как далеко зашла… Так с Калининым следак беседовал, склонял вину признать за то, к чему Сергей Дмитриевич никакого отношения не имел… И сулил, и пугал, и перспективы обрисовывал — всё ровным голосом, с одной интонацией…
Вот и сейчас Калинина испарина пробивать начала, хотя ничего особенного генеральный директор пока и сказать не успел. Похоже, арестантская чуйка сработала, то самое чутьё проявилось, что в человеке только в неволе просыпается и порою запредельно обостряется. Похоже, чуйка эта сигнал подала на опережение, потому что пока тем же ровным голосом Михаил Григорьевич продолжал:
— Чтобы Ваша книга из обычного ряда вышла, чтобы Вы не за Солженицыным и Шаламовым тянулись, а в один ряд с ними встали, а, может быть, опередили, Вам сборник надо дополнить… Возможно, одного рассказа и достаточно будет… Тогда вся книга заиграет…
Опять вспомнил Николай Дмитриевич находчивую и речистую дамочку из предыдущего издательства, опять удивиться поспешил, насколько по трафарету мыслят нынче книгоиздатели, только собеседник о другом заговорил…
— Я Ваш сборник внимательно прочитал… Прекрасные рассказы… Там всё правильно, интересно, но одна тема совсем нетронутой осталась… Вы совсем про любовь не пишите… Зря… Про любовь всегда интересно… Особенно, когда такие декорации, когда речь идёт о человеке, что угодил совсем в нечеловеческие условия… Я Вам сюжет подскажу… Вы справитесь… Наверняка, что-то видели, наблюдали… Будет очень современно, даже дерзко… Напишите про любовь арестанта современного.
А предмет его страсти… — кто-то из представителей администрации лагерной, желательно даже… одного пола… И чтобы любовь такая вовсе не безответной была, а вполне взаимной… Со всеми сопровождающими моментами — страстью, ревностью, интригами… Наше общество к подобным явлениям очень косно относится, даже враждебно… Но это же не нормально… Во всём мире на эти вещи совсем по-другому смотрят… И у нас надо систему ломать… Наше общество воспитывать надо… К цивилизации приобщать, к мировым ценностям, так сказать… Вы своей книгой, не сомневаюсь, целую революцию произведёте… Уверен, резонанс будет: пресса отреагирует, а, главное, — киношники клюнут. По такому сюжету фильм, а то и целый сериал выдать — успех гарантирован… При таком раскладе и бюджет сложится, какой-нибудь конкурс подвернётся, спонсоры подтянутся из продвинутых…
Уже не говорил, а пел человек за столом напротив. И слушал сам себя с великим удовольствием. Вот и новый куплет в его песне складываться начал:
— Тут сама жизнь, международная актуальность новый, очень смелый поворот подсказывает… Хорошо бы, чтобы кто-то из героев Вашего рассказа как-то соприкоснулся с проблемой перемены пола… Слышали, конечно… Кто-то мужчиной рождается, его таким во все документы записывают, а потом оказывается, он себя женщиной больше чувствует… Страдает от этого, а кругом никакого понимания, только издевательства, а то и угроза жизни только из-за того, что этот человек не такой, как все… Короче, Вы меня понимаете… И всё это очень гротескно будет на фоне лагерных, так сказать, декораций, на ограниченном пространстве неволи…
Калинину даже показалось, что в такт своей песне человек, что сидит напротив, ритмично головой и верхней частью туловища покачивает. И уже, будто, не поёт он вовсе, а заклинает что-то или какой-то обряд незнакомый и недобрый совершает. Только опять промолчал Калинин. Уже не по той причине, что сказать ему было совершенно нечего: горло свело, будто кто-то железной рукой за кадык схватил. Не то, что говорить, даже дышать трудно стало.
Трудно дышать было, только дышать и не хотелось, потом об этом уже и не вспоминалось, словно вовсе в этом всякая необходимость отпала. Куда важнее было сейчас внимательнее рассмотреть телефонный аппарат, что на столе у генерального директора стоял. Немного старомодный, красной пластмассы, большой и тяжёлый телефонный аппарат. Тяжёлый — вот самое главное! Потому что очень хотелось Сергею Дмитриевичу эту пластмассовую штуковину, будто специально для тяжести железяками начинённую, опустить на голову человека, что сидел напротив и говорил вещи, для него самого совершенно естественные и правильные, а для него, Калинина, совсем наоборот.
Уже очень конкретно прикидывал Сергей Дмитриевич, как реализовать задуманное. Ясно представлял, что удобнее всего подняться ему со своего места, взять двумя руками эту красную штуковину, поднять повыше и со всего маху опустить на голову Михаила Григорьевича. Вот только, хватит ли у аппарата провода, чтобы получилось поднять его высоко над головой? Или: вдруг, пока будет Калинин подниматься, пока будет аппарат над головой вздымать, умудрится его ненавистный собеседник под стол юркнуть или просто в сторону отпрыгнуть. Может быть, проще, не поднимаясь с места, схватить тот же самый аппарат одной рукой и по наименьшей траектории двинуть генерального директора в висок. Не получится особого размаха, зато очень резко и быстро получится, и вряд ли эта гадина отскочить успеет. Жаль только, что углы у аппарата закруглённые. Но и тут опасение мелькнуло: не подведёт ли, не дрогнет рука с тяжестью на весу…
Пока Сергей Дмитриевич одной частью сознания подобные сценарии прикидывал, другая половинка этого сознания не дремала, а свою работу честно делала. Итогом такой работы жесткая команда была: «Отбой! Никаких резких движений, про аппарат забыть вовсе, стоит себе на столе и пусть стоит, ещё не хватало ему в вещдок превращаться… В противном случае в сухом остатке — возможно, и не 105-я, но уж 111-я — верная, к тому же по верхнему максимуму, потому как он — уже судимый по тяжкой, а терпила из этого генерального директора, судя по всему, знатный, визг на всю страну обеспечен, и адвокаты найдутся, и поддержка во всех надзорных инстанциях, от которой у бывшего зека Калинина по итогам этой истории срока будет, как у дурака махорки…»
Только прежде чем команда «Отбой» мысли Калинина отстроила, эти самые мысли успели очень ясную картину нарисовать: как сползает со стула его теперешний собеседник, обхватив двумя руками голову, а голова эта, равно, как и держащие ей руки, — всё в красный цвет известно чем окрашены.
Не умел читать чужие мысли генеральный директор уважаемого в стране книжного издательства, не обратил он внимания и на мелькнувшую в лице своего гостя мимолётную решимость к кровопролитию. Потому и продолжал с той же самой вкрадчивой, как теперь уже был на сто процентов уверен Калинин, следаковской, интонацией:
— Ещё одна важная штука… Опять же она на успех нашего проекта сработает… Хорошо бы, если один из героев Вашего нового рассказа был представитель не титульной нации, а, так сказать, совсем наоборот… Вы же чувствуете, какие тенденции сейчас в обществе обороты набирают, тёмные силы головы поднимают… Важно, чтобы Вы своим рассказом и сборнику своему и вообще литературе современной новый тренд задали… Вы этим, точно, себе сразу имя заработаете… Потому один из героев Вашего рассказа…
Очень хотел Михаил Григорьевич многозначительную паузу в своей речи обозначить. Не успел. Потому как у его собеседника разжалась в этот миг железная пятерня на горле, и произнёс он осипшим, точно с великой стужи голосом:
— Евреем должен быть…
Возможно, и не утвердительным, но уж точно не вопросительным, тоном произнёс.
— Замечательно… Очень хорошо, что мы с Вами так быстро друг друга понимать начали… Ведь этот Ваш рассказ в сборнике первым и самым главным будет… Пусть он и все главные тенденции в нынешнем обществе отразит… А у нас, сами понимаете, антисемиты распоясались… Тут ещё нюанс… Мы уже, вроде как решили, у нас в этом рассказе в центре повествования любящая и страдающая от косности и жестокости окружающих пара — зек и представитель администрации… Думаю, Вы не против будете, если евреем именно зек будет… Тут опять момент социальный присутствует… Ведь евреев страдающих, подчас не за что, по беспределу, как у вас говорят, среди посаженных хватает… В то же время в администрации, и лагерной и тюремной, людей этой национальности вовсе нет… Не принято им там служить… Так ведь?
Похоже, Михаила Григорьевича даже не интересовало, что может ответить Калинин на последний вопрос. Главное, что сейчас он имел прекрасную возможность выражать собственное мнение. Этим с упоением и занимался. Уже совершенно ясно было, что опять не говорил он, а пел. Для большего удобства и голову назад закинул:
— Тот же Александр Исаевич в своём «Архипелаге…» слишком увлёкся национальность лагерной администрации фиксировать… С тех пор и повелось стереотипами мыслить, считать, будто всегда у нас в лагерях евреи заправляли… Это же неправильно… Вот мы с Вами и сломаем ещё один расхожий стереотип, освободим общество от очередного заблуждения… Мы же благое дело сделаем… Нам это обязательно зачтётся… Обязательно…
Взгляд Калинина по-прежнему упирался в красный телефон на столе у генерального директора. Только желание использовать эту штуку в качестве ударного орудия куда-то в сторону ушло и место уступило… смертельной скуке. Уже почти уверен был Сергей Дмитриевич, что очень давно знаком с этим самым генеральным директором, много раз и по много часов слушал его жестяные речи, и что заведомо знает, о чём и после чего он скажет. Точнее споёт или прошаманит, отстукивая ритм неведомого обряда кончиками пальцев по краешку стола.
Потом концентрация этой, и без того смертельной, скуки ещё увеличилась. Настолько увеличилась, что все звуки издаваемые Михаилом Григорьевичем, в единую монотонную массу слепились. Тут уже никакой песней и не пахло. Да и на речь человеческую это мало походило. Сплошной гул. Без разбивки на слова и предложения. Совсем как в лагерных черновиках рассказов Калинина. Правда, в черновиках в текст всмотреться можно было, и хотя бы что-то разобрать, а в монолог генерального директора и вслушиваться бесполезно было — сплошное «ум-ум-ум-ум». Что-то похожее в раннем детстве случалось, когда маленький Серёжа Калинин то очень плотно уши зажимал, то резко отпускал, то снова зажимал. Вот тогда все внешние звуки в такое же «ум-ум-ум-ум» и превращались. Только тогда подобная трансформация веселила, сейчас же от неё веяло тоской и безнадёгой.
Теперь уже и недавняя, такая свежая и такая дерзкая, идея шарахнуть генерального директора телефоном по башке совсем нелепой Николаю Дмитриевичу представилась. И дело даже не в гарантированной перспективе получения реального срока. Какая-то совсем другая причина за все этим пряталась. А какая, Калинин не знал и думать на эту тему не хотел вовсе.
Конечно, полагалось бы встать да уйти. Памятуя недавний опыт, важно было бы ещё и флешку с рукописью забрать, только как-то не получалось с этим. Чисто физически не получалось, потому что ноги налились неподъёмной тяжестью, и спина в спинку стула вклеилась намертво. Вроде бы что-то в этой ситуации и сказать полагалось, вроде бы и язык во рту ворочался, но была уверенность, что для издания любого, даже самого простого звука сейчас потребуется неимоверная сила, которой у Сергея Дмитриевича не было, и взять которую было неоткуда.
В очередной раз уставился Калинин немигающим взглядом в красный аппарат, что стоял на столе у его собеседника. Очень хотелось сосредоточиться и додуматься до того, что в нынешний момент могло бы явиться выходом из ситуации, которая уже нависла и давила. Сосредоточиться, кажется, получалось, потому что ничего вокруг он не видел и не слышал, даже те звуки, что издавал генеральный директор, и которые совсем недавно образовывали сплошное «ум-ум-ум-ум» уже не звучали, будто отключил их кто. А вот додуматься ни до чего не выходило, словно вместе со слухом одним тумблером, и все мысли вырубили, и саму возможность производить эти мысли исключили.
«Из-за этого полупидора столько времени потерял!», — не сожаление, а что-то больше похожее на приговор высветилось в полупотушенном сознании Николая Дмитриевича. Высветилось ненадолго и неотчётливо, будто тот, кто эти слова по буквам составлял, совсем не уверен был в их правильности.
А потом совсем неожиданное случилось. Словно какая-то, до того сжатая пружина, распрямилась внутри и заставила Калинина из-за стола подняться, то ли в шутовском, то ли в радикулитном поклоне туловище склонить и чуть глуховато, но отчётливо отчеканить:
— Предложения Ваши интересны и неожиданны… Согласен, что в них нынешнее состояние нашего общества отражено… Всё очень злободневно и социально значимо…
Сам себе удивился Калинин, потому как во всём, что только что произнес, ни слова правды не было. Зачем было это говорить? Можно было бы и молча кивнуть или чем-то совсем нейтральным отделаться, как в разговорах с шустрой дамочкой из предыдущего издательства. Ещё больше он удивился, сам себя не узнавая, когда совершенно непроизвольно выпалил:
— Большое спасибо за помощь, за советы и рекомендации… Обязательно учту это в работе…
Правда, на протянутую для прощания руку не отреагировал, и флешку со стола генерального директора забрал без разрешения.
Уже на улице сам себя вслух спросил Сергей Дмитриевич:
— Врать-то на фига было?
Тут же и уточнил, колупнул уже начавшую саднить ранку внутри:
— Чего я врал то?
На заданный вопрос ничего не ответил, только сплюнул и выругался, приблизительно так же, как после последнего разговора с дамочкой из предыдущего издательства, только ещё позаковыристей. Ещё раз очень явственно вспомнил тот красный чуть старомодный аппарат на столе у своего недавнего собеседника, показалось, даже ощутил в руке его внушительную тяжесть, хотя к нему даже не прикасался. Вздохнул и ещё раз выругался. Вроде как пожалел, что не разбил телефоном голову генерального директора. Тут же прикинул, сколько за такое злодеяние ему нынешнее правосудие засветило бы. С учётом совсем недавней и, разумеется, не погашенной судимости, с учётом обязательного в подобных случаях общественного резонанса потянуло бы, как минимум, года на четыре. Если бы визг в газетах и в интернете поднялся, если бы открытые письма по общественным инстанциям начали гулять, если бы следак или судья из продвинутых либералов оказались, тогда и все шесть могли натянуть. Наверно, именно по этому поводу опять же вслух обронил он совсем короткое:
— Не вывез бы…
Тут же, сам того не желая, почему-то попытался представить, как люди, с кем он одолевал свой срок, обсуждают его написанный по недавно подсказанному сюжету рассказ. Засмеялся негромко и невесело, хотя картинка на заданную тему в сознании даже сложиться не успела.
Удивительно, но уже через полчаса от всего, что занимало его мысли, ничего не осталось. Будто не было вовсе ни генерального директора с бесцветными волосами на голове, по которой так хотелось шарахнуть старомодным телефонным аппаратом. Будто не произносилось им нелепых предложений. Казалось даже, что и предшествовавшего этой встрече общения с шустрой дамочкой из другого издательства не было. Ничего не было! Был только он — Сергей Дмитриевич Калинин, вчерашний арестант, вовсе не претендующий на высокое звание писателя, но очень желающий, чтобы его рассказы «про тюрьму, про зону» были непременно напечатаны. Как в подтверждение этого, ощущал он, что лежит в кармане флешка, на которой все эти рассказы собраны. Для полной уверенности трогал контуры флешки, что через брючную ткань угадывались: всё на месте, вот они — рассказы «про зону, про тюрьму», про всё как есть на самом деле. По его мыслям выходило, что всё ещё не так плохо, что «ещё не вечер», что главное: рассказы — целы, никто их не отобрал, не украл, а, значит, есть у них будущее. Себя всем этим, вроде как, и успокаивал и вооружал.
Уже дома на следующее утро всё в той же потрёпанной, сохранённой с лагерных времён записной книжке, отыскал он телефон ещё одного издательства, в котором что-то на лагерно-арестантскую тему издавалось из того, что в неволе успел прочитать. А через два часа всё происходящее начало складываться во что-то очень знакомое. Снова был кабинет, в котором множество полок с книгами тщетно боролись с пресной казённостью. Был и собеседник, то ли главный редактор, то ли генеральный директор издательства, опять же неопределённого возраста, невнятной внешности, с растительностью на голове непонятного цвета. Был и чай, про который хозяин помещения доверительно заметил «крепкий, как Вы привыкли, наверное». Было и многозначительное вступление собеседника о месте и роли темы неволи в отечественной литературе. От этого всего знакомой скукой повеяло. Кажется, все причины складывались, чтобы хлебнуть напоследок из красивой чашечки (действительно, забористым чаёк оказался, такой в зоне «бомбой» называют), кивнуть для приличия, да дёрнуть отсюда восвояси. Только дальнейшие события планы Николая Дмитриевича резко в сторону отодвинули.
Хозяин кабинета не стал просить «пару дней» на знакомство с рукописью, не откладывая, вставил в компьютер флешку, сидел минут пятнадцать, мышкой щёлкая. Иногда что-то при этом себе под нос бормотал. В бормотанье Калинин явственные слова уловил:
— Вкусно… Свежачок… Брутально…
Ничего эти слова Николаю Дмитриевичу сейчас не говорили, но по интонации бормотанья, по выражению лица бормочущего показалось ему: того гляди случится что-то очень хорошее. Тут же и почти забытый колокол в голове грянул, единственное, очень счастливое слово вызванивая:
— Из-да-дут… Из-да-дут… Из-да-дут…
Большому колоколу целая бригада колоколов поменьше на помощь пришла и сладкую для Калинина тему хором поддержала:
— Кни-га вый-дет… Кни-га вый-дет… Книга вый-дет…
Немалых усилий стоило Сергею Дмитриевичу колокола в своей голове унять, с небес снова в казённый издательский кабинет опуститься. Сам себя сейчас он осаживал, сам свои чувства стреноживал, потому что в этот момент вспомнил, чем все разговоры под чай-кофе в двух предыдущих издательствах закончились.
Тем временем хозяин кабинета от компьютера голову чуть оторвал, заговорил на одной ноте, уже без эмоций и интонаций:
— Книгу Вашу берём… Сегодня в работу запустим… Взгляд у Вас свежий, язык живой… Читателя порадуем…
Понял Калинин, что мало у него сил, чтобы сдержать колокол в голове, но всё-таки придержал готовую ухнуть гулкую махину. Видно, сработала та самая чуйка, что в арестанте проснувшись, порою сопровождает бывшего зека до конца дней. И не подвела чуйка, потому как человек, сидевший напротив Николая Дмитриевича за компьютером, взъерошил свои бесцветные волосы и таким же бесцветным голосом выдал:
— От Вас секретов нет… С деньгами в издательстве туго… Долг за аренду висит… Склад не оплачен… Впрочем, пустое это… Ваша книга выйдет всё равно…
Потом в его монотонной речи последовала пауза. Очень рискованная пауза, потому как уже совсем не оставалось у Калинина сил сдерживать тот колокол, что готов был проухать: «из-да-дут…», и вряд ли выдержала его голова, если бы эти звуки грянули. И со всем этим Сергей Дмитриевич вроде как справился. Только то, что после паузы из уст бесцветного человека прозвучало, так же могло одним махом угробить вчерашнего арестанта.
— Деньги на Вашу книгу мы с гранта получим… От скандинавов… По правозащитной линии… Только для этого Вы свой сборник хотя бы одним рассказом дополнить должны… Неважно, какой там сюжет будет, главное, роль правозащитников показать… Как они порочную нынешнюю российскую тюремно-лагерную систему ломают, как арестантам помогают… Как тяжело им в этом деле, как работать мешают, как режим мстит… Короче, с Вас один рассказик… Не тяните… Пару недель? Хватит? Ещё лучше, чтобы дней в десять уложились…
Всё-таки ухнул колокол в голове Николая Дмитриевича. Только не волшебное раскатистое слово «из-да-дут» он озвучил, а короткое матерное слово, означающее разом и конец, и крах всех надежд и просто ситуацию, из которой выхода вовсе не предусмотрено. Тут же веером, будто колода карточная небрежно на катран брошенная, картинки образовались, смыл которых объединяло одно слово «правозащитники». Были тут и бородатые мужики и пучеглазые тётки, что рядом с первыми лицами государства важно соседствовали, и президиумы с носатыми стариками, и молодые невнятного пола люди, и ещё трибуны, залы, софиты, микрофоны. Всё вперемежку с суетой и мельтешением, как в кадрах немого кино.
И другое вспомнил вчерашний арестант Калинин…
В середине срока, когда ещё тлела надежда добиться правды по своей делюге, начал он кубатурить на тему, как обратиться со своей бедой к этим самым правозащитникам. Думал про себя: должны помочь! Надеялся: за ними комитеты, советы и всякие там ассоциации. Укреплял себя в надежде: вон как часто они по телевизору мелькают и очень правильные вещи в камеры и микрофоны говорят. Уже стал черновик обращения набрасывать, начал прикидывать, как бы эту бумагу не в лагерный почтовый ящик бросить, а через вольную почту на адрес доставить. Все надежды его семейник, сосед по проходняку, Саша Хохлёнок сокрушил вдребезги. За чифиром, когда Калинин с ним сокровенным поделился, тот головой покачал:
— Ты, Серёга, вроде постарше меня будешь, и грамотёшки успел на воле поднабраться, а наивный, хуже малолетки… Неужели не врубился, что все эти говоруны и добродетельницы — часть всё той же системы, куда мусора входят… Это всё, как… две перчатки одного боксёра…
Выдержав паузу, которой хватило, чтобы хлебнуть из кружки с обмотанной разноцветными нитками ручкой бодрой горечи, хрумкнул шоколадным обломком, пояснил снисходительно:
— Здесь, на зоне полторы тысячи зеков… Ты слышал, чтобы хотя бы одному из них эти правозащитники помогли? Ну, приговор поломали, срок скостили, хотя бы статью на более лёгкую перебили? Хотя бы что-то дельное сделали? Вот и думай, стоит ли корячиться…
Сейчас, в продолжение давнего вывода соседа по проходняку, пришла в голову Калинину ещё более невесёлая арифметика… Получалось, что за десятку его срока сменил он две зоны… В каждой зоне сидело по полторы тысячи человек… Зонам предшествовали два СИЗО, в каждом из которых маялось, минимум по тысячи… Была ещё одна пересыльная тюрьма, где так же парилось чуть меньше тысячи… Выходило, что за время своей неволи пересёкся он, минимум, с пятью тысячами находящимися в неволе людей… Кого-то знал лично, с кем-то пересекался накоротке, о ком-то многое слышал… Верно, ни одному из них никакие правозащитники не помогали… Больше того, ни один из них даже не слышал, чтобы они облегчили бы чью-то арестантскую судьбу… И вдруг писать про то, как эти самые правозащитники, которых он, Сергей Калинин, кроме как по телевизору, и не видел никогда, «ломают порочную тюремно-лагерную систему»…
Поразила искренне-доверительная интонация, с которой все только что услышанное произнесено было… С такой же интонацией в первой зоне Сергея Дмитриевича молодой опер к сотрудничеству склонял… Обещал, что со временем и дело пересмотрят, и срок скостят, и, вообще, всё в шоколаде будет, только вот эту бумажку подписать надо, и потом в назначенное время на назначенные темы в нужном месте что-то рассказывать… Тогда Калинин с разговора очень грамотно соскочил, наплёл что сейчас его страшные головные боли мучают, что порою даже неведомые голоса преследуют… И всё это после того, как в карантине, их этап козлы жестко с мордобоем приняли… Вот, мол, перестанет голова болеть и готов он будет на эту тему поговорить, а пока никак…
Впрочем, всё это было в другом измерении… В том измерении Калинин зеком был, воплощением неволи, а опер являлся из другого мира, где люди совсем по-другому и дышат, и ходят, и думают… И было это тогда, когда Калинин свою первую арестантскую робу ещё не сносил… Сейчас, вроде бы всё по-другому… И он, Калинин — человек уже вольный, и этот его собеседник с бесцветными волосами такой же — вольный… Хотя, как сказать, как повернуть…
Очень явственно ощутил Николай Дмитриевич, что сейчас на нём не вольная рубашечка в клеточку, а та самая первая арестантская роба, ещё не стиранная, у которой ворот колом стоит и шею нещадно трёт… Он даже шеей повертел, чтобы смягчить жесткое соприкосновение кожи с тканью, в которой пластмассы добрая половина. Пока вертел ещё раз пространство осмотрел, разумеется, взглядом в собеседника упёрся. Почему то захотелось цвет глаз человека, от которого стол отделял, установить. Не получилось… Вовсе показалось, что нет у того глаз. Хотя под бровями и ресницами у него что-то двигалось и даже блестело, всё равно казалось, будто глаза отсутствуют, потому что не было у них ни цвета, ни выражения.
Тем же взглядом очень надеялся Сергей Дмитриевич и телефон на столе у своего собеседника обнаружить. Не обнаружил. Ни красного, никакого другого. Огорчился лишь на долю секунды, потому что отметил… шею говорившего. Последняя слишком откровенно торчала из растянутого ворота свитера. Не очень сильная бледноватая шея с бултыхающимся под кожей в такт словам заострённым кадыком. Вот за этот кадык и зацепился недобрым вниманием взгляд Калинина. Да так основательно, что сам себе Сергей Дмитриевич скомандовал: «Стоп! Стоп! До греха совсем недалеко…» Так же жестко командовал, как в предыдущем присутственном месте, когда был соблазн красный телефон в качестве холодного оружия использовать. Тут же спросил: «Нужен ли этот грех?» Тут же и ответил без промедления: «Нет! Не нужно греха, совсем не нужно!». Правда, блеснуло на самом донышке сознания негромкое, но очень внятное «никакой это не грех», но первое «стоп» куда сильнее было и решающим оказалось.
Нутром понимал Калинин, что молчать сейчас нельзя, что давно уже пора что-то говорить, доказывать, объяснять. Хотя бы что-то сказать, если на всё прочее клейкие табу наложено и всякие «не положено» и «нельзя» припечатано. Понимал, но всё равно молчал. Наверное, было в его молчании, сопровождавшим бегающий недобрый взгляд, нечто пугающее. Потому и встрепенулся до этого не умолкавший человек за столом напротив:
— Вам плохо? Сердце? Давление? Наверное, прошлое о себе напомнило? Может быть, карвалол, валерианка? Или что-нибудь серьёзней? Водочки? У меня нет, к сожалению… Но, если надо, я помощницу пошлю… Тут рядом…
И опять ничего и не произнёс Николай Дмитриевич. Будто слова экономил. Зато два жеста позволил себе. Сначала головой кивнул. Резко, как боднул. Отчего его собеседник на всякий случай назад откинулся. Такой жест, конечно, и за поклон можно было принять. Но это только со стороны и при определённой фантазии. Другим жестом он руку вперёд выбросил. В сторону компьютера, в боку которого флешка с его рассказами торчала. По этому поводу человек по ту сторону стола снова дёрнулся и ещё дальше назад отодвинулся. Понятно, — испугался. Только Калинин кистью своей выброшенной руки маняще-требующее движение сделал. Собеседник успокоился и всё без слов понял. Флешку вынул и гостю протянул.
Жест он понял правильно, но больше ничего не понял, потому что с той же самой ровной, почти заунывной интонацией продолжил:
— Вы, надеюсь, про это и распространяться не будете… Не должны посторонние люди про детали этого проекта знать… Главное, как можно скорее рассказ, где правозащитная тема присутствует… Если всё состоится, обязательно вместе с нами к главным спонсорам… Я Вас, как автора, обязательно в делегацию включу… У Вас загранпаспорт есть? Если нет, ничего — оформите… На законном основании… Вы же теперь — вольный человек… Все права имеете… Вы — их заслужили… Вы — их выстрадали…
Последних фраз Николай Дмитриевич не слышал вовсе. Потому что рванул он из кабинета, где поили его вкусным чаем из красивой чашки, прочь. Резко рванул. Удивительно, что по пути не опрокинул стул с вешалкой в приёмной кабинета и не сшиб всякую дребедень, что там стены украшала. Ещё удивительней, что всё это он сделал молча. Даже не ругался.
Позднее, уже дома, появилось у него желание крепко накатить. В одинаре, безо всяких товарищей-собутыльников, которым что-то говорить надо, а, главное, которых слушать полагается. Совсем недолго подумал об этой перспективе, вердикт вынес мужественный:
— Ещё чего!
Хотя, может быть, и надо было ему в тот вечер выпить. Для поддержания души и сердца! Для снятия стресса и освобождения от всякой пакости, что за последние дни его собеседники ему в душу насовали.
Впрочем, и без помощи алкоголя Калинин ситуацию одолел. Без депрессии, без ступора, без обычных для русского человека желаний в трудный момент «всех и всё послать» в известном направлении. Ночь он проспал крепким и уверенным сном, весь следующий день просидел «на телефоне», советовался с кем только можно по сложившейся ситуации. Удивительно, но, здорово пошатнувшаяся после первого провального тройного виража по издательствам, надежда на рождение книги его вовсе не покинула. Почему то верилось ему, что книга эта всё равно рано или поздно появится. Правда, никакой колокол с триумфальным и раскатистым «из-да-дут» внутри уже не ухал. Странно, колокол не звучал, а уверенность присутствовала. Наверное, та самая арестантская чуйка, что о себе уже не раз напоминала, работала. И не подвела она.
После всех телефонных разговоров и переговоров, после консультаций со знакомыми и знакомыми этих знакомых родилась простая, как меню арестанта, и дерзкая, как его же сны, схема. Сначала Николай Дмитриевич поискал издательство, которое, не вникая особенно в тему и содержание текста (главное, чтобы экстремизма не было) за деньги (себестоимость плюс собственный интерес) готово было издать его книгу. Оказалось, что таких издательств — пруд пруди. Представилась возможность даже сравнивать, выбирать и торговаться. Когда потенциальный исполнитель и сумма, необходимая на издание стали известны, обратился Калинин к своему былому солагернику — Саше Гнутому. Тот из блатных был, в лагере не первым сроком сидел, авторитет имел, не случайно в зоне за отрядом смотрел. Гнутый освободился пораньше, чем Калинин, теперь, вроде как в бизнесе обитал, при успехе и деньгах соответственно. К просьбе Николая Дмитриевича отнёсся без восторга, но с пониманием. Правда, начала упрекнул:
— Чего тебе, дед, неймётся? На старость лет в писатели подался? На хрен тебе это сдалось…
То ли по скупости, то ли по инерции покряхтел, когда узнал о необходимой сумме:
— Что-то дороговато нынче в литературу влезать…
Однако деньги дал. Рукопись читать не стал, только спросил, хлопнув по толстой пачке уже распечатанных на принтере рассказов:
— Там всё, в натуре, по правде? Смотри, а то с меня люди спросят… Ты ж, понимаешь…
И про тираж не спрашивал. На вопрос, сколько экземпляров ему прислать, отмахнулся:
— Мне это без нужды… Про то, как там, я и так знаю… Пусть другие читают…
«Читали» рассказы Николая Дмитриевича уже через месяц. Книгу не то, чтобы с полок магазинов сметали, но покупали… Это в нынешнее рыночное, не сильно духовное, время уже хорошо. Были даже две вполне добрые рецензии в интернете, где про, «эстафету Солженицына-Шаламова» и про «свежий голос правды» упоминалось.
А вот никакого социального потрясения после выхода книги Калинина не грянуло. Не то нынче российское общество, чтобы его какой-нибудь книгой сотрясти можно было.
Всё это Сергей Дмитриевич воспринял очень спокойно, будто обо всём наперёд предупрежден был и заранее к такому результату серьёзно готовился.
Всё равно после первой книги, хотелось ему свои литературные занятия продолжить. Писать, разумеется, стремился опять «про зону, про тюрьму». Не сложилось! Не писалось! Сам себя по этому поводу успокаивал, вспоминал, что писателем он становиться и не собирался. Хотел рассказать о том, что в российской неволе нынче творится — рассказал. Больше того, по-честному рассказал. Без купюр, без калечащей редактуры, без реализации наставлений всякой сволочи. Молодец! Здесь он, как и в зоне, не сломался, самим собой остался.
Но вот, что интересно: после вышедшей книги часто снились Калинину сюжеты новых рассказов. Опять про зону, снова про тюрьму. Ещё интересней, что в этих сюжетах, пусть пунктиром, но явственно проходило что-то из того, что ему ненавистные собеседники в трёх издательствах пытались навязать. В итоге складывались очень причудливые сюжеты, в которых правда, вымысел, социальные утопии и уж совсем больные фантазии в причудливом коктейле слоились.
Всякий раз в такой момент он думал, что сейчас проснётся и непременно запишет, зафиксирует на бумаге всё, что только что видел. И всякий раз, просыпаясь, с безнадёжным бессилием, понимал, что ничего конкретного, из того, что секунду назад видел, в чём даже участвовал, он… не помнил. Снова засыпал, нисколько не сомневаясь, что эти странные сны с лихо закрученными, пусть даже частично не им придуманными, сюжетами и диковинными персонажами, которых в реальной жизни не встретить, вернутся. Так же не сомневался, что ничего из увиденного он снова не запомнит. Было дело, даже начал Сергей Дмитриевич перед сном класть рядом блокнот и ручку. Понятно, что ни одной строчки в этом блокноте он так и не записал.
А потом отношения Сергея Дмитриевича с литературой возобновились. Только совсем в неожиданное русло они устремились. Ни с того, ни с сего начал он… детские рассказики писать. С полусказочными персонажами, с весёлыми зверушками, с извечными аллегориями на тему добра и зла, с фантастическими завихрениями сюжетов и светлыми счастливыми финалами.
Так и стал бывший зек Сергей Дмитриевич Калинин детским писателем. Между прочим, вполне успешным. Приличные гонорары получающим.
А некоторые его рассказы даже в списки для внеклассного чтения попали.
Говорит и слушает… тюрьма
Любой срок кончается.
И мой — не исключение.
Получается, и я непременно вернусь!
Как бы медленно не тянулось в неволе время — всё равно оно движется. Движется! Ковыляя, хромая, спотыкаясь. Движется в сторону свободы.
А, значит, я вернусь.
Обязательно вернусь!
«Чёрный список арестанта» (туберкулёз, рак, заточка в бок от обкурившегося соседа) — не для меня. Не вернуться я просто не имею права. Слишком много планов, обязанностей и долгов ждут меня на воле. Слишком много людей горячо молятся за меня и ждут моего возвращения.
Разве я имею право их подвести?
Выходит, я, во что бы то ни стало, вернусь!
Всё это я повторяю каждый день по великому множеству раз.
Как заклинание.
Как волшебную мантру.
Как самую жесткую из всех, когда либо существовавших в психоанализе, самоустановок.
Всё это я буду повторять до тех пор, пока мой срок не кончится.
Когда он кончится, я вернусь.
Не вернуться — просто не получится.
Из какой рюмки, бокала, кубка я начну пить самый забористый из всех известных человечеству напитков под названием «воля»? С каких блюд начну смаковать меню великого пира свободы? Здесь не угадать, не спланировать, ибо любое самое банальное повседневное занятие вольного человека человеку в неволе, да ещё с расстояния не одного отсиженного года, запросто может показаться невиданным сибаритством, сверхроскошью. Невозможно даже представить, с чего именно бывшему арестанту захочется начать своё путешествие в сказочную страну, именуемую «жизнь после срока».
Только с чего бы ни началось моё возвращение в свободу, я обязательно найду возможность сдвинуть все дела, найду, любой ценой найду возможность приехать уже вольным человеком сюда, к бутырским серым корпусам. Приехать ночью, когда город, засыпая, умолкает и ничем не мешает звучать тюрьме.
Конечно, я предложу своим детям составить мне компанию. Не уверен, что моя затея с ночным вояжем «куда-то в сторону тюрьмы» покажется им привлекательной. Ведь к тому времени мои дети очень повзрослеют и совсем по-иному будут относиться к своему времени. Да и кто знает, что вообще будет их интересовать в ту нескорую пору?
Впрочем, неважно, один или с кем-то, приеду я тогда к этим невесёлым зданиям в районе метро «Новослободская». Равно так же неважно сейчас, когда именно наступит этот день. Главное, он — наступит.
Потому что… любой срок заканчивается и мой — не исключение.
А приеду я к этим стенам, чтобы ненадолго вернуться в прошлое, значит, в моё нынешнее настоящее, чуть ли не в молодость, вернуться в тот год, который я провёл в этих стенах. Только никаких сантиментов, никакого увлажнения глаз и першения в горле! Тем более — никакого жевания банальных истин про загубленные и украденные годы.
Я приеду сюда, чтобы послушать звуки ночной Бутырки. Хотя, кто знает, какая администрация будет заправлять в этой знаменитой на весь мир тюрьме, и сможет ли на тот момент, с учётом стиля работы этой администрации, тюрьма издавать какие-то звуки вообще. Ведь согласно вечной российской (впрочем, почему российской — международной, общечеловеческой) традиции, заставить замолчать можно кого угодно: человека, народ, газету, страну. Другой вопрос, какой ценой и на какой период.
Ух, какая вязкая философия! Проще сказать; когда мой срок закончится, я обязательно приеду сюда, чтобы снаружи послушать Бутырку. Трудно даже представить, какие из бутырских звуков тогда смогут вырваться из тюремных объятий и зазвучать в ночном свободном эфире. Разве что обрывки фраз, которыми перебрасываются с «решки» на «решку»[28] арестанты.
А пока я — здесь, и слушаю эту самую Бутырку изнутри.
Для кого-то удивительно-любопытно, а для кого то сострадательно-прискорбно, но полной тишины здесь не бывает. Никогда. Ни в какое время суток. Ни в какой день недели. Всегда за окном, за стеной, за дверями что-то лязгает, хлопает, скрипит, кто-то командует или зовёт.
Ещё одна особенность бутырских звуков: среди них нет приятных, добрых, радующих слух и лечащих душу. Все звуки — со знаком минус. Каждый пугает, порою бесит, в лучшем случае, просто раздражает. Ни один, повторяю, не радует.
Наверное, я забежал вперёд. Прежде чем характеризовать качество бутырских звуков, надо заметить, что по происхождению своему они делятся на две категории: звуки внешние, по сути, вольные, доносящиеся сюда с территории свободы, с московских, прилегающих к Бутырке, улиц, и звуки внутренние, рождённые внутри Бутырки, самой Бутыркой.
Звуков внешних «вольных» совсем немного. Прежде всего, это, особенно характерные для пятниц, суббот, воскресений, звуки салютов. Верно, сложилась в последние годы традиция сопровождать корпоративные вечеринки, дни рождения и прочие торжества, что состоятельные граждане имеют манеру отмечать в ресторанах, подобным то ли десертом, то ли аттракционом. На воле на эти самые «трах-бах-тарарах» порою и не обращаешь внимания. Подумаешь, гуляют, отдыхают, развлекаются люди в той форме, что определяет их достаток, уровень личной культуры и степень, так сказать, общей испорченности общества.
На здоровье!
А в тюрьме всё совсем по-другому. Даже придушенные и приглушённые бутырскими стенами звуки этих фейерверков-салютов всё равно попадают в наши камеры.
Попадают и… волнуют, беспокоят, будоражат…
Ловишь обрывки праздной салютной какофонии и сразу очень явственно представляешь сытых, модно одетых, по-хорошему нетрезвых, а, главное, совершенно свободных людей.
Немного фантазии и легко моделируется обстановка, в которой рождаются эти звуки: ресторанная веранда или ресторанный дворик, столики, уставленные тем, что отсюда кажется недосягаемым или вовсе несуществующим, красивые, переполненные весельем и пороком женщины. Да много чего ещё можно представить на эту тему, находясь в тюремной камере. Но какие бы сюжеты по этому поводу не рождались в спрессованном тюрьмой сознании — в каждом непременно звучит (где заголовком, где рефреном, где послесловием): всё это — не твоё, всё это — не для тебя и даже самое ничтожное отношение к этому ты сможешь иметь очень-очень нескоро.
Второй (он же — последний) вид вольных звуков, доступных для слуха бутырских обитателей — машинные сигналы. Не те, что выдают своими клаксонами водители автотранспортных средств по причине нервных срывов или вследствие сложившихся соответствующих дорожных ситуаций. А те, что согласно новопридуманным традициям якобы обязаны отмечать всякий свадебный кортеж, напоминая и провозглашая: смотрите, знайте, завидуйте — едут люди, что решили связать свои судьбы, что нет предела их счастью, и что все в округе (кто не глухой, разумеется) должны непременно об этом слышать.
Ну, и здесь, понятно, поле для арестантской фантазии безгранично. Кто-то смоделирует машину с мишками и лентами на капоте. Кто-то воссоздаст в своём воображении образ невесты (фата плюс все округлости и прочие красивости женской фигуры). Кто-то представит перед собой свадебный стол и очень явственно, вплоть до слюноотделения и желудочных спазм, почувствует «как пошла первая», чем бы он её закусил, как бы сладко затянулся сигаретным дымом после третьей, кого бы из гостей выцепил масляным взглядом для продолжения веселья после пятой.
Естественно, вольные звуки, попадая в неволю, добра не приносят. В лучшем случае умножают они и без того немалую арестантскую тоску по всем фронтам: и о нынешнем своём незавидном положении, и о грядущих мало весёлых перспективах, и обо всём любом прочем, таком же тоскливом и безрадостном. В худшем случае, такие звуки остро напоминают о твоём бессилии и твоей беззащитности на этом этапе биографии и тем самым непременно вышибают из нервного равновесия, бесят, подталкивают к той черте, что отделяет нормального человека от человека ненормального, проще сказать, сумасшедшего.
Словом, никакой радости от звуков, что прорываются в бутырское пространство с воли, нет.
А звуки местные, рождающиеся в этом пространстве, ещё безрадостнее, ещё опасней для истрёпанных и обнаженных арестантских нервов.
Самый постоянный, почти вечный, среди чисто бутырских звуков — скрежет, скрип и лязг железной телеги, на которой развозится по камерам тюремная пища. Этим звуком Бутырка потчует наш слух три раза в сутки.
В завтрак. В обед. В ужин.
Теоретически этот звук мог бы быть и не таким отвратительным, но у телеги буксует и западает заднее колесо. Ни баландёрам[29], везущим эту телегу за ручку в виде буквы «т», сваренную из железных труб, ни мусорам[30], которые руководят работой этих баландёров, даже в голову не приходит мысль починить эту телегу: что-то отогнуть, что-то подправить, по чему-то просто крепко стукнуть. Выходит, этот душераздирающий лязг железа о железо и железа о камни сознательно, специально организован и так же не менее сознательно, не менее специально поддерживается. Выходит, этот лязг — что-то вроде дополнительной нагрузки ко всему, что мы здесь испытываем. Маленький, так сказать, довесочек к тому неподъёмному «фунту лиха», что огребает каждый, сюда попадающий.
Другой вид чисто тюремных, рождённых в бутырских недрах, звуков — шаги. Почти всегда это — тяжёлая хозяйская поступь мусоров-продольных[31]. За шагами обычно следует лающая команда-распоряжение типа «Иванов — выход…». Часто вместо полной фамилии продольный выкрикивает: — «На «И» — на выход…». «На «И» — означает, что фамилия вызываемого начинается с буквы «И».
Похоже, подобное сокращение объясняется не ленью представителей тюремной администрации, а традицией, заложенной ещё во времена, когда большинство «бутырских тружеников» были попросту неграмотными и не в силах были разобрать фамилию арестанта на соответствующей бумажке.
Очень может быть, что и в не столь далёкое прошлое канули те времена.
Да и очень похоже, что и нынешние сотрудники бутырской администрации не сильно в ладах с грамотой: слишком нелепые ошибки они делают, зачитывая наши фамилии на утренних и вечерних проверках, слишком мучительно напрягаются их лица, когда им приходится озвучивать для нас что-то официальное.
Кстати, «на выход» — означает чаще всего — к следователю, куда реже — к адвокату (не у всех есть материальные возможности иметь такового), ещё реже — на короткое свидание к родным и близким (свидание подследственным разрешает следователь и, как правило, делает это неохотно, считая подобное излишней роскошью для своего подопечного).
Впрочем, куда бы не выдёргивали бутырского обитателя — чего-то хорошего за этим никогда не следует.
Вызывают к следователю — запросто может оказаться, что замаячил в твоей «делюге» новый эпизод (когда — как результат рвения следаков, когда — как следствие их же беспредела, в этом случае ради «палки» раскрываемости они на тебя чужие преступления валить начинают). За этим, понятно, прямая перспектива увеличения твоего и без того немалого срока.
Вызывают к адвокату — выясняется, что ресурсы денег, которые наскребли ему за услуги твои близкие, уже вроде как исчерпаны, и, если доплаты не последует, этот адвокат с твоего дела просто уходит и ему глубоко плевать, чем это для тебя обернётся.
Даже, казалось бы, однозначно радостный вызов на свидание к родным может обернуться новостями, от которых не разогнуться, не продышаться. Сколько раз такое было: уходит арестант на свидание просветлённый и окрылённый, а возвращается с лицом опрокинутым и почерневшим. Кто-то в этот момент отмахнётся, кто-то отмолчится, рухнув лицом в шконку[32], а кто-то буркнет что-то вроде: «Мать умерла… Ещё месяц назад… Сюда телеграмма была… Никто не сообщил…», или «Жена на развод подала… Сказала, что, устала…».
Словом, хороших новостей для арестанта вроде как и вовсе не бывает. Понимаю, с каждым днём всё больше понимаю своих бывалых соседей. Тех, кто мечтательно заклинает: «Скорей бы на этап, да в зону, там движуха, а тут всё заморожено-заторможено…».
Бывает, что за шагами продольного и другая команда следует. Например, «На прогулку!». Кажется, команда со знаком «плюс». Кажется, здесь повод для ничтожной, но всё-таки радости. Но так только на первый взгляд, точнее на первый слух. За приглашением-окриком «На прогулку» почти всегда следует пояснение. Не менее лающее. Не менее мрачное. «Или все, или никто…».
У мусоров своя логика. Говорят, были случаи, когда тот, кто в хате на время прогулки оставался, потом вскрывался, или вздёргивался. Для администрации это — «ЧП», а, значит, проблемы, комиссии, проверки и т. д. Вот и родилась с учётом всего этого жесткая инструкция: арестантов по одному в камере не оставлять. Только чтобы «все на прогулку» — с этим сложно, это — случай «из ряда вон». Потому что кому-то, действительно, нездоровится, кто-то всю ночь на «дороге»[33] простоял, и теперь отсыпается.
Так что команда «на прогулку» когда — как чистая условность, когда — как откровенная дразнилка звучит.
Очень часто никто на эту прогулку и не выходит.
По большому счёту, и не велика в этом случае потеря. Ведь «прогулка» здесь — это всего то сорокаминутное топтание в прогулочном дворике на самом верху тюремного корпуса.
Прогулочный дворик — это та же самая камера, стены которой обделаны «шубой». И свежего воздуха здесь не намного больше, чем в обычной «хате», и небо (универсальный символ воли и свободы) видно только в зазоре между крышей и верхушкой стен только тогда, когда встанешь у определённой стены и задерёшь голову под определённым углом.
А ещё бывает, что вслед за мусорскими шагами может грянуть команда: «Всем выйти в коридор!».
В переводе с тюремного это означает — шмон.
В этом случае всех нас выводят в свободную камеру, предварительно обшарив, ощупав, охлопав все наши карманы, все складки нашей одежды.
Иногда в эту камеру (где можно хотя бы сидеть и, к великой радости курильщиков, курить) и не заводят, а выстраивают в коридоре.
В нашей «хате» тем временем всё перетряхивается, переворачивается, просто разбрасывается по всему пространству.
Что ищут?
Прежде всего, мобильные телефоны, спиртное, «удочки»[34], «коней»[35] и прочие самодельные приспособления, необходимые для поддержания «дороги», — главного средства тюремной межкамерной коммуникации.
Однажды у нас в камере во время шмона было обнаружено восьмилитровое полиэтиленовое ведёрко с набирающей градус брагой. Мусора, производившие обыск, не придумали ничего лучшего, кроме как вылить содержимое ведёрка на кучу, в которую в центре камеры была собрана наша одежда. В итоге — рубашки, майки, свитера, несмотря на неоднократные стирки и последующие проветривания у открытой форточки, долго сохраняли тошнотворное дрожжевое амбре.
Впрочем, тюремные запахи — это уже совсем другая тема.
Шаги, шаги…
Бывает, что среди грубого топота и тяжёлого шарканья мелькнёт что-то совсем другое. Как подростковый ломкий дискант на фоне прокуренных и простуженных басов. Это звук женских каблучков. Только здесь обнадёживаться и расслабляться не стоит. Верно, инопланетные звуки издают представительницы бутырской администрации. Верно, на слух — это что-то нежное и мелодичное, а по виду, по сути, по плоти — всё то же самое, тюремное. Те, кто издаёт эти, кажется, чарующие, звуки, так же пахнут тюрьмой, так же злобно матерятся, так же люто ненавидят нас, арестантов. Кажется, и не женщины это вовсе, а какие-то части механизма тюремной администрации. Бесполые и неодушевлённые. Просто имена у них женские и звуки при ходьбе за счёт особенной обуви они издают совсем другие.
Кстати, порой со звуками мусорских шагов на продоле происходит путаница.
Шаркающие тяжёлые звуки при ходьбе издают не только заступающие на дежурства продольные-мужчины, но и прапорщик Валентина. Ноги у неё больные: кеглеподобные икры с безобразным орнаментом выбравшихся наружу вен, торчащие из любой обуви громадные муслаки. Потому и походка у неё совсем не женская, а стариковская, тяжело загребающая, грубо звучащая. Потому и никакой в помине мелодии цокающих каблучков.
Возможно, к нашей хате Валентина испытывает какое-то особое то ли доверие, то ли уважение. Иначе как объяснить, что частенько обращается она к нам с банальными, но совершенно не характерными для этой обстановки, просьбами: «Колбаски не дадите, мы тут чайку собрались попить?», или «Лимончика у вас нет, вроде вам сегодня передачка заходила?»
Конечно, даём.
И колбаски, разумеется, вольной, копчёной, изумительно пахнущей, и лимончика, и ещё чего-либо сверх просимого добавляем — типа плитки шоколада или пачки печенья. А нам в ответ то ли в виде благодарности, то ли в качестве коммерческого эквивалента, что-то вроде послабления режима. Когда в своё дежурство Валентина разрешит свет не выключать пару часов после отбоя, когда о грядущем шмоне предупредит.
Я и представить ранее не мог, что человек может пребывать в окружении такого количества сплошь малоприятных звуков.
Ещё больше удивляло другое.
Здесь я встретил немало людей, что находятся в подобной обстановке куда больше времени чем я, но в разговорах, порою предельно откровенных, никто из них и словом не обмолвился о том, что засилье подобных звуков их беспокоит, раздражает, унижает. Регулярно в беседах я «зондировал почву» по поводу отношения моих нынешних товарищей по неволе к факту «диктатуры гадких звуков» и всякий раз или слышал однозначное «нет», или натыкался на отрицание самого факта существования подобной темы.
Выходило, будто повода для беспокойства вовсе не существует. Странно, «гадкие звуки» существуют, а неприятие или элементарное беспокойство по этому поводу отсутствуют.
Значит, или я неправильно понимаю ныне окружающую меня обстановку, или эти люди «как то не так» воспринимают действительность, которая, как нас учили, постигается через обоняние, зрение, слух.
А может быть, я уже того, начинаю сходить с ума…
В сочном и неподражаемом тюремном арго для этого явления есть немало колоритных синонимов типа: «бак засвистел», «крыша поехала», «гуси полетели».
Даже отдалённое предположение подобного диагноза не принимается!
Непростительная эта роскошь — сойти с ума, вот здесь, вот сейчас, в самом начале срока, ещё даже не добравшись до зоны. По сути, сойти с ума — это значит сдаться, выбросить белый флаг.
Это значит — капитулировать, не начав даже отстреливаться, бросить оружие и поднять руки при первом очень отдалённом появлении врага!
Отключить здравый смысл, когда он, как никогда, необходим, чтобы не превратиться в быдло, в кретина, в овощ?
Не мой путь!
Единственно верный выход в сложившейся ситуации — чем-то разбавить эти немногие, предельно однообразные, и все, без исключения, недобрые звуки. По крайней мере, для себя самого. Разумеется, за счёт резервов собственной памяти.
Значит, буду вспоминать совсем другие звуки. Из другого измерения, из вольной прошлой, очень далёкой жизни.
Благо, таких звуков — великое множество. Путешествовать в них — удовольствие. Кажется, в таком путешествии неприятных звуков не встречается вовсе.
И вспоминаются здесь чаще всего звуки самые обыденные, бытовые, домашние.
Например, шкворчание котлет, что жарятся на кухне на сковородке, накрытой крышкой. Или мурлыканье кошки, что угрелась у тебя в ногах. Даже шум лифта, позвякивание ножей и вилок, хлопанье извлекаемой из бутылки пробки — всё это, поднимаясь со дна памяти, звучит по-иному, ласково и добро.
Самые неожиданные звуки могут вспомниться здесь и обернуться из банальности мелодией, музыкой, искусством, эталоном гармонии. Скажем, диковинная, то ли забавная считалочка, то ли игрушечное заклинание, что придумала давным-давно, едва научившись говорить, моя дочь. «Кабале-хабале, коба, хоба, габале»… Что означали эти слова она и сама толком не представляла, тем более, объяснить не могла.
А сколько ещё самых разных звуков осталось в той, ныне очень резко и далеко отодвинутой жизни!
Особняком в закоулках памяти стоят «импортные», схваченные во время зарубежных командировок и путешествий, звуки.
Здесь и так напоминающий слово «хоккей» гортанный крик хищной ящерицы, вышедшей на ночную охоту, что довелось слышать в джунглях Лаоса. С ним соседствует негромкий, но отдающий космической мощью, шорох океанского прибоя на пляже в Шри-Ланке. Рядом может всплыть и детское щебетанье цикады в трогательной клеточке на коленях у пожилого японца, что оказался когда-то моим соседом в пригородной токийской электричке.
Важно, что эти «прошлые» звуки всегда со мной. И «нынешние» мои звуки, какими бы настырными и агрессивными они не были, пересилить их не смогут. Звуки прежней жизни — мой тыл, мой арсенал, моё секретное оружие. Они помогут пережить арестантский период моей биографии, попросту помогут выжить.
Конечно, я буду им за это благодарен.
Но и те, что сегодня окружают меня, что отмечены знаком «минус», что тождественны враждебному чёрному и тоскливому серому цветам, из меня уже никогда никуда не денутся.
Они займут своё место в кладовых моей памяти, как экспонаты на полках музейных запасников. Уверен, в конце концов звуки неволи и звуки свободы перестанут враждовать в моём сознании, помирятся, привыкнут друг к другу, возможно, даже начнут «союзничать» и «кооперироваться» в борьбе с какими-то общими врагами и недоброжелателями.
Только всё это случится очень нескоро. Приблизительно тогда, когда я, уже вольным человеком, подъеду в полночь к бутырским корпусам.
Конечно, в том неблизком будущем, стоя на тротуаре в районе метро «Новослободская», я не смогу расслышать ни лязга открываемых в хате «тормозов»[36], ни грохота откидываемого «кормяка»[37], ни тем более, топота мусорских шагов на тюремном продоле.
Зато, если не будет дождя, ветра и прочих природных передряг, очень велика вероятность уловить обрывки тех самых фраз, которыми обмениваются арестанты с «решки» на «решку».
Возможно, совсем другие темы будут звучать в них, а, может быть, я услышу то же, что слышу сейчас каждую ночь.
Деловое: «Два восемь девять, ответь, два пять семь…», «Два девять два, почему дорогу морозите?»
Шуточное: «Тюрьма-старушка, дай погремушку…».
Или серьёзное, способное обернуться для кого-то плохим и даже трагическим: «Сергеев из «два семь три» — засухарённый баландёр по прошлому сроку[38], сейчас всех подельников сдал, мочить на всех сборках…».
Трудно угадать сейчас, что я услышу тогда.
Потому что это будет нескоро.
Только это будет.
Обязательно будет.
Потому что я вернусь.
Обязательно вернусь.
Я не могу не вернуться!
Серый и Бурый
Читал, слышал, догадывался, представлял, как скромен спектр тюремных красок, но чтобы так, чтобы настолько…
Собственно, никакого спектра здесь нет!
Никакой радуги!
Никакого охотника, желающего, во что бы то ни стало, знать местонахождение диковинной птицы! Никакого красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого…
Только серый и бурый.
Бурый и серый.
Ваше Величество, Серый!
Серая дверь с «кормяком», через который три раза в день подают еду серого цвета. Серый стол. Серая лавка, намертво приваренная к столу и составляющая с ним единое, монолитное, опять же серое. Серые потолки. Серое одеяло.
Ваше Высочество, Бурый!
Бурые стены. Бурые полы. Кусок бурой кирпичной стены соседнего здания, что виден из крошечного окна, и кроме которого из этого окна не видно ничего и никогда.
Серый и Бурый. Бурый и Серый. Два цвета. Два единственных здесь цвета. Только два цвета. И прочих здесь нет.
Верно, с воли сюда попадают предметы, окрашенные по-другому: жёлтая мыльница, зелёная шариковая ручка, какая-то пёстрая, с оранжевым и фиолетовым обложка книги.
Но эти цветовые пятна не выдерживают натиска Серого и Бурого.
Два главных цвета-подельника их затирают, подавляют, забивают. Попадающим сюда вещам и предметам иных цветов не остаётся ничего, кроме как капитулировать-мимикрировать, уступая серо-бурому натиску. Уже через несколько часов они тускнеют, утрачивают яркость, обретают оттенки тех же главных цветов, наконец, полностью сливаются с ними. Серый и Бурый сжирают и переваривают все прочие краски.
Кстати, случайно ли именно Серый и Бурый оказались здесь главными?
Что можно сказать о сером цвете? Цвет посредственности и уравниловки. Символ обезличивания.
Отсюда и «серая масса» и «серая мышь» (не про грызуна, а про человека, понятно). Отсюда и брезгливо-пренебрежительная оценка всего нетворческого, неталантливого, скучного: серятина. Отсюда и убийственное тавро-характеристика-приговор необразованному, ничем не интересующемуся, неспособному к нестандартным мыслям и поступкам человеку: серая личность.
С Серым всё ясно.
С Бурым всё ещё проще. Конечно, поэты вспомнят что-то про осенние листья. Только здесь не краски осеннего парка вспоминаются, а цвет запёкшейся крови, цвет панорамы мясных лавок, цвет анатомических манекенов. Неласковый цвет. Отталкивающий цвет. Недобрый цвет.
Уверен, не случайно Серый и Бурый здесь командуют и диктуют.
Не сомневаюсь, это сознательно тщательно организованная диктатура. Диктатура цвета в усиление диктатуры несвободы. В довесок к приговору. Неважно какому: приговору судьи или приговору судьбы.
По большому счёту, диктатура Серого и Бурого — это та же пытка.
Изощрённая и бесчеловечная.
Способная успешно конкурировать с пыткой светом (описана даже в литературе), пыткой звуком, пыткой болью.
Впрочем, для кого-то это — пытка, наказание, мука, а для кого-то — пустяк, внимания не достойный. Пустяк — не потому, что эти люди своей волей и своим мужеством превозмогают это, а потому что они просто… не понимают и не чувствуют этого. Не чувствуют и не понимают. Такое у них внутреннее устройство, такая у них конструкция души.
Я попытался поделиться своим открытием-откровением по поводу главенствующих здесь цветов с двумя из своих соседей.
Первым, до кого я донёс эту, как мне казалось, очень важную информацию, был Сашка Террорист, вроде бы разумный мужичок, ни внешностью своей, ни биографией ничего общего с полученной здесь, в бутырских стенах, кличкой, не имеющий.
Он выслушал, не перебивая, но ничего не ответил. Похоже, он просто не понял, о чем шла речь, а ведь я рассказывал про ту обстановку, в которой он прожил уже полгода, которую он должен был чувствовать, да что там чувствовать — должен был бы страдать от неё. Именно страдать, потому что всякий человек, лишенный привычного данного Богом и природой спектра красок, не может спокойно это переносить, потому что он прежде всего — Человек.
В Бутырку Сашка попал по «трём гусям». Так на тюремном арго называют статью 222 Уголовного Кодекса нашего государства — «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Оригинальным своим названием статья обязана своему номеру. По написанию, действительно, каждая двойка чем-то напоминает известную птицу с длинной шеей.
Согласно милицейским протоколам, купил Сашка в каком-то ларьке боевые патроны.
Сам он твёрдо уверен, что ничего подобного не было, и быть не могло, но подробностей не помнит по причине непотребно пьяного своего состояния в тот момент. Нынешние соседи Сашки, бывалые, уже успевшие изучить нравы современных правоохранителей, не сомневаются, что он нарвался на мусорскую провокацию, на контрольную закупку для «палки» (так сами полицейские называют раскрытое преступление).
Ситуация комедийно-трагическая. Не охотник, не стрелок, не владелец оружия, наконец, просто совершенно не имевший на тот момент денег, очень и очень пьяный человек вдруг покупает патроны. Да и с каких пор в пивных ларьках начали торговать боеприпасами?
Между прочим, прежде чем вляпаться в «патронную» историю, Сашка не просто напился, он пил больше недели. Пил основательно, потеряв ощущение пространства, времени и здравого смысла. Курсировал в полусознательном состоянии между Москвой и родным своим Дмитровым, пил с кем попало, что попало, на невесть откуда появлявшиеся деньги. В пик своего запоя он и был арестован при, якобы, попытке купить эти самые треклятые патроны.
Кстати, оказавшись в Бутырке, Сашка пережил приступ ему ранее уже знакомой «белочки» — болезни более известной под названием «белая горячка». Классический приступ. Классической «белочки». С видениями, с голосами, с кошмарами.
Тогда ему всерьёз казалось, будто присутствующая на нём одежда кишит пауками, червями и змеями, будто нечисть эта вот-вот начнёт покушаться на его тело. В порыве ужаса, ненависти и ещё каких-то ведомых только ему одному, но очень сильных чувств, брюки, пиджак и рубаху он разорвал на самые ничтожные клочки и ленточки, после чего ощутил себя победителем и… успокоился.
В камере я застал его читающим всё подряд, что он смог рядом обнаружить, умиротворённым, вполне разумным.
Тем не менее, моих рассуждений на тему Серого и Бурого он не понял.
И с другим моим соседом по бутырскому пространству разговора о скудности тюремной палитры не получилось.
Лёха Ивановский, он же Ткач, он же Губастый, так же не понял самого предмета разговора. Наверное, на это были у него свои причины.
В отличие от Сашки Террориста до момента потери своей свободы жил он более чем благополучно. Работал в Москве в каком-то текстильном институте. Считался специалистом в ткацких станках и прочих механизмах этого профиля. Чинил, налаживал, модернизировал. Хорошо зарабатывал официально, имел заказы со стороны, плюс ко всему удачно браконьерил — ловил сетями рыбу на Волге на своей малой Родине где-то под Иваново. Выпивал умеренно и редко.
Но в один из этих редких дней угораздило ему оказаться с баночкой пива у станции метро.
А ещё по стечению обстоятельств оказалась одетой на нём по случаю приобретенная военного образца куртка. По другой случайности обнаружился рядом с такой же баночкой пива в руках и так же «под градусом» мужик, некогда оттрубивший в Афганистане по максимуму и которому в этот момент приспичило поинтересоваться: «Не воевал ли ты, парень, в Афгане?» «Нет», — честно ответил Лёха и сразу же схлопотал длинную тираду о том, какой он неправильный, и что ему, в Афганистане не воевавшему, носить подобную куртку просто не положено…
Слово за слово, разговор в драку перешёл, а у Лёхи в кармане той самой куртки оказался нож. Не тесак — свинорез. Не финка из рессоры. Не «бабочка» с фиксированным лезвием. Обычный складной ножичек. Якобы, швейцарский (имелся белый крест на характерных красных пластмассовых щечках), наверняка, китайский, сляпанный узкоглазыми умельцами из далеко не лучшей стали где-то в закоулках Поднебесной.
Его то и выхватил Лёха в самый критический момент выяснения отношений с «афганцем». Выхватил и пустил в ход, после чего у его оппонента появилось несколько проникающих ранений, «в результате которых оказались поражены важные жизнеобеспечивающие органы».
Сейчас Алексей и сам не знает, как всё это стряслось — случилось. Страшно боится, что порезанный им радетель «афганского братства» до сих пор находящийся в больнице, умрёт. Тогда и «его» статья УК будет строже и срок, ему «светящий», станет длиннее.
Впрочем, ситуация у Лёхи была житейская, про которую, пусть с натяжкой, можно сказать «на его месте мог бы оказаться каждый».
Так что по «делюге» у меня к нему никаких вопросов нет и никаких отторжений (так и хочется ввернуть модное слово) не наблюдается.
А вот по мироощущению своему, по ценностям своим этот человек мне откровенно неприятен.
Дня не проходит, чтобы поступками своими или откровениями Лёха не напомнил, что мы — не просто разные люди, а продукты двух, если и не агрессивно враждебных друг другу, но совершенно противоположных по сути, систем.
Только вчера позволил он себе фразу из считанного количества слов, но характеризующую его куда более ёмко, чем все характеристики, ранее написанные на него учителями, начальниками, командирами, а теперь ещё и милицейскими специалистами. Даже дюжины слов не было в том откровении: «Я художественных книг не читаю, пустое это дело, я семью кормлю…»
Ударение в слове «семья» было сделано именно на первом слоге.
По поводу «художественных книг» — здесь всё ясно, что же касается второго тезиса, то здесь он просто соврал. Своей семьи у него, несмотря на то, что вступил в четвёртый десяток, нет. Живёт с матерью, оборотистой, битой жизнью бухгалтершей, зарабатывающей куда больше, чем сын.
Неделей раньше Лёха не нашёл ничего лучшего, кроме как установить фотографию своей невесты — не невесты, сожительницы — не сожительницы, словом, «дамы сердца» — работницы того же текстильного института, в котором работал, на одну полочку, где до этого стояли только иконы.
Три бумажные, размером меньше открытки, оставленные там прошлыми, уже отбывшими на этапы, обитателями этой хаты: Иисус-Христос, Николай-Угодник, Матронушка Московская, и моя, ещё меньшая по размеру, деревянная: Богоматерь Владимирская.
К последней у меня отношение более чем трепетное. Её написал и подарил мне племянник-иконописец лет пятнадцать назад. Икона много где побывала со мной, в том числе и в двух предыдущих столичных судебно-следственных изоляторах, откуда начиналась моя арестантская биография.
По неоговорённой, как-то само-собой сложившейся традиции, эту полку никто никогда ничем не занимал, и вдруг… розовая щекастая баба с соломенной чёлкой и глазами навыкат.
Тогда я, кажется, собрал в кулак всё самообладание, чтобы не отправить эту ткачиху-ударницу (как я мысленно окрестил избранницу Лёхи) в «дальняк» (так на тюремном арго называют имеющийся в камере туалет, точнее канализационное отверстие с едва обозначенным местом для постановки ног).
Ещё больше потребовалось сил, чтобы объяснить обладателю фотографии саму невозможность подобного соседства.
«Любимый образ» он убрал, но комментарии мои выслушал молча с лицом недобрым, а, главное, мало что понимающим.
И вот этому человеку объяснять, почему в обстановке, которая ныне окружает и его и меня, преобладают, царствуют, беспредельничают Серый и Бурый? Нет никакого желания!
Трижды уверен, что он просто не поймёт, о чём вообще идёт речь.
Не поймёт…
А, может быть, здесь и не надо ничего понимать, и не надо зацикливаться на том, какого цвета декорации тебя окружают?
Может быть вообще — не обращать на это внимания — и это нормально, правильно, а вот ломать голову над тем, сколько кругом Серого и Бурого, и почему нет других цветов — ненормально, неправильно?
Может быть, я вообще не то, чтобы схожу с ума, но тихо утрачиваю часть своей нормальности, и первый признак этого недуга — столь болезненная реакция на ущербность окружающей цветовой гаммы?
Что касается моей нормальности и ненормальности — время покажет, а вот, что касается Серого и Бурого, то давно испытываю желание писать два этих слова с большой, заглавной, прописной буквы.
Именно так и пишу: Серый и Бурый, Бурый и Серый.
Не то, чтобы эти слова близки к именам человеческим, но на клички, или, как здесь говорят, на «погоняла» очень смахивают.
Будто речь идёт о двух подельниках. А если подельники — значит, имело место что недоброе, неправильное, что натворили этот Серый и этот Бурый.
Соответственно, придётся им за это когда-то отвечать, расплачиваться.
Пожалуйста, подождите…
Третье погоняло
Казалось, что к концу отсиженной пятёры (ровно половина его срока), человеческого в нём осталось совсем мало.
Ну, разве что сама оболочка, каркас, на котором носилась арестантская роба.
Только и здесь перемены в глаза бросались. Разнесло Вову Петрова, будто на дрожжах расквасило. Да как-то по-бабьи: брюхо рыхлое оттопырилось, бёдра обрисовались. Зато плечи — наоборот, сузились, словно кто-то из них всё мускульное содержимое вниз вытряхнул. И походка изменилась: опять же бабья суетливая развалочка появилась. Плюс — одышка. Плюс, ранее не замечавшаяся, — привычка носом шумно воздух втягивать.
В проходняке Петровичу (такое ему погоняло благодаря фамилии поначалу досталось), особенно зимой, когда в телаге[39], уже сложно было: пробирался враскачку с кряхтением и вздохами. Ещё сложнее стало коцы[40] зашнуровывать. Когда он ради этого нагибался, сопел особенно натужно, и лицо свекольным цветом наливалось.
Разумеется, способность говорить сохранялась. Но и тут перемены налицо были. Весь его разговор на добрую половину своего содержания теперь теме еды посвящался. Да что там разговор! Вся его лагерная движуха, все поступки были исключительно с продовольствием и питанием связаны. Прежние арестантские приятели, с кем он ещё в Москве на Матроске общался, с кем по этапу шёл, с кем срок тянуть начинал, стали сторониться его, как неудобства. Потому, как весь разговор при всякой встрече в несколько совсем простых трафаретов без труда втискивался. «У тебя сахар есть? Насыпь чуток…». Или — «Говорят, тебе кабан[41] зашёл… Подбрось чего-нибудь…» Или «Ты прошлый раз салом угощал… Вещь! Отрежь ещё кусочек…»
И не столь уж далёкое вольное прошлое Володя Петров вспоминал теперь исключительно в определённом ракурсе. Про то, как в Москве при большом начальнике шоферил, каких знаменитостей близко видел, свидетелем каких разговоров быть выпадало, уже не рассказывал. Любой экскурс в долагерное прошлое к продовольственно-кулинарному аспекту неминуемо сводил.
С придыханием и причмокиванием.
Например, как некогда за сущие копейки в Госдуме можно было классно пообедать.
Какой экзотической снедью однажды в посольстве Малайзии накормили, когда он шефа с банкета дожидался.
Сколько шашлыка из отборной вырезки как-то осталось после пикника, куда он шефа возил (и всё это ему домой забрать разрешили).
Всё чаще повторялся в этих рассказах Володя Петров. Обычно дублировал сюжет, как в день, когда начальник на особо важном совещании надолго зависал, он предпринимал манёвр, казавшийся ему вершиной мудрой изобретательности. На этот день Володя отпрашивался у Шефа отбыть по семейным надобностям. Тогда же жене объяснял, что на работе забот выше крыши. Сам же ехал к матери, заранее попросив нажарить к его приезду котлет.
Не раз мне приходилось быть тем, на кого Петрович в очередном приступе откровенности вываливал булькающие желудочным соком подробности былых обжорных торжеств.
— Понимаешь, — понижал он голос до трагического шёпота, — приезжаю, а они… в сковородке шкворчат… Котлеты… Фарш пополам из свинины с говядиной… Запах ещё от лифта… Я сразу за стол… Одну, вторую, третью… Вкусно…
Здесь он почему-то делал круговое движение кистью руки. То ли очерчивал контур той самой сковородки. То ли воспроизводил траекторию перемещения котлет.
— А гарнир?
— Зачем гарнир? — удивлялся, не замечая никакого подвоха, Володя, — их же много, они… вкусные…
— Ну, а потом? — иногда у меня не получалось остановиться.
— Потом ложился… Спал часа три… Мобильник отключал… Телефона квартиры матери не знал никто… Красота…
И снова лучилось несказанным удовольствием лицо Петровича, снова без устали ходил его кадык, едва справляясь с то и дело наполняющей рот массой слюны.
Разговаривать с ним тогда ещё было можно. И слушать его тогда было ещё не в тягость. Потом со всем этим стало сложно.
Удивительно, но при своём почти религиозном отношении к еде, казённой арестантской пищи Володя почти не употреблял. Обходился лагерным ларьком, посылками из дома и щедротами семейника — в недавнем прошлом фермера из местных, которому справный харч в зону по зелёной шёл. Разве что полагавшиеся по субботам кусочек жареной рыбы и крутое яйцо непременно забирал в барак, да причитавшейся по средам микроскопической котлетой, в которой, кроме сои с пережаренной панировкой, ничего не было, не брезговал. По поводу прочих незатейливых компонентов арестантского рациона, что с ещё догулаговских времён объединялись под почти зловещим термином «баланда», он морщил нос, традиционно сопел и натужно выцеживал:
— У меня от этого живот пучит…
Все процессы, стремительно набиравшие силу в сознании Петровича, незамеченными для прочих арестантов не прошли. Да и что пройдёт мимо намётанного взгляда российского зека? Соответственно, на всё реагировал острый арестантский язык. Потому и нейтральная кличка «Петрович» сменилась на более конкретную — «Запарик». Запариками на тюремно-лагерном языке называют лапшу быстрого приготовления, самый распространённый компонент содержимого арестантских посылок. Так что вполне говорящей, хотя и вовсе не обидной, почти ласковой, оказалась вторая кликуха Володи Петрова.
Совсем иным оказалось его третье лагерное погоняло.
Обратил внимание кто-то из соседей Володи, как натужно и суетливо он стал двигаться, как побелело и округлилось его тело и выдал, как калёное клеймо припечатал — опарыш. Верно, несла такая кличка в себе и обидное, и оскорбительное. Верно, с автора за всё это можно было бы спросить. Только как спрашивать? В лицо Володю так никто не называл, а что за спиной говорят — ко всему и не прислушаться. Между тем, за глаза по-другому его уже никто и не звал: Опарыш да Опарыш.
Разумеется, судачили арестанты по поводу перемен в поведении Петровича. Тут-то и полезли торчком из делюги Володи Петрова детали, которых и раньше никто не прятал, но на которые никто до этого внимания и не обращал.
Оказывается, Петрович не просто зарезал своего собутыльника, с которым вышли у него спор и драка, а нанёс ему, что было зафиксировано в приговоре и прочих мусорских бумагах, аж двадцать два (!) ножевых удара, половина из которых, как следовало из тех же бумаг, были из категории «с жизнью не совместимых».
Выходит, тыкал Петрович ножом уже неживое тело и нисколько его не смущало ни очень близкое обилие крови, ни уже утраченная собутыльником способность дышать, ни прочие признаки того, что тот, с кем он полдня разделял застолье, — существо уже неодушевлённое.
Всё это странно, но всё это… бывает. Любой, кто на строгом режиме был, подтвердит: случаются такие переплёты. Если человек полдня бухал, а потом очень сильно испугался (шутка ли, если его убить, как утверждал сам Петрович, собирался собутыльник) так… бывает.
Замкнуло или, как на той же зоне говорят, зашторило.
С натяжкой, с натугой, но понять — объяснить и даже, зажмурившись и вдохнув поглубже, простить это можно.
А вот дальнейший сценарий развития тех событий в мозги нормального человека уже просто не втрамбовывается.
Оказывается, после того, как изрешетил Петрович своего собутыльника и сотрапезника, перетащил он труп в ванную, накрыл одеялом и сидел у этой «колыбели»… почти неделю. Ну разве что пару раз в магазин спускался, чтобы выпить купить.
Вот так сидел и потихоньку выпивал.
А на календаре июль, а на улице тридцать с хвостиком. Не надо ни аналитических способностей, ни большой фантазии, чтобы понять, как уже на третий день в квартире начало пахнуть и, как тяжело там стало дышать на день пятый.
Между тем, милицию Петрович вызвал к концу недели сам. Тогда же вызвал и трижды бесполезную «скорую помощь».
Не знаю, что сказали бы по этому поводу специалисты-психиатры, но бескомпромиссные российские зеки предпочли рубануть с плеча: непорядок у Петровича с головой. Тут же и простенькая логическая цепочка родилась. Сначала Петровича разом замкнуло, когда он своего собутыльника в решето превратил. Потом, уже в лагере, что-то похожее на него тихо, постепенно начало накатывать. И это «что-то» выразилось в непомерном, так бросающемся в глаза на зоне, и таком неприличном на той же зоне особенно, чревоугодии.
Конечно, это чисто арестантское, сугубо зековское, очень-очень специфическое объяснение перемен в поведении Володи Петрова. Только разве было откуда взяться иным объяснениям?
В обсуждениях ни прошлого ни нынешнего поведения Петровича-Запарика я не участвовал, поисками объяснений поступков его не занимался. Даже когда за спиной его рядом с кликухой зашуршало тревожное «кишкоблуд», не переставал с ним и чай пить и в шахматы играть.
Конечно, здесь аукнулась русская литература, в которой человеколюбия порою перебор чрезмерный. На ней я воспитывался когда-то, с её помощью и попытался теперь оправдывать Опарыша. Старался углядеть в его чревоугодии неординарный метод выживания в жерновах современного, вовсе не прибавившего в двадцать первом веке доброты и гуманизма, российского лагеря. И чисто арестантский козырь правоты своей наготове всегда имел. Мол, действительно, двинулся на жратве Петрович, действительно ничего, кроме неё, видеть и слышать не хочет. Только разве страдает от этого «общее»? Разве перестал при этом делать арестант регулярные, столь необходимые взносы «на атас, на уборку, на заготовку»?
Благо, не пришлось мне озвучивать свои аргументы. Всё как-то само собой разрешилось. И ещё раз подтвердилось, что русская литература — это хорошо, что любить людей — это очень правильно, но жизнь реальная — это совсем иное измерение.
Кстати, к той же литературе у Володи Петрова отношение странное было. Книг он не читал вовсе. И это в зоне, когда за книгу берутся часто те, кто на воле чтение напрочь игнорировал, кто за всю жизнь ни разу ни в одной библиотеке никогда не был. А тут… Вроде москвич, вроде в далёком прошлом почти законченный какой-то институт, вроде и речь вполне грамотная. Не удержался, спросил об этом Петровича, когда при этом рядом ни лишних ушей, ни лишних глаз не было. Отреагировал он на вопрос так, будто хотел подтвердить правильность своего последнего, пусть только за спиной его потребляемого, погоняла. Заёрзал, будто не имел возможности потрогать внезапно зачесавшуюся спину, засопел мрачно и глаза до щёлок сузил.
— А чего в книгах то этих? Ни-че-го… Глаза у меня болят…
И добавил совсем по-лагерному колюче:
— С какой целью интересуешься?
Засопел при этом уже угрожающе.
Мне в этой ситуации ничего не оставалось, кроме как в сторону отойти да про себя чертыхнуться. И опять же не вслух в собственной глупой неосмотрительности покаяться: никогда не надо задавать вопросов, ответов на которые, сам знаешь, не существует.
Сгущались тогда над головой Володи Опарыша тучи, всё чаще недобрые разговоры за спиной затевались. Вот тогда-то у меня и колыхнулось внутри что-то вроде хищного азарта. Решил: во что бы то ни стало сохранить отношения с Петровичем. Не сколько для него, сколько себя старался. Зачем лицемерить, на поводу у собственной гордыни пошёл, себя захотел испытать, проверить, смогу ли вот так в одиночку, если не против всех, так против очень-очень многих, выстоять-выдюжить.
Тем временем в арестантской биографии Петровича перемены грянули. По лагерным, собственно, и по любым человеческим нормам знаковые и необратимые. Был он с поличным застигнут за попыткой откромсать шматок сала от чужой краюхи из общакового холодильника. По первому разу с учётом зрелого возраста не был он объявлен крысой[42], даже затрещины не получил, его просто предупредили: не прав, нельзя так делать. Решили, бес попутал, желудок разум задавил. Словом, совсем сухим из той воды Опарыш вышел.
За первым залётом — второй. Сюжет — как по трафарету с предыдущего. Видели арестанты, как из того же общакового холодильника Петрович от не своей палки колбасного сыра кусок норовил отломить. Совсем нехорошо, что между первым и вторым событиями всего два дня прошло. Выходило, что никакого урока из первого проступка он не извлёк. Значит, ни в грош не ставил ни арестантский кодекс, по которому воровство у своих — грех великий, ни мнение представителей отрядного блат-комитета, которые ему про это напоминали. Это уже серьёзно! Предстоял Опарышу вызов в «угол»[43] и тягостный разговор по поводу всего случившегося. Такой разговор уже непременно предполагал наказание.
В тот самый день, когда этот вызов должен был грянуть, умудрился он ещё раз отличиться. И уж самым непростительным образом.
Застукали Опарыша за тем, как он с обиженными полоскался: колбасу из посылки вместе ел. И не просто ел, а от одного куска по очереди откусывал. Такое арестанту с пятью годами отсиженного уже не прощается.
Словом, когда позвали Петровича в «угол», хорошего ждать было неоткуда.
Ничего хорошего и не случилось. Не знаю, что говорил в этот момент в своё оправдание Володя Петров, говорил ли что-то вообще. Скорее, просто отмолчался. Разве что носом шумно воздух втягивал, как это часто с ним в последнее время бывало.
А вердикт вполне предсказуемый был. Решено было Опарыша переложить, переселить с участка «для порядочных» в проходняк «для обиженных. Территориально это было, с учётом сжатых лагерных пространств, всего в нескольких метрах от места его прежнего расположения. Если же оперировать категориями, по которым жизнь в зоне организована, выходило, что перемещался Володя Петров просто в иное измерение. Соответственно получал ярлык, от которого до конца срока не отскоблиться. Больше того, такое клеймо арестант и по освобождению до дней своих последних сохранял. Шутка ли, лишиться статуса порядочного! Шутка ли угодить в сектор для обиженных! Стать нерукопожатным и всякого прочего внимания недостойным.
Кстати, угодить туда — означало пробыть там непременно до конца срока, ибо механизма возвращения оттуда не существовало вовсе. Туда — можно. Обратно — нет! Как в некоторых видах зубчатой передачи. Движение только в одну сторону.
После этого и у меня, даже с учётом всех последствий воздействия человеколюбивой литературы, не было желания поддерживать даже минимальные бытовые внутрибарачные отношения с Петровичем. Как-то в приступе самокопания, которым иногда грешил во время своего срока, хлестанул сам себя: боишься!
Потом сам себя одёргивал, успокаивал, потому что тут всё вполне складно получалось. Ведь было чего бояться: начни я общаться с тем, кто за грехи в «обиженку» определён, сам бы сильно рисковал туда следом угодить. И туго бы мне пришлось в поисках слов и аргументов, чтобы статус свой отстоять.
Логика стройная, а внутри всё равно беспокойство корячилось: струсил, струсил, струсил…
Так бы и думал, тем бы и угрызался, да случился в арестантской биографии Запарика-Опарыша ещё один вираж, после которого оставалось мне лишь покачать головой: ушёл он в столотёры.
Впрочем, никакой это был и не вираж, а вполне осознанный шаг, скорее даже, прыжок в ту сторону, о которой я уже говорил. Туда, куда, в арестантском измерении можно, а обратно — никак.
Столотёры — те, кто в лагерной столовой со столов грязную посуду и остатки еды собирают. Должность столотёра — козья, из разряда неуважаемых, нерукопожатных. Зато — сытая. Руководство столовой (разумеется, из козлов) расторопность столотёров стимулирует, подкармливает: то маслица у диетчиков отщипнёт, то мясца с мослов подрежет. Понятно, последний фактор для Опарыша роль наживки и сыграл. Ну и заглотил Володя Петров эту наживку. Сам видел, когда пришел на ужин после второй смены, как восседал он в кампании таких же столотёров в особом козьем кутке, что из общего зала через окошко «раздача пищи», просматривался. Восседал и что-то вкусное прямо из бачка-девятки, в которых баланду на арестантские столы подают, за обе щеки наворачивал. Искреннее удовольствие лицо его излучало.
Ну и на здоровье!
А русская литература — штука непростая и противоречивая. Кого — оправдывает, кого — окрыляет, кого — похоронить помогает.
Глядя на Опарыша, котёл обнимающего, вспомнил не Достоевского, не Толстого не Горького. Вспомнил ныне затюканного и полузабытого Аркадия Гайдара. Не «человек — звучит гордо» вспомнилось. Мальчиш-Плохиш вспомнился. С бочкой варенья и ящиком печенья.
Совсем простенькая параллель. Примитивная ассоциация.
Видимо, не прибавил мне лагерь интеллекта…
Герасим с пятого барака
Много говорить на зоне не принято.
Не приветствуется.
Не дай Бог, в категорию болтунов, по тюремному — «балаболов», угодить.
К последним отношение соответствующее со всеми вытекающими последствиями. От «балабола» до фуфлыжника[44] — совсем рядом, а оттуда и в петушатник[45] лихо загреметь запросто.
Ступеньки известные. Скользкие и покатые. Скатиться по ним — раз плюнуть, а обратно подняться, вскарабкаться — уже никак. Не было случая, чтобы кто-то здесь, свое лицо потеряв, его назад вернул. Как в некоторых видах зубчатой передачи — все движения только в одну сторону.
Николай Нечаев, на воле — дальнобойщик, угодивший на зону за неосторожную «мокруху», в лагерной жизни — «мужик»[46], эти истины усвоил твердо и следовал им чётко. Особых усилий при этом не предпринимал, не пыжил, как здесь говорят. Он и на воле был на слова не очень щедрым. А тут, с учётом всех параграфов неписанного кодекса порядочного арестанта с поправкой на все местные строгости, молчаливости только год от года прибавлял.
Так наприбавлял, что стал вскоре обходиться самым минимумом слов, все чаще вместо слова просто жестом отделывался: то кивнет, то рукой махнет, то плечами пожмет.
От такой формы общения два конкретных положительных момента. Во-первых, подобный стиль избавлял от общения с теми, с кем общаться вовсе не хотелось. Во-вторых, максимальная молчаливость на нет сводила всякий риск сказать-сболтнуть что-то лишнее, за что «добрые соседи», если и не потянут в угол[47] для объяснений, так уж запросто поднимут на смех. Едкий арестантский смех с приколами, близкими к издевательству. А уж с этим у лагерной публики никогда не задерживалось.
В деталях помнил Коля, что случилось год назад с его соседом Юркой Лупатым. Последний имел неосторожность попросить своего семейника[48]-москвича: «Закажи близким, пусть в ближайшую посылку план Москвы кинут, никогда не был, хоть по карте попутешествую»…
Вроде, и говорил Юрка доверительным шёпотом. Вроде, и не было никого рядом.
Только минуты не прошло, как вибрировали утлые стены барака от раскатистого, совсем недоброго арестантского хохота, а со всех сторон сыпались реплики, одна другой занозистей. «Вот Лупатый откинется — в Москву дёрнет банк брать, чтобы до старости закурить-заварить было…». «Нет, в Москве у Лупатого невеста, с горбом, без п…ы, но работящая, ждёт его в доме с окнами на Кремль, а ему этот дом без карты не найти…». «Юрок в Москву приедет — чудить начнет: то на лампочку дуть, то с палкой за трамваем бегать…».
Сам Лупатый только ёжился под градом колючих острот да виновато оправдывался: — «А я чего, я — ничего, в Москве ни разу не был. Вот как освобожусь, хочу на Красную площадь заехать, на могилу Высоцкого зайти, в метро покататься, я метро только по ящику видел…».
Из подобных ситуаций Коля Нечаев только один вывод делал — самый простой и самый правильный для той обстановки, в которой пребывал: молчать лучше, чем говорить.
И вопросы лишние в зоне задавать не принято.
Не приветствуется.
Тут еще больше риска на неприятности нарваться.
Почти на любой вопрос всегда можно получить встречную слепящую плюху: а с какой целью интересуешься? Какой смысл в подобный вопрос на зоне может вкладываться — догадаться несложно. Вопрос не просто подразумевал недоверие, а выражал конкретное подозрение: уж не стукач ли ты? Еще более понятно, что это подозрение ничего хорошего подозреваемому не сулило.
Молчаливость Николая Нечаева незамеченной не оставалась. Окружающих она не то, чтобы раздражала, скорее, удивляла, у кого-то даже уважение или зависть вызывала: вот, мол, молодец, получается у него метлу на контроле держать[49], потому и проблем особых у него нет, потому и всё ровно у него.
Уважение — уважением, зависть — завистью.
Чего тут больше было — не подсчитать, не измерить. Только все чаще вместо обычного «Колян», «Коля», «Нечай» стали его Немым звать, а потом один вёрткий на язык москвич с последнего этапа и вовсе припечатал его новым погонялом[50] — Герасим.
Любая кличка — липкая и приставучая, а чем кличка необычней, тем сильнее эти качества проявляются. Скоро уже напрочь позабылись былые Нечай, Коля и Колян, и все обращались к нему исключительно — Герасим.
Николая Нечаева факт присвоения нового прозвища не то, чтобы вовсе не тронул, но озаботил минимально. Герасим так Герасим. Знал он прекрасно, что рождённые в арестантской среде клички часто бывают куда более обидными, более неприятными и даже вовсе неприличными.
Подумаешь, Герасим. Всего-навсего почти устаревшее, почти не употребляемое имя. И ничего страшного, что героя какого-то рассказа, который проходили на уроках литературы в пятом классе, звали так же.
Ерунда всё это по сравнению с насущными заботами и проблемами.
А насущные проблемы и заботы — они на каждом шагу, каждую минуту о себе напоминают.
По сути своей эти проблемы на два вида разделяются: проблемы минимум (чтобы закурить-заварить было, чтобы одежда и обувь тепло держали, чтобы шконка[51] не проваливалась, чтобы шмоны и все прочие неприятности стороной обходили) и проблемы максимум (это то, что в семье творится, какие перспективы у тебя на УДО[52]). И когда это УДО, проклятущее, вожделенное, грядёт?
Проблемы минимум у Коли Нечаева решались благополучно. Жена, вроде как, дожидалась, хуже с УДО было.
В итоге, оно ему так и не выгорело.
Сначала отрядник[53] напакостил. Сочинил (именно сочинил, ибо никаких фактических оснований у него для этого не было) никудышную характеристику для суда, на котором судьбы всех желающих уйти по УДО решались. В характеристике чёрным по белому указывалось, будто осужденный Нечаев Николай Сергеевич воровские традиции поддерживает, примкнул к осуждённым, отрицательно настроенным, на путь исправления не встал.
Такому лобовому вранью Нечаев даже не удивился. Такая пакость была предсказуема, ожидаема, пожалуй, а с учётом всех сложившихся в лагере традиций, даже неминуема. Ведь согласно этим традициям условно-досрочное освобождение здесь всегда покупалось. Из расчёта приблизительно двух тысяч рублей за каждый оставляемый недосиженный месяц.
Схем для подобной процедуры существовало множество: через отрядника, через адвоката с воли, через хозяина[54] или кого-то из его замов, через прочих начальников и чиновников, имеющих какое-либо отношение к лагерной системе.
Только не было таких денег у Николая Нечаева, просить у жены он не хотел, да и знал он, у неё таким суммам взяться было просто неоткуда. Иные платежеспособные доброжелатели у него просто отсутствовали.
Так и досидел Коля Нечаев, он же Николай Сергеевич Нечаев, он же Герасим, свою «пятёру» до конца, до звонка.
В день его освобождения, согласно традиции, в бараке было заварено ведро чифира, гуляли по кругу «порядочных»[55] разнокалиберные кружки и бокалы, и выслушивал он то, что обычно говорят арестанты своему уходящему на волю соседу: — «Ну, давай, Герасим», «Не попадай больше, Герасим», «Всего тебе, Герасим».
На все пожелания и напутствия он только кивал, иногда улыбался отстранённой, чуть глуповатой улыбкой.
К вечеру ближе (посёлок его от зоны отделяла всего сотня километров) переступил Николай Нечаев порог своего дома.
Встречен был достойно. Убранной квартирой, праздничным, хотя и скромным, столом, милым щебетом десятилетней, неузнаваемо изменившейся дочери, счастливыми, то и дело намокающими, глазами жены.
А ещё через два часа что-то похожее на слезу пробило и его самого.
К этому времени дочка, посидев со взрослыми за большим столом, вернулась за свой письменный стол, за которым всегда делала уроки. Из стопки учебников на углу стола вытащила нужный, раскрыла на странице, отмеченной приспособленным под закладку фантиком и громким шёпотом начала что-то читать. «Литературу к завтрашнему учит, сейчас Тургенева проходят, ее учительница хвалит», — пояснила Николаю жена, не снимая с его плеч горячих рук.
А со стороны письменного стола доносился торопливый невзрослый шёпот: «Герасим рос немой и могучий…».
«Тургенев, значит…?», — только и спросил Нечаев и надолго отвернулся в сторону окна, в котором уже стояла густая ноябрьская ночь.
Смотрун Харлашкин
На зоне смерть арестанта — событие заурядное.
Потому и проходит всегда блёкло и тихо.
Человек умирает, а отношение окружающих к этому такое, будто арестант просто с одного лагеря на другой переезжает.
И будто все знают, что не будет впереди никаких резких перемен, что ждёт его тот же пейзаж с «запретками»[56] и вышками, та же сечка в столовой, тот же режим, на котором ни «крепить»[57] никто не будет, но и поблажки не посыпятся.
Соответственно, ни ужаса, ни, тем более, радости.
Потому что для арестанта переезд с зоны на зону — дело обычное.
Вот так и с Колей Харлашкиным, отрядным нашим смотруном было. Никого его смерть не встряхнула, не напугала. Тем более, что умер он не в зоне, а дома, ровно неделю спустя, как его актировали.
Не знаю, как во времена Шаламова, а в нынешних зонах актировка — явление сверхредкое. Правы те, кто шутит: актируют только тех, кто не просто одной ногой в могиле стоит, но и вторую ногу в ту же сторону уже до половины дотянул. За время моего срока только четверых и актировали, и никто после этого больше десяти дней не прожил. Будто врачи мусорские особый дар имеют: точно видят, какие сроки Судьба человеку определила, и, аккурат, за недельку до этого арестанта отпускают.
Сказочники лагерные мрачно фантазируют по этому поводу, вроде как «актированным» перед тем, как им на волю выходить, специальный укол делают, или особо лютой микстуры выпить дают.
Это чтобы недавний зек приличное общество собой долго не обременял и лишних проблем доблестным правоохранителям не создавал.
Логика в этом «ужастике» есть, но лично я в него не верю.
Не потому что нынче в нашей тюремно-лагерной системе гуманизм и человечность утвердились.
Просто знаю, если бы существовала подобная, пусть сверхсекретная, практика, информация о ней всё равно «в народ» просочилась. Ведь не держатся в зоне секреты. Ни среди арестантов: стукачей здесь в избытке, у них работа кипит и ударников в этой работе — хоть отбавляй. Ни среди «мусоров»: те любую тайну, если тем же арестантам за блок «фильтровых» не продадут, то за лагерными воротами по пьянке просто даром разболтают. Понятно, какой скандал бы разразился, когда про такую «передовую технологию» стало бы известно.
Так что с куцыми сроками доживания после актировки — здесь просто мистика.
По какой бы причине арестанта не актировали — дальше сценарий одинаков: доползёт он до дома, подышит свободой недельку и… финиш.
На последний этап!
На вечный срок!
В заоблачную зону!
Откуда уже ни «маляву» не отправить, ни по «трубе» не набрать.
А Коля Харлашкин в декабре умер, за неделю до Нового года.
До этого его шесть месяцев по «больничкам» всех калибров (наша лагерная, потом областная, потом кустовая, что на несколько областей, опять же для нас, арестантов) мучили. То анализы какие-то особо болезненные из него вытаскивали, то диагноз уточняли, то просто о нём напрочь забывали.
Началось то всё с майской «флюшки».
«Флюшка» на арестантском языке — это рентген.
Через него всех в зоне в обязательном порядке дважды в год прогоняют. Вот тогда у него на одном из лёгких затемнение обнаружилось. Вскорости и приговор грянул: рак. Да в какой-то безнадёжной стадии, когда врачи, большие любители в человеке скальпелем поковыряться, про операцию уже не заикались.
В конце лета, между своими выездными «больничками», Николай в лагерь вернулся. На барак уже не поднимался, какое-то время в санчасти пробыл. В локалку[58] выходил. Имел возможность с нами, идущими мимо, то в столовую, то на «промку[59] общаться.
Понятно было, что смерть своим крылом по его лицу уже жестко мазнула, что всё посчитано, что всё определено, что жизни, ему отведённой, совсем мало осталось.
Изменился он к тому времени неузнаваемо.
И не в обострившихся скулах и ввалившихся глазах было дело.
Какая-то болезненная сосредоточенность на его лице появилась.
Будто он что-то мучительно вспомнить пытался или о чём-то тяжелом и сверх важном размышлял постоянно.
Тогда я с соседом по проходняку[60] вздумал Николая проведать. Взял пачку зелёного чая из недавно полученной «дачки» (любил его он не меньше чифира традиционного), добавил к ней горсть шоколадных конфет с последнего «ларька» — вполне серьёзный «подгон» получился.
Локалка на наше везение незапертой оказалась, и сам смотрун наш в этот момент неспешно по ней прохаживался. Поблагодарил Николай за гостинцы, за руку поздоровался. Я, не подумав, при этом ещё и приобнять его попытался. Здесь-то и жестоко ошибся я, для Николая такая форма приветствия уже невозможна была. Едва я его тронул — у него гримаса на лице, и не сказал он тогда, а прошипел с ненавистью:
— Да что ты жмёшь-то так, у меня болит всё, всё больно…
Гримаса эта, в которой злость пополам с мукой была перекручена, так с его лица до конца нашего разговора и не сходила. Да и разговора этого не получилось. Неловко мне было за боль причинённую, да и понятно было, что худо ему, не до беседы, не до общения. Так и разошлись, едва дохлым рукопожатием обменявшись.
Через месяц его снова на «больничку» этапировали.
Оттуда он звонил пару раз Славке Дербентскому, тому, кто у него барак принимал. Иногда ещё бодрился, ругал врачей, даже шутил. Только бодрился неестественно, шутил неуклюже. По осени снова вернулся Николай в зону, снова в лагерную санчасть.
Вот теперь-то окончательно ясно было, что дней его оставалось на этом свете совсем немного. В локалку он уже не выходил. Большую часть времени лежал, повернувшись лицом к стене, или слонялся по коридору, тяжело загребая обутыми в бесполые боты «прощай молодость» ногами. К телевизору он не подходил, карты и нарды, что считаются вечными спутниками арестанта, в руки не брал.
Успел я тогда проведать Николая, принести вечно актуальные в зоне чай и что-то сладкое к нему, поговорить обо всём и ни о чём.
Не сказать, что тогда Николай переживал необратимое приближение смерти, что наваливающийся момент расставания с жизнью его страшил и заботил.
Скорее получалось, что жизнь, неумолимо уходившая, просто не представляла для него никакого интереса, а то, совершенно неизвестное и обычно всех пугающее, что должно было последовать взамен, ему было безразлично…
Разные, очень разные были мы с Николаем Харлашкиным люди. Общего — близкого разве что возраст, по-лагерному почти стариковский: и ему под полтинник (отсюда и погоняло «Дед»), и мне почти столько же. Всё остальное — как два разных космоса, как «два мира — два детства».
Он — давний авторитетный член лагерного «блаткомитета», знаток и ревнитель «правильных» тюремных традиций.
Я — «первоход», зону только в кино и видевший.
У него за плечами — три «ходки», все по «строгим» статьям.
У меня в недавнем прошлом — «верхнее» образование, серьёзная работа, на которую в белой рубашке с галстуком ходить полагалось.
Он зоной только и жил, был давно с нею одним целым.
Я же к зоне только принюхивался с твёрдой уверенностью, что этот этап в моей жизни случайный и короткий.
Более того, ничем я не был обязан своему первому смотруну Николаю Харлашкину.
Как ни копайся в памяти, в какие её закоулки не заглядывай, не найти ситуаций и событий, которые могли бы дать основания быть мне ему благодарным.
Хотя, что такое основание для благодарности в отношениях арестантов на зоне?
Здесь в ходу совсем другие ценности.
Кто ни сидел — тому не втолковать.
Кто сидел, понимает их каждый по-своему и, тем более, вряд ли решится обсуждать эту тему.
Всё именно так, но пара моментов связанных с Николаем Харлашкиным, врезались в мою память намертво и, похоже, выживут в ней даже тогда, когда возрастная подлая немощь начнёт эту память безжалостно разрушать.
Впервые близко я столкнулся с Николаем недели через две, как «поднялся» на барак.
Тогда я ещё не пришёл в себя после этапа (двое суток в купе «столыпина», где вместо четверых было втиснуто пятнадцать человек), тем более не успел переварить свой беспредельный восьмилетний приговор, издевательски заменённый по «касатке»[61] на семилетний, не менее беспредельный…
В тот день я сидел на шконке, по-турецки спрятав под себя ноги, и штопал носки.
Что с лагерной, что с «вольной» точки зрения, был занят делом предельно заурядным. Дело-то заурядное, зато носки были совсем незаурядными. Новые, честной ручной деревенской вязки, шерстяные носки. Получил их ещё в Бутырке, в семейной «дачке» собранной женой и сестрой. В тюрьме их не носил, берёг на этап, который по всем признакам должен был выпасть на декабрь-январь, что так и вышло. На этапе носки мне, действительно, помогли, но при этом самым жестоким образом… протёрлись. В итоге ситуация: совершенно новые толстые тёплые носки, у которых вместо пяток — две громадные дыры с бахромой из шерстяных ниток.
Выбрасывать подобную вещь даже в вольных условиях — пижонство. В лагерных условиях отказываться от такой вещи — пижонство вдвойне, совсем уже нездоровое явление.
Естественно, едва осмотревшись на отряде, я раздобыл иглу с ушком побольше (давало знать капитально севшее за год тюрьмы зрение), сел поудобнее и начал штопать свои носки. Понятно, делал это не очень быстро, не очень умело, но, как потом оказалось, вполне основательно. Извёл почти катушку самых толстых, что смог найти в бараке, ниток, потратил на ремонт каждого носка часа по два времени.
В разгар своего штопального священнодейства почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Оглянувшись, увидел отрядного смотруна. Обронил тогда Дед единственное слово-вопрос: «Портняжничаешь?». Смотрел удивлённо одобрительно. И в голосе никакого ехидства не было…
И в другой запомнившийся момент не удивил Николай своим красноречием.
К тому времени лагерный мой стаж перевалил за полгода.
Уже были в моём «зековском» багаже и окончательно отметённые (после болезненных, правда, размышлений) предложения о «козьих» должностях, и реализованное решение выйти на промку, уже действовал мною же и установленный жесткий распорядок дня (два выхода в любую погоду на спортгородок к брусьям и турнику, сто пятьдесят страниц прочитанного художественного или научного текста, полстраницы убористым почерком записей в дневнике — черновике будущей книги).
Да и много всего прочего стряслось и случилось за это время в моей жизни, без чего не обходится начало биографии всякого «первохода».
Например, чуть ли не заново пришлось учиться говорить со всей ответственностью «да» и «нет», жестко определять круг своего общения, намечать и различать близкие и далёкие цели.
Никаких вопросов отрядному смотруну при этом я не задавал, ни в чём с ним не советовался.
И он со своими инструкциями ни разу не влезал, ничего не предлагал, ничего не навязывал.
Жили мы с ним на одном участке неволи каждый своей жизнью, своими заботами. Хотя и понятно было, что эта каждая «своя жизнь» секретом ни от кого не является, ибо в зоне человек со всеми своими «плюсами» и «минусами», сложностями и достоинствами прозрачен, как нигде.
Ничего здесь не спрятать, не утаить, потому что слишком мала территория, на которой ты безвылазно обитаешь, и слишком много очень разных глаз за тобою круглые сутки наблюдают.
Однажды, когда после очередного предобеденного захода на турник с последующим обливанием, вытирался, стоя в проходняке, я почувствовал спиной внимательный взгляд. Обернувшись, увидел Деда, стоявшего в привычной своей манере, со склонённой по-птичьи на плечо головой. Услышал его надтреснутый, как у колдунов в мультфильмах голос:
— Сам… По своей волне ходишь… И правильно…
Тогда я просто смутился от совершенно нетипичного для лагерных раскладов комплимента. Не нашёл что ответить. Пожал плечами, кивнул, буркнул что то косноязычное типа — «Да ладно…».
Намертво врос в память и ещё один эпизод, связанный с Дедом.
Как-то на вечернем разводе, когда отряд топтался на отведённом ему квадрате плаца и ждал, пока сойдётся проверка, Николай ни с того ни с сего крикнул через несколько рядов разделявших нас арестантов:
— А, земляк, вот сегодня сон видел… Будто я на воле иду, и ты навстречу… Нарядный — джинсы, курточка типа бархатной… Довольный такой идёшь…
И засмеялся своим трескучим, но при этом совершенно незлым, очень искренним смехом…
А вот тут пояснение неминуемо.
Очень многие люди, попав на зону, становятся сверхчувствительными, сверхчуткими, сверхранимыми.
Иной арестант под воздействием лагерной обстановки просто превращается в комок нервов, точнее его нервы превращаются в комок проводов, где каждый провод без оплётки и под напряжением. К любому пустяку, к любой примете, к любому сюжету, во сне увиденному, у него самое трепетное отношение. Порой от подобной мелочи настроение на три уровня подняться может, когда внутри и фейерверк и музыка сразу. Соответственно, и наоборот случается. Из-за какой-нибудь ерунды арестант в такую дремучую тоску может впасть, что только и остаётся, что следить за ним круглосуточно, как бы он ненароком не вскрылся, не вздёрнулся.
Так что такой оптимистичный сюжет (ты — на воле, здоровый, довольный, в хорошей одежде), подаренный персонально тебе, свой срок начинающему, матёрым авторитетным зеком, дорогого стоит.
И это «дорогое» эквивалента ни в деньгах обычных, ни в чисто лагерной валюте (чае и сигаретах) не имеет.
Несидевшему этого не понять, не оценить, а сидевший, скорей всего здесь только молча головой покачает.
Счастливый сон, мне посвящённый, увидел Николай Харлашкин в начале сентября.
Вскорости началась утомительная и совершенно бессмысленная для него чехарда со скитаниями по больничкам всех калибров, с неоднократными уточнениями диагнозов, с повторными анализами всех видов и с нарастающим ощущением стремительно приближающегося конца.
В начале декабря стало уже совершенно ясно, что Харлашкина непременно актируют, оставалось только уточнить дату, но в этот самый момент посыпались, как шарики из разломанной погремушки, прочие проблемы.
Оказалось, что предусмотренный законом механизм попадания домой освобождающихся с зоны для Деда не годится.
«Не доеду!» — решительно замотал он головой по поводу перспективы возвращения домой в плацкарте поезда «Мелгород-Москва». Билет актированным, как и всяким прочим освобождающимся, покупала, разумеется, лагерная администрация.
Другим и единственным вариантом сокращения расстояния до Москвы для Николая оставалось такси. За уже собственные, понятно, деньги. Стоило это, как минимум, тысячи четыре рублей. В семье Харлашкина, состоявшей из не блещущей здоровьем жены и не окончившего школу сына, таких денег и близко не было.
Оказались неимущими и вольные друзья нашего смотруна.
Не сразу отозвались и местные блатные. Это только в лагерных курилках бывалые сидельцы с многозначительным придыханием «втирали» зелёным первоходам: «Пацаны на воле всё могут…, любые вопросы решают…».
Хотя, в конце концов, именно кто-то из местных криминальных авторитетов выделил необходимую сумму. Был выделен и тот, кому было поручено встретить уже освобождённого Николая в лагерной проходной и усадить в заранее подогнанную машину.
Помню, как через пару дней после этого, мы звонили совершенно вольному, но смертельно обречённому Харлашкину домой в Москву.
Разговаривали по очереди. И я хотел произнести что-то дежурно ободряющее, что обычно говорят, точнее откровенно врут, в подобных случаях. Тогда Дед на другом конце эфира упредил все мои желания, выдохнув хриплым речитативом уже знакомое: «Всё болит, земляк, всё больно…».
Ещё через три дня стало известно, что Николай умер.
Затеяли было по этому поводу чифирнуть всем отрядом, помянуть универсальным арестантским напитком смотруна уже бывшего, да… не сложилось… Обрушился в тот день на нас внеплановый шмон: дюжина совсем незнакомых мусоров (то ли работники соседней зоны, то ли прикомандированные из соседней области) три часа остервенело переворачивали и перетряхивали в бараке всё, что можно было перевернуть и перетряхнуть. После этого едва к отбою успели порядок навести. На другой же день объявилась в зоне проверка — комиссия из областной управы. Опять весь день кувырком: беготня, уборка пожарная и много прочей суеты.
Снова не до чифира.
Так и не помянули мы смотруна отрядного.
Впрочем, не знаю кто как, а я и без этих ритуалов помню его до сего дня.
Почему помню, ведь встречались мне за время моего срока куда более колоритные люди, не знаю. Глупо было бы пытаться здесь что-то объяснять. Память человеческая — организм самостоятельный, сама выбирает, что хранить, что выбрасывать. На своё чутьё полагается. А чутьё это — безупречное.
Черный зверь, лежащий на боку
Не видно ни пасти его, ни клыков, ни когтей.
Виден только громадный, лоснящийся в дождь, запудренный горячей пылью в жару, прикрытый утоптанным снегом зимой, чёрный бок.
Громадный, чуть вибрирующий от дыхания бок хищника-гиганта, неспешно переваривающего свою вовсе не вегетарианскую добычу.
Чёрный зверь, лежащий на боку.
Громадный зверь.
Настолько громадный, что весь наш лагерь легко помещается на его округлом боку. При этом все, находящиеся в лагере, уверены, будто территория зоны — ровная, как футбольное поле.
Единственное место, где мы, арестанты, напрямую соприкасаемся с этим зверем — лагерный плац.
Верить умным словарям, плац — это военная площадь, место для развода войск. Только это с научной, сугубо вольной, ничего общего с нашей жизнью не имеющей, точки зрения.
Для нас плац — часть пространства, в котором мы отбываем срок.
По сути, это часть территории нашей несвободы.
Вся территория несвободы — зона, а плац — центральная её составляющая. Все общежития, или как принято здесь говорить — бараки, все лагерные помещения, от медпункта до комнаты дежурного «мусора»[62] — всё сосредоточено в серых кубиках-корпусах.
Кубики-корпуса сбиты в прямоугольник единого здания зоны.
С внешней стороны прямоугольника — другая жизнь, иное измерение.
Там — воля, где всё разноцветное, где машины, женщины, где можно много чего делать, где можно много куда двигаться.
Только нам путь туда пока заказан.
А внутри прямоугольника — плац, где много чего, как и во всей зоне, запрещено, но можно хотя бы разговаривать и смотреть на небо.
Каждые наши сутки делятся между бараком (там спим, играем в карты, смотрим телевизор, читаем) и плацом (сюда выходим дважды в день на проверку, здесь гуляем, курим, общаемся с арестантами из других бараков).
Ещё мы ходим в столовую (не так часто, как это требует распорядок дня, ибо невелика радость от её посещения), и на промку[63] (ещё реже, потому что сырьё завозят туда нерегулярно, а оборудование ломается часто).
И столовая и промка, понятно, расположены в тех же самых кубиках-корпусах, что образуют собой прямоугольник. Так же понятно, что наш путь туда лежит через тот же плац.
Именно на плацу арестант проводит добрую половину своего срока.
Выходит, большую часть срока арестант проводит на теле зверя. А зверь этот питается нашей энергией, нашим здоровьем, нашей жизненной силой.
Мы, арестанты, — пища для этого зверя.
Кто-то — сегодняшняя.
Кто-то — завтрашняя.
Кто-то — оставленная «на потом», в виде резерва продовольствия на голодный день.
Чтобы забирать наши силы и здоровье, этому зверю не нужно пускать в ход клыки и когти. Всё, что ему требуется, он способен забирать на расстоянии. Арестанту достаточно просто находиться на плацу, чтобы стать жертвой, добычей для этого зверя.
Население колонии прекрасно помещается на плацу во время общих построений. Ещё и место остаётся.
Важная деталь — мы, арестанты, на этом плацу теряемся, с ним почти сливаемся. Это потому, что плац — чёрный, и мы во всём чёрном. Чёрные «телаги»[64], чёрные робы, чёрные «коцы»[65]. А ещё — чёрные круги под глазами (наше здоровье нас на воле дожидается), чёрная щетина на щеках (бриться в здешних местах хлопотно и мучительно), чёрные корешки сгнивших зубов, что при разговоре обнажаются во рту у каждого второго (лечить зубы здесь ещё сложнее, чем бриться).
На первый взгляд, плац — просто территория: по периметру — корпуса-кубики, в середине — люди-человеки.
Но так только кажется.
Ведь у нас ничего, кроме этого плаца нет, за его пределы нам — ни-ни! Самое главное, что так будет продолжаться ни день, ни месяц, а годы, для некоторых — очень долгие годы.
Когда эту истину арестант в своём сознании переварит, «перекубатурит», как здесь говорят, — вот тогда и понятие «плац» для него истинным смыслом наполняется.
Большим, в чём-то философски серьёзном, в чём-то мистически-жутким смыслом.
Если ещё и про чёрного зверя вспомнить, частью которого этот плац является, вовсе не по себе становится.
И «мусора» частенько на плацу бывают.
Только в их жизни это место совсем другую роль играет.
Плац — часть их службы, часть работы. Они сюда регулярно приходят, но также регулярно они отсюда и уходят. Уходят, значит, возвращаются на территорию свободы. Там другие декорации, другие цвета, другие запахи.
А в нашей жизни плац присутствует все двадцать четыре часа ежесуточно.
Никакой смены декораций.
Никаких других цветов.
Никаких иных запахов.
Даже ночью, когда ты в бараке, — всего два шага, только подошёл к окну, и… вот он, тут, как тут, рядом. Большой и чёрный. Кажется, что ночью он ещё больше по своей площади и ещё чернее. Именно ночью, особенно в мелкий, моросящий дождь, вспоминаешь, что плац — это не кусок земли, задрапированной асфальтом, а часть туши лежащего на боку и тяжело дышащего чёрного зверя.
Кстати, похоже, будто «мусора» с чёрным зверем заодно, точнее, они у него в услужении, на побегушках, в «шнырях»[66].
Уверен, что этот зверь беззвучным импульсом отдаёт им периодически приказы, кого шмонать в самом неподходящем месте, кого вызвать в «дежурку»[67] и «подмолодить»[68], на кого накатать рапорт с трафаретным повторением известных формулировок («не приветствовал представителя администрации», «не выполнил команду ‘‘Подъём!’’», «курил в неположенном месте» и т. д.).
Беспрекословно и сиюминутно выполняются эти приказы.
Слуги не смеют ослушаться чёрного зверя.
Сверху наш плац видят птицы.
Недалеко от зоны расположено то ли озеро, то ли болото, то ли и то и другое вперемешку. Потому и пернатые обитают в округе соответствующие — гуси, утки, ещё какие-то водяные голенастые, как фотомодели, мне, городскому жителю, неизвестные, птицы.
Только пролетающие над зоной, имеющие возможность смотреть на нас сверху вниз, птицы — исключение.
Наблюдения арестантов многих поколений повторяют: все маршруты пернатых обходят лагерь стороной. Наверное, потому что от него поднимается мощный столб отрицательной энергии, что рождён бедами людей, здесь находящихся.
Может быть, и не концентрированная беда восходит вверх с территории нашей зоны, а смрадное дыхание чёрного хищника поднимается столбом, и птицы, чувствуя недоброе и нездоровое, повинуясь инстинкту самосохранения, облетают это место стороной?
Тогда, выходит, птицы почти наши союзники, наши доброжелатели?
А вот это слишком!
У них — крылья, у них — воздуха и неба сколько угодно.
У нас — зона, вечные и сплошные «нельзя-неположено!».
Не понять нам друг друга.
Арестанты и вечные их недоброжелатели — «мусора» не единственные живые существа, то и дело появляющиеся на не менее живом теле лагерного плаца.
На право владения этой площадью дерзко претендуют ещё и… кошки.
Кошки зоны — это что-то особенное.
Порою кажется, что характеры их в равной степени копируют как манеры арестантов, так и повадки тех, кто нас воспитывает и охраняет — то есть «мусоров». Ещё подозреваю, что каждая из лагерных кошек просто нагло уверена, будто плац, как и всё находящееся в кубиках-корпусах, его окружающих, принадлежит им, кошкам.
Соответственно, люди, независимо от того, обряжены ли они в чёрные арестантские доспехи, или в серую амуницию сотрудников администрации — здесь что-то вроде временных, снисходительно допущенных постояльцев или бесправных транзитных пассажиров.
Что бы ни творилось на плацу (утренняя и вечерняя проверка, уборка, общее построение по случаю прибытия или отбытия очередной комиссии и т. д.), лагерные кошки в любой момент под любым углом и в любом направлении могут беспрепятственно пересечь его территорию, в любом месте остановиться, чтобы переброситься между собой парой ласковых, а иногда и неласковых «мяу», сделать свой туалет, справить естественные потребности.
Демонстрируя пренебрежительное отношение ко всем и всему, кошки порой проявляют невиданный цинизм.
Чего стоила одна, имевшая место совсем недавно, сценка, когда на свободном пятачке плаца на глазах у всего, построенного в скорбные чёрные квадраты, населения лагеря, лучшему производителю зоны коту Лёве приспичило заняться любовью с трёхцветной Муркой.
Ладно бы, если лагерь построили для обычной проверки.
На этот раз арестантов выгнали из бараков, чтобы обязать послушать представителей очередной комиссии, целую неделю что-то проверявших в нашей зоне. Толстые полковники и подполковники что-то вещали с наспех сколоченной, обтянутой красной (в тон их лицам) материей трибуны, а пушистый красавец, урча и подвывая, справлял своё детородное удовольствие.
Мне показалось, что эти тёртые службой и жизнью монстры тюремного ведомства как-то робели от всего, что творилось в двух метрах перед трибуной. Потому и старательно отводили взгляды в сторону от кошачьего сексодрома.
Зато с чёрным зверем у лагерных кошек отношения почти тёплые. На то они и кошки: малые, но всё-таки звери, всё-таки хищники, словом, родственные души.
Здесь и другое учитывать надо.
Кошки сюда не по приговору и не по этапу прибыли.
Одни здесь родились и нашими же арестантскими харчами вскормлены.
Другие с воли своими хитрыми кошачьими тропами прибыли.
Режим и полная изоляция — это для нас, арестантов, а для кошек здесь — либерализм и демократия на все сто процентов. Кому из них в зоне не по себе, всегда можно теми же тропками за колючку, за запретку[69], за вышки с часовыми, в другую жизнь, от которой мы надолго и всерьёз отрезаны.
В итоге, в сухом остатке, с плацом, с чёрным хищным зверем, лежащим на боку, один на один только мы, арестанты.
Без союзников. Без помощников. Лоб в лоб. Кость в кость. Хоть и лба этого не видно, и кость эту не потрогать.
Чёрный зверь всё видит, всё чувствует, всё понимает.
Он читает мысли и угадывает поступки людей. Как главный хищник на отведённом ему участке леса, он образцово выполняет обязанности санитара-выбраковщика.
Вездесущим своим чутьём обнаруживает ослабевших, запутавшихся, надломившихся.
Споткнувшегося толкает.
Упавшего добивает.
Главная, сверхковарная особенность хищного почерка этого зверя: своих жертв он начинает переваривать, когда те даже не догадываются о своей участи.
Арестант ещё ходит, курит, пьёт чай, возможно, даже смеётся по особенным, лагерным, вольному человеку непонятным, поводам, а невидимые, гибкие и цепкие звериные щупальца уже обвили его руки, ноги, тело, присоски намертво припечатались к телу, и энергия, здоровье, сама жизнь начинает перекачиваться из организма человека в организм зверя.
Хищник жесток и непредсказуем.
У кого-то он забирает сразу всё. Никаких порций, доз, глотков. Вытягивает, высасывает, выкачивает всё! До капли, до конца, без остатка! Сразу всё, включая жизнь, как единственную форму земного существования человека.
Так было с проигравшимся в прах Лёхой Барабаном.
Это только говорят, те говорят, что из кожи вон лезут, представляя лагерную жизнь конфеткой, будто в зоне играть в долг больше, чем на две тысячи не дают. У той конфетки фантик красивый, да начинка ядовитая.
Два дня и две ночи не поднимался Лёха из-за «катрана»[70]. Не спал, не ходил в столовую сам и мотал головой на еду, приносимую отрядными шнырями. Только цедил едкий, отдающий в кислоту, чифир. Не выпускал из рук засаленных, как телогрейка бомжа, карт. На исходе второй ночи, когда долг превысил полтинник[71], ему сказали: — «Хватит, остынь, подумай, где брать, чтобы рассчитаться…». Ударили по плечу. Не больно, но и не по-доброму.
И ещё раз напомнили: «Ищи, думай, надо…».
Весь день Барабан мерял шагами лагерный плац, пытался представить, где найти, как выпутаться. Обращаться к матери, немолодой и нездоровой, поднимающей без мужа (затерялся некогда по тем же лагерным адресам отец Лёхи) двух дочек — его сестёр, он не отважился.
Оставались друзья, кажется, добрые и надёжные. Только заработки их и все прочие доходы, вместе взятые, на малой родине Лёхи в вымирающем совхозном посёлке даже близко не соотносились с проигранной суммой.
Больше обращаться за помощью было не к кому. Безнадёга навалилась на Лёху Барабана.
А за безнадёгой маячило ещё что-то, более конкретное и куда более страшное.
По лагерным законам, неписанным, но строго чтимым, проигравший крупную сумму и не имеющий возможности вернуть долг, чаще всего переводился, а точнее, падал, ибо обратной дороги уже не было, в категорию «фуфлыжников»[72]. Категорию презираемых, но всё-таки сохранивших какое-то подобие своих прав и достоинств, арестантов.
Что же касается должников сверхкрупных сумм (объём долга Лёхи Барабана с лихвой перекрывал все возможные лимиты и нормы), то здесь откровенно маячил шанс очутиться на самом дне арестантской иерархии — в «петушатнике»[73].
Такой ярлык ни отмыть, ни спрятать.
Даже на воле, схлопотавший этот ярлык, приговорён не расставаться с ним до конца дней своих. От подобной перспективы у Лёхи немели руки и судорогой сводило лопатки.
Два часа после отбоя провалялся Барабан на своём «шконаре»[74], не раздеваясь и не вынимая рук из карманов.
После полуночи резко вскочил (будто куда-то опаздывал), вытащил из-под матраса украденный с «промки» и приготовленный для перетяжки того же продавленного «шконаря» моток синтетической верёвки, вышел из барака.
Через пятнадцать минут висевшего в лестничном пролёте Барабана обнаружили арестанты, возвращающиеся со второй смены.
Потом говорили по лагерю, будто погорячился Лёха, что у него то ли сдали нервы, то ли «рванул крышняк»[75]. Знатоки норм лагерной жизни с жаром утверждали, что ничего бы Лёхе не было, что тут больше виноваты те, кто допустил его до игры с таким серьёзным долгом.
Не было — было! Было — не было! А человека-то не стало…
И какая теперь разница, кто именно в этом виноват?
Выходило, что чёрный зверь забрал у Барабана жизнь, оставив честь и доброе имя.
Размен, имеющий право в некоторых случаях считаться равноценным.
Только к катрану Лёху в своё время подтолкнул своими липкими щупальцами тот же зверь, и азарт в нём раздул, притупив бдительность и здравый смысл.
Тот же хищник, лежащий на боку и претендующий на право распоряжаться нашими судьбами.
Значит, в этом случае зверюга оказался сильнее человека?
Не обошлось без злой воли чёрного зверя и в истории с Костей Грошевым.
Тот умер всего за две недели до своего освобождения. Ни на что не жаловался, не болел. Просто вышел на тот же плац, дважды пересёк его по вечному арестантскому маршруту (от мусорки[76] мимо «козьего» барака[77], лагерного храма до «дежурки» и обратно)… Правда, передвигался тяжело, по-стариковски подгребая ногами, что ранее за ним не замечалось. Потом с размаху остановился, будто наткнулся на невидимую, но непреодолимую стену, еле слышно икнул и медленно ополз по этой невидимой стене.
На тот момент было Косте ровно шестьдесят лет, из которых на лагеря, тюрьмы, этапы растерялось куда больше половины.
Две недели оставалось ему до «звонка»[78], только возвращаться ему было некуда. На тот момент, говоря сверхточным арестантским языком, не было у него «ни флага, ни Родины». Украинское гражданство утеряно, российское — не восстановить. Родственников никого — кто умер, кто потерялся, пока Костя лагерные адреса коллекционировал. Он даже город не мог назвать, куда после освобождения хотел бы отправиться.
В итоге так и складывалось: человеку того и гляди, как освобождаться, а освобождаться — некуда…
Удивительно, но задумался над этим Костя только за считанные дни до своей смерти, а до этого, как и любой арестант в подобной ситуации, просто суетился, собирался, радовался скорой встрече со свободой.
Похоже, очень похоже, будто чёрный зверюга просто смертельно жёстко одернул Костю, вернул его к шершавой реальности, освободил от такой неуклюжей и нелепой формы возвращения арестанта на свободу, когда свобода как таковая есть, а всё необходимое для жизни в этой свободе отсутствует: ни домов, ни родственников, не говоря уже о вечно зыбкой для любого освобождающегося перспективы трудоустройства, прописки и т. д.
Одним махом, одним, как потом выяснилось, тромбом решились все проблемы.
Вместо вольного вагона (пусть плацкарта, но уже не «столыпин»[79]) — чёрный пластиковый мешок, в который загрузили Костю «шныри» из лагерной санчасти на том месте, где он упал.
Вроде и здесь чёрный зверь поступил как безмерно циничный санитар-миротворец.
И Костю избавил от мытарств на воле, и многих людей от возможности быть тем же Костей обворованными и ограбленными спас, ибо кроме того, как грабить и воровать, Костя за свои шестьдесят лет так ничему и не научился.
Выходит, и здесь зверюга человеческой судьбой распорядился.
Посредником, а, может быть, и соучастником-исполнителем в этом мрачном деле выступил опять же лагерный плац, он же фрагмент звериной туши.
Коварен, непредсказуемо коварен чёрный зверь…
Порою, будто играя со своей жертвой, он ведёт себя так, что арестант, лишённый им жизненных сил, вовсе не перестаёт дышать, не холодеет телом, то есть не умирает в общепринятом смысле этого невесёлого слова. В этом случае жертва чёрного зверя сохраняет человеческую оболочку и внешние признаки якобы человеческого поведения, но человеком быть перестаёт.
История с Вовой Слоном — лучшая иллюстрация на эту тему.
Полгода просидел он нашем бараке, пыжился из последних сил, выдавая себя за блатного, «отрицал баланду»[80], не выходил на проверки. По любому поводу демонстрировал он свои мастерски выполненные наколки (на плечах — погоны, на груди — церковь с куполами, на спине — целая картина с тенями и полутенями на библейский сюжет «Снятие с креста»). Хотел бы Слон и весь свой срок отбыть на почётном месте в «углу»[81], тем более, что срок этот был пустячным, «ни о чём», как здесь говорят, — всего четыре года за какую-то нелепую кражу.
Только зона — не то место, где от своего прошлого спрятаться можно.
С одним из этапов прибыл невзрачный мужичок, некогда пресекавшийся со Слоном в какой-то мордовской «командировке»[82].
Два дня не отходил Слон от этого мужичка, завалил его фильтровыми сигаретами, чаем и прочими арестантскими ценностями. Всё пытался вполголоса о чём-то договориться во время прогулок по тому же плацу.
Да не сложилось, не срослось!
Но уже на третий день весь лагерь знал, что по прежней арестантской жизни репутация у Слона не то, чтобы сомнительная, а откровенно грязная, что прежние свои сроки он коротал где локальщиком[83], где столотёром[84], где в прочих неприглядных ипостасях.
Тут же появилась в бараке делегация из «кремля» (шестого барака, где жили самые авторитетные представители блаткомитета зоны) во главе с самим лагерным смотрящим Лёхой Медведем.
У Слона только и спросили: — «Как по прошлым срокам сидел? Почему, когда сюда прибыл, правды не сказал? На что надеялся?». Угрюмым монотонным мычанием ответил Слон на все вопросы и получил, что положено получить арестанту, уличённому в столь серьёзных по лагерным понятиям проступках, — затрещину от смотруна и публично объявленный ярлык «б…ь», что единожды в зоне полученный, сопровождает человека до дней его последних.
Далее, следуя опять же лагерным неписанным, но куда как строго чтимым традициям, Слону предстояло переместиться со своей «машкой»[85] и прочим скарбом на «шконку» в «петушатнике» или в самой непосредственной близости от него и нырнуть до конца срока в позорное забвение, в атмосферу всеобщего и вполне заслуженного отвращения к собственной персоне.
Вот в этот момент побелевший, вздрагивающий всем своим немалым телом Слон вышел на плац, нервно закурил, и, едва докурив сигарету на треть, так и не появившись в барак за вещами, рванул в строну «вахты» под защиту «мусоров», от позора не способных спасти, но обязанных спасать арестанта в подобных ситуациях от конкретных проявлений неприязни со стороны солагерников.
А чёрный зверь, чувствуя шкурой дробные, но тяжёлые шаги Слона, удовлетворённо констатировал: — вот, бежит очередное полено для моей топки, очередной сгусток калорий для моего организма.
Почему чёрный зверь не лишил Слона жизни? Возможно, пожалел его, оставляя шанс на прозрение, раскаяние, исправление? Хотя, скорее проявил зверино-животную солидарность. Ведь в натуре и поведении Слона человеческое давно сильно уступало животному.
Бывает и так, что иных, провинившихся по его мнению, чёрный зверь не убивает и не подталкивает к отчаянным поступкам, а… лишает изрядной части разума.
При этом хищник не превращает свою жертву в овощ в человекообразной кожуре, просто вытягивает из его сознания добрую половину здравого смысла.
Именно так было с Тёмой Маленьким.
Поначалу в зоне он как-то растерялся, замельтешил, запутался в ориентирах.
То примкнул к блатным, участвовал в «общих делах»[86], помогал организовывать отрядные шахматные турниры «на интерес»[87], следил, чтобы в бараке всегда был запас поздравительных открыток, которые от имени смотруна, или «мужиков»[88] вручались уважаемым арестантам по случаю дней рождений и прочих торжественных дат.
То начинал зондировать перспективы «одевания рогов»[89], настырно узнавая о гарантиях УДО[90] и прочих льготах в случае согласия занять должность отрядного дневального.
Было дело, на общем собрании «порядочных» горячо призывал всех больше уделять на общее, а потом целые полгода почти не вносил обязательных пачух[91] сигарет за «атас, заготовку, уборку»[92], к тому же здорово просрочил с возвращением взятого в долг на соседнем бараке блока тех же сигарет.
Словом, кидало Тёму из крайности в крайность.
И крайности эти часто друг друга люто исключали. Такое в зоне совсем нежелательно, зачастую и наказуемо, в чём своя жестокая, но всё-таки логика, присутствует.
Пришло время и ему за свои метания отвечать, задуматься над вечным арестантским вопросом: — «Ты кто по жизни? Как срок сидеть будешь?». Были и задушевные беседы на ту же тему «в углу» и жёсткие нотации с несильной, но обидной пощёчиной.
Всё это видно здорово перегрузило и без того не богатырскую психику Тёмы.
В итоге случилось то, о чём на зоне говорят «у него гуси полетели», «бак потёк», «крышу снесло».
Словом, тронулся парень умом.
Не так, чтобы сильно, но заметно. То и дело стало появляться на его лице блаженное выражение, всё чаще в одиночку вышагивал он на плацу, что-то нашёптывая, то кивая самому себе, то плавно разводя руками. В целом, его сумасшествие было мягким, незлобливым, неопасным.
Только от этого таковым быть не переставало.
Вот такую меру наказания определил ему чёрный зверь за все былые промахи, и напомнил, что в зоне жизнь без черновиков, сразу набело пишется.
Силён хищник, бок которого является лагерным плацом!
Только не безграничны его силы.
Держащих спину прямо, самостоятельных и независимых он не трогает. Следит с настороженным интересом, отслеживает каждый шаг и поступок, ждёт, пока кто-то оступится. Немного таких, с прямой спиной, совсем немного в арестантской массе. Даже не буду называть их имён и прочих примет, чтобы лишний раз не провоцировать вспышку хищного внимания со стороны зверя. И такие арестанты выходят на плац, и ноги их, обутые в негнущиеся и звенящие на морозе «коцы», выстукивают по тверди плаца, а точнее, по плоти чёрного зверя, обращённое к этому зверю ёмкое и многозначительное: — «На-кось, вы-ку-си!..».
Признаюсь, очень хочется походить на этих людей. Мечтаю, чтобы начали они меня считать своим. С этим обязуюсь и срок выдюжить.
А зверь, он и есть зверь. Роль его — санитара-выбраковщика — самой природой определена. На то и зверь рядом, чтобы человек о человеческом не забывал…
Сладкая водка свободы
Всё в жизни человеческой, как и сама эта жизнь, имеет своё начало и своё завершение.
И арестантский срок, какой бы необъёмной и непоколебимой глыбой не казался вначале, всё равно заканчивается.
И свобода, что представлялась тогда недосягаемой, недоступной, задвинутой на самый край горизонта жизненных перспектив, превращается в реальность.
А перед той самой чертой, что отделяла мою, уже неудержимо становящуюся прошлой, неволю от моей, ещё более стремительно наваливающейся, уже почти ставшей настоящей, свободы, была вполне конкретная черта.
Плюс состояние, когда всякое мгновение хотелось себя щипать, тереть глаза и убеждаться всякими прочими способами, что происходящее не сон, а реальность, и ты не просто составляющая, а центральная действующая фигура этой реальности.
Той чертой, что отделяла мою несвободу от моей свободы, был порог административного корпуса зоны. Не тот порог «внутри», за которым начинался лагерь, что перемалывал своими серыми жерновами-корпусами арестантские жизни, а порог «снаружи», за которым начиналась свобода, которую я должен был получить в своё распоряжение через несколько секунд.
На этом пороге я на мгновение остановился, попытался прислушаться к себе: что там сейчас щелкнет, грянет, рванёт?
Ничего не щелкнуло, не грянуло, не рвануло.
Просто внутренний голос сказал тогда очень торжественно: «Всё!».
В сверхкоротком слове из трёх букв концентрировалось всё, что должно было быть в этот момент: радость за возвращение в нормальную жизнь, гордость за то, что находясь в ненормальной жизни, не сломался, не запачкался «козьей»[93] должностью, не упал до шныря, и ещё много чего, очень личного и несказанно вкусного.
Конечно, с того порога я… шагнул. С бетонной ступеньки на асфальтовый тротуар. Из неволи в свободу. И, конечно, вдохнул. Не глубоко и сильно, а аккуратно и бережно. Верно, вспомнил про водолазов, у которых разрывает лёгкие при слишком быстром подъёме с большой глубины.
Вдохнул и почти разочарованно выдохнул.
Потому что моя свобода в день моего освобождения ничем особенным не пахла. Никакой романтики, никаких высоких образов.
Моя свобода в день её обретения пахла тем, чем пахнет окраина заштатного посёлка в российской глубинке.
Немного свежескошенной травой (рядом с зоной начинался частный сектор, жители избавлялись от сорняков у заборов и палисадников). Немного горелым бензином (чуть дальше проходила дорога). Немного прелыми разогретыми солнцем яблоками (кто-то совсем рядом, не донеся до помойки, вывалил ведро падалицы). Простые обыденные запахи. Шикарные, торжественные ароматы, которые мне помнить вечно.
Вот и пришло время посмотреть на объект моего долгого вынужденного обитания со стороны. Со стороны воли. Со стороны свободы.
Неважнецкая панорама. Серенькие корпуса «жилки»[94]. Не менее серые корпуса «промки»[95]. Будто приклеенный косой столбик белёсого дыма над цехом дробления и расфасовки мела. С трёх сторон бестолковую россыпь кубиков «жилки» и «промки» то ли охраняют, то ли подпирают, норовя раздавить, меловые, едва прикрытые линялой зеленью, холмы.
Издалека, если не замечать лагерного забора и вышек с часовыми, ни дать ни взять средних размеров фабрика, некогда много кого кормившая, дававшая план и проценты, а ныне обойдённая вниманием инвесторов и эффективных менеджеров, плавно уходящая в забвение.
Фабрика? Наверное, действительно, фабрика. Фабрика по уродованию человеческого материала. Фабрика по уничтожению личности. Фабрика жестокого, трижды неестественного отбора.
Очень сильные становятся здесь ещё сильнее. Становятся такими сильными, что, едва очутившись на воле, они тотчас попадают в поле хищного внимания завистников, недоброжелателей и просто откровенной сволочи в погонах и без погон, что желают во что бы то ни стало вернуть их обратно за колючку, за многослойный забор с вышками.
Подавляющее большинство прочих превращаются здесь в безликую, лишённую прав, воли и всего человеческого биомассу. То ли в фарш, из которого лепят котлеты для прокорма тех же сильных. То ли в глину, из которой изготавливают кирпичи и посуду для нужд опять же сильных.
Чем не модель нынешнего нашего общества с той же самой сверх жестокой диктатурой его величества запредельно неестественного трижды бесчеловечного отбора. Сильные, богатые, успешные становятся или ещё сильнее, богаче, успешнее или… сходят с круга, превращаются в корм, в материал для мощения дорог, что бы те, кто превзошёл их, хорошо питались и беспрепятственно двигались, умножая собственные силы, богатства и успех.
Что же касается гуманизма и милосердия, то в этом раскладе они вроде импортных медикаментов: или не купить по причине жуткой дороговизны или нарвёшься на бесполезный, а то и смертельно опасный «фальшак», сработанный таджикскими или вьетнамскими умельцами где-то в подвале или на чердаке.
Прощай, лагерь!
Не хватает фантазии, чтобы представить ситуацию, после которой я вернусь за этот забор, за эти вышки. Зато есть чёткая уверенность, что если такое случится, то всё, что выпадет здесь вынести — вынесу достойно. Так же достойно, как вынес всё, что выпало за время этого срока, в любой день и час которого я мог с уверенностью заявить: «У меня прямая спина и начищенные ботинки!».
А первым человеком, встреченным мною на выходе с территории несвободы в пространство нормальной жизни, был… сын. Приехал утренним поездом, дожидался меня в утлой беседке в скверике у здания лагерной администрации. «Привет, папуль!» — поздоровался так, будто расстались мы пару дней назад.
До поезда три часа. Билеты на руках. Посёлок таков, что пойти здесь просто некуда. Да и не хочется. С удовольствием просидел бы все эти три часа на скамейке у привокзального хилого фонтана. Просто просидел бы, перебрасываясь неспешными фразами с сыном, шаря взглядом наугад по… декорациям свободы: здания без решеток, люди не в робах, люди без дубинок, машины, дети, женщины. То ли пил бы, то ли ел, но и в том и в другом случае, конечно, смаковал вкус свободы. Уверен, что и не заметил бы, как пролетели эти три часа. Какие-то три часа! Всего сто восемьдесят минут! Какой пустяк по сравнению со сроком моей, теперь уже прошлой, но всё-таки ещё такой близкой, такой осязаемой, такой конкретной неволи…
Тем не менее озвученное сыном предложение посетить ближайший универсам я без колебаний принял. Ещё бы: вольный магазин, где можно купить всё желаемое за деньги, которые так давно не держал в руках, — да это же здорово!
Универсам — часть свободы! Универсам — примета свободы! Универсам — символ свободы! Даёшь универсам!
Стоит ли объяснять, почему среди прочих пустяков, впопыхах накиданных в универсамовскую корзину, оказалась четвертинка водки? Местной, возможно, и не лучшего качества. С нелепой аляповатой этикеткой. И эта четвертинка представлялась мне в тот момент не менее ёмким символом свободы, чем тот же вольный магазин, в котором она была куплена за вольные деньги.
А до поезда ещё целых три часа. А за весь срок, за все четыре года никакого алкоголя ни в каких количествах я ни разу не употреблял. На то свои запредельно веские причины были.
К числу пьющих я никогда не относился, но алкоголь в разумных дозах в моём рационе на воле присутствовал всегда: когда стопка водки, когда бокал пива, когда фужер вина. То банкет, то презентация, то званный ужин, то семейное торжество, то просто человеческое желание избавиться от накопившейся за день усталости. И вдруг… почти четыре года сухого, сверхсухого закона.
На это время напрочь ушли из моей жизни и смолистая, щекочущая ноздри, терпкость коньяка, и ласковая пивная горечь, и концентрированная энергия виски, и вяжущее послевкусие портвейна, и лихое водочное веселье. Весь срок казалось, будто не существует вовсе подобных радостей в жизни.
И не существовало вообще.
Между тем, выпить в зоне труда не составляло. Реализовать такое желание можно было двумя способами. Первый способ — купить у тех, кто промышлял этим на «барыжно»-коммерческой основе. При наличии средств (это только официально деньги в лагере запрещены) и определённых знакомств подобное можно сделать в любое время суток. Ассортимент — водка, спирт, самогон. Водка — пятьсот рублей поллитра. Спирт в аналогичном объёме — тысяча тех же самых рублей. Самогон — дешевле, чем водка.
Все напитки «гуляют» по зоне в перелитом виде в небьющейся таре — в пластиковых бутылках из-под минералки и пепси. Водку и спирт почти всегда «затягивают» сами мусора с целью приработка к своим скромным официальным окладам. Самогон гонят прямо в зоне сами арестанты. Качество всех напитков, мягко говоря, «не очень». Всё зачастую неоднократно «разбодяживается» — разбавляется каждым участником алкотрафика. Соответственно «на выходе» что-то невнятное, лишь отдалённое напоминающее истинный продукт. Даже то, что называется здесь чистым спиртом, не горит и вполне годится для заливки пожаров любой категории.
Второй путь обретения алкоголя на зоне — собственное изготовление. Изготавливают чаще всего брагу. Потому что просто и недорого. Компоненты: сахар, вода, сухофрукты. Брагу «ставят» в бараке (ёмкости прячутся под кроватями, в тумбочках), или на промке (там бутыли и банки ещё проще схоронить в путанице подсобок, мастерских, складов).
С самогоном сложнее. Сама технология его изготовления подразумевает стадию перегонки, а это — лишние улики в виде стремительно распространяющегося узнаваемого запаха, лишние недобрые глаза и масса прочих неудобств. Тем не менее, гонят и его. Чаще всего на той же самой промке.
Самое главное, что принявший решение выпить на зоне должен быть непременно готов к тому, что среди тех, кто алкоголь этот помогал купить, изготовить, сохранить, поделить — обязательно найдётся тот, кто «сольёт» всё информацию мусорам. По крайней мере, каждые четыре из пяти любых случаев потребления спиртного в бараке, что происходили на моих глазах, непременно заканчивались появлением на отряде дежурного по зоне, а то и целого наряда со всеми вытекающими последствиями. Обычно всех участников застолья отправляли в изолятор.
По большому счёту, выпивка на зоне — своеобразный вариант русской рулетки. Можно сказать и по-другому. Всякий желающий выпить — здесь непременно выпьет. Только обойдётся это очень дорого. Во всех смыслах! Потому и проще, и разумней, и выгодней здесь не пить. Ни с кем! Никогда! Ни при каких обстоятельствах!
С учётом всего этого и вышел весь мой срок трезвым. Стерильно трезвым. Абсолютно трезвым. А тут… до поезда ещё три часа. И «вольная» «неразбодяженная» водка…
Разумеется, фольговая шапочка-крышечка была сдёрнута с купленной четвертинки уже в ближайшем за универсамом дворе. Столом и стульями послужили белеющие срезами кругляши недавно спиленных тополиных стволов. Закуска — «вольная», только что купленная за наличные (!) деньги в «вольном» магазине, колбаса. Не чесноком и пряностями, а Свободой пахли эти бордовые кружочки. Почему-то совсем не вспоминалось ни о малополезных вкусовых добавках, ни о коварной генно-модифицированной сое, ни о трагической статистике колбасных отравлений.
«Сколько?» — только и спросил повзрослевший и, кажется, всё понимающий сын. Абстрактный горизонтальный жест указательным пальцем был истолкован исключительно правильно. Через мгновение в моей руке оказался приятно тяжёлый хрустящий пластиковый стаканчик, на две трети наполненный водкой.
Некогда я люто ненавидел такой вид питейной посуды и никогда, даже в самые трудные моменты командировок в «горячие точки» им не пользовался. Проще было глотнуть спиртного из крышки мыльницы или футляра для очков. Похоже, пришло время корректировать и эту привычку.
Чуть выдохнув, как учили когда то на тульской окраине асы питейного дела, выпил.
Водка показалась мне сладкой.
Что случилось, точнее, что испытал потом, описать, даже имея в своём распоряжении такое универсальное средство, как русский язык, очень трудно. Все устные и печатные откровения «курнувших», «нюхнувших», «уколовшихся» на фоне испытанного и прочувственного — блеклая и косноязычная чепуха.
После выпитой водки меня будто накрыло тёплой, ласковой, и в то же время очень мощной, подчиняющей и диктующей волной. Ноги, руки, язык сделались пухлыми и тяжёлыми, как будто увеличились в размерах, утратили всякую способность двигаться. Показалось, что щёлкнул невидимый тумблер, и мои зрение, слух, обоняние перестали работать на меня, вовсе ушли из меня, уступая место иным, доселе не знакомым мне и не известным никому, чувствам.
Скомандуй кто-нибудь в тот момент: «Встань, двигайся, иди!» Или «Тебя будут колоть штыком, тебя будут бить прикладом, в тебя будут стрелять…» — я бы только слегка качнул головой и чуть улыбнулся в ответ. Мягкой, доброй, чуть глуповатой была бы тогда моя улыбка. А вот двигаться, даже просто пошевельнуть рукой, ногой, языком в тот момент я бы так и не смог. Так бы и сидел, покачивая головой, глуповато улыбаясь, словно копируя китайского болванчика.
В очередной раз отдаю должное безупречной точности терминов лагерно-тюремного арго. Есть в нём слово «зашторило» — так характеризуется состояние человека, хватившего немалую дозу алкоголя, перебравшего с наркотиками или испытавшего шоковое испытание.
Действительно, зашторило. Будто кто-то большой и сильный где-то внутри очень решительно задёрнул штору из тёмной и тяжёлой материи. И оставил по ту сторону шторы всю окружающую действительность: пыльный двор за стеной универсама, едко пахнущие тополиные кругляши, несуразный, когда-то люто ненавидимый, а ныне такой вожделенный, пластмассовый стаканчик. За той же шторой осталось и время моей несвободы, ещё такое близкое и уже так далеко отодвинутое.
А по другую сторону этой самой шторы не существует предметов, людей, деталей пейзажа. Есть только что-то сочное, вспыхивающее, пульсирующее, сверкающее. Это «что-то» близко к сплошному фейерверку, к охапке протуберанцев, к букету из гигантских искр, сполохов и огней. Только всё это совсем другое, ни на что известное не похожее, ещё более сильное, нестерпимо яркое. Самое главное, это «что-то» по своим цветам не имеет ничего общего с красками знакомого с детства спектра.
Какой там охотник с идиотским желанием знать идиотское расположение не менее идиотского фазана! Это совсем другие краски! Совсем других цветов! Из совсем другого измерения!
«Зашторное» наваждение продолжалось минут двадцать.
Потом оно медленно, будто нехотя отступило, откатило, уступило место реальной действительности в привычных красках, звуках и запахах. Действительности, воплощённой в простых предметах и деталях обыденного пейзажа. Снова вокруг были пыльные кусты, серая стена универсама, нездорового цвета колбасные диски. Всё, что могло вернуться, вернулось, но впечатление от «зашторного» наваждения осталось.
И эту необычную по вкусу водку в ломком пластмассовом стаканчике, и всё, что грянуло потом, я запомнил.
После того, как испытал всё это, обещал себе написать рассказ «Сладкая водка свободы». Обещание, кажется, выполнил.
Только рассказ ли это, если ни слова здесь не выдумано?
Примечания
1
Хата (тюремн.) – тюремная камера.
(обратно)2
Дальняк (тюремн.) – отхожее место, туалет в тюремной камере.
(обратно)3
Конь (тюремн.) – сплетённая из подручного материала (нитки из распущенного свитера, нитки из носков и т. д.) тонкая верёвка, используемая для внутренних нужд и поддержания межкамерной связи («дороги»).
(обратно)4
Шконка (тюремн.) – кровать в тюремной камере.
(обратно)5
Занавеситься (тюремн.) – существующий в тюремной жизни обычай оборудовать спальное место занавесками, чтобы не мешал свет, как правило, горящий круглые сутки. Администрация СИЗО (судебно-следственных изоляторов) считает занавешивание нарушением дисциплины, заслуживающим наказания, вплоть до помещения в карцер. Тем не менее, этот обычай существует почти в любой тюрьме, во всяком лагере.
(обратно)6
Пальма (тюремн.) – верхний ярус двухэтажной тюремной кровати.
(обратно)7
Наркоша (жарг.) – наркоман, человек, употребляющий наркотики.
(обратно)8
Колёса (жарг.) – таблетки.
(обратно)9
Продольный (тюремн.) – от слова «продол», что на тюремном арго означает коридор. Продольный – представитель администрации, несущий службу в коридоре, призванный следить за всем, происходящим в камерах.
(обратно)10
Кум (тюремн.) – начальник оперчасти в СИЗО или в лагере.
(обратно)11
Полоса (тюремн.) – полоса на личном деле, на прикроватной табличке и т. д. Полосой отмечают арестантов, поведение которых требует особого контроля (склонных к побегу, к суициду, к организации массовых беспорядков и т. д.).
(обратно)12
Кормяк (тюремн.) – окошко в железной двери тюремной камеры с откидывающейся полкой. Через него выдаётся пища, передаются письма, содержимое посылок и т. д.
(обратно)13
Движуха (жарг.) – движение, цепь изменений и событий.
(обратно)14
Дорога (тюремн.) – система межкамерной верёвочной связи в тюрьме, по которой передаются записки, сигареты, чай, продукты, иногда мобильные телефоны, наркотики и прочие «запреты».
(обратно)15
Грузы' (тюремн.) – всё то, что передаётся по тюремной дороге.
(обратно)16
Малявы (тюремн.) – записка, тюремное письмо.
(обратно)17
Прогон (тюремн.) – директива-инструкция с воли от авторитетов криминального мира, регламентирующая жизнь арестантов.
(обратно)18
Промка (тюремн.) – часть территории в лагере, где находятся промышленные помещения, куда арестанты выходят на работу.
(обратно)19
Козлы (тюремн.) – арестанты, согласившиеся на сотрудничество с администрацией, крайне неуважаемая категория осуждённых.
(обратно)20
Навинтить рога, одеть рога (тюремн.) – стать козлом, занять должность, предложенную администрацией.
(обратно)21
Тяжеловес – в данном случае арестант, имеющий большой срок (от десяти лет и выше).
(обратно)22
Пятерик – в данном случае пять лет срока, определённого судом.
(обратно)23
Мужик (тюремн.) – самая распространённая уважаемая категория арестантов. Мужик обязательно работает на «промке», делится с неимущими чаем, сигаретами и прочим необходимым, не принимает никаких предложений
(обратно)24
Общее (тюремн.) – своеобразный фонд тюремной и лагерной взаимопомощи. Взносы на «обшее» (сигареты, чай, и др.) – важное свидетельство порядочности арестанта.
(обратно)25
УДО – условно-досрочное освобождение.
(обратно)26
Хозяин (тюремн.) – начальник зоны.
(обратно)27
Локалка (тюремн.) – участок, на котором расположен отряд, отделённый от всей территории лагеря решеткой с запирающейся калиткой.
(обратно)28
Решка (тюремн.) – решётка.
(обратно)29
Баландёр (тюремн.) – арестант, работающий в тюремной столовой, или разносящий еду по камерам, представитель неуважаемой категории заключенных (козлов), что остались отбывать заключение при изоляторе, а не отправились на зону, своего рода льгота, предоставляемая тюремной администрацией в ответ на предложение сотрудничать с нею (стучать и т. д.).
(обратно)30
Мусор (тюремн.) – сотрудник администрации исправительного учреждения.
(обратно)31
Продольный (тюремн.) – представитель тюремной администрации несущий дежурство в коридоре («продоле»), куда выходят двери камер.
(обратно)32
Шконка (тюремн.) – тюремная койка.
(обратно)33
«Дорога» – средство коммуникации между камерами и бараками, фактически внутренняя почта, может работать постоянно или в определенное время суток. «Простоял на дороге» – отвечал за бесперебойное функционирование дороги.
(обратно)34
Удочка (тюремн.) – длинная палка с крючком из ручки зубной щетки на конце, изготовленная из скрученной, проклеенной хлебным клейстером газеты. Используется для установки «дороги».
(обратно)35
Конь (тюремн.) – шнур, или тонко сплетенный канатик, что используется для нелегальной связи между камерами.
(обратно)36
«Тормоза» (тюремн.) – дверь в тюремную камеру.
(обратно)37
«Кормяк» (тюремн.) – окно в двери тюремной камеры, через которое передаётся пища, содержимое передач, письма и т. д.
(обратно)38
Засухарённый баландёр по прошлому сроку – арестант, попавший в СИЗО, скрывший факт сотрудничества с администрацией на прошлом сроке заключения.
(обратно)39
Телага (тюремн.) – телогрейка, бушлат, часть обязательного арестантского обмундирования, выдаваемого в местах заключения.
(обратно)40
Коцы (тюремн.) – арестантские ботинки.
(обратно)41
Кабан (тюремн.) – продуктовая посылка.
(обратно)42
Крыса (тюремн.) – человек, совершающий кражи у друзей либо своих подельников, сокамерников.
(обратно)43
Угол (тюремн.) – лучшее место в бараке, где находятся «смотрун» и его ближайшее окружение.
(обратно)44
Фуфлыжник (тюремн.) – арестант, не возвращающий долги, представитель крайне неуважаемой категории лагерного населения.
(обратно)45
Петушатник (тюремн.) – место проживания (отдельный барак или специально отведённое место в общем бараке) «петухов»: опущенных, обиженных и пр. представителей самых низших, презираемых категорий арестантов.
(обратно)46
Мужик (тюремн.) – арестант, выходящий на работу, ни чем себя не скомпрометировавший, поддерживающий «общак» и т. д.
(обратно)47
Угол (тюремн.) – лучшее место в бараке, где находятся «смотрун» и его ближайшее окружение.
(обратно)48
Семейник – в колонии сосед, с которым пьют чай, помогают друг другу в мелочах арестантской жизни и т. д.
(обратно)49
Метлу на контроле держать (тюремн.) – держать язык за зубами.
(обратно)50
Погоняло (тюремн.) – кличка, прозвище.
(обратно)51
Шконка (тюремн.) – тюремная койка.
(обратно)52
УДО – условно-досрочное освобождение.
(обратно)53
Отрядник – начальник отряда.
(обратно)54
Хозяин (тюремн.) – начальник исправительного учреждения, зоны.
(обратно)55
«Порядочные» (тюремн.) – арестанты, ничем не запятнавшие себя за время нахождения в зоне (не замеченные в стукачестве, не занимающие должности по предложениям «мусоров», поддерживающие «общее».
(обратно)56
Запретка – полоса вскопанной и разровненной граблями земли, расположена между заборами, окружающими все ИТУ или промышленную и жилую зону.
(обратно)57
Крепить – добиваться более строго исполнения норм и правил, регламентирующих жизнь отбывающих наказание.
(обратно)58
Локалка (тюремн.) – участок, на котором расположен отряд, отделённый от всей территории лагеря решеткой с запирающейся калиткой.
(обратно)59
Промка (тюремн.) – здание или участок зоны, на котором размещены производства, где используется труд заключенных.
(обратно)60
Проходняк – участок барака между двумя рядами коек.
(обратно)61
Замененный по «касатке» (жарг.) – замененный в результате пересмотра кассационной жалобы.
(обратно)62
Мусор (тюремн.) – сотрудник администрации исправительного учреждения.
(обратно)63
Промка (тюремн.) – здание или участок зоны, на котором размещены производства, где используется труд заключенных.
(обратно)64
Телага (тюремн.) – телогрейка, бушлат, часть обязательного арестантского обмундирования, выдаваемого в местах заключения.
(обратно)65
Коцы (тюремн.) – арестантские ботинки.
(обратно)66
Шнырь, шестёрка (тюремн.) – заключенный, удостоенный права убирать камеру, барак и выполнять прочие обязанности по обеспечению быта заключенных, что намного легче обычных работ, которыми занимаются остальные заключённые.
(обратно)67
Дежурка, вахта (тюремн.) – комната дежурного представителя администрации в зоне.
(обратно)68
Подмолодить (тюремн.) – поколотить, избить.
(обратно)69
Запретка – полоса вскопанной и разровненной граблями земли, расположена между заборами, окружающими все ИТУ или промышленную и жилую зону.
(обратно)70
Катран (тюремн.) – место в бараке, оборудованное для игры в карты.
(обратно)71
Полтинник – в данном случае пятьдесят тысяч рублей.
(обратно)72
Фуфлыжник (тюремн.) – арестант, не возвращающий долги, представитель крайне неуважаемой категории лагерного населения.
(обратно)73
Петушатник (тюремн.) – место проживания (отдельный барак или специально отведённое место в общем бараке) «петухов»: опущенных, обиженных и прочих представителей самых низших, презираемых категорий арестантов.
(обратно)74
Шконарь, шконка (тюремн.) – койка.
(обратно)75
Рванул крышняк (тюремн.) – помутнение рассудка, сумасшествие.
(обратно)76
Мусорка – в данном случае общелагерный накопитель отходов всех видов.
(обратно)77
«Козий» барак (тюремн.) – общежитие, где проживают арестанты, занимающие предоставленные администрацией зоны должности.
(обратно)78
Звонок (тюремн.) – в данном случае конец полностью отбытого (без УДО, актировки и т. д.) срока заключения.
(обратно)79
Столыпин (тюремн.) – железнодорожный вагон, оборудованный для перевозки заключённых.
(обратно)80
Отрицал баланду (тюремн.) – в данном случае отказывался от употребления казённой пищи, считая это чем-то унизительным для себя.
(обратно)81
Угол (тюремн.) лучшее, почётное место в бараке, традиционно занимаемое наиболее авторитетными арестантами
(обратно)82
Командировка (тюремн.) – отбывание срока наказания.
(обратно)83
Локальщик (тюремн.) – крайне неуважаемая должность в лагере, арестант из «козлов», открывающий и закрывающий калитку, отделяющую расположение отряда от территории всего лагеря.
(обратно)84
Столотёр (тюремн.) – арестант, убирающий объедки со столов, презираемая по тюремным порядкам должность.
(обратно)85
Машка (тюремн.) – свёрнутая в рулон постель.
(обратно)86
Общие дела (тюремн.) – действия и мероприятия, связанные с соблюдением и поддержанием воровских традиций.
(обратно)87
Игра на интерес (тюремн.) – игра на деньги, эквивалентом которых в зоне выступают сигареты с фильтром. Часть выигрыша в такой игре обязательно отчисляется на «обшак». «На интерес» играют не только в карты, но и в «тысячу» (разновидность игры в кости), в шахматы, в прочие игры.
(обратно)88
Мужик (тюремн.) – арестант, выходящий на работу, ни чем себя не скомпрометировавший, не замеченный в сотрудничестве с администрацией, поддерживающий «общак».
(обратно)89
Одеть рога (тюремн.) – стать «козлом», помощником администрации, занять предоставленную «мусорами» должность.
(обратно)90
УДО (сокр.) – условно-досрочное освобождение.
(обратно)91
Пачуха (тюремн.) – пачка.
(обратно)92
За атас, заготовку, уборку (тюремн.) – традиционные, ежемесячные взносы порядочных арестантов на организацию внутрибарачной жизни (за круглосуточное дежурство для предупреждения о появлении мусоров, за заготовку порций в столовой, уборку барака и т. д.).
(обратно)93
Козьей должностью – должностью, связанной с сотрудничеством с администрацией.
(обратно)94
Жилка (тюремн.) – жилые корпуса в зоне.
(обратно)95
Промка (тюремн.) – здание или участок зоны, на котором размещены производства, где используется труд заключенных.
(обратно)




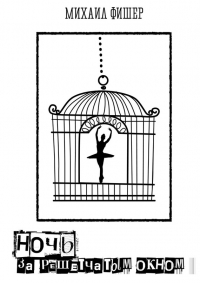

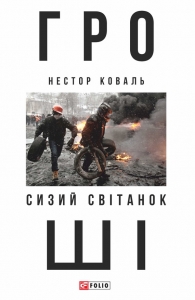
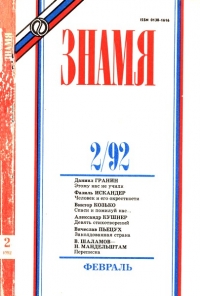


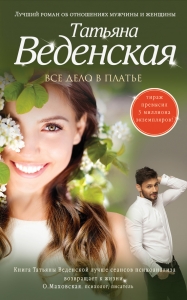
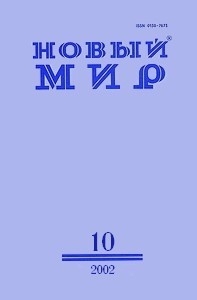
Комментарии к книге «Бутырский ангел. Тюрьма и воля», Борис Юрьевич Земцов
Всего 0 комментариев