Милосердие
ПРЕДИСЛОВИЕ
Ласло Немет (1901—1975) — замечательный представитель венгерской литературы XX века, мастер психологической прозы, автор многих романов, рассказов, пьес, очерков. Ряд его произведений известен и советским читателям. На русском языке были изданы его романы «Траур» (1971), «Эстер Эгетэ» (1974), «Вина» (1982). Много работал Ласло Немет и как переводчик, он переводил произведения Пушкина, Л. Толстого, Горького, многих западноевропейских писателей.
«Милосердие» — последний роман Ласло Немета, но дорога к нему ведет через всю жизнь писателя. Свои произведения Немет любил комментировать сам; вот и первому (1965) изданию «Милосердия» он предпослал небольшое вступление, в котором рассказал, какое место занимает этот роман в его творчестве, как отразился в нем процесс его созревания как художника. Еще в 1925 году, пишет Немет, когда самый авторитетный редактор начала столетия, Эрне Ошват, «вытащил меня из безвестности, первой рукописью, переданной ему, был рассказ «Телемах», первоначальный вариант будущего романа. Главным его героем был молодой человек. Нынешний свой облик роман стал обретать в начале тридцатых годов, в мой, если можно так выразиться, «греческий» период; назывался он уже «Милосердие» и как пара к роману «Траур» должен был создать некий противовес образу Жофи Куратор — Электре образом иной героини — Антигоны. Написанные тогда 60—70 страниц пропали в 1944 году, во время штурма Будапешта. В 57-м, когда (…) успех «Эстер Эгетэ» вдохновил меня на создание нового романа, я стал искать тему, сферу жизни, которые были бы внутренне оформлены и близки мне, а поэтому представлялись наиболее легкими; вот тут я и вернулся опять к «Милосердию». Как раз в то время исчезла и личная причина, которая вновь и вновь заставляла меня откладывать работу над этой книгой… Так что тема «Милосердия» пронизывает весь мой писательский путь, от полуосознанных поисков света до слов расставания с солнцем».
В изложенной автором творческой истории романа много отсылок к биографии писателя. Под «личной причиной» имеется в виду тот факт, что в основу коллизии произведения положены характеры и отношения родителей Немета: руки писателя в этом плане окончательно были развязаны лишь после кончины матери (отец его умер раньше). Из автобиографических или близких к ним произведений Немета мы знаем, что различное социальное происхождение родителей обусловило не только двойственность его взгляда на мир, но и ощущение постоянного напряжения, в котором он жил. Отец, выходец из крестьян, ставший учителем, ученым, и мать, родившаяся и выросшая в старинном районе столицы, Визивароше, где обитала состоятельная прослойка служащих, образовали такую странную, совмещающую несовместимое семью, в которой как бы переплелись и проблемы крестьянской жизни, и перспективы бытия интеллигенции. Семья эта была средоточием постоянно тлеющих противоречий, усугубляемых ситуацией, сложившейся в доме после долгого плена отца. Несовместимость жизненных принципов родителей накладывалась на драматизм социально-исторического момента: время действия романа охватывает годы всеобщей усталости и разочарования после первой мировой войны, когда весь венгерский народ в тот период с трудом приходил в себя после потрясения, вызванного падением Венгерской Советской республики, разгулом контрреволюции, распадом исторической Венгрии. Герои книги, как и большинство венгров в те времена, неуютно чувствуют себя в атмосфере лишений, безысходности, запоздалых вспышек революционной страсти, среди иллюзий, которым не пошли на пользу уроки истории. А неистребимая жизнь продолжает идти дальше, и появляется новое поколение — уже не только пассивный участник, но и мыслящий свидетель, даже судья тех, кто воплощает в себе и трагическую историю, и будущее народа.
Таким образом, несмотря на автобиографичность романа, сознание тесной взаимосвязи личной судьбы с историей и обществом позволяют писателю выйти за пределы случайных причин и следствий. Автобиографичность включает в себя и понимание Неметом своего писательского долга, приоткрывая механизм превращения субъективных впечатлений, сырого жизненного материала в эстетическое содержание. Об этом свидетельствует и процитированный выше авторский комментарий, позволяющий проследить взаимовлияние этапов работы над «Милосердием» и перипетий духовной биографии Ласло Немета. Экспрессивное (неромантическое) видение мира и человека, характерное для двадцатых годов, идеалы «греческого» периода, грандиозные планы, утопические замыслы и разочарования тридцатых годов, трагический взгляд на будущее и поиски новых путей, динамика духовной и общественной жизни, захватившая писателя после освобождения, изоляция в пятидесятые годы — все эти моменты по-разному окрашивали исходный биографический материал, меняя воплощаемое в нем содержание.
Главный вопрос этой писательской эволюции, думается, не в том, как повлияла на Немета среда, из которой он вышел, а в том, как изменялась, формировалась его позиция в плане взаимоотношений индивида и общества, индивида и истории. Многие из писавших о Немете критиков считали, что все его творчество — лишь обрамление драмы сознания, в котором боролись друг с другом идеал и реальность, программа и понимание ее неосуществимости, а главным образом — личность и общество. Поэтому «правда» Ласло Немета — не в той или иной идее, не в том или ином тезисе, а в этой духовной драме. Его идеи и планы были проявлением духа, желавшего служить обществу; но и разочарование его, отступления — тоже не чисто субъективные выражения вывода о бесполезности социального действия, а отражение реальных проблем и противоречий. Ситуация, сложившаяся в общественной жизни Венгрии двадцатых-тридцатых годов, во многом определялась разгромом Венгерской Советской республики 1919 года, торжеством буржуазной идеологии, растущим — не только за пределами страны, но и внутри ее — влиянием фашизма. Не видя реальной возможности достижения социальной справедливости и свободы на пути, который предлагала компартия, и отрицая «идеалы», несомые новым варварством, многие мыслители той эпохи искали выход в обращении к крестьянству как носителю и хранителю духовных ценностей нации. Идеализация деревни, свойственная «народным писателям», к которой помимо Л. Немета принадлежали Д. Ийеш, П. Вереш, Й. Дарваш, П. Сабо и др., являлась, в сущности, выражением утопического стремления воплотить в жизнь мечту о счастье и равенстве людей неким отличным и от капитализма, и от социализма способом. Иллюзии, свойственные «народным писателям», в том числе и Л. Немету, недаром назывались идеологией «третьего пути». Многие представители этого течения расстались со своими антиисторическими взглядами лишь после освобождения страны в 1945 году, в условиях строящегося в Венгрии социализма. Противоречивость этих взглядов, естественно, отражалась и на творчестве «народных писателей», подсказывая им порой ложные выводы, но нередко и помогая глубже вдумываться в действительность, ища выхода из противоречия. Отзвуки этой духовной драмы можно найти и в статьях, в публицистике Ласло Немета, но гораздо более точный ответ на все эти вопросы мы обнаруживаем там, где тревожившие писателя мысли и выводы формулируются в жизнеподобном, творчески обработанном материале, то есть в художественном вымысле. Потому «Милосердие» и можно рассматривать как сквозной стержень и итог его творческого пути. Едва ли случайно, что после более или менее отвлеченных конфликтов, выражающих столкновение индивида и общества, здесь конкретную форму обретает общественная позиция, которую мы называем социалистической. Разумеется, эта позиция появляется здесь с теми оттенками и нюансами, которые вносит в нее аналитическая мысль писателя. В таком виде концепция «Милосердия» несет в себе одновременно выводы Ласло Немета как художника, размышляющего о современном обществе, и итоги, к которым он приходит как человек, столкнувшийся с вечными проблемами бытия. На это, в частности, указывают строки, завершающие предисловие к первому изданию, — строки, где «Милосердие» писатель рассматривает как «слова расставания с солнцем». В полной мере отдавая себе отчет о близости смерти, писатель-врач открывает нам здесь то измерение бытия, которое точно так же определяет жизнь человека, как и история, как и общественная среда.
* * *
Роман начинается как повествование о необратимом распаде одной семьи. В основе сюжета лежит почти банальная ситуация: конфликт между мужем, возвращающимся из семилетнего плена, и женой, которую тем временем с головой затянула новая любовь. Дочь, бессильно наблюдающая за их поединком, на первый взгляд, выступает всего лишь в роли свидетеля.
Даже на этом шаблонном социальном и моральном фундаменте Ласло Немет находит возможность выстроить богатый, живой мир. Портрет неверной жены — настоящий психологический шедевр. Поздний расцвет, наивная и потому обезоруживающая ложь, которой она, словно фиговым листком, прикрывает свой «грех», ее не поддающееся разумному объяснению упорство, а с другой стороны, искренняя материнская любовь, в которой она видит, может быть, последнюю нить, связывающую ее с «нормальным» миром, — все это даже без глубокого анализа душевных мотивов делает этот человеческий тип необычайно жизненным. А поскольку любовная связь содержит в себе и разоблачительный момент (будучи в возрасте за сорок, она любит пустого молодого человека двадцати восьми лет), она становится особенно удобным объектом беспощадного психологического анализа, мастером которого был Ласло Немет. Муж, бывший пленный, — достойный антипод своей жены. Семь лет лишений основательно перестроили его сознание. Усталая его память цепляется за опыт, приобретенный в плену, сопоставляя с ним новые впечатления; постепенно он акклиматизируется на родине, но и теперь лишь боязнь насмешек ставит преграду его привычным, почти уже маниакальным рассуждениям. Растерянный разум его и семейный кризис воспринимает с большим опозданием; пойти с женой на открытый разрыв он не способен и предпочитает пассивно терпеть, пока его отталкивают в сторону; он не хочет сжигать мосты за собой, цепляясь за призрачную надежду с таким же наивным самоослеплением, с каким госпожа Кертес цепляется за свою ложь. Это не трусость, а естественная слабость сломленного чувства собственного достоинства, утраченная уверенность в себе и в пошатнувшемся мире. «Физически» вернувшись домой, учитель гимназии Янош Кертес для полного «возвращения» не находит ни сил, ни возможностей. Его прежний мир сгорел в огне революций, и восстановление его — по возвращении на родину — идет с огромным трудом. Участвовать в этом процессе сознательно и энергично он не может: во-первых, для этого он слишком утомлен и измучен, а во-вторых, слишком прочно усвоил демократию лагерей и тюрем, слишком свыкся с положением человека вне общества. Подлинное возвращение стало бы для него реальным, если бы дома его ожидало то, что он оставил семь лет назад. Однако его сословие — сословие живущих на жалованье служащих — стало жертвой стремительного процесса инфляции. Так писатель через кризис семьи Кертесов помогает яснее увидеть сущность эпохи: убогая, смешанная с недоверием торжественность встречи пленных на вокзале, нищета, разлагающая учительский коллектив, куда возвращается Кертес, — все это не только фон типичной послевоенной семейной драмы, но и ее объяснение, ее перспектива.
Однако где-то в середине романа писатель поднимает нас на новую высоту, откуда в новом свете предстает и все сказанное в первой части. Сначала читатель замечает в повествовании все больше эпизодов, отступлений, которые — сами по себе будучи содержательными и яркими — не связаны органично с семейной драмой Яноша Кертеса. Еще более бросается в глаза односторонность нравственных оценок. «Господи, что же это такое, человеческая душа? Неужели она так проста?» — комментирует Агнеш один из наивных маневров матери. Однозначный взгляд автора на супружескую измену был бы слишком уж упрощенным. Роль, отведенная в романе Агнеш, в какой-то степени объясняет подобное отношение: ведь Агнеш любит в отце с детства хранимый ею в душе идеал, а потому ее непримиримость к матери, ее бессильная боль вполне понятны. Но почему Немет доверяет вынесение приговора именно ей, почему смотрит на семейную драму ее глазами? Новая высота в романе позволяет ответить на этот вопрос. Студентка-медичка Агнеш Кертес — не просто наблюдатель разлада между родителями: в ее позиции воплощен «фокус» некоего более масштабного подхода к действительности, она — главная героиня более широкой коллизии, в контексте которой грустная история ее родителей — лишь часть ее жизненного опыта, один из факторов, формирующих ее личность, ее сознание, ее отношение к миру. Когда мы начинаем понимать это, роман словно обогащается новыми измерениями. Агнеш и сама оказывается перед выбором в любви; рядом с ней проходят разнообразные типы, характерные для той эпохи, она становится свидетелем разнообразных по содержанию и по цели столкновений между людьми, принимаемых ими решений, а главное, участницей тех скрытых и явных споров, тех поисков, в которые поколение двадцатых годов втянуто памятью о недавней революции, пробужденными ею надеждами и действительностью контрреволюционной эпохи.
Ласло Немет не раз обращался в своем творчестве к воспроизведению этого времени, однако в «Милосердии» он смотрит на него новым, свежим взглядом. Если мы сосредоточимся лишь на описании общественной действительности, то уже здесь обнаружим массу новых деталей и красок, а главное — новый писательский подход. Уроки этого периода — периода революции и контрреволюции — ни в одной из прежних своих книг он не осмыслял с такой глубиной, с такой пристальной, напряженной вдумчивостью. В прошлое он, конечно, смотрит из настоящего, но выражается это не во внешних деталях или мотивах, а в той иерархии ценностей, которая связана была с ходом дальнейшей истории. Именно поэтому несогласия по кардинальным вопросам жизни, споры между противостоящими друг другу персонажами каждый раз так или иначе выходят к проблематике социализма; только что отгремевшие события Венгерской Советской республики придают этим спорам и поискам убедительность, художественную достоверность в той же мере, как и проблемы венгерской истории шестидесятых годов, когда создавался роман. Поэтому сегодняшние раздумья писателя как бы включают в себя давние мысли и споры. Скажем, когда Янош Кертес, вспоминая то, что он наблюдал в России, видит главное условие социализма в развитии человеческого сознания, читатель как бы вновь слышит старый тезис Немета о необходимости «реформы души», но тезис этот уже не противопоставляется «реформе общества».
Все творчество Ласло Немета представляет собой органическое единство, поэтому связь между отдельными его произведениями не исчерпывается их поверхностным сходством или различием. Он как бы проводит большой, идущий сразу в нескольких направлениях эксперимент. В романах «Человеческая комедия» (1929), «Вина» (1936), «Последняя попытка» (1937—1941) перед нами предстает богатая социальная панорама, где социографический подход питает писательскую мысль. «Траур» (1930) и «Ненависть» (1947) — романы-монологи, своего рода литературные изваяния, в которых воплощены определенные человеческие типы. Писатель и в них не уходит от своих социальных идей, однако совсем по-иному интонирует их, возлагая их выражение на эстетическое качество, которое содержится в цельности, гармоничности образа, в художественной точности описания характера и поведения человека.
У Ласло Немета есть очерк, посвященный Беле Бартоку, свидетельствующий о том, что писателю близок был художественный подход, позволяющий делать масштабные обобщения. С уверенностью, которая объясняется лишь несомненным духовным родством, он отмечает, что внимание Бартока к народной музыке связано не только с желанием освоить арсенал выразительных средств, суть здесь — в открытии такой духовной и жизненной сферы, которая неподвластна прямому влиянию времени. Ощущение родства вполне справедливо, хотя к этой общечеловеческой сфере можно приблизиться не только через народное искусство: Томас Манн, например, нашел к ней путь через мифы. Период, когда он создавал свой «Траур», Ласло Немет называет «греческим», а героиню книги, Жофи Куратор, фигурой типа Электры. Это не случайные эпитеты, а точные определения писательского идеала. Жофи Куратор, как и Нелли Карас в «Ненависти», на первый взгляд, лишь объекты психологического анализа, однако этот анализ опирается на типологию темпераментов античной драмы. Едва ли можно видеть в этом некий программный уход писателя от современности. Ласло Немет ищет скрытые, но обусловленные универсальными законами силовые линии мира. Он рассматривает своих героинь изнутри, но видит в них не психических индивидов, а целостный микрокосмос, в частицах которого проявляется невидимый миропорядок. Чтобы достичь этой грандиозной цели, писатель должен обладать крайне развитым чувством меры и равновесия, иначе он рискует оступиться в безвоздушное пространство абстракции, сделать своих героев бесплотными иллюстрациями неких тезисов. «Траур» и «Ненависть» доказывают, что чувство равновесия у Ласло Немета развито превосходно, диалектика души его персонажей правдоподобна и убедительна в каждой мелочи. Социальный контекст Немет, правда, рисует строго и экономно, однако столь же строг он в отношении точности и исторической правды. А главное, тот «универсальный, вечный, исконный» тип человеческой позиции, запечатлеть который он берется, тесно связан с проблемами данного времени. Гордая, всепоглощающая печаль Жофи Куратор выражает собой величие и трагизм человека, отвернувшегося от ужасного, жестокого мира. В образе Нелли Карас тот же протест переходит в отвращение к миру, к лишенному чистоты растительному существованию окружающих. Нелли Карас устроена так, что она, вероятно, могла бы быть счастлива лишь в некоем нечеловеческом, стерильном мире, поэтому природная добродетель превращается в ней почти в человеконенавистничество. За двумя этими судьбами стоят вечный спор Ласло Немета как мыслителя с самим собой, его планы, утопические мечты, неудачи, отступления, прозрения.
Что касается романа «Эстер Эгетэ» (1956), то он был уже порожден назревшей потребностью в синтезе. Богатый, детальный анализ общественной жизни в нем напоминает «Человеческую комедию», «Вину» и «Последнюю попытку», женские же образы — «мифологических» героинь Немета. Эстер Эгетэ тоже смотрит на мир со стороны, однако находит путь к гармонии в готовности жертвовать собою ради других. Роман «Милосердие» продолжает именно эту линию творчества Немета.
Крах семейной жизни родителей ставит Агнеш перед необходимостью сформировать собственную позицию. Затем она и в своей личной жизни много раз оказывается перед выбором — к этому ее подводят и мировоззренческие проблемы, и медицинское поприще, и ее отношение к любви. Во внутреннем диалоге с собой ей удается найти четкий ответ лишь на один вопрос: она точно знает, каков ее идеал в любви; однако этот момент бросает свет и на все другие ее раздумья и поиски. В заключительном эпизоде романа Агнеш идет с Халми, хромым коллегой-студентом, готовящимся вскоре получить диплом врача; они беседуют, спорят, потом Агнеш берет его за руку и, скрывая унизительную для него жалость, вынуждает бежать вместе с ней. Этот бег, снимающий напряженность, заставляющий юношу забыть свое несчастье, является символом принятого Агнеш решения: во имя милосердия она выбирает Халми. Выбор ее — итог сложного внутреннего процесса. Агнеш — девушка со здоровыми эмоциями. Она и мать, в общем, способна понять: «если ты… пересадишь себе под кожу чужие нервы, тогда, разумеется, можно оправдать все на свете», — рассуждает она. Но — «потому-то и хорошо, что есть некие абсолютные законы — мораль или попросту человечность», поправляет она себя. Видя, сколько вокруг нее жертв ничем не сдерживаемых страстей, она выбирает самоограничение как путь, ведущий к «абсолютному закону». Любовь «следует приручить, привив ей благородство, чтобы она была слугой, а не тираном», — так формулирует она свое кредо в вопросе о любви. Таким образом, она стремится избежать трагедии Жофи Куратор: подавляя в себе страсть, она превращает ее в творческую энергию. Поэтому Ласло Немет и говорит, что в «Милосердии» он хотел Жофи Куратор — Электре противопоставить образ Антигоны.
Читателю не приходится расшифровывать суть «милосердия» Агнеш. В финале книги автор как бы сам выходит за пределы «собственно романа» к некоему отвлеченному обобщению. «Вот видите, вполне можем мы с вами бегать, — остановилась Агнеш и, притянув к себе Фери, поцеловала его в потный, разгоряченный лоб. И казалось ей в эту минуту, что она обнимает не только Фери, но мать, отца, тетушку Бёльчкеи, умирающую Мату, всех своих безнадежно больных, все огромное хромое человечество, которому она должна внушить веру в то, что оно может бегать, да следить еще, чтобы оно не споткнулось, не запуталось в своих непослушных ногах».
Перед нами последовательно и логично развернутая мысль, достойное большого писателя решение. Налицо поиски выхода художником, сознающим свою ответственность перед обществом. Но при всем том роман побуждает к дальнейшим размышлениям. Ибо даже высокое благородство решения героини не позволяет отвлечься от того факта, что женский образ, выражающий идею автора, слишком воздушен, бесплотен. Агнеш, правда, ведет сама с собой нескончаемый внутренний спор о любви, но он как бы и не затрагивает глубин ее существа: ей почти не приходится бороться с собой, человеческий ее «материал» однозначно благороден. Жофи Куратор и Нелли Карас проходят каждая через свой ад, и потому их судьба может служить примером того, как сложна и противоречива человеческая жизнь. Так что символическое решение Агнеш, сделанный ею выбор проблему человеческого поведения, проблему поисков человеком гармонии с самим собой представляет как бы более легковесной, чем трагические образы ее литературных предшественниц. Но в других аспектах Агнеш человечнее их. Терпение, с каким она пытается помочь родителям примириться друг с другом и обрести покой, скромная, но тяжелая ее работа в больнице, среди обреченных — все это демонстрирует ее жизненный идеал, пожалуй, более красноречиво, чем программно заявленное «милосердие» в любви. Гуманизм ее — цель более туманная, чем милосердие, но зато и более многообещающая. Ибо милосердие, пускай и самое тактичное, таит в себе момент снисхождения, если не высокомерия. В то время как истинным гуманистом, вероятно, способен быть лишь тот, кто ощущает себя частью этого больного, страждущего мира.
Такой финал, такое художественное решение можно было бы назвать дидактическим, в самом деле, Немет (это чувствуется и в процитированном отрывке, завершающем «Милосердие») иногда как бы нарушает суверенность своей героини и, забываясь, начинает говорить за нее. Но это поверхностное впечатление. Здесь нужно учитывать и особенности того внутреннего монолога, который ввел в литературу Немет: внутренний монолог у него отличается от тех форм, что возникли в эпоху бурного обновления романа. Это связано со стремлением Немета изобразить человека как целостный микрокосмос: только «изнутри» достичь этого в полной мере нельзя, как нельзя и только «снаружи». Поэтому в его произведениях подчас весьма нелегко отделить внутренний монолог от авторской речи. Однако более существенно то обстоятельство, что поступки, чувства, мысли его героини, ее отношения с миром, с окружающими людьми растворены в единой, гармонизирующей их среде, в едином писательском видении, которое проще всего, пожалуй, определить как реализм. Суть реализма Ласло Немета заключается в предельной достоверности психологических деталей, тончайших душевных движений, во всесторонней обоснованности мотивировок, которые складываются в целостную, органически связанную с внутренним миром героя и с внешним его окружением — от непосредственного окружения до исторической эпохи — линию поведения, жизненную позицию. Поэтому образ Агнеш вовсе не кажется нам абстрактным, надуманным, хотя она, конечно, представляет собой воплощение «чистой» идеи в той же мере, что и ее предшественницы в творчестве Немета — Жофи Куратор, Нелли Карас, Эстер Эгетэ. В «идеальности» этого образа ненавязчиво, мягко соединяется все лучшее, что писатель находил в своих современниках, и то, что он хотел видеть в человеке будущего. Пластичность и жизненность образа — одно из лучших доказательств блестящего мастерства Ласло Немета, его огромного реалистического таланта.
Дёрдь Боднар
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Осенним слякотным вечером Агнеш возвращалась из университета. Она была не одна; справа, держа ее под руку и приноравливая валкий свой шаг к легкой, ритмичной ее походке, шла Мария, как и она, третьекурсница; они только что отсидели лекцию по патологии, которая (пускай институт и ставил имя своего основателя рядом с именем самого Пастера) из-за нынешнего нудного лектора и позднего времени превратилась — после зевков и поисков опоры для головы на собственном локте или на плече у соседа — в царство дремы в уютном тепле расстегнутого пальто, так что даже самые старательные студентки облегченно потягивались и улыбались, оказавшись наконец на свободе, в сыром переулке, куда сквозь изморось проникал с улицы Юллёи свет дуговых ламп.
Молодой человек, пятикурсник, что торопливо, стараясь не отставать от здоровых спутников, ковылял слева от Агнеш, неуклюже выкидывая правую ногу в ортопедической обуви, недавно вышел из клиники, от своих больных, и какое-то время, под предлогом покупки газет или марок, торчал на углу, на выходе из переулка, где в толпе заполнивших тротуар студентов должно было показаться и серое, солдатского сукна пальто Агнеш. Шагавшего же с другого края, со стороны мостовой, стройного юношу, чьи щегольские, сшитые на заказ ботинки и пружинистая походка побудили бы постороннего человека заподозрить в нем офицера, сменившего в этот вечер мундир на штатский костюм (впечатление это лишь дополняла фуражка байтарша[1]), позвала к ним, уже на углу Большого Кольца, Мария, оторвав его от компании студентов, которые, видимо, как свидетеля и очевидца, расспрашивали его о главном событии дня.
Этот отрезок Кольца, называемый улицей Йожефа, выглядел, несмотря на недавно прошедший дождь и оставшийся после него туман, удивительно оживленным, — впрочем, как всегда в это время. Напротив, на площади Ракоци, женское ремесленное училище как раз извергло сюда целый птичий двор — стайки будущих вышивальщиц, белошвеек, закройщиц и представительниц прочих рукодельных профессий; дальше, с улиц Юллёи и Барошш, из аудиторий медфака, выплескивалась, чтобы проветрить небольшой прогулкой мозги после лекций, молодая врачебная поросль; две эти стихии, общаясь не только взглядами (выражавшими, с одной стороны, почтительную зависть перед образованностью и умом, с другой — оценивающими ножки под короткими и все укорачивающимися юбками), но и громкими замечаниями, шутками, а порой и попытками завести знакомство, создавали веселую, подвижную смесь. В четверке, что шла, занимая полтротуара и оттесняя встречных, нить разговора держала в своих руках Мария. Она тоже сыпала бесчисленными вопросами относительно того, что вечерняя пресса уже окрестила Будаэршской битвой (бог знает что это было на самом деле), в которой бывший адмирал в последний момент помешал бывшему королю захватить будайский дворец[2]. Невооруженным глазом видно было, что к расспросам ее побуждает не столько интерес к историческим подробностям, сколько желание польстить участнику, а заодно в более выгодном свете представить свой темперамент, коли уж тяжеловесная походка, высокие шнурованные ботинки и пачка книжек под оттопыренным локтем придавали ей вид скорее филологини, чем медички. Ей все было интересно: как Ветеши — так звали юношу в фуражке — узнал о готовящемся сражении, и как он присоединился к коллегам — ведь из университетского батальона он, собственно, уже ушел, — и верно ли, что на поле боя они добирались на фаркашретском трамвае, и видел ли он короля, и где тот находился (правда ли, что в специальном поезде?), когда сдался.
У Ветеши хватило знания психологии, женской в частности, чтобы отвечать Марии с хладнокровием несколько большим, чем он испытывал (хотя трусом он не был), отправляясь на будаэршскую битву. «Господи, и вы о том же, — засмеялся он. — А я-то надеялся, вы меня избавите от бесконечных расспросов…» Но рассказал все-таки, что за ним забежал сосед по комнате (как сыновья небедных родителей, они вдвоем снимали комнату недалеко от университета), и, хотя батальон, который в последнее время превратился в какое-то общество помощи студентам-беженцам, ему действительно надоел, в такой момент просто нельзя было не присоединиться к коллегам. Да, они сошли возле кладбища и окопались возле винных погребов будаэршских швабов; нет, самому ему не пришлось стрелять, только где-то поблизости стучал пулемет; старый шваб, который им даже налил по стакану вина, все приговаривал: хорошо, что на прошлой неделе он снял виноград, а не то бы тут все вытоптали. «И вы ни чуточки не боялись? Ведь вы даже в армии не служили. Это было ваше боевое крещение». — «Зря стараетесь, — засмеялся Ветеши, — не умею я себе импонировать». — «Конечно, вы же хирург, вам только хладнокровие импонирует да чтобы в руках была твердость», — продолжала льстить Мария; действительно, Ветеши, хотя был лишь на четвертом курсе, успел прослыть среди коллег подающим большие надежды хирургом; в одной больнице, где служил младшим врачом его товарищ по батальону, Ветеши делал уже небольшие операции — удалял зубы, вскрывал гнойники, вырезал атеромы.
«Агнеш, а ты и не знала, что вокруг творится? — повернулась Мария к подруге, чтобы и ее вовлечь в чествование героя. — Я раз пять, наверное, забегала в Общество взаимопомощи, особенно когда услыхала, что Иван там». — «Нет, я узнала, только когда все кончилось». Агнеш, чуть наклонившись вперед, бросила взгляд мимо подруги на Ветеши: глубокая впадина рта (меж горбатым носом и выдающимся подбородком) и снисходительная улыбка, сопровождавшая его иронически-скупой и все-таки внушающий уважение рассказ, были ей до того знакомы (хотя они с Иваном уже не встречались), что по спине у нее пробежали мурашки. «Оно и началось-то с того, что сразу кончилось», — вставил хромой юноша, который до сих пор с молчаливой досадой слушал осанну в адрес Ветеши и, хотя потерял целых полчаса, чтобы присоединиться к девушкам, теперь ждал лишь, пока они дойдут до ближайшей трамвайной остановки, чтобы проститься с компанией.
Однако необходимость в этом отпала сама собой. «Тут я с вами расстанусь», — сказала Мария, когда они дошли до Народного театра, который, поскольку в нем уже несколько лет играла труппа Национального, молодежь начала называть Национальным театром. Мария жила далеко от центра, в той части города, что находилась меж дальним отрезком улицы Керепеши и Лигетом[3] и звалась Чикаго, каковое название получила в конце прошлого века, вероятно, за стремительный темп, каким ее застраивали; туда Марию и увозил ежедневно, разлучая ее с коллегами, девятнадцатый трамвай. «А вы дальше?» — быстро, немного смущенно спросила она Ветеши, когда настал момент (трамвай уже приближался) протянуть ему руку. Теперь Ветеши бросил мимо Марии острый, пытливый взгляд в сторону вязаной шапочки Агнеш — и либо не был удовлетворен тем, что увидел на бледном, деланно равнодушном лице Агнеш, либо сам возымел охоту причинить боль этой девушке, которая после каникул почему-то вдруг перестала ходить к нему на свидания в сад Орци, — во всяком случае, профиль его осветился знакомой жестокой улыбкой. «Нет, зачем же, — сказал он со смехом. — Побреду с вами, если вы не против еще немного помесить грязь».
Мария не заметила ни взгляда Ветеши, ни пренебрежения, прозвучавшего в словах «побреду» и «месить грязь». Она расслышала лишь, что на этом волшебном перекрестке — об этом она и мечтать не смела — Ветеши отдал предпочтение ей, Марии, а не пошел с Агнеш и не повернул назад. Лицо ее засветилось такой нескрываемой радостью, что кожа на нем, и без того гладкая, в этот момент, казалось, сама начала источать сияние. Марию нельзя было назвать некрасивой, и если в ней и было что-то от гусыни, то объяснялось это, кроме развалистой походки, определявшей и манеру держать голову, еще и миндалевидными, немного широко поставленными глазами. «Еще бы — с национальным героем!» — засмеялась она счастливо и, переходя Кольцо, оглянулась на остающихся с таким триумфом, что Агнеш, несмотря даже на досаду, не выдержала и улыбнулась. «Я победила. Он мой. Он выбрал меня. На факультете нет другой такой девушки, как Мария Инце», — буйно стучало ее сердце в зажатый под мышкой учебник фармакологии. И хотя Агнеш немного задело, что Ветеши ушел с Марией, она испытывала к Марии скорее жалость, чем зависть. Мария училась лучше ее, первую сессию, за исключением анатомии, сдала на отлично; она была из обеспеченной семьи (отец держал аптеку где-то в провинции) и могла больше тратить на платья и на театры, у нее бывали такие журналы и книги, которые Агнеш знала разве что понаслышке, — и все же была в ней некая простоватость, никак не позволявшая допустить, чтобы Иван Ветеши, чей вкус Агнеш так хорошо знала, мог серьезно в нее влюбиться; так что если он уделял Марии внимание (думала про себя Агнеш), то, скорее всего, только с целью сохранить отношения с Агнеш, не совсем выпустить ее из своих рук.
«Ну, а мы? — обернулась Агнеш к стоящему рядом с ней хромому коллеге, чьи глаза, сидящие глубоко во впадинах между надбровьями и широкими скулами, уловили и оценили взгляд, которым Агнеш проводила удаляющуюся фигуру Ветеши, и теперь, ничем не выдавая своих тайных мыслей, выжидающе смотрели на девушку: что решит она в отношении его. — Пройдем еще одну-две остановки?» — спросила Агнеш скорее из чувства такта, чтобы он не подумал, будто с ним ей нет охоты гулять. Однако, высвобождаясь из силового поля Ветеши и настраиваясь на хромавшего рядом спутника, на то, что их связывало, она уже рада была его обществу. Фери Халми, можно сказать, был ей земляком; он, как и ее отец, вырос в Тюкрёше, домик его родителей приютился рядом с большой, в целых четыре хольда, усадьбой Кертесов, где Агнеш проводила школьные каникулы. Отца Фери, механика Халми, Агнеш знала в лицо; механиком он считался лишь потому, что носил синюю замасленную блузу; в памяти ее он никогда не был связан ни с молотилками, ни с иными машинами, как кузнец дядя Киш. Фери, очевидно, еще мальчиком предпочитал одиночество, иначе как могло случиться, что, подолгу живя с ним рядом, лишь по другую сторону забора да тянущихся вдоль забора зарослей бузины, она не сохранила о нем никаких воспоминаний. Впервые она от бабушки услышала, что вон соседский-то парень тоже учится на врача и мать его страсть как надеется, что увечный сын выйдет-таки в доктора. Но Халми был на два курса старше, и в университете они столкнулись лишь в этом году, когда Агнеш начала слушать клинические дисциплины: сидя на занятии по общей терапии, она прочитала его фамилию на лежащей перед ним зачетке. «Коллега, вы не из Тюкрёша случайно?» — коснулась она его плеча. С тех пор, особенно если рядом не было Марии, Фери частенько подсаживался к ней; иногда они встречались и где-нибудь по дороге между клиниками.
То, что в памяти этого серьезного длинноносого юноши живет тот же огород, тот же овин, те же стога соломы, которые для горожанки Агнеш означали отдых, свободу, поэзию, порождало в их отношениях некую интимность, словно они вдвоем владели общей тайной, о которой окружающие не имели — да и иметь не могли — ни малейшего понятия. Однако больше всего ее тянуло к Фери то, что с ним единственным она могла говорить об отце, которого он, пускай издали и понаслышке, но все-таки знал. Фери быстро понял, каким козырем он владеет, и, когда они оказывались вдвоем, спешил им воспользоваться, чтобы задержать на себе внимание Агнеш и подольше побыть с нею вместе. Вот и сейчас речь зашла о Яноше Кертесе. Фери знал уже все, что только мог знать об отце Агнеш. Что спустя два года после начала революции в России тот (по рассказам одного человека из Игала) с транспортом возвращающихся домой военнопленных добрался до Петрограда, но дальше его не пустили. А другой однополчанин отца, офицер, которому удалось-таки вернуться домой (встретиться с ним они не смогли: он сразу уехал в Эрдей[4]), передал, что во время польской кампании Кертес оказался замешанным в какую-то шпионскую историю и был арестован. «Но в это же просто невозможно поверить, — трясла головой Агнеш. — Он же — сама умеренность, сама правдивость. Если только страсть к языкам не втянула его в какую-нибудь беду…» Фери Халми подумал о другом Кертесе, двоюродном брате Агнеш, который после разгрома Коммуны[5] добровольцем вступил в национальную армию и приезжал домой из Шиофока в шляпе с журавлиным пером[6]. Фери вовсе не считал таким уж невероятным, что дядя этого парня тоже способен ввязаться в какие-нибудь акции против красных. «Да, вы рассказывали, — потер он ладонью лицо, словно стирая скептическую гримасу, — в плену он всерьез занялся языками родственных народов. Вообще-то я думаю, — вернулся он к той же не внушающей особого доверия вести, — не обязательно было ему быть шпионом, чтобы его не пустили домой. В советском правительстве тоже не дураки сидят, чтобы сейчас, когда в тюрьмах у нас столько коммунистов, ни за что ни про что выпускать из рук такой важный предмет обмена, как венгерские офицеры». — «Да, я тоже этим себя утешаю: ведь русским, собственно, выгодно их беречь. Но вдруг наши власти заупрямятся? Знаете, что это такое, когда политические страсти бушевать начинают: трудно отдать, что уже у тебя в руках. Ведь разговоры идут вон как давно, а все что-нибудь да мешает…» — «Нет, не заупрямятся они, — потряс головой Фери. — Общественное мнение заставит. А потом, — добавил он, уравновешивая коротким смешком слова, которые никак не мог удержать, — существует ведь еще классовая солидарность… Речь-то в конце концов об офицерах идет».
Агнеш не знала, над чем он смеется: то ли над вышедшим из моды выражением и над людьми, которые все еще им пользуются, то ли над теми, кому придется-таки выпустить из рук добычу; но ей это и не важно было. В воображении ее вновь возник привычный, за семь лет во всех деталях и вариантах разработанный образ: вот отец выходит из вагона, звонит вечером в дверь их дома… «Я на это уже не надеюсь, — покачала она головой. — Столько времени с тех пор прошло, его наверняка нет в живых». — «А я просто уверен, что скоро он будет дома», — сказал Фери с непривычной для него убежденностью, — вероятно, в тайной надежде этим решительным утверждением пробудить, пускай на мгновение, симпатию к себе в душе спутницы. «Вы серьезно так думаете? — взглянула на него Агнеш, как бы ища в его лице объяснения такой уверенности. — Ведь сколько было всего: гражданская война, голод, а ему почти пятьдесят». — «Да вы же сами говорили, Агнешке (это «Агнешке» было еще тюкрёшским словечком), что батюшка ваш и в плену не бросал занятия гимнастикой. Даже подтягивался на турнике», — добавил он, и короткий смешок, подобный только что прозвучавшему, призван был теперь подчеркнуть тепло общих воспоминаний, которые словно давали ему власть над какой-то частичкой души Агнеш. «О, это еще в Даурии было», — ответила Агнеш, взвешивая про себя еще один давний образ — образ стареющего мужчины, взлетающего над турником среди толпящихся вокруг офицеров, на фоне бараков и бескрайних монгольских степей. И, сама не ведая почему, немного вдруг устыдилась того, что рассказала об этом Халми. Однако теплое чувство в груди не позволило ей замолчать. «Я как-то не смею думать о его возвращении, даже если оно в самом деле возможно. Ведь тогда вся моя жизнь изменилась бы в один день. Пусть уж лучше это пока так и останется несбыточной мечтой».
Некоторое время они шли молча. Фери чувствовал: найди он сейчас какое-нибудь осторожное, нужное слово, и его допустят в святилище, где эта замкнутая девушка хранит образ отца. «Должно быть, вы друг друга очень любили, — произнес он наконец, — если отец и теперь, спустя много лет, так много значит для вас». — «Да, очень, — горячо откликнулась Агнеш на так отвечающую ее настроению фразу. — Но все же не так, — добавила она, невольно делая уступку надежде, которую только что объявила несбыточной, — как могла бы любить сейчас. Ведь когда он ушел на фронт, я, собственно, была совсем еще девочкой…» Так сладко было бы говорить, говорить без конца об этом; она ощущала в груди, в горле наплыв готовых прозвучать слов — о том, что долгие годы способны не только разрушить любовь, но и сделать ее взрослой, зрелой; однако, взглянув на Халми и уловив в лице его отблеск собственной радости, затаенное, жадное ожидание возможности прикоснуться к приоткрывшимся струнам ее души, — она вдруг замолчала, глядя на мокрый асфальт под ногами. «В общем, скоро должно все решиться», — сказала она, и по тону ее ясно было, что об этом ей больше не хочется говорить.
Они молча дошли до проспекта Андрашши. «Ну, тут я вас посажу на трамвай, — обратилась она к Фери совсем иным, почти материнским тоном. — Вон сколько я заставила вас тащиться пешком». Халми поднял взгляд — в глазах его было столько испуга, боли, упрека, и все это угасло так быстро, что выражение его лица трудно было бы перевести однозначно. Оно могло означать: «Ты намекаешь на мою хромоту, мол, я не способен даже ходить нормально»; но могло означать также: «И у тебя хватает жестокости надо мной смеяться: ты ведь знаешь, я на край света могу идти с тобой и не устану ни капли». Так что Агнеш, чтобы смягчить свои слова, поспешила пояснить легким, дружеским тоном: «Вам ведь в Обуду еще добираться. Где вы живете? У Филаторской дамбы? Домой к ночи доберетесь. А я здесь близко живу, не стоит даже толкаться в подземке». Халми ничего не ответил. Агнеш постояла с ним, дожидаясь трамвая. Вагон был полон, на остановке тоже толпился народ. Агнеш чувствовала: с приближеньем трамвая юношей все сильнее овладевает тревога, как он в этой толкучке поднимется со своей ногой на площадку; из деликатности, которую, впрочем, Халми не мог уже оценить, она перевела взгляд на какого-то рассыльного с тележкой. И лишь когда трамвай тронулся, снова подняла глаза на Фери. Он стоял на верхней ступеньке; какая-то женщина, заметив, вероятно, его хромоту, потеснилась, вдавившись в людскую массу, и свободной рукой помогла Фери подняться на освободившееся место; он, однако, намеренно не желал проходить со ступенек, как мальчишка после удавшегося озорства, и оттуда, держась одной рукой, весело махал ей на прощанье.
Агнеш двинулась по теряющемуся во мгле проспекту, по которому, словно река, к сердцу города лился, клубясь, сырой вечерний туман, заливая дома и деревья, оттесняя немощный свет дуговых ламп к подножию фонарных столбов. Она шла по дорожке, где в ее детские годы висели таблички: «Для верховой езды». В те времена она в самом деле видела здесь всадников; с тех пор они или вывелись, или куда-то перебрались и теперь трясли свои обтянутые клетчатыми штанами ляжки на каких-то других дорожках. Прежняя же отведенная им полоса оставалась пустой, и Агнеш одна, отделенная от прохожих рядами кустов, шла в сторону Лигета, зажав под мышкой потертую сумку, вместе с ней перешедшую из гимназии в университет. Путь этот с детства был для Агнеш путем, на котором она отдыхала душой; здесь с клеенчатым футляром для нот она возвращалась по вечерам из музыкальной школы. Туда она бежала по параллельным проспекту улицам, чтобы успеть вовремя и, прежде чем очередь дойдет до нее, еще раз проиграть пальцами этюды Черни на положенных на колени нотах; но по дороге обратно она нарочно делала крюк, чтобы выйти на проспект, оттягивая, насколько можно, возвращение домой. Музыка давалась ей плохо, но мать, записав ее в класс фортепьяно, намерена была добиваться, чтобы Агнеш закончила и практические, и даже подготовительные к консерватории классы. Дочь, играющая для молодых людей отрывки из опер, для госпожи Кертес была частью мечты, хотя бы отчасти компенсировавшей собственную ее отнюдь не блестящую образованность, а для Агнеш, которая в школе была отличницей, возвращение домой после музыкальных занятий, после сражений с фальшивыми нотами и с барышниным отчаянием, означало час приятной расслабленности; в ушах у нее еще отдавались вопли негодующей барышни, но карман оттопыривали какие-нибудь дешевые сладости или — после первого октября, когда на улицах появлялись круглые печки, — теплый кулечек с жареными каштанами, и она, неспешно жуя на ходу, наслаждалась покоем, независимостью и одиночеством среди толпы чужих, спешащих куда-то людей. Дорожка эта видела и первого в жизни Агнеш — ей было тогда двенадцать или тринадцать — мужчину, который, вот таким же примерно вечером, из миллионов живущих, идущих вокруг женщин двинулся с недвусмысленными намерениями именно за ней. Молодой человек был не так уж и молод, сначала она без малейшего подозрения оглянулась на возникшую рядом фигуру и, лишь заметив в его глазах странное, еще неведомое ей выражение, в испуге ускорила шаг. Что за тревожное и все же пьянящее это было чувство; тело, которое она носила до сих пор бессознательно, обрело вдруг какую-то необычную, стыдную ценность, а обтянутые нитяными чулками икры, что забыла прикрыть короткая девчоночья юбка, стали словно обнаженные груди. Где уже оно, то время! Как научилась она с тех пор на улице, в университете спокойно выдерживать и отражать чужие взгляды; хотя, собственно, если что-то и изменилось, так просто выросло ее знание, женское и медицинское, вовсе не равнозначное опыту, да еще исчезло былое сладостное волнение, вытесненное сопротивлением становящейся уже чуть-чуть тягостной девственности.
Она снова попробовала думать про отца, возвращаясь к мечтам, от которых ее оторвал светящийся тайной алчностью взгляд Халми. Какое это все-таки будет счастье, если в один прекрасный день отец вдруг окажется дома; Фери в этом убежден, да и она, если уж быть вполне искренней, вопреки всем доводам разума верит в это. У нее появится друг, с которым ее разделяют — но в то же время и связывают — общественные условности, возраст, кровное родство. С матерью у нее никогда не было доверительных отношений. Да, собственно говоря, она не слишком и тосковала по той доверительности, с какой иные взрослые дочери обсуждают с матерями каждый жест ухажера и сроки месячных. В дружбе женщин вообще есть что-то нечистоплотное: они не только носят белье друг друга, но и обмениваются подчас самыми интимными наблюдениями. Агнеш жаждала такого доверия, которое, давая возможность раскрыть душу, все же сохраняет дистанцию между людьми. Как раз нечто подобное, помнилось ей, сложилось, еще когда она была девочкой, между ней и отцом. Она уважала его и жалела, — конечно, если можно назвать жалостью желание компенсировать унижение, нанесенное высшему существу. А ведь отец уделял ей не так уж много внимания, куда меньше, чем мать, которая тоже любила ее по-своему: если бы Агнеш захотелось вдруг получить какое-то новое платье, или лакомство, или игру, то, поканючив немного, она добилась бы своего. Отец больше заботился о ее здоровье, тревожась, чтобы она не выросла бледной немочью, как «мамуля». Он водил ее на прогулки в Буду, иногда брал на экскурсии со своими учениками. Вот и сейчас она словно воочию видела перед собой его указательный палец — точь-в-точь как у тюкрёшского дедушки, — направленный с еще старой, деревянной обзорной площадки на горе Янош вдаль, в дымку за Пештом, и слышала его голос, рассказывающий про гору Насай[7] с ее «профилем» или про сражение под Модёродом[8]. Ученики отца, слушая объяснения, порой косились на Агнеш, и она в такие минуты ощущала себя невероятно счастливой и чистой, упиваясь тем уважением, которое они переносили с учителя, организовывающего им экскурсии и умеющего держать их в узде не столько строгостью, сколько шуткой, на его дочь. Когда они с отцом бродили в горах вдвоем (мать не любила такого бесцельного, не связанного с каким-либо удовольствием времяпрепровождения), он и тогда оставался прежде всего учителем: расспрашивал ее о школьных делах, рассказывал об истории Будапешта, вспоминал свои студенческие годы, какой была в те времена Швабская гора[9], как выглядели тогда набережные Дуная. О том, что они означают друг для друга, речь меж ними не заходила никогда; даже представить себе невозможно было, чтобы отец заговорил с ней о чем-то подобном. Но как раз спокойная, неспешная эта ходьба, и складки земной коры, и не всегда доступные ей хитрости движения планет по орбитам, и обязательные на каждом подъеме предупреждения («Здесь давай-ка помедленнее, сердце надо беречь») неким таинственным образом заставляли Агнеш почувствовать, как прекрасна та тихая, чуждая бурным проявлениям любовь, что привязывала ее к этому спокойному, доброжелательному человеку, даже в городском платье похожему на своих загорелых, пропахших землей и солнцем деревенских родичей. «О, если бы можно было все это продолжить сейчас! — цеплялась она за воспоминания, борясь с другим поднимающимся в ее сердце знакомым чувством. — Если бы снова вместе отправиться на гору Гуггер, как в последнее воскресенье перед уходом отца на фронт…» Она пыталась представить свое блаженство и то удивление, с каким вернувшийся из странствий скиталец убедится в незыблемости ее тихой дочерней преданности, увидит, как повзрослела она душой, как широк стал круг ее интересов. Она вспомнила его последнюю фотокарточку, присланную из Польши: в шинели, в заляпанных грязью сапогах он стоит у какой-то стены, поросшей диким виноградом, и даже здесь взгляд его спокоен и улыбчив. Но хотя в лице своем, в расслабленных чертах она и сейчас как бы ощущала застывшую в мышцах губ улыбку, тем не менее и этот изо всех сил удерживаемый в сознании образ не способен был остановить надвигающуюся исподволь тревогу, которая мучительной тяжестью, в какой-то немыслимой прогрессии росла по мере того, как Агнеш приближалась к дому. Она и так шла все медленнее, стараясь как можно дальше отодвинуть звонок в дверь и щелчок замка, которые впустят ее во все то, что ждет ее дома. Она внезапно остановилась, вспомнив про кино. Утром она сказала, что, наверное, придет домой поздно, они с Марией хотят посмотреть новый фильм с Хенни Портен[10]. Но Мария, взбудораженная сражением при Будаэрше, как видно, напрочь забыла, что должна была доставать билеты. Агнеш же и кино-то себе придумала потому лишь, что, возвратясь домой сразу после занятий, могла встретить там того, другого. Эта мысль и вызванное ею сердцебиение еще увеличили и без того почти невыносимый груз, угнетавший ей душу. Если сейчас она явится домой, он наверняка будет там. Кто знает, они еще, может быть, подумают, что она намеренно постаралась застать их врасплох и своим неожиданным возвращением пытается что-то доказать. У входа в подземку она на мгновение заколебалась: а что, взять сейчас и вернуться в центр, пойти, за неимением лучшего, на какой-нибудь американский ковбойский фильм. Однако тут же подавила в себе эту пошлую «тактичность», которую столько раз осуждала умом, но так и не научилась с нею справляться.
По тротуарам освещенного электрическими фонарями проспекта, на площади Кёрёнд сновало еще довольно много прохожих, с клубочками светлого пара, вылетавшими изо рта в холодный туман; боковые же улицы, днем шумные, суетливые, с играющими в футбол мальчишками, насвистывающими подмастерьями, грохочущими ломовыми повозками, напоминающие улицы какого-нибудь итальянского города, стояли теперь безлюдными, магазины были закрыты, и только из-под опущенной наполовину решетки лавки мясника еще тек густой запах шкварок. Приближаясь к дому, Агнеш увидела, как из подворотни выглянула чья-то голова и тут же скрылась; чуть погодя выступ на стене у входа обрел контуры женской фигуры с выделяющимся животом и козырьком низко повязанного платка: тот, кто там прятался, судя по всему, и улицу хотел видеть, и высовываться робел. Когда Агнеш быстро свернула в подворотню, силуэт отодвинулся вглубь, к мусорным бакам. «Это вы, Агика?» — прозвучал голос, в котором, кроме радости встречи, слышались и пролитые недавно слезы. Это была тетушка Бёльчкеи, привратница. «Случилось опять что-нибудь, тетя Кати?» — остановилась Агнеш, пытаясь разглядеть в темноте горящие глазки-пуговицы, в которых в последнее время прочно застыла какая-то недоуменная обида, непривычное напряжение мучительной работы мысли. То, что привратница и молодая жиличка-студентка называли друг друга «тетя Кати» и «Агика», объяснялось давней историей их знакомства; оно началось лет десять — пятнадцать назад, когда Кертесы только-только перебрались из провинции в столицу и жили в сырой квартире на склоне Крепостной горы, — тогда-то и нанялась к ним в служанки молодая женщина, что жила в бараке поблизости; она поливала из шланга расположенный уступами сад, а зимними вечерами, в ожидании, пока вернется из города «мамуля», учила девочку узнавать на будильнике римские цифры, в которых сама еще была не вполне тверда. Муж ее, дядя Бёльчкеи, уже тогда жил вместе с ними в каморке рядом с бельевой; с тех пор оба так и переезжали с ними, будто мебель: сперва к тете Фриде, в Визиварош, потом, когда на Кертесов нежданно свалилось наследство материного дяди, в темный пештский доходный дом, в котором и стали привратниками… Тетя Кати все не решалась вот так, сразу, перейти к жалобам. «Вы как шли домой, Агика? По Верхнелесной?» — спросила она голосом, в котором за детективным азартом подрагивали взывающие к состраданию нотки. Агнеш знала уже, в чем дело: на Верхнелесной аллее находился подвал, где дворники держали метлы и откуда с тележками и совками расходились по окрестным улицам; роковое это место являлось точкой, куда постоянно было устремлено истерзанное сердце тети Кати, — раза два она даже пыталась взломать закрытую на замок дверь подвала. Агнеш действительно шла по Верхнелесной, занятая, правда, совсем иными мыслями, так что, услышав вопрос: «Моего-то там не видали?» — она ничего подозрительного не могла вспомнить. «Что вы думаете, Агика, с тех пор, как господин управляющий помог мне ту стерву выгнать, она все время на Верхнелесной толчется, — не выдержала наконец тетя Кати, — а то, бесстыжая, даже до дому его провожает». Господином управляющим она величала чиновника, в чьем подчинении состояли окрестные дворники; для дядюшки Бёльчкеи, произведенного после войны из старшего дворника в бригадира, он был непосредственным начальником и, по этой самой причине, естественным союзником тети Кати в борьбе с пагубной страстью, во власти которой оказался дядюшка Бёльчкеи. В борьбе этой, кстати, участвовал и сам дядюшка Бёльчкеи, который в глазах Агнеш был в свое время образцом истинного венгра с открытым и честным лицом и большими усами; в нем и теперь еще оставалось достаточно порядочности, чтобы по возможности избегать встречи с бывшими хозяевами, помнившими его как доброго семьянина; более того, после изгнания злосчастной уборщицы он, по слухам, сам хвалился жене, что окончательно и бесповоротно порвал с той шлюхой; однако в последнее время у него опять появилось подозрительно много сверхурочных дел в подвале, а недавно, придя домой, он даже не поцеловал тетю Кати, чтобы та не почуяла, как несет от него вином. «Опять, поди, в корчму его заманила, — полилась из груди тети Кати, после минутной передышки, новая порция жалоб. — Они ведь перед тем выпивают, Лимпергериха видела их в пивной на улице Сив», — добавила она, и губы ее начали дрожать и разъезжаться, потому что, произнеся это «перед тем», она как бы опять очутилась лицом к лицу с узнанным на старости лет ужасом — с мыслью о том, что должно следовать «затем». Агнеш положила ладонь на ее руку, стиснувшую ушко мусорной корзины. После всего, что она передумала по пути домой, с замиранием в сердце стараясь хотя бы немного оттянуть свой приход, она ощутила такой близкой себе эту сохранившуюся из прошлого бездетную женщину (которая привыкла бороться лишь с уличными мальчишками, что с криками забегали порой в ее подворотню, да с разводящими клопов жильцами, подобная же, новая для нее беда даже после всех страхов военных лет застала ее совершенно врасплох), будто они были с ней подругами по несчастью, — может быть, по общей обиде, грубо затронувшей прошлое, — и ей захотелось сказать тете Кати что-нибудь такое, что она слышала от пожилых, многоопытных женщин, скажем тюкрёшских бабушки или тетки, что-нибудь вроде: «Куда он денется-то от вас?», или: «Пусть себе перебесится», или: «Что пользы с того, если и вы еще переживать станете?». Но язык у нее не поворачивался произнести что-либо подобное; да и откуда было ей знать о том, что так властно захватило дядюшку Бёльчкеи и терзает тетю Кати. Однако привратница и в молчании Агнеш сумела услышать сочувствие. «Все война виновата, — как бы пригласила она девушку принять участие в поисках той тайной причины, над которой ломала голову столько ночей и которая космической своей всеобщностью чуть-чуть смягчала ее бабье горе. — Там он к этому приучился…» И тут словно чужое участие, зовущее к ответному участию, отвлекло на минуту ее внимание от того, о чем она не могла не думать. «Вот еще что: может, слыхали, Агика, теперь в самом деле их обменяют. Завтра и в газете будет напечатано», — переключилась она с собственного несчастья, словно возвращая свежий долг, к несчастью девушки.
У тети Кати в запасе всегда были добрые вести, по которым следовало, что барин вскорости обязательно должен вернуться. В этой жадности ее к слухам был и свой небольшой расчет, тайно лелеемая надежда, что уж барин-то обязательно наставит ее мужа на путь истинный. Ведь муженек ее всегда ценил, что барин считает его душевным и рассудительным человеком, какие только в деревне еще и остались, и в этом чужом для обоих городе любил потолковать с ним о деревенском житье-бытье, об овцах, пастбищах и обо всем таком. Кого-кого, а уж барина-то должен он устыдиться! Тетя Кати даже представила себе, как барин будет стыдить ее непутевого мужа. «Вот хоть на меня поглядите, Бёльчкеи: я каким ушел, таким и вернулся», — скажет он; а в том, что слова эти соответствуют истине, бывшая служанка, зная барина, даже тени сомнения не питала. «Сколько раз уже говорили такое», — ответила недоверчиво Агнеш. «Нет, на этот раз чистая правда. Господин Лимпергер сказал, а уж он-то знает, Агика, списки уже в типографии…» Господин Лимпергер, жилец с первого этажа, квартира два, служил в Телеграфном агентстве, откуда рассылают по всем газетам официальные сообщения. «Не хотите заглянуть к ним? Он даже газету принес… У вас все равно гость, — внезапно добавила она, кривя губы. — Этот… Лацкович! — И тут же испуганно посмотрела на Агнеш: не пересолила ли? — А то давайте я вам сама занесу», — предложила она на всякий случай.
Взгляд этот был знаком Агнеш. Лацкович, имя которого потеряло даже — столь велика была антипатия к нему тети Кати — полагающееся гостям слово «господин», в душе привратницы представлял ту же самую угрожающую самой их жизни — как, например, наводнение — стихию, которая даже старый подвал на Верхнелесной аллее (куда прежде она и сама по дороге с базара заходила частенько, чтобы, в качестве первой дамы, обменяться шутками со старшими дворниками и бросить пару ласковых слов дядюшке Яношу, чинившему старые метлы) превратила в какой-то зловещий притон, место недостойных оргий. За пятнадцать лет, проведенных под барыниной властью, она узнала многие ее слабые стороны, ведь вместе с бедным барином ей чаще всех приходилось выносить бури неуравновешенной ее натуры, и благодаря своему покладистому характеру, умению приспосабливаться, иной раз с помощью свежих сплетен, а то и просто настойчивости она даже лучше, чем многотерпеливый муж, умела лавировать в этих бурях, к тому же, как женщина и доверенное лицо, беспристрастнее разбиралась в капризах и глубже была посвящена в детали. Однако то, что произошло, оказалось для нее более неожиданным, чем собственное несчастье. Пусть за долгие годы она и бывала свидетельницей того-сего — вспомнить хотя бы, с каким восторгом барыня, еще в будайские годы, отзывалась об их молодом домашнем враче, даже хлеб домашней выпечки ему посылала, потому как бедняге, при болезненной его жене, приходилось довольствоваться хлебом из пекарни; или как умел рассмешить, поднять ее настроение легкомысленный повеса кум, крестный отец Аги. Но все прежнее было не более чем игра, придававшая чуть-чуть остроты замужней жизни, — тетя Кати и сама иной раз в самой невинной форме позволяла себе такое, отвечая на шуточки почтальона или мясника, — однако чести и гордости такой женщины, как ее барыня, это никак не затрагивало. Долгое соломенное вдовство во время войны не только ничуть не ослабило в тете Кати этого прочного, как кремень, убеждения, но даже возвело его в разряд таких очевидностей, над которыми и задумываться-то нечего. И вот на́ тебе: ее барыня, женщина хорошо в летах, — и какой-то мальчишка, которого она, тетя Кати, и к дочери барыниной близко не подпустила бы!
Конечно, Агике она ничего обо всем этом не сказала. Для нее Агнеш была в этом смысле — хоть она и студентка уже — прежней Агикой, перед которой как перед барышней определенные, в деревне довольно употребительные слова и темы нельзя было задевать; какое-то время она даже с Лимпергерихой не делилась своими мыслями и наблюдениями: во-первых, боялась, как бы эти ее разговоры не дошли до барыни, а во-вторых, потому что они лишний раз напоминали про ее собственный позор. «Вы ведь взрослая уже, Агика, с вами можно про такое говорить», — предваряла она обычно и рассказы о собственных злоключениях, когда те благодаря вылетающим из привратницкой визгам и крикам стали достоянием всех жильцов во дворе и проросшая под дождичком всеобщего сочувствия словоохотливость превратила их в своеобразную бесконечную сагу; однако натуралистические детали она и тут прятала в тумане абстракций и подавала в несколько отредактированном — специально для Агнеш — виде. («Ведь вы сами понимаете, Агика, женщина сразу замечает, что муж с другой имел дело: потому и с женой занимается без всякой охоты».) Но о том, что, по наблюдениям тети Кати, должно было происходить между матерью Агики и Лацковичем, нельзя было говорить даже намеками. Ставший вдруг жалостливым голос привратницы и ужас, застывший в зрачках остановившихся черных глаз, сказали все с предельной понятностью. Агнеш, пожалуй, именно из сакрального изумления, с которым произнесла тетя Кати имя Лацковича, поняла: то, о чем сама она не желала подозревать, в душе тети Кати, на основе даже ее потрясших фактов, стало убеждением. «Хорошо, тетя Кати, занесите, пожалуйста», — сказала Агнеш, как бы ища союзника в том, что ее ожидало, и двинулась в скудно освещенный газовой лампой подъезд.
На дворовых галереях в этот час не было ни души, только свет, сочащийся сквозь занавески на окнах, показывал, что люди в квартирах еще не спят, занятые своими делами; светились больше кухонные окна: в доме жили в основном бедняки, которые сумерничали при огне плиты, а в комнату уходили только спать. Агнеш стеснило грудь, словно ей не под силу были крутые ступеньки. «Настоящее диспноэ[11]», — подумала Агнеш, остановившись на площадке второго этажа и прислушиваясь к сбивчивому своему дыханию. Но потом, рассердившись на себя, с внезапной решительностью взбежала одним духом на третий. Она и так много раз себя ругала за робость, словно это она в чем-то провинилась и это ее могут застать за чем-то постыдным. Собственно, она должна была бы войти твердым шагом и взглянуть на них непреклонно, чтобы глаза ее стали им зеркалом, а на лице был написан суровый приговор; она же боялась чего-то, старалась их избегать, на цыпочках шла по квартире — не для того, чтобы застать их врасплох, а чтобы спрятать владевшее ею чувство вины. «Я же этим только поощряю их, — ругала она себя за малодушие. — То, что с ними происходит, кажется им чем-то прекрасным, возвышенным; это и заставляет меня ходить потупив глаза и стараясь быть незаметной. Или, что уж совсем позорно, проявлять тактичность, становиться почти их сообщницей. Именно это, особенно поначалу, множеством мелких жестов и предлагала мне мать». Но напрасно пыталась она настроить себя на роль неумолимого судии: решительность ее улетучилась, как только она отыскала в сумке ключ.
В квартиру она вошла через кухню: ключ у нее был лишь от этой двери, и, еще не включив свет, ощутила запах вынесенных сюда остатков ужина. Ничего не успев увидеть, она уже знала, что на столе лежит испачканная жиром плотная бумага из-под колбасы, что на большом японском чайнике — об этом говорил горьковатый запах остывшего чая — нет крышки. Да, и конечно же, пахло рокфором — его обожал Лацкович. Острый запах сыра заставил Агнеш представить зеленоватые прожилки плесени и мясистую верхнюю губу, которая, захватывая сыр (Лацкович откусывал его большими кусками), заворачивается вместе с хлебом в рот. Сама Агнеш ела в университетской столовой — какой-нибудь жиденький супец, успевший познакомиться с пальцами студентов-подавальщиков, и плохо проваренную лапшу с вареньем; дома же, по утрам, чтобы не ронять себя в собственных глазах, — если только мать не заставляла ее насильно съесть что-нибудь повкуснее, — мазала на поджаренные хлебцы присланный тюкрёшской бабушкой утиный жир. Источающие слабый аромат, слегка потрескивающие с жару хлебные ломтики, желтый жир, пропитавший подрумяненную мякоть, — вот и все приятные ощущения, которые она носила с собой целый день; понятно, что сейчас у нее слегка закружилась голова от витающих в кухне запахов, а охвативший ее гнев в той же мере порожден был возмущенным нравственным чувством, как и не получившими свое вкусовыми сосочками и напрасно выделившим свои соки желудком. Включенный свет подтвердил ее догадки (кусочек ветчины и несколько кружочков охотничьей колбасы на блюде) и кое-что к ним даже добавил: впечатление торопливости, с какой вынесенный чайник оказался поставленным прямо на блюдца, скомканная бумага на табурете, нож, соскользнувший на каменный пол. Сколько Агнеш знала мать, та всегда была чуть ли не маниакально привержена к чистоте и порядку: грязная чашка в кухне, след подошвы на блестящем паркете заставляли ее с отчаянием человека, обреченного всю жизнь нести тяжкий крест, бросать все и браться за тряпку или за щетку, — так что непривычный беспорядок в углу кухни красноречивее всего говорил о том, что происходит в комнатах, о радости, о забытьи, о размягченных чертах лица, с каким, наскоро сложив в кухне посуду, мать спешила назад, к наслаждению.
Агнеш, опустив руки, стояла посреди кухни. В комнатах, очевидно, приход ее не был замечен, и от этого идти дальше, к тем, кто, забыв обо всем на свете, занят был только друг другом, было еще труднее. На откинутой скатерти кухонного стола валялась еще и шелковистая бумага из кондитерской; прилипшие к ней шоколадные крошки, пятна крема и глазури являли собой как бы карту последнего блюда, остатки которого еще не выносились из комнаты. «Продажа дома — вот с чего все это началось! — мелькнуло в голове у Агнеш, когда она смотрела на бумажную тарелочку из-под пирожных. — Если бы я тогда воспротивилась, не было бы у нас денег, не появилось бы в нашем доме после долгих лет войны и бедности долгожданное благополучие — и не возник бы этот Лацкович». Правда, она тогда и сама обрадовалась возможности освободиться от дома; мать была уже в отчаянии от ремонтов, от военных налогов, в Агнеш же поднял голову какой-то тайный стыд за свой «домовладельческий» статус.
Слух ее был нацелен на комнаты, и она невольно вздрогнула, когда за спиной звякнуло вдруг стекло в окошке входной двери. Это тетя Кати принесла обещанную газету, половина лица ее с большой бородавкой виднелась в единственном прозрачном квадрате окошка; через него она смотрела, есть ли кто-нибудь в светлом пространстве кухни. «Вы тут, Агика? — спросила она, тоже почти шепотом, когда Агнеш, с невольной осторожностью повернув ключ, открыла ей дверь. — Вот здесь пишут о пленных-то», — сказала она и сама огляделась тем временем в кухне, в которой раз в неделю делала уборку и которая поэтому все еще отчасти была ее владением. Очевидно, она тоже моментально заметила все, что заметила Агнеш, и теперь, словно переводя ход своих мыслей в движение глаз, сначала бросила мрачный взгляд на дверь, ведущую во внутренний коридор, потом недоумевающе и вопросительно посмотрела на Агнеш. «Я у Лимпергера взяла», — пояснила она голосом, ласковая растроганность которого не могла относиться ни к листу бумаги (привыкшая к стирке рука держала его осторожно зажав двумя пальцами), ни к услужливому соседу, проявившему столько внимания не только к ее печали, но и к несчастью Агики. «Спасибо вам, тетя Кати», — взяла листок Агнеш; хотя она намеревалась произнести это громко, досадуя на шепот привратницы, та же подлая робость как бы накинула невидимый колокол и на ее голос: это не был шепот, однако и звонкость в нем отсутствовала.
Бумага, которую принесла тетя Кати, представляла собой грубый оттиск на толстом листе, на каких агентство рассылало только что полученные сообщения. Между двумя другими новостями — о чьем-то назначении на должность профессора университета и о поездке министра — действительно значилось, обведенное карандашом, то, о чем тетя Кати успела сказать в подворотне: Телеграфным агентством получены сведения, что прерванные весной и возобновившиеся недавно переговоры об обмене все еще задерживаемых в России пленных офицеров привели наконец к положительному сдвигу, представитель венгерского правительства подписал соглашение, в соответствии с которым первая партия офицеров прибыла уже в Штеттин[12]. Агнеш пришлось несколько раз пробежать глазами разбегающиеся в ярком электрическом свете буквы, прежде чем официальные формулы сложились в ее сознании в осмысленные фразы: так нелегко было переключиться с реальности, которую представляла обертка от колбасы и пирожных, на то обнадеживающее, что смотрело на нее с принесенного оттиска. «Ну, что скажете, Агика? Теперь-то они вернутся, верно?» — смотрела на нее тетя Кати, словно от мнения Агнеш зависело, будет барин дома или не будет. «Кто уцелел, тот, может, вернется», — ответила Агнеш, с трудом находя под унынием, навеваемым ей дверью, ведущей в комнаты, какую-то надежду. «Как же не уцелеть-то, — сказала привратница, снова расчувствовавшись, и, словно уловив связь между мрачностью Агнеш и стоящими в кухне запахами, быстро завернула в бумагу непорезанный остаток рокфора. — Вернется он, вот увидите; он в последнее время так часто мне снится. Помните, я вам давеча говорила?» — «Там видно будет, тетя Кати», — ответила Агнеш и положила руку на запястье служанки, словно желая, чтобы и к ней перешла частица ее уверенности.
Привратница даже сейчас, погруженная в свои переживания, помнила, что разговаривать с господами следует только работая; она поставила воду на газ. В раковине еще лежала немытая обеденная посуда. «Уж коли я здесь, прополосну, что ли, — сказала она и с явившегося ей во сне барина, который был точь-в-точь таким, как в те времена, когда они жили около Крепости, и которого будто бы первым увидел дядюшка Бёльчкеи, вышедший вынести мусор, опять постепенно вернулась к тому, что ныло у нее в сердце. — «Глянь-ка, Кати, кто к нам пришел-то», — говорит мне мой муженек. (И муженек ее, вот что главное, был точь-в-точь такой, как когда-то.) Вы ведь и сами помните, Агика, хоть совсем еще были девочкой, как мы тогда жили, — терзала она свое и без того истерзанное сердце сладкой мукой сопоставления безутешного «сейчас» и туманно-далекого «когда-то». — Мы с ним то и дело бороться принимались, помните? Вы однажды расплакались даже, думали, это мы всерьез. А в субботу вечером вместе ходили в корчму, один раз и вас взяли, помните, потому что барин с барыней в театр ушли. Корчма тогда была на углу, где улица Донати сходится с улицей Ференца Толди. Мы вам леденец купили у лоточника, длинный такой, из ячменного сахара… да только вы все равно проговорились, господи, вы же такая еще были маленькая». Агнеш действительно помнила кое-что: корзину лоточника, скандал, разразившийся дома, и даже свой стыд, когда тетя Кати корила ее за предательство. Поток воспоминаний прерван был громким дребезжащим звоном: из рук тети Кати выскользнула терка и, произведя удивительный для своих размеров шум, запрыгала по каменным плиткам. Обе в испуге подняли взгляд на дверь, ведущую в комнаты, словно находиться в кухне им было строго запрещено. Из глубины квартиры ответила удивленная тишина, затем скрип двери: их услышали. «Это вы, Кати?» — послышался голос из столовой. Случалось и в иные дни, хотя и все реже, что привратница по привычке заходила помыть посуду и прибраться, зная, как барыня ненавидит мытье посуды. «Я», — ответила Кати, глядя на Агнеш, и, склонившись над раковиной, принялась усердно прополаскивать чистую уже тарелку. Видно, в этом «я» прозвучала все же какая-то неуверенность, так как хозяйка не возвратилась, успокоенная, к своему гостю, как, судя по оставленной открытой двери, собиралась было, а приблизилась еще на одну дверь, словно желая удостовериться, что голос из кухни не обманул ее. Но тут уже и Агнеш двинулась в комнаты, ей навстречу, прижав к себе книги, словно в эту минуту вошла в квартиру. «Ты?» — удивленно взглянула на нее мать. «Билетов в кино не досталось», — смущенно ответила Агнеш, идя рядом с матерью к бывшему кабинету, который после мобилизации отца стал ей вроде учебной комнаты.
Мать, однако, пошла за ней следом. «Может, зайдешь, — сказала она, остановившись в дверях кабинета, — я там купила тебе колбасы немного и сыра». Голос ее чуть-чуть дрогнул, в нем прозвучала какая-то заискивающая интонация, совсем не свойственная ее натуре; но, конечно, таился в нем и готовый вспыхнуть гнев, ущемленное самолюбие. Агнеш стояла спиной к ней, втискивая учебник патологической анатомии в отцовскую этажерку, которая вместе с отодвинутыми на задний план источниковедческими изданиями, работами по этнографии, книгами о путешествиях приютила теперь и ее более новые книги. Но и спиной, повернутой к матери дольше, чем было необходимо, она словно видела ее лицо, на котором сквозь непривычную мягкость уже мелькали искорки подозрения, испуга и, да-да, подобострастия. Было что-то жалкое в том, как она стояла там в нерешительности (это ее-то капризная, часто несправедливая, но всегда прямая и искренняя мать), и в этом лицемерном «тебе». «Спасибо, обойдусь как-нибудь утиным жиром», — что-то в таком вот роде должна была бы ответить Агнеш — этого требовало чувство справедливости, отвращение ко лжи, требовала чистота, отвергающая компромисс. Но все-таки это было бы так грубо и недостойно… Так что Агнеш не сказала ни слова, лишь повернулась и посмотрела на мать. «У нас в гостях Лацкович, — сказала та предельно естественным тоном, в котором, однако, уже звенели истерические нотки, вызванные молчанием дочери. — Он принес книгу о лекарственных травах, про которую ты в прошлый раз говорила». — «Я?» — широко открыла глаза Агнеш, чувствуя, как ее удивление обретает оскорбительный оттенок. Это был один из наивных приемов их маскировки: Лацкович якобы ей, Агнеш, хотя она и явно была холодна к нему, постоянно оказывал рыцарские услуги, словно все еще продолжал ходить к барышне и лишь по причине ее отсутствия — и невоспитанности — вынужден был проводить время с матерью. «Только не надо строить такую удивленную физиономию, — раздраженная этим «Я?», вспылила наконец, насколько это ей позволяло собственное положение и положение находящегося через комнату гостя, мать. — Разве не ты жаловалась, что в учебнике фармакологии нет ни одной иллюстрации? И что приходится зубрить описание растений, не имея понятия, как они выглядят?» — «А, — сказала Агнеш, не решившись напомнить, что говорила она об этом не Лацковичу, а матери. — Потом зайду», — пообещала она, бросая на стул свое серое суконное пальто. «Я пока чаю согрею», — с готовностью отозвалась мать, пряча закипающее в ней раздражение из-за предстоящей неловкой встречи, на которой ей пришлось настоять за видимостью материнской заботы.
Агнеш слышала, как мать, прежде чем идти в кухню, вернулась в спальню. Очевидно, собрать тарелки из-под сладостей и сунуть их в раковину, где тетя Кати мыла посуду: пусть исчезнут хоть следы от пирожных, а заодно несколькими словами обрисовать ситуацию Лацковичу: дочь вернулась, будет пить с ними чай. Представив себе эти быстрые, заговорщические слова и взгляды, в которых ей отводилась роль нежданно возникшей опасной помехи, досадного контролера, Агнеш вновь почувствовала горечь и возмущение. Зачем она согласилась пойти к ним? Чем таким мать могла заставить ее сесть с ними за стол, под их взгляды, избегающие друг друга и все же друг друга легко понимающие, да еще делать вид, что визит этот — самое что ни на есть обычное дело? Неужто в ней все еще действует детское послушание, сопротивляющийся доводам разума рефлекс, внедренный не столько скорой на руку матерью, сколько примером отца, тети Кати, родственников и их детей, хорошо знающих, что «тете Ирме» перечить не стоит, иначе не избежишь неприятных сцен, лучше добиться своего умом и хитростью? Или все совсем наоборот: она — взрослая, а мать — ребенок и у Агнеш просто не хватает жестокости одним неумолимым словом порвать неумело сплетенную, прозрачную сеть ее лжи? Она знала за матерью многие недостатки, однако подлости среди них не было. Мать была скорее слишком прямолинейна, мысль и слово у нее никогда не разделены были боязнью чужого мнения, пониманием необходимости принимать это мнение в расчет. И теперь, когда эта поздняя связь заставляла ее лгать, даже во лжи ее ощущалось не просто отсутствие опыта, но — как показалось Агнеш — все та же ее прямота. Умная женщина, которой за сорок, если уж заведет роман, то наверняка найдет способ укрыть от посторонних глаз то, в чем находит свое счастье. Она же — нет; она чуть ли не домогалась, чтобы люди, и в том числе Агнеш, разделяли с ней ее гордость, что вокруг нее увивается такой милый молодой человек, и разве что легкую паутинку лжи считала нужным набросить на свою ни перед кем не скрываемую любовь, лжи, которую тем не менее каждый обязан был принимать за чистую правду, а в противном случае подвергался анафеме, как случилось с ее невесткой Лили: например, всем надлежало считать, что Лацкович, появившийся у них в доме как кавалер дочери, потом приехавшей к ним из деревни племянницы, именно в этом качестве проникся уважением и к ней, и теперь, если их что-то и связывает особое, то это не более чем красивые средневековые отношения Frauendienst[13]. И, кроме дочерней веры в родную мать, веры такой же прочной, как вера тети Кати в свою хозяйку, именно неосторожная эта открытость была, пожалуй, тем обстоятельством, которое вновь и вновь, несмотря на все доказательства, пробуждало в Агнеш сомнение, пробуждало надежду, что тот легкий, как паутина, покров лжи, может быть, потому так наивен, романтичен и прозрачен, что в нем вовсе и нет никакой лжи; Лацкович этот и сам ведь какой-то странный, даже, можно сказать, не вполне нормальный, так что между ним и матерью в самом деле не может быть ничего, что любой человек в здравом уме склонен был бы предположить в подобном случае; и, может быть, именно это удерживало ее, Агнеш, порой в последний момент, от слишком прямых намеков, словно они могли стать тем грубым толчком, что толкнет рыцаря, расхаживающего по освещенному луной гребню, в бездну порока. «А, чай так чай, потерплю», — сказала она себе и сейчас, в отчаянии сжав рукой голову чугунного сфинкса (подарка отцу от благодарных учеников), стоявшего на отцовском столе. Остановившись перед смутно мерцающим в темной столовой трюмо и быстро проведя ладонью по волосам, собранным узлом на затылке, она открыла дверь и вошла к оставленному на время приготовления чая в одиночестве Лацковичу.
Молодой человек с подчеркнутой вежливостью вскочил из-за старого карточного столика, стоящего перед большими орехового дерева кроватями; столик куплен был еще в те времена, когда отец учительствовал в провинции: на именинах, праздниках нового вина и убоя свиньи этот столик, обтянутый зеленым сукном, с четырьмя маленькими желтыми корытцами, был просто-напросто необходим… Из-за трудностей с углем в квартире отапливали одну только комнату — это могло служить объяснением, почему мать принимала гостя именно здесь. Движения Лацковича, вскочившего из обтянутого бордовым плюшем кресла и с нарочитой поспешностью двинувшегося навстречу Агнеш, раздражали ее тем сильнее, что в свое время, при первом визите Лацковича, они, эти движения, и ей импонировали; импонировало его подчеркнутое преклонение перед дамой, выражающееся в пружинистой и в то же время чуть-чуть небрежной манере вставать и почтительно, почти скованно приближаться, а затем, после рукопожатия, сразу переходящее в бурную восторженность. Лацкович был коренаст и приземист; при широких, крепких плечах и груди бросались в глаза — несмотря на маскирующий покрой брюк — его очень короткие, буквой «х» ноги; ему было уже около тридцати, но лицо выглядело весьма моложавым, если не сказать — юношеским. Вероятно, сознание своей мужской силы и в то же время реальное представление о своей, по первому впечатлению просто гротескной, внешности и породили эту исполненную достоинства, исключающую всякий юмор манеру двигаться, точно так же, как и снисходительно преувеличенную его любезность. «В комнату вошла дама; ее встречает человек, который знает, чем он обязан прекрасному полу», — вот что должна была выразить та быстрота, с какой он вскочил с кресла; «но он тем не менее помнит и о своем мужском достоинстве», — говорила некоторая насмешливая наигранность, небрежность движений; «однако ты среди всех прочих дам вызываешь у меня особенное почтение», — возглашало его как бы чуть-чуть боязливое приближение; «уж кто-кто, а я-то знаю, что женщины, хоть и заслуживают восхищения, все-таки не более чем очаровательные игрушки», — излучала заговорщически лукавая, сияющая улыбка, возникающая у него на лице вслед за прочувствованным поцелуем руки или за крепким рукопожатием. «Целую ручки, — сказал он и сейчас таким тоном, словно они с Агнеш были лучшими приятелями. — Домой изволили вернуться? Немного, поди, устали от вскрытий? Сколько ж грудных клеток изволили нынче взрезать эти вот лапки?» О медицинской профессии Агнеш он всегда говорил в таком вот насмешливом тоне, как мужчина, который прекрасно знает, что женщина, даже если она в белом халате, — всего лишь прелестная безделушка; в насмешливости его таилась, однако, и капелька завистливого уважения к врачебному поприщу, да и вообще к любой профессии, требующей университетского диплома; сам он, хотя и поминал частенько о прослушанных на юридическом факультете семестрах, тем не менее в результате превратностей судьбы, которая не дала до сих пор раскрыться его талантам, служил пока в скромной должности дежурного по станции. «В этом году мы вскрытия сами не делаем», — ответила Агнеш сухо. «Верно, верно, я совсем позабыл, — поспешил он поправиться с таким видом, будто неприветливый вид Агнеш означал вовсе не осуждение, а детскую обиду гордящейся своей взрослостью девочки, которую, пусть только в воображении, поместили на младший курс. — Совсем позабыл, что анатомию мы уже сдали cum laude[14], а теперь выстукиваем живые грудные клетки. Прошу прощения за забывчивость, за то, что моя неповоротливая фантазия не поспевает за вашей карьерой. Надеюсь, фармакологию мы не сдали еще, а то бы пропали зря мои хлопоты». И, как человек, который прекрасно знает, что в разговоре с дамой некоторое шутливое поддразнивание допустимо, однако господствующей интонацией должна оставаться беспрекословная рыцарская услужливость, вновь придал своему лицу то выражение почтительного, почти восторженного поклонения, что и перед рукопожатием. «Мамочка ваша мне говорила, — сказал он, поднимая как важное доказательство лежавшую до того момента на карточном столике книгу, — что вы для учебы не располагаете хорошим ботаническим атласом. Вот я и вспомнил про одного своего друга, оптового торговца лекарствами и попутно собирателя книг, — и сразу к нему: не хочешь ли, дружище, помочь одной барышне, попавшей в беду?.. (Улыбка его означала, что он опять перешел на шутливый тон.) Ну-ну, говорю ему, что это у тебя глаза заблестели; беда, о которой ты думаешь, тут совершенно исключена. Атлас лекарственных трав ей нужен для учебы. Пересмотрели мы с ним целый шкаф; друг считает, что это самое подходящее».
Госпожа Кертес, которая слышала шаги дочери и скрип открываемой двери и теперь беспокоилась, как бы Агнеш в ее отсутствие не ляпнула гостю что-нибудь обидное, как раз в этот момент, стукнувшись о косяк локтем, торопливо вошла в дверь; спешку выдавал не только ее тревожный взгляд, но и выплеснувшийся на хлеб чай, который она принесла не в японском фарфоровом, а в обычном металлическом чайнике и который был чуть теплым. Агнеш взяла в руки книгу; это было немецкое издание конца прошлого века, какие можно найти у старых аптекарей среди давно переживших свой срок каталогов лекарственных растений, определителей грибов и натурфилософских трактатов. Иллюстрации изготовлены были на заре литографии. В конечном счете книга могла сгодиться, так как под готическими подписями значились и латинские названия трав, однако досадливое движение, с каким Агнеш положила ее возле чашек с чаем, подчеркивало скорее устарелость и бесполезность атласа. «В Штеттин прибыл первый транспорт с заложниками», — сказала она после того, как некоторое время пила свой чай, сидя между смотревшими на нее матерью и Лацковичем, но устремив свой взгляд не на них, а на надкушенный бутерброд. Она и сама не знала, что заставило ее так внезапно, поднося бутерброд ко рту, произнести эту фразу: ведь из всех тем, которые она старалась избегать в обществе Лацковича, судьба отца была самой запретной. Она сама удивилась, как мрачно, почти зловеще прозвучали ее слова: словно она произнесла их, одетая в пеплум, в какой-нибудь античной трагедии: погодите, мол, вот вернется отец… Мать и Лацкович — это она почувствовала, даже не поднимая глаз, — обменялись взглядами, словно советуясь, кто заговорит первым.
«Да, Лацко мне уже сообщил», — сказала мать. Так она по-свойски звала Лацковича; в том, что она даже перед дочерью называла его этим ласковым словом, была какая-то наивная смелость, как бы подчеркивающая ее безвинность; а сейчас к ней примешано было и чуть-чуть мстительного упрямства. «Да, мы на вокзале еще утром узнали о радостном событии, — добавил Лацкович, который, тяготясь своей службой, весьма гордился своей осведомленностью; полуулыбка его, когда он произносил слова «радостное событие», витала где-то между двумя стилями — преклонением и ироническим поддразниванием. — Но дорогая ваша мамочка пожелала, чтобы мы пока молчали об этом: не хотела вас зря волновать; она ведь знает, как вы тоскуете по дорогому папаше; вон весной вы в какую апатию впали, когда были прерваны переговоры». — «Ни в какую апатию я не впадала», — сказала Агнеш; хотя она действительно была подавлена, узнав о неблагоприятном повороте событий, тем не менее даже от своей тоски по отцу готова была отречься, слыша о ней из уст этого человека. Однако Лацковича ее реакция ничуть не сконфузила. «Я уже давно знаю, что дела теперь должны пойти к лучшему. Когда старик Юнгерт, наш посол, уезжал в Штеттин, мы с ним долго беседовали. Я особо просил его обратить внимание на вашего дорогого папочку, он даже имя его себе в блокнот записал».
Агнеш подняла на него взгляд; она сама не могла разобраться, что это — хвастовство или издевка. Станционные служащие гордятся своей привилегией провожать в приготовленное купе наиболее знатных пассажиров: начальник станции — главу государства, едущих на охоту или за границу министров, дежурные — известных актрис; конечно, вполне может быть, что те бросают им по пути несколько любезных слов или, что самая высшая награда, при третьей, четвертой встрече узнают своего провожатого, даже называют его по имени. Что Лацковича заставляет лгать? Обычное фанфаронство: смотрите, дескать, я накоротке со знаменитостями? Или он умнее, чем она думала? Глядя со стороны, он посмеивается над тем, что для нее настоящая драма, для него же, из-за которого, собственно, эта драма разыгрывается и которому никакими неприятностями не грозит, — лишь комедия, повод для упражнений в остроумии? «Не верю я, что он, даже если жив, попадет в эту партию, — сказала мать. — Говорят, сначала отправят тех, кто в Москве. Кто под рукой оказался, когда составляли транспорт. Потом соберут петроградцев, хотя я не очень-то верю тому человеку из Игала. По-моему, он просто фантазировал, чтобы произвести впечатление». — «Ваша дорогая мамочка все еще думает, что господин учитель на Тянь-Шане, ищет там следы воляпюков», — засмеялся Лацко, по своей привычке загородив рот ладонью, хотя ему скорее следовало бы как-нибудь приглушать странные, хриплые звуки, вырывающиеся из горла. Тянь-Шань — это было единственное, что застряло в голове у Лацковича со школьных времен в связи со Средней Азией, воляпюки же должны были означать вогулов, которых он, ничтоже сумняшеся, зашвырнул, чтоб подчеркнуть несуразность затеи учителя, на Тянь-Шань. В этой бессмыслице был, однако, и ехидный намек. Сразу после войны из Сибири вернулось несколько офицеров, знавших отца; они-то и рассказали, что Яни Кертес тоже мог бы уже быть дома, но настолько увлекся поисками туранских родичей венгров, что даже задумал организовать экспедицию и отправиться на исследование Алтая. Такое безответственное — пускай недоказанное — поведение мужа весьма взволновало госпожу Кертес, готовую впасть в отчаяние от постоянной борьбы с квартирантами; позже эта история, превратившись в искусственно раздутое обвинение, стала ей аргументом в оправдании собственной небезупречности. «А я все равно верю, что он в эту партию попадет», — сказала Агнеш с той же твердостью, с какой перед этим швырнула в лицо им известие о скором прибытии пленных.
Ей и самой непонятно было, где она взяла убежденность для такого безумного утверждения, ведь на Кольце, в разговоре с коллегой, она говорила прямо противоположное. Во всяком случае, на госпожу Кертес, которая, несмотря на всю свою экспансивность, легко поддавалась внушению, решительные высказывания всегда производили сильное впечатление. «Что ж, дай бог», — тихо сказала она, глядя на скатерть, и дочь по тону ее почувствовала, что это сейчас — не игра в раскаяние, а скорее отзвук ее, Агнеш, страстного, такого понятного, способного только симпатию вызвать желания, на которое, как и на планы дочери, касающиеся учебы, она всегда отзывалась такими же недоверчиво горделивыми, но, в сущности, доброжелательными фразами. «Вашими устами да глаголет истина, — тут же вставил, подняв ладонь ко рту, Лацкович, который обожал переиначивать по своему вкусу крылатые выражения. — Мы вот сидим тут, кушаем охотничью да краковскую колбасу, — буйными красками рисовал Лацкович (разумно забыв про ветчину и пирожные) картину возвращения господина учителя, — а дорогой папочка в Штеттине, а то и в Берлине, точит уже ятаган, кривую туранскую саблю, на всякий случай прихваченную с собой. И в один прекрасный день явится вдруг на пороге и обратит суровый взор на дорогих дам: а ну-ка, где деньги за дом?»
Слова эти нацелены были на то, чтобы задеть уязвимую, а потому грозящую в любой момент прорваться бурными обвинениями совесть госпожи Кертес, которая не могла вынести даже малейших упреков от мужа (к счастью, упреки и не были в его характере); однако с «мужем» — не как с личностью, а как с институтом — нельзя было в определенной мере не считаться, особенно в том, что касалось распределения расходов на питание и всякое другое, а также продажи дома и отчета об уплывших с тех пор деньгах. Так что своей иронией Лацкович лишь раздувал в ней связанное с этим (и проявляющееся, как правило, в нервных выпадах в адрес мужа) чувство вины, ловко объединяя одним преступлением обеих женщин, которые вместе истратили, промотали целый капитал. Госпожа Кертес сразу же поддалась на нехитрый этот прием: лицо ее запылало гневом, словно она рассердилась на Лацковича. «Приезжал бы домой, как другие; я ведь одна как перст, никто и пальцем не шевельнул, чтоб мне помочь. И еще Агнеш надо было учить…» Однако Лацкович, ничуть не смущаясь, продолжал сыпать остротами. «То-то погоняется он по комнатам кое за кем, — уже почти с неприличной радостью расписывал он опасность, которая в день возвращения мужа, пускай вовсе и не из-за дома, в самом деле может стать кое для кого реальностью. — Советую вам обрезать подол у ночной рубашки, с длинным подолом не убежишь далеко. Вы как-то рассказывали, что господин учитель прекрасно фехтовал, а силой и ловкостью с учителем гимнастики мерялся. Так что те кварты и квинты ой как могут теперь пригодиться в алькове, или в комнате для прислуги, или в другом укромном местечке». — «Полно дурачиться», — улыбнулась госпожа Кертес, потирая указательным пальцем кончик носа; эту дурную привычку, которой не склонный к веселью нрав ее протестовал против невольной улыбки, она не могла одолеть даже в присутствии Лацковича.
Агнеш поверх тарелки бросила быстрый взгляд на хохочущего над собственными шуточками молодого человека. Сейчас она со стыдом вспоминала, как в Ракошлигете, впервые встретив его у тетки, тоже увлеклась было этим странным, изливающимся в словоблудии темпераментом. И даже спустя некоторое время, когда Лацкович ухаживал уже не за ней, а за ее тюкрёшской двоюродной сестрой, Бёжике (однажды они даже целовались в ванной, где она и застала их, открыв нечаянно дверь), ее не возмущал этот ворвавшийся в их дом дурной стиль; она даже считала, что деревенская девушка из зажиточной семьи, мечтающая о городе, и веселый молодой человек, в общем, подходят друг к другу. Теперь она видела в нем лишь глупость, смешанную с наглостью, и, кроме того, некое уродство, а потому выбор матери почти физически оскорблял ее: если уж ты не могла дождаться отца, нашла бы кого-нибудь более подходящего, вон хоть крестного, у него тоже шутливый и легкий нрав, что, видимо, необходимо неуравновешенной натуре матери как благотворное лекарство. Есть в нем что-то от хондродистрофических карликов — использовала она свежие свои познания, чтоб заклеймить его уродство; кости у него довольно широкие, вот разве что череп не очень велик. И ей вспомнилось, как их профессор-хирург, обожавший смущать своими шутками юных медичек, заметил — после чего все коллеги-мужчины покосились на них: «И обратите внимание: несмотря на свое убожество, они всегда исключительно веселы и, как ни дико это звучит, пользуются большим успехом у женщин». «Прошу прощения, мне надо идти заниматься», — поднялась Агнеш, прерывая веселье Лацковича, то и дело прикрывающего рот ладонью, по-шакальи вскидывающего шею и разражавшегося хриплым гортанным смехом. «Что, так срочно?» — взглянула на нее мать вопрошающим и просящим взглядом. «Да, я очень отстала», — решительно посмотрела на нее Агнеш.
С Лацковичем бывало, что он вдруг обижался из-за каких-нибудь мелочей; это тоже свидетельствовало о том, что веселый нрав его был не просто выражением milieu intérieur[15], но действительно имел нездоровые корни. Так случилось и на сей раз. «Пожалуй, я пойду, — вскочил он и, зайдя за стул, нацепил поясной ремень (как железнодорожник, зачисленный в охрану станции, он носил форму); слишком много воображающая о себе девчонка оборвала — словно рот заткнула — поток его шуток, остроумие которых многократно было доказано успехом в обществе. Резкость эту он (тут-то и сказывалось влияние какого-то пораженного центра) объяснял не тем, чем естественно было бы ее объяснить: для Агнеш оскорбительно это чаепитие втроем, оскорбительны речи, в которых прохаживаются насчет отсутствующего отца, — а тем, что эта соплячка, попав в университет, уже, видите ли, запрезирала железнодорожника, у которого лишь аттестат зрелости за душой, и считает, что с ним вовсе не обязательно быть вежливой, тогда как, если сравнить его и ее фамильное древо, так у него оно ничуть не хуже, один из дядьев его отца даже закончил право и был директором магазина, а свояк — советником по финансовой части. Госпожа Кертес, заметившая его обиду, с почти девичьей тревогой на размягченном лице принялась уговаривать Лацковича остаться. «Посидите еще немножечко, Лацко, мне с вами надо поговорить». — «Нет-нет, не хочу быть препятствием на пути столь великого прилежания. Лишать нашу барышню-студентку единственной натопленной комнаты». — «О, обо мне не беспокойтесь, я привыкла в холодной комнате заниматься», — сказала Агнеш, пожимая ему руку. Она тоже заметила обиду Лацковича; такие эмоции, пусть речь шла всего лишь о Лацковиче, она возбуждать не хотела. «Да, она у нас такая, — подтвердила госпожа Кертес. — Здесь натоплено, а она в штору закутается и сидит там… Я хочу вам дать кусочек того шелка для вышивки…» Госпожа Кертес была великая рукодельница, все дорожки, скатерти, коврики, гобелены и ворсистые ковры, сколько их ни было в комнате, вышли из-под ее тонких пальчиков, были плодами многолетнего гипнотического сидения над стежками. Страсть к рукоделию, заполнявшему, вместе с романами в красных переплетах, пустоту ее жизни, порой вспыхивала в ней и ныне, стоило ей увидеть какой-нибудь красивый узорчик; правда, теперь в ее жизни появился более глубокий смысл, так что вышивание крестом или ришелье лишь заполняли в раздумьях и заботах тянущиеся паузы между свиданиями. Рыцарская услужливость Лацковича распространялась и на эту сферу: у него были свои люди и в магазинах рукоделия, он способен был различать цвета пряжи и умел по обрывочку нитки или по лоскутку ткани хоть из-под земли достать необходимый материал. Агнеш однажды застала их с матерью за перематыванием пряжи: он держал моток на вытянутых руках; он и сам, как оказалось, имел способности к рукоделию, — например, рисовал очень милые узоры для гобеленов. «Ну хорошо, еще минутку», — сказал он, уступая скорее из вежливости, чем из великодушия.
Агнеш закуталась в пальто (не в штору — из духа противоречия) и положила взятый до завтра учебник патологической анатомии на приземистый, конца века отцовский стол. Прежде, едва она усаживалась в плюшевое кресло, которое к столу отношения не имело, а попало к ним из гарнитура дяди Кароя, так что приходилось подкладывать на сиденье подушечку, чтобы локти удобнее опирались на стол, ее сразу охватывало ощущение уюта и покоя. Сколько раз наблюдала она, как отец работал за этим столом, накинув на плечи пальто от сквозняка; задувающий в щели оконных рам ветер, неощутимый для Агнеш, был единственным, чего начинало бояться его тренированное, но осторожное тело. Когда юная голова Агнеш оказывалась в круге света от маленькой лампы, перенесенной сюда с ночного столика, ей чудилось, что тот, кто сидел когда-то на этой самой подушечке, находится совсем близко, рядом; в ощущении этом воедино сливались давний, в раннем детстве испытываемый восторг, с каким, взяв отцовскую трость, она ребенком изображала, как гуляет папа, и мистическое, почти культовое отождествление с идеалом. Тут же, едва видная в сумраке комнаты, стояла их общая этажерка; дальше, в углу, — книжный шкаф со стеклянными дверцами, за которыми тихо ждали своего часа ненужные ей сейчас заметки отца и его учебники; перед ней лежал старый нож для разрезания книг, который прежде можно было обнаружить в полуразрезанных, оставленных раскрытыми номерах «Географического вестника» или «Этнографии». Этот сумрак, и чучело иволги, дремлющее на книжном шкафу, и сам книжный шкаф сообщали торжественный, милый, какой-то антикварный вид даже ее свеженьким учебникам, словно она одновременно и училась, и вспоминала, углублялась и в загадочные науки, и в теплые тайники собственного сердца… Однако сейчас она тщетно, напрягая глаза, скользила по испещренным рядами букв страницам: даже вглядываясь в цветные иллюстрации к разделу гистологии, с белыми линиями сосудов и более темными пятнышками клубочков-гломерул, она вновь и вновь прокручивала в голове собственные мрачные слова, так что они уже и для нее самой — но по-прежнему как бы в присутствии тех двоих — звучали зловещими пророчествами. Она ощущала себя разгневанной девственницей, которая обличает погрязших в пороке людей, предсказывая им гибель и возвещая некую суровую, непримиримую мораль. Чем больше она размышляла над этим, тем злее и жестче казалась себе. Мать же при всей ее резкости, наоборот, вся обмякла; вон каким по-девчоночьи робким, просящим было ее лицо, когда она уговаривала Лацковича остаться; а она, Агнеш, почти физически ощущала на своем опущенном лбу, в складке губ, удерживающих горькие слова, угрюмую тень своей ожесточившейся души. И не только когда она видела себя с ними; тень эта, словно жар по венам после инъекции, растекалась все шире, омрачая все ее существование. Несколько лет назад, совсем молоденькой девушкой, она куда уверенней обращалась с мужчинами; ветреной, правда, она не была, но даже спокойная ее улыбка полна была скрытого вызова. Она, скажем, ехала на трамвае, а когда выходила, у сидевшего напротив или наискосок пассажира, пускай даже пожилого, оставалось впечатление крохотного виртуозного спектакля, причем ее упрекнуть ни в чем было невозможно, бедняга же смотрел ей вслед, едва нос не расплющивая о стекло… И угнетала, давила ее не учеба, как других медичек, например ту же Марию Инце, которая выглядела после сессии так, будто только-только от тифа оправилась, даже волосы оставались на гребешке клоками; для Агнеш, если ей удавалось погрузиться в учебу, книги, конспекты становились скорее надежным убежищем, в котором она могла укрыться от всего мира. Возмущение недостойным поведением других — вот что сковывало ее, замораживало, словно некое колдовство, превращавшее в камень ее легкое, напоенное светом тело.
И если б она была по крайней мере уверена в своей правоте! В том, что имеет все основания возмущаться! Дело даже не в том, действительно ли правда то, за что она осуждает мать, а можно ли, порядочно ли ее осуждать. Не зря же Агнеш третий год училась на медицинском: она тоже успела усвоить тот способ смотреть на людей, который столь свойствен был коллегам-мужчинам, гордившимся, что им известны биологические пружины, действием которых объяснимы самые разные проявления жизни… И дело вовсе не в том, что она осуждает мать за то, что — если бы дело касалось ее — ей бы было дозволено! С Ветеши она порвала как раз после того, как он — пускай, может быть, не в виде прямого намека — принялся рассуждать о любви на такой медицинский манер. Например, что женщина в двадцать лет уже должна жить половой жизнью. Употребил он при этом латинское, куда более точное слово, и то, что оно похоже было на другие свежезаученные врачебные термины и на лекциях, семинарах употреблялось чуть не каждый день (даже ей пришлось произнести его на одном из зачетов), в изумленном ее восприятии мало смягчало повседневный его грубый смысл. И пожалуй, именно это слово стало тем небольшим толчком — словно взмах весла, — с которого и началось их отдаление друг от друга. Не потому только, что слово это показывало: Ветеши видит в ней лишь студентку-медичку, которую нетрудно заполучить, — оттолкнул Агнеш грубый смысл его представления о любви. Пусть он, собственно говоря, прав: ей было всего лишь двенадцать, когда под сосками детской груди она заметила набухающие холмики, — и с тех пор уже восемь лет живет как бы в тени того факта, что биллионы сперматозоидов, заставляющих мужчин города ежедневно гоняться за юбками, могли бы и ее сделать беременной. Она же ходит меж ними со своей сумкой под мышкой, и душа ее не только не расслабляется, но, напротив, ее защищает некая прочная пленка, которая делает все труднее приемлемой мысль о том, что ей предстоит отдаться мужчине. Разве это не противоестественно? Разве это здоровое состояние? И все-таки она чувствовала, что должна ждать, должна дождаться чего-то, что годы девственности меж «половым созреванием» и неким иным созреванием, может быть, нужны как раз для того, чтобы не отдать себя, в качестве легкой добычи, кому-нибудь случайному, недостойному. Однако по отношению к другим она не умела быть столь же безжалостной; она не была уверена, что имеет право требовать «противоестественного» и от них. Это лишало ее уверенности и в отношениях с матерью, особенно поначалу (тогда отравление новыми знаниями было еще совсем свежим), пока еще можно было как-то помочь ей. Сколько раз она слышала от нее: «Я лучшие годы прожила одна, без мужа». В самом деле, ей было всего тридцать пять, когда мобилизовали мужа. Она говорила часто, да и на фотографиях видно, какой «бледной немочью» была она в барышнях. Вон и на том снимке, где она держит ее на руках: бледное, с прозрачной кожей девичье лицо; а ведь она, Агнеш, родилась лишь спустя три года после свадьбы: мать никак не могла забеременеть. Лишь постепенно, шаг за шагом обрела она настоящую женскую форму, а когда пришла запоздалая зрелость — то, что она называла лучшими своими годами, — разразилась война и швырнула мужа бог знает куда, за семь-восемь тысяч километров от дома; потом даже письма, и без того все более редкие, все меньше внушающие надежды, перестали от него приходить. Пусть Агнеш знает биологию, видит в анатомичке остывшие трупы — о том, что связывает людей (не о душевном влечении друг к другу, а о физиологии), у нее, как у любой другой девственницы, не было серьезных познаний. Она скорее лишь верила в то, что существует физическая страсть, вожделение, как верила, например, что существует неодолимая тяга к морфию, странное действие которого, порождающее причудливые видения, неведомо было ей точно так же, как и телесная близость. Но, не зная, она и не смела без колебаний осуждать все это. Когда она, еще девочкой, заняла отцовское место в большой кровати, внимание ее привлекла длинная, скорее годная для того, чтобы закрывать окно от сквозняка, подушка, которой раньше там не было; из какой-то инстинктивной неловкости она так и не посмела спросить о ее назначении. Позже она часто гнала из головы нет-нет да мелькавшее подозрение, что мать, когда ее очень уж допекало желание, обнимала эту подушку вместо отца, так же, как и ее, Агнеш, подушка во времена ее увлечения Ветеши, да и раньше, не оставалась только подушкой — предметом, состоящим из наволочки и перьев. Справедливо ли после этого требовать от женщины, достигшей расцвета и, пожалуй, никогда не любившей по-настоящему своего мужа, требовать, исходя из какой-то допотопной морали, чтобы она и не претендовала на иную замену?
Если бы еще Агнеш сама была убеждена в том, что — не подчиняясь никакому предчувствию, просто стремясь напугать их — пророчила только что с такой решительностью! Увы, это даже ей не представлялось таким уж несомненным или хотя бы вероятным. Последняя весточка от отца пришла к ним откуда-то из Центральной Сибири, из самого пекла, где бушевал сыпной тиф, где красные части дрались с Колчаком, с чешскими легионерами, где косили людей пулеметы. Лучшие годы проходят, а мужа, носимого где-то неизвестно какими ветрами, все нет и нет. Она же упрямо пытается оберегать его место, обвиняет мать, отравляет горечью свое сердце. Им она не может запретить то, к чему они пристрастились, — и запрещает себе. Чтобы не стать их соучастницей, она свою молодость превращает в выжженную пустыню. Мать предложила ей долю в облегчении их бытия. Когда продавали дом, аргументом была и она, Агнеш: девушке в ее возрасте надо хорошо одеваться, веселиться, блистать; как большинство матерей ее сословия, госпожа Кертес, пожалуй, искренне полагала, что будущее дочери зависит от того, сколько денег в него будет вложено. Сначала на именины, чаепития, вечеринки молодых людей — в том числе Лацковича — приглашали еще для нее, Агнеш, и для жившей у них родственницы, тюкрёшской Бёжике. И пока в душе ее не зародилось зловещее подозрение, она и сама склонна была думать, что все так и должно быть. Мать хотела даже Ветеши к ним пригласить, восторгалась, какой орел парень (они столкнулись однажды на улице, вечером; Агнеш и Ветеши шли ближе друг к другу, чем полагается); пожалуй, она и в заговор бы вступила с ним, приняла бы его теорию о биологическом долге двадцатилетних девиц — только бы не остаться одной во грехе. Агнеш, однако, упрямо отказывалась его приглашать, терпеливо выслушивая материно ворчание, что так она «прокиснет», останется на бобах, и даже ее насмешки, в которых слышала нотки высокомерного торжества поздно узнанного наслаждения: у тебя, видно, рыбья кровь, выйдет в конце концов из тебя очкастая старая дева, чудаковатая докторша. Бывало, она и сама удивлялась своей непонятной воздержанности. Однако свое возмущение матерью и все, что из этого вытекало, она ни дома, ни вне его не могла, да и не хотела, наверное, забывать. «Ничего, скоро придет конец этому, — думала она, как на врага, глядя на изображение пораженной циррозом печени. — Все встанет на свои места». Или отец вернется — и тогда все сразу придет в порядок (то, что Лацкович и при отце, может быть, сохранит свою власть над матерью, ей и в голову не приходило), или придет весть о его смерти, и, удостоверившись в ней, она уйдет из этого дома, попросит у своей бывшей классной руководительницы найти ей частных учеников, будет подрабатывать, ассистируя в анатомичке, — лишь бы не видеть всего этого.
Измученная, она встала из-за стола; с учебой сегодня, видно, ничего не получится. Лацкович, похоже, уже ушел, хотя она и не слышала как: дверь из спальни вела прямо в прихожую, так что мать (если, как сегодня, приходилось долго его успокаивать и добиваться прощения) могла проводить его совсем тихо. Для уверенности Агнеш заглянула все же в столовую. Под дверью напротив виднелась полоска розоватого света, это значило — можно идти дальше, мать уже легла, и Агнеш увидит ее голову на подушке, в розовом круге света от лампы на ночном столике. Как это принято было в семьях среднего сословия, комнаты в их квартире имели каждая свое определенное назначение: спать, например, можно было только в спальне. Когда у них квартировали дети родственников, вечером вся компания — даже взрослые девушки и подростки — уходила в спальню, где и проводила ночь на раскладушках и на кресле-кровати, с тех пор пришедшем в негодность и выброшенном. Агнеш в начале эпохи Лацковича попыталась восстать против такого порядка. Она занимается в основном ночью, так не лучше ли ей там и спать, в кабинете, на плюшевом диване? Этот диван стоял когда-то в салоне дяди Кароя; на верхушке высокой спинки с мягкой обивкой за резной перекладиной стояли большие металлические тарелки с барельефами, рассохшиеся зажимы держали их неплотно, и в ответ на любое движение сидящего или лежащего человека тарелки принимались позвякивать. Предложение Агнеш взволновало мать сверх всякой меры: как, в кабинете окажется постельное белье? И вообще что за чушь — дочь предпочитает неудобное ложе огромной кровати орехового дерева. «Тебе что, со мной рядом спать неприятно? Если так, можешь совсем от меня куда-нибудь съехать». Угроза эта показывала: мысли Агнеш о том, не переселиться ли ей из дому, словно по какому-то тайному телеграфу, дошли и до матери; впрочем, гнев ее показался Агнеш хорошим признаком: значит, мать дорожит прежним, довоенным, порядком и хочет его сохранить. Так что больше насчет дивана она не заговаривала, продолжая беречь отцовское место на занимающем половину комнаты двуспальном ковчеге.
Вот и сейчас она приготовилась приклонить свою полную мрачных дум голову на подушки, возле занятой совсем иными мыслями материной головы. Мать была уже в постели; перед ней на подоткнутом под мышки и поднятом коленями одеяле лежала книга. Это была «Анна Каренина», принесенная из библиотеки Лацковичем; но мать была занята не злоключениями несчастной женщины, а собственными невеселыми мыслями, которые, согнав с лица девически счастливое и ласковое выражение, обнажили черты, более свойственные ее возрасту и характеру. Пожалуй, она именно потому так надолго погрузилась в задумчивость, разжигая себя все новыми доводами, оправдывая себя и обвиняя Агнеш, чтобы та застала ее еще бодрствующей и увидела пагубные последствия своего поведения. Агнеш, однако, не задала свой обычный вопрос: «Не спите еще, мама?» — а стала молча стелить на своей половине (кстати, постелила ей мать или не постелила постель, было верным индикатором их отношений в данный момент). Так что на этот раз пришлось матери, быстро повернув голову, первой начать разговор. «А все-таки (это «все-таки» у нее всегда было связующим словом между деланным спокойствием и готовой вырваться наружу обидой), все-таки, даже если ты и студентка медфака, вовсе не обязательно показывать свою невоспитанность», — сказала она, поймав взглядом глаза Агнеш в поднятом над разглаживаемой простыней лице. «Разве я была невоспитанной?» — спросила Агнеш, закидывая руки, чтобы снять блузку с застежкой на спине. «Человек из кожи лезет, чтобы сделать любезность, а ты спасибо сказать не изволишь. Да еще демонстративно швыряешь книгу, мол, вот вам, что бы вы ни принесли, мне на все наплевать. Очень трудно придется тебе в жизни, если так будешь с людьми обращаться. Кто-кто, а врач особенно должен помнить: кто бы перед тобой ни стоял, пусть он хоть последний пария, ты должна в нем уметь разглядеть человека». Агнеш видела: мать ее выступает в неблагодарной роли мячика, передающего полученный толчок дальше, — она лишь высказывает ей обиду Лацковича; того ей кое-как удалось успокоить, в беседе же с дочерью она снова пускает в ход даже такие абсурдные доводы, как высокомерие, якобы связанное с ее врачебной профессией. «Он мог бы заметить, что я в его любезностях не нуждаюсь», — тихо сказала она, беря ночную рубашку. «А зря, это очень даже неплохо, когда кто-то к тебе проявляет внимание, — сказала мать, опять принимая ту небрежную позу, в какой пребывала до «все-таки». — Даже ты можешь оказаться в таком положении, — добавила она, смягчая резкий тон слегка задумчивой ноткой, — что будешь не знаю как благодарна за самую крохотную любезность».
Агнеш чувствовала, что они — у опасной черты: скажи она сейчас лишнее слово, и все потонет в хорошо знакомом нескончаемом потоке обвинений. Мол, она и понятия никогда не имела, что такое настоящее внимание к человеку, заботилась только о том, чтобы удовлетворить свои прихоти, и не думала, что рядом живет мать, родная мать, несчастная, никому не нужная, одна как перст в этом мире, и что она тоже нуждается хоть в капельке ласки; вот театр оставался, единственное развлечение, но дочь вечно что-нибудь придумывала, лишь бы не пойти с матерью на спектакль, точно папочка: тому тоже не нравилось, когда в пьесе был любовный треугольник, — это, видите ли, воспитывает легкое отношение к морали; он только и мечтал вкусы людей изменить; для Агнеш оперетта — недостаточно благородный жанр; кстати, «Три подружки» вовсе и не оперетта, песни в ней из Шуберта, а сколько матери пришлось упрашивать, чтобы дочь с ней пошла… Бредешь после спектакля одна в темноте по улицам, как собака бездомная, а если найдется кто-нибудь, кто пожалеет: эх, мол, ты, горемычная, ладно, провожу тебя до дому, — так мы тут покажем ему, что на дух его не принимаем, чтоб ему неповадно было в другой раз приходить. Все это мать умела говорить так убежденно, что Агнеш и в самом деле начинала мучить совесть: может, и вправду эта несчастная женщина видит от нее слишком мало дочерней любви. Сейчас, кроме обид Лацковича, у матери, наверное, была и другая, более глубокая причина завести этот разговор: она хотела себя обелить перед призраком первого транспорта, перед тем, кто, возможно, прибудет с ним. Агнеш же теперь меньше, чем когда-либо, хотелось выяснять отношения. В ней упрямой тенью стояло решение, созревшее над учебником патанатомии: или отец вернется — и тогда они выговорятся за все эти годы, или же не вернется — и тогда все это ни к чему. Она молча забралась под одеяло. Мать еще какое-то время лежала, подставив свету от лампы строгий профиль, и лишь мышцы на шее, подергивающиеся, когда новые аргументы просились ей на язык, едва не заставляя повернуть к дочери голову, выдавали ее нервозное состояние. Но спокойствие Агнеш, как бы заранее разбивавшее все аргументы, видимо, остудило ее; внезапным движением она погасила свет; и теперь они слышали только дыханье друг друга.
На другой день Агнеш была на дневных демонстрациях, в прозектуре Института патологической анатомии. В дальней половине зала лежало несколько трупов, доставленных из отделений клиники; ближе, на большом обитом жестью столе, в прямоугольных фарфоровых лотках, лежали органы и части тела, которые руководитель практики счел достойными демонстрации. Агнеш очень любила эти практические занятия: здесь она была в непосредственной близости с теми формами болезни, которые на страницах книг проплывали мимо в какой-то абстрактной неопределенности; она видела пораженные туберкулезом легкие, изъеденные кавернами, со свежими высыпаниями бугорков на нижней стороне, пришедшее в негодность синюшное сердце, изуродованные отложениями сердечные клапаны, загноившиеся эхинококковые пузыри в печени; могла проследить, как развивался тромбоз в сосудах мозга, где проходит граница между размягченной и здоровой тканью. За какой-то час им демонстрировали десять — двенадцать препаратов, заставляя вспомнить чуть ли не всю анатомию; за грубыми изменениями тканей вырисовывалась — благодаря приложенным историям болезни — клиническая картина, диагнозы, врачебные ошибки и догадки, лежащие на лотках органы как бы незримо выскальзывали на улицу, пульсируя и подрагивая в обреченных людях, которые заняты пока что своими делами: покупкой билетов в трамвае, занесением дебета и кредита в гроссбухи, — а в каком-то уголке их организма в виде функционального расстройства или, приняв облик тромба, уже затаился рок, который вскоре швырнет их на холодную жесть анатомического стола. На лотках, во множестве обличий, лежала сама смерть.
Студенты, сгрудившиеся вокруг стола, пропустили девушек в первый ряд; Агнеш с подругами, Марией Инце и Аделью Фухс, стояла почти напротив преподавателя. Девушки время от времени переглядывались, затем снова устремляли глаза на ассистента, держащего на одетой в резиновую перчатку ладони рассеченную почку. Это был не их прежний немного неловкий, но милый ассистент, которому никогда не приходило в голову связывать содержимое лотков с собственным честолюбием; он следил лишь за тем, чтобы всем были хорошо видны даже мелкие образования. У этого же манера держаться, интонация — все говорило о том, что он очень высокого мнения о своей персоне; даже показывая какое-нибудь заурядное прободение язвы, он давал понять аудитории, к которой обращался с легкой враждебностью, свое превосходство над нею. У него были светлые волосы, красивое, правильное лицо, необычно светлые голубые глаза, и он то и дело ссылался на своего учителя. «По этому поводу господин профессор Генерзих говорил обычно…» — вслед за чем звучала или какая-нибудь острота, долженствующая лишний раз доказать величие патологической анатомии и невежество студентов, или сравнение, меткости которого позавидовала бы иная старая повариха («как непрожаренная печенка», «чуть-чуть подпорченная лососина»): подобными сравнениями он связывал особенности выступающей под его ножом пульпы с отечественными или экзотическими блюдами. Профессор Генерзих являлся предшественником нынешнего прозектора, который и сам обладал весом в научном мире, был автором учебника; ассистент, однако, ни разу на него не сослался — только на господина профессора Генерзиха, словно обращался к такому источнику знания, которому равного нынче, увы, не отыщешь. Для студентов же Генерзих, каким бы выдающимся мужем ни был он в свое время, сегодня был только незнакомцем со странной фамилией, частое произнесение которой над этими лотками вызывало у них только с трудом сдерживаемое веселье; особенно это касалось девушек, в которых ассистент с его удивительными глазами возбуждал лишь понятную антипатию, которую всегда вызывает в женщинах мужское тщеславие, не подкрепленное должным образом в биологическом плане. Мария Инце, стоявшая напротив ассистента, взирала на него с тем выражением на лице, которое по достоинству могли оценить лишь те, кто хорошо ее знал: лицо ее было маской восторженного преклонения, маской, предназначенной для преподавателя, под маской же чуть проглядывала, усугубляя напряженность лица, коварная улыбка, адресованная всем остальным. Адель Фухс с торчащими из-под шапочки завитушками словно бы беспрестанно подмигивала от еле сдерживаемого смеха; маленькие черные ее глазки, как она ни пыталась справиться с ними, ни за что не желали прямо смотреть на молодого ассистента. А когда тот в очередной раз цитировал бедного Генерзиха, она толкала Агнеш в бок, что было грубейшим запрещенным приемом, так как Агнеш в такие моменты должна была собирать всю свою силу воли, чтобы не рассмеяться в лицо чувствительному, особенно в присутствии дам, молодому преподавателю, который как раз обращался непосредственно к ней. Чтобы как-то отвлечься от распиравшего соседок веселья, она стала думать про отца, вспоминать вчерашний вечер; однако обстановка университета, анатомички, присутствие рядом коллег не слишком-то позволяли погрузиться в раздумья о том, что ждет их семью впереди.
За спиной вдруг послышался осторожный скрип открываемой двери; строгий взгляд ассистента под нахмуренными бровями перепрыгнул с ее лица куда-то назад. По студентам пробежал шепот, потом чья-то рука коснулась локтя Агнеш, но она и тут не обернулась, тогда тихий голос пробормотал ей на ухо: «Коллега, вас там спрашивают. Кажется, это ваша мамаша…» Это было так неожиданно, что Агнеш, не обращая внимания на укоризненный взгляд ассистента, быстро выбралась из окружающей стол толпы. «Она там, возле приемной декана», — объяснял, пока они шли до двери, посланный за нею студент, который словно и сам понимал важность своей миссии. В самом деле, в коридоре ее ждала мать. Она наугад вошла в главный корпус медицинского факультета и стала расспрашивать околачивающихся в вестибюле, где сейчас может быть третий курс и не знают ли молодые люди Агнеш Кертес. Агнеш взглянула на мать. В глазах у той была некоторая растерянность, но кроме того, в еще большей мере выражение деловой торопливости, которая овладевала ею в дни больших хлопот, когда приходилось ходить из учреждения в учреждение, из лавки в лавку. «Отец значится в списке», — начала она с сути, как только немного бегающие в непривычной обстановке глаза ее различили фигуру дочери среди выходящих из приемной декана, стоящих перед доской с объявлениями, спускающихся и бегущих вверх по широкой лестнице студентов. «В списке?» — так потрясенно взглянула на нее Агнеш, что кто-нибудь посторонний, услышав их разговор, наверняка бы подумал, что речь идет о списке потерь. «Да, и он уже прислал письмо своему директору, утром я ходила продлить железнодорожное удостоверение, и как раз почтальон принес письмо». — «Вы читали?» — торопливо спросила Агнеш, от потрясения переходя к изумленному, радостному неверию. «Он несколько строк написал, из Штеттина. Они как раз пересекли латвийскую или уж не знаю какую границу. Последняя весть, которую он получил, — что мы хотим продавать дом. Помнишь, мы собирались переселиться в Буду? Он просит директора школы известить нас, если мы живы».
Агнеш стояла и смотрела на мать; вся она была переполнена чувством, о котором лишь разумом понимала, что это должна быть радость, настолько сильным, почти нестерпимым было вибрирующее напряжение во всем теле. «Уже и в газетах есть, я тут на углу купила «Маи нап», — все говорила мать, перед остолбеневшей от счастья Агнеш ощущая, может быть, даже некоторое раскаяние за свои куда менее однозначные чувства. — Триста пятьдесят человек прибывает, — добавила она, вытаскивая из бокового отделения сумочки утреннюю газету, — но с ними еще дети и женщины». Агнеш взяла развернутую газету, и взгляд ее сразу, словно притянутый магнитом, нашел в длинном списке отца. Она снова подняла взгляд на лицо матери, попыталась даже улыбнуться, но что-то помешало ей броситься со слезами на грудь матери. «Я сейчас еще побегу в Попечительское ведомство, на улицу Фехервари; говорят, там можно все сведения получить, — сказала мать, скрывая заботами свои чувства. — Может, удастся ему телеграмму послать», — добавила она, чтоб объяснить свой быстрый уход.
Занятия кончились, группа Агнеш как раз высыпала в коридор. «Обедать домой приходи, у меня есть жаркое, и еще галушек сварю, — обернулась к ней мать с лестницы, так что слова ее могли слышать и другие студенты. — Я в три буду дома». Это жаркое и галушки должны были показать, что сегодняшний день и для нее праздник, когда она просто не может позволить, чтобы дочь ее ела что попало в столовой. Коллеги — Мария, Адель и несколько молодых людей — столпились вокруг, заинтригованные, что Агнеш так внезапно вызвали из анатомички. «Что с тобой? Что-то случилось? Ты чего такая убитая?» — испуганно говорила Мария. Слово это, «убитая», застряло в ушах у Агнеш; позже она удивилась: в жизни не чувствовала она себя такой счастливой. «Отец мой вернулся», — тихо ответила она коллегам, едва различая их лица сквозь слезы и лишь по сотрясению своих плеч поняв, что рыдает.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Этот день прошел в белом сиянии счастья. Группа после занятий пошла на лекции, у Агнеш же никакого желания не было сидеть в аудитории, слушать тихие объяснения профессора с извиняющейся улыбкой и слегка трясущейся головой, разглядывать пущенные по рядам препараты, передавать их дальше. Радость, которой она не могла дать выход в восклицаниях и объятиях, перешла в нетерпеливую потребность движения, и вообще в душе клубилось столько мыслей и планов, рожденных полученной вестью, что просто необходимо было удалиться куда-то и начать разбираться, распутывать их.
На выходе с факультета она столкнулась с преподавателем, который вел у них занятия по патологической гистологии. Это был скромный, даже застенчивый человек, словно бы специально приспособленный к сидению над микроскопом: сгорбленная спина, слегка искривленная шея, асимметрично поставленные глаза, один из которых был все время сощурен. Его редко можно было встретить просто так: жил он во внутренних помещениях факультета, и общение со студентами, даже во время занятий, явно приводило его в замешательство. Агнеш, однако, поздоровалась с ним — «Добрый день, господин ассистент!» — будто встретила старого хорошего знакомого, чье лицо вызывает в ней одни лишь приятные ассоциации. Бедняга схватился за шляпу и от неожиданности едва не запутался в стеклянной клетушке входного тамбура; даже спустя полчаса перед ним все стояло загадочное явление: красивая девушка с дружелюбным лицом и полными слез сияющими глазами.
В трамвае билет ей прокомпостировала смуглая миловидная кондукторша с натруженными руками в перчатках без пальцев. Агнеш не могла удержаться, чтобы не выказать ей свою симпатию. «Что это у вас так мало пассажиров сегодня?» — спросила она, улыбаясь и взглядом показывая на пустые сиденья. Кондукторша не сразу поняла, чего от нее хотят: обычно лишь старики-почтальоны да возвращающиеся со смены коллеги заговаривали с ней, когда в своей бесконечной работе по компостированию билетов она на минутку переводила дыхание и, приподняв свою сумку, могла прислониться к кожуху двигателя на задней площадке. «В такое время народу обычно больше бывает», — помогла ей Агнеш. «А, вагонов много на трассе скопилось», — ответила женщина неохотно и коротко, словно делая нечто такое, что не входит в ее обязанности. «По крайней мере отдохнете немного», — не сдавалась Агнеш, расценив эту немногословность как усталость рабочего человека. Она с удовольствием бы спросила еще, есть ли у этой милой женщины дети; но та, заметив нового пассажира на передней площадке, без лишних слов отвернулась и ушла, — как видно, к сочувствию со стороны пассажиров она не привыкла.
Однако у остановки на улице Барошш, как раз когда старательная кондукторша дала звонок к отправлению, Агнеш обнаружила более благодарный объект для своей настоятельно требующей выхода доброжелательности. Там на краю тротуара стоял Халми. Он был примерно на одинаковом расстоянии от трамвайной остановки, унизанного периодикой газетного киоска и весело работающего щетками чистильщика сапог. Однако стоял он там, по всему судя, не ради них: ведь трамвай только что был перед ним, продавщица газет тщетно махала ему профессиональным зазывным движением, обувь же он не чистил на улице уже хотя бы из-за своей хромоты. Он просто стоял там, потому что никуда не шел; терпя толчки спешащих вокруг людей, он грустно глядел куда-то в глубину Кольца, туманная даль которого наверняка не виделась ему столь сияющей, как улыбающейся ему через стекло Агнеш. «Коллега Халми! Фери!» — крикнула Агнеш, постучав по стеклу, но худое его лицо лишь на миг утратило бесцельную сосредоточенность, и зрачки скользнули вправо и влево. Только когда трамвай тронулся, он наконец заметил ее, стоящую в окне, и, выйдя из состояния неподвижности, которой можно было бы измерять скорость рефлекса, взмахнул руками, как человек, пытающийся удержать на голове шляпу, когда ветер уже сорвал ее и унес в сторону. Он даже сделал несколько шагов по направлению к трамваю, в результате чего достиг лишь того, что зрелище двинувшегося вагона и желание прыгнуть на подножку, следом за Агнеш, вступили в безнадежный конфликт с сознанием собственной беспомощности. Агнеш успела показать ему знаками, чтобы он шел к следующей остановке, а она пойдет оттуда навстречу; выбежав на площадку, она еще видела, как Фери, застигнутый врасплох в странном своем одиночестве и от внезапности хромая сильнее обычного, волочит больную ногу за удаляющимися огнями трамвая, словно спеша за какой-то безумной надеждой, вдруг поманившей его за собой.
Они встретились на полдороге между остановками. Халми, вспотевший от торопливой ходьбы, смотрел на лукаво улыбающуюся Агнеш, ожидая, чем она объяснит свой нежданный к нему интерес. Он мог предположить только, что речь пойдет о конспектах каких-нибудь лекций: когда студенткам нужны конспекты, они всегда становятся такими вот ласковыми. Агнеш явно наслаждалась недоумением Фери, стараясь предугадать, как изменится напряженное его лицо, когда она сообщит ему свою новость. «Я хотела только сказать: вы были правы… Помните, мы вчера говорили насчет моего отца?» — добавила она, желая помочь ему отгадать непростую загадку: Фери, судя по его выражению, никак не мог взять в толк, в чем же это он был прав. «Вернулся?» — вдруг пришло к нему озарение, высветив заодно и очевидную связь между непонятным поведением девушки и спокойным, счастливым сиянием, которым лучились ее глаза. К Агнеш уже вернулось обычное самообладание, — во всяком случае, настолько, чтобы в блестящих ее глазах не появились невольные слезы; вместо ответа, однако, она лишь подняла газету, которую ей дала мать. «Напечатали?» — спросил Фери, но не взял у нее газету, чтобы изучать список; важней ему было другое: выражение счастья на лице Агнеш. В первом его восклицании — «Вернулся?» — был еще тот немного насильственный, таящий неприязнь интерес, с каким он обычно говорил об отце Агнеш. Спросив: «Напечатали?» — он должен был еще позаботиться, чтобы Агнеш не заметила в лице его, в голосе ревности: ведь как ни запрещал он себе питать надежду, пусть самую слабую, что-то в душе, неразумное, неподвластное мудрым, диктуемым самозащитой приказам разума, болело и ныло, потому что это не он вернулся из плена, не он стал причиной сияния, в хмуром осеннем сумраке улицы превращавшего улыбающуюся ему девушку в настоящий источник дневного, солнечного света. Но чем дольше смотрел он в ее блестящие, напряженные глаза, которые только благодаря этому напряжению сдерживали подступающие слезы, чем дольше наблюдал странное и такое волнующее несоответствие спокойных движений и душевной взволнованности — несоответствие, которое серое суконное пальто и лучистый взгляд делали еще более резким, — тем сильнее ощущал, как тускнеет, сходит на нет его ревность, и видел перед собой лишь прекрасную юную женщину, чья спокойная внешность, бедная, почти небрежная даже одежда и угадываемый внутри, словно под кожицей винограда, блеск душевной чистоты так покорили его еще во время первой их встречи в университетской аудитории.
«Когда вы узнали об этом?» — спросил он, только чтобы дать какой-то словесный выход распирающему его восхищению. «Минут десять назад или сама уж не знаю», — ответила Агнеш, словами этими и сквозящей в них иронией пытаясь чуть-чуть прикрыть свое безграничное счастье. «Тогда этот день — счастливый, — сказал Фери, и последняя волна ревности, заодно вобрав в себя и тихий его восторг, превратилась в никогда еще до сих пор не изведанную им нежность. — Бабушка-то как будет рада», — добавил он, незаметно напомнив таким способом о том, что должно было в глазах Агнеш составлять его преимущество перед другими коллегами. «Да, я как раз подумала, хорошо бы нам домой попасть к Елизаветину дню», — ухватилась за его слова Агнеш, радуясь неожиданной помощи в распутывании клубка того огромного счастья, которое стояло перед ней как нерешенная и совсем пока неясная задача. Собственно говоря, она сама не знала, фантазирует или говорит правду: ведь на самом деле она еще и не вспоминала про Тюкрёш и про обретавший с приездом отца значительность день бабушкиных именин; однако в нагромождении прежних ее раздумий и планов, вынесенных вдруг на поверхность нежданной вестью, где-то присутствовала, конечно, и деревенская бабушка, сквозь слезы глядящая с крыльца на вылезающего из коляски сына. «Как вы считаете, к тому времени их отпустят?» — «Я думаю, им сначала лекции будут читать», — сказал Халми, и необычное ласковое выражение на его лице под влиянием какого-то совсем другого чувства сменилось вдруг гораздо более жестким. Агнеш заметила набежавшую на его лицо тень. «А вы почему там стояли, на остановке, с таким грустным видом?» — спросила она, вспомнив, что у собеседника есть своя жизнь, и ища способ передать ему, хотя бы через сочувствие, частицу своего счастья. «Просто так, по сторонам глазел», — сказал Халми, уходя от обсуждения неприятной темы и своих забот. Но Агнеш продолжала свою мысль: «Не стоит грустить, честное слово. Всегда ведь что-то может в лучшую сторону перемениться. Видели б вы, в каком настроении я пришла домой, когда мы с вами вчера расстались». — «Так ведь у меня никого нет, кто мог бы вернуться, — резонно возразил Халми на не слишком логичное утешение, позволив улыбке, вновь смягчившей его лицо, чуть-чуть приоткрыть несчастное его сердце. — Тем более кто-то такой, кто был бы для меня идеалом». — «Я вас познакомлю с отцом. Наверное, вы, как тюкрёшцы, найдете общий язык. Заодно узнаете из первых рук, что происходит в России: он ведь там четыре года уже находится».
Халми взглянул на нее почти с испугом. Насколько он помнил, он ни разу ни словом не выдал, что события в России его интересуют; Агнеш же свою последнюю фразу произнесла так, будто ссылалась на нечто давным-давно всем известное. Однако в глазах у девушки не было и следа какой-либо задней мысли. «Вы со мной, наверное, и разговаривать-то не станете, когда он окажется дома», — погасил Халми испуг в каком-то подобии смеха. (Смеялся он редко; в такие минуты лицо его вытягивалось, краснело, и из-под неровных, кривоватых зубов вылетали негромкие, совсем не веселые звуки.) Агнеш слегка уже наскучила медленная ходьба, да и чужая пахнувшая на нее горечь заставила ее, инстинктивно оберегая свою радость, вспомнить, что она мечтала побыть в одиночестве. «Ну вот, я из-за вас чуть на ходу с трамвая не спрыгнула, а вы такое мне говорите… — И, обнаружив, что они вернулись на остановку, вдруг протянула юноше руку: — Ну, мне пора». И, чтобы сделать что-то приятное для коллеги, которого застала врасплох и явно выбила из колеи, а теперь еще и огорчает своим прощанием, сказала с улыбкой: «Знаете, в университете, кроме вас, нет никого, кому бы я с таким удовольствием все это рассказала». — «А Ветеши?» — встал в глазах Халми вопрос, который он не посмел высказать вслух. Но Агнеш стояла уже на подножке подъехавшего трамвая, повернувшись к коллеге лицом, словно желая помешать ему прыгнуть следом за ней: желание это мелькнуло на миг в его растерянном взгляде. Высунувшись с площадки и приветливо махая рукой, она еще долго видела Халми, вновь погрузившегося в свое кажущееся бесцельным бездеятельное одиночество.
Выйдя у площади Октогон, она испытала странное ощущение, будто находится под стеклянной крышей вокзала, откуда ей открывается много дорог в соблазнительные путешествия. Своя прелесть была и у спуска в подземку. Бесшумно скользящий меж бетонных с сырым земляным запахом стен и чугунных колонн большой желтый вагон, двери которого раздвигались словно у лифта, снова мог стать сказочным поездом-драконом из детства, воскрешая те времена, когда для будайской девочки было особой наградой и радостью, сидя внутри, в ослепительной роскоши, смотреть на бегущие за стеклом темные стены и сосредоточенно слушать рассказ отца, который всего несколько лет назад на разрытом проспекте Андрашши видел строительство удивительной — первой в мире — подземной железной дороги. Однако сейчас она предпочла автобус. В эти годы по проспекту Андрашши ходили огромные двухэтажные автобусы, и к ее настроению как-то более подходило подняться по винтовой лестнице и на уровне крон деревьев поплыть не спеша к Лигету. Сейчас, зимой, на втором этаже пассажиров было немного. Агнеш, устроив сумку рядом с собой, удобно расположилась на средней скамье, занимая два места. Напротив сидела немолодая супружеская пара, как видно провинциалы, и с неподвижными, серьезными лицами разглядывала ее — сначала муж, потом и жена; головы они держали до того одинаково, что прошло какое-то время, пока Агнеш заметила разный блеск в их глазах: у жены — завистливый и враждебный, у мужа — почти нескрываемо восхищенный. «Чему это мы так сладко улыбаемся?» — раздался рядом с ней голос, когда супруги на предпоследней остановке сошли. К ней наклонился пожилой господин с крашеными усами, в напоминающем театральную накидку пальто; меж колен у него стояла трость с серебряным набалдашником. «Ах ты, старая перечница», — подумала Агнеш, глядя на престарелого плейбоя, словно сошедшего со страниц какого-нибудь допотопного журнала мод. Раньше она с презрением отвернулась бы, а сейчас, в великолепном своем настроении, лишь смерила его с головы до ног и дружелюбно сказала: «Радость у меня». То ли старому ловеласу достаточно было, что он, вишь, все еще не боится заговаривать с посторонними дамами, то ли из глаз Агнеш лилось уж очень уничтожающее и делающее ее совершенно неприступной веселье, — во всяком случае, он лишь прочистил горло и поерзал, а когда они выходили, посмотрел на ее ноги.
Остановившись на площади между двумя музеями, Агнеш так посмотрела на королей, окруживших памятник Тысячелетия (именам их тоже учил ее, вместе с первыми буквами, отец), словно с ними собиралась обстоятельно обсудить, в какой закоулок Лигета ей удалиться, чтобы там, в стороне от чужих глаз, открыть найденный кошелек счастья. В Лигете каждый уголок связан был с каким-нибудь из периодов ее жизни. Прямо напротив стояла карусель, она означала раннее детство. Дядя Тони, веселый материн брат, уговорил кучера пустить их двоих на козлы омнибуса (о господи, омнибус, огромное, милое, нелепое сооружение, в которое на крутом подъеме улицы Хаттю в помощь двум тяжеловозам приходилось впрягать третью лошадь!); так, на козлах, они и прибыли в Лигет, где ожидал ее праздник. На скамье перед кукольным театром рядом с ней когда-то еще сидел дед, отец матери; а ведь на похоронах его, на закрытом теперь визиварошском кладбище, она зябла совсем еще девочкой. Зоосад открыли, когда она ходила в младшие классы гимназии, у многих из них был в зоосад постоянный билет; зимой они приходили сюда, пряча руки в маленьких муфтах, кататься на коньках, а летом искали скамью поукромнее меж чудесных искусственных гор; над ними бродили серны, внизу скучали цапли, а они, девчонки, изображали презрительное равнодушие или прыскали в ладошки, когда поблизости — в образе воображающего себя поэтом одинокого отрока с пузырями на коленях просиженных брюк или в виде оравы опьяненных собственной дерзостью подростков — появлялся, а то и пытался приблизиться к ним сильный пол… Здесь, на берегу озера, состоялось у нее нечто вроде первого свидания. В музыкальной школе она соврала одному, уже большому, мальчику, будто каждое утро приходит сюда учить уроки, и на другой день, в самом деле склонившись над книжкой на берегу озера, ждала, когда на дороге, под арками нежно-зеленых ветвей плакучей ивы, мелькнет его красивая черноволосая голова (он был из гимназии Буёвского, готовился к экзаменам на аттестат зрелости). Картины Музея изящных искусств напоминали ей седьмой класс, когда, под влиянием одного из преподавателей, она решила стать искусствоведом и на пасху посылала знакомым открытки с репродукциями «Девушки с кувшином» Гойи и «Мадонны» Рафаэля. Счастье, словно искуснейший реставратор, в нежданной свежести восстанавливало сейчас цвета всех знакомых с детства картин, высвобождая их из-под копоти, из-под пыли… В конце концов она решила пойти на остров. Замок Вайдахуняд[16], перед которым сейчас, вместо зеркала вод, расстилалось бетонное дно озера, и Якская часовня[17], и закутанный в свой чугунный плащ Аноним[18] — это была та часть Лигета, где она, перейдя мост, сразу слышала рядом с собственными шагами шаги учителя истории — своего отца.
Как отдалили ее от отца эти семь лет! Вот и в этом музее она не была — заглянула она во двор замка — с тех самых пор, как отец приводил ее сюда во время их совместных воскресных прогулок. Она помнила только, что стояли здесь какие-то стволы деревьев, в которые можно было заглядывать и, вертя рукоятку, наблюдать поучительные сцены из жизни леса. И еще были какие-то пастухи — куклы в человеческий рост, одетые в настоящие народные костюмы, то ли куны[19], то ли якуты, — они варили гуляш в казане, причем и казан, и мохнатые шубы — все было точно и достоверно, даже огонь в костре был почти как натуральный. Иногда Агнеш надоедало слушать про бесчисленные породы деревьев, семена и народности; однако, чтобы не огорчать отца, она делала вид, что все это очень ей интересно. Что скажет отец, узнав, что Агнеш учится на врача? Ведь она совсем неожиданно приняла такое решение. В последнем ее письме, посланном в конце войны, речь все еще шла об искусствоведческом поприще. Наверное, в том, что для многих стала притягательной твердая почва естественных дисциплин, повинна очень уж резкая смена владевших умами идей, происшедшая после революции. А ведь так было бы замечательно: уже собравший урожай своих знаний отец, в голове у которого, как в аккуратном стогу, все лежит травинка к травинке, и полная жадного любопытства дочь, осваивающаяся на том же поприще, вместе обсуждают какой-нибудь специальный вопрос, пряча в терминах, понятных лишь им одним, любовь друг к другу. Вот если б отец ее был терапевтом или профессором биологии!..
Она подумала, не зайти ли в музей, в зал, рассказывающий про Монголию: возвратившиеся домой пленные говорили, что отец интересовался обычаями восточных родичей венгров, монголов в первую очередь. Но оказалось, Музей этнографии уже куда-то переведен, другой же закрыт, там меняют экспозицию. Да и кого потянет в музей в такую слякотную, промозглую погоду? Агнеш присела на скамью возле статуи Анонима; скамья была немного влажной, но все равно тут было уютно. Агнеш вдруг тихо рассмеялась: вспомнился давний спор между отцом и матерью о животе и желудке. Это была одна из тех мелочей, из-за которых они могли ссориться бесконечно, как, например, о горохе, который отец по-тюкрёшски называл сахарными бобами. Отец и слово «желудок» употреблял в качестве деликатного обозначения живота, как это принято было в Тюкрёше, а мать, которая всегда тянулась к медицине (перед войной она даже окончила курсы сиделок; выбор же, сделанный дочерью, сделал ее несказанно счастливой), искренне возмущалась, когда отец, говоря про почечного больного или про какого-то знакомого, умиравшего от рака кишечника, выражался в том роде, что у бедняги сильные боли в желудке. Агнеш и теперь умилялась, думая, как наивен был этот сильный, выносливый человек в своих представлениях о человеческом организме. Нет, уж она-то не станет его одергивать. Скорее ей надо немного проникнуться интересами и делами отца. Для того хотя бы, чтобы понять то «эпохальное открытие», о котором говорили встречавшиеся с ним пленные. Их рассказы были довольно бессвязны: языковые семьи, родство индогерманцев, туранцев, монголов; впрочем, что тут удивительного: окружавшие отца люди (как и она, Агнеш) не очень-то разбирались в лингвистике. Хорошо бы прочесть что-нибудь по лингвистике, про языковое родство (у Марии есть подруга-филологиня); Агнеш, увы, растеряла даже те небольшие знания немецкого и французского, которые ей удалось получить в женской гимназии.
Насыщающий воздух туман пропитал пальто Агнеш; она, кажется, немного продрогла, сидя без движения на скамье, но тихий внутренний жар все еще грел ее, ровно и сильно, разве что стихло, угомонилось муравьиное мельтешение суматошных мыслей в мозгу — осталось лишь состояние счастливого ожидания, не связанное с воображением предчувствие нового, которое очень скоро войдет в их, ее и отца, жизнь, в отношения между ними. Мысль о том, что отец, быть может, останется недоволен избранным ею поприщем, была, пожалуй, не более чем игривой угрозой, которой расшалившееся сознание поддразнивало захмелевшее от восторга сердце. В душе же ее был покой. Ведь в отношениях между пятидесятилетним мужчиной и двадцатилетней девушкой, даже если они — отец с дочерью (то есть в этом-то случае прежде всего), такие мелочи не имеют значения: кто-кто, а ее отец уловит, почувствует то, что всего важнее. В университете, в библиотеке она целый день находилась среди людей, и каждое чужое слово, каждая пара глаз были теми весами, на которых ей чуть ли не поминутно приходилось измерять свой вес в той среде, в которой ей выпало жить. Она знала: непритязательность, почти небрежность ее одежды, сдержанный нрав, довольно скромные успехи — все это не мешает коллегам видеть в ней человека значительного. Однако то, что в ней самое лучшее, — ее резервы, ее не раскрывшиеся пока возможности — еще никому не известно, да и самой ей понятно, доступно не полностью, она их носит в себе, прикрывая своей молчаливостью. Однако отец, родная душа, повидавший свет человек, именно эти возможности в ней заметит прежде всего, и дочь станет ему тем нежданным подарком, которым едва не утраченный дом вознаградит его за все испытания и невзгоды. Но как это произойдет, как в отношениях их осуществится скачок через выпавшие семь лет, отделяющие девчонку, какою она была, от почти взрослой женщины, ученицы самого Веребея, — этого ей представить в словах, в движениях, в ощущениях не удавалось… Может быть, как раз счастливое это бессилие завороженного воображения и было самым прекрасным в ее нынешнем состоянии: она как будто жила в преддверии свидания или свадьбы, которые не грозят ей, однако, никаким риском, ибо распоряжаются тут более мощные, более постоянные силы, чем капризное своеволие сердца.
С другого берега, сквозь голые ветви деревьев, сидящую на скамье девушку обнаружил какой-то слоняющийся по парку мужчина; перейдя на остров, он долго читал вывеску на музее, потом осмотрел портал Якской часовни, даже зачем-то постучал по нему костяшками пальцев, заглянул под надвинутый капюшон Анонима, время от времени бросая на Агнеш изучающий взгляд (в котором была готовность завести многозначительный разговор), но подойти к ней все-таки не решился. Затем через остров, со стороны памятника Тысячелетию, промчалась шумная ватага подростков с большими потертыми, потерявшими форму сумками, — должно быть, школьники из бывшей гимназии Буёвского; они тоже заметили одинокую девушку, которая как раз поднялась со скамьи в моросящем дожде; подталкивая друг друга, они что-то кричали ей, даже причмокивали губами. Агнеш двинулась прочь, да и незачем было ей здесь уже оставаться. Напряжение, выгнавшее ее из города, улеглось. Она справилась со своей радостью, — по крайней мере, с ее первым приступом; можно было идти назад, к людям.
Тетушка Бёльчкеи, заслышав гулкий стук каблуков по бетонным плитам двора, выглянула — как делала это сто раз на дню — поверх занавески на дверях привратницкой. С тех пор, как начались неприятности с дядюшкой Бёльчкеи, Агнеш редко к ней заходила: никогда не знаешь, не попадешь ли как раз на скандал. Тетя Кати поэтому встретила ее с большой радостью, но и с некоторой настороженностью. «Я бы в комнату, Агика, вас пригласила, — виновато сказала она, вытирая кухонную табуретку, — да дядя Бёльчкеи выходной нынче, спит». Агнеш догадалась: вчерашний день закончился перемирием — это выдали слова «дядя Бёльчкеи», воскрешающие прошлое, и уважительность, с какой оберегаем был его сон. «А у меня, тетя Кати, новость!» — взглянула Агнеш на низенькую круглую женщину. Она сама чувствовала, что произносит это совсем не так, как в первый раз, на Кольце, говоря с Фери Халми, и почти наслаждалась несоответствием между тревожным лицом привратницы, ожидающей какого-то нехорошего слуха, какой-то беды, и своей доброй вестью. «Барин вернулся? — всплеснула руками, внезапно осененная, тетушка Бёльчкеи и тут же, словно бы ужаснувшись, что произнесением этих слов совершает бог знает какое кощунство, одернула себя: — Быть такого не может!» — «Нет, он в пути уже». На лице привратницы, от переживаний давно уже превратившемся в неподвижную маску, зашевелились какие-то отвыкшие двигаться мышцы, будто эта весть означала, что наступают новые, добрые времена, а с ними — конец ее мукам. «Муженек, слышишь?» — всхлипывая крикнула она в дверь заботливо затемненной комнаты. Радость ее обратилась к тому, к кому долгие месяцы обращены были горестные ее думы. «Не будите, пускай отдыхает», — испуганно схватила Агнеш ее за локоть. С детства в ней сохранилось почтение к послеполуденному сну дяди Бёльчкеи. «А, не спит он уже, ворочается только, — ответила ей тетя Кати и, когда пружины внутри резко скрипнули, выдавая, что лежащий принял сидячее положение, крикнула снова: — Муженек, слышишь: барин вернулся». — «Кто? Дукес, что ли?» — спросил сонный голос из темноты. Дукес был новый владелец дома, виноторговец из Шаторальяуйхея, который, чтобы надежнее поместить капитал, покупал дома в Пеште. «Ну ты, муженек, скажешь тоже! — ответила тетя Бёльчкеи с безмерным презрением к новому их хозяину — с тем презрением, с каким графский мажордом, перешедший вместе с замком к новому выскочке владельцу, отзывается о новом хозяине. — Наш барин, из плена. Агика у нас сидит», — добавила она тут же, чтобы поднятый со сна муж, столь основательно изменивший себе самому и доброму старому времени, не ляпнул чего-нибудь вовсе не подходящего к этой минуте.
Ответом было молчание, а спустя некоторое время дядя Бёльчкеи показался из комнаты, застегивая воротник форменной блузы. Он постарел немного, в черных волосах мелькали седые прядки, но в остальном это был тот же, с открытым и умным лицом, человек. Агнеш тщетно искала в нем следы страсти, что превратила в скорбное изваяние тетю Кати. Разве что молчаливость его говорила о том, что Агнеш попала в число тех авторитетов, к которым в их спорах не уставала прибегать тетя Кати как к воплощениям добродетели и гонителям греха. Возвращение бывшего хозяина дядюшка Бёльчкеи воспринял с некоторым безразличием. «Барин в Венгрии уже?» — поинтересовался он деталями, как и полагается солидному бригадиру. Жена его тем временем зазвала в привратницкую еще одну мелькнувшую за занавеской тень. «Зайдите-ка, тетушка Лимпергер, — крикнула она плаксивым голосом. — Я вам такое скажу — не поверите…» Лимпергериха, ожидавшая какого-нибудь нового поворота супружеской драмы, одобрительно улыбнулась, услышав новость. Это была маленькая, рано высохшая женщина с черным пигментом в подглазьях, во впадинах на лице и даже в морщинах. «Вот, мадам Лимпергер не даст соврать: ведь правда, я давно говорила, что все это во сне видела», — сказала тетя Кати. Лимпергериха подтвердила, что правда. «Мой муж тоже интересовался, не слыхать ли что-нибудь», — добавила она, чтобы — скорей из доброжелательства, чем из самомнения — показать, что тоже имеет отношение к возвращению барина. Немного спустя заглянул господин Виддер, снимающий квартиру номер три на втором этаже. «Госпожа привратница, будьте добры, ключи», — прошептал он тетушке Бёльчкеи, словно певец, который схватил простуду и теперь бережет свой голос. Это был высокий сгорбленный брюнет с очень изысканными манерами, служивший официантом в каком-то ночном увеселительном заведении; сейчас он возвращался домой после бани и зашел взять ключи, которые жена его, уходя за покупками, оставляла обычно внизу. Господин Виддер жил в доме недавно и не знал отца Агнеш, но тетя Кати, вручая ключи, не удержалась, чтобы не посвятить и его в знаменательное событие. «Представляете, господин Виддер, — сказала она совсем иным, исполненным почтительности голосом, в котором звучали и некоторые кокетливые нотки, — что у нас в доме произошло? Отец Агики, вы их знаете, бывший владелец дома, с третьего этажа, мы уж про него думали, его и в живых-то нет, — продолжала она, вступая в противоречие с собственным сном, — так он теперь неожиданно возвратился…» Господин Виддер, знающий Агнеш в лицо и при встрече вежливо здоровающийся с ней (благодаря жене он даже хранил в своей безразличной к чему бы то ни было, а тем более к жениным сплетням голове какую-то историю про их семью), прежде чем высказать свой комментарий к услышанному, представился Агнеш. «И долго ваш папаша там пробыл? — спросил он участливым шепотом. — Семь лет! Долгий срок, — со значением покачал он головой. — И где же, в Сибири?» — решился он еще чуть-чуть рискнуть своим голосом. «Последнее письмо от него получили из Ачинска». — «О, Ачинск — это далеко», — сказал он на это, и изъеденное дымом лицо его с бородавками и жесткой синей щетиной, от которой не спасало ни ежедневное бритье, ни лежащая пятнами пудра, приняло почтительно-меланхолическое выражение. Затем он взял ключи, еще раз поздравил Агнеш и протиснулся в щель приоткрытой двери… Тем временем дядя Бёльчкеи тоже взял свою палку, которая как бы являлась символом его общественной значимости, и спокойно направился к выходу. «Уходишь?» — испуганно спросила жена. «Постричься надо», — погладил он свою голову, прежде чем надеть на нее форменную шапку, и уверенно, как человек, у которого совесть чиста, зашагал через двор.
Женщины остались одни. Тетя Кати задумалась: а она сама узнала бы мужа, если б он после таких же скитаний позвонил неожиданно ночью в дверь? «Барыня…» — вдруг округлились ее глаза: она узнала — даже сквозь занавеску — стройную фигуру бывшей своей хозяйки, мелькнувшую по направлению к лестнице. Привратница посмотрела сначала на Агнеш, потом на госпожу Лимпергер. В обращенном к Агнеш взгляде ее был вопрос, участие, недоумение, во втором — тихое сообщничество и расчет на полное понимание. Конечно, Агнеш слишком хорошо знала тетю Кати, чтобы не суметь перевести ее взгляды на язык мыслей. Тетя Кати всю жизнь куда больше говорила, чем думала, и с тех пор, как в ее голове завелись тоже какие-то мысли, она сопровождала их такой мимикой, словно слушала чей-то рассказ об удивительных, но трудных для понимания вещах. Появление во дворе барыни поразило ее, очевидно, не тем, что в такой час было необычно, — тень, скользнувшая за занавеской, пробудила в ее душе иную, зловещую тень, омрачившую радость от возвращения барина, — ужас, который в последнее время вызывала в ней барыня и ее поведение. Обе эти тени вместе породили в душе тети Кати предчувствие того, что люди образованные называют «душевным конфликтом», и от этого ей стало настолько тоскливо и неуютно, что она попыталась найти поддержку в улыбающихся из черноты маленьких глазках Лимпергерихи. «Мы тут радуемся, а бедняга барин бог знает к чему вернется. Я вот тоже думаю иногда: пусть бы уж лучше мой муженек сгинул там, в Сербии». Примерно так можно было бы выразить словами ту мрачную возможность, что неожиданно пустила корни в зыбкой почве ее постоянных тревог. «Ну, я, пожалуй, пошла», — сказала Агнеш. Тишина, в которую погрузились обе женщины, не могла не коснуться и безоблачного ее счастья. В ней и так все время, стоило ей угадать, почувствовать, что чужие люди догадываются о ее тайне, поднимало голову слабое беспокойство: а вдруг они что-нибудь скажут? Тетя Кати проводила ее до середины двора. «Уж теперь-то все по-другому станет», — сказала она на прощанье плаксивым своим голосом. Но утешение это, по всему судя, было не слишком проникнуто убежденностью и, пока Агнеш поднималась по лестнице, незаметно переросло в зловещее предсказание: то-то теперь дела начнутся. «Барышня Фишер!» — услышала она, подходя к двери, голос тети Кати. Барышня Фишер жила со своей обожаемой матушкой на втором этаже и, как парикмахерша, обслуживающая клиентов на дому, в течение долгих лет ежедневно проводила по пять — десять минут, трудясь над головой госпожи Кертес; естественно, они не теряли времени даром, глядя друг на друга в зеркало и делясь жизненным опытом. «Бывший владелец дома, отец Агики», — слышала Агнеш, поворачивая в замке ключ. И, входя уже, уловила лаконичный, но многозначительный ответ барышни Фишер: «Ну-ну…»
Теперь Агнеш пришлось окончательно сдаться и допустить в свою душу опасность, глядевшую на нее из глаз тети Кати и Лимпергерихи. Она и на мать взглянула с испугом: не отравит ли та ожидаемую так давно встречу. Мать была уже в кухне, готовила обещанные галушки. «Ну, горе мое, опять загуляла? — сказала она. — Я уж боялась, что придется самой все галушки съесть». Более дружелюбный прием трудно было представить — мать явно хотела ей угодить. «Я у тети Кати сидела, никак не могла уйти, она тоже от счастья без памяти». Агнеш, конечно, преувеличивала чуть-чуть, но, пользуясь материным выражением — «без памяти от счастья», — она как бы и ее вовлекала в орбиту блаженного своего парения. У госпожи Кертес насчет тети Кати тоже сложилось в последнее время определенное мнение. «Да, не та уже Кати, не прежняя», — многозначительно говорила она иногда Агнеш; радость привратницы тоже была слегка подозрительна: не злорадство ли это скорее? Но на сей раз госпожа Кертес ничего не сказала. Вместо этого отчиталась о том, что сумела узнать в городе. Офицеров разместят возле Папы, в Чоте; во время войны там был лагерь русских военнопленных. Две недели они будут изолированы, даже навещать их будет нельзя. Очевидно, границу они пересекут нынче ночью. Она уже отправила телеграмму: «Ждем с нетерпением, Ирма, Агнеш»; пусть он знает хотя бы, что они живы. Отчет ее был деловит, словно она рассказывала о покупках; когда-то она еще сама покупала одежду для детей тюкрёшских родичей: терпеливо ходила по лавкам, тщательно выбирая, что получше и, чем она особенно была горда, подешевле. В этом отчете ее многократно упоминался некий капитан, который был исключительно внимателен к ней и даже одернул какого-то своего подчиненного, попытавшегося отделаться от нее: «Прошу вас не забывать, что госпожа хочет получить сведения о муже, которого не видела семь лет, и теперь считает минуты до встречи». Официальный титул жены, считающей минуты до долгожданного свидания с мужем, льстил, по всему судя, ее самолюбию; что же касается радости скорой встречи — радости, переполнявшей сердце Агнеш, — то вопрос этот сам собой оказался оттесненным куда-то хлопотами в учреждениях. «А у дяди Тони не были?» — спросила Агнеш, глядя на блюдо с горячими галушками. В этих словах была небольшая ловушка. Лацкович состоял в станционной страже, начальником которой был дядя Тони. «Я им звонила, — ответила мать, не уточняя, имеет ли она в виду дядю Тони с женой или включает в «них» и Лацковича; возможно, через Лацковича она и передала новость брату. — Да они и так уже знают».
Пока мать трудилась, готовя праздничную, хотя и скромную трапезу, Агнеш с головой погрузилась в дело, каким еще никогда, пожалуй, не занималась: она разрабатывала военный план. В блаженном своем состоянии она даже на миг не могла допустить, что история с Лацковичем на этом еще не закончена: Лацкович должен был просто растаять, исчезнуть в сиянии солнечного восхода, переполнявшего все ее существо. Однако и то, что произошло до сих пор, вполне могло омрачить возвращение отца. Многозначительные взгляды, которыми обмениваются, видя ее или мать, соседи, могут потом легко обернуться намеками; и вообще найдутся люди, которые по-дружески или по-родственному захотят открыть бедняге глаза. Да и у матери характер таков, что ей ничего не стоит закусить удила: если она почувствует за спиной шепотки, переглядывания, пересуды, то возьмет и сама пустит все под откос. Всем завистникам назло, как она любила говаривать. Значит, ее, Агнеш, задача — избавить настрадавшегося, истерзанного судьбой человека от испытаний, подстерегающих его дома. Глядя, как мать быстро накрывает на стол, Агнеш размышляла, что следует сделать, чтобы предупредить неприятности. Первое — успокоить мать. Ее, Агнеш, матери опасаться не нужно, она не выдаст ее, так как ей слишком дорог покой отца; если же что-то скажут другие, она выступит главной свидетельницей — лжесвидетельницей, коли на то пошло, — даже согласна будет признать, что Лацкович приходил к ней. Конечно, за это мать должна заплатить определенную цену: относиться к отцу так, как должна относиться к мужу, вернувшемуся через семь лет мучений домой… ну, и этот молодой человек навсегда должен исчезнуть, уйти из их жизни. Это — второе, что она каким-то образом должна дать понять матери.
Великодушие госпожи Кертес в этот вечер не знало границ. Сама она ела немного, зато дочери все подкладывала и подкладывала еду; принесла маринованные помидоры, полила галушки соусом из-под жаркого, не говоря уж о том, что, отварив галушки, специально для Агнеш слегка поджарила их в кастрюле. Здоровые жизненные функции дочери, которые когда-то были главной ее заботой, доставляли ей радость еще и теперь, когда они с Агнеш стали так далеки друг от друга. По воскресеньям она, например, была рада, если, старательно передвигаясь по квартире на цыпочках, давала Агнеш возможность поспать лишний час, не вскакивать по надсадному звону будильника; когда дочь занималась, она смотрела на нее с тем же уважением, как в далекие годы, когда Агнеш, сидя за маленькой домашней партой, аккуратно выписывала в тетрадке первые буквы. Аппетит дочери тоже вызывал в ней отголосок давнишней их близости, а то, что Агнеш дома почти не питалась, ощущалось ею как не совсем, быть может, незаслуженное наказание, отчасти даже как месть. В Агнеш же состояние счастья действительно пробудило бешеный аппетит: уничтожив первую порцию, она на минуту остановилась, словно вдруг осознав, что нарушает какое-то правило хорошего тона, запрет или обет, но в следующий момент, забыв обо всем, опять погрузила ложку в горку подрумянившихся галушек и ела, ела, пока на блюде ничего не осталось. За едой они мирно, как давно уже не бывало с ними, беседовали. Сначала Агнеш расхваливала галушки: у нее они получаются или жесткие, или разваренные; потом сравнивала тюкрёшские маринованные огурцы с материными. «Там они тоже твердые и похрустывают, но такого зеленого цвета, что даже странно». — «Пусть они говорят, что хотят, — отвечала мать, — но они просто по медной монетке кладут в банки». Когда все было съедено — до последней маленькой мятой помидорки, — госпожа Кертес всплеснула руками: «У меня же еще есть кое-что!» — «Орехи!» — вскрикнула Агнеш, увидев в руках у вернувшейся матери баночку, на дне которой чернело что-то ссохшееся, напоминающее мощи святого Иштвана. В самом деле, в банке были остатки орехового варенья — всего штук шесть или семь зеленых грецких орехов. «Знаешь, откуда это? Еще тюкрёшские, с войны. Потерялось как-то за банками с помидорами. Я подумала: отдам тебе как-нибудь». На самом деле, обнаружив орехи, мать первым делом вспомнила Лацковича, однако сейчас, когда она поставила банку перед дочерью, в душе у нее появилось какое-то необычно доброе, чистое чувство. Агнеш с истинным наслаждением положила в рот редкое лакомство; особенно приятно было раскусывать полутвердую, размякшую в сиропе скорлупу, когда ко вкусу ванили примешивался свежий и резкий лесной запах. «Ой, не надо бы нам это есть, — вдруг испугалась она, держа в липких от сиропа пальцах половинку надкушенного ореха. — Оставили бы до папы». — «Ну, ты теперь станешь все отцу оставлять», — ответила мать, довольная, что дочь позволила себе немного расслабиться, однако не желая помнить причину этого маленького пиршества. «Он варенье из орехов тоже любил», — сказала Агнеш, и перед ней вдруг возникли немного кривые нижние зубы отца с застрявшими в них белыми крошками от разгрызенных орехов, которые тут же, в тюкрёшском саду, колол куском кирпича племянник Шани. «Чревоугодие»! — раздраженно передразнила госпожа Кертес отсутствующего мужа. — Варенье, пирожные — ему все было чревоугодие. Ему отец привозил крендель из Веспрема, и он рад был не знаю как».
Госпожа Кертес даже во время войны не походила на тех святош, которые, вспоминая погибшего или пропавшего без вести мужа, называли его не иначе как «бедный мой муженек», хотя, пока «муженек» был дома, разговаривали с ним совсем по-другому. Если ей приходила на память какая-нибудь скверная его черта или проступок по отношению к ней, то даже тысячи километров, их разделявшие, не мешали ей высказать о муже все, что она о нем думает; теперь, когда он оказался совсем близко, а через несколько дней будет дома, ее критические реакции, как видно, стали еще быстрее. «Не такой уж он был враг чревоугодия, — пыталась защитить отца Агнеш, которой в этих издавна знакомых упреках хотелось слышать не неприязнь, а забавный отзвук былых времен, когда они были вместе. — Когда он нас на экскурсию с Бёжике брал, всегда финики нам покупал: у больницы Святого Яноша торговка одна стояла — так вот у нее; и вообще без конфет даже в дорогу не отправлялся…» Но госпожу Кертес, чьи воспоминания складывались в систему под воздействием совсем иных, чем у дочери, чувств, не растрогала эта картина. «Ну конечно, я знаю, — сказала она, — его-то карманы всегда были карамелью набиты. Чтоб было чем угощать детишек. И медовыми пряниками, чтобы голос не сел, потому как ему в хоре петь надо. И леденцами от кашля — для лекций. Он-то сам все время сосал конфеты по каким-нибудь медицинским соображениям. А если я на твои именины заказывала торт безе, так он сразу: «Это еще что? Торт?!» Будто торт едят только последние негодяи. «Ну, может, чуть-чуть попробовать, что за вкус». И преспокойно съедает всю свою долю».
Агнеш рассмеялась. Ворчливые слова матери воскресили забытые сцены, так славно пахнущие детством. В том, что говорила мать, была известная доля правды. Госпожа Кертес сама лакомкой не была. Если в доме оказывались конфеты, она оставляла их детям; Агнеш скорее помнила случаи, когда мать иногда второй раз наполняла себе стакан из стеклянной фляжки с вином. Но она яростно отстаивала свое право съесть, если ей так захочется, хоть четыре-пять шоколадных пирожных, а то просто брала масла на кончике ножа, обмакивала его в соль и так лизала, без хлеба. «Опять извращения», — смотрел на нее в такие минуты отец. Он, особенно после того, как бросил курить, был куда большим сладкоежкой. И, как во многом другом, только делал вид, что совсем не таков. «Конечно, он — за умеренность», — саркастическим тоном говаривала госпожа Кертес. Она не способна была постичь то, что Агнеш почувствовала уже девочкой и что наблюдала с тех пор у очень многих мужчин: демонстративной воздержанностью своей, так же, как и терпением, с каким он обращался с женой, отец хотел подражать какому-то «идеалу», который, наверное, был идеалом не для него одного, а для многих в те времена; может быть, это был Ференц Деак[20] или кто-то еще — один бог знает, кто мог повлиять на умы настолько, что в последние два-три десятилетия прошлого века множество людей — учителя, юристы, врачи и в их числе крестьянский сын из Тюкрёша — моделировали себя по его образу и подобию, неся голову с высоким лбом как зерцало мудрости и спокойствия. В гимназии Андрашши у Агнеш тоже был один такой преподаватель — непонятый, обойденный ученый, который даже написал курс эстетики (это ради него Агнеш хотела стать искусствоведом); кстати, нынешний ее профессор фармакологии тоже словно бы все у того же самого идеала, примешав к нему чуточку английского аристократизма, позаимствовал четкие жесты, с помощью которых создавал собственный образ, излучающий с кафедры принципиальность и точность. Это было примерно то же самое, как если бы аморфному материалу придали кристаллическую структуру: человек в каждом своем поступке видел одно неизменное преломление, и это было прекрасно, это создавало ощущение надежности. Госпожу же Кертес, как видно, именно эта упорядоченность раздражала сильнее всего. Ее послушная инстинктам натура воспринимала любую самодисциплину как ложь. Она видела лишь, что муж тоже любит конфеты, но утверждает, будто сладкое любить стыдно. «Война, думаю, и его научила быть терпимее к людям. Вряд ли он таким же принципиальным остался», — сказала Агнеш; она знала, что иной раз пустые предположения способны сильнее влиять на мать — озлобляя ее или настраивая примирительно, — чем очевидность, и, чтобы чуть-чуть расположить ее к отцу, готова была в виде исключения даже душой покривить. «Мне он пусть не пытается насчет воздержанности проповеди читать, — в самом деле сбавила та, наполовину уже успокоившись, непримиримость своего тона. — Я за семь лет по горло его воздержанностью насытилась. — И, видя, что Агнеш не берет остальные орехи, подтолкнула к ней банку: — Ешь давай, ешь, а не то я сама съем. — И длинными своими пальцами действительно достала один орех. — Не бойся, он тоже с голоду не умрет».
Когда Агнеш, помыв посуду, вернулась в комнату, мать сидела за отцовским письменным столом. Такое случалось с нею довольно редко; стройная талия ее чуть по-детски была скособочена, миловидное подвижное лицо — серьезно, рука, быстрая как на пощечины, так и в письме, лежала на столе; так она сидела обычно, заполняя налоговые декларации. Агнеш не стала ей мешать; она принялась разбирать книги, отделяя свои от отцовских. «Перо у тебя плохое, слышишь?» — встала мать через некоторое время и без лишних слов протянула ей, зажав двумя пальцами и помахивая, чтобы просох, лист бумаги, исписанный наклоненными вправо, словно бегущими куда-то буквами. Это было первое письмо, даже, собственно говоря, отчет, который она посылала мужу. «Тут я все написала, пусть знает, что его ждет, — сказала она, когда Агнеш взяла листок. — Вот конверт с адресом. Если ты с чем-нибудь не согласна, можешь послать от себя отдельно», — добавила она и вышла из комнаты, словно давая понять, что ей никакого дела нет ни до возможных замечаний, касающихся письма, ни до дальнейших шагов дочери. Агнеш догадывалась, что означают эти не слишком последовательные слова: мать хотела бы знать, что напишет отцу дочь, а резкий тон использует на тот случай, если Агнеш посмеет что-нибудь сообщить без ее ведома или тем более опровергнуть ее утверждения. Хотя мать и написала, как она выразилась, «все», это «все» было, конечно, совсем не то, что тревожило Агнеш, — в письме шла речь об их жизни, о продаже дома, о том, куда ушли деньги, что можно купить на жалованье, о девальвации, о состоянии их одежды… Агнеш сама не очень-то разбиралась в этих вещах, и это тоже относилось к числу незаметных, но постоянных разногласий меж ними; Агнеш старалась не вникать в денежные маневры матери, она, например, только из этого письма узнала, что свиноферма, в которую мать, по совету дяди Тони, вложила часть вырученных за дом денег, так и не была построена, вся сумма недавно была им возвращена, но, конечно, теперь это были совсем не те деньги. И все же у Агнеш, когда она дочитала письмо, осталось чувство, что положение, в котором они находятся, мать рисует более мрачным, чем оно выглядит на самом деле: очень уж много она говорила о том, как трудно прожить на жалованье, и слишком часто поминала расходы, затраченные на ее, Агнеш, обучение. Отдельный абзац посвящен был костюмам отца: из одного, серого, они сшили Агнеш жакет и юбку — ходить в школу, остальные же сохранились; правда, смокинг, как ни пересыпали его нафталином, побила-таки моль, недавно мать отдала его в штопку. Можно было подумать, что ущерб, нанесенный молью, сейчас больше всего беспокоит совесть матери.
Теперь Агнеш села к письменному прибору из кристаллического агата, с чернильницей в форме куба (подарок отцу на последнее общее рождество), который в этой комнате, среди украшенной резными завитушками мебели, как бы призван был представлять новый вкус. Сочинение еще в школе было ее слабым местом. Когда человек говорит, он по тысяче мелких признаков видит, как воспринимает его слова собеседник, и множеством способов — тоном, улыбкой, жестами — может модифицировать то, что хочет сказать, приспосабливаясь к настроению, к уровню понимания партнера; написанная же фраза раз и навсегда выходит из-под твоей власти: она сама представляет тебя в мире, она декламирует, строит гримасы, откалывает коленца — все это вместо тебя. Особенно неприятна такая зависимость, когда ты пытаешься писать о себе и о своих чувствах. Сейчас это представлялось особенно непосильным делом, ведь ей надо было с помощью букв построить мост через пропасть шириною в семь лет; такая задача вызывала у Агнеш настоящую агорафобию[21]. Пожалуй, всего разумнее было бы тут исходить из того, что нужно и что не следует писать отцу. Но это осложняло ее задачу еще сильнее. Письмо матери было холодноватым; она, Агнеш, должна показать отцу, как они ему рады. Но в то же время нельзя допустить, чтобы разница между их письмами слишком бросалась в глаза: начав с выражения радости, Агнеш тоже должна перейти к отчету; однако пусть отец все же почувствует, что в нынешней студентке-медичке он не утратил своей прежней спутницы по прогулкам, способной понять и оценить его открытия; мать обрушила на вернувшегося скитальца свои заботы, дочери же предстоит успокоить его, показать, что никакой катастрофы нет, положение их хоть и трудно, однако вполне терпимо, как-нибудь они проживут, даже если ему придется отдыхать несколько месяцев; в то же время нужно и мать как-то оправдать, создать видимость, будто дома у них полная гармония и его встретит прежняя семья, только надо постараться не пересолить, чтобы частые домашние стычки не оказались для него уж совсем неожиданными. Написав слова обращения, она долго сидела, глядя на них и ломая голову, как же выполнить все эти многочисленные и разнообразные условия.
Эх, лучше всего и проще всего писать правду — и она энергично обмакнула перо в чернильницу. «Милый папочка! Когда сегодня утром мама вызвала меня с патанатомии и сообщила, что в школе от вас получили письмо из Риги, я после этого уже не пошла на занятие, а села в автобус и отправилась в Лигет — и вернулась только тогда, когда снова почувствовала себя нормальной». Написав «отправилась в Лигет», Агнеш хотела добавить: «и спряталась за статуей Анонима», потом: «и спряталась со своей радостью от людей», но отвергла и то и другое. Фраза эта и так показалась ей слишком сентиментальной; надо быстро переключиться на учебу. Выскользнувшее из-под пера слово «патанатомия» подсказало ей переход. «Вижу, однако, что я уже выдала свою тайну», или: «Эти мои слова, чувствую, встретят у вас немалое удивление». Что-нибудь в этом роде написала бы здесь Шари Тосеги или другие стилисты из числа бывших ее одноклассниц; Агнеш, хотя и не терпела словесные завитушки, тоже не удержалась, чтобы не воспользоваться удобным оборотом. «Слово «патанатомия» наверняка удивит вас, но что делать, я уже на третьем курсе медфака. В последнем моем письме, которое вы должны были получить, я писала, что пойду на филологический и буду заниматься главным образом искусствоведением, но…»
За этим «но», после двух-трех довольно легко ей давшихся строчек, вновь вставал непроглядный туман. Как объяснить ей свою измену? Не может же она написать о том, что во время революции они, восьмиклассницы, убегали с уроков в университет слушать лекции Михая Бабича[22] и Гезы Лацко[23]. И что после революции, когда того и другого выгнали из университета, она не пошла на филфак в какой-то мере из чувства протеста. Как знать, поймет ли ее отец, который целых три года был заложником и, если верны доходившие до них слухи, даже сидел в тюрьме. Поэтому, поколебавшись с минуту, она быстро написала: «…но в конце концов весы склонились в пользу естественных наук». Это, собственно, было сказано точно, хотя и немного напыщенно. И, чтобы еще более обосновать свой выбор, она продолжала: «Мама была этому очень рада, она ведь всегда мечтала, чтобы дочь ее стала врачом». Это тоже была правда, и вместе с тем был тут маленький успокоительный обман: отец мог как бы увидеть их обеих в одной рамочке — дочь-медичку и радующуюся за нее мать. «Но я тоже пока не жалею. Медицина увлекает меня все больше, экзамены я, хотя и не на «отлично», сдаю вовремя; в этом году уже слушаю клинические дисциплины, терапию и хирургию, и это…»
Здесь она снова подошла к трудному месту, справиться с которым мог бы разве что писатель, да и то едва ли. Медицина ее увлекала, это чистая правда; да и кого бы не увлекла разгадка таких удивительных недугов, как, скажем, «Аддисонова болезнь», но медицинский факультет вызывал в ней и неопределенный не очень понятный страх. В каждом человеке есть нечто — некое чувство, некая склонность, — влияющее на отношение его к другим людям, к окружающему миру, и Агнеш пока не видела, как то особенное, что свойственно ей, вступит во взаимодействие с медициной, этой вечно экспериментирующей наукой. В одном она была совершенно уверена: к исследовательской работе у нее способностей нет. А практика? Преподавателем, показывающим ученикам репродукции прекрасных картин, она могла себя представить, хотя полного удовлетворения, вероятно, это ей и не принесло бы. Но с тех пор, как у них на лекциях не только рассказывали об открытиях, но и показывали настоящих больных: стариков, которым каждый вздох доставлял мучение, цветущих девушек, за спиной у которых профессор Веребей рисовал в воздухе крест, — перед Агнеш все острее и все тревожней вставал вопрос, как в будущей ее деятельности совместится то, что живет в ней, и то, в чем нуждаются демонстрируемые им среди кафеля, никеля, стекла и белого полотна больные. «И это…» — смотрела на нее с бумаги начатая фраза. Написать: «куда интереснее»? Подумав, она зачеркнула «и это».
Теперь магический щуп, каким в ее пальцах стало перо, словно бы прикасающееся к чувствительным зонам, требующим деликатности и максимального такта, обратился к отношениям между ней и отцом. Он должен быть совершенно уверен, что отношения эти не изменились, лишь стали глубже. «То, что я учусь на врача, вовсе не означает, будто меня больше не интересует история, этнография, языкознание — любимые ваши науки. Но как раз потому, что я ими давно уже не занималась систематически, мне теперь гораздо нужнее опытный наставник, который поможет мне лучше в них разобраться». Собственно говоря, это было не совсем так, она до сих пор не ощущала необходимости в таком наставнике, да и в этих науках тоже; ей вполне хватало одной-двух книг да нескольких нашумевших фильмов, на которые она ходила с подругами. Но ведь здесь, в письме, ей нужно показать не знания, а готовность воспринимать их. Она остановилась на миг: стоит ли заходить дальше в своих фантазиях; затем решительно обмакнула перо, и на бумагу легли слова: «Возвратившиеся офицеры, ваши товарищи по плену, рассказывали, что вы им читали интересные лекции о монгольских обычаях и обрядах; некоторые даже упоминали о каком-то сделанном вами лингвистическом открытии. Когда мы с вами по воскресеньям, как в прежние времена, снова будем ходить на экскурсии в будайские горы, я постараюсь понять, в чем оно состоит, это открытие».
Теперь ей казалось, что письмо получается слишком школярским: все патанатомия да лингвистика, словно мир состоит из одних лишь учебных дисциплин, а отношения между дочерью и отцом служат для передачи научных познаний. К тому же оставалось еще одно очень важное дело: попытаться сгладить впечатление от проблем, которыми было полно письмо матери. Агнеш решила перейти к этой теме. «Мама нашу жизнь изобразила, пожалуй, слишком уж мрачно. Очевидно, она не хотела, чтобы вас постигло разочарование. Я настроена куда более оптимистически: особой нужды нам, не считая нескольких месяцев, не приходилось испытывать». Она хотела еще написать, что, ей кажется, у них есть в резерве какие-то деньги и они смогут прожить, если не хватит жалованья, но почувствовала, что упоминание этих резервов разбудит вулкан материнского недовольства. «И теперь у нас нет задачи важнее, чем забота о вашем здоровье, наверняка подорванном испытаниями. Пусть поправка его и для вас станет главным делом». Это немного резало ей слух, но исправлять было поздно. Теперь оставалось, собственно, лишь закончить письмо, вставив несколько осторожных слов о семейном их трио — слов, предназначенных скорее матери, чем адресату. «А пока отворятся ворота Чотского лагеря, мы будем с любовью думать о третьем члене нашей усеченной семьи…» Тут должно было следовать: «которая скоро опять обретет цельность», но получалась явная логическая несообразность. Можно ли представить семью как изувеченное тело, к которому прирастает давно утраченная им часть? Недостаток слов, внутренние сбои — все это словно бы скрывало гораздо более глубокое беспокойство, грозящее вырваться на поверхность; «чье рабочее место и чью одежду, как вы можете судить по маминому письму, мы сохранили в неприкосновенности». Это последнее предложение ей понравилось, причем даже по двум причинам: оно возвращало внимание отца к той части материна письма, где к нему обращалась рачительная хозяйка, а кроме того, оно заставляло вспомнить вместе с одеждой еще и о книгах, забота о которых была ее, Агнеш, делом.
Когда она отнесла матери оба письма: материно в конверте и свое, зажатое в пальцах, — та ждала ее уже в полной боевой готовности. «Меня это все не интересует ни капли, по мне, можете писать все что угодно, я и отцу твоему скажу, пусть радуется, что за семь лет хотя бы то, что есть, сохранилось». Но когда Агнеш вышла, она, не меняя позы, лишь немного вывернув шею и отведя вниз уголок письма, лежащего на ночном столике, таким способом совместила свой угол зрения с исписанным Агнеш листом и все же прочла его. «Очень литературно», — сказала она возвратившейся дочери тоном, в котором можно было расслышать и ворчливое недовольство, и признание, — так бывает, когда человек получает возможность заглянуть в еще сырой, неупорядоченный, но не лишенный благородных побуждений внутренний мир дорогого ему существа. Агнеш взглянула на мать с изумлением: она-то старалась как раз избежать всякой литературности. «Ты слишком много фантазируешь насчет отца, — продолжала мать, отыскивая в корзине для рукоделия спицы. — Не хочу разрушать твоих иллюзий, человек и должен чтить своих родителей», — сказала она таким тоном, словно целыми днями тем только и занималась, что, успешно борясь с собой, щадила дочерние чувства Агнеш. Умиротворенный вид, с каким мать смотрела на начатое вязание, да и сам факт, что она взялась за спицы, свидетельствовали о том, что письмом Агнеш она довольна. И Агнеш легла в постель с ощущением, что, в общем, мать, пожалуй, довольна и теми условиями, которые в этом письме предлагались ей как условия перемирия.
Однако следующие дни все больше и больше подрывали эту надежду. Назавтра, в субботу, у Агнеш были только приват-доцентские занятия, и, вернувшись в полдень домой, она застала мать среди вынутого из нафталина мужского платья: на всех стульях в столовой и спальне было развешано по костюму, на столе и на кресле-качалке лежала гора сорочек, исподнего; сама она как раз рассматривала на свет черные брюки, гадая, протерлись они на заду или побиты молью. Агнеш принесла купленные по дороге газеты, в которых описывалась встреча поезда в Чорне: там едущих со стороны Эбенфурта офицеров принял начальник Чотского лагеря. Госпожа Кертес прочла все корреспонденции, одну за другой; подобные торжества волновали и трогали ее независимо от того, в чью честь они устраивались. Ноздри ее и сейчас слегка покраснели, едва она представила, читая отчет репортера, сцену встречи. «Как, должно быть, это было прекрасно, — сказала она, — когда они, ступив на родную землю, впервые пропели гимн». И, еще четверть часа посвятив одежде, она снова подошла к столу Агнеш. «Ты ведь тоже читала: в Папе их встречали девушки в народных костюмах, были устроены танцы. Все-таки общество, что там ни говори, много для них делает», — сказала она, словно в лице мужа и ей было оказано определенное уважение. «Я вот как раз подумала, — решилась Агнеш, воспользовавшись растроганностью матери, высказать мысль, занимавшую ее целый день, — не поехать ли туда и нам или по крайней мере кому-то из нас? Завтра как раз воскресенье». Но эти слова, связавшие отвлеченную идею с конкретной повседневностью, сразу вернули госпожу Кертес на землю: растроганности ее как не бывало. «Но ведь ясно же сказано было, — вскинулась она, — к ним никого не пустят. Это — изолятор, тебе понятно?» — «Если люди приедут, не прогонят же их», — упрямо сказала Агнеш, имея даже в виду не возможность первой увидеть отца (ждать его было само по себе удовольствием), — ей не хотелось, чтобы он был обижен их равнодушием. «Что ж, пожалуйста, если тебе так не терпится, у нас ведь куча лишних денег, давай разбрасывай их, поезжай», — подняла голос сразу на целую октаву мать, которая знала уже этот упрямый тон Агнеш, как знала и то, что тут требуются более сильные аргументы. Это «если тебе не терпится», в котором таился намек: дескать, у дочери, видно, есть какая-то своя причина как можно скорее поговорить с отцом, несмотря на запрет закона, — сделало свое дело: Агнеш сдалась и молча стала убирать со стеллажа свои книги. Однако мать, по всему судя, хотела до конца убедиться, вполне ли сломлено сопротивление дочери; через пару минут с фехтовальным пластроном в руке она вновь подошла к ней. «Ты как медик лучше других должна знать, что в России сейчас сыпной тиф. Кто может поручиться, что посетители не разнесут болезнь по стране?» — «В Папе вон ничего, танцевали с ними», — проглотила Агнеш напрашивающееся возражение. Но если мать не поедет, ей придется тоже отказаться от этой мысли, — решила она про себя, сдувая пыль с атласа Тольдта.
«Зачем это ты книги снимаешь?» — переключилось внимание матери с молчащей Агнеш на груду книг перед полками. Время от времени, позвав на подмогу тетушку Бёльчкеи, она устраивала большую уборку, переворачивая квартиру вверх дном, перетирая мебель, картины, книги, но не терпела, если порядок в квартире нарушал кто-то другой. «Я свои книги убираю, пускай он библиотеку найдет в том виде, в каком оставил. Вы ведь тоже вон решили разобраться с одеждой», — добавила она, чтобы как-то сгладить назревающий конфликт. «А что мы будем с твоими книгами делать? На люстру повесим?» — ответила госпожа Кертес, любившая подчеркнуть абсурдными преувеличениями неразумность чужих замыслов. «В кладовой у нас есть небольшой стеллаж. На нем сейчас всего несколько банок с огурцами». — «Что-что? Стеллаж?! — вскинулась госпожа Кертес, словно дочь посягала на устои самого мироздания, никак не меньше. — Стеллаж мне самой нужен. Или ты полагаешь, я теперь до конца жизни нищей останусь? Ни баночки перцев, ни скляночки брусники не смогу больше законсервировать? Вот вернется отец — должна я буду на зиму заготовки делать? — И, поскольку Агнеш не отвечала, решила новым вопросом прощупать враждебный план, заподозренный ею в молчании протирающей книги Агнеш: — И куда ты хочешь некрашеный стеллаж поставить? В столовую, что ли, на рояль?» — «Я думала, переберусь в комнату для прислуги», — набравшись решимости, взглянула на нее Агнеш, так как знала, какую бурную реакцию это вызовет. «В этот чулан? С ума сошла?» — уставилась на нее мать, от изумления даже понизив голос. Комната для прислуги, с единственным окном, выходящим в переднюю, с тех пор как у них не было горничной и не гнили там привезенные из Шарошпатака яблоки, в самом деле пришла в жалкое состояние — в ней сейчас не было даже печки. «Мне вполне подойдет, — отстаивала Агнеш свой план, — все равно я чаще при свете занимаюсь, а спать — какая разница, где спишь». — «Еще чего! Так я и разрешила тебе сидеть там без воздуха! Готовиться к экзаменам!.. А он тут, за письменным столом, будет восседать», — направила она гнев на скрытую до сих пор часть возмутительного плана. «Но ведь это, в конце концов, его комната, — стояла на своем Агнеш, — и его работа важнее, чем моя». — «Важнее? Знаю я эту его важную работу. Выписки из книг делать. Пять лет делал выписки по национальному вопросу, и что вышло из этого?.. А тебе для учебы нужна отдельная комната, и чтоб хорошо проветривалась». — «Я в столовой могу заниматься…» Эта мысль в глазах госпожи Кертес была совсем уж бунтарской. С тех пор как они остались вдвоем, в столовой, кроме большого трюмо, немого рояля и кресла-качалки, не обитал никто; столовая была бессловесным хранителем былой их жизни, добрых старых времен, эпохи Франца-Иосифа. «Ну конечно, в столовой, чтобы единственная приличная комната черт-те во что превратилась? А придет кто — куда я его посажу?..» Бояться, что кто-то придет, разумеется, было излишне, но госпожа Кертес предположение защищала еще отчаяннее, чем реальность. «Кабинет в твоем полном распоряжении», — заявила она решительно. «Но у него тоже где-то должно быть свое место. Я буду за столом работать, а он — бродить по квартире?..» У госпожи Кертес, однако, и в мыслях не было относиться как к аксиоме к тому, что странник, находящийся сейчас в Чотском лагере, имеет какое-то право на место в ее квартире. «Найдется ему место, не беспокойся. В лагере вон человек по двадцать, поди, жили в бараке?..» И с той редкой способностью мгновенно находить точные определения, которой Агнеш не раз поражалась во время подобных вспышек, обозначила решающее различие в их, своем и дочери, взглядах на вещи. «Только не вздумайте воображать, ни ты, ни отец твой, что здесь все осталось таким же, как семь лет назад. Здесь вам не замок Спящей красавицы. И чем скорей он привыкнет к тому, что мы за семь лет тоже стали другими, тем лучше».
Агнеш, слушая эти речи, все больше мрачнела. К тому, что слова матери — особенно если сопротивление побуждает ее к принципиальным высказываниям — кажутся более жесткими, чем поступки, она привыкла давно. Однако сейчас за непримиримостью нетрудно было заметить почти подсознательное стремление накопить побольше доводов и аргументов для предстоящей борьбы. Одно было ясно: что бы Агнеш ни говорила в пользу отца, каждым словом своим она лишь разжигает в матери родительскую ревность, которая, становясь союзницей поздней страсти, только сильнее настраивает госпожу Кертес против мужа. Лучше, пожалуй, было бы полностью доверить матери подготовку к его приезду, положившись на чувство долга жены перед законным мужем. Однако на следующее утро к ним ни свет ни заря явился дядя Дёрдь из Тюкрёша, старший брат отца, смуглый, широкоплечий человек с мощной мускулатурой, оставшейся с молодых лет, когда он занимался физическим трудом. Правда, в нынешней своей безбедной жизни и вследствие тесного знакомства с винными погребами он обрюзг и расплылся, кожа лица покрылась сетью прожилок, приобрела синеватый оттенок. Агнеш, увидев его в проеме двери на фоне перил галереи и квадрата дымного неба, не вскрикнула от восторга — это было полностью чуждо ее натуре, — но лицо ее засветилось почти детской радостью. Дядя Дёрдь тоже, как можно было заметить, был рад ей: лицо его стало еще шире, по нему разлилось некое сияющее лукавство, а блеск узковатых глаз — глаза у него были точь-в-точь как у отца — словно приблизил тот миг, когда она обнимет отца на вокзале. «Ну, что передать папочке? — спросил он после того, как двойной тюкрёшский поцелуй на миг погрузил Агнеш в знакомый с детства, ассоциирующийся с каникулами милый мужской запах с примесью табака и домашней палинки. — А то ведь я в Чот еду». — «Напрасно только съездите, — услышав знакомый голос, появилась из комнат госпожа Кертес. — Я в военном министерстве была: к ним строго запрещено пускать кого бы то ни было». Дядя Дёрдь расцеловался и с нею; на лукаво-радостном лице его появилось при этом задиристое, подтрунивающее выражение, как всегда в разговоре с невесткой. Насчет женитьбы брата он имел свое мнение — и давал иногда невестке почувствовать, что он хоть и простой деревенский мужик, а жену бы на месте Яни держал в руках построже. Госпожу Кертес это снисходительно-добродушное поддразнивание, смягченное родственной и крестьянской тактичностью, почему-то не раздражало, более того, именно это подтрунивание, пожалуй, и сохраняло хорошие отношения между ними, несмотря даже на взаимные претензии — в связи с тем, скажем, что госпожа Кертес, или Ирма, как величали ее в Тюкрёше, при покупке одежды с наслаждением подбивала жену и дочь дяди Дёрдя опустошать его кошелек; с другой стороны, сам-то Дёрдь Кертес вон даже в плен не попал на войне, как ее муж, да и как ему было попасть в плен, если он вообще был освобожден от фронта, каковой факт она часто и усердно напоминала ему. Однако в последнее время отношения между ними испортились. Ирма в семейной распре заняла сторону фарнадского свояка, противника дяди Дёрдя, и с тех пор, как Бёжике от них уехала, она даже наведываться не желала в это «царство сплетен», как она называла родную деревню мужа. «А я попробую все-таки», — ответил дядя Дёрдь, не обращая внимания на апломб, с которым встретила его невестка, и засмеялся, поглядывая то на нее, то на Агнеш. «Как это? Думаете, вы ловчее окажетесь, чем другие? Там один полковник есть, так жену даже к нему не пускают». — «А вы не знаете, что я в хитром полку взводным был? Так что я калач тертый, не чета вашему полковнику и даже самой полковнице». — «Ладно, если вам некуда деньги девать… — все более горячилась госпожа Кертес. — Я, — сказала она с нажимом, — не поеду… Хотя мне кажется, прежде должны к нему поехать жена и дочь — самые близкие люди». — «Это уж ваше дело, Ирма. — И дядя Дёрдь стал разворачивать сверток с гостинцем — мясными деликатесами от первого в этом году убоя свиньи. — Я подумал, отвезу ему тюкрёшской колбасы да зельца. Вот и бабушка твоя, — повернулся он к Агнеш, — сразу мне ехать велела, как только увидела в «Будапеште» — она все по «Будапешту» смотрит — список с его именем».
Гостинец ненадолго примирил госпожу Кертес с деверем. Но пока Агнеш во всех подробностях рассказывала, как они узнали радостную новость, как готовятся к встрече, мать опять принялась в столовой протестовать против поездки дяди Дёрдя в Чот. «Как бы ему неприятностей не было, — сказала она, — если мы там в какие-нибудь махинации пустимся. Сейчас ведь там проверка идет…» — «Не бойтесь, Ирма, из-за меня у брата не будет никаких неприятностей», — ответил дядя Дёрдь, добродушно посмеиваясь, но не без некоторого ехидства. «В самом деле, мама, почему вы так не хотите пускать туда дядю Дёрдя?» — не выдержала Агнеш, едва удерживаясь в рамках обычной дочерней почтительности. «Я не хочу пускать?! Пускай едет, если ему так не терпится», — возмутило госпожу Кертес это нелепое предположение. Дядя Дёрдь со свойственной ему тактичностью посидел еще минут пять, ведя шутливую беседу, затем поднялся: до поезда он еще хотел заскочить в купальню Рац. «Ты вот что… может, поедешь со мной? Я бы взял», — сказал дядя Дёрдь, распрощавшись с невесткой в дверях столовой и оставшись в прихожей с Агнеш. Она только неловко улыбнулась в ответ, показывая, что не хочет перечить матери. «Мамочка твоя боится, что я… того… скажу еще что-нибудь бедолаге. Да ведь только… зачем?» — пробормотал дядя Дёрдь, поцеловав ее и идя к двери; впрочем, он тут же прервал себя громогласным «Храни вас бог!». Агнеш две-три минуты еще стояла в прихожей, думая о последних словах дяди. В Тюкрёше с ней материны дела тактично не обсуждали. Даже в голосе бабушки, когда она спрашивала недоуменно: «А Ирма что ж, не приедет?» — задние мысли прорывались лишь в жалобно-участливой интонации. Так много, как теперь дядя Дёрдь, никто еще Агнеш не говорил.
Мучительный стыд, который испытывала, стоя в прихожей, Агнеш, перешел в возмущение, потом в бессильное отчаяние. Это просто ужасно, что мать так себя выдает. Как ребенок. Если глаза завяжешь, она в уши тебе кричит. Отец посмотрит на эти наивные ухищрения — и в первый же день все поймет. «Не надо было бы вам так уж его удерживать, — сказала она, вернувшись в столовую. — Хочет попробовать — пусть попробует». — «Я удерживала? — изумленно взглянула на нее мать. — Просто я терпеть не могу…» Видимо, она тоже уже поняла, что держалась неосторожно; так и не объяснив, чего же она не может терпеть, она ушла в свою комнату. Однако через четверть часа она вновь появилась возле углубившейся в свои книги дочери. «Он думает, я не знаю, зачем ему так срочно понадобилось в Чот, — высказала она придуманное за эти четверть часа обвинение. — Он хочет, чтобы отец от него узнал историю с домом». — «Полно вам», — с возмущением кинула Агнеш на стол карандаш. Под «историей с домом» имелась в виду тяжба. Дядя Дёрдь жил в родительском доме, и после кончины деда начался спор, кому владеть домом. Дядя Дёрдь считал, что за всю жизнь он столько натерпелся от деда, что дом должен по праву отойти к нему; если бы бабушка не держала его при себе, у него давно были бы собственные хоромы. Братья и сестры же, возглавляемые зятем Белой, секретарем управы в Фарнаде, норовили получить с живущего «на родительском» Дёрдя как можно больше отступного. Агнеш в словах матери возмутил очевидный низкий расчет. Ведь она прекрасно знает, должна знать, что дядя Дёрдь сразу понял, почему она так вскипела из-за этой поездки. «История» с домом деда — лишь прикрытие для куда более трудной истории с их собственным домом, для позора, который, как опасается мать, сразу станет известен мужу. «Ты мне оставь эти «полно», — кипятилась все более мать. — У тебя отцова родня всегда права, точно как у него. А уж я-то их знаю. Кто способен сироту обездолить («сиротой» была Агнеш; защищая ее интересы, госпожа Кертес и взяла сторону свояка Белы), у того хватит совести заставить несчастного (то есть отца Агнеш) подписать что угодно: он ведь понятия не имеет, во что его впутывают. Четверть дома — за кусок зельца: на такую коммерцию они мастера». — «Вы сами, мама, должны понимать, что речь тут совсем не об этом», — сказала Агнеш. «О чем же тогда?» — взглянула на нее мать с мгновенным испугом, мелькнувшим сквозь раздражение… Но протест дочери выглядел слишком абстрактным, госпожа Кертес не обязана была догадываться, что за ним кроется, а потому предпочла не понять. Зато с еще большим рвением принялась раздувать изобретенное обвинение, словно желая спрятать за ним то, чего она испугалась было. «Ну ничего, я им игру испорчу, — наконец пришла она по кривой раздражения к спасительной решимости действовать. — Сейчас же отцу напишу, чтобы он ничего не вздумал подписывать…» Возмущение, испытываемое Агнеш, переросло в изумление. Господи, что же это такое, человеческая душа? Неужели она так проста? Неужели мать в самом деле сумела себя уверить, что боится именно этого? Или все гораздо сложнее и мать сама вознамерилась возбудить подозрение против того, кто может бросить на нее тень? «Вы этого не сделаете, надеюсь. Человек еще до дому не добрался, а вы голову ему забиваете такими вещами», — сказала Агнеш решительно, в то же время стараясь сохранять увещевающий тон. «Забиваю, да, и буду забивать. Им можно, а мне нельзя? Я же ему сказала: посещения строго запрещены. У нас что, так много денег, чтобы их на ветер выкидывать? Особенно теперь, когда отец тоже еще неизвестно сколько будет сидеть у меня на шее. Знаешь ты, почем сегодня пятьдесят центнеров кукурузы?.. Еще как напишу». И она схватила чернильницу со стола Агнеш. Это письмо она (словно боясь, что дочь не даст ей писать) напишет одна, на своей территории.
Агнеш ужасно угнетена была этим скандалом и запечатанной в конверте открыткой, которую мать, не показав ей, сама, пока не остыла, отнесла на почту. И назавтра в университете она то и дело вспоминала о ней, вместе с ней проходя все этапы почтового путешествия — от сортировочного стола до почтового отделения в Чоте, где она, получив местный штемпель, попадет в объемистую потертую сумку почтальонши, в представлении Агнеш похожей на тюкрёшскую. Она не смогла уберечь отца от первого удара — не окажется ли она такой же бессильной, когда ему придется выдержать следующие? По дороге в столовую ей встретился Фери Халми. На сей раз он не прятался, не делал вид, что встреча случайна; видя неловкую его улыбку, его лицо, на котором вместе с униженностью была и некоторая требовательность, сознание своих прав, Агнеш вдруг поняла, что те несколько ласковых слов, которые она, став щедрой от счастья, бросила ему с подножки трамвая, в течение трех минувших дней бродили в нем, словно дрожжи, и что сейчас, допытываясь, отчего она в таком подавленном настроении, он, собственно, требует от нее той же никогда до сих пор не испытываемой им ласки, которую уже считает своей неотъемлемой привилегией. Дома госпожа Кертес встретила ее письмом из Чота. «Отец написал, вон письмо, у тебя на столе», — сказала она, словно признавая тем самым, что у дочери на это письмо больше прав. Агнеш не ожидала ответа так скоро — свое письмо они отослали третьего дня — и с дрожью взглянула сначала в лицо матери, затем на листок, валяющийся на зеленом сукне. Она всегда отдавала себе отчет, что прошедшие полные испытаний годы могли сломать, изменить отца; сейчас, минуту спустя, выяснится, действительно ли и намного ли изменили. Так новоиспеченная мать сначала смотрит на повитуху, потом уже на ребенка: не калека ли, не уродец ли он, не означает ли его плач, что с ним что-то не в порядке. «Хорошо над ним потрудились, — сказала госпожа Кертес так, словно ее ущемили лично, оскорбили в лучших чувствах, но в то же время (и это слегка успокоило Агнеш) явно слегка преувеличивая несправедливость судьбы. — Скорбут у него», — произнесла она, обращаясь к склонившейся над письмом дочери, загадочное слово, которое до сих пор читала только в рассказах о путешествии к полюсу; пожалуй, оно даже льстило немного ее самолюбию, — вернее, ее уважению к медицине.
Но для Агнеш уже ничего, кроме письма, не существовало! Она стояла возле стола, и белый листок бумаги немного дрожал у нее в руке. Первым делом она бросила взгляд на подпись, с радостью узнавая характерные четкие, не искаженные внутренним беспокойством и торопливостью буквы отца. Она очень любила его почерк, — уравновешенный, ясный, он как бы позволял заглянуть внутрь человека. Смотрите, словно говорил он, вот моя душа, мне нечего скрывать от людей; и все-таки в аскетических, мужественных этих линиях присутствовал идеал, на который можно было равняться. Девочкой, да и потом, когда отца уже не было дома, Агнеш часто пыталась копировать его подпись: широкую, растянутую «К» и упрощенную, почти без петли «Я». Сейчас (после весьма сдержанного сострадания, прозвучавшего в словах матери) именно этот прежний, совсем не изменившийся почерк больше всего успокоил ее. Пусть в иных буквах, особенно «в» или «р», длинные линии были чуть-чуть неуверенны, а соединения кое-где обрывались, как будто у отца не хватало сил довести их до конца, все-таки это был его прежний почерк. А значит, и душа должна быть той, прежней, которую Агнеш помнит и любит. «Милый ангел мой», — прочла она красиво, четко выведенное обращение, и сердце ее на миг сжалось. Обращение относилось лишь к матери. Но Агнеш тут же одернула себя за необоснованную обиду: уж если отец написал это обращение, которое в старых письмах из лагеря (было их около ста) употреблял только раз или два, а позже, глядя на их фотографии, в мыслях своих, наверное, все чаще и чаще, значит, теперь он просто не мог написать по-иному. «Милый ангел мой и Агнеш» или «Милый ангел мой и дочка…» выглядело бы просто смешно. «Милые мои ангелы»?.. Да ведь ее, Агнеш, он почти и не знает… Она для него пока — незнакомая двадцатилетняя женщина, которая только теперь соединится с детским образом — тем, что живет в его сердце. Само письмо, однако, было обращено к ним обеим. «Когда мы прибыли в Чот, тут меня ждала телеграмма от вас. Можете представить, что я чувствовал, распечатывая ее. С января 1918-го у меня не было от вас весточки, и, читая в венгерских газетах о голоде, о румынской оккупации, об эпидемии «испанки», я столько раз видел вас мертвыми». Сердце Агнеш, от напряжения превратившееся в манометр, в этом месте показало на несколько атмосфер меньше; взгляд ее затуманился — не столько от сцены, которую она рисовала себе, не от образа распечатывающего телеграмму Улисса, а скорей от знакомой конструкции правильных, чуть-чуть учительских предложений: такими он писал бюллетени успеваемости, а теперь вот соблюдает порядок и в изложении самой большой радости своей жизни. Первые его слова, подумалось Агнеш, тоже отражают этот порядок, отдавая дань разнице в возрасте между ней и матерью… «Рассказом вашим я был успокоен, а кое-чем растроган, особенно твоей давно мне известной заботливостью, с какой ты пишешь о сохраненном с довоенных времен костюме и словно оправдываешься за потраченный молью смокинг и поржавевший велосипед. Эх, видела бы ты меня в Бутырской тюрьме, в штанах с протертыми до дыр коленями; если бы мой приятель, Шполарич, оставленный здесь в заложниках живописец, ожидавший со дня на день казни, не пожалел меня и не отдал мне свои запасные штаны, не знаю, в чем бы я приехал домой». Агнеш снова стало не по себе: выходит, особенно тронул его отчет матери, а в нем та ложь, которая бросилась ей в глаза, когда она читала материно письмо: что оправдываться им нужно только за моль и ржавчину. Но ревность тут же вытеснило сострадание к обманутому человеку, чья доверчивость даже в холодном, бездушном письме нашла себе пищу, нашла островок, от которого как будто веяло любовью. Следующий абзац был ответом уже на ее письмо. «Выбор, сделанный Агнеш, меня удивил: мне всегда казалось, что история — и все, что пробуждает фантазию, — привлекает ее сильнее, чем природа и вообще то, что можно видеть глазами; мне казалось естественным, что, идя по стопам отца, она станет историком или филологом. Но в каждой профессии есть свои хорошие стороны, и то душевное благородство, которое ощущается в ее письме, конечно, найдет себе применение на врачебной стезе. Я тоже часто вспоминал наши прогулки, когда в тюремной больнице, опираясь на костыли (один из них был слегка длинноват, так что мне приходилось держаться за середину), после долгих упражнений я смог подняться пускай и не на смотровую площадку горы Эржебет, а всего лишь на второй этаж». Эта часть письма, после которой он перешел к рассказу о своих испытаниях, вызвала у Агнеш ощущение некоторой неудовлетворенности. Ведь письмо ее было не отчетом, а предложением союза, дружбы — и как раз на это отец ничего не ответил. «Душевное благородство», которое он увидел в ее письме… Но разве об этом она хотела сказать? Разве душевное благородство хотела продемонстрировать?.. Однако в этом разочаровании Агнеш себе не призналась. Кто так глубоко ее знает (ведь как верно все то, что отец, вспоминая ее детские годы, говорит о фантазии), тот не мог бы не расслышать, что она ему предлагает… С другой стороны, у него и возможности не было ответить ей напрямик: это могло бы выглядеть как бестактность — ведь письмо все-таки обращено к матери. Потому он и спрятал под учительской похвалой — «душевное благородство» — то, что их потом будет связывать… И — мало тюрьмы: еще, оказывается, костыли. Это вновь переполнило ее сердце горячим сочувствием, отвлекая внимание от собственных ожиданий.
«Человек из Игала!» — вскрикнула она, дойдя до строк, где отец рассказывал о своих злоключениях. Он все-таки говорил правду! Из Омска, с места последнего своего пребывания в Сибири, отец в прошлом году в качестве командира транспорта военнопленных попал в Петроград, и там его задержали как офицера. Он выполнял какую-то незначительную работу в здании бывшего посольства Австро-Венгрии, потом, в декабре минувшего года, как передавал им тот уехавший в Трансильванию офицер, был арестован — сам точно не знает, за что, возможно, тут виноват был один его знакомый, поляк, — и отправлен в Москву, там, уже в апреле этого года, перенес тяжелую форму скорбута… «Вот теперь наконец я узнаю, каким он вернется к нам из плена», — гулко забилось сердце Агнеш, а вместе с ним задрожал в пальцах листок. От обиды уже не осталось и следа. Однако — может быть, именно из-за волнения — в этой последней части письма она, хоть и перечитала ее дважды, разобраться как следует на смогла. Поминались тут разные больницы — тюремная, Екатерининская, какая-то Эстонская комиссия, Немецкий приют, а общее описание прерывалось деталями: например, в первый раз от Екатерининской больницы до Эстонской комиссии — расстояние в одну версту — он тащился, едва передвигая ноги, четыре-пять часов. Агнеш уяснила только окончательный результат: по совету одного своего друга отец совсем недавно, в октябре, из Немецкого приюта отправился в Эстонскую комиссию, где как раз формировали первый транспорт из возвращавшихся на родину офицеров. Друг его, сказав, что хочет посмотреть дорогу, ушел вперед и больше к нему не вернулся, но он все же в конце концов попал в транспорт и вот, в конце этого месяца, пересек границу в районе Риги. Затем шло описание, как их встречали в Риге, Штеттине, Берлине, Чорне и, наконец, Папе.
«Но это же все чудесно», — взглянула Агнеш на мать, кладя подрагивающие в руке листки бумаги на стол. Однако, хотя страх и подавленность, владевшие ею, пока она читала письмо, действительно улеглись, голос ее звучал все-таки не вполне убедительно. «Не так он обычно писал, — сказала мать, словно ее инстинкт уловил уже нечто, хотя еще не смог облечь это нечто в слова. — Все только и говорит о том, что им давали есть». В самом деле, в письме то и дело мелькали такие фразы: «Если бы я не получил в Эстонской комиссии пару банок консервов и несколько сухарей…», или: «тут на рыбьих костях уже было мясо, даже дали какую-то зелень…», «Рижским ячменным супом, который нам раздавали серьезные, очень располагающие к себе дамы, уже можно было наесться досыта…». В Папе их ждал целый пир: сандвичи, фрукты, вино, — но отец со своими больными ногами так и не смог бы добраться до лучших кусков, если бы молодые офицеры не пожалели его. «Но ведь это естественно, — почти закричала Агнеш (хотя обилие таких мест тоже бросилось ей в глаза). — Вы знаете, что это такое — голодать столько лет?» Иногда госпожа Кертес — если в возражениях дочери звучала прочная убежденность — способна была отступать перед нею; и теперь она высказала другую свою тревогу. «Это что же, он тут мне на костылях будет ходить?» — спросила она, хотя ее тон показывал, что ответ ей самой прекрасно известен. «Он уже не ходит на костылях. А дома в два счета придет в норму. От скорбута человек или умирает, или, если получит соответствующее питание, выздоравливает без всяких последствий. Я считаю, письмо не дает оснований для беспокойства», — сказала она уже с большей уверенностью. И стала рассказывать матери про витамины, эти чудесные, загадочные вещества, о которых узнали всего лет десять назад, изучая некоторые связанные с недоеданием болезни. Скорбут вызывается недостатком витамина, обозначенного буквой «C»; при этой болезни повышается проницаемость сосудов, выпадают зубы. У отца болезнь была, видимо, все же не очень тяжелой, он ведь пишет, что потерял пять зубов, да и то не во время скорбута. Эта своеобразная инвентаризация отцовского тела, с пятью утраченными зубами, действительно привела Агнеш почти в хорошее настроение! Закаленный фехтовальщик, не сведущий в тонкостях организма мужчина, который даже выпавшие зубы свои считает, — это и был тот отец, о котором она думала, сидя у статуи Анонима. «А что ноги синие? Так и у нас вон как долго не сходит какой-нибудь синяк от ушиба», — объясняла она матери с таким воодушевлением, будто вместе с удивительными, ничтожными по количеству и все же такими важными веществами, содержащимися в шпинате и помидорах, можно было ввести в тело отца — или скорее в воображение матери — некое волшебное средство, которое превратит недавно бросившего костыли человека в желанного, любимого мужа. Госпожа Кертес, которой льстило, что дочь объясняет ей такие сложные медицинские вещи, мало-помалу позволила убедить себя в необоснованности тревог, и скоро у нее остались сомнения только насчет того, где будет она доставать, зимой да при этой дороговизне, необходимую зелень.
В последующие дни Агнеш снова и снова перечитывала письмо отца, и образ этого человека, который ждал в Чотском лагере решения своей участи — и волей-неволей должен был решить и их судьбу, — становился в ее глазах все более загадочным. Были моменты, когда идеал, что жил в ее сердце, как бы вбирал в себя через знакомые, милые буквы содержание письма, и тогда она каждую строчку воспринимала через призму этого идеала, и в письме чудилось ей дыхание большой, зрелой жизненной мудрости, и даже выражения вроде «свидетельствует о душевном благородстве» обретали глубокий смысл, а то, что письмо, вопреки ожиданиям Агнеш, о многом умалчивало, превращалось в какой-то адресованный ей тайный знак. В других случаях перед ней было словно совсем другое письмо: слова «костыли», «госпиталь», «скорбут» загораживали все остальное, и на глазах у нее выступали слезы сочувствия. Бывало и так — особенно если письма не было у нее в руках и она повторяла выученные наизусть строки где-нибудь в вагоне подземки или в суете университетского коридора перед лекциями по фармакологии, — что ее вдруг охватывало ужасное подозрение: знакомый почерк, напоминающие прежнего отца фразы — все это только маска, одежда, в которой им возвратили какого-то нового, чужого человека, которого она, Агнеш, должна навязать матери, уложить рядом с ней в большую двуспальную кровать. Она надеялась, что дядя Дёрдь на обратном пути заскочит к ним, расскажет что-нибудь, успокоит. Но он то ли поехал другой дорогой, то ли просто не захотел их видеть. Мать, видимо, тоже ждала его; во всяком случае, время от времени она о нем вспоминала. «Стыдно, поди, что настоял на своем: не удалось ему повидаться», — сказала она как-то. И позже: «Боится мне на глаза попадаться, чует, что я его братнюю любовь насквозь вижу». У Агнеш же родилась, поразив ее, еще одна догадка: может быть, дяде неловко и рассказать, и умолчать о том, что он видел: пускай, мол, убеждаются сами. Агнеш готова была порой бросить все и бежать на вокзал: мать ей совала довольно много карманных денег, из которых она, сверх расходов на трамвай и на столовую, упрямо, не обращая внимания на стремительное падение цены денег, откладывала какую-то часть, так что на билет ей хватило бы, не надо было просить у матери. Однако подобный поступок чреват был большими и непредвиденными последствиями, расплачиваться за которые пришлось бы отцу; Агнеш удерживала себя и лишь в университете во время занятий старалась перевести разговор на скорбут: что известно коллегам об этой болезни, остаются ли после нее, когда больной начнет снова получать витамины, необратимые изменения. Личных воспоминаний о скорбуте не было, однако, ни у кого, коллеги старшего возраста, прошедшие плен (на ее курсе было немало таких), вернулись домой еще до голодных времен. И все, конечно, говорили примерно то же, что она матери. «Но может быть, кровоизлияния распространяются не только на десны и подкожные ткани, но и на серозные оболочки, на печень, а то, пожалуй, и на мозг?» — спрашивала Агнеш, маскируя тайную свою тревогу под научную любознательность. Третий курс — период знакомства с болезнями, период, когда студентов охватывает «medicus hypochondria»[24]! Агнеш, слава богу, не была подвержена этой мании, не искала в каждом своем кашле симптомы, описанные в учебниках, — и вот теперь вдруг словно зримо увидела в теле отца, в его органах сотни, тысячи крохотных кровоточащих ранок, которые не зарастают, не исчезают бесследно, как на коже или на слизистой, а оставляют мельчайшие сбои в обмене веществ, в работе сердца… и, да, и в работе мозга.
Однако на пятый или на шестой день (считая с момента, когда мать сообщила ей радостное известие, — того практического занятия по патанатомии — для Агнеш началось новое летосчисление) случилось нечто такое, что вытеснило из ее сознания даже скорбут, — явился Лацкович. С тех пор как из-под розовой лампы на ночном столике обрушились на нее те упреки, Агнеш больше не видела его в доме. И не ожидала, что еще может увидеть. Теперь она уже не была уверена, что возвращение отца, словно некое сверхъестественное явление — сошествие материализовавшейся Идеи, — раз и навсегда положит конец связи матери и Лацковича; более того, за поведением матери, в котором чувствовалась нарастающая решительность, она угадывала нервные, торопливые свидания, тревожные переговоры. И все-таки ей казалось, что появление отца, пусть пока еще не физическое, навсегда закроет Лацковичу дорогу в их квартиру. И вот тебе: он снова тут, в проеме распахнутой двери, в перетянутой ремнем униформе, с бритым голым лицом. В этот вечер она вернулась из университета и без того в подавленном настроении: ее обидело поведение Марии Инце. На лекциях по хирургии всегда шла борьба за места, и Агнеш, когда имела возможность прийти пораньше, бросив рядом с собою пальто, приберегала местечко для подруги, постоянно жалующейся на усталость в ногах — pes planus[25]. Вот и сегодня она радостно замахала, увидев ее внизу, в левом проходе; однако Мария, словно бы не видя ее и вообще начисто позабыв об обычном их месте в средних рядах (откуда можно и операции видеть, и от шуточек профессора укрыться за спинами), начала пробиваться совсем в другой, куда выше расположенный ряд, где за набросанными на барьер пальто и шляпами Агнеш обнаружила острый и (как показалось ей в этот момент) ехидный профиль Ветеши, который как четверокурсник слушал хирургию вместе с ними. Лишь устроившись с благодарным, счастливым смехом (так смеяться умела только Мария) среди груд верхней одежды, она обвела глазами нижние ряды амфитеатра и, обнаружив Агнеш на привычном их месте, изобразила лицом и руками, что, увы, к огромному сожалению, не сможет уже к ней пробиться сквозь становящуюся все более плотной толпу. Агнеш улыбнулась и покивала, но почувствовала, что пантомима эта обидна ей, особенно потому, что как раз в этот момент под хищным носом у Ветеши мелькнула улыбка, в которой Агнеш увидела — без всяких, может быть, оснований — язвительную насмешку. На самом деле завидовать Марии и ее счастью причин вовсе не было, тем более в эти дни, когда у Агнеш была несравнимо большая радость; и все же она несколько раз ловила себя на том, что взгляд ее с профессора, перечисляющего, объединив их большой фигурной скобкой, показания к трахеотомии, соскальзывает на сияющее лицо Марии, по которому пробегают волны восторга, уходящие куда-то в прическу и, очевидно, там остающиеся. На второй половине лекции была показана операция: какому-то отчаянному курильщику отнимали ногу до колена, и в тот момент, когда хирургическая пила коснулась кости и аудитория — по древнему обычаю медиков — принялась старательно кашлять, а больной, находясь в полусидячей позе и подняв гиеноподобным движением голову, издал звук, похожий на хохот, глаза Агнеш снова остановились на лице Марии. Оно выражало сейчас ужас и сострадание — но не то сострадание, что в такой момент закономерно появляется на лице у много всего повидавших студентов, а преувеличенное, актерское, в котором женщина демонстрирует сидящему рядом с ней прошедшему бури и невзгоды мужчине свою чувствительную душу. Агнеш могла бы поклясться, что Мария в эту минуту самозабвенной игры тискает Ветеши руку, а то, может быть, и колено. Агнеш стало противно и горько — даже не из-за этой дуры Марии, не из-за Ветеши, считающего себя великим сердцеедом, а она сама даже не знала, из-за чего: из-за странных этих вещей, которые люди называют дружбой, любовью, или из-за безграничного своего одиночества, сознание которого вдруг навалилось на нее со всей силой. Напрасно она ругала себя, напрасно старалась избавиться от этих досадных мелочных чувств, не имевших ни малейшего права на существование рядом с тем огромным, что переполняло ее сердце, — обида весь день ощущалась в душе, как заноза (на патологии она уже сама постаралась спрятаться от Марии), и вечером она опять шла от Октогона пешком, чтобы, тихо шагая в вечерней мгле, растворить свербящую досаду, которую она не хотела признать за ревность, в той большой полученной в подарок от судьбы радости, которая представлялась теперь совсем безоблачной.
И вот едва она добралась домой, едва успела сбросить пальто и вязаную шапочку на камышовое кресло в прихожей, как в дверь позвонили. Уже сам звонок был подозрителен: два коротких сигнала, две точки по азбуке Морзе — я это, я, — которые словно принимали в расчет и ее ухо (часто бывало, что, занимаясь за своим столом в кабинете, она вдруг обнаруживала, что у матери в гостях Лацкович; она даже не замечала, как он приходил). Агнеш открыла; за дверью действительно был Лацкович. Чувство, которое охватило ее, когда они стояли там несколько мгновений лицом к лицу, она с тех пор не могла забыть: не то чтобы оно по ней полыхнуло молнией — она словно сама стала молнией, целиком, от макушки до кончиков пальцев ног. И сполох этот ощутила каждым нервом не только она — отблеск его отразился и в испуганных глазах Лацковича. «Он, кажется, думает, я его сейчас стукну», — мелькнуло у нее в голове, пока она, держа дверь, загораживала собой проход, так что Лацкович, переводя взгляд с лица ее на комнату за ее спиной и обратно, не мог протиснуться дальше — разве что оттолкнув ее. Голос матери разрядил обстановку: услышав звонок, означавший островок радости в ее горькой жизни, она поспешила навстречу из спальни; о ее появлении Агнеш догадалась не по тихим шагам, а по обращенному куда-то за ее спину взгляду гостя. «Это вы, Лацко?» — обратилась госпожа Кертес через плечо дочери к опешившему гостю; тот, воспользовавшись моментом, когда Агнеш обернулась к матери, проскользнул мимо нее в прихожую. «Я на минуточку к вам заглянул, — оправдывался он, будто и не собираясь проходить дальше. — Нитки я тут принес, про которые в прошлый раз говорили». И он, порывшись в кармане длинной, до щиколоток, шинели, вытащил клубок в фирменной упаковке. Тем временем к нему вернулось присутствие духа. «Вы так тут стояли — просто ангел с мечом огненным, — обернулся он к Агнеш, прикрывая рукой рот. — Я уж думал, по лестнице мне бежать или прямо через перила…» Затем, как человек многоопытный, понимающий, что даже друзья твои не всегда обязаны быть в превосходном расположении духа, а потому не стоит и огорчаться из-за таких пустяков, он вдруг стал серьезен и даже изменил позу, переходя на рыцарственный, исполненный достоинства тон. «А вообще — поздравляю. Не имел еще случая поприветствовать вас после радостного события. Могу представить, какое ликование было в доме Кертесов…» Он произнес это столь естественным и серьезно-уважительным тоном, что даже Агнеш не могла уловить в его глазах, когда он упомянул про «радостное событие», ни искры иронии. Она взглянула на мать. Та, очевидно, спала перед этим (в последнее время Агнеш частенько видела ее днем лежащей в углу дивана, в гнездышке из подушек и шалей; отпечаток красного вязаного платка и сейчас еще виден был у нее на щеке); когда она вышла, теплота сна на ее лице перешла в легкую краску радостного удивления, в мольбу о сочувствии и в благодарность посетителю, чью растерянность она заметила и очень хотела бы вознаградить его за самообладание и тактичность. В обращенных к Агнеш серых глазах ее тоже было не раздражение, а скорее мольба и недоумение. «Как мне сообщила моя личная агентура, — обратился Лацкович сразу к обеим дамам, — начальник лагеря, подполковник Кирхнер, учился в школе вместе с моим стариком. Так что если возникнут какие-то трудности с размещением или с проверкой, прошу незамедлительно и без всяких стеснений обращаться к вашему покорнейшему слуге. Уверенности ради, — обратился он уже к одной госпоже Кертес, — батюшку моего я уже уговорил черкнуть однокашнику письмецо. — И теперь уже к Агнеш: — Пенсионеров надо время от времени шевелить, хотя бы для того, чтобы не заржавели». Агнеш настолько поражена была новой метаморфозой Лацковича, который после того, как играл перед ней роль опекуна, потом чуть ли не отчима, намерен теперь вращаться в их доме как покровитель отца, что несколько слов, которые ей удалось выдавить из себя («Это было бы хорошо»), может быть, оттого, что она хотела вместить в них столько насмешки, презрения, отвращения, сколько может там уместиться, прозвучали странным, смятым клубком звуков («Словно у меня ангина»); несуразные, задушенные эти слова стояли в ушах у нее и тогда, когда, схватив в охапку сумку и пальто, она ушла в свою комнату и села, почти упала, обхватив колени ладонями, на звякнувший всеми своими тарелками диван.
От волнения она не могла думать; но не было никаких сомнений: дерзкое это «явление» — первое в череде новых несчастий, которые она не в силах предотвратить. Приходом Лацковича эти двое словно в открытую заявили о том, что они придумали и обсудили в каком-то кафе или в номере какой-то гостиницы. Это должно было означать примерно следующее: оба они ни в чем не повинны и у них нет никаких причин в связи с ожидающимся радостным событием что-то менять в чистых отношениях между ними, строящихся лишь на взаимной готовности услужить. Нет, Лацкович пускай реже, но по-прежнему должен бывать у них; если бы он вдруг исчез с горизонта, как раз это и вызвало бы подозрения. А вдруг это и в самом деле так! — снова пробудилась в Агнеш надежда. Что, если за нынешним его визитом, за наглым навязыванием протекции действительно не кроется никакого циничного заговора, а лишь бескорыстная готовность помочь… Надежды этой, которую она тут же отбросила, хватило только на то, чтобы выслушать — выслушать пассивно, словно в забытьи, боясь беспричинно обидеть, может быть, ни в чем не повинного человека, — слова матери. Лацкович в самом деле ушел очень скоро, не пробыв и десяти минут, и мать, походив немного по комнатам, пришла к ней. Агнеш ждала, что мать будет ей выговаривать за дерзкое поведение. Но она выглядела тихой, умиротворенной, в ней была разлита своеобразная кроткая нерешительность, придававшая ее лицу, губам, привыкшим складываться для резких, прямых слов, некую необычную, чуть ли не ханжескую умильность. «Это хорошо, — сказала она, — что отец Лацковича знаком с подполковником… Я тебе не рассказывала еще: говорят, проверка будет довольно строгая, достаточно кому-нибудь из товарищей по плену что-то про человека сказать — и его не восстановят в правах». — «Кто это говорит?» — спросила Агнеш, и в вопросе ее было: «Лацкович?» — «Если хочешь знать, — вспыхнула госпожа Кертес, — то же самое мне в военном министерстве сказали. Если он не вступал в партию, не служил Советам…» — «Тогда восстановят», — закончила за нее Агнеш, которая даже мысли не допускала, что после госпиталя, тюрьмы, костылей вопрос о реабилитации отца может стать вопросом какого-то обсуждения. «А ты совершенно уверена, что не служил? Я тебе вот что скажу: это вовсе не так уж бесспорно. Разве он не писал, что в Петроград прибыл как начальник транспорта военнопленных? А что он делал в здании австро-венгерского посольства? Ты думаешь, там сейчас что — баня? В таких зданиях учреждения размещают». Агнеш чувствовала: довод этот придуман не матерью, видно, письмо отца она показала и Лацковичу, обсудив его с ним. В то же время такой оборот слегка ее озадачил. «Не восстановят — тоже не умрем», — сказала она упрямо, и в упрямстве ее звучало: если то, как пройдет проверка, зависит от Лацковича, так пускай лучше в самом деле не восстановят. «Чтобы его из преподавателей выставили? — опять взвилась госпожа Кертес. — Двадцать пять лет службы чтобы пропали?.. Даже тридцать два: каждый военный год за два считается… Когда до пенсии всего три года осталось. Тебе, конечно, это все мелочи, а я на какие шиши тебя буду учить? Если даже на его несчастное жалованье нельзя будет рассчитывать? — И поскольку Агнеш, словно воды в рот набрав, молчала — сраженная, как казалось матери, ее аргументами, — госпожа Кертес бросила ей обиженным и назидательным тоном: — Так что не стоило бы тебе нос задирать. Нынче любой помощи нужно радоваться. Особенно если она идет от чистого сердца». И, бросив на дочь победный, полный укора взгляд, удалилась на свою — более надежную — территорию.
С этого часа тревожные думы, связанные с Лацковичем, вобрали в себя, словно большая река ручейки, остальные заботы и страхи, в том числе даже мысли о кровоизлияниях на мозговых оболочках. К тому же чуть ли не все вокруг, как сговорившись, принялись терзать ее Лацковичем. В середине дня, между обедом в университетской столовке и лекцией по фармакологии, у Агнеш был пустой час, который, если не нужно было срочно переписывать какие-нибудь конспекты, она проводила, гуляя по улочкам возле проспекта Юллёи, в саду около клиник или еще дальше — под бюстами возле Музея, перед витринами центра. Во время одной из таких прогулок к ней подошел Иван Ветеши. Они столкнулись на углу улицы Кёзтелек, где была столовая медфака. Обед нынче был даже хуже обычного, да и студентов набилось больше; Агнеш долго разглядывала чешуйки перхоти на голове какого-то рано лысеющего коллеги, торопливо заглатывающего макароны с вареньем из шиповника, пока дежурный в грязно-зеленом халате — тоже как раз третьекурсник — не подал ей наконец через плечо ожидающего ее места студента тарелку тепловатого мутного фасолевого супа, где о фасоли напоминали лишь редкие клочья фасолевых шкурок. «Интересно, на какое сравнение вдохновила бы эта штука господина профессора Генерзиха?» — сказал, обернувшись к дежурному, сидящий рядом с Агнеш и постоянно задевающий ее правый локоть коллега. Но суп съесть оказалось куда легче, чем макароны, в чьей альбиносовой белизне явно скрывался симптом какого-то органического недостатка — наверное, в них просто начисто отсутствовало яйцо, — к тому же они были безнадежно переварены; шутник-сосед в виде эксперимента поднял на вилке всю слипшуюся массу, изучая коэффициент обрыва сморщенных, трясущихся макаронин. Агнеш пробовала распределить по поверхности макарон терпкое шиповниковое варенье, которое в большом количестве сводило рот, а так, размазанное, довольно успешно перебивало вкус вареного теста. Но как ни экономно она обходилась с ложкой варенья, на все макароны его не хватило, и, пока она дожевывала второе, перед ней стоял кошмар ее детства — молочная лапша: это в ней были такие вот размокшие, безжизненные нити. Прежде они хотя бы вместе с Марией смеялись над остротами коллег, вместе выходили в пропитанный кухонными испарениями туман улицы Кёзтелек, самозабвенным хохотом вымывая изо рта вкус обеда; а теперь Мария даже в столовую ходит в другое время, и обстоятельство это лишь прочнее удерживало скверный вкус макарон во рту Агнеш, в тягучих, клейких выделениях слюнных желез, с отвращением делающих свою работу.
«Чем это мы так опечалены? Обед был невкусен?» — обратился к ней Ветеши, который как уже почти врач питался в больнице. С некоторых пор он даже с глазу на глаз разговаривал с ней насмешливо и враждебно. Подобно Лацковичу, он хотел доказать — самому себе или Агнеш, — что, если женщина не принимает его ухаживаний, стало быть, у нее что-то не так с психикой или физиологией. Однако сейчас он, как видно, настроен был относительно дружелюбно; может быть, ему стало немного жаль бредущую по краю тротуара Агнеш, которая, подсознательно дав увлечь себя детским воспоминаниям, искала какое-то развлечение, ступая на четные плитки и избегая ступать на нечетные. Пожалуй, у Ветеши даже мелькнула мысль, что это из-за него бредет Агнеш с таким подавленным видом, что наказание, которому он ее подверг, уже оказало должное действие, и решил, проявив снисходительность, прощупать, каков результат. Агнеш взглянула на него… Странной конструкции было лицо у Ветеши: большой энергичный нос, под ним тонкие, желчные, капризные губы, выражавшие самовлюбленность и высокомерие; глаза же большие и улыбчивые, словно созданные для веселой шутки, для ласковой снисходительности. Агнеш однажды, когда они еще целовались, спросила у него: «У вас мать, наверное, очень живая, добрая, с юмором, правда?» — «Да». — «А отец — деспот…» — «Как я. А зачем это вам?» Агнеш ему не ответила. Однако вот в такие моменты, когда в лице его брали верх исполненные улыбчивой доброты глаза и снисходительный отблеск падал даже на губы, Ветеши удивительно располагал к себе; а сейчас, когда она так давно не любовалась этим его выражением, он казался ей особенно мил. «Поскольку вы уже отобедавши и диетсестра, надо думать, к вам относится с прежним расположением, — ответила Агнеш в том же принятом у студентов игриво-насмешливом тоне, — то ваш желудок, я думаю, испытывает самое искреннее презрение к моему, впавшему в меланхолию от водянистых макарон». — «Если это и так, он лишь подражает вашим более благородным органам. Но все равно мой желудок великодушнее вашего сердца. Чтобы не быть голословным, приглашаю вас на пирожное».
Идея посидеть за задернутыми занавесями кондитерской, болтая в том же полуприятельском-полукокетливом стиле, в самом деле выглядела привлекательной. Если бы возле губ Ветеши исчезла эта едва заметная презрительная складка и дружелюбный взгляд посерьезнел, кто знает, может быть, Агнеш рассказала бы и про отца, и про скорбут, и, как-нибудь косвенно, даже про то, что сильнее всего угнетало ей душу («У моей хорошей знакомой мать еще в лучших своих годах, а теперь как снег на голову на нее свалился муж, который еле выкарабкался из скорбута»). Но инерция недоверия взяла свое; пожалуй, и Мария ей вспомнилась, — во всяком случае, Агнеш отвергла предложение Ветеши. «Боюсь, мне сейчас пирожное не поможет. И как ни рискованно обижать в вас хирурга, однако ваш блицдиагноз на сей раз оказался неправильным: вовсе не из-за макарон с вареньем я такая печальная». И из-под вязаной шапочки бросила на коллегу короткий, не без ехидства взгляд. Собственно, Агнеш хотела только отказ свой смягчить небольшим кокетством; однако Ветеши расценил этот ответ иначе. Быстрый, изучающий взгляд: из-за меня? Еще один, более глубокий: а не смеется ли она надо мной? И, будучи крайне тщеславным, автоматически сделал выпад, защищаясь от второго предположения. «Уж не любовная ли тоска? — сказал он. — Правда, вам это так же не свойственно, как и экстаз, — пустил он в ход свою теорию о биологической холодности Агнеш. — Я, кстати, слышал на ваш счет нечто совершенно противоположное», — вспомнил он вдруг нечто, очень его устраивающее. «Что же?» — взглянула на него Агнеш. «Что вас посетила любовная радость». — «Меня?» — удивилась Агнеш.
Она подумала было, что он что-то прослышал про Халми. Негромкий смешок застрял на ее блеснувших белых зубах. «Ну да, ведь вернулся ваш идеал», — ответил неулыбчивый рот. Агнеш только тут догадалась, что Ветеши говорит про отца. В тот же самый момент в душе ее что-то угасло, словно лопнула некая нить, из которой вывязывался узор шутливого разговора с Ветеши. Она не только знала уже, от кого слышал он об отце, но и — отзвуком какой беседы были эти слова, которые сорвались с желчных губ Ветеши, как только он решил ее уязвить. Ивану она про отца ни разу не говорила. Была в ней все же какая-то инстинктивная осторожность, мешавшая ей позволить этому милому, но опасному человеку заглянуть в самые сокровенные уголки ее сердца. Слова эти могли исходить только от Марии. В Марии есть эта склонность: даже в нормальном видеть необычное, а то и, если есть такая возможность, извращение, патологию. У младшего брата ее — нездоровая тяга к матери; отец, который часто встает по ночам, лунатик. Она и ей как-то сказала: «Слушай, ты так говоришь об отце, что это прямо уже любовное влечение». А счастливые слезы Агнеш там, возле деканата, пригодились им — оскорбленному в своем мужском самолюбии Ветеши и Марии, торгующей за любовь ее тайнами, — чтобы состряпать свою теорию. «В Агнеш нет настоящей женственности. Может, с гормонами у нее не вполне нормально?» — говорит, например, Ветеши. «Да-да, любовь к отцу, обожание — для нее некий суррогат. Представляете, ведь она его семь лет не видела», — вторит ему Мария. А тем временем что ей, Агнеш, приходится переживать, какими терзаться страхами — еще до того, как она сможет обнять несчастного чотского узника. Вот так всегда соотносится болтовня окружающих нас людей, даже самых близких, с тем, что творится у нас в сердце.
«Ну, всего хорошего, лучше я вместо кондитерской в библиотеку зайду», — сказала Агнеш, бросая на Ветеши взгляд, в котором тот мог увидеть лишь опущенные синевато-серые жалюзи. Но, как оказалось, у Ветеши это была не последняя карта. «А вы знаете, что я приглашен к вам в гости?» — глянул он ей в лицо снова, расплывшись в улыбке и задерживая ее руку без перчатки в своей руке. «Да?» — смотрела Агнеш на ласковую и жестокую складку в углах его губ. «На днях в Будапеште был мой отец, он в таких случаях водит нас с братом к «Апостолам»[26]. Вижу, за соседним столиком сидит дама. Я все посматриваю на нее: такое ощущение, что я ее откуда-то знаю. Отец посылает меня звонить; она как раз стоит там, возле гардероба, ждет, когда ей подадут пальто. Я уже совершенно уверен, что мы знакомы, — может, это кто-нибудь из моих больных? — и в смущении здороваюсь с ней. А она уже давно поняла, кто я такой, и смеется, хотя сама тоже смущена немного. «Почему вы к нам не заходите? Я все время говорю Агнеш, чтобы она вас пригласила». Тут до меня доходит: это ж ваша матушка. Помните, мы однажды встретили ее на проспекте Андрашши. Конечно, я уже не смог воспользоваться приглашением. Вернее, не успел сказать, что ведь требуется еще согласие третьего лица: пальто уже выволокли из толпы, и я пошел к телефонной будке. Собственно, почему вы мне даже в прежние времена не разрешали к вам заходить?»
Агнеш молча смотрела на юношу, не зная, что в ней сейчас сильнее: чувство стыда или грусть. Едва она услышала про «Апостолов» — любимый ресторан родителей, особенно матери, куда и ее, Агнеш, иногда приводили после удачной покупки какой-нибудь матроски и заказывали ей соленый рогалик или анчоусы, — у нее тут же возникло нехорошее предчувствие. Дама за соседним столиком — Агнеш сразу поняла это — была не одна; рядом с ней сидел, очевидно, Лацкович. Что могли наблюдать там эти насмешливые глаза, какие выражения лиц и жесты? Ветеши видел их так, как Агнеш не видела никогда. Но она могла нарисовать в воображении всю картину: соприкасающиеся локти, размягченное, почти девичье лицо матери над пивом, которое так быстро ударяет ей в голову. А пальто, вытащенное из толпы, заставило Агнеш видеть не мать, а по-рыцарски услужливого Лацковича. И Ветеши, очевидно, догадывается обо всем. Наверное, потому он и заговорил с нею нынче так многозначительно: если у тебя такая мать, с тобой есть смысл быть настойчивым. Все это вместе было так страшно, так невыносимо, ведь она Ветеши почти любила. И так грустно: теперь, когда он рассказал ей эту историю, она не должна, не имеет права его любить. «Я не видела в этом смысла», — ответила она тихо, вся красная от стыда. Но Ветеши уже не мог остановиться. У Агнеш все было написано на лице, и она была так трогательна, даже прелестна, а главное — это особенно ему нравилось, — так беспомощна в своем унижении, что жестокость, которая у некоторых людей родная сестра сладострастия, уже не могла держать себя в рамках: она должна была броситься на жертву, как злая собака бросается на бегущего. «А у вас, значит, брат есть? Я не знал», — сказал Ветеши, когда Агнеш новым рукопожатием дала знать, что теперь ей действительно надо идти, и побежала через проспект Юллёи, к библиотеке; Ветеши еще постоял, смакуя донесшийся с мостовой ответ: «Нет, нету» — и глядя вслед взбегающей по ступенькам фигурке с тем же ощущением, с каким он школьником в Фехерваре вместе с младшим братом выкрикивал вслед девочкам, спешащим домой в темноте, нецензурные слова.
На следующий день необычное для ноября ясное небо и солнечный свет, за отсутствием густых крон и летних нарядов пытавшийся играть бликами в непросохших лужах на асфальте, на новых водосточных трубах и ножнах у офицеров, поманили Агнеш дальше, к улице Ваци. Одеваясь чуть ли не затрапезно, она, однако, любила порой поглазеть на роскошь витрин, итальянскую суету улиц, нарядных дам, носящих все более короткие юбки и даже в это столь неблагоприятное время года находящих способ — с помощью шарфов, румян, шляп с перьями — походить на экзотических птиц. На углу улицы Лайоша Кошута она заметила дядю Тони: подобно легкому мячику в пестром потоке, он плыл в сторону набережных Дуная. Она окликнула его и даже несколько шагов пробежала, пока веселый плотный человек уловил в почти по-весеннему оживленном гаме свое имя, обвел вокруг слегка близорукими, выпуклыми глазами и, откинув назад голову и широко разведя руки, изобразил крайнее удивление и несказанную радость по случаю такой встречи. «А я как раз про тебя думал», — объявил дядя Тони; прозвучало это довольно-таки неубедительно, потому что дяди Тони, гуляя по улице, никак не производил впечатления человека, о чем-то или о ком-то думающего: весь его вид говорил о том, что он просто всем существом наслаждается гармоничной, граничащей с танцем работой мышц, движением своего полного, но послушного тела. У дяди Тони, кроме хорошей погоды и многолюдной улицы, было немало причин прекрасно чувствовать себя в этом мире: как начальник железнодорожной стражи, он был затянут в военную униформу, которую шил в портновской фирме, оставшейся еще от добрых старых времен, когда люди шли в армию добровольцами; сбегающая наискось через грудь портупея, словно парадная упряжь, подчеркивала его мужскую силу; сверх того, у него были и деньги (вернее, источник денежных средств, так как ценность денег в его глазах заключалась в возможности их истратить или раздарить): в те времена на станцию прибывали не только нищие офицеры из плена, но и соотечественники из-за океана, застрявшие там из-за войны дольше, чем собирались, и привозившие в страну, в виде пачек бумажных листков с портретами Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна, такую валюту, которая, несмотря на манипуляции почему-то считавшегося гениальным министра финансов, ценилась с каждым днем все дороже. Дядя Тони с помощью своих проводников и стражников доставлял стосковавшихся по родине венгров в свой кабинет и предлагал им за их доллары гораздо бо́льшую сумму, чем та, что они могли получить по официальному курсу; естественно, сам он тут выступал как посредник: валюта уходила к одному его родственнику-ростовщику. Эта довольно простая, но доходная операция, которая никому не приносила вреда (более того, дядя Тони охотно делился деньгами со многими бедняками-железнодорожниками), обеспечивала ему постоянное прекрасное самочувствие и позволяла нежно любить весь человеческий род, что проявилось и в том полном дружелюбия жесте, каким он подхватил Агнеш в ее сером суконном пальтишке под руку. «Берегись, дядя Тони, скомпрометирую я тебя», — весело предупредила его Агнеш, которая к родителям обращалась на «вы» и с одним только дядей Тони была по-свойски на «ты», да и словечко «дядя» стала добавлять к его имени совсем недавно: в детстве, когда он школьником жил у них, готовясь к переэкзаменовке (и тетя Кати из-за его озорства даже вынуждена была однажды облить его новые брюки водой из шланга), имя ему было просто Тони. «Что за разговор, — запротестовал дядя Тони. — Скорей уж наоборот — поддержишь мое доброе имя: извольте проверить, я с племянницей был». — «О, алиби просто великолепное, — засмеялась Агнеш. — Всем понятно, что если ты средь бела дня идешь по улице Лайоша Кошута под руку с молодой дамой, то это может быть только племянница. Да еще это старенькое пальтишко». — «Согласен и на такой вариант, — ответил дядя Тони и, не отпуская ее локтя, осмотрел Агнеш с головы до ног. — Обаяние молодости плюс личность — это, брат… Но вообще-то ты в самом деле могла бы купить себе приличную шляпу. Пошли, я приглашаю тебя в шляпный салон… Нет, в самом деле, племяшка. На полном серьезе!» — тащил он за собой упирающуюся и смеющуюся Агнеш.
«А что ты скажешь насчет дяди Яни! — перескочили вдруг его мысли с шапочки Агнеш на зятя; заодно он сообразил, что еще не видел Агнеш с тех пор, как пришла весть об ее отце. — На днях, как ты думаешь, кого я встречаю нос к носу на перроне? Тюкрёшского дядю Дёрдя. Едет из Чота, от Яни, и сразу пересаживается на капошварский поезд: так ему удобней, чем через Дёр и Уйдомбовар». — «Удалось ему поговорить с отцом?» — спросила Агнеш, и сердце ее забилось под сильным, теплым локтем дяди. «Не тот уже, говорит, старик, — продолжал он, не обращая внимания на вопрос. — Еще бы: сколько лет с той поры прошло, когда я за ним аж до самой Хомонны ездил?» — спросил он, словно веселая его интонация могла сгладить и растворить неумолимо точные даты летосчисления: памятное рождество 1914-го, когда зятя его из Польши перебросили в Карпаты, и нынешний, 1921-й год. «А что говорит дядя Дёрдь, как отец ему показался? — снова спросила Агнеш с замирающим сердцем. — Духом он… достаточно бодр?» — «Племяшка, я же всего минуту говорил с дядей Дёрдем, как раз влетел отдельный из Солнока с господином регентом. Но мне кажется, да… Ходить, говорит, ему еще трудновато».
«Но уж если мы начали про это, — повернулся вдруг к ней дядя Тони, как будто решив не дать ей слишком уж долго радоваться, — так хочу я тебе сказать кое-что. Ты в конце концов взрослая женщина, почти врач, тебе и по профессии пора начинать в таких вещах разбираться…» По этому предисловию Агнеш поняла: дядя Тони будет говорить о матери и о Лацковиче, но в какой форме он сделает это, она и представить себе не могла, а потому лишь втянула голову в плечи, словно ждала, что какая-нибудь из кариатид на улице Кронпринца не преминет уронить балкон ей на голову. Задача перед дядей Тони стояла нелегкая: ему, не отличающемуся ни качествами блюстителя нравственности, ни тем более склонностью быть таковым, предстояло привлечь внимание Агнеш к нравственному облику старшей своей сестры; эту задачу он решил так же легко, как решал все задачи в своей жизни. «Ничего не скажу, — начал он, — Лацкович этот — парень хороший, веселый. Я порадовался, когда узнал, что он за Бёжике Кертес ухаживает. Но ведь, в конце концов, он сопляк, и мне неприятно, что его поминают вместе с моей сестрой. Сколько раз бывало: мне говорят, что Ирма была на вокзале, а ко мне даже не заглянула, только с Лацковичем встречалась. Скажем, о том, что старина Кертес возвращается, мне тоже пришлось от Лацковича узнать: она, видишь ли, мне об этом через него сообщила. Извини, но какой-нибудь проводник, хоть и простой мужик, все ж таки мнение тоже свое имеет. И уж кто-нибудь да найдется, нашепчет старине Яни, что ждет его дома. Бедняга спешит на родину, к семье, надеется наконец-то пожить спокойно, а тут его ошарашат. Я бы ей сказал, вот ей-богу сказал бы, — побожился он для уверенности, потому что сам чувствовал, какой невероятной смелости потребовал бы от него такой разговор. — Но ты знаешь ведь, с Лили (это была его жена) они на ножах, Ирма глотку перегрызет этому ангелу (собственное легкомыслие дядя Тони компенсировал глубочайшим, чуть ли не набожным преклонением перед женой): решит, это она слух разнесла по родне, когда в Тюкрёш за жиром ездила. А ведь если честно, так тут и сплетничать ни к чему. У Ирмы — это-то само по себе вовсе не недостаток еще — не такая натура, чтобы дела свои в тайне держать».
Агнеш молча смотрела вниз, на маленькие дядины ноги в лаковых туфлях, и время от времени поднимала тоскливый взгляд на его лицо. Что ж, отныне так и будет, каждый непременно захочет поговорить с ней о матери и о ее поведении? До сих пор было по крайней мере тихо, хоть посторонние люди раны не бередили. А теперь, под предлогом защиты «бедного старины Яни», вся родня превратится в совещательный орган. Когда она во второй или в третий раз подняла на дядю глаза, тому стало ее чуть-чуть жаль. «Надеюсь, я не оскорбил тебя в лучших чувствах, — сказал он, накрыв мягкой рукой пальцы Агнеш, лежащие у него на локте. — Но я так считаю: тут с ней только ты можешь поговорить. И поскорее, пока старик Яни еще не приехал». Потом Агнеш сама удивлялась — не тому, что она говорила, а своему искреннему, умоляющему тону: «Не могу, дядя Тони, я в это поверить. Живу рядом с ней, а поверить не могу». Хотя она очень даже могла поверить, даже убеждена была в том, что все это правда, и лишь изредка у нее появлялось беспричинное сомнение, что, может, весь этот ужас привиделся ей, померещился, — так иной раз, проснувшись внезапно глубокой ночью, думаешь, что тот, кого ты недавно утратил, совсем и не умер. Словно, признав связь матери с Лацковичем как неоспоримый факт, она совершала что-то непоправимое. И действительно: то, что случилось, окончательно станет фактом именно в тот момент, когда скажут: вон и Агнеш все знает. «Извини меня, но я, в общем-то, ничего не знаю. И не хочу делать вид, будто что-то знаю наверняка, — дал отбой, отступая перед девичьей наивностью и доверчивостью, дядя Тони. — В таких делах иногда такие сюрпризы бывают, хоть pro, хоть contra[27], каких и нарочно не придумать. Дай бог, чтобы ты была права… Вы все еще в одной комнате спите?» — спросил он неожиданно, словно то, что дочь-девственница и подозреваемая в грехе мать проводят ночь рядом друг с другом, могло изменить его мнение.
Вечером Агнеш пришла домой с твердой решимостью поговорить с матерью. Но госпожи Кертес не было дома. Агнеш вспомнила: мать собиралась в театр, на свою любимую пьесу — «Нору» Ибсена с Ирен Варшани[28]. Некоторое время Агнеш терзала бедную свою голову фармакологией, пытаясь что-то понять про лекарства, действующие на симпатические нервные окончания, потом материным романом, а госпожи Кертес все не было: видимо, после театра они еще куда-то зашли. Насчет того, что историю духовного пробуждения норвежской женщины, увидевшей ограниченность своего мужа, мать пойдет смотреть не одна, у Агнеш не было ни малейших сомнений, как не сомневалась она и в том, что в эти минуты, пока, стискивая воротничок своей блузки, она пытается сохранить свою решимость, мать сидит бок о бок с услужливо-рыцарственным Лацковичем, у которого только черных кожистых крыльев за плечами недостает, сидит примерно за таким же «столиком», за каким видел ее Иван Ветеши. Достаточно Агнеш было представить тихий поворот ключа в дверном замке, осторожные, но каким-то непонятным образом выдающие приподнятое настроение шаги в одной, в другой комнате, как ее охватило неудержимое раздражение, почти омерзение; она быстро разделась и погасила на ночном столике лампу. Нет, в таком лихорадочном, взвинченном состоянии спокойно этот вопрос обсудить невозможно. И хотя мать спустя несколько минут в самом деле пришла домой, шурша в темноте платьем, Агнеш сделала вид, будто спит, и лишь быстро перевернулась на другой бок от розового света включенного ночника.
А на другой день мать встретила ее такой новостью, которая, прозвучав, как последний удар гонга, уже не позволила Агнеш отвлечься ни на что другое. «Заходил Лацкович, — совершенно непринужденно произнесла мать злополучное имя. — У него точные сведения от родственника (начальник лагеря стал уже родственником), что офицеров из Чота отпустят на три дня раньше срока. Вокзал уже украшают. На перроне строят трибуну, кто-то из министров их приедет приветствовать…» Весть в самом деле была неожиданной: только позавчера они получили от отца письмо, где он писал, что увидятся они, видимо, через пять-шесть дней. «Устроители говорят, такой встречи, как эта, еще не бывало», — продолжала госпожа Кертес. Красочная церемония, знамена, гимн, бегущие к вагонам родственники — картина эта, расцвеченная живым ее воображением, до того разбередила ей душу, что она даже говорила чуть-чуть в нос, словно борясь с подступающими слезами; представляя какую-нибудь трогательную сцену, она способна была умилиться сильнее, чем если бы наблюдала ее воочию. «Они такое внимание заслужили: столько, бедные, настрадались», — добавила она, и по глазам видно было, что в этот момент муж для нее — не воскресшее некстати, совершенно ненужное ей прошлое, не клубок проблем, который как-то надо теперь распутывать, а звено, связывающее ее, госпожу Кертес, с близящимися торжествами. «Вот сейчас, сейчас начинай!» — приказала себе Агнеш, немного справившись с той смесью ликованья и испуга, которую вызвала у нее новость. «Мне кажется, — сказала она серьезно, — их, несчастных, не очень-то интересует, каков будет оркестр и что за министр будет говорить речь». — «А что их интересует?» — спросила госпожа Кертес с некоторой растерянностью, но и с боевой готовностью в голосе. Она не знала еще, что собирается сказать Агнеш, но развевающиеся в ее воображении знамена внезапно свернулись и безжизненно повисли. «Семья… Как она их встретит», — мрачно ответила Агнеш. «А как она должна их встретить? — снова спросила госпожа Кертес, чтобы выиграть время. — Канканом, что ли?» — «Я могу представить, что найдутся пленные, которые запросятся через неделю или через месяц обратно в лагерь. У человека можно отнять последнюю фотокарточку, обручальное кольцо — но можно отнять и гораздо больше…» Это был намек на последнее письмо, в котором отец написал, что до тюрьмы он хранил их фотографию, а потом ее отняли вместе с кольцом. «Вижу, ты опять отца хочешь от меня защищать», — нащупала госпожа Кертес в словах Агнеш то, на что можно было обидеться, перепрыгнув при этом сразу через десяток ступеней, как это бывает у близко знающих друг друга людей. «Не только от вас — ото всех нас», — ответила Агнеш, которую агрессивный тон матери и связанный с ним детский рефлекс заставили отступить немного. «Ты, я вижу, все опасаешься, — использовала госпожа Кертес растерянность дочери, — как бы я чем-нибудь не задела чувствительное сердце твоего папочки. Ты и когда была маленькой, считала меня чудовищем, которое так и норовит съесть это бедное, беззащитное существо. А ведь ты сама читала, что он писал мне с фронта, из плена: только там он понял, чем я была для него. Вот и теперь: как он благодарен, что я барахло его сберегла; другая давно бы продала все, чтобы добыть кусок хлеба, ведь он с чем нас оставил? Ты вон меня за письмо, что я насчет тюкрёшского дома ему послала, чуть не съела: бедняга приехать еще не успел, а я к нему с такими грубыми, меркантильными делами. И видишь: не умер же. (Кертес в самом деле скорее хвалил жену за то, что она так болеет душой за их достояние; он лишь отрицал, что брат к нему приезжал именно с этим.) Наоборот, очень даже был доволен… Конечно, братца своего он выдавать не желает, родня ему всегда дороже семьи была. Что ты его от меня защищаешь? В чем я перед ним провинилась? Что дом пришлось продать?» — «Вы же знаете, что речь вовсе не о доме», — остановила Агнеш готовый хлынуть поток аргументов в пользу продажи дома, хотя нельзя сказать, что наступательный пыл матери совсем не повлиял на ее решимость. Она, конечно, тоже ощущала в письмах отца, присланных с фронта, повышенную тактичность — как-никак их разделяли тысячи километров — и стратегию хорошего учителя, который старается воспитывать похвалой и (как сейчас, в этой истории с поездкой дяди Дёрдя), подобно осторожному врачу, по капле добавляет к ней свое несогласие и неодобрение, хотя, возможно, отец и в давние довоенные времена не принимал грубые выпады матери так близко к сердцу, как принимает их Агнеш, которая к ним подходит с высокой меркой справедливости и любви. «А о чем же? — фыркнула мать. — Ну, говори: о чем?» И так открыто и прямо посмотрела на Агнеш, что в сердитых серых глазах ее нельзя было заметить и тени каких-либо посторонних мыслей, которые могли бы заставить ее опустить или отвести взгляд. А поскольку Агнеш молчала, мать с той молниеносной интуитивной догадливостью, которая так всегда поражала Агнеш, вдруг спросила: «Ты что, у Лили была? Сознайся, была ведь!»
Агнеш только махнула рукой с досадой: «Ничего подобного, не была я у нее». Досада относилась отчасти к матери, отчасти — к себе самой. Испытующий взгляд и ход мысли, который заставил мать вспомнить про тетю Лили, доказывали, что она относится к ней, Агнеш, как к беспомощному, слепому ребенку, который сам ничего дурного о матери даже не может предположить, да собственно, тут и предполагать-то нечего, ибо отношения меж нею и Лацковичем — абсолютно чистые, честные, и если кто-нибудь что-то тут и подозревает, то это не стоит принимать во внимание; а если у Агнеш все же появились какие-то нехорошие мысли, то посеять их в душе дочери могло лишь такое злое, коварное существо, такая низкая интриганка, как эта Лили, которой госпожа Кертес помогала при обоих родах, когда собственная ее мать даже зайти к ней боялась, а теперь неблагодарная платит ей тем, что отравляет душу родной ее дочери, нашептывает ей всякие гадости, пытаясь поссорить с матерью. На себя же Агнеш досадовала за то, что вела себя как растяпа и нерешительностью своей лишь укрепила в матери убеждение в ее, Агнеш, наивности, чем дала ей возможность не то что не оправдываться, но даже с сознанием полной своей правоты нападать. Будь у Агнеш подобная связь, скажем, с Ветеши, насколько бы по-иному мать дала знать о своих подозрениях. Кроме того, Агнеш было досадно еще и по той причине, что мать оказалась почти права, хотя на мысль поговорить с матерью ее натолкнула не тетя Лили, а дядя Тони (что, в общем-то, одно и то же); поэтому, отрицая встречу с тетей Лили, Агнеш все же чувствовала себя лгуньей и ни за что не смогла бы выдерживать материн взгляд так же долго, как та выдержала ее, когда спросила: «О чем же?..» «Ну, не знаю, — взвешивала госпожа Кертес взгляд дочери. — Эти всегда готовы мне как-нибудь насолить. Только я их все равно не боюсь. Мне не нужно ни перед кем краснеть. Я-то знаю, как я жила эти семь лет». — «Сейчас не то главное, как мы жили семь лет, — окончательно сдалась Агнеш, угрюмо морща лоб, — а как мы теперь будем жить, втроем. Надо серьезно подумать, что к нам вернется больной человек. Ему нужен полный покой, чтобы он снова стал полноценным человеком, мог кормить семью. Папе еще шести или семи лет не хватает до полной пенсии, — ухватилась она за фальшивый аргумент, который, однако, она сразу почувствовала, произведет должное действие. — Чтобы их отработать, он должен полностью прийти в норму. Особенно нужно его оберегать от всяких переживаний и навязчивых мыслей. У него же тело сплошь в мелких кровоизлияниях…» И мозг тоже — чуть не добавила она, но вовремя спохватилась. Не потому, что большинство коллег отрицали, будто скорбут вызывает кровоизлияния в мозгу; нет, какой-то внутренний голос остановил ее: про мозг нужно молчать, чтобы другие — в том числе и мать — не обратили слова ее против отца. Так что туманная теория, которая в ее голове, в ее неопытном еще медицинском уме связала воедино навязчивые раздумья, перенапряжение мозга с возможными капиллярными кровоизлияниями, полностью потерялась меж двух фраз. Госпоже Кертес, однако, вполне достаточно было услышать, что организм мужа полон мелкими кровоизлияниями; после этого ей ничего не стоило поверить и в то, как опасно ему терзаться неприятными мыслями; во всяком случае, она уже гораздо мягче, с состраданием в голосе спросила: «А о чем таком у него могут быть навязчивые мысли?» — «Я со своей стороны все сделаю, чтобы таких мыслей у него не было», — ответила Агнеш, глядя в глаза матери. И этим словно со значением подчеркнула: можешь быть уверена, я пойду на все, если что-нибудь будет не так. Но мать явно уже собиралась закончить этот разговор. «Он будет рад, что попал наконец домой. Я его лучше знаю, чем ты. Много ли ты с ним была? У тебя о нем только фантазии, ничего больше».
Агнеш ушла к своим книгам с ощущением покоя после выполненной трудной задачи. Все-таки она сказала, все-таки предупредила. А ведь с матерью — с ее матерью! — сделать это было непросто! Дядя Тони ей младший брат, а все спихнул на нее, Агнеш, поберег покой тети Лили… Но когда в памяти стали всплывать обрывки минувшего разговора, у Агнеш возникло вдруг ощущение, что ничего из того, что нужно было, она не высказала, так, ходила вокруг да около, даже имя Лацковича не было ни разу произнесено; и вообще это мать нападала, а ей приходилось оправдываться, что вовсе не от матери она оберегает отца и что с тетей Лили не разговаривала. Если мать тоже подводит про себя итог разговора, то она лишний раз смогла убедиться, что дочь не смеет сказать ей ничего серьезного. Ведь когда она у нее в лоб спросила: «О чем же?» — Агнеш только голову опустила. Совсем надо было бы по-другому начать. Какая-нибудь беспардонная женщина, да что беспардонная, просто с острым язычком, вроде Адель Фухс, та сумела бы это сделать как надо. «Мне Ветеши рассказывал, что видел вас у «Апостолов». Столик — а за ним пара, как у Дюрера, что в Музее изящных искусств, двое влюбленных: старуха и юноша», — это было бы вступление. А затем: «Он спрашивал, нет ли у меня брата». То есть — видел ее с молодым человеком, который ей в сыновья годится. Затем могло бы следовать прямое, сухое предупреждение: «Не хотелось бы, чтобы отца кто-нибудь из знакомых тоже огорошил намеком: дескать, я и не знал, что у тебя сын есть. Твоя супруга так доверительно с ним сидела». Или просто: «Сейчас самый удобный момент закончить эту историю с Лацковичем». Агнеш задумалась, почему она не может вот так взять и сказать матери. Принести результат мог бы только такой разговор. Почему, когда мать спросила ее: «О чем же?» — Агнеш не бросила ей в лицо: «Вы прекрасно знаете сами: о Лацковиче». А она даже глаза опустила, чтобы мать не увидела в них, что она имеет в виду. Выходит, она пожалела мать. Но почему? Потому, что любит? Что ж, может быть, в какой-то мере и любит, но ведь отца, ради которого это следовало сделать, она любит гораздо сильнее. Нет, она пожалела — себя. Она не хочет быть грубой, позволяя срываться со своих губ желчным, жестоким словам, как это позволяет себе Ветеши, тем самым помещая себя в другой класс людей — людей, которым доставляет наслаждение жестокость и которые ей внушают лишь ужас. Да, но это ведь значит: подлым, злым, негодяям — полное раздолье! Выходит, что им позволено все, а мы даже в глаза им не смеем сказать, что о них думаем: не дай бог, тоже проявим жестокость… За убегающими куда-то в абстрактные сферы мыслями возник вдруг образ отца. Он ведь тоже был пятьдесят лет таким, как она. Отец все время оказывался стороной побежденной, и дядя Дёрдь, старший брат, да и прочие родственники-мужчины, несмотря на его образованность, слегка презирали его за неспособность справиться со своей «половиной»: уж у них-то с этим было все в порядке. Но теперь он дождался подтверждения своей правоты, дождался своей победы: правота его и победа — в ее преданности, в ее дочерней любви. Его второе письмо было уже гораздо бодрее: на хорошем чотском питании (в обед — два сытных блюда) он крепнет день ото дня, он уже не то что костыли, а и палку бросил, которая в Немецком приюте досталась ему в наследство от одного умершего грузина (разумеется, он ее тщательно продезинфицировал; на этот раз он откликнулся и на вопрос о лингвистическом своем открытии, заданный Агнеш еще в первом письме: жаль, что, когда его арестовали, он все свои записи оставил в австрийском посольстве; если бы коллега Шпадль ему не напомнил, он даже китайский свой плед бы с собой не взял — настолько был уверен, что все это лишь недоразумение: ошиблись фамилией, мало ли что… Завтра в это время он уже будет здесь, под одной крышей с ними. Собственно, это ведь самое важное — то, что он, как Одиссей, чудесным образом в конце концов возвратился домой; и еще важна ее твердая решимость своим вниманием и любовью возместить ему, столько испытавшему человеку, каким бы сломленным он ни вернулся домой, — возместить все, что он вынес и что ему придется еще вынести.
Когда должен был прибыть специальный поезд, никто не знал, поэтому, по настоянию Агнеш, с десяти утра они были уже на вокзале. На перроне действительно были вывешены знамена, а в зале как раз обивали тканью только что сколоченную трибуну. В кабинете начальника стражи их встретил Лацкович: дядя Тони отправился с дёрским скорым в Келенфёлд и будет дожидаться спецпоезда там… Спустя некоторое время появилась и Лилике (последнее время они жили тут же, в здании вокзала, в казенной квартире); потом к ним присоединились два живущих в Пеште племянника, один из них недавно вернулся с Явы, где был надсмотрщиком на чайной плантации, кроме того, он еще занимался астрологией. Лацкович время от времени убегал разузнать новости. Пока его не было, речь шла о судьбе Земли, которая, по мнению племянника с Явы, сейчас оказалась в более счастливом положении относительно небесных светил, так что на смену войне придет долгий мир; звезды и его вернули с Явы, а дядю Яни — из Сибири. Когда к собравшейся родне подбегал Лацкович, возвышенная беседа прерывалась, в центре внимания оказывалось его многозначительное лицо и короткие прикрываемые ладонью смешки, которыми он то и дело прерывал свой отчет. «Речь будет говорить бывший премьер-министр Карой Хусар», — сообщил он после очередного похода. Госпожу Кертес взволновала уже сама эта новость, а когда Лацкович принес еще одну — о том, что на вокзал прибыл дирижер Будайского хора и весь хор, в полном составе: среди возвращающихся четыре его бывших члена, в том числе и господин учитель, — она почти растрогалась. Лацкович и яванский племянник, однако, весьма умело мешали трогательные детали с шутками. «В поезде едут триста семнадцать человек, из них двести пятьдесят — офицеры, остальные — жены и дети, — возглашал Лацкович, перекрикивая толпящихся на перроне встречающих. — Господин учитель не сообщал еще, он не везет с собой какую-нибудь молоденькую киргизку или казачку? В хозяйстве все пригодится. Наверное, сюрприз готовит». — «Пускай везет, я ее выкину вместе с ним», — в своей воинственной манере поддержала шутку госпожа Кертес. «А что? Вторая жена, для хозяйственных целей, — лучшее решение вопроса прислуги, — сказал яванец. — Я вот на Яве все время держал двух туземок: та, что постарше, работу по дому делала, а помоложе — обслуживала меня». — «Бедная женщина понятия не имеет, на что она променяла родной Байкал, — вторил ему Лацкович. — Она думает, венгры все такие же скромные, тихие, как господин учитель». — «А что, разве я такая мегера?» — разбавила госпожа Кертес кокетство капелькой искренней обиды. Агнеш смотрела на тетю Лили, чьи глаза, сидящие меж желтых бородавок в больших темных глазницах, зорко все подмечали, откладывая в памяти эту непринужденность, призванную изобразить невинность и чистоту помыслов. «А вас, Лацкович, хорошее настроение все не покидает», — сказала она, словно имея в виду добрые старые времена, когда Лацкович еще на прежнем их месте жительства, в Ракошлигете, демонстрировал свою рыцарскую услужливость — разумеется, в рамках приличия — и по отношению к ней. Снисходительный этот, чуть-чуть ностальгический тон был, однако, лишь весьма прозрачным прикрытием переполняющего ее возмущения и осуждения, и госпожа Кертес тоже не могла этого не заметить. «А почему хорошее настроение должно меня покинуть именно сегодня, в такой знаменательный день? Верно, барышня докторша?» — сказал Лацкович, оборачиваясь к стоящей в сторонке Агнеш. Играя услужливого, веселого молодого человека, в душе, очевидно, он в самом деле ощущал себя на высоте положения и любовался своим самообладанием, своим влиянием на присутствующих. Тетя Лили взглянула на второго племянника, высокого, замкнутого юношу, с которым познакомилась только сейчас: достаточно ли он осведомлен, чтобы воспринять всю значительность ее взгляда?..
Агнеш старалась не слышать лезущую в уши болтовню. Вокруг на перроне повсюду звучали подобные чрезмерно оживленные разговоры. Многие успели побывать в Чоте и развлекали остальных рассказами о приключениях тех, кого они ждали сегодня, приводили наиболее яркие их слова. Другие, наталкиваясь на знакомых, на бегу интересовались, кого те встречают. Перед Агнеш мелькнул большой разинутый рот под рыжеватыми усами, зовущий какого-то Мишку; потом появилась аккуратная седая дама, с гладкого, без морщин лица которой не сходила улыбка почтенной матроны; верещал мальчик, чью фантазию приковали блестящие рельсы, так что его чуть не силой пришлось затаскивать на перрон. Агнеш с радостью потеряла бы в этой толпе свою маленькую компанию вместе с Лацковичем. Она все думала о вчерашнем, о том, что все происходящее здесь совершенно не важно, главное — это он сам, старый учитель географии, ее отец, который, быть может, как раз в этот момент смотрит через мелькающие, гремящие траверзы Окружного железнодорожного моста на знакомый до мелочей город, и важно ее тоскующее по нему сердце, которое словно из далекого детства прорвалось сюда, на перрон, и бешено бьется теперь, с трудом успокаиваясь после преодоленных в стремительном беге лет. Эту мысль, единственно важную, единственно достойную такого исключительного момента, опутывали, будто липучие водоросли, тянули к земле — как она ни отмахивалась от них — недостойные, мелкие мыслишки: что чувствует сейчас мать? как представится Лацкович и представится ли отцу? в каких выражениях тетя Лили будет излагать дяде Тони то, что она уловила из разговоров? Чтобы быть подальше от них, она отошла к краю перрона, сделав вид, что высматривает в нависшем над путями тумане силуэт паровоза. «Через Ференцварош прошел», — вернулся со свежей вестью Лацкович. И, словно у них были свои темы для разговора, подошел к ней. «Еще пять минут, — сказал он, улыбаясь и глядя ей в глаза, — и на свет появится новый член семьи, с зубами, но без волос». Агнеш смотрела на него, делая вид, будто не разобрала в шуме, что он сказал. «Просто ужасно, как Агнеш нервничает», — услыхала она полный заботы голос матери. Она, однако, вовсе не чувствовала, что нервничает, она лишь пыталась в нарастающем напряжении последних минут, оставшихся до появления поезда, оторвать от себя новую водоросль-мысль: мать для того привлекает внимание к ней, чтобы самой со своим смятением по возможности оставаться в тени. «Вот какова она, радость. Вот как приходится свое счастье всеми силами — как чистоту благородного вина — оберегать от чужой грязи», — думала Агнеш даже в тот момент, когда в тумане за водокачкой возник темный сгусток и легкая дрожь в рельсах, а затем и во всем громадном сооружении под стеклянным куполом передалась ее ногам, превратившись в неодолимую потребность движения, и она, все более ускоряя шаг, заторопилась навстречу замедляющему ход поезду. «Агнеш, Агнеш», — слышался за спиной голос матери, словно она, Агнеш, была каким-нибудь субтильным существом с больным сердцем, которое матери надо оберегать от чрезмерных переживаний.
Сначала она увидела дядю Тони; он висел на подножке одного из вагонов, спустив толстую короткую ногу, чтобы спрыгнуть на ходу, как это делают сцепщики и проводники. На правах железнодорожника и близкого родственника, который едет в составе с самого Келенфёлда и у которого позади уже первые поцелуи и объятия, предстоящие ожидающим на перроне (он вообще очень любил старика Яни), дядя Тони даже более весело и по-свойски, чем всегда, замахал сразу замеченной им в толпе Агнеш. «Агнеш, Агнеш!» — кричал он сдержанно-радостным голосом человека, который хотя и полон ликования, но пережил уже в жизни много подобных минут. И когда поезд, лязгнув, остановился (это был последний вагон), он, прежде чем спрыгнуть, обернулся к стоящим на площадке: «Пропустите-ка старика. Давай свой багаж, Яни». Через минуту Агнеш стояла перед растерянно озирающимся человеком, который, кое-как решив проблему высоких ступенек, неуверенно смотрел на появившуюся из толпы, устремившуюся к нему молодую даму. На руках у него были большие неуклюжие рукавицы, руки он по своей привычке держал отстранив от тела, под сползающей с плеч шинелью виднелся застегнутый до горла заштопанный френч, голова прикрыта была заношенной офицерской шапкой; сейчас он удивительно походил со своим немного удлинившимся носом на тюкрёшского дедушку. Всегда заботливо подкрученные усы были коротко острижены, место сбритой по случаю свидания бороды (на этом настаивала госпожа Кертес) поблескивало седоватой щетиной. «Что, Яни, собственную дочь не узнаешь?» — хлопнул его по спине шурин, которого так растрогала эта встреча, что ему пришлось вытереть свои выпуклые, покрасневшие от дыма смеющиеся глаза. «Как?.. Агнеш? — смотрел он на дочь, которой внезапная какая-то застенчивость помешала сразу броситься ему на грудь; полуоткрытый рот его раздвинулся в той самой тюкрёшской улыбке, с какой дядя Дёрдь появился недавно в дверях его квартиры. — Точно, если на улице встретил бы, не узнал», — обратился он к шурину, высвободившись из рук дочери после двукратного поцелуя… К этой минуте вокруг оказалась и остальная родня. Скользнувшие в их сторону узко разрезанные глаза пленника, блестевшие, кроме радости, и от влаги, заметили сначала жену. «Мамуля», — произнес он почти уже позабытое слово, которым Агнеш звала мать в детстве, лишь позже, во время войны, опасаясь насмешек подруг, а главным образом в соответствии со своими чувствами к ней, перейдя на более спокойное «мама»; теперь непривычное это «мамуля», в котором вернувшийся из далекого прошлого человек попробовал высказать свой восторг, свою нежность, прозвучало невероятно искренне и трогательно в тишине, предшествующей первому поцелую. Агнеш видела большую грубую рукавицу на плече материна пальто, а за склонившимися друг к другу головами видела глаза тети Лили в глубоких впадинах с бородавками: в глазах этих приличествующая ситуации растроганность лишь на миг потеснила неодобрение в адрес не слишком охотно потянувшейся к мужу золовки. «Стыдится перед Лацковичем, что должна целовать этого человека», — подумала Агнеш и тут же торопливо прогнала эту мысль. «Прямо как на карточке, что при аресте у меня отобрали», — повернулся к шурину Кертес, глядя в реальное, все еще очень молодое лицо, которое он за семь лет столько раз воспроизводил в памяти. Потом, вспомнив про вещи, он стал шарить глазами под ногами и на ступеньках вагона. «Все здесь, не беспокойтесь, пожалуйста, — сказал Лацкович, который успел уже подхватить узел, и, воспользовавшись удобным моментом, протянул свободную правую руку: — Лацкович». — «Я в основном из-за китайского пледа, — стал объяснять ему Кертес. — Он меня очень спасал, я его в Даурии еще купил, на границе Монголии. — Потом снова поднял глаза на сгрудившихся вокруг: — Смотрите-ка, неужто же это Лилике? — узнал он свояченицу. И, чтобы и ей после объятий досталось доброе слово, добавил: — Часто, часто я вспоминал чудесный паприкаш из цыпленка, что мы ели в Бешнё на вашей помолвке».
Интермедия с узнаванием и с экскурсом в прошлое повторялась еще дважды — по числу подошедших для приветствия племянников. «Как, Имре Орос? А я-то считал, ты все еще в Голландской Индии, в Батавии где-нибудь. Думал, коли домой через Японию повезут, глядишь, еще и встретимся. — Затем, обращаясь к выросшему за эти годы молодому человеку: — Не соображу так сразу, с кем имею честь… Ах, Петер, сын Жужики… — И, задумчиво глядя на бледное улыбающееся лицо: — А ведь мог бы и сам тебя узнать — по глазам. У матушки твоей были вот такие же застенчивые глаза». Яванский племянник, пристроившись к дяде, принялся толковать о том, что на экваторе центробежная сила больше, чем где-либо, и это спустя какое-то время отражается на мозге. Поэтому он и вернулся домой, рассчитывает устроиться здесь, где-нибудь на аэродроме. Госпоже Кертес надоело торчать на месте, и она потянула мужа в центральный зал, где над головами прибывших уже зазвучала мелодия гимна. «Поторопись, дядя Яни, церемония уже началась», — крикнул, пробегая мимо, молодой офицер из военнопленных. «Это Руди Шмарегла, — глядя ему вслед, пояснил Кертес. — В тюремном госпитале мы в одном с ним коридоре были. Он, если я хорошо запомнил, заседатель опекунского совета был в Сентеше». И он двинулся следом за женой, которую Лацкович, знающий здесь все входы и выходы, пробовал провести каким-то кружным путем, чтобы опередить сгрудившуюся в дверях толпу. В центральном зале действительно пели уже «Искупил народ…»[29]. «Хусар будет говорить, премьер-министр», — шепнула госпожа Кертес мужу, когда они, несмотря на все ухищрения Лацковича, так и не смогли протиснуться поближе к трибуне. Сообщить об этом важно было не только потому, что факт этот свидетельствовал об уважении к возвратившимся на родину военнопленным офицерам, а следовательно, и к ней, — ей важно было, что эта весть исходит от Лацковича. «Карой Хусар? — шепнул в ответ Кертес, который тем самым не только показывал осведомленность в том, что происходит на родине, но и мог лишний раз, бросив теплый, изучающий взгляд на жену, обменяться с ней несколькими словами. — Помню, выступал он как-то у нас на конференции, — проверял он свою память, и то, что она оживала, функционировала, доставляло ему особую радость. — Маленький такой, коренастый… Говорил от имени учителей-католиков». И, сняв, как это делал тюкрёшский дедушка, шапку, подхватил, хоть и больше движением губ, чем голосом, последние слова гимна.
Агнеш, притиснутая к какой-то колонне, смотрела сбоку, как отец, придав лицу соответствующее выражение, прочищает отвыкшее от пения горло, затем слушает речь поднявшегося на трибуну премьер-министра. Он стоял с бесконечной покорностью в глазах, уронив руки в больших рукавицах, как, наверное, стоял в лагерях, на пересыльных пунктах, в тюрьме при оглашении приказов, во время пропагандистских лекций, при раздаче еды и талонов, — с той покорностью, которая, можно сказать, была не столько свойством его характера, сколько извечной покорностью его предков-крестьян, той покорностью, с какой его деды и прадеды слушали проповеди епископа и приказы, объявляемые сельским глашатаем; однако на лице его было внимание, с детских лет знакомое Агнеш. Это внимание относилось не столько к высказываемым мыслям (мысли те казались Агнеш, внимающей оратору вполуха, довольно шаблонными), сколько к словесному оформлению общих мест, за которыми он, как вынужденный произносить тосты бывший провинциальный учитель, сын своего поколения, следил с профессиональным интересом. И как только интеллектуальный инстинкт поднял голову в этом как будто ушедшем к крепостным своим предкам человеке, Агнеш вдруг впервые с того момента, как поезд вкатился под купол вокзала, остро и радостно ощутила: тот, кого она столько ждала, — вот он, здесь, рядом, и чувство обретения наполнило ее сердце счастьем. «Будайское хоровое общество тоже тут, — шепнула госпожа Кертес, воспользовавшись моментом, когда оратор набирал в легкие воздух. — Четыре его члена вернулись на родину». — «И хоровое общество?» — взглянул на жену Кертес с признательностью, почти с благодарностью, тихо беря ее за локоть рукой в большой рукавице, и некоторое время смотрел не на оратора, а на жену. Взгляд этот, по всему судя, раздражал госпожу Кертес, а еще больше — рука у нее на локте. «Лучше смотрите туда…» — сказала она.
Ответную речь держал один из вернувшихся офицеров. «В Дёре меня просили ответить дамам, — сказал Кертес, видимо с целью хоть немного повысить свой авторитет в глазах жены, — но я отказался: не счел себя достаточно готовым к этому… Это полячка, жена одного из наших», — заговорил он опять, когда краткая, как присяга, речь офицера закончилась и под стеклянным куполом зазвучал с непривычным акцентом звонкий женский голос. Госпожу Кертес тронуло, что кто-то выступает и от имени оставивших свою родину, не побоявшихся уехать на чужбину женщин. Она поднялась на цыпочки, чтобы через плечи увидеть лицо той, кому принадлежал этот смелый голос. «По-венгерски говорит неплохо», — одобрительно сказала она мужу. «О, это же Кинская, — подбавил масла в огонь Кертес, чтобы и ему досталось немного тепла, — у нее настоящий талант к языкам: знает немецкий, английский, французский». — «Тихо, хор выступает», — снова шикнула на него жена — полячка закончила свое коротенькое выступление, и в наступившей тишине послышалось, или скорее ощутилось, гудение: хористы настраивали голоса. Хоровое общество было гордостью госпожи Кертес: отец ее, как старожил Визивароша, был одним из его основателей, и муж, попав в Буду учителем, занял его место в почтенном обществе. То обстоятельство, что хор, занимавший первые места на международных конкурсах, сегодня явился на вокзал, чтобы в честь ее мужа порадовать публику извлекавшимися из множества мужских глоток кристально чистыми звуками, заставило госпожу Кертес даже забыть ненадолго про Лацковича. «Возвратился странник», — тихо сказал Кертес, по первым тактам узнавший старый номер, исполнявшийся хором еще в его времена. У него не было музыкального образования, он знал только нотную грамоту и потому по пятницам перед репетициями, с тех пор как Агнеш купили рояль, словно старательный ученик, отстукивал, то и дело ошибаясь клавишей, свою баритонную партию. Агнеш помнила даже слегка приподнятые его брови, заставлявшие морщиться лоб, и приподнятые уголки губ, когда он старался вывести слишком высокие для него звуки. Сейчас, когда из другого конца вокзального помещения полилась в его честь старая песня, горло его непроизвольно пыталось вспомнить знакомые звуки, но слезы растроганности, копившиеся в груди, душили и мяли их. Еще гремел «Призыв», когда с другого конца зала к Кертесу устремился исчезнувший было дядя Тони, сын основателя хора, и с ним еще двое-трое хористов. «Яни! — обрушилось на Кертеса огромное тело и достойный этого тела голос запевалы. — Не узнаешь?! Франци Каплан». — «Как же, как же», — пытался выглянуть из мощных объятий пленник. «Ребята, тут Яни Кертес!» — закричал запевала, обернувшись к расступающейся толпе, в которой сто членов хора разыскивали «возвратившихся странников». «Ребята, тут дядя Яни Кертес!» — передал дальше чей-то молодой голос. И спустя минуту, словно попав в стремнину, старый измученный человек, рыдая и взмахивая рукавицами, почти утонул в потоке возгласов, объятий и поцелуев. На лице госпожи Кертес, около покрасневшего носа, началась та игра мышц, которая означала у нее предисловие к плачу. Агнеш, привалившись к колонне, стояла, не вытирая тихо катящиеся по щекам слезы.
В дальней половине зала что-то объявляли. Привычка заставила старого пленника и тут насторожить слух, но Лацкович уже продирался к ним с вестью: господа офицеры могут пройти в другой зал, там их ждет небольшая закуска. «Тогда надо пойти», — обернулась к мужу госпожа Кертес, бросаясь следом за Лацковичем в человеческий поток. Дома было готово любимое блюдо мужа — жареный карп, но казенное угощение — дело другое, его нельзя игнорировать. Объявление перемешало скопившийся на вокзале народ: хористы и часть встречающих двинулись к выходу, пленные же и их близкие, что понастойчивее, направились различными путями к столам. В толпе возникли сгустки и более разреженные участки, и возле одной из оголившихся колонн Агнеш вдруг заметила Фери Халми, который, торопливо хромая, норовил ввинтиться в какое-то человеческое скопление. «Фери!» — невольно позвала его Агнеш. Но тут же оборвала себя: очевидно было, что он бежит от нее. Халми аккуратно посещал все лекции, без особой причины он даже общественную гигиену не пропускал; родственников у него в списке не было, он бы об этом сказал; значит, он пришел сюда ради нее, хотел быть свидетелем ее счастья. Кто знает, сколько он за нею следит; когда поезд въезжал на станцию и она побежала вперед, у нее даже возникло хорошо знакомое женщинам ощущение, что на нее кто-то смотрит. Такой тайный, упрямый немой интерес, причем именно в этом неловком и нелюдимом юноше, тронул ее, но тут же появилось и неприятное чувство: тихое это внимание словно набрасывало на нее некий незримый аркан, узду, которую она не могла и не хотела терпеть. Отец, шедший рядом с ней и с неуверенностью, свойственной едва оправившимся после тяжелого недуга людям, смотревший только на то, что было ближе всего, уловил ее оборванный возглас. «Знакомый?» — «Коллега один, из Тюкрёша», — ответила Агнеш. «Правда? Из Тюкрёша? И твой коллега?» Кертес старался выказывать интерес ко всему, что ему говорили, однако значительная часть услышанного действительно поражала его отвыкшее от обычной жизни воображение; с тюкрёшскими земляками, например, он не встречался с того времени, как попал в плен, а то обстоятельство, что молодой человек из Тюкрёша еще и коллега идущей рядом с ним молодой дамы (к тому, что это родная дочь, он только-только начал привыкать), в связи с чем приходилось активизировать в памяти и еще одну лишь недавно усвоенную новость: что дочь его учится на врача, — представлялось ему, как показывали вздернутые брови, не просто необычным, но весьма странным… «На Елизаветин день и я, наверное, в деревню съезжу, — сказал он немного спустя, с молодого человека перейдя на более приятную тему. — Брат очень звал… К бабушке твоей», — добавил он в виде пояснения, с некоторой гордостью в тоне, поскольку так быстро смог восстановить связь между шагающей рядом юной дамой и образом старой крестьянки, встречающей его возле крыльца и вытирающей уголком фартука слезы. Однако развить эту тему ему не удалось, так как жена, заметив, что они с Агнеш отстали, вернулась к последнему упору рельсового пути и оттуда махала им, торопя. «Идите же побыстрей… будет cercle[30]… Премьер-министр устраивает». Госпожа Кертес любила слова, которые в ее представлении были связаны с жизнью аристократов или государственных деятелей; одним из таких слов был и услышанный только что «cercle». «Вот как, cercle? — удивился Кертес, который, четыре года прожив в революционной России, в любом другом случае лишь плечами пожал бы, услышав такое дурацкое, претенциозное выражение; однако сейчас слово это — поскольку произнесла его жена — обрело для него вес, и он повторил его с уважением. — Тогда в самом деле надо пойти», — сказал он Агнеш, которая, видя его неуверенную походку, взяла его под руку.
«Cercle» и обед состоялись в длинном бараке, который был забыт тут, рядом с вокзалом, со времен мировой войны. Премьер-министра провел вдоль рядов офицеров самый старший из них, полковник; прибывшие не выстраивались в шеренгу, однако следили, чтобы и толпой не стоять. Премьер-министр каждому пожал руку, с некоторыми обменялся несколькими словами и, шагая дальше в ореоле власти, оставлял на лицах отсвет благоговения и преданности. Госпожа Кертес хорошо видела, что, когда черед дошел до ее мужа, полковник что-то сказал премьер-министру, на что тот сделал мину, какая бывает у человека, который удивленно говорит: «Вот как?» — а муж, разумеется, по всегдашней своей привычке лишь что-то смущенно бормотал и отмахивался, вместо того чтобы умным ответом суметь приковать к себе внимание уже шагнувшего дальше могущественного человека. Когда премьер-министр завершил свой обход, офицеры, очнувшись от благоговения, постепенно начали замечать длинный стол с грудами поблескивающих жирной ветчиной сандвичей и мисками горячих сосисок и, подбадриваемые улыбками стоящих за столом, сначала нерешительно, потом сомкнутым строем двинулись на штурм закусок. Пока отца то с одной, то с другой стороны побуждали тоже подойти к столу, а дядя Тони и Лацкович вместе с яванским племянником норовили добыть для беспомощного кусочки поаппетитнее и даже сама госпожа Кертес, вспомнив про скорбут и больные ноги мужа, вступила в битву за сандвичи, Агнеш, отойдя с более стеснительными родственниками — тетей Лили и вторым племянником — в сторонку, все еще размышляла о недавнем мимолетном эпизоде. Подчиняясь какому-то инстинкту, она никогда не позволяла себе расслабляться в присутствии других, в отличие от множества наивных девиц, которые, может быть, и не чувствуют ничего серьезного, но, считая, что это их украшает, забываются в позе сильного переживания; и вот только что, полагая, что все кругом смотрят на отца и обнимающих его хористов, она потеряла бдительность и не спрятала лицо, даже не вытирала катящихся слез, а сейчас, когда она знала, что Фери был очевидцем ее слабости (и образ прислонившейся к колонне плачущей Агнеш останется в воображении увечного юноши точно так же, как образ той, другой Агнеш, машущей ему с подножки трамвая), ее стала мучить совесть, она осуждала себя за кокетство, словно в тот удивительный момент она рисовалась, лицедействовала. В то же время в следившем за ними из толпы коллеге она как бы ощутила вовремя подоспевшую поддержку. «Э-ге-гей, господин учитель, тут сосиски с хреном есть», — послышался из толпы ломкий голос Лацковича, и ей вспомнилось, что она обещала Халми познакомить его с отцом. «Полно вам. У бедного Яни дома нечего, что ли, поесть?» — одернула тетя Лили своего мужа, который, как хороший супруг, подбежал и к ней похвастаться трофеями. «Что за разговор! — сказал дядя Тони. — Это ведь все за казенный счет. Я даже сам уволок один коржик со шкварками…» «А поездка в Тюкрёш, Елизаветин день — это очень здорово будет», — думала Агнеш, глядя на отца, колеблющегося между коржиком и половиной сосиски. Она чувствовала: ей надо искать союзников, которые уберегут отца от того, что тут против него затевается, и Тюкрёш, старушка в чепце, с улыбкой, словно на сморщенном яблоке, камыши, старые овечьи загоны, меж которыми где-то пряталось его детство, — все это будут ее союзники в борьбе за спокойную старость «возвратившегося странника».
У остановки родственники попрощались. «Сорок шестой…» — растроганно узнал отец подошедший желтый трамвай. Затем, глянув вслед жене, первой вспрыгнувшей на площадку, обернулся к Агнеш, которая держала его под локоть. «Мамуля… Какая проворная еще. Я вот полгода назад еще не надеялся, что смогу сам до туалета дойти… А где мое китайское одеяло?» — встревоженно обернулся он. Дядя Тони, которого раздражало, что Лацкович все никак не отстанет от них (раздражение его подогрела, должно быть, и тетя Лили, прощаясь), крикнул: «Давай-ка сюда этот плед, спасибо, отсюда я сам уже довезу». — «Ни за что на свете, мой командир, — дурачился Лацкович. — Доставку китайского одеяла я считаю своим личным долгом». — «Лацкович, смотрите не сбегите у меня, — на всякий случай сказала из середины вагона госпожа Кертес. — Аппарат захватили?» — «Вот он, — хлопнул Лацкович по карману своей длинной, до пят, шинели: из кармана высовывался футляр фотоаппарата. — Выпросил «лейку» у брата». Дядя Тони и Лацкович протиснулись следом за госпожой Кертес в вагон, Агнеш с отцом остались в углу площадки. «Трамваи здесь почти так же набиты, как в Петрограде, — сказал Кертес. — Когда я отправлялся в поход за газетами, «Правдой» и «Известиями», то всегда шел пешком — боялся, что вылезти не смогу из трамвая. — Затем, наткнувшись ищущим жену взглядом на смеющегося в середине вагона Лацковича, наклонился к Агнеш: — Я что-то сразу и не запомнил, кто этот веселый молодой человек, который едет с нами?» — «Служащий дяди Тони, — быстро отвернулась Агнеш к подходившему к ним кондуктору; потом, боясь, что информация эта выглядит очень уж лаконичной, добавила после покупки билетов: — Он у нас иногда бывает…» Но почувствовала, что ускользающий ее взгляд и голос, пытающийся звучать непринужденно, вышли довольно-таки неестественными. Наверняка отец решит, что Лацкович — ее ухажер, кандидат в женихи… Кертес, однако, ощутив себя более или менее уверенно — в битком набитом вагоне можно было не бояться упасть, — принялся раздувать ту искру почти забытого им тщеславия, которую заронила в нем встреча с премьер-министром. «Мне тут твое письмо вспомнилось, — начал он, хитровато щурясь, с тем выражением, с каким в Тюкрёше говорили на скользкие темы. — Насчет моих лингвистических амбиций… Меня Имре Молнар, бывший мой однокашник, в Чоте тоже этим встретил: ты, говорят, с каким-то крупным лингвистическим открытием домой едешь. Я и ему ответил, как сегодня господину премьер-министру: от меня пока толку мало будет… Полковник Сиклаи ведь как меня представил: профессор Кертес, крупнейший наш туранист…» Агнеш лишь улыбалась, держась за поручень. То, что отец даже заочно величает премьер-министра господином, и та лояльность, которую он проявляет к столпам существующего строя, ее немного задели; подозрительным было и слово «туранист». Туранское общество[31] — это какая-то темная компания, пусть и не такая остервенелая, как «пробуждающиеся»[32]. Но детская радость, с которой бедняга воспринял похвалу, гордость, что его назвали «господином профессором», и при всем том тюкрёшская хитреца, с которой он ей это поведал, — все это было так трогательно и, как признак просыпающегося честолюбия, обнадеживало. «Если б заметки мои уцелели, из этого, может, что-нибудь бы и вышло, — сказал он. — А так, особенно если, как писала мамуля, придется думать о дополнительном заработке, все позабудется, спишется на пленнитис». — «На пленнитис? Что такое пленнитис?» — подняла голову Агнеш, услышав странное слово, похожее на медицинский термин. «Пленнитис-то? — с загадочным видом засмеялся отец. — Это болезнь, проявляется в самых разных формах… От слова «пленный». На втором, на третьем году, когда мы жили еще относительно сносно и не нужно было каждый день бояться, как бы не помереть с голоду, чуть ли не у каждого появилось какое-нибудь чудачество, — объяснял он отчасти Агнеш, отчасти стоящему рядом похожему на монтера пассажиру, внимание которого привлекли необычные рукавицы и френч. — Я еще в конце первого года, когда научился читать газеты по-русски, раздобыл бурятский словарь и какие-то путевые заметки на монгольском языке. Представь себе мое удивление, когда я сразу же, чуть ли не в первый момент, наткнулся на слово «Тенгри». Тенгри — бог неба, небесного моря…»[33]
«Господин учитель и Агнеш добрались уже до бурят, — догнал Лацкович, с пледом в руках, выходящих с передней площадки госпожу Кертес и ее брата. — Если бы мы еще с часик ехали, Агнеш оказалась бы в оленьей шубе и самоедской шапке». — «Как, уже прибыли?» — прервал себя бывший пленник, увлеченно толкующий о различных вариантах слова «кёр»[34], останавливаясь перед подворотней, куда, судя по движению остальных, он тоже должен был войти; прежде чем это сделать, он поднял взгляд на два верхних этажа над подворотней: действительно ли это тот самый дом, из которого он со своей палкой эбенового дерева, увенчанной серебряным набалдашником (тоже наследство дяди Кароя), и в соломенной шляпе отправлялся летними утрами пешком в Буду. В колодце двора с галереями вдоль этажей короткий осенний день уже начал густеть, переходя в вечер. Перед дверью второй квартиры на первом этаже, где жила чета Лимпергеров, стояли, тихо беседуя, две тени — одна на пороге, другая на бетонном покрытии двора. Когда маленькая группа, из которой слышался смех Лацковича, появилась в подворотне, одна тень, влекомая служебным долгом, поспешила навстречу вошедшим; вторая следовала за ней поодаль, тактично сдерживаемая статусом человека не совсем постороннего, хотя и не имеющего отношения к семье. Агнеш уже по тому, как стояла привратница, как она подошла, и особенно по ее лицу — которое, словно какой-нибудь хроматографический прибор, отзывалось на душевный дискомфорт разрастанием темных оттенков — сразу увидела, что в семье Бёльчкеи временный штиль сменился новым циклоном. «Барин!» — воскликнула тетушка Бёльчкеи, уставясь на мужчину во френче, словно и не его ждала вот уже два или три часа; в ее сразу ставшем плаксивым голосе изумление и разочарование смешаны были с отголосками недавней ссоры, с горестной беспомощностью, но, главное, и с вновь поднявшей голову робкой надеждой. «Глядите-ка, это же тетушка Бёльчкеи! — сказал с восторженным удивлением, вглядываясь в сумрак, пленный, для которого каждый возникающий перед ним человек означал новое испытание памяти, а каждое узнавание — новый маленький триумф. — Неужто все еще привратница?..» — «Точно, привратники мы, — подтвердила тетя Кати с таким унылым видом, с каким и должен сказать это человек, который самого факта отрицать не может, хотя вполне отдает себе отчет в том, что быть привратником в прежние времена, когда барин был еще здесь, и быть привратником сейчас — это лишь на поверхностный взгляд одно и то же. Заодно тетя Кати доложилась и госпоже Кертес: «Рыбу для жарки я приготовила, да вас так долго не было, вот я и ушла». — «А я представлял…» — хотел было продолжить пленник, но тут же догадался: то, что он представлял, вытекает из прежнего предположения, что жена и дочь съедут из проданного дома, вместе с которым перешла к другим хозяевам — или просто исчезла из поля зрения — чета Бёльчкеи. Поэтому, не закончив фразу, он проявил свое расположение к старой прислуге в следующем вопросе: «А муж ваш? Он, конечно, давно уж с войны вернулся?» Тетушка Бёльчкеи вместо ответа направилась к своей двери. «Муженек!» — позвала она, еще не войдя в квартиру, потом повторила еще раз, уже внутри, но в интонации ее чувствовалось, что ласковое это слово не выражает гармонию между супругами, а лишь изображает ее по такому торжественному случаю (хотя, может быть, выдает и затаенное желание бедной женщины пускай таким способом, но еще раз попытаться уладить конфликт). И пока Кертес пробовал опознать незаметно приблизившуюся к ним тетушку Лимпергер, привратнице удалось поднять с места сидящего подле горящей плиты бригадира, на лице которого, пока он, меняя шаг почти на солдатский, направлялся к бывшему хозяину, угрюмая злость на лице вытеснялась почтительно молодцеватым выражением. «Вот он», — представила мужа тетушка Бёльчкеи, всем своим видом показывая, что большой радости ей это не доставляет. Двое мужчин, которых Агнеш с детства помнила в тугих наусниках, солидно беседующими во дворе будайского дома в свете осеннего солнца, среди шелеста желтых листьев, смотрели сейчас друга на друга, оценивая урон, нанесенный каждому из них прошедшими годами; Кертес торопливо копался в воспоминаниях, ища что-нибудь, что помогло бы воскресить прежние доверительные отношения между ними, Бёльчкеи же просто стоял, отчужденный от всех своим уделом человека, покинувшего стезю праведной жизни. «Во время боев под Крагуевацем, помню, дочь с женой писали, — сказал Кертес, — что очень за дядю Бёльчкеи беспокоятся… Вы ведь все время в Сербии были?» — «В Сербии… И еще в Албании, в составе оккупационных частей», — ответил Бёльчкеи, как привык отвечать господам офицерам. «А знаете, когда я однажды вас вспомнил? — пытался подобрать ключик к неразговорчивому собеседнику пленник. — В Омске, когда у нас совсем уже ничего не было, лагерь наш распустили, и тогда взял я несколько книжек и пошел на базар. И подходит там ко мне один красивый такой венгр, коммунист. Точно как наш Бёльчкеи, когда он к нам служить поступил, — подумалось мне тогда…» — «Долго мы будем тут торчать?» — обернулась госпожа Кертес, которая вместе с Лацковичем была уже возле лестницы. «Представляешь, он у меня книгу по механике купил, из-за русских технических терминов», — сообщил Кертес жене, торопливо попрощавшись с Бёльчкеи.
Тетушка Бёльчкеи с утра навела в квартире идеальный порядок; натоплено было по такому случаю не только в спальне, но и в столовой. Вернувшийся домой хозяин стоял среди гостей в больших рукавицах, в шинели, с неуверенной улыбкой разглядывая странные предметы: кресло-качалку, трюмо, фарфоровые безделушки, которые и прежде чужды были его воспитанному среди крестьянских шкафов и комодов вкусу и которые он терпел лишь как неизбежные принадлежности господского образа жизни да как наследство дяди Кароя, а теперь, после стольких лет, проведенных в бараках или в камерах с деревянными нарами, они, в своей возросшей до фантастических размеров странности, встретили его так сердечно, по-домашнему, так напомнили о прошлом. В конце концов он осторожно взял с одного из маленьких столиков крупную, отливающую розовым раковину. «Раковина дяди Кароя, — сказала Агнеш. — В Аббации куплена, он туда каждый год ездил, в марте, астму лечить». «Господи, вы зачем сюда это притащили?» — всплеснула руками госпожа Кертес (которая вместе с пришедшей следом тетушкой Бёльчкеи проверяла на кухне, все ли подготовлено к обеду), обращаясь к Лацковичу, положившему плед на обеденный стол. Возмущение ее в адрес подозрительного предмета не могло смягчить, обратить в шутку даже то обстоятельство, что покушение на ее квартиру совершил не кто иной, как Лацкович. «Не надо бояться, его много раз дезинфицировали», — сказал пленный, в первый раз немного обидевшись за свою столько лет верой и правдой служившую ему собственность. «Все равно я не желаю терпеть это в квартире», — не унималась госпожа Кертес, давая выход горечи, копившейся с самого момента встречи. «Я найду ему место», — взяла Агнеш, улыбаясь отцу, сверток из держащих его с отвращением рук. «Жаль было бы его лишиться: прекрасного качества вещь и чего только не вынесла, — неуверенно сказал Кертес, провожая тревожным взглядом уносимый из комнаты плед. — Жена боится, как бы я с ним вшей не занес, — объяснял он шурину. — А ведь нас не счесть, сколько раз дезинфицировали. В Штеттине, например, всю одежду развесили на шесты и пропустили через камеры с горячим паром. Там я, кстати, заметил, что у меня и с глазами что-то не так, — из вежливости повернулся он теперь к Лацковичу. — В санпропускнике нам дали бумажку. Я читаю: «Entlassungsschein», а Денеш Палотаи, мой приятель, обратил мое внимание, что я допустил небольшую ошибку: там, оказывается, стояло «Entlausungsschein». Не об освобождении свидетельство, а об уничтожении вшей».
Лацкович залился громким хохотом, каким школьники встречают остроты учителя; он даже с опозданием поднял ладошку — прикрыть рот. Глаза пленника задержались на высоком зеркале трюмо: он начал себя в нем разглядывать. «Ну, это еще так-сяк, — сказал он после того, как блестящими глазами с минуту смотрел на себя. — А что было в тюремном госпитале… Солнце как раз светило в окно возле моей кровати. Я у врача спросил, не повредит ли мне с моим скорбутом, если я немного позагораю. «Пользы не будет, но и повредить тоже не повредит», — ответил он. Я тогда вскарабкался на подоконник и подставил солнцу голые ноги. Должно быть, выглядел я неважно: посетители, проходившие под окном, поднимали глаза и в ужасе отворачивались. А один маленький мальчик даже пальцем на меня показал. Если повесить на створку окна одеяло, я мог в стекле видеть себя… Усы с проседью, борода седая, глаза тусклые, ребра торчат. По сравнению с тем…» — бросил он в зеркало оптимистический взгляд. «Хорошо, хорошо, только теперь вы переоденьтесь все-таки, — сказала госпожа Кертес, которая уже по горло сыта была тюремными воспоминаниями мужа и боялась, что он еще, не дай бог, станет и здесь держаться за тамошние привычки и привезенные с собой тряпки. Кроме того, ей, видимо, было стыдно за бывшего спутника жизни перед Лацковичем. «Нет-нет, ни в коем случае, — закричал Лацкович, кидаясь за фотоаппаратом. — Сначала увековечим господина учителя в том виде, в каком он вернулся. Жаль, что бороду заставили сбрить», — намекнул он на спор, о котором он мог знать от госпожи Кертес. Та некоторое время протестовала: не желает она, чтобы мужа увековечивали в таком виде, но потом уступила: ладно, один снимок пусть сделает. Однако встать рядом с мужем, несмотря на уговоры Лацковича, не согласилась.
После фотографирования пленника отвели в нишу, переоборудованную в душевую комнату. Агнеш дала ему мыло, полотенце, принесла белье, коричневый костюм, туфли, карманные часы. Отец каждый предмет встречал благодарным взглядом. «Что бы мы только не отдали за такой вот кусок, — гладил он круглое мыло с миндальным запахом. — Смотри-ка, махровое…» — щупал он полотенце. Потом с некоторым беспокойством — как он это все наденет? — принялся раздеваться. Агнеш некоторое время слушала из спальни плеск воды. Как хорошо она помнила позу отца, когда тот, скрестив руки на волосатой груди, растирал себе плечи под душем и все время пел — пел народные песни, псалмы. Каким прекрасным мог бы быть этот миг, когда измученное тело соприкасается с заслуженной им чистой тканью одежды, когда вода обретенного крова смывает пыль дальних дорог, — мог бы, мог бы быть, если бы чувства их были такими же чистыми, как впитывающее влагу махровое полотенце, как вода, что льется из душа, — не льется, кстати, а хлещет, видно, отец разучился и с кранами обращаться. «Тони, ты не мог бы зайти? — спустя какое-то время позвал из-за двери отец. — Мне тут чуть-чуть помочь надо с одеждой», — сказал он смущенно, когда Агнеш к нему подошла. Она увидела, что он стоит в нижней рубахе, в кальсонах, — и послала к нему дядю.
Сама же, чтобы не оставаться с Лацковичем вдвоем, вышла в прихожую. В кухне жарилась рыба; через открытую дверь слышен был разговор двух женщин — тети Кати и матери. У тети Кати было немало причин изменить свою обычную манеру общения: она не зависела больше от госпожи Кертес, даже более того, это она ей оказывала любезность, когда по какому-нибудь экстраординарному случаю соглашалась — при своих обязанностях привратницы — на роль приходящей уборщицы и кухарки. Кроме того, она весьма разочаровалась в бывшей хозяйке, которая благодаря своему молодому ухажеру попала в тот разряд женщин, к которому относилась и коварная уборщица; нынче же тетя Кати была особенно возмущена, что барыня даже в такой день притащила сюда этого Лацковича, да, в конце концов, у нее и у самой были причины, чтобы — пускай лишь немногословностью — выказать свое недовольство миром. Однако пятнадцатилетняя привычка заставила тетушку Бёльчкеи позабыть все эти обстоятельства, так что краткие реплики госпожи Кертес и длинные, с умильными интонациями фразы привратницы, составляемые с той тактичностью, с какой сиделка избегает в беседе с больным напомнить ему про его недуги, доносились из кухни точно так же, как в те давние времена, когда самым большим событием года было землетрясение в Кечкемете. Госпожа Кертес как раз просила тетушку Бёльчкеи попробовать соус — на предмет, не нужно ли добавить туда еще сахару. В речах и движениях привратницы последовала хорошо различимая полуминутная пауза, необходимая, чтобы язык распробовал, слизнув с пальца, капельку подливки. «Я бы немножко масла добавила». — «Вы так считаете?» — наверное, посмотрела на нее госпожа Кертес и, тоже взяв на палец чуть-чуть подливки, попробовала ее на язык. Тетя Кати воспользовалась доверительной этой минутой, чтобы высказать не дающую ей покоя мысль: «Не знаю, но по мне, так барин странный какой-то. А вам, барыня, не показалось?.. Вроде бы как того». Агнеш не могла установить, что мать ответила, так как голоса не было слышно. Тишина могла значить, что она пожала плечами, или махнула рукой — дескать, что поделаешь, судьба, — или просто проигнорировала вопрос. У Агнеш же сердце начало бешено биться, и, чтобы не слышать продолжения, она быстро вошла в кухню. «Я как раз барыне говорю, — взглянула на нее тетя Кати (которая, очевидно, испугалась, не слышала ли Агнеш ее замечания), — что барин странный какой-то». — «Устал он, — сухо ответила Агнеш, давая понять, что не намерена развивать эту тему. — И не выздоровел еще до конца. Накрывать на стол?» — мрачно глянула она на мать. «Пойдем, — ответила та, — я дам тебе приборы и чистую скатерть».
Когда они вернулись, мужчины были в спальне, дядя Тони застегивал запонку на рукаве отца, Лацкович завязывал ему галстук. Одеваемый стоял неподвижно, задрав голову, словно ему делали операцию на горле, и то и дело скашивал глаза на проклятую запонку. «Ей-богу, я чуть не расплакался, — вышел к дамам дядя Тони, который первый закончил свою работу. — Он совсем забыл, как надо одеваться. От воротничка и от галстука чуть не рассвирепел: что, говорит, за идиотская мода… Правда, я тоже галстук умею только на себе завязывать, — сказал он Агнеш, как бы оправдываясь, что отдал зятя в руки Лацковичу. — Ну, готовы?» — со смехом пошел он обратно в спальню. «Мы с господином учителем швейную мастерскую откроем: френчи à la Горький — без манжет и воротничков». «Пять приборов?» — взглянула Агнеш на мать, выкладывая сервиз на мраморную плиту буфета. «Не выгонять же мне людей!» — раздраженно ответила та.
Дядя Тони, увидев расставляемые приборы, стал было собираться. «Пойдем, старина, — сказал он Лацковичу, который разглядывал дело своих рук. — При таком освещении хороших снимков все равно не сделаешь». — «Да-да, не будем семейную идиллию нарушать», — посмотрел на свою шинель и Лацкович. Агнеш их не удерживала. Но мать, которая в этот момент вошла с цветной капустой под майонезом, загородила им дорогу. «Полно, чего вам уходить? — сказала она брату. — Будет только небольшая закуска, перехватите с нами». — «Нет-нет, — замахал руками дядя Тони, но поскольку хорошая пища и в его нынешнем благополучном положении не потеряла для него привлекательности, он спросил: — А это желтое — это что?» — «Майонез. Жареная рыба под майонезом». — «Ну, если чуть-чуть. Но уж не сердитесь, если мы потом сразу двинемся…» Однако Лацкович, в котором молчание Агнеш опять пробудило обиду, ни за что не хотел оставаться, так что включиться в уговоры пришлось даже дяде Тони.
Переодетый пленник тем временем снова встал перед зеркалом, изучая произошедшую с ним метаморфозу, разглядывая ослепительно белую сорочку и странный пиджак с большими бортами. Ему вспомнился еще один эпизод — совсем иной, чем до этого. «В Петрограде, в австро-венгерском посольстве, где венгерские коммунисты обосновались, по пути в библиотеку нужно было пройти через большой зал. А в нем было огромное великолепное зеркало, — может, в него еще наш Сапари[35] смотрелся когда-то. Я, помню, тоже чуть ли не любовался собой, когда в него заглядывал. Дела у меня тогда шли неплохо: комнату мне дали как библиотекарю, в коридоре у коммунистов, несколько пар белья я завел, пару хороших ботинок, в архиве мы целый склад старых секретных депеш нашли на папиросной бумаге. Я был доволен жизнью…» — «Ну, хватит вам красоваться», — бросила ему госпожа Кертес, которой тем временем как-то удалось все-таки уговорить Лацковича, уже надевающего шинель, вернуться из прихожей. «В самом деле, поешьте с нами, пожалуйста, — сказал и хозяин, который наконец обратил внимание на дискуссию, причиной которой, по его опыту, мог быть только вопрос о количестве пищи… — Жена наверняка рассчитала, чтобы на всех хватило».
Все уселись вокруг большого обеденного стола на стулья со спинками из тисненой кожи, с рядами шляпок медных гвоздей. «Что бы мы не отдали за один вот такой кусочек хлеба», — сказал Кертес в тишине, предшествующей явлению жареного карпа, и, оглядев празднично сервированный стол, узловатыми, плохо слушающимися пальцами взял ломтик хлеба, лежащий возле его тарелки. «Только мы не в Сибири сейчас, — сказала госпожа Кертес и, заметив неодобрительный взгляд Агнеш, прикрикнула на нее: — Ты чего на меня так смотришь? Я лично не собираюсь, взяв что-нибудь в рот, думать о том, что едят в тюрьме». К счастью, в этот момент, отворив локтем дверь, тетушка Бёльчкеи вкатила в столовую жареного карпа. Вниманием пленника прежде всего завладела возникшая в двери привратница в белом переднике, снявшая с головы платок и воткнувшая в волосы перламутровый гребень; только привстав и улыбнувшись с вежливым любопытством, Кертес смог связать эту фигуру со встреченной во дворе тенью. «Ах, да ведь это же тетушка Бёльчкеи. Такая элегантная… А я смотрю: кто же это такой? Чуть не пошел представляться. — Потом, наклонившись над столом, он с заблестевшими глазами заглянул в поставленное на стол блюдо. — А что это такое круглое, аппетитное — уж не жареный ли карп? — И с карпа перевел на жену взгляд, в котором голодный блеск слился с сиянием благодарной любви. — Мамуля, — произнес он тем же тоном, что и на вокзале. — Не забыли мое любимое блюдо». Агнеш видела на лице матери досаду и готовность сейчас же кинуться в бой, чтобы кто-нибудь — главным образом и без того разобиженный Лацкович — не принял этого карпа, в самом деле купленного вчера на рынке по случаю возвращения мужа, за свидетельство нежной любви. На сияющем же лице отца, когда он брал добрый кус рыбы себе на тарелку, так и читалось, что этот великолепный карп вот-вот заставит его для сравнения вспомнить или уху на берегу Иртыша, или тюремный рыбный суп, о котором он уже писал из Чота и в котором плавали только рыбьи кости. «Интересно, — заговорила с искусственной живостью Агнеш, стараясь хоть чем-то заполнить опасную тишину, — а мне помнится, ваше любимое блюдо уха была. В конце концов, ведь настоящее рыбное блюдо — это уха». — «Ну, уж прости меня! — запротестовал дядя Тони, во рту у которого подрумяненная панировка, белое мясо карпа, пикантная острота соуса и мясистая плоть цветной капусты слились в симфонию вкусов и ароматов, и большие глаза его пришли в гармоничное соответствие с ходящим вверх-вниз кадыком: сколько кадык уносил изо рта, столько глаза почти всасывали из блюда. — Рыба под майонезом, и к ней цветная капуста! Да еще вон то вино на буфете: надеюсь, оно там не для мессы оставлено?» — «Очень, очень вкусно, — отозвался и пленник, исключительно ловко выплевывая изо рта рыбные косточки; Агнеш помнила: это не только ее поражало в детстве, мать тоже много раз вспоминала позже об этой удивительной способности мужа. — Все такое рассыпчатое, такое изысканное», — добавил он затем, глядя на цветную капусту и на соус, которые прежде, в отличие от жареного карпа, считал блюдами слишком утонченными, годными разве что для капризного желудка. И, словно почувствовав, что в этом «рассыпчатом» и «изысканном» жена услышит все то же осуждение «чревоугодия» (к тому же соус готовился, собственно, вовсе не для него), тогда как он вовсе не собирается в такой час что-либо осуждать, он поспешил замять дело новой похвалой: «В Чоте нам тоже один раз рыбу давали, какого-то леща, но куда той рыбе до этой. Конечно, для нас даже это было лакомством, после так называемых рыбных супов, из которых санитарки вылавливали все мясо. За это их и упрекнуть-то нельзя — у них дома голодные детишки…»
На этот раз от выговора Кертеса спас Лацкович. «А вам, господин учитель, с подполковником Кирхнером не приходилось беседовать?» — спросил он с видом человека, который намерен, пусть косвенно, лишь намеком, напомнить этим беззаботно уплетающим рыбу людям о том, что и он кое-что сделал для того, чтобы наступил этот день. «С подполковником Кирхнером? — удивленно поднял взгляд Кертес, оторвавшись от рыбьего хребта. Имя было ему знакомо, но он понятия не имел, как связать его с этим молодым человеком, который и сам представлял собой один из ребусов, которых вокруг становилось все больше. — Вы про того подполковника Кирхнера, который в Чоте служит? В Ачинске у нас тоже был один Кирхнер; правда, тот капитан. Вы, стало быть, знаете подполковника Кирхнера? Очень милый человек. Отпустил нас на три дня раньше предписанного». — «Бывший одноклассник моего отца и старый его друг». — «Отец Лацковича писал ему о вас, — расшифровала госпожа Кертес тайный смысл вопроса, — насчет проверки лояльности». — «Что вы говорите! Насчет проверки?» — посмотрел пленник на молодого человека, чью роль эта информация не слишком прояснила, но ничего больше не спросил, лишь брови его так и остались вздернутыми над заблестевшими от сытной пищи глазами. Дядю Тони, однако, после жареного карпа пропустившего две рюмки вина, вопросы его подчиненного начали раздражать. «Полно тебе чушь городить, старина, — сказал он ему. — Чего дядю Яни проверять (он сейчас впервые назвал зятя дядей)? Недостаточно разве того, что он в тюрьме был?» — «Это не совсем так, — заговорила в пленнике любовь к справедливости. — Были среди наших такие, кто поднимал шум, потому что кто-то там соглашался служить красным. Я ведь ничего и не отрицал. В Омске, когда лагерь наш был распущен, у меня даже спор вышел с другом моим, Эрнё Михаликом. Он говорил: нам, венгерским офицерам, нельзя никакие должности занимать при Советах. А я представлял ту точку зрения, что мы и там, на чужбине, вдали от родины, не должны умирать с голоду. В Трансильвании и Словакии венгры тоже остаются в своих должностях, если их не прогоняют. Как учитель истории я тоже хорошо знаю, что венгры — трансильванские князья, к примеру — не стали плохими венграми оттого, что приспосабливались к существующей ситуации». — «Ну вот видите, — сказала госпожа Кертес, которая из исторического экскурса уловила лишь, что ее муж в России занимал-таки какие-то должности, то есть совершил ту ошибку, от расплаты за которую его должен был спасать отец Лацковича. — Так что очень даже кстати, что кто-то замолвил за него слово. А то он мог бы и работу свою потерять». — «Уж ты меня извини, я ведь тоже офицер, — возразил дядя Тони, — пусть и в запасе, но в настоящее время на государственной должности. Я тоже в этом кое-что понимаю и уверен: нет такой комиссии по проверке лояльности, которая не восстановила бы старину Яни в правах, даже если он и сидел там в какой-нибудь библиотеке или в конторе». Бывший пленник удивленно оглядел спорящих, не понимая, отчего так раскраснелась жена, отчего Агнеш мрачно уставилась в стол, отчего незнакомый молодой человек словно утратил вдруг свою немного назойливую веселость, а главное, отчего вышел из себя шурин, которого он знал как немного легкомысленного, но обладающего неистребимым оптимизмом и добродушием человека и который даже после жареного карпа ухитрился выйти из терпения. «Видно, — подумал он, — война и тут испортила людям нервы». И примирительно поднял рюмку: «Главное, что все позади и мы спустя столько лет снова сидим вместе за этим столом, в своем доме».
После десерта (на десерт было обычное печенье) гости в самом деле скоро ушли. Госпожа Кертес вынесла посуду, Агнеш же с отцом перешли в спальню, где было теплее. Кертес все еще находился под впечатлением ужина. «Такой чудесный был вечер, — сказал он дочери. — Мамуля просто себя превзошла. Узнаю ее: бранится, ворчит, но сердце — сердце благороднейшее… Я как раз ужин расхваливаю Агнеш», — обратил он подобострастный и благодарный взгляд к входящей в спальню жене. «Только не считайте, будто мы всегда так хорошо питаемся», — запротестовала госпожа Кертес, раздраженная не столько похвалой ужину, сколько мужниным взглядом. «Я думаю, — согласился Кертес. — Я еще там, как услышал, что крона упала до 0,70, сказал себе: мои, наверное, примерно так же живут, как в Петербурге служащие на жалованье. Может быть, ситуация, к счастью, все же не настолько плоха». — «Гораздо хуже», — сказала госпожа Кертес, которая не слишком была знакома с ситуацией в Петербурге, но свою хотела изобразить как можно мрачней. — У служащих — намного хуже. Мужикам, тем хорошо, они как сыр в масле катаются, а служащие — хоть сейчас зубы на полку и с сумой по миру. Знаете, что можно купить на ваше месячное жалованье? Одну пару брюк. Но не какие-то там не знаю какие…» — «Пару брюк, — задумался Кертес, обращаясь к своему накопленному в России опыту, чтобы представить, какие сокровища требуются для приобретения брюк. — У меня, когда я из Екатерининской больницы вышел, было тысяча пятьсот рублей. Знаете, что я на них купил? Половину картофельной лепешки…» — «Но что мы все о деньгах? Честное слово, могли бы поговорить о чем-нибудь еще», — вмешалась в диалог Агнеш, подставляя себя под удар. «А почему нам не говорить о деньгах? — в самом деле переключилась на нее мать. — До сих пор его что, в оранжерее держали? Пусть не думает, что раз его жареным карпом встретили (сколько я за ним выстояла на рынке!), то здесь его ждет Эльдорадо». — «У меня в этом отношении никаких иллюзий нет. Я читал в газетах заявление нового премьер-министра графа Иштвана Бетлена. Он довольно откровенно говорит о положении в стране». — «До сих пор мы вдвоем-то прожить могли потому только, что я деньги за дом вложила в акции. Но так тоже не будет вечно». Бывший пленник, подняв брови, смотрел на жену, а через нее на свою судьбу примерно так же, как перед этим на Лацковича. Агнеш было невыносимо видеть этот наивный, растерянный взгляд, эту беспомощность человека, столкнувшегося с ожидающими его дома проблемами (и пока еще не самыми большими); на мать она не смела смотреть: та сейчас же вступила бы в бурную полемику даже с ее взглядом. Чтобы немного разрядить обстановку, Агнеш попыталась взять небрежно-беззаботный тон, который в ее устах получался довольно фальшивым. «А я вот не боюсь будущего, — сказала она. — Закончу учебу через несколько лет — и мы вдвоем зарабатывать станем». — «Когда ты еще кончишь!» — взглянула на нее мать, которая сразу же поняла, что в речах дочери нет настоящего облегчающего сердце оптимизма, что беззаботность эта лишь ширма, за которой она хочет укрыть отца от грозящих ему забот. «Еще я репетиторством могу заняться, — продолжала упрямо Агнеш. — Бывшую нашу классную руководительницу я часто встречаю в трамвае, она мне найдет ученика, даже двух». — «Конечно, тебе только репетиторства не хватает, — возмутилась госпожа Кертес, — ты и так учишься по ночам. Да и где ты учеников найдешь? Богатеньких лодырей учителя сами разобрали: они тоже репетиторством живут». — «Учеников, собственно, мог бы и я взять», — сказал с неопределенной надеждой пленник. В его времена невозможно было представить, чтобы преподаватель брал учеников из своей школы… Но, видно, нравы с тех пор изменились… Идея эта, однако, встретила сопротивление у Агнеш… Мало того, что они Лацковича заставили галстук ему повязывать, теперь еще репетитора сделают из него, когда и так трудно представить, как он, такой беспомощный, взойдет на кафедру перед сорока — пятьюдесятью сорванцами, которые только и ищут у учителя слабое место. «Об этом вы даже не думайте, — решительно сказала она. — Достаточно с вас, если вы придете в себя, чтобы вообще преподавать». — «Да, конечно», — сказал нерешительно пленник. «Но кому-то надо же средства на жизнь добывать», — сказала госпожа Кертес, удивленная решительным тоном дочери, но вовсе не собирающаяся идти на попятную. «Ничего, в крайнем случае реже будем обедать у «Апостолов», — взглянула Агнеш прямо в глаза матери. Это слово, «Апостолы», и непривычный этот почти вызывающий взгляд, по всему судя, ошеломили госпожу Кертес; в окружающем тайную ее связь розовом тумане, который, по ее представлениям, и в дальнейшем должен был питаться доверчивостью обманутых (разве что иногда что-то подозревающих) людей, вдруг сверкнул неожиданный — и исходящий из самого неожиданного источника, выдающий какое-то опасное знание — прозрачный намек. «Кто это обедает у «Апостолов»?» — спросила она оскорбленным тоном, но не посмела требовать разъяснений и обвинять дочь в клевете, чтобы не раздразнить ее еще больше и не заставить выложить все, что та знает. Пришелец же, удивленно подняв брови, смотрел на обеих женщин: агрессивную, не лезущую в карман за словом жену, в которой он сразу узнал прежнюю «мамулю», и эту серьезную, решительную девушку, видя которую он должен был постоянно напоминать себе, что она — та самая девочка, которую он когда-то оставил, уходя на фронт. Он не понимал, при чем тут ресторан «Апостолы», где, завершая свои прогулки по центральным магазинам, они всегда стыдились того, сколько соленых рогаликов съели, но чувствовал, что отношения между двумя женщинами далеко не безоблачны, что-то меж ними есть.
В эту ночь Агнеш спала уже в кабинете, на плюшевом диване с трясущейся спинкой. Расстилая простыню и заправляя ее края под диванные валики, она думала о родителях, которые по прошествии семи лет сегодня впервые лягут рядом друг с другом в большой, как ковчег, двойной кровати орехового дерева. Как она ни гнала встающую перед ее мысленным взором картину, ей не удавалось избавиться от нее: мать лежит в круге света, падающего от лампы на ночном столике, отец же в кальсонах стоит перед своей тонущей в полумгле кроватью и не может справиться с проклятыми запонками. Но что будет потом, в следующие четверть часа, которые, как это ни смешно, пожалуй, решат их судьбу? Отец, когда старые пружины матраца скрипнут под его телом, скажет, наверное, что-нибудь вроде: «ох-хо-хо, вот я и дома». Мать же возьмет томик «Анны Карениной», которую никак не одолеет уже много недель: она, пока не почитает немного, не может заснуть. «Меня тоже утомил этот день», — сладко зевнет отец; из детства в памяти Агнеш возник вдруг его блаженный, удлиняющий лицо зевок. Так было бы лучше всего: оба они, нет, все трое, получили бы отсрочку. Но если будет не так, если он подойдет к «мамуле» со своей запонкой или переберется через делящую кровати доску, на которой (это тоже впоследствии стало загадкой) она спала совсем маленькой?.. Что будет делать мать? Она, Агнеш, конечно, считала бы правильным, чтобы та притворилась хотя бы, стерпела: это в равной мере диктуется и подлостью, и состраданием; но в матери ни того, ни другого нет в нужной мере. А если она отвергнет его, оттолкнет рассерженно, фыркнув, как дикая кошка, не объяснит ли это лучше любых слов ситуацию этому тихому, доверчивому человеку? Как медичка, Агнеш, конечно, знала, что такое мужское бессилие. Приблизительно знала и то, как оно выражается в нервной системе и как — в corpus cavernosum[36]. Но она понятия не имела, естественна ли такая вещь для пятидесятилетнего мужчины, особенно если он столько вынес… И влияет ли скорбут на сакральные центры. Лучше всего, если б отец не пытался вовсе приблизиться к матери. Хотя бы в первое время; впрочем, мало хорошего можно ждать и позже, если он не сможет соперничать с этим Лацковичем… О, какие ужасные вещи должна она, девушка, одолевать своим ученым, но невежественным умом! Еще счастье, что отец в самом деле — как бы это выразиться? — немного пришиблен: болезнь, путешествие, утомление от обилия старых и новых лиц. То, что предположила тетушка Бёльчкеи, конечно, чушь. Нет, того, что тревожило ее до сегодняшнего дня, опасаться не нужно. Память его в полном порядке; здешних немного отпугивает лишь то, что он не может попасть в привычную глупую колею их жизни, постоянно вынужден обращаться к образам того, другого, оставленного позади кошмарного, но и помогающего увидеть настоящую ценность вещей мира. Лингвистические его исследования тоже сохранились у него в голове, даже без записей, забытых в посольстве. А мягкость, доброжелательность, изумленно взирающая на склоки людские мудрость, за которую Агнеш так любила его еще в детстве, — как все это смогло уцелеть, сохраниться в боях, среди залпов и казней, в борьбе за кусок хлеба!.. Есть в нем нечто от того растерянного странника, то и дело повторяющего: «Это… как его»; где же она читала о нем?.. ага, в какой-то пьесе Толстого… в издании «Дешевой библиотечки». Он лучше, в сто раз лучше, чем все эти люди, которые ели карпа, смеялись, жалели его или краснели из-за него.
Она уже лежала в постели; металлические тарелки пришлось-таки убрать: слишком громко они звенели, стоило ей шевельнуться. О, если бы кто-нибудь предсказал ей, что самый счастливый день своей жизни — день, столько раз во всех подробностях представляемый ею, — она проведет в таком страхе, не находя себе места. Вспомнить можно, пожалуй, всего две-три хороших минуты — когда, например, отца обнимали хористы, — но и тогда ее не покидало тревожное ожидание, кто и чем обидит вернувшегося пленника в следующий момент; наверное, потому она и не стала сдерживать слезы, чтобы доказать себе, что она счастлива… «Постигла любовная радость» — вспомнились ей язвительные слова Ивана Ветеши. Если б видел он ее вернувшийся «идеал»! И все-таки в сердце у нее дочерней любви ничуть не меньше. Даже более того: этот мягкий, беспомощный человек, о котором тетушка Бёльчкеи высказала мнение, втайне разделяемое, видимо, многими, для нее, для Агнеш, еще милее, чем тот, которого она ждала столько лет. Собственно, даже тогда, девочкой, она любила в нем вовсе не некоего «совершенного человека»… А унижения, которые он вынужден терпеть от людей, с тех пор лишь во сто крат возросли. Можно ли представить большее унижение, даже и не от людей, а от судьбы, чем эту встречу спустя семь лет? Но она именно этого не станет терпеть, она будет бороться за его достоинство… Нет, это вовсе не какой-то нездоровый комплекс, как считает Мария Инце. Но что делать: люди, хотя бы ради того, чтобы выглядеть поумнее, любят даже простым чувствам давать какие-нибудь постыдные имена. Интересно, понял бы Фери Халми, что бродит, кипит в ее сердце, пока узорчатый плюш, на который ей надоело натягивать постоянно сбивающуюся простыню, трет, словно какой-нибудь пояс целомудрия, ее привыкшую к хорошей постели кожу.
И она вдруг с удивительной, жутковатой четкостью увидела его ногу в ортопедическом ботинке, которую он поспешно втянул за колонну. Интересно, при встрече зайдет ли у них речь об этом эпизоде? Халми, по всей очевидности, другой человек — более глубокий, чем Иван. Но все же смогла бы она, сумела бы заставить себя лечь рядом с ним, как сейчас должна сделать мать, пуская отца в соседнюю кровать? А ведь мать даже не считает отца лучше других. Для нее самый веселый, самый услужливый в мире, самый достойный любви человек — Лацкович. Конечно, у отца — право: он — законный муж. Но если б она, Агнеш, в результате какой-нибудь ошибки или сознательного решения стала женой Фери?.. Собственно говоря, если он калека — что в этом такого? Одна нога немного короче другой. Перенес коксит в детстве. Веребей говорил, в раннем возрасте обильно снабжаемые кровью суставы предрасположены к воспалению… И все же: более слабая, отставшая в развитии, вялая нога — возле ее ноги, во время объятия… Агнеш охватил такой ужас, что ей срочно пришлось заставить себя вспомнить прогулки в Ботаническом саду, представить крупный нос Ивана, его яркие, чувственные губы и сильный подбородок, составляющие дугу, куда было так хорошо прислонить свою склоненную голову…
Агнеш вдруг что-то послышалось не то треск, не то вскрик. Она приподнялась на локте: все было тихо, только спинка дивана дрожала какое-то время. Тихо встав, в длинной ночной рубашке она подошла к двери в столовую, осторожно открыла ее. Под противоположной дверью не видно было полоски света, — значит, мать уже погасила свою лампу. Агнеш постояла еще немного; из спальни доносился непривычный, какой-то скрежещущий звук, который время от времени вдруг прерывался, словно наткнувшись на препятствие в глотке или в носу, затем возобновлялся со всхлипом. Агнеш скорее памятью, чем слухом установила источник этого странного звука. Это был храп прошедшего бараки Сибири, вернувшегося домой отца и мужа.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
На другой день состоялась первая стычка. К двенадцати часам Агнеш должна была обязательно пойти в прозектуру городской больницы, где слушатели курса патологической анатомии проводили вскрытия; каждому студенту такая возможность предоставлялась лишь раз в полгода, упускать такой случай было нельзя. Прежде чем уйти, она постаралась сделать все, чтобы у остающихся дома родителей было как можно меньше причин для ссоры: пока мать не встала, Агнеш вымыла оставшуюся с вечера посуду, тщательно прибралась в кабинете, где спала, отца после завтрака усадила к его сохранившимся книгам, а на прощанье спросила, не нужно ли купить что-нибудь в городе, и бросила на мать такой тревожный взгляд, словно это она привела в квартиру постороннего человека и теперь должна за это расплачиваться. В трамвае и даже в анатомичке, перед трупом, лежащим на обитом жестью столе, она то и дело вспоминала оставленных дома родителей, представляла, как они занимаются своими делами, каждый в своей сфере — отец в кабинете, мать на кухне; потом один из них — конечно, отец — приходит к другому побеседовать, завязать отношения, и тут мать выкладывает оторопевшему мужу — пускай не питает лишних иллюзий! — созревшие в ней во время варки обеда мысли. То, как мать отнеслась утром к ее стараниям, направленным на сохранение мира, не слишком-то обнадеживало: она недоверчиво осмотрела вымытую Агнеш посуду, увидев затопленную печь, буркнула: «Что, так срочно понадобилось?» — а умоляющий взгляд предпочла не заметить и отвергла его вместе с таящейся в предложении дочери ложью: «Ну конечно, можно подумать, это ты стоишь в очередях за картошкой». «Вы, барышня, так cutis[37] проткнете», — заметил с неодобрением ведущий занятия ассистент, наблюдая, как скальпель, которым она должна была через грудную клетку вынуть гортань, язык и другие мягкие органы, едва не вышел изнутри под челюстной костью.
По дороге домой она втиснулась в набитый трамвай с таким чувством, какое, наверное, испытывает мать, оставившая в закрытой на ключ квартире маленького ребенка наедине с пылающей печкой. Родители сидели уже за обедом; отец взглянул на опоздавшую дочь с оживленным от вкусной пищи лицом и доброжелательным, но в то же время вопросительным выражением; у матери был такой вид, словно она должна в чем-то оправдываться. «Хотела я дождаться тебя с обедом, — сказала она, будто ища свидетеля, который разделил бы ее отчаяние в связи с возникшим совершенно невыносимым положением, — да отцу никак не терпелось; просто одолел меня: шастает в кухню и в кастрюли заглядывает». — «Еще бы: когда оттуда такие дивные ароматы идут, — ответил, улыбаясь жене, пленник. — Не забыла мамуля мою слабость. Мясной суп, а на второе — мясо с хреном…» Агнеш, усевшись за стол, тревожно искала на лицах следы событий, случившихся за минувшие полдня. Как, только и всего? Отец выходит на кухню — поухаживать за хозяйкой… «Что это вы готовите? О-о, антрекоты, да с подливкой из хрена!» Мать, конечно, принимает ухаживание за нетерпение: господи, так теперь всегда будет, он уже в двенадцать часов станет топтаться в кухне, ждать обеда?.. Но в аппетите отца, в его устремленном на мясо взгляде не было и признака оскорбленного самолюбия, и Агнеш заколебалась; вот разве что в улыбке отца и в чрезмерной гладкости лба с большими залысинами было нечто, напомнившее Агнеш прежние, времен ее детства, бури, после которых отец, спрятав эмоции под приличествующей тому, кто постиг мудрость жизни, маской невозмутимости (и доказывая первостепенность вещей в самом деле значительных), садился обедать или, закутавшись в пальто, к письменному столу, к своим записям.
«Выходит, придется мне одному ехать в Тюкрёш», — повернулся он к Агнеш, когда жена поставила перед ними оставшееся от вчерашнего печенье и он, глазами вкушая уже десерт, зубами еще перемалывал, почти вхолостую, последние волокна мяса, пережевывая заодно и заготовленную фразу. (Сейчас, увидев это, Агнеш живо вспомнила: вот так, с таким же осторожно-вороватым, хотя и изображающим хорошее расположение духа лицом подступал он к неприятным вопросам и прежде.) Она бросила на мать испуганный, испытующий взгляд, но та, отведя глаза, повернулась к мужу. «И не рассчитывайте, что я поеду с вами к вашей родне. После того, как они обошлись со мной и с моим ребенком…» В трудные военные годы родственники отца, конечно, очень им помогали: Агнеш с матерью проводили в деревне длинные перерывы в учебе, когда в школах не было угля, ну и, конечно, летние каникулы; из деревни им присылали свинину и муку. Агнеш не стала, однако, опровергать несправедливое обвинение: на это у них с отцом хватит времени, когда они будут вдвоем. Бдительность, с которой она, вольно или невольно, уже много лет следила за матерью и которую еще более обострили в последние годы интересы отца, нацеливала ее сейчас выяснить, почему мать изменила свои намерения. «Об этом до сих пор не было речи», — сказала она, резко повернувшись к матери и вынуждая ту смотреть ей в глаза. Поездка отца в деревню, к Елизаветину дню, была постоянной темой их разговоров с тех самых пор, как отец оказался в Чоте, и мать ни разу не посмела сказать, мол, он как хочет, но она с ним никуда не поедет… Госпожа Кертес, привыкшая, что она всегда может прямо смотреть в глаза людям, и сейчас не хотела отказываться от этой своей привилегии и целую минуту выдерживала взгляд дочери: дескать, у кого, у кого, а у нее-то совесть чиста. «Было или не было, а я все равно не поеду, — заявила она; затем, подумав, решила, что, пожалуй, это не самый умный ответ. — Я никогда и не говорила, что поеду». — «Совсем довели мамулю в этих очередях», — заметил Кертес, оправдываясь, но вместе с тем и надеясь, что отказ жены ехать с ним, может быть, еще не совсем решенный вопрос.
Мать и дочь опять посмотрели друг на друга: госпожа Кертес — с некоторым испугом в глазах, Агнеш — со вспыхнувшей догадкой: «Ага, вот почему она была против, чтобы я покупала картошку. Должно быть, встретились где-нибудь в городе или хотя бы по телефону поговорили». «Вам все же придется поехать со старым барином», — решил их судьбу Лацкович на другом конце провода. Если бы она еще с минуту смотрела на мать этим твердым, презрительным взглядом, та покраснела бы или вспылила. Но Агнеш невольно перевела взгляд на отца: много ли тот понимает в этой дуэли взглядов? Госпожа Кертес тоже повернулась к мужу, поскольку там было больше надежды взять верх. Бывший пленник, приоткрыв рот с застрявшими меж зубами крошками печенья, подобострастно моргал, глядя на жену. Этот взгляд вернул госпоже Кертес самообладание и боевой дух. «При чем тут очереди? Я семь лет только и делала, что стояла в очередях. А родичи дорогие в это время чуть от жира не лопались. Нет, делайте со мной что хотите, а я больше к ним ни ногой… А о том, как они ко мне относились, я одна знаю, — добавила она загадочно; затем, набравшись смелости, выложила еще один козырь: — Думаете, я не догадываюсь, зачем Дёрдю понадобилось так срочно к вам ехать?»
Тема становилась опасной: слишком многое могло вскрыться, и теперь испугалась Агнеш. Очевидно, матери не давала покоя мысль, не нашептали ли что-нибудь мужу, и она, войдя в раж, не могла уже удержаться, чтоб не прощупать заодно обстановку на этот счет. Агнеш же убеждена была, что отец пока в полном неведении, и боялась, как бы такие намеки, для нее самой совершенно прозрачные и потому кажущиеся безумно дерзкими, не пробудили-таки в нем подозрения. «Ну хорошо, — быстро, с деланной веселостью сказала она, — не хотите ехать — не надо. Только не отбивайте у меня совсем аппетит. Я и так не могу избавиться от запаха анатомички, — сколько ни мою руки, никак не отходит, будто въелся в кожу…» И, пытаясь изобразить оживление, принялась объяснять, что предназначенные для анатомических занятий трупы хранятся не в формалине, а потому пахнут хуже, чем другие, обычные, особенно внутренние органы. Эта тема, как все, что было связано с медициной, интересовала госпожу Кертес, она даже вспомнила времена, когда служила сиделкой, и стала рассказывать, какой жуткий запах стоял в операционной, когда разбинтовывали несколько дней не перевязываемого раненого; в свою очередь, Кертес, стараясь найти хоть какую-то почву для общения с женой, поделился впечатлениями о запахах, господствующих в Бутырке.
Когда после обеда отец с дочерью ушли в кабинет, Кертес, стоя перед возвращенным ему книжным стеллажом (на который он поглядывал немного растерянно, словно лишь ради того радуясь источниковедческим изданиям, приобретенным еще в бытность его молодым учителем, чтобы не огорчать дочь; самого же его вид этих книг и необходимость опять заниматься ими приводили скорее в уныние, чем вдохновляли), снова вернулся к утренней сцене. «Темперамент у мамули не переменился. Это наследство Цурейхов: дядя Карой, покойник, таким же был. Когда мы поженились с ней, я только диву давался, до чего сильно умеет эта хрупкая, бледная женщина ненавидеть. А ведь сердце у нее доброе. Если должным образом ее направлять, она много хороших дел совершить способна. Я часто ей говорил: радуйся, что у тебя муж педагог. Хотя тут порой приходилось скорее быть дефектологом». Агнеш растроганно смотрела на отца. Очевидно было, мысли эти родились у него не сейчас. Когда он уходил на фронт, они уже давно созрели в его душе, выкристаллизовались, отшлифовались для оправдания своей любви, своей роли; в таком виде он их пронес через всю Сибирь, через тюремные камеры, упрятывая все глубже под тоску и любовь, с которыми он разглядывал фотографию жены и дочери. И теперь, едва через сутки после того, как они вновь обняли друг друга, ему пришлось извлечь их со дна сознания, правда, уже довольно смягченными, пропитанными горьковатым дымком печальной мудрости и умения жить применительно к обстоятельствам.
«Теперь вот родня моя встала ей поперек горла… Не могу представить, чем они так рассердили бедняжку, — тихо сказал он, глядя на дверь, но все же не шепотом (избегать всякого шепота было всегда одним из принципов рациональной его натуры). — Скажем, бабушка твоя!» — добавил он, покачав головой и засмеявшись, так как в матери своей, вообще-то совсем не лишенной кальвинистской твердости, он и маленьким мальчиком, и теперь видел лишь олицетворение нежности, такта, миролюбия и терпимости. «Ничего, я сама с вами поеду», — сказала вдруг Агнеш, поднося снятый с полки атлас чуть ближе к отцовскому смуглому, узловатому большому пальцу, который, несмотря на совсем иной род занятий, был точь-в-точь таким, как у тюкрёшского дедушки.
Отец взглянул на нее; на лице у него была все та же подобострастная улыбка — улыбка военнопленного, с какой он смотрел на каждого человека, — а в блеске его глаз виделось некоторое смущение: видно было, он не только не знает, как отнестись к такому неожиданному предложению, но и вообще в большом затруднении, как вести себя с этой юной дамой, которая, в силу исторической преемственности, тождественна оставленной им здесь семь лет назад маленькой дочке, но мир чувств которой, не поддающиеся объяснению фразы требуют от него таких же усилий, как и книги на стеллаже, сооруженном когда-то верешпатакским столяром. «Как же, как же, это теперь-то, перед экзаменами!» — вдруг открыла дверь госпожа Кертес, сделав несколько быстрых шагов от трюмо, где, вертя в руках гребешок, подслушивала их разговор. Если что-то казалось ей оскорбительным, она реагировала немедля, даже если этим себя выдавала. Агнеш слегка покраснела — не потому, что вызвалась ехать с отцом, а вообще из-за своего предложения, словно она в самом деле в чем-то хотела подсидеть мать. «Экзамены? Ничего, — сказала она упрямо, немного сердясь на себя за свое смущение. — В крайнем случае, возьму с собой учебник по фармакологии». — «А пропуски? Я тебе не буду их подтверждать», — выступила с новым доводом мать, которая к правилам университетской жизни относилась очень даже серьезно. «Тоже невелика беда, — стояла на своем Агнеш. — В этом семестре у меня ни одного пропуска еще не было. А папу нельзя сейчас отпускать одного», — добавила она, глядя прямо в глаза матери, словно найдя решающий аргумент, который должен был положить конец колебаниям. «Нет, это мне нравится, — сказала мать. — Из Монголии или откуда он мог один добраться домой, а из Будапешта доехать до Тюкрёша — никак». — «Не только в этом дело», — ответила Агнеш отрывисто, даже жестко. Пленник, глядя то на дочь, то на жену, ощущал некое силовое поле в споре двух женщин, но не понимал его подоплеки, — вероятно, он думал что-нибудь в том роде, что в Агнеш все-таки тоже есть что-то от Цурейхов. Он хотел было вставить уже, что мамуля, конечно, права, ведь он столько тысяч километров проделал без всякого сопровождения; однако у госпожи Кертес как раз появилась новая мысль, и она перешла на тот более сдержанный наступательный тон, который, собственно, означал у нее отступление: «А вообще-то, пожалуйста, поезжай, если тебе это так важно. Придет время, ты и в этом разочаруешься. А я сказала, что не поеду, — и не поеду». И, давая понять, что с ее стороны разговор исчерпан, ушла обратно в столовую. Чуткая бдительность Агнеш позволяла, конечно, ей догадаться, что кроется за подобной сменой позиции: мать прикидывает теперь, что она — они! — выиграет, если дочь с отцом на неделю исчезнут. Пленник немного ошеломленно взглянул на дверь, потом на дочь: может, все-таки упросить ее с ним не ездить? Однако ему тоже было бы неловко перед тюкрёшцами, если бы он приехал один, да и, собственно, то, как жена изменила тон, могло означать лишь, что наложенное ею вето было не столь уж категорично.
Оставшуюся часть дня Агнеш немного мучила совесть из-за того, что собственное решение и неожиданное согласие матери доставляют ей такую неудержимую радость. Ведь, покидая дом, она его уступает Лацковичу. Долгожданная встреча с отцом состоялась, но она вовсе не положила конец тому, что ей предшествовало, — напротив, состояние отца словно бы лишь еще крепче связало сообщников. Если Агнеш останется дома, Лацкович хоть сюда не сможет забраться, причем в случае необходимости у Агнеш будет возможность начистоту поговорить с матерью. Но то, что выигрывала она от совместной поездки, было настолько больше, настолько радостнее! Целую неделю отец будет принадлежать только ей. Пусть он сейчас видит все как в тумане — за эту неделю, в доброжелательной тюкрёшской атмосфере, должен же он будет понять, что эта с некоторым отчуждением созерцаемая им молодая женщина — все-таки его дочь Агнеш, чью детскую фотографию разглядывал он в плену и чья любовь к нему (не важно, что и он и она изменились так сильно) не только жива, как прежде, но и расцвела, окрепла, как окрепло в ней многое другое, чего до ухода на фронт он, может быть, не замечал вовсе. «Этой для него сейчас самое важное», — пыталась найти она оправдание своей радости. Если она останется дома, мать все равно найдет способ встречаться с Лацковичем. Опасность, грозящую отцу с этой стороны, она все равно не сумеет предотвратить. Отцу в отношениях его с матерью теперь поможет одно: если он быстро придет в себя, если рассеется перед ним зыбкий туман, если он станет как можно скорее прежним или по крайней мере вернет себе прежний авторитет.
На следующее утро, когда мимо мусорных баков в подворотне они вышли на затянутую осенней дымкой улицу — словно из какого-нибудь помещения, отравленного угарным газом, на чистый воздух — и Агнеш, дойдя до угла, взяла у отца из рук и вторую, меньшую сумку («Ну конечно, будешь в обеих руках таскать тяжести», — сказала, собирая их, мать, и можно было быть уверенным, что до угла она будет следить за ними из окна), она в самом деле испытала такое чувство, будто в руках у нее был не багаж (в том числе — тяжелый чемодан из свиной кожи), а два воздушных шара, поднимающих ее в воздух. Отец жаловался на одежду. «Я в Сибири зимой так не мерз, как здесь в ноябре. Но мы и одеты были там соответственно. А эта штука ведь тут совершенно распахнута», — показал он на открытый ворот пальто дяди Кароя с плюшевой подкладкой, и уже в трамвае Агнеш с материнской заботливостью поправила у отца на груди плохо повязанный шарф. (Перед этим, в ванной комнате, она порадовалась тому, что однажды, в Ботаническом саду, научилась у Ветеши завязывать галстук. Отец в спешке все еще путал петлю, концы галстука и собственные пальцы.)
«Наконец-то», — сказала она, когда, уложив вещи в багажные сетки, они устроились в одном из купе… Это значило: наконец-то мы здесь, в вагоне, и за окном сейчас побегут со школьных каникул знакомые названия станций — Будафок, Тетень, Пустасаболч, которые выглядели так радостно, когда их нужно было считать от столицы, и наплывали тоскливо, уныло в вечерней мгле после Нового года и пасхи, когда Агнеш выглядывала в окно — господи, уже Шарошд! — из-за заполнивших коридор плеч. С тех пор как вернулся отец, они впервые были сейчас одни. Вагон (с начала войны они ездили третьим классом) был еще относительно пуст и совершенно нетоплен. Напротив сидели две женщины: старая и помоложе. Голова у старухи и поясница закутаны были в бесчисленное количество больших и поменьше платков, лицо ее было необычайно бледным, с желтоватым оттенком; вторая, полная, молодая, но более рыхлая, видно, везла свекровь — она называла ее «мамашей» — из больницы, после долгого изнурительного лечения или операции; предупредительности у нее хватило, только чтобы удобно устроить старуху, а потом она все время сидела, полуотвернувшись от той, откинувшись к стенке, и с тупым любопытством глядела на Агнеш, внесшую в купе совсем иной мир. «Не жарко, а?» — обратился к ним Кертес, ежась в своем пальто на подкладке и потирая руки. «Да уж, это точно», — отозвалась старуха, повернув к нему живые горошины глаз среди землистых морщин. «Какая уж тут жара», — согласилась и молодая, из-за болезни свекрови говорившая всю дорогу жалобным голосом. «Дрова берегут», — тихим, болезненным голосом сказала старуха. Живые глаза ее выдавали, что до болезни она была женщиной, знающей себе цену, решительной и к тому же любящей острое словцо. «Я вот как раз дочери говорю: не научились мы, европейцы, защищаться от холода. Я по крайней мере с тех пор, как меня в это одели, — показал Кертес на свое расстегнутое пальто, — все вспоминаю свой ачинский ватник, который выменял у приятеля своего, Денеша Палотаи. Москали, вот они-то научились тепло одеваться да печи топить. Я от Карпат до Даурии больше четырнадцати тысяч километров проехал, потом обратно, до Петербурга, в этих их теплушках — и, скажу вам прямо, совсем не мерз. Правда, пленный, он себе тоже помогает, как может».
Две пары глаз в рамках платков были устремлены на странного барина. Молодая смотрела на него ошарашенно, не пытаясь вникнуть в значение всех этих непонятных слов: Ачинск, теплушка, пленный. Старуха же — с летучими искорками в глазах, как, должно быть, когда-то давно, в девках, когда ей задавали шутливую загадку и она должна была быстро найти ответ. «Стало быть, в плену были?» — сказала она, догадавшись, где искать ключ к странным этим речам. «Несколько дней всего, как из плена вернулся», — ответила за отца Агнеш, объясняя и отчасти оправдывая его разговорчивость. «В Челябинск мы, по дороге домой, попали как раз в последний день сентября, — соединились в голове пленника идея находчивости подневольного человека и отопления. — Люди мои все меня посылали: мол, иди попроси у начальника станции печку; там они в вагоны печурки железные ставят, вокруг них и греются. А начальник в ответ: нет, никак невозможно. В Сибири топить начинают не раньше чем первого октября. Ну, значит, переезжаем Урал, как раз первое октября, а тут — Европа, топить можно только с пятнадцатого. На наше счастье, попался нам встречный поезд, с пленными немцами. Они на нас пялят глаза: какими мы бородатыми азиатами стали; а мы на них: что это за такие странные бледные русские, на вид прямо как немцы. Словом, их там на все четыре стороны отпустили, и наши солдаты, конечно, тут же забрали печки из их пустого состава. Идут ко мне русские сторожа — я там был заместителем командира, — говорят: мои люди дрова, мол, воруют. А я им: сторожите, коли воруют. Я могу объявить по составу, чтобы поостереглись, а то пристрелят, но ведь за каждым не уследишь. Конечно, стрелять сторожа не стали: было в них русское добродушие; а ведь пленные даже в крышах вагонов дыры пробили — трубы вывести…»
«Далеко же вы были!» — сказала старуха, когда пленный поведал еще об одном своем приключении на железной дороге: их, десятерых арестованных, везли из Пскова в Москву (они лежали на верхних полках), а стражники, молодые солдаты, уснули, оружие рядом валялось, обезоружить их было проще простого, да куда побежишь в этом снежном океане? «Далеко ли? — повторил, хитровато прищурясь, Кертес, и в прищуре этом было что-то от той давнишней улыбки, с которой он на экскурсиях отвечал на вопросы своих гимназистов. — Аж на самом краю Сибири. Рядом с Монголией, у бурятов». — «У бурятов? Дьявол их забодай, я про таких и не слыхивала». И с бескровных губ старухи слетел слабый смешок, что в последнее время, видно, было настолько редким событием, что она поглядела сперва на невестку, потом на стоящего над ней пассажира: вагон наполнился к этому времени, и высокий, по виду похожий на слесаря молодой человек, надеясь на какое-никакое развлечение, даже немного вдвинулся в пространство меж их скамьями. Лукавая улыбка на лице Кертеса все больше напоминала о прошлом. «Не слыхали про таких, а? А я вот скажу: если бы один из них оказался здесь, — и он тоже взглянул вверх, на молодого рабочего, — вы бы, может, поняли что-нибудь из его разговора. Что вы, например, думаете, как они ячмень[38] называют?» Старуха с искорками в глазах, соответствующими у нее улыбке, смотрела на забавного барина. «Арпа. И яблоко[39] тем же манером — алма. Когда я бурятско-русский словарь получил (в бане, куда мы ходили, было несколько латышей — они мне достали), я чуть не упал. Балта — балта, эрдем — ердем, шерег — цериг, копоршо — кабаршаг…»[40] Старуха, которая нисколько не удивилась искажению слов «эрдем» и «шерег», снова чуть-чуть улыбнулась, услышав последнее слово, которое за последние месяцы столько раз приходило ей в голову, и вдруг, прыснув, откинулась назад и, выхватив из-под платков руку, прикрыла рот. «Запоминайте, стало быть», — обернулась она к молодайке с коротенькой фразой, которую та, несмотря на свою сонливость, поняла-таки. «А», — ответила та возмущенным, исключающим даже возможность смерти гортанным звуком, в котором даже сейчас ощущался веспремский акцент. Странный пассажир, однако, потянулся к ее головному платку. «Кёкю, — сказал он и с торжествующей улыбкой огляделся вокруг. — Кек[41], — пояснил он, так как даже в глазах молодого рабочего не мелькнула искра понимания. Затем указательный палец его, такой знакомый Агнеш по экскурсиям и по фотоснимкам, ткнул в сторону окна: — Кудуг — это кут[42]», — показал он на большой оросительный колодец; поезд тем временем тронулся, и мимо окон проплывало тепличное хозяйство.
Однако снег, лежащий на грядах, торчащие из-под снега сухие стебли и корни вызвали в памяти пленника новый образ, который перенес его на тысячи километров от бурятских степей — в огороды к северу от Петербурга, куда он отправился после какого-то праздника, поглядывая в сторону финской границы, и где выкопал из-под снега несколько капустных кочерыжек. Проезжая через Ладьманёшский мост и вокзал в Келенфёлде, попутчики познакомились с совсем новыми, чужими названиями, такими, как Сергеевская улица (там, в старом здании посольства Австро-Венгрии, обосновались венгерские коммунисты), Смольный, где был штаб Ленина, Петропавловка — крепость Петра Великого, про которого оратор-пропагандист в Омске говорил прямо противоположное тому, что они учили в школе: и сколько стрельцов он казнил, и сколько людей утопил в болотах вокруг Петербурга… Агнеш было чуть-чуть стыдно за эти его перескакивающие с темы на тему речи — и стыдно было за то, что она их стыдится. Глаза попутчиков, она видела, порой скользят и по ней: мол, что она думает об этой словоохотливости, в которой так причудливо смешаны необычайные впечатления и вовсе не предназначенные для случайных попутчиков знания, — и она с немного деланной улыбкой, но без тени неодобрения переносила чужие взгляды, словно все, что говорил отец, было самым что ни на есть естественным делом. Счастливая теплота в груди, с которой она устроилась в своем углу, хотя и таяла понемногу, тем не менее все еще была в ней и грела, и, когда Агнеш увидела, что отец не в силах оторваться от своих слушателей, она одной-двумя репликами попробовала напомнить ему, что она тоже здесь, переманить его в другую область ассоциаций, к которой относилось и ее прошлое. «Тетень», — выглянул Кертес в окно. «Мы сюда ведь, кажется, ездили на экскурсию, — попыталась вклиниться Агнеш в его раздумья. — И в Камараэрдё были. Во время даношского убийства. Помню, ужасно боялись цыган…» Она сама подозревала, что даже если они в самом деле заезжали в Тетень, это были две разные экскурсии, но с Камараэрдё у нее связано было одно из давних-давних, с пяти-шестилетнего возраста сохранившихся впечатлений, в которых отец уже присутствовал как добрый, всезнающий, сглаживающий материны капризы мудрец. Отец, однако, на ее вопрос не ответил, — очевидно, был занят своими мыслями. «Тетень, Тухутум, Тёхётём[43]: сколько я мучился с этим именем. Туг — по-бурятски и по-монгольски «знамя», — обернулся он к старой женщине, чей взгляд, видимо, подбадривал его лучше, чем взгляд Агнеш. — Во множественном числе — тугут, «знамена»; притяжательная форма — тугутум; «г», как во многих других языках, переходит в «х»: тухутум. Вот и выходит: дружина под знаменем», — с торжествующим смехом глянул он на старую женщину.
Лицо ее не отозвалось на его смех, однако в знак своего расположения она постаралась отыскать в своей закутанной в платки голове хоть что-то, что могло иметь отношение к теме. «У нас тоже был русский один, Василий. Мы его просто Лаци звали. Вы там не встречали его?..» Окружающие засмеялись. «Россия велика, мамаша», — сказал женщине слесарь. «Знаю, что велика», — обернулась к нему старуха с таким видом, будто кто-кто, а уж она-то знает, что говорит. «Василий? — улыбнулся Кертес, хитрой этой улыбкой возвращаясь от монгольских знамен к своим слушателям. — Как же, встречал в Бутырке я одного Василия, только тот в Цегледе был пленным. В семье какого-то Бакоша. Ишь ты, а имя я позабыл, — посмотрел он на дочь. — А ведь он обещание с меня взял, что привет я им передам». — «Эта Бутырка, вы сказали, — это что такое?» — немного стыдясь своего невежества, подала голос еще одна женщина, — как потом оказалось, жена железнодорожника. «Что это такое? — сказал пленник с многозначительным видом, словно собираясь объяснять какие-то важные вещи ребенку. — Это в Москве самая большая тюрьма, как у нас Чиллаг или раньше Нейгебойде… Гуляем мы, значит, по коридору, — обернулся он к старухе, у которой работником был Василий, — и вдруг слышу я: из клозета доносятся великолепные венгерские ругательства. Кто-то там коммунистов кроет, да так, что не приведи… (Старинная привычка и тут не дала ему связать сквернословие и почитаемое в течение долгих лет имя бога.) — Лица слушателей стали заметно внимательнее. — Ого, говорю я, кто же этот смелый мадьяр? Ну, заглянул из любопытства в клозет. Хотя я и в Бутырку-то потому попал, что в Петербурге разговорился в клозете с поляком». — «А потом что?» — вернули его к теме железнодорожница и вопросительный взгляд старухи. «И нашел я там крепкого тридцатилетнего мужчину, он мне чуть на шею не кинулся, как узнал, что я венгр». — «Это и был Василий», — догадалась старуха. «Так хорошо по-венгерски выучился?» — спросила железнодорожница. «Это они первым делом выучивают — ругательства», — обернулся к ней молодой человек, на вид из богатых крестьян. «А как в тюрьму-то он угодил?» — спросила старуха. «Он эсером был, это другая группа революционеров… Демонстрацию они устроили против Советов. А самое скверное, что оружие у него нашли и полторы сотни патронов. Он уже приготовился, что его расстреляют». — «Ай-яй-яй», — закачали головами бабы. «Так ему и надо: сидел бы себе спокойно, — высунулась откуда-то сбоку маленькая, сухая женщина. — Радовался бы, что господь пособил ему домой добраться. Верно я говорю?» — обратилась она к железнодорожнице: остальные пускаться в обсуждение моральных вопросов явно не собирались. «И говорил совсем чисто, как мы?» — спросил кто-то. «Слышал ведь: барин его за венгра принял», — ответил любопытному слесарь. «А то был еще почище случай, — вдохновленный всеобщим вниманием, стал копаться в воспоминаниях пленник. — Стоит наш состав на Урале, на какой-то маленькой станции. Тут приходит на станцию встречный поезд, с русскими пленными; всего в нескольких шагах мы стояли друг от друга. Вдруг слышу, в одном вагоне шум, смех. Подхожу, а мне говорят, наши крикнули тем: эй, мол, вы откуда, ребята? «Из Комарома», — отвечает один голос. А с какой улицы? — выскакивает вперед один из наших. Оказалось, с той самой улицы, где он жил. Ах ты, так тебя перетак, ты мою жену, стало быть…» — Кертес бросил взгляд на Агнеш и запнулся. Агнеш видела, что другие, уже настроившиеся на смех, глаза тоже скользят по ней. «Словом, сказал, что тот с его женой делал», — помогла старуха. В вагоне грянул дружный хохот: «Наши ведь многие тоже с русскими бабами дело имели».
Агнеш окончательно уже отказалась от надежды на разговор, с мечтой о котором она садилась в свой угол; откинувшись к стенке, она из прикрытия своего пальто следила за отцом и за его собеседниками. История с комаромским пленным оживила и развеселила пассажиров, но изменила в то же время направление их мыслей. Женщины говорили о том, как война переворошила, перепутала жизнь. Из другого конца вагона к ним пробрался мужчина, который тоже был в плену, где-то на Севере, строил железную дорогу под Мурманском; он стал рассказывать о заработанном там ревматизме, который теперь не отвяжется от него до самой могилы. Это заставило и старуху вспомнить про свою операцию. Должно быть, она страдала какой-то женской болезнью, потому что говорила вокруг да около, все больше о том, какие порядки были в больнице, как окружной врач убедил ее оперироваться, как ей велели считать, когда усыпляли. Потом Кертес стал вспоминать, как начинался у него скорбут, как он учился передвигаться на костылях… Он даже поднял штанину и показал над носком (мать велела ему надеть короткое исподнее и носки) следы кровоизлияний. Агнеш уже не нужно было бороться с неловкостью, даже когда отец задрал штанину; к растроганности ее примешивалась даже скорее некоторая гордость: ведь то, что другим представлялось редкой в господском сословии общительностью и забавным, достойным симпатии чудачеством, она видела во всей глубине, вместе с причинами и корнями. То, как он вступал в беседу с людьми, помогало Агнеш представить его в бараке или в толпе на сибирской станции, увидеть его стариком в шапке-ушанке, неотличимым от прочих, который, попав на самое дно общества, туда, где невозможно уже заботиться о своем достоинстве, по праву мудреца и нищего обращается ко всем на «ты», почти как русский мужик. Эта его непосредственность, которая где-то к Шарошду почти уже напрочь стерла различие между плюшевым зимним пальто, оставшимся от дяди Кароя, и постепенно расстегиваемыми, развязываемыми армяками и шалями, была плодом не только плена и физической немощи. Отец — это стало ей ясным сейчас благодаря его воспоминаниям — полностью никогда не мог свыкнуться с тем, что принадлежит к господскому сословию, — это-то больше всего и злило в нем мать: напрасно она давала ему трусы и носки — где-нибудь обязательно да выглядывала бечевка от мужицких подштанников. Она и родней его корила не потому, что стыдилась ее (сама она, например, охотно, без всякого раздражения ходила с ними по магазинам); просто она чувствовала, что муж до сих пор подходит к жизни с их мерками, с ними ему по-настоящему хорошо и, даже являясь преподавателем столичной гимназии, он выше всего ценит авторитет, которым пользовался в деревне, а потом у солдат на передовой; он и с дядюшкой Бёльчкеи вел беседы, не спускаясь к нему с высоты своего положения, а скорее со своего рода ностальгией — из протеста против «господского» статуса. Мать все это глубоко оскорбляло, ей же, Агнеш, нравилось уже в детстве, ведь она тоже ощущала то незаметное, но постоянное тяготение, что влекло ее, единственного ребенка, от капризной, взбалмошной матери к этим сильным, прожаренным солнцем, по-иному пахнущим людям… И все же в своем поведении, в манере общаться с людьми отец всегда был учителем; Агнеш вспомнилось, как он с помощью керосиновой лампы и чернильницы (которая не преминула в самый неподходящий момент открыться) объяснял ей и Бёжике лунное и солнечное затмение… Конечно, то, что она наблюдает, сильно отличается от ее восторженных ожиданий. И все же отец, сидящий рядом и незаметно превращающий вагон третьего класса в школьный класс, — какой притягательный человеческий сплав он собой представляет!.. Нет, дочерний инстинкт ее не обманывал. Если дать ему немного пожить спокойно, прийти в себя, он опять станет прежним счастливым человеком, уверенным в себе учителем; а эта его пришибленность, переполняющий его хаотический груз впечатлений перейдет в зрелую человечность, в широкий жизненный опыт и тоже станет способом воспитания людей.
На станции их встречал с лошадьми сам дядя Дёрдь. Уже одно это было частью «торжественного приема»: в последние годы он редко садился на облучок. Братья расцеловались в соответствии с давним ритуалом: усы их — густые, покрытые изморозью у одного и седые, по-английски подстриженные у второго — дважды крест-накрест крепко прижались друг к другу. «Ну, вид у тебя уже немного другой, не то что в Чоте», — сказал старший брат. «Да, пришлось бороду сбрить, — пощупал подбородок младший. — Жена строго-настрого наказала, чтоб я бородатым ей на глаза не являлся», — добавил он, прибегая к тому тону, в каком всегда говорил о своих с женой отношениях, но в то же время и с капелькой гордости: вот, мол, кому-то важно все-таки, как он выглядит… «Ну вот, сейчас», — сжалось у Агнеш сердце, когда дядя, услышав слово «жена», глянул за их спины. «А что же Ирма?» — ждала она удивленного возгласа, уже стоящего в сощуренных глазах дяди Дёрдя. Но тот, коснувшись знакомыми с детства чуть влажными усами ее правой, потом левой щеки, сказал только: «Стало быть, ты папочку провожаешь?» Агнеш была так ему благодарна за эти слова. Говорят: мужики. Но как тактично умеют они промолчать! Ей это нравилось еще в детстве: после бурных всплесков материна темперамента она попадала словно на другую планету, где люди ни за что не станут говорить о том, что может неприятно задеть другого. А что они при этом думают? На языке мед, как выражается мать, а под языком… свое мнение имеем? Но это ведь тоже немало, если тебя, из тактичности или из лицемерия, не обижают в глаза. Она, что ли, была искренна, когда, смеясь, ответила дяде: «Знаете ведь, каков наш брат студент? Нашла вот повод устроить себе небольшие каникулы». — «И правильно сделала, Агнешке: вон сколько у нас не была. Раньше-то каждый год приезжала», — обернулся он к брату, ища у него подтверждения своей правоты, словно слышал уже обвинения, которые сыпала в его адрес невестка, и принялся укутывать гостей в попону.
По дороге они почти не разговаривали. Дядя Дёрдь вообще не имел привычки, правя упряжкой, оборачиваться назад, а теперь еще и исключительность ситуации проредила короткие фразы, бросаемые им меж понуканием лошадей (и на сей раз это были Сивый и Дама). Агнеш, однако, — пока тряска по замерзшим комьям грязи и скрип постромок, сливающийся в одну песню с посвистом ветра, воскрешали в ее памяти и даже в теле былые поездки на школьные каникулы — чувствовала: знакомая местность точно так же подчиняет себе и отца, пробуждая в нем еще более давние воспоминания. «Мост Поши», — сказал он, когда колеса, мягко тряхнув седоков, прогремели меж каменными перилами по мосту через сузившийся до ручья Бозот. «Изгороди, пожалуй, здесь хуже, — сказал он, когда они проезжали через соседнюю с Тюкрёшем деревню, которую Агнеш, воспитанная в духе тюкрёшского патриотизма, тоже слегка презирала. — А собаки злее», — добавил он со смехом, глядя на выскочившую из каких-то ворот и с яростным лаем бросившуюся под ноги лошадям дворнягу, напомнившую ему о далеких ночах, когда он студентом, закаляя в себе смелость, в одиночку ходил по деревне со стаей несущихся по пятам собак. Возле деревни, в сырой низине на берегу Бозота, дядя Дёрдь обернулся назад: «Помнишь, Яни?» Агнеш много раз слышала эту историю и знала, про что нужно вспомнить. Тогда тоже был исключительный случай и на козлах тоже сидел дядя Дёрдь, еще смуглый, черноволосый молодой парень, недавно женившийся, и вез он из города младшего брата с молодой женой, вез по свежевыпавшему мартовскому снегу, такому обильному, что в этой низинке дорогу пришлось расчищать лопатами. Услышав вопрос брата, пленник тоже не стал напрягать память, гадая, что же тут было такое. «Женушка милая!» — сказал он улыбаясь, и эти два слова вызвали в воображении Агнеш всю картину: бледную юную даму, с испугом глядящую из-под шуб на глубокий снег, в котором увязли колеса; вот так же, должно быть, вспоминал про нее отец в Даурии, на бесконечных снежных равнинах, по которым гулял азиатский свирепый ветер. «С тех пор ты, наверное, видел снега́ побольше», — засмеялся старший брат. «И не говори, — махнул рукой Кертес. — Когда я в Чите на Антипихе учил русский язык, попал мне в руки рассказ Толстого: купец с ямщиком заблудились в пурге да так и замерзли… Помню, трудные слова в рассказе были — разные части телеги». И память готова была уже унести его в тогдашнюю «семью», как называли живущих в одной комнате пленных. Но он вдруг остановил себя. «Колокольня», — сказал он, указывая на возникшую впереди, за холмами, синеглавую колокольню, словно говоря: вот, дождался я этой минуты…
В деревне то тут, то там при их появлении останавливались спешащие вдоль дороги сапоги, спархивали с усатых голов шляпы и шапки. У домов, где жила родня, знали, кто приезжает, а чужие, заметившие их, слышали подхваченный ветром обращенный к домочадцам возглас: «Эй, дядя Яни приехал!» Тюдёши — сестра отца и ее муж — стояли в воротах; зять, будто в церкви, снял с красивой седой головы меховую шапку, румяное лицо тети Жужи, круглый ее подбородок сморщились, губы, готовясь всхлипнуть, скривились. На подворье у Кертесов все наличное население высыпало из дома. В переулок, ведущий на их улицу с главной дороги, нечасто сворачивали повозки; знакомый топот кертесовских лошадей, их ржание, означающее близость конюшни, узнавала, когда бывала здесь чаще, и Агнеш. Встречающие гостей стояли не во дворе, перед конюшней, а в конце галереи, ближе к воротам на улицу. Самой первой стояла бабушка. Чуть позади, привалившись к перилам, тетя Юлишка, из-за плеча ее выглядывало лицо Бёжике. Слуги подошли к воротам из глубины двора; позади всех, на полпути между своим делом и приехавшими гостями, топтался незнакомый работник, перед ним — Эржи, служанка, которая была у Кертесов еще в те времена, когда двухлетняя Агнеш упала в поилку для уток; впереди всех прыгал очередной представитель длинной, уходящей в далекое ее детство династии желтых легавых Гекторов и Пагатов. Отцу с его скорбутом нелегко было слезть с брички. С козел, перегнувшись назад, ему помогал дядя Дёрдь, с земли — забежавшая с другой стороны Агнеш. Маленькая ссохшаяся старушка в старомодном чепце и в платке, крест-накрест повязанном на груди, не двигалась со ступенек, не всхлипывала, как тетя Жужика, лишь блеск глаз да приподнятые для объятия руки выдавали сотрясающую восьмидесятилетнее ее тело радость… Все, кто стоял во дворе, знали: это ее день, и оставили вокруг нее небольшую пустоту, состоящую и из реального пространства, и из непритворного уважения к ее чувству. Дядя Дёрдь косился на нее с козел, тихонько, легким шевеленьем вожжей успокаивая чующих стойло лошадей; тетя Юлишка, с покрасневшим носом, привалившись к перилам, смотрела на свекровь сбоку; Эржи разглядывала хозяйку с тем отстраненным любопытством, с каким слуги воспринимают переживания хозяев… Наконец и сам вернувшийся стоял там, на верхней ступеньке. Объятия и поцелуи были точно такими же, какими их сто раз видела, приезжая на каникулы, Агнеш. С той, может быть, разницей, что сухие пальцы бабушки скользнули с плеч сына ему на шею, судорожно стиснув ее, так что поцелуй вышел более долгим и крепким. «Дал-таки бог, дождалась», — бормотала она, когда к ней подошла для приветствия Агнеш; в этом самозабвенном поцелуе да в услышанных Агнеш словах (которые напомнили ей о столько раз высказанном при свете лампы в маленькой комнатке желании, что после похорон мужа она ни о чем не мечтает больше, кроме как дождаться возвращения сына) и выразилась ее сдержанная, немая радость.
Агнеш подумала о Восточном вокзале, где они встречали отца: об астрологических познаниях яванского племянника, о хвастливой суете Лацковича, о возгласе матери «Агнеш, не волнуйся так!» у себя за спиной. Даже собственная взволнованность теперь ей казалась мелкой, постыдной по сравнению с этой радостью. Чего стоит вся ее образованность, если в значительные моменты простые люди умеют держаться настолько достойнее?.. Отсутствие матери не сошло ей здесь столь же легко, как на станции, с дядей Дёрдем. «А что же Ирма?» — недоумевающе обернулась бабушка к пленнику, когда, отпустив Агнеш, с внезапным тревожным выражением посмотрела вслед уезжающей от крыльца бричке. Недоуменный этот вопрос и сопровождающее его выражение лица были точно такой же частью обряда, как и приветственные поцелуи. Бабушкины дочери — тетя Жужика, тетя Лидике, вплоть до жены фарнадского нотариуса, — все точно так же поджимали губы и точно так же строго смотрели тебе в глаза, если ожидаемый гость почему-либо не приезжал. Недоумение вовсе не обязательно должно было означать, что тот, кого ожидали, был в самом деле гость горячо желанный, — просто по неписаным правилам гостеприимства следовало крайне изумиться тому, что кто-то не прибыл. Уж не случилось ли с ним что-нибудь?.. Ведь если причина была несерьезной, хозяевам даже приличествовало оскорбиться немного. Однако за быстрой сменой выражения на лице бабушки, за ее предписанным удивлением Агнеш, как ей показалось, почувствовала подлинную тревогу, даже, может быть, осуждение. «У нее столько сейчас забот, у бедняжки, — слышала она, уходя с сумкой в комнаты, оправдывающийся голос отца. — Вот и с Попечительским ведомством надо еще разбираться…» В кухне, где Агнеш сложила багаж, тетя Юлишка, шевеля свежий жар в печурке, тоже спросила: «Мать-то что, не могла с вами приехать?» Тетя Юлишка совсем юной попала сюда из презираемой соседней деревни, и, хотя вела себя так умело, что власть в доме Кертесов давно перешла в ее руки, тем не менее что-то в ней до сих пор сохранилось от прежней униженности, — например, дочку деверя-учителя она с младенческих лет звала только на «вы», любопытство же свое в связи с непонятным поведением свояченицы выразила не так, как другие женщины из дома Кертесов, а без всякого особенного удивления, лишь с тактичным, сдержанным сожалением. Агнеш, однако, которая очень любила и уважала ее за спокойную, уверенно поддерживающую порядок в доме дипломатию, в сожалении этом ощутила искреннее участие. «Кому-то из нас дома надо было остаться, дрова должны привезти и уголь», — объясняла она примерно так же, как объяснила бы дяде Дёрдю, но когда она подняла глаза на красное от печного жара лицо тети Юлишки, вся ее непосредственность куда-то бесследно исчезла.
С Бёжике они лишь перекинулись несколькими словами, пока Агнеш мыла руки перед обедом, а Бёжике подавала ей полотенце. Та была года на два, на три старше Агнеш и кончала реальное училище еще до войны, у них в Будапеште. Училась она неважно, но была скромна, дружелюбна, и, хотя закадычными подругами они с Агнеш не стали, однако ладили друг с другом неплохо — хотя бы уже потому, что были друг в друге заинтересованы: с Бёжике связаны были для Агнеш летние каникулы, с Агнеш для Бёжике — поездки в Пешт. Мать тоже хорошо относилась к деревенской племяннице: та податливостью и послушанием столь же успешно умела обезоружить воинственную натуру госпожи Кертес, как и тетушка Бёльчкеи; у матери было больше общих развлечений с Бёжике, чем с Агнеш: летом они вместе занимались рукоделием под ореховыми деревьями, зимой вместе ходили на оперетты в театр Кирая. Когда Лацкович начал за ней ухаживать, Бёжике не была такой уж юной, и Агнеш, беря у нее полотенце, вспомнила, каким исступленным, испуганным было ее немного веснушчатое лицо от поцелуев Лацковича, когда она неожиданно открыла дверь в ванную… Чем для нее стало сейчас это переживание? И чем — постепенное прозрение в следующий ее приезд (Агнеш тогда как раз была в Фарнаде), догадка, что она тут не более чем прикрытие, а веселый ее рыцарь, собственно, добивается расположения считающейся неприступной тети?.. Агнеш ни от нее, ни от кого-либо другого не слышала больше об этом ни слова, но знала, что стыд и разочарование прочно въелись в стены дома Кертесов. «Ну как тетя Ирма там, что поделывает? Рада, что дядя Яни вернулся?» — спросила Бёжике, после некоторой борьбы отобрав у Агнеш таз с грязной водой. Агнеш бросила на нее удивленный взгляд поверх таза. Слова Бёжике прозвучали неожиданно, даже дерзко, особенно вторая часть фразы, но Агнеш скорее удивлена была их звучанием: в нем было нечто новое, словно Бёжике заговорила вдруг иным, более чистым голосом, не так, как произносила обычно — чуть-чуть в нос, глуховато — подобные фразы. Откуда идет эта чистота, Агнеш не знала. Может быть, Бёжике хочет продемонстрировать, что переборола уже в себе то, что Агнеш привыкла считать ее горем, и чувствует себя в силах спокойно поинтересоваться, чем занимается тетя Ирма? Или, может быть, это насмешка (какой огромной должна быть тогда горечь Бёжике, чтобы сделать ее на такое способной!): дескать, как там они, очень рады приезду дяди Яни? «Спасибо, ничего», — ответила Агнеш на первый вопрос. Но пока Агнеш преодолела растерянность и готова была более пристально взглянуть в глаза Бёжике, та вместе с тазом и с тайной была уже во дворе.
За обедом этот ясный, едва ли не высокомерный тон Бёжике получил-таки объяснение. Торжественность и необычность момента, как заведено было в Тюкрёше, тетя Юлишка постаралась выразить числом приготовленных блюд. Возвращение члена семьи позволило объединить воскресный обед и праздник убоя свиньи. После мясного супа были поданы голубцы, потом блюдо с домашней колбасой, потом жареная утка, потом три вида пирогов и любимое лакомство Яни — слоеные коржики. Каждое блюдо гость встречал мимикой и словами, выражавшими величайший восторг и благодарность; пожалуй, восторг он даже немного преувеличивал, чтобы тем самым полнее выразить благодарность. «Что же тут такое, в этом супе, у которого такой чудесный аромат? — поднимал он ложку ко рту. — Неужто ракушечная лапша? (Агнеш радовалась, что сейчас с ними нет матери: эта «ракушечная лапша» была для нее такой же красной тряпкой, как «сахарные бобы»: если это ракушки, то, значит, не лапша.) А какие чудные пятна жира плавают сверху… О, тут еще мозговая косточка?.. Нет, от этого я просто не в силах отказаться. Что бы мы не отдали в Бутырке за такую вот косточку… А тут, под сметаной, что такое? О, голубцы! В Антипихе мы еще пару раз пробовали голубцы приготовить, но вот в Ачинске уже завидовали бедному Лаци Сметане (потом его чехи расстреляли), который во сне голубцы ел… Боже мой, тюкрёшская колбаса! — принюхивался он к запаху, плавающему над блестящим от жира блюдом. — Это та свинья, что к Елизаветину дню закололи?.. Ого, еще цыпленок фаршированный!.. Ну, чуть-чуть фарша я попробовать должен. И маринованные фрукты к нему?» Каждое появляющееся на столе блюдо он встречал возгласами узнавания и восхищения, потом шли ассоциации и сравнения из недавнего прошлого: то из голодных лет, то из первого, антипихинского, периода, когда на царские пятьдесят рублей офицеры могли держать даже повара, а бывало, и свинью закалывали. Сидящие за столом сочувственно наблюдали за встречей столько всего перенесшего человека и сытной домашней еды. «Ну, а шлепанцы, сынок? — подала голос бабушка, которая из-за отсутствия зубов (зачем людям смотреть, как она пищу мусолит деснами) не села за стол, а смотрела на пирующих сбоку, с диванчика. — Я больше всего удивилась, когда услыхала, что ты шлепанцами торгуешь на базаре. Не знала, смеяться мне или плакать над этим». — «Не только торговал: мы сами их и плели. Приятель мой, Денеш Палотаи, профессор из экономической академии, знал, как надо за это браться. У нас целая фабрика шлепанцев была; я, как знающий русский язык, носил их на базар… О, шлепанцы! Это еще относительно хорошая была жизнь!»
Когда эмоции по поводу нового блюда переходили в тихое углубленное пережевывание (ел уже только он один), в пленнике оживал интерес к семье, и он принимался перебирать сидевших за столом, а затем и отсутствующих родственников; выходило это у него так, словно они были тоже какими-то почти забытыми блюдами. Сообщив, в связи с какими кушаньями вспоминалась ему в плену жена брата Дёрдя, он сообразил, что надо бы выразить ей уважение и другими, не кухонными воспоминаниями. «У меня и сейчас будто перед глазами стоит, как она появилась здесь, такая славная шестнадцатилетняя девушка. Сестры, помнится, без восторга к ней отнеслись, они и постарше были уже и говорили — прошу извинить за грубое выражение (хотя тут надо было не за выражение извиняться), — мол, у этой под носом еще сыро… Смотри-ка, это не Эржи ли там? — посмотрел он на дверь, откуда вплывали восхитительные блюда, а сейчас появился лишь синеватый в прожилках нос служанки, вызывающий хозяйку на кухню. — Когда здоровались, я ее сразу и не узнал, — продолжал он, вынуждая ее появиться, с конфузливой улыбкой, в дверях целиком и вновь ответить на рукопожатие вставшего из-за стола гостя. — Вижу, вижу, потолстели немного», — окинул он взглядом ее бедра… Так дошла очередь — после племянника Шани, который получил-таки в Чурго аттестат зрелости, а теперь служил в армии, — и до Бёжике. «Часто я вспоминал стихи про Лорелею, — ласково, словно еще одно лакомство, разглядывал ее Кертес. — С каким же трудом нам удалось их выучить для мадам Комароми (в реальном училище преподавательниц следовало называть «мадам»). Часто я думал, что Бёжике наверняка уже замужем. С таким славным характером быть бы ей за секретарем управы или за директором школы. Тетя Ирма, помню, тогда уже ломала голову, не удастся ли кого-нибудь из моих жеребцов (так мы учителей-практикантов звали) захомутать для нее?»
Агнеш, дожевывавшая последний коржик, быстро встала и пересела к бабушке. В тени, за спинами, легче было и со своим смущением справиться, и не надо было видеть неловкие, досадливые улыбки других. «Может, этого покушаете?» — подставила она тарелку бабушке. Но когда снова посмотрела на стол, то на лицах увидела совсем иную улыбку — не досады, а стыдливо подавляемой гордости, с какой хороший хозяин (чтобы не искушать зря судьбу) говорит о том, чему он более всего рад: о необычном большом урожае или об удачных детях. «Так оно вроде так и выходит», — сказал дядя Дёрдь, поглядев на жену и дочь. «Эх, отец, уж не мог подождать до завтра», — робко упрекнула его тетя Юлишка. «Что, неужто невеста?» — демонстрируя радостное удивление, остановил Кертес во рту, как было принято в Тюкрёше, кусок пережевываемого коржика. «Завтра к вечеру, в Елизаветин день, объявить собирались…» «Так вот что за сияние было в глазах у Бёжике», — сообразила Агнеш. Сейчас надо бы броситься к ней, расцеловать, выспросить все: «Кто же он? Фарнадский священник? Значит, ты у нас попадьей станешь?» Но мучительные воспоминания ли ей помешали или что другое — Агнеш только привстала с тарелкой в руке и воскликнула: «Бёжи!» А ведь мало кто мог ощутить такое огромное, почти физическое облегчение, какое почувствовала она при этом известии… Когда затих радостный гам, Агнеш повернулась к бабушке. «Как вам папа?» — спросила она тихо. Утонувшая в глубоком диване старушка посмотрела в сторону керосиновой люстры, где сын ее, вспомнив трогательные отношения тети Ирмы и Бёжике, восхвалял теперь другие женины добродетели: как она, например, берегла его вещи, даже спортивные шаровары уложила в нафталин. «Туго ему пришлось, бедному», — ответила бабушка, жалостливо качая маленькой головой в чепце.
Они сидели еще за столом, когда в приоткрытой двери показался синеватый с прожилками нос и Эржи объявила о приходе новых гостей. Сестры Кертеса довольно давно уже, особенно с той поры, как владение домом стало предметом тяжбы, почти не входили в большую горницу; территорией, на которой они встречались с семьей Дёрдя, оставалась лишь комнатушка, где обитала бабушка. Вот и теперь вся застольная компания вслед за испуганно вскочившей старой хозяйкой удалилась туда, пока переполненная каморка не дала повод сначала Бёжике, затем вызванной по кухонным делам тете Юлишке, затем виночерпию дяде Дёрдю потихоньку оттуда уйти. Замужние сестры, обе носящие фамилию Тюдёш (они вышли замуж за двоюродных братьев — Петера и Яноша), были полной противоположностью друг другу: нижняя (с нижнего края деревни) постоянно боялась чего-то, жаловалась на несправедливость судьбы; верхняя же (с верхнего конца) и при шестерых детях осталась олицетворением беззаботного оптимизма, вполне разделяемого мужем. Издавна здесь сложился обычай: когда брат с семьей приезжал в деревню, они уже в первый день появлялись с приглашением на обед и на ужин. Однако на сей раз пришли не только они, пришли и другие, давно уже не претендовавшие на то, чтобы Яни ходил к ним в гости: Пал Соко, двоюродный брат Кертеса, одна молодая баба, которую Агнеш знала только с виду, потому что та лишь недавно стала членом семьи, два сына Тюдёшей, которые хотели представиться свояку как самостоятельные хозяева. Снаружи, на крыльце, дядя Дёрдь приглашал в дом (безрезультатно, конечно) фарнадского арендатора, которому младшая их сестра, жена фарнадского секретаря управы, строго-настрого наказала ехать и передать брату, что его там обязательно ждут; а еще к одному хозяину, который с господином лейтенантом был вместе на фронте, Кертес сам вышел на галерею. Среди поцелуев, объятий, знакомств и узнаваний («Как же, как же, свояка, Йожефа Кертеса жена!», «Ну конечно, Яни — только с другими усами!») Кертес едва успевал с благодарностью принимать приглашения. Агнеш пришлось следить, чтобы на какой-нибудь обед или ужин не пообещаться сразу в два дома. При каждом объятии и приглашении, разумеется, возникал вопрос насчет тети Ирмы, вернее, ее отсутствия. «А что, Ирма не приехала? Уж не больна ли?» — взглянула на брата, затем на Агнеш Тюдёшиха с нижнего края, которая, правда, знала уже, что Ирма не приехала с братом, однако сделала такое лицо, будто услышала, как звонят на пожар, и теперь хочет узнать, где горит. Верхняя Тюдёшиха и этот факт восприняла как вещь вполне естественную: «Ирма дома осталась? Ну и правильно. Мало радости по такой грязи в деревню к нам тащиться». «Может, тетя Ирма чувствует себя плохо?» — спросила даже новая молодайка, которая только по фотографиям знала скандально известную даму. Одна из Тюдёших, та, что всего боялась, даже отозвала Агнеш в сторону. «Уж не случилось ли между ними чего?» — прошептала она, посмотрев на брата. «Нет-нет, что могло между ними случиться?» — взглянула на нее Агнеш. «Вот и я говорю — ничего», — скользил по ней изучающий, испуганный взгляд, пряча под напускным спокойствием оставшееся подозрение.
Так жизнь Агнеш и Яноша Кертеса, начиная с семейного ужина по случаю Елизаветина дня (на котором появился будущий зять — склонный к полноте священник лет тридцати), окончательно погрузилась в запах жареной утки, который, словно священный дым обязательной, предписываемой обрядами жертвы, неизменно витал над столами, накрытыми в честь возвратившегося на родину пленника, и после шести-семи обедов и ужинов, еще возбуждавших привыкший к столовской пище желудок Агнеш, превратился в физически ощущаемый в воздухе жирный туман, погружающий Агнеш в сонливость и вызывающий легкую тошноту. Меню схожи были и во всех других отношениях. Меж ужинами и обедами различие было лишь в том, что дневной утке предшествовал суп с потрохами, а меж утками нижних и верхних Тюдёшей — в том, что у тети Жужики, кроме маринованных фруктов, к утке еще подавали те самые ярко-зеленые огурцы, а у тети Маришки — квашеную капусту. У Соко, чей дом считался едва ли не аристократическим (жена Пала была из дворян), рядом с уткой лежали перцы, нафаршированные капустой, а маринованные яблоки и груши были хитро вырезаны, образуя что-то вроде кружев; у Йожефа Кертеса, представлявшего другую ветвь Кертесов, где первого сына всегда называли Йожефом, молодайка над тощей и только что не сгоревшей уткой, у которой разрезы на груди сделаны были скорее по обычаю, чем для вытекания жира, долго жаловалась на хорька, который унес весь первый утиный выводок, так что эту пришлось взять без откормки. Так же обстояло дело и с пирогами. Тетя Жужика напекла пирожков с орехами, в середину каждого была вложена карамелька; в доме Соко подавали печенье, приготовленное по господским рецептам; в остальных же домах гостей радовали обычной медовой коврижкой, то есть песочным тестом, замешенным на меду.
Без особого разнообразия протекали в основном и застолья. В большинстве семей по каким-то старинным правилам (не так, как у дяди Дёрдя) стол был накрыт на троих и с гостями садился только хозяин. Одна лишь жена Соко устроилась во главе стола, да веселая тетя Маришка присела бочком рядом с братом, хотя не ела ни крошки. Женщины подавали блюда, меняли посуду и, если выпадала минутка, прислонившись к печи, смотрели, как работают челюсти у гостей, выходя в круг света от лампы, лишь если надо было подать нож или вновь пригласить наполнить почти опустевшую тарелку. У нижних Тюдёшей с их пятью дочерьми (единственный сын, студент, встречал дядю Яни на Восточном вокзале) в горницу постепенно набились, вслед за живущими пока дома, и замужние дочери, толпясь в полумраке между дверью и печкой, так что Кертесу каждый раз приходилось таращить глаза, чтобы установить, кто вошел: одна ли из тех, с кем он уже поздоровался, или новая, которую надо было еще связать с позабытой за семь лет тенью; в то время как у верхних Тюдёшей, когда гости вошли, от стола брызнули сплошь мужчины (сыновья и работники вперемешку), которых потом не было ни видно, ни слышно, у Соко же, где детей не было и достаток поэтому больше бросался в глаза, на Агнеш и ее отца глазел, кроме конфузливой девки-служанки, лишь диван с высокой спинкой и вышитыми салфетками на ней. У Лайоша Тюдёша, который, женившись, поселился в доме жены, в глубине кухни, когда они вошли, появилась какая-то старуха — очевидно, мать молодайки, — но, кроме варки и жарки да убаюкивания младенца, то и дело принимавшегося плакать в соседней комнате, на участие в приеме гостей она никак не претендовала, да и сама молодайка понимала, видимо, что миски вместо тарелок и полосатая скатерть не очень-то соответствуют рангу гостей, — видно, с матерью у нее вышел даже спор насчет приглашения: Агнеш догадалась об этом по тому, с каким видом старуха слушала оправдания дочери («Сами знаете, дядя Яни, мы не графья», «Вы, дядя Яни, в Сибири и похуже ножом, поди, ели»). У молодого Йожефа Кертеса, в их единственной горнице, выглядывала из кровати раньше времени загнанная в постель, прячась и кокетничая, крохотная девчушка, которая вскоре там и заснула, с раскрасневшейся рожицей среди теряющихся в сумраке полосатых перин.
Начинал и поддерживал разговор всюду, конечно, Кертес, каждый раз восторженно принимая жареную утку и с интересом знакомясь с особенностями гарниров, подливок и фаршей. Агнеш искренне поражалась, как это может отец бесконечно есть, а главное, бесконечно восхищаться едой. Сама она не могла уже даже видеть жир, поблескивающий на капусте, и, чтобы не обидеть жалующихся на жизнь хозяек, возилась с каким-нибудь сухим крылышком или по крошке щипала печенье попостнее; отец же, хотя к восторгам его примешивались уже нотки шутливого отчаяния и он по нескольку раз со значением говорил, как накормили их перед этим, и даже перечислял, чем именно накормили, — тем не менее снова и снова, блестя глазами, налегал на выбранные куски. Агнеш пробовала предостеречь его: «Не вредно ли вам столько?…» Она знала, что между двумя застольями, а нередко и ночью ему по нескольку раз приходилось ходить на двор; однако отец, озорно косясь на нее и хитровато улыбаясь, отвергал ее опасения. «Дочь вон боится, как бы мне утка не повредила, — обращался он к хозяйке. — Да ведь настоящие-то опасности уже позади, — добавлял он, поглядывая на угощенье. — А пускай немного и повредит: не могу же я такой аппетитный кусочек оставить. Это что, гузка? Эх, была не была. За здоровье мамули, — поворачивался он к Агнеш. — Она больше всего эту часть любит». Жареная утка сопровождалась, наподобие обязательного гарнира, воспоминаниями о тюремной баланде с рыбой, или, точнее, с рыбьими костями, о бутербродах, которыми угощала его в петербургском коммунистическом доме больная жена товарища Вайса, или — из еще более дальних пластов памяти — о гуляше из баранины, который варила на Иртыше вдова генерала Кузнецова, ныне жена прапорщика. И от этих уходящих в прошлое образов, заставлявших женщин то замирать с застывшей на губах улыбкой, то глядеть без выражения прямо перед собой, мысль отца вдруг совершала скачок в сторону, и на слушателей сыпались монгольские соответствия названий холмов, пустошей, лугов вокруг Тюкрёша, а то появлялся сам грозный бог Тенгри; или мысль эта уходила в другом направлении — и в речах отца возникала Ирма, которая всю войну так заботливо берегла его одежду и которой он из некоторых домов даже посылал открытки, исписывая их прежним своим четким, красивым почерком и давая подписаться присутствующим.
Если кушанья чаще всего уносили застолье в Сибирь, то к своим делам и заботам хозяева получали возможность вернуться посредством вин. Пленник с большим пиететом относился к содержанию граненых стаканчиков, но настоящим любителем хмельного он не был (не то что хозяева, которые ковыряли пищу больше ради порядку, зато гостю спешили долить стакан, даже если в нем лишь чуть-чуть не хватало до верху, — чтобы по этому случаю долить и свои полстакана); он больше играл с вином — как с одной из заново обретенных радостей: подолгу держал, отхлебнув, во рту, смакуя вино на вкус, который напоминал ему гору Лайош, где он со школьных лет столько раз собирал виноград, или виноградники возле деревни, знакомые ему с самых первых посадок; осведомлялся, оттуда ли, с той ли горы этот «шиллер» или «кадар»[44], который он пьет, и сохранились ли старые виноградники, оправдали ли себя новые, есть ли у молодых хозяев свои участки, — словом, вкус вина приносил под прокопченные балки горниц добрый кусок родных краев, а вместе с ними и довоенные времена. Отсюда не один путь вел в недавнее прошлое, неведомое и непонятное гостю, по коей причине о нем стократ интереснее было рассказывать. Владельцы винных погребов вспоминали свои приключения при коммуне, с гордостью объясняя, как «товарищи» опечатывали у них бочки и как виноделы ухитрялись все же их распечатать. Или как свояк Соко, опасаясь попасть в заложники, прятался в старом полуобвалившемся винном погребе, давно уже приспособленном под хранение картошки; отсюда был один шаг до легендарного черного списка, в который, даже по мнению умного нижнего Тюдёша, занесены были все до одного крепкие хозяева в деревне: продержись Советская республика еще несколько дней, их бы всех расстреляли. Теперь, спустя два с лишним года, все это вызывало лишь легкую дрожь в спине, так же как в памяти людей помоложе — итальянские цистерны с вином, из которых во время наступления приходилось вылавливать утонувших в вине солдат. Иной ход разговора, помрачнее, вел от виноградников к имуществу, к положению крестьянства. Заводили зятья разговор и о доме: мало того, что Дёрдь получил больше, чем остальные сестры и братья, — теперь он и дом хочет себе присвоить. Молодые жаловались на стариков: сидят на земле, не желают делиться ни пядью, женившимся и вышедшим замуж затыкают рот парой хольдов, как хошь, так на них и хозяйствуй; молодость свою они провоевали, теперь им за тридцать, а они лишь детишек делают да ждут, пока старые в ящик сыграют. Дойдя до этого пункта, беседа, словно наткнувшись на плотину, начинала бурлить и кружиться на одном месте. Хозяева, до сих пор следившие за гостями и ловко, тактично, с присущим крестьянской речи лукавством вставлявшие замечания, вдруг обо всем забывали; даже иронический профиль нижнего Тюдёша становился мрачным и злым, а Тюдёш верхний, который, как бывший гусар и знаток лошадей, с шурином был в доброй дружбе, сейчас своим хрипловатым приятным голосом оправдывался: конечно, хорошее дело родство, да скажите мне, виноват я, что ли, что чей-то родственник. То, что слушал их человек посторонний, на семь лет отставший от их забот, лишь подстегивало мужиков, заставляя высказывать накипевшее, и совсем сбитый с толку странник должен был становиться третейским судьей, которому все объясняли с самого начала: пусть разберется, пусть сопоставит с тем, что слышал по-другому и от других; в потоке объяснений и жалоб оживали, становились острее, выходили на свет божий, ломая традиционную сдержанность, многие давние, полузабытые среди будничных дел обиды, а из толпы сгрудившихся у дверей или в углу домочадцев, которых в полутьме и различить-то было нельзя, вдруг вырывался пронзительный женский голос, подбрасывая в идущий у стола разговор, словно хворост в костер, новый факт или уточняющую подробность.
Агнеш с изумлением слушала эти страстные, ненавистью пропитанные речи. Что ж, они, выходит, лишь перед нею не раскрывали себя? Или настолько горше стала жизнь с той поры, как она стала реже сюда приезжать, — и это сейчас, когда будапештцы только и делают, что ругают лопающихся от жира мужиков. Кертес выслушивал гневные речи серьезно, относясь к ним как к грубой пище, которую тоже приходится есть после той, что тает на языке; он кивал и старался ответить что-нибудь такое, что не обидело бы ни присутствующих, ни отсутствующих. Например, насчет дома Кертес сказал: «Мои родители вроде английских дворян поступили: те дочерей выдавали замуж, из младшего сына священника делали (ну, в нашем случае — учителя), а состояние старались сохранить для старшего сына — наследника родовой фамилии». («Майорат надо было ввести», — вставил Петер Тюдёш.) Молодым: «Учиться надо было. За последние полстолетия у нас вон какая интеллигенция появилась, а сословие сельских хозяев, самое венгерское и самое в хозяйственном отношении крепкое, в ее создании не участвовало». («Сына учить? Чтобы он умнее меня стал?» — вспомнил слова своего отца Йожеф Кертес.) Пленник лишь улыбался, на первый взгляд убежденный, и лишь по дороге домой качал головой (предварительно пощупав со вздохом живот): «Сколько же злости в людях! И тут война нас выбила из колеи».
Доверительное, располагающее к взаимопониманию общение, ради которого Агнеш и поехала с отцом в Тюкрёш, в бесконечных визитах к родственникам было так же невозможно, как и в набитом людьми вагоне третьего класса. Дорога домой по темным, в колдобинах улицам для ног отца была все еще нелегкой задачей, справиться с которой он пытался, изо всех сил тараща глаза и крепко держась за локоть Агнеш. Воспоминания об обильных блюдах и сопровождающие процесс переваривания метеорологические явления даже на относительно безопасных участках оставляли время лишь для коротких досадливых замечаний да покачивания головой. Поговорить они могли, только когда укладывались спать. Тетя Юлишка поместила их в большой горнице; когда они возвращались домой, она еще раз набивала кафельную печку сухими початками. Пока они прогорали, можно было бы побеседовать. Но отец начинал раздеваться, Агнеш выходила из горницы, помогала хозяевам по дому, разговаривала с ними, а когда уверена была, что не застанет его в исподнем, входила и, погасив лампу, в темноте ложилась сама; отец, устав за день, уже засыпал. Его хватало разве что на зевок, смешанный со вздохом («Эх-ха-ха, вот и еще день прошел»), или на какое-нибудь воспоминание из времен плена: «До чего ж хороши перины. Сказали бы мне про такое в Бутырке, где я на голых нарах валялся, — разве бы я поверил!..» Так что Агнеш лишь оставалось смотреть на угли, на черный рисунок решетки на фоне бегучего жара, на полосу света из дверей до перины отца; потом, тихо встав и притворив дверцу печки, она, лежа навзничь, продолжала снова и снова прокручивать в голове все те мысли, что уже передумала, лежа на боку и глядя на огонь. Пляшущие на углях огоньки, привораживающие взгляд, и огненные круги, плывущие за закрытыми веками, воскрешали в памяти чей-нибудь взгляд, улыбку, иронический проблеск в глазах Петера Тюдёша, когда он угощал отца, лицо недавно попавшей в семью молодайки в тот момент, когда она, слушая лингвистические разглагольствования отца, бросила на него быстрый взгляд. Неужели она подумала то же, что тетушка Бёльчкеи? Хорошо еще, что все замечающие глаза крестьянских родичей в пылу разгоревшегося спора утратили свою обычную зоркость, да и отец как раз погрузился в задумчивое молчание, как и полагается третейскому судье. Как он, бедный, силился обрести прежнюю форму, оставаться на высоте положения — хотя бы с помощью прежнего стиля речи, который воплощал рассудительность и ученость.
Но вера ее, которая получила поддержку даже в поезде, среди сгрудившихся вокруг странника пассажиров, не рассеялась до конца и после этих утонувших в табачном дыму, в жирном запахе жареной утки вечеров. На четвертый или пятый день, например, когда они в темноте ковыляли домой от Яноша Тюдёша, отец был оживленнее, чем обычно. Яни Тюдёш тоже побывал в плену, его взяли на итальянском фронте, после распада Австро-Венгрии, и раздел родины он наблюдал с Сардинии, как Кертес — из Ачинска. Была в нем известная независимость, упрямое нежелание подлаживаться под общие мнения и согласно кивать, повторяя избитые мудрости; наверное, это упрямство и побудило его сказать, как гордились они Красной Армией, когда она выбила чехов из Кашши и Эперьеша[45]. Такой поворот в разговоре вызвал и у отца совсем иные, ничего общего не имеющие со страшными слухами о составленных красными списках воспоминания; он рассказал, что они на другом конце света тоже согласились бы записаться в коммунисты, если бы это могло спасти Венгрию от раздела. Сыновние жалобы тоже вышли на сей раз совсем к другому итогу. Когда Яни, скорее подтрунивая, чем всерьез, стал поминать отцовскую двуколку — в том смысле, что, может, его и не тянуло бы так в погребок вечерами, если б отец не уезжал на ней инспектировать батрака да холостого сына на привычных угодьях, в Хейфёлде и на Штудинке (а доверил бы заботу о том или о другом ему, мальчишке, у которого вон уже голова начинает седеть), — молодайка, острая на язык Кати Варга, про которую во время войны ходили кое-какие сплетни, обратила жалобы против мужа. Дескать, можно было бы начинать и с тем, что было да что он за ней получил. Легче, конечно, плакаться да по погребкам шляться с бывшими фронтовыми дружками, которые все, как один, в собутыльников превратились. На что Яни в своей полудеспотической-полуфилософской манере ответил: «Откармливай-ка ты уток, если деньги хочешь копить. А я не желаю лишь ради того, чтобы ты дяде Яни на меня не накапала, как всякие скупердяи, лишать себя удовольствия в жизни». Эта искренняя беседа (и не слишком жирная утка) расшевелила и Кертеса, так что он даже по дороге домой все продолжал рассуждать сам с собой. «Н-да, все эти люди, сорванные с насиженных мест, — мы об этом в Сибири еще много спорили, — как они смогут войти в свою колею? Были, кто утверждал: мол, походят, поскитаются люди по свету, навидаются разного на всю жизнь — потом счастливы будут, если можно будет возле жениной юбки весь век просидеть. А вон Яни-свояк — не зря жена его намекала — может служить как раз обратным примером. Правда, ему уже и в мальчишках деревня тесна была». — «Это ведь он сбежал в город, в ученики поступать?» — попробовала поддержать беседу и Агнеш. «Солдатчина настоящим спасеньем ему стала. Он еще до войны отслужил три года, это с пленом — все десять лет. Уже в конце второго года стал взводным. Меня он перед самой войной удивил: попросил учебник итальянского языка. Он служил где-то под Триестом и помнил, что я занимался итальянским… Смотри-ка, я и забыл спросить-то, пригодился ему итальянский потом или нет». — «Это в самом деле ужасно, что такому парню, хотя и возможность была, не дали образования», — ухватилась Агнеш за тему, которая должна была быть отцу как учителю и как родственнику одинаково интересна. Из шестерых детей Тюдёшей, которые в школе все учились прекрасно, к тому же все были ладными и красивыми, ни один не смог продолжить образование, а вон Шани и Бёжике Кертесов отец сколько терзал арифметикой… «А многие тысячи крестьянских детей с острым природным умом, все эти Халми, так и застрявшие дома, в деревне…» — хотела продолжить Агнеш, но то, что минуту назад было всего лишь удобной темой, сейчас, когда она вдумалась в их удел, в самом деле ее глубоко взволновало. Мысли Кертеса шли, однако, совсем в ином русле. «Слышал я, с дядюшкой Бёльчкеи тоже что-то неладно», — произнес он неожиданно, следуя своим думам о судьбе потревоженных войною людей. «С дядюшкой Бёльчкеи? — удивленно переспросила Агнеш. — От кого вы это слышали — от тети Кати?» — «Мамуля рассказывала. С какой-то уборщицей он связался, — сказал отец без всякого осуждения, с готовностью понимать даже то, на что сам, может быть, и не был способен. — У себя на службе».
Дальше Агнеш уже не могла поддерживать разговор: потеплевший голос отца при упоминании о «мамуле» (как будто тот факт, что она с ним обсуждала подобные вещи, с ее стороны был знаком особого расположения) заставил ее так живо представить себе эпизод, когда мать с возмущением говорила о поведении дядюшки Бёльчкеи, будто Агнеш сама при этом присутствовала. «Да, не та уже Кати, что прежде. Просто свихнулась из-за своего муженька. Он себе уборщицу какую-то подобрал, настоящую потаскуху, пропадает с ней где-то, а эта все их выслеживает», — говорит мать так, как говорила и прежде о подобных вещах, и ей даже в голову не приходит, что между ее поведением и выходками дядюшки Бёльчкеи можно провести параллель, которую тетя Кати в душе своей давно уже, собственно, провела. Инстинкт самозащиты просто-напросто перекрывает в ее сознании возможность неприятных ассоциаций… Однако тема, несмотря даже на протестующее молчание Агнеш, не осталась без продолжения. Дома, когда, потоптавшись в кухне, она открыла дверь в их общую спальню, отца она застала не в постели: он, уже в ночной рубашке, но еще в носках и трусах, стоял перед стеной, разглядывая семейные фотографии в свете повернутой к ним лампы. Там, под дипломом, полученным Сивым на выставке, висело немало снимков: дядя Дёрдь с тетей Юлишкой, перед ними маленький Шандор; Бёжике с куклой и обручем; дедушка с бабушкой; сам Янош Кертес — лейтенант императорского егерского полка, с едва пробившимися усами. Взгляд отца, однако, задержался на другой фотографии. «Золотая свадьба, — обернулся он к Агнеш, которая успела уже войти в горницу и остановилась в растерянности. — Совсем забыл, что она еще до того была, как меня в армию взяли, — размышлял он вслух, глядя на фотографию, потом, заметив смущение дочери, спохватился: — Пардон…» — и растерянно одернул рубашку, не зная, забраться ли в постель или погасить свет; в конце концов он стал снимать носки на краю кровати. «Можно гасить? — поспешила Агнеш, пока дело не дошло до других предметов туалета. — Я думала, вы эту фотографию уже видели», — сказала она позже, когда отец в темноте забирался в постель.
Золотую свадьбу дедушки и бабушки справляли весной того года, когда началась война; на торжество собрались все шестеро детей с женами и мужьями и с двадцатью четырьмя внуками, и фотография, на которой (как на школьном снимке с учителями и учениками разного возраста) была запечатлена вся семья, за эти семь лет стала для Агнеш чем-то обычным, как фотография дяди Дёрдя на свидетельстве об увольнении с гусарской службы. «Помню, как мы стояли перед фотографом, — сказал Кертес из-под перины после усталого и довольного зевка, означавшего, что предыдущий неловкий инцидент в своей душе он уладил. — Я тогда подумал еще: наша семья сейчас в зените. Сплошь здоровые, сильные люди, между сорока и пятьюдесятью; у свояка Ороса, правда, началась уже сухотка спинного мозга, которую он подцепил, работая на железной дороге, но тут, на фото, он еще вполне хорошо выглядит; про зятя Белу, секретаря управы, я и не говорю. Женщины — тоже в расцвете сил. И эта куча детей вокруг. Нам с мамулей, правда, тебя одну лишь удалось сотворить, но зато среднее количество — лучше, чем по стране… У Яноша Тюдёша шестеро, у Оросов все семеро; Илонка у нас торговое училище кончала, когда седьмой появился. И даже они не знали еще, что такое нужда, хотя в основном жили на жалованье. А тут, в деревне, и вовсе хорошо шли дела. Дёрдь молотилку купил, кирпичный заводик построил, выплатил деньги за гусарский клин; а зятья: Янош — конями своими славился, Петер сберкассу основал… Конечно, были тревожные признаки и в те времена… Поколение Дёрдя уже по-другому относилось к работе, не так, как наш отец, который и сам спину гнул в поле, вместе с работниками. А они уже и в худшем смысле слова начали обуржуазиваться… Вмешивались в дела деревни, уезда, Дёрдь, тот даже был депутатом в комитатском собрании… Поняли, что за состоянием достаточно лишь присматривать. И чем больше привыкали к барской жизни, тем чаще гулял кувшин в винный погреб. А чем больше слабела предприимчивость, тем скорее былое соперничество переходило в зависть и злобу… Молодежь уже выросла в этой атмосфере… Теперь-то, естественно, нищета, десять — двадцать хольдов… В истории ведь то же самое: если какой-то класс перестает подниматься, ему один остается путь — к неминуемой гибели. То, что я сейчас вижу, усиливает мое беспокойство. И Коммуна тут ни при чем: эти люди, если они, как дети Ороса или ты, не выберут интеллигентское поприще, все равно придут к упадку».
Агнеш все с большей радостью внимала доносящимся из-под огромной перины прерываемым паузами, зевками словам. Насколько печальны были они для семьи, настолько же утешительны — для нее. Значит, вот как видит, вот как слушает своих деревенских родичей этот приученный кивать и поддакивать человек! Живущий в его сознании образ семьи, образ, в котором гордость смешивалась с тревогой, сложился, конечно, еще до войны, вынесен был отсюда, из Тюкрёша; но сейчас отец снова смог до него подняться, а главное, в то самое время, когда, на первый взгляд, он лишь пытался утолить свой застарелый, неутолимый голод, в нем, скрытая под восторгами и благодарностями, шла напряженная работа мысли, он сопоставлял былую картину с тем, что видел собственными глазами теперь, и это наполняло Агнеш надеждой, что мозг его не ущербен, как можно было подумать, но активен и проницателен, как всегда. Вот она, например: не столь уж давно она жила у этих людей, проводила здесь целые месяцы, а всего этого не замечала… не замечала таких очевидных вещей! Для нее они все — просто родственники отца, иные, чем она и мать, загорелые, милые люди, образующие особый, тюкрёшский мир — своего рода большой бурский клан; отец же, он вроде бы просто ищет кусок поподжаристей, следит, чтобы не ляпнуть чего-нибудь лишнего, а тем временем некий невидимый орган в нем словно бы занят напряженным анализом: опираясь на прежние знания и на опыт, дорогой ценой приобретенный вдали от дома, он все впитывает, перерабатывает, оценивает — и вот уж отец, который, по выражению матери, был «без памяти» от своей семьи, теперь, меж зевками в постели, чуть ли не крест ставит на будущем этого клана, как Веребей — на безнадежном больном.
Но пока она собиралась включиться в эти размышления из области семейной истории, Кертес уже вернулся к золотой свадьбе. «Мы с мамулей тоже очень даже неплохо там выглядели. Ей, с ее трудным характером, необходимы были обеспеченность, может быть, чуть-чуть легкомыслия. К тому моменту желания ее исполнились: я стал учителем гимназии в Пеште, выбрались мы, после долгой волокиты, из тяжбы за наследство дяди Кароя. Пусть на это ушла моя доля земли, но у нас было жилье в Пеште, квартира с ванной. Помню, мы думали, не послать ли тебя в следующем году в Лозанну. Нервы, конечно, у нее и тогда были не из крепких, но она уже не выглядела такой бледной и малокровной, как сразу после замужества. А на той фотокарточке, где вы вдвоем, что она мне на фронт прислала, на мир она смотрит очень даже уверенно. Война, конечно, и тут все перевернула. Я часто думал там, в плену: эта женщина должна или закалиться, или погибнуть. То, что я тут нашел, собственно, даже лучше, чем можно было предполагать. («Ты не знаешь еще, что нашел», — подумала Агнеш.) Конечно, она и сейчас взрывается от малейшего пустяка. Как ее вывело из себя, что брат поехал ко мне в Чот! Я только улыбался, читая ее письмо…» («Если бы ты еще понял его…» — растрогала Агнеш такая доверчивость, столь всеобъемлющая, что упоминание о письме почти совпало с первым всхрапом, вырвавшимся из раскрытого рта над отвалившимся подбородком.) «Хорошо все-таки, что я привезла его в Тюкрёш, — думала про себя Агнеш. — Здесь он самое большее желудок себе расстроит».
На четвертый или на пятый день дошла очередь и до поездки в Фарнад. Вопрос о том, как они туда попадут: секретарь ли пришлет за ними упряжку, или дяде Дёрдю как хозяину придется оторвать от работы пару коней, — с самого детства был предметом, подогревающим молчаливую, но ощутимую и для Агнеш тайную взаимную антипатию. Агнеш и в этот раз стала невольной свидетельницей, как во дворе, под ее окном, тетка сказала мужу: «Ты что, опять мальчишку (то есть паренька-кучера) услал? Деверь-то вон уже спрашивал (то есть когда же они поедут в Фарнад)…» На что дядя Дёрдь сначала лишь промычал что-то нечленораздельное, потом ответил: «А там дожди пойдут (то есть дорогу развезет, нельзя будет грузы возить). — Затем сразу же: — Что ты мне-то про это говоришь (то есть пускай хоть сегодня едут)?» Агнеш, хотя и чувствовала себя какое-то время не в своей тарелке, успокоила свою совесть тем, что их праздник не остановил ход вещей в мире, что старая неприязнь так и осталась неприязнью, а кукурузу и сахарную свеклу, что бы там ни было, надо возить на станцию, — и с радостным нетерпением отправилась в фарнадское путешествие.
С детских лет в ее каникулярных воспоминаниях Фарнад был особенно ярким, светлым пятном — благодаря красным и зеленым блестящим шарам на кольях среди кустов роз, смеющимся из-за белых досок забора, благодаря ухоженному саду с ореховыми и грушевыми деревьями за напоминающим дворянскую усадьбу домом, благодаря тому, что маленький этот оазис был словно тоже создан неистребимым, чуть плутовским добродушием и постоянной готовностью посмеяться и пошутить, которыми дядя Бела, словно стремясь компенсировать тяжкий груз служебных своих забот и вечно кислые, недовольные лица членов своей семьи, окружал попавших в дом гостей. Ее, Агнеш, он привечал особо: девчушкой еще он называл ее «самой любимой своей племяшкой», а когда она стала девушкой, да к тому же студенткой-медичкой, к симпатии прежней, по-родственному игривой, добавилась еще и мужская симпатия, смешанная с долей почтительного уважения, словно в выросшей у него на глазах юной родственнице воплотилось все то, что способно было пробудить в нем благоговение, обуздать в нем, привыкшем к покорности молоденьких служанок и солдатских вдовушек, эгоистическое высокомерие, — воплотились такие качества, как красота, ум, воспитанность, которые означали недоступный ему тип женщины и которых он так и не обнаружил в собственных дочерях. Агнеш льстили гордость и внимание, с какими этот прослывший жестоким и неукротимым человек говорил с нею то в ласково-шутливом, то в серьезном тоне, как равный с равным; за это она старалась поменьше думать о том — может быть, даже заведомо все прощая ему, — что знала об этом веселом чудовище от тетки и от двоюродных сестер. Вот и сейчас из-под навеса новой брички она смотрела в моросящий дождь с ощущением, что едет к надежному союзнику. Тюкрёшская родня как-то все пряталась от нее за табачным дымом и запахом жареной утки; даже бабушка больше ничего не сказала, кроме тех в первый вечер произнесенных слов; а дядя Бела знает, как ждала Агнеш отца, и найдет убедительные, сочувственные слова, которые смогут развеять теснящий ее страх.
Встреча произошла так, как она того и ждала. Дядя Бела, словно на пути к дому у него были расставлены наблюдатели, которые докладывали ему о приближении тюкрёшской брички, когда они въехали во двор сельской управы, стоял уже на крыльце, где ждали обычно очереди принесшие налог или пришедшие за паспортом на скотину мужики; свою франтоватую шляпу дядя Бела поднял с таким торжественным видом, будто не перед шурином с племянницей, а перед самою судьбой, перед историей, перед благородной глубиной и возвышенностью собственных растревоженных встречей чувств ее поднимал; и едва они прокатили по окаймленной пирамидальными тополями аллее, ведущей в его владения (дядя Бела старый дом сельской управы использовал как амбар и чулан, новый же возвел на своем участке), едва прошли через первые хозяйкины всхлипывания и причитания, в которых на первом месте почему-то фигурировал тележник, как он уже входил в дом характерной своей гусарской походкой. «Уж я так вас ждала, так ждала каждый день, — повторяла, всхлипывая, тетя Ида. — Давно бы сама поехала, да как раз чинит этот тележник бричку. Я уж говорю Беле: если завтра не будет готова, пешком потащусь, так и знай. — Потом, увидев мужа, продолжила тише: — Все ж таки отправил вас, значит, Дёрдь…» Дядя Бела с расширившимися от слез, в красных прожилках глазами встал перед шурином, слегка разведя руками, словно показывая крайнее изумление или готовясь задушить гостя в объятиях; Агнеш знала это его движение, знала, что таким образом он лишь обозначает паузу, которую растроганность и благодарная радость требуют выдержать между наступившим событием и первым мужским поцелуем. «Ну, дождались-таки, — сказал он затем, высвобождаясь из рук немного поторопившегося с объятием шурина. — То-то теперь кое-кто счастлив», — повернулся он к Агнеш. И эти несколько слов, и увлажнившиеся глаза, дважды увиденные совсем близко в осторожном поцелуе, и теплое, знакомое с детства пожатие сильных короткопалых рук — все это вдруг воскресило в сознании Агнеш ее долгое, многолетнее ожидание, в которое дядя был посвящен, а вместе с тем и уверенность, что теперь ничего плохого не может уже случиться, что веселая, с прибаутками речь из-под густых рыжеватых усов, блеск крепких белых зубов рассеют ее тревоги.
Конечно, тут тоже пришлось сразу садиться за стол — перекусить с дороги. Но в Фарнаде даже обряд еды был не таким, как в Тюкрёше. Вместо вина к столу подавали пиво; дядя Бела точным, осторожным движением откупоривал бутылки, приставив их к косяку двери, и речи его лились, будто пена из горлышек. Напрасно тетя Ида, потчуя гостей свежими утиными шкварками, пыталась перевести разговор на специально откармливаемую уже две недели утку, которая к нынешнему дню так заплыла жиром, что еле дышит, но она так прямо и сказала, что, пока не приедет Яни, она утку резать не станет, — дядя Бела быстро ее остановил. «Сестра твоя, бедняжка, и радость-то иначе как уткой не может выразить. Не сердись на нее, она тоже рада. С тех пор, как из Чота пришло от тебя письмо, она такая довольная ходит, глаже своих уток стала. И все приговаривает: «Слушай, он уж, наверное, и не приедет» — ведь тюкрёшцы всегда говорят не то, на что надеются, а то, чего не хотят, «Да уж, конечно, — говорю я ей, — дурак он, что ли, приезжать на твои шкварки из того рая». Шурин, глядя блестящими глазами на шкварки и набив ими рот, лишь рукой махнул: дескать, ох уж этот мне рай… А дядя Бела продолжил: «Что, не рай разве? Спроси-ка вон у товарища Пинтера. (Пинтер был в Фарнаде во время Коммуны председателем Совета.) Это он сказал, что у нас теперь будет так: каждому — по нужде. Кто по нужде больше сделает, вон как, скажем, батрак твоего брата, тому больше отвалят, а кто, вроде как моя половина, все на запор плачется, того будут кормить раз в неделю или, может, два раза, но понемножку». — «Ой, Бела, ну что ты такое мелешь», — сконфуженно замахала руками тетя Ида. Дочери только мимикой показали, как они относятся к подобным речам. Некрасивая, с ласковыми глазами Мальвинка рассмеялась, Матильдка же оскорбленно вскинула голову. «Вы что, Агнеш стесняетесь? Она туда даже палец сует на вскрытии, верно, племяшка? Пардон: любимая моя племяшечка… Ну, теперь маэстро Пинтер пусть в свое удовольствие фантазирует насчет рая, — вернулся он к своему врагу, немало крови ему попортившему во время Коммуны. — Он сейчас за решеткой. Словом, не захотел ты на всю жизнь в комиссарах остаться, как тебя ни приманивали». — «Это уж точно, приманивали, — засмеялся Кертес, нацеливаясь на мелкие маринованные дыньки. — А вот это можно попробовать? — И, после усердных поощрений и старательного выбора съев дыньку, добавил: — Когда мы границу у Риги пересекли, все вздохнули: слава богу, вырвались из этого ада».
Такой ответ удовлетворил дядю Белу, и он перевел разговор на главный объект своего остроумия — на женщин. «Ну, а скажи честно, какая-нибудь татарская красотка, — понизил он голос до шутливо-интимного тона, — не держала тебя там в заложниках?» — «Нет, ты видишь, Яни: этот опять про свое, — сказала жалобно тетя Ида. — У него дочери взрослые, а в голове все одна дурь». — «Плохо было бы, если б не было этой дури. Коли уж человек столько лет не видел доброго родственника, как, скажем, я — шурина Яни, так он все у него должен выспросить: как жил, что ел-пил, ну и всякие прочие вещи. А эта считает, что уж если есть у нее муж или старший брат, так пускай будет евнухом». (Дочери снова исполнили свою пантомиму.) — «Насчет тебя-то в этом смысле можно не опасаться», — горько сказала тетя Ида. «Мы там как раз вроде евнухов были, — подстроился к тону хозяина гость. — Первые три года потому, что под охраной сидели. А потом — от щей да от рыбного супчика». — «Словом, легко было праведником остаться», — захохотал дядя Бела. Затем, когда дочери, собрав тарелки с остатками пищи, исчезли в кухне, снова начал: «Но соблазны были все-таки за семь-то лет?» — «За соблазнами дело не стало бы, — засмеялся Кертес, покосившись на дочь, — скорее смелости не хватало». — «Вот те раз, — удивился дядя Бела. — Артиллерийского обстрела он не боялся, а тут — смелости не хватало? Перед Агнеш смело можешь признаться, я ей даже свои анекдоты, причем не из самых салонных, рассказываю. Ведь ей, как врачу, мужиков придется в армию определять: годен, не годен». И Кертес, немного поколебавшись, поведал, что в Омске, где у него была даже некоторая официальная должность («Как, ты там в должности состоял?» — перебил его дядя Бела, но быстро проглотил неприятное удивление) — он помогал составлять транспорты военнопленных, — однажды пришел к нему очень видный молодой человек в крагах. (Слово «краги» он и сейчас произнес с глубоким почтением — как человек, явившийся из такого мира, где красивая и незаношенная деталь одежды настолько большая редкость, что по ней узнают хозяина). «Он у Колчака служил, и краги ему подарил какой-то англичанин. А позже, когда от красных пришлось убегать, дезертировал, успел жениться, у жены на хуторе и хозяйствовал. Я его включил в транспорт, а за это получил от него плохонькие гетры». — «А жена что?» — спросил дядя Бела; красноватое веснушчатое лицо его выражало нетерпеливое внимание и готовность залиться веселым смехом. «На другой день приехала и, как узнала, что муж удрал, ну и ругалась же… Такая лет тридцати — тридцати пяти бабенка, складная, все как надо». — «И ты ее не утешил? Ну и дурак». — «Не скажу, что я об этом не думал…» Тут Агнеш встала и вышла вслед за теткой и двоюродными сестрами. Но в дверь еще слышала: «Да только вспомнилась мне флорентийская моя хозяйка…» Про флорентийскую хозяйку Агнеш что-то такое слышала, кажется, еще в детстве. Студентом отец какое-то время провел во Флоренции, и нетрудно было угадать, почему его так испугало воспоминание о флорентийской хозяйке, особенно когда сквозь дядин хохот, выражавший сознание своего мужского превосходства, долетел на кухню обрывок фразы: «Боялся, что много придется потрудиться за кашу…»
Завтрак этот оставил у Агнеш неприятный осадок. Выходит, и дядя Бела не способен пойти дальше растроганных, теплых объятий, которыми он встретил прошедшего через столько мук человека, проявить к нему подлинный интерес, понять его положение. Словно и он, как тетя Ида со своими утиными шкварками, может дать только то, что имеет: пенистое, через край льющееся веселье, которое отличало его от прочих людей; Агнеш лишь сейчас впервые заметила — может быть, потому, что уж очень оно, это веселье, было не к месту, — насколько его манера держаться натянута, неестественна. Прячась за добродушие, за готовность пошутить, посмеяться, он, конечно, тоже следил за гостем, острый взгляд его подмечал и откладывал в памяти все движения шурина, сравнивал его с прежним Яни — гордостью семьи Кертесов, крестьянским сыном, который, закончив круглым отличником прогимназию в Дёнке, сумел, одолев все препятствия, дорасти до университетского диплома, в то время как он, дворянин, даже необходимое для секретарства свидетельство об окончании шести классов получил с грехом пополам. Пока бывший пленник выбирал себе дыньку, дядя Бела бросил на Агнеш взгляд, в котором было сочувствие и растворенная в улыбке жалость, но Агнеш так и не поняла, кому адресовано это сочувствие: изголодавшемуся за многие годы родственнику или ей, ожидавшей возвращения этой развалины как праздника, видевшей в этом смешном человеке кумира. А то, что дядя и отца заставил участвовать в дурацком своем представлении, просто бесило Агнеш. Да и отец хорош: сразу, не пытаясь даже сопротивляться, попался в ловушку, был втянут в нее зычным хохотом зятя. Пошел у него на поводу с той же покорностью, с какой поддержал перед этим его политические симпатии. И не в том даже дело, что он говорил, — ведь, конечно же, он был рад, когда пересек границу, — а в том, как безропотно принял — хотя сам-то думал совсем по-другому — тон зятя, его суждения. Словно нищий бродяга, который стоял уже на многих порогах и научился за миску супа делать любую угодную хозяевам мину. Но ведь так оно на самом деле и было. Казаки, покупатели шлепанцев, лагерное начальство… Немало потребуется времени, пока он избавится от этой подобострастной, ставшей чуть ли не настоящим его лицом маски недалекого, со всеми согласного простачка.
После завтрака дяде Беле надо было вернуться в управу, где шло какое-то совещание по поводу претензий на землю, прерванное из уважения к вернувшемуся из плена шурину; Кертес же встал к плите рядом с сестрой — поговорить, пока она готовила тесто для пончиков и мазала жиром утку. «Сам видишь, Бела нисколько не изменился, — возвратилась к своему наболевшему тетя Ида; потом, взглянув на молодежь, сказала: — Матильда, покажи-ка Агнеш фотографии, где вы подружками на свадьбе». Все трое поняли: тетя Ида хочет попотчевать брата после шкварок своими жалобами. Агнеш еще в Тюкрёше уловила краем уха злорадные намеки насчет того, что в Фарнаде нынче есть причины для жалоб сверх обычного, но, по горло в своих тревогах, не обратила на это внимания. Однако теперь, листая старый, хорошо знакомый альбом, в котором к прежним добавились фотографии умерших родителей дяди Белы и новые свадебные снимки (женился какой-то племянник дяди Белы в Секешфехерваре), а заодно прислушиваясь к просачивающимся из кухни голосам, она ощутила в себе — может быть, потому, что в ней была уже некоторая обида на прекрасное настроение дяди Белы, — больше сочувствия к этим трем живущим в тени постоянного, безудержного, как водопад, веселья несчастным существам, к которым до сих пор относилась лишь с необходимой долей тактичности, стараясь, чтобы они забыли или хотя бы не столь сильно чувствовали все то, что так отличало ее от них и что им представлялось прекрасным, несбыточным: жизнь в столице, образование, ее отца, которому все оказывают такое внимание, и прочие вещи. Сидят тут, бедняжки, в деревне, прикованные к судьбе родителей, сами словно слепленные из черт, взятых как попало у двух этих совершенно не подходящих друг другу, непохожих людей; у младшей, Мальвинки, материно лицо, только с преувеличенными почти до гротеска чертами, большой рот ее постоянно готов прыснуть со смеху: легкий нрав отца, растворенный в крестьянском подобострастии Кертесов. У Матильдки же белая кожа и рыжие волосы — от отца или даже скорее от бабушки по отцу; бедная, она столько раз слышала, что она отцова дочь, что это вселило в нее какое-то беспричинное высокомерие; она была невероятно горда их дворянством и то и дело по всякому поводу вздергивала высокомерно голову; самомнение это сочеталось, однако, с холодными загибающимися кверху пальцами (точь-в-точь материна рука) и со скудным умишком, в полной беспомощности которого Агнеш имела возможность убедиться в качестве домашнего репетитора перед переэкзаменовкой после пятого класса. Сейчас у них в жизни событие: они были на свадьбе и там, как сообщила сквозь смех и без всякой зависти Мальвинка, Матильдке даже нашелся ухажер — некий тоже запечатленный на фотографии бесцветный и невысокий молодой человек; Матильдка и по этому поводу вздернула голову, словно ей пытались навязать кого-то вовсе ее не достойного, и произнесла лишь: «Ну вот еще».
Проснувшееся сочувствие к сестрам помогло Агнеш более естественно изображать на лице интерес; глядя на фотографии, она расспрашивала, кто есть кто, словно должна была помнить не только родню жениха, но и совсем незнакомой ей невесты, а тем временем думала о беседующих в кухне. Тетя Ида была самой младшей, поздней дочерью Кертесов; Яни шел перед нею и был лет на шесть-семь старше. В большой семье они были ближе прочих друг другу. И теперь они шепчутся у большой плиты под закопченным дымоходом в доме всесильного, деспотичного человека. У отца за плечами — лагерь, тюрьма, у тетки — проведенные в слежке ночи, когда она, подавляя страх перед темнотой, кралась к конюшне или к сторожке в саду, где, как она подозревала, муж назначил свидание, а брату теперь предстоит выслушивать все эти ужасы. Ведь тетя Ида столько лет ждала дня, когда все это сможет высказать. Даже ей, Агнеш, она говорила: «Был бы дома твой папочка, хотя бы он его пристыдил». И быть может, именно потому, что так сильно ждала его, она одна лишь не замечает, что брат вовсе не тот, каким уходил. «Может, это не так уж и плохо, — подумала Агнеш, — что кто-то видит еще в нем прежний авторитет». И, так как у сестер внимание тоже было сосредоточено на кухонной двери, разговор в комнате незаметно зашел о том же, что в кухне. «Мамочка бедному дяде Яни все никак не наплачется», — начала Мальвинка, и здесь ухватив смешную сторону дела. А спустя пять минут речь уже шла о разлучнице: «Знаешь, она здесь служила, когда ты в последний раз к нам приезжала». — «Та девка, дочь сторожа?» — «Точно, сторожа с виноградников». Агнеш вспомнилась неопрятная девица, потом — игривый смех дяди Белы и одна фраза, которую тетя Юлишка кинула как-то мужу и в которой поминались какие-то близнецы. Уж не от дяди ли Белы те близнецы появились?.. Предположение это, каким оно ни было непристойным, вызвало у нее улыбку, как и у тюкрёшских родичей, которые наверняка верят в суперфекундацию[46] и в каком-то ехидном уголке своего мозга связывают этот удар судьбы с неуемной энергией дяди Белы.
Уже за обедом она почувствовала: что-то назревает. Гость скорее из вежливости, чем от души изумился, обнаружив в мясном супе с плавающими пятнами жира гороховую лапшу. И когда в мимике, сопровождающей появление новых блюд и речь дяди Белы, наступила пауза, на лице его появилось то озабоченное выражение, которое заставляло Агнеш опять вспоминать детство. Вот так он сидел за столом в тех случаях, когда знал, что должен высказать неодобрение кому-нибудь из присутствующих, чаще всего, конечно, жене; на нем почти воочию видно было, как слова порицания, которые он обязательно должен произнести, постепенно преодолевают его нелюбовь говорить другим неприятные вещи, его тревогу, отвращение к скандалу, который он этими словами вызовет. Сейчас Агнеш, с десятилетней дистанции, вдруг увидела даже, что должно было за этой хмурой озабоченностью последовать: перед тем как он мучительно выдавит из себя первое слово, губы его — и не только губы, но и весь рот — как-то своеобразно задвигаются, словно он в самом деле пережевывает слова, которые собирается высказать, но не в том смысле, что прежде трижды обдумывает мысль, скорее чтобы перебороть сопротивление своей миролюбивой натуры. «Уж не собирается ли он что-то сказать?» — изучала Агнеш эту оказавшуюся знакомой, но выглядевшую теперь такой жалкой мучительную борьбу с собой. Тетя Ида вполне способна, ссылаясь на родственный долг, натравить беднягу, едва пришедшего в себя после скорбута, на этого сильного, громогласного человека, не терпящего даже малейшего намека на оскорбление. Сарка тоже знал свою жену: совещаясь с претендентами на землю, он мог бы чуть ли не в мельчайших подробностях представить, как сестра изливает душу брату (потому, пожалуй, он и не взял за горло тележника, чтобы тетя Ида не смогла без него поехать выплакивать свое горе), и оттого в его оживленном радушии сквозила нервная готовность к стычке. Говорил он почти беспрерывно, даже хлеб клал в рот, не останавливая потока слов; сначала поносил земельную реформу: что за чушь — давать по два-три хольда скверной земли беднягам, которые сразу себя начинают мнить хозяевами. Беднякам этого все равно мало, а настоящий хозяин останется без рабочей силы. Затем, видя, что шурин не спорит с ним, да и негоже потчевать своими заботами гостя, он принялся забрасывать того беспорядочными вопросами насчет плена. Что-де это за место — Даурия, вроде Энинга[47], что ли? И как там, тоже всю землю сделали общей? Говорят, ты и в тюрьме побывал. Ну и что это за тюрьма? Такая же, как в Ваце? Однако в вопросах его теперь настоящего интереса было еще меньше, он старался лишь поддержать беседу. Что делается в России, он знал и без шурина, по собственному печальному опыту, приобретенному во время Коммуны, и явно искал что-нибудь, какую-нибудь деталь, за которую можно было уцепиться и позабавиться. Услыхав, что в сибирских коммунах сначала даже еду стали было готовить сообща, да бабы потом все перессорились, он хохотал так долго и громко, что прослезился. «Как прислуга в господском имении: это моя сковородка, это твой казанок. А ведь их тут двое, ну, четверо. А если целую деревню согнать?» Больше всего, однако, понравились ему тюремные впечатления шурина: какой большой было победой, когда ему доверили делить хлеб, да как выжигали вшей, да какова была судьба того общего ведра. Словно унижение, испытанное невезучим родственником, который сейчас ахает, поражаясь обилию стола, увеличивало его, хозяина, значительность. Потом, раз уж вскипающий то и дело, меж взрывами веселья, страстный гнев его, обращенный против коммунизма и Ленина (которого он упрямо называл евреем), не встретил достаточного сопротивления, он, перейдя к пончикам, неожиданно повернул разговор к тяжбе и к нанесенному братьям и сестрам ущербу, да с такой яростью, что выдавил-таки из Кертеса нечто вроде несогласия. «Слушаю я и поражаюсь, — сказал тот, обращаясь скорей к сестре, — сколько и здесь, и в Тюкрёше в людях злости. Мы там, в госпитале, скорбутом мучаясь, не то что от двух хольдов земли — от всего на свете, кроме тарелки супа, рады были бы отказаться, только бы снова стать на ноги». Тут дядя Бела мог уже наконец поспорить: «Если бы этот бордель еще с год продолжался да если бы молодцы из отрядов Черни оставили меня в покое, а не грозились приподнять на вершок над землей, так и я, глядишь, смирился бы: черт с ними, пускай отнимают у меня не два, а пять — потому что пять полагается — хольдов, пускай жить мне придется в какой-нибудь развалюхе. Только если уж мир вернулся в свою колею, так мне не к тому надо примеряться, что могло бы быть, а к тому, что требуют от меня в этой ситуации интересы моей семьи. Дёрдь вон ведь тоже не скажет, мол, раз господь дал мне сто хольдов, так раздам-ка я их несправедливо обделенной родне». На что Кертес, не желая раньше времени обострять отношения, лишь кивнул в знак согласия.
Глядя на все более озабоченное лицо отца, которое от сознания взятой на себя миссии и в ожидании подходящего для начала разговора момента стало почти рассеянным, Агнеш догадывалась: как только мужчины останутся наедине, положение старшего брата, которое отец, оправдывая надежды сестры, вынужден был, как европейское платье, недоумевая и морщась, все-таки натянуть на себя, заставит его отважиться на какое-нибудь неловкое, нерешительное, но тем более способное взбесить дядю Белу нравоучение; чтобы предупредить, а если уж не удастся предупредить, то хотя бы смягчить неминуемую ссору, она попыталась было остаться за столом. Но тетка, знавшая, что тут готовится, приторно-сладким голосом вызвала ее в кухню. «Пойдем-ка со мной, Агнешке, — сказала она, сливая утиный жир в банку, — с тобой мы еще и не поговорили толком». Тетя Ида всегда разговаривала с племянницей ласково, едва ли не подобострастно, однако скрывающиеся за словами чувства ее были вовсе не однозначны. То, что Агнеш тоже из Кертесов, то есть член семейного клана, что она неделями гостит у тети Иды и относится к ней с должным почтением, заставляло включить ее в тот круг людей, на которых распространялось тепло скупого теткиного сердца; но Агнеш была красивее, образованнее, чем ее несчастные дочери, а главное, она даже с глазу на глаз не принимала теткину сторону в ее вечном споре с мужем, да и дядя Бела вел себя с ней так по-рыцарски; все это подмешивало в ее ласковый тон подозрительности, словно Агнеш в чем-то изменяла Кертесам. Вот и сейчас тетя Ида умильным голосом, но с некоторым отчуждением во взгляде выспрашивала племянницу про университет, про то, как кормят в столовой, и рада ли она отцу, хотя все это, разумеется, ее мало интересовало, тем более что слух ее был постоянно нацелен на дверь горницы. «Ну, а как Ирма?» — спросила наконец и она, и в рассеянном ее взгляде мелькнуло сосредоточенное внимание. «У мамы тоже все хорошо», — как можно естественнее сказала Агнеш. «Все такая же моложавая? — продолжала тетя Ида. — Когда она в войну сюда приезжала, я все глядела и удивлялась: ведь мы ровесницы с ней, а мне до нее…» И она, разгладив на животе фартук, оглядела себя сверху вниз. «Время ведь не стоит на месте и для нее», — сказала Агнеш, слегка краснея за эту банальную мудрость, которой она пыталась отрицать как раз то, что имела в виду тетя Ида. «Это уж точно: возраст, он и до нее доберется», — согласилась тетя Ида, причем в ее тоне звучало: ох, допрыгается эта Ирма… И тут она бросила испуганный взгляд на дверь, за которой в этот момент мирная беседа вдруг прервалась, голоса мужчин зазвучали возбужденно. Она, очевидно, и в эту минуту связала в своей приватной, для личного пользования, мифологии невестку и мужа: они были в ее глазах теми родившимися под счастливой звездой людьми, кто мало трудится, живет в свое удовольствие и все-таки пользуется всеобщей любовью и уважением.
Тетя Ида уже расспросила и рассказала все, что могла, да и дочери давно закончили вытирать посуду (после случая с дочкой сторожа прислугу в доме больше не держали), когда дверь, на которую все с такой тревогой поглядывали, отворилась и из нее, словно две тучи, появились Кертес и дядя Бела. Лицо у первого было все еще озабоченным, даже вытянулось как будто; он смотрел в пол, словно набедокуривший ребенок, а возле губ застыла упрямая складка, лишь на лбу, удлиненном залысинами, так и осталось въевшееся за годы странствий слабое недоумение: я-то здесь при чем, дорогие мои? На веснушчатом же лице дяди Белы здоровая краснота играла темным оттенком с трудом сдерживаемого гнева. Он метнул на женщин угрюмый взгляд. «Мне в управу надо еще», — сказал он, забыв, что сам же и сообщил за супом: на сегодня с делами покончено; но тут он заметил Агнеш, и рыцарский дух все же взял в нем верх: пусть его унизили, оскорбили, он знает, что такое гостеприимство и что такое галантное обращение; из-под усов его блеснули яркие белые зубы, лицо осветила победная улыбка. «Проводи меня, что ли, племяшка? — И, чтобы показать, насколько он выше личных обид, той же самой улыбкой он одарил и шурина: — Она у меня вроде как секретарша была во время войны, когда в гимназии не топили. Карточки на керосин и сахар помогала в порядке держать». И, поправив на плечах Агнеш накинутую шаль, взял ее под руку. «Видишь, что за человек твоя тетка, — сказал он, когда они шли по аллее. — Даже в такой день не удержалась — дурацкими своими баснями науськала на меня брата. Думала, видно: вот ужо вернется домой знаменитый ученый (слово это он произнес с некоторой насмешкой) — и тут я задрожу, как она перед тюкрёшским учителем, и упаду перед ней на колени: ах, Идушка, прости меня, грешного, с сегодняшнего дня я стану совсем хороший и не буду делать в штанишки… Отец твой, бедняга, уж не знаю в каком лагере потерял здравый смысл: только переступил мой порог, как за моим же столом начинает меня учить…» Здесь последовала краткая пауза, когда чувство приличия еще сопротивлялось словам, диктуемым яростью. Агнеш молчала — и лишь по руке, лежащей на локте у дяди, чувствовала, какой огромной может быть дистанция между двумя людьми, идущими совсем рядом, под руку. «Не хотел я говорить бедняге, — ярость и чувство такта нашли компромиссную форму в жалости, — мол, ты бы лучше в доме у себя огляделся, там тоже найдется, что исправлять». — «Не хотели, а все же сказали», — заметила Агнеш с каким-то чужим для самой себя смехом. Дядя расслышал обиду в ее тоне. «Я же тебе сказал, — попробовал оправдать он вырвавшиеся слова, — ты сама все знаешь, лучше, чем я тут, в Фарнаде…» Несколько минут они шли молча; у крыльца управы дядя спросил: «Не зайдешь поболтать немного?» — «Дядя Дёрдь наказал, чтобы мы до сумерек выехали… Да и у вас, дядя Бела, дела…» Сарка почувствовал: эта податливая и разумная девушка, единственная, кто в его доме еще был на его стороне, жестоко оскорблена. Он взял ее пальцы в свои сильные, короткопалые руки и посмотрел ей в глаза самым ласковым, самым обезоруживающим взглядом, на какой только был способен. «Но мы ведь по-прежнему друзья, да?» — сказал он почти умоляющим голосом. «Конечно, а как же…» — быстро ответила Агнеш. И дядя, как бы желая завершить примирение, с подобревшим, участливым лицом добавил: «Даже хорошее, милая моя племяшка, не все происходит так, как нам хочется».
Обида на дядю утихла в душе Агнеш, вышла с думами лишь в пути, под пологом брички. В самом деле пошел моросящий дождь; они с отцом сидели, замкнутые в тесном пространстве кожаного полога. «И что это за люди! — возмущалась про себя Агнеш. — Человек не успел отдышаться, в себя не пришел, а они уже на него наваливаются со своими немыслимыми претензиями. И в том, что он больше всех страдал, сильнее всех износился — ради них же, ради родины, — они не жертву видят, а лишь конечный результат, видят, что оказались в выигрыше: у них ведь не было скорбута, arteria temporalis[48] у них не стала такой извилистой. А то, что дядя сказал насчет здравого смысла… Что он имел в виду? Наверняка ведь: умом-де твой отец тронулся. Сам он, конечно, не тронулся. У него освобождение было от фронта, были солдатские вдовушки». «Невероятно, сколько все-таки в людях злости», — из другого угла повторил отец произнесенную за столом фразу, которой словно хотел оградить былую свою мудрость или, может быть, скорее тоску по ней, память о ней от сыплющихся на него со всех сторон чужих обид. «Они ведь в Бутырской тюрьме не сидели», — попробовала скорей из сочувствия, чем из убеждения, подстроиться под его мысли Агнеш. «Иным и это не помогло бы. Я в плену то же самое видел. Взрослого человека воспитывай не воспитывай — бесполезно, — вспомнил он свой собственный довод, который в прежние времена помогал ему философски воспринимать женины выходки. — Тут даже история и та бессильна. Вот Бела: веселый, жизнерадостный человек, энергии хоть отбавляй, при случае на благородные чувства способен. А вот с собой как-то справиться не сумел. Единственный сын, барчук, с детства в нем самонадеянность воспитали. А интеллигентности не хватает, чтобы темперамент держать в узде. Во время войны, я думаю, царь и бог здесь был… — Затем, помолчав, Кертес добавил: — Кое в чем он мамулю напоминает! Та же несдержанность — и, конечно, то же благородство».
Агнеш ждала, что сейчас последует какой-нибудь эпизод из их молодости. Но отец замолчал, затем пощупал себе живот: «Переел я немного. Столько вкусных вещей…» Через несколько минут Агнеш взглянула в его сторону, во все более тонущий в сумраке угол брички, и обнаружила, что голова отца клонится набок, а дыхание с легким всхрапом вырывается из приоткрывшегося рта: покачивающиеся на размокшей дороге рессоры усыпили-таки его… «Нет, от людей ему нечего ждать, — думала Агнеш. — Даже если они и добры, если любят кого-то, разум их все равно отравлен злорадством, они не могут удержаться, не высказать того, что замечают. И доброты их все равно не хватает, чтобы не видимость выразить в своих словах, вроде тех, которые произнес вслух или пусть оставил непроизнесенными дядя Бела, а дать несчастному небольшой аванс, ненадолго отсрочить напрашивающийся вывод, сказать что-нибудь в таком роде: кто его не знает, тому, конечно, покажется, что бедняга в плену умом тронулся, но мы-то, мы в его поведении, в каждом движении узнаем его прежнюю тихую, не ведающую злобы душу, мы уверены — он избавится от своих чудачеств (особенно если мы будем держаться с ним так, будто их вовсе не замечаем), избавится от чрезмерного подобострастия, от болезненного интереса к еде, от лишающей его способности к ассоциациям беспомощности перед речами других». Но действительно ли еще способна к регенерации эта душа, которая в глазах Агнеш означала когда-то само совершенство? Какой ущерб нанесли его мозгу за этим высоким светлым лбом микроскопические кровоизлияния — последствия скорбута?.. Агнеш сама не понимала, как это случилось, но перед мысленным взором ее вдруг возникла давно, казалось, забытая женщина, которую она в детстве увидела на берегу пруда в Лигете: среди детворы, катающей обручи, наполняющей песком игрушечные ведерки, она прогуливала своего сына с тяжелой, неловкой походкой, большим, не умещающимся во рту языком и текущей по подбородку слюной. Ему было лет десять — двенадцать, но он едва говорил, да и то каким-то ужасным носовым голосом. У него, очевидно, была еще волчья пасть; дети, отойдя в сторонку, со страхом глазели на них, однако женщина, по всему судя, считала, что ее сын тоже имеет право на солнечный свет: с упрямым, решительным выражением на лице она шла меж здоровых, в большинстве своем хорошо одетых детей, и если порой и прикрикивала сердито на отстававшего увальня, то тут же жалела об этом и говорила ему что-нибудь тихое, ласковое. Агнеш только теперь, спустя десять лет, сидя под пологом брички, поняла, какая несчастная и какая самоотверженная женщина прошла мимо них, ведя за руку своего ребенка… Конечно, здесь нет речи о чем-то подобном! Ведь то, что отец сказал только что в бричке, куда лучше, умнее, чем все, что она услышала за пять или шесть часов в дядином образцовом доме. А в том, как он поражается людской злобе, весь итог, результат его одиссеи. И пускай он с трудом вспоминает прежние свои суждения, пускай засыпает, не додумав какой-нибудь мысли. Ведь на границе и в Чоте его освободили лишь от старой одежды, от вшей, отмыли от грязи, но минувшие семь лет оставили на нем свою несмываемую печать, и эти семь лет она, Агнеш, должна помочь ему забыть дочерней своей любовью, терпеливой готовностью к помощи и поддержке.
Когда они, уже в наступающих сумерках, въезжали в затихающую деревню и то ли быстрая езда и ухабы, то ли звуки человеческой жизни пробудили Кертеса ото сна, Агнеш вся полна была нетерпения и энергии, как бывает с человеком, который получил трудное задание и, еще понятия не имея, как предстоит его выполнять, уже ощущает в душе ту силу, которая неким чудесным образом каждый его поступок обратит на достижение цели. Она едва дождалась, когда наступит конец расспросам. Интерес, проявленный Кертесами к фарнадскому путешествию гостей, не лишен был и некоторой ревности. «Тетя Ида, думаю, в грязь лицом не ударила?» — дипломатично осведомилась тетя Юлишка. «Ну, как там зять Бела: все так же пошутить любит?» — не без ехидства спросил дядя Дёрдь, имея в виду, очевидно, историю с близнецами. Однако Агнеш искала лишь повод да угол, чтобы остаться наедине с душевным своим состоянием и переполнявшими ее планами. Тетя Юлишка стала звать их к столу. «Ну что, рискнем?» — посмотрел на нее отец с улыбкой, которая показывала, что уж он-то, конечно, рискнет. «Нет-нет, я уже и думать о еде не могу. Вы, папа, садитесь, а я пойду пока к бабушке. Фармакологию я еще и не открывала, а мне экзамен сдавать по ней, иначе придется вносить плату за обучение…» Она в самом деле отправилась в комнатушку, где бабушка, что-то поев между делом, уже зажгла свою лампу, светлый круг от которой на столе, среди еле видных в сумраке стен и предметов, Агнеш всегда так любила. Она действительно положила против ежевечернего бабушкина чтения, которое было открыто сегодня на пророчествах Осии, учебник фармакологии, «Гипнотики», но у нее и в мыслях не было всерьез в них углубляться: она лишь искала прикрытия для своих раздумий. Потом с внезапной решимостью взяла из-под книги тетрадку, раскрыла ее в середине, разогнула скрепки и вынула двойной лист. Первое — объяснить ситуацию матери. Заставить ее понять, что этому истерзанному жизнью человеку, чтобы прийти в себя, восстановить былые привычки, учительские способности, навыки, нужен месяц-другой покоя. И она должна этого добиться от матери, добиться мольбой или угрозами или, если потребуется, тем и другим… Чернил она не хотела просить, чтобы не вызывать лишних вопросов; острие карандаша, как нерешительный птичий клюв, повисло над чистой бумагой.
«Дорогая мама, — нашла она самое простое начало. — Вскоре после того, как вы получите это письмо, мы уже будем дома, я ни в коем случае не хочу пропустить в среду занятие по терапии, — на минуту впустила она мать в свои студенческие заботы. — Но прежде чем расстаться с нашими гостеприимными хозяевами (слово «гостеприимными» она потом зачеркнула, чтобы мать, и так ревниво относившаяся к любым похвалам в адрес тюкрёшцев, не восприняла это как сравнение или, не дай бог, упрек), не лишне, мне кажется, будет рассказать вам о том, что я наблюдала». «О чем, собственно, рассказать? — размышляла она. — О том, чего я не смогу изложить устно?.. Напишем-ка сразу чистую правду: «Есть некоторые вещи, о которых легче говорить в письме». Это нужно было смягчить, чтобы не насторожить мать раньше времени: «…особенно мне, в чьей душе так велико чувство дочерней почтительности, не позволяющей мне быть беспристрастной». Она хотела сначала написать: «дочерней любви». Но это было бы преувеличение; нет, ставшая привычкой почтительность и пристрастность, которая останавливала ее и тогда, когда нужно было бы без обиняков высказывать свое мнение, — это, пожалуй, правда. «Состояние здоровья у папы, мне кажется, много лучше, чем казалось в первый момент. Уже то, как он выносит эту кормежку и хождение по гостям, эти бесконечные разговоры, показывает, что его сильное, закаленное тело спортсмена не разрушили ни плен, ни тюрьма, ни скорбут. А я совсем уже без сил и сейчас сижу радуюсь, что после утомительной поездки в Фарнад, пока папа беседует с дядей Дёрдем о разделе усадьбы, я смогла сбежать в бабушкину каморку. Семь лет, конечно, время огромное, особенно если человеку уже под пятьдесят (для Агнеш это действительно был очень почтенный возраст) и ему пришлось столько перенести. Понятно, что он не сразу себя найдет в здешних условиях. Я вижу, он даже родственников, которых не видел семь-восемь лет, особенно молодых, часто узнает с большим трудом. А некоторые его привычки, которые имели смысл в условиях, когда ему не хватало самого необходимого (скажем, он с сожалением смотрит, как кто-то выбрасывает пустую спичечную коробку), в нашем «благополучии» кажутся просто странными. От них, конечно, можно избавиться, это вопрос недель или, может быть, месяцев. Я за последние дни определенно стала в этих делах оптимисткой. (Агнеш почти со злостью подавила в себе шевельнувшееся сомнение.) Однако условие полного выздоровления заключается в том, что его измученный организм и особенно нервы должны получить необходимый для регенерации покой. Ведь вызванные скорбутом мелкие кровоизлияния…» — хотела она в сдержанной, не вызывающей тревоги форме записать пришедшую ей в голову по дороге домой мысль: дескать, чтобы эти кровоизлияния рассосались, тоже требуется определенное время. Мать такие объяснения любит. Но вдруг она и это использует как одно из своих направленных прежде всего на самооправдание обвинений: как, чтоб она жила с человеком, у которого скорбут повредил мозг!.. И Агнеш тщательно, чтобы нельзя было ничего прочитать, заштриховала последние несколько слов. «Об этом, — написала она, — обязаны позаботиться прежде всего мы — самые близкие ему люди».
Тут Агнеш надолго задумалась. Сейчас ей предстояло взывать к той стороне натуры матери, в которую она сама не очень-то верила: к ее душевному благородству, о котором отец так искренне говорил по дороге. О, конечно, мать легко поддавалась на все, что требовало сострадания, помощи, что могло заставить ее растрогаться, но Агнеш считала, что в этом всегда была доля актерства: благородный порыв исчерпывался краткой вспышкой; совершая добро, мать прежде всего любовалась самою собой. Но если ты апеллируешь к добрым чувствам людей — а сейчас Агнеш делает именно это, — то надо всерьез принимать их представления о себе, чтобы было к чему апеллировать. «Я знаю, мама, вы хоть и вспыльчивы, но добры; отец как раз сегодня мне говорил об этом. Да я и сама это прекрасно знаю. Вспомнить хотя бы те месяцы, когда вы были сиделкой: у вас это было не просто данью моде, кратким порывом, вы даже о легких ранах всегда говорили с искренним состраданием». Это, как сейчас вспоминала Агнеш, была правда. Мать сама попросилась в палату к нижним чинам, не то что другие, с большим презрением поминаемые ею дамы, которые думали лишь о том, чтобы крутить романы с выздоравливающими офицерами. Ну, а если даже источник ее энтузиазма — благоговение перед операционной, перед таинственностью врачебной деятельности, своеобразное жутковатое любопытство, а вовсе не любовь к ближнему… Имеют ли люди право так анализировать друг друга? Что останется от любого доброго побуждения, если мы попробуем докопаться до корней? Агнеш почти обрадовалась, найдя-таки в матери это прекрасное свойство, на которое можно было теперь опереться. «Не должны ли и мы считать себя такими же добровольными сиделками, пусть не в полевом госпитале, а у себя дома, сиделками, которым предстоит вернуть в строй здоровых людей не чужого солдата-боснийца, а того, чей труд нас кормил, чьей любовью мы грелись?..» Фраза эта, когда Агнеш смотрела на нее со своей позиции, была скорее ложью, чем правдой, но для достижения цели, которую поставила перед собой Агнеш, вполне подходила. Если мать вообще способна по отношению к отцу на какие-то теплые чувства, эта фраза сделает свое дело. Двойственное чувство, в котором внутренний протест смешан был с ощущением удачи, выразилось в том, что Агнеш досадливо дернула лист, повернула его под другим углом. «Мамочке пишешь?» — подняла на нее взгляд бабушка, которая до сих пор, тихо шевеля губами, по складам читала историю о распутной жене Осии. Агнеш с изумлением посмотрела на нее. Как она догадалась? По лицу, что ли? Ведь Агнеш сказала, что будет заниматься фармакологией, и объяснила: потому что сильно по ней отстала. «Нет. Откуда вы взяли?» — солгала она, покраснев. «Просто подумала», — тихо сказала старуха и снова склонила над Библией свой черный чепец, в котором голова ее походила на мячик.
Агнеш теперь следила за тем, чтобы лицо ее было серьезным и собранным, как будто она в самом деле конспектировала учебник. И от этого стиль письма ее стал суровей и вместе с тем деловитей. «Конечно, я знаю, семь лет — это семь лет не только в Сибири, но и здесь, дома, тоже». Тут она на минуту остановилась и заглянула в фармакологию, словно что-то там уточняя. Материн аргумент насчет того, что в расцвете лет она осталась без мужа, Агнеш была в глубине души не способна принять, несмотря на то даже, что уже знала немало о гормонах и прочем. Вот она, молодая девушка, — разве она не следит за собой, не живет воздержанной, трезвой жизнью? Она ждет человека, которого будет любить. Ну хорошо, ей еще не о чем вспоминать, у нее не выработалось привычек, но вон и отец ведь, как выяснилось из той так неприятно подействовавшей на нее истории, тоже жил аскетически и даже горд был своей семилетней воздержанностью. А ведь темперамент у него есть, это сразу по нему видно. Не то что у матери, которая в молодости была болезненно малокровной — достаточно фотографии посмотреть. Настоящая страстная женщина будет и в самообладании страстной, а поверхностная, пустая, которая поддерживает в себе чувственность посещением оперетты, даже интрижки заводит без подлинного желания. Однако ее пером должна была водить трезвая осмотрительность; внутреннее сопротивление лишь служило тому, чтобы не заходить в уступчивости очень уж далеко. «И теперь, когда наша маленькая семья снова вместе, не о том надо думать, кто и в чем оступился в эти ужасные времена. Вы, мама, и в самые трудные годы войны, в период очередей, нужды, как устроительница всех дел, связанных с домом, заслужили лишь уважение со стороны всех, кто знал вас, и если после продажи дома, когда надежда на возвращение папы становилась все слабее, вы, устав, иногда позволяли себе расслабиться, то пусть не осудит вас тот, кто в подобном положении, может быть, вел бы себя по-другому». Как это часто бывает, пока Агнеш формулировала свою мысль, фраза, начавшись с полуправды, которая должна была продемонстрировать ее лояльность, глянула на нее под конец в облике истины, и Агнеш почти обрадовалась, обнаружив, что вину матери можно рассматривать и так. «Я считаю и себя виноватой, — пошла она в оправдании матери еще дальше, принимая теперь и другой ее аргумент, — что была занята собственными делами и недостаточно помогала вам справляться с заботами…» «И вам пришлось искать понимания и любви у других». — хотела было она продолжить. Но это был бы уж слишком прозрачный намек на то, что вызывало в ней такую гадливость, и, хотя у нее мелькнула мысль, что скорее всего все так и было (Лацкович завоевал расположение матери, оказывая ей мелкие услуги), она предпочла не заходить столь далеко. «Но, как я уже написала, нет смысла строго взвешивать и анализировать наши ошибки. Куда важнее сейчас устранить их последствия. Что касается меня, то, как бы и кто бы ни пытался нарушить душевное равновесие отца (этого, слава богу, до сих пор не случилось), я со спокойной совестью буду отрицать то, чего все равно точно не знаю. Ведь случилось что-либо или не случилось, оправдывающие вину обстоятельства столь весомы, а то, во имя чего мы даже случившееся должны считать неслучившимся, столь существенно, что…» В самом деле: что? Как завершить эту фразу, думала она, досадуя на себя за свою уступчивость. «Что я даже готова лгать ради этого»? «Что согласна даже быть вашей сообщницей»? «…что чужие не имеют никакого права судить или тем более вмешиваться в это дело», — не совсем логично закончила она.
Агнеш чувствовала: одну половину предложенного матери компромисса — оправдание ее вины и готовность молчать — она высказала. Теперь должна следовать вторая: угроза. Достаточно задабривать преступницу, пора щелкнуть кнутом. Прежде чем снова склониться над письмом, она бросила взгляд на бабушку, которая как раз закончила чтение: смотрит ли та на ее лицо, способна ли увидеть на нем выражение суровой решимости; Агнеш сама ощутила, как напряглись у нее мышцы глаз и губ. «Конечно, для этого необходимо, чтобы и мы больше не давали оснований для сплетен, не обрушивали новых волнений на столь нуждающийся в покое мозг. Об этом я обязана предупредить вас потому, что, когда мы встречали отца, было много такого, что неприятно поразило не только тех, кто со злорадством наблюдал со стороны, но и меня, и, не будь отец немного оглушен впечатлениями, в нем бы это тоже могло пробудить подозрения. Я думаю, самая неотложная наша задача сейчас — укрепить семью, и лучший способ для этого — на время остаться втроем, а посторонних, кто бы то ни был, держать подальше от дома. Я ради этой цели буду делать все, что в моих силах; могу взять на себя самую неприятную часть домашних дел: стирку, покупку продуктов по дороге домой, заботу об отцовском белье; однако вы должны знать, что, если он не найдет у нас полагающееся ему место и покой, я…» «Ну и что же ты сделаешь?» — мысленно обратилась она к себе. Альтернатива, о которой она должна была поставить в известность мать, сводилась к следующему: ты можешь потерять и меня. Агнеш знала, мать любит ее, пускай по-своему, истерично, то агрессивно, то заискивающе, но любит; недаром она так держится за нее в последнее время, с тех пор, как началась эта связь с Лацковичем, — словно приберегает ее на потом. Единственное, чем Агнеш может заставить ее быть терпимой к отцу, — пригрозить тем, что, собственно, уже и так произошло: она может потерять и дочь. Заколдованный круг. Два сердца друг от друга зависят и друг друга уничтожают. «…я останусь с ним и сделаю все, к чему обязывает меня дочерний долг». Это была не просто одна из тех фраз, которые мать могла слышать в финале какой-нибудь драмы; к удивлению Агнеш, фраза эта содержала программу и для нее самой. Если мать, как можно было судить по первым дням, готовит отцу после пережитого им ада новый, только более тесный и без надежды на избавление, то она, Агнеш, станет его спасительницей, своей заботой, вниманием, дочерней любовью попытается возместить ему перенесенные муки.
На другой день, в воскресенье, Агнеш пошла с отцом в церковь. Кертес, как она помнила с прежних, довоенных времен, с нескрываемым скепсисом отвечал на ее вопросы, когда она пробовала на весах отцовского разума — то есть самой высшей мерой — определить, чего стоят мысли их школьного «батюшки» — старого отца Ижака. В Пеште он в церковь никогда не ходил, разве что на службы в шотландской миссии, где мог послушать проповедь по-английски; однако, оказываясь в Тюкрёше, он, то ли отдавая дань памяти детства, то ли ради преподобного отца, бывшего его одноклассника и друга юности, почти каждое воскресенье усаживался впереди скамей, до отказа набитых черными суконными полушубками, в тот полупустой, слева от алтаря, ряд, что, по старинному распорядку, отведен был для дворянства, пока таковое было, а позже вообще для деревенской чистой публики, и красивым, поставленным голосом пел обозначенный на хорах римской цифрой псалом или арабской — славословие, которые помнил еще со школы и иногда напевал даже дома — по утрам, умываясь. Хождение в церковь для него было и чем-то вроде инвентаризации: когда он высокий, с растущими залысинами лоб свой от разливающегося над ними соловьем проповедника (который в таких случаях, отдавая дань уважения бывшему другу, ударялся в некоторую отвлеченность) обращал к скамьям с деревенским людом, ему как бы представлялась возможность проэкзаменовать себя: кого он помнит, а про кого надо будет спросить после службы, когда паства, выйдя из церкви, некоторое время еще толчется, не спеша разойтись. Нынче же появление его на боковой скамье, независимо от самой службы, должно было стать событием особенно знаменательным: когда он войдет, мужчины постарше, настраиваясь на пение, приветливо закивают ему головами, по рядам женщин пробежит шепоток: «Брат Дёрдя Кертеса, учитель», «Недавно только вернулся из плена», и уважительный шепоток этот из-под главного свода, где сидят его ровесницы, через молодух, которых он помнил — если помнил — девчонками, доберется, пожалуй, аж до школьниц, с раскрытыми ртами глазеющих на него с деревянной скамьи. Нет, такое нельзя пропустить.
Когда они, миновав читальню, долго перебирались, заботясь о больных ногах отца, через врезающийся в главную улицу овраг переулка, Агнеш вдруг заметила Фери Халми, который в тридцати — сорока шагах от них растерянно поднял было руку к шляпе, тут же сделав вид, впрочем, что лишь поправляет ее, и, насколько ему позволяла хромая нога, в самом неподходящем месте начал переходить через едва успевшую подсохнуть в скупых лучах солнца вчерашнюю грязь. «Фери!» — крикнула Агнеш уже из переулка и, отпустив руку отца, пробежала несколько шагов вперед, чтобы, если будет нужно, тоже ступить в тестообразную массу на дороге. В голосе ее, когда она встала у хромого юноши на пути, прозвучала, удивив ее самое, откровенная радость, словно она где-нибудь за границей, среди совершенно чужих людей, неожиданно встретила земляка, но в глазах ее, пока она смотрела на коллегу, сначала изобразившего невероятное удивление, а потом двинувшегося-таки к ним, появлялось, по мере того как он приближался, все больше веселой насмешки. Всегда забавно наблюдать неловкость и наивные ухищрения, с какими другой человек борется против твоего притяжения (которое тебе самой, если ты не глупая гусыня, представляется не более чем обманом зрения). Как очутился Фери сейчас, в середине семестра, в деревне? И почему норовит сбежать в грязь, если вышел из дому бросить письмо (или по другому подобному же призрачному поводу), — наверняка в тайной надежде встретиться с ними, когда они пойдут в церковь? И зачем, стоя в грязи, так неуклюже пытается сделать вид, что безмерно изумлен встречей, и чрезмерно затягивает процесс узнавания, как будто сетчатка, колбочки и палочки в его глазном яблоке медленно и неохотно передают затылочному центру в мозгу ее неожиданно возникший перед ним образ? «Так вы тоже здесь? — взяла она его за локоть, слегка помогая при этом выбраться из канавы на дорожку. — Подумайте, какое совпадение, — добавила она, и светящуюся в глазах иронию вытеснила проснувшаяся в ее сердце жалость. — Это тот мой коллега из Тюкрёша», — обернулась она к отцу, который остался стоять на дне промоины отчасти из-за беспомощности, отчасти застигнутый врасплох сценой (вторую часть фразы — «о котором я вам говорила на вокзале» — Агнеш благоразумно проглотила). Фери подошел и представился; Кертес, с трудом воспринимающий неожиданные повороты и при этом задающий массу вопросов о том, что другой схватывает мгновенно, и сейчас переваривал услышанное с тем выражением на лице, с каким наблюдают происходящее на глазах чудо. «Как? Твой коллега? Неужто медик? И тоже из Тюкрёша? Как бишь ваше имя? Я правильно понял: Халми? Уж не сын ли Ференца Халми, слесарных и механических дел мастера? О, я прекрасно вашего батюшку помню, еще с тех времен, когда он с молодой женой сюда переселился. Откуда же, дай бог памяти: из Перкаты, верно? — обрадовался он кивку Фери, словно случайная эта деталь, выброшенная вдруг на поверхность памяти необозримым кладбищем прошлого, означала и его частичное воскресение. — По какому же случаю здесь? Небольшие каникулы, а? Небось свинью родители колют?» — дал он невольно Фери спасительную идею. «Да, в этом роде», — промямлил тот. «Домашняя свининка! Чего бы мы только не отдали там, у Иртыша или у Чулима, за такие деликатесы…»
Агнеш уже немного жалела, что поторопилась остановить убегавшего Фери. Она всегда говорила ему об отце как об ученом, который должен вернуться домой с каким-то открытием в языкознании, и, как бы самоотверженно ни воспринимала она нынешнее его состояние, тем не менее именно Фери предпочла бы чуть-чуть в этом отношении подготовить. Ведь Халми среди прочего изучает и психиатрию и, наблюдая хотя бы это явное недержание речи, поймет, что тут что-то не так. Услышав же, как отец назвал отца Фери слесарных и механических дел мастером, она, сама не ведая почему, почти передернулась от стыда. Эти слова стояли на вывеске кузнеца и механика Киша, что жил напротив, но ведь того никто так не называл; тут у отца на затрудненную работу мозга наложилось то ставшее привычкой подобострастие, которое угнетало ее еще в Фарнаде. В то же время она и за Фери немного боялась: ведь отец, с его нынешней наивной бестактностью, мог так легко задеть за больное. С Фери она никогда не говорила о его семье, и хотя домишко, в котором жила семья Халми, смотрел в тот самый переулок, по которому едущая со станции бричка заворачивала к Кертесам, однако худая высокая женщина с темными подглазьями, которая и в детские годы Агнеш порой мелькала за дощатым забором, выходившим на заросший хреном склон их переулка-оврага, была для нее такой же чужой, как если бы жила на другом берегу Бозота; от бабушки и от тети Юлишки Агнеш слышала, что дела в семье Фери плохи: у отца, угрюмого человека в синей спецовке, нет ни мастерской, ни станка и они еле-еле добывают на жизнь с небольшого жениного клочка земли. Что еще взбредет отцу в голову? В конце концов, он вздумает Фери о его хромоте расспрашивать. Ведь когда он, подняв голову на ее восклицание, увидел стоящего в грязи юношу, наверняка ему первым делом в глаза бросилась его хромая нога. «А что это у вас такое с ногой? Небось подвернули по дороге из погребка?» — Агнеш чуть ли не въявь слышала эти или подобные слова, обращенные к застывшему от стыда Фери.
Однако тому, поглощенному борьбой со своим смущением, было вовсе не до странностей в поведении отца Агнеш; если он в ком-то и мог сейчас что-то заметить, то только в себе самом, с этой ногой, с длинным носом, с дурацкой позой в грязи, посреди дороги; и ему стало гораздо легче от ласковых слов, которыми с первого взгляда осыпал его Кертес — самый близкий человек для той, которая так безраздельно владела его душой. Лишь упоминание об отце неприятно его задело, заставив искать способ как-нибудь обойти эту тему, — и возможность для этого дали ему Иртыш с Чулимом, да еще «домашняя свининка». «Мы с Агнеш много о вас говорили, господин учитель, — рукой пытаясь стереть с лица подобострастную улыбку, сказал он, когда они двинулись по направлению к церкви. — Так что я, насколько было возможно, следил за вашими скитаниями. Последнее письмо, кажется, из Ачинска прибыло?» — взглянул он на Агнеш. «О, самое трудное потом только началось», — вмешалась Агнеш с искусственным оживлением и стала перечислять, чего Халми еще не знал. Она твердо намерена была говорить одна, пока они вместе. «А вы не идете на богослужение? — спросил Кертес перед церковью. — Или, может, ваш папаша католик?» — «Нет, я насчет церкви не так чтобы…» — пробормотал, подавая руку, Халми, наскоро найдя компромисс между своей неприязнью к религии и осторожностью, чтобы не задеть ненароком отца Агнеш. Однако Кертесу, кто знает почему, молодой человек понравился. Потому ли, что тот, будучи тюкрёшцем, выбился во врачи, или потому, что тот приехал домой на убой свиньи, а может, увечье его вызвало сочувствие. «Вы еще долго в деревне пробудете?» — осведомился он, пожимая руку Фери. «Ночью сегодня уезжаю». — «Вот как? Тогда, если не сильно заняты вечером, заходите к нам. Сегодня мы, кажется, ни к кому не званы», — посмотрел он на Агнеш. Та была бы рада, если бы оказалось, что их где-то еще ждет жареная утка. «Кажется, ни к кому… В самом деле, зашли бы», — подняла она глаза на Фери, стыдясь своего желания уклониться, но все еще без особой решительности… «Какой приятный молодой человек, — сказал Кертес, когда они шли через церковный двор. — А что у него с ногой?» — «В детстве перенес воспаление тазобедренного сустава», — ответила Агнеш, которая никогда не говорила с Фери о его увечье, но тем больше о нем размышляла — и в учебнике патологической анатомии нашла ему такое вот объяснение. Однако внимание Кертеса уже занято было стоящими у входа в церковь людьми, приподнятыми над головами шляпами, приветствиями, на которые он отвечал, щуря от напряженного узнавания глаза и высоко приподымая свою шляпу.
Агнеш надеялась, что Фери побоится сдержать свое обещание, не явится в богатый дом, где он никогда не бывал, разве что заглядывал через забор — совсем с другим ощущением, чем она — к ним во двор. Однако Фери все же пришел. Агнеш как раз была с теткой возле хлевов. В воскресенье работник их взял выходной и ушел к брату, который батрачил у них же, и тетя Юлишка сама кормила свиней. Агнеш подхватила с другой стороны лоханку, показывая, что не боится работы; она вообще любила смотреть, как заплывшие жиром свиньи, отталкивая друг друга, тянутся с нетерпеливым визгом к отрубям и, добравшись наконец до корыта, умиротворенно, счастливо чавкают. «Смотрите-ка, господин доктор Халми», — донесся с галереи голос отца, на градус более радостный и удивленный, чем того заслуживал гость. Удивление при виде появившегося на ступеньках в конце галереи постороннего хромого человека, узнавание пришедшего, всплывший в памяти утренний эпизод, а с ним и имя молодого человека, его медицинская специальность и — в конце прокрутившегося в его голове маленького фильма — удовлетворение, радость, почти триумф — все было в этом восклицании. «Агнеш!» — позвал он со двора дочь. И пока та, опустив подоткнутую юбку, шла к крыльцу, отец уже приглашал гостя в дом. «Заходите, пожалуйста! Может быть, вот сюда, в комнатку к матушке. Здесь мы и посидим, потолкуем. Это — сын соседа нашего, Халми», — представил он юношу встрепенувшейся на стук старушке, которая как раз отдавала дань маленькой слабости, которую стала позволять себе лишь сейчас, после смерти мужа, в конце прожитой в вечных хлопотах жизни: сидела ничего не делая, правда, не на оставшейся без хозяина угловой скамье, а на краю диванчика, с прямой спиной, словно, даже присев отдохнуть, не желала предаваться греховному — по ее протестантским убеждениям — безделью. Чтоб она да не признала младшего Халми, о котором слышала, что он учится на доктора, и что скоро получит диплом, и даже что в Пеште он с Агнеш частенько встречается! Ведь она была единственной в доме Кертесов, кто, как человек богобоязненный и не впавший от достатка в гордыню, время от времени останавливалась поговорить с худой и бледной, как призрак, матерью Фери, а сейчас, когда этот увечный парень вступил в ее комнату вместе с существами высшего порядка — сыном и внучкой, она, застигнутая врасплох, не смогла сразу отделить уважительность, полагающуюся ему по чину, от некоторой классовой неприязни: вот, значит, как, этот нищий парнишка не сегодня завтра — уже доктор, ровня ее сыну, в то время как их Шани аттестат зрелости с грехом пополам получил. Конечно, ритуал гостеприимства не позволил ей показать своих чувств: она встала, пригласила гостей войти, сама же отошла к кровати и какое-то время слушала разговор молча, потом, ощутив себя в комнате лишней, спросила, не зажечь ли лампу, а когда сын ответил, мол, нет, зачем зря жечь керосин, куда приятней посидеть так, незаметно удалилась.
Сидеть в самом деле было бы приятно, если б Агнеш, несмотря на свое твердое решение ко всему относиться спокойно и терпимо, не ждала с напряжением, на какие больные темы и разоблачительные детали свернет беседа. Выходящее в сад окно затеняли зимние груши и чудом сохранившаяся выросшая до гигантских размеров ель, так что сумерки здесь, в комнатушке, наступали на полчаса раньше, чем вообще в доме. Старая мебель, размываемые постепенно контуры трех человек — двух мужчин за столом и Агнеш как наблюдательницы на скамье в углу, — негромко звучащие в полумраке слова, бегучие огоньки за решеткой печи, дрожащие блики на сливающихся в сплошную темную массу предметах — и, главное, сознание того, что вот оно, то «счастье», о котором во время зимних каникул, в точно такие же вечера, она так много мечтала то рядом с бабушкой, то в одиночестве… Все это было бы так чудесно, если б она способна была остановить время. Вторым, кто, может быть, тоже почувствует прелесть этого вечера и вспомнит о нем, был Фери Халми. Он и в самом деле зашел на минутку: надо было еще собраться. Но если господин учитель был так любезен и пригласил его… Он вот тут, кстати, принес Агнеш кое-что: свои позапрошлогодние конспекты по общей патологии, он их в старых тетрадях обнаружил. Чувствовалось, он целый день набирался храбрости для визита, копил поводы, подавляя в себе хмурый протест человека, родившегося по другую сторону забора. По-настоящему хорошо себя чувствовал только Кертес. Некая индукция передала ему мучительную растерянность Фери, заставляя ответить щедрой добротой и готовностью помочь. С той минуты, как он сошел с поезда, ему приходилось как бы все время сдавать экзамен, постоянно доказывать, что он вполне даже узнает людей, которые подходят расцеловаться с ним, что вполне способен завязать этот дурацкий галстук, вполне понимает лукавство зятя Белы. И вот наконец перед ним этот, кажется, очень разумный, порядочный юноша, которому уже он может помочь, с которым может побеседовать, как когда-то с учеником, узнав, что тот из его деревни или пускай из его комитата.
«Можете представить себе, как я был удивлен, — начал он, — когда услыхал, что из нашего Тюкрёша выйдет врач. В мое время молодые люди в деревне если о чем-нибудь и мечтали, то о поприще учителя или священника. Ну, еще адвоката — это господские дети; наш-то брат не слишком надеялся, что сможет быть достаточно хитроумным. А когда сын моего двоюродного брата, Лайоша Варги, на инженера пошел учиться, это было совсем неслыханным делом. Не знаю, закончил он с тех пор? — обратился он к Агнеш. — Но чтобы врач!.. До сих пор мы тут только на импорте держались, старик Лорши пятьдесят лет нас лечил. Кстати, жив он еще? (Лорши давно умер, это и Фери знал.) Ну, а вы, милый мой, вы-то как избрали такую профессию?» Агнеш замерла: ведь яснее ясного как. Вдруг Фери в интонации отца не расслышит, что тот спрашивает его без всякой задней мысли, и ответит: из-за увечья; или отец сам продолжит: наверное, из-за вашей болезни?.. Но ничего такого не произошло. Фери ответил, что врачом он решил стать с детства, с тех пор, как учитель Херманн дал ему почитать книгу «Человек». «Херманн?.. Постойте-ка… Это не тот ли, что в израэлитской школе учителем был? У него еще две дочки были, обе красавицы. Я о них не слыхал ничего». — «Уехали они отсюда, после девятнадцатого года…» — ответил Фери. (Вспомнив, что находится в доме Кертесов, он не стал уточнять, по какой причине они уехали.) «И школу, конечно, закрыли… Да, коллега Херманн, помню, подготовил тут несколько очень умных молодых людей. Вы, господин доктор, наверное, тоже сначала реальное кончили, приватным путем?..» Агнеш только сейчас узнала, что так оно и было. Это вселило ей в душу некоторый оптимизм. Смотри-ка, сколько лет она знает Фери, а об этом не догадывалась; отец же чутьем учителя и доброжелательным своим интересом сразу все выведал. «Было у меня несколько таких учеников. В основном они шли, конечно, на курсы учителей или в торговое училище — это все-таки полегче ступеньки, но кое-кто отваживался и в гимназию сдавать. Когда ко мне попадал такой юноша, я всегда ему помогал. Из-за этого у меня даже споры с коллегами выходили: одни считали базу знаний недостаточной, другие просто косились: ишь, мол, и этот туда же. Я им доказывал: уж коли парень пробился в гимназию, значит, база у него такая, какая требуется. Против правил я никогда ничего не делал, но одному такому, будучи дежурным учителем, даже контрольную по латыни помог написать».
Все пока шло прекрасно. Фери чувствовал себя заметно свободнее. То давнее дежурство отца на экзамене по латыни словно бы создало между ними атмосферу тайного сообщничества. Они рассуждали о том, как трудно учиться крестьянским детям; Фери рассказывал, сколько всего пришлось ему вынести, пока он, живя в Фехерваре у родственника, заканчивал торговое училище, и как он, целый год просидев дома над учебниками, сдал экстерном гимназический курс на аттестат зрелости. «Да, в моей родне, — сказал Кертес, — чаще всего такого упорства не оказывалось. У них земля была за спиной, да и сами родители их порой расхолаживали. Свояк Молнар, муж тетки моей по отцу (тут он бросил взгляд в сторону шкафа, где перед этим стояла мать), так он прямо сказал сыну, когда тот на юридический записался: гляди, мол, чтоб на тебя не смотрели как на канцелярскую крысу. Дело в том, что Молнары из дворян вышли; свояк Молнар отца моего на «ты» звал, а тот его — на «вы». Ну, сын его и вел себя соответственно. Так большинство без образования и осталось…» Это Фери понравилось. Агнеш даже в полутьме видела, как под длинным носом его обнаружились криво растущие зубы и из горла вырвался хриплый, скрежещущий смешок. Как он некрасиво смеется, подумала она, словно вся скопившаяся в нем горечь и перенесенные унижения вставали на пути выходящих из груди звуков. Дальше речь пошла о недоучившихся, в секретарях, в писарях застрявших студентах. Фери тоже вспомнил одного своего коллегу, ставшего знахарем. Потом, стерев с губ заискивающую, немного застенчивую, немного хитрую улыбку, он, собрав всю свою решительность, осмелился задать вопрос: «Ну, а там как? Там-то вы что видели, господин учитель? Есть там возможность учиться?» — «В России-то?» — сразу понял Кертес, что имеет в виду Фери. И сделал рукой жест, какой Агнеш уже видела у него (Фери это движение, вероятно, мог понять приблизительно так: а, об этом лучше не говорить). «Там теперь всему учатся заново», — объяснил отец словами смысл своего жеста.
У Агнеш не было определенного мнения о происходящем в России, однако она не могла не чувствовать: в том, как об этом говорят тюкрёшские ее родственники, почти все крепкие, самостоятельные хозяева (или тот же дядя Бела из Фарнада), много крикливой демагогии, в которой было желание преувеличить опасность, пережитую в недавнем прошлом, и преуменьшить грозящую в будущем, и ей было неприятно, что во время обильных ужинов отец не только со всем этим соглашался, но еще и подстраивался под тон хозяев, вспоминая какое-нибудь из своих злоключений. Она опасалась, он и Фери станет рассказывать нечто подобное — и тем самым окончательно станет в его глазах чем-то вроде дяди Шани. Однако лояльность натуры и проведенные в самых низах чужого общества годы сделали Кертеса восприимчивым к любым настроениям: он почувствовал, что вопрос, которым сын слесарных и механических дел мастера перевел разговор на российскую ситуацию, требует иного ответа, совсем не такого, как у зятьев, когда они заводили обычное: ну, ты, поди, такого там нагляделся… С этим юношей, так быстро пробудившим в нем учителя, он обязан был говорить как человек, умеющий объективно смотреть на историю, и высказать ему то свое мнение, которое он еще в мастерской по изготовлению шлепанцев пробовал противопоставить взглядам горячего своего друга — академического профессора. «Коммунисты, которые поумнее, очень даже хорошо понимают и прямо говорят, что их судьба зависит от народного просвещения. Правда, такие идеи массам можно пока навязать только силой. Силу же применять бесконечно нельзя, она порождает ненависть, особенно если иметь в виду, что коммунистам приходится сотрудничать и со всякими проходимцами, любыми беспринципными, которые ищут лишь, где получше, как в газетах тамошних пишут — карьеристами. Только вся беда в том, что, пока коммунистами не станут шестьдесят — семьдесят процентов населения, диктатуру тоже нельзя упразднить. Это главная дилемма, и выбраться из нее можно, только дав массам образование».
Здесь он взглянул на слушателя с прежним учительским блеском в глазах. Это мнение он для себя сформулировал еще до тюрьмы, до скорбута, и оно самого его удивило и обрадовало, как когда-то — доходчивое объяснение у доски. Но продолжить, развить всплывшее в памяти мнение он уже не смог (хотя выражение лица его выдавало такую готовность). «Как, бишь, говорил тот молодой красноармеец, — поддался он влечению воспоминаний, — которому я в Ачинске на базаре продал свой учебник механики? У нас тогда кончились все запасы, шлепанцы никто покупать не хотел, вот я и вышел с несколькими оставшимися у меня книгами на базар. Механику я из-за терминов приобрел, когда мы еще относительно хорошо жили; было еще «Путешествие по Алтаю» Пржевальского и японский разговорник: я его по ошибке купил, думал — китайский, письмо у них одинаковое. Дело в том, что я во время своих лингвистических увлечений и китайский язык учил».
Агнеш видела уже, что их неудержимо несет к богу Тенгри, которого даже она успела запомнить благодаря разговорам перед сном. Однако Фери спросил: «И что тот красноармеец сказал?» — «Красноармеец-то? — поискал Кертес в памяти ачинского бойца. — Красивый такой парень был, в добротном обмундировании, полистал он мои книги и в конце концов купил механику: наверно, чтобы мне сделать приятное. Но у него сторублевая бумажка была, сдачу я дать, конечно, не мог, пришлось сходить с ним в комендатуру. Идем мы с ним, и я все расхваливаю Красную Армию, ее победы, да какие в ней солдаты дисциплинированные, как чистоту любят. В нашем городе посреди улицы поросенок дохлый валялся, а они как пришли, сразу жителей всех мобилизовали и заставили мусор убрать…» Агнеш представила отца, идущего рядом с солдатом в комендатуру. Каким естественным тоном говорит он, что расхваливал красноармейцев, даже не думает, что слушатели, особенно родственники, наверное, головой про себя качают: мол, а что ему оставалось, убогому, кроме как подлаживаться? «А все-таки как с просвещением? — вмешалась она, изображая заинтересованность. — Вы ведь сказали, солдат что-то насчет просвещения говорил». — «А я о чем? — отмахнулся отец, словно почувствовав в ее интересе скрытое опасение (она еще ни разу не видела, чтобы он в разговоре с другими проявил досаду). — Он мне и говорит: это еще пустяки, — повернулся Кертес к Фери. — Мы сейчас должны в деревни идти, через несколько лет у нас не должно остаться ни одного неграмотного. Программа-то у них прекрасная, вот только реализация…» И смех его выразил то же самое, что и странный жест в самом начале разговора.
Агнеш, чтобы не дать отцу уклониться от темы, а вместе с тем и Фери помочь удовлетворить свое любопытство, о котором она скорее подозревала, чем знала, рискнула еще раз вызвать досаду отца. «Вы еще о читальных залах в Омске рассказывали — тоже очень интересно». — «Читальни?..» — с тем же смешком отозвался отец. «И о том… ну, вроде свободного университета», — не отступалась Агнеш. «Политехнический институт», еще раз засмеялся отец, но рассказывать о них не стал. «Вы, господин учитель, и в Омске были? — спросил Фери. — Может, и в боях под Омском участвовали?» — «Какие там бои, летом двадцатого-то? Я ведь туда уже в двадцатом попал. К тому времени Колчака давно уже расстреляли, спасибо чехам… О боях мы только от беженцев слышали». — «Ну да, ведь красные вас застали в Ачинске, — поправился Фери. — Они туда в конце девятнадцатого вступили». — «Как раз в ночь под Новый год. Фери Хорват, бедняга, славный такой парень из Бекеша, пулю тогда в живот получил. Он у забора все околачивался…» Отец и Фери принялись, словно мячиком, перебрасываться фамилиями и датами. Агнеш смотрела на коллегу с большим удивлением. Сама она все, что отец рассказывал о России после царя, не способна была уложить в систему, хотя пыталась не раз. Лагерь на монгольской границе, в Даурии, — это слово она могла даже написать по-русски — оставался последним надежным пунктом в ее представлениях. А дальше — Ачинск, Колчак, Омск, чешский легион, красные части — все перемешалось у нее в голове, как, впрочем, и у других родственников, слушавших отца. Фери же, казалось, знал все: когда развалился волжский фронт Колчака, когда красные заняли Омск, Ачинск, Иркутск, как полки партизан прорвались с Алтая и ударили по бегущим колчаковцам с фланга. Поначалу он лишь вставлял слово-другое, давая понять, что и он не совсем в этих вопросах темный, но потом разошелся — вероятно, и присутствие Агнеш подстегивало его — и стал блистать эрудицией, забыв даже про осторожность, про то, что такая осведомленность может вызвать у кого-нибудь подозрение. Он даже знал про бакинскую конференцию тюркских народов, куда Советское правительство делегировало Белу Куна и куда Кертес тоже хотел попасть. «Так вот что он прячет в себе», — удивлялась про себя Агнеш. Вот отчего он стоял так потерянно на углу улицы Барошш…
В густеющей темноте, исповедуясь вопросами, Халми открывался с какой-то новой стороны; Агнеш видела в этой неведомой ей до сих пор части его жизни не политику, а нечто гораздо большее. Вот, значит, как: этот обиженный судьбой юноша, волоча с одной лекции на другую свою увечную ногу, носит в себе целый недоступный ей мир, носит мечты, оставшиеся от потерпевшего поражение дела. У Кертеса тоже не вызвали подозрения эти знания. Он держался с Фери, словно экзаменатор, который вдруг обнаружил, что отвечающий знает гораздо больше, чем требуется, в чем-то даже больше, чем он сам, и от этого воодушевился, начал вспоминать вещи, которых нет в учебнике, развивать дорогие его сердцу идеи. Чувствовалось, ему тоже радостно отбросить самоконтроль, после Чотского лагеря почти незаметно для него самого определявший его поведение, направлявший высказываемые им мнения в желательное на родине русло. Сейчас мнения эти в свободной, раскованной атмосфере могли колебаться от крайности к крайности, словно в цепи переменного тока, в соответствии с собственной их природой. Агнеш и рада была этой раскрепощенности, этой неожиданной живости, и удивлялась — удивлялась даже сильнее, чем в вагоне или за уткой у родственников. В том, что говорил отец, она не ощущала системы, — это касалось не только прихотливо всплывающих воспоминаний (они оказывались то в Ачинске, то в Петрограде, в нетопленых залах посольства, то в коридорах Бутырки), его суждения тоже словно бы распадались на тысячи мелких деталей, в которых отсутствовала последовательность, нить единой оценки. Это была полная противоположность тому, что наблюдала Агнеш у дяди Белы и у других: там налицо было целостное, непоколебимое мнение, оно-то окрашивало и искажало детали. Приходилось лишь поражаться, как это у отца в мозгу помещается столько несовместимых суждений. Гнавших Колчака красных, вступивших в Ачинск, он сравнивал с гонведами сорок восьмого года[49], когда во время весеннего наступления, вдохновляемые единой идеей, они били неприятеля на всех направлениях; потом его симпатии оказались словно бы на стороне тех бегущих с колчаковской армией русских, которые, сидя в санях, среди сундуков с добром, закутанные в меха, молча тянулись по сорокаградусному морозу на восток. Полк только что восторженно расхваленных им партизан, напав на один такой обоз, перебил всех беженцев — тысяч шесть человек. «Один мой однополчанин, Сегеди, — сказал он, — занялся торговлей драгоценностями и огромные деньги выручил за перстни и за браслеты». Затем, не прошло и минуты, он снова с восторгом заговорил о народном просвещении в России: «Моя дочь про читальни вспомнила; так вот, мы даже в тюрьме почувствовали, принцип там такой: преступника надо перевоспитывать. Они даже концерт нам устроили. С Шаляпиным — это заключенным-то». Потом, чтобы показать торжество все того же принципа, он стал описывать темный, голодный Петроград, где разбирают на топливо деревянные дома («У меня и сейчас перед глазами стоит один монах, распиливающий бревно»), лавки пусты, только Гороховая полна, там Чека находилась, его тоже возили туда. Чем больше он увлекался, тем сильнее бросалась в глаза эта странная, необъяснимая смена позиций; рассказ его, как скорее всего казалось ему и хотелось, должен был бы стать неким историческим обзором событий, возвращавшим его на учительскую кафедру; в действительности же все это выглядело как неуправляемый, льющийся, как ему вздумается, поток, выплескивающий на берег воспоминания, словно снесенные крыши и трупы.
И между всем этим, едва только представлялась возможность, в беспорядочно мятущихся ассоциациях то и дело всплывала какая-нибудь лингвистическая идея. Сначала Кертес обращался к ним с некоторым смущением, словно бы сознавая, что это не более чем заскок, и лишь как некий курьез вспоминал, например, что связывал в своих размышлениях не только название местности в Венгрии, Калла, но даже латинские слова «coleo», «культура» с «куале» — жертвенными местами мордвы и черемисов, устраиваемыми по берегам рек; к «куале» же он перепрыгнул от мордвы (из Омска в Москву они ехали по древним финно-угорским землям), чье название вывел из слова «мегер» — общего имени тюркских народов, к которому прибавилось «ва» (вода) и уменьшительный суффикс «де». Собственное смущение и уточняющие вопросы Агнеш заставляли его два-три раза слезть с любимого конька, но когда он, вспомнив, что его собеседники — медики, рассказал, как они под Омском купались в зараженном сапом Иртыше, который живущее там татарское племя называет Итиль — точно так, как другие урало-алтайские народы зовут Волгу и Дунай, причем слово это, вне всяких сомнений, тождественно слову «Этеле»[50], — тут он уже не смог более сопротивляться соблазну (Агнеш тоже сдалась к тому времени) и погрузился в свою любимую тему. В комнате, полностью утонувшей во тьме, слышались рассуждения то об алтайских, берущих начало с глетчеров, реках, в чьих местных названиях «ре» и «эре» прячутся венгерские «эр», «арок»[51], что в то же время означает еще и мужчину; то о таящемся в слове «Итиль» венгерском «дел»[52], которое значит — «середина неба»; монгольский же вариант этой середины всплывает в первом слоге слов «Тенгри» — бог неба и венгерском «тенгер» — море. Затем неожиданно выпрыгнуло открытие, что «итиль», собственно говоря, — это река, в которой соединились все «эры», а если перенести на народ, — та центральная власть (отсюда имя Аттила), которая объединяет все племена, все семьи.
Речам его, растекающимся в (упоминаемых как общеизвестные, на самом же деле никогда не слышанных) гипотезах, следить за которыми было все труднее, положила конец бабушка, не выдержавшая, что гости сидят в темноте, и внесшая зажженную лампу. «Что ж это за разговор, когда друг друга не видишь», — сказала она, пожелав доброго вечера. Тут и Фери стал неловко выбираться из-за стола. Кертес, блестя глазами, раскрасневшийся от первооткрывательского пыла, крепко пожал ему руку. «Очень рад, господин доктор, что познакомился с вами, буду счастлив и в Пеште… Если не очень наскучил вам, — добавил он, — своими лингвистическими фантазиями». Агнеш, накинув на плечи бабушкин платок, проводила Фери до калитки. «В самом деле, удивительный человек ваш отец», — заговорил Фери, когда они удалились за пределы слышимости… Агнеш с удивлением обернулась, стараясь понять, искренне ли он говорит. Она-то думала, Фери, с его строгими взглядами, давно записал отца в категорию буржуазных чудаков, лишенных серьезных убеждений. Но на красном лице Фери, смягчая его, светилось искреннее восхищение. «Не удивительно, что вы еще девочкой так его полюбили», — добавил он к тому, что было написано у него на лице. Агнеш, однако, все не смела верить хромавшему рядом сгустку тьмы. «Он сейчас еще не в себе немного, — осторожно коснулась она своих опасений. — Как вы думаете, может это быть результатом скорбута?» — «Почему? Он очень интересно говорил, — возразил Фери, не обратив никакого внимания на страшные предположения о последствиях скорбута. — Я еще не встречал человека, вернувшегося оттуда, кто за такое короткое время мог бы столько полезного сообщить. И если учесть его прежнее… положение, — быстро перепрыгнул он всплывшее в голове определение «классовое», — то все было вполне объективно». «В самом деле?» — с надеждой взглянула на него Агнеш. Она ощутила такое огромное облегчение, словно в душе ее вдруг рассеялся тяжелый, липкий туман. «О, он не таким еще был, — сказала она с торжеством дочерней любви, которой можно было уже не стыдиться. — Но организм у него упорный, я уверена, за один-два месяца он опять станет прежним. А лингвистику эту он сам считает болезнью военнопленного, — перешла она к самой трудной теме, глянув исподтишка на Фери, уже стоящего за калиткой. — Он ее зовет — «пленнитис». — «Ну почему же? То, что он рассказывал про Итиль, было очень убедительно. Лингвисты вообще все немного поэты», — в коротком смешке показал он зубы, а заодно и некоторое презрение человека, воспитанного на вещах позитивных — социологии, естественных науках.
Агнеш не могла уже в этот вечер думать ни о чем, кроме слов Фери. Сказав, что у нее болит голова и ей нужно немного проветриться, она накинула пальто и — на улице тем временем пошел дождь — долго ходила по галерее. В то, что Фери не лгал, она верила твердо. Но почему же он, такой желчный, мгновенно замечающий слабости университетских профессоров, так некритично отнесся к ее больному отцу? Потому что это — ее отец? Тогда у него могла бы даже возникнуть ревность, ведь нечто вроде этого она улавливала прежде в его расспросах. Может, в нем просто-напросто говорила радость, что пугавший его визит в дом Кертесов так хорошо удался? Или любезность отца так на него подействовала? Отец действительно очень ласково — куда ласковее, чем с ней, — говорил с этим так мало знакомым ему молодым человеком. Но даже если все это учесть, то Фери — натура упрямая, он не позволил бы разоружить себя такими приемами. Конечно, с ним и не беседовали еще по-настоящему культурные люди. В университете никто не вступит в задушевный разговор со студентом, разве что хозяева, у которых он живет… Как бы там ни было, он увидел в отце не то, что увидели родственники — дядя Бела, мать, — не чудачества, не униженность, не неловкость, а то, что она сама бы хотела в нем видеть: прежнего отца, такого, каким он уходил на фронт. Она, конечно, была тогда лишь восторженной, наивной девчонкой, но время и расстояние сохранили в ней эту восторженность. Душа ее взрослела, однако маленький алтарь детской любви в ней оставался нетронутым. Но если и Фери так же на него смотрит, значит, та девчонка была права. Только восторженность в ней должна еще зреть, чтобы догнать ее нынешнее сознание — сознание того, что отец вовсе не мудрый непогрешимый ученый, каким он ей представлялся. Но разве же это не лучше? Что б она делала с академиком вроде Корани[53], которого все чтят, как святого? Ну, гордилась бы им. А так… Она вошла, чтобы новым, оттаявшим взглядом посмотреть в доброе лицо отца. Он как раз толковал дяде Дёрдю про раскопки, про то, что Болондвар, который они обнаружили вдвоем с аптекарем, был древней сторожевой заставой. И Агнеш внимала ему со счастливой надеждой, спокойно следуя за ним туда, куда, по опыту прежних бесед, они должны были прийти: к сохранившемуся в названиях деревень, рек, холмов сходству структуры монгольских и венгерских поселений.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Никогда еще лестница, ведущая к их квартире, не казалась Агнеш такой крутой (будто подъем в гору на смотровую площадку или на колокольню), как в те минуты, когда вслед за сопящей тетушкой Бёльчкеи, которая забрала чемодан у отца, они поднимались на третий этаж, а сердце ее, хоть и билось изо всех сил, никогда еще так не желало, чтобы после третьего этажа был еще и четвертый, и пятый и путь до звонка на двери их квартиры был как можно длиннее — как сейчас, пока она сделала оставшиеся несколько шагов с чемоданами в руках. Взгляд, который бросила на них из окна своей кухни тетушка Бёльчкеи, был таким испуганным, будто они с отцом были последними отщепенцами и бродягами, которым вовсе ни к чему было здесь появляться. «Вернулись, стало быть?» — жалостно произнесла она, немного освоившись с будящим в ней горестные ассоциации зрелищем, так что Агнеш, ушедшая было вперед, обернулась к ней с первой ступеньки. «Что мама, дома?» — взглянула она в глаза привратнице: в мозгу у нее мелькнуло, что мать, может быть, не получила ее письма и испуг этот означает, что Лацкович как раз у них. «Дома, ждет уже вас», — ответила тетушка Бёльчкеи, вернув в сердце Агнеш главную ее тревогу, которая еще с поезда начала сгущаться и ныть у нее где-то в животе: может, не стоило ей писать то письмо? Может, этим она вызовет лишь обострение застаревшей болезни, толкнув несчастного пленника в самую середину семейной бури?
Впрочем, нет, этого она могла не бояться. Метеорологическим своим опытом, накопленным в общении с матерью, во время бурь, которых было так много в их доме, она ощутила это сейчас же — в тот самый момент, пока открывали дверь, а отец кончал свой отчет тетушке Бёльчкеи о тюкрёшском гостеприимстве («Уж коли я все это выдержал, то за желудок свой могу теперь не бояться»). Мать выглядела спокойной, ее внимание, когда они вошли в прихожую, привлекли скорее чемодан из вулканизированной кожи и плед, которые она им с собой не давала. «А, это вы?» — сказала она, обращаясь скорее к чемоданам, чем к ним, которых ждала с минуты на минуту. И стерпела даже, когда Кертес, повернувшись от тетушки Бёльчкеи к ней и с особой, предназначенной только ей улыбкой разгладив для поцелуя усы, коснулся губами ее тут же отодвинувшейся щеки. «Ой, как тут красиво!» — сказала Агнеш, став с чемоданом полегче посреди столовой и сразу заметив тот избыток света и чистоты, который в квартире, и без того содержащейся матерью в порядке, появлялся после генеральной уборки. Мать и сама была чисто одета, причесана: некая милая середина между туалетом на выход (на себя она обращала внимания меньше, чем на квартиру) и домашним неглиже. Ожидание, о котором говорила тетушка Бёльчкеи, не было, стало быть, предгрозовым ожиданием, скорее — тихой праздничностью, к которой, пожалуй, примешивалась даже некоторая загадочность. Видно было, что мать готовилась к их приезду и теперь, словно щит, держит перед собой эту безупречную и спокойную видимость, надежно защищающую ее мысли.
Первые четверть часа, да, собственно, и вся оставшаяся часть дня, посвящены были чемоданам. У тюкрёшцев — и не только у дяди Дёрдя, чьи дети во время учебы жили у них в Будапеште, но и у остальных братьев — давним обычаем было: утром, перед отъездом гостей (хотя до войны они в этом нужды не испытывали), являться в дом с прикрытыми тряпицами корзинками, так что для Агнеш конец каникул неразделимо был связан с чиновником финансового ведомства, который входил в трамвай у маленькой будки меж Келенфёлдом и Будой и спрашивал, нет ли у пассажиров вещей, подлежащих обложению пошлиной, в то время как у ног Агнеш лежала сумка с сотней яиц (вечером часть их, треснувшая, наполовину вытекшая в желтую слипшуюся бумагу, попадала на сковороду и шла на ужин). Нынче же, по случаю счастливого возвращения родственника из плена, в дом Кертесов потянулись с утра не только сестры, но и молодые родственницы: и те, которых дядя Яни почтил, приняв приглашение на ужин, и те, которые с приглашением опоздали. Иные из них, может, и буркнули дома что-нибудь насчет этих оголодавших пештцев и насчет кладовой тети Ирмы, однако ритуал оставался ритуалом, и они, пусть с еле заметной усмешкой в глазах, но ласково, как их матери и свекрови, вручали дорогим гостям колбасную, ветчинную, яичную, пирожную свою подать, так что Агнеш уже начала беспокоиться, как она дотащит все это с Восточного вокзала домой. К счастью, в поезде отец разговорился на сей раз с молодым агрономом, который ради Агнеш не только выслушал топонимические гипотезы в связи с названием его села, но и — поскольку ему все равно надо было пересаживаться на Западном вокзале в сторону Паллагпусты — даже доволок до ворот громоздкий их чемодан. То, что они с отцом привезли домой, в послевоенные эти времена, в разгул девальвации, было настоящим сокровищем нибелунгов, так что даже госпожа Кертес подобревшим взглядом окидывала открывшиеся под фибровой крышкой свиные деликатесы и, словно в коробку шоколадных конфет, просунула тонкие пальцы меж домашней колбасой и шкварками, чтоб убедиться, не в один ли ряд они сложены, до дна ли заполняют чемодан. Кертес с горделивым видом топтался вокруг жены, ведь все эти немыслимые богатства собрали ему, как приданое, любящие его родственники. И поскольку мамуля перед отъездом отзывалась о них так сердито, он попробовал настроить ее более благосклонно. «Я диву давался, как хорошо они нас кормили. Везде встречали уткой с маринадами. Я уж думал, мой желудок не выдержит». И, видя, что жена не вспыхнула, как обычно, а лишь под нос себе проворчала, дескать, за этих-то можно не опасаться, эти уж как-нибудь с голоду не помрут, он, осмелев, пошел дальше в своей мирной миссии. «И все прямо как сговорились: где тетя Ирма? Даже матушка, как прощались мы с ней, спросила: «Когда же Ирма-то к нам приедет?» — «Как же, дождутся они меня», — уже решительнее оборвала госпожа Кертес его речи и сосредоточила внимание на какой-то необычной на вид колбасе, принесенной одной из племянниц, у всех, в том числе и у задержавшейся тетушки Бёльчкеи, спрашивая, как они думают, сырой ее надо есть или жарить, как прочие.
Насчет письма и Агнеш и мать молчали. Агнеш раза два подымала было глаза на мать, и с языка ее был готов сорваться, как бы между прочим, вопрос: «Письмо мое вы получили, конечно?» Вроде бы так, для порядка. Но страх, сделавший такой крутой их лестницу, каждый раз ее останавливал. Однако по некоторым оброненным матерью фразам ей ясно стало, что письмо здесь, в чисто прибранной квартире, и лежит вместо закладки в какой-нибудь книге; более того, Агнеш мало-помалу как будто и ответ получила на свои вопросы. «Это я сюда ставлю тебе, — сказала мать, слив растопленный утиный жир в баночку, — возьмешь, когда понадобится. — Потом, показав на зельц: — Можешь брать с собой на занятия по кусочку». У Агнеш и в мыслях не было носить с собой в университет завтрак, тем более что в семье у них зельц всегда считался любимым лакомством отца (как копченая колбаса — ее излюбленным деликатесом); по этой заботливости она поняла, однако, что мать не только не сердится на письмо, по настроена к ней щедро и милостиво. За обедом, когда речь зашла о том, как они добирались и как им помог вежливый агроном из Паллагпусты, госпожа Кертес потерла себе указательным пальцем нос и едва ли не с лукавым смешком (довольно-таки непривычным на ее приспособленных к выражению совсем других чувств губах) сказала: «Правильно, мужчины на то и годны, чтоб чемоданы таскать. Услуги от них надо принимать, а потом оставлять с носом».
Кертес, счастливый, что видит жену в хорошем расположении духа, тоже заискивающе засмеялся: «Что-то наша мамуля по-боевому нынче настроена? Я давным-давно говорил, что сама она совсем не так уж легкомысленна, как старается иной раз казаться…» Агнеш, однако, услышала в материных словах нечто совсем иное. Мать всегда рада была, когда у Агнеш завязывалось что-нибудь вроде романа. Как любая мать, она тоже хотела бы, чтобы дочь ее разбивала мужские сердца. (По ее убеждению, у Агнеш была для этого и подходящая внешность, и образованность, вот только холодность ее или высокомерие — слишком уж строгими рамками ограничивает себя дочь — отпугивали мужчин.) А с тех пор, как началась история с Лацковичем, мать особенно радовалась, когда замечала в ней хотя бы намек на кокетство. Однако сейчас в ее аксиоме можно было расслышать и некий иной мотив: она как бы брала Агнеш себе в союзницы, отстаивая женское право на небольшое, невинное легкомыслие. И отрицала тем самым то подозрение, которое Агнеш с такой осторожностью высказала в своем письме. Вот-де и она делает то же самое, принимая услуги Лацковича: пускай он распутывает ей пряжу, приносит журналы мод — в этом деле она не станет ему препятствовать, но то, что сверх, то, чего добиваются все мужчины… Агнеш была почти растрогана такой наивностью. Очевидно, мать вовсе не способна была с должной объективностью взглянуть на свои отношения с Лацковичем; ее же, дочь, теперь, после письма (и это, пожалуй, было уже плохо), она представляла себе еще более простодушной; дело выглядело теперь так, что Агнеш просто обязана не верить в то, чего, собственно говоря, как бы (вследствие их осторожности) и нету. Если б она знала, как старается Агнеш молчать! Суть, однако, была все же в том, что мать, очевидно, пошла на предложенное в письме: она согласилась сделать вид, что того, что было, вовсе и не было, а то, что будет теперь, будет по крайней мере таким, как этот не то поздний обед, не то ужин. Агнеш со смехом рассказывала, с каким ужасом смотрела она на их чемоданы. Сибирская бережливость наверняка не позволила бы им нанять извозчика, — пошла она даже на некоторое ехидство в адрес отца. «Могли бы просто занести к дяде Тони в контору», — с невинным видом вставила госпожа Кертес. «Нет, туда я не хотела, — ответила, помрачнев, Агнеш. — Там столько народу ходит, — добавила она уже в прежнем тоне. — Тогда уж лучше на вешалку…» Госпожа Кертес догадалась, однако, что омрачило лицо Агнеш. Она видела: насчет Лацковича уступок не будет; собирая посуду, она о чем-то сосредоточенно думала — и вслух произнесла лишь итог своих размышлений. «Беда в том, — обернулась она из дверей, — что ты очень уж веришь людям».
Укладываясь спать под скрипы и перезвон потревоженного плюшевого дивана, Агнеш попробовала из действий и обмолвок матери составить ненаписанный ответ на свое письмо. Вечер прошел довольно мирно; они беседовали, шутили, смеялись, как и полагается членам маленькой дружной семьи. Мать не только к ней была милостива, но сдерживала себя и в разговоре с отцом. Когда после ужина женщины ушли на кухню — помыть посуду, пожарить быстро портящуюся кровяную колбасу, — Кертес вскоре вышел следом за ними. Госпожа Кертес в обычной своей манере прикрикнула на него: «Вы бы шли себе в комнаты. Так и будете теперь за мной по пятам ходить? — Затем, глянув на дочь, ополаскивавшую посуду под краном, поспешила добавить: — Не хватает еще, чтобы жирных пятен на костюм насажали, в котором в школу придется ходить. — И под конец даже стала как бы оправдываться: — Терпеть не могу, когда мужчина околачивается на кухне». А когда отец стал ликовать по поводу зажженного электричества и вспомнил, как он зимой, в Ачинске, при свете жалкой лампады штопал свое китайское одеяло, она вспылила было (ничто не раздражало ее так сильно, как упоминание о тех временах: ей словно слышалось здесь некое невысказанное требование, чтобы теперь они все жили так же): «Но мы сейчас не в Сибири… Правда ведь?» — обратилась она к Агнеш и даже присовокупила к последним словам что-то вроде улыбки. То есть в руках у Агнеш, несомненно, имелось какое-то невидимое оружие, которым она могла усмирить мать, смягчить ее злобу и нетерпимость к отцу. Но надолго ли этого хватит? А главное — откуда это сознание превосходства, эта загадочность (ведь по натуре мать человек прямой и наивный), которая то и дело звучала в обращенных к ней словах матери?
На следующий день Агнеш вернулась домой поздно — на улице было уже темно. С утра она рассчитывала где-нибудь в полдень, после занятий по патологической анатомии, заскочить домой — посмотреть, как ладят друг с другом родители, — а потом, если все будет в порядке, бежать обратно на общую патологию, где она из-за тюкрёшской вылазки уже заработала себе прогул. Но в течение дня все что-нибудь возникало такое, что в атмосфере университета казалось более важным, чем домашние неурядицы. Агнеш любила лекции, особенно с тех пор, как им стали читать и клинические дисциплины. Это даже как развлечение заслуживало некоторой затраты времени: ты сидишь в огромной аудитории, а профессор и с ним стая мужчин в белых халатах (будто официанты или кельнеры) должны тебя обслуживать, и даже демонстрируемый больной старается изо всех сил, чтобы подать тебе как можно более аппетитное блюдо. Ты же смотришь, записываешь, твоя тетрадь лежит на пюпитре среди сотни других тетрадей: если тебе что-то кажется особенно интересным, открывает какое-то новое окошечко в медицину или приводит в систему ранее слышанное, то локоть твой приходит в движение и гонит, стремясь поспеть за словами, наклоненные от усердия и от спешки буквы; если же лектор лишь уныло пересказывает учебник, ты останавливаешь бег карандаша и, не поворачивая головы, разглядываешь скучающих коллег или ищешь смешное в одежде лектора, в шутках, которые ему кажутся остроумными… А в этот день — может быть, потому, что вот уже десять дней, с тех пор, как вернулся отец, она почти не была на занятиях, — развлечение это казалось ей особенно увлекательным. Уже одно то, что общую терапию сегодня читал не профессор, а молодой ассистент, руководитель их практики, который с таким педагогическим пылом сказал, когда она, опоздав, постучалась: «Если вы, барышня, теперь не усвоите материал, то уже никогда не усвоите», и то, что для демонстрации он привел их старого страдающего злокачественной анемией больного, который все еще лежал в клинике, и тот, оглядевшись вокруг неуверенными, лимонно-желтыми глазами, явно обрадовался, узнав ее. Потом присутствие на приеме у Веребея, где откуда-то из-под амфитеатра, из маленькой дверцы, выводили одного за другим, словно на арену, больных, чтобы в ослепительном свете ламп высветить их жалкий удел. Агнеш готова была обнять старого профессора, когда он, повторяя жалобы какого-нибудь больного, приехавшего из провинции, выделял интонацией то зловещий симптом, прозвучавший в неуверенных словах («табак он без удовольствия жует, мешает ранка внутри на щеке»), то какие-нибудь смачные языковые обороты, характеризующие образ мысли, привычки людей, особенно если они заставляли краснеть студенток («этот мил человек рассказывал, как жена рукой его ублажала»). Ее восхищало даже немного театральное движение, каким он по ходу объяснений поворачивался на одной ноге к доске, второй описывая круг, словно ножкой циркуля. Потом — анатомическая практика. Лежащее на жестяном столе тело принадлежало печатнику, который, как гласило медицинское заключение, скончался от свинцовой колики. Прозектор, словно чутьем уловив, что терапевты опять допустили какой-то чудовищный ляпсус, с ироническим беспристрастием зачитывал диагноз и сведения из истории болезни, а сам в это время упорно смотрел на покойника и на собственные резиновые перчатки, словно думая лишь о том, чтобы злорадным блеском глаз не выдать заранее свое мнение, не испортить предстоящее удовольствие. Десяти с лишним лет ему вполне хватило, чтобы чуть ли не наизусть знать самые распространенные ошибки терапевтов, и сейчас, обнаружив в животе у печатника перфоративный аппендикс, он — чтобы триумф его был совсем очевидным — еще упрямее продолжал разглядывать свои перчатки. «Все понятно, — тихим голосом сказал он. — Господам терапевтам скучны банальные случаи, им хочется чего-нибудь необычного. А если несчастный к тому же еще и печатник…» У студентов, словно бы заглянувших в некий тайник, где пряталось неотъемлемое от их ремесла шарлатанство, появились на лицах понимающие, заговорщические улыбки; как ни неуместно, как ни ужасно это было здесь, рядом с трупом, который, не случись сей диагностический казус, был бы сейчас живым человеком, двигался, думал, чувствовал, но Агнеш тоже передалось странное это веселье, и, выходя из полуподвального помещения с обитым жестью столом, она чувствовала, что знает о врачебной работе больше, чем до сих пор.
Вот теперь ей надо было бы сесть на трамвай и ехать домой. Но тут она вспомнила, что сегодня среда, а по средам читал свой спецкурс приват-доцент, преподаватель патологической гистологии. Уж он-то знал, что такое приватный спецкурс! Читал он без всякой профессорской помпы: просто затемнял комнату и показывал диапозитивы, по двадцать — тридцать препаратов за лекцию, но в длинной его камышовой указке и скупых пояснениях нетрудно было почувствовать специалиста милостью божией. Словом, Агнеш не смогла удержаться и не пойти. Там она услышала от коллег, что после обеда на фармакологии — бог знает откуда пришли эти сведения — совершенно точно будет проверка. Это была веская причина, чтобы прямо в саду клиники наскоро прожевать бутерброды, которые мать сунула-таки ей в сумку, и с трех до четырех снова сидеть на лекции; на сей раз в том световом круге, что переполнявшая ее в этот день доброжелательность отбрасывала на обретшие исконную волнующую притягательность явления, лица, предметы, оказался аристократического вида профессор (почему-то именно такими представляла Агнеш преподавателей Кембриджа) со своей ассистенткой — красивой, пышнотелой, притягивающей взгляды коллег-мужчин, и величественно-брезгливым адъюнктом — ее мужем. Потом, раз уж она все равно тут, Агнеш хотела еще забежать в Институт патологии — оправдаться насчет прогула.
Лишь по дороге домой, в трамвае, Агнеш задумалась, почему таким удивительно легким был для нее этот день, почему сердце ее лишь сейчас, словно под внезапно возросшим давлением, начинает сжиматься от чувства вины и от страха. Как счастлива была она всего три недели назад в этом же самом шестом трамвае. «Инфлюэнца?» — ехидно спросил у нее ведающий журналом ассистент, когда после шести или семи прогульщиков дошла очередь до нее. И взглянул на ее руки: протянет ли она медицинскую справку, которую так легко было добыть. И когда она с некоторым — из-за насмешливого тона — пафосом ответила: «Нет, у меня отец вернулся из плена, спустя семь лет, и мне пришлось поехать с ним к родственникам в деревню: он из-за скорбута еще неуверенно ходит», доцент поднял на нее взгляд: не сказки ли это, можно ли этому верить без всякого письменного подтверждения? «Ну что ж, это в самом деле causa sufficiens[54]», — сказал он; потом, окончательно убежденный то ли всем ее видом, то ли выражением глаз, с любопытством и даже некоторой лаской посмотрел на ее радостно-взволнованное лицо. Но где же она теперь, эта радость, которую ассистент, как свидетельствовало быстрое движение ластиком, когда он не просто удостоверял, но стирал ее пропуск, увидел у нее на лице? Вместо радости была лишь совсем иная, вязкая, не отпускающая ее среда, из которой так приятно, будто во сне, будто несомой воздушным шаром, улетать в небеса науки. Ей пришлось потрогать и разбередить все шрамы сострадания в своей душе, заставить себя вспомнить все связанное с отцом: и ценой каких мук, каких скитаний он вернулся домой, и унизительный прием, оказанный ему дома, и то, что ситуация эта подвергает испытанию и ее детскую преданную любовь; она вспомнила даже, как восхищался отцом Фери Халми, и вспомнила свой обет, данный в Тюкрёше, на крыльце старого дома Кертесов, и, когда наконец тревожные чувства и мысли, которым атмосфера университета, любознательность молодого ума, беззаботная жизнерадостность окружающих помогли затянуться, словно тромбин, начали снова сочиться из открывшихся ран, любовь и жалость к отцу с такой силой вспыхнули в ней, что в подземке она уже бежала бегом по лестнице, перепрыгивая ступени, чтобы как можно быстрее оказаться там, рядом с тем, к кому относилась эта — несмотря на все беды и огорчения — по-весеннему забурлившая, перехватывающая дыхание любовь.
Отца она застала дома одного; он сидел за старым своим столом, набросив на плечи пальто, и перебирал сложенные перед собой книги и атласы. Это тоже было словно частица вернувшегося детства, сбывшийся сон: отец за столом в пальто. «А мама?» — непроизвольно спросила Агнеш. «В кино пошла с мадемуазель Фишер…» Агнеш неуверенно обдумывала весть. Матери нет дома, к тому же она в кино, — конечно, тут не мог не прийти в голову Лацкович. Но мадемуазель Фишер — если только мать в самом деле с ней — это был скорее отрадный факт. Мадемуазель Фишер как раз в эти дни, пока они с отцом были в Тюкрёше, в долю с каким-то мужчиной открыла на улице Сонди парикмахерский салон; этот шаг, после нескольких лет охлаждения, снова привлек к ней симпатии госпожи Кертес, которая обожала всякие новые необычные начинания (парикмахерский салон в те времена еще был в столице редкостью), и она среди первых пришла к ней привести в порядок прическу. Если сейчас она в кино с мадемуазель Фишер, это, может быть, тайный намек в ее, Агнеш, адрес: дескать, вот до чего я дошла, живу, как монашка, даже в кино иду не с молодым кавалером, а с мадемуазель Фишер — вроде как с евнухом. «В кинотеатре «Ориент» дают, кажется, фильм с Максом Линдером», — объяснял далее Кертес. «Ориент», один из самых старых в Пеште кинотеатров, он знал еще по прежним временам; более того, он помнил даже тонкие усики актера, так же как помнил и мадемуазель Фишер, что в его глазах придавало всему этому какой-то домашний оттенок. «Я напросился было с ними, — добавил он с той улыбкой, с которой пробовал сохранить превосходство над неприятными или не вполне приличествующими ему мыслями. — Но они сказали, билеты уже распроданы, мадемуазель Фишер самой достались потому только, что кассирша из кинотеатра к ней ходит делать прическу. А вообще она очень была любезна, предложила мне свой билет. Ну, мамуля ей тут же: нечего, мол, уговаривать, для него кино и театр всегда были легкомысленным времяпрепровождением. Она даже «Волка» припомнила, Ференца Молнара[55]: я в свое время был недоволен, что эти писатели не могут найти другой темы, кроме как была супружеская измена или не было. Я стоял на том, что любовь — не более чем капля меда, которой природа соблазняет человека на продолжение рода. А где этого нет, там остается одно голое сладострастие, как конфета для лакомки…» Агнеш, проведя целый день среди студентов, при всем сочувствии к отцу едва не расхохоталась: ничего, что сильнее вывело бы мать из себя, он и придумать не мог. «Вы, надеюсь, не сказали ей это?» — проглотила она готовый вырваться вопрос. «Ну и ладно, посмотрим как-нибудь с вами», — сказала она, улыбаясь со всей накопленной в трамвае нежностью. «О, ни к чему это, я от кино в самом деле не в таком уж восторге, — отверг отец ее предложение. — Разве что так, изредка, для компании», — добавил он, не подозревая даже, что этим исключает из той самой компании, для которой он готов пойти в кино, единственного неравнодушного к его судьбе человека.
«А вообще как прошел день?» — спросила Агнеш, спрятав под улыбкой крохотный укол в сердце. «Листал вот старые учебники. Чтобы не совсем уж неподготовленным быть, если придется встать перед классом». — «Ну, рано еще вам думать об этом», — запротестовала Агнеш. «Вот это же самое мне сказал и коллега Креснерич, которого директор — у него-то дела в управлении были — послал встретить меня на вокзале. Ты, говорит, не торопись, дядя Янош, выторгуй у них отпуск, и чем больше, тем лучше. А мамуля говорит, стоит занять место как можно скорее. Так и насчет приработка легче будет думать». — «Какой там приработок, — пыталась Агнеш скрыть под беспечным тоном свое возмущение. — Прежде всего, вы пока в армии состоите. Сейчас у вас две недели отпуска, а в понедельник явитесь в Попечительское ведомство. Там месяц-другой будут вашим здоровьем заниматься». — «Да-да, я слышал, там даже зубные протезы делают», — сказал Кертес, который утрату пяти-шести зубов — как видимый недостаток — считал самым большим понесенным им ущербом. «Вот-вот, и ванны назначат», — старалась Агнеш не дать его мыслям уйти от Попечительского ведомства. Кертесу, собственно, нравилась мысль, что он теперь ветеран и о его телесном здоровье теперь будут заботиться. (Он рассказал, что еще в Сибири русские доктора объявили его инвалидом, и, хотя говорил он им только то, чему научили его свои врачи, из военнопленных, он едва не впал в ипохондрию, когда услышал диагноз!) Однако тревога, посеянная женой в его душе, была сильнее. «Завтра зайду все же в школу, — оторвался он от сибирских воспоминаний. — Мамуля считает — нехорошо, что я до сих пор там не объявился». — «Тогда подождите хотя бы до субботы. На медфаке в субботу выходной день, я вас провожу». — «Ты?» — взглянул на нее отец, у которого лоб словно стал еще выше от удивления. «Вы не представляете, как на улице скользко. В трамвае — давка. Не хватает, чтобы вы поскользнулись, с больными ногами-то», — сказала Агнеш, краснея от собственной лжи, ведь думала она вовсе не о дожде со снегом, а о школе: как там воспримут его чудачества, и внезапным своим решением хотела помочь именно в этом. «А, — махнул рукой отец. — Вон в сентябре, когда я пешком тащился из немецкого госпиталя…» Но то ли внимание дочери было ему приятно, то ли не оказалось в нем достаточно сил, чтобы сопротивляться чужой воле, — во всяком случае, он не стал спорить: ладно, в субботу так в субботу.
Когда они пришли в школу, там как раз была перемена. Агнеш редко бывала здесь в последние годы. За жалованьем отцовским должна была приходить мать; госпожа Кертес вообще охотно показывалась в этом старинном будайском здании, где учились и отец ее, и младший брат, и, когда в коридоре появлялась ее стройная фигура, она сразу оказывалась в центре внимания, в котором смешивалось и уважение к ее мужу, и интерес к привлекательной женщине. Стоя в группе учителей, довольных возможностью чуть-чуть растянуть перемену, она уже не чувствовала себя никому не нужной, покинутой женщиной; вместе с длинным жемчужным ожерельем она, собираясь сюда, как бы надевала на себя и положение в обществе, а одновременно охраняла и авторитет мужа: пусть не думают, что он умер и место его занято будет каким-нибудь беженцем из Эрдея или Верхней Венгрии[56]. У Агнеш клубившийся в готической подворотне полумрак и приглушенно доносящийся сюда гам пробудил совсем иные слои эмоций. Выходящее на Дунай здание гимназии с башенками для нее было папиной школой, где ежевечерняя подготовка, в которую погружался этот серьезный и такой милый человек, многочисленные книги, которые он читал, наброски карт превращались в недоступные для нее уроки и куда она девочкой — пока они жили поблизости — иногда провожала его, видя, куда он кладет проверенные тетради по географии, а на экскурсиях имея возможность наблюдать счастливцев мальчиков, которые от него узнавали так много о королях из династии Арпадов и о географии Азии. Раз или два отец брал ее на праздник 15 Марта[57], где он вместе с другими учителями сидел в большом актовом зале на сцене, с серьезным лицом слушая, как староста литературного кружка самообразования произносит с трибуны торжественную речь; она даже бывала в глядящем окнами в сад спортзале, где отец упражнялся в фехтовании не с кем-нибудь, а с самим Шуйоком, учителем гимнастики. На фоне этих благоговейных воспоминаний мелькали и иные, более легкомысленные. Когда мать во время войны посылала ее отнести в школу заполненную анкету, какое-нибудь интересное письмо, полученное из лагеря или от Красного Креста, или библиотечную книгу и она напряженной походкой, с туго заплетенной косой проходила по коридору, взгляды толпящихся в классных дверях или стоящих вдоль стен дозубривающих уроки мальчишек все — пусть по-разному, в зависимости от характера — напоминали ей, что она уже женщина; а однажды, когда ей нужно было подняться на третий этаж, в учительскую библиотеку, туда, где гнездились старшие классы, один восьмиклассник даже скомандовал товарищам: «Для встречи справа на-кра-ул!» — и она с пылающими ушами, не глядя ни вправо, ни влево, прошагала мимо застывших по стоике «смирно» молодых людей.
Но эти всплывающие в полумраке воспоминания отошли теперь куда-то на задний план, рассеялись, превратились в воздух рядом с бьющейся в сердце тревогой: как-то удастся первая встреча идущего рядом с ней, напряженно поглядывающего по сторонам калеки с оставленным им семь лет назад местом службы. В воротах стоял школьный рассыльный. «К господину директору изволите?» — остановил он их. Кертес, по своему обычаю, высоко поднял шляпу, затем, как человек, уверенный, что имя его где-где, а уж здесь должно что-то значить, сказал с некоторым нажимом: «Я учитель Янош Кертес». Взгляд рассыльного с минуту перебегал с Агнеш на Кертеса и обратно. «Господин учитель Кертес? — загорелись его глаза, когда имя соединилось с воспоминанием. — Я и не узнал вас, господин учитель. С этими подстриженными усами; да и немножко того…» Теперь Кертесу пришла очередь удивляться. Кто этот немолодой, со слабым швабским акцентом рассыльный, помнящий его былые усы, по утрам заботливо упрятываемые в наусники? В его памяти школьным рассыльным все еще был дядя Кисела, или, как они его меж собой называли, вице-директор, чьи могучие плечи давно согнулись, словно от чрезмерно усердного чтения бумаг, и теперь Кертес никак не мог найти место этому, хотя и знакомо улыбающемуся, лицу. «Келлер я, — объяснил тот. — Истопником раньше был. Нас с вами в одно время призвали». «Дядя Кисела прошлой осенью умер», — помогла отцу Агнеш. «Келлер? Да-да, конечно, вот теперь вспоминаю. Но ведь вы тогда совсем молодым пареньком были… Бедный Кисела, умер, значит… Я и то думаю про себя: нет, не может это быть Кисела. Хотя и у вас уже, господин Келлер, начинается небольшой амбонпуэн[58], как русские говорят», — по своему обыкновению, повторил он вслух мысли, пробежавшие у него в голове, пока он нашел там место рассыльному. «Да, я тоже уже для ребят — дядя Келлер, — ответил рассыльный, услышавший в речах Кертеса только расположение к простому человеку. — Господа преподаватели сейчас в малой учительской собрались. Вы ведь знаете, где это, — бросил он взгляд на Агнеш: нужно ли провожать гостей. — Небольшое торжество готовится…» — «В малой учительской? На втором этаже? Ну как же». И он решительно, как человек, который находится у себя дома или по крайней мере должен чувствовать себя как дома, направился с Агнеш вверх по лестнице.
Из класса напротив как раз выпустили ребятишек. Те толпой рванулись к двери и, конечно, застряли, так что головы их были снаружи, ноги же — в классе, а самый быстрый или самый неловкий, выдавленный словно пробка из горлышка, головой налетел на Кертеса; Агнеш пришлось поддержать отца, чтобы он не зашатался. Остальные, вывалившись следом и тут же рассыпавшись в стороны, со злорадным смехом смотрели на своего растерянного товарища. В дверях появился учитель, молодой еще человек, который, не зная Кертеса, бросил лишь беглый взгляд на отца с дочерью. «Так полагается выходить из класса?.. Дикари, — пытался он спасти перед посторонним хотя бы собственный авторитет. — Конечно, это опять Беранек», — сказал он, крепко ухватив бедолагу за локоть. «Первая встреча с подрастающим поколением», — подумала Агнеш. И, почувствовав в нерешительности отца некоторую готовность подойти к молодому коллеге и начать выяснение, знакомы ли они друг с другом, она взяла его под руку и тихонько потянула к лестнице. «Коллега был не совсем прав, — сказал Кертес, когда, поднявшись на один марш, остановился передохнуть на площадке. — Не «Так полагается выходить из класса?», а «Так надо выпускать?». Тихая улыбка его, бог знает почему, привела Агнеш в хорошее настроение. «Как водится, самого неловкого обругал», — поддержала она отца, словно то крохотное превосходство, с которым отец смотрел на неумелого учителя, могло быть зерном надежды, из которого здесь, в школе, может вырасти прежний уверенный в себе учитель.
В малой учительской оказался лишь какой-то молодой человек — еще один незнакомый коллега, у которого, видимо, было сейчас окно, а потому на него возлагалась задача стеречь от непосвященных накрытый стол с бутербродами, творожными коржиками и бутылками. В стороне, на маленьком столике, среди сдвинутых к краю стопок тетрадей, беспорядочной грудой лежали коробки, мешочки с приправами, бумажные свертки, позволяющие угадать в них салями или другую колбасу; в этой свалке даже была новенькая настольная лампа и целенькая сахарная голова. Молодой учитель, в соответствии со своей задачей, и Агнеш с отцом хотел было выставить в коридор, но, когда Кертес назвал свое имя, сразу стал очень любезен. «Господин Кертес! Очень рады были узнать, что вы приехали. Господин Креснерич рассказал о встрече…» Должно быть, он был в гимназии самым юным; застенчивость, с какой он представился Агнеш, пробудила в ней ощущение женского превосходства. Внимание Кертеса переключилось на накрытый стол, на свертки, оттеснившие в сторону тетради. «Правду сказал наш рассыльный — дядя Келлер, как он гордо представился, — что господа преподаватели собираются на какое-то торжество… О, какие чудесные коржики!» — «Да, день Андраша отмечаем», — «Андраша? Это кто же здесь Андраш? Неужто Фюле?» — «Нет, Андраш Бодор». — «Ну да, ну да, Фюле в Сольноке был. Как вы сказали, коллега: Бодор? Уж не Андриш ли Бодор?» Кертес просто был потрясен тем, что его старый коллега Андраш, с которым они вместе писали учебник географии, вместе были в низовьях Дуная и о котором он долгие годы не вспоминал, вдруг появился в его сознании во всем своем крохотном, сердитом кальвинистском естестве. А спустя минуту-другую тот появился и сам — сгорбленный, поседевший, с двумя бутылками и с букетом цветов под мышкой, такой же желчный, как прежде. «Цветы… К чему мне цветы? И самородни[59]… Когда я хмельного в рот не беру, — говорил он вошедшему с ним коллеге. — Дарили бы лучше муку, сахар, чтобы польза была… Положи-ка это сюда, милый», — обратился он к остановившемуся в дверях нагруженному до подбородка подарками мальчику, который, конечно, слышал его слова. И ученик — конечно, какой-нибудь отличник — с благоговением (как-никак оказался в учительской) и со страхом — как бы не уронить что-нибудь — сложил бутылки и свертки в общую груду с тетрадями.
Сам именинник до того погрузился в анализ подношений, что не заметил Кертеса с дочерью. Наконец молодой учитель шепнул ему про гостей. «Здорово, Яни, — протянул Бодор Кертесу руку, словно расстались они не далее как вчера, — так приветствуют переведенного в другую школу коллегу, забежавшего навестить бывших сотрудников. — Как раз вовремя», — добавил он в том же тоне. Лишь когда они трясли руки друг другу и постаревшее лицо гостя напомнило Бодору о прошедших семи годах, до него дошло, что былая дружба требует в этом случае иного жеста, и он обнял Кертеса. И даже, пока они похлопывали друг друга по спине, чуть-чуть прослезился. «Эта сумасшедшая жизнь, — объяснял он больше себе, чем другим, и внезапную свою растроганность, и минутное опоздание, — школа, закупки, репетиторство. Видишь, вот и сейчас: как я все это утащу?..» — показал он на бутылки. Внимание Кертеса зацепилось за слово «закупки»: друг его, когда они расставались, был безнадежным сорокалетним холостяком. «Да ты женился никак, Андраш?» — «Удивляешься? Столько лет держался, и вдруг… Хотя про жену ничего плохого сказать не могу, я с ней в реформатском женском кружке познакомился… Ну, бог с ним, главное, что ты наконец дома, — махнул он рукой, оставляя тему, в которой странным образом смешивались горечь и гордость. — Я хотел сам пойти тебя встретить, да у нас как раз родительский день был… И вообще директор (вспомнил он с некоторой обидой) Креснеричу поручил на вокзал ехать… Трудно тебе пришлось, а? — вспомнил он, через что прошел старый друг. — Хотя, ты сам увидишь, тут сейчас ненамного лучше, чем в Сибири». — «Во всяком случае, там после семнадцатого года — мы тогда еще дни ангела отмечали — вряд ли можно было такие именины организовать. Кстати, коли уж я так удачно здесь оказался, разреши мне тебя поздравить…» И он протянул Бодору руку. «Спасибо», — подал тот Кертесу маленькую плотную ладошку. Но свившая в нем гнездо горечь, которую свалившийся с неба старый друг только разбередил в его сердце, не дала ему даже закончить рукопожатие. «Ты только не думай, дружище, — вырвал он у Кертеса нетерпеливые пальцы, — что это те старые добрые именины, какие тебе выпадало праздновать в Верешпатаке или где ты там был. А угощение… Это ведь плата, дружище. Понимай буквально: плата за мой труд. Налог, которым мы богатеньких учеников облагаем. День ангела, день рождения — самый надежный доход для учителя. Те, у кого, скажем, как у Иштвана Хенеи, день ангела летом, ищут в календаре другой, зимний Иштванов день… Да вы угощайтесь, не стойте так. Это что, дочь твоя?» — протянул он Кертесам тарелку с бутербродами.
Пока именинник жаловался на жизнь, комната постепенно наполнялась; учителя, сложив журналы, тетради, образовали вокруг виновника торжества полукруг. «Ты уж совсем-то не разочаровывай бедного дядю Яни, — вмешался в разговор немолодой учитель, которого знала и Агнеш (он, пока не женился, считался довольно привлекательным мужчиной). — Посмотри на нас, дядя Яни, — воспользовался он моментом, чтобы пожать в знак приветствия локоть гостю. — Разве скажешь, что мы голодаем?» — «Легко говорить тому, — огрызнулся на него Бодор, — кто математику и физику преподает». — «И у кого такое суровое сердце, как у Гиршика», — подошел для приветствия третий, пожилой коллега. «А что? Коли ты глуп, так плати хотя бы. Верно я говорю?» — повернулся Гиршик с тарелкой в руке к Агнеш. Вокруг Кертеса поднялась суета: кто здоровался, кто представлялся. Агнеш видела за чужими спинами лишь его лоб, нерешительно поворачивающийся то туда, то сюда, когда отец с надеждой вглядывался в лица, пытаясь их вспомнить, и озарялся радостью, когда он погружался в дружеские объятия. Старых коллег, с которыми Кертес, как с Бодором, с Гиршиком, когда-то вместе работал, в толпе преподавателей было всего человек пять-шесть. Кто умер, кто ушел на покой; кое-кого выгнали после Коммуны[60]. Оставшиеся, словно ветераны какого-то кровопролитного сражения, едва ли не с гордостью рассказывали Кертесу о потерях. «И старик Яноши тоже. Спустя месяц после того, как его в Общество Кишфалуди[61] избрали. Кровоизлияние в мозг», — гласил отчет о старом преподавателе, который для Кертеса всегда был образцом и примером. «А старик Ченгери? Тоже, конечно, умер», — сказал Кертес. «Нет, он пока еще воюет с учениками. Спустись к кабинету естествознания — услышишь, как он орет». — «Не надо спускаться, он здесь уже», — воскликнул прежний услужливый молодой человек. И в самом деле, в дверь шаркающей походкой, поддергивая сваливающиеся штаны, вошел, растроганный и сам вызывающий сочувствие, дряхлый преподаватель. «Келлер мне сказал, вы здесь, коллега. (Он все еще называл Кертеса — как более молодого — на «вы».) По такому случаю решил и я одолеть эту чертову лестницу. С каждым годом все круче, проклятая», — повторил он давнюю свою шутку. «Как изволите поживать?» — с былой почтительностью к старшему спросил Кертес. «Один как перст», — ответил тот и расплакался. «Да, тетю Ченгери мы схоронили, бедняжку», — сочувственно сказал Гиршик, жуя бутерброд.
Преподаватели помоложе тем временем распечатали выставленные для распития бутылки с вином и даже одну со сливовицей — Бодор оставил ее на столе по ошибке. После того, как выпили за здоровье сначала Кертеса, потом именинника, разговор опять перешел на учительские проблемы. «Кто-то высчитал, государство в месяц нам платит по полтора доллара, — сказал Бодор. — Последний кули на Яве и тот получает больше». — «Как требовать, чтобы ученик уважал учителя, когда он знает: его отец перепродаст центнер риса — и заработает больше, чем я за год?» — «Жена мне тоже об этом в Чот писала, — внес в разговор свою лепту Кертес. — Что за месячное жалованье можно разве что пару брюк купить». — «Если б еще пару брюк», — сказал Андраш Бодор. «…И что насчет приработка надо думать», — различала, стоя в своем углу, Агнеш в хоре жалоб слабый голос отца. «Беда в том, дядя Яни, что, как сказал Мадач[62], тюленей мало, а эскимосов много». — «Ничего, я гарантирую, что устрою дяде Яни тюленей», — ворвался в разноголосицу Гиршик, в приливе великодушия опрокинувший один за другим три стаканчика. И, отойдя к Агнеш, объяснил ей: «Скоро второй педсовет, вот я и прижму кого-нибудь из богатеньких. Будут у дяди Яни ученики». — «Не знаю только, хватит ли у него сил», — сгорая от стыда, ответила Агнеш. «Да тут надрываться особо не требуется, я за два часа в день пятерых натаскивать успеваю. Троих отсюда, еще двоих из реального: кооперируемся с коллегой… Не слишком дядя Бодор расщедрился, — попалась ему на глаза груда свертков. — Мог бы что-нибудь и мясное положить поверх масла… Сейчас я ему намекну, — весело подмигнул он Агнеш. — Слушай-ка, дядя Андраш, а ведь ты забыл кое-что. Салями нарезать». — «В самом деле, — досадливо и сконфуженно пробормотал Андраш. — Да хлеб-то вы съели уже». — «Ну и что: пошлем Келлера».
Прибереженную для дома салями, а точнее, самого именинника, который намерен был любой ценой воспрепятствовать истреблению деликатеса, спас приход директора. Это был низенький, с круглой головой человек. Агнеш, хотя инстинкт в той подсознательной диагностике, которая заставляет нас простукивать, прослушивать любого нового человека, призывал ее к осторожности, сразу прониклась к нему симпатией. То, как он, поздравив на ходу именинника, тут же подошел к Кертесу и, не нарушая общего веселья, за несколько минут выяснил, где и когда они познакомились (на выездной конференции Ассоциации преподавателей), потом рассказал, где он сам был в плену и как ему удалось вернуться домой еще в 1918-м, лишь укрепило в ней первое благоприятное впечатление. «Ваш отец выглядит куда лучше, чем я предполагал, — шагнул он к Агнеш, которая после того, как Гиршик ушел подзуживать Бодора, осталась в углу одна: старики о ней забыли, молодые же лишь поглядывали издалека. — И лицо спокойное и вовсе не изможденное». — «Да, в Тюкрёше его подкормили, — подняла на него благодарный взгляд Агнеш. — Но все-таки — скорбут… — добавила она, чтобы хоть часть тревог своих разделить с человеком, чьи ласковые карие глаза сразу внушили ей такое доверие. — Да и отвык он немного от здешней жизни. — И, поясняя, что имеет в виду, привела пример: — Каждый раз, как одеваться, злится на здешнее платье, — сказала она, краснея от смущенного смеха. — Как это, говорит, люди могут ходить в пальто с таким разрезом?» — «О, это мне знакомо, — засмеялся директор. — Когда я домой попал, тоже что-то подобное жене говорил». У Агнеш возникло чувство, что ему знакомо не только душевное состояние человека, вернувшегося из плена, но и то, из-за чего она старается увести разговор от опасной темы. «Боюсь я немного, что он сразу захочет пойти работать. Вы ведь знаете, господин директор, ученики всегда смотрят, каков status praesens[63]», — вставила она, чтобы справиться со смущением, недавно усвоенный термин терапевтической диагностики. «Это верно, — смотрели на нее (не со сластолюбивым превосходством, свойственным пожилым людям, а уважительно и с искренним желанием помочь) карие глаза. — Что касается учительских слабостей, тут наши ученики страдают идиосинкразией[64]», — смеясь, вспомнил и он медицинское слово. И бросил взгляд в сторону коллег, которые опять углубились в любимую тему о тяжкой учительской доле: папаша Ченгери толковал о том, что это значило в его молодые годы — быть учителем гимназии в Буде; Андриш Бодор же плакался, что, если его жена снова родит, ему останется идти по миру. «Но такой опытный учитель, учитель милостью божьей, как ваш отец, он на одной интуиции выедет, когда окажется в классе». Это и Агнеш показалось правильным, особенно когда она вспомнила Фери Халми и разговор в бабушкиной каморке; чтобы обрести еще больше уверенности, она приоткрыла еще частицу своей тревоги: «Конечно… Но потому и не хотелось бы, чтобы в самом начале… отношения с учениками…» — «Нет-нет, отношения не испортятся, — опять засмеялся директор. — Я прослежу за этим. Дам ему самые смирные классы. — И, уже серьезным тоном, добавил: — Я очень рад, что наша гимназия пополнится таким прекрасным преподавателем. А сколько он захочет отдыхать, это дело его и врачей. Я только по собственному опыту могу сказать — правда, я был намного моложе, но к нему это тем более относится, — что если он сможет продолжать свое дело — а я в этом нисколько не сомневаюсь, — то это быстрее всего вернет ему уверенность в себе… Однако, господа, — обернулся он к расшумевшимся учителям, взбудораженным не столько вином, сколько тем, что звонок давно уже прозвенел и они могут украсть немного лишнего времени у так скупо оплачивающего их труд государства. — Я думаю, господа, хоть к концу урока, но нам все же нужно быть в классе». — «Правильно, хоть задание на дом дадим». — «Да, пойдем давать, как говаривал преподобный отец Байтаи, — вспомнилась Кертесу довоенная шутка. — Почему «давать»? Потому что за эти деньги можно только давать, а не препо-давать». Забытая эта острота, которую дядя Яни Кертес сохранил, пронеся через всю Сибирь, имела бурный успех. «А что бы он, бедный, теперь сказал?» Директор, стоя в открытой двери, дождался, пока все разойдутся по классам, и полушутя-полусерьезно сказал оставшемуся последним Бодору, в растерянности глядящему на свои сокровища: «Закрой все под замок, Андриш. — И повернулся к Кертесу: — Если у вас нет более важных дел, то я вас приглашаю к себе». — «Мы, пожалуй, лучше пойдем потихоньку, — вмешалась Агнеш, боясь, как бы удавшаяся эта встреча не кончилась в кабинете каким-нибудь неприятным казусом. — Мама сердиться будет, если мы опоздаем к обеду», — обратила она к отцу самый действенный аргумент. «Я вижу, дочь тебя во всех отношениях оберегает», — рассмеялся директор. «Да, вот даже в школу не захотела отпускать одного, — ответил Кертес, и во взгляде его, брошенном на Агнеш, была некоторая гордость: вот, дескать, как заботятся о нем дома. — Чтобы я не поскользнулся с больными ногами… Эх-хе-хе, сколько дорог прошли эти ноги, и в куда худшем состоянии». И пока они добрались до ворот, одновременно состоялось еще одно, пятнадцатиминутное путешествие от Киевского вокзала до Екатерининской больницы и Бутырки, в котором директор своими вопросами и собственными воспоминаниями ухитрялся поддерживать относительный порядок.
Отец и дочь, довольные, спускались по Крепостному спуску. Пока они были в гимназии, над городом прошел небольшой дождь со снегом, так что было совсем не лишним, что Агнеш, поддерживая отца под локоть, шла все время на ступеньку впереди. Кертес тоже был возбужден первой успешной встречей, тем, что дождался-таки этого часа, что день Андраша столь удачно совпал с его посещением, как бы став немного и его праздником, а главное, тем, что коллеги, например Гиршик, обещали организовать приработок (обещание это он нес домой как залог надежды на лучшее будущее), и даже тем, может быть, что идущая рядом с ним красивая девушка, которая, как он заметил, произвела очень благоприятное впечатление не только на молодых коллег, но и на самого директора, с такой даже несколько преувеличенной заботливостью следит, чтобы он спустился по скользким ступенькам в целости и сохранности. У Агнеш тоже было такое чувство, что не зря она напросилась пойти с отцом. Ее появление рядом с ним не могло, вероятно, не внести некоторый пусть посторонний, но благоприятный для него оттенок в первые впечатления новых, да отчасти и прежних его коллег; ну, а кроме того, в этом симпатичном директоре (который своей моложавостью и уважительным отношением к женщинам обязан, наверное, раннему и счастливому браку) она нашла настоящего сообщника, вместе с которым они найдут способ помочь отцу, и это наполняло ее оптимизмом и гордостью, добавляя силы ее руке, поддерживающей локоть отца. Есть ли на свете что-либо лучше, чище, прекраснее, чем вот так, незаметно, обретая награду лишь в своем сознании, оберегать человека, которого любишь?.. «Однако прежде подобного даже представить было нельзя», — сказал вдруг Кертес, когда лестница кончилась и они зашагали по тротуару. «Что нельзя было представить?» — не поняла Агнеш. «Чтобы ученики таскали учителю всякие подношения. Вообще чтобы учитель принимал подарки. Когда я только начинал работать учителем в Пеште — мы здесь, неподалеку жили, в доме Тибера, — кто-то из родителей торт прислал в школу, перед экзаменом. Так даже мамуля, помню, тогда возмутилась».
Однако в этих словах звучало лишь задумчиво-удивленное сопоставление старых и новых порядков, не более. Дома и он уже обо всем, что наблюдал и слышал в учительской, рассказывал как о некой данности, приспосабливаясь к которой, он сможет в той или иной мере удовлетворить запросы милой, но такой раздражительной и нетерпеливой мамули, этой стоящей над ним власти, пришедшей на смену лагерному начальству, следователям, суровым товарищам, дающим разрешение ехать дальше или такового не дающим. «Ну, и как там вас встретили? Не указали на дверь?» — повернулась госпожа Кертес за накрытым к обеду столом к дочери, после того как один раз уже отмахнулась от подошедшего было с отчетом мужа («Ну хорошо, хорошо, некогда мне сейчас!»). «Очень даже хорошо встретили, — ответил вместо дочери Кертес. — И представьте, как нам повезло: прямо на именины попали, на Андраша. Угостили нас чудными коржиками, бутербродами с маслом». Агнеш с тревогой взглянула на мать. «Опять еда, одна еда на уме», — ждала она возмущенного восклицания. Но госпожа Кертес, видимо, не хотела лишать себя удовольствия услышать подробности. «Кто же у них Андраш?» — спросила она, не глядя на говорящего. «Андриш Бодор. Тоже забот у бедняги по горло. Да к тому же еще женился». — «Бодор?» — взглянула наконец на него госпожа Кертес. И муж, сочтя ее удивление добрым признаком, пошел по этому следу дальше: «Представьте, я тоже чуть не упал, когда услышал. Андриш, кроме как о покупках, о детской присыпке, ни о чем больше не говорил… Ученики ему добра всякого натаскали. Теперь такой обычай — вознаграждать учителей за их труд. А он в учительскую пришел уже недовольный: дескать, зачем мне вино, принесли бы лучше муку да присыпку. В этом смысле он вовсе не изменился: как ворчал, так и ворчит, только теперь не из-за министерского начальства, а из-за жалованья». — «А что, тут нет причины ворчать? Вы бы тоже ворчали, если бы вам целый месяц пришлось на одно жалованье жить». — «Да не только он: все плакались. Лишь об этом и шел разговор. Коллеги, я вижу, помогают своей беде, как могут. Выберут какого-нибудь денежного ученичка, который поглупей, и припугнут его». — «И правильно, — одобрительно сказала госпожа Кертес. — Если государство заставляет служащих с голоду пропадать». — «Причем, что интересно, они даже секрета из этого не делают. Прямо так, в открытую, обсуждают все это перед директором». — «Директор тоже пришел? И рад был вашему возвращению?» — спросила госпожа Кертес смягчившимся тоном. Директор, как официальное лицо, вызывал и в ней уважение, а когда она представила, как он обратился к вернувшемуся на родину коллеге со словами приветствия, то едва не забыла даже, кто этот вернувшийся. «Очень милый человек и совсем простой. Разговаривал со мной почтительно, как младший со старшим». — «А мне он сказал, — вставила Агнеш, — ему очень приятно, что преподавательский состав пополнился таким великолепным специалистом». — «Так и сказал: великолепным специалистом? Но откуда он отца знает?» — «Мы на выездных конференциях с ним встречались». — «И вообще он много слышал о нем», — добавила Агнеш. «Это точно, отца твоего в учительских кругах хорошо знали, — сказала госпожа Кертес. И, словно в эту минуту сообразив, что тот, о ком идет речь, сидит рядом и шумно ест суп, накинулась на него: — Вы там еще начните про свою лингвистику толковать. Да скажите всем, чтоб из-за жалованья не ворчали: дескать, по сравнению с тем, что было в тюрьме, здесь чистый рай…» — «Не беспокойтесь, — с триумфом ответил Кертес, счастливый, что разговор принял такой выгодный для него оборот. — Я и сам соображаю, что к чему. Я как раз про вас вспоминал: мол, жена моя еще в Чот мне об этом писала. Просветила, что можно на жалованье купить». — «Нечего было на меня ссылаться», — отозвалась госпожа Кертес. Не то чтобы ее взволновал тот факт, что она сообщала о скверном положении учителей в Чот (это-то как раз правильно: жена должна вовремя предупредить мужа, чтобы у него не было никаких иллюзий), просто ей нужно было как-то выразить свою неприязнь. «Коллега Гиршик меня немного утешил. Не бойся, дядя Яни, скоро педсовет, устрою я тебе учеников». Собственно, эти слова с той самой минуты, как Кертес вошел в квартиру, распирали его, словно заготовленный сюрприз; сейчас, произнеся их, он, моргая с застенчивой гордостью, поглядывал на жену. Та в самом деле казалось довольной, по крайней мере в первый момент. «Только пускай в самом деле устроит. Все поделят, поди, между собой. А вы, с вашей учтивостью, ни за что на свете ведь не согласитесь выхватить что-нибудь у других из-под носа». — «Не беспокойтесь, не зря я в Сибири был, — с чувством собственного достоинства ответил Кертес. — Я и сам подскажу классным руководителям, что надо делать».
Если бы перед этим кое-что не случилось, Агнеш за этой беседой следила бы, забавляясь в душе и радуясь, ведь, если сделать скидку на свойственную матери манеру общения, разговор этот означал существенное потепление. Но сразу после того, как они вернулись домой, она заглянула в кладовку; там и родилось у нее подозрение. Обед не был еще готов, мать как раз за него принималась; отец отправился в кухню и стал рассказывать, как Агнеш утащила его из школы: дескать, надо спешить, мама ждет с обедом. Чтобы предупредить неизбежную в этой ситуации вспышку (мать раздражало, когда ее торопили, а тем более такими намеками), Агнеш пошла в кладовую. «Что-то я тоже проголодалась», — сказала она, намазав утиным жиром ломоть хлеба и большую часть отдав отцу. «Не могла подождать до обеда», — заворчала на нее мать, втайне радуясь, что поймала дочь на маленькой слабости. Отец же принял кусок с той улыбкой («Имеем мы право на маленькие слабости?»), с какой когда-то давно отламывал ей, еще маленькой, а заодно и себе по горстке сушеных фиников. Так что голод отца и раздражение матери разминулись в конечном счете, не вызвав взрыва эмоций. Однако Агнеш, пока отрезала хлеб, бросила взгляд на полку, где еще утром заметила кус особенно аппетитно зажаренной, с чуть-чуть лопнувшей кожицей колбасы. Куска на прежнем месте не оказалось, а когда Агнеш огляделась получше, у нее создалось впечатление, что на полках много еще чего не хватает из тюкрёшских щедрых гостинцев. Неужто мать съела? Но не хватало столько всего, что даже приехавший в отпуск тюкрёшский Шандор не мог бы в один присест съесть все это. Инвентаризация заняла две-три минуты, пока Агнеш мазала хлеб, подозрение же — и досада за это подозрение на самое себя — оставались в ней в продолжение всего обеда. Что ж, так оно и пойдет теперь: из-за куска колбасы она станет устраивать целое следствие? И вообще, она же могла ошибиться. Но как ни старалась она заполнить пустые места в кладовой воспитанной в ней с детства верой в людей, ее не покидала мысль, что колбаса и прочие яства перекочевали к Лацковичу. Пришел, наверное, кто-то со станции, принес письмо, и она с ним передала посылку или сама отнесла. Эта мысль не просто лишила ее хорошего настроения — в ней все более закипала злость к сидящей напротив женщине, которая этому несчастному человеку, после всего пережитого ждущему хоть какой-то ласки и снисхождения, швыряет обидные, оскорбительные слова да еще изображает это как милость. «Про учеников рано пока говорить», — сказала она, глядя на колбасу у себя на тарелке, снова напомнившую ей про исчезнувший с полки кусок. «Что значит рано? — вскинулась госпожа Кертес. — Пускай напомнит им, раз обещали». — «Папа не совсем еще выздоровел, им Попечительское ведомство должно заниматься». — «Ну и что? Если он по утрам будет ходить на лечение, так уж и не может ученика взять? По крайней мере навыки восстановит». — «Ему сейчас здоровье надо восстановить, — сказала Агнеш угрюмо. — И мы радоваться должны, если ему во втором полугодии дадут один-два класса». — «Чтобы он мне тут до самого февраля околачивался? — вырвалась у госпожи Кертес истинная причина ее отчаяния. — А ты мне можешь сказать, на что мы жить будем?» — с вызовом посмотрела она на Агнеш. Дочь кинула на нее мрачный взгляд: неужто выдержит, не отведет глаза? «Уж если в самом деле будет такая необходимость, во что я не верю, — сказала она с нажимом, — тогда я возьму учеников». Госпожа Кертес даже в своем запале предпочла не заметить многозначительной оговорки и сосредоточила весь свой пыл на плане Агнеш. «Как же, как же, ты возьмешь! А университет? У тебя сейчас самый трудный курс». — «Другие учат — и ничего», — упрямо ответила Агнеш. «Но не с твоими слабыми легкими. А он мне дома будет топтаться, в кастрюли заглядывать, голову морочить своей лингвистикой».
Агнеш уже поняла, что допустила просчет: укол, полученный от нее, мать выместила на отце. Она замолчала, но лицо ее не давало покоя госпоже Кертес, которая не выносила, если кто-то не разделял ее мнения. Кертес сначала растерянно слушал их спор, не зная, как отнестись к словам дочери, которая высказала, собственно, то, что он и сам в глубине души думал; пожалуй, в нем даже шевельнулось смутное подозрение, что дуэль эта имеет другой, тайный смысл, который ему недоступен; сейчас, когда гнев жены обратился против него, он испуганно принялся ее успокаивать: «Напрасно вы себя так расстраиваете. Я и сам как можно скорее хочу начать работать. Коллега Гиршик, когда мы прощались, шепнул: зайди, говорит, числа десятого, дядя Яни. И совсем незачем в это вмешиваться», — добавил он, обиженно глядя в тарелку. Ему, видимо, было досадно, что Агнеш своей репликой испортила так прекрасно начавшийся было обед. Агнеш упрек отца еще больше расстроил; она уже не на мать досадовала, а на весь мир. Значит, можно и так поступать! Можно со спокойной совестью отдать любовнику то, что родня собрала для калеки, можно, вместо того чтобы терпением и лаской попытаться рассеять туман в бедной голове странника, выталкивать его поскорее на работу, лишь бы никто не мешал ей оставаться дома одной; и у нее отец должен чуть ли не прощенья просить, а родную дочь, которая вздумала перечить матери, одергивать, чтобы в душе у взбалмошной женщины, не дай бог, не осталось бы беспокойства… И, понимая даже, что отцу от этого пользы не будет, Агнеш, однако, не смогла удержаться, промолчать о своих наблюдениях. «Вы тетушке Бёльчкеи наших гостинцев попробовать не давали?» — встала она перед матерью, когда они, вынося посуду, оказались в кухне вдвоем. «Тетушке Бёльчкеи? — воззрилась на нее мать сначала с недоумением, потом с каким-то страхом в глазах. — При чем тут тетушка Бёльчкеи? Надо будет, я и так дам». И она поспешила обратно в комнату, словно вопрос Агнеш был всего лишь бестактным вторжением в круг ее хозяйских обязанностей. Спустя четверть часа она снова вышла в кухню и принялась ходить вокруг моющей посуду Агнеш: видно, основательно подогрела себя для отпора на случай новых намеков. Однако Агнеш к тому времени уняла свое возмущение и начала хвалить матери директора.
На следующей неделе Агнеш пришлось на какое-то время отвлечься от своих тревог за родителей. Если она была намерена и далее оставаться освобожденной от платы за обучение, надо было сдать экзамены по двум основным дисциплинам; желательно было добавить сюда еще и третью — на случай, если попадется, как это уже бывало с Марией, какой-нибудь экзаменатор-садист, вставший в этот день с левой ноги или просто раздосадованный, что ему не дают покоя. Правда, плата за обучение при стремительных темпах инфляции превращалась скорее в символ; однако Агнеш было бы стыдно как раз сейчас, когда вернулся отец и речь все время вертелась вокруг вопроса, на что им жить дальше, а она с таким апломбом заявила, что возьмет учеников, требовать у родителей даже такую сумму. Те три или четыре недели, что прошли с получения первой отцовской открытки из Чота, оказались полностью потеряны для учебы; между тем как раз они представляли собой то время, когда студент после раскачки, добывания учебников, восстановления прошлогодних знаний, знакомства с новыми курсами лекций, обсуждения достоинств и недостатков лекторов наконец берется за книгу и понемножку начинает дрожать перед призраком близкой сессии. Так что ей пришлось оторваться от столь неожиданно вторгшихся в ее жизнь забот и с головой погрузиться в тот предэкзаменационный туман, в который она уже окуналась весной и который порождает странное состояние: ты как будто все время живешь, зажав пальцами уши, и лишь мозг твой беспрестанно работает, как губы у зазубривающего урок малыша-третьеклассника, который и в самом деле зажимает руками уши и знает об окружающем только то, что пробивается сквозь ладони. Агнеш хватало здоровья и накопленного уже опыта, чтобы быстро, как в крепкий сон, погрузиться в это странное состояние; но теперь эта отключенность, возможность забыть обо всем, кроме нормы подлежащих усвоению страниц, для нее, кроме прочего, стала еще и убежищем, откуда спустя какое-то время можно выйти и посмотреть на мир с чувством радостной усталости после одержанной молодым умом трудной победы.
К системе защитных средств, которые оберегали в ней это состояние, относился и некий подсознательный оптимизм, помогающий в положительном смысле воспринимать все, что касалось жизни родителей. В первый день она еще размышляла о том, что удалось отцу сделать за это время в Попечительском ведомстве. Вечером — не от него, а от матери — Агнеш узнала, что главным врачом там оказался бывший ученик отца, еще из верешпатакской гимназии; он сам проводил бывшего своего учителя и на рентген, и в зубопротезный кабинет. Такое внимание льстило и госпоже Кертес — она тоже помнила братьев Алмеров, один из которых и проявил сейчас такую любезность по отношению к ее мужу; Кертес же горд был тем, как врачи отзывались о его сердце. «С таким сердцем, господин учитель, вы еще совершенно спокойно проживете лет двадцать», — похвалил его бывший воспитанник, нынче врач-терапевт, который сам его слушал, причем не обычным стетоскопом, а новым каким-то, еще не виданным, с резиновой трубкой и коробочкой, которую он минут десять старательно прикладывал то там, то здесь к грудной клетке Кертеса.
…Как-то, в другой вечер, Агнеш увидела у отца на столе большую книгу на русском языке. На ее удивленный вопрос отец сказал, что это описание путешествий Пржевальского — великого русского путешественника, исследователя Алтая, которое, к удивлению Кертеса, обнаружилось в библиотеке здешнего Географического общества; в обществе же отец оказался благодаря тому, что госпожа Кертес очень разумно, настойчиво советовала ему как можно больше бывать на людях; она была права: встретили его очень любезно, он беседовал с самим Чолноки[65] (одну его интересную лекцию с демонстрацией диапозитивов даже Агнеш слушала девочкой), а когда поведал ему о своих монгольских наблюдениях, тот сразу попросил отца как-нибудь тоже выступить с лекцией, подобрав рисунки и фотографии. Самоохранительный оптимизм Агнеш побудил ее осмыслить все это таким образом, что больше она уже не думала о Попечительском ведомстве, где отец ежедневно проводил полдня; воображение ее не беспокоили больше и точечные кровоизлияния в мозг: уж если он с серьезными русскими книгами может работать, стало быть, с головой все в порядке.
Были, конечно, и факты не столь отрадные. «Ты представляешь, что он придумал, — остановила однажды вечером госпожа Кертес дочь в кухне, сделав при этом такой таинственный вид, словно хотела сообщить ей о разрешающем все сомнения симптоме и без того уже, в общем-то, ясной болезни. — Собирает всякий хлам: катушки от ниток, винтики, спичечные коробки. Я замечаю вдруг: стол у него весь завален мокрыми конвертами: марки он отмачивает, обычные венгерские марки, даже с траурных извещений. И один ящик в столе, представь, уже полон всякой такой чепухой. Он на улице все это собирает. Кончится тем, что он станет окурки в квартиру таскать». Занятие отца вызвало, видимо, немалую бурю: когда они оказались одни, отец тоже заговорил о нем. «Мамулю я сегодня рассердил очень, — сказал он с изображающей превосходство, но смущенной улыбкой, с какой человек пытается защитить свои слабости, встречающие почему-то подозрение у других. — Несколько марок отклеил с конвертов, которые тут валялись. Многие на обмене выручают неплохие деньги. Если мы хотим зарабатывать побольше, надо с чего-то начать: в Сибири все пленные что-нибудь собирали. В Омске мне как-то поручили разобрать сундучки умерших от сыпняка — вот когда я увидел, что таскает с собой, как сокровище, каждый пленный: может, когда-нибудь пригодится». — «Но здесь очень многое из того, что там считалось сокровищем, никакой ценности не имеет», — заметила Агнеш. («Бедный! А мы ему все о нищете нашей толкуем», — подавила в ней между тем подымающаяся в груди растроганность — или боязнь душевного дискомфорта — тревогу, что это действительно какое-нибудь болезненное собирательство, фигурирующее в «Душевных болезнях» Моравчика[66] под каким-нибудь латинским названием.) «Сказать-то легко, — улыбнулся, уже с подлинным превосходством и неодобрением, Кертес. — Только ценность всегда относительна. То, что для Рокфеллера никакой ценности не имеет, для меня — сокровище Креза». «Ничего страшного, — успокоила потом Агнеш мать. — Но не стоит ему все время о нашей бедности говорить». — «Значит, это он нашей бедности так помочь хочет? — взглянула госпожа Кертес на дочь с таким выражением, словно и та заразилась чудачествами отца. — Ну нет, ему не удастся из моей квартиры лавку старьевщика сделать».
Самым же неприятным было то, что мать постоянно оберегала — от отца — ее учебу. Правда, она ее и весной щадила, насколько могла. Давнее уважение к медицинской науке и честолюбивые планы относительно будущего умной дочери вступали, можно сказать, в синергизм[67] (как это называется в фармацевтике), когда она видела голову дочери, склоненную над анатомическим атласом. В таких случаях даже она долго ходила вокруг, прежде чем спросить что-нибудь или высказать наболевшее. Теперь она делала вид, будто присутствие мужа — главное, что мешает занятиям Агнеш. «Давайте-ка освобождайте поскорее письменный стол, — говорила она, как только дочь приходила домой, — Агнеш привыкла за столом заниматься». — «Да полно, не надо, — сопротивлялась Агнеш. — И вообще я поужинаю сначала, а заниматься за обеденным столом могу». — «Еще чего, за обеденным столом! Тебе к экзаменам надо готовиться, а ему времени и так хватает возиться с марками да со своими бурятами…» Слова госпожи Кертес были вполне прозрачны, чтобы Агнеш разгадала за ними последовательный — хотя, может быть, и не осознанный — военный план. И когда отец обиженно и покорно говорил: «Ладно, ладно, ухожу», закрывал книгу с вложенной в нее тетрадкой и садился где-нибудь в стороне, она чувствовала, что план этот осуществляется матерью очень даже успешно: отец досадовал не на мамулю, а на нее, любимицу матери. Что ей теперь оставалось делать? Занять место у стола, перед хрустальным чернильным прибором, или — подчеркивая право отца — уйти на диван? Тогда мать накинется на нее («Ты что, не смеешь за стол сесть?»), и отец опять окажется виноватым; если же выбрать стол, то какое-то время — пока с головой не уйдет в материал — она сама будет чувствовать себя преступницей. К счастью, третьим предметом, с фармакологией и патологической анатомией, была общая терапия, учебника у Агнеш не было, и если ей надо было прочесть что-то в дополнение к конспектам, то приходилось идти в библиотеку Общества взаимопомощи. Библиотекарь уже знал ее и оставлял ей экземпляр книги Ендрашика[68], так что часто она до закрытия засиживалась в пропитанном человеческими испарениями зале, среди коллег-студентов, один взгляд на которых сразу давал возможность понять, кто готовится к экзамену, кто листает книжки просто из интереса, у кого нет натопленной комнаты, у кого назначено здесь свидание.
Однажды утром она проснулась с мыслью: пусть ей запишут прогул, но сегодняшний день она должна провести дома. Накануне в библиотеке, совсем уже к вечеру, прошел панический слух: в институте патанатомии на доске объявлений вывешен срок экзамена. Причем состоится он на три-четыре дня раньше, чем все думали. Вечером Агнеш еще засыпала спокойно, но среди ночи проснулась в холодном поту: в голове у нее вдруг возникло слово «хорионэпителиома», и она с ужасом поняла, что понятия не имеет, куда его деть. Она попыталась было, листая сфотографированные в голове страницы учебника, найти ему место где-нибудь среди опухолей; но когда наконец догадалась, что оно означает, тут же, как на старом носке, обнаружила еще три-четыре дыры в своих знаниях; если бы ее не остановил храп отца, она встала бы и взялась за книгу. Она долго лежала, терзая себя всякого рода предчувствиями, и наконец твердо решила, что вместо несерьезных двух-трехчасовых занятий завтра же вплотную, на целый день засядет за первый том патологоанатомии Будаи, пока сама, как на карте, не увидит, что она знает и где остались еще белые пятна, которые нужно как можно скорее ликвидировать. После бессонной ночи проснулась она поздно; отца, который, как когда-то в гимназию, и в Попечительское ведомство теперь уходил рано утром, давно уже не было дома; Агнеш успела наскоро выпить кофе, когда в двери прихожей заскрежетал ключ. У тетушки Бёльчкеи ключ был только на кухню — это мог быть лишь отец. В самом деле, в столовую торопливо вошел Кертес. Вид у него был такой, словно он оставил в определенном месте какой-то предмет и теперь хотел убедиться, там ли он еще. На самом же деле он искал лишь жену, как неподкупного судию, которому был намерен покаяться в своем преступлении. Госпожа Кертес из спальни и Агнеш из кухни поспели к нему одновременно. «Что с вами?» — воззрилась на мужа госпожа Кертес, однако в следующий момент взгляд ее уже скользил по животу мужа, где между бортами расстегнутого пиджака свисала из кармана жилета цепочка от часов. Или он так пришел, или цепочка выскользнула, когда он снимал пальто. «Часы у меня украли», — сказал он, чтобы как можно скорее сделать признание. Лицо его было возбуждено, словно последние сто метров он пробежал бегом, однако в голосе его звучало скорее упрямство: украли, и все тут. «Господи Иисусе, шаффхаузенские часы дяди Кароя!..» — сцепила госпожа Кертес тонкие длинные пальцы — и продолжала смотреть на жилет, не находя слов. «Как, где?» — вмешалась Агнеш, чтобы разбить этот страшный момент на выяснение подробностей. — В трамвае?» — «Ты тоже дома? — оглянулся на нее Кертес, скорее досадуя, что надо считаться еще с одной свидетельницей. — В трамвае, конечно, — ответил он с прежним упрямством. — На площади Кальвина выходили два парня, один, чувствую, этак притиснул меня и спрыгнул», — объяснял он скупо.
Когда он стоял там, в кухне, вот так, затравленно и в то же время с вызовом озираясь, с висящей из кармана жилета цепочкой, на конце которой не было уже семейной реликвии — тяжелых шаффхаузенских часов, привезенных дядей Кароем прямо из Швейцарии, в нем действительно было нечто раздражающее; Агнеш, подстегиваемая уже не только материным гневом, но и собственным нетерпением, продолжала углубляться в детали: «И вы сразу заметили?» — «Подозрение у меня появилось. Да пока я в толкучке поручень отпустил и ощупал живот, трамвай тронулся», — сказал он уже более кротко, словно в подробностях и сам находил себе некоторое оправдание. «Господи, такие часы! И зачем я их только ему отдала…» — подняла госпожа Кертес глаза к потолку. «С каждым может такое случиться», — без особой уверенности сказала Агнеш; ей в этот момент и самой казалось, что, напротив, такое может случиться, пожалуй, только с каким-нибудь уж совсем бестолковым, ни на что не годным человеком. «Такое? Чтобы часы срезали из-под пальто? — нашел гнев госпожи Кертес новое обстоятельство, которое больше всего компрометировало мужа. — Нет, вы объясните мне, как они могли через пальто до часов добраться?» — «Как могли? — с необычной для него резкостью огрызнулся пострадавший. — Вы никогда не слыхали, что ли, что пальто расстегнуться может? При пересадке еще его чуть с меня не содрали. А когда я за поручень ухватился, оно, видно, и распахнулось». — «А нечего было хвататься. В набитом трамвае куда вам падать-то?» — еще больше распалялась госпожа Кертес; в воображении ее настолько живо вставала картина: безмозглый муж ее висит, уцепившись за кожаную петлю и выставив живот на всеобщее обозрение, а жулики спокойно срезают часы с цепочки, — что она уже сам тот факт, что он держался за поручень, готова была считать свидетельством его безмозглости. «Как это — нечего было хвататься? Что мне — ноги людям отдавливать? Для чего тогда поручни в трамвае?» — отвечал Кертес в новом для него тоне, порожденном отчаянием и заранее предвидимой бурей (а еще, может быть, подозрением в собственной бестолковости). «У меня скорбута не было, но я тоже всегда в трамвае держусь… — вмешалась Агнеш. — А в полицию вы заявили?» — обернулась она за новыми подробностями к отцу. «Заявил, разумеется, — ответил тот раздраженно. — Там поблизости был участок, один пассажир был настолько любезен, что меня туда проводил». «И что вам сказали? Отослали к Фриму[69]?» — спросила госпожа Кертес. «Нет, там разговаривали куда вежливее. Писарь тамошний или чиновник все записал». — «Знаю я это». — «А знаете, так и нечего спрашивать. Он очень любезно со мной разговаривал, обещал, что если воров поймают, то и вещи украденные могут найтись».
То ли эта сцена в полицейском участке и образ вежливого чиновника так подействовали на воображение госпожи Кертес, то ли ее остудил агрессивный тон, каким отвечал муж, — она, во всяком случае, на какое-то время замолкла. А когда Кертес, уйдя к себе, принялся там перекладывать что-то с места на место, словно давая понять, что больше на эту тему разговаривать не желает, она, чуть не плача, стала расхваливать дочери украденные часы. «Часовщик один посмотрел их и говорит: таких нынче не делают. Я их каждый день заводила, и представь: хоть бы раз отстали или убежали вперед на минуту. Продай я их, сколько всего можно было бы на эти деньги купить! Например, тебе. Зимнего пальто у тебя нет, ходишь в этом стареньком, сером. Я-то, дура: лишь бы ему остались часы, лишь бы сберечь. А он раз — и нету часов. Так мне и надо: видела ведь, кому отдаю. Да все думала: пусть хоть выглядит как человек. И одежду его для того же чистила, нафталином пересыпала. А ему что: его хоть золотом осыпь. И еще грубит: «Никогда не слыхали, что ли…» Мы с ним, видите ли, недостаточно вежливо разговариваем. Может, еще похвалить его? Дескать, милый мой муженек, как тебе, бедняжке, не повезло и как мне тебя жалко!.. Я вот что скажу, — повернулась она к Агнеш, — если он таким тоном станет со мной разговаривать, я с ним жить не буду. Я семь лет мучилась, а он явился… да еще и обиженного из себя строит… Положите сейчас же книгу, это учебник Агнеш, — бросилась она в кабинет, где Кертес в расстройстве стал перекладывать на письменном столе книги. — Нечего вам за этим столом делать». — «Полно, мама», — потянула Агнеш ее за рукав. Однако проступок мужа разрушил в душе госпожи Кертес преграды, которые возводила в ней Агнеш, пытаясь сдержать ее нетерпимость, а сейчас, когда и муж больше уже ничего ей не отвечал, под лавиной обрушивающихся на него с давних времен знакомых попреков отказавшись от позы бунтаря и вернувшись к старой, проверенной позиции философского презрения к бедам (впрочем, сейчас в этой позиции было больше покорности взбунтовавшегося было раба, увидевшего всю бессмысленность своего протеста), она высказала наконец то, что и так просилось наружу: «Не беспокойтесь, Агнеш тоже ведь не слепая, видит, что с таким полоумным, да к тому же еще грубияном, невозможно жить под одной крышей». Агнеш дождалась, пока кончится, как кончается ливень, поток раздраженных слов; последние отзвуки бури доносились уже из спальни. Ей хотелось сказать что-нибудь ласковое, утешительное отцу, который стоял у окна и невидящим взглядом смотрел на улицу. «Не огорчайтесь вы из-за этого, — сказала она, собрав книги и надев пальто. — Живут люди и без золотых часов». Отец взглянул на нее, но по глазам его трудно было судить, воспринял ли он ее слова как утешение. «Эта идиотская мода, — сказал он. — Ходишь спереди весь распахнутый, как свиная туша на крюке. А мамуле еще невдомек, что́ это я недоволен одеждой. Попробовали бы у меня эти дурацкие часы из-под шинели да из-под ватника вытащить!»
В тот вечер Агнеш вернулась домой еще позже, чем обычно; на следующий же день, когда любезный коллега протянул ей библиотечную книгу и она уселась на свое место, в ее сознании с такой пронзительной живостью встала вчерашняя сцена, она так ясно увидела, как отец вбегает в квартиру с болтающейся цепочкой, что не могла уже укрыться в экзаменационное забытье: с четверть часа проведя в безуспешных стараниях вникнуть в текст, она встала и с извиняющейся улыбкой вернула учебник; потом, еще более подобострастно, повторила улыбку перед ворчливой гардеробщицей, которая сердито взглянула на нее: дескать, так и будем теперь туда-сюда вешать? За пятнадцать минут, проведенные за библиотечным столом, картина, возникшая перед ней, не только не потускнела и не исчезла, но, напротив, все сильнее сжимала ей сердце. Что может быть ужасней для человека, чем ситуация, когда он вынужден сомневаться в собственном здравом уме, подозревать, что у него что-то неладно с рефлексами! У отца наверняка возникло — не могло не возникнуть — подобное подозрение! Он пытается заново, как с сохраненным пронафталиненным платьем, сжиться с былыми привычками, с прежним своим поведением — и чувствует, что не получается, не идет, что в обращенных на него взглядах — даже во взглядах тюкрёшских родственников — есть какая-то отчужденность и напряжение. Ну, а если бы сам он ничего и не заподозрил, то жена с готовностью помогла бы ему в этом. И он поддакивает их глупостям, пробует вникнуть в их заботы, оправдать их эгоистические надежды — и в один прекрасный день, теснясь в битком набитом трамвае, хватается за карман, сразу почувствовав себя тем беспомощным простофилей, которым его считают другие: вот оно, доказательство, — пустой жилетный карман и болтающаяся цепочка без часов. Черт бы побрал их, эти часы! В плену он не с такими сокровищами расставался, лишь тяжело вздохнув. С обручальным кольцом, с хранимой целых шесть лет фотографией жены и дочери. Но эти часы, часы дяди Кароя, как бы олицетворяли в глазах семьи его, Яноша Кертеса, разум, его доброе имя… Какой, должно быть, вопиющей несправедливостью ему представляется все это! И у других, бывает, крадут часы, но другие при этом не чувствуют себя идиотами. Отсюда и необычная его грубость, отсюда это так возмутившее мать: «Вы что, не слыхали такого?» Словно в квартиру ворвался некий новый, умеющий постоять за себя, даже, пожалуй, способный других привлечь к ответу муж — ворвался без часов, но и без подобострастия. А она, от которой он с наибольшими основаниями мог ожидать сочувствия, — что она сделала в эту критическую минуту, чем успокоила прикрытое грубостью подозрение? Может быть, надо было просто обнять и расцеловать его? Но ведь она была тоже раздражена, задавая свои вопросы; он и в ее глазах мог увидеть свой портрет, снятый в свете вспышки магния-нетерпения. А то, чем она попыталась его утешить! «Живут же другие без часов». Сейчас, когда она вспоминала эти свои слова, они ей казались почти циничными. Дескать, такой старый недотепа, как ты, и без часов обойдется; тебе часы — что козе уздечка!.. Агнеш хотелось спрыгнуть с трамвая и бегом побежать домой, к несправедливо обиженному человеку. Даже в подземке, в скользящих вдоль стен превратившихся в зеркала стеклах окон, она видела не себя, а отца со свисающей из кармана цепочкой, слышала свою обидную, звучащую в ее сознании все более двусмысленно фразу. Как ей убедить его, и как можно скорее, что подозрение это она считает — да и в самом деле считает — лишь проекцией человеческой глупости и злобы? Рассказать ему, может быть, как о нем отозвался Халми? Сделав вид, будто это она услышала от него только сейчас, в городе. Или поговорить с ним о докладе, который просил его сделать Чолноки? «Как вы считаете?.. Может быть, лучше построить его так?..» Он поймет тогда, что она верит в его разум, убеждена — ведь она в самом деле убеждена, — что он может сделать прекрасный доклад. Пусть только разберется немного во всех этих географических названиях, в том хаосе, в который его теория превращается в нем самом.
В темноте лестничной клетки ей встретилась тетушка Бёльчкеи. Узнав ее в свете мерцающей газовой лампы, Агнеш увидела у нее на лице ту страдальческую, почти застенчивую улыбку, которой та выражала и сострадание, и дурные свои предчувствия, и особенно глубочайшее свое разочарование в бывших хозяевах. «Вы от нас, тетя Бёльчкеи?» — обернулась к ней Агнеш, когда они уже почти разошлись. «Да, рому вам отнесла, для пирожных», — ответила та в нос страдальческим тоном и, продолжая спускаться, исчезла в темноте. «Ром? — отдалось в голове Агнеш, заставив ее даже забыть ненадолго свои тревоги, давно не слыханное в их семье слово. — В лавку ее за ним посылали или она из своего одолжила?» Войдя в переднюю, Агнеш почувствовала, что у них в доме гость. Правда, свет тонкой полоской выбивался из-под дверей спальни. В спальне они ужинали обычно сами, придвинув узенький стол к кроватям орехового дерева. Но в темной массе вешалки Агнеш разглядела чужое пальто, да и речь, доносившаяся из спальни, носила тот равномерный ритм, который и гость и хозяин стараются соблюдать, чтобы в беседе не возникало неловких пауз. «Может, дядя Тони?» — подумала Агнеш: в свете, падающем из окна, пальто на вешалке было похоже на форменную шинель. Она не стала, однако, включать свет, а тихо прошла в столовую, чтобы разглядеть оттуда, кто это может быть. Дверь между комнатами была приоткрыта, Агнеш могла бы войти, если бы захотела, но она продолжала стоять, прислушиваясь. История, которую рассказывал отец, была ей знакома: он еще в Тюкрёше вспоминал, как носил газеты для кружка Самуэли[70], где у него была какая-то крохотная должность; он покупал каждый день два экземпляра «Правды» и один «Известий». По дороге многие просили его продать газеты; он, конечно, не соглашался. «А почему вы на трамвае не ездили?» — вставила необычно мирным тоном госпожа Кертес. Невозможно было представить, чтобы мать с отцом вот так мирно, неторопливо беседовали, сидя за чашкой чая с ромом, и мать расспрашивала бы мужа о том, что он пережил — особенно если он оказывался в какой-нибудь недостойной роли, скажем, вот как в этой истории, — в роли старого разносчика газет. Правда, в голосе ее и сейчас слышалась некоторая отчужденность: мать явно старалась не дать мужу слишком увлечься и перепрыгнуть к его любимым монголам; в то же время в ее интонации Агнеш уловила готовность быть терпеливой и еще — ту мягкость, чуть ли не кротость, по которой она сразу поняла, кто тот третий, ради кого и течет эта милая супружеская беседа. «В трамвае я ездить боялся. В Петрограде тогда городские службы бесплатными стали, трамвай тоже. Любой, кто хотел, мог сесть и ехать, так что даже на буферах гроздья висели. Я решался входить в вагон разве что на конечной станции. И при этом понятия не имел, где сойду. Или до другого конца приходилось ехать, или выпихивали раньше времени». — «Хорошо еще, что там у господина учителя шаффхаузенских часов не было», — произнес в этот момент голос, которого Агнеш уже ждала, и залился хрипловатым, слишком громким смехом. Она не расслышала, смеялись ли при этом двое других.
«Кто там?» — поднялась госпожа Кертес, подходя к приоткрытой двери. Это скрипнула половица под ногой Агнеш, когда она услышала голос Лацковича. «Это я», — ответила Агнеш, включая свет. В соседней комнате на мгновение стало тихо. «Я и не заметила, как ты пришла», — сказала, выходя в столовую, госпожа Кертес. Агнеш не смотрела на нее, занятая пальто и сумкой, но голос матери дал ей возможность представить ее лицо — счастливое, размягченное и немного испуганное. «Иди выпей с нами чаю, я тарелку сейчас принесу», — звенели в голосе матери, поочередно беря верх друг над другом, призыв провести с ними мирный, хороший вечер и готовность к борьбе… Агнеш вошла в спальню, поцеловала отца в лоб, Лацковичу пожала руку. «Мы думали, ты и сегодня вернешься к ночи, — сказал отец тоном человека, который, подмечая чужие привычки, не берется их осуждать. — Вчера я уже лег, когда она пришла», — повернулся он к Лацковичу. «Надо ведь нашей юной докторше повеселиться когда-то, — заметил Лацкович с той смесью высокомерия, подобострастия и насмешливой наглости, которая особенно бесила Агнеш. — Немножко уанстепа, чтобы вместе с потом вышли больничные запахи. Слыхать, в прошлый раз, после вскрытия, вам пришлось яблоко вилкой и ножом есть, потому что на пальцах трупный запах остался». — «Берегитесь, — не глядя на него, ответила Агнеш, — как бы вам этот запах не почувствовать ближе, а то придется колбасу на тарелке оставить». То, что жалобы ее на трупный запах вернулись к ней в таком виде, с самодовольным похохатыванием Лацковича, сразу помогло ей представить проделанный ими путь: ресторан или кино, где состоялась встреча, и то, как они, исчерпав все темы, говорят о ней, об Агнеш. Лацковича же, чьи шутовские замашки сочетались с повышенной обидчивостью, упоминание колбасы, видимо, укололо. Если бы Агнеш просто хотела обрезать его, она бы сказала: вам кусок не пойдет в горло. Однако юная докторша заглянула к нему в тарелку, словно намекнув на тот пустяковый гостинец, который он и брать-то ни за что не хотел: ему чуть ли не силой всучили. «Насчет этого не извольте беспокоиться, — показал он, что ему не так-то просто испортить настроение. — Коли уж бедному железнодорожнику досталась такая отличная тюкрёшская колбаска, он в нее зубами вцепится, как пес Полкан, и даже среди трупов не выпустит…» Весь этот диалог, как короткое замыкание, продолжался несколько секунд, но настолько насытил воздух электричеством, что даже Кертес поднял голову, с подозрением глядя то на одного, то на другого.
Тем временем в спальню вернулась с чаем госпожа Кертес. «Представь, — самым непринужденным тоном обратилась она к Агнеш, — Лацкович говорит, что на отцовых часах рано еще крест ставить». — «Да?» — смотрела Агнеш в поставленную перед ней чашку. То, что мать была так с ней предупредительна, сама пошла разогревать чай и теперь, ставя перед ней чашку с неаппетитной, дважды кипяченной черной жидкостью, повторяет с деланной легкостью эту чушь, заставило Агнеш, несмотря на кипевшее в ней возмущение, даже чуть-чуть пожалеть мать — пожалеть, словно ребенка, который, вопреки всякой очевидности, пытается делать вид, будто вовсе и не натворил ничего. «Все зависит от того, как за это дело возьмутся в полиции, — сказал Лацкович с той серьезностью, которая неизменно завладевала им, когда он касался темы родственных связей, рыцарских услуг и вообще важности своего участия в том или ином деле. — Вор при первой возможности постарается избавиться от часов. Ювелиры же все извещены уже, что украдена такая-то и такая-то вещь; так что ювелир возьмет часы и скажет: извольте вернуться через полчасика, мы пока цену определим. И если даже вор, предположим, учует опасность, часы все равно прямым путем окажутся в кармане у господина учителя. Все зависит от того, будет ли кто-нибудь подталкивать дело». — «У вас и в полиции связи есть?» — бросила на него Агнеш взгляд из-под полуприкрытых век, в котором было столько насмешки, что госпожа Кертес едва не взорвалась. «А почему бы и нет? Расскажите-ка тот случай со свиноторговцем, — обернулась она к Лацковичу. — Конечно, проще всего сложить руки и ждать. Украли — и прекрасно…» — «Наша милая докторша не верит в мои связи», — засмеялся Лацкович и, повернувшись к Кертесу, стал рассказывать ему про свиноторговца…
Агнеш молчала. Значит, вот что они придумали: человек, который берется спасти семейную реликвию, — вот в какой роли он теперь проберется в их дом. А бедный странник должен быть тронут до глубины души, что посторонний согласился по-рыцарски поправить его промах. Однако Кертес — так, по крайней мере, казалось Агнеш — не склонен был проявлять особой благодарности к самовлюбленному рыцарю Святого Грааля. Он, правда, доброжелательно покивал, однако глаза его довольно растерянно следили за широкими жестами Лацковича; время от времени он исподлобья косился на подобревшее и помолодевшее лицо жены. Агнеш же мучительно размышляла, как найти способ высказать этому человеку все, что она о нем думает, какие слова найти, чтобы по крайней мере здесь, в этом доме, он никогда больше не появлялся. «…Вы вот все хвастаетесь родней. А не боитесь: вдруг до нее дойдет, что вы подались в сутенеры?..» Или: «Где вы были, Лацко, во время войны? Да, вы ведь уже говорили: как железнодорожник, получили освобождение. И выбрали такой способ отблагодарить человека, воевавшего вместо вас, за семь лет страданий». Такие вот фразы кружились у нее в голове, тесня друг друга и мучая ее так, что даже мать (отчасти затем, чтобы как-то оправдать перед Лацковичем угрюмое молчание дочери) вынуждена была спросить: «Ты что сегодня такая бледная?» — «И в самом деле, личико у нас какое-то нездоровое», — заметил Лацкович, мешая в голосе галантность с издевкой. «Голова болит», — ответила коротко Агнеш и встала. «Не побрезгуйте аспирином скромного железнодорожника», — щелкнул Лацкович своей коробочкой и протянул ее таким жестом, каким официант протягивает клиенту горящую зажигалку. Агнеш не удостоила его даже взглядом. «Что вы хотите: врач. Только прописывать будет лекарства, а употреблять — извините… Э, да я вижу, кое-кто такой чудесной свининкой пренебрегает, — посмотрел Лацкович на тарелку Агнеш, где остались нетронутыми ломтики ветчины. — Честное слово, дивную колбасу делают в Тюкрёше, — обернулся он затем к Кертесу. — Даже лучше, чем чабайская. Отмечу в календаре тот день, когда мне впервые удалось ее попробовать».
Выходя, Агнеш успела еще перехватить заговорщический взгляд, брошенный Лацковичем матери после слова «впервые»: очевидно, намек на гостинец. Госпожа Кертес же с упреком и одновременно с благодарностью смотрела на находчивого молодого человека, который так рискованно играет с огнем. Агнеш ушла в другую комнату, села на диван. В спальне, как вода из неплотно закрытого крана, еще текла принужденная беседа. Потом наступило молчание, по которому нетрудно было представить, как Лацкович со всей почтительностью встает, поправляя поясной ремень. Если Лацкович сейчас уйдет тихо, она промолчит, ничего не скажет. Но Лацкович — ни как воспитанный человек, ни как завзятый шутник — не мог удалиться, не попрощавшись и с Агнеш. С кем ты ужинал, с тем полагается на прощание обменяться хотя бы словом, да и дуэль, состоявшаяся меж ними, требовала соблюдения правил хорошего тона. Уже в шинели он заглянул в столовую. «Докторша наша, видно, легли уже, — обернулся он к хозяевам. — Хотел ей сказать «до свидания». — «Постойте, — вышла из темноты Агнеш. — Я спущусь с вами. Письмо надо отправить… в Тюкрёш», — повернулась она к матери. Она сама не знала еще, что скажет Лацковичу внизу; истерзанный ее мозг не успел разработать никакого определенного плана, она лишь была уверена, что обязательно что-нибудь скажет: слова придут сами. «Отдай письмо Лацковичу, он бросит. Зачем тебе самой идти?» — вмешалась мать, пока Агнеш нервно рылась в своей потрепанной сумке. «Я бы тоже осмелился это предложить, — сказал Лацкович, — если б меня не удерживал мой, в лучшем смысле этого слова, эгоистический интерес, что до почтового ящика у меня будет такая прелестная спутница». Затем, когда Агнеш, найдя наконец письмо, бросила матери: «Нет, мне и самой надо подышать свежим воздухом», — он издал хрипловатый смешок, предварявший обычно остроты. «Наша юная докторша не надеется на мою порядочность — боится, как бы я не прочел адрес и не узнал, какого тюкрёшского родственника она благодарит за чудесные деликатесы».
Однако в темноте лестничной клетки, едва не касаясь локтем шагающей рядом девушки, в молчании которой чувствовалось сдерживаемое волнение, Лацкович посерьезнел. Сейчас, когда они оказались вдвоем, он чувствовал, что должен ей доказать: за нагловатыми шуточками скрывается зрелая, мужественная сущность, и сущность эта, собственно, и есть он сам, а шутки и остроты — лишь дань компанейскому чувству. Между прочим, у него было подозрение, что Агнеш, собственно, просто в него влюблена, враждебность ее — от ревности и теперь, когда она решила вдруг его проводить, эта долго подавляемая любовь, распаленная до предела его слегка пренебрежительным отношением к ней, готова ему открыться. Он оказался в редкой ситуации, когда ему — ему! — приходилось искать тему для разговора: украденные часы, университет, поздний приход, тюкрёшские молодые люди — все это было сегодня уже использовано. «Ваш отец, — наконец сказал он, — выглядит куда лучше, чем в тот день, когда я имел счастье с ним познакомиться после Чота. Он весьма интересные случаи рассказывал из петроградской жизни..» Выбор темы, можно сказать, был удачным: если бы это говорил кто-нибудь другой, не важно кто, и пускай лишь из одной вежливости, Агнеш была бы искренне рада этим словам. Но услышанные из уст Лацковича, да еще оформленные в такие стереотипные фразы, они ее раздражали. Когда производящий остроты конвейер у Лацковича останавливался, он пользовался самыми шаблонными выражениями: петроградский кружок Самуэли, Кертес в роли разносчика газет, трамвай, выплевывающий людей, будто вишневую косточку, — все это было для него «весьма интересными случаями из петроградской жизни». Чтобы положить конец пустым разговорам, Агнеш, как только они вышли из ворот и уличные фонари добавили чуть-чуть света, обернула бледное лицо к Лацковичу. «Лацкович, вы ведь считаете весьма важным, чтобы вас считали человеком рыцарственным». В этом «считаете весьма важным» была порожденная сдерживаемой злостью невольная ирония: Агнеш переняла стиль Лацковича; точно так же и выражение «человек рыцарственный» сорвалось у нее с языка как насмешка над преувеличенным самомнением и приторной галантностью шагающего рядом коротконогого человечка. Но предисловие это лишь укрепило в Лацковиче подозрения относительно чувств, испытываемых к нему Агнеш. «Я рад, что вы хотя бы это заметили», — сказал он, пряча триумф под несколько обиженной интонацией. «Я, значит, могу надеяться, что наш разговор останется тайной», — продолжала Агнеш все в той же манере… Теперь Лацкович был почти уверен в том, что последует. «Могила и крест, — вырвалось из него торжество, приняв облик одного из его шаблонов. — Это само собой разумеется, кого б это ни касалось, а тем более вас», — добавил он серьезно и прочувствованно. Агнеш уже досадовала на себя за эту фразу. Она ждет благородства от человека, в чье благородство сама не верит; и вообще наплевать ей на это: сейчас он от нее услышит такое, о чем сам предпочтет помалкивать. Она остановилась и посмотрела ему в глаза. «Не делайте из моего отца шута горохового», — сказала она тихо, но так, что просительный тон ее перешел в угрожающий. Лацковича настолько ошеломил такой оборот, что он лишь стоял и смотрел ей в лицо: с ума она сошла, что ли? Взрыв оказался таким сильным и неожиданным, что Агнеш сама испугалась немного и с помощью каких-то поспешных, более или менее лестных слов быстро принялась засыпать воронку. «Вы — веселый, жизнерадостный, там, где надо, очень забавный молодой человек, — заговорила она, снова трогаясь с места. — Любите шутку, розыгрыш, — смягчила она выражение. — Но вы не так уже молоды, вам двадцать восемь, верно? Пора уже видеть разницу между доброй шуткой и… и даже не знаю, как это назвать…» — «Что вы имеете в виду?» — взглянул на нее, выйдя из оцепенения, Лацкович. «То, что вы приходите, сидите у нас, как рыцарь Святого Грааля (вспомнила Агнеш в возбуждении прежнюю свою мысль), а сами… Вообще, как вы смеете, как у вас хватает совести показываться у нас?» — прибегла она к прямому оскорблению, чтобы не высказать то, что уже готово было сорваться у нее с языка: а сами отнимаете то, что для нас самое дорогое. «Как прикажете вас понимать, милая докторша?» К Лацковичу, по мере того, как он приходил в себя, возвращалось высокомерие. «А так, что существует гуманность, существует, наконец, чувство меры. На вашем месте, пускай у вас какие угодно высокие родственники (взорвалась и вторая мина) и пускай это какая угодно великолепная, с вашей точки зрения, шутка, я постеснялась бы после того, что случилось, приходить в наш дом и сидеть за одним столом с измученным человеком, который семь лет страдал (третья), среди прочего, и за некоторых сумевших пристроиться дома молодых людей». Лацкович видел уже, что завладевшие Агнеш эмоции (хотя и выражающиеся в относительно спокойном тоне, что не совсем соответствовало его богатому опыту общения с женщинами) подняли все шлюзы искренности, и ему теперь оставалось лишь, цепляясь за собственное понятие дуэльной чести, как-то спасать свое достоинство. «Мне кажется, ваш отец — взрослый, повидавший мир человек, который и в более трудных ситуациях сам способен решить, что ему делать… и если ему не нравятся мои визиты, он сообщит мне об этом». — «Потому я вас и прошу об этом, — сказала Агнеш, думая о возможных последствиях этого разговора, — чтобы он, только-только вернувшийся домой, не должен был сразу же заниматься такими вещами…» От внимания Лацковича не ускользнуло слово «прошу», которому сопутствовала и некоторая смена тональности. И от этого он, как преследуемый зверь, увидевший вдруг спасительную лазейку, сразу почувствовал себя на высоте положения. «А если я не сочту нужным принимать во внимание вашу просьбу (произнес он с нажимом), милая докторша? Хотя бы уже по той причине, что, прервав свои посещения, я бы создал тем самым видимость, будто определенные слухи, распространяемые некоторыми людьми, имеют под собой какую-то почву». Он произнес это с такой убежденностью, что на какой-то момент даже Агнеш было заколебалась: а вдруг это все действительно только видимость? Но в то же время именно высокопарный тон его напомнил ей, что, в соответствии с кодексом чести Лацковича, в подобной ситуации мужчина и должен произнести именно эти слова. «Тогда… — остановилась она перед почтовым ящиком, — тогда я уйду из дому», — сказала она с тихим отчаянием. И рука ее так дрожала, что она никак не могла просунуть письмо в щель ящика, и Лацковичу пришлось обычным галантным движением взять ее пальцы и помочь опустить письмо. «Ну, тогда…» — повернулась к нему Агнеш попрощаться. Сознание, что в нервном своем состоянии она все испортила, вмешательством своим лишь навредила отцу, да еще отважилась на угрозу, которую неизвестно еще сможет ли осуществить, вернуло ее к исходному пункту. «Могу я рассчитывать, что этот разговор останется между нами?» — «Само собой разумеется», — склонился Лацкович так низко, что она испугалась, не собирается ли он поцеловать ей руку; затем две тени — одна в длинной, до пят, шинели, вторая в коротковатом девчоночьем пальто с заячьим воротником — разъединились в неприветливом синеватом свете луны, которая даже сейчас не могла смыть со стен копоть близкого Западного вокзала, и двинулись в разные стороны, не видимые никому, кроме одной пары глаз в открытом для проветривания окне на втором этаже. «Что, вернулась уже?» — посмотрела на нее мать, пытаясь понять, почему прогулка длилась так мало — всего десять минут. «Я ведь сказала, только письмо опущу», — бросила Агнеш, уходя в комнату. Там, пока она расправляла простыню на плюшевом диване, отец, убедившись, что жены нет поблизости, сказал: «Могу я спросить, в каких ты отношениях с этим молодым человеком?» — «Я? Ни в каких», — ответила Агнеш быстро и почти резко, разогнувшись от расстилаемой постели. Но спустя некоторое время, воспроизведя в памяти голос отца, в котором под осторожным «могу я спросить?» словно таилось крепнущее подозрение, она испугалась и улыбнулась ему. «А почему вы спросили? Потому что я вышла с ним на улицу? — постаралась она заглушить его подозрение, которому — теперь она в этом уже была уверена — можно было лишь дать отсрочку. — Я ведь вам говорила, он одно время за Бёжике ухаживал», — добавила она, чтобы несчастный хотя бы сегодня мог еще поспать спокойно.
За ночь, пока Агнеш то просыпалась на своем вздыхающем и стенающем плюшевом ложе, в краткие периоды бодрствования давая себе слово трезво обдумать и прояснить ситуацию, то вновь погружалась в долгий сон, требуемый здоровому ее организму, возмущение ее улеглось, и утром она проснулась с нетерпеливой жаждой действия. Теперь ясно было, что мать отвергла ее мирные предложения, присланные из Тюкрёша, вернее, не то чтобы отвергла, а отнеслась к ним как к некоему ребячеству, странной фантазии, которую они с Лацковичем сумеют незаметно обратить в свою пользу. Это означало, что из постыдной той ситуации, которую мать, введя Лацковича в дом, намеревалась сделать постоянной, как бы узаконить, не кто иной, как она, Агнеш, должна была, пусть вынеся на руках, спасти отца и с ним вдвоем создать маленькую, но прочную семью. Это намерение, которое укрепилось в ней не столько как четкий план, сколько как состояние, переполняющее все ее отдохнувшее, энергичное тело, — вроде ощущения свежести после душа, — по мере того как она приступала к ждущим ее делам, порождало все новые и новые идеи, которые, несмотря на близость экзамена, казались более важными, чем загадочные болезни кроветворных органов. Над первым вопросом — где поселиться с отцом? — ей не пришлось долго раздумывать. О том, чтобы купить квартиру или хотя бы снять комнату, при этом страшном жилищном голоде, когда тысячи беженцев жили в товарных вагонах, а за квартиру запрашивали сумму, в четыре-пять раз превышающую жалованье отца, нечего было и думать. Единственное место, куда они могли переехать, был визиварошский дом тети Фриды, где Агнеш уже жила девочкой, когда отца перевели в Пешт. Тетя Фрида, восьмидесятилетняя тетка матери, была старой девой, для своего возраста довольно хорошо сохранившейся; ее приданым и ее царством являлся дом, выходящий на две улицы — Хорват и Капаш; с тех пор, как вносимая жильцами квартплата не покрывала даже расходов на ремонт, она жила — или, скорей, прозябала, — сдавая еще и одну из своих комнат. Тетя Фрида любила Агнеш; пожалуй, дочка племянницы была единственной женщиной, которую могло любить ее девственное, очерствевшее за долгие десятилетия сердце; но с тем большим трудом она выносила ее мать, в которой, еще когда та девочкой была доверена ее попечению, тетка обнаружила ветреную натуру сбежавшей жены младшего своего брата. Конечно же, ради них тетя Фрида откажет нынешнему своему жильцу: с их переездом у нее нежданно-негаданно появится вдруг семья, которая скрасит ее одиночество; Агнеш планировала уже, что отец (который в глазах тети Фриды шел сразу за дядей Тони и за ее домашним врачом) поселится в комнате, окнами выходящей на улицу, она же сама — в одной из тех двух крохотных комнатушек, в которых обитала сама тетя Фрида.
Новый берег, к которому предстояло ей плыть, с появлением тети Фриды на горизонте обрел четкие контуры; при желании Агнеш могла даже представить их дневной распорядок, начиная с того, как она подает отцу завтрак и они вместе выходят из дому: он — на Крепостную гору, в гимназию, она — в университет. Во всем этом великолепном плане один лишь момент ее угнетал: как обсудить все это с отцом, как сообщить ему, что дальше так продолжаться не может и, чтобы избавиться от страданий и унижений, они должны переселиться на улицу Хорват? Она не только предвидела, что разговор этот будет трудным и неприятным, — к ужасу своему, она понимала, что, несмотря ни на что, просто-напросто не способна заговорить с отцом на подобную тему. Хотя, по логике вещей, это ее прямой долг. В конце концов, она взрослая женщина, она к нему ближе всех и потому должна открыть ему глаза на их общий позор — это гораздо лучше, чем ждать, пока подозрение в нем заронят чужие намеки, злорадные или сочувственные. И все-таки это было ужасно, так же ужасно, как сказать матери в глаза про Лацковича. Что это — трусость? Или некое подсознательное табу? Ведь пускай она уже видела не менее сотни трупов, да и живых больных обнаженными, если бы, скажем, отцу ее делали операцию грыжи, она не смогла бы при этом присутствовать… Или — боязнь ошибки, риск, что, оклеветав мать, она лишит отца даже того призрачного покоя, которым он сейчас наслаждается? Может быть, такие вещи каждый должен постигать сам, какими бы муками это ни сопровождалось, точно так же, как смерть нельзя ускорить и облегчить с помощью какого-нибудь укола. Ведь ситуацию эту действительно можно сравнить со смертью: здесь должна умереть та «мамуля», чье имя, рассматривая в плену семейную фотокарточку, он перенял у нее, у Агнеш, с помощью детского этого слова как бы забальзамировав ее в своем сердце… Как-нибудь он, конечно, догадается обо всем и сам, кто-нибудь просветит его рано или поздно. Любовь так неосторожна, а мать так привыкла к прямоте, еще с тех времен, когда прямота эта была словно нож, вонзенный в другого… Способ, каким она вновь привела Лацковича в дом, и сказочка насчет возможного возвращения часов — все это тоже прозрачные, по-детски наивные хитрости!.. Агнеш вспомнила взгляд отца, когда он смотрел на Лацковича, потом косился на жену. Ведь всего какой-нибудь робкий вопрос, заданный им дяде Тони, и… «Милый Яни, зачем мне скрывать от тебя. Мне она, конечно, сестра, но…» Тетя Лили, правда, его сюда, видимо, не пускает: с тех пор, как они вернулись из Тюкрёша, он ни разу не был у них. А может быть, лучше, если он сам, шаг за шагом — по мере того, как будет крепнуть его организм, — осознает, что происходит вокруг него. На виске у отца есть жилка, большими зигзагами взбегающая на лысый лоб: arteria temporalis. Когда у него украли часы, жилка эта была набухшей, — по крайней мере, так запомнилось Агнеш. И если она пойдет сейчас и выложит: дескать, так и так, мамуля то-то и то-то творит… Нет, тут нужно только, набравшись терпения, ждать на другом берегу, на улице Хорват, и подхватить отца, когда он сам, шатаясь под грузом нового горя, придет к ней за помощью.
После того как взбудораженный ее мозг, по пути с терапии на хирургию, решил и эту проблему, оставалась одна задача: как быть ей самой? Что, если Лацкович еще сегодня посвятит мать в подробности их разговора, расскажет о том, что она пригрозила уйти из дому? И если мать встретит ее словами: «Я слышала, ты уходить собираешься? Скатертью дорога». Что она будет делать тогда?.. Эта опасность, правда, была не очень серьезной. Мать, конечно, будет допытываться у Лацковича: ну скажите же, Лацко, что хотела от вас Агнеш? Но тот скорее всего «останется верен своему слову». Этот его кодекс чести — не совсем лицемерие. Агнеш подозревала, что приверженность его рыцарским формам была как-то связана с «хондродистрофическим» типом его организма. Как импонирует ему, несомненно, и то, что он, низенький, но широкоплечий и крепкогрудый, идет под руку с такой дамой (пускай она старше его — или как раз поэтому), как госпожа Кертес; должно быть, и его подчеркнутая галантность, стремление быть всегда в центре внимания — такие же ортопедические подкладки. Разумеется, он намекнет, что его незаслуженно оскорбили, — но и заставит мать лишний раз восхититься его характером, ведь он дал слово, он не может нарушить его. Но если он даже проговорится, мать все равно не посмеет спросить ее напрямик (как, не задумываясь, спросила бы прежде): «Почему ты хочешь уйти из дому?» Не посмеет, опасаясь за радужный мыльный пузырь своего жалкого счастья: вдруг дочь возьмет и проткнет его резким словом. Если же мать перейдет-таки в наступление, все равно Агнеш пока не может вести дело к разрыву: отец ведь еще ничего не знает. Так что перед собой оправдание у нее есть!.. Однако то, что она все же бросила эту угрозу, которую, если ее захотят поймать на слове, выполнить не сумеет, продолжало терзать ее гордость, и тем сильнее, чем больше распутывала она про себя эту запутанную ситуацию. В самом деле, если говорить всерьез, то куда она денется? Не на шею же к тете Фриде. Сейчас она впервые почувствовала, какая это великая вещь — деньги. Даже та ничтожная сумма, которую она платит за талоны в студенческую столовую.
Хотя шел последний день семестра и на завтра назначен был экзамен, она не пошла из клиники на патанатомию, а села на трамвай и поехала в бывшую свою гимназию. Ей повезло: хотя она прибыла туда во время урока, физический кабинет, с маятником на стене, измеряющим ускорение свободного падения, оказался пустым, а у полок с приборами она обнаружила и свою классную руководительницу. Та сидела, ссутулившись, прислонившись спиной к отопительной батарее, и даже стекла ее очков блестели словно бы лишь для того, чтобы длинное, худое ее лицо незаметно было меж динамо-машиной Хольца и центрифугой. Если бы она не пошевелилась, Агнеш, может быть, повернулась и ушла. Но, как только в досадливо сощуренных глазах старой учительницы облик Агнеш отделился от облика учеников, которые могли потревожить ее отдых, она не только пошевелилась, но вскочила, всплеснув длинными, худыми руками; радость ее проявила себя слишком быстро, чтобы быть неискренней или дежурной, да и теплое выражение на немного кислом лице было слишком необычным, чтобы его можно было воспринять как искусственное. Но ведь Агнеш всегда знала — иначе бы не приехала к ней, — что Маца любит ее. И если бы террор одноклассниц не вынуждал Агнеш считать учительницу смешной и противной старухой, она, может быть, тоже любила бы ее. В конце концов, она была так порядочна, справедлива, так старательно готовилась к урокам и — самое главное — такая одинокая и заброшенная сидела среди своих приборов. Однако девчонки — не их, а куда более давний класс — решили когда-то, что Маца невыносима: потому ли, что она слишком отождествляла себя со своей физикой, или же потому, что в глазах непоседливых, легкомысленных этих созданий она олицетворяла собой нечто горько и безнадежно застывшее, а потому, по их представлениям, не имела права быть к ним требовательной. Маца была замужней, но ее упорно считали старой девой, от которой муж сбежал сразу же после свадебной ночи; еще про нее болтали, что она тайно сохнет не то по директору, не то по учителю пения — и досаду за безответность, одиночество, за несчастную, безрадостную свою жизнь вымещает на юных воспитанницах. Агнеш чувствовала, что все это ложь, но не смела пойти против общего мнения; к ней — за то, что она была любимицей Мацы — и так относились с некоторой иронией. Лишь изредка, приходя в кабинет за приборами, встретив учительницу в пустом коридоре, в трамвае, Агнеш ласковым взглядом или словом давала понять, что ее сердце тоже открыто для тети Марии (до чего же глупой и неуместной была эта кличка — Маца). Та была благодарна ей и за это. После школы, если они, раз в полгода, встречались на улице или на «шестерке», учительница не забывала спросить, вернулся ли из плена отец Агнеш, звала заходить, просила рассказывать о себе, об университете. И сейчас, когда холодные ее пальцы схватили руку Агнеш, а в блеске очков словно мелькнула даже возможность поцелуя, она засыпала бывшую ученицу восклицаниями и вопросами. «Как хорошо, что ты зашла. Садись где-нибудь… На каком ты курсе уже? На третьем? Скоро буду ходить к тебе со своим ревматизмом… Слышала, что отец твой вернулся», — посерьезнело ее лицо, и взгляд, всегда немного стеклянный, сейчас стал от радости словно бы еще более ледяным. «Вы тоже знаете, тетя Мария?» — «Видела список в газете. Я всегда читаю, что пишут о военнопленных. И коллега один подтвердил, что это тот самый Янош Кертес. Ну, думаю, у Агнеш теперь радость в доме». И снова взглянула в лицо ей, словно ища там эту радость. Если б она ее там не нашла, Агнеш было бы очень неловко. Она рассказала, как ее вызвали с патанатомии, как бродила она по Лигету, как с ней пытались заговорить в автобусе. И — отвечая на вопросы Мацы — что, конечно, вернулся он в плохом состоянии, перенес в тюрьме скорбут, но они были в Тюкрёше, и там он немного поправился. Она не сказала ничего, что не соответствовало истине, однако чувствовала, что лжет каждым словом. (Или люди всегда так говорят о себе, прикрывая то, что их мучает, щитом из общих слов?) «Я ведь отчасти поэтому к вам и пришла, тетя Мария», — вдруг покраснела она, чувствуя, что сейчас самый удобный момент высказать свою просьбу. И хотя радость Мацы (светящееся в ее глазах: «как славно, что ты пришла разделить со мной свое счастье») пробудила в ней угрызения совести, она все-таки пробормотала в конце концов: «Учительское жалованье, вы сами ведь знаете… Папа учеников решил брать, но мне бы этого так не хотелось… Я подумала: может быть, здесь?..» Лицо физички, и без того длинное, в самом деле вытянулось от разочарования: значит, Агнеш пришла вовсе не ради нее, а ради учеников. И в первой фразе ее это звучало довольно ясно: «Н-да, это не так просто. Коллеги чуть ли не все в таком положении, как твой отец». Но затем ее логический ум взял-таки верх над чувствами, она сама нашла для Агнеш оправдания, и, когда та, услышав звонок, вскочила: «Ой, двенадцать уже, мне на патанатомию надо успеть!» — учительница сказала: «Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Спасибо, во всяком случае, что ты поделилась со мной своими заботами».
Агнеш все еще чувствовала некоторый стыд, когда спускалась по ставшей вдруг шумной школьной лестнице меж бросающими на нее дерзкие взгляды гимназистками, которые словно рассматривали ее глазами той Агнеш Кертес, какой была она лет пять назад. За три года ни разу не навестила Мацу — и теперь вот так отплатила за ее любовь к ней. Не надо было поминать про учеников, уж если физичка так ей обрадовалась! Может, как-нибудь позже, придя еще раз или «случайно» встретив ее после уроков на улице. Но если ты знаешь, что кто-то питает к тебе слабость, то, будь у тебя даже самые благородные побуждения, ты едва ли удержишься, чтобы не злоупотребить чужой любовью… И хотя Агнеш не очень-то верила, что Маца сможет найти ей учеников, уже то, что она сделала первый шаг к собственному заработку, к самостоятельности, — в сочетании с выглянувшим ненадолго, по-зимнему скупым солнцем — сообщило ей некоторое чувство уверенности и придало активности. На лекцию она опоздала и решила, коли уж так получилось, пообедать (питалась она снова в столовой), а потом засесть-таки в библиотеку — готовиться к завтрашнему экзамену по терапии. На углу Юллёи, за афишной тумбой, она вдруг заметила Халми; он стоял, углубившись в плакаты с рекламами кинофильмов. После Тюкрёша Агнеш видела его несколько раз, но, с ее более быстрой реакцией, вовремя уклонялась от встречи. Тот идиллический вечер в бабушкиной каморке, произнесенные в воротах слова, которые Агнеш и сама повторяла, когда вера ее начинала слабеть, — все это в душе Халми, вероятно, живет вместе с надеждой на повторение, и надежда эта в конце концов найдет выход в осторожных расспросах, в воспоминаниях о том вечере или — это скорее всего — останется в нем, но останется обидой и разочарованием. Как дать Фери понять, что если его и пригласили в дом Кертесов в Тюкрёше, то здесь, в городе, ему не стоит к ним приходить; и вообще то прекрасное мнение, что сложилось у него об отце, для них обоих — особенно для нее — составляет такую ценность, которую она никак не может подвергать риску, помогая продолжиться их знакомству. И все же в этот момент она так была рада, увидев за тумбой — словно они с Фери в прятки играли — знакомую фигуру, и таким сильным в ней было желание что-либо предпринять — хотя бы обсудить новое свое решение, новую жизненную программу, первые свои шаги на этом пути, способы заработать на жизнь с другим нуждающимся студентом, вот с этим Халми, — что она не скользнула мимо, как могла бы, а тихо подошла к коллеге. Но когда она тронула его за локоть, он вздрогнул, как от удара током, и отдернул руку; подготовленная шутливая фраза: «Ну, что там идет в «Тиволи»?» — застряла у Агнеш в горле. Халми даже не просто вздрогнул, а содрогнулся всем телом и обернулся к ней с таким страхом в глазах, словно не убежал только потому, что не мог двинуться с места. Лицо его было бледно, небрито, по синеватым губам пробегала дрожь; дрожь эта не отпустила его, даже когда он наконец осознал, кто это рядом, в вязаной шапочке. «Какой вы пугливый, — сказала Агнеш. — Я думала, вы киноафишу разглядываете». — «Киноафишу?» — уставился Халми на Агнеш, потом обернулся обратно к тумбе. Видно было, он понятия не имеет, что перед ним находится. «Нет, — сказал он. — Я одного человека ждал». — «Спрятавшись от него?» — хотела пошутить Агнеш, но Фери настолько явно был не в своей тарелке, что она не посмела иронизировать. «У вас что-нибудь случилось?» — серьезно спросила она. «Нет-нет, — запротестовал Халми, бросив взгляд в сторону деканата. — Жду одного коллегу, он обещал, что…» — и замолчал, словно вдруг увидев ожидаемого коллегу. Однако никто к ним не подошел. Агнеш, почувствовав, что она тут явно некстати, хотела было уже попрощаться. Робкий взгляд Халми, не знающего, как одолеть застенчивость, остановил ее. «Я могу быть вам полезной?» — спросила она, пытаясь помочь не решающейся выразить себя мысли. Ведь ясно же, что коллега в беде. У Агнеш даже мелькнула мысль, что это странное состояние Халми связано, может быть, с его политическими симпатиями, которые он приоткрыл ей в Тюкрёше, и тот вопрос в глазах, который никак не могли высказать синие губы, обернется просьбой о какой-то услуге. «Нет-нет! Чем?» — залил лицо Халми новым приливом тревоги протест против предположения, крывшегося в словах Агнеш. Потом, когда сквозь тревогу к нему пробился ласковый, ободряющий тон ее, он неуверенно выдавил: «Я… уезжаю». — «В Тюкрёш?» — спросила Агнеш. Она подумала, может быть, дома у него кто-то болен, а у него не хватает денег (увы, у нее тоже их не было) на дорогу. «Нет, не в Тюкрёш, — сказал Халми, но не стал уточнять куда. — Этот коллега, наверное, что-нибудь перепутал. Полчаса уже его жду». — «А что вам нужно?.. Денег на билет?» Агнеш прикидывала в уме, сколько мелочи наберется у нее в сумке. «Денег? — удивился Халми, словно не он только что сообщил, что уезжает. — Нет, я зачетку свою хотел ему передать, на подпись». — «О, всего-то? — воскликнула с облегчением Агнеш. — Да ведь это и я вам могу сделать». — «Нет, зачем же. Для вас лишние хлопоты». — «Полно! Мы ведь с вами друзья». — «Но у меня еще один или два приватных курса», — принялся Халми, сдавшись, доставать зачетку. Однако дрожащие пальцы никак не могли справиться с замком на портфеле. «Ну и что, я зайду в субботу», — переполняла Агнеш радость, что она что-то может сделать для смертельно встревоженного чем-то юноши; тем временем, почти незаметным движением, она помогла ему открыть замок портфеля. От этого голоса, от ее движения у Фери словно опали торчащие иглы, за которыми он прятался от враждебного мира; он теперь ощущал лишь теплое женское участие, которое словно бы растопило все его неприятности. Он открыл зачетку и, пряча трясущиеся пальцы, показывал — можно сказать, одним лишь длинным носом — курсы: психиатрия, дерматология, судебная медицина, — которые для Агнеш были укрыты пока волшебным туманом неизвестности. «Хорошо, вы не беспокойтесь, я подпишу», — смотрела Агнеш на замкнутые и как бы тоже полные содрогания буквы. «Если бы вы это сделали… — взглянул он на Агнеш. — Честно говоря, я вам доверяю больше, чем тому коллеге». — «Который начинает с того, что не приходит на рандеву», — улыбнулась Агнеш, и в голове у нее мелькнуло, что, может быть, у того коллеги была основательная причина не приходить. Тут она испугалась чуть-чуть, чтобы потом опять почувствовать себя очень смелой, готовой на любую помощь. «Поезжайте спокойно, — сказала она, как будто чувствуя, что эта поездка для него не сводится к покупке билета и посадке в вагон, а означает что-то гораздо большее. — Семестр вы не потеряете…» И, видя, что Фери испуганно косится на остановившегося возле тумбы прохожего, протянула коллеге руку, прощаясь. «Я очень вам благодарен», — вцепились ледяные пальцы в протянутую ему теплую и надежную, как само добро, руку. «А куда послать? В Тюкрёш?» — пройдя уже несколько метров по улице Кёзтелек, обернулась Агнеш. Халми, который растроганно смотрел ей вслед, не сразу понял, чего она хочет, так что Агнеш пришлось показать ему зачетку. «Пускай будет у вас», — ответил Халми скорее рукой, чем словами. И синие губы произнесли еще что-то. «На память…» — почудилось Агнеш.
В столовой, сидя за подозрительно серым фасолевым супом (было еще рано, и локти обедающих не мешали друг другу), она положила перед собой зачетку Халми и свободной рукой принялась ее перелистывать. Ее подруги — Мария, Адель — любили брать зачетные книжки коллег, особенно молодых людей, и пристально изучать их; моментальная фотокарточка на внутренней стороне обложки, личные данные, те же спецкурсы, которые посещали и они, оценки, полученные на экзаменах, — их все тут интересовало, будто зачетка была не документом, а какой-то деталью одежды, которую можно, не выходя за рамки приличия, вертеть и рассматривать, отыскивая на ней тайные знаки и запахи. Но сейчас лежащая перед Агнеш зачетка в самом деле была как будто пропитана тайной, к которой Агнеш только что прикоснулась при встрече с коллегой, и казалась поэтому интересной и интригующей, как неразгаданный след, по которому какой-нибудь Шерлок Холмс сумел бы восстановить скрытую от глаз сторону чужой жизни. Агнеш всегда считала, что Халми хорошо учится: его хромота, казалось, должна была, даже если бы там и не было железного прилежания, прочно приковать его к книге. Когда речь у них заходила о медицине, Агнеш всегда с большим уважением прислушивалась к мнению Халми, и не только по той причине, что он был старшекурсником. И вот, смотри-ка ты, первый экзамен свой он едва сдал на тройку. Основа, что ли, была неважной, как он рассказывал в Тюкрёше? Или он оказался недостаточно умным? Или просто не умел произвести благоприятного впечатления (вот как на фотографии, где в глаза прежде всего бросается длинный нос и растерянный, испуганный взгляд) на профессоров?.. Как-то Халми сдавал экзамен вместе с Ветеши. Когда Ветеши шел к столу, он казался уже готовым врачом, которому по какому-то фатальному стечению обстоятельств пришлось сдавать экзамен. Улыбкой, вежливостью своей, в которой чувствовалось, что она и в иных обстоятельствах остается точно такой же, и, конечно, не выпячиваемой, скромно сознаваемой про себя подготовленностью — которая именно поэтому представлялась более основательной, чем, может быть, была на самом деле, — он буквально вынудил Вамоши разговаривать с многообещающим молодым человеком как с равным. Халми же и перед профессором сидел словно перед фотографом: кто знает, сколько страха, упрямства, недобрых мыслей прячется в его некрасивом и все же, казалось Агнеш, вовсе не незначительном лице. Не только отец ее удивлялся, что Халми пошел учиться на врача, на медфаке тоже прошло немалое время, пока и студенты, и преподаватели — больше из беззаботности, чем переубежденные — свыклись с его пребыванием там. На последних страницах зачетки хороших, отличных оценок попадалось все больше. Особенно бросалось в глаза множество начатых и вскоре брошенных приватных спецкурсов. Врачебная этика, социальная гигиена; видимо, его привлекали названия: он ходил на них раз или два, потом демонстративно вычеркивал. Другие же посещал аккуратно и терпеливо. У приват-доцента по фамилии Раншбург[71], чье имя Агнеш и слыхом не слыхивала, он слушал спецкурс четвертый семестр подряд… Был в зачетке какой-то вызов, стремление доказать что-то, и вызов этот был как-то связан, должен был быть как-то связан с сегодняшним его поведением. Во что он ввязался, бедняга? Почему не смеет сам принести на подпись свою зачетку? А если она, Агнеш, явится с ней, не подойдет ли к ней в тот же момент сыщик: откуда у вас эта зачетная книжка, барышня? Ах, попросил?.. Ну что ж, мы выясним, в каких таких отношениях вы с ним состоите… Агнеш вдруг со стыдом обнаружила, что пытается сформулировать какой-то логично звучащий ответ. Она положила вилку в лапшу с вареньем и встала. «Нет, что угодно, но это никак не идет», — сказала она сидящему напротив «аисту»[72], который взглянул на нее с почтительным интересом, однако мнения своего не выразил.
Отсидев последнюю лекцию, Агнеш поехала к тете Фриде. Еще не было и шести вечера, а тут, на визиварошских улочках, царила уже тишина, словно не было рядом грохочущего Кольца с трамваями, ярко освещенными витринами, сутолокой спешащих людей, словно улочки эти находились не в Пеште, а совсем в другом, ничего общего с Пештом не имеющем городе, где в приземистых домиках за двойными воротами все еще жили, тайно и без претензий, не ведая упорства в достижении своих целей, не задумываясь над жизнью, те, чьи кости были недавно вырыты из-под прекрасных памятников в стиле бидермейер на упраздненном визиварошском кладбище. Каблуки Агнеш стучали по каменным плиткам того самого тротуара, по которому она бегала девочкой, когда они еще жили в школьном здании на кольце Маргит, а вспугнутая в темных проемах подворотен и ниш тишина будила детский страх, знакомый еще с тех времен, когда она после уроков закона божьего в ранних зимних сумерках торопилась домой. Как хорошо, что она уже не прежняя маленькая девочка и смело может идти по своим, а теперь уже по отцовским делам вдоль вымерших, затаившихся улиц. И безотчетная радость пела не столько, может быть, в ее мыслях, сколько в веселом стуке каблуков. Знакомая, в форме древесного листа ручка на воротах, словно безнадежно проржавевшая, поначалу никак не хотела поддаваться усилиям. «Может, уже закрыли», — подумала девушка, ибо на улице Хорват час закрытия определялся не общим порядком столицы, а общим желанием жильцов, и с былой детской тревогой взглянула на шнурок звонка: ей и сейчас непросто было бы заставить себя совершить святотатство, нарушив безмолвие длинного двора, придавленного перманентным страхом перед неуживчивыми привратниками. Но со второй или с третьей попытки щеколда поднялась-таки, и Агнеш открыла калитку в больших двустворчатых воротах, сохранившихся с тех времен, когда во двор въезжали телеги, везущие виноград с горы Шаш; нынче эти ворота открывать вообще не было смысла: даже дрова или уголь во двор невозможно было ввезти из-за хозяйской сирени, кадушек с олеандрами и цветочных горшков на подставках. «Ну да, новый жилец, печатник», — сама себе объяснила Агнеш сюрприз с калиткой. В их бывшей квартире лет десять уже обитал какой-то печатник с семьей (самые аристократические жильцы в доме), и приходилось считаться с тем, что он может поздно вернуться с работы. На цыпочках, стараясь не нарушать сонную тишь двора, Агнеш прошла к двери в комнаты тети Фриды. Двустворчатая дверь, конечно, была уже заперта на ключ и, изнутри, на крючок, но в окошке одной из комнат, над занавеской на медных кольцах, брезжил слабый свет (тетя Фрида все еще жила с керосиновой лампой). Агнеш несмело постучала в окно. Она сама понимала, что этого недостаточно: тетя Фрида из года в год слышала все хуже (когда Веребей рассказывал им про старческий отосклероз, Агнеш вспоминала тетю Фриду), громкий же стук мог встревожить не только жильцов, но и саму хозяйку: у глухих странным образом мала дистанция между уловленным шорохом и оглушительным грохотом. «Вам кого?» — спросил женский голос за спиной у стоящей в растерянности Агнеш. Видимо, кто-то из жильцов обнаружил, что дома нет на ночь воды, и вышел с кувшином к крану. Во владениях тети Фриды был один-единственный водопроводный кран — на стене возле ее двери; правда, меж кустами сирени торчала заброшенная колонка (Агнеш помнила еще время, когда тетушка Бёльчкеи мыла салат под ее замшелой трубой), которая давно уже перестала качать воду. Агнеш попыталась установить, чей это голос, в котором забота о чести дома взяла верх над естественной женской боязнью темноты. «Это вы, барышня? — спросила Агнеш, по узлу волос на макушке догадавшись, что, очевидно, это одна из двух старых дев (живущих в конце двора в отдельно стоящем флигеле, попасть куда можно было по лестнице и где даже был балкон) — та, что поскромнее; видно, вторая, более решительная, и послала ее вперед. — Я к тете, да не хотела ее пугать», — объяснила она свою ситуацию. Барышня подошла теперь ближе, глядя на опознанную тень с улыбкой, в которой было и облегчение, и за десятилетия ставшее привычкой почтение к членам семьи владелицы (стеклянный глаз ее улыбался еще радушнее, чем второй, живой). «Это вы, Агнешке? Да, плохо, ох, плохо слышит хозяйка-то», — сказала она и посмотрела на светящееся окно, явно не в силах помочь. К счастью, движение во дворе заметили из окошка напротив — из бывшей комнаты Кертесов; сначала открылось окно, затем кухонная дверь, и к ним присоединилась жена печатника. Она точно знала ту силу звука, которую тетя Фрида услышит, но от которой еще не перепугается, и то, как скоро должен за стуком последовать ее, печатницы, хорошо знакомый хозяйке, даже в самом умильном своем регистре требовательный голос.
«Барышня, откройте», — повторила она несколько раз. В самом деле, внутри послышался звук отодвигаемого кресла, затем скрежет ключа в двух замках, стук снимаемого крючка на входной двери. «Sind sie’s Frau Kenderessy?» — послышался голос из приоткрытой щели. Потом, сообразив, что немецкого печатница не знает, тетя Фрида повторила: «Это вы, госпожа Кендереши?» — «Агнешке к вам пришла», — ответила квартирантка не слишком громко, как сообщают хорошую весть, которую напряженное внимание поможет уловить и так. Печатница, хотя была квартиранткой относительно новой — всего лишь лет десять — двенадцать, — однако прекрасно знала, кто такая Агнеш и какое место она занимает в сердце старой девы. «Кто? Агнеш? — повторил взволнованный голос, в котором за этот короткий момент успели сменить друг друга растерянность, радость свидания с дорогой сердцу родственницей и тревога: что ее привело сюда на ночь глядя. — Ну вот и ты наконец появилась», — сказала она затем, когда позади были объяснения, прощания с жильцами, закрывание дверей (а за дверьми — шум воды из открытого крана, означающий, что привычный ход вещей восстановлен и продолжается). «Ой, столько дел, тетя Фрида, — оправдывалась Агнеш с поверхностным раскаянием человека, который, конечно, знает, что поступал некрасиво, но знает и то, что получит прощение еще до того, как закончит свои оправдания. — Я и сегодня видите, как поздно. До пяти в университете была — уже боялась, что не смогу попасть. Но не хотела больше откладывать. А то подумаете еще, что я умерла». — «Кто? Ты? — взглянула на нее тетя Фрида. — Это я умру, а вы даже знать не будете. Тони, тот еще заглянет время от времени, а вы… Знаю я, что у тебя много дел», — добавила она тут же, оттеснив старческую сентиментальность исконной тягой к объективности, которой теперь помогло готовое все простить сердце. Объективность эта чуть-чуть усугубила в Агнеш сознание собственной вины. Господи, конечно же, она могла бы и раньше зайти. Занятость — все это лицемерие. Вот страдаешь от недостатка любви, а туда, где этой любви целый неиссякаемый, чистый источник, и глаз не кажешь… «Но почему так?» — думала она, сидя против закисшей в своей одинокой судьбе старушки, в колеблющемся неровном свете лампы. Ведь любовь эта никогда не была безответной. В тете Фриде она даже в детстве находила — так же, как и в отце, — нечто достойное уважения. Это нечто таилось в том, как тетя Фрида поливала свои цветы — герань и львиный зев, чинила черепицу на доставшемся ей в наследство доме, устанавливала справедливость среди жильцов, распределяла небольшой свой доход, даже в том, как она не позволила строить позади своих владений многоквартирный дом, потому что тот бы закрыл привычный вид на гору Янош; была во всем этом какая-то импонирующая система, своя красота — красота устоявшейся жизни, пусть иной, чем жизнь тюкрёшской бабушки; уважению этому не причинило ущерба даже открытие, что тетя Фрида, собственно, старая дева, которая, по тогдашним девчоночьим представлениям Агнеш, должна была вызывать в окружающих лишь насмешку. Нет, тетя Фрида осталась старой девой не потому, что никому не была нужна: с давних ее фотографий на вас смотрела женщина с осанкой королевы, с живыми сияющими глазами; само ее совершенство не позволяло ей снизойти до компромисса, оно и сохранило ее, как заколдованную принцессу, в этом дворике — замке Спящей красавицы.
Чтобы чуть-чуть загладить свою невнимательность (последний раз она навещала тетку и видела эту отдающую запустением комнату лишь минувшим летом), Агнеш пустилась в непринужденную, многословную болтовню. Это тоже было ужасно приятно: разговор здесь был — не разведка, не сражение или дуэль; она могла говорить — вернее, кричать — все, что придет в голову, легкомысленно и без оглядки; для одинокой, ушедшей в себя женщины счастьем было даже смотреть на ее губы и угадывать смысл ее слов. В самом деле, что за глупое и недоброе существо человек! Что мешало ей, Агнеш, чаще радовать тетку, да и себя тоже, таким вот ни к чему не обязывающим щебетаньем? Логично было бы, если б они сразу заговорили об отце, о его возвращении. Но из старческой, оглушенной нежданным визитом теткиной памяти событие близкое как-то выпало; Агнеш же все оттягивала, отодвигала неприятную тему, для перехода к которой надо было набраться духу. С экзаменов, со студенческих дел она перепрыгнула на лежащие на столе журналы, на гладких листах которых покоились блики, отбрасываемые снятыми тетей Фридой очками. «Вы еще выписываете «Гартенлаубе»[73], — обрадовалась она желтым обложкам, которые всплыли вдруг из самых глубоких слоев ее детства. «Полно! Откуда у меня на него деньги? Я даже не знаю, издается ли он еще». В самом деле, перед ней лежал номер конца века, с живой (много позже убитой) императрицей на острове Корфу. С «Гартенлаубе» Агнеш перешла к почившему попугаю. «А я понять не могу, чего мне так здесь не хватает. Клетки Коки, конечно». Обитатель клетки уже года два-три назад закончил лущить свои семечки и отдал веселые краски зеленых, красных, черных своих перьев сырой земле под кустами сирени. «Ах, Коки, — дошел до тети Фриды новый поворот разговора. — Как раз на прошлой неделе клетку я отдала маленькой Эти Кендереши. У меня все равно уже больше не будет попугая…» Дрожь в углах плотно сжатых губ и на морщинистом подбородке свидетельствовала о том, что бедность вкупе со старостью даже в ней породили такую слабость, как жалость к себе. Агнеш, отчасти чтобы перевести разговор на другую тему, отчасти же желая сравнить оживающую в ней память о теткином жилье с образом будущего их дома, повернулась и обвела взглядом тонущую в сумраке комнату: прекрасный буфет в стиле бидермейер, по дверцам которого, как гласила семейная легенда, она полуторагодовалой девочкой (когда они уже переехали из Верешпатака) колотила кулачком и громко требовала печенья; диван с высокой спинкой, на котором она ребенком, доверенная заботам тети Фриды, перед тем, как заснуть, погружалась в подозрительные любовные фантазии, где играл какую-то роль живущий во дворе мальчик по фамилии Хубер. «А где часы?» — вдруг спросила она, обнаружив непривычную пустоту на шкафчике, где с незапамятных времен фарфорово поблескивали большие часы с куполом на четырех столбиках. «Часы?..» — сказала тетя Фрида и лишь рукой показала: дескать, «weck»[74], нету больше, и в подергивании ее подбородка жалость к себе смешалась сейчас с некоторой долей сердитого вызова. Агнеш даже не сразу поняла, что часы просто-напросто проданы: ребенок, живущий в ней, смотрел на предметы в комнате так, словно они являлись частью мирового порядка и были расставлены по своим местам от начала времен. «Неужели продали?» — удивленно спросила она. «Ja, ich kann nicht verhungern»[75], — в забывчивости перейдя на немецкий, ответила тетя Фрида с досадой, но в то же время как бы и оправдываясь, словно сама чувствовала, какой это страшный грех — избавиться от таких прекрасных часов, оставшихся ей от родителей. К ней заходил старьевщик, он и купил их, скорее всего за бесценок. «Ja, der Teppich ist auch hin…[76] Дорожку с дивана тоже пришлось продать», — перевела она тут же, а затем, взяв со стола лампу, повела Агнеш в свою, еще меньшую комнату, где стояла ее кровать и деревянный умывальник, и осветила стоящий возле дверцы стенного шкафа другой диван, вернее, то место, где прежде лежала прекрасная персидская ковровая дорожка. Дорожка эта была украшением дома, о ней с почтением отзывалась даже мать Агнеш — большой знаток всякого рукоделия. Агнеш ошеломленно смотрела на оголенный диван в полосатом чехле, который она никогда в жизни не видела — точно так же, как, например, нижнюю юбку или ночную рубашку тети Фриды. Теперь, когда судьба ковра, на который тетя Фрида смотрела как на будущий свадебный подарок Агнеш — выйдет же та когда-нибудь замуж, — перестала быть тайной, точка кипения в ее сердце стремительно снизилась, и жалобы полились рекой. «В заднем флигеле, над семьей Сатори, крыша начала течь. Если так оставить, комнаты им зальет. Und diese Ziegeldecker, die sind solche Gauner[77]». Про этих кровельщиков, наводящих ужас на тетю Фриду, Агнеш была наслышана со времен войны и даже раньше — с довоенных лет. На флигелях, что тянулись по сторонам длинного двора, поверхность крыши была больше, чем на каком-нибудь пештском многоквартирном доме, и черепицу то и дело приходилось латать то в одном, то в другом месте. А нынче несоответствие между счетами кровельщиков и доходами тети Фриды приняло катастрофические формы. «Ich iss kaum was[78], — сказала она, почти уже не борясь с подступающими слезами, и показала Агнеш на свою юбку: — Приходится вот подвязывать, чтобы не свалилась».
Теперь Агнеш смотрела на маленькую, ссохшуюся старушку уже не с тем прежним, поверхностным чувством вины, которое она здесь себе позволяла как некую роскошь, ведь тетка, член их все еще сытно живущей семьи, в самом деле могла умереть с голоду. Тетя Фрида всегда была экономной. Даже редьку она нарезала своим аккуратным ножичком на тонкие, почти прозрачные кружочки — и по два, по три раза добавляла ее все к той же первой порции масла. Но чтобы голодать!.. «Der Toni bringt manchmal etwas…[79] Но у них сейчас у самих нету… Да и этим ли у него голова занята, — поправила себя тетя Фрида. — Кендерешиха, ничего не скажу, та всегда чем-нибудь угостит, когда стряпает. Такая славная женщина…» После того, как она прошла весь мучительный путь — от коррекции, которой требовала справедливость, до восстановленной объективности и до признания позорного факта, что она вынуждена жить на милостыню, — губы ее снова задергались. Агнеш достаточно знала тетю Фриду, чтобы понять, что за перечислением добрых людей прячется осуждение тех, кого она не упомянула. «Ну, а жиличка?» — посмотрела Агнеш через кухню в сторону выходящей на улицу комнаты. «Ах, эта…» — махнула тетя Фрида рукой с тем выражением, с каким она отзывалась о людях, которые давно опустились ниже ее представлений о порядочности. С тех пор как господин Жамплон, коллега Кертеса, которого тот еще до войны порекомендовал сюда постоянным жильцом, уехал после войны в Вершец[80] и там в скором времени сошел с ума и умер, у тети Фриды были только неудачные квартиранты. «Герр профессор» был человек утонченный, превосходно воспитанный, в квартиру проскальзывал через кухонную дверь совершенно неслышно, и тетя Фрида, лишь выйдя из-за отгораживающей кухню занавески, могла его поймать на несколько слов. По вечерам — Агнеш сама слышала несколько раз — он играл на фортепьяно, не очень хорошо, но зато классику, словно музыка была для него лекарством; и еще он постоянно мыл руки, ухитряясь при этом ни разу не капнуть на крашеный пол своей комнаты. Но, господи, эти женщины-квартирантки!.. Правда, к Пирошке она отнеслась вначале с доверием, потому что та тоже приехала из Баната[81], адрес тети Фриды ей дали родственники покойного господина Жамплона, а может быть, даже он сам. Родители ее были зажиточные виноградари, их «валюта» не знала инфляции, и дочка могла позволить себе уехать в столицу, людей посмотреть, себя показать. Агнеш однажды видела, как она шла по двору. Это была ширококостная, пышущая здоровьем девица, а кроме того, как рассказала тетя Фрида, не без амбиций и с неплохой головой. «Sie will eine Rolle spielen»[82], — передразнила тетка жиличку тем тоном, каким урожденные аристократы смотрят на честолюбивых плебеев, с досадой или с иронией произнеся «will» как «wüll». «За ней все еще тот аптекарь ухаживает?» — понизила голос Агнеш. «Говори спокойно, на концерте она… «Давно уж я не слыхала (и она снова передразнила жиличку) Девятую». Na, ja[83], аптекарь — den halt Sie[84]… Если лучшего не найдется. А кто за ней ухаживает? Das wisst nur der liebe Gott[85]. Как-то утром, представь, прихожу я в кухню липового чаю себе заварить, и кто же появляется из ее комнаты?» — «Кто?» — «А, это она одна знает. Ich traute nicht hinschauen. Aber mir scheint, er war nicht der Apotheker[86]». Агнеш пришлось взять себя в руки, чтобы не расхохотаться тетке в глаза: настолько искренним было неподдельное возмущение, появившееся на лице тети Фриды; Агнеш легко представила, как аптекарь или бог знает кто там еще крадучись выходит в кухню и натыкается там на хозяйку. «Ну и что вы сказали ему?» — «А что я могла сказать? — пожала плечами тетя Фрида. — Сделала вид, будто не заметила. Только та все равно говорит — я от Кендерешихи знаю, — что будет другую квартиру себе искать. Diese Milieu passt nicht zu ihrer Persönlichkeit[87]. А мне надо жить на что-то. Я уж и так говорю: если не получится по-другому, сдам еще маленькую комнату кому-нибудь».
«С этим вы чуть-чуть подождите, пожалуйста», — нашла решимость Агнеш подходящую паузу, чтобы заявить о себе. — Может быть, я найду вам человека». — «Из университета?» — взглянула на нее тетя Фрида. «Нет, родственника». — «А то, знаешь, боюсь я этих нынешних девиц». — «Тут вы можете не бояться, тетя Фрида», — сконфуженно засмеялась Агнеш. Она лишь сейчас почувствовала, насколько противоречит здравому смыслу то, что она собирается сообщить. Тетя Фрида испытующе смотрела в ее заливающееся краской лицо. «Может быть, я вас сама попрошу взять меня на квартиру, как других». (Она постаралась обойтись без упоминания денег.) — «Mach nicht Spässe[88], — ужаснулась тетя Фрида. Но минуту спустя, словно поняв все, добавила: — Из-за матери, так ведь?» И на сморщенном ее личике, с седыми волосами на щеках и на подбородке, отразилось скорее сочувствие, чем возмущение. Тетя Фрида, по всей очевидности, знала все — то ли от Тони, то ли от Кендерешихи, которая могла встретить мать с Лацковичем в театре. «Он тут был у меня, бедняга, — затронула наконец тетя Фрида столь долго избегаемую тему. — Твой отец… — пояснила она. — Прямо из Попечительского ведомства зашел». Агнеш не знала об этом визите, и ей подумалось, что, может, отец приходил сюда с той же целью, что и она… Это было бы самое лучшее. «Он вам сказал что-нибудь?» — «Нет, навестить только хотел. Неделю с лишним это было. Пяти зубов, говорит, у него не хватает, делают ему их как раз. Ну, думаю, Du armer Teufel, dass diese Zähne dein größtes Unheil waren[89]. Пускай это будет самое большое твое несчастье». Больше и не нужно было ничего говорить. Тетю Фриду, хоть она и осталась не замужем, семейная жизнь брата знакомила с такого рода проблемами, да и вообще она на своем веку много повидала, часто бывая на курортах в Ишле и Бадене; к тому же ее подругами были мать одного знаменитого университетского профессора в Швейцарии и жена одного заводчика в Пеште, так что благодаря своим знаниям в человеческих отношениях она разбиралась лучше, чем многие другие женщины с их собственным богатым опытом. То, что она прожила жизнь старой девой, сказалось, пожалуй, лишь в том, что ей и в голову не пришел естественный в такой ситуации довод: я бы все-таки на твоем месте не торопилась, ведь это, в конце концов, не твое дело. В ее глазах было очень даже понятно, что Агнеш больше не хочет жить дома. «Все это вообще еще неизвестно, — сказала Агнеш, вставая. — Но если вы захотите сдать комнату, то, пожалуйста, повремените неделю-другую». — «Ладно, ладно, — ответила тетя Фрида и, провожая, похлопала ее по плечу, — Du armes Kind[90]. Понимаю, каково тебе сейчас готовиться к экзаменам».
Домой Агнеш шла в приподнятом настроении, чувствуя себя так, будто выбралась из какого-то глубокого подземелья, глухой пещеры и полной грудью вдохнула свежего, чистого воздуха. Хотя обрела она, собственно говоря, лишь некий призрак надежды, туманный образ, который теперь, на танцующей под ногами площадке пустого трамвая, могла как угодно развивать и расцвечивать, представляя, как будут они втроем — тетя Фрида, отец и она, — подобно какой-то рожденной в изгнании новой семье, жить на улице Хорват жизнью чистой и бедной, черпая силы и утешение в любви друг к другу. Пирошке она скажет: пускай, если хочет, переселяется в их кабинет — это будет более подходящая для нее среда; отца они поселят в комнате с окнами на улицу — там он сможет сушить и раскладывать свои марки, а она, Агнеш, будет спать на диване в каморке у тети Фриды. По вечерам они будут садиться втроем вокруг настольной лампы, в круге света которой найдется место и для путешествий Пржевальского, и для номеров «Гартенлаубе» с их великолепным сверкающим шрифтом. Что это будет за счастье, когда и она, Агнеш, сможет в один прекрасный день отнести угощенье Кендерешихе — приготовленное в собственной духовке печенье… Уже после того, как она пересела на сорок шестой, в голову ей пришел еще один возможный источник дохода: дядя Дёрдь дал ей обиняками понять, что ему страсть как не хочется из-за доли в родительском доме затевать тяжбу еще и с братом, с ним бы он лучше отдельно договорился. Агнеш тогда не решилась развивать эту тему, опасаясь поставить отца между двух огней — дядей Дёрдем и собственной женой, которая в этом деле была настроена столь же непримиримо, как, например, дядя Бела. Но если отец станет свободен от влияния матери, почему бы братьям и в самом деле не решить вопрос полюбовно? Вообще это было бы очень большое свинство — после стольких каникул, что она, Агнеш, провела в Тюкрёше, затевать против семьи дяди Дёрдя судебный процесс. Они, конечно, будут и дальше присылать им муку, яйца, жир. Половина свиньи в руках у экономной тети Фриды — какое бы изобилие было у них! Все казалось теперь таким ясным, что тревога, терзавшая ее накануне, — что расскажет Лацкович матери и в каком настроении она найдет мать — превратилась в веселое любопытство, чуть ли не в азарт; в конце концов, как ни горько то испытание, которое ожидает отца, им лишь надо как можно скорее через него пройти — и они будут в раю, в доме на улице Хорват.
Дома все говорило о том, что Лацкович все же что-то сказал матери. Она ходила по комнатам, погрузившись в обиженное молчание, которое готово было взорваться упреками. Но в фокусе этой обиды, по всему судя, находилась не Агнеш, мать как-никак ответила на ее приветствие (хотя потом не разговаривала и с нею). Главное же, отец сидел в кабинете один с растерянной, но призванной изображать превосходство улыбкой, так что ясно было: подлинный преступник, Агнеш, наказывается молчанием разве что лишь как соучастник. Лацкович все-таки проявил — на свой манер — благородство: настроил госпожу Кертес против мужа, против ситуации в целом, дескать, как хотите, а он больше сюда ни ногой, однако Агнеш, которой дал честное слово, не выдал, несмотря на все ухищрения матери. Чтобы прояснить обстановку, Агнеш, намазывая жиром кусок хлеба, спросила из двери кладовой: «Вы, мама, сказали, этот жир я могу считать своим?» — «А что? — отозвалась мать. — Не хватает там, что ли?» — «Нет; но если он на самом деле мой, я бы его отнесла тете Фриде». — «Ты была у нее?» — спросила, насторожившись, мать: это еще бы к чему? «Была. Я с самого лета к ней не заглядывала. Голодает она!» — «По мне, неси, ради бога», — ответила госпожа Кертес после некоторого молчания. То, что тетя Фрида голодает, могло быть и обвинением в ее адрес, намеком на обеды в «Гамбринусе». «А почему Тони ей ничего не носит? — спустя некоторое время вышла она из комнат с первым своим аргументом. — Мало он зарабатывает на своих махинациях с долларами? Это его обязанность. Он и дом получит в наследство». — «А, этот дом… — ответила Агнеш, откусывая от ломтя хлеба. — Одни протекающие крыши… А вообще-то он ей носит. Он да еще тетушка Кендереши — они ее вдвоем и подкармливают». Первый аргумент был отбит; госпожа Кертес ушла обратно. «Я всегда говорила: без причины бог не накажет, — появилась она через пять минут снова. — Знала бы ты, как она в детстве мной помыкала. Госпожа Рот (та самая жена разорившегося фабриканта, подруга тети Фриды) мне в этом свидетельница! Так что от меня она благодарности не дождется. Сколько она мне крови попортила!.. Ты понятия не имеешь, сколько я от нее натерпелась». Агнеш смолчала. С одной стороны, это очень было похоже на правду: тетя Фрида и мать уже тридцать лет не выносили друг друга, и мать, как младшая, наверное, часто оказывалась побежденной. С другой стороны, разве это дело — вымещать давние обиды на восьмидесятилетнем голодающем человеке… Она ела хлеб и ждала, к чему мать придет. «Пожалуйста, мне все равно, — сказала та. — Можешь ей отнести всю кладовую. Лично я все равно ни крошки оттуда не съела, — объявила она с полной верой в собственные слова. — Вон поешь-ка, жаркого немного осталось. А то отец твой его уже искал». (Эти слова окончательно убедили Агнеш, что вчерашняя ее смелость вышла боком не ей, а отцу.) Потом, без всякого перехода, мать спросила: «Ты не могла бы мне какое-нибудь снотворное в университете достать? Едва держусь на ногах, третью ночь уже не сплю. Чуть закрою глаза, отец тут же меня своим храпом будит…» «Значит, вот что у нас теперь — храп», — думала Агнеш, отряхивая с себя хлебные крошки. Теперь это будет главная отцова вина. В ней мать соберет все, чего не может в нем вынести; раз она не может пожаловаться, что ее муж — не Лацкович, она будет жаловаться, что он храпит. К сожалению, насчет храпа все было правдой. Прошлой ночью она сама, просыпаясь, слышала его через две двери. Она знала даже его мелодию: глубокий басовый рык, потом заминка, потом хриплый, скрежещущий выдох. Но так как беда была вовсе не в храпе (храпел бы рядом с матерью Лацкович, каким милым мурлыканьем она бы это воспринимала), Агнеш не склонна была соглашаться с матерью. «Я в Тюкрёше очень быстро привыкла», — сказала она. В комнате отец заговорил с ней о том же. «Мамуля жалуется на мой храп. Я ей сказал то же самое, что товарищам говорил в плену: разбуди, если спать мешаю». — «Ну да, так я и буду всю ночь при деле: его будить, — откликнулась госпожа Кертес из столовой, куда, очевидно, пришла, чтобы слышать, что будет говорить муж, и, если потребуется, тут же вмешаться. — А разбудишь — он через пять минут снова заводит». Кертес лишь засмеялся и махнул рукой, а когда жена с возгласом: «Но я не дам себя уморить», — удалилась в спальню, он, приглушив голос, продолжал: «Вот она и мне сегодня то же сказала. Я ей говорю: что ж, тогда перережьте мне горло. Да еще добавил: все, говорю, человечнее, чем такой прием… Ну, тут началось…» Агнеш, у которой днем раньше сжалось бы от такого признания сердце, сейчас лишь взяла его за руку. «Ничего, — сказала она, — все у нас будет в порядке». Словно речь шла о родах, которые для роженицы — нескончаемая, нестерпимая боль, для повитухи же — лишь вопрос расположения плода и означающий победу первый крик младенца.
На другой день был экзамен по общей терапии. Студенты толпились в коридоре, дожидаясь, пока их впустят в аудиторию, где должен был принимать экзамен их ассистент, и за неимением иных развлечений пугали друг друга. Особенно тряслись третьекурсники, наслышавшиеся от старших, что Розенталь (тот самый ассистент, что сделал выговор Агнеш) не только спрашивает материал за семестр, но еще и заставляет делать физические исследования: перкутировать поле Крёнига, пальпировать края печени, селезенки; для них, в клинических дисциплинах пока еще желторотиков, все это представляло собой некую туманную зону, куда слух и пальцы еще не могли следовать за теоретическими познаниями. В последний момент примчалась Мария; сегодня, в виде исключения, под мышкой у нее не было пачки книг и тетрадей. «Как, еще не начали? — спросила она, словно экзамен относился лишь к остальным, она же сюда забрела случайно, перепутав аудитории. — А я сюда так, на всякий случай пришла; думаю, надо же удостовериться, что на самом деле опоздала. Где мне взять столько нахальства, чтобы влезать в дверь в середине экзамена — это у Розенталя-то. Лучше уж тогда к Дунаю, на набережную… Значит, все же придется сдавать?.. Вы что, боитесь? А я вот черт знает в каком настроении — сегодня мне все трын-трава. Только конспекты свои посмотрела. Если что-нибудь этакое у меня спросит, я, ей-богу, в глаза ему засмеюсь…» Эти слова из уст Марии звучали тем более странно, что она относилась к числу самых больших паникеров; на экзамен по анатомии она пришла, через край накачавшись черным кофе, в настоящем нервном шоке, так что грозный Тейешницкий даже предложил ей стоящий на преподавательском столе стакан воды, который она, под хихиканье аудитории, и выпила до самого дна. Однако сейчас она словно бы в самом деле не понимала, как попала сюда и что с ней тут может случиться. Заметив Агнеш, она с бурным восторгом бросилась к ней, расталкивая коллег: «Сервус! Ты тоже сдаешь? А я как раз подумала, сегодня-то уж разыщу тебя хоть на дне морском. Что с тобой случилось? Ах да, у тебя отец вернулся… Ты даже не рассказала, как все было! Да уж не прячешься ли ты от меня?..» Дело было как раз в том, что это Мария ее избегала, уводя своего Ветеши куда-нибудь в другой угол аудитории. Однако сейчас, как видно, произошло нечто такое, что заставило Марию отбросить свою осторожность; если бы появившийся в дверях Розенталь не пригласил студентов входить, Мария, наверное, нашла бы способ заставить Агнеш забыть про кроветворные органы и рассказывать о возвращении отца или о других еще более посторонних вещах. «Неужто же?..» — смотрела Агнеш (отчасти с любопытством, отчасти с завистью) в посаженные по-птичьи глаза Марии, в этот день словно подернутые дымкой взбудораженных гормонов.
Сдавать Агнеш пошла одной из первых. Ассистент спрашивал ее о паранефральном абсцессе. Эта довольно редкая болезнь в ее голове занимала особое, даже почетное место: профессор посвятил ей свою первую лекцию, и Агнеш со страстью, с которой она относилась к неведомым раньше вещам, заносила в тетрадь — и в память — каждое его слово. Отвечала она превосходно — ассистент смотрел на нее с нескрываемым удовольствием. Потом ей надо было простукать у больного границы абсолютной и относительной сердечной тупости. Агнеш больного знала — помнила его по большим усам и синему цвету лица; в истории болезни его она вычитала, что у него должно быть cor bovinum[91], то есть очень гипертрофированное, «бычье», сердце, но до каких пор распространяется притупление, она понятия не имела. Пока отвечал следующий коллега, она простукивала, прощупывала больного и наконец провела дермографом линию. Однако добродушный дядька уже сам знал свое притупление и, слегка отвернувшись к окну, показал ей обломком ногтя, где врачи рисовали обычно линию. Он, кажется, даже гордился, что «релятивная» его аномалия доставала чуть ли не до подмышек. Агнеш заново простучала его большую волосатую грудь, потом решительно повторила след искалеченного машиной пальца. Розенталь, закончив с очередным коллегой, подошел к ней, но не стал простукивать еще раз (в своем отделении он все отклонения знал на память); насчет сговора юной медички и больного он, видимо, догадался, так как спросил неожиданно: «А вы, барышня, в притупления эти верите?» Агнеш смотрела на него недоверчиво: ловушку, что ли, старик ей ставит?.. В больших карих глазах ассистента, однако, не было и тени злорадства… «Я имею в виду не данное притупление, которое вы с божьей помощью очертили, а притупления вообще. Скажите мне откровенно». Агнеш чувствовала, экзамен ею уже сдан, причем на «отлично», а это — нечто вроде свободного разговора, за которым следит с интересом вся группа, даже те, кому еще предстоит сдавать, и в приподнятом настроении, с ощущением облегчения на душе теперь думала уже только о том, как бы ловчее отбить поданный мяч. «В абсолютное начинаю верить… — сказала она улыбаясь. — Но у меня впереди еще два с половиной года», — добавила она, по глазам Розенталя и одобрительному смеху коллег за спиной понимая, что ответ ее был удачным. «И вы думаете, что за это время научитесь нашим терапевтическим штучкам?» — «Абсолютное притупление — вещь очевидная, — высказала осмелевшая медичка одно из своих медицинских сомнений. — Там сердце в самом деле прилегает к грудной клетке. А вот относительное притупление, когда между ними тонкий или не очень тонкий слой воздуха…» — «Тут уже начинается произвол: одни находят границы так, другие — этак, верно? Школа Корани вовсе не там, где школа Балинта». — «Это, мне кажется, вопрос договоренности, вроде единицы измерения…» — покраснела Агнеш от собственного упрямства. «А ваш слух, барышня, в эти тонкости еще не посвящен, — захохотал Розенталь. — То, что коллега тут утверждает, не такая уж чушь, — обернулся он к группе. — Вы, может быть, слышали, что существует и так называемое «межбольничное притупление». Это и есть ваш абсолютный случай. Многие врачи в больницах, так же как эта вот барышня, считают наше релятивное притупление всего лишь фокусами клиницистов. Когда войдет в широкую практику рентген, нам, может быть, и не будет смысла мучиться с этими притуплениями. И даже старое доброе поле Крёнига попадет туда же, куда и сто разновидностей пульса, различаемых китайскими медиками, — в кладовую свидетельств нашей беспомощности, на которую обрекла врачей недостаточность средств».
Все видели, что атмосфера экзамена заметно смягчилась. Это был тот момент, когда экзаменатора увлекают собственные мысли, упоение собственной эрудицией и умом, и в дальнейшем опросе он уже только ищет повод, чтобы лишний раз их продемонстрировать. Когда Агнеш со свежей, еще не просохшей записью в открытой зачетке шла к последним рядам, коллеги бросали на нее благодарные взгляды. Следующий студент ответил молниеносно. Розенталю он, видимо, не внушал симпатии: что-то было в лице у студента, говорившее о его принадлежности к «пробуждающимся». Экзаменатор, приняв к сведению, что тот материал знает, отпустил его. Мария в это время должна была прослушать больного плевритом. Однако, воодушевленная успехом Агнеш и несомая собственным бесшабашным нынешним настроением, она вдруг сказала: «Извините, господин ассистент, мне по случайности известно, что я должна услышать у этого больного в груди: сухие, похожие на скрип снега, плевральные хрипы; только, признаться, я ничего такого не слышу». Розенталь, сдвинув брови, с минуту смотрел на улыбающуюся студентку, которая вела себя так, словно была немного пьяна; видимо, он старался понять, намеренно ли она дерзит ему, или атмосфера в аудитории так на нее повлияла, заразив некоторым безрассудством. «А вы не боитесь, милая барышня, — спросил он затем, — что вас постигнет участь девицы из сказки и на вас прольется не золотой, а смоляной дождь?» Коллеги, знавшие сказку про Холле, одобрительно засмеялись; Мария была, однако, не в том состоянии, чтобы понять шутливый намек и скрытое в нем сравнение между своим выступлением и ответом Агнеш. «Может быть, потому что я в стетоскопе слышу только, как стучит мое собственное сердце», — добавила она, перед поднятыми бровями тут же переходя в отступление и возвращаясь к своему обычному поведению. Розенталь послушал больного. «Ваше сердце, оказывается, право: шум трения плевры исчез почти полностью». Потом он спросил Марию одну относительно редкую, недавно открытую болезнь и, видя, что студентка относится к числу тех, кто зазубривает все подряд, с занесенным над зачеткой пером опять повернулся к группе, чтобы продолжить свои мысли: «Скажу вам, юные мои коллеги, где в диагностике спрятан обман. Например, говорят: у такой-то болезни такие-то три кардинальных симптома. Бедняга студент посмотрит, послушает — уж я-то знаю, на себе испытал — и чувствует, что осмотр дает ему не три, а тридцать или даже триста размытых, неясных сведений о больном: и степень потливости, и какого запаха пот, и какой рисунок на влажной коже оставляют складки рубашки, и не синие ли у него губы, и как движется при дыхании грудь… Пока это он научится из этих трехсот выбирать три симптома, по которым можно поставить диагноз… На остальные же закрывать глаза, делать органы чувств невосприимчивыми к ним… Вот тут он, обман, и спрятан! Потому что на самом деле и мы не закрываем на них глаза, мы тоже воспринимаем все триста симптомов, они в нас сливаются воедино — хотя и не в стуке собственного сердца, — складываются пускай не здесь (показал он себе на лоб), а где-нибудь ниже (тут он приложил руку к животу) и в сопоставлении с сотнями других виденных болезней превращаются в диагноз или хотя бы в подозрение на болезнь. Потом начинаются поиски доказательств, проверка, перепроверка, выявление тех трех симптомов, на основе которых я и могу поставить диагноз или, может быть, отбросить его. Вот почему мы не хотим замечать, когда служитель или сам больной (тут он взглянул на Агнеш) подскажет бедняге студенту, что у него за недуг. Просто невозможно представить себе, чтобы то, над чем мы, бывает, ломаем головы по нескольку дней, несчастный, чувствующий себя словно на эшафоте, слышащий только биение своего сердца, угадал, при своей вопиющей неопытности, прямо на наших глазах».
Ничто так не импонирует студенту, как признание преподавателя, что от него — от студента — требуют невозможного. Так что на следующих экзаменах Розенталю в интересах дела приходилось уже показывать, чего, собственно говоря, можно требовать от студентов. Нынешний же экзамен перешел постепенно в дружескую беседу, что пришлось по душе не только студентам, но и экзаменатору, которому (хотя он никогда не показывал, что замечает барьер, который распространившийся в последние годы антисемитизм возводил между ним и отдельными его слушателями) не только как педагогу приятно было, что он смог покорить эту группу молодых людей… После экзамена возбужденные медики высыпали из дверей под стеклянным козырьком в сад клиники. Мария держала Агнеш под руку, с прежней дружеской теплотой прижимая свое широкое колыхающееся бедро к бедру Агнеш. «Ты была просто великолепна, — сказала она с искренним восхищением. — Я думала, он меня выгонит за мою наглость…» Марию ждали в саду Ветеши и Адель, а с ними еще один смуглый, словно цыган, коллега, который шесть лет потерял на фронте и в плену, и в выбритом до синевы лице его, в снисходительно-ласковом тоне, в каком он обращался к женщинам, были словно написаны шесть лет превосходства. «Ребята, это надо отметить, — заявила Мария. — Всех приглашаю в кондитерскую и угощаю тортом. А ты опять удрать норовишь? — прикрикнула она на Агнеш, словно это та была виновата в происшедшей между ними размолвке. — Ты-то больше всех заслужила награду. Тебе двойная порция полагается, да еще ореховая подковка. Агнеш у нас герой дня», — повернулась Мария прямо к Ветеши. Агнеш одним взглядом схватила взволнованное лицо Марии, в котором словно раскрылись, наполнились кровью скрытые капилляры, отчего одутловатость его превратилась в нежную припухлость, и профиль Ветеши, ястребиная жесткость которого вдруг смягчилась, когда он взглянул на Марию, ласково-снисходительной улыбкой. Не оставалось сомнений: эти двое уже прошли через то, о чем Агнеш — пусть она чуть ли не каждый день видит органы, выполняющие соответствующие функции, и знает расположение ведающих соответствующими ощущениями зон, знает, как и какие ведут к ним нервы, — все еще думает с неким бессознательным ужасом, как старики о другом переломном моменте — о смерти.
В маленькой, вовсе не блещущей чистотой кондитерской на улице Юллёи разговор за тортом свелся, конечно, к впечатлениям об экзамене. (Мужчины вместо торта заказали себе, на собственный счет, по стопочке коньяку.) Здесь Мария уже чуть-чуть сбавила свой восторг подвигом Агнеш, зато собственную бесшабашную лихость характеризовала такими определениями, которые — если все было так, как думала Агнеш, — Ветеши должен был воспринять как тайные знаки преклонения перед ним. Потом речь зашла об откровениях Розенталя. «Терапевты, те, что поумней, прекрасно знают, что они всего только шарлатаны», — заметил Ветеши, который, как будущий хирург, — причем нейрохирург — с презрением относился к другим областям медицины. Адель — отчасти чтобы его поддразнить, отчасти же потому, что в самом деле готовилась в терапевты, — слегка жеманным, но вызывающим тоном заявила, что только одну терапию и можно, собственно, считать в медицине наукой, а все остальное — не более чем ремесло, вроде того, чем занимаются закройщики. Разгорелся обычный медицинско-хирургический спор о преимуществах той или иной специальности. Хирургию — вместо укрывшегося за снисходительной улыбкой Ветеши — яростно защищала Мария. Защищала не только ради того, чтобы угодить Ветеши: летом, в родном своем городе, где служил провизором ее отец, она несколько дней, надев белый халат, проходила врачебную практику в отделении друга их семьи, хирурга, и ей даже разрешили вскрыть один-два фурункула и панариций. То, что она, при некоторой поддержке, оказалась способна проделать эти столь чуждые ее натуре операции, пробудило в ней такое воодушевление, что прежний выбор ее, педиатрия, оказался в опасности. Пример Веребея и Ветеши, а особенно нынешнее необычное душевное состояние превратили ее в фанатического приверженца хирургии; можно было подумать, что она уже девочкой целыми днями занималась не вышиванием крестиком, а наложением лигатур. «Вы просто не устаете нас удивлять, — с хитроватой улыбкой сказал бывалый студент, кавалер Адель. — Когда я впервые увидел вас — вы с Адель гуляли, — я ее спросил: откуда у нее подруга-филологиня. Простите меня, но вы даже книги носите, как филологи. Кстати, зачем вам столько книжек?.. А теперь выясняется: вы не учительницей, не библиотекаршей хотите стать, а хирургом». В иной ситуации Мария обиделась бы, что ее принимали за филологиню: это можно было воспринять как намек, что в ней мало женственности. Однако сейчас она находилась в самом начале таких счастливых, не поддающихся предвидению метаморфоз, что лишь загадочно и высокомерно улыбалась в ответ. «Знаете, что я скажу вам, Элек? Я не только вас — я сама себя удивляю». Теперь коллега принялся рассуждать — скорее всего чтобы подзадорить девушек — о том, может ли женщина быть хирургом. И Мария с неожиданной быстротой преодолела дистанцию от требующей мужских нервов, напряженной, ответственной работы хирурга до права женщин на равных участвовать в любом труде, делить любую ответственность. «Ты так говоришь, Мария, — перебила ее Адель, — будто собираешься прожить жизнь в одиночестве, посвятив ее одной лишь работе». — «Если мне так захочется, то почему бы и нет», — с вызовом ответила Мария. Бывалый коллега, который и до этого время от времени бросал пытливый взгляд на Агнеш, не спеша отламывающую по кусочку от своей ореховой подковки, попытался втянуть в спор и ее. «Ну, а вы, барышня, за кого? За терапевтов или хирургов?» — «О, пока я была бы счастлива, — ответила искренне Агнеш, — если бы после экзаменов почувствовала, что могу стать врачом». — «Не прибедняйся, пожалуйста, — накинулись на нее и Адель и Мария. — Тихая, тихая, а всех обскачет».
Разговор в темной кондитерской становился все жарче. Девушка-официантка, у которой в этот час дел было немного, тоже подошла к столику и встала у них за спинами. Сначала она улыбалась, потом смеялась, а когда речь зашла о равноправии женщин, и сама стала подавать реплики; Агнеш держалась пассивно, лишь изредка улыбаясь и вставляя два-три слова, и с интересом следила за Марией. «Что за глупое существо эта Мария! — подвела она про себя итог, скорее с грустью уже, чем с завистью. — Охотнее всего, наверное, она бы вскочила на столик и закричала: «Знайте, знайте все — я, Мария Инце, начала половую жизнь! И посмотрите, какой у меня партнер». Она бы хоть перед Ветеши скрывала, приглушала чуть-чуть свое счастье — пусть оно светилось бы у нее в глазах, а не рвалось с губ! Но волна гормонов или что-то там еще, пробужденное Ветеши и половодьем заполонившее ее мозг, но, пожалуй, в еще большей степени — сознание, что она причастна теперь к тому, о чем до сих пор лишь читала в книгах, — все это опьянило ее, изменило взгляды на мир и, что самое страшное, представление о себе, тот мысленный автопортрет, который каждый человек носит в себе; теперь она была совсем не той девушкой с походкой враскачку и лицом, в котором было что-то от гусыни, не филологиней, случайно попавшей в медички, как отозвался о ней видавший виды коллега, а врачом-хирургом, может быть — кто знает! — первой женщиной приват-доцентом, которая в перерыве меж двумя операциями назначает свидания в своей холостяцкой квартире широкоплечим, спортивного вида молодым людям или профессорам, напоминающим Ветеши, а после свидания встает с собранными для лапаротомии нервами и, провожаемая восторженными взглядами, шествует в свою операционную… И при этом она понятия не имеет о тех тайных силовых линиях, что возникают за этим столиком. Она даже былую свою ревнивость утратила, словно то, через что они вдвоем прошли и чем просто нельзя не похвалиться, поместило их в некий магический круг, непреодолимый для посторонних. Агнеш время от времени бросала тайком изучающий взгляд и на Ветеши, чей рот, с жесткой складкой губ, умеющих целовать так расчетливо, сейчас был расслабленно молчалив в снисходительно-отстраненной улыбке. Улыбку эту можно было анализировать, подобно какому-нибудь многокатионному препарату. Компонент первый: я — мужчина, мужчине же в любых обстоятельствах подобает хранить спокойствие. Компонент второй: конечно же, я понимаю, откуда эти хмельные речи, весь этот обвал мировоззрения. Третий: жаль, что субъект этого преклонения — не какая-нибудь иная, менее доступная, более подходящая ему женщина. Четвертый: лениво-небрежное воспоминание о том, что так взбудоражило Марию. Пятый, как закономерный вывод из предыдущего: необходима новая жертва. Агнеш заметила, как он, соблюдая предосторожность в отношении Марии и видавшего виды коллеги, бросает реплики Адели: было в этом если и не сообщничество еще, то готовность к нему. Да и на нее, Агнеш, он раза два бросил угрюмый, чуть ли не враждебный взгляд: мол, ты-то чего упрямишься? Даже официантку, которая время от времени с доброжелательным любопытством посматривала на него, он держал в поле зрения; когда он обернулся к ней за новой порцией коньяка, в их обращенных друг к другу улыбках словно блеснул возникший меж ними электрический ток. Бедняжка Мария, как жестоко она поплатится вскоре за эти минуты самоуверенного, слепого, глупого счастья, в которое ей удалось окунуться, как рыбе — в напоенный солнцем воздух! Как неминуемо из эмансипированной дамы-хирурга превратится она опять в скромную филологиню, а то и в незаметную белошвейку, чье сердце, как в опыте на собаке — раздражаемый нерв, готово будет вот-вот замереть и остановиться от боли! До чего безжалостна все-таки жизнь, если за все надо платить так дорого!.. И когда Мария в порыве душевной щедрости вспомнила про ее отца и, обернувшись к ней, но играя скорее для Ветеши, забросала ее вопросами, Агнеш подумала про свою мать: может быть, и она со своей изголодавшейся по рыцарству, по красивой любви жизнью тоже не более чем такая вот заслуживающая лишь жалости Мария, которая точно так же получит от своего куда более карикатурного, вовсе не подходящего ей Ветеши лишь счет, по которому ей придется оплачивать свою вину перед отцом. Увлеченная этой аналогией, она бросила на Ветеши такой горящий яростью взгляд, что тот, поймав его, вскинул голову почти с надеждой, почуяв намек на борьбу, на душевный разлад. «Совсем позабыла, — встала в ту же минуту Агнеш, — мне еще надо в дерматологию забежать». — «В дерматологию? Да не может быть», — изумленно взглянул на нее (собравшись обыграть ассоциацию, но в тот же момент, из уважения к ней, отказавшись от этой затеи) видавший виды коллега. «Знакомый один просил отметить ему зачетку», — протянула руку, прощаясь, Агнеш, не успев даже понять, чему смеются остальные.
На другой день, когда она, сидя в пустой квартире, — натоплено было только в спальне — готовилась к фармакологии и для сравнения, чтобы как-нибудь развести их в памяти, писала на листке бумаги схемы различных пуриновых оснований, в дверь позвонил какой-то мужчина. «С вокзала меня прислали… Насчет кровати», — сказал он. Агнеш смотрела на него непонимающе и без всякого дружелюбия. Сказать, что тут какая-то ошибка, она не могла. Вокзал — это их вокзал, и прислать человека оттуда вполне могли. «Я ничего об этом не знаю», — ответила она сухо. Но мужчина вошел и через открытую дверь бросил взгляд в спальню. «Насчет столярной работы какой-то. Столяр я, — сказал он и, словно почуяв, где его ждет работа, обошел Агнеш и двинулся в спальню. — Видать, это они и есть», — объявил он, войдя туда, и принялся изучать большие, с деревянной резьбой кровати. В том, как он держался, было столько серьезного достоинства и уверенности, что Агнеш — хотя посетитель пришел всего лишь с вокзала — включила свет. Человек подошел к кроватям и встал, словно показывая, что не намерен в чужой квартире расхаживать зря. Взглядом он изучил все детали сдвинутых кроватей: резные украшения в головах, точеных драконов на ножках; палец его, желтый от политуры, лишь два-три раза постучал по деревянным частям. «Нынче такое дерево о-го-го сколько стоит. Орех нынче не достанешь, — сказал он убедительно. Потом еще раз наклонился к ножкам. — Ладно, я все посмотрел. Скажете, барышня, вашей сестре, что я буду утром, часов в восемь-девять. Вообще-то я свободен, — выходя, дружелюбно обернулся он к Агнеш, — да дома, в Пештэржебете, есть у меня дело: поросенок у нас, и жена все ругается, говорит, разнесет он хлев скоро». И ушел, серьезно и уважительно закрыв за собой дверь. «Это еще что значит?» — подумала Агнеш. Но почувствовала, что если намерена сохранить в голове различие между кофеином и теофиллином, то не должна сейчас ни о чем больше думать. И настолько погрузилась в фармакологию, что, когда пришла мать, даже забыла ей рассказать о странном визите.
Однако назавтра, вернувшись домой с экзамена, она застала не только спальню, но и столовую в полном разгроме. Обе кровати разобраны, две кухонные табуретки использованы в качестве верстака, под окном — банки с краской, на полу — рубанок и стружки. Мать советовалась со вчерашним мужчиной, чью профессию нынче демонстрировали зеленый передник в масляных пятнах и рубаха с закатанными рукавами; отец же, недавно вернувшийся от протезиста, смотрел на разгром и щупал прислоненную к косяку тяжелую кроватную спинку. «Это что такое?» — изумленно взглянула на отца Агнеш. «Да вот, говорят, рекамье. Мамуля сказала, теперь все на рекамье спят. Не хочет терпеть в квартире такую старую рухлядь…» Он сказал это осторожно, как человек, который и не такие изменения видывал в своей жизни и потому не считает разумным выражать недовольство, но в том, как он трогал и гладил оставшуюся спинку (вторая, уже распиленная пополам, лежала на табуретке), чувствовалось: насильственную его улыбку омрачает не только уничтожение старого друга. «Более срочного дела у нас не нашлось?» — вырвалась досада Агнеш сквозь ту щель, что оставили ей присутствие постороннего и необходимость щадить самолюбие отца. «Конечно, буду я терпеть эту старую развалину», — тут же отозвалась госпожа Кертес, которая до сего момента будто бы не замечала возвращения дочери, с головой уйдя, как в счастливо подвернувшееся укрытие, в профессиональный разговор с мастером. Она, должно быть, и сама чувствовала, что разборка старой семейной кровати в сложившейся ситуации выглядела не просто как одна из обычных перестановок в квартире, без которых и до войны не проходило ни одного года, — сейчас это носило символический смысл, и, вероятно, с того момента, как ножовка врезалась в давний, за четверть века ставший таким привычным предмет, она боролась с некоторыми угрызениями совести. Но теперь, когда прозвучали первые слова несогласия, угрызения совести мгновенно перешли в агрессивность, и, зная, что посторонний свидетель вынудит Агнеш молчать, госпожа Кертес сама перешла в наступление: «Сейчас такие гробы уже вообще не делают. Занимает полкомнаты, ни повернуться, ни встать, ни сесть. А рекамье — его можно к стене подвинуть, и сидеть на нем можно днем. А все эти финтифлюшки!.. Супружеская кровать!.. Чтобы даже ночью покоя тебе не было… А ты на том допотопном сооружении, где повернуться нельзя, чтобы тарелки не загремели над головой…» Эта последняя фраза, которой она хотела привлечь Агнеш на свою сторону, напугала ее самое. Если второе рекамье предназначено Агнеш, то где будет спать муж? Вырвавшиеся слова осветили ее планы гораздо лучше, чем она сама того хотела. В квартире повисла мертвая тишина. Агнеш с отцом удалились в столовую. Кертес, стоя возле обеденного стола, с устремленными вдаль, но ничего не видящими, словно пленкой подернутыми глазами, которые так напоминали тюкрёшского дедушку в моменты раздумья, вспоминал, как они покупали мебель: «Помню, я еще в женихах ходил, когда мы в Сатмар[92] поехали. Хозяин наш, Доби, сам столяром был. Он и пошел мебель со мной выбирать. Кредит мы выплачивали два года, по двадцать форинтов в месяц». — «Это тоже не так все было. Отец мой дал ему пятьсот форинтов на мебель», — сказала в другой комнате госпожа Кертес столяру. «Да, меняются времена, — резюмировал столяр, прежде чем возобновить заглушающую все звуки работу рубанком. — Такие солидные вещи выходят нынче из моды».
На ночь квартира превратилась, как обычно говаривала госпожа Кертес, в бивак: кровати, распиленные, лишенные резных украшений, стояли в столовой и в спальне. Однако госпожа Кертес, не выражая ни малейшего недовольства, улеглась на разложенной на полу постели, Кертесу же в столовой поставили раскладушку, растянутую и расшатанную телами когда-то жившей у них родни и прислуги. Лишь Агнеш осталась на прежнем месте, между швейцарскими пейзажами на медных тарелках и приблизившимся отцовским храпом. До сих пор непонятная стыдливость мешала ей задумываться о том, что же, собственно, произошло в супружеской орехового дерева кровати. В ту первую ночь, когда усталый, потрепанный жизнью человек, лишенный сибирского своего френча, впервые лег рядом с женой в старую кровать, женская солидарность ненадолго словно бы отодвинула в Агнеш на задний план уважение и любовь к отцу. Однако с тех пор — может быть, отчасти из чувства самозащиты — она не позволяла себе размышлять над этим. Если она собиралась быть в этом деле адвокатом отца, то ей никак нельзя было позволить себе вжиться в чувства, владеющие матерью. Однако теперь и эта разобранная на части кровать, и так ее поразившее два дня назад хмельное счастье в глазах Марии заставили ее обратиться (пускай, может быть, не разумом, скорее воображением тела) к тому наполовину знакомому чувству, что способно так изменить, перевернуть все существо женщины. Утрата Марией самоконтроля и протест матери против своего долга перед мужем — протест, который, как неожиданный взрыв, разбросал в квартире старую мебель, — в сущности, различались лишь знаком. Агнеш, конечно, не знала, да до сего дня и гадать не пыталась, были ли мать с отцом после его возвращения в полном смысле слова супругами. В подобострастной улыбке отца чудилась какая-то униженная мольба; ответом на нее было непримиримое, яростное сопротивление матери. Причем ведь, если только тут не шла речь о болезни, со стороны отца просто было бы — в понимании взрослых — невежливо, если бы он и не делал попыток добиться близости. Отказ же со стороны матери был равносилен признанию. Собственно говоря, куда было бы лучше — с этой точки зрения, по крайней мере, — если б отец вернулся домой совсем больным или если кто-нибудь из родственников-мужчин — например, тот же дядя Тони — намекнул отцу, что таких попыток не стоит предпринимать, чтобы не подвергнуть себя унизительному и невыгодному сравнению. Пускай выждет, восстановит здоровье, а жена пускай пройдет пока самую бурную фазу своего увлечения. Но разве можно такое советовать человеку? Вообще, может ли отец прийти в норму настолько, чтобы вступить в поединок даже с памятью об этой поздней любви? Да и любила ли его когда-нибудь мать? Была ли с ним близка когда-нибудь так, как Мария с Ветеши? С Лацковичем — была: ее размягченное, счастливое лицо, внушавшее такое отвращение Агнеш, скрывало — пусть не в столь грубой форме — то же самое, что и лицо Марии. Ну а с отцом? Агнеш помнила, что когда-то они находили радость, играя, шутя друг с другом. От дяди Кароя осталось в наследство, кроме всего прочего, кресло-качалка; новый и непривычный предмет какое-то время весьма занимал Агнеш. Однажды она подсмотрела, как мать в этом кресле сидела у отца на коленях и они гладили, ласкали друг друга. Но этот случай и запомнился, видимо, потому, что очень уж он был необычным. В детстве она спала на доске, положенной между — теперь распиленными — кроватями. Тогда, конечно, ей это казалось естественным. Однако сейчас ее и это заставило задуматься: не странно ли, что молодые супруги между собой кладут спать ребенка? Нет, решительно, мать, насколько Агнеш может вспомнить, никогда не любила отца так, как должна была бы, по представлениям дочери, его любить. Вероятно, эта непонятная, неистовая, почти на грани невроза неприязнь к отцу и стала причиной ее окончательного отчуждения. В молодые годы, конечно, и на нее порой находило желание поиграть, и она играла — с тем, кто был ей для этого дан судьбой. Но если то, к чему приобщилась недавно Мария, матери было дано узнать лишь в сорокалетнем возрасте, с этим хондродистрофическим кавалером?.. Какой удар означало для нее, в таком случае, возвращение «маразматика» мужа! И его право на вторую кровать, где до сих пор спала ее дочь. Конечно, она должна была бы отказаться от того, другого — таков закон. Но если этот поздний расцвет был так сладок!.. Тогда все-таки не инстинктивный ли это протест чистоты, которая не способна терпеть, раз в неделю или раз в месяц, постыдную близость, такой ценой добиваясь покоя, и поэтому цепляется за любой повод — сначала это храп, потом переделка мебели, — чтобы избавиться от невыносимого соседства, от ужасного сожительства с двумя мужчинами?.. Но раз это так, подумала она позже, еще раз разбуженная незаконченной мыслью, то не в том ли мой долг, чтобы увести отсюда отца? Оправдания люди находят и для убийства. Если вживаться во все, что видишь вокруг, пытаться вникать в побуждения, которые движут другими людьми, то, конечно, можно все на свете понять и простить. Поэтому-то и хорошо, что есть абсолютные, общие для любого законы — мораль или просто человечность; и то, что мать не способна им подчиняться, явно предписывает ей, дочери, что она должна делать.
Беспорядок на некоторое время стал постоянным. У столяра только тот, первый день был свободным, потом он мог забегать лишь на два-три часа по вечерам; когда же пришло время колоть поросенка, он на целых три дня оказался занят своими делами. Между тем в доме появился еще и обойщик, который должен был обтянуть матрацы каким-то красным сукном. Этот уже прямо сказал, что послан сюда господином Лацковичем; госпожа Кертес тоже, как выяснилось, знала, что у обойщика золотые руки, только деньги ему нельзя давать: пропьет; за деньгами должна была прийти его жена. Госпожа Кертес отдала ему на несколько дней матрац с одной из кроватей и, скрывая волнение, ждала, не пропьет ли он и его. В иных условиях ситуация эта довела бы ее до безумия: табуретки, стоящие тут и там в комнатах, запах столярного клея в кухне, краска, которая каплет — или может капнуть — на паркет; однако теперь, когда за всем этим как устроитель и дирижер стоял Лацкович, она не смела быть недовольной, даже упорно твердила себе, что сама она никогда не смогла бы вот так, из ничего, организовать всю эту переделку. Рубанки и кисти, принадлежащие столяру, она берегла как зеницу ока, обходя их стороной, и даже достала — очевидно, из того же источника, что и мастеровых, — целую плетеную бутыль шолтвадкертского вина, чтобы столяр чувствовал себя как можно лучше. Постепенно две старые кровати орехового дерева претерпевали трансформацию, превращаясь в ужасные, красного цвета ящики; одновременно появился план: ради единства стиля и шкафы в спальне, одежный и бельевой, переделать в такие же гладкие красные ящики. Кертес, как бывший военнопленный, много чего повидавший в жизни, лишь смиренно взирал на все эти пертурбации; он не был бы истинным мудрецом, если бы сейчас, спустя семь лет, вздумал бунтовать против новых испытаний судьбы и, после жестких тюремных нар с клопами, жаловался на раскладушку. Поскольку он всегда любил побеседовать о том о сем с попадавшими в дом мастерами, он и теперь вставал рядом со столяром, угощал его табачком (в плену он привык к махорке и теперь называл махоркой листовой табак) и скоро с ним подружился. Столяр в плену не бывал, зато участвовал в польском походе; оба, как оказалось, служили кавалеристами в армии генерала Данкля, а во время люблинского отступления полки их занимали позиции по разные стороны одного и того же леса. Кертес нарисовал даже план леса, показав, где находились гонведы, а где повстанцы тридцать второй дивизии, в каком направлении были Красник и Раварушка и как зашли им в тыл русские.
Незадолго до рождества случилось событие, заслуживающее внимания даже на фоне нервного ожидания красных матрацев, облегченных вздохов после их появления, споров насчет оплаты с обойщиком (еще два экзамена, сданные Агнеш, остались в условиях чрезвычайного положения почти незамеченными): у Кертеса появился ученик. Однажды он пришел домой поздно вечером, уже после того, как мастер, завернув свой рубанок в зеленый фартук, положил его в отведенное для этого место; торопливость, с какой отец снял в передней пальто и вошел в комнату, заставила Агнеш поднять глаза на его жилет: неужто опять у него что-нибудь украли; пришел он точно так же, как в тот раз, только выражение лица у него было совсем другое. «Как вы думаете, мамуля, откуда я иду?» — обратился он к жене, которая терла резинкой на обеденном столе какую-то выкройку. Естественным ответом на фамильярный, даже дерзкий вопрос, который только усугубляло вернувшееся из прошлого обращение «мамуля», должно было быть неприязненное «откуда мне знать?» или «мне-то какое дело!»; в сияющем лице Кертеса было, однако, что-то от той торжественности и сдержанной гордости, которые госпоже Кертес были знакомы по прежним временам, когда муж приносил хорошие вести. «Скажете — тогда я узнаю». — «От ученика». — «Я уж решила, от Хорти… с такой помпой». Но голос ее и лицо лишь отчасти соответствовали пренебрежительному тону. Агнеш (хотя она и считала позорным, что отца, едва месяц спустя после его возвращения, уже запрягли в репетиторство) почувствовала, что должна выразить восторг, соответствующий гордости отца. «И вы уже у него были? Кто вам его устроил? Гиршик? И чему надо его учить?» — задавала она торопливо, один за другим вопросы, чтобы живым своим интересом подчеркнуть значение новости и, если удастся, заразить и мать своей радостью. Ученика устроил отцу не Гиршик, а другой, молодой коллега, как выяснилось из описания, как раз тот, который на именинах так часто косился на Агнеш. Отец каждые три-четыре дня из Попечительского ведомства заходил в школу. И вот сегодня тот молодой коллега сразу отвел его в сторону: «Господин учитель… есть ученик. Сын дамского закройщика, единственное дитя, в пятом по трем предметам переэкзаменовка». То, что отец ученика — портной, госпоже Кертес не очень понравилось. «Наверняка какой-нибудь нищий, иначе бы вам его не подсунули». Кертес, однако, стал закройщика защищать. «Работает в магазине, в центре, на положении негласного компаньона, с прибыли получает проценты. Семья выглядит очень солидной, самостоятельной. Угостили меня прекрасным кофе с молоком и ромовой бабой». Госпожу Кертес больше интересовал гонорар. «Тут мы пока до конца не договорились. Будет зависеть от того, сколько потребуется занятий». И он назвал примерную сумму, близкую месячному заработку в гимназии; однако госпожа Кертес лишь презрительно скривила губы: «Детей банковских директоров они, конечно, себе придерживают». — «И каким же предметам надо его учить?» — отвела Агнеш разговор от темы денег, одновременно давая понять, что ее больше всего беспокоит. «Двум языкам, но с этим трудностей у меня не будет. Вот с математикой… Коллега Гиршик сказал, если что у меня не пойдет, он поможет. Хорошо, что каникулы начинаются: я за это время успею немного подготовиться». — «И как нынешний урок, хорошо прошел?» — спросила Агнеш, пытаясь за объяснениями отца представить себе всю картину: с мамашей, подающей ромовую бабу, с заставленной манекенами комнатой, с прячущим глаза оболтусом пятиклассником. «Мне показалось, мальчик он вовсе не глупый, только очень запущенный. Я его основательно выспросил. Пришел я к ним в пять, а когда уходил, часы на Сенной площади показывали полдевятого». — «Хорошо начинаете, — заметила госпожа Кертес, собирая со стола выкройку. — На вас все ездят, кому не лень». Кертес взглянул на нее, улыбаясь: жена хоть тут на его стороне, это уже кое-что. И поскольку она, предпочтя не увидеть его улыбки, ушла в спальню, он обернулся к Агнеш и показал ей бумажку с десятью — двенадцатью примерами — заданием на рождественские каникулы: кубический корень, возведение в отрицательную степень, дробная степень. «Ну-ка, ну-ка, посмотрим, — села рядом с ним Агнеш, — помню ли я что-нибудь». И словно поднятой со дна озера затонувшей барже, радовалась всплывающим со дна памяти правилам извлечения корня и возведения в степень. С тех пор как отец вернулся из плена, они никогда еще не сидели вот так, в доверительной близости, как сейчас, далеко за полночь, над примерами закройщикова сына.
Несколько дней, оставшихся до рождества, Агнеш провела, слоняясь вокруг университета. Большая часть студентов разъехалась; столовая и библиотека открыты были лишь для того, чтобы иногородние студенты, особенно из Эрдея и Верхней Венгрии, у которых не было в столице родни, могли где-то поесть и согреться. Дома Агнеш была ровно столько, сколько необходимо. Университет, словно мельница, на которой вдруг перестали молоть зерно, в эти дни превратился в пустынное странное место, где гулко звучали шаги редких посетителей в коридорах. Агнеш проводила время в бесцельных разговорах, в изучении объявлений на доске; в полупустой столовой вступала в разговоры с коллегами, которых едва знала в лицо; в библиотеке почти наугад брала книги, в том числе и такие, которые ей понадобятся только на старших курсах: «Душевные болезни» Моравчика, «Судебную медицину» Кенереша[93], даже труды Корани, который, словно далекий горный пик, окутанный загадочной дымкой недоступности, возвышался среди других терапевтов, чью премудрость третьекурсники уже способны были постичь. О, если бы медицина представляла собой такую вот библиотечную полку, ну, пускай бы еще демонстрации больных, а ты бы читал, смотрел, складывал в памяти семьдесят килограммов тканей, всю систему и все сюрпризы, которые вместе и составляют человеческое тело; даже экзамены можно было бы как-нибудь вытерпеть, ладно. Но как все это станет практикой? Как связать все, что здесь дают ей, с тем, что, собственно, представляет собой она? Вот Иван Ветеши — тут как-то сразу веришь, что он будет хорошим хирургом. В этом убеждают и его манера держаться, и спокойный, оценивающий взгляд, и быстрота движений, и даже та самоуверенность, которая так ее возмущает. Или Халми! Если он выпишет больному рецепт, то за этим рецептом будут стоять, как стена, все его знания, собранные, впитанные с неумолимым упорством. Та… ограниченность, что ли, которую другие коллеги, например тот же Ветеши, сразу в нем замечают, будет ему лишь помогать в практике. Даже думая о Марии, Агнеш могла представить ее, ну, не хирургом, а, скажем, педиатром, этаким раздувшимся от восторженности и тщеславия воздушным шариком, который, излучая великодушие, плывет вдоль своего отделения… Но где в ней, в Агнеш, те способности, те добродетели, которые ей помогут использовать, объединив их с верой в других и в себя, все обилие полученных знаний, море названий болезней и лекарств? Лучше, наверное, все же было бы пойти ей в искусствоведы! Вот и пример с отцом показывает, что она не способна правильно осмыслять и направлять течение болезни! Ибо ведь то, что происходит у них дома, — с ней, с родителями — тоже нечто вроде болезни, которая принимает все более тяжелую форму. Как старалась она смягчить, замедлить течение этой болезни! Но любое ее вмешательство оборачивалось неудачей, а иные шаги — например, тюкрёшское письмо — в чистом виде врачебные промахи. Даже доверия отца она не смогла завоевать. А что еще ждет ее впереди, каких ошибок она наделает в будущем!
Она была уверена уже: отец что-то подозревает. Однажды, готовясь уже к последнему своему экзамену, она невольно подслушала доносившийся из столовой его разговор со столяром. Незанятый — над учебником — слух ее потому, вероятно, и насторожился, что вопросы и ответы в соседней комнате стали вдруг тихими, осмотрительными; паузы на обдумывание чуть ли не каждого слова, осторожность высказываний — все это уже самим ритмом, необычной музыкой речи пробудило ее внимание, заставляя понять, что по крайней мере одному собеседнику разговор этот очень важен. Кертес расспрашивал мастера о его работе на станции: «И где же она находится, эта ремонтная мастерская? А с кем вы там работаете? А кто ими руководит? С охраной станции (там служил дядя Тони) вы ведь, поди, мало связаны?» — «Знать-то друг друга мы все знаем», — ответил столяр не с большей степенью осторожности, чем в прежних своих ответах. «А к нам, господин Кёви, вам кто порекомендовал прийти?» — спросил Кертес таким ласковым тоном, словно хотел узнать, кому он обязан счастьем, что так славно удалось побеседовать. Столяр ничего не ответил, и Кертес стал расспрашивать дальше: «Конечно, это шурин мой дал вам наш адрес?» Молчание мастера становилось уже неловким. Но врать он, видимо, не хотел. «Нет, меня господин Лацкович спросил, не могу ли я сходить к сестре начальника охраны». — «А вы у него в подчинении, господин Кёви?» — «Нет. Мы к нему как к инструктору на учебу ходили». — «А супруга моя? Вы с ней не были раньше знакомы?» — задал Кертес новый вопрос, чтобы проникнуть еще на шаг в темноту, которая для другого, может быть, совсем и не тьма. «Так, видел несколько раз…» Господин Кёви поменял доску, которую держал в руках, пошел туда, пошел обратно — словом, пытался каким-то образом прервать неприятный допрос. Разговор этот почти не оставил у Агнеш сомнений: столяр тоже чувствовал, куда гнет хозяин; да ведь и дядя Тони, когда они встретились на улице Кронпринца, сокрушался: вон и люди уже замечают, что сестра его шастает к этому молокососу на станцию… А через несколько дней Агнеш услышала от отца — речь зашла о попытках министра финансов Хегедюша[94] поправить дела венгерской кроны — замечание («Если крона перестанет падать, то погорит дядя Тони с его валютными операциями»), из которого поняла, что отец ездил к шурину. «Вы были у дяди Тони?» — спросила она. «Да, навестил. — И затем добавил, движимый не то откровенностью, не то примитивной неловкой хитростью прямодушных людей: — Кое-что разузнать хотел».
Но и ссоры между родителями (о которых оба они, каждый по-своему, докладывали Агнеш) показывали, что отец на выпады матери отвечает теперь куда резче, чем в первые дни, когда он жил как бы слегка пришибленный, да и в намеках его подозрения, а в раздраженных ответах матери — признание справедливости подозрений звучали все более неприкрыто… «С мамулей мы крупно сегодня поцапались, — сообщил он однажды вечером с улыбкой, в которой сплав философского взгляда на вещи, обиды и нервного напряжения явно сдвинулся к более неустойчивому и текучему состоянию. — В конце концов, она больше мне ничего и сказать не могла, кроме как посоветовать перебраться к тете Фриде». — «К тете Фриде? — изумленно переспросила Агнеш, чувствуя себя почти виноватой, как будто вынашиваемый ею план каким-то образом и вынудил мать сказать такое. — А что у вас случилось?» — смотрела она на отца так же изучающе, как он недавно — на столяра. И чтоб именно к тете Фриде!.. «Я ей новость хотел сообщить, что Попечительское ведомство меня отпускает с миром. Завтра будет готов протез. Пишта Алмер дал мне несколько талонов на ванны и поздравил с полной поправкой; после рождества, если хочу, могу заступать на работу. А она мне на это: «Только я еду готовить не стану! Никаких вам обедов дома. Если Агнеш может ходить в столовую…» Ну, тут уж и я разозлился немного. Ведь я и до сих пор обедал там только благодаря хорошему отношению Пишты Алмера. Да и то стыдно немного было: как-никак у меня семья, а я соглашаюсь у них питаться. «Где же мне, говорю, обедать-то? У господа бога, что ли? Студенческой столовой у меня нету, а для беспризорных мужей власти столовых не держат». — «Берите, говорит, комплексные обеды. Вон у Западного вокзала столовая открывается. Я-то, например, где обедаю?» — «Ну, говорю, этого я не знаю. Но что где-то обедаете, сомнений нет, исхудавшей вы, говорю, не выглядите…» Ну и так далее, пока она наконец не заявила: «Лучше всего, если вы совсем переселитесь к тете Фриде. Она и готовить будет на вас».
Агнеш сделала из этого рассказа вывод: мать видит решение там же, где и она, Агнеш, только мать не подозревает (иначе не предложила бы так легко), что вместе с отцом уйдет из дому и она. Но это будет самое справедливое, это будет наказание за жестокость. Отцу этот вполне, очевидно, разработанный план, раньше времени выболтанный (следствие материной натуры, принуждаемой к лицемерию, на которое она была мало способна), показался, конечно, обычным порожденным горячностью преувеличением. Нельзя же предположить всерьез, что он, глава семьи, после семи лет плена оказавшийся дома, будет в самом деле изгнан к тете Фриде!.. Новая ссора вспыхнула снова в связи с рекамье. Столяр хотел к рождеству получить свои деньги; торопясь закончить работу, он однажды пришел с утра и стал покрывать лаком сколоченные им ящики, вопрос об окончательном месте которых в квартире и о том, кто на них будет спать, уже витал, как предвестие новой бури, над грудами стружек. Когда Агнеш вернулась домой, злополучное рекамье стояло уже в кабинете, на месте плюшевого расшатанного дивана, спинка которого еще громоздилась в прихожей, а нижняя часть выдворена была в каморку для прислуги вместо раскладушки, сама же раскладушка, застеленная покрывалом, обезобразила угол столовой, так что все три комнаты полностью потеряли свой прежний, привычный вид. «Маму я рассердил очень, — сказал Кертес, вместо ассимилированного из детского лексикона Агнеш «мамуля» впервые употребляя это новое слово. — Я, как увидел все это, спрашиваю: где же я спать буду, на раскладушке опять? Она на дыбы, конечно: дескать, а что, чем она вам плоха? Мы, говорит, ее для Бёжике покупали, когда она у нас жила. И вообще, говорит, аскет вроде вас, который все про плен вспоминает, не должен быть слишком разборчивым. Ну да, отвечаю я, по тому, как вы меня встретили, мне вообще место в комнате для прислуги. Там, по крайней мере, вы храп мой не будете слышать». — «Что вы, папа, зачем говорите такое! — с упавшим сердцем запротестовала Агнеш, которая в этом «вы» и «не будете» услышала множественное число. — На раскладушке, конечно, я буду спать». Неявное это, но ощутимое обвинение, в котором отец как бы объединял ее, Агнеш, с матерью, было столь неожиданным и несправедливым, что ей понадобились несколько минут, пока она не убедила себя (в конце концов, и не удивительно, если он считает, что мы заодно) относиться к его словам спокойнее. Однако отец и сам испугался, увидев, какая боль мелькнула в глазах у дочери. «В общем-то, мне и раскладушка сойдет… Только она как будто нарочно хочет этим меня унизить». Агнеш собралась с духом, решив безотлагательно поговорить с матерью; однако та опередила ее: «Я не знаю, как мне дальше отца твоего выносить. Теперь он на меня из-за раскладушки набросился. Чем она его не устраивает? Бёжике вон четыре года на ней спала». — «Незачем вам об этом с ним спорить, — сказала Агнеш, как и хотела, решительно, однако заботясь инстинктивно о том, чтобы опять не навлечь на отца ее гнев. — На раскладушке я буду спать». — «Вот еще! Как это — ты?» — возмущенно воскликнула мать. «Лучше, если кабинет целиком будет в его распоряжении. А мне подойдет и в столовой. Да и вам за двумя дверьми, может, храп его не будет так сильно мешать», — сказала Агнеш с холодной иронией, которая несколько охладила пыл госпожи Кертес, заставив ее лишь пожать плечами и что-то пробормотать. Словно это спокойное, но неумолимое лицо раскрыло и перед ней ту книгу, куда эта серьезная девушка, не согласная ни на сообщничество, ни на подкуп любовью, заносила ее жестокости, которым сама она — пока этот ставший чужим, ненавистным ей человек дышит с ней одним воздухом — уже не могла положить конец.
Подошло рождество. В канун сочельника госпожа Кертес, выбрав подходящий момент, устроила новую сцену. «Мама на меня очень сердита, — рассказывал Агнеш отец. — Речь как раз шла о подарке тебе. Я уж и не помню, что сказал, только она вдруг взвилась и заявила, что не желает в сочельник видеть мою недовольную физиономию». — «Да ведь мы же договорились, что на этот раз ничего не будем друг другу дарить», — удивилась Агнеш. Почему «взвилась» мать, она очень хорошо понимала. Госпожа Кертес не была мастерицей хранить секреты; Агнеш зачем-то полезла в шкаф — кажется, за полотенцем — и с полотенцем оттуда выпал завернутый в тонкую шелковистую бумагу сверток: тисненой кожи бумажник, первое произведение материных рук на курсах, куда она записалась недавно. Конечно, подарок нужно как-то вручить, а затем (или перед тем) где-нибудь пообедать. Забота о том, как урвать два-три часа от домашнего праздника, конечно, и заставила госпожу Кертес «взвиться», с поводом или без повода. (Агнеш не раз поражалась в матери этой наполовину или, может быть, на четверть осознанной готовности трансформировать то, чего она хочет добиться, в оскорбление или ошибку других.) Однако «замечание», сделанное отцом относительно приготовленного для нее, Агнеш, подарка: «На это у вас есть деньги?» — или: «Наверное, дорогая вещь?», немного даже ее укололо, матери же его оказалось достаточно, чтобы сдвинуть лавину попреков. Умом Агнеш, конечно, тут же подавила обиду. Если мать даже ее сердце способна настроить против отца, который ее почти, собственно, и не знает, то насколько ей легче пробудить ревность в нем: для этого нужно лишь постоянно ставить ее на первое место… Однако в последнее время она вела в своей душе некий беспощадный счет — и теперь с холодным интересом ожидала, как же все-таки будет мать осуществлять свой рождественский план.
Все случилось гораздо проще, чем она думала. Елочка была куплена за несколько дней до рождественских праздников. Госпожа Кертес внесла ее в спальню и поставила на обычное место, в угол. «Вот тебе украшения, — сказала она Агнеш, — я тут купила полкилограмма елочной карамели и несколько штук бенгальских огней. После обеда наряжайте с отцом: это ведь всегда было его любимое дело. Я точно не знаю, когда вернусь. Пустячок один Биндерам отнесу, безделушку из кожи. Пока я одна была, они всегда меня звали, приглашали; сейчас, конечно, тоже что-нибудь приготовили. Нехорошо не пойти…» В этом была доля правды. Госпожа Биндер, крестная мать Агнеш, была давняя материна подруга, они вместе ходили на курсы шитья, а теперь у нее хорошо идущая мелочная лавочка в Буде. Стало быть, вот оно, алиби… «Они нарочно пораньше свечи зажгут, чтобы я побыла с ними», — добавила госпожа Кертес, почти расчувствовавшись от такого великодушия… «Значит, между их свечами и нашими», — думала Агнеш, и в глазах ее, обращенных к матери, стоял все тот же холодный интерес. «Ужин — в кухне, винный суп ты сумеешь сделать. Смотри только, яйцо в холодный суп разбивай, иначе свернется». — «Тебя не ждать к ужину?» — спросила Агнеш, пряча свое возмущение под ледяной рассудительностью. «Нет. Ты же знаешь отца: в семь часов он уже в кухне топчется: подавай ему ужин. Если я до тех пор вырваться не смогу, покорми его. А это тебе, — сунула она в руки Агнеш какой-то сверток. — При отце я отдавать не хотела. Мы и так с ним из-за этого поругались».
Агнеш взяла сверток, но не развернула его, даже не поцеловала мать, лишь сказала «спасибо». Но что было куда более странно, мать не обиделась, не спросила: мол, ты что, даже взглянуть не хочешь? Она рада была, что это уже позади, и, стараясь избежать поводов для новых стычек, думала лишь о том, как бы теперь поскорее уйти. Курсируя между дверцей платяного шкафа, ванной комнатой и трюмо в столовой, она натягивала на себя одежду, как паруса, которые на несколько часов унесут ее в теплые воды счастья. От волнения и от спешки она тоже, вынимая из шкафа, уронила бумажник — «безделушку из кожи», как она его назвала (должно быть, она заметила, что стопка полотенец в шкафу потревожена, и вынуждена была сказать, что приготовила Биндерам подарок). На какой-то миг Агнеш почти пожалела мать с наивными, прозрачными ее хитростями. Если б она любила мать по-прежнему, она сейчас подошла бы к ней, бросилась на грудь, напомнила былые сочельники на улице Хорват, умоляла не оставлять их сегодня. Ведь здесь ее настоящая жизнь, а та, другая — безумие, которое принесет ей только позор и горе. Однако безжалостный ангел мщения, с обнаженным мечом наблюдавший за матерью в ожидании часа, когда грех ее достигнет предела (и почти злорадно отметивший испуганный взгляд, который мать, поднимая с полу бумажник, бросила исподлобья на Агнеш), не позволил ей проявить никаких человеческих чувств. С ледяными губами она встретила поцелуй, которым мать, уходя, попрощалась с ней. Лишь после этого она развернула сверток. В нем была румынская вышитая блузка. У матери была удивительная способность угадывать, что дочери совершенно не нужно или что она никогда не решится надеть.
Спустя несколько минут вернулся домой отец. Бывший его ученик, главный врач, на прощанье пригласил его на рождественский утренник в Попечительском ведомстве, откуда отец принес и трофеи: несколько пачек табаку и кулечек со сладостями. «Это вам, разделите между собой», — сказал он, с гордостью отдавая кулечек, а сам, расстелив на столе лист бумаги, принялся с детства знакомыми Агнеш движениями набивать сигареты. Агнеш с грустью наблюдала за ним. Вот оно, первое его домашнее рождество. И она должна помочь ему вынести это. «Папа, хотите наряжать со мной елку? — позвала она его из спальни после того, как укрепила елочку в крестовине, рассчитанной на куда более крупное дерево, и привязала нитки к конфетам в блестящих обертках. — На улице Хорват, помните, вы всегда сами вешали украшения». — «Наряжать елку? — переспросил отец с той удивленной улыбкой, которую Агнеш стала замечать у него с тех пор, как трудность переключения на неожиданно возникающий перед ним предмет стала усугублять клубящееся у него в мозгу подозрение. — Значит, и елка есть? — сказал он, когда процесс осмысления завершился. — В самом деле? Ну что ж, тогда давай наряжать. Я от хорошего дела отказываться не буду». И, стряхнув с рук налипший табак и завернув его в бумагу, он направился в спальню — выполнять свой рождественский долг. «Чудесная елочка, — сказал он. — В Красноярске мы с Табоди, моим другом, точно такую же раздобыли. И — смотри-ка, прежние игрушки! Хижина с пастухом, колокольчики. И даже конфетюшки…» — заметил он кучку сверкающих конфет-украшений. Агнеш рада была, что этого не слыхала мать: тюкрёшское словечко «конфетюшки» вызвало бы у нее еще большее раздражение, чем та смешанная с неодобрением уважительность, с какой отец смотрел на полкило конфет, прикидывая, сколько они могли стоить. «Это верхушка, верно? — осторожно, двумя пальцами, взял он блестящую пирамидку. — Точно как Кремлевская башня! Тут вот, сбоку, и раньше было немного отколото. Как она здорово их сохранила — даже, кажется, в тех же самых коробках. Чего-чего, а заботливости у нее не отнимешь. Вон и одежда моя: как была, так и осталась. Кроме той серой летней тройки, из которой она тебе костюм сшила». То ли похвалы в адрес матери — именно сегодня, когда она поступила так подло, — оскорбляли слух Агнеш, то ли ей хотелось прервать цепь спутанных подозрением ассоциаций, найдя выход к иным, менее опасным темам, будь то хоть сам бог Тенгри, — во всяком случае, Агнеш, с некоторой деланной мечтательностью (которую она сама ощущала на лице как некую приклеенную маску), словно увлеченная той же, что и у отца, неотразимой логикой ассоциаций, теми же воспоминаниями, прервала отца: «А помните то рождество, когда вас увезли в Карпаты? Дядя Тони тогда служил еще в Хатване, мы из его конторы звонили вам, кажется, в Дебрецен». — «Не в Дебрецен. Это я звонил вам из Ниредьхазы, — поправил ее Кертес, после того как вновь совершил ту маленькую пантомиму, которая необходима была, чтобы оторваться от образа жены. — Один железнодорожный служащий был настолько любезен, что разрешил по казенному телефону — кажется, это называлось «американский телефон» — позвонить дяде Тони в Хатван», — добавил он, когда топографические координаты заняли в памяти свое место, лишний раз поразив Агнеш точностью своего ума, во многих других отношениях утратившего былую ясность.
«Но мы-то как тогда оказались у дяди Тони в конторе?» — возразила ему Агнеш, отчасти чтобы детализировать всплывший в памяти образ (высоко расположенный на стене аппарат, в который она говорила), отчасти же чтобы еще дальше увести отца в историю тех давнишних рождественских праздников. Суть дела была в том, что отцовский полк как раз в канун рождества перебросили из-под Кракова — через Будапешт — в Карпаты. Отец дал им телеграмму, чтобы они пришли на вокзал, но телеграмму они получили лишь на следующее утро, когда воинский эшелон ушел; тогда-то и начались — с помощью телефона дяди Тони — розыски отца. Это было то, что она помнила, но на стволе воспоминания были сотни неясных деталей. Почему они не получили тогда телеграмму? Какого числа отец проезжал Будапешт? На каком вокзале стоял эшелон? Как попали они затем в Хатван?.. Выясняя эти вопросы, они могли бы проговорить весь этот куда более грустный сочельник. «Должно быть, шурин тоже пытался меня разыскать, — включил Кертес в работу свою, более дисциплинированную память. — А вы были там, у него на станции, в полной готовности». — «Но мы-то как в Хатван попали? Может, мы надеялись вас там догнать?» — «Да нет же, — ответил Кертес почти с досадой на несовершенство ее памяти. — Тетя Лили вас пригласила на рождество, тут-то дядя Тони и принялся нас разыскивать по всей линии Дебрецен — Ниредьхаза. Поймал он меня в Хадхазе, нас туда перебазировали за то, что мы накануне — это как раз и был сочельник — в Дебрецене перепились: интенданты наши на сэкономленные деньги накупили спиртного, да еще город вина выставил, много мы там дел натворили на путях». — «Тогда вы с ним и поговорили?» — «Нет, тогда он мне передал только — может, как раз потому, что мы все в сильном подпитии были, — чтобы я ему позвонил. Вот так и вышло, — навел он окончательный порядок в воспоминаниях, — что вы весь праздник провели на станции». — «Но тогда, значит, мы все-таки получили ту телеграмму? Я точно помню, что получили». — «Получили, конечно. Только поздно. Я из Вайскирхена ее отправлял, и адрес так переврали, что тетушка Бёльчкеи, которую почтальон поздно вечером с постели поднял, отказалась принять телеграмму». — «И вы ждали нас на Восточном вокзале? Представляю, как вы волновались». — «Не на Восточном, а в Ракоше. Мы всего два часа там простояли. И разделял нас только Лигет. Я даже думал, не сесть ли мне на свою лошадь — смирная, добрая была у меня Ирма — да не махнуть ли домой». — «А я почти ничего не помню, только телефон и еще что голос у вас был слышен будто сквозь туман». — «Да-да, ты первой тогда говорила. Я, как твой голос услышал, даже расплакался», — сказал отец, и голос его был сейчас где-то на полпути между бесстрастностью и растроганной дрожью: таким голосом говорят много испытавшие люди о знаменательных моментах своей жизни. И хотя образы прошлого в душе Агнеш возникли не сами собой, а в результате сознательного желания направить разговор, как эшелон с добровольцами, в безопасную колею, все же в эти минуты в ней настолько живо встала тогдашняя ее боль и то туманное нечто, откуда доносился к ней голос к фронту, к плену, к смерти идущего человека, голос детской ее любви, голос ее идеала, что ей, давно отвыкшей плакать, едва удалось сдержать подступавшие к глазам слезы.
Елка была наряжена; под множеством игрушек, оставшихся от прежних, до потолка, рождественских елок, она вся сверкала и переливалась; зелень хвои почти потерялась под мерцающими золотыми орехами, мишурой, пурпурными и голубыми шарами, зажимами для свечей и стеклянными домиками. «Еще вот эти бенгальские огни прикрепите, — сказала Агнеш как можно более естественным тоном отцу, который, ища место для последних игрушек, разглядывал творение своих рук. — А я пока займусь ужином». — «Ужином?» — обернулся к ней, держа в руке колокольчик, Кертес. Блестящие безделушки, появляющиеся на свет из коробок, и всплывающие из глубин памяти образы, сливаясь в сладкую мелодию прошлого, усыпляли его, примиряли с затянувшимся ожиданием; но теперь на умиротворенном лице его появилось недоумение, оно сменилось взволнованным подозрением. «А маму мы что же, не будем ждать?» — «Нет, она сказала, если до шести не придет, то чтобы я подавала ужин, — остановилась Агнеш в двери, заставляя себя говорить прежним тоном. — Она постарается вернуться не поздно. Биндеры настояли, чтобы она обязательно к ним в этот раз пришла. Они даже свечи пораньше зажгут, только чтобы она была там», — повторяла Агнеш, стараясь говорить убежденно, слова матери. Но отец все смотрел на нее с нерешительным, недоверчивым видом. «Они, кажется, что-то в подарок ей приготовили, потому и хотели так ее видеть. В прошлом году она тоже у них рождество встречала…» Агнеш чувствовала, что все это ей удалось произнести довольно непринужденно, и, быстрой, веселой походкой удалившись в кухню, подогревая вино, измельчая лимонные корочки и гвоздику, она все еще ощущала у себя на лице эту наигранную живость. И испытывала настоящее удовлетворение оттого, что оказалась способной на это маленькое лукавство: сказать, что мать что-то получит в подарок, и промолчать, что она что-то с собой понесла. Получить подарок — это для старого пленного звучало как самый убедительный довод: если ты можешь что-нибудь получить, как, например, он в Попечительском ведомстве, то грех упускать такой случай. «Только чего ради я с такой радостью ей помогаю?» — вдруг подумала Агнеш, обнаружив на губах у себя довольную улыбку и сводя мышцы лица в мрачную, досадливую гримасу. Однако спустя минуту, когда в кухню вошел отец, она подняла на него глаза от сковороды с тем же беззаботно-веселым выражением. «Ты говоришь, она у Биндеров?» — спросил Кертес, но в интонации его звучало: а ты уверена, что она там? И Агнеш, ответив: «Конечно!», вложила в этот ответ всю уверенность, на которую только была способна. «Она, кажется, какой-то пустячок крестной моей понесла», — осторожно коснулась она кожаного бумажника. «Может, стоит тогда ее все же дождаться?» — поднял Кертес крышку на принесенном из кладовой котелке с жареной свининой. «Нет, она сама говорила: знаешь, как отец недоволен, если вовремя ужин не подадут, а Биндеры, говорит, все равно меня без ужина не отпустят». И поскольку Кертес все еще колебался между самыми черными подозрениями и зовом желудка, возбужденного запахами, она сунула ему в руки тарелки и чистую скатерть: «Идите на стол накрывать, я тоже скоро приду».
Яйцо в винном супе все же немного свернулось. Но запах был добрым, острым, хмельным, рождественским запахом, и Кертес смотрел в тарелку с тем выражением, с каким в Тюкрёше в первые дни их поездки на блюдо с жареной уткой. «А, винный суп», — подмешал он к радости стереотипное осуждение всяческих лакомств (ведь как-никак это было блюдо для женщин, с сахаром, взбитым яйцом). «Нравится?» — следила с тревогой Агнеш за ложкой, поднятой ко рту. «Отчего же не нравится? — ответил Кертес тоном, каким хвалят не совсем удавшиеся кушанья. — Все, что в нем есть, вкусно и замечательно». — «Вот только яйцо свернулось немного, — сказала стряпуха. — А ведь мама предупреждала меня». — «У нас в Бутырках щи никогда не свертывались, — ответил Кертес. — Нечему было свертываться… А вообще очень вкусный, питательный суп, — добавил он после третьей ложки. И далее, уже не сдерживая себя, стал говорить о том, что переполняло его: — Рождественский винный суп — все-таки она о нем не забыла, — сказал он улыбаясь, словно соблюдение праздничного ритуала, пусть это всего-навсего винный суп, давало ему, несмотря на подозрительное опоздание, некоторую надежду. — А меня она все считает каким-то чудовищем, которому в некоторых вопросах лучше уступить. Отдать, что полагается, а потом, в следующий момент, можно и отругать. Ах, скорее, скорее, тетушка Бёльчкеи, барин идет уже — слыхал я, бывало, в свое время, еще на улице Хорват, едва свернув в подворотню. Тогда как я к задержке обеда с ангельским терпением относился, ну, спрошу разве что: мол, а успею я до еды набить несколько сигарет?» Это все была чистая правда: «барин», муж как общественный институт в глазах матери был объект уважения — даже если она и плясала на голове у носителя этого ранга. И следы этого уважения до сих пор в ней остались — не удивительно, что отец, с его слабеющей, жалкой надеждой, так за это сейчас цепляется. «Она так и сказала: знаешь, какой отец нетерпеливый»? — спросил он, словно услышал про себя нечто совершенно невероятное. «Ну да: говорит, вы сразу топтаться начнете в кухне», — засмеялась Агнеш, которой винный суп немного уже ударил в голову. «А она терпеть не может, когда от нее чего-то ждут, а она опаздывает, — засмеялся и Кертес. — Это показывает, что, в сущности, она человек очень добросовестный. Вот только характер подкачал у бедняжки».
Тут последовал не вполне логичный скачок, который Агнеш поняла не сразу. «Такие вот сладкие блюда, даже если с вином, она всегда очень любила. Ромовый торт, ликеры. Вообще была в ней некоторая склонность к алкоголизму. К обеду у нас всегда было вино. Я стакан выпивал: полстакана вина, полстакана минеральной воды. А она, при ее капризном аппетите, обычно и второй стакан выпивала… Сейчас, конечно, на вино не очень хватает?» — вопросительно посмотрел он на Агнеш. «Нет, спиртного у нас в доме не было», — сказала Агнеш и тут же вспомнила, что это, пожалуй, не совсем так. В те времена, когда Лацкович ухаживал за жившей у них Бёжике, они часто готовили разные настойки с какими-то эссенциями, специалистом по которым, конечно, был он. И граненый графинчик с ромом для чая не пустовал никогда; раз или два, когда мать приходила из города вечером — как можно было подозревать, после свидания, — от ее платья, вместе с табачным духом, словно бы пахло еще и вином. Однако «алкоголизм» был таким страшным словом применительно к женщине, что Агнеш никогда не могла бы — да и причин на то не было — хоть в какой-то мере связать его с матерью. «Я, еще когда она молодой была, часто думал, — высказал отец в порыве откровенности, пробужденной винным супом, свою давнюю мысль, — что к ней легче всего через алкоголь подобраться». — «А я в это не верю», — ответила Агнеш, ради тепла, переполнявшего ее тело, и рождественского настроения предпочитая ограничиться темой вина. «Ну-ну, — сказал Кертес. — Ее самый большой недостаток — это ужасный характер. Мне, еще когда я ее сразу после замужества наблюдал, просто не по себе становилось: до чего мрачная душа живет в этом бледном, хрупком создании. Ведь ее просто распирают всякие темные мысли, подозрения, неверие… А еще можно?» — посмотрел Кертес на супницу. «О, конечно, ради бога, — кинулась наливать ему Агнеш. — Маме и так останется». — «Кто способен был вывести ее из этого жуткого состояния, тот над ее сердцем полную власть получал. Она и тетушку Бёльчкеи потому столько лет в своем доме терпела и даже слушалась ее, что та ее умела развеселить». — «А вы не умели?» — спросила Агнеш. То, что отец говорил сейчас, как видел изнутри того человека, чьим рабом, даже в детском восприятии Агнеш, всегда был, начинало ее интересовать. «Отчего же, умел. И если очень уж не наваливались заботы, я держал ее нервы в узде».
В глазах Агнеш — наверное, под воздействием винного супа — за сочувствием промелькнула некоторая насмешка. У отца в самом деле был свой характер, и она, дочь, умела его ценить; однако что касается матери, то его рассудительные, напоенные жизненной мудростью мнения, его строящаяся на простых принципах тактика жизни, его неизменная, заботливо культивируемая, как сила спортсмена, доброжелательная уравновешенность — все это мать скорее бесило, чем успокаивало. Ей нужен был веселый, шумный характер, такой, как у крестного отца Агнеш, у дяди Тони, у Лацковича, — с их легкостью, даже легкомыслием, с тем вызовом, который они бросали слишком тесным для них принципам, с уважением к правилам рыцарства и в то же время готовностью щелкнуть по носу монументы, на которых начертано: Порядок, Авторитет. То, что бедняга отец ценил в себе как мудрость и выдержку, для матери было, должно быть, всего лишь занудством. Или, может, отец все же прав? И поскольку своей податливостью он мог нейтрализовать разве что половину, даже пусть пять шестых материной бесхарактерности, то капнувший между ними лакмус показал все же наличие кислоты, хотя основная часть ее и была связана. Так нерешаемая задача напрочь перечеркивает все то, что достигнуто терпеливой любовью… «Она требует очень много терпения и любви, — произнес Кертес слова, которые уже возникли и у нее. — Во время войны, пока меня не было, ей сильно этого не хватало. — И, на минуту задумавшись над подрумяненным, аппетитно пропеченным мясом, обложенным горками картофеля и домашних маринованных овощей, он бросил на дочь осторожный, преодолевающий собственные сомнения взгляд. — Она и тебя винит, что ты холодна к ней была. Не могла восполнить мое отсутствие…»
Пускай голова Агнеш слегка плыла в винных парах, обида — а обижалась она не так легко — в одно мгновение проделала путь от постижения смысла слов до самых глубин души, заставив вспыхнуть лицо. Вот как, значит: мало того, что мать стремится отца настроить против дочери, постоянно, демонстративно ставя ее на первое место, за спиной у нее она еще и очернить ее пытается. Она, видите ли, мало любви получала от дочери, не было возле нее никого, кто развеял бы ее мрачные мысли, потому-то так нужна ей была рыцарская поддержка, присутствие веселого, великодушного человека. Мать, конечно, высказала лишь первую часть этого обвинения, однако отец мог ведь мысль и продолжить. Потому и употреблял он подчас обидное множественное число, относя на ее счет половину того, что копилось у него в сердце. «С таким же точно правом я могу о ней сказать то же самое», — поборола Агнеш свой гнев, ограничившись горькой усмешкой. «Тогда ты к ней несправедлива: она всегда очень тебя любила, — вступился Кертес за отсутствующую жену, хотя немного испугался реакции дочери, как любой таящей в себе опасность эмоциональной вспышки. — Для нее и сейчас самое главное — чтобы у тебя было все, что нужно».
Агнеш промолчала. Однако те теплые токи, которые винный суп возбудил в ней и, в форме оправдывающих аргументов, направил в сторону матери, сидящей сейчас с Лацковичем где-нибудь в ресторане, вдруг остыли, угасли, и теперь она в матери видела лишь интриганку, которая мало того что создает новый ад человеку, вернувшемуся из ада, но еще норовит оттолкнуть его от дочери, лишить того утешения, которым могла бы стать ему дочерняя преданность. «Ну что ж, давайте зажигать свечи», — сказала она, когда два рулета (один с орехами, который любил отец, другой с маком, который любила она) смотрели обрезанными концами на нее, с ее абсолютным отсутствием аппетита, и на отца, все еще его сохранявшего. Обращение это, хотя говорила она спокойно, почти ласково, именно потому, что в нем ни слова не было ни о матери, ни о Биндерах, ни о скверном трамвайном движении в рождественский вечер, ни о чем-либо еще, что могло бы немного смягчить отсутствие матери, прозвучало как приговор. Отец так его и воспринял; он не стал спрашивать, мол, а как же мама, ее мы не будем ждать? «Что ж, давай», — сказал он и принялся зажигать свечи. И когда все восемь или десять свечей замерцали на елке и даже последний из бенгальских огней, не желавший никак разгораться, наконец начал сыпать, шипя и мигая, неровные искры, Кертес своим поставленным баритоном затянул, как когда-то, «Ангел с небес». Агнеш, тихо подтягивая, смотрела на этого поющего в западне человека, и из-под охватившего ее только что негодования, как весенняя вода из-подо льда, как подлинная ее стихия, порождение ее сердца, поднималось горячее сострадание; и, когда они кончили петь, она, отдавая отцу маленькую замшевую коробочку и бормоча поздравление, едва смогла удержать свой голос, не дать ему сорваться в рыдание. Еще на конфирмацию ей подарили небольшую цепочку; сама она никогда ее не носила, ненавидя всякие украшения, и теперь продала (девальвация основательно подняла в цене золото), чтобы купить у того же ювелира серебряные часы. «Это что такое? — удивленно вертел Кертес футляр. — Часы… Но мы же договорились, что в этот раз никаких подарков друг другу дарить не будем». — «Это вам к золотой цепочке дяди Кароя», — смотрела счастливая Агнеш на его пробивающуюся сквозь удивление радость. «Чудная вещь, — разглядывал часы Кертес. — Да это же серебро, — увидел он пробу. — Где вы столько денег взяли?» — «А это не полагается спрашивать», — принесла Агнеш из шкафа конфискованную у отца золотую цепочку и пристегнула к ней часы. Как ни сердилась она на мать, это вновь прозвучавшее множественное число и скрытую в нем надежду здесь, под елкой, у нее не было сил разрушить. «Ну, тогда спасибо», — сказал Кертес и неловко поцеловал Агнеш в лоб.
Госпожа Кертес вернулась домой после десяти. В ней еще чувствовалась приподнятость прекрасно проведенного вечера, и в ее дыхании Агнеш действительно уловила запах ликера. У нее, видно, ни сил, ни охоты не было лицемерить или оправдываться, она пришла домой, на сочельник, словно из какой-нибудь оперетты с Шари Федак[95] и теперь, оказавшись в тусклой действительности, могла лишь раздеться и лечь спать. Она бросила беглый взгляд на елку, спросила, хорошо ли они поужинали. Отец и дочь лишь смотрели на нее: Агнеш — в бессильном гневе, Кертес — искоса, невольно любуясь ею, помолодевшей от возбуждения, и в то же время с подозрением. «Как там Биндеры поживают?» — «Обыкновенно», — ответила жена. «Вы, наверное, тоже что-нибудь получили в подарок?» — «Получила. Флакончик одеколона», — сказала госпожа Кертес. Но настолько пренебрежительно отнеслась к недоверию мужа, что даже не потрудилась достать подарок из ридикюля. «Я тоже получил от семьи подарок», — сообщил Кертес. «От семьи?» — презрительно посмотрела на него жена. Но Агнеш из-за спины отца метнула на нее такой взгляд, что та не посмела заходить дальше. «Очаровательная вещица», — вынул Кертес часы и, демонстрируя свою благодарность, поднес их к уху. «Теперь вам опять есть что терять», — сказала госпожа Кертес скорее легкомысленно, чем ядовито. И Кертес, готовый находить радость даже в ворчанье, если там можно услышать хотя бы намек на расположение или хотя бы на снисходительность, взглянул на нее, вопреки своим подозрениям, с тайной надеждой, что, может быть, жена его все-таки лучше (вот и часы то же доказывают!), чем видимость, которую она создает.
Однако эта надежда, которую на другой день развеяла сама госпожа Кертес, сказав, что не знает, на какие средства Агнеш купила эти часы, она же никакого к подарку отношения не имеет, — была лишь маленькой веточкой, попавшейся на пути того вздувшегося потока крепнущих подозрений, который, как ему и положено, безостановочно, словно мельничное колесо, заставляет человеческий мозг напряженно работать, чтобы в конце концов произвести на свет страшную догадку или еще более страшное заблуждение и решение. Агнеш еще в праздники заметила, что отец внимательно приглядывается к матери, следит за нею. Несколько раз он приходил домой раскрасневшийся, с блестящими глазами и с порога осведомлялся: «Жена моя дома?» (Это «жена» — после «мамули» или «мамы» — как бы подчеркивало их изменившийся юридический статус.) Потом, положив в бумажник несколько сигарет, опять уходил. Агнеш, бродя по городу, однажды снова столкнулась с дядей Тони. После восторженных возгласов по случаю неожиданной встречи дядя сразу заговорил про «старика». Тот был у него на станции, расспрашивал про Лацковича: что за отношения у этого молодого человека с его женой? «Можешь представить, в каком я смущении был. Лили мне строго-настрого наказала, чтобы я, не дай бог, не проговорился, даже с праздником поздравлять не велела. А тут бедный Яни так меня взялся пытать, что я чуть не расплакался, до того мне его жалко стало. Я, говорю ему, не могу тебе ничего сказать (и я тут совсем не врал, — вставил он, — ведь в таких делах точно никто ничего не знает), этот Лацкович всегда из себя кавалера строил, меня самого иногда раздражало, что Ирма за всякой помощью не ко мне, а к нему обращалась. Ты ведь знаешь меня, я даже ради случайного прохожего готов на что угодно, а уж тем более ради сестры. Слыхал я, он и сейчас столяра ей нашел. Что мои люди подумают? Этого Лацковича, когда он начал у нас служить, я считал веселым, услужливым молодым человеком, даже к нам его приглашал; как он с Бёжике поступил, мне, конечно, совсем не понравилось. Но больше о нем ничего плохого сказать не могу. Не брать же мне его за грудки: как, мол, ты смеешь делать услуги моей сестре! Ирма и так уверена, что это Лилике сплетни о ней распускает. А я тебе как на духу скажу, ей-богу, бедняжка Лилике слова плохого о ней не сказала в жизни, да и причин для этого не было, а если и были, не станет же человек сор из избы выносить».
Агнеш представила, как отец, выслушав внешне успокоительные, главным образом проясняющие роль тети Лили объяснения шурина, оглушенный, выходит в громадные ворота вокзала (крохотный человек под огромной, высотою в несколько этажей, стеклянной стеной), и яд услышанного начинает впитываться ему в душу. Она должна быть готовой к тому, что в ближайшее время отец и ее привлечет к ответу: ты жила рядом с ней, ты должна знать. Что ей сказать тогда?! Ходить вокруг да около, как дядя Тони? Хотя она убеждена была, что для отца сейчас самое лучшее, если он, как пораженную гангреной конечность, отрежет от сердца то, что еще связывает его с женой, и потом, опираясь, как на костыль, на ее, Агнеш, молодость, станет, словно в тюремном госпитале, снова учиться ходить, она все-таки невольно содрогалась, думая о том, что именно она, на основе всего, что ей известно, должна совершить эту страшную операцию. А вдруг она все-таки ошибается (ведь у нее, кроме логики и чутья, нет никаких доказательств) или отец вдруг не выдержит операции? Та извилистая синяя жилка у него на виске всегда почему-то ассоциировалась в ее сознании с апоплексией. Теперь уже и студенческая библиотека была закрыта, но Агнеш, как только могла, уходила из дому: бродила по улицам, разглядывала витрины книжных магазинов, садилась на трамвай и, используя свой проездной, ехала до конечной станции то в Зугло, то в Буду. Отец тоже постоянно пропадал где-то. И даже мать словно бы уже не считала квартиру своим домом: все они бежали оттуда, где теперь уже, можно сказать, обитала одна лишь угроза неотвратимой расплаты. Однако бури разражались и в те редкие часы, когда они вместе оказывались дома. Когда накануне Нового года Агнеш к вечеру возвратилась с покрытых свежим снегом Будайских гор, дома, еще в передней, как запах гари, она ощутила плывущие в воздухе отголоски только что отгремевшего крупного разговора. На сей раз отец не стал ей рассказывать — в своей обычной жалобно-стыдливой манере — о том, что случилось. Он сидел в кабинете и конспектировал книгу Пржевальского или по крайней мере делал вид, будто конспектирует; госпожа Кертес тщательно наряжалась и, словно уже не считая своей обязанностью отчитываться, где и с кем встречает Новый год (она даже Агнеш не сказала ни слова), просто закрыла за собой дверь прихожей. Отец вскоре тоже вышел из кабинета. Он ходил взад и вперед мимо Агнеш, которая, сидя в столовой, пыталась читать книгу матери — «Госпожа Бовари». «Ну вот, сейчас», — подумала она, увидев торжественное лицо отца, и, перестав делать вид, будто читает, подняла голову, словно желая сказать: говори, пожалуйста, вот она я. Разговор, однако, вышел совсем не таким, к какому она готовилась.
Сначала она даже не поняла ничего: речь шла о каких-то астрономах, которые, сопоставив старые и новые данные, обнаружили, что одна из планет движется не совсем по той самой орбите, которую, взяв за основу ее удаленность от Солнца, они рассчитали. Если бы не торжественный вид отца, Агнеш подумала бы, что ошиблась, что отец пустился в какие-то физико-географические рассуждения. Только когда он дошел до того момента, что астрономы из этой аномалии сделали вывод о гравитационном влиянии новой, еще неизвестной планеты и смогли в скором времени ее обнаружить, глаза Агнеш наполнились влагой растроганности. Значит, вот она, решающая минута, к которой она готовилась. Но насколько иной она оказалась! Вместо того чтобы выспрашивать дочь, отец сам хочет ее подготовить к тому, что, может быть, не дает ей даже предположить естественное почтение ребенка к своим родителям. Наверняка он долго раздумывал, как ей это преподнести, и в конце концов выбрал такую вот форму. Но какое вступление, господи! Скольких мужей обманывали жены с тех пор, как стоит мир, но был ли среди них хоть один, кто печальное свое открытие изложил бы в такой, разве что для кафедры годной, картине. Бедный, многострадальный астроном, не знающий, как направить свой Уран на достойную орбиту!.. Дрожа от сострадания, но не бледная, а скорее сияющая, она поднялась от стола, где читала о злоключениях госпожи Бовари, и взяла отца за руку, давая понять, что нет смысла заканчивать это космическое сравнение, она знает, кто тот Нептун, который так исказил орбиту матери. «Стало быть, ты тоже знаешь?» — взглянул на нее отец, выходя из педагогического стиля. «Пришлось догадаться», — сказала Агнеш, выбирая более легкую позицию, позицию человека, который должен был выслушать неприятную новость, но оказалось, что он ее уже знает. «И давно?» — спросил нерешительно Кертес, пряча вскипающий в нем гнев за прощупывающим вопросом. «Года полтора с лишним, вскоре после того, как был продан дом». — «Когда еще Бёжике здесь жила?» — расспрашивал далее Кертес, словно пытаясь на основе тех немногих событий, которые были известны из этого периода и ему, восстановить точную хронологию. «Нет, уже после, — смотрела Агнеш в нерешительные, затуманенные глаза отца, видя в них первые искры разгорающегося гнева. — Бёжике, уезжая, еще думала, что Лацкович к ним поедет и сделает предложение». — «Когда это было?» — «Летом». — «Летом двадцатого?.. И тогда еще не было ничего?» — «Не было. Я и сама считала, что они обсуждают план женитьбы. Потому что были у нас сомнения, что тюкрёшцы не очень обрадуются железнодорожнику. Но когда Бёжике во второй раз приехала…» — «Это когда было?» — «Прошлой зимой, на масленицу. Поводом был бал на медфаке. Бёжике все тогда поняла и на следующий же день уехала. А на вокзале прямо в глаза мне сказала: Лацкович, говорит, не за мной ухаживает». — «А ты что?» — «Я сделала вид, будто на свой счет приняла, и пролепетала что-то». — «Ах, стерва!» — воскликнул вдруг Кертес, отбросив видимость осторожных расспросов, и вновь стал ходить по столовой.
Агнеш с изумлением поняла, что астрономическое сравнение и касающиеся деталей расспросы ввели ее в заблуждение относительно душевного состояния отца. Она-то думала, он все знает и даже переварил уже все, так что остается лишь посвятить ее в тайну — и они объединятся тогда в общем горе. Однако отец до сих пор все надеялся, что его астрономические расчеты и чужие предположения неверны и что Агнеш, как самый компетентный свидетель, сделает большие глаза и рассмеется ему в лицо или спокойно опровергнет его домыслы. А теперь, когда все вышло совсем по-иному, оказалось вдруг, что ему не за что уцепиться; педагогический опыт, мудрость Ференца Деака — все разлетелось в пух и прах, осталось лишь ужасное, унизительное ощущение, что тебя обвели вокруг пальца, и остались на покрасневшем лице, на висках извивающиеся артерии, ритмичное подергивание которых сейчас вдруг стало как будто видимым глазу. «Это все, конечно, предположения, — испуганно лепетала Агнеш, — я тоже только факты сопоставляла… доказательств у меня нет…» Но шлюзы в мозгу отца уже были подняты. «Я всегда этого опасался, еще там, в плену. Как посмотрю, бывало, на фотокарточку, где вы вдвоем… которую мне на фронт послали. У нее там такой уверенный, гордый взгляд… Но с таким сопляком! Которого в дом-то нельзя было допускать. Под видом жениха для племянницы! И как ей перед тобой-то было не стыдно?.. Ты никогда с ней об этом не говорила?» — остановился он вдруг, и в испытующем взгляде его лишь потому не было беспощадного обвинения, что он боялся ее потерять как свидетельницу. «Открыто — нет, не говорила. Лацковича я пробовала отвадить от дома, — бормотала Агнеш, чувствуя за собой некоторую вину, ведь она в самом деле много раз решала немедленно поговорить с матерью, но дочернее уважение или просто боязнь неприятностей… — Я думала, если вы вернетесь, то все сразу кончится», — добавила она как оправдание. Но это «если вернетесь» лишь подняло в Кертесе новую волну гнева. «Вот почему мне пришлось без нее ехать в Тюкрёш и краснеть, когда все спрашивали: где же Ирма, не приехала, что ли? А сами давно от Бёжике знали, почему она не приехала. Поэтому и Дёрдю нельзя было ехать в Чот. Боялась она, что он мне, как брат, глаза откроет. Она и понятия не имеет, что у этих крестьян, которыми она всегда меня попрекает, — мол, черного кобеля все равно не отмоешь добела, — что у них в одном лишь мизинце больше такта и доброты, чем в ее тщеславной, полной злобы душе. Еще бы, я понимаю, после комплиментов этого хлыща ей храп мой не нравился. Она даже старую кровать больше не хотела видеть, в которой тебя родила. Через семь лет — и на тебе, скатертью дорога, переезжай к тете Фриде. А она гуляет со своим рыцарем по дорогим ресторанам. Стыда не хватает хотя бы куда-нибудь спрятаться. Средь бела дня их на улице Ваци видели: гуляют себе под ручку. Это уж после того, как я вернулся…»
Последняя фраза показывала, что все же нашелся кто-то, просветивший отца. Или он сам видел их на улице? Можно представить, как этот хондродистрофик, распираемый сознанием собственного достоинства, вышагивает рядом с нарядной и все еще стройной женщиной нормального роста! В нынешней перебранке отец, видимо, выложил матери в глаза свои подозрения: во всяком случае, сейчас во взбухшей височной артерии, на которую с тревогой поглядывала Агнеш, виделся отклик материных аргументов. «И я еще должен верить, что речь идет всего лишь о невинном обожании, о рыцаре Святого Грааля? Которого ей, в ее одиночестве, привез лебедь, впряженный в челн?.. Пускай лицемерить она не умеет, но, чтобы все отрицать, у нее хватает дерзости. Мужу следует лгать — это тоже записано в кодексе чести. А если муж не совсем идиот, как думают некоторые, то — вот ему улица Хорват и тетя Фрида». — «Я тоже об этом думала, — воспользовалась Агнеш возникшей после имени тети Фриды паузой, чтобы вставить свою несколько недель уже готовую фразу. — Лучше всего нам пока туда переехать». Однако отец сквозь пульсирующий в ушах туман не расслышал словечко «нам». «Пока деньги не кончатся, она, конечно, не будет дурой, не захочет сибирским моим одеялом портить воздух в квартире», — все ходил он по комнате в полубессознательном состоянии человека, который, привыкнув владеть собой и очутившись однажды за гранью, купается в собственной ярости, как в некой чуждой, но доставляющей странное, необычное наслаждение стихии. «Жилица тети Фриды все равно съезжать от нее собирается. Вы устроитесь в большой комнате, где у нас была спальня, а я с тетей Фридой…» Кертес лишь сейчас уловил в залитых красным туманом словах (где он почти уже не мог разобрать, какие принадлежат ему, а какие — дочери) то, что хотела сказать ему Агнеш. «Как, и ты хочешь переселиться туда?» — взглянул он на Агнеш, словно услышав нечто совсем уж неожиданное и невероятное. «А вы думаете, я здесь останусь? Я давно уже это решила, с тех пор, как увидела, что здесь все остается по-прежнему. С тетей Фридой мы уже говорили. Я ждала только, когда вы все поймете…» Кертес смотрел на нее пустым, отчужденным взглядом, как человек, столкнувшийся с удивительным нравственным феноменом, который он в сложившейся ситуации даже пытаться постичь не в силах. «Вы увидите, нам втроем будет хорошо», — улыбаясь сквозь слезы, смотрела на него Агнеш. Слезы эти все-таки объяснили Кертесу то, чего он не мог уловить в ее словах: эта умная юная женщина понимает его страдания, даже, может быть, разделяет их и в душевном своем порыве готова идти за ним, что (это мелькнуло в его голове только вскользь) может стать в руках у него оружием борьбы с той, другой, подлой женщиной, которая со своим сутенером столько времени пускала ему пыль в глаза. «Очень великодушно», — пробормотал он со стиснутыми зубами. И хотя с лица его так и не исчезло непонимание, глаза ему тоже залили слезы растроганности.
Назавтра, утром нового года, госпожа Кертес снова поймала Агнеш в кухне. «Я не могу его больше выносить. Замучил меня своими причудами. Я ему так и сказала: нервы у меня не железные, я в сорок два года не хочу к снотворному привыкать. Пускай перебирается к тете Фриде…» Агнеш холодным взглядом смотрела на помятое лицо этой женщины, которая, не придя в себя после новогодней усталости, теперь, пряча глаза, плаксивым голосом пытается войти в роль измученной деспотом-мужем жены. Агнеш знала: то, что она сейчас скажет, обрушится, словно меч, и знала, что мать этот удар заслужила. Она ощущала почти радость, что у нее в руках есть такой меч, который может во имя истины поразить грешницу. «Да, я тоже думаю, будет лучше всего, если мы — папа и я — как можно скорее уедем отсюда», — сказала она почти то же, что и отцу, — но несколько по-другому! Госпожа Кертес подняла на нее глаза. Лицо ее, в иных случаях встречавшее даже малейший обидный намек в полной готовности к бою, выразило сейчас ужас. По инерции руки ее с полминуты продолжали перебирать в раковине блюда и чашки; потом она молча вышла из кухни.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Агнеш в конце концов не ушла от матери. Отец сам попросил ее остаться. Как уж мать сумела добиться этого, Агнеш так и не узнала. На следующий день она отправилась к тете Фриде и изложила ей свой план. Сначала переезжает отец: через несколько дней кончаются рождественские каникулы, ему все равно заступать на службу и лучше, если он будет ходить на работу с улицы Хорват, откуда до школы рукой подать, а не давиться каждое утро в битком набитом трамвае. Пока что он займет комнатку тети Фриды, а потом, когда съедет Пирошка, переберется туда. «Na, und du?»[96] — спросила тетя Фрида, уже не зная, остается ли в силе в обрушившемся на нее круговороте событий высказанная Агнеш в прошлый раз просьба (не сдавать пока маленькую комнатку: может быть, она сама скоро поселится в ней), с которой мозг тети Фриды успел свыкнуться. «Конечно, потом и я…» — посмотрела вокруг Агнеш, задержавшись взглядом на узеньком диванчике-канапе, который скоро должен был стать ее ночным приютом. И чтобы немного подбодрить тетю Фриду, легонько сжала ей руку.
И с тем ушла, оставив бедную старушку в полном смятении. Пока в душе тети Фриды, оттесненные непосредственной заботой — как отказать Пирошке, — оседали взбаламученные чувства: тревога, связанная с ломкой привычного уклада, растроганность, оставленная последней фразой Агнеш («Так что заживем мы с вами втроем»), и неверие, что все это в самом деле возможно, — Агнеш, переполненная лихорадочной жаждой действия, летела домой, на улицу Лантош, обдумывая, как организовать переезд, и, чтобы сразу же продвинуться еще на шаг, тут же постучалась к тетушке Бёльчкеи. Та понуро сидела возле горящей плиты, которая теперь, когда доставать дрова стало так трудно, давала тепло всей маленькой квартирке привратницы; беспокойные блики из щелей дверцы упали на поднятое из полумрака и беспросветных дум лицо. «Здравствуйте, тетя Кати, — сказала Агнеш, чуть притушив свой порыв перед этой потревоженной ее вторжением безысходностью. — Тетя Кати, вы не могли бы мне тележку найти?» Привратница смотрела на девушку, словно поднятая из глубокого сна. «Тележку?» — повторила она, пытаясь понять вопрос. Семью Кертесов она знала более пятнадцати лет, и никогда еще не случалось, чтобы им требовалась тележка; при больших переездах у них появлялись огромные, обитые изнутри мягкой тканью фургоны фирмы Гутманна с грузчиками (чьи мускулы и соленые шутки всегда приводили молодую привратницу в некоторое возбуждение), тележкой же пользовались разве что кровельщики тети Фриды да угольщик. «Зачем вам тележка, Агнешке?» — спросила она, и, пока она задавала эти коротенькие вопросы, на ее лице удивление, затем ошеломляющая догадка сменились, следуя за усилиями ума, стремящегося понять, для чего нужна тележка, соболезнующе-плаксивым выражением. «Да неужто?..» — завершила работу мысли испуганно оборванная фраза и неверие в поднятых на лоб бровях. Агнеш только сейчас, глядя в глаза привратницы, поняла, как ужасна, какой страшный шаг и какой беспощадный приговор означает решимость, столь яркой звездой горящая в ее сердце… «Папины вещи вот отвезти надо к тете Фриде. Часть вещей», — добавила она быстро. И еще сильней испугалась, представив, что происшедшее в их семье, их одних лишь касающееся, станет теперь достоянием Лимпергерихи, господина Виддера — всего дома. «Ноги еще слабые у него. Лучше, если он будет оттуда в школу ходить…» — «Да уж точно, эти трамваи… по утрам, — испытующе смотрела на нее тетушка Бёльчкеи — и вдруг, словно многолетнее знакомство и, конечно, то, чего она втайне ждала и что светилось у Агнеш в глазах, сделали ее способной на неожиданное прозрение, спросила: — А вы-то? Вы ведь не уезжаете, верно?» Если барин едет на улицу Хорват только из-за того, чтобы быть ближе к школе, то зачем ехать Агнеш?.. Логики в этом вопросе не было, но тем больше было священного ужаса и надежды — той жестокой надежды (созвучной суровости, с какой Агнеш высказала в глаза матери свое решение), что зло, жертвой которого стала и она, все же и в этом мире не останется неотмщенным: бедняжка Агнешке и барин с мученическим нимбом над головой уйдут, держась за тележку, из этого Содома. «Я? Почему?» — так и не решилась Агнеш ответить на молящий взгляд хотя бы одним выдающим ее намерения словом или чуть более точным «пока что нет».
За краткой драматичной увертюрой последовало обстоятельное обсуждение, в котором перед ними одна за другой прошли все тележки в окрестностях; Агнеш в конце концов ушла с тем, что тележка для них найдется: старый носильщик с отечным лицом, который жил в квартире четыре «б» и стоял каждый день, ожидая клиентов, на углу улицы Сив, как часовой, охраняющий дух старых добрых времен — времен Франца-Иосифа, счастлив будет еще нынче вечером отвезти вещи в Буду. Наверху отец как раз вынимал из шкафа свои костюмы; мать же, наблюдая с мученическим видом, как муж, на правах отринутого, копается в святилище, из которого обычно она выдавала белье и одежду, то входила в спальню, уже в шляпке, но еще без пальто, то выходила оттуда, чтобы найти и тут же потерять кашне. «Думаете, у тети Фриды есть место для ваших костюмов? Я ведь даже ваш старый фрак, вашу спортивную одежду сохранила», — услышала Агнеш брошенные при последнем возвращении слова. Раздражения в них звучало не больше, чем должно звучать, когда ты видишь, как мужские неловкие руки копаются в твоем шкафу. «Тогда, если вы не возражаете, я здесь их оставлю», — с готовностью откликнулся отец. «По мне, так можете хоть все увозить, — сказала мать, и когда она, выходя, наткнулась на Агнеш, та в самом деле почувствовала, что от нее немного пахнет вином. — Я все сохранила, пожалуйста, можете разбазаривать», — сказала она, найдя шарф и надевая наконец пальто. В ответ на приветствие Агнеш прозвучало хмурое «сервус», которое, однако, на шкале подобного рода ответов стояло ближе к тихой обиде, чем к бурному негодованию. «Не хочет, чтобы я всю одежду забирал, — вышел Кертес из-за дверцы шкафа, когда дверь в прихожей захлопнулась и он обнаружил, что в квартире еще кто-то есть. — Мне — скатертью дорога, а фрак пускай остается», — сказал он с улыбкой. На лице его не было уже и следа новогодних эмоций, а то, что жена так держится за его костюмы, он даже расценивал как некий добрый признак. Агнеш не обратила внимания на это временное потепление. Она рассказала, чем кончился ее разговор с тетей Фридой: сначала папа, потом и она, Агнеш… Кертес словно не слышал ее, разглядывая снесенное на обеденный стол, сложенное грудой белье, стопки книг, прибор для бритья, компас, машинку для набивания сигарет, статуэтку сфинкса. «Да, вот только как я все это перевезу?..» — «Тетя Бёльчкеи уже пошла за тележкой. Заодно и я сложу самое необходимое… Чтобы потом не пришлось опять нанимать человека».
Угловатая рука Кертеса еще перебирала, словно в задумчивости, лежащие на столе вещи, когда он поднял на дочь странный, одновременно смущенный и улыбающийся взгляд. «Ты серьезно решила переехать со мной к тете Фриде?» Агнеш пыталась понять, что скрывается в глубине его взгляда: растроганность или сопротивление. «Конечно, серьезно». На мгновение перед ней мелькнули глаза тетушки Бёльчкеи с горящей в них надеждой. «Я бы просто перестала уважать себя, — поправилась она, прежде чем слова сорвались с ее губ, — если бы после этого не поехала с вами». — «Весьма благородное намерение, — повторил Кертес прежнюю свою фразу. Причем повторил так, будто понятие «благородное» подразумевало всякие высокопарные вещи, которые его трезвый ум не мог постичь. — Но мне это кажется не очень целесообразным, — добавил он осторожно. И затем продолжил, словно ища самый убедительный аргумент, который помог бы и ему немного подстроиться к такому необузданному, слишком много требующему от людей благородству: — Тем самым ты бы совсем ее отдала во власть тому хлыщу». — «А я думаю, если как-то ее и можно заставить порвать с ним, то лишь таким способом», — «Сразу видно, плохо ты ее знаешь», — сказал Кертес. Как большинство нелюбимых мужей, которые проводят жизнь в изучении исходящих от жены сигналов, он был убежден, что лучше, чем кто бы то ни было, знает кроющиеся за капризами ее настроения закономерности. «Она — человек крайностей. Восприимчива ко всему благородному, но если ее рассердить, пустится во все тяжкие: а, лети все к черту». Агнеш молчала и лишь смотрела на этого человека, что так по-рабски выполнял по отношению к ней, своей дочери, злую волю той, которая выгнала его из дому. В том, что тут замешана злая воля матери, Агнеш не сомневалась ни на минуту. Об этом свидетельствовала и та относительно мирная обстановка, которую застала Агнеш. Мать, пожалуй, даже пересилила себя и сказала ему несколько теплых слов — ровно столько, чтобы отец, не дай бог, не передумал переезжать, но оставил дома дочь — единственную свою опору и свое оружие против жены. «Вот она какова, любовь… Или это уже деменция[97]?» — пришел ей в голову термин из «Душевных болезней». «Она тебя очень любит, — втолковывал ей Кертес, словно хотел исправить большую ошибку дочери, нелепую аномалию ее сердца. — И ужасно огорчилась, что ты хочешь покинуть ее». «Еще бы не огорчилась», — подумала Агнеш; как ни пытается мать бросить вызов всему миру, как ни держится за привычный свой спасательный пояс — авторитет мужа и собственную вспыльчивость, — суда людского она все-таки боится, и то грозное, что пряталось в глазах у тетушки Бёльчкеи, помноженное на сто, на тысячу (а если Агнеш тоже уйдет из дому, то матери ведь придется столкнуться лицом к лицу с общественным мнением), ей-богу, оправдывало ее готовность пустить в ход один-два давно опробованных приема, чтобы сбить с толку немилого мужа. «Я полагаю, она, чтобы не опуститься совсем, нуждается в тебе куда больше, чем я. А мы с тетей Фридой как-нибудь проживем потихоньку, по-стариковски». «Не видно, чтобы ты уж очень грустил, оставляя меня у матери. Не больше, чем, скажем, по фраку или по спортивному костюму», — думала Агнеш, глядя в одну точку. И когда Кертес, отвернувшись от нее, молчащей, как статуя, начал укладывать свои записи, она знала уже, что была бы отцу, если бы все-таки поехала с ним, просто-напросто в тягость: он вынужден был бы тащить ее за собой, словно какой-то невыносимо тяжелый упрек. «Что ж, если вы так считаете…» — обиженно сказала она. «Так у нее останется все же какой-то мостик», — отозвался отец. «Или у тебя — надежда вернуться», — ответили ему глаза Агнеш.
Остаток дня прошел в практических заботах. Отец рассказал, что в плане материальном они с матерью договорились так: свой заработок он будет делить на три части и каждый из них получит свою треть. «И деньги за репетиторство?» — испуганно спросила Агнеш. «Все мои доходы», — сказал Кертес как нечто само собой разумеющееся. Это было, конечно, что угодно, только не само собой разумеющееся дело. Пускай на свинооткормочную ферму, на ужины с Лацковичем и уплыла куча денег, у матери все равно что-то еще оставалось, да и большая квартира представляла собой немалую ценность; а отцу, как ни ничтожна была вносимая Пирошкой плата, придется, хочешь не хочешь, ее компенсировать; тетя Фрида, если она будет ему готовить, должна и сама что-то есть; о том уж и говорить нечего, что — как изгнанный из дому муж и инвалид — он вообще ни гроша ломаного платить не обязан. После двух-трех ошеломленных вопросов и возражений — мол, она никаких денег от него не примет — Агнеш сдалась: она почувствовала себя бессильной перед этой самоотверженностью, которая, как и то, что он оставлял ее у матери, играла, видимо, роль еще одного мостика, чтобы со временем сюда вернуться. Она, Агнеш, все равно найдет себе какую-нибудь работу, и тогда ее треть через тетю Фриду перетечет обратно к отцу, на питание и квартплату. А пока, сообразила вдруг Агнеш, жилице тети Фриды ни в коем случае нельзя отказывать. Ведь отцовская треть лишь чуть-чуть больше Пирошкиной квартплаты. Отцу придется жить в маленькой комнате тети Фриды. Она с испугом сообщила ему об этом своем открытии. «Как, ты ей уже отказала?» — взглянул на нее отец, как часто в последнее время, с преувеличенным изумлением по поводу ее решения. «Я только тете Фриде сказала… но, может быть, она…» — «Тогда делать нечего, надо пойти и как можно скорее предупредить ее», — заключил отец, только тоном своим осуждая легкомыслие и торопливость нынешней молодежи.
Тем временем пришла тетушка Бёльчкеи; осторожно позвонив, она вызвала Агнеш в коридор и, удостоверившись, что госпожи Кертес нет дома, сообщила, словно большую тайну, что тележка готова и носильщик может прийти хоть сегодня. Так что спустя какой-нибудь час Агнеш уже торопливо шагала по краешку тротуара шумной улицы, стараясь держаться поближе к красному берету носильщика, за спиной которого ехали в Буду вещи отца (то, что не вошло в чемодан, было накрыто китайским пледом). Сам Кертес отправился вперед на трамвае, чтобы, если не поздно, предотвратить отказ Пирошке.
Темный двор, когда они спустились с вещами, был пуст, но из окон Лимпергеров и квартир первого этажа следили за чемоданом бывшего домовладельца, за коробками и пачками книг множество посвященных глаз. Уже на улице обнаружилось, что чемоданчик, в котором они в прежние времена возили из Тюкрёша яйца, остался, вместе с документами, наверху. Агнеш побежала было назад, но отец остановил ее: «Завтра все равно зайду — попрощаться с мамулей». Поспевая за тележкой на площади у Западного вокзала, затем на мосту, Агнеш не могла обнаружить в себе и следа тех чистых и горделивых чувств, которые, как ей казалось, должна была испытывать в момент переселения и которые стали бы компенсацией за ее жертву. Все это вовсе не походило на тот торжественный, почти библейский исход, каким ей представлялось переселение, в нем не было очищения, пробы крыльев на пороге новой жизни. Она останется в старой, отравленной атмосфере, и даже тетушка Бёльчкеи будет теперь смотреть на нее как на человека, ради удобного существования выбравшего позор. Отец же не ушел, а просто был выброшен; и даже сейчас он думает лишь о том, как ему вернуться назад да как по-хорошему проститься с той, кого он назвал тем словом — грубым, но соответствующим истине и дающим ему моральное право чувствовать себя свободным. Агнеш попыталась найти какие-то оправдания его малодушию. Он, бедный, уже шесть или семь лет скитается по лагерям, больницам и тюрьмам и судьбу, что бросала его туда и сюда, привык рассматривать не с точки зрения справедливости — как счастливую или злую, — а как цепь непреодолимых обстоятельств, к которым он в своих нескончаемых странствиях вынужден так или иначе приспосабливаться. Скитания его с возвращением на родину не закончились, — что ж, это еще одно обстоятельство; в первый момент оно даже заставило его взбунтоваться: вспомнить только, как он ходил по комнате вне себя… вот это уж точно — вне себя: чужой самому себе, ходил и выкрикивал что-то гневное; а теперь, словно бы осознав, что на такую роскошь, как сильные чувства и трагические поступки, пленный прав не имеет, он покорно принял новую ситуацию и лишь старается выбраться из нее с минимальным уроном. Агнеш смогла сейчас объяснить даже его чувства к матери. На свою жену отец всегда смотрел как на человека больного. Ее раздражительность напрочь скрывала от него то, что было в ней лишь отсутствием любви к нему, и он, словно привязанный к ней санитар, радовался даже кратким моментам хорошего настроения, согреваясь ими и покорно ожидая очередного ухудшения. Теперь болезнь ее приняла острую форму. Его долго не было рядом с ней — и вот к чему это привело. Что ж, бросить ее на произвол судьбы, уступить другому, в этот момент более для нее желанному санитару, который на самом деле будет — не может не быть — лишь грубее, корыстнее, бесчеловечнее? Ведь больше всего любви, снисхождения, на которое может рассчитывать эта женщина, зреет именно у него в душе, светится у него в глазах (вон хотя бы дочь: каким беспощадным взглядом смотрит она на мать). И он из оскорбленного мужского достоинства лишит ее этого?.. А может быть, под этой всепрощающей, снисходительной мудростью просто таится застарелая слабость, боязнь конфликтов? Агнеш и это могла бы понять. Куда хуже было то, что к дочерней ее любви (которая так быстро приняла вместо нетерпеливо ожидаемого идеала его, слегка тронутого старика) он относится как к чему-то выспреннему, неуместному, мешающему жить, усложняющему простые вещи, — это, пусть разум ее и пытался найти тому оправдания, в течение всего пути ныло в ней, как безуспешно подавляемая боль.
На Кольце, на мосту Маргит был в разгаре час пик, и уличное движение, хоть Агнеш и наблюдала его с тротуара, казалось ей почти пугающим. Старый носильщик на каждом углу вынужден был останавливаться, пережидать стадо вырывающихся из боковых улиц гудящих автомашин и грузовиков, подставлять себя ударам оглобель экипажей, тормозящих перед бегущими через улицу людьми (которые гнались за трамваем, чтобы сэкономить две-три минуты дороги до дома). Мрачные мысли, теснящиеся в мозгу Агнеш, и тяжесть, лежащая у нее на сердце, превращали уличный шум, человеческие голоса в какой-то слитный, лишенный смысла непрерывный гул, терзающий ее слух, словно она оказалась в некой громадной адской кухне. Чего они хотят, эти мечущиеся, спешащие куда-то люди, вся эта масса жителей Будапешта, восемьсот восемьдесят одна тысяча (как она, после переписи 1910 года, услышала от отца)? Никогда еще она с таким ужасом не ощущала, какой безумный гигантский улей представляет собой этот город. Ведь у каждого в этой толпе есть свое жилье или пристанище, и каждый идет, бежит, едет туда, к семье, к близким, хотя то, что его с ними связывает, тоже, может быть, не более чем форма, под которой — боль и взаимное непонимание; вот как в их семье, где все трое — мать, отец, дочь — отделены друг от друга неодолимыми пропастями. Не каждая семья, вероятно, находится в столь плачевном состоянии, как они. Есть, например, влюбленные… Но когда понятие это начало распадаться на конкретные пары — Ветеши и Мария, Адель и ее ухажер, — Агнеш между ними обнаружила ту же пропасть… Или — тем более — мать и Лацкович… Но есть же хорошие супружеские пары… Например, кто? Тетя Лили и дядя Тони? Дядя Бела? Чета Бёльчкеи? Агнеш вдруг поняла, что хороших супружеских пар тоже не существует; вон даже семья дяди Дёрдя: ведь и там одна тетя Юлишка смотрит на мужа с рабской почтительностью. А дети? Друзья?.. Халми и она, например. Кто знает, какие ложные представления питает Халми, когда, оставаясь наедине с ее образом, думает о ней… Получалось, что не только их семейная троица, но и все общество лишь для того так самозабвенно стремится куда-то, чтобы как можно быстрее и бесповоротнее развалиться, а ее душа болит не только по той причине, что семью, в том виде, в каком она жила когда-то на улице Хорват, ей так и не удалось склеить своей добротой и участием, словно некой смолой, выделяемой ее сердцем, но и потому, что ей никогда не найти в себе достаточно прочного клея, чтобы предотвратить, остановить этот всеобщий безумный распад…
Чтобы стряхнуть с себя странное, похожее на головокружение состояние, она сошла с тротуара (они как раз прошли мост и свернули в первую будайскую улицу) и подошла к дышлу тележки. «Не тяжело?» — спросила она, словно решив еще раз проверить свои способности миротворца. Тот поднял голову, очнувшись от забытья, в котором тащил за собой тележку, и оглянулся назад: должно быть, уронил что-то. «Я спрашиваю, не тяжело вам?» — крикнула Агнеш, чтобы пробиться сквозь уличный гул и слабеющий слух старика, и показала на тележку. Носильщик понял, что барышня настроена дружелюбно и хочет завести разговор, и стал вспоминать старые добрые времена, когда на приветливые слова клиентов умел отвечать с импонирующей находчивостью. «Тяжело? Да не так тяжело, — сказал он, растягивая в улыбке распухшее свое лицо, — как далековато. — И посмотрел себе на ноги, ботинки на которых были зашнурованы не до конца: очевидно, ноги тоже распухли. — Четыре километра в один конец… И обратно ненамного меньше», — вспомнил он старую свою остроту, которая в былые времена звучала как-то смешнее. «Давайте я повезу немного», — предложила в порыве великодушия Агнеш. Носильщик испуганно отдернул дышло. На долгий путь он жаловался скорей по привычке, чтобы плата потом, при расчете, не ему, а клиенту казалась маленькой. Попытка же барышни занять его место была в чистом виде выпадом против его достоинства и как носильщика, и просто как человека. «А что в этом такого? Не рассыплюсь», — улыбнулась ему Агнеш. «Коли сюда довез, как-нибудь до конца дотяну. Хоть до самого городского кладбища, — перевел он разговор на свою жизнь, убедившись, что Агнеш предложила везти тележку только по доброте душевной. — Эвон ход какой легкий у тележки-то». — «А вы давно в носильщиках, дядюшка?» Агнеш, видя, что лед между ними сломан, шагнула к дышлу с другой стороны, как бы становясь в одну упряжку со стариком. «Я-то? Да я уже во время Всемирной выставки[98] сам себе был хозяин». — «И тогда уже стояли на улице Сив?» — спросила Агнеш. «Улица Сив? — с презрением повторил старик. — Что улица Сив? Я там почему стою? К дому близко. Я у сына живу, на улице Байнок. А тогда мое место было супротив Народного театра. У ресторана «Эмке». Я самой Луйзе Блахе[99] письма носил», — сказал он, на минуту даже остановившись, чтобы видеть лицо Агнеш в момент, когда он поделится с ней самой большой гордостью своей жизни… Агнеш воспользовалась моментом, чтобы все-таки взяться за дышло. «А теперь?» — «Теперь-то? — заколебался ненадолго носильщик, не зная, держаться ли и дальше хвастливо-горделивого тона, каким положено говорить с клиентом, или попробовать рассказать доброй барышне про обиду, переполняющую его сердце. — Теперь я больше по привычке работаю. Сноха говорит, недотепа я. А ведь подумать: что нынче носильщик?» — «Ну да, нынче служба рассыльных есть», — сказала сочувственно Агнеш. «Рассыльные! — фыркнул старик. — Сопляки! Подумаешь, велосипед у них. И подпись берут у клиента… Обходительность — вот что сгинуло. Обеднела страна». В печальной этой тираде Агнеш словно нашла один из компонентов того самого клея и, чувствуя себя едва ли не счастливой, стала дальше погружаться в несчастье шагающего рядом с ней человека, который и не заметил, что груз его стал вполовину легче. «А у сына вам хорошо?» — спросила она, уверенная, что ничего там хорошего нет. «Хорошо ли? — посмотрел на нее старик. — До того хорошо, что я бы с радостью в дом престарелых перебрался. Только там тоже нужна протекция. Я уж думал, попрошу господина Сапари похлопотать. Мои старые клиенты, как идут гулять в Лигет, обязательно остановятся на пару слов, иной и сигарой угостит. Да как-то неловко так сразу огорошить… Дескать, не пристроите ли в богадельню?..» — «А скажите, у вас почечного заболевания никогда не было?» — неожиданно спросила Агнеш: как начинающего клинициста, ее заинтересовал опухший вид старика. Лицо его от полнокровия и отечности было розовым, блестящим, с набухшими подглазьями — точно как им рассказывали на лекциях. «У меня?» — удивленно спросил носильщик. «Я потому так подумала, — сказала Агнеш, — что лицо у вас немного припухшее». — «Лицо?» — еще более удивился старик, щупая себе щеки. Должно быть, про лицо ему никто никогда не говорил, а сам он привык к своему виду. «Ноги у вас не отекают?» — спросила Агнеш, не устояв перед удовольствием вот так, прямо на быстро обезлюдевшей улице, попытаться самостоятельно, без бдительного наблюдения ассистента, выспросить попавшего ей в руки человека. «Как же, отекают. Есть у них такая хорошенькая привычка, — вернулся к старику, после пугающей почечной болезни услышавшему знакомый симптом, обычный юмор. — У меня еще расширение вен было». И, если б они как раз не подошли к дому тети Фриды, он рассказал бы, как еще до войны ему в больнице Святого Роха оперировали варикоз.
Складывая вещи отца в просторной подворотне, Агнеш чувствовала, что недавняя ее подавленность напрочь куда-то исчезла. А всего-то и случилось, что старик-носильщик поделился с ней своими несчастьями. Можно подумать: если ты вместе с кем-нибудь, пробравшись через сумятицу Кольца, повезешь немного тележку, выведав по пути, чем живет и дышит этот человек, почти незнакомый тебе, то все это должно действовать как лекарство — наполнять тебя силой и верой в будущее. В таком настроении ей быстро удалось успокоить и разволновавшуюся тетю Фриду. Чтобы быстрее уладить неприятное дело, та действительно отказала Пирошке, прежде чем успел приехать Кертес. По рассказам тети Фриды, Пирошка очень разнервничалась, чуть ли не кричала на нее; еще бы: среди зимы, так неожиданно… И — что тетю Фриду особенно расстроило — под конец заявила: дескать, ладно, раз так, она в гостиницу переедет. Пока Кертес добирался на трамвае до улицы Хорват, тетя Фрида обсудила заявление Пирошки с Кендерешихой и еще с двумя жильцами, пришедшими за водой к крану. «Ist das nicht unverschämt?»[100] — спросила она у Кендерешихи. Что, собственно говоря, было тут unverschämt: то ли что Пирошка похваляется своими деньгами — она даже может в гостинице жить, — то ли что этим как бы делает упрек ей, хозяйке, которая своим неожиданным решением (тут совесть тети Фриды оказалась в союзе с жиличкой) вынуждает идти ее на такие расходы, — она не уточняла. Но едва вовлеченные в обсуждение жильцы кое-как вернули ей душевное равновесие, появляется Кертес (она все еще звала его по фамилии, как в те времена, когда он ухаживал за Ирмой) и говорит, что все надо оставить по-старому. «Почему бы тебе сразу было не подумать как следует? Warum hast du es nicht besser bedacht?[101] — встретила она Агнеш, когда та, свежая и веселая, бросилась к ней с поцелуями. — Что я скажу теперь этой Пирошке? Ты же знаешь, какая она. В самом деле еще возьмет и переедет в гостиницу». — «Я зайду к ней. У нее никого нет?» — спросила Агнеш, так как видела с улицы свет в окне у жилички. И тут же постучалась и вошла.
Разговор вышел не таким страшным, как можно было ожидать. Пирошка была крупная, цветущая девушка; блестящие глаза, румяные щеки, полные яркие губы, большие, но красивые руки — все это вместе взятое буквально подавляло жарким буйством здоровья. Однако это здоровье было растворено в такой же огромной лени, которую она пыталась упрятать под вызывающей маской гетеры. Об этом говорило и то, как она обставила свою комнату (бывшую спальню Кертесов, куда они вместе с Бёжике переходили по вечерам из комнат, принадлежащих теперь чете Кендереши). На большой лампе, стоявшей на деревянной подставке вроде скамеечки, она укрепила абажур из красной креповой бумаги, так что на старой мрачноватой мебели, на умывальнике, закрывающемся деревянной крышкой, на знаменитом, с клавесинным звучанием пианино господина учителя Жамплона и на зеленом диване, в углу которого валялась огромная черная диванная подушка с золотыми птицами и цветами, сплющенная часто опирающимся на нее массивным телом, лежали капризные красноватые блики, перемежаясь неровными полосами мрака; на двери в кладовую, за умывальником, висели два причудливой расцветки халата и пеньюар, игравшие тут скорее декоративную роль; сама Пирошка держала в руках длинный мундштук, пуская из него клубы дыма, и, когда Агнеш, услышав громкое «можно», вошла, так встряхнула коротко, уже по новой моде, остриженными волосами, словно только-только завоевала право держать свои круглые плечи открытыми. «Агнеш Кертес», — опередила она собравшуюся было назвать себя Агнеш и сильно встряхнула ее руку в своей большой ладони. «Ты меня знаешь?» — спросила Агнеш, понимая, что тут лучше сразу перейти на «ты». «Не только тебя, но и дядю Кароя, и всех твоих прадедов. Когда тетя Фрида меня еще не так сильно презирала, я частенько у нее сиживала: люблю рассматривать чужие фотографии. А кроме того, я тебя в прошлый раз видела из окошка, когда ты уходила. Садись. — И она потянула Агнеш на превращенный в кушетку зеленый диванчик рядом с собой. — Слышала, ты тоже сюда хочешь переселиться. С ума сошла, что ли? К тете Фриде-то?»
В вопросе ее не было враждебности — одно любопытство. Агнеш — может быть, после удачи с носильщиком — чувствовала, что эта девушка, несмотря на то что ее сгоняют с квартиры, тянется к ней, больше того, разглядывает ее как существо высшего порядка. «Ничего еще не известно, — сказала она, сама дивясь своей хитрости. — Я с тобой как раз и хочу об этом поговорить». — «О чем? О том, что вы меня вытурили?» — засмеялась Пирошка, глядя Агнеш прямо в лицо. В сверкающих, черных ее глазах было написано, что она о них думает; но написано было в них и то, что она ничего из ряда вон выходящего в этом не видит. «Что, очень я напугала тетю Фриду? — нашла она объяснение новому повороту дел. — Я ей сказала, — ухмыльнулась она, — что раз так, перееду в гостиницу. Молодая девушка — и в гостиницу!» Она расхохоталась, явно не придавая никакого значения тому, считают ее молодой девушкой или не считают. «Вижу, тебе я могу сказать правду, — подстроилась Агнеш к этой прямоте, которая, хотя Пирошка и вкладывала в нее некий вызов, была, видимо, частью ее натуры. — Это я сделала небольшую глупость. Так что, знаешь, считай, будто никто тебя не просил съезжать». — «А отец твой?» — взглянула на нее Пирошка. «Он будет жить в другой комнате». — «Но в чем дело-то?» — все смотрела на нее Пирошка. Ей и в голову не пришло, что крохотную плату, которую она вносит, кто-то может считать большой суммой; она думала, скорее тут виновата чувствительная совесть хозяйки. «Во всяком случае, какое-то время», — добавила Агнеш, краснея. Ей, в свою очередь, показалось, что Пирошка оскорблена и ни за что теперь не останется. «Я, в общем-то, сама подумывала, не поискать ли другое — не такое пуританское — место, — решила успокоить ее Пирошка, — где электричество есть, ванна и не нужно все время ощущать на себе взгляд господина Жамплона. Правда, тут у меня дрова уже запасены. Да и лень перебираться куда-то». — «До весны оставайся спокойно, — сказала Агнеш, заметив, что дело улажено. — А там, может, я сама найду тебе что-нибудь подходящее», — добавила она в порыве великодушия. «Да? А где?» — ухватилась за ее слова Пирошка. «У знакомых… А то, может быть, у нас… — пошла она, чтобы обещание это не выглядело пустыми словами, еще дальше. — Мать говорила что-то в том роде, что сдала бы одну из комнат». — «У вас? — загорелась Пирошка. — Комнату дяди Кертеса?» — «Но она еще окончательно не решила», — поспешила Агнеш опередить вопрос: а почему не сейчас, не сегодня же? «Тогда бы мы вместе с тобой жили. Вот было бы здорово! — схватила Пирошка ее руку. — Ты мне так нравишься». — «Почему?» — рассмеялась Агнеш. «Ты такая тонкая и изящная. И сил у тебя хватает учиться… Медичка», — произнесла она, словно говоря о чем-то недостижимом, однако без всякой зависти. «Ты мне тоже нравишься», — ответила Агнеш искренне. «Я? — засмеялась Пирошка. — Чем же?» Ответить на это действительно было непросто. Тем, что она такая крепкая и здоровая, что плюет на весь мир, что с гормонами у нее все в порядке. Бедная Мария: если бы у нее было все, как у Пирошки, то можно было бы не бояться за нее из-за Ветеши. «Это не так-то легко сказать», — призналась со смехом Агнеш. «Я думаю», — сильной рукой обхватила ее за талию Пирошка. Она догадалась, о чем думает Агнеш, и сознание биологического своего совершенства прошло по ней теплой приятной волной. Они еще поболтали немного, потом Агнеш вскочила. «Пойду успокою тетю Фриду», — улыбнулась она заговорщически и вернулась к отцу и тетке, которые занимались вещами. «Ну, что она сказала?» — с тревогой взглянула на нее тетя Фрида. «Что останется с удовольствием. И рада, что познакомится с папой. Очень добрая, веселая, здоровая девушка», — отрекомендовала она жиличку отцу. «Ja, froh und gesund, das ist sie»[102], — сказала тетя Фрида неповторимым своим ворчливым тоном, как человек, который не собирается так просто менять свое мнение.
Но если Агнеш в конце концов и пришлось остаться у матери, квартиру на улице Лантош она больше не считала своим домом. Хотя зимние каникулы еще продолжались, она всегда находила себе какое-нибудь дело в городе. То забегала к тете Фриде (чаще всего с утра, когда отец был в гимназии) — узнать, не нужно ли им чего-нибудь; то шла в Музей живописи — взглянуть на старые любимые свои картины; то просто использовала свой проездной, катаясь из конца в конец на трамвае. Однажды она заехала даже к Филаторской дамбе — посмотреть, где живет Халми (хотя адрес его она не знала), и, если встретит случайно, отдать зачетку. После обеда она устраивалась в библиотеке Общества взаимопомощи (раза два ходила разведать, что и как, и в другие библиотеки) и, вдохновленная своим успехом на экзамене у Розенталя, брала книги по медицине; однажды выписала даже труд Корани о болезнях почек. Но чем больше она читала, тем сильнее мучилась тем, что — не видит болезней. Вот если бы Розенталь ей сказал: пожалуйста, барышня, приходите в клинику, разговаривайте с больными. С какой пользой она могла бы использовать это свободное время! А так она жила, гуляла, читала только затем, чтобы поменьше быть с матерью. Не потому, что все еще на нее сердилась. Нет, дело было скорее в другом: она не хотела даже молча смириться с «победой греха», ведь, смирившись, она как бы оказывалась запертой в одной клетке с ним. Мать после переезда отца несколько дней с ней не разговаривала; обиженное лицо ее показывало, что ей удалось себя убедить в неблагодарности Агнеш, которая взялась судить родителей и попыталась представить ее в таком свете, что даже отцу это показалось слишком. Однако к обиде и ожиданию, когда же дочь наконец предпримет попытку загладить свою вину, теперь примешивался еще и страх. Под взглядом дочери она сохраняла на лице оскорбленное выражение, но если Агнеш случалось внезапно повернуться к матери, она не раз ловила на себе ее изучающий, испуганный взгляд. Словно некая растерянность вселилась в ее обычную агрессивность, которая помогала ей от любой нагрузки на нервы, будь это даже легкое неодобрение, даже тень упрека, освобождаться, мгновенно и полностью, с помощью гневной вспышки, приступа возмущения, плача, самовозвеличения, быстрого ответного обвинения. Прежде нельзя было даже представить, чтобы она, после столь тяжкой обиды, как предательство дочери, первой сделала шаг к примирению; однако упорное молчание Агнеш и особенно редкое ее появление дома — это во время каникул-то — легло ей на сердце таким грузом, который она не могла уже вынести, а поскольку прежними методами — попреками, растравлением затянувшихся ран — действовать она не могла, то ей пришлось пойти на попятную. Она готовила вкусные горячие ужины, гладила и, чтобы Агнеш сразу заметила, складывала на рекамье ее блузку и комбинацию; дело дошло до того, что она сама начала ей показывать новые свои произведения из тисненой кожи, даже сунула ей в руки палочки с заостренными концами, чтобы дочь могла оценить ее усердие. Вместе с тиснением госпожа Кертес училась росписи батиком. Батик как раз входил в моду, и в одной из промышленных школ организовали курсы для рукодельных дам. В батике, по убеждению госпожи Кертес и, очевидно, Лацковича, крылось больше возможностей, чем в тиснении кожи. В Европу, где в эти годы стала цениться экзотика: туземные статуэтки, украшения, танцы, — батик привезли из Голландской Индии; он был куда более «модерным», чем все те скопированные из дамского журнала образцы рукоделия, которыми она гипнотизировала себя за годы замужней жизни. Агнеш ничего не могла поделать: ей приходилось терпеливо выслушивать начатый ради того, чтобы завязать разговор, но быстро переходящий в восторженные восклицания рассказ об удивительных тонах, фантастическом впечатлении, какое производит роспись батиком на шелковом платке, где пропитанный воском рисунок сохраняет цвет ткани, и о том, как ее похвалили в кружке за сообразительность. Все эти быстро осваиваемые ремесла: тиснение кожи, батик, равно как и планы открыть мелочную лавочку, на что ее подбивали Биндеры и о чем она не очень решалась пока говорить, — показывали, что она сделала кое-какие выводы из своего поступка: добившись независимости в любви, она и в остальном готова быть самостоятельной и разве что временно, главным образом из-за Агнеш, согласна принимать подачки от мужа, ведь если она ремесло освоит по-настоящему и станет в день пропускать через горшочки с краской хотя бы по восемь — десять платков, то больше не будет нуждаться в деньгах. Вот и Агнеш пусть никогда не бросает, наставляла она дочь, врачебную практику, какую бы хорошую партию ни сделала.
Выслушивая эти планы, Агнеш, как ни старалась пробудить в себе справедливое негодование, с трудом могла подавить сочувствие к ней. Почему она была так уверена, что мать никогда не заработает ни копейки ни тиснением кожи, ни батиком, ни другим каким-либо ремеслом? Ведь она, по крайней мере до сих пор, была и старательной, и умелой. Ту массу времени, что другие женщины тратят по пустякам, ни на что, гуляя, а иные — играя в карты, мать убивала на какие-то кружевные скатерти и огромные вязаные шторы, на которых под тонкими, проворными ее пальцами из бесчисленных узелков и петель выходили деревья с плодами, фантастические птицы. Шелковая накидка на кресле-качалке, гобелен на стене с изображением Ромео и Джульетты — все это говорило о ее упорстве и трудолюбии. Сколько теплых шапочек, напульсников, варежек с двумя пальцами связали они с Бёжике в первую военную зиму, после того, как госпожа Кертес оставила госпиталь. Почему же у Агнеш не было и тени сомнения, что теперь, когда этот энтузиазм подкреплялся не карпатской зимой, не полуреальным-полуактерским состраданием к бедным солдатикам, а надеждой на собственную эмансипацию, прежнее мастерство, добросовестность, вдохновение, прилежание откажут матери? Может, если б еще «обеспечивать себе кусок хлеба» она вынуждена была не в таких экстраординарных условиях, где путал карты Лацкович, и не таким экзотическим, обещающим большие деньги ремеслом, а, как в голодные военные годы, подобно другим женам служащих, изготавливала бы свои шторы и скатерти для какой-нибудь лавки ручного промысла. Но и тогда не она, а кто-то другой должен был бы доставлять сырье и увозить товар, потому что она, с ее неуравновешенностью, наверняка нашла бы тысячу поводов, чтобы вспылить и все испортить. Чтобы зарабатывать на жизнь, она должна была освоить не столько ремесло, сколько само умение зарабатывать, а для этого ей, капризной, избалованной и при всем том чувствующей себя обиженной жизнью женщине, которая никогда не концентрировала свои силы, внимание и способность смолчать, где нужно, на добывании денег, просто-напросто не хватало жизненной школы. И когда Агнеш думала обо всех тех разочарованиях, которые на пороге старости обрушатся на мать и из-за Лацковича, и из-за яванских платков, и в первую очередь из-за нее самой, она не могла авансом не чувствовать к ней, идущей навстречу неизбежной и несоразмерной ее прегрешениям каре, некоторого сострадания. Нужна была какая-то свежая «подлость», чтобы тот новогодний сверкающий меч мог снова появиться из ножен.
Как-то в полдень в битком набитом желтом трамвае, и в те времена ходившем по Кольцу под шестым номером, Агнеш, стиснутая на площадке, меж дергающихся голов как будто заметила Мацу. Та сидела возле окна и, попадая в то расширяющееся, то сужающееся поле зрения Агнеш, смотрела на улицу, повернув голову под гораздо большим углом и с большей сосредоточенностью, чем того заслуживала бегущая за окном улица. Агнеш скорее по этой демонстративной позе поняла, что это ее старая учительница, так как грибообразная войлочная шляпка почти полностью скрывала ее лицо. Наверняка чувствует себя неловко, что не смогла найти ей ученика; Агнеш уже сделала некоторые усилия, чтобы пробиться к ней и улыбкой, ласковым словом успокоить ее, но, когда она покинула свою относительно надежную позицию, устремившиеся к выходу пассажиры — как раз была остановка — протащили ее чуть ли не до двери. На следующей остановке войлочная шляпа тоже поднялась, и Агнеш окончательно убедилась, что это Маца. Она была почти уверена, что учительница пойдет к другой площадке, к тому же туда было ближе. Но Маца, повертев головой и извинившись перед окружающими, двинулась в ее сторону, и, прежде чем Агнеш, по-девчоночьи улыбаясь, успела ее поприветствовать, та на ходу, en passant[103] бросила ей: «Ты, однако, мне удружила». — «Что? Как?» — ничего не понимая, спросила Агнеш. «Я посылаю к ней девочку, а той говорят: это ошибка и никаких учеников тут не берут», — проталкиваясь к подножке, в два-три приема произнесла учительница. «Я? Тетя Мария… — рванулась за ней Агнеш. — Я ничего об этом не знаю». — «А она приходила», — сказала Маца уже с мостовой. «Но как же так? Где эта девочка?» — высунулась Агнеш поверх висящих на подножке голов. Маца только рукой показала, дескать, ищи ветра в поле, она уже нашла себе другого учителя. «Осторожнее, барышня. Спихнете ведь», — обратился к ней снизу владелец блестящей от бриллиантина головы: от отчаянного движения Агнеш у него даже шляпа съехала набок.
Коротенький этот эпизод невероятно раздосадовал Агнеш. Она не сомневалась, что Маца действительно нашла ей ученицу, а когда та пришла по данному адресу, мать просто-напросто ее прогнала. Мало ей, что она с помощью отца держит ее в плену, она даже не позволяет ей заработать немного денег. Агнеш тут же сошла и на встречном трамвае вернулась домой. В скважине замка изнутри торчал ключ; напрасно она пыталась туда вставить свой. Она подумала даже, что у матери, вероятно, Лацкович (в это время она никогда не бывала дома, в знак презрения строго выдерживая режим, дескать, пожалуйста, с десяти утра до восьми вечера свидетелей у вас не будет), однако свежее возмущение заставило ее сердито нажать на кнопку звонка. «Ты?» — удивленно выглянула из-за двери мать. До обеденного стола, который бог знает почему в последнее время стал местом драматических сцен, они — готовящаяся к суровому разговору Агнеш и следом за ней удивленная и немного испуганная мать — шли в молчании. «Мама, вы прогнали отсюда девочку», — повернулась к матери Агнеш. «Я? Не знаю никакой девочки», — перешел первый, искренний, импульсивный протест в осторожное, лишь бы протянуть время (мать догадывалась уже, что за этим последует), отрицание. «Девочку из гимназии Андрашши. Еще перед рождеством. Я сейчас в трамвае встретила тетю Марию. Она со мной даже здороваться не хотела. Она мне нашла где-то ученицу — вы же знаете, как это нынче трудно, — а тут ее прогоняют». — «А, та девчонка? — поняла госпожа Кертес, что больше нельзя изображать невинность. — Какая-то дурочка бестолковая. Приходит и говорит: ее сюда послала одна тетя и здесь ее будут учить». — «И вы, конечно, не догадались, что ее могли только ко мне прислать?» — спросила Агнеш все еще суровым тоном, хотя чувствовала уже, что гнев ее получил прокол, как футбольная камера. Ведь она должна была ругать не кого-нибудь, а собственную мать. «А ты мне об этом сообщила? — почувствовала слабину госпожа Кертес. — Делаешь что-то, меня не спросив, а потом с претензией: как это я ничего не знаю. Я и той девчонке ответила: извини, милая, но я об этом ничего не знаю». — «Вы же сказали ей, что я не беру учеников!» — «Я? Да чтоб у меня глаза лопнули!» Огонь, вспыхнувший в ее взгляде, и капельки пены в углах губ говорили о том, что упрек дочери, видимо, был не совсем справедлив: если она и отослала девочку, то не в тех выражениях, как передала Маца. «А почему вы об этом ни словом не обмолвились? Я на другой день могла бы все исправить». — «Откуда мне знать, что вы в тот день с отцом придумали. Или где ты в тот день допоздна бродила… А тебе не приходит в голову, что я тоже человек и что-то могу забыть?.. Да и каникулы как раз начались, — пришел ей в голову еще один аргумент. И, видя, что гнев дочери совсем потерял свою силу, сама же и опровергла свою защиту, высказав истинную причину: — И вообще, что ты хочешь мне доказать этим своим репетиторством? Мало того, что я тебе позволяю в столовой питаться, ты еще и деньги сама будешь добывать? Учти: пока ты ходишь в университет, я как-нибудь на расходы тебе заработаю. («Батиком», — подумала Агнеш.) И нечего тратить время на всяких малолетних кретинок. Физиономия у нее была прямо как у маленькой шимпанзе. Если у тебя много лишнего времени, найди себе хороших приятелей. Оттого, что ты такой нищенкой ходишь, больные тебя выше ценить не станут».
Против таких аргументов — продиктованных не логикой, а эмоциями — спорить было бесполезно. Однако Агнеш опять набралась твердости и упрямо сказала себе, что не позволит связать себя по рукам и ногам. Все равно она сделает все, чтобы встать на ноги, и, как только будет возможность, уйдет из дому. Если отец не захотел ее взять с собой, она сама снимет себе какую-нибудь каморку. Однако круг занятий, которыми мог себя прокормить студент, в разоренной, заполоненной беженцами столице весьма сузился. Один коллега с пятого курса был уже ассистентом в Институте анатомии. Вот если бы и ей удалось пристроиться в такой мертвый институт, работу в котором коллеги, готовящие себя к практике, считают зря потерянным временем. Или заниматься в какой-нибудь лаборатории титрованием, готовить срезы. Но для этого тоже нужна протекция. А что она там заработает? Даже на обед едва ли. Что остается еще? Общество взаимопомощи, библиотека; столовая, но туда подавальщиками берут почему-то только мужчин. В круге, который то расширялся, то снова сужался, вновь и вновь оставалось одно: репетиторство. Но где найти такого ученика, который давал бы ей три-четыре тысячи крон? В деканате, на доске объявлений, уже висела ее записочка: «Студентка третьего курса могла бы заниматься со школьницей, прежде всего по естественным наукам». Внизу — адрес. Правда, она не очень себе представляла, какие родители пойдут искать репетитора на медфак, но на доске, среди объявлений вроде «Сниму комнату…», висело еще несколько таких же унылых бумажек. Теперь, когда мать прогнала школьницу, Агнеш решила обезопасить себя и, зачеркнув адрес, приписала: «Подробности — у привратника». Чтобы скорее сжечь за собой мосты, она даже в столовой стала расспрашивать знакомых, не знают ли они какую-нибудь семью, где нужен репетитор. Объявление, посоветовал ей один из коллег, надо вывешивать у филологов: туда родители приходят чаще. В самом деле, записочек там, в ящике за стеклом, висело куда больше. Однако там Агнеш не знала привратника. Проще всего было бы еще раз сходить к Маце. Да и вообще нужно с ней объясниться, рассказать, как все случилось. Однако оправдания, как спустившаяся петля на чулке, потянули бы за собой всю их историю. Конечно, если рассказать Маце все, она ее простит. Но это было так мучительно. То, что произошло, настолько жгло ей сердце, что она не могла даже говорить об этом. Поэтому из ее знакомых никто еще не знал о переезде отца.
В конце концов к Маце ей не пришлось обращаться. В канцелярии, записываясь на курсы следующего семестра, она встретила Марию. Тогда отдельного медицинского института еще не было, и медики вывешивали свои простыни-расписания в коридорах университета, вместе с филологами и юристами. На листе, где обозначены были курсы и фамилии преподавателей, было приколото множество талончиков, которые надо было отцепить и отнести на соответствующую кафедру. Для чего это было нужно, никто на медфаке точно не знал, и поэтому процедуру эту рассматривали как некий ритуал, что-то вроде рукопожатия декана; беда только, что тут была невероятная толкучка. С талончиками и с зачеткой надо было пробиться к окошечку, чтобы на них поставили печати и, словно какие-нибудь почтовые отправления, частично оставили у себя, частично вернули. Поскольку студентов было много, а число окошечек и их размеры — ничтожными, то операция эта сама по себе становилась испытанием силы локтей и духа; медики, особенно юноши, смотрели на все это как на забаву — словно в какой-то чужой стране должны были играть в регби; филологи же нервничали, помалкивали и на особо энергичные толчки отвечали неодобрительными взглядами, хотя на замечания и не отваживались. Агнеш пришла на запись в довольно хорошем настроении. Одного знакомого коллегу она поставила перед собой, чтобы он прикрывал ее спиной, и сурово глянула на пристроившегося за ней «аиста», который, видимо, решил воспользоваться толкучкой в гедонистических целях. «Агнеш», — позвали ее сзади. Это была Мария, которая, будучи на «и», только что встала в очередь к соседнему окошечку. Агнеш весело помахала ей зачеткой (так человек, сидящий на чертовом колесе в Луна-парке, машет садящемуся в кабину приятелю) и, пока не добралась до окошечка, проводила время, следя за продвижением Марии и улыбаясь, когда их взгляды встречались, а губы замедленно, но без звука (голос все равно утонул бы в этом гаме) шевелились, изображая какие-то приветливые слова. Агнеш показалось, Мария сегодня менее оживлена, чем в их последнюю встречу, в кондитерской, да и знаки свои посылает ей не так, как, скажем, Агнеш: нет, не враждебно, даже с энтузиазмом, но как-то немного грустно. Подозрительно было и то, что рядом с ней нет Ветеши. Серьезный кавалер не позволит своей даме сердца самой лезть в эту веселую мясорубку… Однако тут Марии, видимо, что-то пришло в голову, и она, уцепившись за плечо стоявшего перед ней студента в фуражке, привстала на цыпочки и попыталась крикнуть ей что-то, на что Агнеш, ничего не поняв, лишь пожала плечами. Безнадежная эта попытка привлекла внимание сплющенных между ними, как в апельсине, человеческих долек, так что к Агнеш, словно почта царя Аттилы, которую здесь передавали люди, стоящие друг к другу вплотную, пришло-таки наконец, с басом соседа-коллеги, сообщение: «Барышня из соседней очереди просит, когда закончите, быть так любезной и дождаться ее. В ваших собственных интересах», — пришла туда же и тем же путем вторая волна.
В самом деле, к вожделенному окошку Агнеш добралась гораздо быстрее и затем, прижимая к груди бумажки и проталкиваясь, вперед спиной, из толпы, сделала ободряющий знак Марии, которую как раз в этот момент неожиданное завихрение, накатившее откуда-то сбоку, заставило отступить назад, так что напрягшиеся для отпора плечи и сердитое лицо ее не очень-то смогли ответить Агнеш. Уложив в сумку зачетку и другие драгоценные бумажки, Агнеш, как удачливый мореход, благополучно добравшийся до пристани, смотрела на волны, уже ей не страшные; она даже помогла какому-то севшему рядом растерянному филологу в очках не менее чем с шестью диоптриями: бедолага, доучившись до второго семестра, все еще не постиг хитрости факультетского расписания. «Ух, — сказала Мария, когда, раздвинув широкими бедрами толпу, проделала, тоже спиной, путь от окошечка и рухнула на освободившееся место близорукого филолога. — Я уж думала, меня впихнут прямо в окошко, на голову инспектору…» Агнеш взглянула в лицо ей, в глаза; подруга больше походила на прежнюю Марию, чем на ту, в кондитерской, лишь подглазья были темнее да одно веко чуть-чуть подергивалось. Предвидя диагноз, Агнеш в порыве сочувствия не ограничилась рукопожатием, переходящим в объятие, но еще и поцеловала подругу. «Сто лет тебя не видела. Ты что, домой уезжала на рождество?» Мария ответила, но без особой охоты. «Не спеши так, — остановила она Агнеш, которая засыпала ее все новыми вопросами о прошедших неделях, — а то я забуду сказать. Это не ты та студентка третьего курса, которая могла бы взять ученика по естественным наукам?» — «Значит, ты видела?» — спросила Агнеш, краснея. «Ты же знаешь мою слабость ко всяческим объявлениям». В самом деле, Агнеш не раз наблюдала, как Мария, держа под мышкой стопку книг, торчит перед доской объявлений, разбирая написанное на бумажных клочках. «А ты еще адрес свой зачеркнула. Зачеркнутое всегда интересно. Да и мне помнится смутно, ты где-то на улице Далнок живешь или что-то в этом роде». — «Проще отсылать к привратнику, — отозвалась Агнеш, снова, к вящей своей досаде, краснея. — Дома еще неизвестно, застанут ли», — «Ты в самом деле репетиторством хочешь заняться?» — «А что? Карманные деньги никогда не помешают», — добавила она, еще более досадуя на себя за попытку подладиться к общественным предрассудкам. «Удивительная ты женщина, — с простодушным восторгом взглянула на нее Мария. — Как раз сейчас… когда твой отец вернулся!»
Мария, как большинство выросших в достатке девушек, была совершенно несведуща в материальных вопросах. Вернувшийся из плена отец, по ее понятиям — понятиям дочери аптекаря — означал, что другие члены семьи о деньгах больше могут не думать. «Вот как раз поэтому!» — ответила Агнеш с вызовом, как бы ставя на место ту, другую себя, трусливо что-то лепечущую про карманные деньги. Мария не поняла это «как раз поэтому», но решила, что речь идет о чем-то героическом, и повторила свое восхищенное: «Удивительная женщина!», подкрепив его рукопожатием. «Ну хорошо, — сказала она. — Ты гимназистов ищешь? А из реального училища девочку не хотела бы взять? Из четвертого класса». — «Кого именно?» — спросила Агнеш, словно ее согласие зависело от каких-то обстоятельств, хотя даже сердце ее в эту минуту выстукивало: бе-ру, ко-неч-но, бе-ру. «Внучку моей квартирной хозяйки». — «У нее еще одна внучка есть? — спросила Агнеш с улыбкой, так как Мария всегда называла хозяйку «моя бабуля». — Кроме тебя?» — «В том-то и беда. Она ее от дочери получила в наследство. Да ты скоро сама увидишь. До сих пор она сама пыталась с ней заниматься. Что это было, слушать — и то уши вяли. И результат — три четверки». — «Но ведь в реальном это считается удовлетворительным», — сказала Агнеш, которая благодаря Бёжике знала, в чем состоит решающее различие между четверкой и пятеркой. «Да, только она ее дальше хочет учить. Чистый анекдот… Да ты сама увидишь… Ну, так как?» — «А когда можно прийти поговорить?» — «Да хоть сегодня. Скажем, в четыре». — «Ты дома будешь?» — спросила Агнеш. Вопрос был безобидный, но Марию он почему-то задел за живое: она вдруг сменила тон и, почти подражая той, прежней Марии, в кондитерской, посмотрела на часы. «Ой, я с тобой заговорилась совсем. В двенадцать мне надо быть возле церкви Сервитов». — «Рандеву?» — улыбнулась Агнеш. «А, все то же, — поцеловала ее на бегу Мария. — Сервус. Значит, в четыре…» Она уже вылетела из здания, когда Агнеш сообразила, что не спросила адрес. Она вскочила в отчаянии, словно у нее уже увели ученика из-под носа. «Хорошо еще, что знаю, куда она пошла», — подумала Агнеш. Но, выйдя на улицу, все-таки огляделась. Знакомая фигура, раскачиваясь по-утиному, двигалась в сторону площади Кальвина, то есть совсем в другом направлении, и вовсе не так торопливо, как должна была бы. Когда Агнеш, догнав, взяла ее под руку, та вздрогнула и посмотрела на подругу почти со злостью. «Адрес-то свой ты не сказала», — объяснила Агнеш, смеясь над своей забывчивостью и словно не замечая слез на лице Марии.
Мария жила не так уж далеко от них — в том же районе между двумя вокзалами, который в восьмидесятых годах застроили аптекари и фотографы, вкладывающие свои капиталы в доходные дома, и спекулянты, рассчитывающие на то, что город будет все больше расти и расширяться; вся разница была в том, что если на дешевый псевдоренессансный фронтон их дома садилась копоть Западного вокзала, то здесь подобную же работу проделывал Восточный вокзал. Улица Розмаринг была шире и оживленнее, чем их скромная боковая улочка, которая, заканчиваясь тупиком, с весны до осени служила окрестной детворе футбольным полем. Здесь даже сейчас, на склоне дня, ощущалась близость рынка: брели по тротуару кухарки с сетками, расходились по домам покупатели, разъезжались ломовые телеги. На первом этаже углового дома, где жила Мария, находилась корчма, манившая к себе закончивших день торговцев в кожаных коротких пальто; из ее дверей тек призывный гул голосов вперемешку с гнусавым стоном шарманки; на окне красовалось не менее пожилое, должно быть, чем клиенты, но все же внушающее доверие объявление (написанное на куске упаковочной бумаги кисточкой, которую макали в чернила) о том, что как раз сегодня, в семь часов, тут состоятся соревнования по поеданию блинов. «Интересно, как это делается?» — думала впервые узнавшая про такой вид спорта Агнеш, поднимаясь по грязной (хранившей следы втаскиваемой наверх мебели) лестнице на третий этаж. Соревнующиеся с посиневшими лицами заталкивают в рот очередной блин, извозчики с пивной пеной на усах и толстые торговки, прячущие под фартуками большие кожаные кошельки, с хохотом показывают на них пальцами, а хозяйка корчмы с помощницей мечутся у большой печи, которая видна из пивного зала, или у газовой плиты, поставленной прямо около столиков, высоко подбрасывают блины и со сковородкой бегут к опустевшей тарелке, хозяин которой, заглотнув предыдущую порцию, нетерпеливо машет корчмарке. «Кажется, у Брейгеля есть такая картина», — подумала Агнеш, доказывая себе (чтобы отвлечься от страха, растущего вместе с количеством ступенек), что способна еще размышлять о живописи и искать ассоциации в истории искусства. Шагая вдоль железных перил по узкой, висящей над колодцем двора галерее от площадки пятого этажа до нужной двери, Агнеш почему-то подумала про детей, которые, наверное, взбираются на эти перила, свешиваясь в гулкую пустоту, — и у нее самой немного закружилась голова.
В окне квартиры под номером три колыхнулась при ее приближении занавеска, и какая-то тень кинулась к двери. Не успела Агнеш, набравшись смелости, нажать кнопку звонка, как дверь открылась, и рука Марии втащила ее в боковую комнату. «Я тебя ждала уже, — зашептала она Агнеш. — Хотела сама сначала с тобой кое-что обсудить. — Затем, смущаясь немного, что приходится говорить о деньгах, но в то же время и не без гордости — вот какая она подруга, и об этом подумала — продолжала: — Ты решила уже, сколько запросишь?» Агнеш, собственно, размышляла над этим (более того, в столовой даже заговорила об этом с одним коллегой, но тот, как истинный мужчина, укрылся в достойной дельфийского оракула туманной фразе, что плата нынче, имея в виду девальвацию, меняется чуть ли не каждый месяц, и порекомендовал ей поинтересоваться хотя бы ценой на кукурузу); однако сейчас, видя убогую обстановку (прежде ей всегда представлялось, что Мария занимает комфортабельную однокомнатную квартирку), не посмела высказать то, что думала. «Бедновато они живут», — ответила она, как бы ища компромисс с собственным предварительным решением. «Ты за них не переживай, у бабули каждое воскресенье пироги на столе. И мне она уже дважды поднимала квартплату». — «А все-таки, сколько мне попросить, как ты думаешь?» — взглянула Агнеш на подругу. Та придала лицу выражение, соответствующее серьезности дела. Ей нравилось, что она хотя бы тут может опекать Агнеш, однако финансовых познаний ей для этого явно недоставало. «Присядь на минутку, все равно трех часов еще нет».
Агнеш села и огляделась. Среди мебели в комнате было два допотопных предмета — стол и комод, которые могли бы попасть сюда и из Тюкрёша; должно быть, это была бабулина мебель, составлявшая как бы скелет обстановки. Новые наслоения — туалетное зеркало, гарнитур из кресел и столика, за которым они сейчас расположились, и гардероб, все из клена, — представляли собой ту «модерную», гладкую мебель, на которую госпожа Кертес одно время сердилась как на уродливое детище моды, чтобы потом стыдиться уже своей старой резной кровати. Эту мебель, должно быть, получила в приданое умершая хозяйкина дочь. Наконец, скатерти, крестиком вышитые подушки, похожие на материны, были, видимо, присланы аптекаршей из Сарваша, чтобы сделать жилье дочери поуютнее. Белая кровать с медными шишечками на спинках тоже попала сюда явно из девичьей комнаты в родительском доме Марии. «Наверное, здесь все у них и случилось в первый раз», — подумала Агнеш, когда взгляд ее скользнул по белому покрывалу. «Я за эту комнату плачу четыре тысячи, — сказала Мария. — Если ты каждый день будешь сюда ходить и мучиться с этой безмозглой мартышкой, — ты, медичка! — то это уж как-нибудь стоит не меньше, чем жилье, которое они мне сдают». — «Четыре — это ужасно много: отцу моему столько платят, — выдала Агнеш в испуге, что ей предстоит запросить такую огромную сумму, часть семейной тайны. — Квартир мало, а репетиторов много. Помнишь из политэкономии про ценообразование?» Суть намека относилась не столько к введенной во время Коммуны и давно позабытой дисциплине, сколько к забавной ситуации, что они вдвоем рассуждают здесь о законах ценообразования. «Так ведь мы там как раз учили, что ценность продукта пропорциональна вложенному в него труду, — возразила Мария, которая, как закоренелая отличница, и политэкономию выучила на «отлично». — Много ли они вложили труда в мою комнату?» — «Если я три тысячи попрошу, как ты думаешь, не ограблю их?» — «Думаю, смело можешь просить», — сказала Мария уже чуть с меньшей решительностью: если до этого верх в ней брало великодушие и желание сделать добро подруге, то теперь она стала думать, не спросит ли бабуля с нее, если результаты окажутся меньше затрат.
За стеной тем временем, видно, заметили, что тот, кого они ждут, уже прибыл: дверь в комнату несколько раз приоткрывалась и вновь закрывалась, нерешительные шаги, звон посуды, шум выдвигаемых ящиков звучали скорее как признаки наличия жизни, чем как отголоски осмысленной деятельности. «Бабуля зашевелилась уже», — расшифровала Мария хорошо знакомые ей сигналы Морзе. «Тогда пойдем к ней, а то рассердится», — встала Агнеш. «Некуда нам спешить», — посмотрела Мария на свои часы. То, что она заставляет хозяйку чуть-чуть подождать, доставило ей — как она ни хвалила ее — известное удовольствие. Из сумрака кухни шагнула к Агнеш женщина в черном платке. Деревенского покроя блуза, высокие шнурованные ботинки — все было как у тюкрёшской родни. Однако женский глаз мог заметить, что это не настоящая крестьянка: она давно живет в городе и, вырастив дочь-учительницу, сама не осталась прежней. Платок не закрывал ее лоб до самых бровей, оставляя спокойное лицо открытым; блузу ее украшало маленькое жабо, юбка тоже была городского покроя. Крестьянская одежда скорее как бы давала понять, что она и тут, в городе, сберегла себя в божьем страхе и простоте. Любезная, чуть застенчивая улыбка, в которой чувствовалась некоторая дань гостеприимству, и весь ее скромный и ласковый вид, под которым ощущался твердый характер, лишь углубляли и оттеняли это первое впечатление. «Словно назареянка[104]», — подумала Агнеш, когда, поборов свои колебания, добавила к рукопожатию «целую ручки». Она никогда не видела назареев, только читала про них у Кароя Этвеша[105], чью книгу одолела еще девочкой, когда глотала подряд все оставшиеся от отца и доступные ей книги. «Очень ждем вас, учительница Агнеш, — сказала с улыбкой, но без подобострастия, свойственного простым женщинам при общении с господами, хозяйка; видно было, что она в каком-то хорошем доме научилась сочетать уважительность и достоинство. — Йоланка так волновалась, что за обедом и не ела почти ничего». Агнеш смущенно искала тон, приличествующий ее новому рангу. «Она с домашним учителем никогда еще не занималась?» — «До сих пор только бабушка пыталась ее учить», — ответила Агнеш ее первая работодательница. «Могу себе представить, как ей доставалось, бедненькой, засмеялась Агнеш заискивающе, как это делают молоденькие девушки, кокетливо разговаривающие со взрослыми. — Ну что ж, пойдем, покажемся ей».
Комната была почти такой же, как у Марии, только побольше, и вместо накидок и вышивок — произведений провинциальной аптекарши — тут висели по стенам семейные фотографии, среди них — снимки молодой женщины в разных позах и в разном возрасте, старое свидетельство об отставке над пучком бессмертников, на гвозде — миртовый венок с фатой и, что Агнеш больше всего удивило, три траурных извещения в черной рамке над кроватью учительницы, режущую глаз желтизну которой чуть-чуть примиряло с коричневой крестьянской мебелью темное покрывало. Девочка, чье волнение ей предстояло сейчас успокоить, сидела посреди комнаты за обеденным столом, преобразованным в парту, в свежевыглаженном школьном фартуке, который, видимо, надели на нее не с утра, да и на длинной черной косе с бантом и на несмятой юбке в складку не было ни пушинки, ни высвободившейся прядки, которые могли бы быть следами проведенных в школе часов. На столе, аккуратно обернутые в синюю бумагу, лежали стопкой учебники — не те, что нужны были на завтра, а все, с географическим атласом внизу и книгой псалмов наверху. Перед девочкой лежала раскрытая книга (все было организовано так, будто застали ее за учебой), когда бабуля с новой учительницей вошли в комнату, девочка сначала посмотрела на них, потом не спеша, как-то сонно встала и положила в дружески протянутую ладонь Агнеш расслабленную, холодную, как лягушачья лапка, руку. В том, как она стояла перед ними, словно поднявшись для не обещающего ей ничего хорошего ответа в классе, мало было такого, что радовало бы душу. Для возраста своего она выглядела слишком маленькой и неразвитой: ноги в черных нитяных чулках — как две палочки; никакой осанки; глаза, боясь встретиться с прямым взглядом, убегали то вправо, то влево, заставляя подозревать ее в скверных мыслях и тайных детских пороках. Волнения, о котором говорила бабуля, на лице ее не было и следа, разве что глубокую апатию, которая, очевидно, была постоянным ее состоянием, сейчас немного взъерошило слабое любопытство пополам с недоверчивостью. «Значит, ты и будешь моей маленькой ученицей?» — кое-как одолела Агнеш свой страх, однако, что делать дальше, она никак не могла придумать: прижать к себе ее голову, обнять за плечи или просто подержать еще некоторое время в руке ее лягушачью лапку. Так что она лишь смотрела на девочку с деланной лаской. «Представься как следует», — сказала ей бабушка, как маленькому ребенку, хотя сами они, взрослые, тоже забыли друг другу представиться. (Или, может, так полагается?) «Не обязательно, я ведь и так знаю, как тебя зовут. Ты — Йоланка, Йоланка Ковач, — прочитала она на тетради. — А я — Агнеш Кертес. Имена у нас довольно простые». — «Да», — ответила девочка еле слышно. «Оробела она немного, — вмешалась бабушка. — Я ей все говорю: не будь, Йоланка, такой несмелой, а то учителя думают, ты урока не знаешь. Уж вы поверьте, семь лет она при мне, и ни разу я ее в школу с невыученными уроками не посылала. Только теперь уже трудновато мне. Я ведь сама-то начальную школу только прошла, в деревне». — «И теперь вместе с ней все уроки учили?» — спросила с почтительным удивлением Агнеш. «А что делать? Дочери я, царство ей небесное, обещала, что поставлю на ноги сиротинку, будет она человеком, как ее мать. Да только у Илике голова была светлая, все схватывала на лету, а Йоланку, может, я сама и испортила: она к помощи так привыкла, что уже без нее не может. Так что цени, Йоланка, что тетя Агнеш учить тебя станет, — повернулась она к девочке, скосившей глаза куда-то в угол. — Это у тебя последняя возможность наверх выбраться, получить такое свидетельство, чтобы я могла в педучилище тебя записать, к бывшей классной руководительнице твоей мамочки: она теперь директором там. Если я, простая работница, не жалею ради этого ничего, так уж и ты постарайся, возьмись за ум».
Сиротинка стояла как стояла, даже «да» не ответила. Должно быть, она давно уже привыкла к убедительным этим, ласковым поучениям. Агнеш смотрела на нее и думала: «А может, она совсем того?» Но ведь до четвертого класса она добралась как-то, и, по словам Марии, у нее всего три четверки. «Тебе какие предметы труднее всего даются?» — обернулась она к девочке, чтобы и от нее хоть что-то услышать. Йоланка молчала, словно обдумывая, что это значит — «труднее даются» и что ей дается труднее. «Ну, скажи же, Йоланка! По каким предметам у тебя «удовлетворительно»? Потому что «совсем плохо» у нее, слава богу, не было». — «По немецкому, — постепенно собралась с мыслями девочка, — и еще по истории… и по чему еще?» — смотрела она пустым взглядом в пространство. «По математике?» — помогла ей Агнеш. «По математике — нет, — возразила бабуля. — Ну скажи, Йоланка! Тетя подумает, ты не знаешь». — «Еще химия и минералогия», — пришло в голову Йоланке. «Вот-вот. С этим моя старая голова уже не справляется. В немецком я еще так-сяк, у нее проверяю, а химия и минералогия — это для меня слишком умно. Потому и решила: лучше стирку еще буду брать, но найду ей кого-нибудь. Тут мне Мария и говорит, — оглянулась она в сторону немой участницы эпизода, — что есть у нее подруга, интеллигентная, из хорошей семьи, которая и заниматься будет добросовестно, и бедность мою учтет». — «Тут своя такса, — подала голос Мария. — Агнеш больше не запросит…» Агнеш знала уже, что запросит меньше, чем они договаривались. И поскольку Мария явно готова была назвать сумму, которая Агнеш казалась слишком большой, она быстро перебила ее. «Конечно, сначала хотелось бы посмотреть, за что я берусь. Пожалуй, сейчас я проверю у Йоланки уроки на завтра», — отодвинула она неловкий разговор еще на час, когда они будут с бабулей вдвоем. «Это верно. Сначала посмотреть надо, что к чему, — признала бабуля правомочность такого решения. — Я, прошу прощения за сравнение, тоже так всегда делала, если работу брала. Значит, мы вышли», — сказала она со вздохом: ей хотелось остаться, чтобы, если понадобится, сглаживать впечатление от ответов внучки. Но Агнеш не стала ее удерживать, и она обеспокоенным тоном напутствовала напоследок Йоланку: «А ты уж давай посмелее! Говори, как умеешь. Учительница поймет, что тебе сейчас немного не по себе».
«Всегда она с этой тупицей так ласково разговаривает?» — думала Агнеш, пока бабуля с Марией выходили, а они с Йоланкой усаживались за застеленный синей бумагой стол. Видно, тут придется изо всех сил держать себя в руках. Хотя, может, девчонке был бы только полезен один-другой освежающий подзатыльник. «Ну что ж, посмотрим, что у тебя за уроки завтра», — сказала Агнеш, когда свидетели удалились. «Завтра?» — переспросила Йоланка, говоря слегка в нос, что, видимо, было в каком-то органическом соответствии с ее вялыми лягушачьими пальцами. «Ну да, завтра, — подтолкнула Агнеш ее раздумья. — В среду», — уточнила она, решив, что девочка от смущения забыла, какой нынче день недели. Йоланка потянулась к лежащей поблизости стопке. «Ты что ищешь?» — спросила с удивлением Агнеш, видя, что та листает свою тетрадку для записей. «Расписание», — ответила девочка, показав найденную страницу. «Ты что, не знаешь, какие в среду уроки?» — удивилась Агнеш еще сильнее. Сама она еще в первом классе знала расписание наизусть, причем не к концу января, а в сентябре, на второй, на третьей неделе учебы. Йоланка не ответила, предоставляя Агнеш по ее молчанию и по собственным нервам измерить время, необходимое для отыскания уроков на среду и прочтения их; затем не спеша начала читать: «Среда — математика, гимнастика…» Среда была легким днем: к двум урокам, пению и гимнастике, готовиться вообще не надо; кроме математики, есть еще венгерский и санитария. Агнеш особенно обрадовалась последнему: «Как, вы и санитарию проходите?» (У них такого предмета не было.) Йоланка даже смогла сказать, что сейчас они дошли до инфекционных болезней. Ну, это пусть останется напоследок, тут Агнеш может блеснуть. «Ладно, начнем с математики…» На дом заданы были две задачки на вычисление процентов с капитала. В одной надо было найти капитал, в другой — проценты. Йоланка, как за щитом, укрылась за вызубренной формулой: дни на капитал и на процент, деленные на тридцать шесть тысяч. «Прекрасно», — сказала Агнеш и подождала, пока девочка, навалившись грудью на тетрадь, как делают слабые ученики, когда что-нибудь знают, подставила в формулу цифры из условия. Она и сама была рада, что школа или бабуля смогли-таки вдолбить в Йоланку известный автоматизм. «А теперь скажи, эти тридцать шесть тысяч откуда здесь взялись? Собственно, что они означают?» Для Йоланки, по всему судя, вопрос прозвучал странно. «Ну они что, с неба свалились?» Йоланка — поскольку на учительские шутки полагается реагировать — вяло улыбнулась. «Что на что здесь умножено?» В конце концов удалось выяснить, что это число дней в году, умноженное на сто процентов. «А теперь, если бы по датам вышло не три месяца и двадцать один день, а просто три месяца? Ты и тогда бы сюда записала тридцать шесть тысяч?» Йоланка согласилась: да, и тогда бы, только вверху — девяносто… Добрых десять минут ушло, пока она поняла, что в числителе тогда достаточно было бы записать только три, а внизу — тысяча двести. «Конечно, как ты написала, тоже хорошо», — признала Агнеш, что подобные отступления только сбивают с толку. Когда перешли ко второй задачке, оказалось, что соответствующих формул в мозгу Йоланки не отпечаталось. Агнеш, к счастью, помнила еще кое-что из алгебры, чтобы сообразить, что речь идет об уравнении, которое нужно преобразовать относительно капитала. Но как она объяснит это Йоланке? Как объясняли в школе? «Сейчас я тебе покажу один прием, — нашлась Агнеш, — которым можно вычислить не только капитал, но и проценты, и дни». — «Это мы еще не учили», — вставила Йоланка, чуть-чуть оживляясь от испуга. «Ничего, я тебе все равно покажу», — сказала Агнеш, чувствуя, что если на свете есть что-то крайне важное, так это добиться, чтобы Йоланка затвердила прием, как какой-нибудь трюк, и не жаловалась бабушке, что учительница толкует ей про какие-то непонятные вещи. Написав столбиком буквы «к», «д» и «п», она поставила против каждой знак равенства. «Теперь смотри: сверху всегда стоит тридцать шесть тысяч — «к», а внизу остальные две величины, которые мы еще не записали…» Это в самом деле было просто, и через десять минут Йоланка, не глядя в тетрадку, уже могла не только повторить формулу, но и рассказать своими словами, как надо считать.
«Ну, с математикой, вижу, в самом деле все будет в порядке, — сказала Агнеш с искренним облегчением, хотя понимала, что вдолбила всего лишь один способ расчета. — Посмотрим, что там у нас по венгерскому». — «По венгерскому? — переспросила Йоланка. — Только стихотворение». Выяснилось, что речь идет о стихотворении Петефи «Тиса» (именно на нем был раскрыт учебник, когда Агнеш вошла в комнату), которое, судя по крестикам в тексте, заучивали по две строфы. Никогда еще Тиса не текла так сонно, а в конце не разливалась так тоскливо, как в исполнении Йоланки; однако бабулино терпение, подобно цементу, сковало трохеи в единое целое (потому, должно быть, стихотворение и было выложено на стол, как некая приманка для репетитора): стоило угадать первое слово строфы, как остальные шли за ним сами собой. «Ну ладно, это ты выучила. А теперь попробуем рассказать более осмысленно… — И Агнеш четко и с расстановкой прочитала первую строфу. — Примерно так. Теперь ты попробуй». Йоланка, казалось, считала не только безнадежным, но и постыдным делом столь же прочувствованно произносить: «Пал на землю сумрак пеленой», да и еще лицом выражать вечернее настроение. На первой строчке в ее голосе еще чувствовалось некоторое старание, но потом она опять перешла на монотонную скороговорку. «Так, так, смелее… Рассказывай, как артистка, — подбадривала ее Агнеш. — Представь, как все удивятся, когда тебя вызовут, а ты вдруг продекламируешь лучше всех». Йоланку такая перспектива не соблазнила. Она была уверена, что, если ей вздумается на уроке изобразить что-нибудь подобное, весь класс покатится от хохота. «Ну, как-нибудь так… Со временем пойдет лучше, — сказала Агнеш, когда Йоланка, повторяя стихотворение второй раз, все же решилась на словах «всю плотину в щепки разнесла»[106] вложить в свой гнусавый голос некоторую энергию. — По венгерскому все? — на всякий случай спросила она. — А грамматика?» — «Еще сочинение нужно завтра сдать», — сказала Йоланка, и во взгляде ее, поднятом на Агнеш, вместе с любопытством блеснуло словно бы еле заметное ехидство, даже юмор. «Сочинение? — уставилась на нее Агнеш, в самом деле ошеломленная. — Может, домашнее задание?» Но оказалось, речь идет о самом настоящем домашнем сочинении, какие пишут гимназисты, тема его была — «Прогулка по зимнему Лигету». «Ну и где оно? Хотя бы в черновике-то готово?» — пыталась расшатать Агнеш молчание Йоланки, в котором под привычной застенчивостью словно бы пряталось некоторое злорадство. В четвертом классе реального училища, куда ходила Йоланка, таких сочинений никогда еще на дом не задавали, это был, очевидно, своего рода эксперимент, и Йоланка с бабулей решили: что-что, а сочинение нужно возложить на плечи новой учительницы.
«Тогда делать нечего», — подавила в себе Агнеш внезапную злость и желание сказать резко: дескать, ты что, не могла (или, скорее, вы с бабулей не могли) начать с этого? Сижу здесь целый час, а теперь придется еще полтора мусолить про то, как барышня Йоланка гуляла в Лигете. «Давай зажжем свет, — предложила она вместо этого (в комнате начинало темнеть). — Когда ты в последний раз была в Лигете?» — спросила она, когда Йоланка с готовностью, но без всякой спешки сходила к выключателю. «Когда? — переспросила Йоланка. — Летом, один раз с бабушкой», — покопавшись, вытащила она на свет божий воспоминание, сопроводив его бледной улыбкой. «А зимой не была? Это же тут, поблизости». — «Зимой мы не гуляем», — с тайным удовлетворением отвергла Йоланка самое возможность опереться на ее личные впечатления. «А в воскресенье?» — подтолкнула Агнеш память Йоланки. В самом деле, осенью и зимой, когда рано темнеет, в будни особенно много не погуляешь. «В воскресенье мы с бабушкой в церковь ходим». — «А ты сама-то? Я тоже выросла здесь, в окрестностях. Улицу Лантош знаешь?» — «Нет», — удивилась Йоланка ни разу не слышанному названию. «Ну, примерно на таком же расстоянии от Лигета, что и вы… Словом, там чуть ли не все мое детство прошло. Летом мы у озера в диаболо играли, зимой я в Зоосад ходила. Ты на коньках не катаешься?» — «Один раз попробовала, на школьном дворе», — ответил гнусавый голосок, и глаза с некоторым интересом ожидали продолжения сказки о детстве тети Агнеш. «В общем, ты Лигет зимой не видела, — собиралась Агнеш с мыслями, мучительно думая, что же ей делать, потому что просто взять и написать сочинение — чего явно хотела от нее Йоланка — она себе не могла позволить. — Тогда ты должна это представить. Летом один раз была, говоришь. В этом ты, хоть и не хотелось тебе, а созналась», — спрятала Агнеш под смехом растущее раздражение. «Летом мы и еще ходили», — сказала Йоланка, словно почувствовав в глубине шутки некоторое презрение. «Тогда давай вспоминать по порядку, что ты видела в Лигете». Агнеш с любопытством смотрела на неуверенную улыбку девочки: ей в самом деле было интересно, в каком порядке станет всплывать в этом сонном мозгу рай ее детства. «Кукольный театр», — сказала Йоланка. И Агнеш почти воочию увидела перед собой назареянку в крахмальном платке и ее внучку с торчащей косичкой, глядящих, как ломается и верещит Янчи Паприка[107]. «И что там, только один этот балаган, да?» — «Нет, много». — «Карусели еще, верно? Ты на каруселях каталась?» — «Давно, с мамочкой», — сказала Йоланка. В том, как она это произнесла, не было особого чувства, разве что некоторая тень того благоговения, с которым говорила о покойнице бабушка. Однако от этих слов раздражение в груди Агнеш бесследно растаяло. Она даже устыдилась себя, заметив, что своими вопросами пытается добиться от «маленькой кретинки» того, чего та скорее всего вовсе не чувствует, и упускает при этом из виду нечто более важное: огромное детское горе. «А знаешь, как в Пеште зовут эту часть Лигета? — спросила она ласково и сама же ответила: — Вурштли…[108] А в Английском парке ты была?» — продолжала она. Йоланка там не была. «А в Зоосаде?» — «Да», — засмеялась Йоланка. «Ну, что тебе сейчас вспомнилось?» — «Обезьяны». — «В мое время там был один орангутанг, Джелла. У нее в клетке даже футбольный мяч был».
Так постепенно они добрались до озера, до Вайдахуняда, вспомнили даже Промышленный павильон. Агнеш пришла мысль набросать на листке план Лигета. «А теперь представь: вы живете вот тут, ты с друзьями вот так направляешься в Лигет. — И она показала, как именно. — Как мы пойдем? По улице Дамьянича? Лучше по Аллее». Йоланка, у которой вызвало улыбку уже слово «друзья», теперь, когда острие карандаша превратилось в ее подругу, издала слабый смешок, как в тот момент, когда услыхала про обезьян. «Сейчас мы находимся в парке, возле аллеи Штефании. Как ты думаешь, деревья теперь какие? Голые, заснеженные, верно? Летом они были зеленые, а теперь черные с белым. А Вайдахуняд?.. Он и теперь так же гордо смотрится в водное зеркало?..» Йоланка об этом не имела понятия. «Нет, потому что на зиму воду спускают. А старик Аноним?.. Статую Анонима ты знаешь?» — «В учебнике истории видела», — ухмыльнулась Йоланка, вспомнив фигуру в надвинутом на глаза капюшоне. «Так вот это там, во дворе Вайдахуняда. Теперь у него еще один капюшон — из снега. А Вурштли, где пирожки и баранки продавали?» Тут даже Йоланка догадалась, что зимой эта часть закрыта. «А звери? Обезьяны, которые любят тепло? Они теперь в других клетках, в теплом помещении. А какие звери все же остались снаружи?» Они пришли к выводу, что снаружи, вероятно, остался белый медведь, хотя Агнеш и сама этого точно не помнила. «Вокруг все пустынно? А где все-таки шум и оживление?» На это Йоланка сумела ответить: многие из ее одноклассниц, повесив на плечи коньки, после уроков отправлялись на каток в Зоосад.
«Ну, вот мы все и представили, — сказала Агнеш, рассказав про военный оркестр, про пары, выписывающие восьмерки на льду, про носящихся по всему катку и на всех натыкающихся мальчишек. — Сейчас ты это запишешь, сначала на черновике… — Чтобы дело шло быстрее, она сама взяла карандаш. — Сегодня я, в виде исключения, буду писарем, а ты будешь мне диктовать…» Йоланке это показалось настолько невероятным, что она лишь стояла и улыбалась. «Ну, начали. Однажды после обеда мы пошли гулять в Лигет… Простыми, ясными предложениями, так, как все было, вернее, как мы представили». В основном диктовать пришлось самой Агнеш, но постепенно и Йоланка начала выдавливать фразы о деревьях, о Вурштли, о белых медведях, даже о военном оркестре. Они как раз кончили с сочинением, когда в приоткрывшейся двери появилась бабуля. «Мария уже беспокоится», — сказала она улыбаясь, когда Агнеш подняла на нее взгляд. Хотя она сослалась на Марию, видно было, что урок и ей показался слишком уж долгим. То ли она волновалась, каково будет решение Агнеш, то ли внучку жалела, а может, просто считала, что не годится отнимать у репетитора так много времени. «Первое время придется нам с ней заниматься чуть-чуть побольше, — сказала Агнеш, оправдываясь, — пока мы привыкнем друг к другу». — «Не очень-то я ее, бедненькую, могу водить туда-сюда, — выдала бабуля, что подслушивала. — Я ведь в экономках служу у господина Хаггенмахера. Он в Ветеринарном институте преподает». — «Я знаю, вы и так много с ней занимались», — вспомнился Агнеш ее первый раздраженный вопрос. «Если гости у них, мне и по вечерам там быть приходится. На прогулки времени нет». — «Ничего, сейчас мы с помощью воображения написали, верно? — посмотрела Агнеш на девочку. — А санитарию ты и сама можешь выучить», — с некоторой грустью отказалась она от возможности показать себя в полном блеске. «О, санитария — это ее любимый предмет, — сказала бабуля, гордая, что может продемонстрировать хоть какую-то внучкину заслугу. — Пойди-ка, Йоланка, скажи тете Марии, что тетя Агнеш скоро придет, только с бабулей немного поговорит… Стало быть, на что мы можем надеяться?» — взглянула она на Агнеш, когда девочка вышла, с такой улыбкой, словно сейчас действительно должен был прозвучать приговор. «Я уверена, дело пойдет. Надо лишь, чтобы она себя немного увереннее почувствовала», — ответила Агнеш, и голос ее, заколебавшись было под грузом сомнений, зазвучал уверенно и спокойно, отвечая на эту мольбу. «Да-да, очень она робкая у меня, — сказала бабуля с надеждой в голосе, словно робость заведомо исключала глупость. — Знает она больше, чем с виду можно подумать». — «Вот этого-то как раз и надо добиться, чтобы она в школе тоже себя показала», — улыбнулась Агнеш, идя навстречу бабулиной радости, хотя чувствовала, что любой аванс снижает ценность ее работы. «Словом, вы как полагаете, милая? Каждый день надо с ней заниматься?» «Господи, какие сомнения тут могут быть? — поразилась про себя Агнеш. — Что мне, наложением рук вводить в Йоланку науку?» «Вы же видели, — сказала она вслух. — Это еще был легкий день, а до санитарии дело вообще не дошло». — «Я ведь тоже могу помогать, — сказала бабуля и, увидев испуганное выражение лица Агнеш, добавила: — Да я не против. Если вы так считаете, пускай будет. И ребенка с толку будет сбивать, если с ним по-разному заниматься». — «Да-да, и я вас просто прошу: теперь отдохните от нее немножечко», — смягчила Агнеш критику бабулиной методики обучения ласковым прикосновением к ее локтю. «А как с платой?» — снова, как несколько минут назад, в ожидании приговора посмотрела на нее бабуля. Агнеш почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. «Папа мой, преподаватель в гимназии, получает за репетиторство четыре тысячи. Ну, а я бы попросила половину», — сказала она быстро, чтобы как можно скорей дойти до конца фразы. По глазам бабули она поняла, что могла бы вполне запросить и три тысячи. «Что ж, на такое дело я с радостью. Только бы польза была», — сказала та, когда они вышли в кухню. Йоланка, которая понимала, зачем ее выслали к тете Марии, стояла в кухне, прислонившись к стене. «Иди и быстро перепиши все в тетрадь, чтоб над тобой это уже не висело, — погладила ее Агнеш. — А завтра я тебя свожу в Лигет, чтобы ты сама увидела, что писала». «Кулаками махать после драки», — мысленно усмехнулась она, оглянувшись с порога на девочку, потом на бабулю и оставив в душе последней некоторую тревогу, не намерена ли репетиторша прогулять в Лигете дорогое учебное время.
Мария встретила Агнеш упреком. «Ты что так долго? Они еще подумают, что так и надо». — «И так не все успели», — засмеялась Агнеш. «Один час, ровно час, — продолжала Мария строго. — Я бы на твоем месте часы перед собой положила». — «У меня и часов-то нет», — сказала Агнеш. Мария взглянула себе на запястье. «Я свои тебе буду давать, — пообещала она. И тоже не выдержала, расхохоталась: — Ну как, очень страшно?» — смотрела она на Агнеш, словно та прошла через какую-то крайне неприятную процедуру: целовалась с внушающим отвращение человеком или сдавала очень трудный экзамен; потом притянула ее к себе на диван. «Да нет. Мне, собственно, даже интересно было», — ответила Агнеш; хотя за репетиторство она взялась исключительно ради денег, признаться в этом богатой подруге ей не хотелось. «Ну, не знаю, что тебе показалось интересным в этой монголоидной девчонке. Разве что — как будущему психиатру?» — сказала Мария; теперь, когда сделка, привязавшая подругу к этому дому, была заключена, она уже не считала нужным скрывать свое мнение. «Хорошо, пусть всего лишь как медицинский случай. Сколько в ней врожденного, дурных гормонов или чего там еще, — защищала Агнеш свой интерес, — и сколько благоприобретенного убожества, которое можно еще соскоблить». — «Ты в ней это хотела увидеть?» — смотрела на нее Мария и с насмешкой, и с почтительным удивлением. С того случая у Розенталя Мария стала ценить ум подруги, хотя сама она сдавала экзамены хорошо. «Мне кажется, трудный будет эксперимент у тебя. Я лично считаю, что дело в гормонах. Ведь она недоделанная какая-то. Четырнадцать лет, а у нее еще менструации не было». — «Причина тут тоже может быть экзогенной», — ответила Агнеш, немного краснея. Непривычно было говорить так — словно о каком-нибудь животном — о находящейся от них в нескольких метрах девочке. «Слушай, скажи-ка, — перепрыгнула она, чтобы одолеть смущение, на другую, не столь неприятную тему. — Бабуля всегда с ней так ласково говорит?» — «Даже еще ласковее, милая моя, — взяла Мария подругу за локоть. — Правда, кошмар? У тебя глаз точный, если ты сразу это заметила. Этими ласковыми речами можно с ума человека свести. Я иной раз на стену готова лезть. Представь себе, из-за Ветеши у нас тоже был кое-какой разговор. Конечно, с еще более воздушными намеками. Потому что, сама понимаешь, посылки из Сарваша со всякой всячиной все-таки глупо было упускать».
Но прежде чем Агнеш успела что-то ответить или засмеяться, Мария взяла ее за руку и потянула к себе на диван. Имя Ветеши словно случайно сорвалось с ее губ — или для того лишь, чтобы напомнить, что он существует. «Ой, знаешь, так славно, что ты теперь часто будешь сюда приходить. И ко мне иногда заглянешь — немного посплетничать. Помнишь, на первом курсе сколько мы философствовали после физики в саду Замка Аистов?» Агнеш рада была, что Ветеши и стоящая за ним atra cura[109] окончательно увели их от Йоланки, так что ей не пришлось сознаваться, за какую плату взялась она быть дрессировщицей. Она тоже крепко пожала руку Марии, вспоминая скамью в саду Трефорта. «Ну, а как твой отец?» — сообразила Мария, что она еще не поинтересовалась делами Агнеш. «Спасибо, — ответила Агнеш, — теперь уже слава богу…» И тут сама уже перепрыгнула на другое, как Мария перед этим — от Ветеши. «У тебя талоны в столовую уже есть?» — вдруг спросила она. Та, как оказалось, жила пока домашними припасами; тогда Агнеш продолжила: «Компания начинает уже собираться». И стала рассказывать, кого она встретила в университете. «Адель ты не видела?» — перебила ее Мария. Вопрос возник по какой-то подсознательной ассоциации. Адель жила с родителями и в столовую не ходила. «Адель? На бегу, возле деканата. Она там с другими была, так что мы поговорить не смогли», — добавила она поспешно. «Другими» были обычный ее ухажер и Ветеши. Честно говоря, Агнеш просто шмыгнула мимо. И хотя ничего особенного в том, что они втроем оказались вместе, не было, она чувствовала, что ни к чему сейчас это рассказывать. «Первая врачебная ошибка в моей жизни», — сказала Мария с неожиданной злобой. «Кто? Адель?» — смотрела на нее Агнеш, удивляясь сверкнувшей за свежеусвоенными словами ненависти. «Нельзя было мне из-за них про тебя забывать. Кто она, собственно, такая? Мерзкая, похотливая, озверевшая сука!» Фраза эта настолько была непривычной в филологических устах Марии, что Агнеш даже не передернулась от такой лексики. Но Мария, видимо, сама пожалела, что не сдержала себя; во всяком случае, она, не углубляясь далее в характеристику Адель, стала расспрашивать Агнеш, что та делала во время каникул. «Как? После экзамена — читать медицинские книги? Материал следующего семестра? Агнеш, я тебя просто не узнаю… А не из-за того ли молодого библиотекаря ты туда зачастила? — погрозила она ей пальцем. — А прикрываешься любознательностью?» — «Возможно», — ответила Агнеш, видя, что, как и мать, Мария рада была бы, если бы у нее обнаружились какие-нибудь сердечные дела, которые можно было бы вволю посмаковать. Но произнесла она это так, что сразу отбила у Марии вкус к дальнейшим расспросам. «Оставь. Были у меня победы и покрупнее, — помолчав, продолжала Агнеш. — Знаешь, кто намедни со мной поздоровался в коридоре, возле кафедры патанатомии? Сам Анталфи». (Это был тот церемонный ассистент, с занятий которого госпожа Кертес вызвала дочь, чтобы сообщить ей радостное известие.) — «Не может быть, — изумилась Мария и рассмеялась так самозабвенно, словно Ветеши и Адели и на свете не существовало. — Так прямо взял и приподнял шляпу?» — «Приподнял. Вот так». И хотя Агнеш показала только рукой, шляпа и сам торжественный жест схвачены были настолько точно, что Мария обхватила подругу и долго — может быть, даже дольше, чем заслуживало того представление, — хохотала ей в шею. «Поздравляю. Такого еще не бывало. Чтоб ассистент самого профессора Генерзиха — перед студенткой!..» — «Я уж и то думаю, он меня спутал с кем-то».
Они принялись обсуждать ассистентов: второго прозектора — какой он милый и добродушный со своими окровавленными лотками, приват-доцента, читающего гистологию, и Розенталя, конечно. «Да, кстати, Розенталь, — вспомнила Мария триумф Агнеш. — С каким удовольствием он тебя разглядывал своими карими глазами. Нет, ты решительно в фаворе у преподавательского состава. Зрелость и весна одновременно. Быть тебе профессоршей…» И вдруг, без всякого перехода, разве что только ближе придвинувшись и больше повернув к подруге лицо, как бы давая этим понять, что самая важная часть ответа быстрее всего прочитывается в глазах, спросила: «Скажи, как у вас было с Ветеши?» — словно то, что Агнеш говорила о своих победах, зарядило вторую пластину находящегося у нее в голове конденсатора и тут, для нее самой неожиданно, проскочила искра. «Что значит: как было? — спросила Агнеш. И поскольку чувствовала, что краска на лице все равно ее выдает, сказала с вызовом: — Целовались». — «И все?» — изучала ее Мария. «А что тебе надо еще? — спросила Агнеш, благодаря своей чистой совести беря верх над смущением. — В саду Орци-то?» — «Ну-ну, не такой уж он беспомощный юноша. И главное, не такой…» Очевидно, она хотела сказать: чтобы довольствоваться поцелуями. Но или не нашла нужного определения (противоположного «страстному», «требовательному», «настойчивому» — всем тем качествам, которые Ветеши проявил в отношениях с ней), или посчитала, что не пришло еще время произносить эти равнозначные признанию слова. Агнеш не знала, что сказать, чтобы как-нибудь ненароком не противопоставить свою стойкость быстрой капитуляции Марии. «Видно, предмет в данном случае был не тот, чтобы вдохновить его на решительные действия». — «Не говори так, — взглянула на нее Мария несколько строже, чем того требовало неодобрение лжи. — Ты и сейчас ему нравишься… Собственно, почему вы с ним порвали?» На это, конечно, не стоило даже пытаться дать откровенный ответ. Во-первых, причина была слишком сложной: скорее какое-то многозначное чувство, чем поддающаяся выражению мысль; во-вторых, Марию и это обидело бы. Еще ни один мужчина так не влек Агнеш, как Ветеши. Было невероятно сладко прижиматься губами к его мужественным, но вдруг становящимся мягкими и упруго-припухшими губам во впадине между орлиным носом и подбородком, чувствовать сильное, охватывающее тебя тело. А в то же время в ней со дня на день росло недоверие к нему. И дело не в том, что она боялась расстаться с девственностью, что ей так дорога была plica semilunaris, которую как-то, при вскрытии детского трупа, показал им, приподняв пинцетом, ассистент. Хотя и возможные последствия, конечно, ее не очень-то вдохновляли. Она чувствовала: человек этот, целующий, тискающий ее, — очень дурной человек; она словно обнималась с неким красивым хищником, который и из нее хочет сделать такую же хищницу. И чувство это каждый раз, когда проходило возбуждение, оставляло в ней подавленность и брезгливость. «Я скоро уехала в Тюкрёш. А письма мы оба писать не любим». — «Уж это точно», — быстро согласилась Мария. Она-то, конечно, знала, как не любит Ветеши писать письма, — узнала в минувшее рождество. Но затем она вновь посмотрела на подругу с недоверием. «А потом появилась ты», — улыбнулась ей Агнеш, словно вручая букет цветов несчастной девушке. «И тебя это не задело?» — «Задело. Не столько меня, сколько мое честолюбие». — «Значит, ты его по-настоящему не любила», — сказала Мария, мрачно подняв на нее измученные глаза. «А разве я сказала, что любила?» — вдруг пожала Агнеш плечами и встала. «Ты не сердишься, что я к тебе пристаю с такими вопросами? — обняла ее за бедра Мария. — Так хотелось немножко об этом поговорить». — «Полно, глупышка», — поцеловала Агнеш прижавшуюся к ее груди голову. «Я тебе как-нибудь расскажу об этом побольше, — взяла себя в руки Мария. — С мамой, знаешь, нельзя уже».
На другой день Агнеш пришла к Йоланке на час раньше. Занавеска в окне у Марии на сей раз не шевельнулась, и звонок, отзвенев и всколыхнув тишину, замер за дверью, словно в квартире никого не было. Наконец из глубины ее, из большой комнаты, донесся шорох, напоминающий движение какого-то маленького пресмыкающегося, и вскоре в открывшемся в кухонной двери зарешеченном окошечке Агнеш увидела испуганные глаза Йоланки, по затлевшемуся в них узнаванию и по скрежету ключа в замке имея возможность еще раз измерить быстроту реакции, с которой ей как репетитору придется теперь считаться. «Ты одна дома? Я пораньше пришла, чтобы еще засветло повести тебя в Лигет. Ты чего так долго не открывала? Боялась, что кто-то чужой пришел? Я теперь буду звонить вот так: один долгий звонок, два коротких, снова долгий. — И она показала, как будет звонить. — Венгерский ритм». Йоланка, которую повергло в изумление уже то, что тетя Агнеш сдержала свое обещание насчет прогулки, теперь, услышав звонок, издала носом сопящие звуки, означающие у нее исходную стадию смеха. Спустя полчаса прибыла и бабуля; она осторожно открыла дверь в комнату и, шепотом поздоровавшись, повесила в шкаф кацавейку. Они как раз затверживали немецкий; судьба распорядилась так, что это была «Лорелея», которую в свое время отец заставил выучить Бёжике, благодаря чему та сдала-таки экзамен по немецкому у самой госпожи Комари; бабуля ненадолго задержалась в комнате, тихо возясь за дверцей шкафа, чтобы в негромкой декламации Агнеш, в ее вопросах к словам и строчкам вспомнить собственные занятия с внучкой и убедиться, что затраты, на которые она решилась пойти, не напрасны. Спустя еще полчаса снова стукнула дверь, и стук ее сопровождался несколько большей возней и топотом, чем мог то вызвать приход Марии. Но дверь, втянувшая в себя голоса и шум, была, вне всяких сомнений, ее, Марии, дверью. Агнеш на этот раз, после трудного дня, более экономно расходовала свое время и даже поверила, что истории не было из-за болезни учителя; однако, когда они справились наконец с уроками, в окнах заметно смеркалось. «Кончили?» — улыбаясь, спросила бабуля, которая, услышав шум отодвигаемых стульев, тут же вошла в комнату. В ее вопросе не было неодобрения, ведь обычно после ее прихода домой они занимались не менее часа; однако Агнеш почувствовала необходимость оправдаться. «Я сегодня нарочно пораньше пришла. Хочу, чтоб Йоланка домой меня проводила. Сделаем небольшой крюк, проверим, правильно ли сочинение написали». — «Так поздно?» — покачала головой, не перестав улыбаться однако, бабуля. «Она же со мной будет». — «А домой как вернется?» — «Посажу ее на сорок шестой, он здесь, на углу, останавливается». — «В такое время я ее на улицу не пускаю», — колебалась бабуля. «Оттого она у вас и несмелая, — воспользовалась бабулиным выражением Агнеш. — Надо ей привыкать немного к самостоятельности». — «Знаете ведь, если б она моя была… Доверили мне ее. Дочь и господь бог». Йоланка, которая до сих пор с умеренным интересом смотрела то на одну, то на другую, сказала вдруг: «А когда я с хора шла!» Напоминание относилось к репетиции перед каким-то давнишним праздником, когда честолюбивая учительница пения велела явиться хору в полном составе, и значило, что у Йоланки в этом вопросе тоже есть какая-никакая позиция. «Не бойтесь, не украдут вашу внучку, — встала на сторону столь неожиданно проявившегося желания Агнеш. — Иди надевай пальто», — сказала она уже в кухне, думая, что операция эта займет добрых десять минут и она успеет пока заглянуть к Марии. Но, прикоснувшись к ручке двери, она услышала за нею мужской голос. «У Марии кто-то есть?» — отдернула она руку, словно обжегшись. «Жених», — сказала бабуля, тоже шепотом. Это с почтением произнесенное слово, в котором лишь едва-едва сквозило слабое недоверие, было явным компромиссом между хозяйкой и молодой жиличкой. Агнеш, однако, представив, что Мария, услышав знакомый голос, выйдет и ей придется встретиться с ними, так испугалась, что торопливо сказала топчущейся возле шкафа Йоланке: «Ты еще не готова? Я тебя внизу подожду».
На улице быстро темнело, и Агнеш, когда они вышли к Лигету, сама заколебалась, стоит ли углубляться с доверенной ей девочкой в заснеженную мглу меж деревьев. Но затем крепко взяла ее под руку, и они, словно это было самым естественным делом на свете, двинулись в парк перед Промышленным павильоном. На выпавшем утром снегу почти не было следов; Агнеш, чтобы преодолеть в себе страх, сказала: «Давай, Йоланка, поиграем в снежки. — И, слепив снежок, крикнула: — А ну, беги!». Йоланка сперва поглядела в ту сторону, куда нужно было бежать, потом сделала с десяток имитирующих бег шажков; Агнеш слепила еще снежок и сунула ей в руку: «Теперь ты в меня бросай». (Так взрослые играют с трехлетним ребенком.) И стала зигзагами бегать перед стоящей нерешительно девочкой. Та наконец швырнула в нее снежком и, увидев на спине тети Агнеш белое пятно, выдавила-таки из горла звуки, отдаленно напоминающие заливистый смех. Бросаясь снежками, они добрались до статуи Анонима. Здесь, на острове, было еще более неуютно, однако Йоланка, ошеломленная новыми впечатлениями, забыла, видимо, что можно бояться, и, когда Агнеш подвела ее к статуе и принялась объяснять, почему на лицо Анонима надвинули капюшон, хотя вот, например, Арпад[110], несмотря на то что его изображения тоже нам неизвестны, все же, сидя верхом на коне, смотрит на нас с открытым лицом, Йоланка, еще раз издав те же странные звуки, швырнула в статую оставшимся в кулаке снежком. «Видишь, — показала Агнеш на скамью, — сюда я пришла со своей радостью, когда узнала, что мой папа возвращается из плена». Другому она никогда бы не рассказала об этом, но этой девочке можно было говорить все, словно какой-нибудь собачонке, — не для того, чтобы она поняла, а чтобы наградить ее капелькой откровенности за веселое настроение и за смелость. «Мой папа тоже умер в плену», — ответила Йоланка, когда они шли мимо Сельскохозяйственного музея, — ответила скорей с гордостью, что вот и ее отец тоже не кто-нибудь.
Так, взявшись под руку и разговаривая, они пошли дальше. Агнеш рассказывала, что́ любила она смотреть и что́ видела девочкой в этом музее, в деревьях, в окошечках, сделанных в их стволах; показывала, в какой стороне отсюда Вурштли, где Зоосад (если Йоланка будет хорошо заниматься, как-нибудь в воскресенье они пойдут и посмотрят, действительно ли белый медведь остался под открытым небом); потом они свернули на мост — в направлении, откуда неслась музыка. «Видишь, мы с тобой написали, что Вайдахуняд не отражается в зеркале озера, потому что воду спустили. А он, оказывается, смотрится в зеркало льда, если, конечно, видит что-нибудь за детворой в цветных свитерах. Передо мной была осенняя картина. Потому и нужно все проверять. Учительница твоя, наверное, подчеркнет это место волнистой чертой». Но урок стилистики не задержал внимания девочки — оно было целиком поглощено зрелищем, представшим ее начавшим видеть глазам. «Смотрите», — показала она на пухлого шлепнувшегося на лед малыша. Минут пятнадцать они стояли среди искрящихся огней, летящих по льду коньков, синих и красных шарфов, гремящих сверкающих труб. Когда они брели уже через площадь, мимо памятника Тысячелетию, какая-то девочка, краснее, чем ее яркий свитер, подняла с земли связанные ремешком коньки и ясным, звонким голосом крикнула: «Сервус, Ковач!» — «Сервус, Штраус!» — ответила неуверенно Йоланка, словно не зная, можно ли в присутствии тети Агнеш отвечать на приветствие одноклассницы. Агнеш пыталась как раз приобщить Йоланку к своим впечатлениям о Художественном музее. «Да, мы там были», — вмешалась идущая рядом девочка, так как Йоланка понятия не имела, ходили они с классом в это заснеженное здание или нет. «А, верно. В прошлом году один раз», — вспомнила Йоланка продавца с лотком соленых кренделей, которого они обступили перед музеем. «Только там девчонки так дурачились, — сказала Штраус, — что даже хранитель на нас заругался, а тетя Кларика в конце совсем рассердилась. Просто кошмар, как они там себя вели! — встала румяная девочка на сторону взрослых (хотя наверняка она вместе со всеми хихикала перед «Евой» Кранаха, прикрывшейся листиком винограда). — Да еще крошками везде насорили. А какие глупости болтали, вы бы послушали! Просто дуры, и все!» Йоланка беспокойно поглядывала на Агнеш: что та скажет, слыша такие разговоры. Но воспоминания о глупостях и на ее некрасивом лице вызвали хитроватую ухмылку. «Вы, значит, одноклассницы», — оглядев эту бойкую Штраус, решила Агнеш поддержать разговор. Рядом с этой продрогшей от катания девочкой с плотным, округлым телом, в свитере, который натягивала хорошо развитая mamma[111], и с быстрой, энергичной речью, еще более гнетущее впечатление производили неразвитость и никчемность ее Йоланки. «Договоритесь друг с другом, — сказала она девочке, — и мы как-нибудь в воскресенье сходим вместе в музей, — решилась она на очередную жертву, чтобы попытаться найти подругу для сироты. — Я вам расскажу, что эти картины изображают и как их нужно смотреть». — «А вы, тетя, художница?» — спросила Штраус, немного заколебавшись перед словом «тетя». «Нет, я студентка-медичка, — немного подняла Агнеш в глазах девочки авторитет ее одноклассницы. — Но когда-то я в искусствоведы хотела пойти». Штраус действительно взглянула на нее с почтительным удивлением и прошла с ними два лишних квартала, хотя, как оказалось, жила в железнодорожных домах. «Видишь, как все выглядит по-другому, не так, как мы представляли. Вот теперь можно было бы все это описать», — сказала Агнеш на остановке. Огни трамвая уже показались в тумане, когда она, спохватившись, обернулась к Йоланке: «Если Штраус спросит, кто я такая, скажи: подруга нашей жилички, иногда помогает мне заниматься».
Это странное предупреждение, которое она, как напутствие, послала вслед девочке на переполненную площадку вагона, порождено было беспокоящей ее, вызывающей чуть ли не угрызения совести мыслью, которая пришла ей в голову в первый же день, когда она взяла ученицу. После того, что она наблюдала в отцовской гимназии, ей так надо было сказать бабуле: «Если вы хотите, чтобы Йоланка получила свидетельство, с которым ее возьмут на курсы учителей, то пожертвуйте еще некоторую сумму и пойдите к классной руководительнице, пускай она вам порекомендует преподавателя. Ведь если в школе узнают, что кто-то со стороны, вовсе не педагог, занимается с Йоланкой за деньги, то результат может быть даже обратный: с нее больше требовать станут…» «Надо было бы мне поговорить с бабулей», — думала она, шагая по Верхнелесной аллее; не дай бог, та еще пойдет в школу хвастаться: дескать, внучку ее будет учить студентка-медичка. Лучше Агнеш сама сходит в школу, но не как репетитор, а как просто знакомая. «Подруга нашей жилички» — это хорошая формула. «Но почему Мария именно в четыре часа привела к себе «жениха»? — потянула одна смущающая ее мысль за собою другую, которую она тогда, по свежим следам, подавила в себе, прогнала игрою в снежки. — Она хотела мне его продемонстрировать, как тогда, на лекции Веребея? Или только доказать, что он все еще существует, все еще принадлежит ей?» Если б она не сбежала по лестнице, попробовала бы Мария зазвать ее к себе? Ветеши наверняка совершенно невозмутимо встал бы с дивана, где Мария еще вчера обнимала ее за талию, почти умоляя о помощи. То, что ей придется встречаться здесь с Ветеши, никак не входило в ее расчеты — об этом она размышляла, волоча свою то удлиняющуюся, то укорачивающуюся тень по улице, из одного светового круга под газовым фонарем до другого, и потом взбираясь наверх по лестнице. «А это еще что такое?» — готовясь к новым сюрпризам, подумала она в темной передней, которую освещало, бросая на пол причудливые прямоугольники, лишь ночное небо над двором. Из комнат доносился звук оживленной беседы; и, хотя говорила одна мать, а второй, мужской голос отвечал только короткими репликами и тихим смехом, Агнеш сразу почувствовала, что это скорее всего не Лацкович. С того вечера она вообще не встречала в квартире ни самого Лацковича, ни каких-либо следов его пребывания; не то чтобы он совсем куда-то исчез — он уехал от своих родителей, снял себе где-то холостяцкую квартиру и оттуда, словно живое воплощение Рока, давил на их жизнь. Она постояла, прислушиваясь. Мать как раз рассказывала о ней, о ее детстве, о том, как однажды она, несмотря на заботливую няньку, свалилась в поилку для уток. Мужской голос подобострастно посмеивался. Кого же, думала Агнеш, она потчует этой давней, прежде рассказываемой часто, а в последнее время как-то начавшей забываться тюкрёшской историей? Когда она стала снимать пальто, ее, видимо, услышали в комнате. Госпожа Кертес открыла дверь в переднюю. «Это ты, Агнеш? — спросила она и сразу же объяснила (или сказала, чтобы успокоить): — Тут твой коллега пришел за зачетной книжкой».
В самом деле, из глубины спальни, которая с помощью рекамье и некоторой перестановки превратилась в дамский салон, на нее смотрело шершаво-красное лицо Фери Халми. Он сидел за столиком, против кресла с розовой обивкой, из которого поднялась мать; между ними стояла тарелочка с домашним печеньем и бутылка ликера, о существовании которой Агнеш до сих пор и не подозревала. Картина эта — мать, угощающая Фери ликером и рассказами о тюкрёшских приключениях дочери, — была столь неожиданной, что поначалу Агнеш засмеялась над этим, и лишь потом наступившее облегчение помогло ей объяснить свой смех. «Ага, нашлись наконец-то? Вы письмо мое получили?» После похода к Филаторской дамбе она написала в Тюкрёш, спросить, что ей делать с зачеткой. «Если адресата не будет на месте, прошу ему переслать», — наивно приписала она на конверте, как будто семья, если он скрывается или, не дай бог, арестован, может знать его адрес. «Получил, спасибо», — ответил Халми. «Дома, в Тюкрёше?» — после первого приступа радости принялась Агнеш изучать его лицо. Он был свежевыбрит; студенческий его костюм, дополненный новым галстуком и носящий на себе следы глажки, выглядел почти новым. «Да, я в Тюкрёше был», — сказал Халми с некоторой неловкостью. «А я уже собралась записать вас по своему усмотрению. Правда, вы себе выбираете такие странные спецкурсы. Знаете, что завтра последний день записи?» — «Можно и потом записаться, дополнительно», — старался Фери сгладить значение своего опоздания. Госпожа Кертес, раскрасневшаяся от оживленной беседы и от ликера, смотрела на них с любопытством, но теперь и с некоторой — как-никак мать — подозрительностью. «А собственно, почему ваша зачетка у Агнеш оказалась?» Агнеш не дала Фери ответить: «Ему надо было уехать. Вот он и попросил меня подписать». Госпожа Кертес видела: тут кроется что-то такое, что ей не известно. В то же время сознание, что право на расспросы она утратила, не оскорбляло ее, а лишь наполняло сдержанной грустью. «Я думал, будет проще всего, если я прямо сюда зайду, — объяснил Халми неожиданное свое появление. — В столовой ведь долго можно не встретить друг друга». Агнеш должна была бы ответить: ну разумеется. Но, бросив взгляд на ликер, она спросила: «Вы меня давно ждете?» — «Да, довольно давно, — посмотрел Халми на госпожу Кертес. — Но ваша матушка так любезно уговаривала меня подождать». — «Конечно, — вновь всколыхнулось в госпоже Кертес гостеприимство, с которым она развлекала коллегу дочери. — Ведь она каждую минуту могла прийти… А я потом получила бы выговор, что вас отпустила».
Агнеш достала зачетку, и Фери начал прощаться. Агнеш не удерживала его, но, когда он уже был в пальто, вдруг сказала: «Подождите, я немного вас провожу…» Она думала, что на улице он, может быть, расскажет, что с ним было, или по крайней мере даст понять, миновала ли грозящая ему опасность. Но, даже выйдя на улицу, она все еще ощущала на себе взгляд, который, когда она потянулась за своим пальто, бросила на нее мать. В этом взгляде было столько обиды — не обычной ее поверхностной, быстрой обидчивости, а настоящей душевной боли. Как приветливо приняла она этого хромого юношу, даже ликер свой достала (на который Агнеш поглядывала так ехидно), и, раз уж он тюкрёшский, — а ведь как она ненавидит этот Тюкрёш — рассказывала ему про Тюкрёш, про знакомый двор дяди Дёрдя, а эта холодная, бесчувственная девчонка (для которой она была такой доброй, заботливой матерью… до пятнадцатилетнего возраста сама шила ей на своем «Зингере» платья) не хочет доставить ей такую ничтожную радость: дать возможность ощутить себя в глазах этого коллеги с утиным носом (господи, что за типов выбирает себе в друзья ее дочь!) матерью — пускай Агнеш ее таковой уже не считает — взрослой дочери-студентки. Не только не пригласила его посидеть, чтобы и она немножко послушала их беседу, а еще пошла его провожать, наверняка чтобы объяснить: моя мать, мол, дурная женщина, и если уж я вынуждена жить с ней вместе — потому что отец так захотел, — то друзьям своим я ни за что не позволю с ней общаться… «Значит, вы сейчас из Тюкрёша», — сказала Агнеш, когда немой поединок хромой ноги и темных крутых ступенек был позади. Халми не хотел опираться на стену, Агнеш не смела поддерживать его за руку; так они и спустились — молча, с предельно напряженным вниманием. «Да, был и там», — ответил ей Халми. «Матушка ваша о вас не тревожилась?» — хотела спросить Агнеш, но спросила другое: «Бабушку вы там видели?» — «Тетушку Кертес? — удивился Халми. — Даже не помню». Хотя он собирался дать некоторое объяснение своей отлучке, сейчас он вдруг снова испугался чего-то. «Я слышал, отец ваш у тети Фриды живет?» — произнес он услышанное всего час назад имя, которое, как все, что так или иначе связано было с Агнеш, обретало в его восприятии некий сокровенный смысл. Агнеш, вспомнив немую боль в глазах матери, решила даже намеком не раскрывать ее роли в этой печальной истории, хотя бы затем, чтобы не оправдать опасение, с которым та смотрела ей вслед. «Да. Знаете, пока ноги у него не окрепли… — сказала она с удивившей ее самое естественной живостью. — Лучше, если он будет оттуда на работу ходить: это гораздо ближе… Знаете что? — сказала она, когда они минут пять поговорили о Кертесе. — Приходите его навестить. Он вам будет очень рад…» Пока она провожала Халми, обида госпожи Кертес, тронувшая даже Агнеш, успела перейти в состояние агрессивной озлобленности. Некоторое время она ходила вокруг Агнеш, потом, выбрав момент, взглянула ей прямо в глаза. «Тебе что, приспичило все ему объяснять?» — «Что объяснять?» — спросила Агнеш. «Ты прекрасно знаешь сама», — ответила мать. «Ничего я ему не объясняла, — сказала Агнеш. — Нечем тут хвастаться», — добавила она, хотя только что жалела мать, под воздействием вскипевшего в ней раздражения.
С тех пор как носильщик с отечным лицом перевез к тете Фриде пожитки Кертеса, Агнеш видела отца редко. Свою обиду она попыталась воспринимать как еще одно испытание ее бескорыстной любви, а пока выбрала для себя роль заботливого опекуна-невидимки, не навязывая отцу своих чувств. Да и отец теперь бывал дома редко; как рассказывала ей тетя Фрида, он, наскоро съев обед, уходил обратно, в школьную библиотеку, где устраивался для своих любимых занятий, а потом пропадал у учеников (так что пришлось заказать для него, как для господина Кендереши, отдельный ключ, чтобы он и после семи часов мог попасть домой, не стучав подолгу в ворота); Агнеш было достаточно не искать встречи, чтобы подолгу не видеться с ним. Пока не начались занятия в университете, она появлялась на улице Хорват чаще всего с утра — это и для покупок было самое удобное время. Тетя Фрида сама давно уже не выходила из дома, разве что дядя Тони брал ее к себе на праздники или ей нужно было отнести очки на Главную улицу, к оптику, а всякие мелочи покупала ей Кендерешиха или кто-нибудь из жильцов; теперь же, когда у нее поселился Кертес, нельзя было требовать от них подобных услуг. Так что Агнеш садилась с тетей Фридой и на последней странице тетради по патанатомии составляла список бакалейных товаров, в том порядке, в каком они всплывали в ослабевшей и страшащейся этой слабости старческой памяти. Сначала всплывали те, что забыты были в последнюю очередь; тетя Фрида повторяла их жильцам, приходящим за водой к крану (если Кендерешиха до того момента их не приносила), по нескольку раз как примеры своей усиливавшейся забывчивости; затем возникали другие, которые помогал воскресить открытый кухонный шкаф или меню обеда. Потом Агнеш отправлялась через проходной двор в бакалейную лавку или, при более крупных закупках, на рынок, что на площади Бомба, почти за пределы этого погруженного в дрему района, и, вернувшись, выслушивала, что тетя Фрида выловила в своей памяти за время ее отсутствия. Иногда Агнеш сама что-нибудь приносила отцу, например, мясные обрезки для студня, однажды два куска рыбы. Из своей доли отцовского жалованья она оплачивала только талоны в столовую; остальные же деньги старалась понемножку вернуть через тетю Фриду отцу — и с тайной гордостью думала о конце февраля, о первой своей зарплате, когда она уже и талоны оплатит из собственных средств. Больше всего она опасалась, что отец и тетка не поладят друг с другом. К счастью, тетя Фрида была слишком увлечена и взволнована изменениями, происшедшими в ее жизни, ведь она снова вела хозяйство и могла хоть по сто раз на дню объяснять Кендерешихе, что стало бы с этим беднягой, если б она не готовила на него; кроме того, она могла в самом деле готовить — и даже могла есть сама; и не в последнюю очередь радовало ее то, что эта славная Агнеш (чья доброта служила своего рода эталоном, которым подданные тети Фриды измеряли глубину падения матери Агнеш, да и бабушки тоже) трижды в неделю появляется в ее царстве, причем не из жалости — известно ведь, как относится нынешняя молодежь к старикам, — а из самых хороших намерений и иной раз по целому часу советуется с ней, как сделать, чтобы отцу было лучше. Тетя Фрида смеясь, даже как бы с похвалой отзывалась и о том, чего она в душе не одобряла. «Er hat, Gott sei Dank, so guten Appetit…[112] Что перед ним ни поставишь, он все готов съесть…» Или о марках и прочем барахле, собираемом Кертесом: «Весь стол марками мне завалил. Er muss doch mit etwas die Zeit vertreiben[113]. Знала бы я, на что ему эти коробки да катушки». — «А то, что храпит он, вам, тетя Фрида, спать не мешает?» — с тревогой спросила Агнеш. «Что? Храпит? — с удивлением повторила тетя Фрида вопрос, показав тем самым, что глухота или здоровый сон старой девы вполне компенсируют рулады и пугающие перепады дыхания в отцовской гортани. — Er schnarcht ja… aber das sollte meine größte Sorge sein[114]. Пускай это будет у меня самое большое горе», — перевела она для Агнеш.
Другой, куда большей, заботой Агнеш был вопрос, справляется ли отец в школе с учениками. Перед ее глазами стоял тот вырывающийся из дверей класс на первом этаже; она вспоминала, что говорили в учительской о воплях господина Ченгери. Что, если эта свора непоседливых зверьков на нем, на старом добром учителе, выместит весь тот страх, который испытывает, сидя не шелохнувшись на уроках у Гиршика? Трудно даже представить боль, которую должен испытывать старый, больной человек, когда он видит, что те, кого он прежде так уверенно приручал, выскальзывают из рук и садятся ему на шею. Она даже у тети Фриды пыталась узнать, не жалуется ли отец на детей… А если она все же с ним встречалась, в воскресенье утром или, когда начались лекции, вечерами, после частных занятий, то со всяческими предосторожностями, обиняком пыталась выведать то же самое. Так разговор их превращался в настоящую игру в кошки-мышки: отец хотел услышать что-нибудь о жене, которую опять стал называть мамулей, Агнеш же — о его работе, об учениках. «Очень вкусный был этот студень. Тетя Фрида сказала, это ты мясо принесла. Вспомнила-таки мамуля, что́ я больше всего люблю», — с надеждой смотрел он на Агнеш. «На сей раз, в виде исключения, это мне пришло в голову, — лаконично отвечала она, во имя истины лишая его возможности посмаковать послевкусие студня. — Ну, какие новости в школе? — спрашивала она затем с некоторой искусственной живостью. — Не трудно было, спустя столько лет, подниматься на кафедру?» Отец только рукой махал: «Я ведь и в Сибири преподавал. В шестнадцатом, помню, лекций двадцать прочитал в клубе». И начинал рассказывать, о чем были лекции. «А мальчишки? Не очень шумят?» — «Мальчишки, они всегда одинаковы, — отвечал отец, словно чувствуя, к чему гнет дочь. — Все зависит от того, способен ли ты держать их в руках…» «Ну, не очень-то ласково встретила меня мамуля, — заявил он при следующей встрече. — Первого февраля я ей отнес ее треть. А она говорит: что мне с этим делать? Говорит, бросьте лучше святому Антонию у часовни святого Роха. Она и на тебя жаловалась», — сказал он с упреком, словно в скверном приеме, оказанном ему, виновата была отчасти и дочь. «На меня?» — удивилась Агнеш. «Она все тебе отдает, даже сверх своих сил. А ты учеников берешь, только чтобы ее унизить». — «Откуда она знает?» — еще более удивилась Агнеш. Она в самом деле не говорила матери о своем репетиторстве. «Значит, ты в самом деле в хомут впряглась?» — смотрел на нее отец. «Одна моя однокашница живет на улице Розмаринг. У ее хозяйки девочка в реальном училище, учится очень плохо, и я с ней иногда занимаюсь», — повторила Агнеш версию, придуманную для Штраус. «А, — махнул рукой отец. — Но не бесплатно, надеюсь? — И, не получив ответа, продолжил: — Я тоже старался ее успокоить: дескать, если Агнеш ученика возьмет, то лишь скорее привыкнет к систематической серьезной работе. Тут она на меня напустилась: вы что думаете, говорит, если она учится на медицинском, на самом тяжелом факультете, это вам не систематическая работа?..» — «А что ваш ученик?» — спросила Агнеш, когда они от вспыльчивости мамули перешли к характеру несчастной Йоланки, затем от «Лорелеи» — к Бёжике, вспомнив, с каким огромным трудом удалось затвердить с ней стихотворение, чтобы убедить мадам Комари в возможности перевести ее в следующий класс. «Увалень и лентяй, — сказал Кертес. — Будто только-только слез с печки, как в русской сказке. Но воображение у него есть».
Как-то в субботу утром Агнеш немного дольше слушала тетю Фриду с ее заботами, и, когда, уходя, по-молодому захлопнула за собой ворота, навстречу как раз показался идущий из школы отец. Рядом с ним шел тот молодой учитель, который исподтишка поглядывал на нее в день Андраша. Отец что-то оживленно рассказывал, жестикулируя, а молодой человек, опустив голову, задумчиво шагал рядом. Однако он первым заметил Агнеш, предупредив отца. «Ты здесь была?» — спросил тот, когда она подошла ближе. От тети Фриды он часто слышал, что Агнеш приходила перед обедом, но не догадывался, что в утренних этих визитах кроется некоторая обида. «Теперь вот она лишь поддерживает, причем весьма добросовестно, связь между мною и улицей Лантош, — похвалил он ее молодому коллеге. — Может, вернешься ненадолго?» — смотрел он на нее с улыбкой, но не слишком настойчиво. «Нет, у меня дел много», — ответила Агнеш и посмотрела на его спутника. Имя его она знала: Колтаи; именно он отцу устроил ученика, тогда она его и запомнила. Сейчас она у него и выведает, что происходит в школе, как идут дела у отца. «Вы, господин учитель, конечно, дальше идете?» — спросила она, когда, поговорив немного, попрощалась с отцом. Однако учитель избавил ее от необходимости говорить, дескать, я могу, в общем, и в ту сторону. «Нет, — ответил тот, покраснев. — Мне тоже нужно к площади Баттяни. Я только господина учителя провожал». «Хороший знак, — подумала Агнеш, — если правда, что он с отцом в такой дружбе, а не меня хочет проводить». «Что вы говорите! А где вы живете?» — «Я, собственно, в Пеште живу, — сказал молодой человек, краснея еще сильнее, — а тут у меня кое-какие дела, у переплетчика». Это тоже могло соответствовать истине, хотя вероятность была уже меньше. «Тем более любезно с вашей стороны, что вы провожаете папу домой, — сказала Агнеш, почти физически ощутив, как игриво блеснули ее глаза. — Я слышала, вы ему и ученика устроили», — перешла она на более серьезный, благодарный тон. «О, не стоит об этом и говорить, сказал молодой человек. — Мы так уважаем господина Кертеса. Ведь из прежних легендарных преподавателей (тут он перечислил четыре-пять имен, которые Агнеш помнила еще с детства) он один лишь остался». — «А Ченгери?» — «Ну да, еще Ченгери», — улыбнулся Колтаи. Улыбка эта свидетельствовала о том, что господин Кертес оценивался по другой шкале, чем Ченгери, который в глазах молодого коллеги скатился туда же, куда и в глазах учеников. Это тоже был добрый признак. «Ну, а ученики? — с бьющимся сердцем спросила Агнеш. — Они ведь, как показывает пример господина Ченгери, мало что знают о прежних легендарных преподавателях». — «О, это совсем другое! — запротестовал молодой человек. — Господин Кертес умеет все-таки владеть их вниманием». Это «все-таки» прозвучало чуть-чуть подозрительно. Почему «все-таки»? Потому что срывы, непонимание все-таки есть? И потом: чем он захватывает их внимание? Богом Тенгри? «Честно вам скажу, — перешла Агнеш на доверительный тон, — я очень боялась, сможет ли он поддерживать дисциплину. В конце концов, он перенес такой тяжелый скорбут». — «Нет-нет, тут за него бояться нечего. Я был у него на одном уроке. Не могу сказать, движения больше, чем у господина Гиршика. Раз или два и мне пришлось кое на кого посмотреть: как раз это мой класс был. Но больших неприятностей не было. Господин директор специально зашел и предупредил: кто вздумает порезвиться на уроке у господина Кертеса, будет иметь дело с ним, с директором». — «О, господин директор и в тот раз был очень отзывчив», — сказала Агнеш, чувствуя горячий прилив благодарности. Хотя — такое предупреждение!.. (Маца, их физичка, привела как-то на урок женщину и заранее им сказала, что это — великий ученый-математик, но та была такая уродина, что они весь урок прохихикали.) «Вы, значит, были у него на уроке?» — «Да. Меня его метод заинтересовал. Я ведь тоже географ — география и естествознание. И в одном шкафу, в кабинете наглядных пособий, я нашел тетради по географии его класса за четырнадцатый год». — «О, эти работы по географии. Мне они тоже очень нравились, — обрадовалась Агнеш. — Чтобы третьеклассники по памяти обозначили все порты Южной Америки!» — «Мне и сейчас это нравится, — ухватился Колтаи за общую радость. — У него география — настоящая география. Речь шла как раз о Китае. Как сложилась, в бассейнах рек Желтой и Янцзы, Китайская империя. Ну, роль кочевников, Великая Китайская стена… Конечно, он еще и историк, — вставил Колтаи почти с грустью в голосе. — И все это — с мелом в руке!» — «Цветные мелки! — сказала Агнеш. — Коричневый, синий, красный». — «А когда он рассказал — речь шла о трудолюбии китайцев, — что у них там, на границе с Монголией, в Даурии, им китайцы даже белье стирали, ребята совсем рты раскрыли. И потом еще объяснил, почему китайский язык невозможно по книге выучить. Что ни говори, а в преподавании географии личные впечатления — великое дело». — «О боге Тенгри он не говорил?» — взглянула на него Агнеш, пряча под улыбкой свою тревогу. «Что-то в этом роде было», — ответил Колтаи, показав улыбкой, что понимает, о чем думает Агнеш.
Они прошли мимо автобусной остановки на улице Ирмы, и мимо переплетной мастерской, куда Колтаи, хранителю школьной библиотеки, нужно было бы заглянуть, и мимо трамвайной остановки на площади Баттяни, где Агнеш должна была сесть на трамвай. Когда Агнеш наконец очнулась и сообразила, что нельзя же до бесконечности злоупотреблять хорошим отношением этого человека, она с такой благодарностью пожала ему руку, с какой никогда еще не жала руку мужчине, и сказала, словно доверяя ему своего сына: «Прошу вас, уж постарайтесь делать ему что-нибудь приятное. Он столько всего перенес, да и сейчас…» Она хотела сказать: да и сейчас терпит такое, о чем вы, может быть, и понятия не имеете. Но это она говорила уже лишь сиянием глаз. Потому что — мало ли, вдруг он имеет понятие. Возможно ли, чтобы не имел? Может быть, потому в гимназии все так внимательны к отцу?.. Как бы там ни было, разговор этот (хотя были в нем и сомнительные детали) успокоил ее. Уроки отца, которые прежде в ее представлении ассоциировались с воплями господина Ченгери, теперь вдруг предстали ей в другом виде. У окна сидит Колтаи, так что мальчишки тоже видят: то, что рассказывает им старик Кертес, стоит послушать, и они знают, что могут — это же подростки — немного расслабить мышцы, могут потягиваться, шаркать ногами, да и рты их не замкнуты на замок; и все же есть в уроке такие минуты, когда школяры забывают о себе, исчезает и отходит куда-то на задний план сам учитель — и остается лишь дело, предмет, знание, память, только они звучат в накрывшей их, как стеклянный колокол, тишине. Вот он, Метод! Собранный из французских, испанских и еще неизвестно каких книг, из атласов, из опыта многих вдохновенных уроков (которые по вечерам, когда она лежала между родителями в постели, созревали в освещенной светом настольной лампы голове отца), он, этот метод, словно ребенок, только еще более преданный, чем она, является из семи-восьмилетнего погруженного в сумрак прошлого, встает на кафедре, за спиной у искалеченного скорбутом пленного, и пока тот движением руки с цветным мелком пробуждает почтение в учениках и в своем молодом коллеге, метод шепчет в раскрасневшееся от педагогического пыла ухо битого, топтанного жизнью, борющегося за обретение прежнего своего бытия человека: не бойся, я снова с тобой, я сотворю тебя заново из того, что осталось после Бутырки и Екатерининской больницы. Потому что метод — это активно прожитая, прекрасная, честная юность, которая откладывается в душе не только как воспоминание, но и как живущая в нас ткань рефлексов (подобно привычке к письму, сохраняющейся в пальцах даже у старого, больного писателя); на крыльях светлой нашей юности метод возвышает нас над физической немощью… Агнеш вспоминала их последние краткие встречи, и, охваченной новым приливом оптимизма, ей казалось, что отец уже стал гораздо собраннее, что его уже не так держат в своей власти события плена, да и лингвистические увлечения словно бы пошли у него на убыль. (Или это она перестала относиться к ним с былым подозрением?) Необходимость вновь стоять на кафедре перед классом, готовиться к урокам постепенно возвращает его в прежний мир. В этом смысле, может быть, даже поведение матери в чем-то ему помогло — помогло сосредоточенное на одной-единственной мысли внимание, хожденье по комнате в напряженной, до головных спазм, концентрации воли, когда нужно было как-то решить одну-единственную задачу, которая и возвратила его в этот мир, заставив уйти в тень другого — брошенного, несчастного — человека.
Агнеш теперь с куда более легким сердцем собралась выполнить брошенное ею мимоходом обещание отвести Халми к отцу. С того дня Халми частенько выходил с терапевтической практики или с лекции по санитарии как раз в тот момент, когда Агнеш после фармакологии отправлялась к своей ученице. Им было немного по пути, они вместе ехали три остановки на трамвае, а раз или два Халми проводил ее в Чикаго, до корчмы, где проводились соревнования по поеданию блинов. «Как ваш отец? Хорошо себя чувствует на улице Хорват? Не трудно ему преподавать?» Такие вопросы, Агнеш знала, рассчитаны были на то, что она повторит свое приглашение. Она делала вид, будто не понимает намеков, и отвечала на сам вопрос, а не на то, что стояло за ним. Хорошее впечатление, которое отец произвел на Фери, она все еще относила на счет счастливой случайности, застенчивости коллеги и его пристрастного отношения к ней. Однако теперь, когда у отца и в гимназии были уже почитатели, — более того, он, как видно, действительно способен был держать в руках разбойную армию школяров — результат первой встречи стал представляться ей более правдоподобным, и она уже без особого страха ждала ее повторения. Ведь в конце концов, Метод — это нечто более широкое, чем преподавание географии, и если уж человек — например, тот же Халми — лелеет, выращивает в себе нечто серьезное, то он цепляется за этот метод двумя руками; не так, как, скажем, дядя Бела, который ищет в людях лишь то, что помогает ему утвердить свое превосходство, — гордость петуха, кукарекающего на своей навозной куче. Одним словом, когда Халми в следующую пятницу после фармакологии (видя, что она не идет к ученице) пошел с ней на терапию, чтобы снова выслушать единственный исторический анекдот старика профессора о том, как Оппенгейм[115] съел посев холерных бацилл, чтобы доказать их безвредность (причем с ним действительно ничего не случилось), а после лекции под мемориальной доской Фодора[116] спросил: «Вы домой? Или, может, к отцу?» — Агнеш обернулась к нему с тем выражением, которого он так ждал: «В самом деле, можно прямо сейчас и поехать». — «Вы не могли бы спросить его, когда я могу его навестить», — осмелел Халми, вовремя избежав оборота «засвидетельствовать свое почтение», а тем самым и засветившейся уже в глазах Агнеш насмешки. «Знаете что, — сказала Агнеш, — мы можем не застать его дома, но если вы согласны рискнуть, то давайте поедем сразу. По крайней мере увидите, где я жила маленькой».
Дни уже становились длиннее, и, хотя, пока они добирались до улицы Хорват, время шло к семи, ворота были еще открыты, и благоговейный взгляд Халми через кусты сирени, мимо бездействующей колонки и пустых цветочных стеллажей тети Фриды мог проникнуть в глубь двора, до балкона двух барышень, и даже уловить отсвет заката на вершине горы Янош, ради вида на которую тетя Фрида не согласилась в свое время продать развалюхи на заднем фронте своих владений. Агнеш покосилась на входящего в подворотню коллегу. Что за теории, что за холодные, уничтожающие суждения носит в своей голове этот Халми — а вон с каким благоговейным видом, чуть ли не на цыпочках входит в этот двор (причем длинный нос его словно становится неким осторожно ощупывающим, оглаживающим все вокруг органом) и не задумываясь целует руку усатой старухе-буржуйке, которая по унаследованному от предков праву владеет этим участком и эксплуатирует обитающих здесь пролетариев. Пришедшему наугад посетителю повезло: Кертес уже вернулся от своего ученика и, к вящей радости Агнеш, не отмачивал марки, а набивал сигареты. Гостю он искренне обрадовался. «Ну как же, как же, узнал… Доктор Халми… Ференц Халми… как батюшка. Это коллега Агнеш», — объяснил он тете Фриде, которая тихо топталась по комнате, от волнения позабыв, куда и зачем направлялась. Халми был первым гостем в доме со времен войны, с тех пор, как перестал к ним наезжать с делегацией венский родственник, старший финансовый советник Фухс. «Как это вам пришло в голову меня разыскать?» — выдал Кертес свое удивление. «Это я его уговорила, — ответила Агнеш вместо Халми. — Думала, вы будете рады еще раз побеседовать по душам». — «Да еще как! С таким приятным земляком…» Когда Агнеш вышла, чтобы успокоить бросающую на нее тревожные взгляды тетю Фриду, они уже говорили о планах Фери: что ему делать — возвратиться ли домой, на место старого доктора Лорши, или учиться дальше в Пеште? Какой вариант был бы более правильным? «Soll ich ihm etwas geben?»[117] — поделилась с ней тетя Фрида самой большой своей тревогой. «Ну, чаю разве что». — «Und was dazu?[118] — обреченно смотрела на нее тетя Фрида. — У меня ничего нет… Nicht hab ich, gar nichts…[119] Я хотела испечь немного печенья с крупчаткой, а к нему сливового варенья, что мне Кендерешиха дала. У отца твоего такой хороший аппетит», — добавила она, словно Агнеш или отец обвиняли ее, что она сама проедает эти огромные деньги (по ее понятиям, с опозданием поспевающим за стремительной девальвацией, сумма, которую она получала от постояльцев, была поистине баснословной). «У меня кое-что найдется в сумке», — вспомнила Агнеш про увиденные утром медовые пирожные, купить которые заставила ее память детства. «Ist er wirklich ein Dokter?»[120] — спросила тетя Фрида, когда семь или восемь маленьких круглых пирожных несколько развеяли главную ее заботу. Как и госпожа Кертес, она очень чтила врачей; о большом друге дома, докторе Ренце, — с детства помнила Агнеш — даже шептались, что он ходил сюда ради тети Фриды. Фери Халми, однако, как можно было понять, не очень-то соответствовал ее представлениям о врачах. «В скором времени будет», — коротко пояснила Агнеш. «Und was fehlt ihm? Warum hinkt er?»[121] — остановила старуха уже нагруженную скатертью и тарелками Агнеш, надеясь в массе взволновавших ее забот услышать успокоительные ответы и на эти вопросы, после того как хозяйственные и социальные проблемы были более или менее улажены.
В комнате в это время речь уже шла о скорбуте хозяина. Кертес, высоко задрав штанину, поставил ногу на стул, поближе к свету лампы, а Халми, низко нагнувшись, с врачебным вдумчивым выражением изучал сине-желтые, уже исчезающие кровоподтеки. «Полностью рассосавшиеся петехии», — сказал он, оборачиваясь к Агнеш. «Да, из него выйдет врач», — думала Агнеш с иронией, но и с завистью. Как он верит в то, что благодаря книгам и демонстрациям возвышает его над больными! И сама тоже склонилась над поставленной на стул ногой. Фери тут же задал больному несколько квалифицированных вопросов, показав, что он тоже довольно много знает о скорбуте. Верно ли, что сперва начали кровоточить десны, а потом, когда общее состояние ухудшилось, появились красные пятна на ногах? Однако память Кертеса сохранила иную картину болезни. Сначала он просто быстро слабел, особенно ноги, была небольшая температура, и, по совету товарищей по камере, он два-три раза ходил на осмотр. Но осмотр ничего не дал, тогда как раньше, с высоким, до тридцати девяти градусов, но на следующий же день спадающим жаром, он целых две недели пробыл в изоляторе и в отделении для выздоравливающих, называвшемся «околоток», где им даже немного баранины в супе давали. Наконец, тюрьму посетила какая-то комиссия, она осматривала подозреваемых на скорбут, которых переписали «старшие» — начальники камер. Так он попал в тюремный госпиталь. Пятна же на ногах выступили, когда ему уже стало немного лучше. Фери, однако, этим не удовлетворился, со своей верой в науку и с недоверием к больным пытаясь как-то соединить две эти версии. Отец, хранивший в памяти не меньше пятидесяти аналогичных историй болезни, приводил все новые примеры. «Смотри-ка, даже скорбут насколько разнообразен», — думала Агнеш, когда, накрыв на стол, возвратилась в кухню. А ведь, по книге, это самая единообразная и, значит, легче всех прочих распознаваемая болезнь. Видимо, требуется упорство Фери или мудрость Розенталя, чтобы совсем не запутаться в расхождениях между заученными симптомами и многообразием жизни… В кухне она обнаружила Пирошку (та сразу же появлялась, почувствовав, что пришла Агнеш), они с тетей Фридой обсуждали гостя. «Ein Dokter ist er[122], — услышала Агнеш объяснение тети Фриды. — Слушай-ка, я подумала: у отца тут есть мармеладу немного, не подать ли нам и его?» И она показала на кусок спрессованного повидла, полученного Кертесом в школе, во время какой-то благотворительной акции. «Нет, зачем? Впрочем, если вам, тетя Фрида, так спокойнее…» — «Wir sind halt Arm[123], — повернулась старуха к Пирошке. — Нам посылки из Вершеца не приходят, — добавила она. — Wir haben keinen Weinberg[124]». — «Зато крыш много», — засмеялась Пирошка. «Да, только вино с них имеем не мы, а кровельщики, — не удержалась и тетя Фрида, чтобы не пошутить над своим положением. — Eine impertinente Fratz ist sie»[125], — сказала она и досадуя, и смеясь, когда Пирошка, не сказав ни слова, исчезла вдруг в своей комнате.
Когда в комнату вплыл чайник с клубящимся над ним паром, хозяин и гость все еще пребывали в тюремном госпитале. Зимние приключения Фери, видимо, сделали его более осторожным в расспросах о Советской России, так что политическое любопытство он удовлетворял посредством историй о больных скорбутом, лежавших в палате тяжелых. «А тот венгерский коммунист как в тюрьму попал?» — как раз спрашивал он Кертеса. «Главным образом из-за своего имени. Его Вилмош[126] звали, Вилмош Шюмеги. Никто не верил, что крестьянин из Таполцы мог сына Вилмошем окрестить. А Вилмошем просто его крестного отца звали, тамошнего помещика, вот и дали ему при крещении это имя. И когда начал проситься домой, мол, надоело ему воевать, к жене отпустите, в деревню, его взяли и обвинили, что он других красных солдат домой сманивает». Фери, как Агнеш почувствовала по его смеху, тоже не считал имя Вилмош столь уж безобидным (почему, собственно говоря, крестным отцом его был помещик?) и не удержался, чтобы не вставить: «Это он так говорил». — «Нам он тоже подозрительным показался, — не стал спорить Кертес. — Очень уж смелые он высказывания себе позволял, так что я старался при нем помалкивать». Агнеш испуганно посмотрела на Фери: как он воспримет предположение, которое даже она считала маловероятным, что в палату для тяжелобольных, где в конце концов оказался, потеряв способность передвигаться, отец, подсадили провокатора — выспрашивать умирающих. Однако Фери эта мысль встревожила куда меньше, чем дымящийся чай, который Агнеш начала разливать в красивые фарфоровые чашки тети Фриды. Он вскочил и стал извиняться, что и так очень уж засиделся. Пришлось чуть ли не силой усаживать его на место. «Sie kriegen nichts besonderes, Herr Dokter. Ничем особенным мы вас не угостим, господин доктор», — пододвинула тетя Фрида повидло, которое, будучи разбавленным горячей водой, выглядело в красивой стеклянной вазочке вполне прилично. Спустя несколько минут — за это время Кертес от командира эскадрона успел перейти к солдату-литовцу, который с русской дивизией попал во Францию, сражался под Верденом, а когда взбунтовавшуюся дивизию расформировали, оказался работником у французских крестьян, где мог бы пить вина сколько влезет, но, никогда не видевший винограда и привыкший к водке, так и не сумел пристраститься к вину, — в комнату просунулась голова Пирошки. Она принесла блюдо с домашними припасами и, не найдя никого в кухне, сама подала их на стол. Конечно, долго уговаривать ее не пришлось; вслед за блюдом, которое было своего рода вступительным паем, она вошла и сама, чтобы насытить свое любопытство касательно доктора, коллеги Агнеш. «Папин земляк», — представила Агнеш Фери, чувствуя, что сказала это затем, чтобы немного отделить себя от длинноносого, некрасивого юноши (который, вставая, сделал вывихнутым бедром движение, которое наверняка не ускользнуло от живых карих глаз Пирошки). «Не знаю, вы знакомы с папой?» — сказала (устыдившись самой себя) она, чтобы отвлечь внимание от смущенного Халми. «С дядей Яношем? Ты меня с ним хочешь знакомить? — обняла Пирошка Кертеса, который, хотя и набрал уже пять-шесть килограммов, под ее сильной теплой рукой потерялся, превратившись в этакого «старикашку». — Когда мой ухажер на дежурстве, меня дядя Янош развлекает. Я уже все знаю: про юрты, про тюремные передачи, про то, что поляк говорил в уборной… Пардон!» — посмотрела она на тетю Фриду, которая, однако, была всецело поглощена тем, чтобы покрасивее распределить по своим рассчитанным на гномов тарелочкам ломтики копченого зельца.
«О чем беседуем? — спросила Пирошка, когда, недоверчиво оглядев стул в стиле бидермейер, все же устроилась на нем. — О медицине, о тюремном питании?.. Не обращайте на меня внимания, продолжайте», — заговорила она, видя, что остальные молчат. «Сейчас вот — и о том, и о другом, и еще о третьем, — ответил Кертес. — Фери как раз меня расспрашивал, как лечили в тюремном госпитале». — «Это та самая тюрьма, — осведомилась Пирошка, готовясь слушать интересную сказку, — которая на масло похожа? Буттерка…[127] Ну и что там?» — «Словом, с нами все обращались очень хорошо, только лекарства не давали, потому что у них у самих не было. Один рыбий жир. Я первое время его принимал — невероятно мерзкая штука, — а потом сосед мой, командир эскадрона, научил меня, что надо рыбий жир этот сливать в бутылочку, а когда она будет полная, няньки табаку за нее принесут». — «Это я слышала уже, — сказала Пирошка. — Дело в том, что мой ухажер — аптекарь. Так мы с его помощью добрались и до рыбьего жира. И до китайца, который в отдельной комнате лежал, у него скорбут нижнюю челюсть захватил». Кертес засмеялся; он явно чувствовал себя хорошо в той роли, которую отвела ему Пирошка, точно так же как перед этим — под ее полной рукой. «Дядя Кертес бруснику и зелень получал, — рассматривала Пирошка тем временем Фери, — от этого и стал выздоравливать. А вот насчет того, как он из этой Масленки освободился, — тут он у меня в долгу… Вы уж на меня не сердитесь, — обернулась она к Агнеш, — дядю Яноша направлять надо, иначе в два счета окажемся у гузов, огузов и тотемов». — «Как освободился-то? — улыбнулся Кертес той стариковской улыбкой, с какой человек, видя, что рассказ его заинтересовал молодежь, готовится, набивая себе цену, к неспешному повествованию. — Да очень просто. Лежу я на кровати…» — «Рядом с командиром эскадрона», — вставила Пирошка. «…вдруг входит надзиратель. «Кто здесь Иван Петрович Кертес?» Я у них так звался… Я смотрю: чего он хочет? «Свободны», — говорит надзиратель». — «Пане боже! — вскрикнула Пирошка; в том, как содрогнулось ее крупное тело и как стиснула она руку Агнеш, никто бы не мог отделить радость самозабвенного слушателя от некоторой игры, адресованной незнакомому мужчине. — Тут вы, конечно с ума сошли от радости». — «Почти сошел», — улыбнулся Кертес. «Но что вам было с этой свободы, — испугалась или изобразила испуг Пирошка, — если вы даже с постели встать не могли?» — «Вот и я то же самое спросил у товарищей. Но капитан Михок меня успокоил: переведут, говорит, вас в обычную больницу, кормить там должны получше». — «И как, перевели?» — «Перевезли, на простой телеге. Положили прямо на голые доски, так что я каждую выбоину боками чувствовал. Иногда думал, вот-вот лопнет сосуд какой-нибудь в позвоночнике».
Пирошка заметила взгляд, которым обменялись два медика. «Вам, должно быть, просто конфетка, когда дядя Янош рассказывает, что и где у него лопнуло…» Смех, которым встречены были ее слова, наполнил сердца сидящих в комнате теплым, светлым ощущением, что вот они собрались здесь и, радуясь друг другу, радуясь общению, проводят вместе чудесный вечер. «В Дёнке, где я в школе учился, — сказал Кертес, нагнувшись к столу и изучая принесенный Пирошкой зельц, — такой фаршированный свиной желудок называли знаете как? Саймока[128]. Интересный пример народной этимологии, — повернулся Кертес к Халми как к самому серьезному из присутствующих. — Как вы думаете, откуда происходит это слово — саймока? Из немецкого Saumagen — свиной желудок. А сколько таких заимствований можно найти, должно быть, в наших древних памятниках». — «Никаких древних памятников! — одернула его Пирошка. — Возвращайтесь сейчас же в Екатерининскую больницу». — «Там в самом деле лучше кормили?» — спросил Фери, которому хотелось услышать что-нибудь хорошее о милой его сердцу стране. «Сначала я думал, будет лучше, потому что меня положили рядом с комполка, коммунистом, который на Урале сражался, а поскольку у него желудок был больной, он свою порцию мне отдавал. Ух ты, думаю, лучшего места нельзя и придумать. Сплошь желудочные больные». — «Дядя Янош единственным едоком был во всей палате, — сказала Пирошка сквозь хрипловатый свой смех. — Ну, и что ж там случилось? Посмотрели они на ваш аппетит — и желудки у всех выздоровели?» — «Нет. Они моих ног испугались: ноги тогда у меня стали совсем черные… Прямо при мне спорили, не заразен ли скорбут. И в конце концов перевели меня в другую палату, к таким же, как я, больным скорбутом». — «А там все голодные как волки», — опять засмеялась Пирошка, которая, будь она там, в России, не задумываясь разделила бы свой зельц на всех больных, но тут, вдалеке, не способна была сочувствовать голодающим — даже, напротив, от души веселилась, представляя, как запертые в одну палату люди заглядывают в миски друг другу.
Кормежка в Екатерининской больнице была еще хуже, чем в тюремном госпитале. Фери и тут попробовал повернуть разговор таким образом, чтобы из него виден был советский гуманизм. «Голодная страна, — удивленно сказал он, — а заключенным дает кормежку лучше, чем обычным больным». — «Что она там дает, я не знаю, — ответил Кертес. — Мы видели только, что остается. Даже газеты писали, что на тысячу семьсот больных приходится тысяча сто человек персонала. И конечно, у каждой няньки дома несколько голодных ртов». — «И об этом разрешалось в газетах писать?» — попытался Фери спасти, что еще можно было. Однако Пирошка требовала свою сказку, и к тому моменту, когда все медовые пирожные исчезли с тарелки, больной, опираясь на костыли, потом на оставшуюся от умершего старика палку вишневого дерева, уже учился ходить по потрескавшимся бетонным дорожкам возле Екатерининской больницы, чтобы в один прекрасный день вместе с другим вылечившимся от скорбута пленным (который бросил его на первом же перекрестке) и с капиталом, достаточным на половину трамвайного билета, пуститься в пятичасовую дорогу к Эстонской комиссии, откуда он к тому времени получил уже полмешка передач. «Когда это было?» — спросила Агнеш. «Тринадцатого сентября», — немного подумав, высчитал Кертес.
В прошлый сентябрь. Чуть больше пяти месяцев тому назад! До Агнеш только сейчас дошло, что все эти недостижимо далекие места — тюремный госпиталь, Екатерининка, Немецкий дом, куда его послали эстонцы, монастырь, где пленные ждали отправки домой, — из смутных названий благодаря Пирошке сейчас впервые сложились в единую цепь, в вехи событий, таких близких во времени к этому столу с лампой, свет которой, освещая чью-то щеку, чьи-то колени, чье-то полное плечо, как бы обнимал их, замыкал в маленький дружелюбный круг. И что ее отец, на которого не только она, но и двое других молодых людей и даже тетя Фрида смотрят так, словно ждут от него чего-то, — тот самый человек, которого больные Екатерининской больницы, особенно дети, разглядывали, как некое странное существо — получеловека-полуобезьяну, и который полутора месяцами позже все еще производил на тетушку Бёльчкеи, относившуюся к нему как к барину, впечатление слабоумного чудака. «Я сам удивлялся, как велика у меня способность к регенерации», — сказал отец; в самом деле, это была удивительная способность, которая, подняв голову от нескольких порций брусники (пока сам он, отстранившись от всего, что есть жизнь, лежал на больничной койке и думал о десяти миллионах солдат, без которых мир существует точно так же, как будет существовать без него), постепенно набирала силу и в конце концов привела-таки его, через домашние разочарования, в этот крохотный, заменяющий семью круг. Впервые с тех пор, как отец вернулся домой, Агнеш почувствовала: вокруг нее — то, что и должно быть, и от этого она ощутила в груди такую легкость, такую горячую благодарность, что готова была обнять всех сидящих за столом, а прежде всего — эту крупную, веселую девушку, которая поддерживает в себе с помощью креповой бумаги и своего аптекаря столько душевного тепла, что сумела и отцу уделить немножко, согрела всю маленькую компанию ленивым своим любопытством и снисходительным добродушием. Правда, то, как она обращалась с отцом, вначале чуть-чуть задевало Агнеш. Вот так они в свое время смотрели на тюкрёшского дедушку, особенно если он успел уже одолеть свой первый кувшин вина; но дедушке тогда было семьдесят, отцу же через месяц исполнится пятьдесят. Однако Кертеса совсем не коробил этот ласково-фамильярный тон, он охотно входил в роль старого папаши, которую отводила ему эта добрая и шумная девушка. Пирошка его узнала уже таким, нынешним, — и, сложив свои походя, между прочим сделанные наблюдения, сразу нашла подходящий, устраивающий обоих тон. В то время как она, Агнеш, все искала в нем давным-давно сложившийся в душе идеал, то есть нечто несуществующее, к чему пыталась взывать, и тоном своим, и невольным разочарованием создавая в их отношениях двойную неловкость. И хотя она все равно не могла бы говорить с отцом так, как говорила эта посторонняя девушка (словно тем заведомо закрепляя за ним преждевременную роль старца), тем не менее она твердо пообещала себе, что обязательно будет у нее учиться и попробует относиться к нему с меньшей требовательностью и большей естественной душевностью и теплотой.
Пирошка же и положила конец чудесному этому вечеру. «Святый боже, — взглянула она на часы. — Мой аптекарь окоченел ведь уже у Вигадо. Он билеты купил на какой-то концерт». — «Спасибо, что ты так добра к папе», — пойдя за ней в ее комнату, обняла Агнеш стоящую в комбинации девушку, когда та поспешно натягивала через голову вечернее платье. Она хотела было сказать: к моему старику, но на столь откровенное подражание стилю Пирошки язык у нее просто не повернулся. Когда она вернулась к остальным, поднялся с места и Фери. «Очень вам благодарен, что навестили. Рад буду видеть еще», — говорил ему Кертес, прощаясь. «Was der arme Mensch gelitten hat[129], — сказала тетя Фрида, когда Агнеш в кухне поцеловала ее. — Хоть ты немного утешишь его за это», — бормотала она подрагивающими губами. Агнеш и Фери молча прошли мимо нескольких подворотен на безлюдной улице Хорват, словно от собственных гулких шагов (четко постукивающих — Агнеш и шаркающих — Фери) ожидали, что те поделятся друг с другом впечатлениями об этом вечере. «Какая у вашего папы прекрасная память», — заговорил наконец Халми. «Правда?» — обрадовалась Агнеш такому началу. «Я еще в Тюкрёше заметил, как точно он помнит даты». — «И кто, где, в какой палате лежал, — поддержала его Агнеш. — Вы читали «Записки из Мертвого дома»? — вдруг обернулась она к спутнику. — Мне эта книга случайно попалась летом. Если б он все описал вот так же, пожалуй, было бы интересней, чем там». Фери, однако, Достоевского не читал, слышал только, что это реакционный писатель. «За один нынешний вечер, — обошел он молчанием свое несогласие, — папа ваш упомянул пятьдесят или шестьдесят человек. И о каждом помнит, где тот воевал — у Деникина или в Уральской армии…» В том, как он поставил рядом эти слова, была некоторая ирония. «И без всяких предубеждений», — снова добавила Агнеш, которая от радости, что может сказать что-то хорошее об отце, ничего не заметила. Это тоже была одна из радостей минувшего вечера: то, что она считала следствием помрачения разума, стало вдруг превращаться в ее глазах в достоинство. Словно где-то и у нее, на самом дне души, открылась простая, наивная и в то же время мудрая, многократно проверенная способность смотреть на людей так, как отец умел смотреть на любого поставленного перед ним судьбой человека, забыв почти все, что знал о ему подобных. «Этого я не сказал бы, — осторожно возразил Фери, даже ради Агнеш не соглашаясь пойти против идеи. — В конце концов, его мнение тоже определяется многим: общественной средой, зажиточной семьей, в которой он вырос, сословием, в котором жил. Но при его больших знаниях, — поспешил он перейти ко второй части фразы, чтобы сгладить возникшее, может быть, у Агнеш недоумение, — в нем есть и большая любовь к справедливости, и она постоянно вносит поправки в вынесенные из дома убеждения… Помните, что он говорил о Москве?» Агнеш, конечно, помнила. И даже улыбнулась про себя: ну, наконец-то Фери получил то, чего так ждал, чего ему так не хватало. Кертес с товарищами, сидя в тюрьме, все время опасались, что в Москве вспыхнет контрреволюция и их в последний момент уничтожат. (Однажды, когда поблизости ударила молния, они уже думали, что то, чего они опасались, случилось.) Но когда их конвой прошел по светлой, спокойной Москве, они убедились, что после победоносной гражданской войны красные держатся там уверенно. Нет, этих не свергнут так просто, как представляли себе многие пленные. «Сам он, конечно, был все же рад, когда смог выбраться из этой экспериментальной страны», — подчеркнул он с некоторой иронией эпитет, употребленный Кертесом. «Но ведь это же так естественно», — удивленно заметила Агнеш. «Да, естественно, — сказал Фери. — Если человека не интересует эксперимент или, во всяком случае, он не хочет из-за него рисковать жизнью».
После этого случая Фери и сам, без Агнеш, стал заглядывать на улицу Хорват. Тетя Фрида однажды ей сообщила: «Вчера был здесь этот твой… Dein Kollege[130]… тот хромой». В другой раз Агнеш сама столкнулась с ним у отца. В тот день на факультете занятий не было, и Агнеш сразу после столовой могла поехать к отцу, который, выбирая меж милыми его сердцу улицами Чалогань, Хаттю и Сегеньхаз, в это время обычно направлялся к ученику. Стоял один из тех дней, которые прокрадываются в февраль как предвестники скорой весны; Агнеш рассчитывала, если застанет дома, проводить его немного по улицам. «Gut, dass du kommst. Dein Vater fühlt sich nicht gut[131]. Нехорошо себя чувствует», — встретила ее в кухне тетя Фрида. На лице ее еще стояло то тревожное выражение, с которым она обсуждала новость с жильцами, пришедшими за водой, дескать, как она, achtzig jähriger[132], будет ухаживать за свалившимся ей на шею мужчиной, если он в самом деле тяжело заболеет. Кертес, спустив ноги на пол, лежал на диване. И Агнеш, нагнувшись над ним, — он в этот момент приподнялся — ощутила губами, что у отца жар. «А, ерунда… На последнем уроке, прямо на кафедре, вдруг почувствовал, будто плыву в каком-то горячем тумане. Жаль, что тетю Фриду напугал. В тюрьме мы бы радовались такому. К высокой температуре относились очень серьезно: не сыпняк ли?» — «Wenn er nicht isst»[133], — топталась возле них тетя Фрида, которой аппетит Кертеса, после собственных проведенных впроголодь лет, казался каким-то чудовищным природным явлением. Агнеш хотела ему постелить, но Кертес не позволил, да и сам не стал больше ложиться. Ему пора было отправляться к ученику. Пропустить занятие никак нельзя: у Гиршика завтра контрольная. Почтение, с которым он произнес имя Гиршика, говорило о том, что он, как репетитор, тоже немного заразился страхом своего подопечного. «Если он до сих пор чего-то не понял, то ему сегодняшний день не поможет», — попыталась Агнеш все же вытащить простыню. «Сразу видно, что ты не знаешь еще всех наших секретов, — сказал с некоторой досадой отец. — Гиршик был очень любезен и дал несколько примеров, чтобы можно было попрактиковаться». — «Но тогда все будут писать контрольные на пятерки», — ужаснулась Агнеш. «Не думай, что он такой наивный. Не сами примеры, а только похожие. С его стороны и это большое одолжение».
Тут и пришел Халми. «Gut, das Sie kommen, Herr Dokter»[134], — донесся голос тети Фриды из кухни. Она от радости даже забыла, что Халми, может быть, вовсе не знает немецкого. Поняв, о чем речь, Халми с невероятной серьезностью отнесся к своей задаче, постаравшись оправдать ожидания тети Фриды, да и больного тоже. С глубокомысленным видом, словно взвешивая про себя важные детали и обстоятельства, он стал расспрашивать Кертеса, пользуясь теми вопросами, которые Агнеш тоже учила на занятиях по диагностике и даже задавала от случая к случаю, но вот так систематично, таким естественным тоном ставить еще стеснялась. Потом Фери заставил Кертеса раздеться до пояса, усадил на стул и, как их учил Розенталь, простукал поле Крёнига. Поле это — проекция верхушки легкого на грудной клетке — в глазах Агнеш и само по себе не было чем-то заслуживающим доверия, в данном же случае простукивать его совсем не имело смысла, ведь легкие у отца были в полном порядке, за один день не могло произойти спадение верхушек легких. Фери, однако, не отпустил отца, пока, под взглядом то выходящей, то возвращающейся в тревоге тети Фриды, не простукал легкие спереди и сзади, справа и слева, выявляя границы сердечной тупости. Потом вынул свой стетоскоп и прошелся им по заросшей седыми волосами груди Кертеса, на которой вновь начала вырисовываться былая мускулатура гимнаста. «Здесь вот слышны один-два влажных хрипа», — предложил он стетоскоп Агнеш. Та, чтобы не подрывать авторитет друга, покорно приложила ухо к трубке. Потом ей пришлось послушать и сердце. «Второй тон аорты приглушен», — сказал Фери. Агнеш прекрасно знала, что у такого пожилого, со склеротическими артериями человека второй тон аорты и должен быть приглушенным, но она не очень верила, что Фери действительно это слышит. Однако постепенно она увлеклась игрой в доктора. Тон аорты в самом деле как будто был не таким, как пульмональный: не та-та, а бу-бу. И пока тетя Фрида ходила к Кендерешихе за градусником (ее градусник разбила Пирошка и до сих пор не удосужилась купить новый) и рассказывала там, что Кертеса как раз осматривает коллега Агнеш, она тоже простукала сердце, слева расширенное на палец (причем расширение это казалось вполне вероятным), затем границы диафрагмы и даже поле Крёнига. Кертес с почтительным выражением редко болеющих людей терпел гуляющие по его груди пальцы и металлический холодный кружок. По всей видимости, ему было даже приятно, что двое молодых людей, родная дочь и ее коллега, соединив свои знания, так пристально изучают его старое, едва ли не у могилы отвоеванное тело. Халми дождался, что покажет градусник, — градусник показал тридцать восемь и пять — затем (в серьезных его глазах чуть ли не воочию можно было разглядеть качающуюся стрелку весов) заявил, что это, вне всяких сомнений, весенний грипп (слово это звучало лучше, чем затертая во время больших эпидемий «инфлюэнца»), и, чтобы укрепиться в этом ответственном выводе, повернулся к Агнеш и перечислил, чего здесь не может быть. «Правда же, при гриппе необходим постельный режим?» — облекла Агнеш в форму вопроса свое желание. И когда отец попытался протестовать, добавила: «К мальчику пойду я и порешаю с ним эти примеры». — «Да, господин учитель, вам обязательно надо отлежаться. Больше всего рецидивов случается, когда больные торопятся встать, — с полной верой повторил Фери услышанное на лекции. — Если грипп переносить на ногах, это и для сердца большая нагрузка». Кертес все еще колебался, с подозрением поглядывая на Агнеш и Фери. Но когда Фери принялся объяснять виденные им в клинике случаи encephalitis, paralysis agitans[135], которые все до одного были следствием запущенного гриппа, Кертес наконец сдался и, покопавшись в своем блокноте, передал дочери драгоценный документ: примеры господина Гиршика. «Каким вы прекрасным доктором будете, — счастливая, сказала Агнеш, взбивая подушки. — Я никогда не смогу так уверенно это делать», — «Он это очень хорошо делает», — подтвердил, расшнуровывая ботинки, и сам больной. «Ja, er macht genau so, wie ein wirklicher Dokter»[136], — признала, успокоенная, словно уже и болезнь была не страшна, тетя Фрида.
Ученик Кертеса в самом деле оказался большим увальнем. Главными его свойствами были исключительно толстая, грубая белесая кожа и глубоко под неподвижные, тяжелые веки упрятанные глаза, в которых, однако, светилось острое внимание и юмор. Когда он открыл окошечко в двери и увидел за ним незнакомую женщину, выражение лица у него стало подобным его жесткой, малоподвижной коже. Когда Агнеш сказала, что она дочь господина Кертеса и проведет сегодня занятие вместо отца, в глубоко сидящих глазах увальня появилась почти нескрываемая ирония, даже дерзость. Ничего не сказав, он проводил Агнеш в свою переделанную из помещения для прислуги комнатку, где кастет, шляпа бойскаута и маленькая модель аэроплана обозначали направления, в которых работала его фантазия; потом он ненадолго исчез в глубинах квартиры, видимо, чтобы в своей скорее вызывающей удивление, чем удивленной манере сообщить новость невидимым домочадцам. «Сочувствие у господина учителя имеется», — сказал он лаконично, когда Агнеш заговорила о контрольной и о том, что из-за этой контрольной ей едва удалось уложить отца в постель. Неподвижное его молчание было таким же, как кожа; Агнеш невольно искала за этим молчанием какие-то хитрые, двусмысленные слова, которые одноклассники, вероятно, награждают дружным ржаньем и которые теперь, когда он должен блеснуть ими перед женщиной, выбирать надо было еще тщательнее. Пока Агнеш из приличия спрашивала материал по алгебре и геометрии, по которому они будут писать контрольную, он все время посматривал на бумажку, которую Агнеш уже достала из ридикюля, словно давая понять, что уж кто-кто, а он понимает, что к чему в этом мире. На бумажке были написаны два примера по алгебре и один по геометрии. Первый — умножение с логарифмированием: спасательный круг для дураков. Пример этот Домонич — такова была фамилия увальня, — пораскинув мозгами, решил вполне сносно. Второй — показательное уравнение. Правда, как оно решается, Агнеш уже и сама забыла. «Жаль, что нельзя спросить у господина Гиршика», — заметил с невинным для такой дерзости выражением Домонич. Агнеш поняла, что отец тоже порой попадался с примерами в ловушку. «Рано радуешься», — сказала Агнеш, сообразив, что надо лишь все прологарифмировать и решать как обычное уравнение первой степени. «Ловко», — отдал должное ее сообразительности Домонич. Потом, когда они вычислили по одной стороне площадь правильного пятиугольника, он сказал: «Интересно. Говорю, очень интересные примеры, стоит их сохранить». И, сложив вчетверо листок, на котором они писали, сунул его в свой потертый, видимо унаследованный от отца, бумажник. «Какие еще у вас завтра уроки?» — спросила Агнеш; хотя лаконичные реплики Домонича не оставляли сомнения, что он вполне понимает, зачем она пришла и откуда взялись примеры, она не хотела складывать оружие перед его якобы остроумными, на самом же деле довольно грубыми намеками. Теперь она хотя бы из принципа хотела пройтись по всем предстоящим завтра урокам. «История будет?» — «В случае, если господин учитель нас пожалеет и к завтрему выздоровеет». — «Он вам и историю преподает?» Хотя манеры Домонича не предвещали ничего хорошего, Агнеш не могла удержаться, чтобы не попробовать заглянуть в класс к господину Кертесу не только глазами посещающего его уроки молодого учителя, но еще и этого толстокожего подростка. «Тогда расскажи, про что шла речь на последнем уроке», — сказала она с деланным равнодушием. «Про потоп», — ответил Домонич почти застенчиво от распирающей его дерзости. Агнеш, должно быть, сделала какое-то раздраженное движение, так как он почти с испугом добавил: «Честное слово. Про то, могли ли воды Гобийского моря через Арал и через Каспийское море стекать в Черное». Агнеш услышала в этом что-то знакомое. Отец и ей рассказывал, что, как он предполагает, народы мира жили когда-то как братья на берегах Внутреннего Монгольского моря. «Sintfluth und Völkerwanderung»[137], — выговорил Домонич (больше, чем нужно, ломая немецкий) название книги, из которой взята была гипотеза, и хитро покосился на Агнеш: достал ли? «Но откуда-то вы начали, прежде чем очутились у этого моря», — сказала, сердито краснея, Агнеш и с таким сердцебиением уставилась в стол, словно искала силы, чтобы спуститься в опасную горную расщелину. «У этого моря? От шумеров. Они тоже пришли из Гоби, вслед за водой…» Теперь Агнеш была убеждена, что этот недоросль намеренно издевается над ее отцом. «Не хочешь же ты сказать, что в конце февраля вы еще шумеров проходите? Я сама не так давно в школе училась». — «А, вы спросили, что мы по книге проходим? — сказал он, выказывая презрение к учебнику. — Мы сейчас перешли от греков к Италии. Народы Италии времен Ромула. Происхождение этрусков», — добавил он, давая Агнеш верченый пас. Агнеш достаточно наслушалась отца, чтобы представить, как двигалась его мысль: таинственные этруски, отсюда — не менее таинственные шумеры, отсюда — Гобийское море. Мальчишка действительно довольно разумный и верно передал эти отступления. И из всего урока, не важно, шла об этом речь десять минут или тридцать, у него в голове, очевидно, ничего другого и не застряло. Но в каком качестве: как любопытные, необычные факты или — хитрая рожа Домонича свидетельствовала скорее о последнем — как мишень для школьного юмора? И Домонич, словно прочтя ее мысли, неожиданно, словно про себя, произнес: «Когда я был в плену на окраине Монголии…» Конечно, это была отцовская фраза. Одна из тех учительских фраз, которые школярское остроумие фиксирует как самые характерные для того или иного преподавателя — и которые в этом случае предвещают обычный переход от школьного материала к приключениям, пережитым самим учителем. Агнеш сделала вид, будто не слышала этих слов, но теперь она всерьез разозлилась и с мрачным лицом перешла к следующему предмету. Значит, проклятая эта война из ее мудрого, доброго отца, прекрасного педагога, сделала-таки шута.
В этот момент вошла, неся столь часто восхваляемую закуску, хозяйка — маленькая, подвижная, дружелюбно-улыбчивая женщина. Когда Агнеш с сына перевела взгляд на нее, ей захотелось задуматься о неисповедимых путях наследственности, заставивших эту проворную женщину произвести на свет такого вот ископаемого ящера. Поздоровавшись и поставив блюдо на стол, она сразу заговорила про господина Кертеса. «Надеюсь, он не очень серьезно болен? Мы к нему так привыкли, что прямо скучаем, если он не приходит. Такой славный человек! Давно уж, бывает, отзанимается с Пишти — и целый час еще сидит с нами, взрослыми, все нам объясняет. Просто диву даешься, сколько всего умещается у него в голове. Вот хоть название деревни моей — я из Ороси, недалеко тут… и чего он только из него не вытащил: и русов, и норманнов, и даже не знаю, кого еще. Парень наш совсем другой стал с тех пор, как он с ним занимается. Потому что он его не только учит, а еще и мозги его ленивые старается расшевелить. Не знаю, что покажет педсовет, но мы-то видим, что результат есть. До сих пор парень только и читал что истории про индейцев, про Виннету, ну и, пока не отняли, романы про Ника Картера. Мы уж ему говорили: Пиштика, не по возрасту это тебе. Читай что-нибудь посерьезнее. А теперь вот путешественником хочет быть, про экспедиции, про раскопки думает. (Агнеш бросила взгляд на стоящего возле шкафа недоросля, который все с той же пахидермической физиономией слушал материны слова о его духовном преображении, и только в глубине глаз желание вставить какую-нибудь остроту смешивалось с некоторым стыдом то ли за родительскую многословность, то ли за такую интерпретацию его пробуждения.) Говорит, и ребята его так любят, так любят. История — любимый предмет. Всю неделю только ее и ждут…» Агнеш совсем вывернула шею в сторону недоросля, по нему пытаясь определить, какова цюрихская стоимость этих хегедюшевских банкнот. «В самом деле у вас в классе так любят историю?» — спросила она. Колебание на лице увальня касалось не содержания, а формы ответа: как бы ему ухитриться и так сказать «да», чтобы отмежеваться от льстивого тона матери и заслужить в то же время смех незримо присутствовавшего класса, да еще и эту молодую женщину заставить подумать: смотри-ка, Домонич-то не какой-нибудь там тупица и бездарь, — и, плюс ко всему, избежать выговора за непочтительность. «У нас в расписании — это оазис Фаюм», — удовлетворился он тем, что выразил похвалу — если уж у него ее вырвали — таким способом, чтобы другим было непонятно. (Как раз в те годы там начались археологические раскопки.) «А другие уроки что — совсем пустыня? — обрадовалась Агнеш слову «оазис», сразу положившему конец ее тревогам. — Или — там верблюдам можно прилечь и отдохнуть?» — от радости перешла она на стиль Домонича. Ромовая баба давно была съедена, кофе выпит, а Агнеш, счастливая, что отец ее, пусть над ним и подсмеиваются, все-таки покоряет ребячьи души, все сидела у Домоничей и, забыв про Йоланку, болтала о том о сем. Пускай Пишта исследователем Азии и не станет, главное, что у него есть духовное увлечение. Если у человека есть увлечение, оно его спасет. У нее тоже был преподаватель истории, который приохотил ее к искусствоведению. И хотя она в конце концов пошла по медицинской части… Тут нужно было закончить в таком роде, что, дескать, познанное увлечение и здесь найдет для себя пищу. Но это пока что не соответствовало истине. «Вылитый отец, — сказала хозяйка, когда они прощались. — В том смысле, что так охотно все объясняете. Я это и папаше вашему скажу. Пусть поскорей выздоравливает».
Но если на улице Хорват, в одной из двух точек, меж которыми, словно маятник, металась Агнеш, дела как будто начали приходить в норму, то в другую точку, в Чикаго, она ехала сейчас на трамвае как к эпицентру боли, ждущей ее вмешательства, ее рук. Главная беда была не с Йоланкой. Головенка ее обладала своим, ни больше и ни меньше, объемом, и надежда, которую Агнеш питала в первые дни, что, может быть, девочка вовсе не такая уж дурочка, какой кажется, быстро сошла на нет; мозговыми ресурсами Йоланки можно было разве что экономно распоряжаться, увеличить их было нельзя. Только наполовину осуществились и первоначальные планы раскрепостить ее ум, переделать с помощью бесед, прогулок, подбора подруг ее характер. С тех пор как начались лекции, у Агнеш почти не было для этого лишнего времени (даже в Художественный музей они, со Штраус и еще двумя девочками, попали лишь спустя три или четыре недели); с другой стороны, хотя Йоланка и смотрела на нее, как на шоколадную конфетку, с которой она, не привыкшая к сластям, охотнее принимала даже неприятное лекарство, тем не менее тот прочный панцирь, под которым она много лет укрывалась от монотонной бабушкиной ласки, было не так-то легко сломать. Так что самой реальной практической помощью в осуществлении честолюбивых надежд бабули стало то, чего Агнеш больше всего боялась: посещение реального училища Йоланки. Классной руководительницей Йоланки была учительница венгерского и немецкого языка, беженка из Трансильвании, совсем молодая женщина, лишь на несколько лет старше Агнеш; университет она окончила уже в Будапеште и, как истая трансильванка, слегка презирала улицу Сив, а как обладательница университетского диплома — училище; при всем том она была живой и веселой, гордилась своим трансильванским говором и сознательно его берегла; Агнеш она полюбила с первой минуты. Агнеш пришла к ней все с той же придуманной для Штраус версией, но та не дала ей даже закончить фразу. «Мне можешь этого не рассказывать, у кого нынче дела хорошо идут? У спекулянтов. А дочери простых служащих достается на все про все дремучая голова Йоланки Ковач». Агнеш рассказала ей и про сиротство Йоланки, и про бабулин характер, вставила даже про назареев, объяснила, что ее и как психологическая проблема интересует, чем можно высвободить эту задавленную бабушкиной любовью душу. Учительнице импонировали медицинские термины, которые употребляла Агнеш: гормоны, комплексы, — однако и от своего трансильванского самолюбия она не хотела отказываться. «Что тут можно сделать? А ничего, я тебе скажу. Из ничего ничего и получится. Это мне подсказывает трезвый, не испорченный никаким Руссо крестьянский ум. Ну, а как педагог я с тобой согласна и на педсовете хоть лекцию могу прочитать, что Йоланкина глупость — чаще всего только видимость, результат различных социальных влияний. И я с радостью тебе помогу, если ты собираешься продолжать свой опыт приватной дрессировки, выскребать из Йоланки нетронутое дитя природы. Ну, и вообще будем стараться немножко тянуть ее за уши, — засмеялась она, ласково глядя на Агнеш, — чтобы плоды твоих усилий можно было бы выразить и в каких-то реальных цифрах».
Таким образом, с Йоланкой особых проблем не было; более того, бабуля, хотя и не столь восторженно, как госпожа Домонич, тоже сказала как-то Марии, что у Йоланки немецкий вроде пошел получше и, хотя старания у репетиторши слегка поубавилось (еще бы, вон бедняжка как устает, пока сюда доберется), она надеется все же, что ее затраты в конце концов окупятся. Проблемы были с Марией, чья вегетативная нервная система все с большим трудом справлялась с приступами душевной депрессии. Спустя неделю-другую Агнеш смирилась с тем, что на улице Розмаринг ее ждут два испытания: одно, покороче, с Йоланкой, другое, подольше, с Марией. После того случая, когда у Марии был Ветеши, Агнеш сама постучалась к ней, но на другой день, считая, что такое пустое времяпрепровождение ни к чему превращать в правило, ускользнула не попрощавшись; после очередного занятия Мария ждала ее в кухне. «Почему ты не заглянула ко мне?» — спросила она с упреком. В следующий раз, когда они с Йоланкой отзанимались, она как раз варила кофе. «Я слышу, ты стихотворение спрашиваешь, значит, думаю, скоро кончишь». Потом Агнеш опять не зашла к Марии, та жестоко обиделась и уже сама не выглянула из своей комнаты, когда через день Агнеш довольно громко обсуждала с бабулей Йоланкины способности к языкам. В следующую встречу бабуля спросила: «К Марии-то не зайдете? Она такая печальная нынче, бедняжка». Агнеш, конечно, зашла. Мария попробовала встретить ее холодно, однако слова, аргументы, диалоги, которые вот уже несколько дней распирали ее, быстро сломали непрочный ледок. При расставании она умоляющим тоном сказала: «Пожалуйста, больше не убегай, не повидавшись со мной. Так ужасно видеть на занавеске твою тень, когда ты уходишь. Если б не гордость, вскочила бы и бросилась за тобой».
Так и повелось, что часть своего вечера, между спряжением немецких глаголов и неторопливым — чтобы успела проветриться голова — возвращением домой, Агнеш отдавала Марии, а если той казалось, что подруга покидает ее слишком рано, то Агнеш приходилось приносить в жертву дружбе еще и свою прогулку. «Ты пешком? — робко смотрела на нее Мария. — А можно, я тебя провожу? Обещаю, что не стану тебя терзать своими жалобами». На эти прогулки (Мария боялась вываливающихся из пивных, цепляющихся к женщинам пьянчуг) они брали с собой и Йоланку, и та, держа Агнеш под руку и наслаждаясь приобщением к взрослой жизни, шла рядом с подругами; они старались в ее присутствии говорить о невинных вещах, но порой в какой-нибудь фразе Марии все-таки возникал, пусть неназванный, Он («ты знаешь, он ведь фехтовальщик еще», «он там на приеме больных…»); Йоланка знала прекрасно, о ком идет речь, и даже частенько сама мечтала о нем перед сном: однажды, когда никого дома не будет, он войдет в комнату или встретит ее у ворот: «Я до сих пор только молча смотрел на вас, Йоланка…»
Мария изо всех сил старалась не морочить подруге голову своими несчастьями, которые в эти дни достигли как раз апогея. «Я так себя презираю за то, что не могу удержаться и начинаю изливать тебе душу, — вставала она, раскрасневшаяся от переживаний, с дивана, отпуская руку проявляющей признаки нетерпения Агнеш. — Нет ничего невыносимее человека, который не умеет переживать про себя свое горе…» Однако чаще всего решимости и презрения к себе не хватало, чтобы сдержать накопившиеся в душе страдания, изливающиеся в потоке жалких слов, которыми Мария пыталась обмануть, подбодрить себя или проклинала весь свет. Она пыталась быть непосредственной и ребячливой; они кипятили чай на маленькой плитке, о которой бабуля не должна была знать, ели из бумажного кулька шкварки, Мария угощала подругу сладостями, они болтали об университете, о практических занятиях у Розенталя, о том высоком красавце ассистенте у Веребея — все как в те блаженные времена, когда каждый мужчина в ее глазах был нераскрытой тайной; однажды они даже сели учить патанатомию по учебнику Будаи, однако конец всегда был один — «Ветеши», как некий многоликий мотив, возникал-таки из переходящих друг в друга призванных маскировать ее боль аккордов. Если бы Агнеш не мешало чувство неловкости, что на отчаянии цепляющегося за нее человека она пополняет приобретенные в библиотеке Общества взаимопомощи знания по психологии, она занялась бы систематизацией тех четырех-пяти типов реакций, в которые облекала свои терзания (и которые, вероятно, обнаружатся, скажем, и у Йоланки, когда она влюбится первый раз) ее сдавшая кучу экзаменов, попробовавшая половой жизни подруга. Поскольку такого Агнеш не могла себе позволить, ей оставалось лишь состраданием смягчать ощущение превосходства, с каким человек взирает на прозрачные ухищрения впавшего в любовную горячку ближнего. В счастливые дни, когда поведение Ветеши давало ей некоторые надежды, Мария позволяла себе некоторую браваду. «О, подснежники?» — обнаруживала, например, Агнеш выставленный на стол букетик. «Правда, мило с его стороны?» — говорила Мария. И подробно рассказывала, где стояла цветочница, как Ветеши купил цветы, как протянул их ей, прежде чем она успела сообразить, что к чему. И переходила к воспоминаниям прежних, блаженных времен, словно покупка подснежников была неким исключительно тонко придуманным знаком нежной любви. «Этого у него не отнимешь, есть у него такие убийственно милые жесты, что даже я становлюсь сентиментальной гусыней…» В иных случаях, когда уходящий день оставлял ей меньше надежд, чем сомнений, даже чайник, который необходимо было тщательно спрятать, или бумага из-под колбасы, выбрасываемая в мусорное ведро, давали ей основания придумывать веские доводы, почему Агнеш никогда не застает здесь Ветеши. «Вполне сносное холостяцкое гнездышко, ты согласна? — осматривалась она вокруг с искусственным оживлением. — Мне, наверное, трудно было бы с ним расстаться, так все пропитано тут памятью о нем. А ведь, если приедет мать, все же надо будет ее обработать, чтобы сняла мне другую квартиру. Нелегко это будет: очень уж мать доверяет, как ты выразилась, назарейской бабулиной внешности. И главное, что мне сказать? Про отдельный вход и заикаться нельзя. Ты представить себе не можешь, как раздражает Ивана, что он вынужден проходить ко мне через чью-то чужую кухню. Особенно после того, как он узнал, что ты через стенку занимаешься с девочкой. Он и в прошлый раз, прежде чем подняться, спросил: «Ушла уже?» — «В самом деле, зачем ты ему об этом сказала? И зачем вообще порекомендовала меня сюда?» — вздернула голову Агнеш. Пока речь шла о стеснительности Ветеши, она знала, к чему клонится дело, однако теперь, когда оказалось, что она тоже тут замешана (все же остался какой-то чувствительный шрам в ее душе, в том месте, которое некогда занимал Ветеши), она оскорбилась. «Ах ты глупая, — испуганно обняла ее Мария. — Это же для меня самое большое счастье, если можно вот так поболтать с тобой вечером. И вообще ты за нас не бойся. У его друга, младшего врача, есть комната, так что если я захочу…» Хуже было, если Мария принималась в научных выражениях рассуждать о замужестве и о половой жизни. «Будь ты мужчиной, потребовала бы ты от своей жены — конечно, не о какой-нибудь пустоголовой мещанке речь, — чтобы она вступала в брак девушкой?» — «Не знаю, что бы я потребовала, будь я мужчиной. Если бы боялась, что сравнение будет не в мою пользу, то, может быть, и потребовала», — засмеялась, краснея, Агнеш. «Значит, женщина должна во всем себя ограничить? Чтобы не вызвать неприятных ощущений у повелителя? Не помню, с кем уж я говорила об этом, но, по его мнению, каждую двадцатилетнюю женщину в интересах ее здоровья следует принудить к половому сношению», — «Это я тоже слышала», — досадливо засмеялась Агнеш, не скрывая, что знает советчика. «А ты что, осуждаешь женщин, которые имеют внебрачные половые связи?» — ухватилась Мария за ее досадливый тон. «Ничего я не осуждаю; сохранять девственность или расстаться с ней — личное дело каждой. Все зависит от того, кому как легче». — «Что ты имеешь в виду? Легче в биологическом или в социальном смысле?» — «Даже сама не знаю. Есть у меня одна знакомая (она имела в виду Пирошку): я руку готова отдать на отсечение, что она не virgo[138]. Но это ей как-то идет. Я уверена, у нее из-за этого в жизни никогда никаких осложнений не будет, и с мужем тоже». — «Кто эта знакомая? — пристально посмотрела на нее Мария. — Адель?» — «Адель? Нет, одна девушка из Баната. Как-нибудь я тебя с ней познакомлю». — «Если Адель, так она, пожалуй, и сама позабыла уже, была ли когда-нибудь virgo… Ну а я? — с вызовом посмотрела она на Агнеш. — Обо мне ты что скажешь? Как бы я вынесла связанные с этим осложнения?» — «Ты? Ты более чувствительна, — ответила Агнеш. — Но, я думаю, со временем ты бы привыкла». — «Ты потому так говоришь, — сказала Мария с внезапной грустью, когда подобный разговор зашел у них в другой раз, — что знаешь: у меня другого выхода нет. Верно ведь? А про себя думаешь: ишь избалованная аптекарская дочка, захотевшая испробовать взрослой жизни. Испробовала — и оказалась в ловушке». — «Не забывай, я точно такая же избалованная», — ответила Агнеш, тронутая печалью в ее голосе. «Да, но ты себя бережешь. Тебя мамаша твоя может спокойно расспрашивать обо всем, у тебя нет под глазами следов libido[139]». «О, моя мамаша, пожалуй, даже рада была бы, если бы такие следы обнаружила», — чуть не вырвалось у Агнеш… Самое же ужасное начиналось, когда Мария принималась ругать свое воспитание. «У какой-нибудь глупой птицы больше ума, чем у моей матушки. Утка или, к примеру, ласточка знают, что должны делать их птенцы: плавать или летать, и соответственно учат их. А мои родители, хотя знают прекрасно, как беспощаден и подл этот мир, в котором эгоизм необходим так же, как жировая смазка на перьях, и сами живут по его законам, из меня вознамерились сделать этакое небесное существо, не ведающее, что такое ходить по земле, и лишь порхающее на крыльях. Теперь — вот они, эти крылья, увязли в дерьме. И каждый проходимец, любой может меня унизить, если захочет».
События, комментарием к которым служили и похвальбы, и доморощенные теории, и потоки жалоб, Агнеш могла наблюдать на лекциях Веребея. Напротив нее, на противоположной стороне амфитеатра, одним-двумя рядами выше, сидел, всегда в одном и том же порядке, знакомый квартет: Ветеши между Адель и Марией (Адель слева, Мария справа), за Адель — ее кавалер. Мария на первой лекции, в знак восстановленной дружбы, оглядев амфитеатр и заметив входящую Агнеш, приветливо замахала ей, мол, иди к нам, мы подвинемся, дадим тебе место. Но когда Агнеш показала на противоположную сторону — дескать, там ей заняли уже место, — Мария не стала настаивать и даже вечером не попрекнула подругу. Как Мария за нее ни цеплялась, она чувствовала, конечно: между Ветеши и Агнеш, когда они вместе, возникает некое силовое поле, что не могло не беспокоить ее. Случайно встречаясь глазами с Ветеши, Агнеш даже издалека ощущала его удивленное внимание, обращенное к ней, его неслабеющее желание навязать ей свою волю и в то же время почти смущенную растерянность, когда он убеждался, что потерял над ней власть; а поскольку Агнеш тоже не была в полной мере застрахована от яда, что отравлял жизнь Марии, — напротив, мучения подруги пробуждали в ней даже некоторое слабое любопытство в отношении механизма его воздействия, — она старалась не встречаться с ним взглядом, осторожно косясь в его сторону лишь в такие минуты, когда профессор говорил что-нибудь интересное и четверо на противоположной стороне, каждый на свой манер (Ветеши — обнажая хищный оскал, Адель — больше, чем обычно, сгорбившись и прикрыв рот рукой, Мария — то вымученно улыбаясь, то разражаясь громким, немного искусственным хохотом, Такачи же — широко, одобрительно ухмыляясь), тоже включались в общий гул и волну движения, проходившую по рядам. Или когда внизу происходило нечто тяжкое, трагическое и Веребей рисовал свой крест над головой больного, или им демонстрировали что-либо совершенно неслыханное, — например, больного саркомой мальчика, который выглядел чуть ли не придатком к огромной запущенной опухоли. Но сколько ни поглядывала в ту сторону Агнеш, наблюдая за двумя неразлучными парами (настолько привычными для окружающих, что на них уже не обращали внимания), глаза ее каждый раз улавливали одно и то же: существование тесного, хотя и неуловимого — у них даже локти не соприкасались — контакта меж теми двумя, что сидели в середине, и распадающуюся связь по краям; странная ситуация эта обрекала крайних, отвергнутых, на довольно-таки разное одиночество: у Марии оно было то трагическим, то обиженным, то молящим, у Такачи — вежливо-сдержанным, ироническим, словно эта история его даже слегка забавляла.
Однако все это было пока лишь перестройкой силового поля; первым бросившимся в глаза серьезным симптомом стало то, что Ветеши пропустил несколько лекций подряд; Мария объяснила, что он ведет амбулаторный прием в городской больнице, где у него была уже настоящая хирургическая практика, хотя и по мелким, незначительным операциям. Обе девушки и в отсутствие Ветеши занимали свои места, но пальто Марии, брошенное на скамью — как тень отсутствующего Ветеши, — оставляло меж ними некоторое пустое пространство, через которое лишь Адель, с преувеличенной любезностью победительницы, время от времени обращалась к Марии. А когда Ветеши появился вновь, в один прекрасный день исчез со своего места Такачи, чтобы вдруг обернуться к Агнеш, со скамьи через два ряда перед ней, со своей широкой, немного циничной улыбкой на смуглом лице. Мария отчиталась ей и об этом. «Представляешь, какой нахал этот Такачи! Знаешь, что он сказал? А что, не пересесть ли мне к вам? Я ему, конечно, ответила, как полагается. Хотя, может, и стоило бы мне с кем-нибудь пококетничать немного, в пику Ивану. Но это так по́шло…» На одной из следующих лекций Адель и Мария сидели одни. И сгоревшая изоляция привела в конце концов к короткому замыканию. В тот день бабуля конец урока провела в комнате, спрыскивая белье, сложенное на краю стола и приготовленное для глажки. Когда они кончили, она, по своему обыкновению, спросила: «Закончили, милая?» — и велела Йоланке выйти под каким-то предлогом в кухню. «Не обессудьте, что я говорю с вами об этом, но я перед мамой Марии себя немного ответственной за нее чувствую… Что случилось с ее женихом? Нынче я его совсем здесь не вижу. И Мария такая нервная: что ни спросишь — огрызается». — «Я не знаю, что с ней такое, — отвергла Агнеш предложенный обмен наблюдениями. — На лекциях они сидят вместе. Может, дело в том, что Иван в больнице начал работать». — «Мария мне объяснила, — сказала бабуля, и во взгляде ее блеснуло быстрое недоверие, — что ему здесь неприятно с вами, барышня, встречаться». — «Не думаю», — ответила Агнеш, ощущая поднимающуюся в груди досаду, которая под улыбчивым, но настойчивым взглядом бабули превращалась в стыд. Господи, эта Мария, усыпляя себя, еще убедит, пожалуй, бабулю, что они с Ветеши… «Вот и я ей сразу сказала то же самое, — завершила бабуля беседу краткой сентенцией, которая в первый раз приоткрыла, без всякого отношения к предмету беседы, взаимосвязь между внешностью и внутренней ее жизнью. — Образование и учеба — вещи хорошие. Но господь устанавливал законы свои, зная природу человека».
На другой день очевидна стала явная фальшь тех аргументов, которыми Агнеш успокаивала бабулю. Пока Агнеш, придя на лекцию, пробиралась на свое место, девушки уже оказались в разных рядах: Мария — вверху, в одиночестве, Адель — внизу, в середине, около лестницы. Ветеши в аудитории пока не было. Лекция началась, Веребей с мелом в руке рассказывал про знаменитого светского льва, отчаянного картежника (который, ухаживая за дамами, в последний момент всегда почему-то давал отбой), когда Ветеши вдруг появился в дверях и оглядел ряды. Они, все трое, обратили к нему свои взгляды; Адель едва заметным жестом показала на лежащую рядом с ней сумку. Ветеши бросил взгляд на одну, на другую; он словно ждал, пока отвернется лектор, затем, поскольку тот все не дорисовывал начатую фигурную скобку, спокойно и смело, глядя прямо в глаза профессору, спустился по скрипучим ступенькам и сел рядом с Адель. Агнеш смотрела на Марию: что теперь будет? Выбежит вон, расплачется? Однако у Марии только лицо и шея пошли вдруг пятнами, словно от кори; она продолжала писать, не поднимая глаз от тетради. В отличие от Агнеш, она не удовлетворялась фигурными скобками Веребея, но, как примерная ученица, конспектировала подряд все, что он говорил (наверное, даже то, как Веребей, после того как молодой человек застрелился, разгадал на анатомическом столе его тайну), словно судорожно зажатый в руке карандаш был той спасительной соломинкой, уцепившись за которую она могла как-нибудь удержаться в этом безумном и страшном мире. После лекции Агнеш хотела подойти к ней, но, пока продиралась к ступенькам, Мария выскочила за дверь и бесследно исчезла. «Да, это будет потруднее экзамена», — думала Агнеш, поднимаясь вверх по ступенькам к квартире Марии и еще раз мысленно повторяя военный план, разработанный в разных вариантах на нынешней скучноватой фармакологии (где самым ярким моментом был рассказ об открытии слабительного под названием «Пурго», когда профессор — он же изобретатель — и его ассистент отчитывались друг другу об удивительном действии принятого ими для пробы лекарства — фенолфталеина). В выходящем на галерею окне, когда она проходила мимо, было темно (правда, теперь в пять часов не обязательно было уже зажигать в комнате свет), кухня тоже встретила ее отсутствием всяких признаков жизни, когда она проходила к Йоланкиным книгам. «Бабушки нет дома?» — «Нету», — сказала Йоланка. «А тети Марии?» — «Про нее я не знаю», — ответила девочка наполовину в нос. Но в этом «не знаю» словно таилось какое-то знание: дескать, пускай я сейчас и не знаю, дома она или куда-то ушла, но факт, что у нее что-то случилось. Урок прошел в подавленном настроении, обе словно ждали чего-то. Когда Агнеш вышла, бабуля уже шебаршилась в кухне за занавеской. Агнеш взглянула на дверь Марии: под ней не было хорошо знакомой полоски света. «Мария еще не пришла?» — спросила Агнеш, самим приглушенным вопросом своим выдавая, что чувствует присутствие подруги за дверью. «Перед обедом еще пришла. Совсем была не в себе, бедняжка. Чуть не вышвырнула меня, когда я к ней заглянула — спросить, не поест ли мясного супа. Вы бы к ней зашли», — сказала она, ведя параллельно, с помощью взглядов и мимики, еще один — беззвучный — диалог.
Осторожно постучавшись, Агнеш нажала ручку двери. «Кто там?» — спросил изнутри раздраженный голос, в котором из-за отекшей от слез носоглотки едва можно было узнать голос Марии. «Ты что, спала?» — остановилась Агнеш, пораженная этим враждебным тоном, на пороге темной комнаты, освещенной только темной синевой неба в окне. «А, это ты, — слабо пошевелился в углу дивана сгусток тени. — Я думала, опять хозяйка нос сует», — попыталась она выкарабкаться из своего раздражения, ничуть не заботясь о том, что хозяйка, если она в самом деле столь любопытна, может ее услышать. «Я тебе, наверное, помешала? — предоставила (без особой надежды) Агнеш подруге возможность самостоятельно справляться со своим горем. — Я не хотела уйти просто так…» — «Нет-нет», — забыв о загнавшей ее в угол дивана злобе на всех и вся, торопливо шагнула к ней Мария, испуганная, что Агнеш в самом деле уйдет. «Не зажигай свет, если тебе так лучше», — сказала Агнеш, чувствуя, что приближающийся к ней силуэт пытается привести в порядок лицо. «Нет-нет», — снова запротестовала Мария и, обдав подругу теплом массивного тела, щелкнула выключателем у нее за плечом. Она стояла перед ней с постаревшим, распухшим, в красных пятнах лицом, с которого успела стереть только слезы; глаза ее враждебно блестели, видимо, Агнеш застала ее в один из приступов ярости, когда она, чтобы немного облегчить сердце, объявляла войну не только Ветеши и хозяевам, но и всему человечеству. «Ведь ты все видела, — сказала она, обратив к Агнеш затравленно-вызывающий взгляд, которым, как бы махнув рукой на притворство, признавала то, что и так выдавал электрический свет. — Четыреста человек видели. Нет, как все было организовано: демонстративно, чтобы никаких сомнений не осталось». — «Полно, полно», — успокаивала подругу Агнеш, не решаясь взять ее за руку. То, что говорила Мария (Ветеши-де намеренно опоздал и, по тайному сговору, прошел на глазах у профессора на новое место), было настолько невероятно, а сверкающие эти глаза — настолько чужими, несвойственными Марии, почти отрицающими ее, что Агнеш на мгновение испугалась: не тронулась ли подруга умом. «Никто ничего не видел. Подумаешь, человек опоздал и сел туда, куда было удобнее. Если кто и был удивлен, так только тому, что он так нахально смотрел на профессора». — «Не рассказывай сказки, прошу тебя, — закричала Мария на Агнеш, словно это она на виду у всех, проскрипев ступеньками, села рядом с Адель, а теперь пыталась оправдать свое предательство. — Хватит с меня этих сказок… и ваты, в которой меня держали родители. Если я вообще еще собираюсь жить, то надо же наконец оглядеться вокруг и понять, что творится на самом деле, куда я попала, к каким чудовищам». И чтоб лицо ее более соответствовало этой фразе, наверняка повторенной в течение минувших часов много раз, она окунула в пудру пуховку, провела ею по шее и щекам и указала Агнеш на диван: «Садись, пожалуйста».
Агнеш не знала, что и сказать, слишком была велика дистанция между привычной Марией и этой, с интонациями королевы и повелительным жестом, каким она предложила ей место, — словно допущенному пред ее очи послу враждебного мира. Она молчала, пока Мария, глядясь в зеркальце, напудрила лицо и уселась с ней рядом. Тогда, взяв ее под руку, она стала ждать, что та скажет дальше. И этого ласкового, ободряющего прикосновения оказалось достаточно, чтобы неприступная крепость, воздвигнутая в душе Марии на вечные времена, начала рассыпаться: мир вокруг был отнюдь не таким однородным, как она про себя решила, в нем, пожалуй, имелись — как вот в этой лежащей у нее на руке ладони — и атомы дружбы, которые, проникая в нее сквозь заслон суровой решимости, какой-то таинственной, электрической силой открывали путь жалобам. «Ты думаешь, я о так называемой невинности своей жалею? — сказала она все еще с прежней страстностью и с той тревожной непредсказуемостью, которая, видимо, делает страсть (во всяком случае, у Марии) близкой родственницей безумия; но в то же время губы ее все сильнее дрожали, выдавая подступающие к горлу рыдания. — Чушь все это! Невинных девушек нет. Даже в том возрасте, когда принимают первое причастие. Знаешь, когда женщина становится невинной? Когда от грязных фантазий — потому что фантазия, ты сама должна это знать, куда грязнее действительности — отмоется настоящей любовью. То сияние, доброта, благодарность, которую чувствуешь после этого к миру, — вот истинное крещение». Агнеш слушала ее с изумлением. Мария никогда прежде не употребляла таких выражений. Боль не просто терзала ее — она делала из нее поэта. «Если бы я отдалась человеку, — продолжала она после небольшой паузы, тише, но с нарастающим в голосе плачем, — который по-настоящему меня любил, я бы сказала: черт с ней, plica semilunaris! (Анатомический термин призван был сейчас подчеркнуть не знание, а презрение.) Я любила, меня любили: этого у меня никто не может отнять. Но отдаться просто так, по-дурацки, лишь заменяя уличную девку, да и то кое-как, неумело!.. Единственное преимущество, что от меня нельзя получить гонорею. Ты-то вот как узнала, — с неожиданной злостью посмотрела она на Агнеш, словно в самом деле хотела выпытать у нее какую-то тайну, — что он мерзавец? От которого надо бежать как можно скорее…» — «Не мерзавец он, — крепче сжала Агнеш руку подруги. — И неправда, что он тебя не любил, что только вместо уличной девки…» — «Неправда?» — перебила ее Мария. «Я же вас видела вместе», — продолжала Агнеш, всерьез принимавшая то, под чем подруга ее прятала свою настоящую рану. «Что ты видела? Как он даже с официанткой в кондитерской переглядывался?» Видимо, до Марии только сейчас дошло — и глаза Агнеш невольно это ей подтвердили — то, что она лишь сейчас, сидя на диване, восстановила в памяти.
Далее Агнеш защищать Ветеши не посмела, боясь, как бы не выплыли на свет божий и те взгляды, что бросал Ветеши в ее сторону. «Грех утверждать, конечно, что Иван — олицетворение мужской верности, — сдалась она. — Но ведь ты это тоже знала», — пыталась она, намекнув на свои отношения с Ветеши и тем самым обороняясь от готовящейся атаки, начать крохотное контрнаступление. «Мало ли что я знала!» — отмахнулась Мария от воспоминаний о переполнявшем ее счастье, которое и составляло главное ее знание. «Ты ведь в нем не кандидата в мужья полюбила, — пробовала Агнеш перевести разговор в сферу логики. Она знала Марию: если чем-то можно ее выманить из этого состояния, то, пожалуй, лишь теоретическими рассуждениями. — Вспомни, что ты сказала тогда, в кондитерской». — «Мало ли что я тогда болтала», — снова махнула рукой Мария, показывая, что́ она думает о прошлых своих поступках, которые и сейчас освобождают ее от всякой логики, от ответственности за свои мнения. Однако страсть к спорам явно поднимала в ней голову. «Не мужа, но и не кого попало, лишь для того, чтобы, как девственные юноши, избавиться от девственности… Или, если уж быть откровенной (какой-то момент изучала она себя извне), то, может быть, и мужа. Конечно, не в том смысле, что со дня на день ждала предложения руки и сердца, благословения матери, обручальных колец… Ненавижу coitus[140] под сенью миртового венца! Но — чтобы плыть бок о бок по жизни, как две рыбы в море… как два кита или не знаю кто. И чтобы для него это было такое же счастье, было бы так же невыносимо сладко (в этом «сладко» и сопровождавшем его всхлипе встретились злоба и горе), как мне. Чтобы в конце, вместе проплыв много лет… Можешь меня презирать за это, но…» И она разрыдалась. «За что тебя презирать? — воспользовалась Агнеш ее плачем, чтобы обнять Марию. — За что мне тебя презирать: любой человек, когда влюблен, думает точно так же». — «Ты тоже так думала… про него?» — стряхнула Мария с себя ее руку в порыве запоздалой, потерявшей перспективу ревности. «Я же тебе говорила, у нас до этого не дошло… Да и человек не сам это думает… Его любовь заставляет… Подобные мысли просто входят в число симптомов этой morbus[141]». — «Почему? Разве это так уж невозможно? — вскинула голову Мария. — Я вижу иногда стариков, на них так приятно смотреть. Тут, на проспекте Штефании, часто сидит на скамеечке одна пара. Что же, все это лишь потому, что они уже не могут обманывать и ненавидеть друг друга?» — «Нет, я же не говорю, что невозможно, — запротестовала Агнеш, и по голосу ее чувствовалось, что желание утешить подругу совпадает с ее собственным убеждением: она тоже верила в то, что это возможно. — Только тут нужно, чтобы тебе повезло. А везет с первого раза редко». — «И с какого же раза должно повезти? Со второго, с десятого?» — спросила Мария с безграничной иронией. «Да, нужно искать. Хорошо еще, что мы живем в такое время, когда после первой попытки можно сделать и вторую, и третью». — «Эрлих, страница шестьсот шесть! — вскричала Мария насмешливо. — Беда только в том, что я в эту попытку всю себя вложила». — «Почему всю? У тебя все осталось: руки, печень, тридцать два зуба. То есть, правда, plica semilunaris!..» Когда Агнеш, преодолев внутреннее сопротивление, произнесла эти слова, даже Мария немножко развеселилась. «Слушай, с этим я даже сама не знаю, что и как. Крови совсем почти не было». — «Ну вот видишь…» — «Беда только знаешь в чем? — сказала Мария (после того как ей самой с минуту казалось, что Агнеш права и все у нее сохранилось: тело, результаты экзаменов, поприще, независимость) с бесконечной грустью, которая была предвестницей грядущей за кратким облегчением новой бури. — В том, что тут дело не в анатомии. Это — токсикоз. Я отравлена. И когда я думаю, что он никогда не войдет сюда больше и моя старая сарвашская кровать, — взглянула она на застеленную белым покрывалом железную койку, — будет только помнить, как я после того гладила ему затылок… И что, может, как раз сейчас эта стерва… Говорят, такие женщины всякие извращения знают», — посмотрела она на Агнеш, и глаза ее вновь засверкали, как в первую минуту. «Полно тебе, Мария, — запротестовала Агнеш, защищая Адель, чтобы прогнать мысль об извращениях. — Мы ведь даже не знаем точно, было ли у нее что с Такачи…» — «Нет, она стерва, стерва. Как подумаю, что он, лежа в ее объятиях, сейчас говорит обо мне… Нет, я отравлена, отравлена», — зарыдав, бросилась она на грудь Агнеш.
Та растроганно гладила ее вздрагивающую голову. Ей вспомнилось торжествующее лицо Марии, когда та осенью на лекции Веребея смотрела на нее с верхних скамей, сидя возле своей добычи. Или когда в кондитерской, в своем безудержном счастье, нашпигованном филологическими фантазиями, она чуть ли не потчевала подруг неотразимостью своего Ветеши. Но разве не ради таких триумфальных минут живут люди? Например, ее мать, идущая с молодым своим кавалером по улице Ваци. И это сейчас, когда отец дома. «Смотрите, какого себе эта женщина молодца подцепила!..» И она, обо всем забыв, упивается тем, что читает в глазах гуляющей публики. Хотя люди, глядя на них, думают, может быть, совсем другое: как хвастливо прогуливает свою старуху этот обрубок… Или знакомые: что за бесстыдство! Среди бела дня, когда муж живет у тетки, питается чем бог пошлет… Ведь и она, Агнеш, думала про Марию совсем не то, что та чувствовала в своем ослеплении. «Господи, что за дура эта Мария!» — вот что думала тогда Агнеш. Ведь так очевидно было, что Мария — как летающая рыба, которая всего минуту, не более, может существовать в чуждой ее жабрам стихии. И теперь она в самом деле отравлена, отравлена не только объятиями Ветеши, но и иной, сияющей, но для нее смертельно опасной средой, собственным самомнением. Другая, если и выпрыгнет из воды, сделает это более ловко — тем ловчее, чем больше в ней низости, — и пролетит дальше, чем обычные крылатые рыбы. Вспомнила она и Ветеши, сидящего в кондитерской и протягивающего свои щупальца сразу к четырем женщинам. Его триумф не был, конечно, таким наивным: он торжествовал сдержанно, по-мужски, словно это — естественное его состояние. Но Агнеш достаточно его знала, чтобы понять: триумф его — тоже искусственный. Он тоже создал его, сколотил честолюбивым старанием с помощью ухоженных миндалевидных ногтей, натренированных фехтованием мускулов, с помощью самообладания, позволяющего не выдавать своего торжества, и, конечно же, с помощью умения целовать, умения властно и нежно вбирать твои губы во впадину между носом и подбородком… В этом умении тоже был точный расчет, которым он свой ум, свое тело подчинял единой цели — созданию некой видимости. Да, в этой способности двадцатилетнего юноши быть настолько целеустремленным, настолько не позволять себе забыться, послушаться чувства, допустить оплошность было что-то страшное. Агнеш часто хотелось — пусть даже ценой того, чего он от нее добивается, — погрузиться в него, в его душу, проникнуть сквозь эту броню туда, где он — она это чувствовала — был всего лишь робким маленьким мальчиком. О, эта жажда триумфа! Если бы люди могли от нее отказаться: полководцы — от победного, на колеснице, в пурпурной тоге, вступления в город, ученые — от мечты о том, как они будут принимать Нобелевскую премию. Тогда и Мария, и другие подобные ей и совсем непохожие на нее женщины, уже вкусившие упоения или только мечтающие о нем, еще более несчастные или ставшие жертвой чужого честолюбия, не содрогались бы так в рыданиях, как вот этот жалкий комок плоти, что вздрагивает сейчас рядом с ней на диване.
«Какой же счастливой была я тогда, в кондитерской, — приподняла Мария с ее груди голову ровно настолько, чтобы можно было говорить. — Знаешь, это случилось как раз накануне, даже не на кровати, а здесь… — показала она в угол дивана. — Пока бабуля была у его превосходительства… — Затем, словно ей каким-то таинственным образом передались мысли Агнеш, продолжала: — Как он меня подготовил — просто как хирург, дающий больному наркоз. Он абсолютно точно знает, где какой нерв проходит… Просто не верится, что человек может быть таким подлым». — «Это не подлость. Это натура», — сказала Агнеш, немного противореча тому, в чем была уверена. «Нет, поверь мне, это подлость, — смотрела на нее Мария с еще большей неуверенностью и тоской, чем несколько минут назад, когда Агнеш оправдывала Адель. — И ужаснее всего, что самое сладкое и самое подлое, эта игра на самом сладком, во мне уже навсегда связаны». — «Ничего не навсегда. Ты увидишь еще, эта связь в два счета забудется, — утешала ее Агнеш. И, почувствовав, что тут снова есть возможность для теоретизирования, сразу продолжила: — Боль, отрава — это пройдет. Ты сама ведь сказала, что это токсикоз. И останется твоя прекрасная вера в любовь. Ведь не важно, кто и как ее разожжет, важно лишь то, что мы чувствуем, — обрадовалась она удачной формулировке; ее самое удивила сила открытой ею новой истины. — А все остальное, то, что ты испытываешь теперь, — не более чем абстинентные[142] симптомы…» — «От которых можно и умереть», — уже не так бурно всхлипывала Мария, тронутая то ли красотой ее слов, то ли высказанной мыслью. Так шел час за часом. Мария все-таки погасила свет, сказав, что он режет ей воспаленные от слез глаза; в действительности же темнота и близость другого человека представляли более удобную обстановку для приливов и отливов новых и новых волн страдания, чем холодный свет электричества. Часов в восемь, после продолжительной тишины, Агнеш попробовала было встать. Но Мария испуганно, словно ребенок, схватила ее за бедра и потянула обратно. «Ты уйти хочешь? Бросишь меня одну в таком состоянии? — И прежде чем Агнеш успела что-либо ей ответить, сказала: — Подожди, я приму снотворное, а когда начнет действовать, я тебя отпущу». — «Что это такое?» — спросила Агнеш, когда Мария, включив на минутку свет и нервными пальцами разорвав пакетик, высыпала прямо в рот какой-то порошок. «Diethylbarbiturium». — «Веронал», — отбила Агнеш поданный мяч. «Я с месяц уже сплю со снотворным. — Затем, погасив опять свет и сев рядом с Агнеш, добавила: — У меня ведь и морфий есть…» Она произнесла это вяло и почти кокетливо, словно, в паузе между порывами бури, сама удивляясь собственным черным мыслям, но в усталом своем отупении все-таки не могла удержаться и не похвалиться ими, чтобы ее пожалели, а заодно чтобы чуть-чуть пошантажировать Агнеш и не дать ей уйти. «Дурашка», — погладила Агнеш ее по голове, словно ребенка, который говорит глупости. Но сама тем временем думала о порывах боли и о потерявшей себя, заговорившей поэтическими выражениями Марии. («Пять двухпроцентных ампул», — напомнила она себе обозначенную у Вамоши восклицательным знаком дозу.) И почувствовала, что, как она ни устала, ей нельзя подниматься с этого дивана.
Часов в десять в дверь тихо постучалась бабуля. Прежде чем она нажала на ручку и появилась в приоткрытой двери, Агнеш включила свет: не хотелось, чтобы хозяйка застала их в темноте. «Мы с Йоланкой ложимся, — сказала бабуля. — Но если вы, Агнешке (теперь она не называла ее учительница Агнеш), хотите остаться, я вам постелю на диване». — «Да, пожалуйста», — обрадовалась Мария, словно предложение бабули было некой великолепной, остроумной идеей, которую ее усталая голова не могла бы уже породить и которая, прозвучав, создала островок радости в этом ужасном, безбрежном океане страданий. И умоляюще посмотрела на Агнеш, от единого слова которой зависела судьба этого островка. «Но что дома скажут?» — возразила, скорее ради проформы, Агнеш. «Кто? Мама твоя? Она подумает, ты у отца осталась, — нашел довод оживившийся от радости мозг Марии. — Стелите, стелите. У меня в шкафу чистый пододеяльник есть», — пересев в кресло, руководила она хозяйкой, оживленно следя, как та ищет в шкафу постельное белье. Пока та ходила за одеялом и энергичными движениями заправляла его в пододеяльник, Агнеш взялась стелить девичью постель Марии. А она, словно на время переселенный со своего ложа больной, наблюдала за ее движениями, как за действиями врача, обеспечивающего ее покой. «Дома скажешь: пришлось, мол, первую помощь оказывать, — разрешила она себе вялую шутку. — Может, мне сейчас принять второй порошок?..» И, доверив себя памяти о прежних недомоганиях, когда вокруг нее суетились мать и прочие домочадцы, она подождала, пока Агнеш подойдет к ней со стаканом воды и всыплет ей в открытый рот порошок.
Спустя десять минут подруги лежали в темноте, поблизости друг от друга, Мария — в кровати, Агнеш — на диване, который не закрывала полностью короткая простыня, согнув колени и положив руки под голову, на откинутую диванную подушку. Мария после небольшого антракта, связанного со стараниями удержать подругу, разочарованно и удивленно прислушивалась к собственным сонно текущим мыслям, устало глядя в темноту, наполненную притупившейся, потерявшей остроту болью и дыханьем подруги. Как? После такого удара она, словно выплакавшийся ребенок, просто возьмет и заснет?.. Агнеш же лишь сейчас задумалась над своим автоматически прозвучавшим возражением на просьбу Марии остаться. Она лежит здесь, а мать в это время… Такого еще не бывало, чтоб она не ночевала дома. Насчет ночевки у тети Фриды — полная ерунда: там ей и спать-то негде, в квартире всего две постели. Интересно, волнуется ли сейчас мать? Тревожится, не сбило ли ее трамваем? Может, думает, что она тоже нашла себе мужчину? Не исключено, впрочем, что ее отсутствия мать даже не заметит. Скажем, придет домой поздно и рада будет тихонько пробраться к своему рекамье… Мысль о матери все бродила в ее голове, постепенно затягиваемой паутиной сна, и, когда за роняемыми Марией сначала будто лишь для пробы — цело ли, не рассеялось ли еще ее горе, — а затем, когда горе стало откликаться все громче, отдающими истерикой фразами, она различила назревающее крещендо, Агнеш бросила ей с дивана новый, для самой себя неожиданный аргумент: «Знала бы ты, какие несчастья бывают на этой земле, ты бы свое так не преувеличивала». — «Больше, чем это? — восстала против такого предположения боль в незаживших ранах Марии. — В любви, куда ты вложила всю свою веру?» — добавила она ради точности; ведь в самом деле, есть люди, у которых умирает ребенок, которые заживо разлагаются в раке, в проказе. «Представь себе», — уцепилась Агнеш за довод, который мог подействовать на Марию. «Что я должна представить?» — сказала Мария почти с ненавистью. «Например, что эта любовь — не первая у тебя. А последняя, после которой — уже только старость». — «Ну и что? Ведь я жила, все, что было в жизни, со мною». — «То есть я не так выразилась. Представь, что эта любовь у тебя первая и последняя. До сих пор — по крайней мере ты так чувствуешь — ты была только женой. Как большинство женщин, потому что они должны быть женами — это общественная необходимость. Мало ли, может, ты выросла рядом со старой ведьмой, которая тебе даже учиться не разрешала. Пятнадцать — двадцать лет ты живешь с человеком, каждое слово которого, пусть даже очень умное, и вообще все в нем совершенно чуждо тебе. И вот под конец, когда ты ждешь уже прекращения месячных, благодаря какой-то случайности — скажем, муж у тебя попадает в тюрьму — к тебе прибивает веселого, легкомысленного мужчину намного моложе тебя. И с ним ты наконец чувствуешь себя свободной и по-настоящему счастливой». — «Остается пасть ниц и воздать благодарность небу», — сказала Мария немного тише. «Да, — продолжала Агнеш, — только этот мужчина не лучше твоего Ветеши, а может, даже еще беспощаднее. И она это чувствует. А тем временем с каждым днем теряет то, что копила всю жизнь. Доброе имя, состояние, уважение детей. Представь, если все это сразу обрушится на нее… Этот ужас… И даже пожаловаться нельзя. Не то что тебе… Ведь она старая…» Агнеш запнулась, не в силах произнести нужное слово; то, что она тут наговорила в утешение Марии, выстроившись в единое целое, потрясло вдруг ее самое. Никогда еще судьба матери не представала перед ней в таком свете, так, как она сама должна чувствовать, изнутри. А ведь по отдельности все это она уже слышала. Мать целых два года внушает ей это. Но никогда еще Агнеш так не вживалась в ее положение. Марию захватил скорее странный тон Агнеш, чем сама ситуация, которую она могла воспринять сейчас только наполовину; с минуту она лежала задумавшись, потом тихо сказала: «Папа твой поэтому живет сейчас в Буде? — И, поскольку Агнеш молчала, спустя пять минут заговорила снова: — Ужасно, какая ясная голова. Словно там дуговая лампа горит. И эти холодные сарвашские простыни… На диване было так хорошо…»
Она не сказала: «прижавшись к тебе», но Агнеш сама догадалась: ей хочется, чтобы подруга легла рядом с ней и Мария могла обнять ее, положить на плечо ей свою измученную, жаждущую сна и борющуюся против него голову. Агнеш с детства, с тех пор, как ощутила себя физически не связанной с матерью (а произошло это рано, в возрасте семи-восьми лет), спала одна; разве что в Тюкрёше ей однажды пришлось — она и сама не помнила, по какому случаю, — спать вместе с Бёжике в постели стариков, и Бёжике показала ей у себя на теле темный пушок, которого у Агнеш еще не было. Но с тех пор уже миновало лет десять, не меньше. К тому же было в Марии нечто, физически ей неприятное (она даже удивлялась, как это Ветеши своим мужским зрением этого не заметил): небольшие cutis marmorata — темные шероховатые узелки, резко выделяющиеся на белой коже. Они с Марией никогда не были вместе в бассейне. И все-таки Агнеш невольно представила себе, как, наверное, расплываются в прозрачной воде, словно какие-нибудь моллюски, полные руки и ноги Марии. «Может, лечь к тебе?» — вдруг решилась она, пересилив свою неприязнь. «Если тебе не противно», — пролепетала Мария. Конечно, она имела в виду не физическое, а моральное отвращение, какое должны испытывать окружающие к падшей, несчастной женщине. «Дурашка», — снова сказала Агнеш, подняв край одеяла и ложась рядом с горячим от переживаний телом. «Какая ты добрая, — пробормотала Мария, сначала прижав к груди Агнеш лоб и щекочущие пряди волос, затем, словно не сразу получая разрешение, пододвинула к Агнеш колени и руку и, свернувшись клубочком, прижалась к бедру подруги. «Какая ты славная, — повторила она. — К матери я уже не могу лечь вот так. Чтобы она про меня все знала». И Агнеш действительно ощутила в груди какую-то незнакомую, сладкую, почти материнскую теплоту, которая превратила это несчастное, само по себе неприятное ей чужое тело в некий милый, больной комочек, который нужно жалеть и опекать. «Можно ли чувствовать то же самое к мужчине?» — подумала она, пока всхлипывания у нее на груди переходили в протяжные, с дрожью вздохи, потом вдруг, почти без всякого перехода, в тихое посапывание. Вот так преодолевать в себе, в наплыве добрых, прекрасных чувств (которые словно вкладывает в нас бог, чтобы хотя бы немного исправить ошибки творения) упрямое, себялюбивое сопротивление тела…
На другой день, невыспавшаяся, измученная беспокойным соседством чужого тела, она сидела на лекции Веребея, не в силах даже понять, как вводят в бронхи новое чудесное изобретение — бронхоскоп. Марию она (прежде чем убежать домой) заставила дать обещание, что та придет на занятия; Мария лишь наотрез отказалась от лекции Веребея, где наверняка будут Ветеши и Адель, так что Агнеш вместо нее бросала время от времени неприязненные взгляды в их сторону. Они сидели внизу, на новом месте; Адель что-то писала или рисовала в тетради (рисовала она очень неплохо) и, придвигая тетрадь к Ветеши, поворачивала к нему голову, наблюдая эффект. Агнеш, хотя из своего ряда мало что могла видеть, угадывала в их позах столько заговорщического взаимопонимания, скрытых намеков на что-то общее, связывающее их, что сама испытывала глубокое возмущение. После лекции она поспешила к выходу, чтобы не встретиться с ними, неторопливо поднимающимися снизу. Стоял прекрасный солнечный день, один из последних февральских дней, с сияющими, влажными визитными карточками весны под решетками; Агнеш, наслаждаясь одинокой прогулкой, пешком шла к Институту патологической анатомии. У детской больницы она заметила краем глаза, как чья-то длинная тень — вытянутая правая нога почти уже на земле, прямая левая рука еще на поручне — спрыгнула или, скорее, скользнула, как это делали коллеги, с передней площадки трамвая, а мгновение спустя Агнеш всеми своими сузившимися коронарными сосудами, всеми бронхами ощутила, что это действительно Ветеши; проскочив между машинами на мостовой, он спортивной пружинистой походкой догонял ее. «Целую ручки, — приветствовал он ее с расстояния в полшага. — Из-за вас жизнью рискуешь, а вы даже не оглянетесь», — сказал он с той иронической вежливостью, с какой разговаривал с ней после того, как они перестали встречаться. «Так это вы тот прыгун-виртуоз? Профессор Вамоши только вчера говорил про коллег, которые даже в виде исключения не желают спрыгивать из последнего вагона». — «Что делать, если я из первого вас заметил». — «И вам так срочно понадобилось прогуляться со мной по солнышку?..» Агнеш, которая досадовала, что лицо ее и язык не вполне подчиняются переполняющему ее возмущению и в какой-то степени перенимают игривый тон Ветеши, сейчас, судя по всему, взглянула на него в соответствии со своим настроением, так как он тоже вдруг посерьезнел. «Нет, сейчас я, представьте, хотел узнать про вашу подругу, — сказал он. — Вы вчера были там, на улице Розмаринг?» В этом «там» было нечто, в полной мере вернувшее Агнеш к ее возмущению. Этим словом Ветеши все, что было, — самое Марию, девичью ее постель — словно бы отодвигал куда-то в прошлое, в некоторую даль, давая понять, что до всего этого ему, в общем-то, нет дела. «Мария жива и здорова, — сказала она. — Слушает лекции». — «Слава богу! Вы на меня такие убийственные взгляды бросали, я уж думал, она лежит где-нибудь холодная и безгласная». — «Нет, она не доставила вам такого удовольствия», — подняла на него Агнеш взгляд с несколько большим вызовом, чем собиралась. Такая воинственность была Ветеши вполне по душе. «Вы в самом деле настолько отождествляете себя с нашей милой Марией?» — спросил он, пройдя в молчании несколько шагов и думая над очередным ходом. «Если бы я себя с ней отождествляла, то по-другому бы с вами разговаривала», — вырвалась из Агнеш та же воинственная девственница, которую ей так и не удалось загнать обратно. «Но что я такого сделал? — с коварным простодушием оправдывался Ветеши. — Обещал жениться и не сдержал обещания? Вы же слышали, как она излагала свои принципы: суфражистка, да и только. Так в чем же моя провинность — в том, что я не захотел верность ей до гроба хранить? Что разбил амфору раньше времени?» — «Но ведь Мария — это же…» — поспешила Агнеш проскочить мимо намека на разбитую амфору. Ей надо было сказать: «наивная дура». Вместо этого она произнесла: «…большой ребенок». Однако тут тоже было не все как надо: она как-то принизила все же подругу, чтобы они, остальные, уже не дети совсем, могли понимающе переглядываться у нее над головой. «Если она ребенок, так пора уж и повзрослеть немного, узнать, что такое жизнь». — «А вам пора уже узнать, что такое стыд», — резко ответила ему Агнеш.
Ветеши замечание Агнеш отнюдь не испортило настроения; напротив, шагая рядом, он почти с удовольствием поглядывал на ее раскрасневшееся лицо. И для этого удовольствия — пусть он преувеличивал свои чувства — были некоторые основания: словесная дуэль с соблазнителем подруги вызывала у Агнеш, как она сама ощущала с досадой, скорее приятное волнение, чем подлинный гнев. «Попробуйте рассуждать чуть-чуть объективнее, — начал Ветеши. — Не как оскорбленная подруга, а как врач, биолог. Вы не можете не признать, что Мария в этой истории, собственно, не проиграла, а выиграла». — «Это почему же? Потому что ей достался такой самец, как вы?» — рассмеялась Агнеш, в то же время пугаясь странного своего смеха и слова «самец», сорвавшегося у нее с языка от волнения и еще, быть может, под влиянием «биологии». «Говорят, для женщин очень важно, с кем начать, — не ответив на вопрос, невозмутимо продолжал Ветеши. — Сами подумайте, какие в этом смысле перспективы были у бедняжки Марии», — смотрел он на Агнеш с заговорщической улыбкой, в которой читалось: дескать, куда этой курице до нас с вами! «Зачем же тогда вы до нее опустились?» — попробовала Агнеш уравновесить иронией невольное согласие с ним. «Я и сам себя спрашивал об этом не раз, — ответил Ветеши задумчиво. — Сначала затем, чтобы вам досадить. А потом? Видно, было что-то в ее восторженности, что льстило моему тщеславию. Но я не настолько глуп, чтобы это меня надолго к ней привязало. Марии надо бы специализироваться на глупых мужчинах. Моим вкусам куда больше подходит небольшая война». — «Как? Разве она… так хорошо воюет?» — «При чем тут она? Вы! — смотрел на нее Ветеши, придвигая почти вплотную свое лицо. — Вы, я уверен, смогли бы меня удерживать лет пять, не меньше». — «Вы мне льстите», — засмеялась Агнеш опять тем же смехом. И что было всего досаднее, ей действительно это льстило. «Кто знает, может, вы и кольцо бы вдели мне в нос». — «Не преувеличивайте моих способностей». — «Нет, честное слово. Только слишком уж вы осторожны. Все боитесь, как бы не просчитаться». — «Я думала, вы в хирурги готовитесь, а теперь вижу, скорее в психоаналитики», — вставила Агнеш почерпнутый в библиотеке Общества взаимопомощи термин. «Нельзя поднять парус и в то же время остаться на берегу. Важным делам всегда сопутствует риск, — вспомнил и Ветеши услышанную где-то — скорее всего в корпорации — фразу. — Кто выжимает из мотора сто километров, может сломать себе шею. Но ведь это-то и прекрасно!» — «Меня триумф влечет не так сильно, как вас», — вспомнились Агнеш ее ночные мысли. «Жаль, — сказал Ветеши. — По моим наблюдениям, способности к этому у вас есть». Агнеш радовалась, что появилась возможность высказать заготовленную уже фразу, хотя она не могла сейчас воспроизвести ход своих мыслей, однако чувствовала, что фраза эта совсем не глупа и способна сразить, оглушить этого самовлюбленного типа. «Если даже и были бы, я все равно обрекла бы их на бездействие и атрофию. За триумф чаще всего нужно платить непомерно высокую цену». — «Это и делает его столь желанным». — «Но платить должен кто-то другой. А порядочный человек не станет доставлять себе радость ценой страданий других людей», — разгорячилась Агнеш. «Тогда нельзя гулять по парку: вдруг наступите на улитку, — сказал Ветеши уже без всякой игривости, словно Агнеш задела его жизненные принципы. — Тот, кто утверждает, что постоянно думает о чужих страданиях, — или лжец, или святой». — «Тогда думайте о своих», — остановилась Агнеш, так как они подошли к клиникам. И прежде чем подать руку, решила еще чем-нибудь уязвить его самолюбие. «Вообще-то я не очень верю и в мужской ваш триумф, — вновь обратилась она к своим вчерашним мыслям. — И советую вам не слишком гипнотизировать себя этой идеей. Иначе в один прекрасный день среди множества скальпов обнаружат не триумфатора, а беспомощного, жалобно плачущего мальчика». Видимо, прозвучало это великолепно, так как зрачки Ветеши вдруг сузились, словно он услышал нечто, еще недоступное его пониманию, и к тому же показало ему Агнеш с новой, неожиданной стороны, — она поспешила протянуть ему руку: «Ну, прощайте, Мария меня уже ждет…» И двинулась вверх по ступенькам такой бодрой, упругой походкой, словно только что одержала «триумф». О, если бы у нее и на затылке были глаза, чтобы видеть, сильно ли ошеломлен Ветеши и что он сейчас делает: смотрит ей вслед, напряженно морща лоб, или как ни в чем не бывало растягивает в хищной улыбке губы: здорово я ее завел.
С того самого вечера, как Агнеш, врачуя душевные раны Марии, прибегла даже к рассуждениям о тех муках, что в скором времени ожидают ее мать, и с помощью созданного в воображении фантома сумела увидеть ее жизнь как бы изнутри, она авансом стала думать о матери с некоторым участием. В университете, сидя рядом с не отпускающей ее ни на минуту Марией, которая даже пущенный по скамьям патологоанатомический препарат непременно хотела рассматривать вместе с подругой, или в столовой, машинально ломая хлеб, Агнеш порой испытывала такую жалость к этому (существующему в ее голове) созданию, что твердо решала, придя домой, сказать матери что-нибудь ласковое, утешительное. Но очная ставка фантома и прототипа никогда не получалась такой, как была задумана: в поведении матери всегда находилась какая-то мелочь, от которой мед, заготовленный в сердце дочери, в мгновение ока превращался в уксус. Возвращаясь домой от отца, Агнеш часто думала, что, как ни располагает к себе характер тети Фриды, под ее взглядом из-под густых, тогда еще только начавших седеть, суровой дугой взбегающих на лоб бровей нелегко было, должно быть, ее матери расти и воспитываться. И у отцовских добродетелей, как ни чтила их Агнеш, тоже могла оказаться своя изнанка: крестьянское упрямство и подобострастие, которое мать воспринимала как некую ограниченность и ничем не обоснованное самомнение, да и его слишком уж подчеркиваемая уравновешенность, которая отличалась от ее порывистой, щедрой, легко переходящей в подозрительность горячности столь же сильно, как грубоватые, жесткие циннии, бессмертники или даже фиалки тети Юлишки от нежных, причудливо-изысканных цветов в городских садах. Да и сама она, в ком мать ее все годы так и не потеплевшего, не прогревшегося замужества искала цель, смысл, источник любви, — не встала ли она еще девочкой в позу судьи, меряя по превращенному в идеал отцу материны несовершенства? Однако когда Агнеш — издали — готова была уже оправдать это запертое в тройном гробу сердце, вырвавшееся, перед тем как отцвести, на свободу, вблизи каждый раз обнаруживалось нечто такое, в свете чего тридцатилетняя антипатия тети Фриды к своей анемичной племяннице сразу же представлялась оправданной; нынешняя слабость отца превратила ее в истеричку, не выносящую его присутствия, так что свой детский выбор Агнеш ощутила как акт справедливости, а не как жестокость. Ведь если в подобной же ситуации представить любого другого человека, в том числе и ее самое, представить, что такие страдания выпали на ее долю, то, ей казалось, она вела бы себя как-то совсем иначе. И потому, даже чувствуя, что удар, постигший Марию, неминуемо, хотя и не столь, может быть, быстро, оттягиваемый отчаянными усилиями, грядет и в материной любви, сострадание, которое она проявила к чужой несчастной девушке, в какой-то мере даже своей сопернице, к собственной матери она проявить не могла.
А роман госпожи Кертес уже явно прошел тот этап, когда любовное опьянение заставляет забыть обо всем, жить одним настоящим, когда прошлое служит разве что источником оправданий, будущее же, как продолжение этого настоящего, — сферой мечты и планов. Если прошлое и оставалось пока что объектом все более яростных обвинений, то будущее — как ближайшее, которое она хотела провести с Лацковичем, так и туманное, отдаленное, в котором ей придется жить без него, — все сильнее вторгалось в ее жизнь, вытесняя и без того слабеющий блаженный наркоз. Вслед за тиснением кожи прошло и увлечение батиком, тигли с красками засыхали на полке в кладовой; средства, которые можно было бы зарабатывать с помощью этих ремесел (если бы у матери сохранилась былая усидчивость, с какой она вязала прежде свои шторы), никак не соответствовали той быстроте, с какой свидания пожирали деньги, сохраненные от продажи дома и тающие в ходе стремительной девальвации. Необходим был какой-то солидный и постоянный источник дохода. Биндеры советовали приобрести мелочную лавочку; доход, приносимый лавочкой, давным-давно позволил матери с сыном не зависеть от катаклизмов, связанных с карточной страстью главы семейства. Но покупка лавочки, или отступные (как называли это родившимся в годы жилищного голода словом), требовала капитала, капитала же (то, что было, унесла свиноферма) больше не существовало. Точнее, один источник все еще как будто оставался. Торговец из Шаторальяуйхейя, который во время революции вложил свои деньги, среди прочего, и в их дом, намеревался переехать в Пешт. И несколько раз уже спрашивал через тетушку Бёльчкеи, на каких условиях бывшая владелица согласна была бы передать ему свою квартиру. Госпожа Кертес сначала ужасно возмутилась, особенно тем, что господин Дукес («этот Дукес», как величала его тетушка Бёльчкеи) послал, наряду с прочим, предупреждение, что военный закон об исключительных правах на квартиру все равно недолго еще будет ее защищать. Истерзанная тревогой, госпожа Кертес уже видела себя на макадамной мостовой улицы Лантош, среди выброшенной из квартиры мебели, пока Лацкович не успокоил ее полученной от влиятельных родичей информацией, что ни о чем таком и речи не может быть, такое слишком бы взбудоражило жизнь общества, едва-едва вошедшую в колею. Госпожа Кертес вновь обрела некоторую уверенность. «Не мог бы господин Дукес сообщить, — передала она через тетушку Бёльчкеи свой ответ, — на какие шиши я найду себе другую квартиру?» Господин Дукес пообещал помочь в этом деле (до сих пор его держала в Шаторальяуйхейе лишь стариковская сентиментальность, но теперь он хотел, пусть ценой некоторых затрат, наконец поселиться в собственном доме); более того, госпожа Кертес оказалась настолько везучей, что ей, по всему судя, даже не нужно было далеко ходить. Когда они вступали во владение домом дяди Кароя, из его двухкомнатной квартиры после всяческих переделок вышла, кроме их трехкомнатной, еще и одна однокомнатная, тоже «со всеми удобствами», как у них, а чтобы уж и с соседями не было никаких неожиданностей, ее сдали госпоже Рот — вдове фабриканта и закадычной подруге тети Фриды; муж ее застрелился во время какой-то очередной биржевой паники, и содержал ее сын, бухгалтер, больной, опустившийся человек, которого привозили домой то после эпилептического припадка, то в стельку пьяного. Госпожу Рот зимой разбил паралич, и она в безнадежном состоянии лежала в какой-то больнице; сын же согласен был, чтобы его перевели в провинциальный филиал предприятия, особенно если бы это было подкреплено некоторой денежной суммой. Так что госпоже Кертес надо было всего лишь переехать в соседнюю однокомнатную квартиру. Однако она и слышать пока не хотела об этом. Чтобы ее мебель попала в чужие руки! Чтобы прекрасные ее скатерти пылились на чердаке!.. Однако у этой идеи, видимо, были и сторонники; во всяком случае, когда речь о квартире зашла снова, она уже не так яростно отражала предложение господина Дукеса. «Если б не ты, — сказала она Агнеш, — я, может быть, согласилась бы. Зачем мне такая квартира? Особенно без прислуги. С ног валишься, пока ее всю уберешь. Но я всегда думала: когда ты выйдешь замуж, откроешь практику, как будет славно, что мы сохранили эту квартиру».
Агнеш, хотя у нее и в мыслях не было приводить к матери мужа или открывать на улице Лантош практику, не спорила, не доказывала, что, когда она станет врачом, не станет жить здесь, так что ее не нужно принимать в расчет. Нельзя же взорвать в душе матери последнюю плотину. Более того: поскольку мечта насчет лавочки начинала обретать реальные контуры и уже не только мать изучала в «Пешти хирлап» страницу с объявлениями, но и Лацкович, видимо, развивал бурную деятельность, и даже дядя Тони во время последней их встречи сказал: «Я слышал, мать лавочку ищет. Возможно, я тут могу подсказать кое-что…» — то Агнеш даже посчитала уместным привязать мать к квартире чем-то более прочным, чем угрызения совести. «Если у вас с деньгами не выходит никак, то давайте обставим получше кабинет и сдадим его жилице тети Фриды. Деньги у нее есть, и она давно уже хочет перебраться в какую-нибудь квартиру поимпозантнее».
Для того, чтобы рекомендовать Пирошку в жильцы, у Агнеш, кроме спасения квартиры, была еще одна, куда более важная, причина. Приходя к тете Фриде, она с каждым разом выслушивала все больше жалоб. Сострадания к armer Mensch[143] было уже недостаточно, чтобы уравновесить ее раздражение как хозяйки. Аппетит несчастного, вызывавший в ней поначалу лишь сочувственное изумление, не только не шел на убыль, но сочетался теперь с выразительным вздергиванием бровей, когда тетя Фрида ставила его в известность о кончающихся деньгах. Еще больше выводила ее из себя груда катушек, винтиков и коробок, от собирания которых бывший пленник все еще не в силах был отказаться. Кертес же, в котором сейчас, по прошествии двадцати пяти лет, когда хозяйство вела жена, вдруг подняла голову впитанная с молоком матери крестьянская бережливость, подозревал, что в голове дряхлой тетки счета печников и кровельщиков путаются временами с расходами на питание. В последний раз даже Кендерешиха перехватила Агнеш и, не принимая ни ту, ни другую сторону, довольно правдиво передала душевное состояние старой хозяйки, так что Агнеш сочла момент вполне подходящим, чтобы попробовать как-то ослабить напряженность в отношениях стариков. Лучше всего этого можно было добиться, если бы Кертес перебрался в комнату Пирошки, а тетя Фрида готовила бы ему, за строго определенную плату, только обед, — сейчас, когда отец взял второго ученика, возможности для этого появились.
Конечно, план должны были принять все четыре заинтересованные лица. Легче всего было с Пирошкой. Через одну свою подругу из провинции, чей муж был учителем музыки и собирал публику на домашние камерные концерты, она попала в компанию, куда стремилась всегда, для этого она ведь и приехала в Пешт, — в общество людей искусства, где могла наконец сыграть и ту роль, о которой столь желчно отзывалась тетя Фрида. Она и до этого время от времени напоминала Агнеш о ее обещании; если б не лень, она, пожалуй, сама бы давно пошла посмотреть квартиру, так что она с радостью ухватилась за предложение Агнеш о прекрасно обставленной комнате, где и красные ее абажуры будут смотреться по-другому и куда вместо аптекаря, который, конечно, получит отставку, она сможет приглашать музыкантов. Госпожа Кертес, когда Агнеш привела представить ей Пирошку, нашла ее несколько простоватой; однако состоятельность девушки, банатские виноградники ее родителей, в перспективе — посылки с деревенскими деликатесами, восторг, в который впала Пирошка от рукоделия хозяйки, и легкомысленно предложенная ею высокая плата (больше, чем жалованье Кертеса) — все это (да еще угрызения собственной совести) довольно быстро решило вопрос, заставив госпожу Кертес оставить призрачную надежду на тот капитал, что появится у нее после обмена квартиры и будет умножен благодаря приобретению мелочной лавочки. Госпожа Кертес и Пирошке объяснила, что, если бы речь не шла о будущем дочери, она и не подумала бы сдавать жилье, а перебралась в соседнюю маленькую квартиру; но в конце концов они договорились, что рояль и еще кое-какие предметы обстановки будут поставлены в комнату Пирошки, а столовую они будут использовать вместе как проходную. «А ты где будешь спать?» — сообразила, когда переговоры закончились, госпожа Кертес. «О, я… — махнула рукой Агнеш. — Много ли я бываю дома… Устроюсь в комнате для прислуги». — «Конечно, в этой норе! С твоими-то легкими… А что, со мной ты не можешь спать?» — вспомнила госпожа Кертес, что может не только спорить, но и обидеться. «Это не проблема», — опять отмахнулась Агнеш, хотя была твердо настроена, что с матерью — ни за что. Труднее оказалось договориться со стариками. Тетя Фрида перепугалась, что она делает что-то не так или что до Агнеш дошли ее жалобы; нынешнее ее положение, хотя доставляло ей немало хлопот, было все-таки более сносным, чем раньше, и она пришла в панику, что Агнеш намерена ввергнуть ее в прежнее одиночество. «Ich habe nie was gesagt[144], — твердила она с дрожащими губами. — Ich war so zufrieden[145]». Пришлось звать на помощь Кендерешиху, которая и растолковала ей, что так будет лучше всем: она станет получать деньги за комнату и оплатит из них налоги и починку крыши, а то, что будет идти на обед, с лихвой покроет ничтожные расходы на ее собственное питание. «Ja, ich esse kaum was»[146], — лепетала тетя Фрида. «Я тоже буду что-нибудь приносить, как до сих пор», — уговаривала ее Агнеш. Труднее всего оказалось с отцом. Сначала он и слышать ни о чем не хотел: им с тетей Фридой и так хорошо, проживут они тихо-мирно, по-стариковски. К чему эта роскошь: на два-три часа, что он проводит дома, снимать отдельную комнату. Тетя Фрида даже храпа его не слышит. Лишь когда Агнеш включила в свои доводы мать: ей нужны деньги, и, если Пирошка не переедет туда, придется продать квартиру, и вообще они обо всем договорились уже, Пирошка предложила четыре тысячи крон, — он смирился с судьбой.
О том, что мать, не отказываясь от Лацковича, все же думала и об отдаленном будущем, Агнеш могла судить по тому, как та боролась за нее, свою дочь. К тому же она и отца, хотя изгнала его из дома, совсем отпускать от себя не собиралась; столь презираемую ею привязанность мужа она, как страховочную сетку, приберегала для надвигающейся старости. Передача трети жалованья (отдельно гимназического и отдельно за репетиторство) каждый раз превращалась для Кертеса в маленький праздник, после чего он возвращался домой то в дурном, то в приподнятом настроении, но никогда без какой-либо, пусть самой слабой, надежды. Да и мать, хотя она и ворчала: «Отец тут снова сидел два часа с этими жалкими деньгами», не требовала, однако (как обычно, когда она чего-то хотела), чтобы он посылал их с дочерью или по почте. Мужа — она хорошо это понимала — ей никак нельзя терять. Агнеш, с ее наивной строгостью, — или, как казалось госпоже Кертес, неблагодарностью — легко может бросить ее, ведь вот и теперь дома ее удержала только просьба отца. Агнеш вполне способна поступить так же, как сама госпожа Кертес поступила со своей матерью. Конечно, та была существом весьма легкомысленным (по крайней мере, так ее описывали Агнеш), но когда-нибудь может случится, что о собственной дочери-враче, чьей профессией она уже теперь гордилась, ей придется говорить так же, как той арадской женщине о ней, жене преподавателя гимназии в Верешпатаке, и она даже не сможет присутствовать при рождении своих внуков, — когда воображение ее распалялось от этой чудовищной неблагодарности, она день-два ходила мрачная, обиженная на дочь, чтобы затем снова, чуть ли не заискивая, угощать Агнеш горячим ужином и ворчать, что в такой блузке она ее больше из дома не выпустит. Агнеш видела эту внутреннюю борьбу, но не считала ее ни искренней, ни справедливой, а потому не собиралась помогать матери. Хотя ее действительно тронуло, когда после ночи, проведенной у Марии, материнская тревога все-таки излилась на нее. «Что же это такое? Теперь, значит, ты дома и ночевать не будешь?» — встретила она Агнеш, когда та забежала утром на улицу Лантош. Было всего шесть часов, но мать уже встала, и на лице ее видны были следы беспокойной ночи. В то же время она чувствовала, что не имеет морального права, как прежде, с былой строгостью («Раз и навсегда запрещаю тебе без предупреждения оставаться где бы то ни было на ночь!») разговаривать с этой взрослой, двадцати с лишним лет девушкой, которая с помятым лицом, но с таким спокойным взглядом объясняет ей, почему не смогла прийти домой. «Все равно могла бы предупредить. Имею я право знать, где ты находишься?» — бросила, уходя в спальню, мать. Но в последующие дни, как бы между прочим, продолжала расспросы про ученицу. Который это дом? Тот, в котором корчма? Видимо, она уже побывала там, может быть, и привратницу расспросила, во всяком случае, однажды она вдруг сказала: «Слушай, что за человек эта твоя Мария? Не слишком-то лестные отзывы я о ней слышала».
Наблюдая такие (немного напоминающие поведение беспокойной наседки) вспышки тревоги в стареющей женщине, ради двадцативосьмилетнего молодого человека выгнавшей из дому мужа, Агнеш порой даже готова была пожалеть ее, если бы средства, к которым прибегала госпожа Кертес, не компрометировали ее вполне, казалось, искренние страдания; особенно угнетало Агнеш то, как мать пыталась испортить ее отношения с отцом. У нее постоянно наготове были какие-то загадочные намеки: «Ты еще не знаешь отца», «Вовсе он не был таким уж святым, как ты думаешь», «Могла бы я кое-что про него рассказать». И она в самом деле рассказывала, как напивались учителя в Верешпатаке на именинах и, в другой связи, даже — хотя и не про отца — как они ходили в бордель. Агнеш хорошо понимала цель этих намеков, и это лишало приемы матери какой бы то ни было эффективности. Еще более удручало ее, что отец, принося домой деньги, каждый раз уходил оттуда с какой-нибудь да занозой. Мать каждый раз норовила вбить хоть маленький клинышек между ними, и тот, пусть не в виде прямого намека, рано или поздно вылезал на свет божий. Это тем более было обидно, что отец, живя у тети Фриды, постепенно как будто теплел в отношении к этой бросившейся на вокзале ему навстречу юной даме, с чуть-чуть чрезмерно возвышенными чувствами. Агнеш на улицу Хорват никогда не приходила с пустыми руками; тетя Фрида, Пирошка, даже Кендерешиха наперебой восторгались тем, как она заботится об отце. Халми и без похвал способен был передать старшему другу частицу своего уважения к Агнеш. Да Кертес и сам рассказывал, какое прекрасное впечатление произвела Агнеш в школе и даже в семье его ученика. Хотя у него и не было ясного представления о незаметной заботе Агнеш, он начал воспринимать дочь-медичку как один из подарков судьбы; он не мог ею гордиться, так как гордости в нем не было, но благодаря ей мог удобнее устроиться в мире. Однако дни, когда он бывал на улице Лантош, все портили, бросая тень антипатии на начавшие было теплеть отношения. «Мать жаловалась, что ты очень холодна с ней. Разговариваешь презрительно. Потом, ей не нравится компания, в которую ты попала. О какой-то твоей подруге она рассказывала, что ты совсем собираешься к ней переехать…» Если же Агнеш на эти дозы отравы, которые иного, более впечатлительного, чем ее отец, человека привели бы в ярость, реагировала раздраженно, отец говорил ей осуждающе: «Надо быть терпимее к людям. Если уж я могу быть с ней вежливым… Ты ведь только хорошее видела от нее».
Среди приемов, которыми пользовалась мучимая ревностью мать, нашелся-таки один, который подействовал, причем не столько на отца, сколько на дочь. «Знаешь, отнеси это отцу, — сказала однажды мать, стоя перед своим платяным шкафом. — Я больше не хочу это хранить…» И протянула ей что-то вроде книги, переплет которой был таким же, как у самых старых книг их библиотеки: записок турецких путешественников, биографии Миклоша Бетлена[147], — коричневый мраморный узор на красной основе; но это оказалась не книга, а рукопись, на виньетке ее шла большими буквами надпись: «Заметки», и ниже: «Янош Кертес, преподаватель государственной гимназии. Начато 14 сентября 1898 года». «Он не знает, что она у меня», — добавила мать со значением, когда Агнеш уже положила рукопись в сумку. Агнеш поняла: в заметках этих есть нечто такое, что, по мнению матери, должно компрометировать автора, потому-то именно ей (ведь мать сама могла передать тетрадку отцу в один из его визитов) доверено отнести рукопись — в расчете на то, что она ее прочтет. Поэтому первой мыслью ее было отдать тетрадь, не читая. Но потом, когда она дважды в течение дня вынула ее вместо своих конспектов, в ней стало просыпаться любопытство к этой книге, где прямой, ясный почерк отца, который в те времена уже и графология считала мужским, был более беглым, да и заглавная «К» выписана была не так, как сейчас. Самые ранние воспоминания Агнеш об отце относились к пяти-шестилетнему возрасту, то есть к 1907 году. Да и те были искажены сформировавшимся позже восторженным ее отношением к нему. И вот перед ней документ, из которого она может узнать его как молодого, еще неженатого человека. Веребей в этот день опоздал, и она от нечего делать открыла первую страницу. Первая запись посвящена была убийству королевы Эржебет[148]. Об этом она слышала еще в детстве. Ференц Деак и королева Эржебет, которая, поближе познакомившись с венграми, прониклась к ним горячей симпатией… Трагедия наследника трона Рудольфа[149], убитая королева — это были темы, взволнованное обсуждение которых, нескончаемые ахи и охи даже помирили мать с тюкрёшским дядей Дёрдем. Однако молодого учителя интересовали не траурные флаги на зданиях и повязки на рукавах и даже не королева, которая и так была старой и немощной, одной ногой уже стояла в могиле, а личность убийцы. «Этот анархист, у всех вызывающий только ненависть, в моем представлении как бы находится на некотором пьедестале. Я не одобряю его поступка, так как рассматриваю его с точки зрения морали, но как историк вижу в нем нечто прекрасное или, вернее, необходимое». И через полторы страницы рассуждений: «Если бы я не видел перед собой иного, менее кровавого пути движения к будущему, я, вероятно, одобрил бы средство, избранное Луккени. А так я остаюсь лишь более снисходительным его судьей — более снисходительным, ибо он, будучи рабочим, а следовательно, обладая меньшей политической зрелостью, не способен был найти бескровную тропу и выбрал трудный, тернистый путь, на котором успеха можно добиться лишь в случае, если его примеру, то есть убийству, последуют многие. Но на это мало надежд. Так что этот убийца будет фигурой трагической».
Запись эта удивила Агнеш, но в то же время и успокоила. Она представила погруженный в траур городок на краю Трансильвании, где и она провела когда-то несколько дней в гостях у друзей семьи, и двадцатипятилетнего учителя, который столь самостоятельно — хотя и на языке книг прошлого века, на языке красного учебника истории Силади — комментирует ворвавшуюся в провинциальную жизнь сенсацию. Следующая короткая запись была еще более удивительной. Ее сильный, отличающийся неистребимым здоровьем отец на том забавном языке, которым он говорил о своем физическом состоянии, писал тут об ослаблении болезненного состояния, характеризующегося «нехваткой воздуха и тупой болью в области соединения дыхательных путей с легкими». Оставалось, правда, «некоторое головокружение, а также мысль о неожиданной беде, даже, может быть, смерти, — мысль, сама по себе тоже представляющая ипохондрический симптом, изгнанием которого я должен буду заняться». Значит, великолепный его организм был вовсе не подарком природы, а его собственным творением, так же как и его характер, который он сам создавал в борьбе с ипохондрией и с теми слабостями, что, подавляемые в молодом возрасте, стали заметны к старости… Далее следовал довольно пространный трактат «Об идее единого национального государства». Национальный вопрос — о нем он, живущий в провинции со смешанным населением, собирался даже писать книгу; по крайней мере, Агнеш на полях многих книг в его библиотеке встречала пометки: «к нац. вопр.». Конечно, читатель заметок был умнее, чем мучающийся над проблемой учитель: читатель-то знал, что этот «нац. вопр.» с тех пор уже разодрал страну (Агнеш тоже считала, что несправедливо) на куски и, что бы там ни думал и ни писал бедняга, ничего изменить уже было нельзя. Но ей казалось прекрасным, что, пока коллеги его развлекались, как могли, он, сидя над этой тетрадкой, пытался найти какое-то решение. Почти с тревогой (так мы наблюдаем за стоящим перед моральной дилеммой близким человеком, которому мы не можем помочь) она ждала, к какому же решению он придет. Но, насколько она смогла уловить, заглядывая в рукопись, пока внизу шла подготовка к операции (шестнадцатилетней очень застенчивой девочке перед четырьмя сотнями зрителей должны были удалить аппендикс), записки эти мог бы спокойно читать даже Халми. Если отец и радовался естественной мадьяризации, идущей в стране, трезвость и гуманизм побуждали его отделять этот процесс от мадьяризации насильственной. «Будучи патриотом, я уважаю наших государственных мужей, но все же хотел бы, чтобы они не столь рьяно стремились к своей цели. Фанатизм вредит даже самому святому делу: выбор средств предопределяет его успех. Насилие никогда не может способствовать счастью, не может избавить людей от страданий и от дурных последствий». Больше всего, конечно, волновала его Трансильвания: опасность, угрожающую единству страны, он видел пока что только в румынах. «Географические условия, хотя и не слишком для них благоприятны, в эпоху железных дорог и телеграфа не обращены и против них. Следовательно, все, что у нас есть самого лучшего, например Кошут, Петефи, — словом, наша гордость, у этого народа должно быть пронизано дако-романским духом. Надежды их — идеал, осуществимый в форме единого, сильного национального государства». Все, что она могла еще уловить здесь, представляло собой как бы предвосхищение взглядов Халми: разум, знание, человечность должны растворить, сломать усвоенные с воспитанием предрассудки, старое мышление нации. «Знаю, что иногда состоятельность — это все: честь, истина, власть — и что очень многие юноши невенгерской национальности становятся венграми для того, чтобы прожить, или душат в себе касающиеся этого вопроса мысли. Но всегда будут появляться люди с более возвышенным и более независимым складом мысли, и со временем будет лишь возрастать число тех, кто отважится сохранять и даже развивать их идеи».
В переполненной столовой, ожидая над головой обедающего коллеги своей очереди, она снова раскрыла тетрадку. Теперь уже с более чистой совестью, ведь то, что она до сих пор там читала, в самом деле представляло собой скорее заметки, чем дневник, — размышления, как писал автор, а не «субъективную исповедь». Однако попавший на глаза абзац вдруг поднял совсем другую тему: о готовящейся женитьбе, о дальнейших планах на жизнь. «Один лишь близящийся брак доставил мне существенные заботы, — пишет он, и тон его в этом отрывке кажется вполне довольным. — В этом месяце я решил с ней — путем переписки — много щекотливых вопросов. Почти каждое письмо я писал дважды, ибо характер выражений тоже был важен. Я был груб с Ирмой, я вынужден был прямо сказать ей, что она бледна, у нее болезненный цвет лица, а поэтому ей надо больше заботиться о себе». У Агнеш забилось сердце. Теперь она была на запретной территории: у истоков самой себя, у ядра тайны — уже утратившей таинственность, — которую она знала по поздним их отношениям. Вот оно то, что мать хотела довести до ее сведения. В прочитанных строчках, несомненно, есть что-то странное. Жених, который каждое свое письмо пишет дважды — как дипломат или государственный деятель: он знает, как много зависит от характера выражений. И это — «был груб». Конечно, это могла быть и ласковая грубость любящего. Из-за бледного цвета лица, малокровия!.. Агнеш не могла удержаться, чтобы не читать дальше. Жених ждет приезда будущего тестя и по пунктам записывает вопросы, которые предстоит обсудить: невеста, которая исповедует лютеранство, должна дать обязательство, что дети примут религию отца. Это было довольно странно: ведь отец, говоря об отношении коммунистов к религии, сам сказал, что с шестнадцати лет не считал себя принадлежащим ни к одной из церквей. Впрочем, ниже шло объяснение: «Мне, правда, совершенно все равно, какой они будут религии, лишь бы верили мы в одно, но самолюбие мое было бы ущемлено, если бы воля женщины была в данном случае важнее воли мужчины, который содержит семью». «Ишь, петушок!» — улыбнулась Агнеш. Следующий пункт касался приданого. Он потребует «такого приданого, которое соответствовало бы его положению в обществе». Было что-то гротескное в том, что ее отец — пусть и про себя — заговорил о своем положении. Он, столь покорно позволивший ограбить себя, просит у немного легкомысленного тестя какое-то долговое обязательство плюс проценты — двести форинтов в год — и высчитывает, что дадут ему эти манипуляции с процентами на проценты, какую составят сумму, пока его дети женятся, станут самостоятельными. Это, конечно, Тюкрёш! Не только потому, что он пишет: «тюкрёшцы придают большое значение этим вещам», — он и сам уверен, что мужчина, если он собрался жениться, должен именно так отстаивать интересы своей суженой. Все это — именно потому, что слишком многое в последующей его жизни опровергало образ, который возникал при чтении этой тетради, — выглядело как милое юношеское фанфаронство. Но от четвертого пункта у Агнеш даже перехватило дыхание. «Наконец, самое важное: спросить у тестя, нет ли у Ирмы какого-либо недостатка, который может стать препятствием в супружеской жизни».
Коллега как раз закончил с обедом, и Агнеш, перешагивая через скамью и садясь за покрытый клетчатой клеенкой стол, так и не успела найти слов возмущения, которых заслуживала эта фраза и которую нельзя было простить даже отцу. «Будто корову себе покупает: не бесплодная ли, не чахоточная ли?» Что он имел в виду, собственно говоря? В самом деле чахотку? Или какую-нибудь венерическую болезнь? Может, он слышал про fluor albus[150]? Но если она могла вызвать у него подобные мысли, то как он мог ее полюбить? И неужели он не подумал, что это может когда-нибудь попасться жене на глаза? Интересно, когда мать прочла это? Еще будучи молодой женой? Или тетрадка попалась ей в руки во время войны?.. Агнеш уже не могла удержаться и не читать дальше, поставив тетрадку перед тарелкой. Какой-то коллега напротив даже спросил: «Это у вас что? Конспекты?» — «Генетика», — ответила Агнеш, на мгновение подняв на него глаза. До сих пор она читала просто из интереса, но теперь, словно свидетелю, ставшему вдруг судьей, ей захотелось как можно полнее понять, что крылось под тем оскорбительным замечанием. Несколькими страницами дальше, поддатой «4-е ноября» (помолвка была приурочена к рождеству), жених словно специально для нее описал состояние человека перед женитьбой. «Есть, однако, еще одна вещь, весьма омрачающая мою радость. Женитьба все приближается, и обстоятельство это в последнее время не вызывает во мне никакого восторга. Ирма очень хорошая, работящая, хозяйственная, славная девушка, которую сам бог предназначил стать женой и матерью; у нее нет каких-либо особых запросов, так что она мне очень подходит; она знает моих родителей-крестьян и, хотя сама из столицы, не презирает их, а даже любит. Не красота, а эти качества привлекли к ней мое внимание, сделали ее для меня желанной, а время и расстояние придали симпатии силу любви. После того, как я сказал Ирме, что люблю ее, она нравится мне гораздо меньше. Мы познакомились, когда она была у нас в деревне. Выглядела она довольно бледненькой, но свежей и оживленной. С тех пор, сколько я ни видел ее, она всегда бескровная, в глазах ее нет жизни (или, скажем так, настоящей жизни); часто сердце мне, как заноза, колет вопрос: а ты действительно ее любишь? Сначала я боялся об этом думать, считал, что теперь все равно, мужчина не может нарушить данное слово даже под страхом смерти. Я и теперь так считаю и слову своему буду верен до конца. Увы мне, если я когда-нибудь его нарушу. И все же должен себе признаться: женитьба меня не радует. Моя любовь — по крайней мере сейчас — любовь не настоящая, она и не может быть настоящей, так как полностью Ирму я еще не узнал. Передо мной встает столько свадеб, виденных за последние годы, столько удачных партий, и какой-то злой дух словно нашептывает мне: ты, ради которого любая из верешпатакских девушек не задумываясь пожертвовала бы своей невинностью, как ухитрился ты выбрать себе столь неудачную пару? Как учитель гимназии ты мог бы заполучить в жены девушку с куда более богатым приданым; как привлекательный молодой человек — подходящую тебе умницу и красавицу. Куда ты смотрел, о чем думал? Должно быть, вот так искушает нас дьявол, чей голос мы принимаем за голос нашей гордости; и я верю ему, ведь в известной степени он прав. Поэтому, Ирма, я безмолвно взываю к тебе: может быть, в сердце твоем, в тайном его закоулке, есть струна, способная отозваться на эти мысли, тогда ты поймешь, не обидевшись, это мое желание. Постарайся быть хорошей, красивой, милой невестой. Основа для этого есть, так что отбрось тщеславие и постарайся все сделать, чтобы, когда я тебя увижу, в сердце мое вернулась истинная любовь. Да будет так, аминь!»
У Агнеш, как у всякого человека, было примерное представление о семейной жизни родителей; корнями своими оно уходило в далекое детство, которое даже не отпечаталось в ее памяти. По этим представлениям отец был жертвой своей любви: появившаяся в глуши столичная барышня пленила деревенского, хотя и образованного юношу своей беззащитностью, утонченностью, непохожестью на других, и, хотя за четверть века многое стало яснее и проще, любовь осталась любовью, нетронутой она прошла с ним через плен, теперь она же заставляет его возить в Пешт третью часть своего заработка. Мать же никогда не любила своего мужа, лишь безнадежное положение семьи побудило ее принять предложение молодого учителя, с которым она познакомилась у Молнаров, на площадке для игры в кегли, когда несколько дней гостила в Тюкрёше (тетя Фрида дружила с женой тамошнего священника). Но поздно созревшее тело и не пошедшее дальше оперетт образование позволяли ей видеть в отце лишь крестьянские замашки, лишь мудрость, которую она принимала за самонадеянность; себя она считала существом высшего порядка, которому судьба, криво улыбнувшись, дала в конце концов достойного, но запоздалого партнера в лице Лацковича. И теперь, как некая историческая ошибка, выявленная во вновь обнаруженных документах, перед Агнеш, по ту сторону отвратительной клейкой лапши со сливовым вареньем, вставала сама — неизмеримо более сложная — истина. Отец не только не был ослеплен матерью, но и вообще не считал ее красивой. Это он был привлекательным, избалованным вниманием девушек молодым человеком, который с некоторой осторожностью снизошел к простой, трудолюбивой девушке, обещающей стать хорошей матерью семейства. Хотя тут он был не прав! Мать тогда была немного недоразвитой, но — это видно, например, на фотографии, где она держит на указательном пальце голубя, — красивой девушкой. Отец же, видимо, красавицами считал, в соответствии с тюкрёшскими понятиями, девушек румяных, с блестящим взглядом и крутыми бедрами — и сам не вполне понимал, считал чуть ли не заблуждением свою тягу к ней. В то же время достаточно было ему получить новое письмо или перечитать прежние сорок три — и он пишет: «Бог знает в чем тут дело: мне все-таки нравится Ирма. Я мог бы ее полюбить даже не зная, только по письмам. Она почти всегда остроумна, чуть-чуть наивна, когда это ей идет, и в то же время весьма трезво мыслит, не строит воздушных замков… У меня к ней лишь несколько претензий, связанных со здоровьем (желтые зубы, бледность)».
Сидевший напротив коллега, поднявшись, обратился к тому, кто ждал своей очереди за спиной у Агнеш: «Что, интересно?» Видно, тот через ее плечо тоже читал рукопись. Агнеш оглянулась, захлопнула тетрадку и встала, оставив половину лапши на тарелке. Но тетрадка, словно берущий за живое роман, который хочется дочитать хотя бы до новой главы, не позволила уложить себя в сумку. Прежде чем отдать ее — обязательно сегодня — отцу, она должна узнать, как колебания эти привели-таки к свадьбе. Себя жених описал довольно правдиво. Но невеста?.. Несчастная девушка, которой по вечерам приходилось поливать герань тети Фриды во дворе на улице Хорват и у которой жених отмечал про себя малокровие, нервозность движений и — не ужасно ли! — запах изо рта, отделилась от нынешнего облика матери и осталась размытым пятном на картине, высвеченной вспышкой инстинктивной женской солидарности и возмущения грубостью мужчин. Для этого смутного пятна, обрисованного лишь участием, и искала Агнеш некую индивидуальную краску, прежде чем расстаться навсегда с дневником. Найдя спокойный угол, где резал хлеб коллега в грязном халате, Агнеш, зажав сумку под мышкой, изучала отцовские записи, как конспекты перед экзаменом. После нескольких недель пропуска следовали — под датой «2 января» — два письма. Они написаны были после помолвки, когда Кертес вернулся в Верешпатак, одно — невесте, другое — ее отцу. Помолвка, видимо, была ужасной! Невеста заметила, что таится в будущем муже. «Ты не любишь меня, — приводит он ее слова, — и лишь потому не бросаешь, что дело зашло слишком уж далеко». Затем, видя, как это на него подействовало, стала умолять его о прощении: она решила, что он рассержен. А он всего лишь потрясен, что она так глубоко заглянула в его душу. И теперь он ей объясняет, почему выбрал именно ее, не отличающуюся ни красотой, ни богатством, и рассказывает, как началось его разочарование. С прошлого рождества — когда он объяснился ей в любви — они три месяца переписывались; в письмах она была умной и милой, и он еще больше ее полюбил. «Но когда в марте я ездил сдавать экзамены и мы встретились с вами на главной улице (тогда название улицы еще писали с маленькой буквы), я был невероятно разочарован. Хотя бледность твоя произвела на меня не самое лучшее впечатление, все же я приближался к тебе с подлинной радостью влюбленного, с бьющимся сердцем. А у тебя не нашлось для меня даже улыбки, ты на меня взглянула почти с испугом и, едва мы прошли вместе несколько шагов, вошла в лавку что-то купить, а я остался на улице, словно на меня ушат воды вылили. То же самое повторялось при всех наших встречах. С первых минут свидания ты ни разу не сказала мне ободряющего или просто вежливого слова, не спросила даже, как я себя чувствую или что нового в Верешпатаке. Тем самым мой идеал весьма потерял в своей привлекательности. Добавь к этому ужасную бледность и малокровие, которые в августе просто бросались в глаза. (И снова этот кошмар!) Были вещи, о которых я не хотел тебе говорить: например, ты недостаточно хорошо полощешь рот и зубы. (А он, все на свете забыв, трепеща от счастья, вез обручальные кольца.) Скажи, нашелся ли у тебя за последнее время хоть один ласковый взгляд для меня, хоть одно ласковое слово? Никто во всем доме не удостоил меня каким-нибудь участливым вопросом, что говорить: через две-три минуты я остался в комнате один. Вскоре вернулись и тетя Фрида, и ты, но вам интереснее было беседовать с Коки». Покойный Коки, чьи зеленые перья сейчас теряют свой цвет в коробке под сиренью, появляется уже в этом давнем письме. Затем — ворчанье Фриды по поводу оговоренной шестой части дома по улице Хорват; об этом говорится и в письме к «высокочтимому господину инженеру». Удивительно ли, что жених уезжает домой с самыми мрачными мыслями, излагая которые на бумаге «не раз должен ладонями стискивать лоб, чтобы голова моя не лопнула от этих мыслей».
Так вот каким был союз, из которого родилась она! Из такого же или еще худшего рождается большинство людей. Письмо завершает параинезис[151]: если бы жених захотел разорвать помолвку, ничего бы не было легче и проще. «Но я боюсь, что неверно тебя оценил; ты, быть может, совсем неповинна во всем том, о чем я тут говорил, а может быть, то, что я увидел, результат невнимательного отношения к тебе твоих родителей. А потому теперь, зная уже, каков мой идеал, пообещай мне торжественно, что ты хочешь быть именно такой. Но постарайся сказать правду, ибо тем страшнее будет наказание, если после свадьбы выяснится обратное». Спустя несколько дней, ожидая ответа, он испугался, что написал глупость и все испортил. А вдруг Ирма ответит: она тоже поняла, что они не могут быть счастливы вместе? Однако Ирма, вопреки панике, появлявшейся при встрече в ее глазах, ничего такого не написала. Ответ пришел не с обратной почтой, а немного позже, но принес жениху счастье. «Это такое необычное и приятное чувство, что наша любовь находит пищу в душе, а не в ощущениях. Ваше письмо развеяло мои сомнения куда быстрее, чем самый быстрый влюбленный взгляд». Спустя неделю была снята квартира на улице Хид, которую однажды, во время поездки в Верешпатак, показали и Агнеш: вот дом, где она родилась. Однако в глазах невесты все еще стоит тревожное — недружелюбное или отчужденное — выражение. Что же тут было притворством: эта ее отчужденность или обнадеживающие слова? Как вообще можно было ответить на такое письмо? Дескать, извини, я постараюсь лучше чистить зубы? Насколько легче ей, Агнеш, и другим современным девушкам: их уже нельзя так беззастенчиво поучать, подвергать такому унижению! Бедняга учитель, вопреки своему доброму сердцу и, очевидно, более сильной, чем разочарование, любви — или, как сказала Мария, «отраве», — такими вот сотканными из тюкрёшских понятий и ученого стиля нравоучениями уже тогда посеял, видимо, эту ненависть, что, вскипая, не раз выплевывала, в присутствии Агнеш, страшные сентенции вроде «черного кобеля не отмоешь добела»… На следующей странице — снова национальный вопрос, затем столбики затрат, стоимость мебели (распиленная кровать обошлась в двести двадцать форинтов)… Затем последняя короткая запись: «Еще неделя. Сегодня — письмо от Ирмы; поздравила с днем рождения, хотя рановато немного. Тон такой ласковый, что не знаю даже, чем это объяснить, но я люблю ее еще сильнее. Ее любовь держит меня в оковах; Ирма нетребовательна, последовательна, внимательна; любовь ее глубока». На том же листе, но шестью неделями позже: «Вчера исполнился месяц со дня нашей свадьбы. Что касается медового месяца, то я попал бы в странное положение, если бы захотел судить о нем с точки зрения того, счастлив ли я. Счастье — это полная удовлетворенность судьбой, нашими отношениями. Что сказать, от удовлетворенности я сейчас дальше, чем до женитьбы. Тогда у меня было вдоволь денег, хороший стол, любимые развлечения. Теперь — денег все время в обрез, питание много хуже, развлечений почти никаких, зато забот выше головы. В половом отношении это действительно был медовый месяц…»
Агнеш резко захлопнула книгу и, защелкивая на ходу замок сумки, с написанной на лице досадой вышла из столовой под праздными взглядами коллег, внимание которых привлекло ее самозабвенное чтение. Она чувствовала себя так, словно подсматривала в замочную скважину за двумя ничего не подозревающими людьми. Лучше бы она сразу отдала это отцу! Но как теперь вообще это сделать? Отец узнает свою тетрадь, поднимет взгляд на дочь; можно ли лгать глазами так, чтобы в них не отразилось все, что она узнала? Она решила завернуть дневник в бумагу и отдать отцу, постаравшись сделать вид, будто понятия не имеет, что это такое. До фармакологии оставалось еще полчаса, но Агнеш, чтобы не поддаться соблазну снова вынуть тетрадку, поднялась на этаж и присоединилась к сгрудившимся возле двери знакомым студентам. Коллеги чесали языками насчет красивой ассистентши — бессменной достопримечательности лекций по фармакологии. Агнеш смеялась вместе с другими, даже вставляла какие-то реплики, а тем временем все продолжала думать о том, что узнала только что из тетради, которая едва не прожигала кожу сумки у нее на груди. Постоянная незатихающая война между родителями была первой загадкой — предшественницей стольких других — в детской ее голове, и вот у нее под мышкой — ответ. Действительно ли это такая низость, что она взломала на этой тайне печать, наложенную добропорядочностью? Как врача люди будут ее посвящать в тайны и посерьезнее. А она даже от этой спешит отгородиться. В конце концов, это тоже ведь предыстория болезни — анамнез требующего лечения недуга. Она должна знать его, чтобы избежать несправедливости, не допустить ошибки… «Но теперь зонтик с собой она уже никогда не берет», — вылез вперед один из коллег, до сих пор со стороны внимавший разговорам о красивой ассистентше, которую защищала не только ее неприступность, но и авторитет мужа, адъюнкта, так что лишь очень немногие особенно самоуверенные студенты пробовали поймать и удержать забредающий порой в их ряды скучающий взгляд ее воловьих глаз. Многие засмеялись. «Зачем ей брать с собой зонтик? — машинально спросила Агнеш, думая о своем. — Она ведь всегда в халате сидит». — «Однако на том экзамене она не в халате была, наверное, собралась куда-то, а на коленях держала зонтик…» — начал коллега модернизированный вариант бородатого медицинского анекдота… В конце концов, мать для того и дала ей в руки эту тетрадь, позволяющую заглянуть в самую сокровенную сферу их жизни, — чтобы Агнеш все знала. А отец? О нем она все равно не может узнать ничего такого, что способно его уронить в ее глазах. Что в самом деле обидно, так это грубая прямота тюкрёшцев, всего мужского общества; но доброта отца, его мягкость еще в ее детстве оказывались сильнее этой грубости, как и всяких других предрассудков, — это в нем еще Халми подметил. Истинная доброта всегда прокладывает себе дорогу через всеобщий идиотизм. Если бы она описала все, что передумала, хотя бы за эти месяцы, с момента возвращения отца, — не увидели ли бы и в этом ее двадцатилетняя дочь или сын беспричинную, глупую восторженность или чрезмерную строгость к людям, отталкивающую даже тех, кому должны были быть на пользу?.. Анекдот был рассказан, раздался хохот — не слишком дружный, поскольку большинству он давно был известен; Агнеш только по обращенным к ней масленым любопытным взглядам почувствовала: самое пикантное в анекдоте было то, что его рассказали в ее присутствии. К какому семейству растений относится болиголов? Надо ответить: к зонтичным, к umbrellacea. Отвечающий не знает. Тогда красивая ассистентша — она сидит сбоку — указывает на свой зонтик. «Ой, совсем забыла…» — сказала Агнеш скорее себе, чем соседям, и, растолкав стоявших у нее за спиной, торопливо застучала каблуками по коридору. Коллеги переглянулись. Когда она исчезла за поворотом, завязался оживленный спор, из-за анекдота ли она убежала, и вообще, можно ли коллегиням рассказывать подобные анекдоты. Некоторые искренне удивились: они до сих пор как-то не замечали, что Агнеш столь целомудренна. Какой-то студент в фуражке сказал: «Если хочешь быть врачом, и не к такому надо привыкнуть». Другой, с более тонкой душой, возразил: ему даже у Веребея не нравится это стремление обязательно заставить студенток краснеть. Шутник оправдывался: «Извините, я ведь из тактичности сказал: хвойные. Тот, на экзамене, назвал соответствующий латинский термин». — «Я думаю, коллегиня не сегодня впервые связала слова «ель» и «picea»[152]», — вставил Лайтаи, старшина корпорации «Турул»[153] (который все еще не отважился сдать первый экзамен по специальности), под общий хохот, который вызван был не в последнюю очередь тем фактом, что он вдруг вообще заговорил.
Агнеш тем временем прошла через сад перед клиниками и, чтобы не бросаться в глаза спешащим на лекцию (манкировать лекцией прямо под окнами аудитории было бы слишком уж вызывающе), подчинилась тяготению, исходящему от ее сумки, только в саду Музея. «Не строй из себя святую, Агнеш, ты просто любопытна, и все тут», — призналась она себе, садясь на скамью, и, забыв обо всем, склонившись над положенной на колени тетрадкой, погрузилась в то теплое, приятное ощущение, с каким еще девочкой наслаждалась — правда, довольно редко — чтением запрещенных для нее книг. В послеобеденный час в начале марта Музейное кольцо выглядело более весенним, чем закопченные переулки, по которым она шла сюда. В накопленное камнем тепло, у памятников Араню и Петефи, уже поставлены были детские коляски; Агнеш довольно долго пришлось искать себе место, где бы она могла сесть, не мешая какой-нибудь парочке влюбленных студентов; пары эти располагались в самых различных позах: иной кавалер сидел задом наперед, просунув ноги под спинку скамьи и глядя своей даме сердца в глаза, порой девушка, низко пригнувшись, прятала, как могла, лицо; а то оба сидели спиной к остальному миру, словно искали решение своих проблем в пробивающейся на свет травке. Молодые люди, которым не досталось пары, от нечего делать переругивались со старухой, которая, с грязной катушкой билетов в руке, норовила содрать с них плату за нумерованные места. Агнеш, найдя наконец себе место, тут же дала понять немолодому уже господину, который с вежливым «Вы позволите?» устроился рядом, что от этой одержимой читательницы нечего ждать даже косого взгляда: Лишь уползшее из сада солнце и пробравшаяся под пальто дрожь — да еще сознание, что она опоздала к Йоланке, — заставили ее наконец очнуться.
То, что она читала, было невероятно интересно. Дневник заканчивался 1903 годом, когда ей еще не было двух лет; затем шли только короткие записи, посвященные самым важным событиям (смерть дедушки Цурейха, потом дяди Кароя, потом переезд семьи в Пешт); однако общая картина, которая складывалась из этих записей, довольно точно соответствовала ее детским воспоминаниям, так что дневник, с одной стороны, как бы стелил мягкое ложе всему тому, что дремало в ее памяти, с другой же — ворошил, тревожил минувшее, оживляя умерших. Но о том, ради чего она решилась на это оскорбление чужой тайны, теперь, после прочтения двухсот густо исписанных страниц, она знала меньше, чем, как ей казалось, знала до сих пор. Душа отца — как и его красивый, с годами все более четкий почерк — была ясна и прозрачна. После первого ошеломления она почти любовалась его по-медвежьи неуклюжими педагогическими приемами. Часто ей хотелось сказать ему то же самое, что Марии в кондитерской. Видимо, женщины, даже если они еще не прошли физическое посвящение, более сведущи в любви, чем мужчины. (Или это лишь преимущество стороннего наблюдателя?) Кертес довольно долго жил с убеждением, что Ирма должна стараться походить на его «идеал» и в первую очередь избавляться от «бледной немочи» и от плохой осанки. Чтобы дело шло быстрее, он каждый день до хруста тискает ее в объятиях, а если она пытается вырываться, мучает ее до слез. «Иногда эту операцию я проделываю более энергично, чтобы, принимая ее за объятие, она видела в ней не просто шутку, но чувствовала серьезное ее значение». Он упрекает жену, что совместная жизнь не научила ее владеть собой: у нее что в голове, то и на лице, «когда ей грустно, она корчит кислую физиономию; нет чтобы подумать, как бы понравиться мужу». Она любит нарядно одеваться и в такие моменты принимает холодную, высокомерную позу: ей, видимо, кажется, что она чрезвычайно красива. «Если она полагает, что я полюбил ее и взял в жены лишь потому, что она хороша собой, то плоды этого заблуждения могут быть весьма плачевными!» Он стремится убедить ее, что это не так. И, как ни странно, ему даже кажется, что его воспитание дает известные результаты. По прошествии первых трех месяцев он записывает: «Ирма развивается в том направлении, в каком я хочу. Сначала она с трудом терпела любую критику, а сейчас, когда я говорю ей об ее недостатках, она, при моей помощи, сама стремится избавиться от них. Конечно, она еще не вполне ясно видит ситуацию, так что я порой готов выйти из себя, но гнев пока еще мною не смог овладеть, я не иду дальше насмешек. Сегодня утром мне удалось беспощадно высмеять ее, она плакала и бесилась про себя, а я, чтобы ей было больнее, намеренно хохотал над ее злостью». В канун Нового года он подводит итоги минувшим шести месяцам, и посвященный браку абзац — меж подсчетом расходов на обстановку и размышлениями о литературной работе за год — звучит вполне удовлетворенно. «Привыкнуть друг к другу — это нам в духовном плане далось нелегко. В жене моей заложены хорошие качества: широкий кругозор, быстрое восприятие, трудолюбие и простота и еще одно очень большое достоинство, благодаря которому мы счастливо преодолели первые трудности семейной жизни, — горячая любовь ко мне. Насколько безрадостными были первые полгода — если не считать отдельных дней и недель, — настолько же великолепно все идет теперь, с осени». Позже, конечно, выяснилось, что женщина — а тем более Ирма — отнюдь не школьный класс и не так-то просто держать ее в узде с помощью учительской, сплетенной из доброты и насмешки манеры поведения. Исконный враг учительского оптимизма — природа — начинает показывать себя и перед мужем-воспитателем. «У Ирмы по-прежнему бывают вспышки, вызванные чисто субъективными причинами, самый большой ее недостаток — мрачность духа, которая заставляет ее на все смотреть с подозрением, во всем искать дурное». Через год, характеризуя жену, он повторяет уже как старое свое наблюдение: «С ней в любой момент ничего не стоит поссориться. Она — как ветряная мельница: от малейшего ветерка начинает махать крыльями. К тому же чаще всего она не права». Еще через год, в течение которого он не раз думал о разводе: «Страшно становится, на каком грязном вулкане хотел я построить свое счастье». Но достаточно одной прогулки, где бледное лицо жены порозовеет немного, мрачные мысли ее посветлеют, достаточно ласкового письма из Пешта (в письмах она всегда намного ласковее), чтобы он вновь обрел надежду. Он сам удивляется, какие противоречивые чувства способна будить в нем Ирма. «Словно вновь наступил медовый месяц, — пишет он почти в самом конце дневника, — мы по часу, по два обнимаемся и целуемся». (Одну из таких сцен и наблюдала Агнеш на кресле-качалке дяди Кароя.) Кертес узнает даже ревность: это чувство возбуждает в нем один налоговый инспектор, который столовался у их хозяев и в Гражданском собрании «обожал танцевать с моей женушкой». При всем том он все еще не уяснил себе того, что Агнеш прекрасно видела и отсюда, с двадцатилетней дистанции: это его противоречивое чувство, эта то и дело возрождающаяся из безнадежности надежда, которой Агнеш удивлялась еще девочкой, есть не что иное, как перешедшая в хроническую стадию любовь.
Но что за тайна скрывалась в этой молодой женщине, заставлявшая мужа заносить в правую колонку семейного баланса, в главу «приход», горячую любовь? Мать ее — это прекрасно видел и муж — не способна была к лицемерию даже в той степени, в какой это необходимо, чтобы просто жить среди людей. Что ж это было? Чувственность? Благодарность за новые впечатления, связанные с физической близостью? Крайне трудно поверить. Ведомая мужем статистика (стоило только представить эту худосочную, бледную женщину, которая и забеременела-то лишь спустя два года после свадьбы, хотя с первых дней думала, что она уже в положении: наверняка из-за прервавшихся месячных) заставляла лишь пожалеть бедную женщину. Еще бы: муж-спортсмен самодовольно делает вывод, что — слава тренированному, заботливо оберегаемому организму — испытания медового месяца он перенес без особых утрат (словно это было какое-то состязание по гимнастике), и даже, пожалуй, воображает, что именно этим укрепил свой авторитет в глазах жены. Ему даже в голову не приходит поинтересоваться, как вынесла все это взятая в оборот девушка, с таким испугом взглянувшая на него при неожиданной встрече на Главной улице. Психологи брака считают, что многие мужчины именно в этот период совершают непоправимые ошибки; но в данном случае ситуация как будто иная: слова о «горячей любви» попадают в дневник много позже. В чем же дело? Что это было? Привязанность одинокого, одичавшего сердца, попавшего, после ежовых рукавиц тети Фриды, к новому хозяину? А может быть, хотя тут ее снова стали воспитывать, однако за тисканьем до хруста, за раздражающим хохотом она увидела-таки добрую, любящую душу, к которой ее резкая, эгоистическая натура и прилепилась, как к питательной почве?.. Возможно, она и сама поверила — пока зеркало и окружение не убедили ее в обратном, — что не только не богата, но и некрасива. Или уровень самосознания, присущий этому возрасту, получил союзника в преодолении дурных черт ее натуры?
Сложные, постоянно ведущие к стычкам, но еще позволяющие на что-то надеяться отношения между супругами испортились окончательно — это ясно видно из дневника — на третьем году совместной жизни, после рождения Агнеш. А как прочувствованна запись о первых признаках жизни, подаваемых ею! Как трогательно переносит он наивность, с какой всегда говорил о собственном теле и его функциях, на беременную спутницу. «Ирме исполнился двадцать один год, в подарок она попросила только конфет на двадцать крейцеров. Ведь всякие лакомства: инжир, соленые рогалики, картофельный сахар, гусиный жир — она не просто ест, а прямо-таки пожирает. Как раз в день рождения она ощутила у себя под сердцем ребенка, и это наполнило нас счастьем. Мы старались нащупать его, как нащупывают пульс. И, почувствовав его движения, думали: что сейчас делает этот третий?» Этот третий — пока он не родился — поддерживал в матери мягкость, ощущение ответственности за чужую, еще беспомощную жизнь, а в педагоге — растроганную снисходительность. Отец, с его крепкими нервами, и во время родов вел себя не так, как Левин в любимой книге матери, «Анне Карениной», которую она и мужа заставила прочитать. «Роды, как это обычно бывает у очень молодых женщин (у впервые рожающих женщин, — поправила про себя Агнеш), затянулись немного, но проходили нормально. Схватки, возобновляясь каждые восемь — десять, потом каждые четыре-пять минут, длились долго, так что даже сторонний наблюдатель в конце концов утомился. По всем признакам роды должны были быть успешными, поэтому даже самые сильные боли, испытываемые Ирмой, и ее душераздирающие крики не вывели меня из равновесия. Повитуха следила за схватками, я, спиной к ней, держал руки Ирмы. Все было настолько естественно, хотя немного действовало на нервы (тюкрёшские нервы!), что я не знаю, что и писать. Только когда все вдруг кончилось и ребенок над поднятыми коленями Ирмы завопил во всю глотку, меня вдруг охватило какое-то непонятное веселье, я невольно засмеялся. Хочу заметить еще, что никогда лицо Ирмы не казалось мне таким дорогим, как в тот момент, под конец, когда она изо всех сил, с кроваво-красными губами и горящими щеками, старалась разродиться». («Наконец-то он увидел ее румяной», — злорадно подумала Агнеш от имени всех бледных женщин.)
Радость продолжалась, конечно, недолго. Вокруг новорожденной чуть ли не с первого дня (между ослабевшей, раздраженной матерью и мужем, который все искал в ней свой идеал женщины) сложилась та нервная, наэлектризованная атмосфера, в которой Агнеш живет до сих пор. Молодая мама уже ругает и дочь, как столько раз в последующие годы, сердясь, что та медленно сосет; по мнению отца, это очень скверно, что мать проявляет нетерпение, что ей надоедает кормить грудью, тем более что причина тут, по всей вероятности, в ней самой. Ведь если бы у нее было достаточно молока, то ребенок не сосал бы так долго. «Слово за слово, и вот уже я в раздражении назвал ее слабой, никудышной женщиной, а она меня, в присутствии няньки, мужиком». Это, видимо, снова, несмотря на последовавшее затем описание угрызений совести, была такая запись, на которую мать очень рассчитывала, вручая ей дневник. И Агнеш в самом деле начала формулировать про себя вопрос, на который эти записи требовали ответа: действительно ли мужчины все портят такими вот бестактными выходками, или это заведомо неизбежно и должно происходить неминуемо, как в химическом опыте, когда сливают два вещества — щелочь и кислоту, причем совершенно не важно, как это делается. Во всяком случае, о горячей любви речи больше нет. Молодая мама хотя и часто сердится на Аги, однако цепляется за нее и, ссылаясь на нехватку молока, обрекает отца на долгое воздержание, в принципе не возражая даже, чтобы он пошел к девкам. Отец, который гордится своим самообладанием, не воспользовался, конечно (попробовал бы он воспользоваться!), разрешением; правда, при этом он жалуется, что жена «вызывающе» ведет себя с ним. Соотношение бурных и гармоничных дней становится с этого времени все хуже. То, что Агнеш помнила девочкой, характеризовало уже относительно устоявшиеся отношения: молодой воспитатель старается приспособиться к неистовому характеру жены, даже рискуя при этом оказаться под каблуком.
Спеша из опустевшего Музейного сада к Йоланке, Агнеш даже в вечернем трамвае, среди подвыпивших, шатающихся мужчин, не могла освободиться от всего того, что лихорадочно вобрали в себя ее глаза. То, что она узнала во время пропущенной фармакологии, представляло собой невероятно важный, хотя и всего лишь наполовину усвоенный ею урок, относящийся к дисциплине, которую ее мозг и глаза начали постигать только в последние месяцы. До сих пор она лишь время от времени удивлялась ужасной запутанности, жестокости человеческих отношений, загадкам и бурям, возникающим, когда судьба связывает двух людей; теперь все это начало открываться ее разуму, да и сердцу, словно некий крайне значительный клинический предмет, который поможет ей глубже понять не только войну ее родителей, но и самое себя. На последних страницах была одна запись, читая которую она чувствовала, что это особенно важно, что на это ей нужно ответить не только от имени матери, но и от себя самой. «Таким женщинам нельзя разрешать выходить замуж, — пишет доведенный до отчаяния муж. — О половом наслаждении она представления не имеет, материнская любовь не вдохновляет ее, обязанности свои она выполняет кое-как. Правда, сердце у нее очень доброе, и, будь она старой девой или монахиней, окружающие бы на нее не нарадовались. А так она только изводит меня. Ведь кроме земной, ни в какую иную жизнь я не верю. А потому не могу ни ее убить разводом, ни сам полностью ей подчиниться». Агнеш еще в детстве сердилась, когда ее сравнивали с матерью. Хотя в лицах их было немало сходства. Ей почему-то больше хотелось, чтобы в ней нашли цвет лица и черты какой-нибудь тюкрёшской двоюродной сестры, глаза Кертесов — словом, больше крестьянского. Хотя в детстве она и сама была вспыльчивой, а реакции ее — быстрыми, как у матери, однако горячность ее рядом с горячностью матери не находила выхода; позже она воспитала в себе, как бы в пику матери, невозмутимость, которая всегда восхищала ее в отце, а неистовые материны выходки встречала пусть и не с отцовской уступчивостью, которая казалась ей слабохарактерностью и трусостью, но молча, устремляя на беснующуюся мать подчеркнуто спокойный взгляд. И все же сейчас ей казалось, что отец имеет в виду тот же самый человеческий материал, из которого сделана и она, и, хватаясь на повороте за ременную петлю под потолком, она пыталась про себя объяснить ему, в чем он не прав. Хотя он и склонен был расценивать курсы сестер милосердия, вязание напульсников, дежурство у родственниц — рожениц или больных — как комедиантство, отрицать, что матери свойственны доброта и великодушие, он не мог. Ведь не случайно же это эгоистическое создание в «комедиантстве» своем было так настойчиво, не случайно же все, что надо было делать при этом, она делала великолепно, восторженно относилась к врачам, к медицине, с неподдельным интересом следила за медицинским поприщем дочери; не доказывает ли все это, что в глубине ее раздираемой страстями души в самом деле жила монахиня, девственница, которая могла бы действительно стать благодетельницей для окружающих? И нет ли такой же монахини в ней самой, в Агнеш? Не об этом ли говорит та глубокая радость, с которой она слушала затихающие рыдания Марии, та незримая, едва ценимая другими забота, с какой она старалась создать для отца новый дом, то сладкое чувство удовлетворения, с каким она, забыв про усталость, доставила радость вечерней прогулки Йоланке? Но если это действительно так, может ли она считать себя прирожденной монахиней-девственницей? И являлась ли таковой ее мать? Тот девчоночий румянец, что проступал у нее на лице, когда рядом был Лацкович, раздражая ее, Агнеш, как признак серьезного возбуждения, и вообще более тонкая организация ее натуры — все это опровергало беспощадный приговор, заключенный в слове «фригидность» — слове, которое муж не швырнул ей в лицо, вероятно, лишь потому, что оно вошло в моду совсем недавно. После того, как Агнеш отдалилась от Ветеши, тот, наверное, думал о ней нечто подобное. Если женщина не сумела приспособиться к сексуальным потребностям мужчины, значит, она — чудовище, ошибка природы. Тогда как «монашеское служение» и «сексуальность», или «половое наслаждение», которое упоминает отец, вовсе не исключают друг друга — в этом она была твердо уверена. Секрет Лацковича как раз в том и крылся, что он, пусть поздно, пусть в уродливой форме, сумел, как молодой человек и как любовник, соединить две эти вещи — или видимость этих двух вещей — в сердце матери, обреченном страдать и терзаться…
Пришел весенний праздник, благовещение, принеся с собой пятидесятилетие Яноша Кертеса. Агнеш исподволь, как паук плетет паутину, начала заниматься подготовкой к юбилею. Торжество она хотела провести уже в просторной, выходящей окнами на улицу комнате; соответственно Пирошка должна была перебраться в свой музыкальный салон еще до начала апреля. Обе заинтересованные стороны согласились на это с радостью: Пирошка — чтобы как можно скорее блистать перед друзьями в достойной ее обстановке, госпожа Кертес — чтобы была наконец позади связанная с переездом сумятица. На тележке, прибывшей за Пирошкиными вещами, тот же носильщик с отечным лицом привез письменный стол и книжный стеллаж отца: госпожа Кертес довольно легко отказалась от своих прав на эти предметы, поскольку для Пирошкина будуара они все равно не годились; труднее было ей отступиться от нескольких долгие годы хранившихся в нафталине скатертей и (собственного изготовления) ковра, который должен был теперь оберегать от холода ноги отца. У тети Фриды на чердаке Агнеш нашла кое-какие полезные вещи, ускользнувшие от внимательных глаз старьевщика: вешалку, зеркало, — так что в большой комнате оказалась представлена вся прошлая жизнь нового жильца; старая кровать, умывальник, несколько обувных колодок под ним напоминали о тех временах, когда Кертес, еще женихом, не мог заснуть, вздыхая и морща лоб, в этой самой комнате; один угол, превращенный в кабинет, словно приплыл сюда прямо из Верешпатака, а само помещение, в детские годы Агнеш служившее спальней, со складными внутренними ставнями на окнах, было памятником столичным годам, когда они — родители, Бёжике, Агнеш — на ночь все собирались сюда. Сам торжественный обед — или, скорее, полдник (как начали в те времена говорить в отелях, пятичасовой чай) — Агнеш спланировала так, чтобы он как можно больше походил на тот незабываемый вечер, когда она впервые привела сюда Халми и Пирошка так ласково расспрашивала старого Одиссея о его приключениях. Кроме Халми и Пирошки, она хотела пригласить еще Колтаи: он так старательно опекал ее отца и, как молодой мужчина (хотя Пирошке не хватило бы и троих Колтаи), позволял несколько поправить соотношение между женщинами и мужчинами. Пригласить его, правда, было непросто, так как сделать это Агнеш могла только через отца, а для Кертеса любой гость представлял собой существо досибирской эры, казался неким динозавром, пожирающим запасы тети Фриды. Агнеш его успокоила, сказав, что у них будет всего лишь скромное чаепитие, угощение для него (тут она подумала о Пирошкиной саймоке и пирогах) соберут, кто что может, дамы, — лишь тогда он согласился сообщить Колтаи об идее дочери.
Вскоре выяснилось, что именно в этот день Пирошка никак не может прийти: ее пригласили на очень важный для нее вечер камерной музыки, где должен выступать как аккомпаниатор Эржи Шандор[154] и ее новый знакомый. С минуту Агнеш чувствовала, как в груди ее поднимается материна обида, но тем ласковее она успокаивала потом оправдывающуюся Пирошку; этим, по крайней мере, была заложена пограничная веха их дружбы: значит, ей тоже не обязательно будет присутствовать у Пирошки на домашних концертах. Чтобы Колтаи не остался все-таки без партнерши, она вспомнила про Марию: та, с ее филологическим складом характера, скорее найдет с ним общую тему; у нее даже мелькнула надежда: может, Мария, ударившись в другую крайность, увлечется этим скромным, почтительным молодым человеком. После той ночи, проведенной в одной постели с Агнеш, сердце Марии выдвинуло перед собою сразу несколько новых программ; как-то она появилась на лекции Веребея вся в черном, погруженная в глубокую бледность; в другой раз оказалась перед выходящим с лекции Ветеши и его пассией в толпе смеющихся коллег; один-два дня она даже терпела Такачи (тот был, конечно, достаточно опытным, чтобы быстро понять отведенную ему роль), а однажды она ушла под руку с Ветеши. Самый, пожалуй, отчаянный ее план состоял в том, чтобы Агнеш влюбила в себя Ветеши: Мария готова была даже с этим смириться, лишь бы увидеть униженной свою нынешнюю соперницу. В диастолах[155] этих обреченных на крах планов вновь и вновь, конечно, случались вспышки отчаяния, и Агнеш никогда не знала, в каком состоянии найдет подругу, когда, закончив с Йоланкой, постучится к ней в дверь: пудрящейся ли после рыданий или горящей нетерпеливым желанием приступить к осуществлению какого-нибудь нового плана. (Она и на Агнеш набрасывалась: сколько можно заниматься с этой маленькой идиоткой?) Однако ночевать у нее, слава богу, Агнеш больше не пришлось, абстинентные симптомы — как они называли их меж собой — из переворачивающих душу приступов перешли в более мягкую форму — в нервическое волнение, которое можно было унять снотворным. Когда Агнеш после отказа Пирошки, идя с Марией под руку по чикагской улице, спросила: «Ты не хотела бы с папой моим познакомиться? Завтра ему пятьдесят лет», Мария даже с некоторой жадностью поинтересовалась, кто там будет еще. «Да так, никто… Халми — отец очень с ним подружился, — пояснила она, краснея, — и один очень милый, скромный молодой человек, сослуживец отца. Ты его должна будешь развлекать». — «Девственник?» — спросила Мария. «Не знаю, — засмеялась Агнеш. — Вполне может быть». — «Я теперь хочу иметь дело только с гарантированными девственниками. Лучше немного помучаюсь с обучением».
Когда девушки после фармакологии прибыли на улицу Хорват, тетю Фриду они нашли не озабоченной, как ожидали, а просто-таки оглушенной радостным изумлением. «Ich werde dir etwas zeigen»[156], — сказала она таинственно, после того как Мария склонилась к ее испещренной пигментными пятнами руке. (Ошеломленная тем, что попала в такое убогое место, Мария расхваливала все подряд — от «прелестных» ворот до олеандра в кадке). «Schau, — отодвинула старуха кухонную занавеску. — Was die ’zam gebracht haben»[157], — показала она на гору съестного и коньячные бутылки, которые помогли притащить из школы два ученика. «А ведь он обещал держать день рождения в тайне», — покраснела Агнеш; теперь нужно было объяснять подруге, откуда эти пакеты, бутылки, коробки и что это за новый обычай, превративший учительскую кафедру в алтарь жертвоприношений. «Ja, er hat nichts gesagt[158], — поспешила выручить тетя Фрида виновника. — Это все тот, кого он пригласил, Колтаи, oder wie er heißt[159]… Это он рассказал. Ему и директор подарил коробку сигарет, — добавила она, понизив в знак почтительности голос. — Но она уже там, в комнате. А коньяк один богатый мальчик принес, der Sohn eines Bankdirektors[160]…» Через час вернулся от ученика и сам юбиляр с каким-то пакетом под мышкой, несколько взволнованный не совсем законным изобилием. Семья портного тоже, конечно, узнала, что господину учителю исполняется пятьдесят лет, и в знак признательности за преображение их сына расстаралась: Кертес получил в подарок отрез, который они несколько минут спустя разглядывали, разложив на кухонном столе и гадая, можно ли сшить из него женское платье (Мария и тетя Фрида имели в виду Агнеш, Агнеш же — мать, так что мнения их были прямо противоположными). Другой богатый ученик вручил свой подарок еще накануне: Бенвенуто Челлини в переводе Гете, в подарочном переплете. Из мужчин первым пришел Халми. Он тоже принес книгу: Гоголя на русском языке. Насколько тюкрёшский юноша покорил Кертеса, можно было видеть по той восторженности, с какой тот перелистывал книгу. «Гоголь, повести… «Мертвые души» — это я читал, еще в Чите… По крайней мере, в русском языке буду практиковаться…» Последним явился Колтаи, принесший букетик нарциссов и крохотный торт. Смущение, с каким он представился, вполне удовлетворило Марию, с ее новой программой взаимоотношений с сильным полом. «Прелесть что за усики, — шепнула она, когда они остались с Агнеш на кухне вдвоем. — Но где он добыл такой тортик? В кондитерских таких не пекут». — «Не иначе мамочку попросил», — поддержала Агнеш ее насмешливый тон.
Однако, несмотря на изобилие, празднество вышло не таким, как представляла Агнеш, — возможно, именно потому, что в памяти ее слишком прочно жила модель прошлого вечера. Разговор поддерживали лишь отец и Мария. Кертес, по своему обыкновению, копался в минувших годах, вспоминая Сибирь, Петроград, когда случай и несколько добрых друзей создавали вокруг него вот такую же дружескую атмосферу. В Омске они с вдовой казненного начальника лагеря, которую взял замуж один прапорщик из Словакии, заведующий хозотделом, и с ее подругой, мужем которой был тоже венгр, аптекарь, однажды отправились в лес, и две дамы-буржуйки пекли там оладьи на собранном мужчинами хворосте. В Петербурге же чрезвычайно милый человек, коммунист Вейс, попросил, пока он в отъезде, развлекать его жену. Этот Вейс в Киеве спрыгнул с поезда, везущего пленных, киевские евреи укрыли его, там он и женился на красивой и культурной студентке-медичке, которая вскоре тяжело заболела и не могла даже выходить из дому; у нее они несколько раз замечательно провели втроем время за чашкой чая. Потом он вспомнил еще одну историю, которую Агнеш до сих пор не слышала, и она особенно ей понравилась. На одном из петроградских каналов стоял баркас, с которого живая людская цепь сгружала дрова для бывшего австро-венгерского посольства, нынешней штаб-квартиры коммунистов; вокруг баркаса и дома — присматривающие за порядком члены партии, в середине — военнопленные. «Старик, это бревно лучше вот так подавать», — говорит Кертесу хорошо одетый молодой человек, командир. Кертес выполняет указание, а сам смотрит на молодого человека. «Э, да не один ли это из братьев Беранеков, — мелькает у него мысль, — которые в третьем классе рисовали мне такие прекрасные эскизы географических карт?» Он спрашивает соседей; один отвечает, что, кажется, командира в самом деле так зовут. Когда тот снова проходит мимо, Кертес говорит: «Товарищ, а вы не учились в будайской гимназии?» Тот смотрит на него — и, широко раскрыв глаза, заикаясь, отвечает: «Господин учитель!» Конечно, они его тоже в гости позвали. Там оказался еще один его ученик, оба были люди ловкие, умели устроиться в жизни, и они втроем пили хороший кофе, курили сносные сигареты, спорили шепотом. Истории эти, воспевавшие тепло небольшого человеческого сообщества в море скитаний и лишений, вполне годились, чтобы эту будайскую комнату, в которой они, собственно, праздновали сейчас новоселье, превратить в этакий маленький ковчег среди всеобщего потопа. Правда, Мария, хотя то и дело встревала с вопросами, не была столь хорошим камертоном, как в тот вечер Пирошка. В воспоминания дяди Кертеса, которые для других были уже знакомым миром, она окунулась, словно в неведомую бурную реку, в которой ей нужно было не только ориентироваться, но и, как отличнице, постоянно показывать свои знания. Ее увлекал не ход событий, как Пирошку, а собственная тревога (которая после удара, нанесенного ее самолюбию, стала еще болезненнее), заметит ли общество, отец Агнеш и его коллега, ее ум и начитанность. Так что вместо того, чтобы удерживать прихотливые ассоциации хозяина в едином русле, она своими вопросами некстати лишь сбивала его с мысли. Верно ли, что русские женщины такие образованные? Давно ли женщины в России имеют право учиться в университете и правда ли, что Нева соединяет Ладожское озеро с Финским заливом? Когда же Кертес, который весьма терпеливо ей отвечал, вспомнил, как кто-то из бывших его учеников достал ему билет в театр, на «Власть тьмы» Толстого, она решила, что наступило время перевести разговор на театр, на Толстого, вообще на сферу литературы, где, как ей казалось, она чувствовала себя увереннее многих коллег, в том числе и Агнеш. Кертесу пришлось отвечать на вопросы, существует ли еще петроградский балет, действительно ли Толстой отрицал искусство и что он сам, то есть Кертес, ценит выше: русский или французский роман.
Когда зашла речь о Толстом, в разговор включился и молодой учитель, которого Мария до сих пор безуспешно провоцировала полуобращенным к нему лицом и восторженной, зазывной интонацией. «Странно, — сказал он, по своему обыкновению, глядя в стол. — Неужели в Петрограде дают Толстого? Я слышал, Достоевский и Толстой там под запретом». Халми, до сих пор не проронивший ни слова, издал странный звук — нечто среднее между хохотком и отрыжкой, враждебный смысл которого был столь очевиден, что все на него оглянулись, а Колтаи покраснел. «Я совсем недавно читал, — заупрямился он, показывая, что говорит не что попало, — в Москве закрыт дом Толстого, где он жил, а после смерти его был создан музей». — «Где же вы это читали, господин учитель?» — спросил Халми, пряча свое возмущение под вежливым, светским тоном, в котором Агнеш, однако, уловила едва сдерживаемое раздражение. «Если не ошибаюсь, в «Эрдекеш уйшаг»[161]. — «Тогда, конечно, все так и есть», — сказал Халми предельно серьезно, но с такой иронией, которая окончательно восстановила против него Колтаи. «Но почему?» — снова закудахтала Мария, которая в своем страстном желании находиться в центре внимания ничегошеньки не заметила. «Очевидно, он не подходит их целям: воспитанию нации в духе атеизма», — повернулся к ней Колтаи. «Ну, а как тогда с Ади[162]? Он ведь тоже писал стихи, обращенные к богу, — блеснула эрудицией Мария. — Нашей преподавательнице, для которой величайшим поэтом был Геза Дёни[163], во время Коммуны пришлось провести урок, посвященный Ади. Если бы экзамены на аттестат зрелости не упразднили, о нем был бы отдельный билет». «Но на экзамене вы все равно отвечали бы не «Адам, где ты?», а «На графском гумне» и другие стихи, которые он писал в свой красный период», — улыбнулся Марии Колтаи. «А это, как всем известно, самые слабые его стихи», — заметил Халми все с той же серьезностью. Колтаи не обратил на его слова внимания, пытаясь привлечь на свою сторону лучащуюся интересом Марию. «Во всяком случае, барышня, вы правы: наших коммунистов интересовало не то, за что не следует любить Ади, а что можно взять у него для их пропаганды. По такому же принципу они пощадили и ту пьесу Толстого». — «Это уж верно, сам Ленин не мог бы в более ужасном виде изобразить жизнь крестьян», — сказал Кертес. «Они многое прощают своим союзникам, — воодушевился Колтаи успехом своего объяснения. — Вот, например, слово «раса». Я даже не знаю, пользовались ли им венгерские поэты до Ади». — «Он был у нас первым расистом», — зло сказал Халми. «Положим, не был, — ответил, не глядя в его сторону, Колтаи. — Но там, где он говорит о своей нации, он мне кажется куда более искренним, чем в программных стихах, написанных для социалистов». — «Дело вкуса», — пробурчал Халми скорее себе, чем остальным.
Агнеш с испугом обнаружила, что в наивных своих ухищрениях, мечтая о теплом, задушевном вечере, свела воедино две такие стихии, которые вместе образуют взрывчатую смесь, и что куриная слепота Марии, ее стремление вылезти на первый план не дадут возможности так просто уйти от опасной темы. Надо было вмешаться, что-то сказать, прежде чем Халми окажется в полной изоляции. Ведь пока Мария на свой манер поддерживает дискуссию, она молчит, и это наверняка лишь усугубляет его обиду за свои бестактно задетые убеждения, добавляя к ней ощущение потерянности и досаду за необходимость сдерживаться, чтобы в запале не сказать что-нибудь, что, может статься, совсем ни к чему произносить перед этим Колтаи (который, в конце концов, может ведь оказаться и членом организации «пробуждающихся»). Но в малознакомую тему она, в отличие от Марии, не посмела все же углубляться. У них в гимназии был плохой учитель венгерской словесности, наверное, поэтому она из искусств полюбила больше живопись. Правда, это было и гораздо удобнее: смотри себе на картину — и в один прекрасный момент ты обнаружишь в ней гармонию пропорций и красок. Даже музыка ей была ближе, чем литература (правда, занятия в школе Фодора основательно отбили у нее тягу к музыке), да и возможностей тут было больше, — например, летом в Зоосаде часто бывали неплохие концерты. Ты сидишь, слушаешь — и тебя постепенно наполняет торжественная чистота Генделя, Глюка. Хотя, конечно, какой-нибудь классический роман — пусть в нем многовато всего намешено — тоже прекрасная вещь, и то, что в литературе она осталась такой невежественной, она приписывала скорее собственной лени и нелюбознательности. Из произведений Толстого она, например, читала только «Анну Каренину» да одну или две книжечки из серии «Современная библиотека»; Ади же, которого тут знали все (отец стихи его полюбил в Даурии, на вечерах декламации), она вообще почти не читала. В школе, в гимназии Андрашши, было несколько страстных поклонников Ади, но от его стихов они были как бы чуть-чуть не в себе, а то, что она изредка слышала в чужом исполнении, казалось ей лишь неуемным хвастовством мужской силой, и само его вдохновение было в ее глазах душным, плотским, подстегиваемым женщинами и вином, воспевающим сифилис как нечто вроде стигмы, священной печати. Стихи его словно написаны специально для глупых женщин. Конечно, все это жило в ней лишь как тихая неприязнь, а вовсе не что-то такое, что можно было здесь взять и высказать. К счастью, вместо нее разрядить напряжение решил отец. Первого хлопанья крыльями, предвещающего начало петушиного боя, он, хотя и напрягал внимание, переводя взгляд с одного спорщика на другого, как и Мария, как будто не заметил; но, едва в разговоре возникла пауза, принялся аккуратно приводить услышанное в порядок, опираясь на свои накопленные в России наблюдения. «Как там насчет Толстого, точно не знаю. Первое время они и сами еще не вполне разобрались, как им быть с великими деятелями истории. В Омске я, скажем, слышал лекцию, где Петр Великий представлен был каким-то чудовищем, а в Петрограде его прекрасная конная статуя стоит напротив Николаевского моста, и я сам читал там одну брошюру, где его называют предтечей революции. Так что тут, в общем, то же самое, что и в оценке живых. В буржуйских мозгах — это и Ленин сказал — надо ценить все, что можно использовать». — «А потом — выбросить», — вставил Колтаи. «Ну да, потом, может быть, выбросить». — «Довольно безнравственная позиция», — вновь подняла паруса Мария. «А вы бы считали более нравственным, если бы их взяли и уничтожили сразу?» — ехидно заметил Халми, который, как видно, успел найти для себя более подходящий в этом обществе тон. «Во всяком случае, это проще», — лезла из кожи Мария. «Вот, например, Павлов, — продолжал Халми, — про которого мы учили на биологии». — «Это который с собаками?» — обрадовалась Мария возможности показать себя. «Да, который условные рефлексы открыл. Правильней было бы, если бы его как буржуя — кстати, он, говорят, очень религиозный — уничтожили или по крайней мере послали на пенсию? Весь мир был бы возмущен. А так — у них есть институт, где этот буржуйский мозг воспитывает прекрасных ученых-коммунистов. И все это еще и гуманно. Словом, пускай эти красные — настоящие звери, — добавил он, — но, судя по тому, что они делают, они совсем не дураки».
Все замолчали. Павлов знаком был только Марии и Агнеш, да и то лишь по опыту, в котором собаке показывали цветные кружочки, а через выведенные наружу протоки выделялся желудочный сок. В их представлении он был скорее хитроумным стариком, чем ученым на службе у коммунистов, демонстрирующим отношение нового строя к людям духа. Однако сильнее, чем имя Павлова, Агнеш смущало то, как Халми отзывался о коммунистическом образе мышления. Никто, кроме нее, не знал, что скрывалось в этом его выражении: «красные звери» — неодобрение или ирония. Колтаи, чтобы прояснить ситуацию, снова вспомнил Ади: «Кстати, с Ади, как и с Толстым, красным весьма повезло. Умер в самый удачный момент, чтобы его можно было причислить к лику святых. Проживи он еще пару месяцев…» — «И не впади в деменцию», — перебила его Мария, поворачиваясь вдруг против революции. «Говорят, он успел сказать, — заметил Халми, — еще при правительстве Каройи[164], что это не его революция». — «Ну, а Советская республика — про нее он что бы сказал!» — снова влезла в разговор Мария, чуть ли не с триумфом в голосе. «Если бы у него ноги были покрепче и если бы он не так сильно любил ездить на извозчике, то, может, приехал бы из Сегеда верхом на коне, с журавлиным пером на шляпе[165]», — злорадным смехом выдал себя Халми. «Вот уж что нет, то нет, — глядя перед собой, сказал Колтаи. — Хотя были таланты ненамного меньше Ади, которые удивили таким образом своих друзей в «Нюгате»[166]. — «Вы Дежё Сабо[167] имеете в виду? — заметила Мария. — Бог его знает, я почему-то не люблю его самообожествления. К тому же за несколько лет он трижды сменил веру. Теперь вот нынешний курс кроет почем зря». Колтаи знал мэтра лично, однако не решился встать на его защиту, хотя и мог бы. В профиле, да и в знаниях Марии было нечто, заставляющее подозревать, что, может быть, на Дежё Сабо она сердита не без причины. Он сказал лишь: «Флюгером он тем не менее не был. Читал я в «Нюгате», во время Коммуны, его статью. И «Унесенная деревня» его появилась точно первого мая». Мария, конечно, статьи не читала, да и в «Унесенной деревне» прочла лишь один порнографический отрывок, который ей показал Такачи. Колтаи с пылающими ушами — признак того, что он вынужден был высказывать самые сокровенные свои мысли, — избегая имени Дежё Сабо и конкретных понятий, попробовал с высоты птичьего полета обрисовать историю Венгрии последних лет. «Беда в том, — заявил он, — что в восемнадцатом году у нас, кроме Каройи, не было другого крупного политика, который не выпустил бы из тюрьмы Белу Куна и иже с ним, только чтобы самому продержаться подольше». — «А что бы он сделал?» — поднял голову Халми. Колтаи в этом вопросе услышал презрение к себе как доморощенному политику и сначала бросил в ответ лишь несколько запальчивых слов, затем, распаляясь, заговорил все более пространными фразами: «Да уж только не это. Режим Хорти — это их вина. Чехи, болгары, сербы ведь смогли остановиться. И нам бы достаточно было сильной крестьянской демократии. Чтобы вымести прочь обломки Габсбургской монархии… Открыть школы для простого народа. Воспитать новое, демократическое среднее сословие. Мадьярство, утратившее свой исконный характер в результате смешения с инородцами, укрепить чисто венгерскими элементами, населив ими города. Поддерживать проникнутое венгерским народным духом искусство…» По мере того как первые словно бы против собственной воли высказанные пункты вырастали в четко сформулированные положения, Агнеш все более успокаивалась. Этот молодой человек, так бескорыстно помогающий ее отцу, не был идейным родичем тех носивших фуражки членов студенческих корпораций, которые в переулках за университетом набрасывались с палками на убегающего коллегу-еврея, а в дверях деканата заставляли какого-нибудь студента с подозрительным носом на глазах у всех расстегивать брюки и, если результат проверки был положительным, во всю глотку кричали «ура». Все, что он говорил, в год путча Каройи звучало очень революционно. А поскольку Агнеш не читала журнал «Жизнь и литература», откуда молодой учитель черпал свои идеи, то еще и оригинально. Однако тот факт, что Колтаи оказался не каким-то заурядным членом корпорации «пробуждающихся», а человеком с прогрессивными взглядами, словно бы еще сильнее раздражал Халми. «А что бы вы сделали с рабочими? После того, как решили судьбу всех общественных классов?» — «Сейчас-то я бы знал, что с ними делать, — сказал Колтаи. — Советская республика и для них стала хорошим уроком, и, если б они увидели, что мы создаем им настоящую демократию, они тоже не могли бы уклониться от влияния обновленного венгерского духа — духа Ади, Морица[168], Бартока…» (Он заколебался, добавить ли сюда Дежё Сабо, но предпочел назвать Дюлу Юхаса[169].) — «И вышли бы из Интернационала?» — «В девятнадцатом году беда была как раз в том, что у венгерских социал-демократов не было такого вождя, как Жорес у французов. (О Жоресе он слышал также от Дежё Сабо.) Или, в Венгрии, Андраш Ахим[170]. (А о нем была прекрасная статья в «Жизни и литературе».) Одним словом, такого, кто сохранял бы связь с венгерским народом… А у этих главное было — не потребности и интересы народа, а политическая конъюнктура, вот они и толкнули массы к Советской республике, словно в какую-нибудь биржевую спекуляцию». — «А если бы спекуляция завершилась удачно? — спросил Халми. Агнеш видела, как дрожат его руки. — Если бы Советы прорвали блокаду в девятнадцатом, как прорвали в двадцатом, и венгерская Красная армия, взяв Кашшу, соединилась бы с русскими где-нибудь на Висле? Тогда бы вы их превозносили сейчас?» — «Не превозносил бы», — сказал Колтаи. «Почему? С точки зрения пользы для нации, это был бы чистый выигрыш. При определении государственных границ было бы принято во внимание то, за что вы их сейчас осуждаете, — что они не остановились на полпути». — «Мы тоже об этом думали, — вставил Кертес. — В Петрограде я познакомился с одним красным солдатом, он был слесарь, из секейев[171], — так вот он сказал, что потому и пошел в коммунисты. И я вынужден был признать, что он прав: если что-то и может спасти трансильванских мадьяр, так это коммунизм. В ленинской Конституции это был самый лучший пункт, и, насколько я видел в Омске, в татарской столице, он в определенной мере был выполнен». — «Насчет того, что и когда бы могло быть, я не знаю, — сказал Колтаи. — Но думаю, что нельзя легкомысленно рисковать жизнью маленького народа, для которого выживание — вековая проблема». — «Вот и я говорил то же самое, — согласился с ним Кертес, — наблюдая, что происходит в Советской России. Может быть, для русских это когда-нибудь станет предметом гордости. А такой народ, как венгры, просто погиб бы в такой передряге». — «Венгерские руководители никогда не втянули бы в нее народ, — сказал Колтаи. — Для этого нужен был чужой национализм, который слышит только зов свой трубы и которому все равно, что станет с венграми».
Теперь и Агнеш ощущала повисшее в воздухе слово, которое все-таки в чем-то роднило — облегчение было преждевременным — Колтаи с университетскими хулиганами. К счастью, Колтаи опять посмотрел на Марию и остановился, Агнеш же протянула Халми тарелку с остатками колбасы, одновременно бросая на него умоляющий взгляд. Так что у Кертеса появилась возможность увести спор из горячего русла. «Именно тут и кроется разница между простыми патриотами, вроде нас, и прирожденными революционерами — я это и в лагерях у нас наблюдал. Мы даже на революцию смотрели с одной точки зрения: будет ли польза венграм? А те — особенно офицеры из евреев (произнес-таки он по простоте слово, которого остальные столько раз избегали) — только искали, что питает революцию. Настоящий революционер где может, там и делает революцию, даже если завтра ее подавят». Тезис, да еще высказанный в такой броской форме, вполне годился, чтобы привлечь Марию на сторону революционеров. (Она словно нарочно старалась, чтобы подозрение Колтаи переросло в изумленную уверенность.) «Логично. Коли ты революционер… Поджигай, где можешь. Нельзя ведь заранее знать, в каком месте возникнет пожар». Тут, однако, она не встретила сочувствия ни у одного из мужчин. Колтаи вспоминал свои слова: не обидел ли он где-нибудь гостя коллеги Кертеса; Халми же не понравилось сравнение. «Не знаю, — сказал он. — Революция ведь не стихийное бедствие, у нее свой план есть. И если нужно, она может себя и остановить». Хотя после такого отпора Мария немного сникла, революция еще некоторое время оставалась предметом беседы: после русской говорили о французской, потом — о «Славной»[172]; особенно занимал всех вопрос, относится ли разрушение и жестокость к сущности революции или их можно избежать. Агнеш сидела разочарованная: умные и не слишком умные фразы звучали теперь без горячности (говорил в основном учитель истории) и больше не оставалось уже никаких надежд на то, что пятерых этих человек удастся сблизить, объединить той теплой, дружелюбной атмосферой, которая так запомнилась ей с прошлого раза, да и вообще в беседе был какой-то налет безумия, словно каждый произносил свои аргументы, не видя и не слыша других, из какого-то своего, отдельного, тумана: Халми, с его осмотрительной ненавистью, — из подвала или из сточной канавы, Мария — из воздушного шара своего страстного желания быть замеченной, Колтаи — из волн некоего чужого, находящегося далеко отсюда мозга и темперамента, Кертес — с философского островка, на котором он оказался после кораблекрушения. И все при этом питали иллюзию, будто ведут общую беседу. Ее охватило странное полуобморочное состояние, как в тот вечер, когда они с носильщиком везли пожитки отца по кольцу Липота. Только теперь состояние это было вызвано ощущением, что не люди, а мысли их мечутся, бесконечно чуждые друг другу.
Первым поднялся из-за стола Колтаи. Вечер был прекрасный, но его ждет жена с ужином. «У вас жена есть?» — сдерживая закипающий в глазах, во рту хохот, воскликнула Мария. «И притом очаровательная», — сказал Кертес. «Вы ее знаете?» — присоединилась к Марии, чтобы помочь ей одолеть бурливший в ней смех, Агнеш. «Конечно, я каждый день вижу, как она с малышом в коляске мужа встречает», — взглянул на Колтаи Кертес, перед мысленным взором которого возник облик молодой женщины, встречающей коллегу. Тот, видно, и сам ощутил нечто комическое в том факте, что оказался женатиком. Во всяком случае, он покраснел и пробормотал что-то в том роде, что его жена, конечно же, будет очень-очень рада, если Агнеш и господин учитель как-нибудь побывают у них. Веселье, готовое брызнуть из двух пар переглянувшихся глаз, вырвалось на волю за занавеской в кухне, куда Агнеш с Марией ушли мыть посуду после гостей. «А я-то старалась, я-то старалась впечатление произвести», — вынес смех на поверхность заложенную глубоко в Марии искренность. «Извини, но это и для меня полная неожиданность», — смеясь, гремела Агнеш посудой в раковине. Мария, которой досталось вытирать посуду, была счастлива, что наконец-то может использовать легкие и мышцы лица по назначению, и заливалась все веселее. «Раз в жизни хотела лишить мужчину невинности — и вот тебе на́, опоздала. А ведь по реденьким усикам и по тому, как он краснеет, в самом деле можно принять его за virgo». — «В психологическом смысле он еще вполне девственник. Так что не отчаивайся». — «Конечно. Чтобы его супружница мне глаза выцарапала. У таких застенчивых жены обычно — фурии. Только какого черта он, собственно, обручальное кольцо не носит?» — «Может, потерял». — «Или ради тебя снял и сунул в карман». — «Тогда уж не надо было до конца сознаваться». — «Тут он струсил. Видит, что дело пахнет керосином. Если не скажет, я еще его в свою комнату затащу».
Из-за кухонной занавески несся такой здоровый, заливистый смех, что даже тетя Фрида услышала и просунула туда голову. «Was lacht denn so?[173] Чего вы тут так хохочете?» — перевела она Марии. «Вы только представьте себе, у него жена есть и куча детей», — объяснила Мария. «У кого?» — «У этого скромного молодого человека». — «У господина доктора?» — изумилась тетя Фрида. «Нет, у учителя». Теперь они уже хохотали над тем (хотя Агнеш пришлось перебороть в себе некоторое сопротивление), что тетя Фрида испугалась, как бы не потерять единственного рыцаря, появившегося на горизонте, — Фери Халми. «Na, Jugend lacht leicht»[174], — ушла от них тетя Фрида, чувствуя, что этот смех относится немного и к ней. «Да, легко мне тут смеяться, — сказала Мария, — а завтра мать с десятичасовым приезжает… — Она посмотрела на свои часы. — Идти мне уже надо. Проводишь? Только до остановки…» — «Уж не боишься ли ты?» — «Представь… — оправдывалась Мария. — Это тоже абстинентный симптом. В Сарваше я спокойно ходила по неосвещенным улицам. А теперь — сердце колотится, и пожалуйста — симпатический нервный шок. Пока из Оперы пройдешь по улице Хернад…» Взявшись под руку, все еще пересмеиваясь, они шли по безлюдной улице Хорват; веселье их лишь разжигалось неодобрением, с каким закрытые ставнями окна угрюмых домов прислушивались к неуместному здесь хохоту. «Знать бы, что твоя назареянка-бабуля наговорит ей про меня, — и с притворным, и с настоящим страхом готовилась Мария к встрече с матерью. — Посмотри на меня, — повернула она к себе голову Агнеш, когда они оказались под фонарем. — Как у меня глаза, достаточно невинные?» И действительно, она бросила на Агнеш такой глубокий, обиженный взгляд, что та снова расхохоталась. С этой стороны она свою подругу еще не знала. «В конце концов, не пошлет же она меня на осмотр», — подбадривала себя Мария. И на остановке сказала то же, что Колтаи: «Очень славный, прекрасный был вечер. Не помню уж, когда я так хорошо себя чувствовала. Благодаря тебе я узнала, что такое дружба». И даже пропустила трамвай, чтобы побольше уверенности впитать из руки Агнеш перед завтрашней встречей, от которой ей все-таки было не по себе.
Агнеш возвращалась домой улыбаясь. После скверного, похожего на обморок ощущения, с которым она внимала бессмысленному спору, приятно было поболтать, посмеяться над пустяками, отдавшись безотчетному молодому веселью. Благодарность Марии, ее хорошее настроение отдавались приятной легкостью не только в ее душе, но и в звонком стуке каблуков по мостовой (ради спокойствия она тоже шла не по тротуару). Она представила, как Мария, сидя в почти пустом вагоне трамвая, вспоминает прошедший вечер, спор с Колтаи, озорное веселье перед расставаньем и впечатления эти оседают в ней вновь обретенной уверенностью в себе, ведь сегодня она вновь почувствовала себя разговаривающей с мужчинами на равных интеллектуалкой («Агнеш, бедняга, за весь вечер и рта почти не раскрыла»), в которой даже после перенесенного ею немыслимого унижения все еще — пускай всего лишь в связи с этим Колтаи — ходит электричество, которым женщины стараются покорить мужчин… Но все это было как опадающая волна, из-под которой, едва Агнеш вернулась, вновь проступило, перейдя в тупую, ноющую подавленность, то неприятное чувство, которое, видимо, будет теперь подниматься в душе всякий раз, когда ей придется столкнуться с безнадежной, унылой неразберихой жизни. Отец и Халми еще беседовали. По раскрасневшемуся лицу и оживленному тону отца она, даже не уловив еще ни единого слова, догадалась, что он углубился в свою лингвистику. Это случалось сейчас куда реже, чем прежде, и лишь в очень уж задушевной беседе. По тому, как слушали люди его рассуждения, Кертес, видимо, догадался все-таки, что подобные речи — даже в среде коллег — воспринимаются как чудачество, свидетельство долгого плена, и возродившееся с приходом в гимназию, с включением в нормальную жизнь умение держать себя в руках, не исчезнувший напрочь, хотя и ослабевший самоконтроль тут же останавливали его, едва у него с языка срывалась какая-нибудь из его излюбленных лингвистических ассоциаций. Нужна была исключительно располагающая обстановка и исключительно внимательный собеседник, чтобы он сполз в то состояние, в каком находился сейчас, когда Агнеш тихо вошла в комнату. «Так что слово это, «герман», — Германия, германец — я вывожу не из «брата» и не из кельтского «орущий», а из древнетурецкого «орман», «кирман», что означает «народ», — услышала Агнеш. — Тем более что сходство немецкого Ochs[175] и турецкого «огуз» — «вол», «бык» — и выявляемый у немцев бык как тотем тоже укрепляют меня в этом убеждении». Халми, не меняя позы внимательного слушателя, бросил долгий взгляд на вернувшуюся Агнеш, похорошевшую после смеха и сменившей его задумчивости; во взгляде этом под восхищением словно таилась и некоторая обеспокоенность. Кертеса этот взгляд, который он (поскольку рассуждал, глядя в лицо собеседнику) не мог не заметить, заставил очнуться, вернуться к реальной жизни. Во второй части фразы («…точно так же и «сакс» — турецкое «сакис», венгерское «секли», «секей» — позволяют видеть в них несомненное родство») почти слышалось, как воодушевление, да и сама вера его, словно проколотая футбольная камера, опадают, выпуская воздух. И после самого последнего, почти с иронией поданного толкования слова «deutsch»[176] (которое попадало в одну этимологическую цепь с монгольским «туг») он подошел к обычной, все разрешающей своей фразе: «Словом, вот так я там фантазировал», — которую Агнеш так хорошо знала. «Я, наверное, очень вас утомил, господин учитель», — поднялся Халми, который, каким бы он ни был в мыслях революционером, в общении пользовался самыми банальными оборотами. «Да, пожалуй, пора и в постельку, — не стал возражать Кертес. — Завтра снова работа. — Затем, поцеловавшись на прощанье с Агнеш, добавил: — Большое спасибо за этот приятный вечер. Коллега твоя ушла уже? Очень милая, энергичная девушка… — И уже у ворот: — Мамуле тоже скажи спасибо, что все-таки вспомнила про меня, послала все эти вещи, которые ей так дороги. Жаль, что не удалось провести этот день вместе».
Некоторое время Халми и Агнеш шли молча. Немые дома, словно тайные микрофоны, улавливали неритмичный звук шагов Халми и злорадно возвращали его усиленным. «Вы сегодня были не в настроении, — заговорил Халми. — Наверное, мы вас политикой своей оглушили?» — «Нет, что вы, — запротестовала Агнеш. Но, несмотря на горячность протеста, в ее словах сквозила некоторая неуверенность, так что ей пришлось добавить: — Не так все получилось, как я планировала. Знаете, как бывает, когда очень чего-то ждешь». — «Но было ведь очень здорово, — удивился Халми. — Или, может, вы о том, на что отец ваш намекал в воротах?» — спросил он осторожно, так как они еще не говорили с Агнеш об отношениях между ее родителями. Официально он все еще знал лишь о том (хотя нынешний день рождения красноречиво опроверг это), что Кертесу пришлось переехать на улицу Хорват из-за больных ног. «Да, и об этом тоже, — ухватилась Агнеш за его слова, которые так прекрасно могли объяснить ее подавленное состояние. — Вы ведь, наверное, знаете, почему здесь не было моей матери? Вернее, почему мы праздновали этот день не у нее?» — серьезно смотрела она на Халми. Надо же когда-нибудь поговорить нам об этом, — стояло за ее полным решимости взглядом; таиться дальше было бы нарушением дружбы. То ли гулкая тишина вокруг, то ли полоса весеннего неба над головой, то ли странная, беспричинно навалившаяся тоска побудили ее заговорить о себе — пусть не ради того, чему она сама не могла придумать названия, а просто чтобы кому-нибудь наконец пожаловаться. «Да, ваш отец поминал что-то в этом роде. Очень осторожно, правда, в виде астрономического сравнения», — ответил Халми. «Орбиты планет и астрономические расчеты, — улыбнулась Агнеш, представив, как отец под лампой тети Фриды излагает Фери это сравнение. — Меня он таким же образом подготавливал. Только я, конечно, давным-давно все знала». — «А ведь мама у вас — такая милая женщина», — вспомнил Халми радушный прием, который ему был оказан. Он, конечно, понятия не имел, какая констелляция планет необходима была, чтобы его, когда он с замирающим сердцем пришел в дом на улице Лантош, приняли столь любезно. Поэтому Агнеш не стала вносить коррективы в добрые воспоминания Халми. «Ну да, вот это как раз и ужасно, — сказала она, возвращаясь в какой-то мере к ощущениям нынешнего вечера, — что сами по себе люди такие милые… у матери тоже есть хорошие черты, а когда они вместе, то готовы растерзать друг друга». — «Поверьте, это все война, война виновата. И ее зачинщики». — «Бог знает, может, и не война. Без войны они, может, остались бы вместе. Но что бы из этого вышло? Некое механическое соединение, когда люди бессильны что-нибудь изменить. Сколько я себя помню, это всегда были несовместимые натуры, которые мучили друг друга и страдали от этого. И если бы хоть любили друг друга, — вырвалось у нее. — Но каждый только воображал, что другой… А сам потом использует, эксплуатирует эту предполагаемую любовь. Недавно ко мне попал дневник, который отец вел в молодости…»
Она сама ошеломлена была тем, что сказала. Даже читая дневник, она не формулировала свои ощущения столь резко и беспощадно. И вообще — как случилось, что она упомянула о дневнике? Ведь она дала себе слово: пусть любопытству своему она не может противостоять, но затем будет держаться так, будто ничего не читала. И не в отце вовсе дело. Тот, развернув шелковую бумагу, лишь обрадовался дневнику, как старому доброму приятелю. «Ну, это очень мило со стороны мамули, что она его сохранила. Наверное, переслали домой из школы, когда вскрыли мой ящик… Кое-что, думаю, ей тут не по вкусу пришлось», — сказал он чуть позже, полистав дневник большим пальцем, так похожим на дедушкин. Если б Агнеш даже призналась, что прочитала дневник, то много видевший, умудренный жизнью странник скорее всего лишь пожал бы плечами. Но начать анализировать взаимоотношения родителей!.. Куда еще ее заведет странное настроение этого вечера? Они прошли остановку на площади Ирмы — ничего, она подождет автобуса на Баттяни. «Представляю, как сейчас нелегко вам жить с нею, — заговорил Халми, видя, что фраза насчет дневника остается без продолжения. — Я слышал, Пирошка тоже к вам переехала». Халми все, что так или иначе имело отношение к Агнеш, видел в каком-то теплом, располагающем свете. О студентках-медичках он не был особо высокого мнения, однако теперь даже о Марии говорил совсем по-другому, чем прежде; даже Йоланка, которую он знал по рассказам, в его глазах стала чем-то вроде выбирающегося из кокона, расправляющего крылышки мотылька, и Халми никогда не забывал расспросить про ее успехи в науках, про бабулю-назареянку, причем в словах его слышался искренний интерес. Однако Пирошка, несмотря на светлое воспоминание о прошлом вечере, так и осталась в его глазах воплощением чего-то чуждого, подозрительного, враждебного и не поддающегося исправлению, от чего нужно было во что бы то ни стало оберегать Агнеш. «Да… Если бы это зависело от меня, я бы тоже там не осталась, — добавила Агнеш, преодолев в себе небольшое сопротивление. — Хотела я перебраться с отцом к тете Фриде. Это он пожелал, чтобы я жила с матерью…» «Зачем я это говорю? — думала она в то же самое время. — Чтобы импонировать ему своей якобы принципиальностью? Или чтобы оправдаться, что вынуждена жить под одной крышей с двумя такими женщинами?» Однако непонятное ее состояние, как бы обретя вдруг самостоятельность, продолжало говорить ее языком: «Но я там все равно не останусь. Пусть отец не посмел меня взять с собой, я все равно оттуда уйду…» Решение это, принятое тем, кто говорил сейчас вместо нее, ей самой было внове. Ведь если б она в самом деле хотела уйти, она бы смогла это сделать. Вон и Мария звала ее жить с ней. Но если даже мысль эта возникла только сейчас, непродуманно, был в ней некий сладкий соблазн, особенно в эту минуту, когда она, под вывеской закрытой аптеки на углу улицы Баттяни, высказала ее с уважительным видом шагающему рядом мужчине.
Этот с благоговением выслушанный план Фери не мог ни поддержать чем-то реальным, ни оспорить в принципе, так что он лишь шел рядом с Агнеш, неритмично стуча ортопедической обувью, и ждал, положит ли следующая остановка конец их беседе. Агнеш, однако, чувствовала, что до сих пор говорила лишь какие-то неискренние, надуманные вещи и, если она сейчас попрощается с Фери, меж ними останется какая-то ложь; так они миновали, словно забыв про автобус, немое здание рынка. «Ваш отец, к счастью, смотрит на вещи довольно философски, — сказал наконец Халми. — Он понимает, что браки не могут быть лучше, чем общество, в котором их заключают». — «Вы с ним и об этом говорили?» — с удивлением повернулась к нему Агнеш. Она-то думала, кроме Тюкрёша, Советской России да бога Тенгри других тем у них нет. «В общих чертах. Когда он характеризовал довоенное венгерское общество. По его мнению, слишком уж много было у нас этих пьес с любовными треугольниками: на какой спектакль ни пойдешь, везде речь о том, изменяет ли женщина мужу. Жена, говорит, до сих пор поминает, как он после театра каждый раз настроение ей портил». Агнеш снова увидела отца с Халми, «в общих чертах», как уж это умеют мужчины, жалующихся друг другу на общество и обсасывающих со всех сторон знакомый пункт обвинения. «Пьесы Молнара, оперетты…» — ищет виновника отец. «Буржуазное общество», — соглашается с ним Фери Халми. И, словно мысли ее передались коллеге, тот действительно произнес: «В позднем буржуазном обществе супружеская измена и игра вокруг нее — то же самое, что при феодализме охота и поджог крестьянских дворов». — «В позднем буржуазном обществе? — вновь подняло голову в Агнеш оставшееся после нынешнего спора скверное чувство, пробужденное, пожалуй, именно этим словечком «позднее». — А вы можете представить общество, — возразила она тоном, в котором сквозили нотки раздражения, — где браки будут лучше?» Халми чуть-чуть отрезвил этот тон. С Агнеш сегодня что-то не так, какие-то в ней не те токи, и если неосторожно обращаться с ними, то ведь и молния может ударить. Но тем упрямее он высказывал то, что давно усвоил как убеждение. «Если женщины избавятся от своего положения содержанок, существ, стоящих где-то между человеком и домашним животным — эксплуатируемым домашним животным, как моя мать, или избалованной декоративной кошкой, как дамы из господского сословия…» — «Знаю, знаю, — прервала его Агнеш. — Каждая станет свободной, у каждой будет образование и специальность, как, скажем, у Марии и Ветеши. Ну а потом, благослови их хоть священник, хоть государство, хоть летнее небо, разве они не будут доставлять адские страдания друг другу? Не будут думать: мол, я заслужила лучшую участь, а брак меня обделил, украл мою молодость? Да измените вы социальные условия хоть сто раз — все будет напрасно, если не сделать что-то с этим безумием». — «Изменившиеся социальные условия, пусть не сразу, не на следующий день, но подскажут выход из этого безумия», — тихо, но твердо сказал Халми. «Люди жили уже в самых разных социальных условиях, причем каждый раз условия эти становились лучше, или по крайней мере считалось, что становятся лучше по сравнению с предыдущими. А непонимание между полами все росло. Вы думаете, двое неандертальцев, мужчина и женщина, бредущие в древнем лесу, были дальше друг от друга, чем мы с вами тут, на Главной улице? (Насмешка, с которой она это произнесла, относилась к давней встрече отца и матери на Главной улице.) А ведь вы самый близкий мой друг в целом университете», — добавила она быстро, почувствовав, каким уколом для Халми могут стать эти сказанные в горячности слова (которые словно и не с ее языка сорвались), если их как-нибудь не смягчить.
Халми опять какое-то время отвечал лишь синкопами гулких шагов. Они уже миновали третью автобусную остановку, после Ирмы и Баттяни пройдя площадь Корвин, но Агнеш и тут не остановилась (хотя как раз в момент мимо проехал полупустой автобус, только что привезший из Пешта театральную публику) этот, понимая, что нельзя сейчас вот так взять и уехать, ведь все, что она до сих пор говорила, было путано, несвязно, исходило словно бы не от нее, а от ее настроения и могло только отдалить их друг от друга. «Мне все-таки кажется, что это мои политические взгляды вывели вас из себя», — заговорил Халми тихо, с твердым намерением прояснить наконец, совместимы ли его убеждения с так сильно завладевшим им чувством. Агнеш всей кожей ощутила, как велика моральная решимость идущего рядом с ней человека, и это, словно сигнал смертельной опасности, заставляющий нас забыть о собственных бедах, побудило ее обратиться вниманием к спутнику. «Вовсе не политические взгляды. Я их считаю прекрасными, — поспешила Агнеш предупредить возможное предположение, что ее раздражают не взгляды Халми, а он сам как мужчина. — То есть что я, при чем тут взгляды! — быстро поправилась она, опасаясь, как бы он не воспринял ее слова буквально. — Я совсем их не знаю, могу только догадываться. Но мне нравится, что вы относитесь к ним всерьез, связываете с ними всю свою жизнь. Это сразу чувствуется, как, например, косточка в ягоде. Но именно потому я в таком споре, как нынешний, не стала бы их высказывать. Не то чтобы Колтаи нужно было бояться. Но в университете или где-нибудь еще их могут услышать другие уши, а вы не считаетесь с этим, высказываете свои взгляды, невзирая на обстоятельства». — «Взгляды на то и существуют, чтобы их высказывать», — сказал Халми. Его тронуло, что Агнеш — так ему показалось — тревожится за него, и он, как любой настоящий влюбленный, хотел, чтобы она не только о нем заботилась, но еще и чуть-чуть восхищалась его бесстрашием. Однако устами Агнеш говорила не забота и не страх за коллегу, вернее, если она в какой-то мере за него и боялась, то это была лишь некая оболочка, скрывавшая более глубокое недовольство, которое она, хотя и сама точно не знала, что это такое, хотела сейчас ему высказать. «Не забывайте, я вас уже видела, — точным женским чутьем нашла она, как осадить поднявшего голову несгибаемого героя, — когда вы по шею увязли в какой-то неприятной истории». — «Я выглядел таким жалким?» — спросил Халми, глядя на Агнеш с нескрываемым беспокойством.
С того дня, как она отдала ему зачетную книжку, они впервые говорили на эту тему. «Во всяком случае, довольно бледным и растерянным. Видно было, что вы не очень-то хорошо переносите такие волнения». — «Тут вы, видимо, правы», — ответил Халми, но в голосе его прозвучало: и к такому приходится привыкать. «Наверняка вы и тогда не смогли справиться со своими эмоциями». — «С эмоциями?» И он издал тот самый короткий смешок (хотя и уже в минорной тональности), как в тот момент, когда Колтаи произнес свою реплику. «Вот-вот, — обрадовалась про себя Агнеш сначала найденному слову «эмоции», затем этому знакомому смеху, — об этом я и хочу с ним поговорить». «Вы, конечно, имеете право спросить, что это была за история, — решился Халми, отодвинув доводы разума, выдать ей свою тайну. — Ведь в какой-то мере вы стали моей сообщницей. Собственно говоря, ничего особенного и не было, — сказал он с тайной гордостью. — Только чтобы вы знали, что это не болтовня, не эмоции. (Короткий смешок, уже более вялый, снова сорвался с его губ.) Деньги я должен был отнести семье арестованного революционера». — «А это что, запрещается?» — удивилась Агнеш. «Запрещается? — послышался тот же смешок, только теперь в нем звучала гордость. — Участвовать в Красной помощи?.. Начать с того, что эти деньги из-за границы пришли». — «Но ведь — родственники. Разве им нельзя помогать?» — стояла на своем, хотя и с более слабым удивлением, Агнеш. «Вы думаете, там, наверху (сказал он с нажимом), это рассматривают как благотворительность? Приход-де раздает беднякам филлеры. Это прежде всего показывает, к какой организации я принадлежу». — «Из-за этого у вас и в университете могли быть неприятности?» — «Неприятности? — гордо сказал Халми. — Меня бы тут же вышибли». — «И все-таки вы согласились? С таким трудом пробившись в университет?» — «У каждого есть какие-нибудь причины не соглашаться». — «Ваша мать так гордится сыном-врачом. Я от бабушки слышала». — «Вот ради них, столько вынесших, кто-то и должен браться за это». — «А не думали те, кто вам это поручил, — с опозданием испугалась Агнеш, — что вы для такого меньше всего подходите?» — «Из-за того, что я хромой?» — в первый раз прозвучало меж ними, с болью, немного смягченной гордостью, это слово. «Ну да. Спросят, кто принес». — «А такая примета запоминается довольно легко, — согласился он с коротким смешком. — Да, там это тоже малоприятное обстоятельство». — «Где там?» — «В полиции. Сами подумайте: не просто паршивый коммунист, а еще и хромой. Двойная радость садистам. Потому я и был таким пришибленным, когда вы меня увидели на улице Кёзтелек. Для таких вещей нужно долго закаляться, особенно воображение закалять».
Они не заметили, как перешли через мост. Поднимавшийся снизу запах воды и мягко колышущиеся на мелкой волне звезды лишь накладывались неощутимо на их состояние, незримо подсвечивая и взволнованное сострадание Агнеш, и упрямую гордость Халми; зрение, мозг их ничего этого не воспринимали. Агнеш с возрастающим уважением, которое заставило ее даже чуть-чуть приглушить шаги, шла рядом с Халми. Это была какая-то совсем иная жизнь, далекая от той среды, в которой ей, словно путнику, заблудившемуся в болоте, пришлось в последние месяцы брести, еле вытаскивая вязнущие ноги. Она представила, как Халми приходит куда-то, где ему передают деньги просто так, без всякой расписки, молчаливым жестом доверия. И он, со списком в кармане, который выдаст его в первый же момент, отправляется в путь по заученным адресам, взбирается по крутым лестницам на незнакомые этажи, не зная, где его ждет благодарность, а где — полицейские агенты. И если кого-нибудь из почтальонов схватят — рано или поздно это должно ведь произойти, — начнут распутывать сеть организации, то, будто спущенная петля на чулке, побегут и в конце концов обязательно настигнут его последствия, страшная расплата за прекрасные минуты самоотверженного порыва: полицейский автомобиль, допросы, побои… и безудержная жестокость, сметающая принятое у людей бережное, тактичное отношение к чужому увечью. Он стоит на углу улицы Кёзтелек, обманутый, брошенный даже коллегой, которому должен был отдать свою зачетную книжку — бессмысленный документ с внесенными туда оценками — «отлично», «весьма прилежен», — все еще связывающий его с избранным поприщем… А сейчас, после того, как он целый месяц скрывался где-то, узнав за это время если и не реальные орудия пыток, которыми пользуются в полицейском управлении, то, во всяком случае, «испанские сапоги» и раскаленные железные прутья, какими его пытала собственная фантазия, — сейчас он и не думает говорить: дескать, нет, извините, больше я не согласен, я честно выполнил ваше задание, но вижу, что это не для меня. Напротив, — и невинное его хвастовство ничуть не меняет сути дела — он готов закалять себя, приучая и к этим иным, новым мукам ради того, что требует от него Идея. И все же, сколь сильно за эти минуты — пока они шли мимо вздыбленных в небо пилонов моста, от будайских львов до пештских — ни вырос в ее глазах ковыляющий рядом юноша, Агнеш не отказалась от своего намерения высказать ему то, что думала, более того, словно бы именно это новое отношение и подсказывало ей, как это сделать.
«Я уж не говорю о том, — начала она, под небрежным пештским оборотом пряча свою взволнованность, — что за все это я вас уважаю. Теперь мне ясно, — сказала она, хотя вообще-то в ней бродили лишь смутные догадки, — что я ценила в вас раньше. Одно лишь мне неприятно: не что вы делаете, а как. То есть даже не как, ведь я об этом понятия не имею, а ваше душевное состояние». — «Душевное состояние?» — переспросил Халми с некоторым воинственным запалом. «Если уж человек посвятил свою жизнь таким благородным целям, то должен следить, чтобы делать это — не сердитесь — не из ненависти». — «А как?» — вырвался у Халми его сердитый, булькающий смешок. «Вот видите, хотя бы этот ваш смех, — горячо ухватилась Агнеш за представившийся повод (в этот момент она в самом деле была уверена, что именно этот смешок ей испортил весь вечер). — Несчастный Колтаи еще рта не успел раскрыть, а вы, всегда такой тактичный, уже издали вот этот самый звук. Словно пар вырвался из-под крышки». — «Значит, эмоции! — сказал Халми, успев подавить свой хриплый смешок, отчего тот превратился в какое-то икание. — Но что же должен делать несчастный пар, если вода кипит, а крышка закрыта? — на ходу посмотрел он в лицо Агнеш. — Снизу греют, сверху давят, а вам кажется бестактностью, если что-то вырвется из-под крышки», — «Да, в людях много оправданной злости, — не отступала Агнеш. — В вас, может быть, даже больше, чем в других. (И покраснела, услышав свои слова.) Вы сами ведь говорите, что вас обижали, — добавила она в свое оправдание. — Но как раз потому и надо стараться, чтобы действовать не из обиды. Вы же только и делаете, что подогреваете себя своими теориями, раздуваете в себе злость. Сами заставляете себя кипеть, чтобы прийти в нужное состояние». — «К сожалению, только себя, — пробормотал Халми. И вдруг взорвался: — А чем, скажите, двигать революцию, если не паром, если не приведенным в нужное состояние настроением народа? Святой водой, что ли? Для общественных потрясений нужна энергия, эмоции, как вы говорите. Откуда взять эту энергию, если не из голодных желудков? Не из обид? Не из моей хромоты, например?» — «Откуда взять? — спросила Агнеш, слегка теряя уверенность в своей правоте. — Есть более незаметная и более могучая энергия, чем ваш пар. Электричество, например». — «А где же та электростанция? В массах?» — «Да вот в вас, скажем. Только надо верить, как вы в действительности и верите, что боретесь во имя лучшей жизни, во имя прекрасного, а не потому, что вас унизили, и уж тем более не потому, что вы искусственно раздули, усилили свою обиду». — «Вы не знаете, что говорил Ленин о сознательности руководителей и стихийности руководимых. Четкая теория, ясные, как дважды два, законы истории — вот наше электричество». — «Да, но — по крайней мере у вас — старательно питаемая обида и непогрешимая теория образуют нехорошую смесь: высокомерие, презрение к людям. Нельзя любить людей, презирая их». — «Одних люблю, других презираю: как и положено». — «Да, но тут нельзя провести границу. Презрение просочится через нее». — «Что вы имеете в виду?» — «Предположим, вы — руководитель, они — руководимые. Тот электрический ток должен из вас исходить тихо и мощно, чтобы его хватило на всех». — «Даже на врагов?» — «Да, и на них». — «Возлюби врага своего, как самого себя?» — «Враг — не чудовище. Исходить надо из того — я, по крайней мере, это так понимаю, — что подлинные интересы людей совместимы. Несовместимы лишь интересы надуманные, для самого человека вредные. Врага тоже нужно не ненавидеть, а заставить его понять свои исконные интересы…» Халми шагал рядом с ней, несогласие чувствовалось даже в его молчании, и Агнеш встревожилась, не слишком ли далеко она зашла. «Простите меня, — обернулась она к нему, ласково улыбаясь. — Я совсем не хочу сочинять на ходу теории. Меня во всем этом интересуете только вы. Если вы взялись за такое трудное, неблагодарное дело, то делайте его с чистой душой. Помните про сульфид аммония в качественном анализе? Как посветлел от него творожистый осадок во втором классе!» — «В первом «Б», — поправил ее Халми и добавил немного спустя: — Только в меня еще никто не доливал сульфид аммония».
Дальше они шли почти молча. Ласковая улыбка Агнеш сгладила в Халми взъерошенность от спора, теперь он размышлял о том, что этот вечер дал ему как влюбленному. Во-первых, они обменялись друг с другом тайнами: он узнал, что Агнеш хочет уйти из дома, Агнеш же — почему он таким потерянным стоял тогда на углу улицы Кёзтелек. Да и сам спор их, хотя они немного повздорили, был чудесным: он показал, что Агнеш думает о нем, тревожится за него, хочет, чтобы он был более гармоничным. А что классовую борьбу она видит не так, как он? Для девушки из состоятельной семьи — ведь по воспитанию своему она относится к буржуазии — достаточно и того, что она вообще ее видит. Сильнее беспокоило его, не слишком ли он перед ней раскрылся. Не подумает ли она, когда стряхнет с себя влияние этого волшебного вечера: во что же это я впуталась? И главное, не перескажет ли весь этот разговор, как это принято у девушек, кому-нибудь из подруг, хотя бы этой курице Марии? Агнеш же размышляла над последней фразой Халми — о том, что в него еще не долили сульфид аммония. Не она ли должна стать этим сульфидом аммония? Если бы дружбы было достаточно, чтобы осветлить мутный, клубящийся осадок в чужой душе! Но Халми ждет от нее иного. И, так как надеяться ни на что не смеет, несчастлив. Прогулкой этой, своим уважением, тем, что вступила с ним в спор насчет его эмоций, не пообещала ли она ему между слов нечто такое, что не способна выполнить? Как все перепутано тут, во взаимоотношениях души и плоти! Тот, кого ты высоко ценишь, не влечет тебя как мужчина, а от того, кто влечет, нужно бежать, спасаться, как от стихийного бедствия. «Ну, здесь я обычно сажаю вас на трамвай, — сказала она на Октогоне, вспоминая первую их осеннюю прогулку. — Надеюсь, на поезд успеете…» Фери бросил взгляд на новые электрические часы на столбе. «Еще успею, — сказал он, хотя знал уже, что ему придется брести домой пешком, в темноте, по дороге между Дунаем и звездами, повторяя про себя слова Агнеш. — Вы отсюда как? На подземке?» — спросил он, когда рядом уже громыхал вагон шестого трамвая. Но когда Агнеш лишь молча кивнула головой, он не посмел навязываться.
Дома никого не было. Пирошка, видимо, после музыкального вечера сидела где-нибудь в кафе, мать же, по случаю дня рождения отца, развлекалась с Лацковичем (в последнее время она реже отсутствовала по вечерам). С гудящей от дум головой Агнеш разложила свою раскладушку, которая в комнатке для прислуги едва входила в промежуток между шкафом и столиком. Она чувствовала, что едва ли сумеет сейчас заснуть. «Почитать надо что-нибудь», — решила она. На ночном столике матери еще в детстве всегда лежал какой-нибудь роман (чаще всего в красном переплете): истории про бедных английских девушек, которые гувернантками попадают в Индию, где какой-нибудь майор колониальных войск, между прочим лорд, открывает сокровища их души. Надев ночную рубашку, она вошла в спальню; на этот раз рядом со снотворным лежала «Госпожа Бовари» — одно из двух классических произведений, из-за которых мать в нынешнем своем состоянии пристрастилась читать даже скучные описания. «Что ж, почитаем про непутевую аптекаршу», — подумала Агнеш и (хотя «Госпожу Бовари» она уже читала) взяла книгу с собой. Роман открылся в том месте, где заложила его мать (вместо закладки она имела обыкновение использовать какие-нибудь конверты, пригласительные билеты). «Бедный Фери, — подумала она, включая маленький ночник и поудобнее устраивая на подушке книгу в красном ребристом переплете, голову и полуобнаженную грудь. — Как невесело ему, должно быть, тащиться сейчас к Филаторской дамбе». И, уже переключаясь на перевод Золтана Амбруша[177], бросила взгляд на отложенную в сторону закладку. Это было сложенное вдвое письмо. Она невольно повернула его к себе. «Дорогая Ирма!..» Откуда знаком ей этот каллиграфический, ровный и тем не менее внушающий антипатию, какой-то самовлюбленный почерк? Когда она поворачивала письмо, чтобы взглянуть на подпись, внизу страницы глаза ее наткнулись на слова: «нашей маленькой докторше», «Все нашей маленькой докторше» — и на другой странице: «а на мое изобретение денег нет». И прежде чем дрожащей рукой отшвырнуть письмо, уловила еще одну ужасную фразу: «По крайней мере, вы бы и сами смогли привести в порядок зубы, чтобы избавиться…» Письмо лежало уже в захлопнутой книге, но сетчатка еще послала в мозг отпечатавшиеся на ней слова: «чтобы избавиться от запаха изо рта». Агнеш выскочила из постели и бегом отнесла книгу в спальню. Ужасно было бы, если бы мать вернулась сейчас и нашла книгу вместе с письмом у нее. Как могла она быть настолько неосторожной!
Выключив лампу, Агнеш, дрожа, забралась под одеяло. Она чувствовала: два десятка слов, выхваченные ею из письма, въедаются, словно горчичный газ, в ее память, и она никогда уже не сможет забыть их. Смысла их нельзя не понять. Совершенно ясно: борьба шла вокруг продажи квартиры. Мать медлит, сопротивляется, думая о будущем: квартиру она хочет отдать под амбулаторию дочери. Отсюда злоба на маленькую докторшу. Но что это за изобретение, для которого ему так нужны деньги? Уж не то ли самое, про которое он, еще ухаживая за Бёжике, пытался со сдержанно-горделивым, исполненным достоинства видом рассказывать и ей, Агнеш? Какой-то складной стол в футляре, который можно брать с собой на пикник, чтобы не обедать на траве, среди мусора. Агнеш тогда едва удержалась, чтобы не расхохотаться ему в лицо. Неужели он всерьез занимается этим столом? Или это лишь повод для вымогания денег?.. Но особенно глубоко уязвили ее — столь глубоко, что она не смела даже мысленно повторять их, — слова последнего предложения. Значит, вот до чего дошло! Как смеет он так нагло говорить матери в глаза! В детстве от материна шлафрока, когда та в минуты хорошего настроения бросалась ее обнимать, верно, порой исходил какой-то запах, который накладывался на ее — совсем иного характера — неприязнь к матери. Но сейчас, когда она так следит за собой! Ведь именно это вызвало у Агнеш первые подозрения: чуть ли не каждый день — парная. Конечно, мать она не целовала уже по меньшей мере год. И ей вдруг вспомнился отцовский дневник, предупреждение отца. Несчастная женщина: вся ее жизнь и любовь прошли меж двух таких писем.
Спустя пять минут заскрежетал ключ в двери: вернулась госпожа Кертес. Она расхаживала по квартире, включала и выключала свет, и эти тихие звуки непонятным каким-то образом говорили о прекрасно проведенном вечере, настроение которого она сохранила и принесла домой. Мать заглянула и к ней в комнатушку, прислушалась, не включая свет, дома ли Агнеш. «Я не сплю еще», — заставило Агнеш подать голос участие. «Ты так тихо лежишь, — зажгла свет госпожа Кертес, почувствовав расположение в этих словах. — Я уж думала, ты у отца осталась… Ну, как прошел день рождения?» — бросила она как бы между прочим. «Неплохо, — ответила Агнеш. — Были только Халми и один коллега отца». (Марию она предпочла не упоминать.) «А я вот «Нору» смотрела. Пусть будет и у меня какое-то развлечение». — «Ну и как?» — отозвалась Агнеш. «Ты ведь знаешь, я обожаю Варшани», — ответила мать. Она стала рассказывать про спектакль. Агнеш же лишь смотрела на нее грустными глазами, блеск в которых госпожа Кертес не могла разгадать. «Ну, спи. Видно, ты устала совсем», — шепнула она дочери, любуясь похорошевшим ее лицом, и погладила ее тонкими пальцами по волосам. Целовать ее она давно уже не решалась. Тогда Агнеш, как в детстве, приподнялась на подушке и, обняв мать за шею, полулежа, полусидя, поцеловала ее прямо в дурно пахнущий рот.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Как-то на лекции Веребея — уже перед самым перерывом — Агнеш, случайно оглянувшись, заметила наверху, среди тех, кому не досталось места, Халми; протиснувшись между коллегами, он оглядывал ряды. Халми не любил Веребея, а приемы его, очаровывавшие студентов, считал шарлатанством; была, вероятно, в его отношении к профессору и какая-то политическая подоплека (о которой Агнеш могла лишь догадываться; правда, сам Веребей помог ей найти разгадку, отозвавшись о верности принципам как о добродетели, присущей волам). Как бы то ни было, учиться Халми предпочел у другого хирурга, который, отчаявшись обогнать эффектного своего соперника, давно уж держался тихо и на первый план старался не лезть. Но во всяком случае, по мнению Халми, был прекрасным специалистом и порядочным человеком. Если Халми появился на лекции Веребея — об этом говорили и его ищущие глаза, — значит, он хотел видеть ее. Когда загремели аплодисменты, еще более восторженные, чем обычно, встревоженная Агнеш стала пробиваться наверх. «Что-нибудь случилось?» — спросила она, ища на лице коллеги, чуть скованно державшегося на неприятельской территории, следы ситуации, напоминающей встречу на улице Кёзтелек. «Нет, ничего, я только хотел вам сообщить кое-что…» Агнеш успокоилась; в глубоко упрятанных глазах Халми блестел не испуг, а скорее какая-то радость, даже гордость, с какой сообщают отрадное известие ничего не подозревающему другу. «В прошлый раз вы сказали, — начал он, когда из потока несущихся вниз, угрожающих его хромой ноге коллег они выбрались на солнце, — что хотите уйти из дома. Сейчас есть такая возможность».
Во взгляде Агнеш мелькнула некоторая растерянность. Она помнила, что в самом деле говорила об этом Халми, но она и тогда уже чувствовала, что желание это, хотя и не было ложью, родилось скорее из тогдашнего ее состояния, чем из настоящей решимости. «Какая-нибудь квартира?» — спросила она неуверенно. «Нет. Можно получить небольшую должность в одной столичной больнице, в филиале». — «В канцелярии?» Агнеш не могла даже предположить, чтобы Фери, который знал о ее неопытности, решился ее, третьекурсницу, рекомендовать на должность врача. «Нет, по медицинской линии, со всеми врачебными полномочиями», — серьезно ответил Халми, употребив одно из своих излюбленных выражений, употребляемых в таких случаях. «Не смешите меня, Фери, — попыталась Агнеш скрыть под улыбкой свой ужас. — Что это за полномочия, которые я смогу выполнять? Я до сих пор даже инъекций не делала». — «Это-то пустяки, — сказал Фери. — Научитесь за день. Там, конечно, есть два врача, вы должны будете заменять одного, который постарше, он там главный; его не будет на вечерних обходах и особенно на ночном дежурстве». — «Так вы это серьезно?» — спрашивала Агнеш все с большей тревогой, чувствуя уже, что не только Халми говорит вполне серьезно, но и ей всерьез нужно к этому относиться. «Не бойтесь, от вас не потребуют ничего такого, что вы, с вашими знаниями и добросовестностью, не могли бы сделать». — «А вы не преувеличиваете мои знания, а главное, присутствие духа? — снова спросила Агнеш, снисходительно улыбнувшись тому образу Агнеш, который жил у Фери под костистым его лбом. — Ведь там скорее присутствие духа понадобится, чем добросовестность. Представьте, если ночью что-то случится». — «Не такое это место, где можно совершить врачебную ошибку. — По вовсе не улыбчивому лицу Фери чувствовалось, что он любуется ее испугом, который он, конечно, связал с какой-нибудь высокой приписываемой ей добродетелью. — А вообще — посмотрите сами, денег с вас за это не спросят, а не понравится, всегда можете отказаться».
Они условились встретиться на другой день, в семь утра, у пригородных поездов на Восточном вокзале: филиал находился за городом, где-то около Цинкоты. Халми взялся ее проводить и все показать, а если она даст знак, что не может решиться, он же прикроет ее отступление. Со времени выпускных экзаменов едва ли был у Агнеш такой тревожный день. Ведь завтра утром, возможно, выяснится (это мучило ее с первого курса, особенно же в последнее время, когда они начали изучать клинические дисциплины), способна ли она — сдав сколько угодно экзаменов — стать настоящим врачом. Учеба ее на медфаке была до сих пор чем-то вроде экскурсии по музею, где она училась лишь узнавать выставленные препараты; даже на терапевтической практике между ней и больным находились, словно стекло витрины, глаза и присутствие ассистента; те несколько выслушиваний и простукиваний, что ей пришлось сделать, не создали никакой реальной связи между ее пальцами и телом больного, даже если на коже его и оставался кружок, выдавленный слишком сильно прижатым от волнения стетоскопом. Здесь же она сама может делать, и даже должна будет делать, обход, слушать — причем никто в это время за ней не будет присматривать — неохотно стучащее, готовое остановиться сердце, искать, как говорил Розенталь, взаимозависимость между накопленными в органах чувств наблюдениями и вычитанными в книгах симптомами. Ясно, такой случай, если на то не будет какой-то совершенно особой причины, нельзя упускать, как бы ей ни было страшно; эта мысль владела ее сознанием особенно прочно. Но вдруг преждевременное столкновение ее робких знаний и практики как раз и разрушит столь необходимую для врача веру? Целый день она представляла — представляла не себя даже, а какую-то отстраненную свою копию, — как в белом халате идет от койки к койке, набирает из ампулы кофеин или морфий и, оттянув складку кожи, вводит иглу в подставленную руку. Неужели и у нее за спиной будет стоять, держа лоток с инструментами, сиделка в белой наколке? Господи, только не это! Одна бы она еще как-нибудь справилась. Выбрала бы самого безобидного старичка из деревни или, еще лучше, больного, лежащего без сознания, если такой найдется, — с них бы и начала. Но эти все понимающие, насмешливо следящие за ее действиями глаза! Вечером, приехав домой, она взяла конспекты по диагностике, где для полноты картины было даже записано, как делать подкожные и внутривенные инъекции, и попыталась мысленно разучить описанные движения в их последовательности на собственных пальцах. Затем просмотрела сведения об измерителях кровяного давления: Реклингхаузена, Рива-Роччи. На практических занятиях по биологии она, правда, измеряла однажды давление прибором с циферблатом, но там ведь наверняка будет ртутный; ощупывая свою оголенную руку, она представляла, как наденет манжет, как начнет качать грушу, слушать в fossa cubiti[178] толчки крови. Последнее она попробовала и на практике, ведь стетоскоп у нее уже был; но как ее красное от смущения ухо различит переход от немоты сдавленного сосуда к первому тихому удару пульса?
Однако утром, в пригородном поезде, она не стала терзать своими тревогами бедного Халми, который, с его пристрастным к ней отношением, так легкомысленно за нее поручился. В конце концов, медицина — такое поприще, на котором необходимо самообладание, вплоть до мошеннического спокойствия. Что ж, начнем с того, что спрячем перед другим свой страх… Но, не в силах отвлечься мыслями от того, что ее ожидало, она стала расспрашивать Фери про «отделение»: почему оно так далеко находится — и почему все-таки филиал? Халми, как всегда, если перед ним ставили вопрос с социальным подтекстом, оказался осведомленнее, чем можно было думать, и сам постарался ответить как можно точнее. Какая-то из баронесс Подманицких завещала «филиал», назло наследникам, на благотворительные цели. Баронесса умерла от рака легких, а поскольку племянницы, которые должны были получить наследство, интересовались ее здоровьем скорее с нетерпением, чем с нежной заботливостью, то имение возле Цинкоты, представляющее собой жалкий остаток былых огромных владений, досталось неизлечимым больным, брошенным близкими; в завещании баронесса распорядилась, чтобы дом, в котором она мучилась, отдан был умирающим, земля же, распроданная по участкам, обеспечила капитал для содержания больницы. Разбитая на участки земля еще до войны превратилась в сады с виллами; капитал был вложен в военный заем и как таковой очень скоро стал кучей никому не нужных бумаг. Сама же усадьба, в которой во время войны обучали новобранцев, осталась, и ее, чтобы как-то использовать, отдали больнице на улице Кун. Это была самая нищая в Будапеште больница, вроде Святого Роха или старой больницы Святого Яноша, только еще и располагалась в пригороде, так что попадали туда совсем уж неимущие больные. А тех, кого невозможно было ни вылечить, ни выставить из больницы, везли сюда, в Цинкоту. «А что мой новый шеф? — вернула Агнеш коллегу, погрузившегося в проблемы медицинского обеспечения бедных, к своим заботам. — Он там в каком качестве?» — «В качестве отбывающего наказание, — вырвался у Халми осужденный смешок. — Он у Корани был ассистентом. Один из самых способных молодых врачей. Старику пришлось пустить в ход весь свой авторитет, чтобы с ним не расправились после Коммуны. Так он попал на улицу Кун, а оттуда — на «свалку». (Агнеш впервые услышала это жуткое в своей простоте название ее нового места работы.) Собственно, по обязанностям он главный врач, но по должности все еще исполняющий обязанности; официальный его статус — младший врач, он и сам так себя называет. Единственное, что ему разрешили, — жениться». — «А это такой большой подарок?» — засмеялась Агнеш, вспомнив Колтаи и разочарованную Марию. Сама она, правда, не разочаровывалась еще, как Мария, но все-таки в ней целый день шевелилось некоторое беспокойство: не станет ли новый начальник приставать к ней? (Правда, Халми тогда не рекомендовал бы ее туда.) Может быть, это какой-нибудь интересный человек? (Но каким может быть человек, который на равных дружит с Халми?) То, что он женат, в общем-то, хорошо: это исключит всякие глупые девчоночьи проблемы. «Довольно большой, — сказал Халми. — Младшие врачи и помощники в больницах, как вы, может быть, знаете, обречены на целибат[179]». — «Чтобы на ночь не сбегали домой? Потому меня и берут туда, чтобы исполняющий обязанности директора мог спать с женой… А вы его откуда, собственно, знаете?» — вдруг спросила она; то, что врач женат, вызвало в ней новую ассоциацию, заставив связать наказание шефа с Красной помощью, к которой был причастен Халми. Но Халми от ответа уклонился, сказав лишь, что врач принимает по вечерам в поликлинике, там они и познакомились.
Усадьба, на краю дачного поселка, куда они вошли через калитку, поразила Агнеш полным несоответствием тому, что она ожидала увидеть. Уже сам поселок, заселенный главным образом служащими, выглядел так, словно тут решили увековечить последствия бомбежки: меж чистенькими, чинными виллами в аккуратных садах стояли во множестве неоштукатуренные, но частично уже заселенные дома; рядом с ними торчали недостроенные с начала войны развалины: у хозяев, видно, с тех пор так и не появилась возможность прикрыть их от ливней хотя бы несколькими листами толя. В конце улицы, за последним рядом вилл возвышалась осыпающаяся, поросшая конским щавелем каменная стена с закрытыми широкими воротами, над воротами — облупленный герб, слева — калитка из трухлявых досок; в нее они и вошли. На стене, кроме номера, не было никакой вывески или таблички, которая сообщала бы посетителю, что он входит на территорию медицинского учреждения. Больных сюда привозили на карете «скорой помощи», посетителей же было не так много, чтобы их посчитали необходимым специально о чем-либо информировать. Сама больница стояла недалеко от ворот. Когда-то, наверное, перед главным входом располагалась цветочная клумба, с двух сторон к нему вел широкой дугой парадный въезд для подкатывающих экипажей; теперь же к дверям во флигели и на террасу не было даже ступенек; непросто, видно, было туда поднимать носилки. Агнеш, хотя уже знала, что в здании когда-то жила баронесса, не ожидала, что отделение или, как называл его Халми, дом окажется настоящей дворянской усадьбой; пусть и одноэтажный, не очень просторный, с серыми, потерявшими цвет деревянными стенами и черепицей, он все-таки представлял собой то, что в Тюкрёше, бывшем дворянском гнезде, величали замком, хотя привычные для таких дворянских гнезд колонны при входе с треугольным фронтоном над ними давно разрушились или кем-то были разрушены. «Неоклассицизм», — проснулся в Агнеш прежний искусствовед, и она не могла понять, стало ли это строение — оттого, что ничем не связанные в ее сознании понятия «больница» и «замок» так неожиданно слились воедино, — более дружелюбным, чем она представляла, или, напротив, более призрачным, даже зловещим. Двор скорее настраивал на второе. Над крышей такой усадьбы должны простирать ветви огромные старые липы, а за нею, в парке, посаженные меж вязами экзотические деревья должны посылать в открытые окна мелодичные трели дроздов. Однако вокруг больницы — не только перед фасадом, но, насколько можно было судить, и за нею — все было голо; старые пни с дикими побегами на них выдавали причину такого опустошения: в годы войны, когда не хватало топлива, и во время революции мерзнущая округа, видно, взяла топоры и вырубила деревья. Вокруг дома — безлюдье; лишь одиноко стоящее возле стены кресло-коляска собирало лучи утреннего солнышка на всклокоченную седую голову какой-то женщины, потерявшейся в одеялах, да старик в полосатом халате (халат этот был первым признаком, что они попали в больницу) волочил туда же, к стене, к повернувшейся навстречу его усилиям старухе, парализованную правую половину тела и табуретку: ставил табуретку перед собой и, опершись на нее, скособочившись, передвигал ноги, затем повторял все сначала. Мужчина тоже был сед и, как свидетельствовал болтающийся на нем халат, невообразимо худ.
Бьющий в нос запах окончательно убеждал, что ты оказался в больнице. Справа от входа стояла будка привратника, служившая, как показывала складная кровать, одновременно и жильем сидящему за столиком пожилому мужчине; навечно застывшее у него на лице угрюмое выражение не могли смягчить даже два утренних удовольствия: развернутая газета и накрошенная в кофе булка; услышав шаги и повернувшись к вошедшим, он придал лицу особенную суровость, заведомо готовя один из возможных окриков: «Вы к кому?», «Посещения нет» и «Господа врачи заняты». «А господин главврач Балла пришел уже?» — опередил его Халми с той твердостью в голосе, которая у вынесших много обид, но сильных душою людей служит им панцирем против всего мира. Привратник помолчал с минуту, изучая их, но решительный тон вопроса и некоторое напряжение собственной памяти (в которой он откладывал немногочисленных посетителей, как полицейская ищейка — запахи) убедили его, что хромой молодой человек здесь бывал уже и относится, видимо, к низшему слою той категории людей, которую, как пользующуюся расположением местной власти, следует пропускать. «У себя», — буркнул привратник и, подняв незримый шлагбаум, поднялся и сам и стал смотреть им вслед, чтобы убедиться, действительно ли бывал здесь хромой и знает ли, в какое крыло здания надо повернуть, взойдя по ступенькам. Халми знал; однако в дверь, на которой висела табличка с надписью: «Младший врач», они стучались напрасно. Халми, оставив Агнеш, двинулся в темноту коридора. Там от промелькнувшей белой наколки он узнал, что господин доктор в малой операционной, вернулся и повлек Агнеш в коридор, освещенный лишь в конце небольшим окошком. «Прошу», — сказала сиделка и, открывая дверь, бросила пристальный взгляд — не на Халми, которого, очевидно, знала (она даже имени его не спросила, сообщая о нем доктору), а на девушку, вышедшую из темноты на льющийся из дверей свет. Это была небольшая черноволосая женщина, довольно привлекательная, но с суровым, отчужденным лицом.
«Малую операционную», которая называлась так не потому, что имелась другая, «большая», а потому, что она в самом деле была крохотной (должно быть, когда-то здесь жила гувернантка), можно было с таким же успехом звать и лабораторией: в ней, кроме стеклянного шкафчика (где валялось несколько порыжевших от йода зондов, пинцетов, шприцов) и операционного стола, необходимость в котором, как выяснилось позже, объяснялась скорее беспомощностью больных, чем серьезностью врачебного вмешательства, был и лабораторный стол с различными склянками и штативами для пробирок. Помещение, особенно после того, что Агнеш видела в клинике, большого доверия не внушало; взгляд невольно бежал из него к солнечному квадрату на полу и к чугунным листьям на оконной решетке. На единственном стуле, спиной к вошедшим, сидел мужчина, держа рукой возле шеи поднятую на спине рубаху. Другой мужчина, в белом халате, со шприцем в одной руке и смоченной йодом ваткой в другой, собрался что-то делать с этой голой спиной; он бросил в их сторону быстрый взгляд и кивнул, дескать, прошу, входите; затем отвернулся к терпеливо дожидающейся спине, указательным пальцем провел по торчащим позвонкам поясницы, намазал йодом найденное место, еще раз дотронулся до него пальцем и вдруг решительно вонзил иглу. Агнеш, хотя никогда еще такого не видела, сообразила, что стала свидетельницей поясничной пункции. «Неужто и это мне придется когда-нибудь делать?» — подумала она с почтительным ужасом. Хотя во время учебы она несколько раз читала про пункцию, однако даже представить себе не могла, как она попала бы иглой в канал между вторым и третьим поясничным позвонками. Однако доктор попал, и после того, как он немного пошевелил иглу, в пробирку, которую подставила сиделка, пошла, не каплями даже, а чуть ли не струей, загадочная жидкость — ликвор, которую ей до сих пор (поскольку это при вскрытии невозможно) не приходилось видеть. Место укола протерли, заклеили, больной встал, чуть-чуть даже поклонился и вышел. «Видно, тут не одни безнадежные», — промелькнуло в голове у Агнеш. Это был крепкий мужчина средних лет; лишь в глазах его, когда он, уходя, скользнул по ним взглядом, стояла какая-то странная отрешенность. Все четверо молча ждали, пока он выйдет. «Довольно много вышло ликвора», — заметил Халми, прежде чем представлять Агнеш. «Опухоль головного мозга», — ответил Балла, бросая иглу в маленький стерилизатор.
Агнеш лишь сейчас рассмотрела его как следует. Он был высок и сухощав. «Как бедуин», — успела подумать она за те полминуты, пока он вытирал руки; он повернулся к ней, она покраснела немного. На бедуина его делали похожим не столько густые, как войлок, волосы и тонкий, острый профиль, сколько написанная на лице молчаливость и заранее отвергающий все попытки общения взгляд, под которым каждый был волен угадывать, что хотел: высокомерие, оскорбленное самолюбие, замкнутость или равнодушие. «Значит, это вы?» — сказал он, кладя полотенце, и протянул ей руку. В то же время он бросил косой взгляд на сиделку, которая неподвижно стояла, держа в руках две пробирки с ликвором, и смотрела на них. «Может, пойдем ко мне? — повернулся он к Халми, словно приглашение было обращено лишь к нему. — Там будет удобнее разговаривать». Агнеш, выходя, обернулась, чтобы по крайней мере кивком попрощаться с так и не представленной ей женщиной, но та, по-своему поняв косой взгляд или слова «будет удобнее разговаривать», уже что-то делала на лабораторном столе, обратив к ним молчаливую спину.
Кабинет младшего врача был не больше операционной (он, видимо, тоже когда-то служил жильем для чистой прислуги или учебной комнатой для давно уже ставшего прахом отпрыска Подманицких), но относительно хорошая обстановка, льющийся в не так давно мытое окно свет, сверкающая чистотой мебель делали его немного просторнее. «Халми мне говорил, вы хотели бы после лекций сюда приезжать, — начал Балла, садясь за письменный стол и предлагая им кресла. — Даже, может быть, переселиться сюда, чтобы вместо меня обеспечить ночное дежурство в одном отделении», — взглянул он на Агнеш: знакома ли та с условиями. Агнеш только кивнула. «Это дежурство не бог весть какое серьезное, сиделка в основном сделает, что нужно. Но все же может так получиться, что раза два-три за ночь придется встать». Он произнес это с вопросительной интонацией: приняла ли Агнеш к сведению все эти обстоятельства? Агнеш, хотя ужаснулась от мысли, что от нее может что-то потребоваться там, где не хватит опыта у бывалой сиделки, опять лишь кивнула. «Место у нас тут не слишком веселое, — продолжал Балла, удовлетворившись ее кивками. — Но для начинающего врача, чтобы немного войти в курс дела, просто прекрасное». — «Но ведь я только на третьем курсе», — сказала Агнеш, краснея. «Начинающий врач» — это прозвучало довольно-таки подозрительно; она даже испугалась, не представил ли ее Фери как свою сокурсницу, без пяти минут выпускницу. Бедуин опять позволил себе нечто вроде мимолетной улыбки, шевельнув углами губ. «Да, коллега Халми сказал, что у вас на этот счет есть некоторая тревога. К сожалению, мы тут не занимаемся ничем таким, чему любой разумный человек не смог бы научиться за две недели. Как я сказал, — обернулся он к Халми, — врачебной ошибки тут нельзя совершить».
Поскольку Балла смотрел на Халми, могла повернуться к нему и Агнеш. Аргумент этот она уже слышала, и слышала именно от Халми; теперь, застигнутый на месте преступления, он сконфуженно улыбался. То, что такой упрямый, не признающий никаких авторитетов человек, как Халми, повторяет слова Баллы, будто свои, в глазах Агнеш наполнило молчание Баллы еще большей суггестивной силой. «Коллега Халми о вас рассказывал только хорошее, и это абсолютная гарантия для меня», — серьезно добавил он и на мгновение, как фотограф, поднял застилающую его глаза сумрачную пелену, бросив на Агнеш острый, проникающий до самых глубин взгляд. «Ох, этот Фери! — хотела было запротестовать Агнеш. — Он преувеличивает мои способности». Но этот взгляд выдал нечто такое, что никак нельзя было парировать таким церемонным или тем более кокетливым возражением. «Что мы можем вам предоставить? Очень немного. Питание, разумеется, будет, деньги на карманные расходы вы тоже получите». — «О!» — начала было Агнеш. «Мне вполне достаточно, — хотела она продолжить, — если я смогу здесь учиться». Но для Баллы этого «О!» было достаточно. «Единственная проблема — с жильем. Дом очень маленький, а нам приходится здесь держать отдельную кухню, повариху, уборщицу. Сестра Виктория свою комнату считает клаузурой[180]; крохотную часовню рядом с ней не рекомендуется, — посмотрел он на Халми, — трогать. Пока что я мог бы — хотя там и обосновалась сейчас повариха — поместить вас в комнате у сиделки». — «Это та сестра, которую я видела в операционной?» — неуверенно спросила Агнеш. Было в той женщине что-то враждебное; к тому же она с детства, если не считать Бёжике, никогда не спала с чужими. Но она не успела даже осмыслить свои сомнения — Балла шел уже дальше. «Проще всего, если на ночь вы будете устраиваться здесь. Тут и книги есть, — показал он на полку. — К сожалению, дома пока некуда ставить», — повернулся он к Халми с объяснением. Агнеш тоже с недоумением посмотрела на Халми. Как, чтоб она жила в комнате мужчины? Ведь у него есть ключ от двери, за которой она будет спать раздетой. Однако Халми не только не нашел в этом ничего страшного, но даже явно обрадовался: «Если господин доктор согласен, то лучшего и придумать нельзя». Агнеш, колеблясь, смотрела то на него, то на Баллу… Молодожен… Если было бы хоть слабое опасение, Халми вряд ли радовался бы так. Но она столько всего слышала о больничных нравах. «Я с четырех вечера до девяти утра никогда здесь не бываю», — заметил Балла; в его голосе не было и тени намека на то, что он видит причину ее колебаний. «Ну что ж, посмотрим, где я буду меньше мешать», — сказала наконец Агнеш. Правда, она все еще не пришла в себя от ужаса перед тем, за что она берется; страх подсказывал ей, что вопрос о комнате был бы удобным предлогом для отступления (ей нужно учиться, а для этого требуется какой-то, пусть самый крохотный, но отдельный угол). Но чувство, что испытание, которое встанет здесь перед ней, обязательно надо пройти, было сильнее всех ее страхов.
Они условились, что за сегодняшний день Агнеш уладит самые неотложные свои дела, а завтра в четыре будет здесь и останется на ночь. Балла дождется ее, они вместе сделают вечерний обход. Она познакомится с больными, узнает свои обязанности; Агнеш заставила его пообещать, что, если она не подойдет, ей скажут об этом как можно раньше и совершенно честно. Балла, проводив их за дверь кабинета, направился в другое крыло. «Не хотите взглянуть на свое будущее отделение?» — повернулся он к Агнеш с тем кратким просветлением на лице, которое у него означало веселое настроение. Через открытую дверь Агнеш увидела довольно большую палату, в которой не так, как в клинике, а почти вплотную, так что меж ними едва можно было протиснуться, стояли койки. Окна смотрели во двор, через который они проходили (лежачие больные могли целый день смотреть через решетку на бурьян, выросший на стене); палата находилась на южной стороне дома и потому была гораздо светлее, чем все помещения, которые успела увидеть Агнеш. В лучах заглядывающего в палату солнца, на почти сливающемся в сплошную белизну постельном белье Агнеш разглядела восемь или десять старушечьих лиц: одни изжелта-белые, другие сине-красные; некоторые спали, другие лежали в забытьи. У окна лежала толстая краснолицая тетка с взлохмаченной головой, напоминавшая какую-нибудь торговку с площади Гараи; она что-то беспрерывно бормотала. Большинство повернуло головы на звук открывающейся двери; к вошедшим с любопытством обратились блекло-голубые или горячечно-темные ввалившиеся глаза. «Там тоже лежат, — показал Балла направо, где между двух коек был проход, ведущий в соседнее помещение. — Все с це-эр[181]», — добавил он вполголоса, повернувшись к палате спиной.
Звук открывшейся двери услышан был, видимо, и в соседней палате: из обиталища бурно растущих клеток, столько раз виденных Агнеш на анатомическом столе, быстрым, бесшумным шагом, с тихим бренчанием четок появилась монахиня в большом, словно парус, крахмальном чепце. «Вы очень кстати, сестра Виктория! — с подчеркнутой почтительностью сказал Балла. — По крайней мере, представлю вам нашу новую сотрудницу». Агнеш взглянула в привыкшие к улыбке глаза за блестящим стеклом очков и подумала, что если б была католичкой, то могла бы уже сейчас, одним лишь приветствием, завоевать симпатию этой старухи. Но не станет же она перед Баллой, Халми и главным образом перед самою собой говорить «слава Иисусу». Да и принята ли эта формула при знакомстве? Так что она, по-девчоночьи хихикнув, лишь назвала себя, и коленки ее обозначили что-то вроде того смущенного книксена, с каким они приветствовали преподавательницу в гимназии. Руку подать она не посмела: у нее шевельнулось какое-то воспоминание, что с монахинями не полагается здороваться за руку. «Сестра Виктория, — назвала та свое имя, тоже не протянув руки; лишь много видавшие старые глаза ее над приоткрывшимся в улыбке ртом дополнили полученное во время приветствия впечатление. — Она и будет нашей помощницей? — сказала она все с той же улыбкой, глядя на Баллу. — Помощь очень кстати, особенно господину доктору». — «Боюсь, что пока от меня будет больше помех, — попробовала Агнеш подстроить свое беспокойство к тому приговору, который, казалось ей, светился в серых глазах монахини, — чем настоящей помощи». — «Наша маленькая докторша очень скромна, — сказала та, употребив выражение Лацковича. — Тем больше оснований надеяться, что дела пойдут хорошо».
Этим процедура знакомства и ограничилась. Сестра Виктория в своей сдержанной, чуть суховатой, но при этом вполне самоуверенной манере отчиталась в том, что она сделала; никаких замечаний ее рассказ не вызвал. Агнеш тем временем еще раз окинула взглядом палату — и вскоре они уже были во дворе. Старик-привратник, словно зная уже, какую важную метаморфозу прошла за это недолгое время юная посетительница в коротком пальто и вязаной шапочке, поднялся от своего стола для подобострастного приветствия, сгруппировав морщины на лице в концентрические круги, долженствующие выражать верноподданническое отношение к начальству; когда Агнеш обернулась, чтобы бросить взгляд на свое новое обиталище, он все еще стоял в калитке, смотря им вслед. Женская интуиция уже помогла Агнеш разобраться с усадьбой: слева, в бывших господских покоях, находились палаты женщин, справа — мужчин (седая голова старика, что встретился им по дороге сюда, сейчас выглядывала из-за решетки в правом крыле); в конце продольного коридора налево были комнаты младшего персонала, направо — кабинеты врачей. Чутье кое-что подсказало ей и о тех троих людях, с которыми ей предстоит теперь жить: с Баллой надо будет держаться, примеряясь к его немногословности (щадя раны, нанесенные кем-то его самолюбию?), с сестрой Викторией — с девчоночьей почтительностью, словно рассчитывая получить от нее образок, неприязнь, которую она ощутила в сиделке, похожей на цыганку, предстояло смягчить дружелюбием. Обо всем этом она специально не думала: ее позицию определял инстинкт, — но то, как она будет держаться, расхаживая в белом халате меж сдвинутыми чуть не вплотную койками, оставалось тревожно сжимающей сердце тайной. «Той парочки во дворе уже нет, — обращаясь к Халми, сказала она, так как твердо решила, что больше не выдаст своего страха. — Старухи в коляске и парализованного старика», — пояснила она, видя, что Халми не понимает, о чем она говорит, — вполне возможно, он их вообще не заметил.
Итак, судьба ее была решена, оставалось сообщить об этом заинтересованным лицам: бабуле и матери. В квартире на улице Розмаринг дома была одна Йоланка. Агнеш сразу же бросилось в глаза, что говорит она сегодня гораздо тише и голову повесила сильнее, чем раньше; веки распухли и покраснели. «Случилось что-нибудь? — спросила Агнеш, когда девочка странным, гнусавым от слез голосом начала рассказывать «Два пажа Сонди»[182]. — Попало тебе за что-то?» — повторила она спустя строфу, когда плаксивый голос и после неуверенного «нет» не стал чище. «Нет-нет», — уже более убежденно запротестовала Йоланка. «Бабуля тебя отругала?» — «Не ругала она меня». И девочка бросила на Агнеш косой взгляд, в котором из-под страдания словно глянул немой укор. «А что же тогда с тобой?» — продолжала допытываться Агнеш. «Ничего», — сказала Йоланка, немного взяв себя в руки, и, чтобы избавиться от дальнейших вопросов, потянулась за аккуратно обернутой тетрадкой по математике. «Наверное, говорить запретили», — решила Агнеш. Но загадочная история не давала ей покоя. Чего-чего, а доверия Йоланки — пусть это была пока лишь ее единственная ощутимая победа — она добилась. На прошлой неделе та призналась ей в первых месячных. У бедняги были довольно сильные боли: Агнеш обратила на это внимание потому, что девочка то и дело болезненно кривилась и хваталась за живот. Дело уже шло к концу, но на заячьей ее мордашке под слезами теперь ощущалось какое-то новое, незнакомое страдание. Неужели ее отругали за то, что она первой сказала об этом ей? Агнеш иногда чувствовала в бабуле некоторую ревнивую настороженность к себе.
К концу занятий пришла и бабуля. То, как она ходила по комнате с торжественно-неприступным выражением на лице, за которым чувствовались накопившиеся, подступающие к горлу слова, укрепило Агнеш в ее подозрениях. «Ну нет, я не позволю, чтобы мне делали выговор, — нахмурилась Агнеш. — За то, что я заставила развернуться этого несчастного ежика». Но она тут же устыдилась своего возмущения, сообразив, что сейчас, когда репетиторство ей лишь мешает, небольшая ссора будет даже кстати. Хотя работа эта была совсем не такой уж плохой: бабуля ценила ее сверх всякой меры и даже то, чего ей удалось добиться через учителей, особенно через классную руководительницу, да и некоторый авторитет, приобретенный внучкой в глазах одноклассниц, приписывала педагогическому таланту Агнеш. У нее, конечно, и в мыслях не было взять и бросить их прямо сейчас, когда до конца учебного года оставалось всего полтора-два месяца. Вот только время занятий придется им изменить. «Что такое с Йоланкой? — спросила она, едва девочка, как всегда, когда у бабули был какой-то разговор к Агнеш, покорно ушла в кухню. — Я вижу, у нее все глаза выплаканы». — «По правде говоря, не одна она, бедняжечка, приняла это близко к сердцу, я тоже, — начала бабуля, и даже обычная назарейская сладость не могла скрыть переполняющей ее обиды. — Я согласна, что вы для Йоланки много сделали. У девочки просто головка другая стала, с тех пор как вы ее учите. Я что, я ведь только бедная прислуга, — вложила она в последнее слово всю свою обиду, — но, ей-богу, не пожалела бы денег, платила бы и сверх нынешнего. Да ведь дитя не плачет — мать не разумеет… сами знаете, Агнешке». — «Но я, насколько помню, никому на плату не жаловалась», — снова нахмурила Агнеш лоб, подозревая уже, что тут, видно, не обошлось без Марии, ведь та все время — особенно после того, как к ней приезжала мать, — подбивала ее требовать прибавки, да и бабуля, видно, все же пробовала как-то установить соответствие между своей совестью и сарвашскими посылками. «Это-то нам обеим как раз и обидно, что не жаловались, а взяли и решили своей судьбой по-иному распорядиться, — стал от душевной боли напевным голос бабули. — Я ведь понимаю: если учишься на врача, там больше пользы…» — «Где — там? — спросила Агнеш и тут же сообразила где. — Откуда вы знаете?» — изумленно вырвалось у нее. «Да уж знаем, — лаконично сказала бабуля. — До сих пор ничего, не брезговали и с моей замарашкой уроки зубрить…» Последние слова проливали свет на источник, откуда к бабуле пришла информация: Мария, считая Йоланку существом совершенно никудышным, и в усилиях Агнеш видела лишь бесполезную трату времени. Должно быть, Мария зачем-то заскочила домой и тут же, по горячим следам, поведала о блистательных перспективах, открывающихся перед подругой, заодно отозвавшись с презрением о репетиторстве. Непонятно было лишь, откуда она-то об этом узнала. Они даже не виделись с ней сегодня. «Что ж, если вы все уже знаете, тем лучше, — постаралась Агнеш подавить в голосе досаду. — Я и сама не собиралась это скрывать. Тем более что надо договориться, как организовать теперь наши занятия». — «Занятия? — отразило сдержанное крестьянское лицо самую большую смену настроений, на какую только было способно. — Так вы нас, несчастных, не бросите?» — «Зачем же мне вас бросать? Осталось-то всего несколько недель. Только занятия придется проводить пораньше».
«Йоланка, поди сюда, — вместо ответа крикнула с триумфальной сладостью бабуля. — Тетя Мария неправильно сказала, — посмотрела она на девочку, которой не удалось второпях вытереть слезы кухонной занавеской, в которую она уткнула голову. — Тетя Агнеш и дальше приходить будет, заниматься с тобой…» Йоланка смотрела то на бабулю, то на Агнеш, и катящиеся по ее щекам слезы от появившейся на лице улыбки вдруг превратились в радужные шарики. «Так ты поэтому плакала?» — растроганно гладила Агнеш ее головенку. Та же нагнулась и, не обращая внимания на бабулю, принялась, умывая слезами, целовать руку Агнеш — первую в ее маленькой безрадостной жизни руку, с которой она попала в такие близкие отношения. Чтобы счастье было совсем уж полным, в этот момент в комнату влетела Мария. Отсутствие Агнеш на лекции Веребея (а может быть, и что-то еще, о чем она не сказала) настолько ее удручило и настроило против всего высшего образования, что она тут же отправилась домой — и в трамвае оказалась рядом с Халми, который зачем-то спешил в поликлинику. «Вот уж, ей-богу, не думала, что ты настолько святая», — сказала она в присутствии бабули, когда прояснилась ее ошибка. И у Агнеш, даже когда они остались вдвоем, не хватило духу упрекать ее за бестолковость: ведь не будь Мария такой болтливой, Агнеш, может быть, никогда не узнала бы, как ее здесь любят.
Когда, стиснутая с двух сторон Марией и Йоланкой (первая шепотом сообщала ей новые перипетии событий, связанных с Ветеши, вторая, как новый трофей своего сердца, гладила ее руку), Агнеш шла домой, мысли о завтрашнем дежурстве, мучившие ее с самого утра, постепенно вытеснил в ее душе предстоящий разговор с матерью. Успокоить мать будет куда труднее, чем бабулю, которая от облегчения, что ее Йоланка на зыбкой дорожке к учительским курсам не останется без поводыря, согласилась даже на то, чтобы два из пяти занятий они проводили по воскресеньям. С тех пор как Агнеш случайно увидела то письмо, отношения у них с матерью стали немного лучше, Агнеш выказывала к ней все больше сочувствия, как бы авансом пытаясь уравновесить страдания, ожидающие мать в недалеком будущем. Пирошка, которая в паузах светской жизни любила проводить время в праздных разговорах, весьма помогала (во-первых, как способствующее общению, во-вторых, как подвергаемое обсуждению третье лицо) созданию удобных ситуаций, когда участие это могло пробиться сквозь существующий между ними лед и выразиться в словах и взглядах, напоминавших о том, что они все-таки как-никак мать и дочь. У госпожи Кертес Пирошка вызывала противоречивые чувства. Ее веселый характер и легкое отношение к морали окружали госпожу Кертес неким теплым биологическим илом, в котором ее склонный к истерике, подозрительный нрав мог немного расслабиться; однако некоторая вульгарность, крестьянская грубоватость Пирошки, особенно же иные ее привычки вызывали у госпожи Кертес презрение и — все чаще — протест. То, что жиличка, как спустя день-два установила госпожа Кертес, представляет собой существо довольно примитивное, она бы еще как-нибудь снесла, но привычка сыпать пепел на скатерть и курить даже в постели (Агнеш пришлось посмотреть на крохотную дырку, прожженную в наволочке) пробуждала в ее любящей порядок душе всяческие кошмары. Не нравилось ей и то, что Пирошку постоянно провожают домой мужчины: кроме жениха — таков был официальный статус аптекаря, — был еще какой-то женатый учитель музыки, время от времени появлялся некий лохматый молокосос; все они под предлогом чашечки кофе застревали у нее в комнате бог знает на сколько, тетушке Бёльчкеи иногда приходилось открывать им дверь чуть ли не в два часа ночи. «Хорошо, если у нее есть один кавалер, мне наплевать, пускай делают, что хотят, — защищалась госпожа Кертес даже от тени того подозрения, что ее случай, который сама она считала совершенно особым, простительным, почти, можно сказать, и вовсе не существующим, в глазах Агнеш может казаться несовместимым с этим ее возмущением. — Но ведь здесь живет еще одна девушка, нельзя же, чтобы про нас пошла дурная слава».
Конечно, подобные вещи не мешали им время от времени, особенно если госпоже Кертес хотелось отвлечься от тягостных дум, подолгу сиживать вместе на хозяйкином рекамье — вот как сейчас, например, когда Агнеш вернулась домой. Пирошку горячо интересовал роман ее квартировладелицы; кроме того, та была как-никак женой учителя, дамой из господского сословия, первой, с кем ей довелось попасть в такие близкие отношения, и там, где Агнеш, выросшая в этой среде, не видела совсем ничего или видела только безделье, Пирошка словно листала живой учебник, в котором можно было найти все — от сервировки стола до способа скроить платье. Сейчас они обсуждали планы первых музыкальных вечеров Пирошки, которые затронули и воображение госпожи Кертес, так что она готова была ради успеха вечера даже подвергнуть риску свято оберегаемый китайский фарфоровый чайный сервиз дяди Кароя. Появление Агнеш, конечно, заставило отложить разработку деталей до завтрашнего утра. Мир, в котором вращалась Агнеш, — университет, свободно чувствующие себя в обществе мужчин вскрывающие трупы медички, лаборатории, сверкающие стеклом и никелированным инструментом, — все это в глазах Пирошки был иной, прекрасный, почти сказочный мир; молчаливость же этой холодноватой, небрежно одетой, но так и лучащейся изысканностью девушки скрывала в себе какую-то особую тайну, до которой Пирошка, как ни пытала госпожу Кертес, не могла докопаться. А поскольку Агнеш была под рукой куда реже, чем госпожа Кертес (когда Пирошка была дома, не было Агнеш, и если даже вечер у Пирошки оказывался свободным, то Агнеш все равно безвылазно сидела и училась в своей каморке, так что симпатия, которая возникла меж ними при первом знакомстве, заставив Пирошку страстно захотеть в совсем не дешевую квартиру, в общем, как-то сама собой сошла постепенно на нет), то Пирошка, едва завидев ее, тут же с жадным любопытством принялась подыскивать отмычки к ее жизни: «Что нового в университете? Как ваш Веребей? Рассказывал что-нибудь интересное?» Хирург Веребей, которого она, на основании вытянутых у Агнеш историй, представляла себе мужчиной в расцвете сил, был главным героем сказки под названием «Университет». «Сегодня я не попала на лекцию к Веребею», — сказала Агнеш загадочно, но и с некоторым страхом, представляя, какой скандал тут сейчас поднимется. Она решительно настроилась выложить все сразу и без обиняков. То, что здесь оказалась Пирошка, даже хорошо: поможет утихомирить мать. «Почему? Где ты была?» — спросила госпожа Кертес. «Прогуляла», — легкомысленным тоном ответила Агнеш. Когда она была девочкой, мать держала ее в большой строгости; в конце каждого полугодия Агнеш со страхом прикидывала, выйдут ли у нее отличные оценки по тем предметам, которые казались матери особенно важными. «Вот запишут тебе прогул», — вырвалась у нее и сейчас былая тревога. «В Цинкоту ездила», — нагнетала Агнеш таинственность. «Это где женщин в бочках засаливают?» — спросила Пирошка, которая знала Цинкоту лишь по убийствам, совершенным там знаменитым сексуальным маньяком Белой Кишем. «Надо же, а я про это забыла совсем, — заметила Агнеш. — А то ни за что не согласилась бы там работать». — «Работать?» — сказала Пирошка, ища в странно взволнованном лице Агнеш, в блестящих ее глазах новую сказку. «Опять работать?» — всплеснула руками госпожа Кертес, и брови ее, как бы следуя за движением тонких пальцев, сердито и недоуменно взметнулись. «Не бойтесь, это не репетиторство», — все не спешила выдавать Агнеш свою тайну, невероятность которой она сама лишь сейчас ощутила по-настоящему. «Так… И что же это значит?» — сказала госпожа Кертес, слегка теряясь перед ликующим сиянием, таким непривычным в знакомом лице дочери. «Это значит — буду работать врачом». — «Да иди ты!» — вырвался бурный восторг у Пирошки; схватив своими большими руками запястья Агнеш, она притянула ее к себе, словно желая поближе разглядеть прозвучавшие слова. «Ты — врачом! На третьем-то курсе! — ворчала госпожа Кертес, обороняясь от той радости, которую невероятная весть готова была разбудить и в ней. — Это теперь, когда врачей — как собак нерезаных», — «И тем не менее завтра мне уже проводить обход». — «Да ведь ты даже инъекций не делала никогда», — сказала госпожа Кертес, которая, как бывшая сиделка, уже не раз упрекала в этом Агнеш («Какой же врач из тебя выйдет: три года в университете, а ни разу не сделала ни одной инъекции»). «Научусь. К счастью, бедняжки все равно мало что чувствуют. Начну с какого-нибудь коматозного», — попробовала Агнеш внезапно охватившим ее веселым настроением разогнать собственный страх. «Ну рассказывай же давай, — взмолилась Пирошка, которая уже сгорала от нетерпения. — Подменять, что ли, кого-нибудь?» — «Это мне Халми устроил, — перешла на серьезный тон Агнеш. — У больницы на улице Кун есть в Цинкоте филиал, куда неизлечимых больных кладут. Там я и буду часть дня замещать главврача: он еще где-то служит, да к тому же недавно женился». — «Феноменально!» — еще сильнее стиснула Пирошка руки Агнеш. Весомые эти слова: филиал, неизлечимые больные, главврач, а особенно невероятная картина: Агнеш, замещающая врача, — ошеломили и госпожу Кертес. Ведь это было как раз то, чего она так страстно ждала: чтобы дочь не просто корпела над своими учебниками, но реально приобщалась к великолепной, удивительной деятельности, которую она со священным трепетом наблюдала в свое время в госпитале. Потому-то Агнеш и перешла на официальный тон, сообщая подробности с большей торжественностью, чем, по ее ощущениям, того заслуживало само событие: может быть, так легче будет воспринят и вопрос о переселении.
И все же было в этой новости что-то неправдоподобное, что никак не давало рассеяться подозрениям госпожи Кертес. «Ну а как же ты собираешься заканчивать университет? — спросила она. — Совсем перестанешь теперь ходить на лекции?» — «Да что вы, там она за день больше узнает, чем за год в университете!» — встала на защиту подруги Пирошка. «Лекции все-таки пропускать нельзя», — строго сказала госпожа Кертес. «Лекциям через месяц конец, — осторожно заметила Агнеш, — потом четыре месяца сессия и каникулы. — И, не ожидая дальнейших возражений, сказала: — Да и лекции я смогу посещать». — «Как это? На крыльях летать, что ли? Все успевать и в университете, и в Цинкоте? Хоть я и глупая, может быть, но такие вещи понимаю». — «С восьми до пяти, как раз когда лекции, я свободна. Надо только быть к вечернему обходу, да дежурить через ночь». — «Господи милостивый, через ночь! Как же ты это выдержишь? Да ты знаешь, что такое ночное дежурство?» — все не мог растущий восторг одолеть тревогу в душе госпожи Кертес. «Там совсем маленькое отделение: пятнадцать женщин, двадцать мужчин. И совсем не та хирургия, которую вы во время войны видели. Больные там даже днем дремлют, не то что ночью. Собственно, сиделка с ними спокойно справляется. Важно только, чтобы рядом кто-нибудь был… Я там просто жить буду», — набравшись решимости, произнесла Агнеш. «Жить? — ошеломленно повторила госпожа Кертес. — Даже когда не дежуришь?» — «Кроме воскресенья. В воскресенье я могу быть дома».
Госпожа Кертес посмотрела на Пирошку — и промолчала. Такое с нею бывало лишь в самых невероятных ситуациях, которые даже ее быстрый ум не был способен осмыслить за считанные секунды. Вот и теперь можно было почти воочию наблюдать, как в ее бледном лице за изумлением, за обидой, за напряженными размышлениями все более берет верх, поднимаясь из самых глубин души, мрачное подозрение. «Вот как, значит. Прекрасно! — сказала она наконец. — Вот ты что придумала, чтобы уйти из дома». — «Да не ухожу я. Вы же слышали: по воскресеньям я буду дома». — «Она давно это замышляет, — нашел себе выход рвущийся наружу черный фонтан. — Сначала с отцом переехать хотела. Чтобы меня осрамить. Что ж, пожалуйста, хоть сегодня выписывайся». — «Не собираюсь я выписываться», — с досадой сказала Агнеш. Сколько бы ни копила она в себе теплоты и сочувствия, сколько бы ни отыскивала оправданий дурному характеру матери, сейчас, когда на ее глазах вырвалась на поверхность эта неистовая, темная, не ведающая справедливости стихия, в ней тоже вскипело раздражение. «Не думай только, что я этим сказкам поверю! — подняла черная волна в душе госпожи Кертес подозрение, о котором секунду назад она и сама не думала, а теперь не могла, да и не хотела сдержать. — Чтобы сопливой студентке дали такую работу, когда столько врачей из беженцев нигде не могут устроиться. Да ты просто к этой своей подруге хочешь переселиться, чтобы вместе мужчин принимать».
В тот самый миг, когда обида и ревность заставили госпожу Кертес, словно последний козырь, швырнуть в лицо дочери это нелепое обвинение, абсурдность которого она, несмотря на свое состояние, и сама понимала, в передней негромко, так, что они сначала переглянулись — слышали ли остальные, — тренькнул звонок. Пирошка, как самая незанятая, вскочила взглянуть, кто это может быть. «Пока не вернусь, без меня не продолжайте», — крикнула она Агнеш из дверей, как будто то, что она сейчас слышала, было новой сплетней или сказкой, и сама тут же расхохоталась своим словам. Проявления человеческих эмоций она воспринимала как своеобразный спектакль и почти благодарна была за энергию, которую вкладывали в представление актеры, а то, что материнский гнев позволял ей сейчас узнать нечто такое, что могло быть ключом к «нордическому» характеру Агнеш, было особенно ей по нраву. Мать и дочь (хотя, разумеется, вовсе не потому, что Пирошка их просила об этом) с минуту сидели молча, в состоянии treuga dei[183], прислушиваясь к доносящимся из передней звукам. «А, это вы? Самое время, — послышался хрипловатый голос Пирошки. — Заходите, заходите, — видимо, показывала она дорогу пришедшему. И крикнула в комнату: — Главный свидетель явился!»
В дверях показалась сконфуженная физиономия Халми; шум, поднятый этой неприятной ему молодой особой, лишил его и того хладнокровия, которое он сумел кое-как скопить, пока поднимался по лестнице и готовил нужные фразы. В устремленных на него глазах госпожи Кертес застыло двойное ожидание, что принесет этот визит: stante pede[184] (как она говорила: стандапеде) разоблачит ложь дочери или покажет абсурдность ее обвинений. «Прошу прощения, что я в такое позднее время, — поцеловал Фери, поступившись своими принципами (и жестом этим как бы прося извинить даже сам факт своего существования), тонкие, длинные, привыкшие к рукоделию пальцы госпожи Кертес. — Но Агнеш тревожилась, что инъекции не умеет… Вы уже знаете о новой ее работе?» — остановился он в середине фразы: может, он что не так сказал? «Так эта работа в самом деле существует? — спросила госпожа Кертес, цепляясь теперь лишь за правомочность своих сомнений. — А я и верить не хотела. Чтобы студентку третьего курса…» — «Агнеш и с этой работой прекрасно справится, — сказал Халми. — Я тут, чтобы помочь ей первые трудности одолеть, принес шприц и немного физиологического солевого раствора», — сказал он, радуясь, что может отвести взгляд от устремленных на него трех пар глаз к своему открытому портфелю, и стал вынимать оттуда пузырек с жидкостью, две пробирки, несколько игл в чашке Петри, обмотанный марлей пинцет и никелированную коробочку.
Агнеш смотрела на появляющиеся из потертого портфеля предметы растроганная и взволнованная. Не было еще в ее жизни рождества или дня рождения, которые преподнесли бы ей такой урок внимания и заботы (лишь то, что внимание это исходило от Фери, и сознание собственной неспособности ответить на него так, как надо бы, вызывало у нее угрызения совести). «Это так великодушно с вашей стороны, — смотрела она на поднявшуюся от портфеля голову — смотрела сияющими глазами, без страха, словно давая понять матери и Пирошке: пожалуйста, вот я, открытая всем, мне таить нечего. — Где вы все это раздобыли? — подняла она никелированную крышку. — Это ваше?» — «Одолжил, — отрезал дальнейшие расспросы Халми. — На некоторое время, потренироваться». — «Это в самом деле замечательная идея, — обрадовалась Агнеш. — Научусь хоть иглу надевать и снимать пинцетом. Шприц собирать». — «Ну зачем же? — сказал Халми с некоторой гордостью, улыбаясь ее детской радости. — Сразу можете и инъекцию сделать. Для того я и раствор принес». — «Как? Прямо здесь? — вскрикнула Пирошка, сама тут же расхохотавшись своему испугу. — Да если надо, я вас всех подниму на плечи и пронесу по квартире, но от укола в обморок упаду». — «Мы не собираемся тут учиться первую помощь оказывать», — заметил Халми со сдержанной враждебностью. У матери же гнев осел еще не настолько, чтобы предложить свою руку (как она была бы готова сделать в другом случае) во имя того, чтобы дочь ее обручилась с принадлежностями своей профессии. «Да в этом и необходимости нет, — продолжал Фери. — Подопытным кроликом буду я».
Агнеш смотрела на коробку со шприцем, словно на шкатулку с драгоценностями; затем благоговейно взяла пинцет, вынула им иглу из плоской стеклянной чашки, двумя пальцами сжала маленький, на один кубик, шприц и, бросив на Фери робкий взгляд — не грешит ли она этим против правил стерильности, — легко, к своему изумлению, надела на конус иглу. «Вот так, а теперь выдвигайте поршень, — учил ее Фери, открывая бутылочку, — и набирайте лекарство». В цилиндр все же попал пузырек воздуха, и Агнеш с наслаждением подняла шприц, как видела это в клинике, и пустила из него тонкий фонтанчик. Фери тем временем снял и повесил на спинку стула пиджак. Агнеш, устремив взгляд на иглу, краем глаза увидела белизну свежего полотна. Фери менял рубашки не чаще раза в неделю и скорее всего сам их стирал. Эта ослепительно белая, модного покроя рубашка, как подозревала Агнеш, нынче утром еще находилась в лавке. «Вы что, всерьез думаете, — запротестовала она, — что я вас буду колоть?» — «Почему бы и нет, если уж он сюда сам все это принес», — вставила госпожа Кертес, в которой готовящийся опыт оттеснил даже обиду. «Значит, берете складку кожи, — показал Фери на своей руке с высоко закатанным рукавом, где и как делать складку, — и смело вводите прямо в нее иглу». Кожу на предплечье Фери покрывала длинная рыжеватая шерсть. Агнеш искоса оглядела его: у Халми была хорошо сформированная грудная клетка, более развитая, чем она думала, и тоже волосатая: когда он нагнулся, клочок шерсти выглянул между двумя пуговицами. «А это стерильно?» — спросила она, прежде чем колоть. «Еще как. Прямо из стерилизатора», — сказал он, с улыбкой взглянув на госпожу Кертес. Агнеш решилась; острие иглы вонзилось в кожу, она ощутила, как оно сначала застряло в эпидермисе, потом легко погрузилось в интерстиций. «Во-от, теперь плавно выдавливайте… Очень хорошо, только надо решительнее». Агнеш пришлось набрать еще порцию соляного раствора. «Но игла ведь уже не стерильна». — «Тогда другую возьмите», — не стал возражать Фери. Затем он заставил уколоть себя в третий раз, теперь уже без раствора и той же иглой — чтобы набить руку. «Третья игла, — заявил Фери с тираническим наслаждением педагога, — для внутривенной инъекции». — «Святый боже, он и этому хочет ее научить, — смеясь, терла госпожа Кертес переносицу. — В вену! Это даже врачам не всегда удается», — объясняла она Пирошке, блеснув своим опытом сиделки. «Что, и кровь пойдет? Тогда меня здесь нет», — заявила Пирошка. «А вы крови еще не видели? — спрятал Фери под профессиональную врачебную грубость свою неприязнь. — Если бы вы были мужчиной, я бы еще промолчал!»
Женщины рассмеялись: ишь расхрабрился господин доктор. «В вену не стану», — сказала Агнеш. Три укола придали ей храбрости, но чтобы она вливала этому сумасшедшему какой-то подозрительный раствор, который еще неизвестно, физиологический ли, — это уж нет. «Но почему? — окрыленный, настаивал Фери. — Под кожу — это чепуха! А вот в вену попасть, особенно если больной нервничает, — тут требуется некоторая твердость». И вытащил из портфеля резиновую трубку, которую до этого момента не хотел показывать Агнеш. «Он прав, — поддержала его госпожа Кертес. — Был у нас один молодой врач: его в пот бросало, когда в вену надо было колоть. Особенно если что-нибудь эдакое, например, сальварсан, который, если попадет мимо, может бед натворить. Ты пользуйся случаем», — сказала она тем же тоном, каким говорила, что мужчин надо уметь использовать. То, что дочь прямо здесь, на ее глазах, будет делать укол в вену, привело ее в лихорадочное состояние. В конце концов сошлись на том, что Агнеш только найдет вену иглой. Вены у Фери, к счастью, были крупными, хорошо заметными и, когда госпожа Кертес стянула ему руку жгутом, вздулись, став толщиной в мизинец. «Ну, я пошла», — сказала Пирошка, но, словно загипнотизированная, не сдвинулась с места. «Только вы скатерть мне не испачкайте», — пришло в голову госпоже Кертес даже в эту торжественную минуту. «До крови тут дело вряд ли дойдет», — заметила Агнеш скептически, Фери же показал госпоже Кертес, обеспокоенной за свое рукоделие, пробирку, которую он держал наготове. После нескольких попыток кровь таки появилась: сначала она потекла струйкой по руке Фери, затем несколько капель попало и в пробирку. «Господи Иисусе», — дергала Пирошка невидимый поводок, не дающий ей уйти от захватывающего зрелища. Заметив кровь на руке Фери, Агнеш быстро выдернула иглу. «Интересно, я и не заметила, что попала». — «Тем не менее попали», — поднял Фери пробирку с кровью, словно сокровище Святого Грааля, к ее лицу. Но и он сейчас выглядел бледнее обычного. «Вполне сносно сделала, правда?» — спросила госпожа Кертес у Халми, словно у профессора, который способен предопределить медицинское будущее ее дочери. И тут обнаружила-таки на скатерти крохотную капельку крови, которая, видимо, брызнула от быстро вынутой иглы. «Я же сказала, что вы скатерть мне испортите», — заметила она на удивление снисходительно по отношению к тяжести проступка.
Маленькая компания оставалась вместе еще часа полтора. После перенесенных волнений все испытывали какой-то необычный подъем. Госпожа Кертес и Фери заставила рассказать, что это за отделение, в котором будет работать ее дочь, а когда он ушел, стала его расхваливать: что за самоотверженный друг (о том, что хромой юноша может быть для Агнеш еще кем-то, ей даже в голову не приходило); потом принялась объяснять, как много может узнать в таком месте студентка-медичка. С Агнеш же, чтобы успокоить свою совесть, она взяла обещание, что та каждое воскресенье будет обедать дома, а кроме того, доверит матери следить за своей одеждой. Агнеш, укладываясь спать, вспомнила пылящиеся в операционной штативы с пробирками и, уже в ночной рубашке, перечитала главы «Терапевтической диагностики», касающиеся лабораторных анализов. О том же, чем она обязана самоотверженности Фери, она подумала лишь на следующий день: память уколов, сохранившаяся в ее пальцах, сделала словно не таким уж и страшным ожидающее ее испытание — пятичасовой обход, — и день она провела не в возрастающем страхе, а в своеобразном деятельном возбуждении. Поскольку это был не Йоланкин день, она в четыре часа уже была в Цинкоте и дважды обошла вдоль стены больницу, прежде чем — все равно на десять минут раньше — войти в калитку. Двор был пуст, и до кабинета Баллы она добралась незамеченной. На стук, которым она обозначила свое вступление в должность, никто не ответил. Операционная была открыта, но и там только ветер из распахнутого оконца шевелил листки фильтровальной бумаги. Она побродила по коридору: вдруг ее кто-нибудь заметит. Потом ей подумалось, может, она слишком долго ходила вокруг, обход уже начался, и первый свой день она начала с опоздания. Но, уже собравшись войти в палату, она услышала за спиной знакомый шелест платья и сухой стук четок: из маленькой часовни в конце коридора появилась сестра Виктория. «Хвала Иисусу», — приветствовала ее Агнеш: мать и Пирошка объяснили, что монахине говорить «добрый день» неприлично, а здесь, по всем признакам, сестра Виктория была самой большой властью. «Во веки веков», — ответила та, как почудилось Агнеш, с некоторой иронией — как человек, который по множеству признаков чувствует, что так, покраснев, может произносить католическую формулу разве что протестант. «Я не опоздала?» — постаралась Агнеш оживленным вопросом замять плохо удавшееся приветствие. «Нет, вы пришли очень вовремя», — улыбнулась сестра Виктория. «Не может быть, чтобы она питала ко мне антипатию, — думала Агнеш, глядя в ее постоянно поблескивающие очки. — Или это всего лишь маска?» — «К сожалению, у господина доктора какое-то неотложное дело, — сказала монахиня с той же улыбкой. — Он просит прощения, что не сможет быть». — «А как же тогда… обход?» — ошеломленно спросила Агнеш. «Как-нибудь обойдемся», — ответила старая дева, словно разговаривала с наивным ребенком, формально стоящим выше нее, на самом же деле беспомощным без ее опеки. «И что же я… должна его проводить?» — смотрела на нее Агнеш. «Если желаете», — улыбалась сестра Виктория. «Да она просто беспомощностью моей любуется», — подумала Агнеш и, чтобы произвести еще более благоприятное впечатление на эту высокую, в шнурованных ботинках женщину с больными суставами, в которой ей хотелось видеть не властную монахиню, а простую земную старуху, решила впредь сильнее подчеркивать свою наивность. «Тогда, может, начнем, — засмеялась она просительно, — чтобы поскорее пройти через это…» То, что свидетельницей первого ее выступления на поприще врача будет сестра Виктория, монахиня, вся натура которой заведомо настроена на снисхождение, было, собственно говоря, приятнее, чем если бы испытание это пришлось проходить под бедуинским взглядом Баллы. «Обход у нас довольно простой», — сказала сестра Виктория улыбаясь и, приподняв полу халата, вынула из-под четок связку ключей. Агнеш в этот момент показалось: то, что она принимала за материнское доброжелательство, была просто вежливость, ответ монахини тактично, но твердо ставил Агнеш на место: дескать, взялся за гуж… «Что я должна делать? Узнать у больного, как самочувствие, нет ли жалоб? — спросила Агнеш, облачаясь в старенький, но свежевыстиранный, пахнущий хлоркой халат, который сестра Виктория принесла из кладовой, находящейся рядом с ее комнатой. — А инъекций не будет?» — снова спросила она, так как на первый ее вопрос монахиня не ответила. «Я все скажу», — ответила та, открывая дверь в палату и пропуская ее вперед; Агнеш снова стало казаться, что старая женщина настроена к ней доброжелательно и она может надеяться на нее, как на спасательный круг.
Войдя, она громко сказала: «Добрый вечер!» — и непривычным этим приветствием разделила лежащих вокруг больных, едва различимых в сгущающихся вечерних сумерках, на три зыбкие категории: были такие, кто даже не шевельнулся, услышав ее голос, другие повернули к ней головы, третьи вяло ответили. Агнеш подошла к первой койке. В изголовье торчал стержень, на нем укреплена была черная дощечка со сведениями о больном и — пониже — диагнозом. После палат в университетской клинике, где на спинке кровати, над головой больного, в блестящей рамке значились даже все результаты анализов, эта покосившаяся доска выглядела такой убогой, такой безнадежно больничной — она словно отбрасывала на больного тень кладбищенского креста. «Как поживаете?» — слегка видоизменила она заготовленный вопрос, глядя на толстую седую старуху. «Ничего, благодарствуйте», — сказала та, чуть улыбнувшись, словно тоже знала, что эта юная девица только играет в доктора. Агнеш посмотрела на доску. «Myodeg. cord.» — стояло там; «дегенерация сердечной мышцы» — расшифровала она сокращение. «На сердце сейчас не жалуетесь? — спросила она и, чтобы показать, что не такая уж она беспомощная, как считает эта старуха-монахиня с ее вечной улыбкой, задала еще один вопрос, столько раз слышанный в клинике: — В левой руке боль не отдается?» Но больная лишь покачала взлохмаченной головой, как бы давая понять, что ответить ей нечего. Агнеш оглянулась: не нужно ли делать инъекцию? Но сестры Виктории за ее спиной не было. Агнеш шагнула к следующей койке; там неподвижно лежала смертельно бледная женщина, лишь подергивающееся лицо да слабые толчки под одеялом, в области сердца, показывали, что она еще жива. Агнеш не знала, надо ли наклониться к ней и попробовать задать вопрос или лучше идти дальше. «Уремия у нее начинается», — тактично нагнулась к ней над лотком с инструментами (за ними она и ходила в соседнюю комнату) сестра Виктория. Агнеш бросила последний взгляд на бледное, с тяжелым запахом тело и двинулась дальше. На следующей койке сидела худая, высокая женщина; она была единственной сидячей в палате; обмахиваясь газетой, словно в душном купе вагона, она живым, слегка неприязненным взглядом следила за приближением обхода. Агнеш еще не успела встать перед ней, как та через ее плечо накинулась на сестру Викторию: «Если вы не сделаете что-нибудь, сестра Виктория, то увидите, я у вас тут ума лишусь. Эта Коллер если не храпит, то поет или с невесткой своей ругается. Я опять всю ночь глаз не сомкнула. Как можно сумасшедшую старуху вместе с нормальными больными класть!» — «Дадим вам успокаивающее, — сказала сестра Виктория, — с ним вы уснете». — «Да смотрите не валерьянку — я вам не кот, нечего меня валерьянкой кормить. Мне морфий давайте, чтобы можно было поспать наконец». — «Вот морфий и получите. Видите?» — сказала сестра Виктория, подавая Агнеш ампулу с уже отбитым концом. Женщина, взбудораженная своей давно, видимо, заготовленной жалобой и по этой причине никого, кроме сестры Виктории, не видевшая, лишь теперь, поднимая рукав полосатого халата на худой как палка руке, обратила внимание на новую докторшу; наблюдая эту истерическую вспышку, от которой глаза у больной выкатились из орбит, а исчерченный синими жилками кожаный мешок под подбородком окрасился в розовый цвет, бедная Агнеш так растерялась, что ухваченная пинцетом игла задрожала в ее руке. Какое-то время они молча смотрели друг на друга: больная, следящая за каждым движением докторши, и Агнеш, которой удалось наконец набрать из ампулы морфий. «Эта дама не умеет делать инъекции», — закричала больная, прежде чем Агнеш успела взять ее руку, и откинулась на подушку. «Опять вы умничаете, Шварцер», — строго сказала ей сестра Виктория и, недолго думая, схватила руку больной, подставив ее под иглу с решительностью, которая плохо вязалась с благостной ее улыбкой. Агнеш чувствовала: эта минута решает ее судьбу. На какой-то момент страх ее словно бы перешел в злость, в то почти неподвластное воле чувство опасности, которое заставляет животное, даже самое робкое, смело бросаться на врага. Она так стремительно вонзила иглу, что Шварцер не успела даже ойкнуть; лекарство быстро ушло под кожу. «Вот видите», — ворчливо сказала больной сестра Виктория; Агнеш же почудилось, что в этих словах прозвучало одобрение в ее адрес. Признание — или то, что она за него приняла, — наполнило ее такой радостью, словно ей только что удалось сдать экзамен по химии. «Ну как, не было больно?» — без особой необходимости, плеснув той немножечко переполняющего ее торжества, спросила она больную; так опытный врач обращается, сделав укол, трясущемуся от страха ребенку. Шварцер, однако, ничего не ответила, держась за уколотое плечо и недоверчиво провожая глазами юную докторшу.
Стычка эта настолько выбила Агнеш из колеи, что лишь у второй или третьей от Шварцер койки она осознала, где она и зачем здесь находится, и стала соображать, задала ли уже свой обычный вопрос, хотя у нее и сохранилось смутное ощущение, что она получила даже ответ на него и сама еще что-то сказала. Лишь по мере того, как все более затухали волны мелкой дрожи, пробегающие по телу, своеобразное бессознательное присутствие духа, на котором она до сих пор держалась, начинало переходить в спокойный самоконтроль. «Коллер опять плохо себя вела», — послышался у нее над ухом голос сестры Виктории. «Ага, это и есть Коллер», — думала она, разглядывая старуху, чьи взлохмаченные волосы, улыбающееся розовое лицо и сейчас словно были погружены в горячечный туман делирия. Она взглянула на доску: «dementia senilis». «Галлюцинации?» — обернулась она к сестре Виктории скорее для того, чтобы самой себе доказать, насколько она уже успокоилась: следит за больными, пользуется врачебными терминами. Но сестра Виктория или не хотела принимать мяч, или в самом деле не знала этого слова. «Разговаривает, бедняжка, сама с собой», — сказала она со стандартным сочувствием. Потом Агнеш снова пришлось делать инъекцию. Они стояли еще возле Коллер, а больная на соседней кровати, пожилая женщина с круглым, расплывшимся лицом, уже с готовностью поднимала рукав рубашки. «В прошлый раз мне туда кололи», — показала она Агнеш другую руку. И, словно храбрый школьник, довольный тем, что не боится прививки от оспы, повернулась к Шварцер: «Глядите, я вот ни капельки не боюсь барышни докторши. Она мне сейчас укол сделает любо-дорого, верно ведь?» И ласково улыбнулась Агнеш. И та, хотя руки у нее дрожали даже сильнее, чем перед этим, лихо, чуть ли не щегольски, набрала лекарство из ампулы: вот у нее и вторая инъекция. «Ну вот, — сказала толстая старуха. — Немножечко вытекло, правда. Но ведь то, что попало, тоже подействует?» Агнеш радостно закивала. «Внутривенной не будет?» — спросила она у сестры Виктории, словно давая понять, что вполне может взяться и за внутривенную. «Один сальварсан, но его доктор Фюреди (так звали помощника врача) потом сделает». Они перешли в маленькую палату, где лежало четверо раковых больных, — те получали лишь капли опиума. «Что, мы уже, значит, кончили?» — спросила Агнеш, когда сестра Виктория поставила лоток с инструментами на маленький столик. «На сегодня — да», — ответила та все с той же полуулыбкой, по которой Агнеш никак не могла угадать, понимает ли эта женщина, как она счастлива, радуется ли вместе с ней — или в блеске ее очков отражается лишь равнодушие много видевшего человека и стандартное монашеское доброжелательство. «Не могу ли я быть еще чем-нибудь полезной?» — спросила Агнеш. «Ну, если у… барышни докторши будет желание, то есть одна или две незаполненных истории болезни. Вот, например, у Фешюш, — показала она на одну из больных. — Она вчера поступила».
Сестра Виктория вышла, побрякивая привязанными к поясу четками, а Агнеш осталась в углу палаты у маленького стола, на котором стоял лоток с инструментами, спирт, бензин и папки с историями болезни. Самым естественным было сейчас спрятаться в эти папки, укрыть в них стеснение, которое охватило ее, едва она, как настоящий врач, отвечающий за свое отделение, осталась наедине с больными, в комнате, поделенной горящей под потолком электрической лампой на светлые полосы и тени от коек. В клинике студентам запрещено было трогать истории болезни, так что движение собственных пальцев, которым она развязала сейчас зеленый шнурок, пробудило в ней нечто вроде священного трепета. Трое больных молча смотрели на барышню докторшу, разглядывающую по очереди папки с бумагами, тетушка Фешюш, чье имя было только что названо, даже села в постели, будто готовясь, что с ней сейчас что-то произойдет. «Они тоже, наверное, считают естественным, — думала Агнеш, перекладывая на столике папки, — что я соберу сначала все сведения о них». («По крайней мере, увидят, — шептало в ней тщеславие новичка, — что я тоже кое-что понимаю».) На самом же деле все, что она читала, едва проникало в ее сознание. Наконец в самом низу стопки нашлась папка Фешюш; она была совершенно пустая, лишь сверху написана была карандашом — видимо, это сделала сестра Виктория — фамилия больной да внутри лежал рентгеновский снимок. С анамнезом здесь, как Агнеш успела заметить, не слишком возились; в истории болезни чаще всего лишь значилось, когда начался нынешний недуг и откуда, с каким диагнозом больной сюда привезен. «Ну что ж, если не возражаете, будем заполнять вашу карточку», — подошла она к тетушке Фешюш. Самописки у нее не было, а подтаскивать к койке стол с чернильницей не хотелось; она решила пока вписывать данные карандашом. («Как только будут деньги, куплю самописку», — решила она про себя. В кармане халата, рядом со стетоскопом, это выглядело бы так по-врачебному, да и кроме того, ручка просто необходима.) Тетушка Фешюш послушно сидела, положив руки на одеяло. У нее были большие, коровьи глаза, только светло-голубые, черты лица были расслаблены столь же покорно, как и руки. «Вы можете лечь, я осматривать вас не буду, расспрошу только», — сказала Агнеш, ставя к кровати стул. Однако тетушка Фешюш осталась сидеть, словно почтение к докторам не позволяло ей держаться более вольно. «Хочется посидеть немножко?» — доброжелательно отнеслась к ее упрямству Агнеш и начала, глядя в рубрики, задавать вопросы. «Вы из Берхиды?» — воскликнула она с удивлением, узнав, где родилась больная. В разговорах тюкрёшских родичей Агнеш часто слышала это название, хотя и не знала точно, где Берхида находится. Сейчас слово это, словно возникшее из какой-то полузабытой сказки, вдруг превратило чужую женщину из абстрактной больной чуть ли не в близкого человека. Правда, тетушка Фешюш на возглас Агнеш ответила вовсе не так, как можно было ожидать (что свидетельствовало о том, насколько она подавлена — или насколько тупа от природы), — она не спросила с загоревшимися глазами: как, и вы там бывали? Она лишь заметила равнодушно: «Нынче-то мы не тамошние уже, мы в Лангмайоре служили в прислугах, оттуда в Пешт перебрались». Потому и Агнеш не стала радостно спрашивать, слыхала ли тетушка Фешюш про Тюкрёш. «Меня и на улице Кун насчет этого спрашивали, — сказала больная, когда Агнеш перешла к болезням, перенесенным в детстве. — Да я и там ничего не смогла ответить. Знаю — болела, а чем — не знаю». И задумчивым выражением показала, что она бы с радостью, ведь речь-то о ее болезнях, не о чужих идет, да что делать — они были в прислугах, к ним доктора не ходили, чтобы сказать, чем больны. Агнеш слегка растерялась, не зная, можно ли так и писать: «не помнит». «Сыпь у вас была? Такие красные пятнышки?» — «Вроде была. А может, у Маришки только, она от красной сыпи и умерла». Должно быть, об этом говорили в семье, так оно и осталось у нее в голове. «А у вас красной сыпи не было, значит?» — «Нет. У меня не так сильно было». Агнеш в конце концов записала: скарлатина. И поставила знак вопроса.
Ответы тетушки Фешюш и после не стали более точными. На вопрос, когда началась ее нынешняя болезнь, она сообщила: «Да я уж давно заметила, что какая-то не такая я, как до этого». Каковы же были признаки болезни? «Да просто сомлела вдруг, и все. Копали мы в поле, и вдруг чувствую я, что сил нет никаких». Но воображение Агнеш, участливое ее внимание, дополняющее чисто медицинское любопытство, настроены были так, что нехитрые эти ответы характеризовали тетушку Фешюш и ее недуг лучше, чем если бы та, подобно многим другим завсегдатаям больниц, давала заранее подготовленную, точную, исчерпывающую информацию. Соседка тетушки Фешюш, лежавшая по другую сторону от стула Агнеш, дождавшись, когда та, бросив взгляд на рентгеновский снимок, начала расспрашивать про боли в кишечнике, вдруг села и, нагнувшись к уху Агнеш, словно желая пощадить ее от дальнейших попыток докопаться до истины, громким шепотом (так, что слышала и сама тетушка Фешюш) сообщила: «Це-эр у нее». Фешюш она, очевидно, считала совсем темной: ей можно спокойно сказать, что у нее рак, — умнее от этого она не станет. Вошедшим недавно в обиход сокращением, которым врачи щадили уши своих больных, соседка хотела, видимо, продемонстрировать свою посвященность. Агнеш удивленно взглянула на нее: маленькую, с кошачьей головой и седыми завитушками надо лбом (интересно, сохранились ли они у нее с лучших времен или это она здесь ухитряется их завивать?) женщину, чьи сощуренные глаза доверительно улыбались ей. То, что у ее соседки рак, она сообщила с той чуть ли не на злорадстве замешенной таинственностью, которая, как успела заметить Агнеш, появляется почти у любого, кто, пользуясь неискушенностью другого человека, прямо в его присутствии сообщает безнадежный диагноз. Но Балла ведь сказал ей, что в маленькой палате лежат раковые больные. Она невольно взглянула на доску над головой соседки, но блик от лампы не позволил прочесть надпись. Однако больная уловила ее взгляд и с хитрецой улыбнулась: «Диагноз смотрите, барышня? Думаете, если я здесь лежу, то у меня тоже це-эр? Палата здесь потише, поэтому господин доктор и положил меня сюда». — «А чем вы больны?» — с надеждой спросила Агнеш. «А вы поглядите в бумаги, — ответила та с прежним лукавством. Затем, чтобы избавить докторшу от возни с бумагами, сама, почти с гордостью, сообщила: — У меня — неоплазма[185]».
Составление анамнеза так дальше и шло: словоохотливая соседка дополняла ответы тетушки Фешюш короткими пояснениями, словно знала куда больше ее, заодно раскрывая перед молоденькой докторшей свою судьбу. Так что история пожилой крестьянки, которую только невыносимые боли заставили покинуть Лангмайор и приехать в Пешт к младшей сестре, Маришке-второй, и история госпожи Хубер (так звали лукавую женщину с завитушками), у которой десять лет назад по ошибке удалили грудь, хотя, как оказалось, у нее была всего-навсего аденома, шли параллельно друг другу. Третья женщина, что лежала напротив дверей, слушала их разговор, лишь повернув к ним голову; закатывая глаза, она постанывала время от времени — видимо, даже опий уже не мог облегчить ее болей — и резко поворачивалась то на один, то на другой бок. «До чего же любит поговорить», — досадливо сказала она, обращаясь скорее к себе, чем к четвертой больной, которая, утонув в полумраке, не подавала признаков жизни. Однако Агнеш охотно слушала не только тетушку Фешюш, но и госпожу Хубер (в лучшие времена у нее был парфюмерный магазинчик), инстинкт самосохранения у которой был настолько силен, что она ухитрялась не воспринимать написанный у нее над головой диагноз. Беседа с крестьянкой тем временем подходила к концу. Когда сестра Маришка отвела ее в больницу на улице Кун, там ей сначала сказали: в животе у нее что-то, надо посмотреть («Разрезать, видать, хотели», — пояснила она), но потом просветили живот рентгеном и решили, что ничего, облучать только будут. А потом вот сюда привезли. «Только я уж не очень-то верю, что все будет хорошо», — закончила она грустно.
Однако мадам Хубер, счастливая, что ее не одергивают, не дожидаясь, пока Агнеш скажет несколько утешительных слов, принялась сама журить тетушку Фешюш: как у нее язык поворачивается говорить такое, никогда не нужно отчаиваться, — а сама тем временем подмигивала Агнеш, дескать, мы-то с вами знаем, что ее ждет. «А эта ваша нынешняя болезнь, неоплазма, как началась?» — повернулась к ней Агнеш, когда уставшая тетушка Фешюш попросила разрешения прилечь. «Плевра у меня оказалась, — охотно принялась объяснять госпожа Хубер, — только не воспаление, как господин доктор сказал, а неоплазма. Знаете, что это такое? Клетки там разрастаются». — «Знаю», — смотрела Агнеш на разговорчивую женщину. То, что она слышала, было чудовищно, удручающе грустно, и тем не менее ей пришлось взять себя в руки, чтобы не радоваться, даже в душе, тому, что на патологической анатомии она успела узнать, что такое неоплазма, и способна сообразить, что та аденома — вовсе не безобидная опухоль молочной железы, а самый настоящий рак; ну, а то, что госпожа Хубер зовет «плеврой», есть не что иное, как метастаз. Ей пришлось себя пересиливать, чтобы, глядя с вершины своего знания, не испытывать того самого злорадства, с каким это жалкое, обманывающее себя существо так отвратительно ей подмигивало. «Это не вы вчера утром во дворе на солнышке грелись?» — вдруг спросила она, после того как госпожа Хубер поведала ей о том, что ее младшая сестра и доктор Балла — старые добрые друзья, потому все больные и завидуют ей (ведь они тут, бедные, все безнадежные, просто свое доживают). «Я, конечно, я была, — засияли от гордости ее глаза и даже завитушки словно бы завились круче. — Потому и сплетничают тут про меня: дескать, у нее кавалер есть, вы ведь видели, тот мужчина. Ну и что: если с ним мне приятней беседовать, чем с этими!..»
Когда Агнеш села к столу, чтобы перенести в историю болезни написанный карандашом анамнез, пришел помощник врача, Фюреди, — вводить сальварсан. Это был маленький белобрысый человек, который посредством порывистых движений, торопливой, живой речи и жиденьких усиков пытался преодолеть в себе сознание собственной незначительности. «А, новая коллегиня», — воскликнул он, заглянув в палату, и поспешил приветствовать поднявшуюся из-за стола Агнеш; в поведении его чувствовалось, что он лишь изображает удивление, на самом же деле прекрасно знал, что тут сегодня должна быть новая женщина, и готовился к разговору с ней. «Господин младший врач уже говорил про вас. Наконец какое-то светлое пятно в этой покойницкой». Фразу эту он, очевидно, составил еще перед тем, как вошел в комнату. Но, увидев девушку, которая оказалась красивее и серьезнее, чем он думал, и взяв ее руку в свои шелушащиеся от постоянного мытья пальцы, он почувствовал, что вступление вышло не очень удачным, и на лбу его проступила легкая краска. «Вы уже кончили или еще учитесь? — укрылся он в свое профессиональное превосходство, хотя наверняка знал и это. — Значит, решили хлебнуть чуть-чуть практики. — Эти слова он произнес с иронией и тотчас добавил: — Если можно это так назвать». А сам уже распечатывал коробку с сальварсаном, и белые пальцы его с подчеркнутой уверенностью отламывали кончик ампулы и готовили раствор. «Внутривенное случалось уже делать?» — «Нет, внутривенное еще нет», — ответила Агнеш и тоже слегка покраснела (то ли потому, что не делала, то ли потому, что ответ ее звучал так, будто других инъекций ей уже приходилось делать много). «При случае буду охотно вам ассистировать. Но сальварсан, сами знаете, вещь капризная. — И, держа перед собой большой, на десять кубиков, шприц, направился в большую палату. — Две-три капли попали мимо — и готов прелестный некроз, — сказал он, стоя уже над больной. — А такие вещи даже тут нежелательны… Ну, будем просыпаться, мамаша?» — обратился он к худой смуглой женщине, которая только голову смогла приподнять на пульсирующей шее, где словно бы билось отдельное сердце. «Укол?» — спросила она, удивленная, видимо, что инъекцию пришел делать не доктор Балла, а врач из мужской палаты. «А вы думали, зачем я тут стою, с этой штуковиной, будто улан, готовый идти в атаку? Когда свои четыре креста зарабатывали, то шевелились, я думаю, попроворнее, — заметил он, начиная вводить раствор в руку больной. — Вот так, теперь постепенно отпускайте», — сказал он Агнеш, которая стояла в изголовье, стянув на предплечье больной резиновый жгут. Даже не глядя на нее, он почувствовал, что его врачебная грубость, которую он слыхал от одного провинциального хирурга, не понравилась девушке.
Агнеш, с ее чутьем, помогавшим ей быстро разбираться в мужчинах, сразу поняла, с кем имеет дело. Хотя бы эти жидкие усики на верхней губе — как, должно быть, заботливо он приглаживает, причесывает их специальной щеточкой. И пошлости его вылетают из-под них так, словно взрослое ругательство с детских губ. «Цыганка, — пояснил он, возвращаясь в маленькую палату, свои слова (но продолжение: «кто знает, в какой канаве она все это подхватила», — уже проглотил). — Собственно, зря расходуем на нее сальварсан. Aorta insufficiencia[186], довольно основательная aneurysma[187]. Но что поделаешь — Вассерман! Ut aliquid fecisse videatur[188], — вставил он, не совсем к месту, высказывание, которое было известно и Агнеш: Веребей употреблял его по отношению к безнадежным случаям, когда все-таки надо что-то предпринимать. — И такова у нас вся работа, — продолжал он, промыв шприц и положив его в алюминиевую коробку. — Абсолютно все равно, делаем мы что-нибудь или нет. Покойницкая, — повторил он, как бы объяснив таким образом свои слова, сказанные при знакомстве. — Только с той разницей, что эти шевелятся… Но что делать? Где-то надо на время устраиваться… — Затем, на волне тщеславия, которое поднималось в нем так же легко, как и краска в лице, добавил: — Лично я, надеюсь, застряну здесь ненадолго. — И начал рассказывать о какой-то больнице в провинции, где дядя его, терапевт, служит главным врачом: там для него уже давно приготовлено место. — Словом, вы, барышня, сегодня уже здесь ночуете? — спросил он, собираясь уходить. — Первое дежурство», — сказал он и опять покраснел, как всегда, когда хотел продемонстрировать свое превосходство, словно некая тайная сила в вегетативной нервной системе ловила его на лжи. «Да. Страшно, конечно», — сказала Агнеш, чтобы хоть немного принизить себя до уровня этого хлыща, который старается казаться больше, чем он есть. «Ничего, сестра Виктория тут все знает… Да и что может случиться? Возьмем самое скверное: введете кому-нибудь адреналин вместо морфия. Неделей раньше попадет на жестяной стол. После полуночи я тоже здесь; если нужна будет помощь, я в вашем распоряжении. У профессора Ирани небольшой камерный ансамбль собирается, — поднялась в нем новая волна тщеславия. — Я — виолончель, — ответил он на удивленный вопрос Агнеш. — Но сегодня мне, может быть, не придется играть. Что делать: надо заводить знакомства. Ну, и приволокнуться опять же можно», — сказал он и снова покраснел.
Агнеш с улыбкой села обратно к своим папкам. Ей, в общем, было даже забавно наблюдать, как мужчины, попав в круг влияния невидимых, исходящих от каждой молодой женщины лучей, принимаются пыжиться, лезть из кожи, трепетать крылышками, словно сбитые с толку мотыльки. «С этим мне будет легко, — подумала она. — Все это время говорил он один, а я только и произнесла что «страшновато» да «на чем играете?». Он же изо всех сил старался доказать что-то, о чем и сам знает, что это вовсе не так. Насколько проще было бы, если бы он подошел и, пускай одним лишь видом своим, сказал: да, я — серый, как мышь, незначительный человек, немного, может быть, даже серее, чем ты, но, если ты будешь добра со мной, я тебя научу всему, что сам умею: внутривенным вливаниям, поясничной пункции. Интересно, что он сейчас думает, когда, выпячивая тощую шею, застегивает рубашку под галстуком-бабочкой, может быть: «ослепил я бабенку» или «опять я выглядел дураком»?» «Нехороший он человек, — заметила со своей постели госпожа Хубер, словно прочтя ее мысли. — С ним надо быть осторожнее», — добавила она с хитрой гримасой. Агнеш посмотрела на больных; конечно, встреча врача и молоденькой докторши была для них чем-то вроде небольшого спектакля: слабое любопытство светилось даже в глазах у тетушки Фешюш. «Это, уж точно, совсем не то, что доктор Балла», — подала голос третья женщина — та, что перед этим обронила досадливую реплику насчет разглагольствований госпожи Хубер, а так в основном молчала и лишь перекидывала с боку на бок свое измученное тело. К счастью, Агнеш не пришлось раздумывать, как ей отнестись к этим попыткам завязать с нею доверительные отношения: в большой палате послышались шаркающие шаги и в дверном проеме мелькнул большой живот санитарки — молоденькой девчонки, соблазненной кем-то и брошенной, а теперь дожидающейся в больнице родов; она раздавала ужин. Раковые больные принялись гадать, чем их будут нынче кормить: «Кашу дадут, со сливовым вареньем», — заявила госпожа Хубер. «Манную, я по запаху чувствую», — с отвращением отозвалась беспокойно ворочающаяся больная. «Что вы, как вы можете это чувствовать? У манной каши и запаха-то нет». Но принесли в самом деле манную кашу в жестяных мисках, с кусочком прессованного варенья. «Надеюсь, не с комьями, как в прошлый раз?» — с враждебной любезностью сказала госпожа Хубер, которой дали ужин первой. «Больше воды, чем молока», — заметила ее беспокойная соседка и вдруг села в постели. «Молоко они сами пьют», — произнес шелестящий, словно из совершенно пересохшей гортани исходивший, бесцветный голос из угла, где стояла четвертая койка, — Агнеш думала, что там кто-то спит или лежит в забытьи. Тетушка Фешюш долго сидела над своей миской, потом тихо положила ложку в нетронутую кашу и вздохнула: «Что ты скажешь, не могу есть — и все тут». Госпожа Хубер вытащила из-под подушки сверток. «Печенья мне тут дочь принесла немного, — объяснила она Агнеш, поднявшей голову на шелест бумаги. — С ним, может, лучше пойдет…» Да, у нее было печенье, были свои посетители: это тоже входило в число ее привилегий, вызывающих зависть у окружающих. Спустя какое-то время беременная санитарка вернулась с пустым подносом и, собрав, унесла посуду с недоеденной, остывшей, размазанной по мискам кашей, половина которой пойдет в помои. Потом за дверью послышался шелест и сухое пощелкивание: приближалась сестра Виктория. Больные справляли свои вечерние нужды. Иные, вроде госпожи Хубер, выходили, другие сползали с коек, третьим нужно было подавать судно. Сестра Виктория в большой палате опустила почти до полу лампочку без абажура, затем перешла в маленькую и, выключив свет, поставила перед Агнеш ночник. «Ничего, что я сижу тут?» — сказала Агнеш, приподнимаясь из-за стола. «Нет-нет, — улыбнулась сестра Виктория ее наивности: врач — и спрашивает, не мешает ли она больным. — Эти заснут… бедные…» — добавила она к презрительно прозвучавшей фразе чуть-чуть профессионального сострадания. («Кто сможет», — заметила в темноте, вздыхая, беспокойно ворочающаяся с боку на бок женщина.) «Я тут пока почитаю вот», — объяснила Агнеш, показав на сложенные стопкой папки. И, чтобы уж и себе самой доказать, что осталась здесь, чтобы познакомиться с историями болезней, а не потому, что успела немного освоиться в палате, в то время как вся больница, с темным коридором и кабинетом Баллы, где ей предстоит ночевать, была для нее чужой и пугающей, сразу взялась за папки, пробуя разобраться, какая из них к какой больной относится. Почечная недостаточность — это, видимо, та женщина с уремией; пернициозная анемия, — конечно, толстуха, что так доверчиво подставила ей руку для укола; Ковач, метастазы после операции на желудок, — надо думать, беспокойная женщина в этой палате, учуявшая с пяти метров манную кашу. Для большей основательности она выписала диагнозы себе в блокнот, добавив еще basedow maligna[189] сердитой Шварцер и anemia perniciosa[190] Шанты, чтобы почитать о них поподробнее в учебнике терапии.
И вот, когда она сидела там, в слабом свете ночника, над заполненными без всякой веры в смысл этой деятельности историями болезни, ее — не сердце даже, а все тело — вдруг охватило такое теплое, чистое, спокойное чувство, что она чуть ли не физически ощутила, как идет от нее через халат его излучение. «Пишет», — тихо произнесла госпожа Хубер (в темноте не понять было, соседке или самой себе), словно желая заверить сидящую за столом юную докторшу в своем уважении к ее работе. Чувство, испытываемое Агнеш, было таким прекрасным, что она остереглась разменивать его на отдельные мысли вроде: «вот и практика моя началась», или: «ничего, пойдет дело», или: «вот они, первые мои больные». «Судно, — простонал за дверью жалобный, почти детский голос. И снова, еще плаксивее: — Су-удно…» — «Эка, спохватилась, — проворчал кто-то. — Раньше надо было проситься, пока они здесь еще были». — «Этой говори не говори, все как об стенку горох», — отозвался еще кто-то. Судно требовалось, по всему судя, впавшей в деменцию Коллер; в третий раз ее просьба прозвучала почти угрожающе. «Я ради нее не собираюсь вставать», — сказала, будто отрезала, Шварцер: видно, ей, как ближайшей соседке, к тому же способной как-никак двигаться, чаще других приходилось оказывать подобного рода услуги. Агнеш с минуту колебалась: подобает ли ей в такой ситуации что-либо предпринимать, но, услышав новый зов, она, оттолкнув стул, вскочила, вышла в большую палату и направила свет спущенной лампы сначала на постель Коллер, потом на пол, ища судно. «Позвоните», — сказал кто-то из больных, воспринявший появление Агнеш как упрек или по крайней мере неодобрение их бездеятельности. «Ничего, у меня тоже руки не отломятся», — сказала Агнеш, найдя под кроватью не фарфоровое даже, а жестяное судно. Ей еще никогда не приходилось подавать судно, и дело шло плохо: она умудрилась подложить его так, что ручка оказалась почти под позвоночником беспомощной женщины. Палата — те, кто еще не спал, — молча следила за этой сценой. «Что они сейчас думают? — мелькнуло у Агнеш, когда она поставила судно на пол перед кроватью. — Может: ничего, неплохая все-таки девушка; а может: эта даже не знает, что должен и что не должен делать врач». Ответ ей дала госпожа Хубер, когда Агнеш вернулась к себе за стол. «Что верно, то верно, не отломятся, — пробормотала она одновременно и одобрительно, и с осуждением, — не отсохнут».
Агнеш вдруг почувствовала, что ужасно проголодалась. После обеда в университетской столовой, где сегодня потчевали лапшой с вареньем из шиповника, она еще ничего не ела. Здесь, ей сказали, она будет на полном обеспечении, но, видно, на кухне про нее еще не знали. Хотя манную кашу она как раз любила. Пока ужинали больные, ей и не вспомнилось, что у врачей тоже есть желудок; теперь она с сожалением вспоминала унесенные обратно тарелки: многие к ним даже не притронулись. Она ждала, что сестра Виктория появится наконец и, если не о еде, то о ночлеге-то что-нибудь скажет. С Баллой, правда, они договорились, что она может спать в его кабинете, но знают ли об этом другие? Не вселяться же ей в чужую комнату просто так, без единого слова. Однако сестра Виктория удалилась, видимо, окончательно. («Может, она в часовне?» — вспомнила Агнеш замечание Баллы, представив коленопреклоненную фигуру перед алтарем, украшенным бумажными цветами.) Большинство больных уже спало, а те, кто еще не заснул, ворочались и вздыхали про себя; постепенно среди сопения, тихих постанываний и всхлипов выделился тяжелый храп старой Коллер. «В конце концов, не сидеть же мне тут до утра», — решила она; надвигающаяся ночь незаметно рассеяла ту уверенность, которую она ощущала в этом уже обжитом, освоенном уголке. В коридоре царил мрак, лишь возле выхода горела тусклая лампочка; никого не было видно вокруг. Она стала ощупью искать в темноте дорогу к кабинету врача. «Ага, кажется, здесь», — разглядывала она картонную табличку. Из осторожности — вдруг там уже кто-то есть, может, кто знает, сам Балла, — она постучала. Какой, однако, абсурд — стучаться в дверь собственной комнаты… Она нажала ручку. Однако дверь была заперта. «Вот те раз», — подумала Агнеш; ей даже стало немного смешно: неужто так и придется бродить до утра в пустом коридоре? В этот момент кто-то сзади к ней подошел. «Ключ на притолоке». И чья-то рука сняла ключ. Это была сиделка, та, что вчера объявила об их с Халми прибытии. Она так неслышно приблизилась, что Агнеш вздрогнула от неожиданности. «А я уж решила, что так и останусь тут на всю ночь», — обернувшись к почти невидимому в темноте лицу, дружелюбно засмеялась она, как смеются друг другу, попав в затруднительное положение, молодые женщины. Сиделка, однако, никак не откликнулась на ее смех; она открыла дверь, щелкнула выключателем. «Белье на диване», — сказала она, оставаясь возле двери. «Огромное вам спасибо», — обернувшись, сделала Агнеш еще одну попытку завязать отношения. Перед ней было все то же красивое, немного жесткое лицо, которое еще вчера именно этой жесткостью обратило на себя внимание Агнеш; если бы взгляд сиделки не был столь умным, в нем бы можно было увидеть нечто звериное; она смотрела на юную докторшу с тем же отчужденным любопытством, что и вчера, в операционной; так разуверившиеся в жизни женщины взирают на новую, но, они это знают, враждебную им власть. «Как вы думаете, я могу раздеться?» — попыталась Агнеш смягчить эту непримиримую жесткость. Сиделка ее вопрос восприняла как риторический и ничего не ответила, лишь оглядела с головы до ног направившуюся к стопке белья Агнеш. «Если я вдруг понадоблюсь, то как я об этом узнаю?» — рискнула та задать еще один вопрос, несколько даже преувеличивая свою беспомощность, со смехом, который должен был установить меж ними тайное взаимопонимание. «Не бойтесь, разбудят вас», — неожиданно прозвучал из твердо сжатого рта ответ. Агнеш лишь сейчас обратила внимание, какой у сиделки сильный, глубокий альт. Может быть, поэтому простой ответ в ее устах прозвучал словно бы с неким особым значением. «Но не думаю, что вы понадобитесь», — добавила она и, не попрощавшись, закрыла за собой дверь.
Вероятно, бесплодность этих попыток явилась причиной того, что комната, в которой Агнеш, при неохотном содействии местного населения, могла наконец устроиться на ночлег, так и не согрелась вокруг нее, не стала уютной и дружелюбной, как раковая палата со столиком в углу. А ведь тут, в кабинете, была даже книжная полка с поблескивающими в лучах электричества разноцветными корешками, на которых она еще в прошлый раз, пока они беседовали с Баллой, успела прочесть несколько заманчивых названий; теперь, закрывшись на ключ, она могла наслаждаться этими сокровищами, сколько захочет. Взгляд ее выхватил «Терапию» Ендрашика (в ней она хотела почитать что-нибудь о выписанных в блокнот болезнях), но были там и другие книги по медицине, которые в библиотеке Общества взаимопомощи ей разрешалось брать разве что на один-два часа; много было немецкой специальной литературы, вид которой разбудил в ней старое чувство долга и заставил его перерасти в твердое намерение воспользоваться такой чудесной возможностью прочитать побольше немецких работ, но довольно много стояло и художественной литературы, особенно русских авторов, а также несколько новых венгерских имен из группы «Нюгата»: Ади, Мориц, Бабич, — которые она знала скорее по шумевшим вокруг них спорам. Она невольно скользнула взглядом по корешкам — нет ли там книг, что заполнили улицы в 19-м: «Капитал», Коммунистический манифест, Плеханов; но, если они и были, их держали в другом месте. Осталась только работа по социологии, какого-то Ратцельхоффера, стоящая рядом с «Историей Рима» Ферреро и вся густо исчерканная красным карандашом. «Только бы он подольше не увозил их домой», — пробовала она радоваться оставленным ей богатствам, но в голове у нее тем временем бродило другое: откуда так неожиданно появилась эта молодая сиделка (Агнеш даже не знала еще ее имени). Не сидела же она на скамье, поставленной там, в коридоре, для немногочисленных посетителей? Решив приступить не откладывая к выполнению своей программы, она села с «Терапией» к столу — и тут обнаружила свой ужин, накрытый салфеткой. До сих пор она не замечала его из-за ширмы с яркими большими цветами, стоящей неизвестно с какой целью между кроватью и диваном, — может быть, за ширмой раздевались какие-нибудь особо застенчивые больные или Балла съедал за ней свой обед, если в комнате находились другие. На ужин был сыр и несколько кружков охотничьей колбасы, рядом с остывшим чаем лежал — большая редкость в те времена — ломтик лимона. «Врачи, видно, здесь получают другое питание», — подумала Агнеш, жуя сыр и начиная листать «Терапию», и, хотя это — особенно когда она вспомнила возвращающиеся на кухню миски с несъеденной кашей — показалось ей не вполне справедливым, она тем не менее была рада, что про нее все-таки не забыли и что она тоже считается врачом и получает полагающуюся врачам пищу. Однако неприятное чувство, от которого отражаемый мебелью и листами раскрытой книги электрический свет становился таким неуютным, холодным, по-прежнему не покидало ее; читая про симптомы пернициозной анемии, она ощущала, как сгущается в ней нервное напряжение, вновь и вновь заставляя вспоминать сиделку; ей пришлось даже на минуту-другую оторваться от чтения, чтобы получше обдумать все это. Я внушаю ей антипатию, в этом нет никаких сомнений (как женщина, она это точно чувствовала). Но почему? Неужели она ревнует ко мне? Заранее знает, что причина для ревности будет? Но кого тут ревновать? Балла только-только женился. Фюреди? Она даже представить себе не могла, чтобы какая-нибудь (тем более эта, что-то подсказывало ей — незаурядная) женщина могла ревновать Фюреди. Или просто так, вообще? Просто потому что рядом появилась другая молодая женщина, может быть, привлекательнее, чем она, тем более будущий врач, — появилась там, где она до сих пор была, как выразился помощник врача, «самым ярким явлением»… Но что же все-таки так беспощадно, так быстро уничтожает в организме эритроциты? Восемьсот тысяч, — кажется, эту цифру она видела в истории болезни… Не чудесно ли, что теперь она, как любой другой врач, имеет право и возможность начать свое следствие против опасного врага, и — кто знает? — может быть, как раз ей удастся обнаружить его — неведомого, хитро замаскированного. Конечно, она не настолько умна и изобретательна, но она принадлежит к великому ордену тех, кто ведет этот поиск, и это уже само по себе замечательно. Ведь к этому ордену относился и сам Аддисон[191], который эту болезнь описал, изучил ее, выделив среди прочих недугов с темным, неясным происхождением. Завтра, может быть, она будет сама брать кровь, в лаборатории наверняка есть прибор для подсчета кровяных телец… Но даже эти вдохновляющие мысли, как она ни старалась на них сосредоточиться, не могли рассеять дурного чувства, владевшего ею. «Наверное, это оттого, что я оказалась в комнате чужого мужчины», — мобилизовала она против странного этого состояния свой юмор. Но дверь закрыта на ключ. А если он постучится? Мало ли: забыл что-нибудь и вернулся. Ерунда, такое он никогда не сделает — хотя бы уже из-за Халми. Тем не менее лечь в постель она не отважилась; зевая во весь рот, она еще почитала про эмфизему («Господи, ну и скука!») и затем легла прямо в одежде на одеяло: вдруг надо будет вставать ночью…
Каких-нибудь несколько дней спустя, отсидев на фармакологии, куда из-за упорных слухов насчет проверки ей все-таки приходилось заглядывать, она успела вскочить в последний вагон пригородного поезда и, протиснувшись внутрь между школьниками и рабочими, вновь стала думать о том, что ее ожидало в Цинкоте. Она часто удивлялась, каким простым и естественным за столь короткое время стало все то, что в то утро, когда они впервые ехали с Халми в больницу, представлялось ей совершенно невероятным, недоступным воображению и уж, во всяком случае, выходящим за пределы ее способностей. Пожалуй, можно даже считать удачей, что сначала она попала, по выражению Фюреди, в покойницкую, к больным, у которых не было близких (а если были, то бросили их на произвол судьбы) и на которых даже сестра Виктория смотрела — хотя и не выказывала это в открытой, циничной форме — как на человеческие отбросы. Немножко сочувственного внимания, один-два дружелюбных вопроса, дающих им возможность высказать свои несчастья, желания, помыслы, были для них огромным подарком, несмотря даже на то, что душа их к внешнему миру, отгородиться от которого они все равно не могли, обращена была мрачной, колючей своей стороной, да и друг другу они давно надоели, презирали, а порой и ненавидели друг друга. Сознание общей беды, черные мысли о близком конце не только не порождали в них солидарности или взаимной теплоты, но, напротив, скорее питали злобу и раздражение; некоторых оскорбляло, что их поместили среди безнадежных больных, других — например Шварцер — выводили из себя проявления жизненных функций соседок, третьи болезненно реагировали на пренебрежение, на окрик. И вдруг появившаяся среди них девушка, почти врач, в общественном отношении стоящая так высоко над ними, внесла к ним отсвет бушующей за унылой больничной стеной весны и пробудила в глазах их, отвыкших от свежести и красоты, вялую память о таких безнадежно далеких вещах, как стройное, крепкое тело, легкость движений, естественный цвет волос. К тому же девушка эта была терпелива и ласкова с ними, через ее улыбку, взгляд, голос к несчастным словно бы возвращалась иллюзия, что прекрасное, безвозвратно ушедшее прошлое способно каким-то образом вернуться к ним, согреть их, что они, как в окно какой нибудь новой палаты, смогут еще раз увидеть и насладиться сиянием молодости. Поэтому они не только не раздражались, когда она принималась выспрашивать их и выстукивать, но чуть ли не сами напрашивались на осмотр, когда она подходила к их койкам. Начала она с тетушки Фешюш — как самой покорной. «Вы мне разрешите, — застенчиво попросила она, — вас осмотреть?» Затем, поболтав немного о том о сем с цыганкой, Агнеш уговорила и ее снять сорочку: аортальная недостаточность и записанные в истории болезни четкие диастолические шумы представляли собой особенно соблазнительную добычу для ее слуха. Пользуясь длинными вечерами (к четырем Балла обычно уже завершал обход), она сама осмотрела постепенно всех больных, избегая лишь самых колючих, вроде Шварцер или той женщины в маленькой комнате, что страдала раком желудка; чтобы они не считали себя обойденными, она бросала им несколько слов: «Вас я не стану сейчас беспокоить, тетушка Ковач: у вас ведь ничего нового, верно?» На что они отвечали чем-то вроде ворчливого разрешения: «По мне — стучите, коли хотите, все равно хуже уже не станет».
Большинство больных понимало, конечно, что она не настоящий врач и от ее осмотра ничего для них не изменится. Однажды, входя в палату, она успела услышать: «Ну и что такого, если она на мне учится? Все равно потом будет на мне учиться, только я-то буду уже в разделанном виде». Сказала это та старуха с расплывшимся лицом, которая так охотно подставила ей свою руку для первой инъекции. «Это точно, на Светенаи», — отозвалась четвертая койка из маленькой палаты. (На улице Светенаи находился Институт анатомии; туда, в прозектуру, под скальпели студентам, поступали покойники, у которых не было родственников.) Остальные же, вроде тетушки Фешюш, понятия не имели, где кончается и велика ли наука молоденькой докторши, и вообще, мало ли: вдруг ее старательность и доброта заменят недостаток опыта. «Нашли что, а, барышня?» — спросила у нее цыганка, прикрыв одеялом трудно вздымающуюся грудь. Инъекции стали для Агнеш обычным делом, Балла во время обхода как-то сам поручил ей сделать одну. «Вот так, хорошо», — сказал он ей перед больными, а после, когда они вышли, посоветовал сильнее сжимать складку кожи: так менее болезненно. Первую внутривенную инъекцию она сделала во время ночного дежурства. «Шанта задыхается, вас просит прийти», — позвала ее дежурная — не сестра Виктория, а Мата (так звали черноволосую сиделку). В глубоком голосе ее словно звучало некоторое злорадство: ну, посмотрим сейчас, чего ты стоишь. «Шанта, декомпенсированный vicium[192]», — торопливо одеваясь, вспоминала Агнеш историю болезни Шанты. Та была уже вся синяя, с трудом вбирала воздух и откашливалась жидкой слюной. «Это, наверное, и есть asthma cardiale[193]», — подумала Агнеш, подходя к ее койке. «Не сердитесь, что я вас позвала: доктор Фюреди (он должен был сегодня дежурить) в прошлый раз меня отругал. Что делать: боюсь я». И прежде чем Агнеш успела обернуться к Мате — что дают больной в таких случаях? — Шанта сама простонала, захлебываясь в пенящейся слюне: «Кофеин доктора колют». Агнеш пошла в другую комнату; она уже знала, в какой коробке находится кофеин. «В таких случаях делают внутривенно», — услышала она альт за спиной. И Агнеш, взглянув на нее, словно бы опять увидела у нее в глазах некую злорадную настороженность. (Кто знает, сколько уже лет она в сиделках: пять? десять? Навидалась таких инъекций, наверное, тысячи, могла бы сама делать лучше многих других, а не имела права.) Но словно именно это враждебное внимание остановило дрожь в пальцах Агнеш. «Дайте, пожалуйста, руку, — сказала она Шанте с такой уверенностью, будто ни о каких иных вариантах тут и речи быть не могло. — Резиновой трубки нет», — сделала она замечание сиделке. Первый укол вышел неудачным. «Вены у меня плохие», — сказала больная; она, очевидно, привыкла к таким поискам. Агнеш с некоторой нервозностью пошевелила иглой, и вдруг — она чуть не выдернула шприц обратно — кровь неожиданно обильной струей пошла в раствор кофеина. «Святый боже, а не устрою я ей эмболию? Ведь забыла проверить, нет ли в цилиндре воздуха», — спохватилась она, когда весь кофеин был уже в вене. Она так старалась, чтобы игла вошла куда надо, что про воздух совсем забыла. Задавая спокойным тоном вопросы, она в оцепенении смотрела, не схватится ли больная за грудь, не упадет ли навзничь, как описано в книжках. «Что за ужасная профессия!» Однако приступ у больной уже проходил, — может быть, не столько от лекарства, сколько от одного сознания, что ей сделали инъекцию. «Какая прекрасная профессия!» — думала Агнеш спустя четверть часа, выходя из палаты, с интересом следившей за первой ее ночной акцией и теперь снова погружающейся в сопенье, стоны и храп.
Балла был прав: «мануальными», как говорили в клинике, навыками, которые здесь требовались, интеллигентный и не совсем бестолковый человек мог овладеть недели за две. А если в нем было еще чуть-чуть юношеской любознательности и доброжелательства, то мог даже рассчитывать на популярность. Труднее было преодолеть отношение персонала, с которым она, выходя из своего убежища — раковой палаты, неминуемо сталкивалась. Проще всего было с теми, кто находился в самом низу и стоял лишь чуть выше больных: беременной санитаркой, привратником дядей Йожи или редко выходившей из кухни поварихой. Санитарке, когда она приходила забрать оставшуюся от ужина тарелку или мыла пол в операционной, достаточно было сказать сочувственно: «Ну как, тяжело вам теперь?» — и у той сами собой лились жалобы, что повариха помыкает ею, будто девчонкой, зато на последние две недели ее как свою (сестра Виктория пообещала) переведут в родильное отделение. Дядя Йожи, впервые увидев Агнеш в белом халате, сразу усвоил, что она относится к тем, кого он должен слушаться, и теперь при ее появлении собирал складки лица в умильную фельдфебельскую улыбку (вместо обычной сурово-неприступной гримасы), и Агнеш, очищая с туфель налипшую грязь, всегда находила для него несколько слов, — скажем, не опоздала ли она, здесь ли еще господин доктор Балла, не знает ли дядя Йожи, за кем это приехала карета «скорой помощи». Когда она выходила во двор подышать свежим воздухом, меж ними случались и более содержательные беседы. «Не скучно вам, дядя Йожи, целыми днями тут сидеть?» — говорила, например, Агнеш. На что он отвечал: «Да уж что скрывать, я куда бы охотнее играл дома с внучонком». — «О, у вас и внук есть?» — «Спрашиваете!» На кухню ей как-то пришлось отнести забытую у нее тарелку. «Мы с вами еще не знакомы», — подошла она к грузной женщине, сидящей в углу за плитой и помешивающей кофе. «Да я уж слыхала про вас, барышня», — встала та, польщенная, вытирая руки для рукопожатия. И Агнеш в конце концов пришлось бегом мчаться на станцию, чтобы успеть на свой поезд: повариха никак не хотела ее отпускать, в конце она даже сняла чулок, показала распухшие суставы на ногах и поведала, как вредны ей эти сырые стены.
Верхнюю же прослойку — тех четырех человек, у которых были здесь власть и влияние, — расположить к себе было не так легко. Конечно, за спиной у нее всегда незримо стоял Балла как друг Фери Халми: все знали, что сюда ее принял Балла, и это, с одной стороны, заставляло других относиться к ней с почтением, с другой — питало отчуждение к ней. Однако с самим Баллой общаться ей доводилось редко. В больницу он приходил каждое утро ровно в девять, вечером же лишь пробегал по палатам — и мчался на прием в поликлинику; Агнеш часто встречала его по дороге со станции, тут он обычно и говорил ей, что нужно сделать. Но когда Агнеш, в субботу или другой выходной день, оставалась утром в больнице и была с ним рядом в палате, в операционной, Балла все равно оставался замкнутым в свое бедуинское высокомерие, о котором Агнеш до сих пор не могла сказать, чего там больше — обиды на мир или гордости. Когда этот высокий, худой человек, с чуть сгорбленной спиной и по-верблюжьи посаженной головой, двигался по проходу меж койками, лишь негромкие, небрежно бросаемые им замечания выдавали, что мозг его активно работает, суммируя наблюдения, давая оценки, принимая решения. Агнеш чувствовала, что он присматривается к ней, даже заботится о ней тайком; сестра Виктория как-то дала ей халат поновее: «От господина доктора нам попало, что вы в таком старом халате ходите»; санитарка тоже спросила, довольна ли она ужином: велено было, чтобы почаще справлялась. Все это, правда, могло относиться к ней как протеже Фери Халми, а что Балла в самом деле о ней думает, доволен ли ею, из его поведения она никак не могла заключить. За все время, пока они были знакомы, пожалуй, лишь дважды ей удалось вызвать у него ту своеобразную, выражающуюся почти исключительно в растягивании слегка выпяченной нижней губы улыбку, что появлялась у него на лице лишь возле постели больных, наполняя гордостью тех, кто мог считать ее наградой за свою меткую реплику или точный ответ (улыбка его не была ни насильственной, ни иронической, в ней скорее проглядывало его глубокое, составляющее сущность его характера человеколюбие). В первый раз Агнеш увидела эту его улыбку, когда он взял в руки историю болезни тетушки Фешюш; правда, это могла быть и насмешка: ишь, мол, наивная девочка целый роман мне тут написала. Во второй раз — когда он спросил, кто делал цыганке анализ крови на реакцию Вассермана. Но и тут улыбка могла лишь значить: ну вот, видите, нечего было бояться. С Халми они наверняка о ней говорили, и Агнеш ждала, что однажды тот ей что-нибудь сообщит об этом; сама она стыдилась признаться кому бы то ни было, что одобрение или неодобрение со стороны мужчины, а точнее, неопределенность его отношения к ней способна — как многих неумных женщин — хоть в малой степени ее волновать. Однажды, беседуя с Фери о своей работе в больнице, она все же не удержалась, чтобы не сказать как бы между прочим: «Однако ваш друг не очень-то мною доволен». — «Балла? — недоуменно взглянул на нее Халми. — Он в восторге от вас». И видно было, что он лишь потому не говорил ей этого раньше, что считал это и без того очевидным. «Балла — и восторг! — сказала Агнеш и покраснела. — Опять вы преувеличиваете». Но потом, в течение дня, она несколько раз задумывалась, что имел в виду Халми, какие отзывы Баллы в его не умеющем относиться к ней объективно сознании были восприняты как восторг; на другой день она с некоторым даже кокетством оставила около микроскопа листок, на котором были подсчитаны кровяные тельца больной, страдающей пернициозной анемией. (Больная сама попросила ее: «Миленькая, не посчитаете у меня кровяные тельца?») «Это что такое?» — поднял бумажку Балла, сев к микроскопу анализировать оседание; микроскоп он принес сюда сам, чтобы делать анализы на клиническом уровне. «Число кровяных телец у Пиклер». На губах Баллы, когда он смотрел на перекрещивающиеся ряды цифр, в третий раз появилась улыбка. «Можно занести в историю болезни?» — счастливая, спросила Агнеш. «Раз уж высчитали», — нагнулся он к окуляру. Агнеш так никогда и не узнала, повторил ли он за ней этот анализ — в операционной он провел много времени — или поверил Агнеш, возможно, при этом подумав: не все ли равно этой Пиклер?
Только вот в филиале Балла был скорее гость, чем хозяин. То, что он низвергся сюда с такой высоты — из самой привилегированной клиники — и сам барон Корани иногда вызывал его к себе по телефону, в медицинских вопросах обеспечивало ему абсолютный авторитет, который он умел поддерживать и своим поведением, а то, что за ним числилась какая-то непонятная вина (более или менее точно о ней знал один только Фюреди), да и само его происхождение, на которое даже сестра Виктория смотрела как на некий физический недостаток, из тех, что принято тактично не замечать, отделяло его от остальных некой полупроницаемой стенкой, причем он, довольствуясь своим положением гостя, вовсе и не пытался разрушить ее. Власть в больнице принадлежала фактически сестре Виктории; ее бесшумные появления, тихие указания, телефонные переговоры (у Агнеш в памяти надолго отложилась картина, как монахиня в конце полутемного коридора подносит к белой своей наколке телефонную трубку) были чем-то наподобие прочных нитей, связывающих здесь все в единое целое. Сестра Виктория, пожалуй, даже врачей рассматривала как некие капризные инструменты, которые, будучи вне пределов ее компетенции, ей тем не менее подчинялись, выполняя необходимую для больницы работу. Агнеш в первое время думала, что сестру Викторию так же легко покорить, как какую-нибудь пожилую учительницу, — скажем, как Мацу в гимназии; в стеклах ее очков словно бы и появилось уже то любование, тот чуть-чуть растроганный блеск, с каким одинокие, оставшиеся без семьи старухи смотрят на юных девушек, если те девчоночьей своей почтительностью утешают их, уже махнувших рукой на нынешнюю молодежь. Но сестра Виктория так и не сделала последнего шага. Та неизменная, все сглаживающая улыбка, с какой она подавляла в себе сердитый старушечий — часто вполне заслуживаемый больными — окрик, обращая его в дежурную ласковость, неотделимую от ее монашеской рясы, которую она носила словно бы не только на теле, но и на сердце, не позволяла ей проявить и симпатию, а тем более нежность к кому бы то ни было, пряча их под ровной, обращенной ко всем вежливой доброжелательностью. Холодная эта любезность смущала Агнеш, пожалуй, сильнее, чем замкнутость Баллы; в глазах монахини, чуть-чуть по-змеиному неподвижных, она словно видела стойкую антипатию. «Может, это потому, что я протестантка? Она не слышит от меня тот пароль, по которому они, католики, узнают друг друга… Или ей не нравится, что меня любят больные?» Были у сестры Виктории замечания, которые можно было понять и как осторожную попытку поставить ее на место. «Слишком вы привадились к барышне докторше», — сказала она, когда больная с сердечной недостаточностью, та, которая в первый день так смело подставила ей руку, в присутствии монахини принялась канючить у Агнеш, берущей кровь из пальца ее соседки: «Вы мои кровяные тельца не посчитаете, миленькая?» Улыбка сестры Виктории и ее напоминающее «барышня докторша» словно защищали неопытную доброту Агнеш от приставаний больных, но под улыбкой этой пряталось, в сущности, то же, что она сказала как-то госпоже Хубер: «Барышня докторша совсем вас разбаловала». Новая, милая докторша в самом деле внесла в жизнь отделения некоторое беспокойство — как появившийся в женской гимназии молодой преподаватель, в которого влюбляются целыми классами. Надежды, желания, даже истерики — все было в этом беспокойстве. Однако сестра Виктория — достаточно было проследить за ее неумолимым продвижением по палатам, за тем, как неукоснительно выполняет она свои обязанности, — стояла выше ревности или обладала иммунитетом против нее: она на своем веку повидала много студенток-медичек, да и о капризах больных у нее были богатые познания. Ее тихое недовольство касалось только того беспорядка, который эта любовь вызывала в женской палате. И когда миновали волнения первых дней, Агнеш мало-помалу и сама, без поддержки сестры Виктории, подстроилась к диктовавшемуся жизнью больницы порядку; она поняла, что в том первом, не сдерживаемом ничем порыве горячего сострадания к несчастным, больным людям была, помимо душевной потребности, и большая доля тщеславия; поняла, что и самые горячие порывы сочувствия и любви к больному должны — в интересах самого же больного — оставаться укрытыми за ровным, по отношению ко всем одинаковым теплом заботливого внимания.
С Фюреди ей приходилось общаться редко — к счастью, так как не только завоевать его, но и проникнуться к нему расположением она просто была не в силах. Хотя для того (по крайней мере вначале) одно лишь сознание, что он живет, даже спит под одной крышей с такой необычной женщиной, значило, видимо, больше, чем он показывал. В его поведении, когда они встречались, всегда было нечто заранее заготовленное: он держался с ней то снисходительно, то с надменным пренебрежением, то с потугами на фамильярность. И это нечто становилось явным в тот самый момент, когда он открывал рот, словно написано было у него на лбу, как скерцо, анданте маэстозо над частями сонаты; при всем том, он не способен был долго выдерживать взятый вначале тон. Лучше прочих, пожалуй, давалась ему поза оскорбленного достоинства: она не требовала словесного выражения. Агнеш попыталась было установить с ним ровные отношения, добровольно отведя себе роль зеленой медички, лишь начинающей разбираться в секретах мастерства и с почтением взирающей на многоопытного коллегу, однако в ее глазах, видимо, просвечивало все же некоторое женское превосходство и неодолимая ирония, так что он видел себя в них этаким взъерошенным петушком. А уже на второй неделе ее работы в больнице случилось нечто, охладившее даже эту разбавленную насмешкой почтительность. Долго, мучительно умиравшую от уремии женщину в конце концов увезли-таки в морг на улице Кун, а на ее освободившуюся койку, сменив белье, положили привезенную каретой «скорой помощи» старуху, которой любое движение, даже укладывание в постель, причиняло невероятную боль. У нее была редкостная костная болезнь, название которой Агнеш встречала лишь в набранных петитом абзацах учебника патологической анатомии. Пока Агнеш в малой палате за своим столиком изучала сопроводительное письмо (старуху сюда доставили не с улицы Кун, а из одной будайской больницы, продержав там несколько дней), больные стали прощупывать новенькую вопросами. «Вы здесь откуда?» — спросила ее соседка. «У вас что, нет никого?» — поинтересовался еще кто-то. «Сын у меня», — ответил сухой, бесцветный голос. «И он позволил, чтобы вас в Цинкоту отвезли?» — прозвучал новый вопрос.
По чертам ли лица, по привезенным ли с собой подушке и ночной сорочке, но больные сразу определили, что новенькая принадлежит к господскому сословию, и разделенные вежливыми паузами реплики, подаваемые то с одной, то с другой стороны, но все вместе исходящие как бы из некоего коллективного мозга, направлены были на то, чтобы узнать, какое несчастье или злая воля привели беднягу сюда. «А сын-то ваш кто?» — спросила старуха с пернициозной анемией. «Актер». Палата погрузилась в раздумие. Об этой профессии они мало что знали; в памяти их возникали громкие имена вроде Федак, Палмаи[194] или же бродячие провинциальные актеры (каких теперь можно видеть только в фильмах), стоящие разве что на ступеньку выше кочевых цыган. Больная, видимо, почувствовала, что стояло за воцарившейся тишиной; тем же высохшим голосом, в котором даже для гордости не было красок, она сказала: «Пожизненный член труппы Национального театра». Палата ахнула. Национальный театр? На углу Кольца и проспекта Ракоци, где играют герцогов, королей? Но голос и состояние женщины (да, это вам не госпожа Хубер) подавили неверие и дали выход общему возмущению. «И он позволил, чтобы вас сюда, на свалку, отправили? Семьи, что ли, нет у него, где за вами могли бы ухаживать?» — «Вот они, деточки! — заговорила даже Шварцер, обычно в таких дискуссиях не участвовавшая. — Чего от них ждать? Пока можешь давать, ты хороша, а нет — никому не нужна. Только что прямо не говорят: как, мол, ты все еще не сдохла?» Неподвижное, измученное лицо больной ничем не выдавало, затрагивают ли гневные эти речи какие-нибудь струны в ее душе. «А теперь ваш сын где? — спросил кто-то. — Хоть проводил он вас?» — «Как же, дурак он, что ли? Пускай «скорая» везет». — «В санатории он», — произнес обреченный на бесстрастие голос, который даже высказанные в защиту сына слова превратил в некий нейтральный факт. «В санатории?» — обсасывала палата аристократическое понятие. «Ну, считайте, что вы тоже в санатории», — сказал кто-то таким тоном, как если бы женщина из публичного дома назвала свое учреждение девичьей светелкой. «А невестка? Она вас не может на эти несколько недель к себе взять?» — не унималась лимонно-желтая старуха с пернициозной анемией — самая, несмотря на слабость, упрямая из лежащих в палате.
Агнеш нашла в сопроводительном письме имя больной. Финта. В Национальном театре такой актер действительно был. Она перенесла все, что можно, в историю болезни, а с оставшимися вопросами подошла к новенькой. «Я вас не утомлю, если спрошу кое-что?» — «Не утомлю», — ответила та, автоматически — или в полузабытьи — повторив личную форму. Однако ответы ее, хотя и приходили откуда-то издалека, свидетельствовали о ясном сознании. Тем временем подошла сестра Виктория, принесла губку и таз с водой. Идущий от больной запах показывал, что сфинктеры не подчиняются ей. Когда же сестра Виктория осторожно, под отчаянные стоны и оханье, повернула женщину на бок и освободила ее от одежды, под размазанными испражнениями открылись взгляду ярко-красные, напрочь лишенные кожи пятна. «Держать не можете? — спросила сестра Виктория, и на сдержанно-доброжелательном ее лице появилась брезгливая гримаса (не странно ли: почти каждая женщина с удовольствием возьмется перепеленать младенца, а вот превратившийся в младенца старик вызовет отвращение даже у самой закаленной сиделки); затем, поймав себя на подрагивающем в голосе раздражении, ласковее, чем обычно, спросила: — Болит, да?.. Вы только посмотрите сюда», — показала она Агнеш огромные, с ладонь, пролежни на пояснице, обращая свое раздражение против тех, кто ухаживал за больной до сих пор. «Приходящая няня очень за мной хорошо смотрела», — произнесла неожиданно, лежа лицом к стене, новенькая, словно не соглашаясь с тем возмущением, которое ощутила в касающихся ее спины пальцах. Приходящая няня была для нее, очевидно, последней соломинкой человеческой доброты, от которой ее оторвали, отправив в больницу, и, хотя в душе ее поселилось уже равнодушие к смерти, чувство справедливости заставляло ее защищать эту соломинку. «Только она меня поднимать уже не могла», — объясняла она в паузах между двумя приступами боли, пока ходили за мазью. «Здесь мы тоже будем за вами ухаживать хорошо», — сказала сестра Виктория; пока пальцы ее манипулировали пудрой и мазью, она куда точнее, чем Агнеш с ее вопросами, составила для себя историю болезни находящегося в ее руках беспомощного тела, прекрасно представив себе и состоятельных родичей, которые, чтобы не брать старуху к себе, доверили ее заботам чужой, приходящей няни, и диалог между няней, которая сообщила, что у нее больше нету мочи со старой барыней управляться, и актером или его женой, и прибытие кареты «скорой помощи», и прощанье несчастной старухи со своей вдовьей квартиркой, похожей, наверное, на квартиру госпожи Рот, и гримасы сиделок и соседей по палате в больнице, требовавших, чтобы ее поскорее отправили в Цинкоту. «В больнице вы сколько дней провели?» — спросила монахиня, когда, под новые стоны, расправила на больной рубашку и осторожно повернула ее на спину. Агнеш подумала было, что та за болью не поняла вопроса, но оказалось, новенькая просто считает дни, пробуя как-то внести порядок в череду ужасных часов посредством подсчета более монотонных ночей. «Три дня провела», — по-школьному ответил шелестящий голос. К тому моменту и Агнеш высчитала по сопроводительному письму: в самом деле три дня.
Однако, несмотря на уход и заботу, мучения больной становились все невыносимее. Разрастание костных клеток, четко видимое на рентгеновском снимке, превращало в пытку любое движение, разъеденная и разъедаемая все дальше кожа, стиснутая между костями и простыней, не давала возможности лежать спокойно. Агнеш, которая на своем любимом месте, за столиком с ночником, готовилась к экзамену по патанатомии, все время слышала ее тихие стоны. Больные — те, кто еще не заснул, — начинали терять терпение. «Чего не дадут ей какое-нибудь лекарство?» — «Дали уж, порошок». — «Толку с этого порошка!..» — «Морфий ей надо», — выделился, с расчетом, чтобы слышала и барышня докторша, голос Шварцер. Агнеш и сама понимала: надо бы предпринять что-то. Но Балла больную еще не видел, а лекарство назначить мог только он, ну, еще, может быть, Фюреди. «Барышня докторша! — позвали ее из большой палаты; правда, это была не Шварцер. — Почему не дадут бедной чего-нибудь?» Агнеш отложила книгу и вышла в палату, таща за собой по стенам и потолку собственную фантастическую тень (лампа, как всегда по ночам, была опущена к самому полу). «Очень болит?» — наклонилась она к новенькой. «Очень болит», — повторила та, и глаза с одуряющей болью в них стали гораздо больше. Щель под дверью монахини уже не светилась, оставалось идти в мужскую палату, где были дежурный врач и сиделка. Агнеш двинулась к комнате Фюреди, — видимо, тот не спал еще, внутри было слышно какое-то шевеленье. Интересно, что делает такой человек, как Фюреди, когда он один? Перебирает струны виолончели, читает, думает? Все это плохо совмещалось с тем представлением, которое сложилось о нем у Агнеш. Но как бы там ни было, он явно бодрствовал — и сразу услышал шаги и скрип половиц за дверью. «Кто там?» — спросил он полуиспуганно-полусердито. Агнеш лишь теперь постучала. «Это я, — сказала она негромко, — Агнеш Кертес. Мне с вами нужно посоветоваться». Робкий голос и необычное это «нужно посоветоваться», которое ведь не обязательно должно было относиться к медицине, возымело действие: послышался шум отодвигаемого стула, быстрые шаги. «Прошу», — появилось в свете горящей в коридоре лампы лицо Фюреди.
«К нам больную вечером привезли, доктор Балла ее еще не осматривал, но у нее страшные боли. По всем признакам, болезнь Педжета». Фюреди испытующе посмотрел на Агнеш: действительно ли она его вызвала из-за больной (он приготовился к чему-то более необычному); потом молча двинулся к женской палате. «Это мать Финты, актера», — сказала, идя за ним, Агнеш, тем самым как бы прося врача, любящего похвалиться своими знакомствами в артистическом мире, отнестись к больной с особым вниманием. «Где тут она у вас, эта больная?» — громко спросил Фюреди, входя в палату. То, что он, как само воплощение Знания и Решимости, пришел сюда по зову беспомощной юной коллеги, по всей очевидности, чрезвычайно его воодушевило. «Ужасные пролежни у нее», — объясняла Агнеш, принеся сопроводительный лист. Фюреди, надув щеки, некоторое время читал записи. «Покажите спину», — бросил он больной, словно та способна была вертеться, как на подшипниках. Однако повелительный тон, который, видимо, пробудил в ней память о прежнем общении с врачами, подействовал: Агнеш почти не пришлось помогать старухе перевернуться. Фюреди кинул взгляд на спину больной (пролежни стали заметно больше даже за минувшие несколько часов: кровоточащее мясо сине-красными пятнами проглядывало сквозь желтую мазь) — и присвистнул. Клеенчатая подстилка была опять вся испачкана. «Ничего, сейчас мы дадим вам что-нибудь — и вы уснете, — сказал он больной. — Зачем это?» — почти грубо спросил он у Агнеш, которая принесла было пеленку — вытереть подстилку, и, опустив одеяло на лежащую на боку женщину, предоставил ей самой возвращаться в прежнее положение. «Морфий ищете?» — спросила Агнеш, глядя, как он роется в шкафчике. «Вы очень верно изволили выразиться», — сказал он и, поднеся к ночнику одну из двух ампул, втянул содержимое в большой, на два кубика, шприц. Потом сделал то же самое со второй. Агнеш взяла пустую ампулу, повертела ее: это тоже был морфий, причем двухпроцентный. В памяти у нее возникла страница учебника фармакологии Вамошши с восклицательным знаком возле предельной дозы. «Четыре сотых грамма — это не слишком много?» — удивленно спросила она. «В самый раз», — ответил Фюреди со значением, бросив на Агнеш торжествующий взгляд, как человек, перешагивающий границу, которую дано перешагнуть отнюдь не всякому, да к тому же еще, как острослов, и слова, подходящие к случаю, подобравший. Однако во взгляде Агнеш, видимо, было что-то такое (она даже к постели больной за ним не пошла, следила за инъекцией из двери малой палаты), что слегка его обеспокоило, не позволив ему на том и расстаться. «Не хотите ли выкурить по сигаретке?» — сказал он, кладя шприц в чашку Петри.
Агнеш вышла за ним во двор. «Я не курю», — отклонила она протянутый ей открывшийся со щелчком портсигар, словно даже курение рядом с ним могло означать соучастие в происшедшем. «Я вижу, вам покоя не дает моя доза, — сказал Фюреди, держа в руке слегка на отлете горящую спичку и попыхивая сигаретой, пока она не раскурилась («Должно быть, тоже подсмотрел у какого-нибудь старика-хирурга», — подумала Агнеш). — Тогда скажите, что для нее было бы лучше?» — «Конечно… Но ведь с такими же основаниями (до сих пор в ней говорило лишь потрясение, сейчас она стала искать аргументы) вы могли бы дать такую же дозу и Коллер, и больной с пернициозной анемией, и всем, кто здесь лежит». — «Очень мудро. Это было бы самое правильное решение. А для них — акт милосердия. Я понимаю, конечно, без лицемерия в этом мире тоже нельзя». — «А мне кажется, лицемерие тут ни при чем…» Агнеш чувствовала, что при сложных их отношениях в ее положении куда умнее было бы помалкивать с почтительным видом. Однако инъекция эта, при которой присутствовала из понимающих суть дела она одна, пробудила в ней нечто, подмывающее вступить в спор. «Ни при чем, говорите? — сказал Фюреди, на этот раз с совершенно искренней иронией. — Тогда зачем вообще привозят сюда этих стариков? Все ведь знают, да и они тоже, что у них тут одно дело — умереть, и чем скорее, тем лучше и для государства, и для них самих. А мы с вами делаем вид, будто мы врачи и занимаемся лечением. Это все равно, как если бы акушерок, делающих аборты, — надеюсь, вам известно, что в Цинкоте и такое заведение есть, — называли нянями или гувернантками. Это, по-вашему, не лицемерие, а?» — Агнеш смотрела на огонек сигареты, на снисходительную улыбку под крошечными усиками. Стало быть, из всего того, чем он здесь занимается уже два года, Фюреди сделал такой вывод. И прежде чем отвечать что-либо, она тоже обратилась к своему двухнедельному опыту, к тому необычному чувству, что копилось в глубине ее сердца; ей невольно вспомнилась госпожа Хубер с ее щипцами для завивки волос и парализованным кавалером. «Я считаю, врач должен всегда стоять на стороне жизненного инстинкта». И сама обрадовалась, что нашла такие прекрасные слова, которые, она чувствовала, могут стать для нее девизом не только здесь, но и на всем ее медицинском поприще. Человек, пока дышит, хочет жить, и ее целью всегда будет помогать этой воле к жизни, как можно дальше отодвигая смерть. «Как вы решительно это сказали, — засмеялся Фюреди. — Словно у вас за плечами десятки лет практики». — «Десятки лет с этого должны начинаться, — сказала Агнеш упрямо, почти сурово. — Если исходить из того, — добавила она вдруг, — что человека ждет в конце, то лучше всего давать морфий новорожденным». — «Во всяком случае, им хватило бы малой части дозы, — рассмеялся Фюреди. — Но не думаете ли вы, что это все же слишком уж пессимистический взгляд на ту странную штуку, которая называется жизнью?..» «Этот человек, собственно, не столько глуп, сколько опасен», — думала Агнеш, изучая его лицо во вспышках последних затяжек. И Фюреди, словно поняв, что проиграл этот спор не только в сфере аргументов, но и в этих серьезных глазах, перешел в наступление. «Если доза кажется вам, милая барышня, слишком большой, вы имеете право показать ампулы господину главврачу Балле. Я от ответственности не уклоняюсь, — во всяком случае, перед своей совестью».
Больная в сознание больше не приходила. Однако утром следующего дня прибыл ее сын. Агнеш как раз вышла из операционной, где — поскольку была суббота — анализировала осадок и препараты крови. В ярком четырехугольнике дверного проема, светящемся в полутьме коридора, стоял незнакомый мужчина, обсуждая что-то с сиделкой Матой. Агнеш, хотя видела его — кажется, в «Фабриканте» — давно, еще девочкой, когда мать водила ее в оперетту и на спектакли с любовными треугольниками, сразу его узнала. Правда, сейчас он стоял подчеркнуто подобострастно, чуть-чуть по-цыгански повесив голову и опустив руки, однако непосредственность и небрежная элегантность костюма выдавали его профессию. «Вы лучше к ней обратитесь, — показала сиделка на Агнеш (она никогда не называла ее ни по имени, ни «барышней докторшей»). — Она дежурит в женской палате». — «Вы лечащий врач?» — спросил Финта, представившись. На красивом, но помятом его лице (на котором словно оставили след бессонные ночи и кутежи под цыганскую скрипку) к приличествующей ситуации печали примешалось, когда он пожимал ей руку, и немного привычной любезности, даже кокетства. «Нет, — краснея, сказала Агнеш. — Но с этим случаем я знакома. К сожалению, состояние у нее неважное». — «Что вы говорите! — посмотрел на нее актер, словно потрясенный взгляд его выразительных, орехового цвета глаз с большими подглазьями должен был служить платой за заботу о матери. — А я только вчера узнал, что она в больнице. Собственно, я и сам сейчас в санатории». — «Да, она говорила». — «Кто, мать? Она обо мне говорила?» — переспросил актер, и в его мимике, абсолютно послушной произносимым словам, сейчас словно бы в самом деле проглянуло некоторое смущение. «Ишь, все-таки стыдно тебе», — думала Агнеш, вспоминая, как дружно возмущались больные. «А могу я взглянуть на нее?» — «Конечно. Пойдемте, — сказала Агнеш. — Поговорить, к сожалению, с ней едва ли удастся». И теперь уже она смутилась, словно инъекция, о которой ей нужно было молчать, лежала целиком на ее совести. «Она без сознания?» — спросил актер, и во взгляде его вновь смешались мужская трусость и привычка видеть себя со стороны. «У нее были очень сильные боли, и она еще не проснулась после инъекции. Пойдемте», — показала она (испугавшись, не сказала ли слишком много) на дверь палаты.
Было еще довольно рано, и причесывающиеся, умывающиеся женщины при виде нежданного посетителя завизжали, как институтки. «Господи Иисусе, мужчина, — вскрикнула Шварцер. — Кто позволил без стука?» Для большинства же явление смуглого красавца, с преувеличенной робостью оглянувшегося на стоящую у него за спиной Агнеш, означало скорее редкое развлечение, повод для приятного волнения, особенно когда он, нерешительно озираясь, осторожным, вкрадчивым шагом двинулся вдоль кроватей, не оставляя сомнений, что он действительно тот самый актер, о котором намедни шла речь. Финта склонился к бледному, с еле заметным дыханием, с мелкими каплями пота на лбу лицу матери. Он взглянул на нее с той нежностью, с какой смотрел Пер Гюнт на умершую мамашу Аазе, и погладил ее лоб. («Чуть-чуть похожа на мою мать», — подумала Агнеш, когда, тоже захваченная эффектом разыгрываемой сцены, разглядела старуху получше.) Но холодный и потный лоб не пробудил в посетителе желания коснуться его еще раз. Вместо этого он обвел глазами палату, и взгляд его задержался на раскрасневшейся Коллер, которая в то утро постоянно что-то бормотала и пела. Едва не вплотную друг к другу стоящие койки, глаза, неподвижно смотревшие на него с опухших или костлявых, похожих на череп лиц, безумное пение старухи — все это заставило его сердце вдруг сжаться по-настоящему. Кровь отхлынула с цыганского его лица, на лбу у него тоже выступили капельки пота: он только сейчас осознал, куда привезли, куда он дал привезти свою мать. «Тут мне пока нечего делать», — обернулся он к Агнеш; выражение его глаз говорило, что он как можно скорее хочет уйти из этого ада. Ради цельности впечатления он еще раз погладил бледный, прохладный лоб матери, коснулся губами ее волос, затем пробежал взглядом по неподвижным лицам, на которых, сколь старательно ни играй, все равно не увидишь ни растроганности, ни возмущения. «Прошу прощения, — сказал он, словно спешил уйти лишь потому, что нарушил покой обитателей, и вежливо пропустил Агнеш вперед. — Ужасное место, — вздохнул он в коридоре. — Вы уж меня извините, — добавил он, словно мог обидеть Агнеш этим своим замечанием, — но мне, ей-богу, даже не снилось такое. Жена мне сказала только, что мать в больницу пришлось увезти. Увы, отношения у них были не самые лучшие. У матери, бедной, характер довольно тяжелый, для всех гораздо лучше было, что она отдельно жила. Конечно, если б я мог такое предвидеть!.. Хотя, честное слово, не знаю, что бы я мог тут предпринять. Я ведь тоже лечусь. От алкоголизма, — признался он вдруг, преодолевая стыд во имя еще одного оправдания. — Профессиональная болезнь. Представьте, без спиртного боюсь выходить на сцену. Конечно, надо бы грохнуть кулаком по столу и забрать ее к себе: если уж мать должна умереть, так пускай умрет у меня. Но где мне взять сил на это? Жена, когда меня навещала, — я в Ракошпалоте лечусь — сказала, что дома за ней невозможно ухаживать. Даже врач так считает. Я и не думал, что дело зашло так далеко. Успеется после лечения — знаете ведь, как человек оттягивает неприятное дело. Но почему ее так быстро перевезли сюда?»
Агнеш все с большим сочувствием смотрела в смуглое его лицо, на котором под профессиональной мимикой проступали искренняя горечь, стыд, беспомощность. («Как ужасно, когда человек обречен играть даже собственные переживания», — думала она, слушая его.) Актер выслушал осторожное объяснение Агнеш, почему его мать, с ее страшными пролежнями, пришлось поместить в эту больницу, но по рассеянному его лицу видно было, что ему хочется знать нечто другое. «А она не была в отчаянии, — вдруг спросил он, — что ее сюда положили? Она, бедная, очень вспыльчивая была». — «Нет, она довольно равнодушно к этому отнеслась». — «Но вы упомянули, она про меня говорила?» — «Да, что сын у нее есть. Пожизненный член труппы Национального театра». — «И про это сказала? Она очень этим гордилась», — улыбнулся актер. И, растроганный тем, что мать на него не жаловалась, он прослезился. «Да, этого у нее не отнимешь, меня она очень любила — пусть на свой манер, но по-настоящему. Наверное, одна-единственная во всем мире. Потому все так грустно. Но вы сами, наверное, знаете, женщины… — Он достал из кармана маленький блокнот и на закапанном слезами листке написал свой телефон. — Если она вдруг придет в себя… вы будете так добры, позвоните мне?..» Агнеш взяла вырванный листок. «С господином главным врачом вы не хотите поговорить?» — «Нет, зачем его беспокоить! — запротестовал посетитель, радуясь, что его позор не пойдет дальше этой девочки. — Я вам полностью доверяю. И весьма сожалею, что познакомиться нам пришлось в такой ситуации». И, взяв руку Агнеш в теплые свои ладони, поднес к губам и дважды поцеловал.
В палате все еще обсуждали актера. Его красивое смуглое лицо, вежливое «Прошу прощения» перед уходом обезоружили многих. Что говорить: настоящий интеллигентный мужчина. «Интеллигентный, — бурчала Шварцер. — Интеллигентно обошелся с мамашей». — «А вы имеете представление, какая у него жена? Надо знать этих невесток», — встала на сторону посетителя Шанта. «Если б ее Фюреди не усыпил, — заметила за стеной госпожа Хубер, которая не видела, что Агнеш вернулась, — была бы у нее сейчас радость: с сыном бы попрощалась». — «И его, бедненького, совесть не так, может, мучила бы», — с готовностью поддержала ее в большой палате сердечница, которую актер покорил совершенно. Агнеш, глядя на больную, представила себе это прощание: теплые губы, которые она ощущала еще у себя на запястье, вспотевшее, с заострившимися чертами лицо матери, на котором даже в такой момент сохранялась бы непреклонность, — господи, что это было бы за прощание! Для сына — лишнее комедиантство, неловкость, для матери — последний знакомый проблеск среди вещей, становящихся ей безразличными. И все лишь ради того, чтобы окружающие еще раз могли растрогаться; нет, ради такого нет смысла затягивать муки, в этом Фюреди прав. Но вот ради этого тихого, хлюпающего дыхания, пока оно есть, — и тут была права она — нельзя было не сделать все, что возможно. «Если такой случай когда-нибудь повторится, — спросила она вдруг у остановившегося над больной Баллы, — я могу дать морфий?» — «Если у больного невыносимые боли», — кивнул тот, глядя на женщину. «Один кубик?» — осторожно пошла дальше Агнеш. «А что, сейчас сколько она получила?» — повернулся к ней Балла. «Не знаю», — солгала Агнеш, зная уже, что они с Фюреди хотя бы вот из-за этой лжи никогда не смогут быть друзьями.
Однако центр того враждебного поля, которое Агнеш ощущала, едва выйдя из женского отделения, находился все же в гудящей глубоким альтом груди смуглой сиделки. И при всем том женщина эта, как ни явственно ощущала Агнеш ее антипатию (та ее, собственно, и не скрывала), не была ей неприятна, что в полной мере опровергало закон взаимности эмоций. С внешним миром, вне всяких сомнений, Мата находилась в состоянии затяжной войны; медлительность, с какой носила она по коридорам больницы свое маленькое и очень живое тело, как бы должна была показать, сколь неохотно она совершает эти движения, а в том, как она проходила мимо людей, как глаза ее, чей огонь она укрывала под сумрачной дымкой скуки, вбирали и прятали в памяти все дурное, что она находила в людях, была какая-то яростная непримиримость, с которой, видимо, ничего нельзя было поделать. Но в этой враждебности — так, по крайней мере, казалось Агнеш — просвечивала, словно некий большой черный алмаз, редко встречающаяся в людях искренность. Обязанности свои Мата выполняла с отвращением, но аккуратно, говорила мало, однако то, что ей случалось произнести своим звучным альтом, лишь сверх меры чувствительному уху представлялось сгустком недоброжелательности, более или менее наблюдательный человек легко мог расслышать в ее словах почти маниакальное стремление говорить правду. Словно некая природная, давно забытая в нашей цивилизации стихия, вырывалась из глубин ее души неподкупная, чистая искренность — именно так воспринимала ее прямоту Агнеш, именно так воспринимали ее и больные, даже самые слабоумные. Когда Мата, оставаясь дежурной, приходила в палату — уложить беспомощных спать и затем погасить свет, — то, при всей лаконичности и внешней грубости ее реплик, для больных это был своего рода маленький спектакль. Порой ее даже нарочно поддразнивали, чтобы лишний раз услышать этот глубокий голос и улыбнуться шокирующе откровенным словам. Агнеш, сидя в раковой палате за столиком, слышала время от времени ее наполняющий комнату сочный альт. «Нет, ей-богу, сестра Виктория погибели моей хочет: опять послала сюда, — сердилась она на женщин. — Мужчина, будь он отъявленный негодяй, не сможет быть таким невыносимым, как какая-нибудь ханжа старуха. Понимаю госпожу Хубер, что она даже без своего Миклоша все норовит на солнышко выползти (кавалера госпожи Хубер хватил второй удар, и последнее время он не мог выходить во двор), лишь бы не быть тут с вами». Женщинам нравилось это; в глубине души они сами были такого же мнения о товарках и в грубости этой ощущали больше сочувствия, чем в ласковой улыбке сестры Виктории, и больше демократизма (по крайней мере, так казалось Агнеш), чем в ее сострадании. Даже Шварцер смиряла свое вечное недовольство, когда за нее бралась Мата. «Ну-ну, валяйте, Шварцер, говорите, пускай у вас зоб еще на пару сантиметров вырастет. Другие толстеют оттого, что много лопают, а вы оттого, что все время болтаете». Одно из ее высказываний не раз поминали позже. «Знаете, что мне Мата сказала? — сообщила Агнеш сердечница. — Не помню уж, о чем шла речь, только я говорю ей: сердца у вас нет, сестра Мата. И что, вы думаете, она мне ответила? (И она повернулась к соседке: как, бишь, там оно было, не соврать бы.) Ага! Ночной горшок, говорит, вам нужен, а никакое не сердце». И тем не менее несчастные женщины, чьи чувства были обострены бесчеловечными условиями и страданием, угадывали под этой грубостью именно доброе сердце. Агнеш однажды была свидетельницей, как Мата прошла мимо моющей пол в коридоре беременной санитарки. Та, рассчитывая, видимо, на сочувствие, громко заохала. «Вот-вот, — откликнулась Мата, — так тебе и надо, если беречься не умеешь». И взглянула на Агнеш, словно радуясь, что может вогнать ее в краску. Однако Агнеш от самой беременной слышала, что Мата — единственная, кто ей иногда помогает.
Молчаливая эта открытость была и в ее антипатии к Агнеш. В ее присутствии Мата высказывалась еще реже, двигалась еще неохотнее, а когда говорила, то голос ее, сопровождаемый вызывающим взглядом, звучал еще глубже, еще звучнее. Однако Агнеш не замечала, чтобы Мата старалась ей как-нибудь исподтишка навредить: если не сестра Виктория, то уж больные-то рассказали бы ей об этом. Но даже госпожа Хубер, главная ее осведомительница, сказала лишь: «Эта Мата, из мужского отделения, сильно не любит, когда вас барышней докторшей величают. Барышня докторша… Не скоро, говорит, она еще докторшей станет». — «Но ведь это так и есть». — «Если вон сам господин главный врач коллегой вас называет, то она-то чего кочевряжится?» Агнеш и сама знала прекрасно, что Мата ее даже барышней не хочет звать, предпочитая вообще никак к ней не обращаться. «Барышня докторша»? — не боясь, что Агнеш может ее услышать, прикрикнула она на больную, твердившую, что барышня докторша обещала ей грелку. — А почему не «барыня владычица»?» Агнеш — как, видимо, и больная — сразу не поняла, что она хочет сказать этой «барыней владычицей»; лишь когда Мата тут же упомянула сестру Викторию — почему не у той просят грелку? — Агнеш сообразила: она такая же барышня докторша, как сестра Виктория — барыня владычица. В операционной они иногда по полчаса работали рядом. Агнеш обычно вставала рано и до отъезда в город, для практики, делала анализы мочи, кала — все, что нужно для диагностических наблюдений. Тем временем Мата проволочным ершиком мыла пробирки под краном: санитарка следила только за полом, лабораторная же посуда входила в обязанности сиделки. Поднимая на свет пробирку с туманным белковым облачком или склоняясь над микроскопом, Агнеш на руках, на спине чувствовала пристальный взгляд Маты, в котором каким-то таинственным образом могла прочесть мнение о себе: дескать, все это ты делаешь так, для пущей важности, сама же понятия не имеешь, что означают в пробе Донна поднимающиеся со дна воздушные пузырьки (реакции она тоже все знала, наблюдая за ними со стороны), — наличие или отсутствие гноя. Если она иногда что-нибудь говорила, то, какими бы нейтральными ни были ее слова, неприязнь все же находила в них выход. «Вам ссаки дяди Ковача нужны еще?» — спросила она, когда Агнеш рассматривала под микроскопом препарат крови. В этом простом вопросе заключалось сразу три отрицания: 1. Обращаясь к Агнеш в тот момент, когда та смотрела в окуляр микроскопа, Мата как бы давала понять, что занятие «докторши» — рисование палочек — не более чем обезьянничание, а потому не имеет никакого смысла; 2. Назвав мочу «ссаками», она как бы хотела сказать, что, коли уж нет тут настоящего доктора, «ссаки» не могут превратиться в предмет анализа — в мочу, как и сам хозяин их, дядя Ковач, — в случай нефросклероза; 3. Наконец, то, что она интересовалась судьбой мочи, уже подвергнутой анализу, означало протест против собственной роли: дескать, неужто вы думаете, что я принимаю всерьез эти детские игры? Иногда Агнеш для пробы говорила ей какие-нибудь доброжелательные слова — уже не затем вовсе, чтобы завоевать ее сердце, а чтобы видеть, что Мата ответит ей. «Много я вам посуды пачкаю, да? — смотрела она на пробирки и блюдца, которые Мата демонстративно нагромождала в глубокой фарфоровой чаше. — Только работы вам добавляю…» Мата как будто не слышала ее слов. Затем вдруг, с вызывающим блеском в глазах, ответила: «Что, может, не мыть? Чтоб доктор Балла (она даже его не звала господином главным врачом) увидел, какая вы прилежная? — Затем, спустя минуту, уже смывая осадок, добавила: — Я же еще виновата буду». — «Так неловко, что из-за меня у вас столько лишней работы, — сказала Агнеш на другой день. — Может, оставите? У меня больше свободного времени, я помою». Мата не удостоила ее предложение даже словом. Прошло, наверное, пять минут, когда она вдруг обернулась к Агнеш. «Хотите и мне вскружить голову? — спросила она с улыбкой. — Зря стараетесь». — «Почему? Вам никто еще до сих пор голову не кружил?» Теперь и в голосе Агнеш звучали нотки сдерживаемого раздражения, ведь в этом, особенно если смотреть недоброжелательными глазами Маты, действительно было что-то: она в самом деле стремилась расположить к себе окружающих. Мата неожиданно покраснела, блеснувший взгляд ее показал: вопрос задел ее за живое. («Она считает, я знаю, кто ей вскружил голову», — мелькнуло у Агнеш.) Но сиделка тут же взяла себя в руки. «Только тот, кому я сама позволяла», — сказала она со смехом, словно их разговор был всего только щебетом двух озорниц подружек.
Вскоре Агнеш догадалась, кто тот человек, из-за которого случайный ее вопрос так болезненно задел Мату. Однажды утром, когда они, как обычно, возились в операционной с пробирками, к ней подошел Балла. Он, очевидно, приехал немного раньше и шелестел бумагой, распаковывал штатив для титрования, который — видимо, представился случай — принес со второй своей службы. После того как Агнеш, делая для практики анализы, обнаружила в моче Шварцер сахар, безнадежный этот случай вдруг заинтересовал Баллу. Настроив прибор, он стал изучать собственноручно окрашенный препарат и, изменяя своим обычаям, сказал Агнеш: «Посмотрите потом на эти эозинофилы». Когда Балла вновь склонился над микроскопом, взгляд Агнеш упал на зеркало; в нем она увидела Мату, в руках у которой замер ершик: уверенная, что никто на нее не обращает внимания, та смотрела на Баллу. Она, можно сказать, пожирала его глазами. Жесткое лицо ее было неподвижно, оно лишь покраснело, стало почти багровым, а в затуманившихся глазах появилась какая-то бесконечная, животная тоска. Если бы и после этого у Агнеш остались еще сомнения, им суждено было рассеяться на другой день. После вечернего обхода Балла и Агнеш стояли в малой палате у столика; Агнеш показывала ему историю болезни новой больной, попавшей на место усыпленной госпожи Финты, и, когда сообща рассматриваемая карточка объединила их, как в рамку, в одну композицию, она ощутила вдруг, что эта картина отражается в чьих то глазах. Из соседней палаты на них смотрела Мата. Время между двумя моментами, когда Агнеш подняла голову, перехватив взгляд Маты, и когда та двинулась дальше, было неизмеримо мало, но за это мгновение Агнеш сумела понять, что происходит в душе Маты, под неподвижной маской ее лица, что должна пробудить в ней заурядная эта сцена: мужчина, которого она знала, возможно, как никто другой в мире, и эта девица, «барышня докторша», существо высшего порядка, неизвестно как и зачем свалившееся на ее голову, вместе рассматривают историю болезни — вещь, которую Мата глубоко презирала, но которая в данный момент была символом причастности Баллы и юной докторши к некой ей не доступной общей тайне. Мату прислал Фюреди с каким-то вопросом по мужскому отделению; пока она равнодушно, скучливым тоном докладывала суть дела, Агнеш смотрела на Баллу и вспоминала, часто ли она видела их разговаривающими друг с другом; во всяком случае, когда такое бывало, сиделка всегда говорила вот так, монотонным голосом, словно показывая, как все это ей скучно, а Балла всегда с рассеянным видом смотрел куда-то в сторону. Агнеш невольно пришла на память Эржи — служанка в доме у дяди Дёрдя в Тюкрёше; в семье шептались, что, когда ей было всего четырнадцать лет, дядя Дёрдь лишил ее невинности; те двое, хозяин и Эржи, вот так же проходили мимо друг друга: он — стараясь не глядеть в ее сторону, она — опустив глаза и всем своим видом показывая, что никакого отношения друг к другу они не имеют. Неужели это безответная любовь, о которой Балла в своем бедуинском высокомерии не желает ничего знать? Напряженная тишина, как бы навсегда застывшая между ними, свидетельствовала о другом. «Когда, вы сказали, Балла женился?» — спросила Агнеш у Халми при первой же встрече. «Балла?» — повторил тот, удивленный неожиданным ее вопросом. И на сей раз в его глазах под тяжелыми надбровьями словно бы мелькнула искорка подозрения: чего это вдруг заинтересовалась Агнеш женитьбой Баллы? Но все же он стал послушно копаться в памяти и вскоре вытащил из касающихся Баллы фактов искомый: «На рождество, кажется… Христианскую девушку взял», — добавил он, сам не зная зачем, может быть, в качестве теста: захочет ли Агнеш и далее углубляться в эти для него самого никакого интереса не представляющие обстоятельства? Однако жена Баллы оставила Агнеш равнодушной. «А с какого времени он в филиале?» Это она вообще-то могла и сама узнать: одна из больных, Пиклер, уже была здесь, когда пришел Балла. Итак, картина, в общем, была ясна: архангел, низвергнутый с высоких небес медицины сюда, на «свалку»; кипящий в собственной гордыне Люцифер, которому Мата, с ее упрямой непримиримостью по отношению ко всему миру, позволила тем не менее, как она выразилась, вскружить ей голову; начальник, использовавший оказавшийся под руками предмет. Потом — женитьба, и вот теперь — то, что она уже знает… Интересно: больные, как видно, понятия ни о чем не имеют. А сестра Виктория?
Агнеш, хотя даже отчасти рада была своему открытию, жалела Мату. Ей стала понятна подоплека той антипатии, которая, прорастая из, в общем-то, привлекательной искренности Маты, до сего момента как бы ставила перед Агнеш довольно-таки обидное зеркало; теперь, когда выявилась полная беспочвенность этой враждебности (Баллу как мужчину открытие это отодвинуло от нее еще дальше), ей казалось пустячным делом вовсе преодолеть ее или по крайней мере воспринимать как временное недоразумение. К несчастью, как раз в это время Балла после приема в поликлинике стал приезжать в Цинкоту. Причиной была, как ни странно, слабеющая, худеющая день ото дня Шварцер — у нее даже на брюзжанье не было уже сил: когда ее раздражало что-то, она лишь тряслась от бессильной злобы; однако для Баллы она именно теперь стала медицинской проблемой. Балла не относился к тем, кто любит делиться своими мыслями, Агнеш же не решилась бы беспокоить расспросами его погруженный в науку ум, поэтому она уловила лишь, что struma maligna[195], оперировать которую не брались ревниво относящиеся к статистике хирурги, у Шварцер, возможно, вовсе не ограничена щитовидной железой, а выражается в патологии всей «вегетативной эндокринной» системы. (Агнеш впервые услышала тут ставшее позже модным понятие.) У Шварцер брали кровь на анализ, прописывали ей диету, измеряли сахар, вели учет ее эозинофилам, а теперь, когда она пролежала в больнице больше шести недель, Балла составил новый анамнез, подробно выспросил ее о ссорах с зятем, о разрыве с семьей дочери — с того момента и стала бурно развиваться ее болезнь, — словно он тоже не исключал, что недуг был вызван душевной травмой. Насколько большое впечатление произвело все это на Шварцер, уверенную, что врачи только сейчас догадались, что у нее за болезнь (она даже лучше себя почувствовала от безуглеводной диеты), настолько же подозрительной эта история выглядела, из-за вечерних приездов Баллы, в глазах Маты, которая, может быть, вот в такой же период профессионального оживления (Балла тогда еще был в мужском отделении) и сблизилась с доктором. «Видите, какой вы популярной стали, — сказала она Шварцер: та однажды, во время дежурства, поделилась с ней своими надеждами. — Если выздоровеете, доктор Балла и барышня докторша еще в Медицинском обществе вас покажут». Агнеш впервые услышала из ее уст это произнесенное зазвеневшим голосом «барышня докторша». Конечно, реплика Маты и на сей раз была адресована ей: дескать, вижу я вас насквозь с вашим вечерним шушуканьем в операционной. «А вы не очень-то насмехайтесь, — поняла благодаря своей ориентированной в определенную сторону гиперестезии[196] пусть не суть, а лишь направленность колкости Шварцер. — Если бы барышня докторша не нашла в моей моче сахар, то и сегодня никто не знал бы, что на самом деле у меня сахарная болезнь».
Для демонстрации интересного случая Балла стал привозить с собой друзей. В один из таких вечеров Агнеш встретила в больнице Розенталя. Она как раз находилась в палате, когда туда вошел ее педагог-ассистент. Агнеш отступила назад, в проход между койками (как некогда, школьницей, когда в проходе театра появлялся ее любимый учитель), предоставляя ему самому решить, заметит ли он ее, и лишь скромно наклонив голову в знак приветствия. Розенталь, однако, сразу ее узнал, подошел, подал руку. «Вы здесь сейчас? — спросил он, как у старой знакомой («Наверное, помнит, что видел где-то, а где, не может сообразить»). — Почему вас в последнее время в университете не видно? — продолжал он, когда Агнеш объяснила, что́ делает здесь («Теперь вспомнил, что я студентка»). — Я на практических занятиях даже разыскивал вас. Нехорошо, что вы в этом семестре не ко мне записались». («Все еще уверен, что любезничал со мной во время практики», — думала Агнеш.) А Розенталь, словно специально желая опровергнуть то, что пряталось за ее улыбкой, сказал: «Очень хорошо помню, как вы сдавали экзамен. Я обычно запоминаю, когда приходится сталкиваться с нестандартным явлением», — обернулся он к Балле. И спустя секунду уже изливал свое хрипловатое благожелательство на Шварцер (над ней склонились уже Балла и какой-то низенький лысый врач с красным лицом): «Стало быть, это вы — тот интересный случай. Видите, весь университет собрался, чтобы полюбоваться на вас». Он ощупал струму, что-то спросил у Баллы. Агнеш с улыбкой смотрела на двух врачей: крепко скроенные, сильные, волосатые, да и по происхождению родичи, они, однако, были полной противоположностью друг другу: Розенталь — подвижный, открытый, общительный, Балла же — напоминающий для всех закрытую, уходящую вершиной в туман башню; именно происхождение словно бы побуждало одного из них посредством человечности, добродушия возвышаться над окружающими, не заботясь, что они о нем думают; другого же чужие мнения заставляли замкнуться, жить словно в неприступном глухом бастионе. Палата завороженно следила за «консилиумом»: такого не бывало еще, чтобы на «свалку» приглашались профессора, — все были убеждены, что Розенталь не кто иной, как профессор, и Агнеш (пока трое врачей после визита совещались у Баллы) пришлось все о нем рассказать: откуда она его знает, самый ли он главный в университете, такой ли он там обаятельный, как здесь, возле койки Шварцер.
Совещание в кабинете Баллы, продолжавшееся всего полчаса, оказалось не последним. Спустя несколько дней, во вторник, прибыли еще три врача; они оставались в больнице до десятичасового поезда. В следующий вторник они приехали снова, только уже не смогли осмотреть больную: однажды, когда Агнеш была в городе, исхудавшая до костей Шварцер после приступа страха и удушливого кашля откинулась на подушку и умерла; теперь изучать ее случай можно было только в анатомичке. Однако консилиумы, на которых Розенталь больше не появлялся, стали регулярными; на одном из них, к вящему удивлению Агнеш, появился, торжественный и сконфуженный, Халми. Во время этих консилиумов Агнеш находилась на своем постоянном месте, в раковой палате (где на койке беспокойной больной, метавшейся с боку на бок, лежала теперь другая женщина — с двумя операциями на матке), старательно следя за тем, чтобы какой-нибудь оставленной в кабинете книгой или свитером не напомнить гостям о себе. После первого затяжного «консилиума» Балла, вопреки своему обыкновению, стал перед нею оправдываться: «Вчера мы допоздна засиделись — редко выпадает возможность поговорить по душам о важных вещах». В следующий вторник — это был как раз день, когда в больнице появился Халми, — Балла, не найдя ее в кабинете, заглянул в раковую палату. «Вы здесь работаете, барышня коллега? — посмотрел он на Агнеш и на ее книгу в круге света настольной лампы. — Ко мне снова приехали гости, я бы и вас пригласил (Агнеш сделала протестующее движение), но мы занимаемся очень уж специальными вопросами. Мы бы вас только от дел оторвали», — сказал он, разглядывая на глянцевом листе книги рисунок — иллюстрацию к актиномикозу. Агнеш принялась объяснять, что она иногда сидит тут до одиннадцати, до двенадцати ночи: странно, но тут у нее почему-то лучше идет учеба, — может, сама атмосфера в комнате помогает видеть перед собой людей, а не болезни. Она произнесла куда больше слов и более оживленным тоном, чем это было заведено между ними. Слишком странно было все это: консилиумы, зачем-то продолжающиеся после смерти Шварцер, их совершенно новый состав (из прежних врачей в них участвовал только низенький, лысый, краснолицый доктор), Халми, на которого она наткнулась в коридоре, направляясь к себе в палату, а самое главное — непривычные оправдания и любезность Баллы; все это и заставляло ее маскировать под обилием слов подозрение, что вопросы, столь важные для собравшихся, носят, может быть, вовсе не медицинский характер. Мысль, что между Халми и Баллой, кроме знакомства по поликлинике, существует еще какая-то связь, которая, в частности, помогла ей, третьекурснице, получить столь редкую возможность для практики, с самого начала бродила в ее голове. Теперь же сознание, что совсем близко, едва в двадцати шагах от нее, происходит, может быть, нечто такое, что газеты поминают обычно как «деятельность коммунистических ячеек», что участвует в этом и ее друг по университету, что, пока она тут читает про хроническое воспаление легких, сюда, возможно, едут уже полицейские и окружают «свалку» со всех сторон, что, если так захочет доносчик, ее тоже схватят и увезут в полицейское управление, — вызывало у нее, где-то в низу живота, тянущую боль, словно перед наступлением месячных. В конце концов, если она догадалась об этом, догадаться может и сестра Виктория. И тут еще — ревность! В голове у нее, пока она вникала в очередную главу патологической анатомии, разыгрывалась целая кинодрама. Роковая брюнетка пишет из мести донос, стараясь очернить и ее, ей устраивают очную ставку с Матой и с Баллой. А когда несчастная понимает, что натворила, она в порыве отчаяния отравляет себя.
Но Мата, видимо, эти тайные сходки осмысляла совсем по-иному, дополняя свои подозрения новыми: вечерние появления Баллы, люди, которых он с собой привозил, — все это, разумеется, лишь прикрытие для того, что потом происходит в его кабинете. «А разве вы не участвуете в консилиуме?» — неожиданно обратилась она как-то к Агнеш, часов около десяти, в ночь своего дежурства. «Нет, я же не доктор еще», — ответила Агнеш. С тех пор как она узнала, за что Мата ее ненавидит, она, как ни жалела ее, не могла удержаться, чтобы немного не поиграть — вот, например, как сейчас — с ее манией. «Получаете результат готовеньким», — заметила, уходя, Мата. Этот «результат», который она, Агнеш, видимо, получает готовым в постели Баллы, был такой дикой бессмыслицей, что Агнеш, устав сражаться с патологической анатомией, перевела свои мысли с деятельности «ячейки», в которой по-своему участвует и Халми, на работу воображения, приумножающую и без того немалые страдания человека. Стоило ли в процессе филогенеза наращивать поверх старых, надежных нервных центров новый орган, кору головного мозга, чтобы — как всякими прочими человеческими завоеваниями — терзать себя еще и посредством этого органа. И, совсем отодвинув книгу, Агнеш задумалась над тем, что могла бы она сделать, чтобы освободить эту несчастную женщину от навязчивых мыслей, для нее, Агнеш, смешных, а для Маты мучительных. «Ячейка» давно уже разошлась — она слышала, как они выходят, тихо беседуя, потом прощаются у ворот с дядей Йожи; вскоре она с облегчением (сегодня полиции не было) раздевалась в кабинете, собираясь лечь спать, — и вдруг почувствовала, что за дверью кто-то стоит. «Это мое воображение разыгралось», — подумала она, когда сгустившаяся вокруг тишина подсказала ей то же, что и почудившийся перед этим звук. Чтобы разубедить себя, она пошла к двери. Жесткие каблуки туфель, ничуть не таясь, застучали по коридору от кабинета, но пока Агнеш добежала от дивана до двери, снаружи тоже случилась заминка, необходимая, видимо, чтобы оторваться от скважины и разогнуться, так что шаги не ушли совсем далеко. «Мата, постойте», — крикнула Агнеш вслед удаляющейся фигуре. «Что вам?» — обернулась та, не желая, чтобы уход ее выглядел бегством. «Вы не зайдете ко мне на минутку — я хотела с вами поговорить». Сиделка остановилась; она нисколько не сомневалась, что «барышня докторша» собралась привлечь ее к ответственности, и теперь колебалась: уйти, гордо не проронив ни слова, или принять вызов. «Ладно», — ответила наконец она, входя в кабинет. «Присаживайтесь», — сказала Агнеш, дружелюбно глядя в суровое лицо Маты и предвкушая, как та будет удивлена через минуту. «Спасибо», — прогудела Мата. («Она меня приглашает присаживаться — в этой комнате», — словно сказала она, оставаясь стоять.) «Мне очень не по себе, — начала Агнеш, — что я, можно сказать, выжила доктора Баллу из кабинета. Он великодушно предложил мне здесь ночевать, а теперь и он и я чувствуем себя неловко. Когда у него гости, вот как сегодня, ему, может быть, проще было бы на ночь остаться здесь, чем ехать полтора часа на трамвае, а утром обратно…» Агнеш чувствовала, что эти речи о сообща используемой ими комнате с каждым мгновением усиливают недоверие в смуглом лице. «Ну, посмотрим, к чему ты ведешь», — читала она на нем, потому что — по мнению Маты — это, конечно же, был какой-то маневр, и с любопытством экспериментатора ждала, как изменится эта жесткая мрачность, когда она сообщит, чего хочет. «Повариха сказала, дочь ее получила квартиру и берет ее к себе. Раз уж вы все равно не одна спали в комнате, разрешите мне занять ее место». Лицо Маты стало еще более неподвижным, лишь чуть-чуть красной краски, подметавшейся к смуглому тону кожи, показывало, что непримиримость (основа ее жизненной позиции) сейчас борется в ней со слабостью. «Хотите, чтобы я охраняла вашу невинность?» — спросила она еще более звонко и вызывающе, чем обычно. «Сначала ведь мы так и договаривались, — сделала Агнеш вид, что не слышала ее слов. — Когда я пришла в первый раз, знакомиться с доктором Баллой…» Однако Мата хотела сказать сейчас нечто такое, что в ведомой ею, собственной ее мелодии могло бы сыграть роль достойного контрапункта этому благородству, явно направленному на то, чтобы ее унизить и устыдить. Она чуть приподняла голову, белые зубы ее блеснули, блеснули вызывающе и глаза: «А если ко мне кто-нибудь ходит? Фюреди, например». И, повернувшись, ушла, звонко стуча каблуками… Однако утратившая почву ненависть на большее уже не была способна. «Коли хотите, мне все равно, перебирайтесь», — сказала она на следующий день, безо всякого предисловия, проходя мимо Агнеш по коридору.
Первый месяц, проведенный Агнеш в больнице, потребовал от нее напряжения всех душевных сил; все, что до сих пор находилось в центре ее внимания, отошло куда-то на задний план, казалось серым, размытым. В университет она ходила ежедневно, но и лекции слушала, словно пропуская их через впечатления «свалки». Хотя в мужском отделении она, из-за Фюреди, и во время дежурства бывала довольно редко, тем не менее постепенно она увидела и узнала — в коридоре, во дворе, в операционной — и большинство больных мужчин. В голове ее отложилось уже около сорока клинических случаев, и число это умножали довольно частые в последнее время смерти, так что все, что демонстрировал на своих лекциях Веребей (терапию ей посещать удавалось редко) и что им показывали на патанатомии, оказывалось так или иначе окрашенным личными впечатлениями. В операционной всегда ждал ее какой-нибудь абсцесс, панариций — пусть и не столь редкие экземпляры, какие дежурный ассистент приберегал в своей амбулатории и в конце лекции представлял Веребею; были у них рак, цирроз почки, лейкемия, в мужском отделении попадались почти бессимптомные перфорации кишечника, а когда место Финты заняла семидесятилетняя старуха с незарастающим переломом шейки бедра, оказалась представленной и глава «Переломы и вывихи». На патанатомии милый их ассистент чуть ли не каждый день демонстрировал на фарфоровом лотке нечто такое, что могло бы быть внутренним органом кого-нибудь из ее больных. Как-то, спустя несколько дней после смерти Шварцер, когда им показали струму с огромной коллоидной кистой, Агнеш не удержалась и задала вопрос: «Это не из прозектуры на улице Кун?» — «Нет, мы вскрываем только в Святом Иштване», — охотно откликнулся ассистент.
Коллеги тоже заметили, что она как бы только наполовину присутствует среди них. «Вы почему такая нынче рассеянная, милая Агнеш?» — игриво приставал к ней сосед. «Не надо так часто на свидания бегать, — сказал ей вдогонку Такачи, бывший ухажер Адель. — Могу предсказать, что кончите вы свою молодую жизнь под трамваем». Мария ее упрекала, что она совершенно изменилась с тех пор, как начала ездить в Цинкоту. В упреке этом была и доля самооправдания. Вот уже две-три недели Мария крутила любовь с одним пятикурсником, чьи маленькие глаза на крупном лице акромегала и хорошо скрывающая определенные недостатки молчаливость довольно гармонично оттеняли и дополняли утиную походку Марии, пачку книг у нее под мышкой и возбужденную, хмельную речь. Почтительная, в какой-то мере даже восторженная молчаливость эта полностью перестроила взгляды Марии на взаимоотношения между полами: сейчас она признавала лишь серьезных, солидных мужчин, к которым такая увлекающаяся, немного ветреная женщина может привязаться на всю жизнь. Такая философия давала ей возможность — особенно после того, как мать разрешила ей переселиться от бабули, — отодвинуть подальше, обратить в дурной сон все происшедшее с ней на прежней квартире — за исключением дружбы с Агнеш («В жизни тебе не забуду, сколько ты со мной мучилась»). Однако тот психологический механизм, что определяет поведение не слишком самостоятельных душ, все же подталкивал ее к тому, чтобы вместе с событиями, которые ей хотелось выкинуть из головы, избавиться по возможности и от свидетеля этих событий, так что «преображение» Агнеш оказалось ей на руку. Сначала Мария подозревала, что у Агнеш есть кто-то: так изменить женщину способен только мужчина; затем, после того как Агнеш в одну из суббот повезла ее с собой в Цинкоту, представила Балле и сестре Виктории, Мария стала во всем винить «свалку». «Ужасное место эта твоя больница. Я бы там ни за какие коврижки не согласилась остаться. Если уж человек не способен жить среди них с таким безразличием, как твой Балла или сестра Виктория с ее змеиным взглядом, то эта покойницкая очень скоро на психику ему повлияет, а у тебя и так есть кое-какая склонность к эксцентричности. Сострадание у тебя вытесняет все остальное». Агнеш, рассеянно улыбаясь, слушала эти речи и представляла, как Мария, плывя по ярко освещенному проспекту Юллёи под руку со своим новым рыцарем, разливается соловьем, рассказывая ему, до чего ее беспокоит судьба подруги. («Обстановка ужасно влияет на душу, особенно если в человеке есть склонность к эксцентричности. Вы знаете Каллоша, из психиатрии? Ведь он со всеми говорит шепотом, как с больными, бог знает почему: привык. А она там просто какой-то монахиней стала».) Агнеш улыбалась так же, как улыбалась, слушая госпожу Хубер.
Новая обстановка действительно повлияла на Агнеш в том отношении, что теперь на всех, кто находился вне стен больницы, — а уж тем более на таких, как Мария, мучимых почти столь же неизлечимыми недугами, — она смотрела как на больных, словно гротескная мысль, оброненная ею в том памятном разговоре с Фюреди — что в конечном счете «весь мир — огромная палата неизлечимых больных», — неожиданно пустила корни в ее душе. Вообще же она чувствовала, что работа в Цинкоте никак не повредила ее душевному здоровью. Напротив, она ощущала какое-то счастливое волнение, жажду действия, словно сама весна, из родника которой она никогда еще не пила столь скупыми глотками, потайными путями просочилась-таки в нее и посеяла в тихом блаженстве ее клеток зерно некой еще не раскрывшейся, но осознанной, целенаправленной жизни. И тот, кто смотрел на нее не так, как Мария, занятая только собой и почти не способная своими птичьими, широко посаженными глазами воспринимать окружающее, не мог не заметить, что вся она лучится каким-то чистым, переполняющим ее счастьем, не поддающимся выражению в словах. Однажды после лекций они с Марией стояли у клиники Веребея — Мария ждала своего друга, которого задержали на лестнице; вдруг чья-то элегантная, быстрая тень легла на тротуар рядом с ними. «Добрый день, милые дамы. Кто тот счастливец, кого вы дожидаетесь тут на припеке?..» Это был Иван Ветеши. С тех пор как он тоже начал работать, ассистируя на операциях, его редко видели в университете: он иногда заглядывал лишь на лекции Веребея, словно учиться чему-либо по-настоящему теперь мог лишь у хирургов. «Красив, ничего не скажешь», — подумала, косясь на него, Агнеш. С прошлого лета, когда они так много были вдвоем, он раздался в плечах, увереннее двигался, да и в той дерзкой непосредственности, с какой он подошел к двум своим бывшим симпатиям, было что-то пленительно «светское». Мария залилась густой краской; в темном оттенке бросившейся ей в лицо крови пульсировало инстинктивное желание куда-нибудь спрятаться, убежать, но в следующий момент она вспомнила, что и у нее уже есть кто-то — тем более что «кто-то» как раз появился на ступеньках — и что она уже неподвластна магии знакомого тела; она с вызовом бросила: «Уж только не вы». Представив своего друга, она несколько минут с преувеличенной живостью отбивала легкие мячи Ивана («Вижу, куда более серьезный жанр». — «Куда более надежный»), затем попрощалась и со стесненным сердцем, но с сознанием собственного триумфа двинулась раскачивающейся походкой по улице. «Ну, видите, — повернулся Ветеши к Агнеш, и взгляд его над хищной горбинкой носа и глубокой впадиной рта был прежним: ласкающим и беспощадным. — Вы все еще ненавидите меня за подругу? Люди не стоят такой солидарности». — «А вы бы хотели, чтобы она до гроба носила траур по вас?» — с веселым вызовом ответила Агнеш, оставив без внимания вопрос о ненависти. «Нет, и даже вполне одобряю ее выбор, — ответил Ветеши. — Этот троглодит — особенно когда она привыкнет, что у него ноги потеют, — очень ей подойдет». Агнеш не знала, что такое троглодит, но слово показалось ей метким, и она громко расхохоталась. В этот апрельский день, после недель, проведенных в Цинкоте, она благодаря забавным и высокомерным словам Ветеши словно поднялась на какой-то высокий, дающий телу невесомость этаж бытия, откуда не только госпожа Хубер, Шанта и прочие ее больные, но и коллеги и даже профессора казались шутовскими куклами, которых веселая самоуверенность Ивана, заразившая и ее, могла сбивать камышовыми палицами острот. «Почему вы думаете, что у него ноги потеют?» — «У таких ноги всегда потеют», — сказал с глубокой убежденностью Ветеши. И, уловив в смехе Агнеш податливость, глубже погрузил свой взгляд в ее глаза. «Скажите честно, есть у вас в этом Матяшфёлде — или куда вы там ездите — кто-нибудь?» «Осадное орудие Ветеши», — подумала Агнеш, но вместо того, чтобы обидеться на его дерзость, — так забавен был ей сейчас этот «познанный метод» — опять рассмеялась. «У вас не взгляд, а рентген…» («Нет у нее никого, — установил про себя Ветеши. — Если б был, она бы по-другому ответила. Насмехается надо мной…») — «Слишком уж счастливой вы кажетесь», — сказал он, ощупывая ее придирчивым взглядом (и скорее играя в подозрительность). «А что, если женщина счастлива, то источник следует искать только в вас?» — «А в чем же еще? — с искренним удивлением взглянул на нее Иван. — Мужчина, тот может быть настолько тщеславен, что счастливым его делает удовлетворенное честолюбие. А женщину…» — «Женщину только гормоны, — перебила его Агнеш и покраснела: произнеся «гормоны», про себя она употребила куда более конкретное латинское слово. — Ну, а если у меня тоже какая-то профессиональная радость?» — сказала она, глядя через улицу на подходящий трамвай, и протянула руку. «Расскажите это кому-нибудь другому», — сказал Иван, удерживая ее. Однако Агнеш вырвала руку и побежала через дорогу. Пока она втискивалась в вагон, настроение, которым она заразилась от Ветеши, перешло в ощущение, что она, пожалуй, в самом деле сегодня красива и красотой своей ей удалось сейчас наказать этого наглого, трудно ранимого самца. Ветеши перешел вслед за ней улицу. «А вы знаете, — крикнул он, когда увидел Агнеш на площадке трамвая, — между нами еще не все кончено!»
К отцу в последнее время Агнеш удавалось попасть чаще всего лишь в воскресенье (суббота принадлежала Йоланке, после чего, если не надо было спешить на дежурство, она ужинала с матерью), но уже два воскресенья подряд она не заставала его дома. В таких случаях она довольствовалась беседой с тетей Фридой, из ее настроения, из ее замечаний черпая более или менее успокоительную информацию, дающую возможность на время забыть об этой своей заботе, еще недавно единственной. Тетя Фрида разворачивала принесенное Агнеш мясо, смывала прилипшую к нему бумагу, уносила его в кладовую, и когда Агнеш складывала слова, оброненные старушкой меж этими операциями, то действительно выходило, что жизнь отца протекает как будто спокойно и между двумя стариками, с тех пор как отец перебрался в большую комнату, не бывает серьезных разногласий. Кусок вырезки, на фоне бедности тети Фриды выглядевший почти как порция для Гаргантюа, напомнил ей про аппетит квартиранта, являющийся как бы лишним подтверждением тому, что неслыханное количество белков, можете быть уверены, попадет не в ее желудок. «Er hat einen so guten Appetit»[197], — говорила она, вкладывая в выделенное слово и гордость поварихи, и ужас экономки. На вопрос Агнеш, чем отец занимается, тетя Фрида ничего существенного не смогла ответить. «Er geht halt in die Schule[198], — объясняла она, показываясь из глубины кладовой, до дверей которой Агнеш ее провожала. — Один его ученик недавно болел, — добавляла она, чтобы угодить гостье хотя бы одним интересным фактом. — Er hatte Masern[199], но родители его вели себя очень прилично, заплатили ему и за это время болезни». — «Марки он собирает еще?» — смотрела Агнеш на вышедшую из кладовой тетку, пробуя угадать по ее лицу, продолжается ли возня с отмачиванием и наклеиванием марок, которая зимой вызывала у старой дамы некоторое раздражение. «Теперь не видно, — растягивала тетя Фрида в улыбке свои усики с таким видом, с каким говорят о чужих, одно время сильно досаждавших другим чудачествах. — Er hat, mir scheint, aufgehort damit»[200]. Беда заключалась скорее в том, что отец теперь давал мало пищи тому интересу, с каким тетя Фрида следила за жизнью своих жильцов. «Er frisst was ich zusammen kocht hab[201], — снова посмеялась она его аппетиту, — и потом уходит к себе в комнату. А сейчас, когда погода такая великолепная, Du kennst ihn[202], он все время в горах. «Использует свой проездной», — процитировала она с иронией. — Твой друг, der Arzt[203], тоже с ним ходил». Частые отсутствия отца заставили ее вспомнить еще одну деталь: «Er hat jetzt eine alte Bekanntschaft erneuert[204], это один его старый друг, он к ним в гости ходит… — Но о ком именно идет речь, вспомнить она не могла. — Er ist ein alter Herr[205], они в учительском обществе были вместе». Агнеш по голосу тети Фриды почувствовала, что та почему-то придает значение этим визитам. Может быть, ей не нравится, что где-то там существует некая новая, недоступная для нее сфера; или в тоне ее отразилось то настроение, с каким отец рассказывал ей об этих встречах? Агнеш не испытывала большого желания расследовать тайны этого микромира. Вместо этого, уходя, она попросила передать отцу, уже два раза подряд она не застала его дома; если уж он все равно ходит на экскурсии, так приехал бы как-нибудь к ней в больницу. И даже набросала чертежик, какие в былое время рисовал обычно отец, как найти больницу, сойдя на станции с поезда.
Эскиз этот, бережно спрятанный тетей Фридой и переданный Кертесу, в глазах учителя географии сообщил особый вес приглашению, с которым в иной форме он просто не знал бы, что делать. Сам он еще с тех лет, когда только-только начал работать в гимназии, был мастером таких топографических схем; где он ни бывал, будь то Флоренция (там он провел два года студентом) или Пакозд[206] (туда он ездил, чтобы представить воочию поле давнишней битвы), — любая местность откладывалась у него в памяти в виде такого рода рисунков. Когда память его после плена восстановила былую силу, он и Халми вот на таком же рисунке показывал, как наступали со стороны Даурии красные, где окопались казацкие части и откуда наблюдали за стычкой военнопленные. Чертежик, оставленный Агнеш, сразу сделал Цинкоту интересным, желанным местом (о поселке, что был там обозначен, как и обо всем, что строилось в окрестностях Пешта, он знал еще с довоенных времен), а то, что дочь пригласила его к себе посредством такого рисунка (делать их он научил ее еще в детстве), сообщило свою привлекательность и встрече с ней. «Как поговорите с дочерью, заходите к нам, господин учитель», — услышала как-то под вечер, в пятницу, выходя из палаты, Агнеш со стороны открытой во двор двери. Голос принадлежал одному из больных в полосатом халате, гревшемуся на солнышке во дворе; сказав это, он вернулся во двор, чтобы не упустить последние лучи заходящего солнца. «Обязательно, обязательно», — и в светлом квадрате двери поднялась над лысеющей головой шляпа, которую не узнать было невозможно. Третий силуэт оказался дядей Йожи, который, уже покоренный господином учителем, с несвойственной его натуре услужливостью провожал гостя к ее палате. «Сюда, сюда прошу. Да вот и сама барышня докторша». Агнеш с улыбкой смотрела на отца, неуверенно двигавшегося в сумрачном коридоре. Эта застенчивость в сочетании со способностью прирожденного гуманитария всюду чувствовать себя дома (а обстановка больницы и неожиданная встреча со старым знакомым во дворе лишь придали ему смелости), эта крестьянская робость и в то же время готовность дружелюбно заговорить с каждым прохожим были такими знакомыми и родными, словно отец вошел сюда вовсе не через калитку, а материализовался прямо из ее сердца: вот так же они на давнишних экскурсиях входили в сельские церкви, в крестьянские хаты, вот так же прошел он через войны, через плен, от Читы до Бутырки. «Представь, какой счастливый случай, — сообщил он Агнеш, после того как, под одобрительным взглядом дяди Йожи, поцеловал ее. — Прямо в первую же минуту натыкаюсь тут на товарища по сибирскому плену. Он в моем транспорте ехал, от Уфы до Москвы. Я у его соседа спросил, с которым они на солнышке грелись: туда ли, мол, я попал, — а он мне вдруг кричит: товарищ Кертес! (Хорошо еще, что не «товарищ командир».) Я теперь вспоминаю: он в Уфе ко мне подошел, моего возраста человек, обойщик, кажется, просит, чтобы домой его взяли. В список включить я его не мог, но был у нас в эшелоне один пустой вагон, на случай эпидемии: забирайтесь, говорю ему, туда, а я ничего не знаю. Очень просил зайти к нему перед уходом… Я слышал, ты в женском отделении тут?» — «Да. Зайдете к ним на минутку?.. Не пугайтесь, это мой папа, — сказала она женщинам. — Хочу ему показать, где я работаю». Кертес, по тюкрёшскому обычаю, громко поздоровался со всеми, поклонился одному и второму ряду коек, потом заглянул и в малую палату, бросил взгляд на столик, который Агнеш обязательно хотела ему показать, и повернулся к выходу, словно спеша поскорее уйти от изуродованных болезнью старческих лиц, от вымученных, бессильных улыбок, похожих скорее на оскал и делающих эти лица еще более страшными. «Трудно, наверное, выдержать с непривычки», — сказала Агнеш в коридоре. Однако Кертес, как выяснилось, ничего необычного в палате не обнаружил, а уйти поторопился из неловкости, которую не может не ощущать посторонний мужчина среди стольких полуодетых женщин. «Трудно выдержать, — сказал он, словно услышав из уст ребенка слишком значительные слова, не подходящие для обозначения заурядных житейских вещей. — Если б у наших больных в омском бараке была такая палата… А мужчины — на той стороне?» — «Я вас туда отведу, папа, только сначала посмотрите мою комнату. Не пугайтесь, — сказала она, снимая ключ, — я ее временно оккупировала».
Кертес бегло огляделся и в кабинете. «Стало быть, вот ты сейчас где живешь». — «Вообще-то я здесь сплю только, а вечера провожу в той маленькой палате, с больными, или в лаборатории». Кертес слушал ее, но внимание его было все еще занято неожиданной встречей. «Ну и как, не прогнали его, — вернулась и Агнеш к уфимскому солдату, — из заразного вагона?» — «Нет. Когда мы в Москву прибыли, — я одного своего человека просил за ним посматривать — с ним там еще одиннадцать человек было». — «Сплошь дезертиры?» — засмеялась Агнеш. «Теперь, говорит, с почками он здесь… («Ага, это с нефросклерозом», — подумала Агнеш.) Ты его знаешь?» Мысль о том, что уфимский солдат, вероятно, уже рассказал в мужской палате, кого он только что встретил и как господин учитель в свое время ему помог, так что его там скорее всего уже ждет небольшая компания, явно мешала Кертесу сосредоточиться на условиях, в каких живет его дочь. «Я скорее мочу его знаю, — еще раз попробовала Агнеш вернуть отца к своей работе. — В мужскую палату я редко хожу». Однако Кертес, видимо, не способен был оценить в полной мере, что это значит, если студентка третьего курса лучше знает мочевые цилиндры больного, чем черты его лица. «Знаете что, папа? Пойдите туда минут на десять, а я пока своим инъекции сделаю». Она проводила отца до дверей палаты. Там уже целая группа больных, собравшись в кружок (мужчин болезнь не так крепко приковывает к постели), слушала похождения бывшего уфимца, так что даже лежачие, сделав усилие, повернули к вошедшему головы. Агнеш давно ввела свой единственный стрихнотонин, вернулась в кабинет младшего врача — наверное, отец придет туда, — потом погуляла по коридору и вернулась в свое отделение. «Не ревновать же мне отца к этому уфимцу, — уговаривала она себя, — если память о былых страданиях ему дороже, чем мои нынешние успехи…» Когда она вошла в мужскую палату, отец сидел на постели уфимца. Вокруг, кто как, расположились больные. Компания только что отсмеялась и готовилась слушать очередную историю; сейчас говорил уфимец: «На мосту через Волгу дверь теплушки нельзя было открывать. А солдатику одному как раз до ветру понадобилось, он дверь и отодвинул. (Сидящие лицом ко входу, увидев Агнеш, заулыбались.) Так что вы думаете, — стреляли-таки в него». — «До меня эта история тоже дошла, — сказал Кертес. — До самой Москвы над ним потешались. — Тут он заметил дочь. — Поболтали мы тут, вспомнили прошлое». — «Да уж, и рассказать невозможно, чего только не пережили люди», — оглянулся на нее уфимец, словно сейчас он находился в несравнимо лучших условиях; после получаса такой душевной беседы с доброжелательным барином, который и в плену, как мог, помогал бедным солдатикам, все больничное общество, на которое махнули рукой доктора, чувствовало, что не так уж и скверно то место, где они сейчас оказались.
«Папа, а кто это тот ваш старый друг и коллега, которого вы так часто теперь навещаете на Холме Роз?» — спросила Агнеш, когда спустя четверть часа, взяв отца под руку, она провожала его на станцию. «Что, тетя Фрида насплетничала? — сказал Кертес, и в углах его губ появилась лукавая морщинка, с какой он говорил о некоторых щекотливых вещах. — Это директор Тейн, с которым мы Общество помощи вдовам и сиротам учителей затевали». — «Ну как же, Тейн, — обрадовалась Агнеш всплывшему в памяти имени. — Он на тех типографских бланках значился, которые я во время войны все израсходовала. Меня еще совесть из-за этого мучила». — «С фондом нашим то же самое стало, что и с бланками», — махнул рукой Кертес. «У него еще сын был, преподавал у нас в гимназии Андрашши. Очень был нервный, мы часто слышали, как он отчаянно кричит в «Б». Он ведь, кажется, умер?» — вспомнила Агнеш. «Как же, еще в начале войны, от прививки против тифа. Жена и сын все еще живут со стариком». Поезд уже стоял на станции, когда Кертес задал обязательный свой вопрос: «А как мамуля? Навещаешь ее иногда?» — «Да, в субботу у нее ужинала». — «Со мной она в последний раз очень неприветливо обошлась, — сказал Кертес уже с подножки вагона. — Я даже пригрозил: коли так, буду посылать деньги по почте». Произнеся страшную эту угрозу и улыбнувшись Агнеш на прощание, былой ее идеал (который и таким, сломленным, как-то способен был оставаться идеалом) тихо двинулся вместе с вагоном и уехал, оставив улыбчивую, печальную свою человечность в сердце дочери, словно то было ее собственное укоренившееся в душе чувство.
То рассеянное внимание, с каким Агнеш в этом месяце следила за событиями в мире, лежащем вне пределов больницы, с самой большой неожиданностью встретилось все же на улице Лантош. Никто не расспрашивал Агнеш о новой ее работе с бо́льшим воодушевлением, чем мать. В свое время, когда Агнеш, как новоиспеченная гимназистка, в матросской блузе, сшитой домашней портнихой, возвращалась из гимназии Андрашши или когда первокурсницей впервые вырезала в анатомичке своим новеньким скальпелем saphena magna[207] из жирной женской ляжки, мать вот так же ждала ее прихода, за деланно-равнодушным «Ну как дела?» (или: «Спрашивали сегодня?», или: «Не мутило тебя, когда скальпель входил в кожу?») пряча нетерпеливое ожидание вестей, питающих ее гордость. «Ну как, состоялась первая твоя инъекция?», «Не охал пациент?», «Но в вену еще не делала?», «Хорошо все же, что друг твой принес себя в жертву», «А главного врача так и не было?», «А что сказали на это больные?», «Знают они, что ты еще студентка?», «Ужасно все-таки лежать в таком месте», «Кто туда попадет, знает уже, что его ждет», «Но ты с ними беседуешь все-таки?», «Это очень важно, чтобы больные к тебе относились с доверием. Когда я была в госпитале»… То, что к этому волшебному миру, который так привлекал ее с молодости, она могла теперь приобщиться хотя бы благодаря дочери, выслушивая ее свежие впечатления и заодно излагая свои госпитальные воспоминания (они вполне могли пригодиться дочери в ее работе как неоценимый источник опыта), наполняло ее таким приятным и бескорыстным волнением, какого она давно уже не испытывала. Больных, подопечных Агнеш, она вскоре знала по именам и, прежде чем поставить перед ней заботливо приготовленный субботний ужин и радоваться хорошему аппетиту дочери, обязательно спрашивала то про старуху, умирающую от уремии, — жива ли та еще? — то про кавалера госпожи Хубер — научился ли тот после нового удара выбираться во двор; даже вопросы, касающиеся ужина и нацеленные на то, чтобы выманить похвалу, преследовали, в общем, ту же цель: «Маринованную капусту, я знаю, ты любишь… Это не то, что больничный стол, верно ведь?» Больше всего ее тронула судьба госпожи Финты. Актера она знала прекрасно по многим спектаклям и ошеломлена была тем, что мать такого человека закончила жизнь на «свалке». «Вот и меня то же самое ждет», — сказала она пророческим тоном, удивительным своим чутьем уловив сходство, которое виделось Агнеш в ее судьбе и судьбе больной. «Полно, — запротестовала Агнеш. — К тому времени я уже буду адъюнктом в клинике и устрою вас в свое отделение». — «Ты тоже откажешься от меня», — все больше входила в роль отверженной госпожа Кертес. Однако все это было лишь незначительной рябью на глади той большой радости, которую вызывало в ней погружение дочери в практическую работу. Если Кертес к тому, что дочь так рано выполняет уже «почти докторские обязанности», относился как к чему-то вполне естественному, как к форме медицинского ученичества, то мать в полной мере понимала значение этого факта. «За это ты очень должна быть благодарна своему другу. Когда будешь проходить преддипломную практику, сиделки уже не будут над тобой хихикать, как над тем молоденьким прапорщиком, который в госпиталь попал прямо из университета и не мог даже зонд в желудок ввести». Деятельность Агнеш в больнице и ее рассказы по субботам за тушеными почками или над жарким из печени стали, видимо, самой частой и увлекательной темой разговоров во время разъездов госпожи Кертес по городу, от парикмахерши до мелочной лавки крестной матери Агнеш, так что отзвуки собственных успехов долетали до Агнеш из самых неожиданных мест. «Слыхал я, слыхал от вашей милой мамаши, в сколь благоприятных ауспициях[208] началось ваше поприще», — обратился к ней однажды, оказавшись рядом в подземке, господин Виддер — старший официант из ночного увеселительного заведения. О том, что дядя Тони снова в хороших отношениях с матерью, Агнеш тоже узнала из такой вот случайной встречи. «Откуда это мы так спешим, госпожа докторша? — как-то остановил он ее возле своей конторы на Восточном вокзале. — Из больницы своей возвращаешься? Слышал я, как славно ты начала. Уж операции делаешь?» — «Я, операции? Кто вам такое сказал, дядя Тони?» — рассмеялась Агнеш. Выяснилось, что под «операцией», о которой брат с сестрой судачили по случаю примирения (Агнеш подозревала, что тут замешаны какие-то денежные вопросы), подразумевалось выдавливание и обеззараживание фурункула у больного табесом. «В прошлый раз дядя Яни ко мне заходил. Кажется, он как раз от тебя возвращался, из Цинкоты. Просто железный старик, — засмеялся, вспомнив зятя, дядя Тони. — Такая история — а ему хоть бы что!» — сказал он, как бы оправдывая тем самым и племянницу, которая, по его наблюдениям и по рассказам сестры, после всего происшедшего тоже прекрасно чувствовала себя.
Однако сквозь тот непритворный, лихорадочный интерес, с каким госпожа Кертес следила за медицинской деятельностью дочери («Интересно, как она об этом с Лацковичем говорит?» — думала порой Агнеш), время от времени прорывались высказывания, которые — не будь бдительность ее усыплена совсем иными проблемами — вновь, конечно, пробудили бы в ней подозрения. Пирошку ее аптекарь в один прекрасный день заставил-таки сделать окончательный выбор, и Агнеш, чьи сведения о личной жизни Пирошки так и застряли на перипетиях последнего музыкального вечера, обнаружила вдруг, что та съехала от госпожи Кертес и стала аптекаршей где-то в Пештэржебете. «Знаешь, я решила не сдавать больше комнату, — сообщила дочери госпожа Кертес, прикидывая ущерб, нанесенный постоялицей постельному белью, скатертям и доброй славе дома. — В конце концов, ты формально ведь тоже здесь живешь. И не могу же я из-за каких-то паршивых нескольких тысяч — пока их получишь, на них уже и купить ничего нельзя — вывешивать красный фонарь на дверях». А иногда она принималась мечтательно рассуждать о том, что хорошо бы ей взяться за какое-нибудь дело: «Не могу я сидеть сложа руки и смотреть, как идут годы. Крестная твоя с мужем советуют держать лавочку: для одинокой женщины это самый надежный хлеб…» Госпожа Кертес, часто бывая у них, в общих чертах вроде уже освоила это занятие: иной раз она подавала покупателям мундштук или журнал. «Но ведь для этого разрешение нужно», — говорила Агнеш, которая эти планы считала чем-то вроде увлечения батиком. «Если есть кое-какие связи…» — со значением отвечала госпожа Кертес. «Ага, Лацкович», — мелькнуло у Агнеш в глазах. А мать, словно прочтя неслышные сигналы азбуки Морзе, пояснила: «Вот и у дяди Тони есть на примете какая-то лавочка». А упоминания, что владелец дома все время наседает на нее с обменом квартиры (недавно он даже пообещал, что всю жизнь будет обеспечивать ее виноградом и миндалем из своего имения в Токае), в последние месяцы звучали постоянным рефреном; правда, госпожа Кертес все еще относилась к этим его предложениям как к заманчивой, но опасной сказке — вроде песни сирен, — которой она вовсе не намерена поддаваться.
Так что для Агнеш, несмотря на все эти довольно ясные и легко дополняющие друг друга признаки, полной неожиданностью явилось, когда в один субботний вечер (Агнеш как раз перебралась к Мате) госпожа Кертес, подав дочери ужин и встав у нее за спиной, чтобы Агнеш не сразу могла увидеть ее лицо, без предисловий, словно бросая бомбу, вдруг сообщила: «А я обменяла квартиру». Жуя пропитанный подливкой рис, Агнеш поглощена была, кроме обсасывания куриных позвонков, собственными невеселыми раздумьями о том, как она будет спать в одной комнате с Матой и не стоит ли ей, взяв дома чистое белье, вернуться сегодня же в Цинкоту, чтобы поскорее пройти это испытание (что наверняка расстроит мать); ей потребовалось некоторое время, пока торжественный тон матери, а затем и смысл происшедшего (не дающего госпоже Кертес покоя с самого утра, с того момента, когда она поставила свою подпись под заготовленным договором) дошли до ее сознания. «Эту? — спросила она растерянно, словно у матери была еще другая какая-нибудь квартира. — На соседнюю, где госпожа Рот жила?» — «Я и договор уже подписала с владельцем», — не отвечая на праздные эти вопросы, постаралась предупредить госпожа Кертес возможное сопротивление Агнеш. Подписав договор, она целый день вела воображаемый спор с дочерью и заготовила целый арсенал аргументов. «Чего ты на меня так смотришь?» — пошла она в наступление, когда Агнеш, с куриным пупком на вилке, молча уставилась на нее. «Я не смотрю, а стараюсь понять», — ответила Агнеш, продолжая еду. «Да уж тебе-то как раз нечего удивляться, — сказала мать. — Мне одной ни к чему такая квартира. Тебя всегда больше к отцу тянуло, ты с ним жить хотела. Думаешь, я не знаю, что это он попросил тебя не поступать со мной так, как ты собиралась? Но ты все равно куда-нибудь норовила уйти. То к подруге своей, то в эту больницу. Готова в любой чужой постели спать, лишь бы не жить вместе с матерью. Тогда скажи, для чего мне этот сарай каждый день убирать? Если уж я осталась одна, достаточно будет мне и комнаты». Агнеш, не возражая, ела цыпленка с рисом, только вилка ее и челюсти теперь двигались немного медленнее: по мнению госпожи Кертес, это был признак неодобрения. Мать, конечно, сама знала — Агнеш нисколько не сомневалась в этом, — что виновата перед дочерью, перед семьей, перед самою собой, и нападает сейчас на нее, чтобы заглушить в себе чувство вины. Все это было так же ясно и просто, как самообман госпожи Хубер или Шварцер. Но потому-то и было жестоко взять и развеять этот самообман. «А сколько получит из этих денег Лацко?» — могла бы задать вопрос Агнеш. Или воспользоваться тайной того злополучного письма и ударить еще больнее: «Уж теперь-то Лацкович получит патент на свое изобретение». Но это было бы столь же безжалостно, как сказать, например, госпоже Хубер: «Полно вам дурака валять! Не видите разве, что у вас рак и метастазы в плевре?» Мать точно так же должна сама пройти все испытания, которые ей готовит ее болезнь: грозящее безденежье, охлаждение Лацковича, одиночество, утешение вином, — как больные Агнеш, прежде чем умереть, проходят через страдания и самообман. Когда процесс этот подойдет к концу, — завершится он не смертью, а скорее всего чем-нибудь похуже, — тогда, пожалуй, и она, Агнеш, сможет что-то для нее сделать. Пока же она должна разговаривать с ней, как с госпожой Хубер.
«И как вы теперь поступите?.. — спросила она, переводя взгляд с остатков цыпленка на мать. — С разницей, — добавила она, называя то, что мать получила ценой своего предательства, отвлеченным словом, как какую-нибудь грязную, неприличную вещь. — Купите патент на лавку, которую дядя Тони рекомендует?» Госпожа Кертес, совсем сбитая с толку, смотрела в серые глаза дочери, в которых не было ни малейшей враждебности. Вопрос этот словно был ей мостиком: что ж, давай излагай свои оправдания, рассказывай про лавку. Она не могла даже предполагать, что так легко избежит всяких неприятных вопросов; в ней на мгновение даже воскресла давно развеянная надежда, что Агнеш, может, вовсе ничего и не знает, не питает никаких подозрений, а потому и не спрашивает, сколько денег нужно для лавки и куда уйдет остальная сумма. «Патент я купила уже», — тихо, смущенно сказала она, явно выбитая из колеи тем, что не может излить заготовленные доводы и эмоции. Агнеш стала расспрашивать насчет лавки: где она находится, большая ли там клиентура, почему расстается с ней прежний владелец, сможет ли мать целый день сидеть за прилавком? Госпожа Кертес отвечала сперва настороженно, затем все более увлекаясь и хватаясь за эти вопросы, как за решетку, сквозь которую она уже видит свою свободу, свое чудесное освобождение от нужды и забот. Сознание вины в ее душе принимало разные формы: сначала она расчувствовалась, потом стала жалеть себя, потом плаксиво обвинять остальных. «Должна же я позаботиться о своей старости. На те крохи, что мне отец твой бросает, не проживешь. Ишь, приносит, будто милостыню какую-то. Другое дело, если бы у меня был ребенок, на которого я могла бы отписать квартиру. Но на тебя ведь нельзя рассчитывать. Думаешь, я не знаю, — пустила она в ход самую свежую обиду, — что отец приезжал к тебе в больницу? Его ты могла пригласить. Хотя что он понимает в том, чем ты занимаешься! А про меня, про родную мать, которая всю неделю только и думает: что-то расскажет на этот раз Агнеш, — ты и не вспомнила. Хоть ты мне и не веришь, а я хорошей сиделкой была. Да и вообще, разве не заслужила я, чтобы ты мне сказала как-нибудь: не хотите, мол, мама, приехать посмотреть, где я работаю?» — «Но ведь вы можете просто взять и приехать», — сказала Агнеш и покраснела, так как в самом деле не очень хотела, чтобы мать навестила ее в больнице. Насколько спокойно она чувствовала себя, увидев в дверях лысый лоб отца, настолько же ей было бы не по себе, если бы в больнице вдруг появилась мать. «Если вам интересно, приезжайте в любое время». — «Нет уж, не хочу я тебе мешать… Только вот что я скажу: когда отец здесь похвастался, что ездил к тебе, я потом всю ночь глаз не сомкнула. Спроси хоть тетушку Бёльчкеи: я после этого сразу ее вызвала, пусть передаст, что я согласна продать квартиру».
Единственным человеком вне стен больницы, о ком Агнеш в течение всего этого решающего ее судьбу месяца думала постоянно, был Халми. То, что он устроил ее сюда, сообщило их отношениям известную определенность. Даже больные знали, что Балла держит ее ради «хромого доктора», а тот ради нее, Агнеш, таскается так часто сюда, к черту на кулички, со своей больной ногой. Мари Надь, попавшая сюда из дома призрения и сохранившая еще достаточно силы в руках, чтобы подтягиваться в своей постели у окна, держась за решетку, и следить за редкими проявлениями жизни в больничном дворе, выражала свою радость громким «Барышня докторша!», когда в калитке возникал уже знакомый и ей хромой силуэт, а когда Агнеш, оторвавшись от измерителя кровяного давления, поднимала на нее взгляд, та со стыдливым смешком сообщала шепотом — так, что слышала вся палата: «Хромой доктор идет». Балла отношения между ними принимал к сведению столь же невозмутимо, как многие другие вещи, о которых знал, но не говорил. Но если ему почему-либо приходилось упоминать Халми, он отзывался о нем так, чтобы по возможности укрепить его авторитет в глазах Агнеш. «В поликлинике был у нас схожий случай, — сказал он однажды, как раз в связи с Мари Надь. — Мы с коллегой Халми еще поспорили, действительно ли это sclerosis poliinsularis[209]». Скорее всего, он и сам чувствовал, что качества, за которые он уважает Халми, отнюдь не тождественны тем чертам, которые сообщают мужчине привлекательность в глазах молодых девушек. Даже очки сестры Виктории как будто сверкнули заговорщической улыбкой и явным одобрением столь бескорыстного чувства, когда Агнеш вернулась от знакомого мясника, зятя их поварихи (где она просила отложить мяса получше для отца и тети Фриды). «К вам доктор Халми. Я ему сказала, чтобы шел в кабинет, вы скоро вернетесь». Тревожнее было то обстоятельство, что связавшее их общее мнение могло повлиять и на Халми. Конечно, уважение к Агнеш и собственная увечность делали его весьма осторожным. Как и раньше, он, в общем, вполне довольствовался ролью доброго друга, отмеченного, может быть, особым расположением, что давало ему право ковылять рядом с Агнеш, греясь в лучах ее щедрой натуры; он и теперь не требовал для себя ничего, кроме возможности приезжать сюда, даже не ради Агнеш — ведь он и раньше бывал здесь у Баллы, — и, по праву подставившего ей руку для первого укола, смотреть, как справляется она с работой. Но могла ли она быть уверенной, что за щитом его сдержанности — ведь он знал, что у Агнеш все еще нет никого, — не прорастут, не возьмут однажды верх дерзкие надежды, что среди прочих явно преувеличиваемых им достоинств он не начнет приписывать ей (ведь Агнеш «совсем не такая, как другие женщины») способность видеть в мужчине не бросающийся в глаза физический недостаток, а большие (в этом-то Халми не сомневался) заслуги. Что, если в один прекрасный день обнаружится, что такой способностью Агнеш вовсе не обладает? Если надежда его, выразившись в словах, разрушит и радость дружеского общения? Если душа, таящая в себе только ненависть к миру, но рядом с нею превращающаяся в счастливое, тихое озеро, вдруг — по ее вине! — разочаруется в добрых чувствах и выпустит на свободу своих вскормленных теориями чудовищ? Самая же большая беда была в том, что Агнеш, кажется, тоже привыкла к влиянию, которое она оказывала на Халми. Конечно, он сильно преувеличивал ее достоинства. Можно было лишь тихо посмеиваться, что такой ко всему на свете критически относящийся человек, словно став объектом какой-то капризной богини, наказавшей его слепотой, вынужден видеть в таком заурядном существе, как она, верх совершенства. Правда, Агнеш и сама ощущала, что где-то в глубине, под всеми ее недостатками, в самом деле есть чистый подземный родник, который, вырываясь порой на поверхность, превращает ее в тихо льющийся, хотя и невидимый глазу источник. Многие люди вокруг — ее ученица, больные — ощущали его прохладу, его свежие брызги, но сами не знали, что именно любят в ней; другие, например мать или — в последнее время — Мария, старались придумать какое-нибудь объяснение, чтобы им не нужно было поддаваться влиянию этой таящейся в ней силы. Халми был единственным, кто не просто видел в ней это свойство, но воспринимал его как некое природное явление и, по убеждению Агнеш, уважал ее именно за него. И не только уважал, но и старался мерить себя по нему, — как он, наверное, про себя говорил, хотел быть достойным ее. С тех пор как он стал сюда приезжать, он всегда был в свежей рубашке, да и лезвия в бритве, видимо, менял чаще и более основательно ими пользовался (так что под zygomaticus[210] и в углах labium superior[211] не оставалось уже длинных, переживших два-три бритья волосков) — словом, как будто даже натуру свою старался вымыть и выбрить. Он не только безжалостно искоренил свой прежний злобный смешок, но и словно бы беспрекословно принял наивный тезис Агнеш о том, что раз свойства человеческие, как учит социология, суть плоды общественных условий, то их нельзя ненавидеть, ведь не ненавидим же мы больных раком за то, что биологические условия породили в их организме зловонную опухоль. «Ненавидеть — нет, но оперировать — обязательно», — говорил Халми, в последний момент подавляя готовый вырваться смешок, а вместе с ним свою злость. Агнеш знала, конечно, что, несмотря на его благородную решимость быть добрее, Халми — упрямый, с тираническими наклонностями человек, чья методичность порой довольно близка ограниченности; подобно тому как свежевыглаженная рубашка и новые ботинки лишь больше выпячивали в нем то, что нельзя смыть и приодеть, так и в его поведении, которое он старался подладить под ее вкус, было нечто такое, чему, словно хитростям злого волка из сказки, заговорившего вдруг тонким голосом, нельзя было не улыбнуться. Однако именно это переплетение унаследованных и благоприобретенных черт со стремлением стать лучше и влекло Агнеш, словно ей предстояло излучением своим, как рентгеновским скальпелем, освободить здоровый орган от обильно растущих на нем бородавок. Среди неизлечимых больных, окружающих ее и в больнице и дома, Халми был единственным излечимым — рядом с ним она ощущала себя не сиделкой, а хирургом. Было тут, конечно, и некоторое тщеславие, по крайней мере сама Агнеш именно так воспринимала свое отношение к Халми; более того, когда она думала, какой неоплатный вексель выдает она этим своим вниманием его растущим надеждам, она начинала презирать себя за легкомыслие и безответственность. Если бы так можно было на всю жизнь обеспечить дружбу, братское отношение! Но невозможно было даже представить себе, что эти надежды в его упрямом сердце могут переродиться в дружескую симпатию, о какой она читала в романах, а не в неумолимую, распространяющуюся на все человечество — или по крайней мере на «господствующие классы», на «предателей своего народа», на «оппортунистов», то есть практически на всех вокруг, — ненависть! И еще в меньшей мере могла представить, что тот акт, который на лекциях называли ставшим столь привычным латинским словом и суть которого, если смотреть на него как на химическую реакцию, была такой тривиальной, почти смехотворной, однако, с точки зрения душевной жизни, все-таки представляла собой, видимо, нечто очень значительное, — она совершит впервые именно с Фери Халми.
Всю эту цепочку мыслей, живших в ней скорее как некое неясное ощущение, как угрызение совести или, еще вероятнее, как гнетущее беспокойство, вывел из полутьмы, в которой духовная наша инертность обычно удерживает работу разума и зародыши мыслей, могущих привести к неприятным выводам, один-единственный вопрос новой соседки Агнеш. С тех пор как они спали в одной комнате, точнее, каморке, Мата удивляла Агнеш еще чаще, чем прежде, когда ей приходилось лишь с помощью логики искать связь между вызывающим блеском глаз, глубоким певучим голосом Маты и грубыми ее выходками, странным образом сочетающимися с природной сдержанностью, даже застенчивостью. Агнеш предполагала, что эта на первый взгляд вульгарная женщина, которая наверняка «имела дело со многими мужчинами», с полнейшим равнодушием и бесстыдством будет перед ней раздеваться, расхаживать, немного, может быть, даже кичась своим созревшим в любви, ладным, хороших пропорций (что не скрывал даже больничный халат) телом. Вместо этого Мата, даже если они ложились одновременно, терпеливо ждала, когда Агнеш будет в постели, до тех пор она возилась в операционной, что-нибудь мыла там и лишь потом, погасив свет, раздевалась. Этой стыдливости Агнеш скоро нашла более или менее приемлемое объяснение; недавно, сидя у себя в раковой палате, она наблюдала, как Мата болтает и шутит с больной (с диагнозом aorta insufficiencia), которой Фюреди вводил сальварсан. На лицах обеих женщин — и на лице Маты! — было такое оживление, почти сияние, какого Агнеш никогда еще не видела у нее, словно некое чувство родства, общая, задевающая лучшие струны сердца тема заменила постоянную враждебную замкнутость Маты счастливым состоянием, какое испытывают глубоко понимающие друг друга люди, сообща слушая с детства знакомую, не понятную остальным, даже не слышимую ими песню. «Да неужто?..» — подумала она. Госпожа Хубер, которая не любила Мату, всегда поминала ее как цыганку. Агнеш считала, что это из-за смуглой кожи и черных волос Маты. Теперь, увидев ее вдвоем с больной цыганкой, она почувствовала, что Мата хотя бы наполовину тоже, должно быть, цыганка; этим легко было объяснить и необычную странность, прямоту ее характера, словно бы сформированного неким более древним, совсем иным обществом. Потому она и раздевается в темноте. Такое смуглое лицо не редкость, но ее худые, темные, своеобразных пропорций руки, которые Агнеш, просыпаясь, не раз видела поверх больничного одеяла, не оставляли сомнений относительно происхождения этой пигментации. Но, пожалуй, еще большим сюрпризом, чем разгаданная или кажущаяся разгаданной стыдливость Маты, для Агнеш была ее набожность. Те звуки и шорохи в темноте, на соседней постели, которым Агнеш никак не могла поначалу найти объяснение, оказались — молитвой. Причем не просто молитвой со складыванием рук, на коленях, как молятся маленькие девочки перед сном. Агнеш, кажется, никогда еще не получала такого впечатляющего урока: образ другого человека, который мы носим в себе, даже если строим его с некоторым интересом, есть не больше чем грубое приближение, и один подсмотренный факт может напрочь его разрушить. Если уж брать религиозные ассоциации, то Агнеш живущую в ее представлении Мату скорее связала бы с Люцифером, демоном отрицания, настолько точно она находила всегда, что и как можно с наибольшим эффектом разрушить одним-единственным словом (то, что Мата — цыганка по происхождению, то есть представляет иное, более близкое природе, общество, тоже во многом объясняло ее непримиримость); и вот теперь оказалось, что эта неистовая язычница каждый вечер, как молоденькая институтка, стоит на коленях в постели и, склонив голову на руки, а может быть, еще и маленькие четки намотав на запястье, молится, и молится не только господу, но и наверняка еще Деве Марии, как это делают девушки-католички. За годы, минувшие со времен своей конфирмации, Агнеш разве что в период коммунистической власти раз или два размышляла о религии (авторитет отца и прежде внушал ей прохладное отношение к религии); и вот эта маленькая смуглая женщина, у которой даже тело пахло не так, как у всех, после целого дня неукротимой войны со всем миром стоит на коленях и молится Деве Марии о своем Балле: это куда сильнее побуждало задумываться над невероятной силой религии, чем все, что Агнеш видела до сих пор в своем протестантском мире. Открытие это, конечно, опять же многое объясняло: например, понятно стало, как сестра Виктория — этому Агнеш всегда особенно удивлялась — терпит рядом с собой эту «нечистую, блудную тварь» или кому предназначен букетик нарциссов, который Агнеш, к огромному своему удивлению, как-то увидела в руке Маты, стоящей перед часовней сестры Виктории и ожидающей, после стука, поворота ключа в двери. «Вы верите в бога?» — вырвался у Агнеш вопрос, когда на третий или четвертый вечер, пока Мата гладила свою батистовую ночную рубашку, она обнаружила на стене над ее кроватью серебряное распятие. В предыдущие дни его — она это знает точно — там не было, Мата, должно быть, сняла его перед вселением Агнеш и теперь повесила снова: или из упрямства, устыдившись своего малодушия, или почувствовав, что все равно не может утаить своей вечерней молитвы, как спустя несколько дней, хотя раздевалась по-прежнему в темноте, уже не прятала своей смуглой кожи. «Что, не подумали бы?» — раздался готовый к отпору альт. Потом, немного более дружелюбно и чуть смущенно, она добавила: «Бог его знает, сама не пойму, верю я или не верю».
Вероятно, своеобразным ответом на этот глубоко личный вопрос (Агнеш сама не знала, что ее побудило задать его — недостаток тактичности или жажда понять Мату) стало то, что, закончив свою молитву, Мата, вопреки обыкновению, вдруг заговорила с ней: «Вам этот доктор Халми кто — жених?» — «Мне? — вскинулась из полусна Агнеш. — Почему вы так думаете?» — «Не думаю, вся больница так считает». — «Нет, не жених, просто друг. Мы с ним почти земляки». — «Стало быть, в Цинкоту он таскается, только чтобы с землячкой поговорить?» — произнес из темноты звучный альт. Слова эти так убедительно сорвали покров со лжи о землячестве, а заодно и с приукрашивающих их положение Мыслей, что Агнеш вместо ответа лишь рассмеялась. «Вы за него, поди, и не смогли бы пойти?» — спустя какое-то время нарушила Мата новым вопросом сосредоточенную тишину. «А вы бы смогли?» — ответила вопросом на вопрос Агнеш, выдав больше любопытства, чем собиралась. «А почему бы и нет? Из-за того, что днем, когда все видят, он рядом хромает? Зато ночью куда проще. Что не совсем ловко ногу кладет?» Агнеш рада была, что темнота скрыла густую краску на ее лице. Нет, вовсе не из-за намека. На лекциях Веребея она слыхала и не такое, причем в эти моменты все смотрели на них, на девушек. Покраснела Агнеш из-за того, что Мата коснулась тех полуосознанных мыслей (пораженная кокситом нога, ее роль в том самом акте), от которых по спине у Агнеш бежали мурашки, когда она думала, чем могут кончиться их отношения. «У вас, девственниц, воображение, конечно, брезгливое», — прибавила Мата к вызвавшей тишину фразе свой комментарий, подводящий итог разговору. Однако Агнеш, словно к какой-то еще неведомой ей опасности, влекло в глубину, открывшуюся ей в прямоте этой многое повидавшей женщины, и она не захотела укрыться за молчанием. «Вы так уверены, что я девственница?» — задала она, чтобы побольше услышать, напрашивающийся фривольный вопрос. Женщины, которые и в двадцать один год все еще остаются девственницами, в глазах Маты скорее всего должны были быть холодными, отвратительными, выставляющими себя напоказ, откровенно торгующими своей plica semilunaris существами, чаще всего к тому же еще и блондинками, на которых она, дитя природы (Агнеш, хотя не раз танцевала на тюкрёшских свадьбах под цыганскую флейту, знания о цыганах черпала в основном из стихотворений Ленау да из оперы «Кармен»), смотрела с ненавистью легко и свободно отдающей себя женщины. «Чувствую», — просто ответила Мата. «И презираете меня за это… если это, конечно, так?» — спросила Агнеш почти с вызовом, уходя от признания и продолжая словами «если это так» игру во фривольность. «Почему же? — сказала Мата. — Я, правда, уж и не знаю, была ли я когда-нибудь девственной. Но если с этим живешь спокойно, так оно, наверное, неплохо. — Затем после некоторого молчания добавила: — Любовь — довольно пакостная штука, плохо тому, кто в нее вляпался…» «Это — лирика», — думала Агнеш, ожидая, будет ли продолжение. Но лежащая на соседней койке — так близко, что можно было почти ощутить тепло ее тела, — маленькая черноволосая женщина была не Мария, тут не надо было бояться, что придется лечь рядом с ней, утешать, успокаивать ее рыдания.
В одну из майских суббот, когда Агнеш пришла домой, на улицу Лантош, и шагала через двор, ей из привратницкой постучала в стекло двери тетушка Бёльчкеи и с выражением, приберегаемым для особо печальных случаев, сообщила, что барыня уже переехала в квартиру госпожи Рот; госпожа Кертес, в полном упадке сил топчущаяся среди как попало нагроможденной мебели, дала ей письмо, которое она вытащила из серебряной вазы в виде двух больших капустных листов: в более спокойные времена в этой вазе лежали отломившиеся от шкафа планки, оторванные и ждущие, когда их пришьют, пуговицы, оплаченные счета. Вложенный в конверт лист бумаги был исписан расползающимися буквами, в которых Агнеш сразу узнала почерк Бёжике: несмотря на пештское реальное училище, он остался в том самом виде, в каком сложился в тюкрёшской реформатской школе; буквы эти, словно с немалыми усилиями — и, видимо, после нескольких дней подготовки — собранное стадо, сложились-таки в цельные фразы, донеся до Агнеш свой удивительный смысл. «На свадьбу тебя зовут, подружкой», — сообщила госпожа Кертес, считавшая своей материнской обязанностью вскрывать адресованные дочери письма. В самом деле, Бёжике с радостью извещала Агнеш, что в пятницу, перед троицей, состоится ее свадьба, в связи с чем она, а также ее жених почтут за честь, если Агнеш сможет принять в ней участие как подружка. Чтобы событие это стало для Агнеш более привлекательным, Бёжике сообщала про дружку: «Дружкой будет очень симпатичный молодой человек из Секешфехервара, двоюродный брат моего жениха, дипломированный ветеринар, по рассказам одного своего друга, он очень уже о тебе наслышан и мечтает тебя увидеть». «Да, тут нельзя не поехать», — сказала Агнеш, озабоченно глядя на письмо: сейчас, когда сессия на носу, ей только и разъезжать подружкой по свадьбам. «А что такое?» — спросила мать, которая, очевидно, думала то же самое, только совсем по другой причине (Лацкович ведь появился у них как кавалер Бёжике). «Я у них столько времени провела в войну, — выдвинула Агнеш на место главного аргумента (ведь за тот позор, что бедняжке пришлось пережить, самая малая плата — если в день торжества восстановленной справедливости она, Агнеш, тоже будет идти в процессии) тот, что должен был за ним следовать, — не могу я ее обидеть». — «А они нас обидеть могут? — взвилась госпожа Кертес; всю тюкрёшскую родню, среди которой еще не столь давно прекрасно проводила летние месяцы, она представляла в последнее время какой-то компанией злоумышленников, занятых собиранием и распространением самых черных слухов о ней. — Ты бы знала, что они про нас говорят. А ведь сколько я с их детьми возилась!.. Хорошо, поезжай. Я не буду требовать, чтобы из-за меня вы обижали дражайших тюкрёшских родственничков», — остановила она себя, пока совсем уж не разошлась. Она, собственно, тоже считала (хотя охотно обидела бы родню), что Агнеш должна поехать на эту свадьбу. Хотя бы ради того, чтобы в ее однобокой, не такой, как у других молодых девушек, жизни было хоть какое-то развлечение. Симпатичный дружка, дипломированный ветеринар, тоже разжигал ее фантазию: может, дочь познакомится наконец с подходящим молодым человеком. «Не знаешь, кто это про тебя так много хорошего рассказывал?» — переключилась она от воспоминаний на любопытство. «Понятия не имею, — засмеялась Агнеш. — В Секешфехерваре я никого не знаю». — «А что ты скажешь на то, — ввела госпожа Кертес, как в фуге, третью мелодию, — что отца твоего шафером не зовут? До сих пор он на каждой свадьбе шафером был». Агнеш тоже обратила на это внимание. «Разумеется, с радостью ждем на свадьбу и дядю Яни с супругой». Это значило, что особого письма отец не получил и приглашен в этом же письме. «Конечно, бедный служащий уже не подходит вельможным господам мужикам, — перешло в голосе госпожи Кертес злорадство по адресу мужа в оскорбление за него. — Может, боятся, как бы и я с ним не поехала?» — угадала она мысль Агнеш, что, может быть, дело тут в положении ее родителей, которое крестьянская этика не хочет ни принимать как факт (поэтому — «дядя Яни с супругой»), ни бередить специальным приглашением, отклонить которое было бы невозможно. «Скорее, боятся, что не поедете», — заметила Агнеш. «Да уж не поеду, это точно, — успокоилось на этом самолюбие госпожи Кертес. — Пускай ждут до второго пришествия».
В тот же день с письмом Бёжике Агнеш заскочила к отцу. В доме уже ложились, но с тех пор, как отец жил в комнате окнами на улицу, достучаться к нему стало уже не столь сложной и рискованной операцией. «Это ты? — сказал он, сбитый с ритма привычной вечерней своей церемонии: снимания цепочки с часами, их завода, полоскания рта. — Уж не с мамулей ли что?» — «Нет, письмо из Тюкрёша. Просят срочно ответить…» Впустив дочь, Кертес закрыл двери, следить за которыми по вечерам входило в обязанности тети Фриды, и, поднеся письмо к керосиновой лампе, держа его далеко в вытянутой руке, принялся без очков разбирать каракули Бёжике. Агнеш не думала, что он будет настолько обижен. Прочитав письмо, он ничего не сказал, лишь на губах у него появилась хорошо знакомая улыбка, в которой философский взгляд на вещи, принятый им для себя в качестве жизненной программы, долженствовал сдерживать признаваемые недостойными чувства. «Ну и как, есть у тебя возможность выполнить просьбу?» — спросил он, дальше, чем требовалось, отодвигая от себя элегантный листок из дамского почтового набора, находящийся в таком противоречии с пальцами, которые его держали, и с расползающимися по нему корявыми буквами. «Не могу не выполнить, — сказала Агнеш. — Дядя Дёрдь и другие всегда так добры ко мне были. Я и не думала, что Бёжике после всего (высказала она то, о чем промолчала в разговоре с матерью) позовет меня подружкой». — «Конечно, тюкрёшцы в самом деле имеют право ждать от тебя такой жертвы, — согласился отец, как всегда, когда слышал похвалы в адрес своей родни. — Они и мамуле прощают многое…» Напомнив самому себе о крестьянском этическом кодексе, который предписывал всегда сохранять, несмотря на обиды, хорошую мину, он словно еще болезненнее ощутил падение своего авторитета в глазах семьи, так что губы его, растянутые в отрешенно-светлой улыбке, вдруг мелко задергались, а затем наступила знакомая коротенькая пауза, которая должна была предшествовать словам упрека и оскорбленной гордости, и слов этих уже никак нельзя было удержать. «Интересно, кого брат позовет шафером, — сказал он, словно сам с собой обсуждая какое-то второстепенное обстоятельство. — Может, Иштвана Надя, депутата от партии мелких хозяев, для которого он на осенних выборах голоса собирал?..» То, что от традиционной роли на свадьбах он отстранен возможно, ради такого влиятельного человека, стало для него новым аргументом, который отчасти оправдывал брата и умерял его собственную обиду. Тем временем вышла в кухню тетя Фрида; из комнатушки ее выманил не столько слух, сколько инстинкт или, может быть, вибрация от хлопнувшей входной двери. «Ist was los?»[212] — спросила она, испуганно глядя из-под ночного чепца, когда Агнеш, услышавшая ее шаги в кухне, пошла к ней поздороваться. «Нет-нет, ничего не случилось, наоборот, мы с отцом на свадьбу собираемся». — «На свадьбу? — смотрела на нее тетя Фрида: не разыгрывают ли ее. — Wird vielleicht deine Kusine mit dem Pfarrer sich heiraten?[213]» Тетя Фрида несколько раз была в Тюкрёше перед войной, да и позже, через деревенских гостей, приезжавших к Кертесам, и по рассказам Агнеш, оставалась в курсе дел этой огромной, в ее глазах немыслимо богатой крестьянской семьи. «Ну, тогда папа наверняка опять будет шафером», — сказала она в освещенной комнате, где Кертес снова принялся — теперь уже надев очки — перечитывать письмо. «Нет, слава богу, нет, — откликнулся он, прежде чем Агнеш успела что-либо ответить. — Очень неловко вышло бы: я ведь тюкрёшцам официально не сообщил, что у нас с женой. Каждый начнет спрашивать: а тетя Ирма? Мне и осенью из-за этого неприятно было. А ее вряд ли удастся уговорить. Брат скорее всего из деликатности не позвал меня шафером. Зато вот Агнеш пригласили подружкой; если я верно понял — первой», — еще раз посмотрел он на письмо. Он так логично, исчерпывающе объяснил себе ситуацию, что на губах его снова появилась улыбка, но теперь дрожь тронула их лишь на мгновение и исчезла, уступив место победоносному выражению досады на неудачное стечение обстоятельств. «И вообще, мне сейчас очень трудно было бы отменить учебную экскурсию, назначенную на троицу. С заездом в Бюкк, в Диошдёр, в Таполцу, — пояснил он в ответ на взгляд Агнеш. — Я и деньги уже собрал». — «Вы, папа, совсем не хотите ехать на свадьбу?» — не веря своим ушам, смотрела на отца Агнеш. Он, в доме которого Бёжике жила столько лет, не будет на свадьбе, — по тюкрёшским понятиям, это было таким неслыханным делом, что Агнеш до глубины души опалило нанесенной отцу обидой: она сейчас лишь поняла в полной мере, каким унижением было бы для ее отца, побитого жизнью, ставшего в семейной жизни посмешищем, если бы он, словно бедный родственник, живущий подачками деревенской богатой семьи, сидел за свадебным столом, ухаживая за новым шафером. «Тогда и я никуда не поеду», — твердо заявила она. «Aber warum?[214] — спросила тетя Фрида; со сна она говорила в основном по-немецки. — Ihr wart ja immer zamm. Dein Vater hat seine Gründe[215]». — «Напишу им какое-нибудь теплое письмо, — сказал Кертес, словно не слыша горячих слов Агнеш. — А лучше всего, если ты просто известишь их о твоем приезде. Когда ты собираешься ехать?» — «Самое раннее в четверг, после обеда», — ответила Агнеш, поняв: то, что вырвалось у нее перед этим, не более чем эмоциональная реакция, не согласованная с разумом.
К обычной суете ее жизни свадьба добавила новые две заботы. Одну представляли собой три дня, что она должна будет провести вдали от больницы, ставшей теперь для нее почти домом. Проще всего было бы обратиться к Халми, чтобы он ее заменил: наверняка он с радостью согласился бы, и у Баллы возражений не будет. Но ее останавливал тот ночной вопрос Маты: если Халми еще и заменять ее станет, тогда уж ни у кого не останется ни малейших сомнений, что он ей жених. Фюреди она предложила бы джентльменское соглашение: она вернется в первый день троицы и отдежурит за него следующие три дня, так что он тоже сможет отпраздновать троицу. Но Фюреди как раз находился в фазе оскорбленного самолюбия, упорно не замечал ее и наверняка нашел бы какой-нибудь повод отказать, отомстив тем самым за прегрешения, которые его капризное самомнение приписывало ей. Пришлось обратиться прямо к Балле. Отпрашиваться у Баллы на свадьбу — в этом было что-то комическое: уходящая в туман башня, на самой вершине которой Балла носил свою голову, выслушала ее просьбу без каких-либо признаков своего отношения к предмету разговора, так что Агнеш могла лишь гадать, понимает ли он, о чем идет речь. «Само собой разумеется, — сказал он, когда Агнеш, упомянув даже детство, проведенное вместе с Бёжике, выжидательно стихла. — Вы, коллега, так ревностно включились в работу (это была первая похвала, которую она от него услышала), что немного отвлечься вам нисколько не повредит. Поезжайте спокойно, мы уладим этот вопрос с доктором Фюреди. Кем вы будете там — подружкой? — спросил он с легким шутливым проблеском в глазах. — О, да к тому же еще и троица! — растянулась, показывая высшую степень удовлетворения, нижняя его губа, когда Агнеш изложила и эту часть своего предложения. — Тогда мы еще и в выигрыше оказываемся».
Второй же заботой было платье, достойное ранга подружки невесты. Вопрос этот возник, еще когда Агнеш была у матери. «Ну, а в чем ты поедешь?» — спросила та. Агнеш растерялась. Уже само по себе смешно, что она на старости лет должна наряжаться в какой-то маскарадный костюм. Но чтобы и деньги еще тратить на это! «Возьму напрокат», — сказала она решительно. «Напрокат?» — ужаснулась мать. Ее дочь поедет в Тюкрёш во взятом напрокат платье, которое носило уже бог знает сколько чужих людей. И которое даже нельзя перешить по фигуре. А если с ним что-нибудь случится — или, может, не случится, просто дочь не заметит какой-то дефект, — ведь ее же платить заставят потом!.. Ниже скатиться было уже невозможно. «Вообще-то мне все равно, конечно, — заявила она. — В конце концов, это твои родственники, они на тебя смотреть будут». Но ничего другого Агнеш придумать не удалось: подруг, у которых можно было бы попросить платье взаймы, у нее не было. Так что на следующий же день она спросила у Маты как у более опытной, повидавшей жизнь женщины: «Вы не знаете, где можно взять ненадолго одежду?» — «В ломбарде, где же еще». — «Нет, мне надо платье напрокат. На свадьбу», — пояснила она. «Замуж, что ли, выходите?» — «Нет, представьте, подружкой меня зовут, — оправдывалась Агнеш. — Родственники, в деревне». — «Жаль, не смогу в миртовом венке вас увидеть», — заметила Мата. «Вы ведь его и так на мне видите, — намекнула Агнеш на недавний их разговор. — Я себя очень смешной буду чувствовать как подружка». — «Нет у меня никакого опыта в этом деле», — отрезала Мата. Но потом оказалось, она таки знает на проспекте Ракоци лавку, где в витрине выставлены манекены в подвенечной фате и в костюме распорядителей балов. Агнеш собралась уже мчаться туда, но не успела: сестра Виктория позвала ее к телефону. В глазах ее играла необычная, чуть ли не лукавая улыбка. «Мамаша вас просит, — сказала она и, прежде чем передать трубку, сказала в нее: — Здесь она». Телефон тогда был нечастым средством общения, Агнеш случалось им пользоваться крайне редко, непривычка и некоторый страх мешали ей четко слышать голос в аппарате. «Это вы, мама? — спросила она, не узнав поначалу мать. — Что случилось?» — «Я тут тебе материал купила, простенький и красивый», — объяснил голос. «Мне? Зачем?» — удивилась Агнеш. «Затем, что я не могу позволить тебе замарашкой на свадьбу ехать», — тут же вспыхнула госпожа Кертес, которая, очевидно, была готова к такому протесту. Сестра Виктория все еще стояла поблизости, и Агнеш решила не ссориться с матерью. «Очень миленький, совершенно простой шелковый люстрин. Густика (это была их глухонемая портниха) сошьет тебе костюм. Потом покрасишь и будешь носить так. Примерка всего одна, размеры твои у меня есть. Сможешь завтра в полдень приехать?» — «В обеденный перерыв», — сказала Агнеш, вынужденная в присутствии сестры Виктории говорить коротко, почти односложно. «Слышу, на свадьбу вы едете, — заговорила сестра Виктория дружелюбнее, чем когда-либо, прошелестев мимо рясой и четками. — Мамаша мне ваша рассказала…» Насколько Агнеш знала мать, та, видно, рассказала даже, что дочь ни за что не хочет шить платье и ей самой пришлось купить материал, чтобы поставить дочь перед фактом; и прокат, наверное, помянула. Во всяком случае, сестра Виктория смотрела на Агнеш так ласково, как только может смотреть старуха-монахиня на аскетическую не по годам девушку, которую любящие родители чуть не насильно заставляют приобщаться к радостям жизни. Агнеш давно делила с сестрой Викторией самую тяжелую больничную работу, но ей никогда еще не удавалось расположить монахиню к себе так, как сейчас, когда выяснилось, что у юной докторши есть мама, и что юная докторша едет на свадьбу, пускай даже протестантскую, и будет там подружкой, и даже должна будет приколоть к своим светло-пепельным волосам миртовый венок.
В четверг пополудни Агнеш забросила на полку в вагоне третьего класса свой фибровый чемодан (в нем — новое платье, учебник патологической анатомии и свадебный подарок — хрустальная ваза); сейчас ей надо было отдышаться, прийти в себя от пережитых волнений: сначала от волнения спешки, погони за трамваем, от страха опоздать на поезд, потом от всего того, что перенесла она утром (с тех пор как в университете началась сессия, она проводила в больнице и первую половину дня), — от зрелища ужасной агонии, когда она была не просто свидетельницей, но, можно сказать, сама разделяла предсмертные муки. Госпожа Хубер вот уже несколько дней не могла выбираться во двор даже в коляске; высохшее, какое-то спекшееся ее личико смотрело на Агнеш не с прежним лукавством, а с новой, почти недоуменной тревогой; однако никто и не подозревал, что конец ее так близок. Нынешним утром, на рассвете, ей вдруг стало совсем плохо, она начала задыхаться. По мнению Баллы, у нее развился пневмоторакс, и (словно вместе с легкими у нее отказала способность к самообману) она сквозь кашель и хрип простонала, собрав в одной фразе вдруг охватившее всю ее предчувствие смерти: «Все-таки рак у меня… видите, барышня докторша, ни к чему меня было обманывать, я ведь знала, что у меня рак». В глазах у Агнеш все стояло терзаемое судорогой тело, вцепившиеся в ее руку костлявые пальцы, страх перед шприцем, просьба не вкалывать морфий («Лучше я потерплю, милый господин доктор, только не усыпляйте меня, бога ради, не усыпляйте»), прощание с парализованным другом, которому разрешили, с непослушной его ногой, притащиться в женское отделение, растерянный его взгляд, неловкость, жалкие слова утешения, слезы, текущие по сморщенным, как печеное яблоко, щекам госпожи Хубер, кодеин, который она приняла-таки в порошке и которого даже в нормальной дозе было достаточно, чтобы протолкнуть возбужденный дыхательный центр через точку, где начинается паралич, испуганный взгляд, брошенный умирающей на сестру Викторию, которая молилась у ее изголовья (госпожа Хубер принадлежала к евангелической церкви, а потому священника к ней не могли привести), крах упрямого жизненного инстинкта, даже больницу превращавшего в место свиданий, в салон для интриг… Чуть позже, когда беспорядочная эта мешанина ощущений и образов улеглась постепенно в сознании Агнеш, отдалилась в сферу воспоминаний, она попыталась осмыслить в целом эту раздирающую душу драму, которую большинство больных старались по возможности вообще не замечать, тихо разговаривая друг с другом или помалкивая с неодобрительным видом, словно это была одна из причуд, очередная капризная выходка госпожи Хубер, — осмыслить как медицинский случай, увидеть (поскольку через несколько дней, во вторник, ей нужно будет как раз сдавать патанатомию) его патологоанатомическую сторону: рак груди, метастазы, экссудат раковых клеток (который Балла вытягивал две недели тому назад), в последние дни — диссеминация, размягчение легких, прорвавшее плевру и приведшее к расстройству дыхания… Какая все-таки непреодолимая пропасть разделяет ухищрения души, пытающейся обмануть смерть, и зловеще-монотонный процесс вегетации клеток — и оба эти процесса идут тем не менее рядом, причем не только больной переживает их одновременно, но и врач должен видеть вместе, каким-то образом согласовывая друг с другом эти столь далекие сферы. Спустя четверть часа после того, как поезд выехал с Келенфёлдского вокзала (билет отсюда был немного дешевле, чем с Южного, и ее родители даже в мирные времена, возвращаясь из Тюкрёша, сходили с поезда здесь), она ощутила себя в состоянии вынуть второй том «Патологической анатомии» Будаи — по материалам этого тома предстояло сдавать экзамен — и начать читать. Пассажиров в вагоне третьего класса было мало, потому ли, что вагон был последний и даже для третьего класса слишком облезлый и грязный, или потому, что еще впереди была предпраздничная волна, — несколько сонных, чумазых железнодорожников возвращались из рейса домой да пожилую женщину в большом платке провожала из Шошфюрдё ее невестка. Себе на дорогу Агнеш задала органы дыхания; на какое-то время ей удалось погрузиться в материал, однако знакомые с детства названия станций: Эрд, Сазхаломбатта, Новый Ференцмайор, — пробужденная ими память былых каникул, расписанные желтыми цветами домики путевых обходчиков за окном мало-помалу повернули мысли ее к тюкрёшской свадьбе. Было что-то гротескное в том, что она, всего за два месяца с головой ушедшая в больничную работу, а несколько часов назад еще державшая маленькую, отчаянно цеплявшуюся за нее руку умирающей женщины, скоро оденется в свадебный маскарад и, усевшись рядом с дружкой в экипаж с цветами на спицах и на кнуте возницы, помчится меж двух шеренг людей в платках и шляпах, глазеющих на нее от калиток по обе стороны улицы, в тюкрёшскую церковь. Хорошо еще, что мать и Густика соорудили ей довольно элегантное и в то же время ничуть не кричащее платье, — тюкрёшцы долго будут потом говорить, что Агнеш следовало бы надеть что-нибудь понаряднее, такое платье подходит свахе скорей, чем подружке. Верхнюю часть она потом сможет носить хоть в университет, а из нижней, если подшить ее на пятнадцать сантиметров, выйдет прекрасная костюмная юбка. Во всем наряде лишь миртовая веточка на отвороте да — чтобы не слишком бросалась в глаза — крохотная шляпка из тюля представляли собой уступку тому, что полагается надевать по такому радостному случаю. Платье, взятое напрокат, в самом деле было бы ужасно. Подписав зачетку, она специально сошла с трамвая там, где Мата видела подвенечные платья, и, стоя перед витриной, представила себя в дешевых розовых оборках, с деревянным лицом, как у этого манекена. «Сваха, сваха», — выстукивали вагонные колеса, заставив ее наконец закрыть раскрытую на актиномикозе книгу. Выходит, возвращенье отца домой окончательно толкнуло ее на иной путь, к которому у нее всегда была тяга и который вел ее по крутизне прямиком туда, куда идущие по серпантину взбираются годам к тридцати — тридцати пяти. Вот и она будет на этой свадьбе кем-то вроде свахи среди ровесниц-подружек. Конечно, и там, наверное, будут такие, какой сама она пятнадцатилетней девчонкой была на свадьбе у Лидики Фенчик, — они будут глазеть на нее, будто на тетю Фриду, каким-то образом затесавшуюся между ними и зачем-то надевшую миртовый венок… Что поделаешь: у каждого биологическое время свое, свой срок зрелости. Сейчас она словно находится в каком-то странном состоянии быстрого, почти опасно быстрого созревания. Вот хоть это новое платье! Несколькими месяцами раньше она просто бросила бы его обратно. Ведь это не что иное, как подкуп. Мать навязала его дочери для того, чтобы перед отцом, перед миром, перед самою собой у нее было веское объяснение, куда ушла все-таки «разница» (между стоимостью лавочки и отступным за квартиру). «А поездка Агнеш на свадьбу: как вы считаете, во что это мне обошлось?» Когда Агнеш собиралась переезжать с отцом к тете Фриде, она так бы это и восприняла. Но вот, смотри ты, можно, выходит, и по-другому!.. Мать, собственно говоря, любит ее, гордится ею и, конечно, не хочет, чтобы на Агнеш смотрели с презрительной жалостью. И как мать ни связана по рукам и ногам тем, куда, играючи, незаметно сползла, она все же счастлива (наверное, из-за этого у нее тоже случаются споры с Лацко), если может хоть чем-то способствовать успехам дочери. Правильно ли совсем отрицать наличие добрых намерений у упавшего в яму: дескать, раз ты преступник, так в яме и оставайся? Ведь пока мать, позвав Густику, размечала мелом, кроила и сметывала купленный материал, она на день, на два стала совсем такой (а может быть, даже лучше, ибо теперь она способна была наслаждаться этим), какой была прежде — до «падения». Пожалуй, даже Лацковичу пришлось принять к сведению — как бунт против его гегемонии, — что «наша маленькая докторша», извольте это запомнить, ее дочь и она имеет право потратиться ради нее на портниху и на материал. И эти несколько дней теперь — не только воспоминание, но и надежда, что прошлое еще вернется. Наверное, и отец думал так же, когда просил Агнеш остаться с матерью. И ее охватило вдруг чувство глубокого понимания и нежности к этому старому человеку, который прошел свою огромную палату для безнадежных, прошел плен, тюрьму, болезнь, чтобы вернуться к своей ставшей его позором любви. Каким же зеленым, глупым, тщеславным существом она была, когда, словно с мечом огненным, носилась со своей идеей переселения; конечно, пойди на это отец, все были бы в восторге: тетушка Бёльчкеи, дядя Тони, его жена, тюкрёшцы, — лишь одна слабая, цепляющаяся за соломинку душа потеряла бы последнюю надежду на спасение…
Когда поезд вкатился на станцию Торня, уже начинало смеркаться. На площади перед станцией, где она столько раз, приезжая на каникулы, среди экипажей с дегскими, игарскими, силашбалхашскими табличками обнаруживала знакомые головы кертесовских лошадей — Дамы, Сивого, Бономо, к воздуху теплого майского вечера, к ржанию лошадей, стоящих в длинной тени станционных построек и вслушивающихся в фырканье паровоза, к скрипу подкатывающих и затем, нагрузившись людьми и узлами, отъезжающих повозок сразу же подмешались знакомые милые флюиды; хотя воздух был полон то оседающей, то вновь взметаемой пылью, запахами навоза и дыма, Агнеш дышала и не могла надышаться. Экипаж, тот самый, что минувшей осенью, увязая в грязи и постанывая, вез их с отцом в Фарнад, отмытый до черного блеска, стоял теперь в компании крестьянских бричек, хотя и чуть поодаль от них, в тени склада, и пусть в его спицы еще не были вплетены цветы, однако миртовый букетик, прикрепленный на кнут, молодцеватая поза и улыбка всегда такого сухого Яноша уже возвещали о завтрашнем событии, на которое ему предстояло свозить приезжих гостей. Экипаж этот дядя Дёрдь купил прошлым летом, как считала родня, для того, чтобы достойно принять сватающегося к Бёжике пештского жениха, Лацковича, который в последний момент дал отбой. Правда, Кертесы это отрицали, связывая покупку экипажа с выборами, тем не менее дядя Дёрдь, словно косвенно признавая правоту зятьев, которые тоже могли бы набрать средств на такой экипаж, но считали его не подобающим сельскому хозяину, никогда в него не садился, даже младшего брата приехав встречать на обычной крестьянской бричке. Однако теперь, когда Бёжике выходит за священника и скандал с Лацковичем забывается за радостной суетой близкой свадьбы, экипаж мог уже не таясь, бросая вызов всему миру, подкатить к станции по скрывшему весенние колдобины ковру пыли, и Агнеш, из больничного мира окунувшись сразу в тюкрёшский, с некоторой даже гордостью приняла к сведению, что вот уже и за ней (не важно, с чем это связано: с тем ли, что она почти врач, с тем ли, что первая подружка невесты) присылают такой экипаж. В приветствии Яноша тоже слышалась некая новая интонация, в которой было и сознание удобства езды в экипаже, и новая степень почтения к гостье. Янош нисколько не походил на кучеров театральных спектаклей: он был сух, молчалив и даже парнем экономил движения так же, как сейчас, когда (Агнеш недавно с изумлением об этом узнала) стал человеком женатым; однако с тех пор, как дядя Мареккел ушел в армию, попав в батальон ее отца, Агнеш уже его, Яноша, свойства вкладывала в старое свое представление о «кучере», так что сейчас, когда он позволил себе нечто вроде улыбки под слабо обрастающей верхней губой, она восприняла это как гораздо более существенный признак праздничного настроения, чем мирт на кнуте или даже сам экипаж.
«А что, барышня, господин ветеринар вас не нашел?» — спросил Янош, завершив приветствие, заключавшееся в касании двумя пальцами края шляпы. «Ветеринар?» — удивленно переспросила Агнеш, подумав о тюкрёшском ветеринаре, который грубо и неприязненно разговаривал с крестьянами. «Дружка ваш то есть», — вновь появилась и теперь осталась на его губах та же стыдливая улыбка. Потом, чувствуя, что произошло некоторое недоразумение, перекинул длинные свои ноги с облучка на бок экипажа, отыскивая непривычную подножку. Однако к тому времени у выхода со станции появился сам господин ветеринар, и Янош ограничился тем, что повернул в его сторону кончик кнута. Ветеринар оказался довольно стройным, привлекательным молодым человеком с тонкой ниточкой черных усов; когда он заметил в экипаже поднявшего кнут кучера и сидящую там девушку, разочарованно бегающий по сторонам взгляд его осветился тем же праздничным сиянием, блики которого играли на боках экипажа, на причесанной пегой гриве Бономо и даже в углах губ Яноша. «Если бы я знала, что это вы, — засмеялась Агнеш, когда они представились друг другу, и посмотрела в его живо поблескивающие глаза. — Мы же прошли мимо друг друга, я еще внимание на вас обратила». — «Это я оказался дурак… пардон, недотепа», — засмеялся и он. «Наверняка вы чего-то совсем иного ждали», — сказала Агнеш; в самом деле, на ней был простой серый жакетик и вязаная шапочка, так что ветеринар, вероятно, принял ее за какую-нибудь барышню с почты. Все это дало хорошую тему для веселой, ни к чему не обязывающей, чуть кокетливой болтовни, которая помогает молодым людям преодолеть смущение первых минут знакомства. «Нет, это чисто мое упущение, мы, мужчины, не умеем смотреть одновременно в разные стороны, — оправдывался дружка, который, если быть честным, потому не обратил внимания на проворно спрыгнувшую с подножки и торопливо прошедшую мимо девушку, что взгляд его был прикован к вагонам второго класса. — Но тем приятней сюрприз», — заметил он (принимаясь исподтишка изучать в сером пятне рядом с ним белое лицо, которое, на его вкус, было, пожалуй, чуть слишком взрослым и зрелым). «Вот-вот, теперь вам ничего другого не остается, как только делать хорошую мину». И, пока дружка перевел взгляд на готового трогаться и оглянувшегося к ним за указаниями Яноша, тоже постаралась разглядеть своего партнера на предстоящие два дня. «Для ветеринара чуть мелковат, пожалуй, — посмотрела она на розовую, хорошо выбритую кожу вокруг черных усиков. — Но при всем том довольно милый юноша», — была вторая ее мысль, из которой следовало, что мать, похоже, напрасно возлагала надежды на дипломированного ветеринара: приятельские отношения с ним поддерживать можно, влюбиться же — увы. «Моя оплошность тем более непростительна, что мне подробно вас описали», — вновь повернулся к ней Денеш Ковач (так он, кажется, назвался). «Кто? Бёжике?» — «Нет, другой, куда более наблюдательный человек; я бы сказал даже, более вдохновленный вами». — «А, это друг ваш? Бёжике написала, у вас есть друг, который знает меня». — «Тем самым она хотела сделать меня более интересным в ваших глазах». — «Но кто ж этот удивительный человек, у которого обаяния хватает даже на друзей? Я его знаю?» — «Ого-го!» — «И ого-го, и такой необыкновенный. Здесь какое-то недоразумение. Вы не могли бы сказать, кто это?» — «Пока нет». — «А сколько будет длиться это пока? Пока не прибудем в Тюкрёш?» — «Дольше», — «Всю свадьбу?» — «Скажем, завтра до полудня», — «Я к тому времени базедову болезнь получу от нетерпения». — «У меня с собой есть немного люминала». — «Лошадиная доза?»
Время шло незаметно; Агнеш и Денеш дружелюбно препирались, вырабатывая их личный жаргон, в котором был и легкий флирт дружки с подружкой, и отношения между врачом и ветеринаром. Янош, пуская лошадей на улице проезжаемых деревень в парадный галоп, затем давая им отдохнуть и остыть в прохладе меж зарослями кустарника, упражнялся в пользовании ручным тормозом на Хордовёлдском спуске и лишь более неподвижной, чем обычно, спиной выдавал, что, навострив уши, внимает беседе, состоящей из мало понятных ему игривых намеков, врачебных словечек, сопровождаемой краткими вспышками смеха и вполне соответствующей тому блаженному состоянию, в котором проводят жизнь эти юные господа. Уже основательно стемнело, когда, после триумфальной скачки, на минуту заставившей погруженную в процеживание молока и поение лошадей деревню обратиться слухом к улице, они остановились перед домом Кертесов. Однако в тенях, появившихся навстречу с галереи, из сарая, из глубины двора, вибрировала все та же радостная взволнованность, которой под приятное покачивание рессор незаметно заразилась от своего спутника и Агнеш. Глаза дяди Дёрдя сощурились еще дружелюбнее, чем обычно, когда он прижимал к ее щекам влажные свои усы; тетя Юлишка, обняв, против своего обыкновения, Агнеш за плечи, словно подавила рыдание; даже Эржи, служанка, которая в таких случаях наблюдала сцену встречи издали, подошла к крыльцу, так что Агнеш и ей пожала руку, даже чуть не поцеловала ее в темноте; обезумевший от впечатлений Пагат так неистово рвался облизать лицо Агнеш, что она несколько минут чувствовала на груди тяжесть его лап; одна лишь бабушка, когда Агнеш освободилась от ее платка и влажного беззубого рта, спросила: «А что папочка?» Так же удивленно-недоверчиво, как в ноябре спрашивала про мать. Агнеш, барабаня заготовленный текст про экскурсию и собранные деньги, следила за еще одним, округлым силуэтом, который, отделившись от столба на галерее, почтительно ждал, когда до него дойдет очередь поздороваться. Рука Агнеш попала в слишком большие, мягкие ладони; поцелуй был пока преждевременным, целовать же руку даме духовному пастырю не приличествовало, так что расположение свое и новые родственные отношения он выразил этим своеобразным долгим рукопожатием, каким мог бы приветствовать забредших в дом дальних родственниц.
Как только стих радостный шум, все сели за ужин. Тетя Юлишка оправдывалась, что за приготовлениями к завтрашнему дню может предложить дорогим гостям лишь скромный ужин; в круглом блюде были поданы цыплята с клецками в сметане, в другом, продолговатом, — колбаса и котлеты; ноздри Агнеш, за все два месяца в больнице не вбиравшие столько вкусных запахов, радостно трепетали, ей пришлось сделать усилие над собой, чтобы глаза ее относительно равнодушно взирали на дразнящие красно-белые лужицы жира со сметаной и на вылезшие из-под лопнувшей колбасной кожицы бугорки зажарившейся начинки. «Ну, что скажешь? Какого я дружку тебе устроила?» — попробовала игриво пошутить (чем она никогда прежде не занималась) Бёжике, как бы заглядывая вперед, в те времена, когда она, как достигшая семейного благополучия жена священника, будет подыскивать женихов оставшимся без пары родственницам. «Да, мы уже подружились», — с искренней теплотой посмотрела Агнеш поверх цыплячьей грудки на аккуратные черные усики, на которых поблескивала сейчас капля сметаны. «Мы думали, два врача, звериный и человечий, найдут общий язык», — сказал дядя Дёрдь, который редко позволял себе столь пространные шутки, а потому тут же наградил себя хрипловатым смешком. «Вот если бы еще… — начала было Бёжике и закусила язык. — Она уже знает?» — заговорщически посмотрела она на Денеша. Но тот приложил палец к губам, рядом с каплей сметаны. Пантомима эта относилась опять же к загадочному приятелю Денеша. «Можешь представить, как меня любопытство грызет — кошмар», — поддержала Агнеш их маленький заговор, этим «кошмаром» делая некоторую уступку оставленным позади годам легкомысленного девичества. Тетя Юлишка, убедившись, что у всех есть огурцы и маринованные фрукты, заговорила про свадьбу: «Агнешке удивилась, наверное, почему мы на пятницу венчание назначили; мы-то хотели в троицын день, да Йожеф (тут она застенчиво, почти влюбленно покосилась на зятя-священнослужителя) не пожелал в такой большой праздник оставлять свою паству на кого-то другого». — «Да, мне хотелось, чтобы моя Бёжике уже будучи женой священника слушала святую проповедь», — отозвался жених. Полнота и этот звучный, даже гулкий голос позволяли видеть в нем уже преподобного отца, хотя в его поведении что-то еще сохранялось и от упрятанной под нарочитую скромность манерности иных молодых капелланов. Все взглянули на улыбающуюся Бёжике, на лице у которой сияющий триумф и застенчивое упоение всеобщим вниманием прогнали в ямки щек затаенную тревогу; перед глазами каждого возникла одна и та же картина: Бёжике, прошествовав между шеренгами девочек-школьниц, обогнув алтарь, мелкими шажками идет по кирпичному полу церкви в гудении гимна, возносимого Святой Троице, к предназначенному для жены священника месту и старательно вливает в песнопения свой тоненький голос, а этот полный, красивый человек, ее муж и повелитель, к концу взметнувшегося под самый купол песнопения, точно соразмерив время восхождения по ступеням с длиной стихотворных строк, поднимается на кафедру над ее головой и, дождавшись, пока в рядах стихнет кашель, произносит первую в своей женатой жизни проповедь, в виде приправы вплетя в нее, может быть, и намек на новое свое состояние, а заодно испросив у небес благословения тем счастливым, кто, внимая сердцами своими божьему глаголу, начинает сейчас строить свое гнездо. Да, великая это вещь и великое счастье для Бёжике! Вобранное с цыпленком в сметане или, скорее, разбуженное им тюкрёшское мировоззрение даже Агнеш заставило проникнуться значением завтрашнего дня, и, чтобы показать, насколько она рада за Бёжике, она бросила на ее смущенное и торжествующее лицо полный любования взгляд. «Значит, это твоя последняя ночь дома?» — спросила она и сама тут же покраснела немного. Она подумала о том же, что и все за столом: и родители, и Бёжике, и, может быть, сам жених, — о том, как у них, у этого крупного, выстланного изнутри мягким голосом человека и хрупкой, по-птичьи тонкой Бёжике, произойдет то, о чем — хотя ведь все вертится вокруг этого — она, кроме латинского названия, почти ничего не знает.
Парадная горница отдана была на ночь жениху и дружке; Агнеш положили у бабушки, в маленькой комнате, на пустой со смерти деда кровати. Бабушке Агнеш сказала, пусть ложится, когда ей привычно, а она потом потихоньку войдет и разденется в темноте; в зимние свои приезды, когда даже большая корзина сухих кукурузных початков не могла согреть большую горницу, она хорошо изучила углы и узкие места на пути к постели. Когда они расстались с обществом, керосиновая лампа в каморке прикручена была на самый слабый свет, однако бабушка все еще сидела в уголке возле печки, правда уже в белом ночном чепце на голове, и, едва Агнеш открыла дверь, сразу прибавила света в лампе, стыдливо закрыв старую Библию, за чтением которой она задремала. Бабушка не любила, чтобы ее заставали в постели, а может, боялась еще, что упустит возможность для разговора, для которого вряд ли в завтрашней свадебной суете найдется другая возможность. «Повеселились?» — спросила она, кладя напечатанную старинным шрифтом книгу, на внутренней стороне обложки которой записаны были даты рождения всех ее детей, на тумбочку, рядом с кружкой с водой. «Бёжике свадебные подарки показывала и приданое», — сказала Агнеш, отворачиваясь, чтобы раздеться. «Много она добра получила, — согласилась бабушка. — Мать-то ее и в трудные времена все ей откладывала». И когда громкий зевок, оставивший от маленького, обрамленного чепцом лица лишь огромный беззубый рот, принес в ее мозг вместе с кровью и чуть-чуть женского любопытства, добавила: «Святой-то отец — жених — тоже с вами был?» — «Нет, они у себя, втроем с дядей Дёрдем, о политике разговаривают». — «На вид он неплох, этот ветеринар, — заметила бабушка, сделав новый зевок и найдя третий предмет для беседы. — Двоюродный брат он ему», — пояснила она, словно Агнеш не знала этого. И так как Агнеш лежала уже в постели, под холодной от долгого неупотребления полосатой периной, она задула лампу и сама в темноте принялась раздеваться. «А что твой бедный отец?» — спросила она, устроив маленькую голову в привычной ямке на подушке и новым, удовлетворенным зевком поставив точку в конце еще одного прожитого дня. «Он у тети Фриды теперь живет…» Тетю Фриду бабушка знала не только по редким наездам в Пешт — в памяти тюкрёшцев прочно запечатлелась внушающая почтение окружающим старая дева, гуляющая с прямой спиной, с серым от пыли раскрытым зонтиком по Большой улице Тюкрёша. «В той комнате, окнами на улицу, где наша спальня была, помните? — попробовала Агнеш оживить в восьмидесятилетнем мозгу память о состоявшейся пятнадцать лет тому назад экспедиции в столицу, на улицу Хорват. — Она и готовит ему», — добавила она, чтобы успокоить старушку: она знала, что та каким-то особым чутьем, свойственным пуританским душам, сумела найти в тете Фриде родственные черты и — среди прочего — кулинарный талант. Однако бабушку больше волновало другое. «Нелегко ему, знаю, было стерпеть, что с ним учинили-то», — описательно помянула она обиду, которую столько обсасывала в своем уголке. «Вы о чем? — пожалела Агнеш старушку за ее сочувствие отцу. Сидит, бедняжка, одна, отделенная от всего мира приличиями, сладкими, словно мед, словами, и из головы ее не выходит вина, к которой она, как член семьи, тоже причастна. — Что свидетелем не позвали? — постаралась избежать Агнеш громкого «шафер». — Он нисколько из-за этого не обиделся. Не такое видал», — попыталась она свести дело к шутке. И опять рассказала, почему не приехал отец: учебная экскурсия, собранные деньги. Но бабушку в ее вере нельзя было пошатнуть столь легковесными объяснениями. «Да и как ему не обидеться. Раньше хорош был, не только нам — всей родне. Сказала я Дёрдю: слышь, говорю, брату-то твоему каково будет? А он: ничего, говорит, не поделаешь. Депутат сам напросился, когда Дёрдь для него голоса собирал: «Эту девочку, когда она замуж пойдет, сам хочу отдать жениху». — «Ну, видите, ведь все равно ничего нельзя было сделать», — сказала Агнеш, немного испугавшись своего тона: не звучала ли в нем насмешка? «Потом, зятя тоже епископ к венцу поведет, — продолжала бабушка свое полуоправдание-полупокаяние. — А только все равно неладно: получается, коли с ним такая беда приключилась, так никому и не нужен», — бормотала она, и голос выдавал, что по морщинистому ее подбородку текут на сорочку тихие слезы. «Не переживайте, бабушка, папа все понимает, и вообще он выше таких вещей», — успокаивала ее Агнеш одновременно с гордостью и с сочувствием. «И что, даже надежды никакой нет, что помирятся они?» — перешла тем временем бабушка, проглотив слова о семейном позоре, к такому предмету, который хоть можно было облечь в слова. «Кто знает? Со временем разве что», — ответила Агнеш. «Вот-вот, ведь и у нее уже не те годы, чтобы хорохориться», — отозвался мрак с соседней постели с некоторой протестантской непримиримостью, обращенной к первопричине стольких унижений и бед. Следующий зевок повернул мысли бабушки от нетерпимости к философии: «Всюду одна грызня. Люди за свадебный стол садятся, а сами убить друг друга готовы. Ты знаешь, что дядя Бела твой не хотел Матильду пускать в подружки?» — «Надеюсь, не потому, что ветеринар мне достался?» — засмеялась Агнеш. «Нет-нет, — испугалась бабушка, которая вообще-то старалась не говорить о родне лишнего. — Это все дом… Знаешь ведь, какая тут война идет из-за этого старого дома. Из-за того, что дед твой Дёрдю его оставил. Тому, кто с рождения в нем живет. Вот помру я, и они, пожалуй, выкинут, бедного, из родного гнезда», — высказала она, доверив тьме, после дневных общих слов о мире и семейном единстве, свою позицию.
Утро выдалось дивное. Когда Агнеш вышла из комнаты, пропитанной старческим запахом, на галерею, во дворе уже натягивали шатры, таскали из Общества чтения скамьи: дом не вместил бы сто — сто пятьдесят человек гостей. Перед сараем и на выходящем к нему углу галереи целый отряд соседок и родственниц ошпаривал и ощипывал кур; вырвавшийся у кого-то петух с перерезанным горлом волочил кровавый след смертного своего отчаяния, взлетая и спотыкаясь меж малых и больших луж, вытекших из его собратьев, аж до самой шелковицы; входили во двор бабы с корзинами, заглядывали на галерею, затем, поздоровавшись со всеми, кто находился вокруг, осведомлялись, куда идти, и бочком проходили на кухню, складывая перед хозяйкой, на стол для процеживания молока, глазированные торты с поздравлениями молодым (народ попроще ограничивался корзиночкой медового печенья). С одной из таких групп пришла, с обычным своим несмолкающим смехом, тетушка Мозеш — деревенская портниха, на сей раз как одевальщица, чтобы, если потребуется, подшить, подколоть что-нибудь на купленном в Пеште готовом платье и прикрепить фату. «Приходи и ты тоже», — попросила Бёжике Агнеш, искавшую воду для умывания, словно одевание подвенечного платья было столь важным и ответственным делом, что для него, кроме профессиональных рук тетушки Мозеш, зеркала в большой комнате и собственных перепуганных глаз, обязательно нужен был критический взгляд столичной родственницы. Бедняжка Бёжике, словно похудевшая за ночь, стояла потерянно перед зеркалом в белоснежном платье, с трудом сочетавшемся со смуглым ее, чуть-чуть волосатым телом, а тетушка Мозеш, под еще более, чем обычно, подобострастным смехом скрывая обиду (вишь ты, не хороша она была Кертесам шить подвенечное платье), предлагала то тут, то там что-нибудь подшить или убрать на этой пештской штуковине (как она про себя называла платье), а Бёжике каждый раз вопрошающе смотрела на Агнеш, как бы пробуя угадать ее мнение, — хорошо ли то, что делает тетушка Мозеш своими быстрыми пальцами, не погубит ли она этим платье, а заодно и все ее замужество. Когда же для пробы на нее накинули еще и фату, она показалась Агнеш такой жалкой, похожей, в ее двадцать четыре года, не на невесту, а на девочку-подростка перед обрядом конфирмации, готовую в любой миг превратиться в пугливую косулю. Тетушка Мозеш для пущей уверенности позвала в комнату преподобного жениха, который как раз вместе с двоюродным братом вернулся от тюкрёшского священника, у которого, как у бывшего однокашника, остановился на ночь епископ. Жених мягким поповским шагом обошел невесту со всех сторон, затем, встав против нее, осмотрел сверху донизу. «Не могу отделить, — сказал он, довольно ловко уклонившись от прямой оценки и избежав в то же время чрезмерной елейности, — подвенечный наряд от невесты. Какое бы платье она ни надела, я вижу лишь ее прекрасную душу». Чем Бёжике, очевидно, осталась довольна более, чем подобострастно похохатывающая тетушка Мозеш.
Тем временем прибыли фарнадцы: Матильдка, вся в волнении от предстоящего (завоеванного ценой слез и истерик) выступления в роли подружки, и тетя Ида, с тенями, оставленными на ее лице постоянной борьбой за семью, и с сознанием значительности, даже величия этой своей борьбы; с этого момента большая горница, где все еще не выветрился запах курева, сливовой палинки и постели, оставшийся от ночевавших тут мужчин, превратилась в нечто вроде театральной уборной, где тюль, крепдешин, подмазанные мелом туфли, однажды сделанные и снова растрепавшиеся прически закружились в водовороте, чтобы в конце концов из него возникло несколько девушек, которых не стыдно будет посадить в экипажи. «А ты что же не одеваешься?» — спросила тетя Ида у Агнеш. «В самом деле, Агнешке», — очнулась Бёжике. «О, у меня одевание много времени не займет», — махнула рукой Агнеш, но все же пошла в маленькую комнату к своему чемодану. Спустя четверть часа она в самом деле была готова и, закрутив свои не знающие щипцов прямые, жесткие волосы в узел над умытым в холодной воде лицом, бросила любопытный взгляд в украшенное бессмертниками бабушкино зеркало в большой рамке, которое мало того что искривляло изображение, но еще и оставляло на нем слепые полосы. «Пожалуй, лучше все-таки было бы взять платье напрокат, — подумала она, ужасаясь — после мельтешащих в глазах оборок — простоте своего наряда. — Не выделялась бы так из свадебного шествия». «Вот как, стало быть, одеваются в Пеште невестины подружки?» — сказала у нее за спиной бабушка. Но зеркало не выдало, что у нее на лице: недовольство нарушением старых обычаев или улыбка, с какой она воспринимала среди причуд моды то, что ей все-таки нравилось.
Однако с того момента, как Агнеш вышла в нечто вроде передней — прежнюю кухню стариков, она и по собственным движениям, и по обращенным на нее взглядам убеждалась, что платье, сшитое Густикой, скорее всего получилось удачно. Первой, с кем она встретилась, была Мальвинка, младшая из фарнадских сестер; вертя в руках горячие щипцы для завивки, она мчалась из устроенного в гостиной вспомогательного цеха в большую горницу; когда она увидела Агнеш, в водянисто-голубых глазах ее сначала мелькнуло нечто вроде испуга, будто от некоего неожиданного явления, требующего усиленной работы мысли, но, когда на мгновение она сама и щипцы у нее в руке замерли, испуг перешел в ужас, словно в рыбном пруду, каким является такая вот свадьба, среди провинциальных красавиц вдруг появилась акула, готовая свести на нет все их усилия; не промолвив ни слова, забыв об охлаждении щипцов, Мальвинка умчалась в большую комнату, к ничего не подозревающей родне. Следующим был Шани, долговязый брат Бёжике, приехавший ночью, со множеством пересадок, из Кестхейя, где, пройдя богатую практику в таких бытующих в национальной армии занятиях, как пьянство и драки, он посвятил себя аграрным наукам. По соломе, застрявшей в его волосах, было видно, что остаток ночи он проспал в амбаре, но на нем уже были черные брюки и рубашка с накрахмаленной грудью, и он как раз искал какую-нибудь женщину, которая застегнула бы ему пуговицу на горле. «Слушай, Агика, — бросился он к ней, весь поглощенный своей заботой, — я в солдатах совсем отвык от этой ерунды». Агнеш, поставив таз, ловким движением продела пуговицу под его кадыком в давно утратившую девственность петлю. «Пардон, — сказал он, — мы же с тобой еще не виделись». И, прежде чем в двойном тюкрёшском поцелуе прижать к ее щекам жесткую щетку усов, слегка отодвинув от Себя, осмотрел Агнеш. «Ух, так его перетак!» — с восторгом повторил он отцовское выражение, в котором была уже и уважительная дистанция между женщиной и мужчиной. «Наверняка считает, что я недавно потеряла невинность», — думала Агнеш, без раздражения терпя его пристальный взгляд. Дружку своего она встретила на галерее вытирающим запылившиеся во время утренней прогулки лаковые туфли, в новеньком, специально для этого случая сшитом смокинге. «О, какой вы элегантный, — сказала Агнеш, выплескивая воду из таза на огражденное кольями хилое ореховое дерево. — Если бы я знала, что у меня такой дружка будет, с иголочки, — продолжала она, с веселым кокетством воспринимая его изумленный взгляд, — постаралась бы нарядиться получше… Напрокат бы взяла платье, — добавила она, — сама я еще недостаточно зарабатываю». То, что мучившую ее проблему — платье напрокат — она, словно перчатку, вызов их бедности, взяла сейчас и отшвырнула прочь, наполнило ее таким весельем, что она почти физически ощутила, как кожа ее начинает сиять на одну-две световых единицы ярче. Дёнци, от блеска своих туфель обратив взгляд к другому источнику излучения, лишь смотрел на нее своими черными глазками, блики в которых стали более влажными («симпатический перевес»), чем можно было ожидать от мужских глаз, но Агнеш чувствовала, что в холодноватой, немного слишком уж серьезной для него подружке он сейчас получил сверкающую, дразнящую воображение игрушку, которая сделала их парную роль заманчивой и для него. «Смотри-ка, — сказал он, кладя щетку на перила галереи, — вот тебе и докторша. Что бы сказали ваши больные, если бы вас сейчас увидели?» — «Только не надо говорить, что вы начинаете понимать своего друга, — наслаждалась Агнеш тем необычным, радостно-дразнящим тоном, с каким она играла сейчас чувствами другого человека. — А то я обижусь».
Тем временем принесенная Мальвинкой весть выманила женщин из большой комнаты. Сначала выглянула на галерею Матильдка — и тут же спряталась, увидев, что Агнеш любезничает с ветеринаром; когда же она вернулась с тазом в дом, дорогу ей загородила сама невеста. «Я уж слышу, какая у меня ослепительная подружка будет, — начала она тем доброжелательным тоном замужней женщины, каким говорила нынче с Матильдкой и другими, еще не нашедшими пары девушками. — Посмотрите и вы, Йожеф», — обратилась она к топчущемуся поблизости жениху, которого то высылали из большой горницы, то — если случалось, что там как раз не было ни одной женщины в комбинации, — опять туда звали. Преподобный жених с елейным доброжелательством в лице приблизился к ним. «Да, я и то уж моей Бёжике говорю, — начал он тем же тоном, каким только что расхваливал Матильдку, — даже не знаю, как вступать в храм божий в окружении стольких красавиц?» Но тут напротив открыли дверь, яркий свет вырвал Агнеш из полумрака прихожей, и на лицах у всех, как значок в нотной строчке перед сменой октав, появилось какое-то растерянно-обалделое выражение, с каким человек, обнаружив, что взял не тот тон в разговоре, спешно ищет новый, более подходящий. Великодушная улыбка Бёжике, пока она смотрела Агнеш в лицо, вобрала в себя некоторое недоумение, даже обиду, словно красота эта ущемила ее в правах как невесту, да, очевидно, и жениху пришлось взять себя в руки, чтобы чисто мужскую свою реакцию скрыть под мантией благолепия. «Очень мило и просто, — сказал он затем. — Такими вот я представляю наших славных женщин-протестанток — Кату Бетлен[216], Жужанну Лорантфи[217] — в юном возрасте». Бёжике, стремясь обрести хоть какую-то опору против этого затмевающего ее, невесту, сияния, потянула Агнеш в большую горницу, где тетя Ида и тетушка Мозеш одевали Матильдку. «Вы вот на это взгляните, тетушка Мозеш», — повернула она Агнеш к портнихе: может, хоть эти старухи найдут в необычном свадебном наряде что-нибудь не соответствующее обычаям и достойное осуждения. «Надо постараться, чтобы они не обиделись», — подумала Агнеш в великолепном своем настроении, глядя на посуровевшее, ставшее отчужденным лицо тети Иды, и, по-девчоночьи растянув бока юбки, отвела их в стороны, словно делая книксен, чуть опустила голову и даже попробовала притушить часть горящих в ее взгляде искорок. Тетя Ида после перенесенных боев страдала из-за того, что единственный молодой человек, представляющий сносную партию (а какие у него очаровательные усы!), не достался ее Матильдке. Но так как против этой несправедливости, а тем более против ранга Агнеш как первой подружки она не смела протестовать, то ей оставалось спросить с возмущением: как так, почему первый дружка — не брат невесты, ведь, по обычаю, девушку должен вести к алтарю ее брат. «Я немного боялась, — пыталась Агнеш напоминанием об их бедности как-то обезоружить суровое это лицо, — не будет ли слишком уж просто. Но мы подумали: если чуть-чуть переделать, то можно будет и в университет носить». — «Нет, очень элегантно, — заметила тетушка Мозеш. — Я в заграничных модных журналах видела, даже невесты так венчаются». — «Что говорить, вам в Пеште все доступнее», — высказалась и тетя Ида, дав волю фарнадской горечи. «А знаете, кто шил? Та глухонемая портниха — ты ее должна помнить, Бёжике». — «Густика?» — «В больших ателье закройщики куда чаще портят хорошие вещи… я не о платье Бёжике говорю, — сказала тетушка Мозеш со скрытым триумфом, — чем несчастные домашние портнихи, которых все презирают». — «Да ведь пештские-то девицы по-другому и носят такое платье, — доставила себе тетя Ида, насколько позволял ей элегический настрой души, маленькое удовольствие, толкнув Агнеш в подозрительную категорию пештских девиц, — не так, как наши дочери».
Двойное чувство — стихийная радость, радость превратившейся в бабочку гусеницы, и опасение оскорбить кого-нибудь этой радостью — не покидало Агнеш до конца свадьбы. Она знала и прежде, что вовсе не безобразна, и носила в сознании образ самой себя как немного бледной, не слишком темпераментной, но обладающей, в общем, приятной внешностью девушки; однако в последнее время она была слишком поглощена иными мыслями и заботами, отвыкла от ощущения свободы и легкости, которое в юности может поднимать и нести, словно знамя, собственное наше тело, так что сейчас торжествующая кругом весна, майский простор вместо спертого воздуха больничной палаты, пьянящая мысль, что целых два-три дня ей не нужно ничего делать, лишь порхать в этом удивительном мире, возникшем по мановению украшенного миртом кнута Яноша, красоваться на зависть всем в новом, на удивление удачном платье, счастливо сочетающем серьезность ее натуры и праздничность, наслаждаться молодостью, весной и всеобщим вниманием — все это словно освободило ее от серой городской оболочки, открыв перед нею возможность какого-то нового, яркого бытия. К счастливому ощущению радости примешивалось, конечно, и смутное чувство вины: ведь состояние это не может быть подлинным ее состоянием, а главное, оно не должно внести смятение в жизнь этих простых людей — не потому только, что село тысячью пар глаз (глаз тети Иды) следит за каждым ее движением, но и потому, что скверно, неблагодарно было бы подмешать в триумф Бёжике (и без того как будто чуть-чуть не совсем искренний) и в настороженность тети Иды, всегда такой доброй к ней, отраву невыгодного для них сравнения; именно здесь, в Тюкрёше, Агнеш меньше всего имеет право веселиться и блистать в ущерб всем остальным… За полчаса до гражданского обряда прибыли и свидетели: депутат, следом за ним епископ. Депутат был крепким мужчиной лет сорока, с уверенной манерой держаться, с сединой на висках, которая лишь подчеркивала значительность его лица; он казался уж слишком аристократичным (или это парламент наложил на него свой отпечаток) для уездного адвоката. Агнеш в самом деле было приятно, когда этот повидавший мир человек, на ухаживания дяди Дёрдя, тети Юлишки и даже жениха отвечавший с шутливой фамильярностью, с какой привык обращаться со своими зажиточными избирателями, посерьезнел, пожимая ей руку, и приветствовал ее так, как, должно быть, приветствовал дам на министерских приемах. Округлый епископ же, знавший о ней только, что ее отец, как он сам и как местный священник, учился в Папе, процедуру знакомства быстро перевел в приятельскую беседу, доброжелательно расспрашивал Агнеш об отце, снова и снова высказывая сожаление, что вместо однокашника Яноша Кертеса может приветствовать лишь его дочь. Да и новый секретарь сельской управы, надев на худую грудь национальную трехцветную ленту и внося имена молодых супругов в книгу гражданских актов, словно под действием невидимого магнита, то и дело переводил водянисто-голубые глаза с брачующихся на Агнеш, хотя, как человек новый, не знал, кто она. Толпа, стоящая перед церковью, почти ощутимо подалась вперед и загудела, когда, сойдя с украшенного цветами экипажа, она второй парой, об руку с женихом, вступила в ведущую к боковому притвору живую улочку, обрамленную черными пиджаками и платками. Хотя день был будничный, на венчание собралось несколько сотен людей: католики и обходящая церковь стороной беднота стояли снаружи, возле дома священника, а родственники, крепкие хозяева, набожные старушки — внутри, в прохладном притворе; поскольку один из свидетелей был высокого церковного сана, на церемонию пришли дети из реформатской школы: девочки сидели на скамьях вокруг алтаря, каждая с книгой псалмов в руке и левкоем, мальчики же стояли на хорах, под строгим взглядом играющего на органе ректора. И хотя в процессии действительно было на что посмотреть: депутат парламента, глава церковного округа, невестина фата, а для более фривольных мыслей — пухлая фигура жениха, — однако в голосовании взглядов (не только взглядов молодых мужчин) победила первая подружка, а ее взгляд, в свою очередь, то и дело перебегал на сидевшую напротив девочку, чьи изумленно распахнутые глаза и открытый рот как бы служили символом наивного удивления и восторга.
Агнеш, как она и решила заранее, стремилась всеобщее внимание и восторг, который она вызывала в людях, воспринимать как можно сдержаннее. Депутату она отвечала с таким серьезным и вдумчивым видом, словно справлялась о здоровье больного; епископу, насколько это позволяла ее натура, старалась улыбаться с детской почтительностью; от секретаря укрылась за спиной жениха; меж шеренгами зрителей шла, опустив взгляд на шлейф невестина платья, и лишь подрагивание ресниц да упругость походки выдавали распирающую ее радость. «Что за опасная, почти отвратительная вещь красота, — одергивала она себя, пока совершающий обряд священник, встав к алтарю и вздергивая то мантию, то брови, то голос, блуждал в лабиринте приличествующих случаю нескончаемых рассуждений, к чему окружавшие алтарь люди, знавшие своего пастыря, заранее приготовились, встав поудобнее и время от времени переминаясь с ноги на ногу. — Тот, в ком однажды подымет голову мысль: «Я красив», уже не следит за остальным миром — он раб впечатления, которое производит на других, он только ему внимает в противоестественном восторге или, если впечатление слабо, в горе». И чтобы отвлечься от обращенного на нее восхищенно-любопытного внимания, она попыталась внимать речам преподобного, витиеватым его рассуждениям, исходящим из Послания к коринфянам, потом, убедившись, что следить за ходом его мыслей нет никакой возможности, стала разглядывать двух стоящих обок мужчин подружек: длинную Юлишку Петеш, на которой платье сидело так, словно метлу взяли и завернули в большой кусок тюля (и которую пригласили подружкой для того только, чтобы родня не говорила потом, что в процессии нет ни одной девушки из простых), и пятнадцатилетнюю сестренку жениха, которая ходила в гимназию вместе с дочерью преподобного, живые глаза ее бегали туда-сюда, а когда встречались с глазами Агнеш, на полных, как вишни, губах ее закипал смех. Сколько же настрадалась бедная Юлишка из-за своей фигуры и огненно-красного родимого пятна на шее, которое даже сейчас не смогли закрыть полностью; а как, должно быть, смутилась и захмелела бы эта девчонка, если бы вдруг заметила, какое телесное изменение вызывает у стоящего рядом с ней мальчика-гимназиста — а тем более у взрослых парней — описанная в стольких романах женская красота! Собственно, что это такое — красота? Равновесие гормонов? Или некая условность? Например, этрускам (Агнеш читала об этом в период своего увлечения историей искусств) нравились такие женщины, как тетя Юлишка. Прав преподобный отец: красота преходяща («У Бёжике она уже прошла, — думала она весело настроенной половиной своего мозга, — о преподобном отце уж и говорить нечего»), а духовные ценности, благодарность больных — это останется. Но когда на выходе из церкви, во время поздравлений и поцелуев в притворе, дружка шепнул ей (обратно Бёжике шла уже об руку с мужем, а Агнеш — с ветеринаром): «Может, и нам последовать их примеру?», а она со смехом ответила: «А что? Чем мы с вами не пара?», она думала о том, что вон та бабуся у выхода, глядящая ей в рот, наверное, много бы отдала, лишь бы знать, что она так игриво и непосредственно сказала дружке.
Когда экипажи с цветами на спицах и козырьках (среди них — карета и двуколка из поместья) вернулись в дом Кертесов, цыгане у шелковицы перед сараем уже завершали свой обед, а в нижнем шатре, где стояли возле накрытого стола лишь скамьи, уже собирались гости, которые или не были в церкви, или во время поздравлений и поцелуев побежали по Большой улице и по Нижним садам вперед, чтобы встретить свадебный поезд дома. «Не сердись, Агнешке, что я вас с Дёнци тут посадила, слева, — шепнула ей тетя Юлишка, рассаживая гостей. — Я хотела, чтобы ты рядом с господином депутатом была, ты его лучше развлечь сумеешь». По правую руку от невесты оказался епископ, за ним — Матильда и Шани; слева от жениха — жена священника, маленькое создание, напоминающее вспугнутую пичужку (Агнеш никогда еще вне церкви ее не видела), потом — депутат и они с Дёнци. Еще только вносили горячий суп с чигой[218]: поварихи, вступая в шатер подобно манекенщицам на демонстрации мод, несли супницы, собранные по родне; первой была супница с золоченой каемкой — подарок молодоженам от Дёнци; депутат, расспрашивая Агнеш о том, что она изучает, как переносит вскрытия и демонстрации, не успел добраться еще до больницы, как на галерее напротив их шатра, у крайнего столба появился нерешительно озирающийся молодой человек в спортивной кепке. «Так ваш друг — Иван Ветеши?» — обернулась Агнеш к дружке, забыв про депутата, начавшего было рассказывать, как ему вырезали аппендикс. «Догадались наконец?» — вздернулись от смеха черные усики, на которых теперь блестела капля супа. Но так как Агнеш не могла удержаться, чтобы еще раз не глянуть в ту сторону, то и глаза Денеша проделали тот же путь и поймали уходившую с галереи фигуру; оттолкнув стул, Денеш выскользнул из шатра сзади, в какую-то щель: между гостями и подавальщицами он никогда бы не добрался до выхода. «Куда это твой дружка помчался?» — наклонилась к ней через трех человек Бёжике, когда заметила возле дома бегущего Денеша. Ее тревога, вынужденная выдавать себя за счастливое возбуждение, хваталась за все, что могло хоть немного занять ее внимание. «Друг его приехал, он за ним побежал», — объяснила Агнеш, чуть-чуть покраснев, причину этого странного эпизода. Бёжике, однако, не удовлетворилась брошенным на двоюродную сестру многозначительным взглядом, а нагнулась к Агнеш еще ближе, едва не окуная фату в суп госпожи преподобной, и громко зашептала: «Ты его видела?» — «Видела». — «Ну и как, сильно удивилась?» Агнеш, чтобы положить конец этому перешептыванию, на которое все уже обратили внимание, пожала плечами: «Ну, удивилась…» — и отвернулась к дому, из-за угла которого Денеш как раз тащил рыцаря в спортивной кепке; тот наконец отцепил со своего невидимого отсюда мотоцикла чемодан с костюмом и отправился вместе с Денешем искать какой-нибудь угол — переодеться. Бёжике тем временем наклонилась вправо и через епископа объясняла Матильдке, кто этот вновь прибывший. Агнеш по обращаемым к ней взглядам могла следить, как весть перелетает от Матильдки к сидящей напротив тете Иде, оттуда, через мамашу Юлишки Петеш, за спиной хозяина, развлекающего преподобного отца, к самой Юлишке, оттуда дальше — на левую сторону, где сидела и Агнеш, в то время как Матильдка и тетя Ида, выворачивая шеи, продолжали свое дело, и уже со все более дальних пунктов к чокающейся с господином депутатом девушке обращались любопытные взгляды. Агнеш почти слышала эту устную почту: «Видела этого молодого человека?» — «Знакомый Агнеш Кертес». — «Ради нее приехал на свадьбу». — «Приятель ее дружки». — «Он тоже учится на врача». — «Тогда понятно, чего она такая нарядная». — «Ее все заводили, не говорили, кто приедет». Маленький пештский роман, подброшенный обществу распирающим Бёжике волнением, явно оживил гостей, которые, особенно в середине стола, где застолье носило более чинный характер, довольно сонно ковыряли блюда. «Теперь каждый может сделать вид, будто что-то обо мне знает, — думала Агнеш, краснея от досады. — Наверняка он рассказал Денешу, что мы целовались когда-то. А может, и намекал, что было еще кое-что, как это делают мужчины». «Ну и выдумщица женушка у меня», — услышала она голос жениха, объяснявшего ситуацию улыбающейся преподобной. Депутат же, заметив рассеянность Агнеш, прервал рассказ о своей перфорации (вернее, о том, как он был близок к ней) и тоже повернулся к смеющимся. Конечно, выдумка женушки заключалась в том, что она так здорово организовала эту встречу. «Он колесо проколол, потому не мог вовремя прибыть на венчание», — объяснял вернувшийся среди всеобщего внимания Денеш. «И куда вы его дели?» — спросила Агнеш, которая боялась, что Денеш сразу приволочет его сюда. «Переодевается у бабушки, — засмеялся Денеш. — Я ему рассказал, что вы там спали». — «Думаю, он растрогался?» — «Нет, только спросил, в какой кровати». — «Бабушка тоже там была?» Агнеш представила их: оторванную от молитвы старушку (из кухни ее отослали, за столом же она, со своим беззубым ртом, не хотела сидеть) и переодевающегося Ивана, который, может быть, в жизни еще не бывал в такой пропахшей стариковским запахом комнате; представила, как он раскладывает на кровати рубашку и, пока совершает акт переодевания, они рассуждают о ней. «Но теперь, когда вы такой сюрприз мне устроили, — подняла Агнеш бокал, — вы с себя обязанности свои не сложите?» — «Ни за что на свете, — поднял и Денеш свой бокал, ища ее взгляд, который объяснил бы ему этот полусердитый-полувызывающий тон. — Скажу больше: сейчас особенно велика опасность, что мне лучшего друга придется на дуэль вызывать», — добавил он с той готовностью, с какой уважающий себя молодой человек должен ответить на подобный взгляд.
Переодевание ли шло слишком медленно, или разговор с бабушкой затянулся, но Иван появился не скоро — уже после голубцов и жареной колбасы, сразу за каплуном; на мгновение за его спиной появилась на галерее и бабушка в праздничной кофте и чепчике. Денеш вскочил со своего места и замахал ему, показывая, где находится, но Иван лишь затряс головой и двинулся к соседнему шатру. «Ступайте за ним, Денеш, — снова наклонилась к ним Бёжике, — а то как бы он от скромности к цыганам не сел». И сама расхохоталась своей остроте, на которую затуманенная ее голова оказалась способна лишь в нынешнем взволнованном состоянии. Денеш послушно вскочил и убежал туда, где веселились оставшиеся без крыши над головой (в случае дождя) гости, в основном молодежь. «Не хочет лезть на глаза, — объявил он, вернувшись. — Потом, после обеда, попросит прощения за опоздание». — «Видать, застенчивый юноша», — повернулась к Агнеш тетя Ида («Мало того, что ветеринара захапала, еще и резерв себе обеспечила», — читалось в ее сердитых глазах). «Нет, чего-чего, а этого я сказать о нем не могу», — защищал Денеш честь друга. «Только с голоду бы не умер от застенчивости», — хохотала Бёжике. «За него не волнуйтесь, он нашел себе компанию. Сидит между подмастерьем и почтовым рассыльным», — заметила Юлишка Петеш, которой через щель было видно, что делается в соседнем шатре. Для уверенности дядя Дёрдь тоже встал, чтобы заодно немного отдохнуть от преподобного отца. «Там ему блюдо с голубцами уже притащили», — сказал он, садясь, и заговорщически блеснул глазами в сторону Агнеш. До конца обеда, за уткой, потом за тортом, Агнеш еще три-четыре раза получала подробные сведения о невидимом Ветеши. Ица, сестренка жениха, не вытерпев, вылезла со своего места, словно у нее укатилось что-то, и, выбежав на площадку перед шатрами, с напряженно вытянутой шеей долго смотрела на незнакомого гостя, затем вприпрыжку вернулась на место — к своему довольно сонному дружке. «Такой симпатичный, — отчиталась она с той серьезностью, с какой миновавшие порог половой зрелости девушки судят, еще неумело, о ставшем таким значительным в их глазах противоположном поле. — Только нос немного великоват». — «Это как раз то, что надо», — заметил слегка разомлевший от вина секретарь управы. При взламывании глазированного торта, когда невеста должна была через салфетку разбить кулаком облитый карамелью ажурный купол и сахарного голубя сверху, Бёжике снова вспомнила про Ивана. «Отнесите это ему и скажите, что я посылаю, — положила она несколько кусков на блюдце, — а то ведь до них не дойдет. И передайте еще, что не обязательно ему прятаться до самого конца обеда». — «Очень благодарил, — вернулся Денеш. — Сладостей он, правда, не любит, но во искупление тяжких грехов, так и быть, погрызет, пока наберется смелости показаться дамам на глаза…» «Это уже пахнет Иваном», — подумала Агнеш, выслушав немного дерзкие слова, которые все застолье восприняло как истинно мужской и остроумный ответ. И мало того, что весь шатер полон был невидимым присутствием Ветеши, словно все это торжество было устроено вовсе не в честь скучноватой молодой пары, а в честь их двоих, еще и Денеш постоянно жужжал ей о нем. «Вы в самом деле не догадывались, кто мой друг?» — «Представьте, я плохая гадалка», — ответил за Агнеш второй стакан выпитого ею вина и досада, начавшая закипать в ней против всего этого такого враждебного под любезно-игривыми замечаниями стола. «Но как же так? У вас так много коллег из Фехервара?» — «Я, признаться, понятия не имела, откуда он родом. Может, он говорил, да я не обратила внимания». (В саду Орци ей действительно было все равно, где Иван научился целоваться.) — «Не может быть», — недоверчиво смотрел на нее Денеш. «А что, вы считаете своего друга таким выдающимся человеком, что его анкетные данные просто нельзя не знать наизусть?» — «Иван — выдающийся парень, — ответил Денеш с трогательной убежденностью. — Он будет большим хирургом, вот увидите». — «Способность к внушению в нем, во всяком случае, есть». — «Да?» — блеснули глаза Денеша, словно он понял ее слова как признание, что способность эту она имела возможность испытать на себе. «Вы — тому доказательство», — посмотрела ему в глаза Агнеш. «Как друг ты ему — то же самое, что Мария как женщина», — думала она, и взгляд ее был одновременно и воинственным по отношению к Ивану, и презрительным по отношению к Денешу. Заслонка, сдерживавшая горящий в ее душе огонь, теперь, она это чувствовала, вдруг куда-то исчезла. «Я?» — «Ну да. Вы ведь наверняка во всем ему подчиняетесь». — «Ну-ну», — запротестовал Денеш, думая, что все-таки прав Иван: есть в этой женщине что-то непредсказуемое.
Когда подавали черный кофе, невеста сама поднялась и, словно застенчивого подростка, за руку привела Ивана, чтобы представить его самым важным гостям. «Иван Ветеши», — слышала Агнеш из-за пухлой головы епископа. «Будущий великий хирург», — добавила Бёжике, явно повторяя слова Денеша. Ветеши что-то шутливо ответил, что именно, Агнеш не слышала: цыгане от тихой застольной музыки как раз перешли на чардаш. «Ладный парнишка», — заметил депутат, оборачиваясь к Агнеш; в словах его было признание: добротный смокинг и фигура Ветеши, хищного склада рот, почтительная элегантность, с какой он склонился, без намерения поцеловать, над испуганно отдернувшейся рукой жены преподобного, — это было то, чего он лично и ожидает от молодежи. Но звучало в его голосе и сдержанное разочарование: увы, я ошибся, ты не та зрелая женщина, которая способна оценить мужчину вроде меня; и была в нем еще печаль седых висков: да, молодежи нравится нечто иное, не депутатский мандат. «Сервус», — ответил он лаконично, но относительно благосклонно на поклон Ветеши. «Этой даме, думаю, вас представлять не нужно», — подтолкнула Бёжике к Агнеш своего протеже, и подмигивание ее, пока она возвращалась к жениху, побежало вокруг стола волной улыбок, соответствующих значительности момента встречи двух звезд. Представляясь гостям, Иван все время косился на Агнеш, и та каждый раз отводила взгляд с ощущением, что на лице у Ивана какое-то необычное, несвойственное ему выражение. Теперь, когда они стояли друг против друга, она поняла, что это такое: тайная тревога, едва ли не страх. И это новое для него выражение по какой-то индукции чувств, вопреки намерению показать ему всю свою досаду, породило в ней ощущение неистового триумфа. «Вы не сердитесь, что я сюда напросился?» — спросил Ветеши с соответствующей выражению лица смиренной интонацией, в которой, однако, слышалось, что это — смирение человека, привыкшего повелевать. «Отчего же? Вас пригласили так же, как и меня, — ответила Агнеш странным ей самой, вызывающим тоном. — Вы гость жениха». — «Но ведь вы сами знаете, — заметил Ветеши, добавляя в смирение чуть-чуть страстности, — что из-за жениха я бы сюда не приехал». — «Почему? Уровень, что ли, не тот?» — вдруг вырвалось с высокомерием, удивившим ее, все то же невероятное, сдерживаемое целый день чувство. Она чуть было не сказала: «Подумаешь, какая-то деревенская свадьба…» (В том, что Ветеши возник здесь, в тюкрёшском мире старомодных пиджаков и плохо сшитых жакетов, действительно было некоторое комическое несоответствие.) «Нет, отчего же. Если бы вас не было здесь, я нашел бы, чем развлечься, — попробовал дерзко-вызывающий тон взять в нем верх над неловкостью. — Я и так уже много о вас узнал». — «Обо мне? Что же вы узнали? — ответила Агнеш с той глуповатой интонацией, с какой, наверное, Ица отвечала на вопросы своего дружки. «Например, в какой постели вы спали зимой, какие книги читали». — «Какие же?» — «Классику, из Общества чтения». — «Из библиотеки. Бабушка рассказала?» — «Очень мудрая старушка. Я даже знаю, в каких любительских спектаклях вы играли во время войны». — «Я? А, в «Молоке» Морица». — «Вы были одна из молочниц». — «А это вы от кого узнали?» — «От рассыльного с почты, он тогда играл писаря». — «Вот уж не думала, что вас такие вещи интересуют», — смотрела Агнеш с высоты своего триумфа на нового Ветеши. «Я сам не думал», — сказал Ветеши с нарочитой грустью. «И кого вы еще собрались обо мне расспросить?» — вонзила Агнеш в эту грусть копье своего сарказма. «Теперь только вас…» — «Знаете что, если вы и ваш друг этим заговором, этим тонко рассчитанным опозданием («Прокол у меня был», — вставил Ветеши) хотели добиться, чтобы на вас тут все смотрели как на моего жениха…» — «А что, это так оскорбительно?» — перебил ее Ветеши с надменностью, перечеркнувшей на миг все его смирение, «…или, бог знает, как на моего друга, то вам это вполне удалось. Весь стол — кто еще остался — с удовольствием следит за нами». — «Может, мне уехать?» — «Это не имеет значения, — вскинула голову Агнеш. — Что думают тюкрёшцы и что знаю я — совершенно разные вещи».
Разговаривать они все равно больше не могли. Молодежь, особенно вне шатра, уже поднялась со своих мест; девушки, которым не терпелось танцевать, поглядывали на главный стол, кто побойчее, уже собирались возле площадки, на которой осенью молотили горох: тут был самый пригодный для танцев круг на изрытом колдобинами дворе, рядом с ним, меж двух столбов галереи, устроились и цыгане. Понукаемый невестой, жених наконец прервал почтительную беседу, которую через пустое место Бёжике вел с епископом, и вместе со своей молодой женушкой неторопливо, солидно зашагал в сторону музыки, оживившейся по взмаху смычка Лайоша — первой скрипки. Денеш положил руку на плечо друга. «Извини, у меня тут есть, по моему положению, кое-какие привилегии», — сказал он, ведя подружку меж скамей. «Не бойтесь, я вас не собираюсь компрометировать», — поклонился ей Иван, когда они обошли стол. «Дурак, — думала она, когда, втиснувшись меж другими парами, они включились в общую тряску, и радовалась, что еще способна так думать. — На что он рассчитывал, когда ехал сюда? — размышляла она, положив руки на плечи дружки. — Что надеется он здесь, в Тюкрёше, в густом запахе вина и пота, решить по-другому, чем на проспекте Юллёи?» («Между нами еще не все кончено», — или как он крикнул тогда вслед тронувшемуся трамваю.) Ей казалось, что она очень рассержена и не простит Ивану и его другу, что они ей испортили так прекрасно начавшийся день. Денеш танцевал неплохо, только слишком уж увлекался коленцами, да, когда не кружился, говорил о своем друге. «У Ивана к вам серьезные чувства», — слышала Агнеш в длинной тени разжигающего себя лихими притопами Шани Кертеса. «А своих чувств у вас не имеется? — вдруг взглянула на него Агнеш. — Или вы всегда говорите о его чувствах?» Она хотела произнести это с досадой, но хмель, разлившийся в теле, и жар быстрого, свободного ритма сделали слова ее скорее вызывающими. «У меня?» — посмотрел на нее Денеш и, показывая, что принял вызов, начал притопывать так же лихо, как Шани с Матильдкой.
Краем глаза Агнеш следила и за Иваном. «Еще возьмет и пригласит в середине танца», — думала она; Но Иван, глядя на них, стоял у шатра, а когда взгляд ее снова упал туда, его уже не было. «Обиделся», — решила Агнеш. Но нет, он был среди танцующих: пригласил оставшуюся без пары Мальвинку, сразу завоевав тем сердце тети Иды. «О, знаток приличий!» — мелькнуло у Агнеш. После Мальвинки он сделал несколько кругов с невестой, но ее тут же у него отобрали. «Ишь, не хочет компрометировать», — насмешливо думала Агнеш. Но когда она долго танцевала с Шани, а Ивана тем временем прочно схватила смазливая Череснешиха, про которую поговаривали, что при своем недотепе муже она любит охотиться на молодых людей из барского сословия, у Агнеш родилось подозрение, что Иван просто-напросто хочет вызвать в ней ревность, и она не смотрела больше в его сторону; лишь колыхаясь неторопливо в мягких руках третьего своего партнера жениха, она представила себе лицо Череснешихи, когда неожиданное приглашение заставило всю кровь хлынуть ей в голову. «В общем, довольно смазливая бабенка, — думала она теперь. — Если б она еще знала, кто ей пробует вскружить голову…» Однако Иван ни ей не хотел мстить, ни кружить голову Череснешихе (лишь безошибочное чутье направило его к ней, когда он отдал дань приличиям), и, дождавшись третьего танца — бостона, он все с тем же смущенным и тревожным выражением, с каким подошел к ней в шатре, забрал ее из рук жениха. «Теперь уже можно?» — спросил он так, чтобы слышала только Агнеш. И, как человек, собравшийся прыгнуть в воду или начать какое-то требующее большой решимости дело, на мгновение замер и обхватил ее сильной, длинной ладонью, сначала бережно, потом все теснее прижимая к себе, так что Агнеш вдруг ощутила под его рукой собственную спину со всеми впадинами и бугорками, как будто она обнимала себя самое. «Не странно ли, что мы еще не танцевали с вами?» — спросил Ветеши спустя минуту-другую. Агнеш ему не ответила, да в ту минуту и не могла бы ответить, не могла бы выдавить из своей прижатой к его знакомому телу груди ни звука; она лишь молча улыбнулась ему…
Когда утром следующего дня, кое-как поспав часа два, Агнеш проснулась, первое, что ей вспомнилось из минувшей ночи, был ее дружка: совершенно раскисший, со сползшим набок воротничком и всклокоченными волосами, он исповедовался, кто знает почему, тете Иде: «Вы, м-может, думаете, какой недотепа этот дружка… Но — дружба, и никуда тут не денешься. Знаете, как это драматурги зовут? Раздвоение личности. Слыхали такое? Раздвоение лич-нос-ти! У вас в Фарнаде тоже должны это знать». Бедняга Денеш плохо переносил вино, и Агнеш тщетно пыталась за ним приглядывать, чтобы защитить его от себя самого: к полуночи дружка ее был совсем готовенький и его невозможно было утащить танцевать, оторвав от тети Иды, чья обида каким-то образом превратила ее в союзницу пьяной его разговорчивости. «Как опозорился, бедненький», — улыбнулась Агнеш в подушку, вспомнив дуэт тетки и терзаемого своими душевными конфликтами парня; под конец та звала его уже не Денешем, а Дёнцике. Спустя еще какое-то время она проснулась совсем, встревоженная иными, куда сильнее въевшимися в душу воспоминаниями, и перед мысленным взором ее возникла сцена: Бёжике с плачем бросается на грудь тете Юлишке. Это было вскоре после полуночи; преподобный жених, видя, как притихла и побледнела его милая женушка, до сих пор такая веселая и оживленная, предложил собираться домой, и потом они, несколько человек, загораживали дорогу незаметно появившейся откуда-то бричке с выкраденной невестой. Из накатывающих на Агнеш волн танца, которые и теперь, после сна, неустанно ходили в ее теле, отчетливо встала еще одна, другая картина: всхлипывание женщин, тихое, просительное рукопожатие, которым дядя Дёрдь обменялся, прощаясь, с зятем-священником, вздрагивающие лошадиные шеи, почтительное молчание Яноша на облучке, а главное — тревожное, осунувшееся, молящее о помощи лицо Бёжике, ее трогательные глаза косули; до нее словно лишь сейчас дошло то, о чем не давала задуматься суета предсвадебных месяцев, проведенных в обметывании петель на подушках, в выборе и покупке мебели, а тем более этот переполненный событиями день. Когда она во второй раз — уже после тихого, но решительного толчка, напоминающего, что всему есть предел, — оторвалась от матери, то тут же кинулась на шею стоящей поблизости Агнеш. «Агнешке!» — обнимала она ее так, как, наверное, никогда прежде, прощаясь не столько с двоюродной сестрой (ведь она и не могла ее любить по-настоящему), сколько с собственной девственностью, с тем блаженным состоянием, которое ей теперь суждено утратить. «Варварство! — села Агнеш в постели, более возмущенная, чем в тот момент, когда наблюдала сцену прощания. — Так вот взять и отдать девушку этому жирному, елейному увальню! Может, это в средневековье иначе быть не могло, когда женщины были чем-то вроде домашних животных, но в двадцатом веке! Чтобы упившийся учитель с почтмейстером меж двумя приступами рвоты скабрезно намекали на то, что с ней нынче произойдет! Хорошо все-таки, что я самостоятельная женщина и мою hymen никто пропивать не будет. И отдам я себя тому, кому сама захочу. И тогда, когда мне это потребуется. А потом решу, выйду ли за него замуж».
«Но не Ивану, нет», — сбросила она ноги с постели. Ей вспомнилось, что говорит это она себе не в первый раз. Ночью, во время танца, эти же мысли, почти буквально, бродили у нее в голове, пусть и не так упрямо, не так решительно, скорее следуя ритму музыки и движений партнера. И от этого к ней вдруг вернулась — не как хмельное воспоминание, а как стыд, настолько острый, что перенести его можно было лишь на ногах, — вся минувшая ночь. Даже не то, что она вытворяла (хотя ясно, что за улыбками, за поощрительными словами у окружающих складывалось мнение, что поведение ее просто скандально), скорее то, что чувствовала. Счастье еще, что Иван держался своего плана и своих представлений о ней, да он и при всем желании не смог бы, наверное, воспользоваться ее легкомыслием, тем, что она, закрыв глаза на приличия, пустилась во все тяжкие, ведь вся свадьба смотрела за ними в оба глаза. Она была, что называется, нарасхват: сначала ее кружили Денеш и Шаника, потом секретарь управы, прочие дружки, а перед тем, как уехать, и сам депутат, который до тех пор, сидя рядом с епископом, лишь издали следил за ней горящим взглядом. Иван (хотя к его праву — праву человека, который разжег этот огонь, — поначалу относились с уважением) мог держать ее в объятиях не более пяти — десяти минут. «Скакала, словно какая-нибудь вакханка», — подумала Агнеш и быстро принялась одеваться. В комнате было пусто; бабушка, на время свадьбы отстраненная от всякой работы, уже ушла, чтобы вместо смертельно уставших женщин взяться своими жилистыми, высохшими руками за горы тарелок, котлов и кастрюль в перевернутой вверх дном кухне. «Наши дочери так веселиться, как ты, не умеют», — слышала она, зашнуровывая туфли, голос тети Иды и даже видела отчужденную улыбку на ее синих от усталости и бессонной ночи губах с усиками, когда на ее удивленный вопрос: «Как, вы уже уезжаете?» — та с почтительностью, адресованной рангу ее и могуществу (ведь Агнеш уже была не просто врачом: она, как оказалось, обладает опасной властью над мужскими сердцами, то есть как раз в той сфере, которая тетю Иду из-за мужа и дочерей держала в вечном страхе), но не в силах смягчиться, а тем более простить Агнеш, бросила на нее затравленный взгляд. «Так забыться, так потерять голову! — дернув, оборвала она шнурок. — И где — в Тюкрёше! Чтобы про меня теперь говорили, мол, эта еще почище, чем ее мать…»
Охотнее всего она сию же минуту уложила бы в чемодан свое белое платье, которое, видимо, бабушка подобрала с полу и расстелила на деревянном диванчике, и убежала отсюда, пешком, ни с кем не прощаясь, на станцию, как можно дальше от своего стыда, от его свидетелей, от тюкрёшских глаз… Это, конечно, — ведь и в ней отложилось немало тюкрёшского — было просто немыслимо. Но спрятаться, уйти куда-нибудь, где она сможет наедине сама с собой подумать, как ей выбраться из этой истории, как очиститься от позора застывшей в ее душе сумасшедшей ночи и вернуться к прежним — прекрасным, чистым — своим утрам… Она проскользнула через маленькую прихожую, бывшую кухню, которую снова, как много лет назад, заполняла теперь посуда с остатками утреннего капустного супа, пробежала по галерее. Под окном большой горницы к выбеленному голубоватой известью столбу галереи был прислонен мотоцикл. Только это напомнило ей, вновь пробудив тревогу, что ведь Иван тоже спит здесь, на месте жениха: его не пустили — да он и сам, пожалуй, позволил себя уговорить — хмельным на рассвете возвращаться домой. Не хватает, чтобы и он тоже встал и они столкнулись где-нибудь возле дома. Сначала она хотела уйти в сад, спрятаться где-нибудь там. Но, открыв калитку, обнаружила под кустами жасмина, берегущими сад от летящей с дороги пыли, какого-то человека — наверное, упившегося гостя, — спавшего ничком прямо на земле. Она направилась к другим, более пустынным, углам большой усадьбы Кертесов: в маленькую акациевую рощу за кукурузным амбаром, оттуда, по сухой промоине, на склонах которой из года в год рос прекрасный хрен, обогнув старый навес, где меж сеялками, ручными мельницами останки старой конной молотилки валялись рядом с купленной во время войны и с тех пор вышедшей из моды жнейкой, за скирды, в огород. Эти любимые ею в детстве, пропитанные памятью о нем места, которые лишь не столь давно заменил, став излюбленным прибежищем, сад, вернули ей некоторое спокойствие. Здесь они с Шани и с Карчи Петешем, связав постромками две тележки, играли в поезд; в такой вот точно скирде они с Бёжике делали себе домик и брали с собой, в полное трухи и пыли убежище, легавого Гектора. Видимо, оттого, что все это было и все еще, до сих пор, оставалось почти неизменным, теплый ветер прошлого за каких-нибудь десять минут превратил минувшую ночь в бредовый сон, в мираж, который может развеять одно дуновение. «Ну, веселилась, и что тут такого? Они увидят, что я осталась такая же, как всегда. И скажут, как дядя Дёрдь, с восхищенно улыбчивыми глазами: вот не думал, что в этой серьезной девице бес живет…» А Иван? Она не успела решить, как будет вести себя с Иваном, лишь чувствовала, что и это уладится как-нибудь очень просто, когда, зайдя за скирду (чтобы ее не заметил поящий лошадей Янош), увидела на заросшем пыреем краю оврага подол длинной синей юбки.
Она остановилась, испугавшись, что застала кого-то чужого (ведь домашние, кроме бабушки, все еще спали), но тут юбка зашевелилась, показалась спина, голова в платке, и, когда голова обернулась, Агнеш узнала длинное, худое, бледное лицо матери Халми. «Агнешке! — первой нарушила та испуганное молчание; потом у нее сработал рефлекс бедной женщины, застигнутой на чужой земле. — А я немножко крапивы вот набрала, для уток, старая хозяйка мне разрешает». И показала синий фартук, в котором действительно лежала крапива. «Конечно, конечно, пожалуйста», — сказала Агнеш и невольно оглянулась на дом. Она и не думала, что отсюда, от примыкающих к усадьбе домишек поденщиков (дома выходили на ту же улочку, что и дом Кертесов), так хорошо виден двор, где плясала свадьба: люди полюбопытнее легко могли в темноте пробраться сюда и подсматривать из-за стогов за танцующими. И от этого оптимизм Агнеш снова вдруг пошатнулся. «Давайте я вам помогу», — заговорило в ней поднявшее голову чувство вины. «Господь с вами, — испугалась Халмиха, представив, что Агнеш в самом деле берется руками за высокую жгучую крапиву. — Ее уметь надо рвать. Да и мне больше не надо». И чтобы убедить Агнеш, еще раз раскрыла передник и ладонью, огрубевшую кожу на которой пересекали продольные борозды, подняла и пошевелила груду крапивы. Агнеш смотрела в ее узкое, обрамленное темным платком лицо, которое, как и руки, избороздили заботы и страдание. Если даже она и не подглядывала за ними, то от соседей — семей Редены, Шинки — наверняка к ней дошел уже слух о том, как вела себя Агнеш на свадьбе. «А я с Фери во вторник виделась, — вдруг сказала она, поскольку ход ее мыслей совпал с тем направлением, в каком ей предстояло действовать, чтобы добиться расположения этой женщины, а вместе с тем и прощения для себя. — Он зачетку ходил подписывать». — «Да, он сейчас абсольвацию[219] проходит», — заметила мать. Слово это, абсольвация, явно услышанное от сына, позволило разглядеть в этой женщине, под испугом, под застарелой горечью, много лет согревающую ее надежду и гордость. Какие у нее отношения с сыном? Агнеш думала или, скорее, боялась, что Фери едва ли нежен с матерью. Людей он ценил по уму и с теми, кто прост, а тем более примитивен, обращался — Агнеш это давно заметила — довольно бесцеремонно. И вот теперь эта «абсольвация» показала, что между сыном и матерью (Агнеш представила длинные их носы, нависшие в свете керосиновой лампы над кухонным столом) существуют куда более душевные, доверительные, чем она полагала, отношения. Или, может быть, слово это, оброненное сыном, было подобрано и очищено не ценимой им в должной мере материнской любовью?.. «Ему, говорит, теперь экзамены только остались», — добавила высокая худая женщина, которая из-за какой-то девической застенчивости казалась, несмотря на изможденный вид, моложе своих лет. Вот и теперь она явно не знала, что делать: идти или оставаться. С тревогой и страхом смотрела она на красивую барышню, с какой-то другой планеты свалившуюся в их унылое бытие, стиснутое между еврейским молитвенным домом и усадьбой Кертесов. В этой ее тревоге виделся Агнеш, словно отблеск апокалипсического пламени, и собственный вчерашний разгул. «Он говорил, что, может, тоже приедет на троицу», — отважилась Агнеш пуститься в более обстоятельную беседу. «Приедет? — смотрели на нее увеличенные худобой и, возможно, некоторой предрасположенностью к базедовой болезни глаза. — Чего ему приезжать? Он тут». — «Фери?» — перешло на лице Агнеш удивление в краску стыда… Ну конечно же: вон и осенью, когда она была здесь с отцом… Да и свадьба эта, наверное, была ему любопытна. «А мне и в голову не пришло, — думала Агнеш, — что он может быть здесь и, должно быть, страдает. Ни разу за всю ночь о нем не вспомнила». — «Вчера он приехал, дневным поездом, — продолжала Халмиха, у которой изумление Агнеш вновь разбудило сочувствие к сыну. — На станции не было никого из знакомых, пришлось ему пешком по жаре идти. Тут только, в Хордовёлде, кто-то его посадил на телегу».
Обе женщины молча представили потного, унылого Фери, который, сражаясь с игарскими собаками, волочит в пыли свою ногу, влекомый неодолимой потребностью увидеть ее подружкой. «Он еще спит?» спросила она, как в больнице, когда кому-нибудь из больных было плохо. «Нет, сидит в кухне, молока я ему налила кружку». И хотя больше она ничего не сказала, голос ее нарисовал Фери, сгорбившегося над кружкой, таким измученным, мрачным, что Агнеш всерьез испугалась. «Он что, болен?» — «Такой неразговорчивый вроде», — сказала Халмиха, не ответив насчет болезни. Это «неразговорчивый вроде» в равной степени означало в тюкрёшском языке и душевный недуг, и начинающуюся болезнь. Агнеш, однако, знала уже — да и появившиеся в глазах Халмихи укор, мольба, надежда не оставляли никаких сомнений, — что это она — болезнь Фери, это она виновата в том, что он сидит там, одинокий и мрачный, над молоком, принесенным от тети Юлишки, и из него слова не вытянешь… «Что за несчастные существа матери!» — ужаснулась Агнеш, взглянув на себя ее глазами. Вот эта Халмиха: в страшной нужде растит сына, ходит с ним по больницам, ценой страданий и унижений учит его на доктора — и вот, бессильная, стоит перед ней, злой, жестокой, неизвестно как получившей такую огромную власть над его упрямой одинокой душой власть, глубину и границы которой сама не ведает. И если она с ним жестока, несправедлива, мать не имеет права даже осудить ее за это. Ведь он — всего лишь бедняк, калека, чьи чувства волнуют ее не более, чем чувства какой-нибудь лягушки, прыгающей в траве под ногами… «Я могу его навестить?» — посмотрела Агнеш сначала на женщину, потом на забор дома Халми. «Хорошо бы», — чуть смягчилась тревога в глазах Халмихи. Если Агнеш так испугалась, может, она чувствует свою вину, а то, что она его хочет видеть, пробудило на самом дне измученного сердца матери крохотную надежду, к тому же словами этими, «хорошо бы», Халмиха сразу признала, что только Агнеш способна стать врачевательницей его недуга.
В заборе нужно было лишь отодвинуть одну доску и пройти, как в дверь с высоким порогом. «Тут и Фери мог спокойно пролезть с его ногой», — думала Агнеш, когда они шли через двор. Участок был маленьким, голым; даже траву, если она пробивалась здесь, тут же вытаптывала, выщипывала домашняя птица. (Агнеш с детства помнила обвинения, что семья Редены, да и Халми тоже, якобы нарочно пускают птицу на гумно Кертесов — клевать высыпавшееся зерно.) Несколько поколений цыплят и уток, разбросанные повсюду поилки, корыто с остатками нарезанной зелени и молотой кукурузы, содержащийся в относительном порядке хлев — все говорило о том, что маленький мужнин заработок Халмихе приходится дополнять продажей яиц и птицы. О профессии самого хозяина говорила лишь крохотная мастерская под навесом — скорее, впрочем, кладовка для инструментов, чем мастерская, — с половиной мешка кукурузы на верстаке. Однако Агнеш больше всего удивлена была тем, каким крохотным оказался этот дом, — снаружи, со стороны молитвенного дома, затянутое вьюнком строение являло собой довольно приятное зрелище, каким-то образом скрывая истинное свое убожество; сейчас, увидев дом вблизи, Агнеш немного опешила. Были и на улице Хорват такие же низенькие дома, но они оседали по мере того, как поднималась подновляемая дорога; домишко, в котором вырос Фери, и изначально был крохотным. То ли глину экономил его строитель, то ли рассчитывал, что, при недостатке топлива, так будет легче нагревать дом хотя бы дыханием. «Сюда?» — спросила Агнеш перед застекленной дверью, словно где-то мог быть еще вход. Халмиха снова не знала, как поступить: пропустить гостью вперед или самой войти — предупредить сына. Но Агнеш стояла уже перед дверью, хозяйке пришлось бы ее отталкивать, так что она лишь руку просунула рядом с ней, чтобы распахнуть дверь, и принялась оправдываться, что в доме набросано, — не успела она еще убраться.
Оправдания эти, однако, являлись не более чем церемонией: в маленькой кухне для такого раннего времени порядок был полным. На полках все стояло на месте, стол покрывала чистая скатерть, земляной пол вымыт с содой, затхлый дух бедности смешан с прохладным запахом чистоты. Фери сидел у стола на низенькой табуретке, вдвинутой в угол; перед ним — кружка, раскрошенный кусок хлеба. Ради матери, видно, он отпил молока, пожевал хлеба, сколько мог, но, когда забота об утках заставила ее выйти, погрузился в мрачное безразличие, опустив невидящий взгляд, словно изучая вышитую на скатерти красным надпись: «Чистота — лицо хорошей хозяйки». Если он и слышал разговор за дверью, чужая речь — и даже то, что в дом вошел кто-то посторонний, — видимо, не были достаточно сильными раздражителями, чтобы вывести его из летаргического состояния. Пришлось матери тихо позвать: «Ферике!» Повернув бледное и худое, почти из одного носа, лицо к светлому квадрату двери, он мгновение как будто не мог решить, не материализовался ли, не зажил ли собственной жизнью обитающий в его душе образ, и мысль об утрате разума добавила синевы в его нездоровую бледность; затем он бросил быстрый, сердитый взгляд на мать. Агнеш догадалась: он думает, что мать испугалась и позвала ее утешать сына. Чтобы его успокоить, а заодно избавить женщину от путаных объяснений, она сама рассказала, как попала сюда: «Мы у забора встретились с тетей Халми, от нее я узнала, что вы здесь. Вот и решила зайти проведать».
Халми, который от неожиданности так и остался сидеть, лишь теперь, услышав свежий, чуть ли не требовательно звучащий ее голос, завозился на табуретке, вытаскивая из-под стола больную ногу. «Нет-нет, сидите, — подняла Агнеш ладонь, словно преграждая ему дорогу. — Вы не больны? Потому, наверное, и домой приехали? — спросила она, словно лишь сейчас заметив, что на нем лица нет, и сама предложив объяснение его состоянию, чтобы поговорить о нем. — Когда мы во вторник с вами в канцелярии встретились, вы сказали, приедете только на троицу…» Фери пришел наконец в себя настолько, чтобы открыть рот и выдавить какие-то слова. «Да, что-то неважно себя чувствую», — произнесли синие, потрескавшиеся губы, и лицо его вдруг запылало. Агнеш испугалась, не заболел ли он в самом деле, не простудился ли ночью в овраге, подглядывая за танцующими. «У вас жара нет?» — спросила она, кладя ладонь на лоб Халми, и чуть-чуть постояла, словно измеряла тепло, поступающее в ее пальцы, хотя скорее сама хотела бы, чтобы через ладонь в этот костистый лоб перешло что-то от нее: ободрение, просьба набраться терпения… Потом тыльной стороной руки притронулась к вспыхнувшей его щеке. «Не люби он меня так сильно, — думала она, касаясь тяжелого, такого упрямого в иных ситуациях лба, — он бы бросился сейчас на меня или хотя бы оттолкнул мою руку». Но Халми молча стерпел ее прикосновение: хотя он и не верил ему, однако отвергнуть тоже не смел. Горечь, целую ночь грызущая его изнутри, и блаженство, исходящее от этой ладони, обрекли его на какую-то беспомощную, трогательную неподвижность — вот так собака держит голову под только что бившей ее, а теперь жалеющей рукой. Агнеш не стала более углубляться в эту игру, не сказала даже, есть у него, по ее мнению, жар или нет. Она думала, как утешить его немного. «Знаете, что надо сделать? Погулять, — предложила она. — Не хотите пройтись до кладбища? Моей голове тоже будет на пользу, после этого гама…» Хотя последствия «этого гама», даже легкое покачивание в теле, давно прошли, она намеренно, чтобы показать свое отношение ко вчерашнему, помянула о нем перед Фери. Теперь взгляд стал у Халми таким, как минуту назад — его лоб под ладонью Агнеш. Все в нем смешалось: и суровый ночной разговор с самим собой о том, что нечего было ему, калеке, врагу господ, привязываться сердцем к этой девушке, и в то же время человеческая слабость, надежда когда-нибудь снова, как тогда, на Цепном мосту, и с тех пор столько раз, идти, позабыв про больную ногу, рядом с ней, о которой он даже думать себе запретил, и, может быть, услышать нечто такое, что все представит совсем в ином свете… «Пойди, сынок, тебе лучше станет, увидишь», — вмешалась, видя, что он колеблется, мать, которая все еще держала в руках видавший лучшие дни, купленный, видно, где-то на распродаже стул с обитыми дерматином сиденьем и спинкой, но не решалась в такую значительную минуту предложить Агнеш сесть, наблюдая из-за стула акт руконаложения и вслушиваясь в слова Высшей Власти, решающие сейчас их судьбу. Фери, ничего не ответив, встал и ушел в комнату за чистой рубашкой и галстуком. «Не дай бог, что с ним сейчас случится, перед выпускными экзаменами», — сказала Халмиха (в то время как за дверью слышались шорохи, аритмия шагов, скрип дверцы шкафа), бросая на девушку беспокойный, почти умоляющий взгляд. «Что с ним может случиться?» — пожала Агнеш длинную, немного влажную ее руку.
Они молча шли по проулку, мимо забора Кертесов, по направлению к кладбищу. Агнеш бросила взгляд в ворота: мотоцикл все еще стоял под окном. Когда они расставались, Ветеши сказал, что на сон у него остался всего час, в девять он должен быть в Фехерваре: обещал знакомому врачу помочь на операции с анестезией. Или это тоже было не более чем хвастовство? Во всяком случае, хорошо, подумала она, подавляя легкую панику в сердце, что они уже больше не встретятся. У дедушкиной могилы есть скамья, на ней можно будет переждать критические полчаса. «Надо мне сказать что-нибудь», — думала она, когда, миновав забор Кертесов, они поравнялись со звонницей католической школы и стеснение в сердце, как и последовавшее за ним сердцебиение, прошло. Но неожиданно Халми опередил ее. «Как это вы так рано? — спросил он. — Я подумал было, вы вообще не ложились. Музыканты совсем недавно еще играли». Агнеш взглянула на него — и, видя насильственное его спокойствие, чувствуя, как он старается вежливым интересом скрыть горькую насмешку и враждебность по отношению ко всей этой злополучной свадьбе, легко разгадала его тайный план. Конечно, он не желает показывать ей, как сильно страдает. Страдания калеки — он это понял давно, еще в тюкрёшской школе, — не столько трогательны, сколько смешны. Если он скверно выглядит, значит, он болен. И если Агнеш позвала его гулять, у него найдется достаточно сил, чтобы говорить с ней о вчерашнем — да, о вчерашнем! — в тоне дружелюбного безразличия. Агнеш была не против такого плана. У нее тоже не было никакой охоты оправдываться: оправдания давали бы Халми видимость каких-то прав на нее. Она хотела всего лишь смягчить его муки. Как бы между прочим убедить его: то, что ему показалось таким ужасным, для нее, в ее жизни не будет иметь никаких последствий. «Это они народ по домам провожали, — сказала она про музыкантов. — Тех, кто у Кертесов только пил, а веселиться не мог. В общем, так себе была свадьба. Ни городская, ни деревенская (сказала она вместо «ни господская, ни мужицкая»). И те и другие чувствовали себя не в своей тарелке». — «Вы тоже не повеселились?» — тихо спросил Фери, бросая на нее косой взгляд исподлобья. «Хочет проверить, — улыбнулась про себя Агнеш, — насколько я лжива. Той вакханке, что он видел ночью, вполне подошла бы добрая порция лжи». «Представьте, я лучше всех веселилась, пожалуй, — сказала она, допуская ложь разве что в легкости тона. — Не знаю даже, что со мной случилось такое, — подвела она ближе к тому, в чем хотел его убедить легкомысленный этот тон. — Вино ли тут виновато или то, что я так долго почти не выходила из больницы. На меня просто что-то нашло». — «Надо же иногда передышку сделать», — сказал Фери с лицемерным сочувствием, и во взгляде его, обращенном к ней, одновременно были и подозрение, и надежда. «Это еще на станции началось, когда я нашего кислого Яноша вдруг увидела с миртом на кнуте. И не только он приехал меня встречать, еще и дружка. Такой милый парень, коллега, ветеринар, жаль только, что к полуночи упился до бесчувствия. — Про дружку она стала рассказывать для того, чтобы Халми видел: были там и другие, голову она потеряла не из-за Ветеши. — Вы знаете, что там Ветеши был?.. — И, так как Фери не отвечал, снова спросила: — Вы ведь знакомы с Ветеши? У него еще что-то было с Марией».
Халми устремил на нее печальный, полный укора взгляд, никак не соответствующий его военному плану. Ему ли не знать Ветеши, ему, кто у себя на Филаторской дамбе столько раз, и до, и после того, как у Ветеши «что-то было с Марией», пытался решить вопрос: что было, что может быть у Ветеши с Агнеш? Агнеш смутилась от этого взгляда и, теряя смелость, сделала еще один шаг в своей лжи. «Он какой-то дальний родственник жениха… или знакомый», — поправилась она, прикрывая ложь видимостью правды, ведь Ветеши жениху действительно знакомый, только через Денеша. Но Фери именно в этой новой лжи нашел себе капельку утешения. «Да? — спросил он, выпадая из взятой на себя роли, с оживлением, которое выдавало, что тут затронуто что-то крайне важное для него. — А я думал…» Фразу он не закончил. Агнеш, однако, легко угадала: он думал, что это она привезла с собой Ветеши или его пригласили ради нее; он не знал только, как это высказать, чтобы не вырвались наружу кишащие у него в голове предположения. Однако именно успех ее лжи, который показывал, что бедный Халми, в конце концов, тоже мужчина и она обращается с ним точно так же, как обращаются с мужчинами все женщины, заставил Агнеш устыдиться собственной тактики. «Я не могла отказаться от этого приглашения. Но дело вовсе не в этом, — сказала она серьезно, глядя себе под ноги. — Главное, что это было мое прощанье с беззаботной, свободной жизнью». По движущейся перед ними — и замершей вдруг — тени Фери она увидела, что он не так ее понял. «Нет-нет, не в том смысле, я не замуж собралась, — ласково засмеялась она, поднимая голову. — Просто больше не буду заниматься такими вещами». — «Какими?» — выдавил Фери со страхом. «Ну, всем этим… что было ночью. Танцевать больше не буду». — «Почему? — спросил Фери, подчиняя всю радость, которую поднял в нем этот к нему, к его хромой ноге обращенный обет, диктату разума. — Вы молоды… и здоровы, и без танцев ведь тоже жизнь не полна. Молодой организм своего требует». — «Выросла я из танцев, — кратко ответила Агнеш. И немного спустя: — Мне сейчас почти стыдно за все это». — «Человек — штука сложная», — тихо прозвучал контрапункт Фери. «Да, пока мы — как эмбриональные клетки: в нас скрыто много возможностей и из нас все может выйти. В детском, девчоночьем возрасте. Но когда мы дифференцировались… Я как раз на свадьбе почувствовала, насколько я (она немного поколебалась, стоит ли развивать этот неуклюжий образ) определилась как клетка. По всей вероятности, клетка соединительной ткани», — добавила она со смехом. «На этой свадьбе?» — в последний раз подняло голову недоверие Фери. «Ну да. В Пеште у меня столько всяких дел… Я только в поезде вдруг задумалась, смогу ли надеть белое платье и стать в процессию перед Матильдкой Саркой и Юлишкой Петеш. А позже меня словно затянуло во что-то, чуждое мне, я прыгала, будто обезумевшая, а между тем…»
Агнеш остановилась: а было ли что-нибудь между тем? И это самое «между тем» — не после ли оно было? Не лжет ли она опять? Фразу, к счастью, заканчивать не пришлось. Они дошли до угла, где проулок Кертесов вливался в дорогу, ведущую к кладбищу. Когда Агнеш бросила взгляд вдоль проулка, в сторону Большой улицы, она увидела облако пыли, с треском несущееся, как говорили в Тюкрёше, «эвон туда». «Не он ли?» — подумала Агнеш. Но едва они с Халми успели сделать два-три шага в другом направлении, как подозрительный клуб начал урчать, чихать, затем, после краткой тишины, взревел снова. «Неужто обратно?» — подняла голову Агнеш; но тут уже и Фери заметил взбирающийся на холм и устремившийся в их сторону мотоцикл. «Это Ветеши», — сказала Агнеш, и испуг ее вдруг превратился в твердую решимость не дать в обиду хромающего рядом с ней, мятущегося меж отчаянием и надеждой юношу. Ветеши был уже рядом, наклонив мотоцикл и поставив одну ногу на землю. «Куда это вы исчезли? — сказал он почти резко, с оттенком обиды в голосе. — Я из-за вас всю деревню объездил». — «С Фери вот решили прогуляться немного. После такой ночи очень даже полезно». Ветеши лишь сейчас заметил Фери и бросил ему угрюмое «Сервус». «А ты здесь как оказался? Ты тюкрёшский, что ли? — И, не дожидаясь ответа, опять повернулся к Агнеш: — Не хотел уезжать, не попрощавшись с вами». — «Мы ведь вечером попрощались уже. Я-то думала, вы давно на операции больных усыпляете, а оказалось, сами спали без задних ног», — хохотнула Агнеш, досадуя на себя за новую ложь (ведь она знала, что он не уехал). «Я тем временем понял, что должен с вами поговорить». Круги под глазами после слишком краткого сна, злая, мрачная страсть в глазах, заостряя черты, делали его лицо еще более хищным. «Наконец-то пришел и его черед страдать — или хотя бы терзать ночами подушку», — проснулась в Агнеш, вспомнившей слезы Марии, женская солидарность. «Так я тогда пошел», — пробормотал Фери. И с почти животным испугом потащил свою ногу по направлению к Большой улице.
Агнеш чувствовала: в эту минуту решается ее жизнь. И поступит она вполне однозначно. Когда этот несчастный парень, для которого важнее всего сейчас — оказаться как можно дальше от места, где произойдет ужасное, придет в себя после бегства, он прежде всего пожалеет, что позволил себе быть слабым, затем проклянет весь мир, и она будет виновата в том, что погубила душу, которая была привязана к ней так сильно, так высоко ценила ее. «Постойте, куда вы?» — догнала его Агнеш и взяла за руку. «Домой… Мне надо», — ответил Халми, и под магическим влиянием ее пальцев испуг его перешел в упрямство, потом в мольбу. «Мы все равно идем в ту сторону, — тянула она его, медленно уступающего, к мотоциклу; затем обернулась к Ветеши: — Фери Халми — мой лучший друг. У меня от него нет секретов». И свободной рукой повернула руль мотоцикла в сторону двора Кертесов; для этой прогулки втроем в самом деле будет достаточно пол-улицы. Однако Ветеши и не думал сдаваться так сразу. Он удержал машину и посмотрел на Агнеш. В лице его была почти злоба — не собачья, а злоба дикого зверя, на которого кто-то вздумал надеть ошейник. «Ну хорошо, — сказал он, — я тоже вам не секрет сообщить собирался. Я хотел просить вас: будьте моей женой». Решение это, когда он высказал его вслух, озарило лицо его мрачным торжеством. Словно лицо хирурга, который после трудной операции на сросшихся желчных протоках поднимает вверх извлеченный камень. «Вы меня поражаете», — громко засмеялась Агнеш, но вчерашний огонь, она чувствовала, вновь готов опалить ей голову. В том, что Ветеши не шутит, ни у нее, ни у Фери не было и тени сомнения. Она еще никогда не видела его столь серьезным. И если б не Фери, пожалуй, не стала бы продолжать разговор в прежнем шутливом тоне. Однако так она выигрывала время. «У вас всегда такие шутки с похмелья?» Ветеши, однако, нетерпеливо отверг этот тон: «Вы прекрасно видите, что я говорю серьезно. Правда, два-три года я не смогу еще зарабатывать, но родители о моих намерениях знают и готовы помочь…» «Значит, вот с чем он приехал, вот что хотел обсудить со мной, — переполнял Агнеш триумф. — Или о родителях — тоже импровизация?» Как любая девушка, которой впервые делают предложение, — какого бы мнения ни была она о претенденте на ее руку — на миг, на какую-то долю мига Агнеш почувствовала гордость. Но тут же вспомнила то, что не сейчас, а гораздо раньше, еще когда они целовались, отталкивало ее от Ветеши. Все это нужно ему, он готов даже на жертвы пойти, более того, он (если это, конечно, правда) уже и родителям сделал намек, так что той, кого он избрал, ничего больше не остается, кроме как (после основательной подготовки, проведенной ночью) смириться со своей судьбой. Какая великолепная самонадеянность, может быть, она и хороша для хирургических операций, но чтобы таким путем заполучить ее, Агнеш, — нет уж, не выйдет. «А чего мы стоим тут, как столбы?» — сказала она.
Тут уж и Ветеши ничего другого не оставалось, кроме как повернуть мотоцикл в проулок. «Ваше предложение, — начала Агнеш, когда они прошли молча метров пятьдесят, — мне, как говорится, очень льстит. Но я не могу стать вашей женой…» Ветеши остановился. Ответ был исчерпывающим — но эта ирония в голосе, это «как говорится»… Его передернуло от злости. «Но у вас, наверное, есть объяснение?» — спросил он таким хриплым голосом, словно с трудом подавляемый гнев высушил ему горло. Объяснение? Сформулировать объяснение у Агнеш не хватило бы сил и способностей. Для этого ей нужна была бы огромная колба, в которую слили то, что представляет собой она, и то, что собой представляет Ветеши; получившийся жуткий осадок и мог бы служить объяснением. «На это непросто ответить», — сказала она, глядя на Ивана, а поскольку он не двигался со своим мотоциклом, она тоже остановилась. Халми прошел дальше, но рука Агнеш словно бы все еще держала его: он уже не помышлял о том, чтобы удрать. «Между нами, я чувствую, никогда не будет гармонии», — выбрала Агнеш самый банальный из возможных ответов. «Ночью я этого не заметил», — ответил Ветеши с коротким смехом, по-волчьи оскалив зубы. После того, что было ночью, он, видимо, в самом деле чувствовал себя обманутым, ведь хотя он, с какой-то новой для него, удивляющей его самого нежностью, доставляющей особое, неведомое наслаждение, не проявлял никакой настойчивости, не пользовался слабостью Агнеш, однако руки его ощущали в танце ее покорность, потому он, не сомневаясь, видимо, в ее ответе, и осмелился вызвать ее на этот разговор в присутствии Халми. Агнеш заставил покраснеть этот намек. Но она не собиралась отступать. «Ну, если у нас возможна только такая гармония…» — начала она решительно. Тон ее, а также желание услышать, что последует дальше, несколько остудили Ветеши, и он, ведя мотоцикл, сделал несколько выжидательных шагов рядом с ней. Агнеш уже пожалела, что в ответы ее прокралась насмешка, и она решила — пусть в присутствии третьего, а может быть, как раз для него — объяснить Ивану, человеку, с которым приобрела хоть какой-то опыт в любви, почему ей не хочется именно с ним пополнять этот опыт. «Знаете, Иван, — тихо сказала она. — С того времени, как мы с вами гуляли в саду Орци… и целовались (вставила она, надменно парируя только что прозвучавший намек), много всего случилось. Вернулся из плена отец, я стала работать в больнице. И во мне, я это чувствую, росло что-то новое. А для того, что во мне появилось и живет, вы, Иван, уж простите за откровенность (и она подчеркнула свою искренность извиняющимся взглядом), даже, наверное, не вы лично, а то, что вы представляете, может служить лишь разрушающей силой, как подпочвенные воды, скажем…»
Ветеши это сравнение нашел не совсем безнадежным: было в нем и что-то лестное для него. И на сей раз не ярость, а прилив энергии побудил его снова остановиться. «Но может быть, все обстоит не так, а совсем наоборот. Может, то, что вы называете подпочвенными водами, есть сама жизнь, есть творческое разрушение жизни. А то, куда вы себя заперли… Простите, — прервал он себя с коротким самонадеянным смехом, — терпеть не могу сравнений, особенно таких водянистых». Однако Агнеш даже не улыбнулась. «Возможно, это что-то вроде бесплодия, душевной скудости, — сказала она упрямо, — но в этом моя сущность. У меня уже в те времена, когда я, собственно, ничего другого не желала, кроме как приобщиться к тому, о чем мечтает любая девушка… словом, у меня всегда было ощущение, что вы тем, что делаете, чего добиваетесь, пробуждаете во мне худшую часть моего «я». Потому я и не отдалась вам. Я не девственность свою берегла». — «А теперь?» — спросил мрачно Иван. Очевидно, под этим «теперь» он имел в виду свои чувства, свое благородство: ведь вот он не воспользовался слабостью Агнеш, а попросил ее руки. «Теперь? Теперь все это просто не имеет значения. А за то, что такое со мной… нет, не случилось, ведь абсолютно ничего не произошло, — словом, за то, что через меня прокатилось, мне очень стыдно».
Иван чувствовал, что проиграл. Это «стыдно», как ему показалось, обращено было не к нему вовсе, а к свидетелю, к третьему. И он двинулся со своим мотоциклом за ними для того хотя бы, чтобы ущерб, нанесенный его достоинству из-за его доброты, как-то попробовать компенсировать с помощью злобы. Агнеш почувствовала, какая волна ненависти исходит от него, и попыталась ее притушить. «Что делать, я не отношусь к тем, кто способен любить безоглядно. А вы ведь ищете в женщине такую любовь. Я уж скорее мать… даже для партнера». — «Или сиделка, — вырвалась у Ивана его злость. (Он надеялся, что поправка эта попадет в цель — в этого третьего, который непонятно что делает здесь.) — Видно, там, на «свалке», вы вполне освоили эту роль». — «Может быть», — попыталась Агнеш улыбнуться. «А я действительно не гожусь (и он, снова остановившись, бросил взгляд на Халми) быть предметом для жалости». — «Видите, вот из-за этого я никогда не могла бы стать вашей женой», — сказала Агнеш дрогнувшим от гнева голосом. Но Ветеши уже не обращал на нее внимания: давя на педаль, заставляя мотор реветь во всю мочь, он искал на прощание еще какую-нибудь жестокую фразу. «Всю жизнь терпеть не мог уродов (затем немного все же поправил себя), уродливые чувства. Потому и иду в хирурги. А не в тератологи[220]».
Фери и Агнеш молча двинулись дальше в удаляющемся треске мотоцикла. Агнеш все еще переполнял гнев (вот эта безжалостность — единственное, что она всегда будет ненавидеть в жизни); лишь немного остыв, она обернулась к хромающей рядом жертве. В течение всего разговора она ни разу не взглянула на Фери, даже когда на него смотрел Ветеши: взглянуть на него значило подвергать его слишком тяжкому испытанию. И сейчас, когда они остались одни, ей пришлось мысленно представлять себе его мимику, его лицо с длинным носом, выражающее то обиду, то боль, то растроганность, угадывать по тяжелому дыханию, слишком тяжелому для их неспешного шага, владевшие им чувства. Халми заговорил первым. «Вам не кажется, что вы слишком большое значение придаете состраданию?» — посмотрел он на Агнеш, вложив непривычную для него растроганность в подобострастную интонацию. «Сострадание тут ни при чем, — сердито, еще со следами недавнего возмущения в голосе, возразила Агнеш. — И оно не имеет никакого отношения к вам. (Не дай бог, Фери еще воспримет ее «нет» Ветеши как «да» ему.) Если бы вас здесь не было, все бы кончилось точно так же». — «В общем-то, если говорить о Ветеши, я верю, — сказал, в своем счастье стараясь быть ко всем объективным, Халми, — что он будет хорошим хирургом. У него есть для этого данные». Тут Агнеш не выдержала и улыбнулась. Это было так в его духе: отыскивая у соперника то, что может говорить в его пользу, вспомнить не ястребиный профиль, не неистовую напористость, а профессиональный талант, который ему обеспечит большое будущее. Что это, как не та же самая ограниченность, заставляющая принимать всерьез и жизнь, и работу, которая иногда трогала ее в отце. «Но я совсем не хочу, чтобы меня оперировали, — рассмеялась она. — Он — злой человек», — сказала она немного спустя. И тем самым как бы исчерпала свой гнев против Ветеши. «Если уж говорить о сострадании, то не знаю, не его ли нужно жалеть», — произнесла она чуть мягче, представив, как мчится он в облаке пыли в сторону Фехервара, одинокий, как дикий зверь. Халми не совсем понял, что она хотела сказать, но промолчал. «До чего все-таки нелепая вещь: предложение руки и сердца! — старалась Агнеш в охватившей ее легкости — легкости обретенной свободы — как можно дальше увести разговор от них троих. — Что это: предложение высокой цены за товар, который тебе захотелось иметь? И который сам по себе вообще никакой ценностью не обладает. Если я захочу, — высказала она мысль, что бродила в ней с самого вечера, обретая все большую четкость, — то отдамся без всякой торговли, а там видно будет, станем ли мы жить вместе или нет». В иной обстановке Фери — будь он хоть трижды социалист — воспринял бы это смелое заявление с неодобрением, однако сейчас оно показалось ему прекрасным: ведь в нем нашла выражение смелость и жизненная энергия Агнеш. Ему и в голову не пришло, что слово «отдамся», с такой легкостью произнесенное Агнеш вопреки привычкам ее, вопреки свойственной ей стыдливости, означает как раз то самое, о чем он не раз, представляя ее, думал, обнимая подушку, ночами. «В самом деле, разве это любовь? — уводила Агнеш все дальше высказанная ею мысль. — Чтобы я вместе со спермой допускала в себя зло, которое есть в мужчине? У животных по-другому. Они пожелают друг друга и затем разойдутся. Или же обладают настолько неразделимой моралью, что могут жить и растить птенцов в одном гнезде. А человек…» — «Но любовь все-таки есть и у человека, — осторожно заметил Халми. — И очень многое на ней строится». — «Да, — сказала Агнеш и мысленно огляделась: куда, в какие неведомые края занесла ее декларация свободы. — Но если на ней многое строится, значит, нужно ее приручить, облагородить, чтобы она была слугой, а не тираном… Ну, всего вам хорошего», — протянула она руку Фери, так как они стояли уже возле дома Кертесов и она не хотела затягивать разговор. Она и так чувствовала, что слишком разоткровенничалась. «Вы каким поездом возвращаетесь?» — спросил Халми, чуть задержав ее руку в своей. «Не скажу, — засмеялась Агнеш. — Вы давайте-ка оставайтесь дома и готовьтесь к экзаменам. И порадуйте хорошим настроением вашу матушку».
Утром, в день троицы, еще ощущая в теле толчки и тряску долгой дороги (до Адоньсаболча с ней в вагоне ехал и Денеш Ковач), Агнеш появилась у тети Фриды и вытащила из чемодана множество остатков жареного мяса и кусков торта (даже бабушка в сознании своей вины сунула ей немного сухой колбасы из своих крохотных запасов); отец как раз был еще дома. Извлекаемое из-под учебника патанатомии он разглядывал с обычным своим интересом: «О, и еще? А это что? Фаршированный цыпленок?.. Видно, хотели меня утешить за шаферство», — понял он причину такой щедрости. А когда Агнеш, вынув с самого дна сверток с сухой колбасой, рассказала ему про бабушкины тревоги, понимание, с которым он принимал доброжелательство тюкрёшцев (и которое так раздражало госпожу Кертес), перешло в растроганность. «Бедная матушка!.. Все равно мне пора ей писать». Затем он долго расспрашивал дочь про свадьбу: кто был шафером, кого еще позвали в подружки, но Агнеш видела, что за его вопросами что-то стоит. И когда тетя Фрида принялась уносить припасы в кладовку, лицо его стало еще рассеяннее, губы, готовясь сообщить что-то, задвигались в знакомой манере, напоминая движения жующей жвачку коровы; Агнеш знала: сейчас он скажет ей нечто важное. «А здесь тоже тем временем знаменательные вещи произошли», — использовал он последний рейс тети Фриды в кладовку, когда дочь, торопясь в больницу, начала уже было прощаться. Агнеш подумала, не с матерью ли опять какие-нибудь проблемы, и бросила взгляд на отцовские часы: не опоздать бы на поезд. «Я тоже решился на важный шаг. Женюсь». — «Вы, папа?» — вскрикнула Агнеш и, несмотря на свой ужас, рассмеялась. Однако отец говорил вполне серьезно, и смех дочери явно вызвал у него досаду. «И на ком?» — спросила Агнеш, оставив надежду поймать взгляд отца. «На одной вдове. Снохе моего доброго друга». — «Тейна?» — сложились вдруг воедино в голове Агнеш невероятная новость, отказ отца ехать на свадьбу и то, как тетя Фрида говорила о его отлучках. «Ты, я вижу, удивлена, — сказал Кертес почти враждебно. — Но я тоже ведь не могу до конца жизни оставаться бездомной собакой. Мамуле я уже сообщил, и на сей раз — заказным письмом… Тете Фриде не надо пока говорить об этом, — сказал он, услышав скрип открывающейся двойной двери кладовой. — Я ей сам сообщу, когда придет время».
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
Дальше помолвки дело, естественно, не пошло. Госпожа Кертес, получив заказное письмо, возмутилась: вот как, муж, стало быть, решил ее припугнуть. Мысль, что он в самом деле может взять и жениться, была настолько невероятна, что она даже не могла ее принимать всерьез. «Он просто меня шантажирует, чтоб я его обратно взяла и он бы глаза мне мозолил в этой клетушке» (через пару недель так величала она квартиру госпожи Рот). Когда она вытянула из Агнеш, что невеста или по крайней мере такое знакомство существует, она какое-то время пыталась к этому относиться с пренебрежением. «Пускай женится, пускай какая-нибудь другая дура будет с ним счастлива. Деньги на мое содержание ему все равно придется платить. Ведь это он меня бросил, у него есть невеста». Однако стоило ей узнать, что невестой является сноха старого Тейна, которого в эпоху создания Общества вдов и сирот она и сама хорошо знала и у которого уже тогда была внушающая почтение седая голова и собственный дом на Виранёше, и что сноха его, по сравнению с ней, еще молодая женщина, мысли ее пошли в ином направлении. Теперь она мужа обвиняла в корыстной расчетливости: «Какое там любит. Не любит он никого. Просто нашел несчастную женщину и думает, что она будет такой же дурой, согласится его обслуживать». Но когда она говорила это, ею уже владела паника. Дела ее шли все хуже. Табачная лавочка на улице Доб, вопреки заверениям дяди Тони, Лацковича и даже приглашенных экспертами крестных, оказалась вовсе не золотым дном. Даже окрестные жители почему-то не хотели туда ходить, предпочитая покупать свои сигары на Кольце. А неопытная владелица, скорее старая, чем молодая, не умела приручать даже тех, кто заглядывал к ней случайно. Агнеш была однажды у нее в лавке и от души пожалела мать, наблюдая, как встречает та покупателей. Она чуть ли не в испуге вскакивала, когда кто-то открывал дверь, и спрашивала: «Что прикажете?» — так заискивающе и в то же время почти с отчаянием, словно старалась не рассердить некую непонятную, капризную силу, от которой зависела вся ее жизнь. «Нужно какое-то время, чтобы дело наладилось», — повторяла она утешительный аргумент крестных; однако тут, на улице Доб, не было рядом ни больницы Милосердия, ни купальни «Лукач», откуда персонал и пациенты заходили бы в лавочку поболтать, да и не способна она была сопровождать приветливыми словами каждый проданный коробок спичек. В общем, самостоятельность оказалась совсем иной, чем представляла ее себе бедная стареющая Нора. Средства, оставшиеся от обмена квартиры, — та пресловутая «разница» — растаяли моментально; она, разумеется, жаловалась на вновь набиравшую темпы девальвацию и пыталась цепляться за невероятные (в условиях девальвации все равно, конечно, бесследно поглощаемые убытками) проценты на сумму, получаемую на содержание. Если теперь, кормя другую женщину, муж будет давать ей лишь то, что при разводе назначит суд, она очень скоро протянет ноги.
Это были, однако, лишь поверхностные причины для паники, в которых (особенно с той поры, как и с Лацковичем не все было ладно) она сама себе признавалась в минуты уныния, а вместе с тем просветления мысли. Истинная же причина крылась гораздо глубже: ведь всю жизнь она, собственно, была никем и ничем, только госпожой Кертес, женой старшего преподавателя гимназии, и, как ни презирала мужа, все, что в жизни ее означало свет и отраду, она получала от него; даже Лацкович обратил на нее внимание потому, что мог благодаря ей наставить рога такому пользующемуся всеобщим уважением человеку, как Кертес. И этот раб, который кормил ее, освещал своим светом, терпел капризы ее вздорной натуры, вдруг решил порвать связывающие их нити, уйти из ее жизни, чтобы теперь (через крестных она узнала, что невеста — довольно бесхарактерный человек) тиранить другую женщину. Крестные довольно быстро ей втолковали, что высокомерный ответ, данный мужу (пускай женится на здоровье, она не станет его удерживать), был с ее стороны ошибкой, которая легко может быть использована при разводе. Так что месяц спустя, когда Кертес, все еще не подавший на развод, предложил (теперь уже в обычном, не заказном письме) провести процесс во взаимном согласии, с одним адвокатом, она ответила ему куда более осмотрительно, попросив его, прежде чем он решится на какой-либо необдуманный шаг, прийти и обсудить дело с ней, с глазу на глаз. Следствием этого разговора (в подробности которого ни мать, ни отец Агнеш так и не посвятили) стало то, что Кертес в конце учебного года принял приглашение отряда школьных бойскаутов и провел один месяц возле Широкского замка, а затем, в самом начале августа, переехал обратно — в существенно уменьшившуюся квартиру на улице Лантош.
Агнеш, узнав с опозданием на две недели (Фюреди ушел в отпуск, и она его заменяла) о его возвращении, в последний раз ощутила, как в ней поднимает голову тот разгневанный ангел с огненным карающим мечом, что зимой хотел было превратить изгнание отца в библейский исход. Спустя некоторое время после состоявшейся на троицу «помолвки» Кертес решил и ее познакомить с семьей невесты. Видимо, сама госпожа Тейн захотела поближе узнать дочь жениха, студентку-медичку, о которой Кертес (как с удивлением узнала Агнеш) отзывался лишь в превосходных эпитетах, чтобы чуть-чуть успокоить свою тревогу относительно ее чувств. Агнеш к Тейнам шла неохотно: было в этой затее отца что-то абсурдное; правда, если еще осенью она могла ужинать за одним столом с Лацковичем, то почему, по какому праву должна она отказаться от визита в дом, где отец ее после стольких страданий обретет наконец тихую пристань, которую они с матерью не смогли ему обеспечить. То, что она увидела, было грустно и трогательно. В самой бедной, запущенной из виранёшских вилл, понастроенных здесь в конце прошлого — начале нынешнего столетия директорами реальных училищ и судьями победнее, среди разбитых параличом абрикосовых деревьев жила странная пара: старый Тейн, все еще эффектный красавец тевтон (у него и специальность была — немецкий язык и литература) с белыми густыми бровями, слегка уже глуховатый, и крохотная женщина, которой, как прикинула Агнеш, вспомнив их умершего преподавателя, было лет тридцать пять, не больше, и которая ссохлась, съежилась не столько от возраста, сколько от отсутствия всяких желаний, от робости, от вечного пугливого ожидания властного окрика. В саду мелькали два ее сына: один уже гимназист, второй, родившийся после смерти отца, семи лет; вскоре они появились в дверях гостиной и попросили разрешения пойти на соседний луг — играть в мяч. В этом-то доме, в этой семье, рядом с беспомощной женщиной и нуждающимися в воспитании детьми, должен был ее отец взять на себя роль кормильца, опоры семьи, роль, которую до сих пор выполнял старец, несущий свою львиную голову, словно изъеденное термитами дерево — еще пышную крону. Маленькая женщина смущенно, почти извиняясь подошла к Агнеш и поцеловала ее в шею, не сумев достать до щеки. «Я так мечтала с тобой познакомиться, Янош столько хорошего говорил о тебе». Когда пришло время подавать на стол, они ненадолго остались в кухне одни. «Ты ведь знаешь, о чем идет речь? — потянулась, забыв о нарезаемом калаче, дрожащая рука госпожи Тейн к руке Агнеш. — Мы подумали, что два потерпевших кораблекрушение человека…» Агнеш молча сжала маленькую натруженную руку (сколько сумок и сеток, должно быть, перетаскала она сюда с рынка), стараясь себя убедить, что это все-таки совсем не то, что тетя Фрида, и лучшего крова, лучшей спутницы жизни отцу все равно не найти; однако, несмотря на все это, Агнеш никак не могла избавиться от чувства неловкости, от ощущения какой-то вины, словно они с отцом были мошенниками, втершимися в доверие этой обиженной богом семьи. И вот пожалуйста: стоило матери поманить его, отец, который сам, пожалуй, не верит, что с его возвращением шуры-муры с Лацковичем сразу же прекратятся, в ту же минуту отказался от своего слова и, словно какой-нибудь брачный аферист, перечеркнул надежды своего старого друга, так украсившие ему последнее лето, и надежды вдовы, которая стала вдовой в двадцать с небольшим и теперь даже ценой компромисса, предварившего ее согласие, не сможет дать отца своим подрастающим сыновьям. Интересно, как он сообщил им об этом? Ходил к ним лично? Или послал письмо, чтобы избежать шумного объяснения и не видеть жеста, каким старик укажет ему на дверь? А может быть, просто исчез из виду, перестал давать знать о себе, взяв на свою совесть еще один эпизод, вспомнив которые человек даже спустя много лет вздрагивает и ежится от стыда. «А, если ты женатого человека заманить собралась… — бросила мать. Ибо первым вопросом Агнеш, после того как внимание ее привлекла висящая на крючке отцова спортивная куртка, к которой мать теперь даже согласна была пришивать пуговицы, был о Тейнах. — Ты же всегда была недовольна, почему я прогнала отца из дому. А теперь, когда я обратно его приняла, ты их жалеешь». Агнеш думала: нет, здесь она какое-то время даже появляться не будет. Хоть так выразит свою солидарность с несчастными. Но когда пришел домой отец (он был у взятого на лето ученика, провалившегося по двум предметам и готовящегося к осенней переэкзаменовке), ее гнев, необходимый, чтобы выполнить это решение, вдруг куда-то весь улетучился. На лице у отца еще играла улыбка, с которой он, заглянув из прихожей в маленькую комнату, поздоровался с мамулей, уговорившей Агнеш остаться хотя бы до полдника. «Ладно, ладно, ступайте-ка лучше в комнату», — раздался из-за двери ее менее, чем обычно, неприветливый голос, в нем даже можно было услышать нечто, позволявшее думать, что мамуле пришлось отразить не совсем неудачное покушение на объятие. И еще было в нем некоторое злорадство: пусть Агнеш сердилась на отца из-за нее, из-за того, что она сманила его домой, все равно госпоже Кертес было приятно представить, как дочь состроит отцу ту гримасу, с какой столько раз смотрела на нее из-за Лацковича. «А, это ты? — действительно удивился дочери Кертес. — Как раз сегодня директор про тебя спрашивал». В своем счастливом состоянии молодожена он искренне был доволен, встретив дочь дома: пускай и она порадуется, что после множества злоключений их маленькая семья опять вместе. Лишь увидев на губах Агнеш необычное, осуждающее выражение, он вспомнил, где они были вместе совсем недавно, за несколько дней до его отъезда в лагерь. От этого он и сам потерял немного уверенность. «Ну, что скажешь о наших последних событиях?» — спросил он, когда они пожали друг другу руки (целоваться у них было принято только при расставании). «Н-ну… — колебалась Агнеш; но заметив в глазах отца то отчуждение, даже досаду, с какой после своего возвращения он встречал ее нравственные порывы, даже если они направлены были на защиту его достоинства, она вдруг с неожиданной ясностью осознала, что в сфере известных, лежащих в основе всей жизни взаимоотношений людьми движут те же механические законы, та же совокупность химических реакций, составляющих трофику, что и простейшими организмами, а потому нет никакого смысла сердиться на то, что старый, немножко уже не совсем умственно полноценный человек возвращается, пусть даже ценой некоторого унижения, в свою семью. — Надеюсь, все будет в порядке», — завершила она с улыбкой, вовсе не так, как обещало ее растянутое «н-ну…».
Конечно, был, кроме несчастных Тейнов, еще один человек, которого «последние события» ощутимо задели, — тетя Фрида. Правда, квартирант избавил ее от тех волнений, в которые ее неминуемо ввергла бы весть о помолвке. Кертес тянул с признанием, в глазах живущей с ним под одной крышей и весьма щепетильной в вопросах морали дамы равнозначным скандалу, до того момента, пока необходимость в нем вообще не отпала. Так что отношения между жильцом и некой неизвестной женщиной так и не вышли за рамки обсуждаемых лишь с Кендерешихой домыслов. («Не знаю, что он так зачастил к этому своему другу. Er ist ganz verändert[221], он так изменился». — «Может у господина учителя есть кто-то?» — «Die soll doch eine ganz junge Frau sein»[222]. — «Молодая женщина? В его-то возрасте?» — «Er ist doch kein Junggeselle»[223].) И вот, после полученных с Матры[224] открыток, которые несколько успокоили тетю Фриду («Er ist dort mit den Buben[225]. Если бы у него кто-нибудь был, он не поехал бы в этот лагерь»), она узнала, какой вираж совершил вдруг ее жилец. Причем узнала лишь через день, через два после того, как Кертес, прямо в спортивной одежде и с рюкзаком (это госпоже Кертес труднее всего было вынести молча), явился, в соответствии с их соглашением, в квартирку госпожи Рот. «Er hat nichts gesagt, gar nicht[226], — обиженно говорила тетя Фрида Агнеш, когда та, пользуясь воскресеньем, заехала на улицу Хорват проведать тетку. — Просто побросал все в чемодан, — начала она жаловаться еще в кухне. — С ним носильщик был, он даже не взглянул на меня, можно сказать. Er traute mir nicht in die Augen sehen[227], — повторила она по-немецки. — Только и сказал: с женой помирился. Wenn man das Aussöhnen nennen darf[228], — вставила она пророческим тоном. — И что пока я другого жильца не найду, er hat ein wenig erspartes Geld[229], он будет платить за комнату». Тетю Фриду, конечно, не слишком-то можно было утешить этой квартплатой, которую теперь, когда министр Хегедюш пал и деньги снова стремительно стали падать в цене, и определить было невозможно. Для нее der Кертес означал настоящую жизнь, напоминающую те времена, когда развелся ее младший брат (Ирмы тогда не было уже в доме, и ей нужно было заботиться лишь о двух мужчинах: Шаму и об этом милом сорванце Тони), — настоящую жизнь, то есть ежедневную возню на кухне, тюкрёшские и иные посылки, раз в неделю приход Агнеш, появление гостей вроде Халми или Колтаи, о которых можно было потом посудачить с Кендерешихой. И теперь всему конец. Она осталась allein, allein[230]. В безнадежной войне с кровельщиками. «Тони, тот мне еще иногда помогает, но твоя мать — sie wird mir nicht helfen, wenn ich von Hunger stirb[231]». Агнеш пыталась утешить ее: она каждую неделю будет к ней заходить, будет делать покупки для тети Фриды (она решила отдавать ей то, что до сих пор тратила на отца). Даже пообещала поискать ей жильца. Обещание это она сдержала быстрее, чем думала. В тот день, к вечеру, к ней в больницу приехал Халми. Агнеш рассказала ему, какой удар постиг бедную тетю Фриду и в каком отчаянии она находится; Халми задумался. По ответам, которые он давал ей в саду и в палате (Агнеш всегда показывала ему новых больных), чувствовалось, что голова у него чем-то занята, а когда Агнеш провожала его через поселок до станции, он на прощанье выдавил все-таки: «А что, если бы я снял бывшую комнату вашего батюшки? Вы бы не возражали?..» Тревога, с какой он это спросил, выдавала: вселение к тете Фриде для него — своего рода приобщение к их семье, без одобрения Агнеш оно потеряет смысл и вообще будет как бы недействительным. «Я? — обрадовалась Агнеш. — Наоборот: вы же просто осчастливите бедную тетю Фриду. Она с таким уважением вас вспоминает. Так и зовет вас: этот твой друг, доктор». (О том, что тетя Фрида добавляет: «der hinkt etwas»[232], Агнеш промолчала.) — «Я бы в день полтора часа сэкономил на этом; но раз вы сами не предложили, — сказал он с подобострастным укором, — я думал, вы станете возражать». — «Да мне просто в голову не пришло. Вы в моем представлении неотделимы от Филаторской дамбы. Я даже предположить не могла, что вас можно оттуда вытащить… Да и неудобно… разлучать вас с вашей хозяйкой». — «С ними у меня и так уже натянутые отношения, — успокоил ее сияющий Халми. — Мне только не хотелось до получения доктората заниматься поисками квартиры».
Так что во всех этих перипетиях без квартиры осталась одна Агнеш. На улице Лантош в первый же субботний вечер встал вопрос: кому спать в комнате, с госпожой Кертес, на сооруженном железнодорожным столяром рекамье (которое как модная вещь попало в число подлежащих помилованию предметов) и кому — на железной раскладушке, которая едва умещалась в кухне. Госпожа Кертес, естественно, хотела выселить мужа. «Конечно, ты раз в две недели приходишь ко мне, и я положу тебя на кухне. Пусть он туда идет. Он в плену все равно привык». Разумеется, Кертес был согласен с женой. О, если б у них в красноярском лагере были такие условия!.. Но Агнеш уже знала двойную его бухгалтерию, знала, что если он как недавний военнопленный, как мудрый, стоящий над суетой человек воспринимает удары по самолюбию с кроткой улыбкой, то где-то под этой улыбкой ранимая и ревнивая душа его ведет иной, собственный счет. Чтобы предупредить у матери вспышку жалости к самой себе, которая легко могла обратиться против вторгшегося в ее жизнь мужа («Нет, пускай я повешусь, но у тебя будет где переночевать»), Агнеш предпочла соврать: «Вообще-то тут не о чем спорить. Я совсем забыла: сегодня мне на дежурство, Фюреди попросил подменить» — и твердо решила в будущем не доводить дело до дилеммы: выжить отца на раскладушку или обрушить на него материн гнев. В то же время другой ее, казавшийся более надежным плот — кровать в больнице, в комнатке Маты — тоже, кажется, начинал из-под нее уплывать. Балле, видимо, недолго оставалось работать в Цинкоте. По мере того как отходил в прошлое 1919 год, друзья Баллы, в том числе Розенталь, все смелее доказывали, где только можно было, что такому блестящему врачу-исследователю нельзя позволить пропадать на «свалке». Шли разговоры о том, что его возьмут адъюнктом в одну провинциальную клинику. А в это время в журнале «Медицинише вохеншрифт» появилась, вызвав чуть ли не сенсацию, его статья о возможной связи между щитовидной железой и базальными ядрами; к удивлению Агнеш, там описан был и случай Шварцер. Эта статья, как Агнеш узнала от Халми, обеспечила ему приглашение в один американский университет и стипендию для научной работы. Все в больнице, от сестры Виктории до санитарки, и без того чувствовали всегда, что Балла у них — лишь временный гость; теперь, когда он должен был скоро уйти, чувство это переходило в скрытое под преувеличенной вежливостью ожидание и, как всякое ожидание, в нетерпение. Агнеш пришлось задуматься, что будет с ней, когда оборвется тонкая нить, привязывающая ее к больнице. Станет ли терпеть ее здесь преемник Баллы; и кто будет преемником? Фюреди, хотя в последнее время еще сильнее ругал «свалку» и еще больше разглагольствовал о том, какие должности готовит ему дядя, рассчитывал, очевидно, — и на домашних своих концертах предпринимал шаги в этом направлении, — что преемником Баллы, то есть чем-то средним между младшим и главным врачом, назначат его; из этой должности легче сделать и желанный прыжок на давно присмотренное теплое место. Но что тогда будет с Агнеш? Хотя открытой вражды между ними не было, он, конечно, постарается отомстить ей за то, что вынужден был постоянно считаться с ее неуступчивым мнением, корректируя по нему свое капризное самолюбие. «Ишь, какая-то сопливая четверокурсница, а туда же, — заранее слышала она его злорадный голос. — Врачи, заведующие отделениями так себя не ведут. Так что будьте добры, возвращайтесь-ка за парту». Но если он даже оставит ее, чтобы по ней, по их изменившимся отношениям измерять свою возросшую власть, сможет ли она сама здесь работать?
В первые дни сентября произошло нечто, сделавшее Фюреди совершенно невыносимым для Агнеш. Однажды в полдень — Агнеш как раз вернулась из университета, где записывалась на курсы и семинары, — сестра Виктория без обычной улыбки передала Агнеш распоряжение главного врача: держать морфий и другие лекарства с двумя крестами в специальном ящике для ядовитых веществ, ключ от которого будет храниться у нее, и вести журнал учета инъекций. «Господин главный врач (теперь все звали его только так) опасается, видно, — объяснила она, встретив непонимающий взгляд Агнеш, — что лекарства попадают не тем, кому надо». Но кто же эти «не те»? Чтобы больной подошел к столику с инструментами и что-то стал там искать — такого представить себе было невозможно. И вообще, как он сделает сам себе инъекцию? Откроет ампулу и выпьет? Может, они думают, что это она таскает лекарства? Халми, которому она рассказала о странном распоряжении, на другой же день успокоил ее: у Баллы и в мыслях нет подозревать ее в чем-либо, его совсем другое тревожит. Но что именно, этого Халми не знал или не стал говорить. Позже Агнеш заметила нечто непривычное в поведении своей соседки. Сиделка то очень долго молилась, то, вместо того чтобы встать на колени, бросалась навзничь в постель и долго металась с боку на бок, а потом лежала, устремив в темноту широко раскрытые глаза. Агнеш уже засыпала, а Мата все ворочалась на постели и тихо стонала. «У вас болит что-то?» — спрашивала Агнеш. Ответа от застывшего в неестественной позе тела не было. Потом началось другое: Мата не ложилась спать вместе с ней. Даже если не была на дежурстве. Приходила она за полночь, без молитвы забиралась в постель и тут же засыпала. «Где это вы бродите нынче?» — спросила однажды Агнеш сквозь сон. «Что спрашиваете? Знаете ведь! — был краткий ответ. Затем, после небольшой паузы, пока, видимо, в ней боролись гордость и желание довериться кому-нибудь, она произнесла таким голосом, который Агнеш с тех пор не могла забыть: — У Фюреди я была». — «Вы?» — испуганно села в кровати Агнеш. Мата, эта до безрассудства прямая женщина, за которую Агнеш в связи с предстоящим уходом Баллы больше боялась, чем за себя… и Фюреди, к которому, она была убеждена, можно питать лишь отвращение. «Зато в покое меня оставляет, — небрежно ответила соседняя койка на охвативший ее ужас. Затем, почти грубо, Мата добавила: — Думаете, я тоже стану вокруг этого церемонии разводить, как вы с вашим Халми?» Агнеш лежала, ошеломленная. Две разные вещи: распоряжение Баллы и беспокойное поведение Маты — слились в одно; Агнеш даже знала теперь, как добился Фюреди, чтобы Мата уступила ему. «Мата! — заговорила она спустя четверть часа (не зная, что означает тишина на соседней койке, — может быть, сиделка уснула уже; но это был тот случай, когда требовалось вмешаться немедленно). — Если хотите, я сама поговорю с Баллой, только не грешите против себя… Ведь вы сказали, что верите в бога…» Агнеш уже решила было, что обращается к морфиумному забытью, когда соседняя койка вдруг скрипнула. «Вы что думаете, — произнес пропитанный слезами голос, который в последнее время вообще был не так звучен, как раньше. — Если бы я не верила, я давно бы уже повесилась на цепочке в уборной».
Нет, если Фюреди станет ее начальником, она не сможет ни дня здесь оставаться. Однако вопрос, что с нею будет, если ей придется уйти из больницы, куда она денется, где найдет кров, уже не особенно волновал ее. Во всем том, что с нею произошло за последние восемь — десять месяцев, самым отрадным как раз было то, что за судьбу свою она больше уже не тревожилась. Но бестревожное это состояние было совсем не таким, как в детстве, когда родительская забота ограждает тебя от грозящих отовсюду опасностей; нет, это было новое, взрослое ощущение, спокойная уверенность в том, что накопленного тобою в душе с лихвой достаточно, чтобы прожить в этом мире. Жилье? Тетя Фрида счастлива будет, если Агнеш переселится к ней и будет спать на диване, что зимой был постелью отца. А если сейчас, когда в большой комнате обосновался Халми, ей, может быть, неудобно было бы переехать туда — не из-за них двоих, а из-за соседей, — то Йоланкина бабушка охотно выделит ей угол в квартире на улице Розмаринг. С тех пор как Йоланка все же попала в училище, бабуля вся истерзалась, не оробеет ли бедненькая в новой обстановке. Вот если бы Агнеш, как в прошлом году, позанималась с ней!.. И Агнеш, хотя занятия в училище только-только начались, однажды зашла посмотреть, что у нее за книги и что в голове. Мария Инце после очередною (совсем иного, чем в истории с Ветеши) любовного разочарования вновь приблизилась к ней на вытянутой эллиптической орбите их странной дружбы: придя в сентябре в канцелярию, Агнеш вдруг увидела, как Мария радостно машет ей в толчее у окошка. «Ты что, до сих пор на своей «свалке» добрую самаритянку изображаешь? — накинулась она на подругу, когда их с поднятыми над головой «простынями» притиснуло друг к другу. — Если б ты не сгинула там, я и сейчас бы, может, жила на улице Розмаринг. Помнишь, какими мы неразлучными были? Ты даже ночевала у нас». На крайний случай можно было бы приютиться и у нее. А пропитание? В конце концов, «свалка» ведь — не единственное место, где можно заработать на кусок хлеба. Ее вон и в Институт патанатомии взяли бы, пока демонстратором; об этом ей говорил все тот же любезный их ассистент. Халми, правда, сказал, что это мертвое место. Он тоже мог бы устроить ее в поликлинику, титровать, скажем, сахар. Но ей, врачу милостью божьей, обязательно нужно работать с больными. Пускай Халми переоценивает ее, все равно за душой у нее есть какой-то багаж, она много умеет, а это чего-то стоит, это рано или поздно заметят и сумеют использовать. Если нельзя врачом, она станет сиделкой, по четыре-пять часов в день будет дежурить при какой-нибудь больной даме, которой она и инъекции сама сможет делать. Или снова пойдет в репетиторы. Маца или директор отцовской гимназии наверняка ей помогут. Нет такой работы, которая ей не была бы по вкусу. Часто она сама удивляется своей работоспособности. Говорят, девушек университет изнуряет. А она вон сколько сделала, сколько бегала, сколько за всех хлопотала в этом году. И только крепче стала от этого. Наверное, потому, что оказалась в ином, доверительном отношении с работой. Кто способен трудиться так, как она, и при этом, к счастью, столь же нетребователен, тот владеет таким большим капиталом, на проценты с которого всегда сможет прожить. И еще: в этом году она поняла нечто невероятно важное, самое важное в жизни, отчего ее вера в себя превратилась в некое тихое, ровное излучение, — она поняла, что в определенных условиях, когда ты самоотверженно служишь другим, они способны тебя любить. Себя она никогда не считала таким человеком, который сразу внушает людям любовь к себе. В школе она ни с кем не ссорилась, но и подруги не липли к ней. В университете Мария, Адель и она потянулись друг к другу потому, что были одни среди массы мужчин. Но господи, что это была за дружба!.. И, естественно, длилась она до момента, пока у Марии не отпала потребность в ком-то, кто мог ее утешить. Может, все дело в том, что мать никогда не умела держаться с ней так, как другие матери с дочерьми: они с матерью не шептались, сев в уголке, не делились сокровенными тайнами. Это, наверное, и сделало ее такой неконтактной с людьми. Пожалуй, лишь в Тюкрёше, выходя из-под влияния матери, она начинала чувствовать — по бабушке, тете Юлишке, дяде Беле, — что люди тянутся к ней. И теперь вот вдруг оказалось: надо только работать, что-то делать для других, будь то Йоланка, госпожа Хубер или тетя Фрида, — и ты легко завоюешь сердца тех, кто вверен твоим заботам. Холодность, в которой так часто упрекала ее мать, относится лишь к бесцельным, бессмысленным сантиментам; если же нужно что-то делать по-настоящему, если она старается, чтобы работа ее была нужна людям, то (без тех чрезмерных усилий, какие она поначалу затрачивала в больнице) в холодной ее натуре включается некий тепловой излучатель. Если из трех основных вещей хоть одна бы вызывала у нее сомнения: или ее организм оказался бы слабым, или ее терзали бы какие-нибудь сильные страсти, желания, или люди бы с трудом выносили ее, — она сейчас не могла бы с таким спокойствием ждать, потеряет работу или не потеряет, и, вместо того чтобы заботиться о других, что, конечно, тоже довольно тяжелое дело, постоянно думала бы о себе, что уже есть начало дороги к служению злу.
Все это Агнеш не столько обдумывала умом, сколько ощущала в своем настроении, в том спокойном и радостном состоянии, не позволявшем личным тревогам вторгаться в вегетативную нервную систему, в сердце, желудок, лоно; однако и голова ее, кроме волнений, связанных с изучением новых предметов — акушерства, глазных болезней, с первыми лекциями Корани, совсем не свободна была от забот, прежде всего о родителях: что за новую взрывчатую смесь породит неожиданное их примирение? Особенно беспокоила ее мать. Отец, тот как-никак проводил дни в школе, бегал по частным ученикам, в этом году он получил классное руководство, в Географическом обществе, где его выбрали казначеем, он отыскал и снова принялся конспектировать своего Пржевальского и еще кучу книг, по которым мог проверять свои гипотезы; время от времени ему удавалось даже, поймав кого-нибудь из молодых коллег, отвести душу, толкуя про бога Тенгри и про сходство структуры монгольских и древних венгерских поселений. После зимнего кризиса он считал большим шагом вперед, что ему «удалось привести семейную жизнь в норму», и, встретив утром в трамвае знакомого, мог с довольным лицом сообщить, что уже так старательно не щадит пораженные скорбутом ноги и на службу теперь ездит прямо из дома, от жены, с улицы Лантош. Кертес, правда, подозревал, что история с Лацковичем не совсем еще закончена, о чем говорили приступы «нервозности», время от времени случавшиеся у мамули; однако теперь он не стремился узнать всю подноготную, а, по испытанному рецепту, старался поддерживать добродушно-шутливый тон и тайно радовался, что жена стареет: в самом деле, сорок три года обозначились вдруг морщинами на ее поздно вышедшей из девичьей незрелости красоте. Госпожа Кертес, однако, не обладала столь прочной кожей, подбитой к тому же тренируемой в течение всей жизни мудростью, и нынешнюю их жизнь сравнивала не с сибирскими лагерями и даже не с зимой на улице Хорват. Агнеш, конечно, не знала, как развиваются у нее отношения с Лацковичем, но если продажа табачной лавочки (вскоре после возвращения Кертеса к жене) и дала ей средства, чтобы совершить еще две-три совместных прогулки на пароходе и устраивать время от времени лишенные всякой роскоши обеды, то роман, видимо, все же двигался к своему финалу. Однажды Агнеш зашла из университета на улицу Ваци — посмотреть на книги, на модные платья. И кто тут же попался навстречу ей, как не Лацкович, в своей длинной, до пят, шинели, бок о бок с сорокалетней, с резкими чертами лица женщиной, такой курчавой и смуглой, что она вполне сошла бы за негритянку. Агнеш подумала было, что они идут под руку, но нет, просто Лацкович шел чуть сбоку и позади своей спутницы. Агнеш поспешила остановиться и отвернулась к витрине с ювелирными украшениями, однако Лацкович заметил ее и громко поздоровался: «Целую ручки, милая докторша!» Приветствие прозвучало почтительно, так что Агнеш пришлось кивнуть головой в ответ, потом, как она ни вертела в памяти его слова, иронии в них не услышала; Лацкович даже как будто хотел похвалиться этим знакомством перед своей дамой, и густая шапка курчавых волос (коротко, по новой моде, остриженных) обернулась, чтоб разглядеть торчащую у витрины «милую докторшу». Неужто женщина эта с большими кольцами серег в ушах (каждая сережка вполне смотрелась бы и в носу у нее) была преемницей матери? Знает ли о ней мать? Хотя на лицо она была более чем некрасива, тело ее выглядело довольно упругим, а туфли в виде сапожек, явно сшитые на заказ, и полузамшевое пальто показывали, что изобретение Лацковича, вероятно, теперь получит более солидную поддержку, чем остатки материной табачной лавочки. Что скажет по поводу соперницы мать, которая двадцать лет все же жила в чистоте? И по поводу кавалера, который благодаря ей усвоил, что развлекать пожилых женщин, если у тебя есть кое-какие способности к этому, — неплохой дополнительный заработок?.. Страдания Маты еще сильнее, чем судорожные рыдания Марии, заставляли сжиматься сердце Агнеш, предупреждая, как ужасны мучения человека, насильственно лишаемого наркотика любви. А у матери эта любовь была не только единственной, но и последней. В страдающей Мате, мечущейся на соседней койке, Агнеш как бы видела мать, видела, как та с открытыми глазами лежит рядом с безмятежно храпящим мужем; и ведь у госпожи Кертес тоже был под рукой наркотик: когда Агнеш приходила домой без предупреждения, от матери частенько попахивало вином; как-то, доставая из шкафа свое пальто, она наткнулась под висящей в нем одеждой на большой, полуторалитровый, хрустальный графин с пробкой. Агнеш сделала было попытку предупредить отца. Когда отец впервые после своего переселения пожаловался на слабые нервы матери, на ее характер, унаследованный от дяди Кароя, Агнеш сделала было попытку предупредить его: «Надо бы вам следить, чтобы вина в доме не было». Отец, однако, вовсе не удивился ее словам, не посмотрел на нее с таким видом, словно услышал о какой-то опасной болезни, он лишь махнул рукой: «А, подумаешь, капля вина…» Словно хотел сказать: пусть настроение будет у бедной чуть-чуть получше. Агнеш вспомнила, что он говорил зимой: не с капли вина ли все это началось? А теперь, наверное, сам не прочь иной раз составить компанию женушке и, в поисках общего тепла и веселья, выпить с ней вместе рюмку-другую. Страсть, потом разочарование, потом алкоголь: какая шаблонная цепь, но когда она — реальность, реальность судьбы близкого человека, как трудно ее разорвать! Агнеш, с тех пор как опять стала каждый день приезжать в город, после лекций часто шла на подземку, чтобы, сделав крюк, заглянуть домой, принести букетик цветов, а однажды даже, с дидактической целью, не называя персонажей, рассказала печальную историю Маты. Госпожа Кертес, которая в эти дни была особенно беспокойной, интерпретировала внимание дочери на свой лад. «Это прекрасно, что ты к нам заглядываешь, — как-то сказала она, целуя Агнеш, которая как раз торопилась уходить. — Если бы ты всегда была, как сейчас, не такой колючей, многого бы могло не случиться».
Вторым, о ком постоянно, пусть совсем по-иному, но тоже с тревогой думала Агнеш, был Фери Халми. После той сцены в Тюкрёше, на скрещении двух дорог, уже нельзя было делать вид, что между ними нет ничего, кроме дружбы. Очевидность эту, однако, ни один из них не смел ворошить: Агнеш — не зная, в силах ли будет ответить, Халми — боясь все поставить на карту, так что смущенное ожидание стало для них чем-то вроде ничейной земли, наполнявшей их встречи неведомым до сих пор напряжением. В течение лета, которое Халми, под предлогом работы в поликлинике, провел в основном в Пеште, они часто бывали одни. Когда Фери приезжал к ней в больницу, Агнеш, не обращая внимания на перешептывания и лукавые взгляды, уходила с ним в сад, а после обхода — в кабинет младшего врача; с тех пор как он поселился у тети Фриды, та тоже пересмотрела свою строгую систему нравственных норм и, пока они сидели в бывшей спальне, с одобрительным выражением сообщала Кендерешихе: «Sie sind jetzt immer sammen[233], они все время вместе, er ist ein sehr braver, netter Mensch[234]», — считала она нужным добавить, выражая тем самым свое убеждение, что, хотя они там и одни, они просто приятно проводят время, так что исключено, чтобы они еще чем-нибудь занимались. «Знаете, sie ist nicht[235] Пирошка», — порой защищала она и Агнеш от мелькнувшего у Кендерешихи на лице сомнения. И действительно, в большой комнате, бывшей спальне семейства Кертесов, не происходило абсолютно ничего, что нельзя было бы тайно сфотографировать. Фери готовился к выпускной сессии; вторая и третья ступени испытаний в те времена представляли собой серию экзаменов на добрые полгода, прерывала их лишь передышка на время летних каникул, и Фери, который хотел к рождеству стать уже med. univ.[236], перебравшись, хотя и не очень собой довольный, через вторую ступень, теперь записался на экзамены по всем десяти предметам клинической ступени. Эта проба сил уже сама по себе давала тему для разговоров; с тех пор как Фери перевез на тележке с Филаторской дамбы все свои книги, можно было рассматривать их, брать почитать, потом обсуждать. При всей своей бедности Фери скопил довольно много литературы; часть ее, запрещенные книги вроде «Капитала» или «Анти-Дюринга», он, видимо, приобрел еще во время Коммуны, но у него было и тридцать — сорок романов, в основном тоже социального содержания, купленных по совету Баллы: «Жерминаль» Золя, «Огонь» Барбюса, «Мать» Горького. Халми и не пытался скрыть того, что делали столь очевидным эти книги, но и не пробовал убедить, приобщить Агнеш к своим идеям («Боится последствий? Или считает меня слишком еще опутанной буржуазными предрассудками?»); впрочем, ей и самой больше нравилось, что меж ними остается некая полупроницаемая мембрана, через которую тайна Халми или, как ей казалось, его предубеждение пройти не могут, в то время как он незаметно впитывает через нее все, что делает взгляды его благороднее, твердость его — человечнее. Листая конспекты Фери или какую-нибудь его книгу, они иногда стояли совсем близко друг к другу, дыхание их почти сливалось, однако Фери ни разу не осмелился перешагнуть невидимый барьер, существующий между ними, и даже волнение не могло пересилить его в такие минуты еще возраставшее уважение к ней. «Интересно, был ли он уже с женщиной?» — думала иногда Агнеш. В его сильной волосатой груди, в упрямых манерах было нечто неуловимое, что показывало: они не смогли бы сформироваться такими без определенного полового опыта; и вообще он был не из тех, кто не может добиться того, что ему очень надо. Когда заходила речь о половой жизни как социальной проблеме, он всегда говорил об этом как о само собой разумеющейся потребности, которую, как и чувство голода, здоровое общество не должно оставлять без удовлетворения. Но с чьей помощью удовлетворял ее он, в этом далеко не здоровом обществе? Были ли в этом обществе для него, хромого, носатого и угрюмого, женщины где-либо кроме борделя?
Однажды она напрямик спросила его об этом. Сентябрьским вечером они возвращались из дальней клиники через Йожефварош. У Агнеш после обеда была терапевтическая практика, Фери же проходил курс акушерской хирургии, — это значило, что он щипцами и без них протаскивал через муляж таза куклу-младенца. В витрине мясной лавки Агнеш увидела свежие шкварки. «Надо купить, порадовать тетю Фриду», — сказала Агнеш и забежала в лавку. Считая деньги, она увидела, как к Фери подошла проститутка; он отрицательно покачал головой и что-то сказал ей. Но в том, как он от нее отказался, чувствовался известный опыт, — это не было поведением девственника, испугавшегося провокации. «Я вижу, у вас тут приключение было», — сказала она, подставляя ему пакет. «Да, — ответил Халми, — продают себя, бедные». Это уже сказал социолог. Слова, которыми он отослал проститутку, были, судя по его мимике, куда более жесткими. «Вы уже бывали в… таком месте?» — вдруг взглянула ему в глаза Агнеш. Фери не ждал подобной атаки. «Уже полгода не был», — сказал он сконфуженно. Из всех мыслимых вариантов ответа именно этот наверняка не был ложью. Да, был; что́ был — бывал: присылаемых матерью денег, вырученных за птицу, хватало и на это; он лишь испугался, как отнесется к этому Агнеш. И, как оправданием, загородился тем, что уже полгода, с тех пор как Агнеш живет в его сердце, не был там. Агнеш попробовала представить, как он входит туда. Как разговаривает, — наверное, в том же немного резком, нарочито жестком, официальном тоне, как где-нибудь в лавке или с больными. Но какой, однако, идеализм! Наверное, решил про себя: если ты чтишь одну женщину, то забудь про бордели. Или, может, просто охоты не было? Выбрал другой способ «удовлетворения»? В «Анне Карениной» Агнеш читала, как расстроило Кити признание Левина. Странно, ее это совсем не расстроило. Фери и как мужчина, и вообще — как человек — почему-то заслуживал прощения в ее глазах. Суть его не меняется от того, что и как он делает. Больше того: ответ Фери скорее успокоил ее; ей даже нравилось, что его сдержанность в отношениях с ней, которую она ощущала, оказываясь к нему близко, — это в чистом виде застывшее уважение, чуть ли не религиозное благоговение перед ней. Но ведь вечно это продолжаться не может. А если брезгливость, как это называла Мата, заставит Агнеш в конце концов убежать от него? Девственность, если она затягивается, порождает все новые и новые страхи. Может, лучше было бы лишиться ее в возрасте шестнадцати лет. Мысль, застрявшая в голове у нее еще с Тюкрёша, с той разгульной ночи — о том, что не станет она связывать воедино замужество и утрату целомудрия, — обрела теперь такой вид: «Не буду обрекать на бесплодные муки этого человека, кто-кто, а он заслужил награды, заслужил того — если это вообще имеет какую-то ценность, — чтобы взломать ту анатомическую печать, которой в животном мире вовсе не существует. Однако я не могу поклясться, что и после этого его длинный нос станет мне шлагбаумом перед миром… Но все же: как это произойдет?» — не обращая внимания на логику, беспокоилось что-то внутри.
В таких заботах и страхах подошло тридцатое сентября — двадцать первый день рождения Агнеш. Госпожа Кертес заранее взяла с нее слово: Агнеш так организует свои дежурства, чтобы этот день они могли отпраздновать вместе. «Что я, не могу позволить себе даже такой пустяк — чтобы ты отметила этот день у меня?.. — заявила она (когда Агнеш попробовала было отговорить ее: стоит ли бросать деньги на ветер из-за давным-давно состоявшихся и забытых уже родов?). — Пригласи и друга своего, Халми, — добавила она, — хоть поблагодарим его за то, что он в больницу тебя устроил». Агнеш улыбнулась. Доброе, пахнущее детством слово «поблагодарим» скрывало, видимо, какие-то более глубокие планы и материнские тревоги. Что делать, эта Агнеш совершенно не умеет обращаться с мужчинами, даже — при ее-то уме и вполне сносной внешности — ухажера себе завести не смогла, а Халми уже кончает университет, и, пускай он хромает немного, из него (в этом вопросе госпожа Кертес считала себя непререкаемым авторитетом) выйдет прекрасный врач, вдвоем они будут хорошо зарабатывать. Потом, конечно, нельзя забывать и о том, что станут говорить люди: дескать, мало того, что «барин» вернулся к семье, а вот и дочь отмечает дома свой день рождения вместе с кандидатом в женихи. Ладно, почему бы и в самом деле не бросить — смирилась в конце концов Агнеш — это маленькое торжество на чашу весов прошлого и грядущего, особенно если иметь в виду, что на другой чаше — Лацкович, ужины в ресторанах, аромат «большого чувства», как в пьесах Молнара и в опереттах. Тридцатого, чуть позже шести — на шесть был приглашен Халми, — уже опаздывая (ездила в Цинкоту, узнать, как там дела), она втиснулась в висящую на сорок шестом трамвае человеческую гроздь. Ее переполняло двойное волнение, превращающее предстоящий праздник в пустую обязанность, которую надо выполнить. Вчера, незадолго до того как она приехала в Цинкоту, карета «скорой помощи» увезла Мату: сиделка приняла яд. Другой причиной волнения была сегодняшняя лекция Корани, первая, которую Агнеш услышала: на предыдущие не смогла попасть, так много народу было в аудитории. Потрясение, которое вызвал в ней трагический поступок Маты (и к которому добавилось чувство вины: почему сразу не известила Баллу о том, что узнала?), успело осесть в душе как тревожное, мрачное состояние духа; второе же событие напоминало о себе как то и дело возникающий перед мысленным ее взором образ: Корани перед кафедрой, его слова, всплывающие в сознании, одновременно беспокоящие и вдохновляющие.
Когда она шла через двор, от подворотни к лестнице, из своей кухоньки ей постучала тетушка Бёльчкеи. «Я уж думала, пропустила вас, — взяв за локоть, потянула она ее к себе в комнатушку, обстановка и запах в которой были Агнеш знакомы с детства. — Дай вам бог здоровья и счастья, Агнешке», — сказала она и, вытирая глаза, подвела ее к накрытому скатертью столику, где, рядом с оклеенной ракушками шкатулкой, с обеда ждал ее букет — несколько желтых и красных роз, но не таких, какие продают на углах с тележек, а настоящих, из магазина: уж коли тратиться, так чтобы видно было; даже магазинная бумага от них лежала рядом, в нее тетушка Бёльчкеи тут же и завернула цветы. «Ой, как вы догадались, что у меня день рожденья?» — спросила растроганно Агнеш: она в самом деле не помнила, чтоб тетушка Бёльчкеи когда-нибудь делала ей такие сюрпризы. «От жильцов приходится узнавать, барыня-то мне не говорит ничего», — сказала, всхлипывая, привратница. Агнеш чувствовала уже: как она ни торопится, а придется на несколько минут с завернутыми цветами присесть на диван с шаткой спинкой, который когда-то стоял в их квартире, а сюда попал после того, как им достался от дяди Кароя красный, плюшевый, считающийся более красивым. Тетя Кати тоже присела к ней, выпрямив спину, как на официальном приеме, и лицо ее приняло немного остолбенелое выражение, означавшее, что сейчас она думает о своем горе. Бедняжка в последнее время сильно обрюзгла и постарела: под глазами, на щеках и на подбородке кожа висела мешками, которые словно полны были невылившихся слез; всегда такие живые, глаза ее, застыв, как две пуговицы, тревожно смотрели в одну точку; даже большая родинка на щеке, прежде кокетливая сообщница смешливых ее глаз, теперь чернела ненужно, словно еще одна пуговица. «А папочка-то ваш вернулся все-таки, верно?» — начала светскую беседу привратница. «Вернулся», — ответила Агнеш, не зная, что сказать дальше, — может быть, повторить ту ложь, что ноги его теперь легче переносят дорогу. В сознании тетушки Бёльчкеи тот факт, что барин вернулся домой, был — как тут же и выяснилось — еще одним тяжким пунктом обвинения против всего миропорядка: вот, к скверным, мол, женщинам, к тем возвращаются. «А мой муженек, уж видно, ко мне не вернется», — сказала она, и слезы, дождавшись своего часа, так и хлынули у нее из глаз. Видимо, коварная уборщица окончательно увела дядюшку Бёльчкеи. Его не было уже шесть месяцев, он со своей зазнобой жил в доме для бедняков, как когда-то с ней, еще молодой, на улице Донати. Из других источников Агнеш знала уже многие подробности несчастья тетушки Бёльчкеи, но свежая беда с Матой сделала ее сейчас куда более чуткой к страданиям привратницы: вдруг и эта в один прекрасный день махнет на все рукой и выпьет щелоку или выберет другой, еще более страшный способ самоубийства, какими пользуются служанки. «Ну что вы! Обязательно он вернется, я в этом так же уверена, как…» — и поскольку не знала в чем, то просто обняла и поцеловала привратницу. Она никогда еще не целовала ее, даже в детстве, — не потому, что не любила, просто у них не в обычае было целовать прислугу, а позже было как-то ни к чему привыкать. Тетушка Бёльчкеи, к которой с этим поцелуем миропорядок вдруг повернулся другой стороной, с надеждой взглянула на нее мокрыми, в красных прожилках глазами. «Вы так полагаете, Агнешке? Я и сама часто думаю: когда-то вернется ведь к нему разум… Жилица тут со второго этажа, Сарвашиха, вы ее знаете, все меня уговаривает сдать комнату жениху ее дочери, врачу, и деньги хорошие обещает. А я все боюсь: ведь вдруг он одумается. Двадцать лет мы с ним вместе в этой кровати спали, помните, мы ее на улице Хорват купили, когда старая Саториха померла, — сказала она, сделав неожиданный ассоциативный зигзаг. — И диван у нас уже был, а мы все равно на одной кровати с ним спали. Хорошее было времечко, в Буде, у тети Фриды… Помните, как часто мы с ним борьбу устраивали?»
Когда Агнеш, миновав квартиру домовладельца, подошла к материной двери, из-за подгоревшего на какой-то из сковородок жира как раз распахнутой настежь, госпожа Кертес была уже вне себя от волнения. «Это ты? В такое время нужно домой приходить? — накинулась она на виновницу торжества. — Друг твой уже час тут сидит». Агнеш с дивана привратницы в самом деле видела, как Халми — минут пять-шесть назад, — держа перед собой цветы, как какой-то чуждый и неудобный предмет, прохромал от подворотни к лестнице. «Не могу я сразу и мясо жарить, и его развлекать», — показала она на дым, заполняющий кухню. «Почему вы его здесь не посадили? Сиживал он уже в кухне не раз», — принюхалась Агнеш: не отдает ли это волнение хмелем? «Вот еще, — возразила госпожа Кертес, словно ее подбивали на какую-то непристойность. — Но отцу твоему я покажу, где раки зимуют, — изменил свое направление, выбрав не столь защищенный моментом объект, гнев госпожи Кертес. — Договорились ведь, что он к четырем будет дома». — «Ну и что тут такого, успеет, нам некуда торопиться», — обнаружила Агнеш на буфете хрустальный графин, в котором до верху не хватало примерно с палец. «Конечно, когда от него у меня весь ужин зависит. Хорошо еще, что Тони мне мясо помог достать. И поезд уже пришел». — «Поезд? Откуда же он ужин везет?» — «Из Надькёрёша. Он туда с Сарвашихой поехал (с тех пор как тетушка Бёльчкеи впала в немилость, доверенным лицом госпожи Кертес стала Сарвашиха — соседка, недавно приехавшая из провинции), у нее там родня». Поездки в провинцию, вошедшие в обычай во время Коммуны, все еще были в моде. «И стоило из-за этого посылать папу в Надькёрёш?» — «Ничего, пусть использует свое железнодорожное удостоверение. У него все равно выходной, а сметана там совсем другая… Представить себе не могу, где его до сих пор носит…» Надькёрёшское путешествие, отец в паре с Сарвашихой, немного лингвистики среди незнакомых людей, мать в ожидании трофеев — все это за полминуты обрисовало перед Агнеш семейную ситуацию, которая, судя по этим приметам, была не совсем уж скверной. «Где бы мне взять пустую банку?» — спросила она, заметив, что мать нервно следит за ее поисками и не понимает, почему дочь никак не уходит в комнату. Агнеш хотела цветы в воду поставить в кухне: вдруг букет Фери окажется более бедным. «А это что за цветы?» — заметила госпожа Кертес, когда дым немного рассеялся, новый букет. «Тетушка Бёльчкеи перехватила меня, бедняжка; извелась вся от горя». Однако горя, как и у большинства людей, у госпожи Кертес было достаточно своего. «Начинает подмазываться, — прокомментировала она, исходя из иной психологии, букет в руках дочери. — Как отец домой вернулся, она по-другому готова запеть, только голову мне она не задурит больше, старая сплетница. Терпеть не могу лицемерие. Когда это раньше она цветы тебе покупала на день рождения?» Агнеш не стала с ней спорить. Она привыкла уже, что люди живут каждый в отдельном своем мироздании, которые вряд ли можно связать с помощью слов. Она лишь смотрела на свои желтые розы: можно ли доверять их чужим рукам? Но мать прикрикнула на нее: «Бедный парень умрет там со скуки. Пациентов ты тоже так будешь выдерживать?»
«Бедного парня» Агнеш застала над книгой. Оставшись один, он выбрал это занятие как наиболее подходящее для человека в чужой квартире и из застенчивости сохранил эту позу даже тогда, когда нервы, бдительные сигнализаторы, настроили его слух на доносящийся из кухни разговор. Агнеш бросила взгляд на швейную машину (которая из-за тесноты служила Кертесам столиком); она в самом деле поступила разумно, оставив цветы тетушки Бёльчкеи на кухне: две гвоздики, принесенные Фери, разве что символически выполняли функции праздничного букета. Потом ее взгляд упал на его шею: что это за рубаха на нем? Она была ей незнакома. С тех пор как Фери жил у тети Фриды, забота о его белье постепенно перешла к Агнеш. Однажды она застала его за пришиванием пуговицы, оторвавшейся во время стирки (тетя Фрида уговорила его: зачем белье посылать домой, за те деньги, что забирает почта, ему и здесь постирают); увидев ее, он попробовал спрятать рубашку вместе с иглой в кучу выстиранного белья. «Дайте-ка мне, — забрала она у него иголку и, как он ни сопротивлялся, пришила пуговицу. — Еще что-нибудь есть?» И просмотрела все его рубашки, только трусы отодвинула в сторону (трусы Фери носил длинные, деревенские). Он, весь красный, счастливый, смотрел, как пальцы Агнеш перебирают его рубахи, штопают потершийся воротник. И поскольку тетушка Крейбиг, живущая в доме прачка, стирала прекрасно, но после ее глажки белье было в пятнах и складках, напоминая географическую карту, Агнеш в следующий раз сама выгладила все три его рубахи. Для нее это было и чем-то вроде закалки: кладя стежки на протершейся ткани, рядом со стежками Халмихи, Агнеш как бы медленно приучала себя и к телу, которое эта ткань прикрывала. Особенно неприятна была ей одна клетчатая рубаха, она у нее почему-то вызывала чуть ли не дрожь отвращения. (Длинные сатиновые трусы к следующей стирке незаметно исчезли, вместо них появились другие, нормальные.) Но рубашку, в которой был сейчас Фери, Агнеш не знала. Та, что он купил в прошлый раз, когда так хотел пролить за нее свою кровь, была с отстегивающимся воротничком. «Это мне, да? — взяла она две гвоздики. — Спасибо», — подала она ему руку. Фери, неловко пробормотав поздравление, пододвинул ей книгу, за которой до этой минуты сидел, как в укрытии. Агнеш ошеломленно взглянула на обложку. «Господи боже, Фери!» Это была дорогая «Диагностика» Ендрашика, вышедшая совсем недавно, — как-то они вместе разглядывали ее в витрине на улице Барошш. «Кого вы убили? И что это за рубашка на вас? — потянулась она к воротничку — убедиться, действительно ли он не отстегивается. — Честное слово, вы меня в отчаяние приводите с этим проклятым днем рождения». Фери не знал, как ему отнестись к этой вспышке: улыбаться счастливо или в самом деле перепугаться. «У меня альбом с марками был, гимназическое еще увлечение. Сам не знаю, как это я его до сих пор не продал?» — «Пригодился бы вам альбом на другое, сейчас-то, перед посвящением». Но в моргающих глазах Фери начало словно бы появляться упрямство унижаемой нищеты. «Ну хорошо, — сменила она тон, — будем вместе пользоваться. Очень мило, что вы ради меня пожертвовали альбомом, но теперь давайте пообещаем друг другу, что все эти буржуазные предрассудки — именины и дни рождения — мы раз и навсегда из нашей жизни искореним».
Когда госпожа Кертес через несколько минут зашла посмотреть, как отнеслась Агнеш к подарку Халми, они сидели рядом, перелистывая свое сокровище, и обсуждали, правильно ли обозначать плеврит, даже курсивом, pleuritisz, а эндокардит — endokarditisz[237] (Ендрашик как раз в этой книге перешел на подобную орфографию). «Ну, тогда и я вручу, что купила». И мать вынула из своего инкрустированного шкафчика маленький, на один кубик, шприц, каким в марте они делали Халми инъекцию. (Как выяснилось, для его покупки госпожа Кертес и Халми заставляла ходить с ней в магазин «Медицина».) Агнеш не помнила, когда она с такой искренней нежностью целовала мать (поцелуи эти адресованы были и судьбе матери, и несчастьям тетушки Бёльчкеи и Маты). «Символ моей профессии! — счастливая, смотрела она на новенький инструмент. — Но сейчас уберите его куда-нибудь. В больнице я держать его не могу, еще подумают, что казенный унесла». — «Да, ты мне и не рассказываешь, — вспомнила госпожа Кертес новость, которую вытеснил из ее головы дым пригоревшего жира, — что у вас случилось… Видите, какая она, ничего мне не рассказывает», — повернулась она за сочувствием к Халми. «Вы сказали уже?» — посмотрела на Халми Агнеш. Сегодня ей не хотелось вытаскивать эту тему на свет божий — не то чтобы настроение не испортить, а чтобы у матери не застрял ненароком в сознании образ выносимой на носилках Маты. «Только чтобы объяснить, почему вы опаздываете», — начал оправдываться Фери. «И чего только вы тут не успели обсудить за какие-то пять минут!» — рассмеялась Агнеш. В самом деле это было забавно — наблюдать, как Халми и мать понимают друг друга. Не только насчет подарков своих сговорились, но и больничные новости обсудили. То, что Халми подружился с отцом, было еще понятно: все-таки земляки, да и есть в них что-то общее. Но такие непохожие, совершенно из разного теста сделанные люди, как мать и Халми!.. Есть все-таки в этом Фери какая-то скрытая суггестивность, если то, что она, Агнеш, видит насквозь и над чем немного посмеивается, в матери способно пробудить давнее благоговение перед врачебной наукой. Конечно, у них общие интересы, — смотрела она на них, как на двух детей. Одной надо сбыть дочь, другому — заполучить дочь, а для этого завоевать расположение матери. «Вы узнали там что-нибудь?» — тихо смотрел Халми на Агнеш. «Узнала только, что она еще жива. Сестра Виктория звонила в клинику Корани». — «В бывшую клинику Баллы? Он туда ее велел отвезти? — сказала госпожа Кертес, которой Агнеш однажды, к сожалению, намекнула на любовь Маты к врачу. — Но как это они ничего средь бела дня не заметили?» — углублялась в подробности госпожа Кертес. «Она отпросилась, сказала, дела у нее». — «И у себя закрылась? Ну да, ночью ведь ты там», — сказала госпожа Кертес, чтобы и дочери отвести в этой драме какое-то место. И перед Агнеш со странной отчетливостью возникла сцена, словно она видела ее воочию: Балла в операционной разглядывает на свет колбу с каким-то осадком; Мата подходит к нему: «Господин доктор, мне бы в город надо, по делу», — и ждет, чтобы Балла опустил (из тумана, в котором прячется его голова) взгляд и понял, что это за срочное дело и где находится тот город. Однако Балла и сквозь туман все рассматривает свой осадок. «Разумеется. Поезжайте». И Мата тихо, как тихо прошла она свою голгофу, уходит и закрывается в комнате. «Как же ее обнаружили?» — «Сестра Виктория стала ее искать». — «Тебя там еще не было?» — «Нет, я через полчаса приехала, к обходу». — «Пришлось дверь взламывать?» — «Нет, у сестры Виктории ключ был». — «Как, она изнутри не закрылась?» Агнеш об этой подробности ничего не слышала. «Наверное, вынула ключ из скважины». — «Даже об этом подумала, — с почтительным ужасом в голосе произнесла госпожа Кертес. — Чтоб не пришлось взламывать дверь». — «Только где она яд достала? — вставил Халми, чтобы не выглядеть безучастным. — Балла, я слышал, — взглянул он на Агнеш, — велел запирать лекарства с двумя крестами». — «Сиделка! Она всегда может яд добыть. В госпитале я хоть каждый день могла бы травиться», — сказала госпожа Кертес, словно жалея, что в свое время не сделала этого. Агнеш вспомнила Фюреди, его дергающееся лицо, трясущиеся руки. «Что вы на все это скажете? — стал он в тот же вечер прощупывать, не подозревает ли что-нибудь Агнеш. — Я, ей-богу, сегодня же с радостью ушел бы из этого проклятого места». И, наверное, он в самом деле уйдет. Но поскольку у этой мысли была еще одна проекция — для нее это будет даже кстати, — Агнеш вдруг повернулась к матери: «Мясо у вас не сгорит?» — «Ой, конечно, сгорит, — спохватилась госпожа Кертес, но элегическое настроение заставило ее в дверях еще раз обернуться к Халми: — Ну скажите, разве она не права?» — «Теперь, конечно, все отделение разбежится, — закончила Агнеш предыдущую мысль, под «всеми» имея в виду и себя. — Останется одна сестра Виктория, как местная нимфа». — «Почему? — удивился Халми, не подозревавший о связи Баллы с Матой. — Из-за одной сумасшедшей вся больница не разбежится».
Пока они обсуждали судьбу филиала и предстоящий отъезд Баллы в Америку, явился и преступник. Из устроенной ему бурной встречи и из его оправданий, которые прорывались сначала в виде отдельных слов, потом обрывочных фраз и лишь потом стали сливаться в более или менее связное объяснение, Агнеш с Фери поняли, что добытчику в интересах высших целей пришлось возвратиться другим поездом: Сарвашиха, которая оставалась в Надькёрёше еще на несколько дней, смогла устроить ему очень выгодную сделку. «Сало?» — услышала Агнеш еще ворчливый, но уже смягчившийся голос матери. «Представляете, сварим его с чечевицей», — ответил Кертес умильно-заискивающим тоном, к которому он прибегал лишь в разговоре с мамулей и в котором звучал теперь и сдержанный триумф. Когда Агнеш вышла в кухню, рюкзак еще был у него на спине, он только успел чемодан поставить на пол. (Остальная энергия уходила на то, чтобы отражать нападение.) Агнеш невольно залюбовалась им: на лысом лбу его еще держался загар, оставшийся после лета с бойскаутами; с мамулей они, хоть и часто ругались, жили неплохо, даже, как показывала хотя бы эта его экспедиция, совсем не бедствуя; в прошлом году, когда Кертес стоял на Восточном вокзале в своей шинели, она не думала, что скоро увидит его — после тяжелой поездки в провинцию, в спортивной одежде, с мешком за плечами — таким веселым и бодрым. Путешествие это, после месяца школьных занятий и репетиторства, видимо, освежило его, а то, что привезенной добычей он уже почти разоружил жену, наполнило его гордостью. «А, и ты здесь? — так и не сняв мешка, поцеловал он ее. — Ну да, мамуля ведь говорила, что ты с нами ужинать будешь. Потому, видно, и накинулась на меня». — «У дочери день рожденья сегодня, да будет вам известно, — с торжеством объявила ему госпожа Кертес. — Тридцатое сентября; вы об этом, конечно, и не подумали». Кертес действительно совсем позабыл об этом, она же ему не напомнила: пускай дочь видит, кто из них больше любит ее. (Деньги за шприц она все равно с него стребует.) «Ну что ж, дай тебе бог здоровья… — сказал он, и они снова расцеловались. — Сколько ж тебе… двадцать, двадцать один?..» — «Не знает, сколько дочери лет», — поднялась на вершину триумфа госпожа Кертес. «Знаю я… Только после такого дня, когда в голове утки да сотни тысяч… Помните, какой был писклявый комочек? — обернулся он к жене, которая, однако, не склонна была углубляться в общие сентиментальные воспоминания. — Я еще спросил Чинталаниху, повитуху: не уродец ли какой-то у нас родился? А потом так стала расти, совсем мамулю высосала». — «Ну ладно, ладно, снимайте мешок-то». — «Не тяжело было?» — спросила Агнеш, помогая отцу снять рюкзак. «Жаль, что тяжелее не был, — ответил Кертес. — Не такие мешки мы таскали, а были куда слабее». — «Он и так все время по своей Сибири тоскует, пускай чувствует, будто там побывал», — рассмеялась госпожа Кертес, развязывая на кухонном столе мешок. «В таких случаях и плен разрешается вспомнить», — подмигнул дочери Кертес, став в этот момент очень похожим на дядю Дёрдя. «Ничего утка, — подняла госпожа Кертес, показывая Агнеш, ощипанную птицу. — Даже, вижу, разделали, — добавила она с одобрением. — Эта Сарвашиха — очень приличная женщина… Ну, это сало вы сами будете есть, — вытерла она с пальцев, которыми держала сало, жирную копоть. — По крайней мере, будет ему чем брюхо набить», — объяснила она и Агнеш. «Это чудное сало я на тот коврик выменял». — «С вышивкой крестиком?» — «Да, с розами…» В таких экспедициях самой надежной валютой были не деньги, а более медленно теряющая ценность одежда и другие вещи, которых у госпожи Кертес теперь, когда они жили в маленькой квартирке, образовалось — особенно скатертей — огромное множество. «Только дорожку с кресла-качалки обратно пришлось привезти», — объяснил Кертес, купаясь, словно в теплых волнах, в удовлетворенном молчании жены.
Тем временем из комнаты просочился и всеми забытый Халми. «А, доктор Халми!» — обрадовался ему даже больше, чем дочери, Кертес. Ведь Халми всегда означал для него приятную «глубоко содержательную» беседу с внимательным и почтительным слушателем. «Я слышу, вы большой путь проделали, господин учитель», — приветствовал его Халми. «Жена приказала; да я и сам охотно поехал. В тех краях я бывал молодым — ездил туда на велосипеде после встречи гимнастов в Кечкемете. Любопытно стало, что там изменилось с тех пор. Только там все по-прежнему. Прекрасная колокольня с хорами, дом Яноша Араня, точно такой, каким я его по памяти в блокноте нарисовал… Представьте, — повернулся он к жене, — та милая семья, у которой я сало купил, живет совсем близко от дома, где Янош Арань проверял работы по греческому». — «Ладно, ладно, ступайте уже в комнату, — прикидывала госпожа Кертес, что из привезенного сразу подать на ужин. — Цыпленка этого (рядом с уткой был еще и ощипанный цыпленок) я, пожалуй, быстро смогу испечь». — «Вот не думал, что на такое великолепное торжество попаду, — объяснял Халми Кертес, вталкиваемый женой в комнату. — Э, я вижу, и винцо есть», — взглянул он, прежде чем выйти, на буфет.
Пока в новом аврале по приготовлению ужина Агнеш с матерью пробовали низвести нашпигованное колбасой мясо в ранг своего рода второй закуски перед цыпленком (в качестве первой, как выяснилось, были уже приготовлены яйца под майонезом), мужчины в комнате с головой погрузились в историю и географические условия Монголии, перипетии расселения венгерских племен, а также события гражданской войны в Сибири, так что к тому моменту, когда Агнеш внесла первое блюдо, они находились где-то возле горного массива Каракорум, куда, как уловила, накрывая на стол, Агнеш, они перепрыгнули от венгерского слова Кёрёш через этимологию слов «кёр», «кере»[238]. Раскрасневшийся, возбужденный своими любимыми мыслями Кертес после того, как похвалил закуску, попытался вновь обратиться к гостю: «И представьте, мой юный друг, как я был изумлен, когда возле реки Читы вдруг слышу…» Но госпожа Кертес тут же остановила его: «Хорошо, хорошо, но давайте сейчас без лингвистики обойдемся. У нас два врача за столом, а вы их пичкаете своими бурятскими словами. Мало мне, что, как подам на стол что-нибудь повкуснее, обязательно про тюрьму слышу». — «Но нашему гостю очень даже интересно, что делается в России, а может, и бурятские слова тоже, не то что вам», — попробовал возразить Кертес. «А что ему остается делать, бедному? Поневоле приходится делать вид, что интересно, хотя про себя-то наверняка уж составил мнение». Госпожа Кертес, видимо, считала терпение Халми одним из проявлений его любви к Агнеш. Если б она знала то, что было известно Агнеш, — что среди его книг есть сравнительная грамматика финно-угорских языков, которую он, очевидно, специально купил у букиниста, чтобы с пониманием дела слушать своего старшего друга. Агнеш покосилась на Халми: как он отнесется к такому явному затыканию рта? Фери еще не видел и, главное, не слышал, как ее родители общаются друг с другом. Однако Халми вполне импонировал стиль госпожи Кертес, он считал его своеобразным проявлением семейного интимного тона; сам он привык к совсем иному стилю, о котором немного рассказывала Агнеш подслушивавшая в огороде бабушка. Исподтишка посмотрев, как полагается есть это блюдо, которое он до сих пор видел только в буфетных витринах, Халми, чтобы облегчить участь Кертеса, поднял тему, которая, он был уверен, сможет отвлечь внимание госпожи Кертес: «А знаете, вельможная барыня (эта «вельможная барыня» в устах Фери носила особый комический привкус), какое знаменательное событие я собственными глазами наблюдал позавчера? Агнеш делала свою первую люмбальную пункцию». Госпожа Кертес, которая еще со времен своей работы в госпитале знала, что такое люмбальная пункция, и не раз интересовалась у Агнеш, делала ли она ее, сразу вся загорелась: «Как, сама? А мне об этом ни слова, неужели я только от вас и должна это узнавать?» — «Да ведь мы с тех пор еще с вами не виделись. И вообще, это Халми делал, я только иглу ввела, куда он йодом наметил». — «И получилось, с первого раза?» — «Чуть-чуть пришлось только пошевелить — и пошло, полилось; у больного повышенное давление спинномозговой жидкости». — «Помните, — сказал Халми, — когда я вас к Балле привел в первый раз, он тоже делал пункцию люмбаго?» — «Еще бы не помнить! — оживилась, скорее ради матери, Агнеш. — Какой вершиной врачебного искусства мне это тогда казалось!» — «Вот, и во всем так, — обобщила госпожа Кертес. — У тебя только уверенности в себе не хватает». — «Это что, какая-то операция?» — попытался Кертес проявить больший интерес к теме для него столь же туманной, как лингвистика для остального общества. «Да, откачивание жидкости из позвоночника», — пояснил Халми. «Как это: вставляют насос в позвоночник и откачивают?» — добродушно подивился Кертес. «Насос? Вы же слышали: не насос, а иглу. Господи, он — и медицина! — отвернулась госпожа Кертес к участникам так живо рисующейся в ее воображении сцены. — До сих пор не способен отличить живот от желудка… Словом, вполне сносно сделала?» — хотела госпожа Кертес в своем воодушевлении услышать еще больше. «Агнеш вообще довольно способная, — улыбнулся Халми. — Руки у нее хорошие», — для убедительности добавил он. «Вы, значит, считаете, из нее выйдет врач?» — «Почему — выйдет? Она уже врач, — засмеялся Халми. — У нее есть все, что нужно хорошему врачу». — «Остается несколько экзаменов сдать, — со смехом сказала госпожа Кертес, принимая за комплимент то, что Халми говорил совершенно серьезно. — Эта больница все-таки очень была ей полезна, сломала лед. За это я вам особенно благодарна», — кинула она Халми благодарный, теплый взгляд, на который дочь, по ее убеждению, не была способна. «А я как раз сегодня вдруг усомнилась, получится ли вообще из меня врач», — ожил в душе Агнеш носимый с утра образ, чтобы занять главное место в вяло текущей беседе. «Опять малодушничаешь?» — взглянула на нее госпожа Кертес с видом человека, у которого пытаются отнять самую дорогую мечту. «Что, лекция Корани?» — спросил Халми, который, зная Агнеш, заранее беспокоился из-за этих лекций, даже ревновал к Корани. «Если все так, как он говорит, — а наверняка все так, — то я никогда не смогу лечить, — сказала Агнеш. — Разве что заговорами».
Задумчивость, что вдруг нашла на нее, навеяна была картиной, вновь необычайно живо вставшей в памяти: человек с седыми зачесанными назад волосами стоит перед кафедрой, опершись на нее поясницей, стоит не в халате, как его ассистенты, а в черном пиджаке, держась левой рукой за край стола, и говорит глуховатым голосом, так что в задних рядах, пожалуй, его едва слышно. Рука, которой он держится за стол, тонка и худа, с маленькими, не мужскими, синеватыми ногтями. Лицо, подобно рукам, синевато-розовое, немного словно бы припухшее. Должно быть, у него эмфизема легких: грудь его непропорционально велика и выпукла, время от времени он кашляет в сложенный носовой платок. Во внешнем виде его нет ничего импонирующего: больной старик, который и в молодые годы не был очень уж крепким, — и все же он внушает к себе уважение. Возможно, в этом повинно громкое имя или замкнутость, одиночество, еще сильнее подчеркнутое его манерой говорить. А говорит он не глядя на аудиторию, немного уронив голову, четкими фразами; глаза его показываются над подглазными мешками лишь в те моменты, когда он просит у ассистента историю болезни или задает вопросы больному. Но эти вопросы, хотя звучат они вежливо, не создают ощущения человеческого контакта, от больного Корани ждет лишь ответов, необходимых для построения лекции. Ему принадлежит лучшая в стране клиника, множество людей ждет его распоряжений, ждет, чтобы он поделился с ними своим знанием, — а он словно скрыт, отделен от всех невидимым колоколом, и надо очень хорошо его знать, чтобы сказать, что это — полная погруженность в науку или давящий груз перенесенных страданий. Среди коллег-студентов ходят слухи, что на него всю жизнь обрушивались какие-то семейные несчастья; но можно ли защититься от них этой вот отрешенностью? Лекция — по сравнению с тем, чего Агнеш ждала, — началась скучновато. Корани долго излагал что-то, кажется, классификацию почечных болезней Фара; Агнеш, поскольку на двух предыдущих лекциях не была, не слишком его понимала. Да и к монотонному его голосу нужно было привыкнуть. Потом он подозвал сидящего неподалеку с видом обвиняемого старика в арестантской пижаме, страдающего нефросклерозом, и, задав ему несколько вопросов, зачитал по истории болезни данные: процент белка, мочевые цилиндры (которые Агнеш тоже видела уже под микроскопом). Затем говорил о концентрационной способности почек — насколько может она меняться в зависимости от условий, — о понижении точки замерзания, которую ввели в этой клинике для определения полного молекулярного содержания, и, кстати, о новой отрасли химии, которую принято называть физической химией и с которой хорошо было бы познакомиться и врачам. Это было уже интереснее, особенно потому, что она все это слышала от него, ведь в книге о почечных болезнях она это все читала. Тут-то и произошло нечто, сделавшее почти драматичным противоречие между его тусклым голосом и волнующими, необычными мыслями. В течение дня она уже пробовала восстановить в памяти ход его рассуждений, когда они подошли к тому, как, несмотря на подъем кровяного давления, — вероятно, вследствие обызвествления почечных клубочков — через них все-таки продавливается фильтрат, как кровяное давление увеличивает нагрузку на сердце, в сосудах которого и так имеются известковые бляшки, а плохая работа сердца вызывает застой, если же больной к тому же страдает эмфиземой — тут на его синеватых губах появилась слабая улыбка, — то сюда могут подключиться и легкие; общий застой, конечно, оказывает, в свою очередь, влияние и на почки, фильтрация теперь происходит еще труднее, давление все растет, сердце подвергается все большим нагрузкам — возникает circulus vitiosus[239], и, если его не разорвать, состояние больного становится все тяжелее. Этот circulus vitiosus и был тем пунктом, когда Агнеш овладело состояние не то наслаждения, не то тревоги, какое испытываешь, когда прикасаешься к великим мыслям, все значение которых ты в этот момент не можешь постигнуть, но чувствуешь, что они преображают все твое мышление, а может, и жизнь. То, что болезнь может развиваться вот так, по спирали, порочным кругом, позволило ей ощутить — вместо простых причинно-следственных отношений, которые они осваивали в курсе общей патологии, — гораздо более тонкую сеть взаимосвязей; это и было то, что вызывало у Агнеш восторг. Затем профессор стал объяснять, какую ошибку может допустить врач, если попытается прервать этот circulus не в той точке, где следовало бы. Почечнику необходимо хорошее кровяное давление, врач же, не разобравшись, принимается сбивать легко диагностируемое давление или, что чуть-чуть лучше, преждевременно прописывает дигиталис, тогда как circulus vitiosus, может быть, на какое-то время был бы разрушен правильной диетой и щадящим режимом почечной деятельности. Наверное, именно эта невероятно большая возможность ошибки и добавила к наслаждению новой мыслью страх.
«И что же вас так напугало на этой лекции? — Агнеш молчала, думая, как ответить, и Халми повернулся к Кертесу: — Дело в том, что вокруг старого барона сложился небольшой миф: дескать, исследователь он выдающийся, а вот…» Тут он замолчал, не зная, как потактичнее передать то снисходительное высокомерие, с которым отзывались о Корани иные коллеги и которое он замечал даже у Баллы, чтобы не задеть воодушевления Агнеш. «Что напугало? — попробовала Агнеш проанализировать свое настроение. — Может быть, то, что в организме все взаимосвязано и — как цепь, если ее тронуть, — любое вмешательство пробегает по всем звеньям». — «То, что в природе все взаимосвязано, давно уже установили другие умные люди», — издал Фери свой прежний булькающий смешок, который в данном случае служил выражением тайно доставленного себе удовольствия — возможности вспомнить благодаря невинному высказыванию своих апостолов. «Да, — упорно продолжала Агнеш, — только до сих пор я лечение представляла себе вроде автомата: вытаскиваешь диагноз и бросаешь лекарство. И лишь теперь поняла, насколько все сложнее». — «В общем-то, так оно в конечном счете и делается. Даже в клинике Корани, — защищал Фери свой исходный пункт. — Каким бы сложным ни был организм, врач определяет диагноз и делает то, что в таких случаях предписывает наука». — «Это примерно так же, как в обществе, — включился в разговор Кертес. — Там тоже невозможно предусмотреть все последствия своего действия». — «И все равно действовать нужно, — перебил его Халми почти восторженно. — Вы прекрасно это сказали, господин учитель. Пускай человек понимает, что все в мире переплетено, решительного вмешательства в жизнь это не исключает. Не случайно же именно те, кто первыми подчеркнул диалектическую взаимосвязь вещей, сами смелее других вторгались в эту взаимосвязь». — «Да, я тоже часто поражался их смелости, — улыбнулся Кертес, догадываясь, кого имеет в виду Фери, и из желания доставить ему удовольствие пряча под деланным восхищением свое равнодушие к ним. — Я бы не смог взвалить на себя и тысячной доли такой ответственности».
Агнеш смотрела на Фери, его раскрасневшееся лицо, на котором прилив воодушевления сумел одолеть, подчиняя себе, столько всего плохо с ним совместимого: тяжелую костлявость лба, жесткость щетины на коже, малоподвижность глаз. «Эти противоречия между принципами и практикой оставим на другой раз», — размышляла она. Сейчас она была занята собой, пытаясь — вместо того чтобы поправлять Фери — как-то соединить два ощущения: то, прежнее, что охватило ее, когда она слушала тишину возле инструментального столика в раковой палате, и новое, которое обрушилось на нее теперь, вместе с новой, открывшейся перед ней перспективой, с сознанием безграничной сложности жизни и науки исцеления. «Я пока что стараюсь решить эту задачу таким образом, — терпеливо восстанавливала она мысль, зародившуюся, но так и оставшуюся в зародыше еще в вагоне сорок шестого трамвая, когда она пыталась высвободиться из-под прижатого или прижавшегося к ней толстого господина. — Я буду для больных, собственно, не врачом, а сиделкой. Сиделкой с врачебным образованием». — «Это еще что за причуда?» — посмотрела на нее, потом на Халми госпожа Кертес. «То есть я буду скорее следить за больными, облегчать, где можно, их страдания, редко отваживаясь на вмешательство, и, если увижу, что кто-то другой ошибается, буду говорить об этом». — «Очень правильно, — сказал Кертес. — Во всяком случае, с точки зрения истории». — «Что вы понимаете в этом!» — махнула на него госпожа Кертес, глядя на Халми и от него ожидая, что он образумит ее ненормальную дочь. «Врач не может не вмешиваться в болезнь, — в самом деле возразил Халми Агнеш. — Кто не смеет взять на себя ответственность, никогда не станет врачом». — «Правильно!» — поддержали его сразу оба родителя. «Вот пусть мужчины и берут», — рассмеялась Агнеш. «Фери-то не побоится взять, я уверена, — сказала госпожа Кертес. — Вам надо вдвоем открыть практику». — «Это будет великолепно», — засмеялся Халми, и двойная радость — во-первых, госпожа Кертес назвала его Фери, во-вторых, он представил, как они с Агнеш открывают амбулаторию, — сделала его смех, не привыкший к такого рода эмоциям, похожим на икоту. «Нет, я частную практику не открою, я, если будет возможность, останусь в больнице и буду лечащим врачом». — «Нет, вы слыхали такое?» — посмотрела госпожа Кертес на Халми. «Агнеш человек с повышенной совестливостью, потому она и пугается той ответственности, без которой нельзя служить на врачебном поприще, — объяснил ей Халми. — Ей кажется, что в больнице ответственность легче разделить с другими». — «Ты хочешь служащей быть, как отец?» — «Я была бы счастлива стать таким врачом, каким учителем давно стал папочка». — «Жить впроголодь, на одно жалованье?.. Правда, у врача в больнице есть и дополнительные доходы». — «Я не говорю о нынешних временах, когда нас действительно содержат ученики, что, в общем, есть разновидность подкупа, — придала Кертесу смелости похвала дочери. — Но если ты хоть чуть-чуть бережлив, то поприще это, именно в плане материальном, мне представляется очень хорошим. Первого числа получаешь жалованье, не важно, большое оно или маленькое, и потом у тебя одна забота: прожить на него, и не надо, как врачу или адвокату, думать, сколько удастся еще вытянуть из клиентов». Госпожа Кертес, слова насчет бережливости воспринявшая как намек, хотела было вспылить. «Сохрани господь мою дочь…» — начала она, и Агнеш знала уже продолжение: от того, чтобы ей всю жизнь надо было экономить, как мне. Однако слова отца слишком глубоко задели ее, и она не дала матери завершить ее мысль: «Да, это вы чудесно сказали. Я еще в детстве ценила в вас — хотя тогда, наверное, этого ясно не понимала, — что всю жизнь вы заботились только о том, чтобы давать: как бы побольше рассказать ученикам на экскурсии, как позаимствовать новый прием из какого-нибудь испанского или французского пособия, как не позволить мадам Комари провалить на экзамене родственников, живущих у нас. Вы не думали о том, что вам недодали, каких благ лишили, какие недостижимые удовольствия еще существуют в мире». — «Нельзя, конечно, из этого делать жизненную программу, — сказал Кертес, которого все это, изложенное в таком виде, самого немного насторожило. — А потом, когда от чего-то отказываешься, то ведь взамен получаешь другое…» — «Разумеется, получаешь, — вспомнились Агнеш ее больные, Йоланка. — Только не то, что рассчитывал получить, а что невольно, почти случайно дает тебе жизнь». — «Ну уж нет, если я что даю, то и получить желаю сполна», — ворвалась в их диалог госпожа Кертес, почувствовавшая, что все это умничанье насчет «даешь — получаешь» восстанавливает тот тайный союз между мужем и дочерью, который она с тех самых пор, как Агнеш способна стала выражать свои чувства, всегда считала странным и раздражающим. «Вы правы, сударыня, — подал голос Халми. — В здоровом обществе человек получает блага по труду. И имеет полное право на это претендовать». Агнеш бросила на него взгляд, в котором словно мелькнула ирония: мол, и ты получил столько же, сколько дал? Халми смутился: «Разумеется, можно только радоваться, если кто-то подходит к делу так, как Агнеш и господин учитель».
Тем временем поданы были мясо, нашпигованное деревенской колбасой, которая пропитала его красным цветом и острым, под вино, ароматом, а затем цыпленок, в полдень еще бегавший в Надькёрёше. «Берите, пожалуйста, — угощала госпожа Кертес гостей. — А вы что, уже не хотите? — спросила она мужа, прежде чем унести блюдо. — Сладкого, учтите, не будет». Агнеш знала, что это только наполовину правда. Печенья в самом деле на этот раз не пекли, но в кладовой на полке она заметила сито, которым, сварив на нем взбитые сливки, мать накрывала «птичье молоко». Это блюдо, с прячущимся в сливках миндалем и изюмом на дне, который надо было вычерпывать ложкой, было любимым лакомством былых дней рождения, и, хотя Агнеш давно уже не любила его так, как в детстве (не больше, чем конскую колбасу, которую они получали в студенческой столовой пайком, на воскресный вечер), тем не менее отнеслась к нему с прежним восторгом. Отец посмотрел на него с обычным неодобрением к сладостям: «Это что за лакомство? «Птичье молоко»?» — чтобы затем съесть этого блюда для сладкоежек больше всех остальных. Атмосфера во вдовьей квартирке госпожи Рот становилась все более теплой. Кертес был счастлив, что видит мамулю в прекрасном расположении духа, и время от времени влюбленно чокался с ней бокалом; госпожа Кертес радовалась не только тому, что отстояла свою прежнюю позицию в семье, — ее распирало от матримониальных планов, которые побуждали ее в молодые годы брать под свое покровительство неповоротливых тюкрёшских родственниц (последней — Бёжике), а сейчас обратились на дочь. Халми, сидя за этим столом, изобилие на котором, слава богу, лишь отдаленно напоминало про буржуазное прошлое этой семьи, чувствовал себя едва ли не зятем. Но больше всех была счастлива Агнеш, ведь это преданная ее душа свела нынче, на мирном маленьком островке, трех несчастных, растерянных, измученных собственными страстями людей. В эти минуты, когда она смотрела на них, любуясь их довольными, добрыми лицами, программа, которой ей только что удалось связать близкую к завершению дорогу отца и свою едва начавшуюся дорогу, представилась ей — независимо даже от избранной ею профессии — неким совсем простым путеводителем по жизни. Важно давать, если что-то получишь, считай это случайностью. В мире, терзаемом слепыми страстями, полном безмерных страданий, бессмысленного соперничества, в мире, который весь по своей природе — огромная палата для обреченных больных, любой свободный человек (как все-таки хорошо, что она — врач), если в душе его бурлят обильные родники добра, не может и мечтать о более прекрасном смысле жизни, чем изливать из себя добро, делясь им с другими, смягчая и очищая немилосердное бытие. Когда в разгар вечера, по первому зевку отца, она поднялась и пошла собираться, каждый из них знал: все, что было для них здесь таким приятным, уже впитано памятью и будет гореть в ней, как негасимый источник света. Госпожа Кертес и на сей раз предложила ей рекамье: «Отец поспит там, на раскладушке». И Кертес с готовностью подтвердил, что его бокам раскладушка — роскошное ложе по сравнению с тюремными нарами. Агнеш, однако, стояла на своем. Она обещала сестре Виктории, которая уже две ночи не спит, что приедет последним поездом. «Да и вас ждет ваша психиатрия, — повернулась она к Фери. — У него послезавтра экзамен», — объяснила она матери. «Тогда ему завтра все равно не спать», — сдалась теща перед аргументом, который меньше всего убедил самого Фери. Он бы с удовольствием посидел здесь еще, все равно дома даже предстоящий экзамен по Моравчику (кстати, довольно-таки пустяковый) не заставит его заснуть. Агнеш и сама чувствовала, что сразу же, на углу отослать его домой было бы слишком жестоко. «Если хотите, — сказала она, после того как они по темной лестнице спустились во двор, — погуляем немного. Можно пойти через Лигет к подземке, до станции «Проспект Хунгария».
Какое-то время они молча брели по вымершим, гулким улицам, которые здесь, ближе к Лигету, переходили в молчаливо-высокомерные ряды вилл. Агнеш была сейчас в том состоянии, когда наслаждаешься собственным самочувствием, стараясь его не разрушить. В воодушевлении, которым ее наполнял найденный, как ей казалось, жизненный смысл, где-то в самой его глубине, еще вздымались мрачные волны: тревога за мать, слезы сочувствия тетушке Бёльчкеи, тень ужаса перед поступком Маты, как некая бьющая вверх водяная струя (так служащие городского водопровода, прочищая трубы, пускают высокие фонтаны), которая взмывает вверх и тут же притягивается к земле всей массой безмерного человеческого страдания… Фери же та неловкая осторожность, с какой он спускался по лестнице, собственная неуклюжая тень рядом со стройной тенью Агнеш, осенняя прохлада сентябрьского вечера быстро вывели из того блаженного, невесомого состояния, в каком он сидел за столом, и, словно некий химический реагент, начали вновь осаждать в нем его обычное «я». Чтобы защитить себя от стремительной коагуляции, он заговорил первым. «Очень славный был вечер, — сказал он, судорожно цепляясь за утраченное. — Папу вашего вы очень порадовали тем, что сказали о его поприще». — «Да, он для меня в самом деле был первым идеалом, — сохранила Агнеш и в ответе свое настроение. — И правда же, есть в этом что-то прекрасное, что я нынешним своим умом, после того, как он такой изношенный, на первый взгляд, даже тронувшийся умом, вернулся из плена, не вижу ошибки в том детском инстинкте. Собственно говоря, — заявила она, сама удивляясь своим словам, — он и сейчас для меня идеал». — «Но ваша мама тоже очень милая женщина. Мне нравится ее прямота». — «Теперь, наверное, они сумеют ужиться друг с другом», — ответила Агнеш, не очень взвешивая свои слова, скорее стараясь любой ценой удержать свое самочувствие.
До следующего угла они снова шли молча. «Вы чем-то удручены?» — вдруг обернулась Агнеш к другу, заметив наконец перемену в шагающей рядом тишине. «Только собственной глупостью, — немного поколебавшись, высказал Халми то, что оседало в нем мягкими хлопьями дурного настроения. — Это относительно нашего спора: давать или брать. Когда я за вашей матушкой признал правоту». — «Я уже забыла немного». — «Но вы ведь тогда даже взглянули на меня. Словно сказали: дескать, ты и нас имеешь в виду?.. Я действительно вопреки самому себе говорил». — «Мне кажется, у вас просто фантазия разыгралась. Конечно, человек за свои взгляды, — засмеялась она, — полностью ручаться не может». — «Во всяком случае, вы имели все основания высказать то, что я в этом взгляде увидел. Ведь если каждый должен отдать столько, сколько он получил, то по какому такому праву ты сидишь здесь, рядом со мной?» — «В таких вещах полного соответствия быть не может, — сказала Агнеш и покраснела: вдруг в ее взгляде действительно промелькнуло ехидство? — И вообще, речь шла о труде и его оплате». — «Это, однако, больше, чем труд и плата. Я ведь часто сижу и про себя удивляюсь: за что мне такое? Имею ли я право принимать это?» — «Что — это?» — «То, что вы, от доброго сердца и из жалости, на меня расходуете». — «Я? На вас? Но что я такое на вас расходую, Фери?» — засмеялась Агнеш. «Все. Разговариваете со мной. Терпите, когда я ковыляю рядом. Вот, пробовали облагородить меня. Не хотите, чтобы я из ненависти верил в то, во что верю. А чтобы все делал только из душевной щедрости, как вы…»
Они шли через площадь — две маленькие фигурки в целом поле лунного света, под вытянувшимися на десятки метров тенями скульптур на монументе Тысячелетия. «Вы тоже мне много дали, Фери», — серьезно сказала Агнеш. «Я? Полно!.. Что мог я вам дать?» — вырвался, на сей раз как знак презрения к себе, запрещенный смешок. «Например, я узнала мужчину (она чуть-чуть подчеркнула это слово), который во что-то верит. И даже готов пожертвовать своим поприщем во имя принципов. Поприщем, за которое вы и ваши родители столько боролись…» Фери растроганно выслушал эти слова, в которых он, словно в зеркале, увидел вдруг лучшую часть своего «я». «Вот если бы вы сказали, — побудило его на признание столь редкое для него состояние духа, — что узнали человека, который чтит вас больше всего на свете…» — «Да, и это тоже, — ответила Агнеш. — Поверьте, это так приятно — знать, что где-то о тебе существует такое представление… Агнеш, какой она должна быть. И что ты должна быть достойна этого представления… Но знаете, с другой стороны, это не так уж приятно, — попробовала она взять более легкий тон. — Вы не боитесь, что когда-нибудь я как раз по этой причине возьму и сбегу от вас? Чтобы не нужно было стараться быть все время такой, какой вы меня считаете».
Они дошли до конца аллеи Штефании, пересекающей Лигет. Луна, перед этим превращавшая огромную мощеную площадь в синеватое ледяное поле, теперь, потесненная темным массивом Лигета, превратила склонившиеся над аллеей деревья в фантастические кулисы какой-то грандиозной мистерии о гибели богов. Халми, которого наросшая на нем от ударов жизни кора сделала нечувствительным, среди прочего и к природе, даже остановился, размягченный в своей растроганности и печали, словно впервые осознав красоту мира. «Какая необычная аллея! — сказал он, все еще по возможности избегая поэтических выражений. — Видите, — уступил он вздымающемуся в груди смутному чувству, которое в другом случае обязательно подавил бы, — будь вы сейчас с другим кем-нибудь, не со мной, вы бы сказали: давай побежим». Фери никогда не жаловался на свое увечье, так же как никогда не восхищался Дунаем, или вечером, или какой угодно красивой аллеей; и Агнеш почувствовала: не что иное, как отчаянная надежда, заставляет его с горьким самоуничижением вспоминать про свое несчастье. Сейчас, именно сейчас надо его убедить, что мир принадлежит и ему, надо ударить его оземь, как превращенного в лягушку королевича. «А почему я не могу это вам сказать? — смотрела она на него почти строго. — Вы тоже умеете бегать. За трамваем — я сама видела». (Правда, это было грустное зрелище, если бы Халми знал, что она на него смотрит, наверняка бы остановился.) И она взяла его за руку: «Ну-ка, давайте побежим».
Фери, испуганно отшатнувшись, попробовал выдернуть у нее руку. Но прохладные, сильные пальцы Агнеш цепко держали его, и каждый палец словно подбадривал: не бойся, я над тобой не буду смеяться. Пальцы эти он сейчас не посмел бы (это было бы оскорбление на всю жизнь) оторвать от своей руки. Он сделал несколько шагов за Агнеш: хорошо, за руку так за руку. Но Агнеш медленно, постепенно, чтобы он успевал за ней, — успевал не только хромой ногой, но и всей своей упирающейся душой, — ускоряла шаг, затем, все еще глядя на Халми, потихоньку побежала. Фери, если он не хотел выглядеть грубым или упасть, приходилось к ней приноравливаться, судорожно подпрыгивая на хромой ноге. На лице у него сначала была конфузливая досада, затем, словно у капризного ребенка, которого щекочут, появилась слабая, неуверенная улыбка и наконец, когда Агнеш больше не ускоряла шаг и он в самом деле бежал рядом с ней, заиграло стыдливое удовольствие. Грудь его вздымалась, в глубине рта, приоткрытого в радостном и застенчивом смехе, виднелся язык, глаза возле длинного носа пьяно косили. Он очень, очень был некрасив, бедненький! Но Агнеш, которая бежала на шаг впереди и тянула его за собой, вдруг ощутила такую огромную нежность к нему, какой, наверное, даже к отцу никогда не испытывала; жалость сестры к младшему брату, любовь к ближнему, женское покровительство — все это могло быть лишь приблизительным определением этой нежности. «Ну, теперь хватит», — сказал Фери, чувствуя, что Агнеш немного замедляет бег. «Вот видите, вполне можем мы с вами бегать», — остановилась Агнеш и, притянув к себе Фери, поцеловала его в потный, разгоряченный лоб. И казалось ей в эту минуту, что она обнимает не только Фери, но и мать, отца, тетушку Бёльчкеи, умирающую Мату, всех своих безнадежных больных — все огромное хромое человечество, которому она должна внушить веру в то, что оно может бегать, да при этом следить еще, чтобы оно не споткнулось, не запуталось в своих непослушных ногах.
Примечания
1
Байтарш (букв.: соратник, товарищ по оружию) — член одной из реакционных студенческих организаций, созданных в Венгрии после разгрома Советской республики 1919 г. и призванных воспитывать молодежь в духе воинствующего национализма, шовинизма.
(обратно)2
Будаэрш — село под Будапештом. Бывший адмирал — Миклош Хорти (1868—1957), реакционный правитель Венгрии, пришедший к власти после подавления Венгерской Советской республики 1919 г.; имел чин адмирала. Бывший король — Карой IV Габсбург (1887—1922), последний император Австрии (под именем Карл I) и король Венгрии. В ноябре 1918 г. был низложен Австрийской республикой. В 1921 г. пытался отстоять свое право на венгерский трон. В стычке при Будаэрше 21—23 октября 1921 г. войска Хорти разбили части, поддерживавшие короля.
(обратно)3
Варошлигет, Лигет (букв.: «Городская роща») — парковый район Будапешта.
(обратно)4
Эрдей — венгерское название Трансильвании.
(обратно)5
То есть Венгерской Советской республики 1919 г.
(обратно)6
Шиофок — город на берегу Балатона; в 1919—1920 гг. — один из главных центров сил контрреволюции. Журавлиное перо на шляпах носили офицеры контрреволюционных банд Хорти.
(обратно)7
Насай — гора к северу от Будапешта; характерные ее очертания напоминают контуры корабля.
(обратно)8
Модёрод — село под Будапештом. В 1074 г. здесь состоялось сражение, в котором князья Геза и Ласло (будущий король Венгрии Ласло I) разбили войско короля Шаламона, готового ради сохранения трона отдать Венгрию в вассальное подчинение германскому императору.
(обратно)9
Старое (до 1945 г.) название горы Сабадшаг (Свобода) в Будапеште.
(обратно)10
Портен Хенни (1891—1960) — немецкая киноактриса, звезда немого кино.
(обратно)11
Затрудненное дыхание, одышка (греч.).
(обратно)12
Немецкое название польского города Щецин.
(обратно)13
Служение даме (нем.).
(обратно)14
С отличием (лат.).
(обратно)15
Внутренняя среда (фр.).
(обратно)16
Своеобразный музей под открытым небом в Варошлигете, объединяющий в своих постройках стили разных эпох. Построен на искусственном острове посредине озера. Главный его экспонат — копия замка Вайдахуняд (ныне Хунедоара в Румынии).
(обратно)17
Находящаяся там же копия часовни XIII в. в селе Як (область Ваш), образец романского стиля.
(обратно)18
Аноним — первый и оставшийся безымянным венгерский летописец, живший в конце XII — начале XIII в.
(обратно)19
Куны, или куманы — венгерское название кипчаков, или половцев. В период монгольского нашествия частично влились в Золотую Орду, частично же переселились в Венгрию, где со временем растворились в венгерской нации, сохранив лишь некоторые обычаи и особенности одежды.
(обратно)20
Деак Ференц (1803—1876) — венгерский государственный деятель, идеолог умеренного прогресса, один из отцов Соглашения 1867 г., когда была создана двуединая Австро-Венгерская монархия. Его называли «мудростью родины».
(обратно)21
Агорафобия — боязнь открытого пространства (греч.).
(обратно)22
Бабич Михай (1883—1941) — выдающийся венгерский поэт и прозаик, один из активных участников процесса обновления венгерской литературы, начавшегося в первые два десятилетия XX в. С воодушевлением встретил буржуазную революцию 1918 г., затем социалистическую революцию 1919 г. в Венгрии; в период Венгерской Советской республики был членом выборных органов, читал лекции в университете. После разгрома республики подвергался преследованиям; публично покаявшись в «прегрешениях», Бабич тем не менее сохранил приверженность благородным идеалам революции, растворив их в отвлеченной общегуманистической позиции защиты культуры и человека.
(обратно)23
Лацко Геза (1884—1953) — венгерский писатель, критик; представитель левого крыла венгерской интеллигенции. В период Венгерской Советской республики был директором гимназии и преподавал в университете; позже его лишили этих постов.
(обратно)24
Медицинская ипохондрия (мнительность) (лат. и греч.).
(обратно)25
Плоскостопие (лат.).
(обратно)26
«Апостолы» — один из самых фешенебельных ресторанов в центре Будапешта.
(обратно)27
За, против (лат.).
(обратно)28
Варшани Ирен (1878—1932) — известная венгерская актриса.
(обратно)29
«Искупил народ свой грех // Прошлый и грядущий» — последние строки венгерского национального гимна (стихотворение Ф. Кёльчеи «Гимн», перевод Л. Мартынова).
(обратно)30
Здесь: прием (фр.).
(обратно)31
Туранское общество — созданная в 1910 г. шовинистическая расистская общественная организация, на протяжении многих лет игравшая активную роль в укреплении реакционного режима и распространении профашистской идеологии; в годы второй мировой войны влилась в партию нилашистов. «Теоретической» платформой туранистов был тезис о том, что объединяющая азиатские народы — в том числе и венгров — туранская раса должна спасти человечество, выведя его из тупика европейской демократии.
(обратно)32
Объединение пробуждающихся венгров — возникшая в 1918 г. крайне реакционная расистская монархическая организация, одна из опор белого террора; в 20-х годах растворилась в других правых организациях и партиях.
(обратно)33
Tenger — море (венг.).
(обратно)34
Kör — круг (венг.).
(обратно)35
Сапари Дюла (1832—1905) — венгерский политический деятель консервативного толка, доверенное лицо императора Франца-Иосифа I; в 1890—1892 гг. — премьер-министр Венгрии.
(обратно)36
Пещеристое тело (лат.).
(обратно)37
Кожа (лат.).
(обратно)38
Ячмень по-венгерски — árpa (арпа).
(обратно)39
Яблоко по-венгерски — alma (алма).
(обратно)40
Соответствующие русские значения слов: топор, награда, армия, гроб.
(обратно)41
Kék — синий (венг.).
(обратно)42
Kút — колодец (венг.).
(обратно)43
Тетень, или Тухутум, или Тёхётём (IX в.) — вождь одного из венгерских племен, первыми пришедших на Придунайскую равнину.
(обратно)44
Сорта винограда.
(обратно)45
Кашша — ныне г. Кошице в Словакии; Эперьеш — ныне г. Прешов в Словакии. Имеются в виду события во время Венгерской Советской республики 1919 г., когда венгерская Красная Армия, отбивая натиск интервенционистских сил буржуазной Чехословакии, королевской Румынии, совершила победоносный поход на север; в начале июня были взяты города Кашша, Эперьеш и др.
(обратно)46
Оплодотворение двух яйцеклеток одного овуляционного периода.
(обратно)47
Энинг — село, уездный центр в окрестностях Балатона.
(обратно)48
Височная артерия (лат.).
(обратно)49
Имеются в виду солдаты венгерской революционной армии, сражавшейся против австрийцев во время национально-освободительной войны 1848—1849 гг.
(обратно)50
Этеле — вариант имени Аттила. Аттила — в 434—453 гг. легендарный предводитель гуннов, возглавивший опустошительные походы в Западную Европу. Венгры в прошлом считали себя потомками гуннов.
(обратно)51
Эр (ér) — ручей; арок (árok) — канава (венг.).
(обратно)52
Дел (dél) — полдень, юг (венг.).
(обратно)53
Корани Шандор (1866—1944) — известный венгерский терапевт, основатель функционального направления в венгерской клинической медицине.
(обратно)54
Уважительная причина (лат.).
(обратно)55
Молнар Ференц (1878—1952) — известный венгерский драматург, автор пользующихся большой популярностью в Венгрии и за ее пределами психологических, нередко сентиментальных, виртуозно написанных пьес. «Волк» (1912) рассказывает об актере, который под чужой личиной соблазнил собственную жену.
(обратно)56
Эрдей — венгерское название Трансильвании. Верхняя Венгрия — венгерское название Словакии. В 1920 г. эти области отошли к соседним государствам — Румынии и Чехословакии.
(обратно)57
15 марта 1848 г. в Будапеште началось народное восстание, положившее начало революции и национально-освободительной войне 1848—1849 гг.
(обратно)58
Embonpoint — полнота, дородность (фр.).
(обратно)59
Сорт токайского вина.
(обратно)60
То есть после подавления Венгерской Советской республики 1919 г.
(обратно)61
Общество Кишфалуди (1836—1952) — литературное общество, названное в честь писателя, одного из основателей романтизма в венгерской литературе, Кароя Кишфалуди (1788—1830). В конце XIX и особенно в первые десятилетия XX в. все более становилось оплотом консервативных, академических течений.
(обратно)62
Мадач Имре (1823—1864) — венгерский поэт, автор драматической поэмы «Трагедия человека» (1860). Одна из завершающих сцен ее развертывается на остывающей Земле, среди эскимосов.
(обратно)63
Здесь: состояние на данный момент (лат.).
(обратно)64
Идиосинкразия — общее название реакций организма, похожих на аллергические и возникающих при наследственно обусловленной повышенной чувствительности к некоторым лекарственным и пищевым продуктам.
(обратно)65
Чолноки Енё (1870—1950) — венгерский ученый-географ и путешественник. В 1896—1898 гг. совершил путешествие по Китаю и Маньчжурии.
(обратно)66
Моравчик Эрнё Эмиль (1858—1924) — венгерский психиатр.
(обратно)67
Синергизм — сложение усилий, действующих в одном направлении.
(обратно)68
Ендрашик Эрнё (1858—1921) — венгерский терапевт и невропатолог.
(обратно)69
Фрим Якаб (1852—1919) — венгерский врач-дефектолог; основал первую в Венгрии клинику для больных, страдающих умственной отсталостью.
(обратно)70
Самуэли Тибор (1890—1919) — венгерский революционер, один из основателей компартии Венгрии. Во время первой мировой войны попал в русский плен, участвовал в революционном движении, был активным деятелем венгерской группы РКП(б). С января 1919 г. находился в Венгрии, был одним из руководителей социалистической революции, наркомом Венгерской Советской республики. Убит при переходе венгерско-австрийской границы после подавления Советской республики.
(обратно)71
Раншбург Пал (1870—1945) — венгерский психолог и невропатолог; много занимался изучением механизма памяти.
(обратно)72
«Аистами» в венгерских вузах называли студентов первого и второго курсов.
(обратно)73
«Gartenlaube» (букв.: беседка — нем.) — название издававшегося в Германии с 1853 по 1943 г. популярного иллюстрированного еженедельного журнала для семейного чтения.
(обратно)74
Здесь: были, да сплыли. (Здесь и далее искаж. нем.)
(обратно)75
Не подыхать же мне с голоду (нем.).
(обратно)76
Да, ковра тоже нету… (нем.)
(обратно)77
А эти кровельщики, они такие негодяи (нем.).
(обратно)78
Я почти ничего не ем (нем.).
(обратно)79
Тони мне время от времени приносит что-нибудь… (нем.)
(обратно)80
Вершец — ныне Вршац, город в Воеводине (Югославия).
(обратно)81
Банат — южная часть Придунайской низменности; ныне находится в Румынии и частично (Воеводина) в Югославии.
(обратно)82
Она хочет чего-то добиться в жизни (нем.).
(обратно)83
Ну да (нем.).
(обратно)84
Его она держит про запас (нем.).
(обратно)85
Это один господь бог знает (нем.).
(обратно)86
Я не возьмусь утверждать. Но мне кажется, это был не аптекарь (нем.).
(обратно)87
Здесь ее обстановка не устраивает (нем.).
(обратно)88
Оставь эти шутки (нем.).
(обратно)89
Несчастный, пусть эти зубы будут твоей самой большой бедой (нем.).
(обратно)90
Бедное дитя (нем.).
(обратно)91
Бычье сердце (лат.).
(обратно)92
Ныне город Сату-Маре в Румынии.
(обратно)93
Кенереш Балаж (1865—1940) — венгерский медик, сделавший большой вклад в развитие судебной медицины.
(обратно)94
Хегедюш Лорант (1872—1943) — политический деятель, экономист, публицист, писатель. В 1920—1921 гг. министр финансов Венгрии. В своей деятельности выражал интересы крупного капитала.
(обратно)95
Федак Шари (1879—1955) — популярная в 20—30-х годах венгерская опереточная актриса.
(обратно)96
Ну а ты? (нем.)
(обратно)97
Здесь: старческое слабоумие (лат.).
(обратно)98
Возможно, имеется в виду Всемирная выставка 1873 г., состоявшаяся в столице Австро-Венгерской монархии Вене.
(обратно)99
Блаха Луйза (1850 — 1926) — великая венгерская актриса. Ее именем названа площадь в центре Будапешта, на которой раньше находился Национальный театр.
(обратно)100
Разве это не бессовестно? (нем.)
(обратно)101
Почему ты не обдумала это получше? (нем.)
(обратно)102
Да, довольная жизнью и здоровая, она такая (нем.).
(обратно)103
Между делом (фр.).
(обратно)104
Имеется в виду секта назареев; секту характеризовала строгость религиозно-моральных принципов.
(обратно)105
Этвеш Карой (1842—1916) — писатель, журналист, общественный деятель. Имеется в виду его книга «Назареи» (1904), в которой он в очерковой форме, с сильным элементом художественности описывает нравы и порядки в секте.
(обратно)106
Строки из стихотворения Ш. Петефи «Тиса» даны в переводе В. Левина.
(обратно)107
Популярный герой венгерского фольклора, подобие русского Петрушки.
(обратно)108
Искаж. Wurstler — шут, клоун (нем.).
(обратно)109
Жестокая тревога (лат.). Выражение из оды Горация (Carmina. III. 1.40).
(обратно)110
Арпад (?—907) — вождь союза венгерских племен, приведший их на земли Карпатского бассейна.
(обратно)111
Грудь (лат.).
(обратно)112
У него, слава богу, такой хороший аппетит… (нем.)
(обратно)113
Должен же он как-то проводить время (нем.).
(обратно)114
Он храпит… Чтоб у меня большего горя не было (нем.).
(обратно)115
Вероятно, имеется в виду немецкий невропатолог Н. Оппенгейм (1858—1919).
(обратно)116
Фодор Йожеф (1843—1901) — венгерский врач-гигиенист.
(обратно)117
Нужно его угостить чем-нибудь? (нем.)
(обратно)118
А что к чаю? (нем.)
(обратно)119
У меня же ничего нету, совсем ничего (нем.).
(обратно)120
Он в самом деле доктор? (нем.)
(обратно)121
А что с ним такое? Почему он хромает? (нем.)
(обратно)122
Он — доктор (нем.).
(обратно)123
Мы же люди бедные (нем.).
(обратно)124
У нас нет виноградников (нем.).
(обратно)125
Наглая рожа (нем.).
(обратно)126
Вилмош — венгерское соответствие немецкого имени Вильгельм.
(обратно)127
Буттер — масло (нем.).
(обратно)128
Слово «szajmóka» можно перевести примерно как «утеха для рта» (száj — рот, móka — шутка) (венг.).
(обратно)129
Сколько бедный человек перенес (нем.).
(обратно)130
Твой коллега (нем.).
(обратно)131
Хорошо, что ты пришла. Твой отец неважно чувствует себя (нем.).
(обратно)132
Восьмидесятилетняя (нем.).
(обратно)133
А если он не ест ничего (нем.).
(обратно)134
Хорошо, что вы пришли, господин доктор (нем.).
(обратно)135
Энцефалит и дрожательный паралич, или болезнь Паркинсона (лат.).
(обратно)136
Да, он делает точно как настоящий доктор (нем.).
(обратно)137
«Всемирный потоп и великое переселение народов». Книга Ф. фон Шварца. Вышла в 1894 г. в Штутгарте.
(обратно)138
Девственница (лат.).
(обратно)139
Половое влечение, сладострастие (лат.).
(обратно)140
Совокупление (лат.).
(обратно)141
Болезни (лат.).
(обратно)142
Симптомы, связанные с абстиненцией — состоянием, возникающим в результате внезапного прекращения приема (введения) веществ, вызвавших токсикоманическую зависимость, и характеризующимся психическими, неврологическими и другими расстройствами.
(обратно)143
Бедняге (нем.).
(обратно)144
Я ничего такого не говорила (нем.).
(обратно)145
Я была так довольна (нем.).
(обратно)146
Да я же почти ничего не ем (нем.).
(обратно)147
Бетлен Миклош (1642—1716) — венгерский политический деятель, отдавший много сил борьбе за независимость Трансильвании. Оставил после себя «Автобиографию», которая обладает высокой ценностью и как исторический документ, и как художественное произведение.
(обратно)148
Имеется в виду жена императора Франца-Иосифа, убитая в 1898 г. в Женеве итальянским анархистом Луккени.
(обратно)149
Наследный принц Рудольф (1858—1889) — сын императора Франца-Иосифа и королевы Эржебет; при загадочных обстоятельствах покончил с собой вместе со своей любовницей Марией Вечерой.
(обратно)150
Бели (лат.).
(обратно)151
Нравоучительный вывод (греч.).
(обратно)152
Латинское «picea» — ель отчасти созвучно просторечному венгерскому выражению, обозначающему интимную часть женского тела.
(обратно)153
Турул — сказочная птица, похожая на орла и на сокола. Тотемное животное рода Арпада — предводителя венгров, завоевавших дунайскую низменность; иногда воспринимается как символ Венгрии. Название «Турул» носила одна из националистических студенческих корпораций, созданных после поражения Венгерской Советской республики в августе 1919 г.
(обратно)154
Шандор Эржи (1885—1962) — выдающаяся венгерская певица.
(обратно)155
Диастола — ритмически повторяющееся расслабление мышцы сердца в промежутках между ее сокращениями.
(обратно)156
Я тебе покажу кое-что (нем.).
(обратно)157
Смотри, сколько всего они тут натаскали (нем.).
(обратно)158
О, он ничего не сказал (нем.).
(обратно)159
Или как там его зовут (нем.).
(обратно)160
Сын одного директора банка (нем.).
(обратно)161
«Эрдекеш уйшаг» — еженедельный иллюстрированный журнал, выходивший в 1913—1925 гг. и предназначавшийся для самого широкого круга читателей.
(обратно)162
Ади Эндре (1877—1919) — выдающийся венгерский поэт, положивший начало революционному обновлению поэзии в начале XX в.
(обратно)163
Дёни Геза (1884—1917) — венгерский поэт, во многом последователь Ади. В начале первой мировой войны, находясь в действующей армии, слал с фронта ура-патриотические стихи. Позже начинает постигать и отражать в своем творчестве бессмысленную, античеловеческую сущность войны. Умер в Красноярске, в лагере для военнопленных.
(обратно)164
Каройи Михай (1875—1955) — венгерский политический деятель буржуазно-либерального толка. В конце 1918 г., после буржуазной революции, возглавлял правительство Венгрии, в начале 1919 г. был президентом страны.
(обратно)165
В Сегеде была сформирована в 1919 г. руководимая М. Хорти контрреволюционная армия. Офицеры этой армии носили журавлиное перо на шляпе.
(обратно)166
«Нюгат» («Запад», 1908—1941) — венгерский литературно-критический журнал, вокруг которого в течение многих лет группировались литераторы (в том числе Ади), отличающиеся наиболее новаторскими — отнюдь не однозначными — взглядами.
(обратно)167
Сабо Дежё (1879—1945) — венгерский писатель и публицист, отличающийся крайне противоречивыми, эклектическими взглядами, отдавший дань, с одной стороны, расовой теории, национализму, антисемитизму, с другой — романтическому отрицанию капитализма, антигерманским настроениям. Одно из самых известных его произведений — роман «Унесенная деревня» (1919).
(обратно)168
Мориц Жигмонд (1879—1942) — выдающийся венгерский писатель-реалист.
(обратно)169
Юхас Дюла (1883—1937) — венгерский поэт, один из ведущих представителей группы «Нюгата».
(обратно)170
Ахим Андраш (1871—1911) — венгерский общественный деятель, выразитель интересов среднего крестьянства в его борьбе против крупных землевладельцев.
(обратно)171
Секейи — этническая группа венгерской нации, живущая в Трансильвании.
(обратно)172
«Славная революция» — принятое в западной историографии название буржуазной революции 1688—1689 гг. в Англии, приведшей к установлению в стране конституционной монархии.
(обратно)173
Что вы там так смеетесь? (нем.)
(обратно)174
Ну, молодость смеется легко (нем.).
(обратно)175
Бык, вол (нем.).
(обратно)176
Немец, немецкий (нем.).
(обратно)177
Амбруш Золтан (1861—1932) — венгерский писатель, переводчик.
(обратно)178
Локтевой ямке (лат.).
(обратно)179
Целибат — обязательное безбрачие у католических священников.
(обратно)180
Здесь: закрытая для посторонних часть монастыря.
(обратно)181
Профессиональный жаргон, первая и последняя буквы латинского слова cancer (рак).
(обратно)182
Баллада венгерского поэта Яноша Араня (1817—1882).
(обратно)183
Временного перемирия (лат.).
(обратно)184
Букв.: стоя (лат.). Здесь: сразу, немедленно.
(обратно)185
Неоплазма — синоним слова «опухоль».
(обратно)186
Аортальная недостаточность (лат.).
(обратно)187
Аневризма (лат.).
(обратно)188
Чтобы видно было, что что-то делается (лат.).
(обратно)189
Зоб злокачественный (лат.).
(обратно)190
Анемия пернициозная (лат.).
(обратно)191
Аддисон Томас (1793—1860) — английский врач.
(обратно)192
Порок сердца (лат.).
(обратно)193
Сердечная астма (лат.).
(обратно)194
Палмаи Илка (1860—1945) — известная венгерская актриса, игравшая в Национальном театре и прославившаяся исполнением главных ролей в опереттах.
(обратно)195
Рак щитовидной железы (лат.).
(обратно)196
Повышенная чувствительность восприятия (греч.).
(обратно)197
У него такой хороший аппетит (нем.).
(обратно)198
Он же ходит в школу (нем.).
(обратно)199
У него была корь (нем.).
(обратно)200
Кажется, он уже бросил это (нем.).
(обратно)201
Что я ни настряпаю, он все пожирает (нем.).
(обратно)202
Ты ведь его знаешь (нем.).
(обратно)203
Врач (нем.).
(обратно)204
Он сейчас возобновил одно свое старое знакомство (нем.).
(обратно)205
Это один старый господин (нем.).
(обратно)206
Пакозд — село к юго-западу от Будапешта. Возле Пакозда в сентябре 1848 г. революционная венгерская армия одержала победу над австрийскими войсками.
(обратно)207
Большую подкожную вену (лат.).
(обратно)208
Предзнаменования, виды на будущее (лат.).
(обратно)209
Склероз островковой области (часть коры полушария большого мозга) (лат.).
(обратно)210
Скулами (лат.).
(обратно)211
Верхней губы (лат.).
(обратно)212
Что-нибудь случилось? (нем.)
(обратно)213
Наверное, твоя кузина выходит замуж за попа? (нем.)
(обратно)214
Но почему? (нем.)
(обратно)215
Вы же всегда были заодно. У твоего отца есть свои причины (нем.).
(обратно)216
Бетлен Ката (1700—1759) — венгерская общественная деятельница и писательница, отразившая в мемуарах перипетии своей борьбы за торжество протестантизма.
(обратно)217
Лорантфи Жужанна (1600—1660) — жена трансильванского князя Дёрдя Ракоци I, покровительствовала движению венгерских пуритан.
(обратно)218
Особенным образом приготовленная домашняя лапша; суп с чигой принято подавать на свадьбе.
(обратно)219
Абсольвацией называют в Венгрии последний период учебы в университете, связанный прежде всего со сдачей итоговых экзаменов.
(обратно)220
Тератология — раздел медицины, изучающий аномалии развития.
(обратно)221
Он стал совсем другим (нем.).
(обратно)222
Это, должно быть, совсем молодая женщина (нем.).
(обратно)223
Он ведь, к тому же, не холостяк (нем.).
(обратно)224
Матра — горный массив на севере Венгрии.
(обратно)225
Он там с ребятами (нем.).
(обратно)226
Он ничего не сказал, ни словечка (нем.).
(обратно)227
Даже будто и не заметил меня (нем.).
(обратно)228
Если это можно назвать примирением (нем.).
(обратно)229
У него отложено немного денег (нем.).
(обратно)230
Одна, одна (нем.).
(обратно)231
Она мне не поможет, даже если я сдохну с голоду (нем.).
(обратно)232
Который немного хромает (нем.).
(обратно)233
Они все время теперь вместе (нем.).
(обратно)234
Он человек очень славный, симпатичный (нем.).
(обратно)235
Она — это не Пирошка (нем.).
(обратно)236
Сокращенное medicus universalis — врач по общим болезням (лат.).
(обратно)237
То есть в соответствии с венгерской, а не латинской орфографией.
(обратно)238
Кёр (kör) — круг (венг.). Кере — более старая разновидность того же корня.
(обратно)239
Порочный круг (лат.).
(обратно)
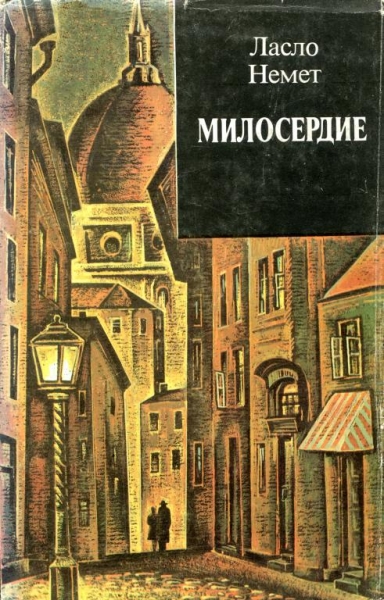


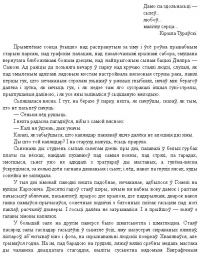

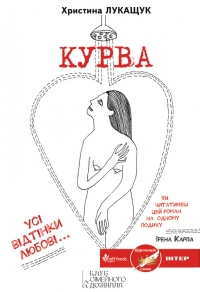
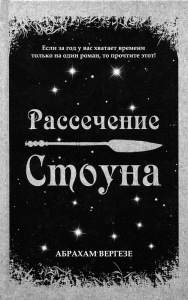
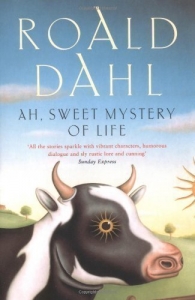



Комментарии к книге «Милосердие», Ласло Немет
Всего 0 комментариев