Ринат Валиуллин d’Рим
© Валиуллин Р., 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019
* * *
Жизнь – это привязанность души к телу.
Норма
– Ты же красивая баба. Почему ты одна? Нашла бы себе нормального мужика. Хотя что я говорю, что будет делать красивая баба с нормальным мужиком? Красивой нужен ненормальный, чтобы то закидывал на небеса, то забывал поймать.
– У меня уже есть один, ненормальный. Я же тебе рассказывала.
– Этот твой норвежец из Осло – все равно что нету, – вернулась на балкон Норма. Она села за столик, вытянула ноги и заправила халат, под которым, как обычно, больше не было никаких лишних тканей. – Зачем он тебе? Вот уж точно ненормальный, этот твой Эйнар. Как можно было воровать деньги у своей невесты? Смотри, он и тебя может обворовать, на чувства. А впрочем, возможно, именно этого иногда и не хватает, – сделала глоток своего любимого апельсинового сока Норма.
«Сейчас бы Манхэттен». Запах ржаного виски влетел в ее мысли (60 мл), сладкий вермут (30 мл) разлегся на языке вместе с вишенкой. Две-три капли Биттер Ангостуры стекли слезой. Норма наизусть знала этот рецепт.
– Ты права. Черное и белое.
– Не понимаю, что ты в нем нашла? – наблюдала Норма за тем, как солнце касается верхушек деревьев, теряя ватты.
– Как тебе объяснить? Он – мой самоучитель, как ни взгляну, все время напоминание, что я – женщина.
– Ты сумасшедшая.
– Нет, я чокнутая, когда дело касается чувств.
– У тебя с ним серьезно? – сделала еще глоток Норма.
– Нет, конечно. Уже лет пять как несерьезно.
– Это правильно. Женщине не стоит быть слишком серьезной, серьезность сушит кожу.
– Вот почему ты решила вдруг мне позвонить? Ты стала серьезнее?
– А кому еще звонить перед смертью? Это я так шучу по-дурацки, – сделала рокировку ног под столом Норма.
– Вижу, ты без настроения.
– Без. Что делать, когда настроение испорчено?
– Сиди ремонтируй, – рассмеялась раскатисто в трубку Элла. – Мне казалось, у тебя все отлично. По крайней мере, когда я услышала твою новую песню. Это было очень чувственно.
– Чувственно?
– Нет, не чувственно, сексуально.
– Значит, ты слышала эту песню?
– Точнее сказать, сначала услышала, потом увидела.
– Ты видела? – сделала еще один глоток нектара Норма. – Если бы ты знала, как на тот момент я была разбавлена водкой и шампанским, чтобы не волноваться! «Гораздо сильнее, чем сейчас».
– И ножки что надо для Мэдисон Гарден, жаль, что платье не взволновалось, как в «Зуде седьмого года»[1].
– Рассуждаешь, как мужик. А платье от Жан-Луи, – накинула Норма полу халата – занавес – на оголившуюся ногу, которая время от времени сползала вниз, как только Норма выходила в свет, на сцену.
– Я не рассуждаю, я впечатлена.
– Платье от Жан-Луи.
– Такое же потрясающее, как и поздравление. Это было поздравление всей стране, ты поцеловала государство прямо в губы. Все увидели, как замешкался президент, как покраснел. До сих пор не пойму, почему он не дал тебе закончить?
«Он боялся, что я ляпну что-нибудь лишнее», – проглотила свою мысль Норма. – Он волновался, как ребенок на утреннике.
«Ребенок, у меня же мог быть ребенок, я могла бы его сейчас любить. Он бы мог быть частью меня, самой лучшей частью меня. Но его нет, он был, но его не стало, его выскоблили из меня, как и многих других, как любовь. Мужчины по частицам выскоблили всю мою душу».
Все ее мужчины, как в прощальной церемонии вдруг выстроились в шеренгу перед ней. И первым был Джо – бейсболист, затем – Джон-президент… Взгляд остановился на Артуре…
– Ты же знаешь, для чего мне мужчины. Я очень хочу ребенка. Но после того ужасного дня, когда я случайно открыла дневник Артура… «Мне кажется, что она маленький ребенок, я ее ненавижу!» – что-то во мне перевернулось, наверное, мой ребенок. Может быть, поэтому беременность оказалась внематочной, – грустно пошутила «Мэрилин».
– Да, ладно тебе, Артур уже в прошлом, где-то на первых этажах. Наслаждайся видами сверху. Может, встретимся, кофейку выпьем?
– Кофе – это хорошо. Моя жизнь началась с кофе. Вот как только кофе попробовала, так и начала жить, по-настоящему жить, то есть вкус к жизни пришел именно с кофе, уже потом все остальное, помада, поцелуи, чувства и сушняк. С кофе началась, кофе и закончится.
– Нет, что-то с тобой не то. Кофе не пойдет, лучше шампанское. Выпьешь бокал хорошего вина, глядишь – потянулись проблемы к выходу. Выпьешь второй – вышли все. Подозреваю, что сегодня жизнь у тебя началась с шампанского.
– Во втором ты права, но если перейти на шампанское, то не захочется умирать совсем. Я так боюсь бессмертия!
– Все боятся смерти, а ты бессмертия. Ты что, сменила психотерапевта? Дай мне его номер, мне нравится твой оптимизм.
– Да нет же, я говорю о том, что после кофе меня начнут разбирать по частям – кому грудь, кому губы, кому глаза, кому платье, кому-то фото вместо иконы. Безбожники. Меня растащат, как хорошую книгу на цитаты. Нет, плохую. Ничего не останется. Одни разрозненные мысли и воспоминания тех, кто хоть как-то ко мне прикасался, а теперь будут лапать. Понимаешь?
– Понимаю. Ну, а кто виноват? Нечего было юбку задирать, – рассмеялась Элла.
* * *
В это время из окна соседнего дома за красивой женщиной, которая болтала по телефону на балконе, то и дело потягивая из бокала алкогольное удовольствие, в оптический прицел наблюдала Анна. Анна держала ее на мушке и ждала, пока та покинет балкон.
Вот уже месяц она следила за личной жизнью Нормы. Ей не хотелось знать лишнего о своей жертве, но так или иначе приходилось, хотя по инструкции это было запрещено. Вот и сейчас Анна листала ее жизнь, читая по губам. На первый взгляд журнал ей казался неинтересным, глянец. Однако внутри него происходило что-то странное, непонятное, слишком много было неясных пятен, в которых не хотелось разбираться. Анна была продолжением своего прицела и ничего не чувствовала. Чужая жизнь для нее была оптической иллюзией, смерть – ее материализацией. Единственное, что сейчас беспокоило Анну, это стремительно наступающая темнота. Ей хотелось быстрее завершить дела и лететь к своей мечте, в Рим. Она обожала его всем сердцем. Рим служил Анне путеводной звездой в ее непутевой жизни.
Рим. Тирамису
– Вам какой кофе? Или покрепче?
– Мы еще не так близко знакомы.
– Давайте знакомиться. Я – Борис, – заказал два кофе художник, когда мы вошли в небольшое кафе.
– Я – Анна, а вы…
– Нет, не итальянец, я из России, – не дал мне договорить Борис.
– А сюда как попали? – мы сели за уютный столик, друг напротив друга.
– Ну, как и все попадают. Только с той стороны границы это звучит как «попал», со знаком «минус», а с этой – со знаком «плюс». Меня выслали. Сначала во Францию, а потом я перебрался в Италию.
– За что вас так?
– В вердикте суда было сказано: за искажение советской действительности.
– Звучит весело.
– Тогда мне было не до смеха. Хотя где-то внутри себя я понимал, что это – конец, это прорыв железного занавеса. Конечно, это была большая удача, счастливый билет в новую жизнь. Реалисту нереально повезло, реалист попал в новую нереальную жизнь. Почему нереальную? Потому что она не идет ни в какое сравнение с той, что я видел из своего окна, – посмотрел серьезно на Анну Борис. – А вы кем работаете?
– Я дизайнер.
– Домохозяйка?
– В смысле?
– Сейчас каждая домохозяйка дизайнер. Извините, я не хотел вас обидеть.
– Можете хотеть, но обижать не надо, – улыбнулась я. – Я дизайнер общества.
– Интересно.
– Не то слово.
– Дизайнер ведь делает жизнь более удобной, устраняет ее недостатки. Значит, вы убираете лишних людей? – рассмеялся художник.
Анна замолкла после этих слов. Потом, усмехнувшись, ответила:
– Какой вы категоричный. Я же не уборщица, я дизайнер, просто ставлю людей на свои места, следуя желанию заказчика.
– Не обижайтесь, – отпил кофе Борис. – Тяжело стать хорошим дизайнером?
– Нет. Достаточно отмести все лишнее. А как стать хорошим художником? – успела вставить в анкету свой вопрос Анна.
– Еще проще. Нужно создать свой собственный мир. В нем твоя правда и будет жить. Важно, чтобы ей там было удобно.
– А то придется звонить дизайнеру, – добавила Анна.
– Точно. Поэтому необходимо, чтобы мир был только твоим, остальное додумают люди.
– Вы имеете в виду ложь?
– Да, они обожают этим заниматься. А вы еще чем-то занимаетесь?
– Люблю мечтать. Хотя ложь и мечта – это почти одно и то же, с той лишь разницей, что во втором случае – это приятно.
– И о чем вы мечтаете?
– Раздеваться без проблем, – прыснула смехом Анна. – Если честно… Сейчас я даже не знаю. Всякий раз я мечтаю оказаться снова в Риме. Но я уже здесь. Мечта сбылась. Она у меня одна, но многоразовая. Бывают люди однолюбы, а бывают одномечтатели, наверное, я к ним и отношусь.
– Ну Рим понятно, а что-нибудь концептуальное? – рассмеялся, иронизируя на тему, Борис. – Семья, дети. Разве вы не мечтаете о ребенке?
– Женщина начинает мечтать о ребенке, когда встречает мужчину. В полном смысле последнего слова, а не просто как объект удовольствий.
Борис улыбнулся:
– И вы в ту же реку. Вечный поиск своего берега, – задумчиво произнес он. – Допустим, она его находит. Что дальше?
– Здесь начинается самое сложное: она начинает жить.
– А почему самое сложное? – допил свой кофе Борис и вылил гущу на блюдце. На белом фарфоре образовалось черное пятно.
– Потому что романтика выветривается.
– И вся жизнь женщины превращается в наведение мостов через бурные потоки эмоций, – вытер невидимую слезу со своей щеки Борис и рассмеялся.
– Ой, да вы еще и поэт.
– То есть теперь задумаетесь?
– Размечтаюсь. Буду мечтать об этом исключительно в Риме, – улыбнулась задумчиво Анна. – А вы самонадеянный.
– А на кого еще надеяться, как не на себя?
– Это точно, в остальном – позитивного очень мало.
– Еще кофе? – спросил Борис Анну, которая тоже отодвинула чашку от себя.
– Тирамису. Вот, вот о чем я всю дорогу мечтала. Вспомнила.
Борис подозвал камерьере и заказал себе кофе, Анне – пирожное.
– Только, чур, я плачу сама.
– Ты делаешь мне больно, – театрально на «ты» перешел Борис.
– В современном мире каждый платит сам за свои мечты.
– Значит, я – ретро. У меня свои вредные привычки.
– Не бросай. Как бы ни менялись нравы, женщины любят щедрых, – краем глаза Анна уже видела официанта, который лавировал между столиками, неся десерт. – Какая красота, – улыбнулась Анна сначала официанту, потом тирамису. На большом блюде перед ней возник нежный, воздушный брикет, украшенный клубникой и веточкой смородины.
– Знаете, как переводится «тирамису»? «Взбодри меня».
– Вас? Это легко, – зачерпнула Анна первую ложку итальянского десерта и положила в рот. Губы ее сомкнулись, глаза закрылись. – Так пойдет? – медленно растворила она во рту лакомство.
– Неплохо! – запил это глотком кофе Борис.
– Жаль, что очень калорийный, я бы его ела каждый день.
– Вам нечего бояться, вам конституция позволяет.
– Конституция – да, совесть – нет. Хотя я даже как-то пыталась приготовить его дома. Привезла из Италии все ингредиенты. Сыр маскарпоне из Ломбардии, – захватила она ложкой нежную сливочную плоть и показала Борису. – Хотите попробовать?
– Нет, я пас. Боюсь, взбодрю вас в ответ, – засмеялся Борис.
– Не бойтесь, когда я ем десерт, я не опасна. В общем, как хотите, – проглотила она очередной кусочек.
– Да, женщины опасны, только когда голодны, – улыбнулся Борис. – И неважно, какого рода голод.
– Ну, хотя бы печенье? Это же савоярди, – показала темную сторону пирожного Анна, – еще один важный компонент – печенье савоярди, очень воздушное, сугубо итальянское. Вот только вина итальянского у меня не было, по рецепту должно быть вино «Марсала». Я заменила его на то, что было. Получилось ничего, но это на голову выше! – взяла Анна веточку смородины в губы.
– Красиво, – заметил Борис.
– Я съела произведение искусства.
– Искусство, искусство… – задумчиво произнес Борис, – оно все время занималось красивым, даже когда рисовали ужасные вещи, выглядело это притягательно. Взять хотя бы красивую смерть, как на картине «Юдифь и Олоферн» у Микеланджело.
– Или «Колокол Уэски» Хосе Касадо, – вытирая губы салфеткой, вспомнила Анна одну из любимых своих картин, с подвешенной, словно колокол, отрезанной головой.
– Да, жуткая сцена, но глаз от полотна не отвести. В то время творцы все хотели делать красиво, красивее, чем было на самом деле, и гораздо красивее, чем сейчас.
– Да, да, – задумчиво согласилась Анна. – Иногда смерть много красивее жизни, – запнулась она. Анна вспомнила красную смерть человека в лимузине. Свою работу она всегда старалась сделать красиво.
– Но глобальное потепление не повлияло на то, что плюс со временем поменялся на минус, потому что для положительного мало стало рисовать красиво, пришло время рисовать реальность, какая она есть. Сейчас только на фоне отрицательного можно создать положительное, иначе его просто никто не увидит. И это не только в живописи. Кино – там тоже все это происходит, или на телевидении, – допил свой кофе Борис. – Минус на минус дает плюс, вот так примерно, – он снова вылил гущу на блюдце и стал ждать. Пятно превратилось в один идеальный круг.
– Да! Прямо жуть как похоже на плюс! – засмеялась Анна.
– Первый плюс комом.
Вечерело, мы незаметно перешли на «ты», потом – в другое кафе. Для продолжения темы нужны были совсем другие напитки.
Рим. Виа Джулия
На улице было тепло и людно. Бесконечные траттории и пиццерии создавали атмосферу вечного застолья. Несмотря на поздний час, у лавок с сувенирами все еще тлела торговля.
– Сейчас будет мост Систо, а потом Виа Джулия, – прокомментировал Борис.
– Неплохо звучит, улица Джулии.
– Да. Это был папа Юлий второй.
– Папа? Ой, а так романтично звучало. Лучше бы ты мне этого не говорил, – засмеялась Анна. Мы перешли мост и вышли на улицу из затертых временем фасадов, арок и темного плюща, придавшего своей бородой средневековой архитектуре еще более древний вид.
Улица была коротка, красивое не могло длиться вечно, она венчалась фонтаном. Анна подошла к массивной мраморной купели и набрала воду в ладони:
– Холодная.
– Вода?
– Вода. А что еще может быть?
– Раньше во время праздников в фонтан пускали вино.
– А я-то думаю – почему мужик на меня так вопиюще смотрит, – плеснула Анна водой в мраморное бородатое лицо.
– Не бойся, это маска, фонтан так и называется – «Маскероне».
– Я поняла. Выпил – маску снял.
– А ниже фонтана, видишь – это античная ванна, из какой-то римской бани.
– Если ты не торопишься, покажу тебе еще фонтан «Черепахи», – не дожидаясь ответа, повел Борис Анну через короткий проулок.
– Я же на отдыхе.
– Это того стоит. Вот где самая романтика.
Мы прошли какую-то площадь, потом еще одну небольшую улочку и вышли к дворцу с фонтаном. Черепашки действительно впечатляли.
– Какие очаровательные, – сказала Анна. – Хочется покормить.
– Да и юноши тоже ничего.
– А черепашки – прямо символ туриста, влюбленного в Рим, – подошли мы совсем близко к земноводным.
– Да, иногда туристы так зачарованы, что начинаешь спотыкаться.
– А что ты хотел? По Риму хочется ходить долго и медленно.
Норма
– Ты помнишь, что он сказал? «Теперь я могу уйти из политики, после того, как меня поздравили таким ласковым голосом».
– Если бы я постоянно не слушала твои записи, мне кажется, Гершвина я теперь выучила наизусть. Если бы не ты, никогда бы мне так не петь.
– Мне показалось, что между вами что-то есть. Но не это я хотела сказать. По твоему голосу я поняла, что ты влюблена по уши.
– В кого?
– Не волнуйся, я не про Гершвина.
– Элла!!
– Я поняла. Как ты себя чувствуешь?
– По-разному. Черное и белое, – передразнила Норма Эллу и засмеялась. – Все зависит от звонка. После черной пятницы наступила белая суббота. Черное и белое, так и живем. Радость и печаль, любовь и ненависть, восторг и разочарование. Жизнь – вечный пешеходный переход. Одни – туда, другие – обратно. Все ждут звонка, – снова повторила Норма.
– Прямо как у меня, пока ты не позвонила хозяину Мокамбо.
– Элла!
– Я не только об этом звонке. Без него мне никогда не петь в Мокамбо. Так и скиталась бы по задворкам блюза.
– Ох уж эти расовые предрассудки.
– Черное и белое, – снова рассмеялась трубка. – Ну так да или нет?
– Элла! Мне кажется, сейчас вся Америка навострила уши. Лучше расскажи, как там дела в Мокамбо? Все хорошо?
– Концерты почти каждый вечер. Спасибо тебе, Норма. Я твоя должница.
– Перестань.
– Я же искренне.
– Искренне перестань. Иначе мне придется вместо соку выпить шампанского. А я сегодня с утра хотела бросить пить.
– Решила завязать совсем?
– Со всеми, со всем… – в задумчивости превратила наречие в местоимение Норма. – Именно эта мысль давно не дает мне покоя. Но не думаю, что мне удастся. Я не настолько способная.
* * *
Норма покинула балкон и зашла в дом. Скинула халат, оголив тело, до зубов вооруженное красотой. Монро вообще никогда не носила нижнего белья и даже не покупала его, хотя напоказ этого не выставляла.
«А ты сдала, детка, будто приняла душ времени».
Вдруг ей надоело быть Мэрилин, хотя это была ее норма жизни, но в этот день даже Нормой ей быть не хотелось.
Она надела парик на голову, которая гудела от выпитого, и стала Зельдой, никому не нужной Зельдой Зорк. У Зельды голова не болела. Подошла к зеркалу. Зеркало не поверило ей и узнало. Норма приподняла руками грудь, втянула живот и поправила платье. Потом вспомнила, что она Зельда и сбросила все настройки.
Когда она хотела побродить в толпе, выйти в народ, откуда она когда-то вошла, для того, чтобы оставаться неузнанной, она надевала парик брюнетки, превращалась в Зельду и становилась абсолютно другой.
Перед выходом она еще раз вышла на балкон и допила коктейль.
* * *
Анна мягко потянула на себя курок и капсула с лошадиной дозой барбитурата упала в бокал, оставленный Нормой на балконном столике. Скоро она вернется, чтобы пригубить его и себя.
Неожиданно для Анны, на балкон вышла какая-то брюнетка и одним залпом прикончила коктейль. «Неужели опять все насмарку? Как мне это уже надоело. Первым же рейсом в Рим. Надо отдохнуть», – уже выходила из здания напротив Анна. Она даже не оглянулась на дома на Фифт Хелена Драйв. Села в припаркованную машину и укатила прочь. «Все дороги ведут в Рим». Анна до сих пор не могла понять, куда делась Норма.
Норма
– Народ, закурить не найдется? – остановил толпу знакомый голос.
– Найдется.
– Можно, я две возьму?
– Бери.
– Они же у тебя последние.
– Бери, чего уж там, тебе же нужно, – скомкав пустую пачку, кидает ее на асфальт.
– Зачем ты так? Есть же урна.
Зельда нехотя подбирает сломанный бумажный футляр. Глаза не находят урну. Кладет в карман. «Я и есть урна».
– Спасибо, а спичка есть?
Народ недовольно чиркает зажигалкой. Зельда затягивается, вторую сигаретку прячет в карман.
– Ну, бывай, пока. – Выдыхает в лицо дым, потом пытается развести его руками, извиняясь.
– Пока, – толпа втянула плечи в воротник и пошла дальше.
Только дым в толпу, что прошла.
– Как голова? – спросила Зельда у Нормы.
– Прошла, но неизвестно куда. Отпустило на время. Хорошо, когда тебя никто не знает, – ответила себе Норма. В руках тлел огонек, который не хотел становиться костром.
– Думаешь, позвонит?
– Позвонит, если не думать. А я дура – думаю. Мужики, где они? Сначала подбросят, потом забывают поймать. Ему нужно подкожное, а мне внутривенное…
Клен положил уставшие красные ладони на воздух. Каштаны аплодировали. На улице было тепло. Августом дуло в лицо. Из дула – освежающий ветер. Деревья швырялись листьями и каштанами, фонари брызгались апельсиновым соком, выжигая в Норме негатив. Тот изворачивался, словно ужаленная змея, позвоночник сам собой выпрямлялся, поднимая настроение все выше на лифте, где у него последний этаж, пентхаус. Оргазм – самая верхняя площадка, там бассейн, там бармен с коктейлями на любой вкус, там официантка, нега принесет тебе его, тут звонок, и тебя катапультой прямо с лежака обратно в полумрак в койку, где утром разбудит телефонный звонок.
«Это будет фотограф, которому я обещала сессию, или репортер из Time. Хорошо, когда тебя никто не знает и никому до тебя нет дела».
Рим
Рейс был до Парижа, потом Анна должна была сесть в поезд и через несколько часов оказаться в Риме. В самолете она уже выглядела обычной девушкой с легкомысленным рюкзачком, в который помимо мечт были сложены телефон, косметика, блокнот, ручка. Была еще бутылка воды, но ее пришлось оставить на посадке. Глаза остры, а чувства открыты. Внешняя хрупкость и сухое телосложение требовали полусладкого обращения.
Анна устроилась в кресле, рядом никого не было, и можно было вытянуть все части тела. Ее сильно развитые конечности придавали запоминающийся акцент фигуре. Длинные тонкие мускулы отдыхали на костях кресельных ручек.
За иллюминатором уже пробегали облака, напоминая о реактивной скорости обмена веществ в пространстве. Есть не хотелось.
С другой стороны через проход сидела дама в узкой грудной клетке, длинная и плоская, даже вогнутая в себя. Вся в себе, зажатая ребрами в угол.
Ее конусообразный череп лежал на спинке кресла, он напоминал рыжее яйцо в наушниках. Женщина сидела с закрытыми глазами и что-то слушала. Лоб плавно сужался кверху, без выступов и неровностей периодически морщился в такт неизвестной мелодии. Морщинки ловили ритм. Острый подбородок и нижняя челюсть тоже двигались, будто были на подпевках, скулы вздрагивали.
Анна любила рассматривать людей, особенно, когда те не видели ее. Пыталась по внешности угадать черты характера или даже род занятий. Скорее всего в этом было что-то профессиональное. Ей нравилась эта документальная съемка, когда камера снимает настоящих, незаинтересованных людей, фокусируется на лицах, когда ничего больше не происходит. Никаких перспектив, никаких разговоров, просто жизнь, просто нос с горбинкой, который она отметила сразу же, похожий на клюв, сильно заостренный и вытянутый вперед. Он явно намекал на суровый, но справедливый характер. Затылок плавно переходит в шею. Последняя – длинная и тонкая, как у лебеди. Изящная дама бальзаковского возраста. «Как мы с ней похожи, вся в меня через двадцать лет, нет, через тридцать».
«Бальзаковский возраст – это сколько?» – «Когда кожа становится шагреневой», – ответила Анна сама себе.
Неожиданно женщина открыла глаза, и Анне пришлось опустить взгляд вниз. Там она нашла длинные тонкие ноги в чулках, с худыми угловатыми коленями, которые венчали узкие вытянутые туфли.
Скорее всего она была темпераментным руководителем, умеющим зажечь и повести за собой сотрудников. Они еще раз встретились взглядами с «зажигалкой».
«А меня зовут Анна. Вот и познакомились», – сказала про себя Анна и достала из рюкзака свой блокнотик, куда обычно записывала всякую ерунду, приходящую на ум, будь то стихи или мысли без какой либо претензии на рифму. Анна была старомодна, она не доверяла гаджетам, бумага вдохновляла гораздо сильнее. Она открыла блокнот:
Значение пи в среднем равно 3,14 ху. Женщине для счастья необходимо знать значение Ху, чтобы в итоге разобраться ху из ху.
Анна вновь посмотрела на соседку. Та спала.
В следующем ряду в кресле сидел круглый, «шарообразный» человек среднего роста. У мужчины были большие голова и живот, при слабых покатых плечах. Широкие кости, мышцы выпуклые. На них явно была видна жировая ткань. Жир откладывается прямо пропорционально тому, как откладываются занятия спортом. Вес прибывает вместе с вкусной едой. Над животом расстелилась широкая, выпуклая грудь. Круглая голова уткнулась в журнал. Умный лоб полысел от доброты. Доброту подчеркивали мягкие подбородок и скулы. Нос «утиный» и слегка вздернут. Мужчина перевернул страницу и почесал короткую толстую шею, потом поменял местами короткие сильные ноги.
«Скорее всего, преподаватель или кондитер. Чем не пара? Идеальный Ху для моей соседки. Вот они уже и спят вместе», – улыбнулась про себя Анна. И записала в блокноте:
Ночью я вскрыл ее своими горячими поцелуями прямо в машине. Вскрытие показало, что она женщина до мозга костей, желания переполняли, совесть мучила, и не было места для той самой любви, которую она вдруг ощутила.
Я чувствовал, что ей было неудобно заниматься сексом на заднем сиденье «Форда Фокуса», неожиданно любовь стала много больше этой машины.
Потом перевернула страницу, где нашла другую свою заметку:
Я тебя уверяю, что богов немного среди людей, как и вообще небожителей. У них другая реальность. И уровень другой. Они перешли на него через себя. Они переступили через себя, чтобы стать совершенными. Им не нужны вторые половинки. Если ты неполноценная, ты ищешь вторую половину. Полноценным людям не нужны половины, они хотят все. Или лучше вот так: полноценные люди не ищут вторую половину, они с ней живут.
После этой фразы Анна вспомнила шефа, жизнерадостного и добродушного, беспокойного внешне, но спокойного внутри. После ее промахов он вспыхивал, как спичка, но быстро остывал. Шеф излучал оптимизм, в любой ситуации он находил место хорошему настроению. Постоянно смеялся, когда нервничал, таким образом пытаясь контролировать эмоции. Но против мимики он был бессилен, она, как и жестикуляция, жила своей веселой жизнью. Рядом с ним Анне казалось, что она все делает правильно, следуя его указаниям, повинуясь заказчикам. Она старалась подражать его сильной и уверенной походке по жизни, вспоминая его вечную присказку: «Если меня уволят, я с удовольствием займусь чем-нибудь еще. Поработал бы водителем такси или клоуном в цирке, а может, сидел бы дома и сочинял стихи. А может, просто ничего не делал, вот где кайф. Вставал бы поздно, целовал жену, шел в бар смотреть футбол, возвращался, чтобы обнимать ее до самого утра».
«Такое же широкое лицо и круглое тело, как у мистера Ху», – посмотрела она снова на соседа, который уже спал.
Она перевернула страницу и наткнулась на стихотворение:
Как будто мало осени внутри как будто ее чересчур снаружи мешаем кофе шевелим губами говорим о том о сем о том, с кем лето пролетело мимо тела о сем, с которыми сейчас сидим и улыбаемся замазав окна грустным сентябрем «Любви, любви» – кипело пеной кофе, витрину осени разбить пытаясь, в берегах фарфора как не хватает нам какой-то мизерной любви мы рвем пакетики на раны сыплем сахар помешивая ложкой «почему?» и пригубив ее, кладем на блюдце: «наверное, мы слишком много дружим».Иногда приходило вдохновение, и Анна сочиняла. Это тоже было своего рода отдушиной. Всякая писанина помогала ей посмотреть на себя со стороны. В то время как в жизни приходилось наблюдать за другими.
«Любви, любви», – повторила Анна.
– Чай, кофе, прохладительные напитки? – вырвала ее из осеннего контекста стюардесса.
«Раз крепче ничего нет… тогда лучше чай», – ответила Анна в широкой улыбке девушке.
Рим. Пьяцца делла Република
Я прибыла из Парижа на поезде. Борис встретил меня на вокзале Термини. Мы тепло обнялись. Вокзал не только место расставаний, но и встреч, однако холодок от первых дает о себе знать, поэтому я вжалась в Бориса всем своим телом.
– Замерзла, что ли? Так приятно впилась в меня, будто приехала из зимы. Холодный вагон?
– Нет, вокзал.
– Извини, не успел нагреть. Но снаружи – лето, пошли, – взял он меня в охапку и скоро мы оказались на улице. – Отчего такая суета, будто перед Новым годом?
– Все ждут чудес.
– Но ведь взрослые же люди.
– Взрослым чудеса нужны даже больше, чем детям, потому что после тридцати без чуда – никуда.
– Я прямо чувствую, что без чуда мне уже никуда, – приобнял Борис Анну.
– Сколько автобусов!
– Пятьсот.
– Ты уверен?
– Площадь Пятисот, она так и называется, в честь пятисот итальянских солдат.
– Которые истекли здесь кровью от эфиопских шотелов и гураде где-то в конце девятнадцатого века.
– Я вижу, ты тоже в теме? Любишь оружие?
– Историю, – соврала Анна, неравнодушная к оружию. Каждый раз, оказываясь здесь, я слышу звон металла и вижу реки крови. Я прямо представляю, как все это было.
– Как?
– Жарко, пыльно, больно и грязно. Но благо водопровод уже был изобретен. Он смывал самые трагичные факты из истории Римской империи, словно для этого и был придуман.
– Интересно, я как-то не задумывался над этим, но что-то в этом есть. Термы Диоклетиана, – указал Борис на массивное здание темно-кремового цвета. – Здесь воины отмывались от кровавых разборок, – сыронизировал он.
– Вот почему такой цвет, теплый, хочется прямо потрогать. Что за камень?
– Кирпич, – чуть замешкавшись, ответил Борис.
– Кирпич? Есть такой камень? – улыбнулась Анна. – Хотела бы дома такие обои.
– Если только в погребе, – покачал головой Борис.
– В винном?
– И в невинном тоже. Хотя погреба все виновны. Хочешь перекусить? – посмотрел в мои глаза Борис. – Я хотел сказать – выпить.
– Хочу, но, может, прогуляемся немного? Расскажешь мне что-нибудь. Ты же местный.
– Я боюсь, что ты все знаешь.
– Не бойся, это случайность.
– Пьяцца делла Република, – по-итальянски озвучил он.
– Красноречиво, как эти симпатичные домики. И фонтан посередине, чтобы охладить пыл.
– Пыль, – улыбнулся Борис. – Искупнемся?
– Может, потерпим до Треви? – поцеловала я Бориса в щеку. – Здесь же русалки.
– Я вижу, ты скучала.
– Нет, работала… Ты бы какую выбрал? – предложила я свой вариант «а ты скучал»?
– Может, ту, что верхо́м? – ответил, что «скучал, не то слово», Борис.
– Ну да, верхо́м будет быстрее. Но сегодня мне бы хотелось растянуть удовольствие, – улыбнулась Анна. Именно эта довольная улыбка ярче слов показала, что имела в виду девушка.
– Фонтан наяд, – комментировал Борис. Та, что с лебедем, – озерная, вторая – речная с каким-то сомом, третья – верхом на лошади, океанская, четвертая – русалка артезианская, с драконом.
– А как мужчину зовут? – внимательно слушала его Анна.
– Морской Главк.
– Держит всех, – рассмеялась Анна. Настроение ее поднялось в небо так же высоко, как струя фонтана, разбрызгивая улыбки во все стороны. Она любила этот город, этот воздух, которого здесь было в разы больше, чем в других империях. Рим для нее служил той самой кислородной подушкой, которая была ей необходима, чтобы привести себя в чувство после очередного дела. Было не важно, куда идти, красиво – везде, поэтому она даже не спрашивала, а только повиновалась своему гиду.
…Улочки становились у́же, они всматривались в нас все пристальнее, образами мадонн и младенцев. Стоило мне отвлечься на очередное блюдо с архитектурой, как я потеряла из виду Бориса. Впереди никого, только оперный театр. Серые квадратные колонны – я знала, что вот-вот он выскочит на меня из-за одной. Потом будут объятия, долгий поцелуй. Как легко было просчитать мужскую неожиданность. Но нет, Боря оказался тоньше женской логики, вот уже последняя колонна – и никого. Скоро я увидела его сидящим на ступенях храма. Он весело смотрел на меня:
– Базилика ди Санта-Мария-Маджоре.
– Это предложение? – рассмеялась я, присаживаясь рядом.
– Да, выходи за меня, – протянул он мне коробочку.
– Нет, мы так не договаривались. Ты не обижайся, но с тобой я пока могу выйти только из себя. Мне это нравится, но есть еще и другие дела.
– Шучу.
– Нет, все равно спасибо. Не каждый день девушке делают предложение. А что в коробочке?
– Открой.
Я взяла коробочку и открыла, там лежала конфета «Бачи».
– Слава богу, – вздохнула я. – А то я уже начала придумывать, что делать с кольцом.
– Ну, ты уже отказалась.
– При виде кольца – это совсем другое дело. Это гораздо сложнее, – взяла я конфету и вернула коробочку Борису. – Сердце начинает подсказывать громко, облака останавливаются. В общем, тебе не понять, пойдем дальше, – спрятала я конфету в рот и стала за руки поднимать Бориса.
– Заходить не будем? Там красиво.
– Не-не-не-не-не-не-не. Не сегодня.
Мы прошли мимо Богородицы, смотрящей на нас прямо из дверей храма. Позолотили ей ручку, которая уже была натерта тысячами прикосновений. Дева Мария улыбнулась.
– Это ее сын? – спросила я, прикоснувшись к металлической руке.
– Да, Иисус.
– Симпатичная семья.
– Это точно! Как ты съездила?
– Отлично! Была на другом континенте. Дизайн в стиле ампир. Все, больше ничего рассказать не могу.
– Остальное совершенно секретно?
– Мы же договаривались – ты не спрашиваешь меня о работе, я не интересуюсь твоей личной жизнью. Лучше скажи, куда мы идем.
– Есть. Все пути в Риме ведут в траттории.
– Мойте руки перед едой, – Анна нагнулась к маленькому фонтанчику, где ангел лил воду из своих губ, набрала в ладони влагу и окунула в нее лицо.
– Ее пить можно? – наполнила она еще горсть.
– Можно. Хотя я не рискую, – стал он стряхивать случайные капли с платья Анны.
– Я думала, ты рисковый, – вытерла Анна губы.
– Так вот почему ты мне отказала? – улыбался маленькой женской мести Борис.
– Если ты про еду, то я уже готова к лазанье. Все остальное просто обстоятельства.
– Я не верю в обстоятельства.
– Правильно делаешь. Стоит в них поверить, и начинаешь соревноваться. Обстоятельство – это то, что всегда норовит нас обставить. А в лазанью веришь? – вытерла губы ладонью Анна.
– Да, я знаю здесь отличный винный погреб.
Немец
– Каждый уважающий себя политик хотел бы иметь за пазухой свою небольшую войну, чтобы можно было оперативно развести пожар в любом уголке, превратив его в уголек. Иметь в своем арсенале войнушку, которую в любой момент можно было бы закинуть туда, где срывают куш. Правда, не все отдают себе отчет, что искры от этого пожара могут легко перекинуться на соседние государства и вернуться эффектом горящего бумеранга.
– Знаешь, я не очень люблю политику. Давно уже заметила, если человек начинает говорить о политике, значит, он стареет.
– Неужели я уже так давно об этом говорю? Ты останавливай меня, если что, – улыбнулся Немец.
– Уже минут пять. Пять минут не знаю, как мне поступить – с одной стороны скучно, с другой – как красиво ты говоришь!
Город накинул темный плащ, в который стучался дождь. И плащ, и плач. Анна начала всматриваться в темноту через оптику, приближая плащ. Они шли по набережной. Он – в длинном черном плаще, она – в коротком белом. Черное и белое. Тела, внутри которых только что приятно развалился ужин и растеклось вино, двигались медленно. Ни противный моросящий дождь, ни раскачивающий Луну ветер не могли мешать их философской прогулке. Черный плащ то разводил руками, придавая своим словам больший вес, чтобы их не унесло ветром, мимо прекрасных ракушек девушки, то приобнимал сзади белый, прикрывая от сквозняка и коррозии хрупкую женскую логику.
– Если ты не знаешь, как поступить в той или иной ситуации, значит, ты изначально не туда поступил.
– Ты так считаешь?
– Мне кажется, из тебя получился бы неплохой актер.
– Неплохой – значит не сыгравший ни разу негодяя, – улыбался мужчина. – Вообще, по-хорошему после сорока нужно уходить в художники, писатели и прочее творческое безобразие. Пик гормональной активности позади, ни бизнес, ни прибыль, при всем моем уважении к богатству, уже не приносят той радости. Каким бы он ни был высоким – Эверест позади… Могу только оглядываться на белые вершины воспоминаний.
– Ну, ну, полегче.
– Ты-то еще на подъеме, я – на спуске, в базовый лагерь, греться, творить, спать.
* * *
Дождь замерзал, незаметно превращаясь в снег. И вот уже природа в бинтах, она была больна, холодна и прекрасна. Снег был белым, а ночь – черной. Анна не любила снег, но еще больше дождь.
Немец увидел девушку, облокотившуюся на парапет. Большой вырез на длинной юбке резал взгляд, потому что на голую кожу падали холодные снежинки.
– Какая сервировка.
– Вырез на платье женщины – это форточка, в которую она зовет тебя домой. Этот с ней, как ты думаешь? – спросило белое пальто.
Чуть поодаль они увидели взрослого мужчину, который находился годах в двадцати от девушки, нервно курил и посматривал в сторону выреза.
– Он не знал, как подойти к незнакомке. Стоял в стороне и ломался, будто хотел сломаться до такой степени, чтобы она оказала ему первую помощь.
– К незнакомке?
– Стоит людям только поссориться, как они начинают строить из себя незнакомцев.
– Зато можно заново познакомиться. Интересно, кто кого строит?
– Интересно, из чего? – продолжал иронизировать черный плащ. – Или лучше сказать «чем»?
– Голосом, мне кажется, у него приятный голос.
– Приятный – это какой?
– Не знаю, но видно, что она его муза.
– Муза? Зачем тогда так далеко отпустил, дурак? Он забывает, что у муз легкие крылья. Раскроют – и нет, унесло порывом ветра. Говори со своей женщиной! О чем угодно, главное – не молчи. Говори, пусть она вспомнит, что когда-то была влюблена в твой голос.
– Как ты думаешь, кто он? – хотелось докопаться до истины девушке.
– Писатель, раз она муза.
– А может, поэт?
– Для поэта староват. К тому же зануда.
– Почему?
– Разве ты не видишь, как медленно он ее убивает?
– Замораживает. Разве можно быть холодным с девушкой в такую погоду? Не убивайте женщину занудством, зачем вам в постели мертвец? Может быть, у него просто творческий кризис? – заступилась за мужчину девушка.
– Творческий кризис – это, как правило, недостаток секса, скудность половой жизни. Надо больше заниматься любовью, не будет никаких кризисов. Где койка не скрипит, там не скрипит перо. У настоящего писателя скрип койки прямо пропорционален скрипу пера. Ты не замерзла? – обнял крепче черный ворон белую лебедь.
– Нет.
– Что ты делаешь завтра?
– Кофе. А что?
– Я хочу наброситься на тебя голодным. А я пока сытый. Погуляем еще?
– Погуляем, если скажешь, о чем он пишет.
– О вечном.
– То есть?
– О своем, – заставил он улыбнуться подругу.
– Стоит как абзац.
– Ничего, помирятся завтра, начнут все с красной строки. Извини, – черный рукав достал из кармана телефон и прижал к уху: – Да, привет. Да так, гуляю кое с кем. Нет, ты ее не знаешь. Как у тебя? Снегопад? Это хорошо. Надеюсь, рейс не задержат. В любом случае посадка будет мягкой, – засмеялся. – Позвони мне сразу же по прилету. Почему ты погрустнела? – черный плащ догнал и приобнял белый, который чуть оторвался.
– Значит, я для тебя кое-кто?
– Я знал, что ты поведешься. Одну и ту же музыку все слышат по-разному: одни грустят и плачут от тоски, другие сексом занимаются и плачут от удовольствия. Коллега по работе.
– Знаешь, какая главная задача мужчины? Не быть женщиной, как бы ни хотелось.
– То есть?
– Всегда говорить правду.
Родина
«Жить стало лучше, но грустнее. Прогресс не приносит счастья. В своем чемодане он принес новые скорости, новые возможности, новые носители, новые объемы. На счастье там просто не осталось места. Сидим постоянно на чемоданах», – Анне снова дико захотелось в Рим.
Первый снег, как белая дверь, за которой мерещатся чудеса, пока не войдешь и не обнаружишь обычный холодильник, где среди замороженного ни мяса ни рыбы замороженная курочка процокает на шпильках.
Море мыслей постоянно сбивает с ног и одна самая сильная постоянно отбрасывает обратно. Плавай, пока не почувствуешь почву под ногами, берег, пока не разберешься.
Первой осечкой был лысый, бородатый мужичок. Она не знала, как его зовут, он шел под номером 1917. Начал говорить лишнее. Он так вошел в роль, что сам начал верить в то, что говорит, стал ролью партии. И партия его тенорка в этой опере стала единственной и непоколебимой. Анна до сих пор не понимает, как такое могло случиться – возможно, погода, но скорее всего, это – въедливый картавый голос, что двигал массами, как ветер облаками в небе, а потом и целыми фронтами. Но вместо обещанной манны небесной пошел августовский дождь, и, возможно, он заставил ее руку дрогнуть. С тех самых пор дождь для Анны был дурным знаком. Потом состоялся разбор полетов, точнее полета той злосчастной ядовитой пули, застрявшей в руке водящих на семьдесят лет. Она будто передавалась из поколения в поколение, как талисман, от главы к главе, пока яд не перестал действовать. Отрава распространилась на всю страну. Через время в пространство.
Памятуя о других блестяще выполненных заданиях, среди которых было убийство какого-то государственного деятеля в Сараево, от работы ее отстранять не стали… Жалко было женщину, по-видимому жену, она была молодая, будто хотела прикрыть мужа, и пуля попала ей в живот. Вторая пронзила шею ее мужа. Из раны брызнула струйка крови, которая вскоре залила всю Европу. Так с одного движения пальца началась Первая война миров.
Промахи – это то, что не дает спать спокойно. Ни ей, ни её шефу. Он все время ставил в пример ей того, первого, с которым она не смогла разобраться, а только ранила. Шеф, как завзятый психолог, внушал ей, что дело было вовсе не в августе, не в дожде, не в плохой видимости, не хватило опыта, слишком близко подошла, попала в его пространство, под его очарование, как и тысячи других, которые в этот момент, будто в летаргическом сне, творили сами не понимая что. «Либо у тебя там кто-то есть. Больше причин я не вижу. Скажи мне, что это не так». Я сказала ему то, что он хотел слышать: «Нет у меня там никого».
Шеф как в воду глядел, как глядела в воду Петропавловка. Но начни я рассказывать, начались бы лишние вопросы, трудные ответы, интимные сцены. Я оставила их в душе, но вырезала из личного дела.
Имя ему Питер. Он представился контр-адмиралом, но я не имела ничего и против мичмана, лишь бы чувства. Если бы не голод, если бы не влюбленность, я бы никогда так на нем не зациклилась, не относилась бы к нему с таким вниманием и заботой. Еще бы – общаясь с ним, я общалась с целым замечательным миром. Не человек, а город, не мужчина, а Вселенная.
Пальцем в небо попала Петропавловка. Пропадая надолго, он бросал ее в темницы Петропавловки, зато возвращаясь, они пускались в такое сладкое безобразие, когда ее молодое еще, похотливое, смазанное страстью тело елозило по шпилю от самого дна к самому небу, туда-сюда, туда-сюда, в ожидании выстрела полночной пушки, после которого, тут же, она убитая срывалась с колоннады Исаакия и разбивалась по нескольку раз за ночь. То и дело собирая себя по осколкам и поднимая по длинной крученой лестнице на вершину блаженства, вновь падала вниз, очарованная, бездыханная.
Насаживалась похотью на его адмиралтейский шпиль (впрочем, не всегда он был таковым, часто флигельком, только в ее теплом желании становился он шпилем). Она любила подолгу смотреть с моста в воду, до тех пор, пока не найдет свое отражение – «то ли нимфа, то ли нимфоманка». Город колебался тоже, пытаясь правильно ответить на этот сложный вопрос. Стены зданий расшатаны, того и гляди развалятся – как легко отражению вывести из себя! Будто глядишь утром на свое примятое сном лицо, ищешь новые морщины, чтобы докопаться до своего настроения. Испортить его в конце концов, потом быстро приводить в порядок кремом и пудрой. Корабельный гудок возвестил, что все кончено, контр-адмирал помахал мне рукой с палубы.
* * *
У какой женщины не дрогнет рука, когда любимый пропал без вести? Слезы мои застилали глаза. Я не помню, как нажала курок, будто стреляла в себя. После выстрела, очнувшись от летаргического сна на несколько мгновений, люди подхватили вождя и понесли, теперь уже имея определенный вектор, головою вперед. Теперь у них был свой мученик и святой. Этот выстрел повлиял на ход истории и на время, оно замкнулось в себе, стало пересчитывать счастье по своим законам, словно белка попала из леса в колесо, чтобы бог знает сколько крутиться в своем порочном кругу.
* * *
– Ладно, не спать, проехали, – сказал мне шеф. – Одного не пойму, неужели нельзя было пальнуть из «Авроры»? Почему стреляли из браунинга, раз вы были в Питере? «Просто я там проснулась… одна», – зачесался язык ответить ему, но я сдержалась – тогда бы мне пришлось рассказывать весь роман.
– Пойдем, кое-что тебе представлю. – Он повел меня в соседнюю комнату, где показал свою таблицу: – Вот моя бессонница!
Таблица была похожа на систему химических элементов, где у каждого был свой профиль, свой номер, каждый со своим удельным весом в обществе, со своими свойствами, связями и значениями. Некоторые клетки таблицы были пусты.
– Это для сверхновых элементов, – пояснил немой вопрос в глазах Анны шеф. И ты их должна заполнить.
«Какая рутина», – подумала про себя Анна, кивая головой. Химия ей не нравилась вслед за химиком. Вот так вот все просто у женщин, одна антипатия может вычеркнуть целую науку из твоего мировоззрения.
Анне показалось, что она даже сейчас кивнула своим нахлынувшим воспоминаниям. Она прислушалась к тишине чердака, на котором устроилась, снова посмотрела в глазок винтовки. Ждать уже было нельзя, надо было заканчивать. Она натянула курок указательным пальцем, будто тот был тетивой лука. Неожиданно к парочке подошла пожилая женщина.
Немец
– Который день? – остановила их старушка. Она была нелепой и ветхой, будто только что из преисподней. Очнулась, а жизнь уже пролетела.
– Вторник, – переглянулись плащи.
– Я думала, она денег попросит. Уже начала искать в карманах мелочь.
– Хорошо, что не год. Хотя какая разница, когда жизнь исчисляется днями недели.
– Видимо, что-то у нее пошло не так, а если что-то пошло не так, нет смысла менять дни недели, меняй сразу год, – пошутил Немец.
– Не смейся, она хорошая. По глазам видно. Хотя обычно я стараюсь не смотреть старикам в глаза. Чего там только нет. Иные – как заваленные всяким хламом чуланы.
– Я разве против хороших бабушек? Рассуждаю о своем. Еще неизвестно, каким я буду стариком. С каким чердаком.
По воде шел прогулочный катер, на борту высвечивалось огоньками «Монро». На противоположном берегу стоял холодный белый дом, словно выкрашенный снегом. Он возвышался над городом, стремясь возвыситься над миром.
– Красивая была баба. Жаль, что мало, – проводил взглядом корабль мужчина в черном, будто саму Норму в дальний путь.
– Насчет красоты я бы поспорила, но действительно жаль. Во всем виновата любовь.
– Точнее – любовники. Слишком значительные фигуры. Что ни любовник, то звезда или даже орден. Зачем женщине столько?
– Дело не в количестве, нужен был один, который мог бы подарить ей ребенка.
После этих слов девушка развернулась и посмотрела на Немца. Красота ее украшала те бриллиантовые безделушки, что поблескивали хитро всякий раз, пока она двигалась. А когда она остановилась, ее женственность стала столь очевидна, что ему захотелось взять ее и больше никогда не отпускать.
* * *
Наконец указательный уверенно потянул курок на себя. Человек в черном плаще вдруг споткнулся, затем упал на спину. Ангелы вздрогнули и, расправив крылья, посыпались с фасадов и стен. Они летели к набережной. «Неужели я забыла глушитель? – мелькнуло в голове у Анны. – Вроде не было слышно выстрела, – посмотрела она на ствол винтовки, на котором сидел глушитель. – Нет, все в порядке». Это сердобольная бабушка крошила на набережной хлеб голубям, чайкам, ангелам.
Девушка пыталась разбудить тело, то обращаясь к нему, то к снегу, то к Богу. Красота ее куда-то пропала, бриллиантовые безделушки все так же холодно блестели в темноте. Женственности и след простыл, только ужас в глазах.
Анна быстро собрала винтовку. Рим приближался вместе с сердцем, он уже стучал в висках колокольней Санта-Мария-Маджоре.
Рим. Испанская лестница
Мы спускались по Испанской лестнице. Я – как девочка, которая, то обгоняла Бориса, то отставала, то брала его за руку, пытаясь завести в разговор:
– Когда я увижу твои работы?
– Завтра. Заглянем ко мне в мастерскую, я покажу тебе свою живопись.
– Сделаем портрет?
– Я не пишу портреты.
– Ты не пишешь портреты?
– Нет.
– А мне предлагал.
– Людей с красивыми лицами можно еще встретить, но вот чтоб красивый был профиль… Редкость. Жизнь делает многих плоскими.
– Спасибо, значит, сделаешь исключение?
– Кто-то уже сделал, – улыбнулся он.
– Чао, – поскакала Анна вперед, окрыленная комплиментом.
Трехсотлетние ступени лестницы лежали как шедевры. Они устали, они отдыхали, они грелись на солнышке, они были спокойны, даже когда на них наступали. Им было все равно. В этой вечной поступи заключалась вся красота итальянского барокко. Шаги отполировали камень.
– Какая длинная лестница!
– Длиною в триста лет, – прокомментировал очередной шаг Борис. – Она никогда не реставрировалась.
– То есть такой же она была и триста лет назад?
– Думаю, и через триста будет такой же. Здесь все медленнее стареет.
– А люди?
– Такие, как Микеланджело, живут вечно.
– Он же волшебник. Если ты не приносишь в мир волшебство, зачем вообще жить?
– Вот это амбиции, вот это я понимаю. А все голову ломают, в чем смысл жизни? Оказывается все просто. Как ты до этого дошла?
– По лестнице, – засмеялась Анна. – Хорошо бы по этому каскаду ступеней пустить реку!
– Почему реку?
– Жарко очень, – остановилась и открыла бутылку воды Анна. Затем сделала несколько жадных глотков, удовлетворяя жажду.
– Это мы еще вниз идем, а кто-то наверх.
– Мы не ищем легких путей, – рассмеялась Анна, улыбка ее была, как и лестница, цвета травертина. – Хочешь? – протянула она Борису бутылку. Он тоже сделал несколько глотков.
– Почему лестница называется Испанской?
– Романтично. Честно говоря, история длинная и скучная. Хочешь, подслушаем ее в этой группе товарищей?
Рядом с нами остановилась туристическая группа. Гид не толкала, а прямо заталкивала в жару речь: – … идея сооружения лестницы принадлежит французскому дипломату Этьену Гофье. Пребывая на службе короля Франции Людовика Четырнадцатого в качестве его представителя в Риме, дипломат посоветовал монарху объединить низинную часть основания холма с расположенной на его вершине церковью Святой Троицы. Чтобы понимать, чем было вызвано подобное предложение, следует немного углубиться в историю…
– История на истории и историей погоняет, – шепнула тихо Борису Анна.
– А ты как хотела?
– Я как хотела? Как угодно, лишь бы без этого раздражителя, – посмотрела она гида, пожилую, уверенную в себе и своих словах женщину.
– Тебе голос не нравится или эпоха скучная?
– У гидов все эпохи скучные.
– … дело в том, что церковь холма Пинчо, возведенная между тысяча пятьсот вторым и тысяча пятьсот девятнадцатым годами французским королем Людовиком Двенадцатым, имела титулярный статус христианского храма, утверждавшего присутствие Франции на папской территории. Являясь оплотом монаршего семейства Людовиков в Риме, церковь Санта-Тринита-деи-Монти объединяла под своими сводами многочисленных французов, у которых в сердце все еще жила родина…
Анна услышала свою фамилию и вздрогнула так, будто, замечтавшись на уроке истории, была вдруг застигнута врасплох учительским вопросом. Она снова постаралась вникнуть в речь гида.
– …двадцатого года у подножия холма, во дворце Джованни Мональдески, обосновалось представительство испанского королевства, впоследствии давшее название площади перед ним. Влияние Франции в Европе негативным образом сказывалось на отношениях двух государств, ведущих постоянные войны. Нормализации отношений между монархиями не помог даже брак дочери испанского короля Филиппа Четвертого Марии Терезии Австрийской с Людовиком Четырнадцатым. Бракосочетание приостановило франко-испанскую войну лишь на короткое время…
– Красота, как могла, спасала мир. Странно, что сейчас не используют такие маневры между государствами ради мира во всем мире.
– Войны стали выгоднее мира. Ничего народного, просто бизнес, ее превратили в выгодное предприятие. Разве с браками не то же самое?
– Не знаю, никогда не была замужем.
– Никогда не хотелось?
– Всегда хочется, как в детстве конфет, – напомнила Анна Борису про «Бачи» в коробочке.
– …снизить напряженность между Францией и Испанией попытался французский дипломат Этьен Гофье, предложивший своему королю объединить лестницей мира представительства обеих монархий в Риме. Тактично совместив в декоративном оформлении балюстрады лилии (геральдическую символику династии Бурбонов) с орлом и короной папы римского, архитекторы наконец-то остановили многолетние споры. Гофье при жизни оставил завещание, в котором прописывалась довольно большая сумма на строительство. Однако даже вдохновленные этим власти государства не смогли сразу договориться, каким должен быть этот символ франко-испанской дружбы. Настоятельные требования Франции об установке на вершине холма статуи Людовика Четырнадцатого, восседающего на жеребце, были отклонены понтификом. Он справедливо посчитал, что памятник иностранному королю не должен украшать Рим. Таким образом, пожелание французского дипломата было отложено вплоть до смерти монарха в тысяча семьсот пятнадцатом году. Проект Испанской лестницы был разработан архитектором Алессандро Спецхи и был дополнен его соратником Франческо Дe…
– Романтичного мало, прямо как в жизни, все по расчету, – потянула я за руку Бориса, и мы обогнали процессию.
Джек и Джеки
– До Дили-Плаза подбросите? – по инерции спросил Джек водителя, когда рядом с ними остановился лимузин, вынырнувший вслед за такси.
– С удовольствием, – широко улыбнулся водитель.
Все пятеро загрузились в лимузин. Джек с женой сел сзади, остальные трое устроились впереди.
– Честно говоря, я хотел остановить такси. А тут целый лимузин.
– Президентский, – дополнил водитель.
– Вы серьезно?
– Как никогда.
– И кто из нас, по-вашему, президент?
– Судя по месту – вы.
Кену от этого стало немного не по себе. Он поправил галстук на шее и стал серьезнее, чем обычно.
– Главное – выбрать правильное авто, и ты уже президент.
– Обычно мы крышу опускаем, но сегодня такое солнце! Крышу сняли, чтобы граждане могли видеть своего президента.
– Съехала, – пошутил президент, еще не осознавая, насколько пророческими станут его слова.
– Точно, съехала. Посмотрите, что творится в городе.
Кругом галдела толпа, люди стояли на тротуарах, все ловили взглядами кортеж, пытаясь высмотреть президента, а потом просто махали руками вслед.
– Почему ты не женился на ней? – Джеки увидела в толпе большой плакат с фотографией Нормы. Шедевр Энди Уорхола невозможно было не заметить. Монро улыбалась во всю свою сексуальность.
– Опять начинается. Сколько можно, Джеки? – махал публике в ответ своей миной президент. Остальные в машине тоже натянули улыбки. Самая кислая была у Джеки.
– Она ведь такая красивая, так страстно желала стать женой президента – твоей женой. Когда она позвонила в Белый дом, я ей так и сказала: «Мэрилин, выходи замуж за Джека, переезжай в Белый дом и принимай все обязанности первой леди, ты будешь решать все эти проблемы, а я просто уеду».
– Я наизусть знаю твой разговор, он уже снится мне. Сколько можно, Джеки? Ты же обещала.
– А ты не обещал? Разве ты не обещал мне быть верным, единственным, любимым… – уже подняла свой кулачок Джеки, но Джек постарался поймать ее руку и уложить на колени. Но Джеки уже было трудно остановить: – Она родит тебе прекрасного наследника!
– Что ты несешь? Уймись, Джеки!
– Я знаю, что несу, я знаю, ты был холоден ко мне, а после того как я родила мертвого ребенка, ты стал ледовитым. Ты даже отказался навестить меня в госпитале, ты продолжал свою вечеринку на яхте, – отдернула руку Джеки, чтобы смахнуть слезы. – «Раз ребенок мертв, то чего мне спешить?» Эти слова возникают у меня в голове всякий раз, когда я слышу ее имя.
– При чем здесь она?
– При всем, я чувствую на твоей шее ее запах. Какой же ты подлец, – попыталась влепить пощечину президенту Джеки, но тот перехватил ее руку и опустил вниз. Было слышно, как Джеки всхлипывает.
– Мистер президент, согласитесь, что Даллас вас любит, – попытался выручить Джона кто-то из сидящих в машине. Лишь близкие могли называть его Джек, остальные знали его как Джона Кеннеди.
– Разумеется.
На следующем перекрестке лимузин свернул налево, на Элм-стрит.
После того как автомобиль проехал мимо расположенного на углу Хьюстон-стрит и Элм-стрит книжного хранилища, Джек вдруг сник, прижавшись всем телом к Джеки. Она обняла его, а потом вдруг отстранилась, с одним желанием – выпрыгнуть из машины, сейчас же, немедленно.
Вторым выстрелом Родина снесла ему крышу. Она успела увидеть в прицел, как девушка, сидевшая рядом, схватила голову жертвы и попыталась ее собрать, а потом, осознав что происходит, бросилась прочь из машины.
Рим. Траттория на улице Кавура
Мы зашли в тратторию на улице Кавура. Внутри было прохладно и чисто, вместо стен – стеллажи с бутылками вин всех местных сортов. Ресторан в буквальном смысле был завален вином, но так гармонично, что захотелось в нем сидеть долго, и медленно переливать из пустого в порожнее. Кухня граничила с залом, это придавало ощущение личного участия в приготовлении еды. Чувство приятной случайности выбранного места долго не покидало меня.
Позже оказалось, что Борис заранее знал, куда мы идем, и заказал там столик. Но это уже не имело большого значения по сравнению с тем, что в Риме он просчитывал мою жизнь на шаг вперед, хотя мне казалось, что я всегда бежала впереди него. А он меня догонял, брал и снова отпускал, и снова догонял. В этой демократии была заложена та самая игра, которая делает любые отношения крепче. Нет, скорее даже не крепкими, а желанными, страстными, и главное – вкусными.
Мы болтали о том, о сем, ни о чем и обо всем сразу, как два кулинара с неполным высшим. Сначала это был салат из свежих впечатлений перед горячим. Потом соус болоньезе.
Мы разбавляли томатную пасту сути горячей водой простых слов. Так бывает, когда люди действительно соскучились. Покрошили лук, морковь и сельдерей. Потом выложили все это в сотейник, залили томатным соусом, посолили реальностью, довели до кипения и тушили, тушили, тушили на среднем огне под крышкой тридцать минут. За две-три минуты до готовности Борис добавил еще мелко рубленный базилик, задав всему тон итальянской кухни.
– После обеда мы обязательно должны сходить в базилику Святого Петра в веригах.
– Обязательно, без цепей – какие отношения.
«Базилика и базилик… а интересная игра слов», – взяла в руку веточку базилика Анна.
– Я бы подумала, что эта трава растет только у стен базилик.
– Она действительно священная для итальянской кухни, ни одно блюдо без нее не обходится. Так же, как и без вина. Так что будем пить?
– Хорошие родственные связи. Тебе виднее.
– Отлично, тогда «Бароло». Лучшее красное вино в Италии. Поверь мне на слово.
– Лучшее? Не верю.
– Конечно, есть еще «Амароне» и «Барбареско», но «Бароло» – это «Бароло».
Скоро камерьери принес вино и разлил его в огромные бокалы. В них слова вырастали в объеме и тянули на роль целого предложения. Случайно оброненное слово в конце фразы, когда не терпится сделать еще глоток, хотя мысль не высказалась, приобретало многогранные ароматы и раскрывалось, становилось сложным, бархатистым, глубоким, как и само вино. Словоблудие, виноделие, чревоугодие – вот три кита, на которых стоит итальянская кухня.
– А правда, что художники много пьют? – посмотрела я на Бориса с улыбкой.
– Не то слово.
– А зачем?
– Для пищеварения, чтобы легче было переваривать происходящее, фантазия-то прет, воображение не справляется, – ответил он мне в том же тоне. Его красивое лицо улыбалось, будто впервые за много дней увидело солнце.
– Это как у подростков, когда мышцы не успевают расти за скелетом.
– Близко. Вообще многое зависит от скелета. Точнее, я хотел сказать – от компании.
– Иногда одиночество тоже хорошая компания.
– Кто бы спорил. Как тебе вино?
– Вкусное и доброе.
– Как точно ты его раскусила. Сами итальянцы сравнивают его с добрым человеком, которого ты узнаешь понемногу.
Пока мы изысканно болтали, в воздухе витал яркий букет итальянских трав. Свадьба запахов, на которую были приглашены лавровый лист и тимьян под пасту, лимон и кунжут под рыбу. Его величество фенхель с грибами, оливками и каштанами, сладкий майоран с соусами и салатами, маринованные каперсы, перец, мелисса и розмарин. Всю эту компанию успокаивал шалфей.
– Какой-то знакомый запах, ты чувствуешь?
– Шалфей.
– Точно, шалфей.
– Прям хочется его съесть.
– Как приправу в чистом виде шалфей не подают, а вот курить рекомендуют – при астме.
– Откуда ты все это знаешь? – продолжала рассматривать необычную обстановку Анна, замечая все новые детали интерьера, вроде медных столовых приборов и бронзовых салфетниц.
– Люблю сочинять на ходу, – улыбался Борис. Все было в его улыбке – и сарказм, и ирония, и самоирония, и шалфей, и базилик.
– А я поверила.
– Верить надо.
– Зачем? – посмотрела на меня через бокал Анна.
– Чтобы жить не было скучно.
А потом был соус бешамель.
Наши слова стали еще теплее, как молоко, которое мы довели до кипения. Мы следили, чтобы оно не убежало. Потом растопили в сотейнике масло, добавили муку, подождали две-три минуты и все это смешали с молоком. Так и мешали, перебивали друг друга на медленном огне, добавляя соль и мускатный орех поцелуев. Наконец соус загустел.
Сыр натерт. Духовки разогреты. Дно формы смазано маслом, там болоньезе и бешамель накрыты нежными слоями теста, которые снова будут залиты соусами и покрыты сыром.
Кухня все сильнее вторгалась в пространство зала, а повар, предчувствуя, что мы уже почти созрели, поставил лазанью в горячую печь, чтобы через тридцать минут подать ее к столу.
– Люблю большие формы, – сделала еще один глоток Анна, глядя в бокал. Произнесенное «Мы» отделилось от «формы» и упало в бокал. «Мы» вдруг стало громадным местоимением с большими перспективами.
– Да, достойный бокальчик. Знаешь, чем отличается хорошая скульптура? Ее форма выдавлена содержанием!
– Глубокая мысль, думаю, она не только к бутылкам относится.
– Нет, не только, – Борис перевел взгляд налево. Вот девушка за соседним столиком. Какой выдающийся у нее лоб, большой, красивый!
– Еще два слова – и я начну ревновать. Думаешь, ум?
– Да, сразу видно, что она умница.
– Но почему же тогда одна?
– Именно поэтому. Каждый талантлив настолько, насколько его недооценивают.
– Ты хочешь сказать, что тебя недооценивают?
– Нет, я считаю, что таланты все одиночки.
– Разве ты одинок?
– Приму за комплимент.
– Но я же с тобой, – улыбнулась, подняв бокал, Анна.
– Но ты же скоро уедешь!
– Я же ненадолго и по работе.
– Вот именно. Век концептуализма, когда идея важнее, чем сам человек. Отсюда и виртуальные миры, в которых мы проводим время. Нам уже не нужно человеческое участие. То есть нужно, но если его нет, человека, то можно заменить образом.
– И каким образом ты меня заменишь? – рассмеялась Анна.
– Образом жизни. Пожалуй, это будет самым эффективным, – выкрутился Борис.
Рим. Испанская площадь
– Твои картины очень образны, но я никак не могу их соотнести с тобой лично. Разглядывала их в мастерской, потом в галерее и не могла понять почему? Ты такой тонкий, яркий, открытый, а картины мощные, мрачные, в себе. Я бы сказала даже – не в себе.
– Я ведь тебе рассказывал, что рисую левой рукой, – засмеялся Борис.
– Нет. Я теперь поняла почему.
– Да, да, потому что я близорук, – он так и не дал закончить мысль Анне. – Многие из художников близоруки, но не хотят носить очков, они так видят. А другие дальнозорки.
– У всех художников плохо со зрением, потому что они так видят, – рассмеялась Анна.
– Точно, – подхватил ее смех своим Борис. – Только одни из них близоруки, а другие – дальнозорки. Близоруким и дальнозорким легче всего быть художниками. Достаточно снять очки – и у них уже свой взгляд на мир.
– Так вот как ты стал художником!
– Угадала. Однажды я решил написать изложение без очков, и получилась живопись, – снова рассмеялся Борис.
– Видимо, получилось неплохо. Получилось, ты так видишь.
– Не только я. Потом я организовал школу, где учились слабовидящие. Они все рисовали без очков. И каждый был художником.
– Я тоже хочу быть художником, но у меня зрение – единица. Думаю, что буду рисовать без образно, – сознательно отделила предлог Анна.
– Художник тот, кто таковым себя считает. Сегодня он не обязан создавать произведение, он может просто генерировать идею и выдать концептуальное решение для данного объекта. Я не слишком высокопарно выражаюсь?
– После второго бокала в самый раз, – улыбнулась Анна и снова взяла в руку бокал, чтобы сделать глоток. – Ты продолжай!
– В общем, сегодня важна концепция. То есть это не сегодня придумали, конечно, отголоски идут еще из семидесятых, когда на одной нью-йоркской выставке вместо представленных работ имелся только один каталог с их фотографиями.
– Это примерно как пойти в театр, чтобы просто полистать программку?
– Что-то в этом духе. Иными словами – догадайтесь сами, как это должно быть на самом деле.
– Неплохо, – засмеялась Анна, – только ведь, полистав меню, хочется и поесть.
– Меню – это и есть инструкция к образу, только блюда там должны быть как оригинальные, так и банальные, например лазанья.
– Банальная? Ты же говорил, что здесь лучшая лазанья в мире.
– Нет, сначала лучшая была в «Микеланджело» на улице Кавура, – засмеялся Борис. – Открою тебе один секрет. В Италии везде лучшая пицца, лучшая лазанья и лучшее тирамису.
– Что ты хочешь этим сказать? – чувствовала я какой-то хитрый подвох.
– Концептуальное искусство не взывает к эмоциям, его суть в игре, в угадывании, в пересечении вкусов, взглядов. На контрасте. Банальному противопоставляется что-нибудь шокирующее. Например, десерт. Здесь очень необычные десерты.
– Ты меня утешил, – сделала глоток «Баролы» Анна. – Я поняла. Художник мажет не по холсту, а по зрителю.
– Точно.
– Только как же отличить хорошего художника от плохого?
– Мажет плохой художник, а хороший попадает.
«Мажет плохой художник, а хороший попадает», – повторила Анна про себя, именно про себя, будто фраза относилась к ее профессии. Она на мгновение стала серьезной и вышла из себя. Потом вернулась:
– То есть он еще должен быть и футболистом? – рассмешила своим вопросом Бориса Анна.
– Это уже постмодернизм.
– Да, чувствую, концепта нет. Есть издевательство надо собой, но нет высокой идеи.
– Этим и хорош концептуализм, когда универсальное понятие справедливости возникает у нас при созерцании какой-то конкретной несправедливости, хотя сама эта идея скрытым образом уже существовала в нашем уме еще до настоящего опыта.
– Как сложно. Что же будет после третьего бокала? – сделала удивленно-веселое лицо Анна. – Прям боюсь представить.
– Думаю, что лазанья.
– Ладно, тогда буду считать это салатиком. Я лично думаю, что я – реалист. Реалистка.
– Еще не поздно заказать холодные закуски.
– Нет-нет-нет, я буду созерцать это скрытым образом, из старого опыта.
– Это правильно, тренируйся, созерцание делает людей чище.
– А Рим?
– Ты имеешь в виду меня? Сделал ли Рим чище меня? Эмиграция сделала. Знаешь почему? Потому что в эмиграции плохо реалистам. А когда человеку плохо, это значит, что он очищается.
– Да? А мне хорошо, – не переставала улыбаться Анна.
– Все верно. Когда человеку хорошо, он наслаждается. Сладкое в больших количествах вредно, – усмехнулся Борис. – А если серьезно, думаю, что ты здесь слишком мало жила. Мне здесь тоже хорошо, но негде черпать. Рисовать нечего. Все из памяти, все из памяти, а память-то не резиновая, не бездонная.
– Значит, на Родину пора, – улыбнулась своей фамилии Анна после этих слов, – за вдохновением.
– Я чувствую себя там туристом. Очаровываюсь, глядя по сторонам, а опуская глаза под ноги, думаю все время, как бы не вляпаться в дерьмо. Там по-прежнему обманывают бедных. Бедных обманывать опасно. Взрывоопасно.
– А мне нравится твой туристический пыл.
– Пыл – хорошее слово.
– Пыль тоже ничего.
– Это да, кто-то вечно взрослеет, кто-то все еще молодеет. Я про тебя, про тебя, – взял и прижал к своим губам ладонь Анны художник.
– А здесь что, мало реализма? Я про себя, про себя, – рассмеялась она. – Давай будем реалистами, целоваться – так в губы.
Борису ничего не оставалось, как притянуть за руку Анну к себе и поцеловать в самые губы. Губы ее раскрылись, в них Борис ощутил нотки шоколада, горных трав, черемши, мяты, шелковицы, сливы, клубники, а Анна – табака, эвкалипта и белого трюфеля. Так они замерли на некоторое время, пока не вернулись на место с приятным послевкусием.
– Это все Рим, античная среда накладывает отпечаток. Здесь-то все не мое. Куда ни плюнь – не мое. За что ни возьмись – не мое. Концептуалистам в этом отношении легче, есть чем поживиться, за что зацепиться. Они же пишут прямым текстом. Помнишь Дюшана?
– Это который унитаз на выставку притащил? Конечно, как такое забудешь.
– Весь худсалон в него долго мочился. Именно он и изобрел концептуализм. Я про Дюшана.
– И смыл все остальное искусство. Я тоже про Дюшана, – засмеялась вслед за Борисом Анна.
– Возможно, именно это он и хотел сказать. Значит, все дело в названии: «Фонтан Дюшана». Потом его волной захлестнуло искусство и других художников. Какие прекрасные безобразия они вытворяют, даже говорить неприятно, что у них там изображено, ведь совершенно отвратительные вещи, настолько отвратительные, что от картины не оторваться.
– Ты про кого?
– Взять, к примеру, русских художников: один играл пса на цепи, потом на сцене занимался с собакой черт знает чем, другой прибил себя за мошонку к площади. Площадь с яйцами, как ассоциация бабы с яйцами, другие нарисовали член на мосту перед КГБ, безобидные киски спели в храме, правда им досталось больше всех.
– Женщинам всегда больше всех достается. Потому что у них есть яйца, они не бегут, как многие. Изобразили и бежать. А вы там сами разбирайтесь, что мы нарисовали. Знаешь, иногда я чувствую себя полной идиоткой, глядя на работы современных художников, но все равно продолжаю глядеть. В чем же секрет?
– Концептуальное искусство обращается не к эмоциональному восприятию, а к интеллектуальному осмыслению увиденного. Оно не пытается вытянуть из тебя эмоцию, просто заставляет задуматься.
– Это как вино, – сделала демонстративно глоток Анна. – Вино не пытается вытянуть из тебя эмоцию, просто заставляет задуматься. Вот водка – другое дело.
– Кстати, это относится и к современной литературе. Сегодня заслуги, премии, регалии уже плохо работают, необходимы идеи. Сломана традиционная связь между трудом творца и заслугами за работу. Ты же дизайнер, дизайнеры тоже в некотором смысле концептуалисты, хотя, конечно, пользуются кальками.
– В некотором да, а в общем – ничего оригинального.
– Вот ты сейчас над чем работаешь?
– Шершавое масло, – не придумала ничего лучше Анна.
– В смысле?
– Я работаю над одним проектом. Госзаказ. Мы с группой коллег пытаемся создать шершавое масло.
– Шершавое масло? Для чего?
– Чтобы икра не скатывалась.
– Ну и как успехи? – уже умирал со смеху Борис.
– Пока никак не можем добиться необходимой шершавости.
– А какая необходима? – цедил слова сквозь слезы и смех Борис.
– Где-то девять-десять мурашек на один сантиметр в квадрате, – разрушилось серьезное лицо Анны и тоже залилось смехом.
Рим. Отель
Солнце стояло высоко, солнце стояло на своем. Где-то вдалеке вещало радио. Голос назойливый, прямо экскурсовод, этот неутомимый вибратор, жужжит и жужжит, занудный источник удовольствий. Я не любила экскурсии, я любила сама. Наконец, радио потеряло смысл, голос затих, исчез, остались только прикосновения.
Сверхчувствительность, она, оказывается, всего в пяти сантиметрах от входа. Кто-то проскакивает коридор и сразу на кухню, поесть и спать. Понятно, почему проскакивают – там в коридоре шестьсот нервных окончаний на один квадратный миллиметр.
Ах, Борис, Борис. Его пальцы – группа туристов, которая рассыпалась, гуляя по Риму, между куполами церквей, забираясь во все входы и выходы. Кому-то нравится фасад, а кто-то предпочитает забраться на задний двор, чтобы увидеть изнанку красоты. Нагулявшись вдоволь, они все собираются в условленном месте, внизу живота у фонтана. Фонтан неги – фонтан Треви, в котором каждый хочет искупаться, подобно героям известного фильма, от которого накатывает волна, и каждое движение, словно отдельное чувство, обволакивает и уносит в какую-то нежную щекотку. Будто долго-долго хочется чихнуть, но никак, в этом никак и заложено все волшебство, удовольствие, растянутое ожиданием.
Я теряю себя и уже ничего не слышу, даже собственного крика, только ритм мужского тела, который хочется нагнетать и нагнетать. Мои ногти впиваются в его спину. Дикая влажная возня частей тел, за которой как свет в тоннеле – освобождение. Дрожь в ногах, жаркое голодное дыхание, во рту пустыня, внизу – море, сжимается словно пульс, хочется вобрать в себя мужчину целиком, обострить ощущения до предела. Вдруг сознание отключается, вместо стона вырывается крик, оргазм – словно маленькая смерть, и долгий, долгий отлив. Теплое сладкое бессилие накрывает всю мою сушу.
Прекрасная пустота.
Полиглот, будто он владел несколькими языками. В его алфавите – тысячи букв, а не только G. Из них совсем не обязательно складывать слова. Все слова стары. Беспощадные гласные, которые вырывались из меня, словно названия моих новых точек преткновения:
Из меня вырвалось «а-а-а», становилось все тоньше, пока и вовсе не переходило на фальцет, к которому на вдохе добавлялась буква «х». «Ах-й-я-а, я-й-а, да, да, да», и не закачивалась, и повторялась снова и снова, до тех пор, пока не рождалось в отсутствие гласных прощальное глухое, согласное, хриплое «а-а».
* * *
– Да. Ты правильно подумал. Ты мой холст. Мой холост. Ты мой мольберт. Палитра. Дневник. Ты – мой дневник. Ежедневник. Вот кто ты! Туда я записываю свои мысли, чувства, действия. Причем! Я бегу к нему. Открываю. Каждый раз заново. Свербит, особенно перед встречей, как сейчас. Боюсь потерять мысль, а начать сначала… о-о-о-о, это столько усилий! Все время останавливаю себя. У меня там даже есть такая фраза: «Хватит писать ему. Ты жестока к нему, когда откровенна». Тебе легче, тебе необязательно писать буквами. Ты даже можешь их все закрасить. Я вижу, ты уже начал их замазывать.
– Нет, что ты, эти буквы я сохраню на память. Ты когда вернешься? Через месяц?
– Я их буду просто раскрашивать.
– Хорошо, и портрет не забудь.
– Нарисую.
– Нет, рисовать необязательно, просто не забудь.
– Не забуду.
Кофе. Утро. Аэропорт. Анна прощалась как будто навсегда.
d’Рим. Таможня
Едва Анна прошла кордон и улыбнулась таможеннику, забрав у него паспорт, ее окружили какие-то люди в форме. В спину последовал сильный толчок, Анна упала лицом в пол, а сзади на нее навалилось чье-то тело, заломив ей руки за спину, на которые тут же нацепили наручники. Лицо прижалось к полу и стало мордой, земля оказалась совсем близко, один глаз Анны смотрел на казенную обувь таможенников, другой – в темноту. Нос вдыхал реальность.
Анна Родина, вы арестованы по подозрению в покушении на убийство. Вы имеете право хранить молчание. Вы имеете право на адвоката… Все, что вы скажете, будет использовано…
* * *
Следствие длилось девять месяцев. Наконец суд вынес свой приговор, тот прозвучал как во сне. Пожизненно. Приговор вступает в силу в зале суда и обжалованию не подлежит.
Так я оказалась на зоне. Зона отчуждения, у нее свои порядки, свой строгий режим. Я представить себе не могла, насколько он строгий.
Потом были камеры, издевательства, тошнота и признания в страшных ночных кошмарах, в душном бреду пыток:
Лодки словно мотыльки, упавшие в воду. Надвигалась ночь-сладкоежка, мы ели мороженое крем-брюле из сливочного облака, мне дали пожизненное в камере одиночке с возможностью переписки, после освобождения она какое то время даже скучала. ТОЛЬКОНЕУБИВАЙТЕМОЕГОРЕБЕНКА. НЕ ТРОГАЙТЕМОЕГОРЕБЕНКА. ЯВСЕ СКАЖУ. ВСЮПРАВДУ.
Лес был полон вооруженными грибкик, пуля не дура, сколько проходит она ппежде яем дозреет до цели, чпок и все на первый взгляд, сколько звонков, нефтяной крови, фильм кро был любимым, с одним пришлось даже переспать но это скорее исключение из правил. чем он занимается, он носит пальто, сходт за хлебом, дожд. ь пошел, словно палец хотел довести курок до оргазма. ветка ползла по воздуху на меня зеленая лапа обняла меня и похлопала по спине костляв, две железеые штанины из которых струмлись красивые еоги они весло били по воде болтали. ПРИЗНАВАЙТЕСЬРОДИНАЭТОВВАШИХИНТЕРЕСАХ жизнь тцрист автобус с остановк там и здесь для фото с достопримеч как из камня так и из плоти, в чьихио обьят вам хоч остаться навсегда в какихто вы остан на мгнов остаетесь навсегда, залил вордкрафт в глаза и попядок, он был жирный как крем и не хотел впитываться, приятно было. перелетные пули, будто жила не своей жизнью, искусств словно ее напечатали на принтере, у нее отец охотник, оленина в холодильнике, пока я был на кубе, флексибл изменяет как все шведки, воткнула нож в бедро, не смей про мою дочь нож летит ручкой вниз, обстоятества это мебель, не разочаруй, не бейте девушку вдруг она станет вашей жен разочаронвание раздражение. женуто полижешь, конечно нет боюсь тебя расстроить, ты меня уже расстроил, неужели я так плохо выгляжу, вот она рвзница мужской логики и женского неуверенн в себе ты вывел меня из себя куда пойдем вся их жизнь прлетала перед ее глазами, выписывала пируеты как иной модный истребитель на лябурже, пока ее не догоняла пуля, та самая одинокая пуля что отбилась от стаи других. ЯУБИЛАДАЯЯВСЕХУБИЛА перелетных пуль и уже напрашивалась в сердце, сначала мягко, потом ноя и жалуясь словно боль, не дождавшись приема с наглостью врывалась внцтрь. а там как очумевшая от крови волчица резала одну овцу за другой. его веки антресоли заваленные усталостиью. лесопосадка, лес сел. редко словно в классе грипп, или меж грибов попадались деревья. тебя с такими рогами не пустят в маршрутку, попросят сдать в багаж, грудь ее была разбита на комнаты в каждой ктото жил ниуто нк хотел сьезжать. перелетные пули собиралм нектар, гнездились на север, рвзводились, потом улетали на юга, пепежить непогоду холода морозы, стаи пуль кояками летели, ты хитрая, после 30хитростьмудрость, стекло дня тречнуло паутиной. яблоня протягивала свои плоды… от отца только 2 морщины идущие от ноздрей книзу, 2 ноздри по наследству от материей дост улыбка. пишешь себе в стол тот не оказывается шведский. уши его лопоухи и казаллось все время прислушивались, эхо бродило под потолком, тоже хромало на букве р. лицо его слрвно эхо внутренн мира такое же грустное однотональное, голова его была завалена книгами, это не была аккуратная библиотека напротив стопки томов журналов брошюр составленных в стопки по всем углам будто собранные в макулатуру. у нее 3 книги в голове, сберегательная, жалоб и красная, когдато запущенные мозгом части тела могли запросто жить своей жизнью, ноги могли идти куда глаза глядят глаза в свою очередь, смотрели куда хотели часто даже скользя по тексту абсолютно не воспринимая содержвния, мозг злил ся конечно и все время пытаося призвать к ответу за постцпки, ео потом устав что руки делают свое, переключался на других людей. БОРИСБОРИСНЕВЕРЮНЕМОЖЕТБЫТЬони называли их обьяснительная, надо отправить обьяснительную, каждое возомнившее себя государство хотело бы сидеть и греть руки у костра небольшой войны, где можно в нужн момент приготов жаркое, но дрова трещат и искры вылетают за пределы интересов аоджигая вокр, так же как в комп можно проникнуть через вентиляцию которая его охлаждает, можно проникнуть в голову через артефакты которые возбуждают. он услышал разговор в бане, раскрыл преступление, те на ложный след, как может девочка 05 гожа встреч уйф12qc малбч и не спать, он казнил слово, получилось очаровать вместо разочаровать. она приближала чужие жизни к себе прицелом и уже не отпускала, матери писала странные письма, если диван раскладывался значит девушка правильная все получится, др нулевая отметкп, от которой мы постоянно отходим и не вернемсч, мурашек на ее коже прогнали гуси, собщения приходили все чаще, будто дождь усилился. тебе нравятся мои туфли очень особенно их продолжение, чт о походке у каждых женских ног свое продолжение, не цбивайте женщину вином оставьте ей очарования на утро. сон был в руку хотя снились руки, сон был вещий она пришла с вещами пластиковое общение. дети неизлечимы они все время хотят игр словно пойманная в пакете рыба рвался нарыжу ее раздражение, рассматриваешь будто кузов в поиске вмятин и царапин, царапины есть но они на душе и в соли не нуждаюсь. когда она будила ее в ночи своим плачем первым в ней просыпался дьявол что тебе еще нужно, мелкая бестия, давай сьешь меня ты же этого хочешь, сьешь пока я тебя не задушила, а потом уже вскакивала мама, прижимала крепко к груди смотрело ласково открывала на полную кран ласки, будь ты мостом я бы тебя развела. простыни на веревке занимались люб под открытым небом, подсмотрев уроки камасутры у хоз. стоит ли так нестись, копить по желтому свету, рисковать жизнью, чтобы потом просрать его у телека, что копить деньги и спустить одной ночью в казино все до нитки, живи кажд день как последний, в крайнем слцчае как самый первый, женщина способна на дружбу только в одном случае, если у нее уже ктото есть ОТДАЙТЕ МНЕ ДЕВОЧКУ ЯВСЕРАССКАЖУВСЕ
«Мать – это звучит пожизненно». С отбыванием наказания в колонии матерей строгого режима. Через девять месяцев я родила девочку. Назвала ее Римма, в честь Рима, чтобы она напоминала мне о моей любимой мечте. Я еще понятия не имела, что она тоже скоро станет любимой мечтой. Еще меньше я понимала, за что мне такое счастье? За него же не будет никакой награды.
«Мам, мама, мамочка! Мам! Ма-а-ам!» И так по любому пустяку. «Ну ты что психуешь? Она внимания твоего хочет! Постоянно, а как ты хотела? Она же по факту безотцовщина, ты для нее Родина. Забудь про себя, теперь только когда вырастет!» Она готова залезть на меня. Что поделаешь? Сирота: ни бабушки, ни дедушки. Хочется просто тишины хотя бы иногда. Но нет – «мам, мам, мам!»
Римма была частью меня, во время беременности и после рождения, даже когда она спала в отдельной кроватке, даже когда она играла одна, даже когда она бегала по детской площадке, она все время возвращалась в меня. Конечно, как всякой матери мне хотелось, чтобы она играла как можно дольше, как можно дольше оставляла меня непричастной, но с другой стороны, вечная тревога по поводу отсутствия такой дорогой части меня говорила, что часть эта, эта деталь, была самой дорогой, самой необходимой в машине под названием «мать, мамочка, мам», стоило только обнять, прижать, вдохнуть.
Придется опять смотреть кино, где все матери ухожены, одеты, живут практически своей прежней жизнью. Анна любила этот сериал, и все на зоне его любили. Там женщина-мать цвела. Всем хотелось быть на нее похожей. Досуг, друзья, праздники. Иногда ребенок и вовсе пропадает из кадра. Он не по годкам самостоятельный, наверняка спит в детской, пока мама гуляет с гостями. Мама постоянно путешествует, ходит в кафе, не драматизирует, скорее наоборот, романтизирует – знакомится с мужчинами, ищет настоящего, в общем, ни в чем себе не отказывает. Она отдыхает, и я вместе с ней, пока на горизонте не появится: «мам, мам, мам». Ненавижу. Жду этот крик и ненавижу. Сейчас это крик дочери Бориса – предателя. От предательства до преданности один шаг. Стоит только обнять малышку, и к ней возвращаются черты того Бориса, которого я любила.
* * *
Глядя на мой большой живот, атмосфера смилилась, мне даже предложили эпидуралку, но я отказалась, не доверяла я здесь никому. Акушерка взрослая, опытная, с умными руками, говорила, где нажать, где дышать, где тужиться. Без лишних сантиментов, не спеша, медленно повернула плод и вытащила его на свет божий, который кричал от неожиданности, что его так резко сорвали. «Девочка!» – положила она мне ее на грудь, когда та немного успокоилась. «А глазищи-то! Редко кто так открыто смотрит в первый день. Красавицей будет». Роды – сплошной монтаж, будто в магазин за куклой сходила, но вместо этого купила неприхотливое растение, теперь просто поливай и радуйся свою розу или орхидею. Выкуси – фикус. «Не верю, до сих пор не верю, что я на такое была способна». Рядом со мной теперь часть моей плоти, привязанность такая, что не только на кухню, а в туалет и душ первое время приходилось отпрашиваться у своей совести. Пеленки, подгузники, груди по очереди, потом уже смеси, пюре, погремушки. Двое – уже семья, какой-никакой, а дом. И нечего шляться, где попало. Постоянные разговоры с самой собой:
– Как же я устала!
– Соберись, тряпка. Это же твоя дочь. Она любит тебя.
– Она меня любит?
– Да, в отличие от тебя.
– Ты хочешь сказать – мне не хватает самолюбия?
– Самолюбия хватает, себялюбие хромает.
«Люблю ли ее я? Люблю. Но какой меня за это ждет приз? Никакого. Почему мамочке никто не сказал, что приза не будет?» Иногда я действительно ее любила, со страшной силой, а иногда готова была убить. Это было похоже на любовь к Борису. С одной стороны, я всеми руками-ногами не хотела верить, что он меня сдал, с этой стороны Луны я любила его, а с другой – ненавидела. С той стороны он был предателем. С другой стороны Луны еще никто и понятия не имеет, настолько ли она темная. Любовь плохо представляла себе это понятие. Она как вещество в химии, не бралась из ниоткуда и никуда не девалась. Она просто была, и она постепенно перетекала в любовь к Римме.
d’Рим. Прогулки
Прогулки были той кислородной маской, которая вдыхали в меня жизнь. Они вытаскивали меня из рутины, пока сами не стали рутиной. Площадки с качелями, каруселями и прочей ребятней. Спасал свежий воздух, в котором можно было переброситься с кем-то камнями с души, а может быть даже сыграть партию в камешки, выложив целую гору этих камней из самых потайных карманов и карманчиков. Я заметила за собой новую привычку – быть откровенной, хотя бы самой с собой. Я научилась слушать.
На прогулке легко можно было найти, с кем поговорить. В основном это были такие же мамаши, как и я. Мы топтали павшую листву, лужи, потом снег, бывших, мечты. Я играла эту роль до того момента, пока не встретила на одной из прогулок вполне себе счастливую маму – психолога, которая раз за разом, встреча за встречей раскладывала мне все мамские проблемы, пока те не разложились и не превратились в тлен.
Качу коляску по парку. Она в коляске не сидит – орет так, что облака врассыпную. Самая запара – одевать. Как вспомню, так вздрогну. Я постоянно вздрагиваю от одной мысли, что сейчас начнется. Сама в поту, а Римма за свое: «Неудобно!» – выучила одно слово и давай его эксплуатировать как меня: «Неудобно» – и попробуй что-нибудь на нее надень. В кофте жарко, носки колют, а к моменту шапки и варежек уже истерика со слезами. Сама в мыле, в пене, в ярости. Еле оделись, а ей уже надо обедать и спать.
Все это объясняла мне позже психолог, с которой я познакомилась на прогулке: ребенок все просчитывает наперед, вплоть до цвета носков, и не дай бог ты не угадала, в чем идти, куда и зачем. Действительно, падает на землю и орет. Беру Римму на руки, чтоб поднять и поставить – сгибается, как говорящая кукла, которая умеет кричать, опять падает и орет. Кошечки и собачки не работают. Не отвлечь. Успокаивается, только когда я угадываю направление ее навигатора… Назад идти сил у Риммы нет, орет, несу на руках. О, моя спина, мои руки… Думала, что на следующий год будет легче, будет ходить сама, будем гулять пешком, мне будет легче. Что-то легче не становится. Дома падает на пороге и рыдает, рыдает, визжит и опять рыдает… Я тоже падаю рядом, смотрю в потолок. Зона. «Когда же все это закончится?»
«Никогда» было мне ответом. Я посылала все на три буквы, становилось немного легче. На зоне я научилась материться. Хорошо, что Римма меня не понимает. Хотя, может, и понимает, оттого, что слова эти весят значительно больше других слов, и они, как ни странно, действуют. Магия.
* * *
Временами накрывает особенно, кричу, крою на чем стоит свет, если доводит. Может быть, это своего рода разрядка. К вечеру обычно разряжены все батарейки, день на закате, надеваем пижаму, последние конвульсии, выгибания, крики. Пришлось ответить. Вспомнить про соседей, которым отдам ее, если не успокоится. И тут. Настойчивый звонок в дверь. Обычно я не открываю. Потом стук. Смотрю в глазок. Сосед стоит в майке и трусах. Думала, что-то случилось. Главное, Римма притихла. Открываю.
– Ты! Ты что орешь на ребенка каждый день? – Мужик злой, как собака. – Ты знаешь, сколько времени? Ты спать мне не даешь.
– Я?
– Ты.
– Я вообще таким, как ты, не даю, – нашлась я наконец-то чем ответить. – Похоже, жена тебе тоже не дает.
– Я пойду в ювенальные органы.
– Иди.
– И пойду.
– Иди, проваливай. А то сейчас дочь натравлю.
Римма притихла, слушает. В любой момент готова включить сирену.
Еле вытолкала соседа, закрыла дверь. Тут Римма снова как закричит! Мужик давай снова стучать. Стукач он и есть стукач.
– Хорош мне тут стучать, – я ему через дверь. – Звонок есть.
– Хочу и стучу.
– Ну да, стукач.
– Кто стукач?
Я не ответила. Стою за дверью, меня трясет, Римка на меня смотрит, все понимает, слезы вытирает, молчит. Мне захотелось его убить. Я посмотрела в глазок, словно в прицел. Только прицелилась – он испарился в мрачных красках коридора. Подошла к Римме, обняла ее всеми своими органами опеки. Я хреновая любящая мать.
d’Рим. Свитер
Одна из мамаш подсадила меня на вязание. Мне нравилось вязать, считать узелки. Руки работают, голова отдыхает.
Сначала я связала Римме шарф, потом варежки и носки. Потом смастерила еще один комплект, на вырост. В общем, скоро дочь заняла все мои мысли, связала меня по рукам и ногам.
Мамаши встречались разные. Тем было, как правило, три. Дети, мужики, достало. Она таскали на руках своих малышей, в то время как всех женщин объединяло одно желание – все они хотели на ручки.
Они лили из пустого в порожнее и обратно. Одних хватало на прогулку, потому что своих таких откровений хватало, другие – совсем скучные, слишком поглощены своим чадом, съедены до мозга костей. Самой полезной была компания той самой психологини. Она несколько шире смотрела на вещи, связанные нами – мамашами, находилась вне матрицы. Сначала мне казалось, что мудрость ее оттого, что у нее дети и большой опыт. Мы встречались на площадке, и она проникновенным, последовательным языком давала мне вводную:
– Родители сами должны быть зрелыми людьми. Зрелые – не значит взрослые, а значит – неуязвимые, то есть независимые от чужих мнений и сравнений, от собственной зависти, злости, обиды и прочего навоза.
У многих родителей у самих целые сборники нерешенных задач из собственного детства. Травмированная психика. То есть психологически они где-то там в детстве. Вот и получается, что дети пытаются воспитывать детей. В результате родитель пытается переложить свою ответственность на ребенка, требуя от него выполнения взрослых задач. К примеру, налаживая отношения после ссоры, мамаша ждет, пока ребенок сам подойдет к ней мириться после ссоры, или начинает жаловаться ему на свою жизнь.
Родитель должен быть родителем, ответственным за отношения лицом, а не исполняющим обязанности. Ребенок ни в коем случае не отвечает за эмоции взрослых.
Потом оказалось, что дело не в количестве, просто у нее был муж, и он ее любил, и еще одна тайна жила с ней, которая открылась немного позже.
d’Рим. Замочная скважина
Я слушала и присматривала за Риммой, стараясь не упускать ее из виду.
Едва она пропадала из поля зрения, как сразу внутри срабатывала тревожная кнопка. Выбегал охранник. Оказывается, ложная тревога.
Римма забралась в пластиковую трубу, которая вела к горке. Она любила этот пластмассовый желоб, потому что посередине имелась дырка в палец толщиной. Сквозь это отверстие она разглядывала мир до тех пор, пока не находила меня. Потом начинала задорно хохотать: «Мама, я тебя нашла». Далее засовывала в дыру палец, который ловила, но больше ей нравилось в глазок смотреть.
Возможно, как и в Риме, в эту замочную скважину видны были сразу три суверенных государства. Та брешь находилась на холме Авентин. Сама же «дырка» свербила в обычных воротах, которые служили входом на виллу Мальтийского ордена. Очередь двигалась медленно, потому что все хотели разглядеть что-то важное, чего еще в жизни не видели, будто это была дырка в другую галактику. Но время шло, скоро и я прильнула к глазку, как к оптическому прицелу, и увидела сразу три цели. Это всегда создавало дополнительные трудности, надо было сосредоточиться и дождаться, когда объект не будет прикрыт другим посторонним одушевленным предметом. Вспомнился тот промозглый вечер на набережной, где бабушка кормила голубей, а Анна в своей оптической иллюзии гуляла по набережной.
– Который день? – остановила парочку старушка. Она была нелепой и ветхой, будто только что из преисподней.
– Кто там? – спросил Борис, когда я оторвалась от глазка, за которым виднелись Ватикан, Мальтийский орден и Рим.
– Не знаю. Трое их. Открыть?
– Зачем? Тебе меня мало?
– Чересчур. Вдруг это к тебе? – оторвалась от глазка Анна. – Друзья – художники. Посмотришь?
– Давай.
Художник прильнул к дырке и долго всматривался сначала одним глазом, потом другим.
– Ну что там?
– Ничего, они ушли.
Наконец, Римме надоела дырка, и она, преодолев остаток трубы, скатилась с горки и сразу подбежала ко мне.
– Мама, а ты пальчику что там говорила?
– Пальчик, как тебя зовут?
– А ты что пальчику говорила?
– Пальчик, как тебя зовут?
– А он что тебе говорил?
– Меня зовут Мальчик-с-пальчик.
– А он что тебе говорил? – продолжала настаивать на своем Римма.
– Говорил, что пора домой. Кушать и спать.
– А он что тебе говорил? – не хотела домой Римма.
– Скатись еще разок – и домой.
d’Рим. Психология
Я продолжала разбирать нити, считать узелки и делать петли.
Отношения с дочерью напоминали уроки кройки и шитья. То я любила ее изо всех сил, то крыла на чем свет стоит. Это была привязанность. Из своих привязанностей я вязала ей теплый свитер, который дочь не всегда хотела носить, то жарко, то колет, то цвет не тот. Но я продолжала вязать, стараясь углубить эти самые связи с дочерью, пытаясь связать кольчужку, в которой Римма могла бы себя чувствовать защищенной. Привязанность дает защиту от ответственности. Пока ты маленькая, я буду за все отвечать, за ложку, за горшок, за слезы, ты просто доверяй, то есть носи свитер, который я связала, ниточки которого, те самые привязанности, будут вибрировать и откликаться на каждое твое движение, на каждый твой вздох, на каждую твою прихоть. Это что-то вроде сигнализации.
Где-то в три Римма все же скинула свитер, начав отстаивать свою независимость. Если раньше она видела себя в третьем лице: «Наверное, Римме полезно есть мороженое?», то теперь «Я сама» – стало ее главным лозунгом. Мое «нельзя» упиралось в ее «нет». Так и бодались. Я ее не наказывала, как могла. То есть наказывала, а потом любила еще сильнее. Римма снова натягивала мною связанный свитер. Он уже был порядком растянут проверками на прочность: буду ли я ее любить, даже если Римма не слушается? Ее настырное непослушание и было одним из чувств, которым она пыталась поделиться. К пониманию этого я пришла не сразу.
Я постоянно ставила себя на место дочери, пытаясь разобраться, что прячется за этим кошмарным поведением, которое выходит за рамки. Холст ее переживаний был гораздо больше той рамы поведения, которую я смастерила в своем уме, будучи гуманитарием, а технари, те вообще пытаются к этой раме приставить колеса, чтобы сесть и поехать. Им важно, чтобы сидеть было удобно и комфортно.
Они относятся к жизни проще и вместо книжки на ночь – планшет под нос, и можно заниматься своими делами.
– Но удобных детей не бывает, как не бывает и удобных взрослых, поэтому не следует требовать невозможного от ребенка, – проветрила мои мысли Галя, так звали психологиню. – От всего их укрыть не удастся, никакие свитера не помогут. Дети тоже должны переживать. Важно научить их переживать разочарования. Правила и являются тем самым разочарованием. Пусть это будут правила игры. Теперь он сможет создать свои рамки дозволенного. Создать свое пространство, свой космос, с общими законами гравитации. В условиях анархии малышу будет слишком тревожно. В вакууме не на что опереться. Поэтому правила должны существовать. Только не надо возводить железобетонных конструкций, а то возведешь все в принцип, ты на своем, ребенок на своем. Гибче надо быть. Нет, необязательно садиться на шпагат, но растяжка не помешает. Я, к примеру, сама матерюсь иногда, особенно за рулем, святых на земле нет.
А вот детям грубить нельзя. Плохой пример. Я понимаю, что трудно блюсти этот принцип с человеком, который средь бела дня отобрал у тебя игрушку. Здесь уже никакие правила не работают, потому что вторглись в личное пространство, а оно свято. Иначе на компромиссах кого мы вырастим? Беспозвоночных.
После этих слов Галины, я невольно прогнулась и выпрямила свою спину.
Позвонки позвонили в ответ, но психолог этого не услышала и продолжала:
– Надо научить ребенка жить согласно внутренним желаниям, а не внешним. Чтобы в дальнейшем они выбирали профессию не потому, что она престижная или денежная, не потому, что родители захотели, а потому, что она ему элементарно нравится, она ему интересна. Другими словами, не форма прельщает человека, а содержание, то есть он сам. Так, исходя из себя, из своего существа он свободно выбирает какую-то деятельность.
Мир занимается подменой ценностей, вроде как жизнь наша внешне вполне себе гуманна, но на самом деле лишена человечности, то есть возможности быть свободным сознательным существом. То есть современность растит людей по форме, внутри которых пустота. Так вот к чему я: нельзя у ребенка отнимать доверие к собственному мышлению.
Иногда к этой лекции подключались другие мамочки, они слушали, а потом начинали делиться своим. Они все еще никак не могли пережить свое деление на мать и ребенка:
– Как же меня достало его развлекать. Вы вот как, с радостью играете со своими?
– Да, это нормально. Не нравится – не играй.
– Как не играть? Надо же ее как-то развивать.
– Я хотела сказать, что твоя задача, как родителя, – обеспечить условия. Например, организовать пространство для игры, не важно с кем, с братом, кошкой, со сверстниками, с бабушкой.
– О, брата ему только не хватало, с одним бы справиться! А бабушку – где ее взять, сначала кричала «как я хочу внука», теперь только по телефону горазда советы давать. Сама все охает и ахает: «Как мне одиноко», хоть бы раз внучку на пару дней взяла.
– Вообще в идеале научить его самому с собой играть.
– А твоя играет? …
Галина замолчала.
– Вот то-то и оно. Легко говорить, – почувствовала себя победительницей всей детской психологии одна из мам. Пришлось мне самой заступиться за науку:
– Принимай его, какой он есть.
– А я что, не принимаю? Хочется правды по чайной ложке, а тут ее целая кастрюля. И все это тоже надо принять. Короче, принимай все как есть, это лучшее лекарство от иллюзий.
– А амбиции, куда их девать? Послушать мамаш – сплошная ярмарка тщеславия.
– Амбиции… Не надо ему быть космонавтом, мало ли что ты хотела. Если ты мечтала в детстве стать актрисой, или певицей, или еще кем, не нужно хотеть этого за ребенка. Дай ему право на свою мечту.
– А мою утром так трудно одевать! «Сама, я сама!» кричит. Время идет, на работу опаздываю, ждать-то времени нет. Сидит со штанами, во мне все кипит.
– Ну ты можешь показать на своем примере, как делать то, что ей не нравится, перевести все в игру. Пообещать сладенького за выполненное задание.
– Да некогда играть, я же тебе говорю, на работу опаздываю, а ты сладенькое. Приходится самой одевать, так быстрее.
Я даже у психолога была. Говорит «надо заставлять. Лишить малыша самостоятельности, ничего не требовать – значит воспитать слабую личность, бесхарактерную. Нельзя создать ребенку тепличные условия. Задача мамы – поддержать, а не создавать ребенку дополнительные трудности. Рано или поздно ваш ребенок научится решать то, что ему по силам».
– Мне никак на работу опаздывать нельзя. Так ей треснуть хочется в этот момент!
К сердобольной маме подбежала симпатичная девочка с косичками:
– Мама, а бабушка когда приедет?
– Скоро приедет, – поправила она ей шапку. – Прилетит на самолете.
– Как же она прилетит, у нее же нет самолета.
– Она у тебя гениальная, – очнулась Галя.
– Да, гениальная. А дома тупая.
– Это всегда так, свой ребенок всегда такой – то гений, то тупой. Качели. Поэтому из родителей выходят плохие учителя. Ребенок не должен быть ни гением, ни тупым. Он вообще никому ничего не должен, он же не виноват, что его родили. Ребенок должен быть мечтой.
– Мечта… О чем ты говоришь? Моя мечта – на море летом съездить. А дети – это не мечта, это работа, со своими семейными заморочками.
– Семья есть семья. Их много, в любой свои законы. Мало ли что бывает в семье? Сестра подвела, мама накричала, папа пришел бухой. Это обычная жизнь. Быт. Рутина. С этим детская психика справится без следа. Главное, чтобы этот самый быт не травмировал ребенка. А это не травмы, это тренировки. Помогите ему переживать обстоятельства, вот как на горку помогаете подниматься.
d’Рим. Форум
Сегодня был выходной, детская площадка – как римский форум. Детей было так много, что она стала центром политической, песочной и экономической жизни парка. Где-то еще гремели высокими голосами Пунические войны, а в песочнице совками и лопатками уже строились заново храм Антонины и Фаустина, в храме Сатурна прятали сокровища Рима, а в храме Юноны чеканились монеты. В базиликах проходили массовые собрания и совещания. На рынке шла оживленная торговля, по дорогам ползли машинки, в больницах лечили раненых. И кругом радостная суета. По периметру возвышались статуи и монументы родителей из элиты и из простых. Время от времени они давали указания своим чадам или забирали их вовсе, на их месте тут же воздвигались другие статуи.
Мы болтали с одной из мамаш на краю этой Империи. Точнее сказать, она говорила, я слушала:
– Я всегда была домоседкой. Проблемы есть, конечно, но в целом я балдею со своими детьми. Одно плохо – приходится оставлять малышку с мужем. Он, блин, творец, стихи пишет, что-то бренчит себе под нос на гитаре, ролики записывает и выкладывает в сеть. Самому лишний раз памперс сменить тяжело. «Какашки – это не мое»; «Вот послушай, какую я песню записал, точно станет хитом. Скоро заживем». С какого перепуга заживем – слушаю я его нытье под гитару.
«Женщина – как гитара, чем чаще берешь в руки, тем лучше звучит». Это его любимая поговорка. Так бери чаще, что же ты не берешь? Кому, как не тебе, знать, что такое аккорды, переборы? А может, не гитара я уже, а так – балалайка. А потом ходишь и гоняешь этот мотивчик в голове, ощущая свою неполноценность, и этот напев доводит тебя до исступления.
– О, у тебя тоже гитарист? – услышала наш разговор маленькая светлая женщина с коляской, которая все время кашляла. – Меня вечно преследует это дерьмо! Кхе-кхе. Я так долго готовилась ко дню рождения старшей дочери, потратила кучу денег, сначала она заболела, потом я. Кхе-кхе-кхе-кхе. До сих пор кашель не проходит, но я не заразная, не бойтесь. На носу утренник, все было готово к нему: и платье, и заколки, даже туфельки. Что теперь делать? Дома его устроить? Нет ни сил, ни желания заниматься уборкой в квартире, салатами, даже сделать маникюр. Вот, – показала она свои ногти с облетевшим красным лаком. – Только мужу хорошо, бренчит себе на гитаре. «Все будет хорошо, я это знаю». Где оно хорошо? Где тот любимый праздник под названием Новый год?
– Вот и я говорю, – перехватила инициативу жена первого гитариста. – Он играет, а тем временем долг за квартиру растет, не остаться бы на зиму без электричества. У нас вон у соседки отключили. Вот радости полные штаны! Сердце разрывается от его песен, слезы текут. Он смеется: «Я знал, что тебе понравится. Правда, хорошая песня?». А что я могу сказать? Правда… у самой глаза грустные-грустные, и круги спасательные все темнее. Где были мои глаза, когда я за тебя замуж выходила? Закрыты. Все закрывают глаза, когда целуются. Я тоже закрыла.
Я вспомнила свои поцелуи. Где оно, это прекрасное молчание, когда только руки говорили, говорили, говорили? Руки Бориса скользили под моей рубашкой, заставляя вздрагивать от удовольствия, мои руки обнимали его, потом опускались, находя что-то твердое. Его желание меня. Любопытно было ощущать, как оно росло и становилось железобетонным. Я расстегнула желанию штаны, чтобы дать ему воздуха. А губы тем временем целовались, языки обнимались, отбросив все слова. Глаза закрыли на мораль, на этику, даже на архитектуру. Мы миловались в потемках на Виа Джулия, самой красивой улочке Рима, которая протянулась вдоль реки Тибр. Борис прижал меня к стене под одной из арок, и благодарный плющ скрыл наши тела. Я слышала, как журчит фонтанчик, влагой заполнялось мое лоно. Борис поднял мою юбку, ноги мои сами собой забрались на его бедра. Обняла еще крепче, и вот мой Борис уже внутри меня. «О, боже!» Армия мощных поступательных движений сделала меня потной, сахарной, нежной. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, – все что могли говорить мои губы после жарких поцелуев. – Да, да, да, да, да, да, да, да, – все мое женское начало уже висит где-то на волоске, над пропастью и наконец отрывается. Прорванная плотина неги, любви, сладости заполняет теплом тело. Я вскрытая, выпотрошенная, счастливая повисла на шее Бориса. Еще какое-то время мы с ним одно целое. Дышим друг на друга удовлетворенной страстью. Фонтан Виа Джулия, который на время замолк, зажурчал вновь.
– Все принимаешь близко к сердцу, даже то, что получилось через задницу, – разрушила мой Рим приятельница. Слушать не хотелось, но пришлось.
– Ощущение отсутствия мужа появилось сразу после родов. Лежала в роддоме, кормила дочь, любовалась на нее и поняла, что вот она, истинная любовь – только к ней. Потом на счастливого мужа, который, когда забирал нас, ночью укатил с друзьями, приехал нажратый, но главное – чужой, противный, хорошо, что было медосвобождение от супружеского долга. Такой противный мне стал. Чувства обрубило полностью, я не знаю, что случилось, будто центральное отопление выключили – не греет, опустили рубильник с нежными чувствами.
Живу так уже несколько лет, скучно, в плане любви – без чувств, постоянно натыкаясь на мысль: «кто ты, зачем ты и сколько это может продолжаться». Внешне – идеальная пара, в полном шоколаде, достаточно посмотреть страницу в Инстаграме. А внутри одно желание: свалить подальше, взять дочь и уйти в точку. Пока же одни запятые и обручальное кольцо на шее душит.
К обеду форум достиг таких огромных размеров, что превратился в центр деловой, транспортной и общественной жизни. Было возведено множество новых монументов.
Затем наступал некоторый спад активности, многие уходили по домам, обедать и спать. В это время на форум налетали варвары и рушили старое, чтобы, возможно, возвести новое.
В эту самую паузу, когда Римма спала в своей коляске, мне на уши присела одна с виду милая мама, сын которой ломал кем-то сложенный в песочнице замок.
Говорила она громко. Семейка варваров, убила бы, честное слово. Мне казалось, что вот-вот Римма может проснуться. Повезло им, что дочь спала крепко. Иногда она зычно окрикивала своего сына: «Не лезь в эту грязь, штаны испачкаешь, убью». Иногда мне самой хотелось ее убить, но я сдержанно слушала.
– Конечно, повезло, с одной стороны. Родители мужа помогают, как могут, никто не дает дурацких советов. Идиллия. Но вот приходит в дом ночь – и началось. Малыш практически не спит по ночам, стоит только его укачать, забраться в свою постель, как на тебе, иди сюда, то пить, то писать, то поправить одеяло. Стоит только ослушаться – начинает орать. Однажды я пошла на принцип – орал целый час. Это невозможно. Я ненавижу, нет, не сына, сына я люблю, я ненавижу всех, кто спит по ночам, потому что сама дико хочу спать! Утром валюсь от усталости, хочется кричать от усталости и безысходности, но нет никаких сил… Желание одно – поспать, даже сны, если они случаются – о том, что я сладко сплю в своей кровати.
Что-то женское из меня уходит безвозвратно, я даже знаю почему – потому что никакой личной жизни. Секс урывками, все больше дневной, стал пунктиком, просто прихотью мужа, галочкой в наших отношениях, просто чтобы он отвалил и дал мне вздремнуть. Мы в ответственности за тех, кому обещали. Согласна, только желание спать приобретает прямое значение. Я попробую тебе объяснить. Представь, что ты занимаешься всякой рутиной, бытовухой, покормила всех, сына, поиграла с ним немного, помыла его перед сном, одела, почитала сказку, уложила с большим трудом, потом пошла на кухню, стоишь, моешь посуду, задолбанная окончательно, сзади начинает тереться муж. Он хочет любви. Я хочу быстрее домыть посуду и лечь. Он: «Ты меня не любишь». – «Блин, ты хочешь любви? Дай женщине выспаться, и ты узнаешь, как она умеет любить».
* * *
Многим из них казалось, что живут они не своей жизнью, что все это некий муляж, роль, чья-то куцая фантазия, и когда они не в себе, они выходят из себя. Бац – и здесь их озаряет – вот она настоящая я. Я хочу быть такой всегда, делать, что хочу, как хочу и когда хочу. Но здесь родной голос: «Мам, мам!» Они снова возвращались к себе, к своей семейной рутине.
Судя по рассказам, выходили все. Варварства в мамах хватало, скорее всего, это те, что родили без большой любви, не в том месте, не с тем человеком. И такое бывает, спали вроде с тем человеком, а родили – уже с другим. Их было жалко, они не умели терпеть, но доля правды тешила самолюбие в их словах. Казалось даже, что все это похоже на самоиронию, как способ защиты. Самоирония – это неуязвимость. Но они чувствовались уязвленными.
– Все достало! Плач, сиська, памперсы… – Начала свою исповедь высокая дородная женщина. Я качала на качелях Римму, мамаша – коляску. – Рожай, – советовали, «отстреляйся», а потом застрелись. Родила. Говорили, второй ребенок спокойнее. Радость. Мало того что характер говно, так и кругом тоже говно. Кто-то пустил утку, что роды омолаживают. В каком месте? Скорее всего, это сказал мужик, которого самого надо заставить выносить и родить. Посмотрела бы я, как поседеют его яйца. А потом покроются скорлупой, когда румяный младенец начнет поднимать его по несколько раз за ночь. Хочется убить, чтобы спал мертвым сном. Пока он сосет, чувствуешь, как добро и зло борются в твоей крови, немного успокаиваешься и чувствуешь единение крови. Ты мой герой. Только бы уснул, в итоге засыпаю сама, зло засыпает. Добро побеждает до следующего ночного подъема.
d’Рим. Уста истины
Стоишь у кромки площадки, наблюдаешь за своей, никого не трогаешь, а люди за каких-то несколько минут успевают рассказать всю свою жизнь.
– Ты не знаешь, что такое ребенок – аутист. Это жесть. Ему уже четыре, а у меня уже нет ни любви, ни сил. Молчит, не может говорить, меня не понимает или не хочет понимать. Гадит в штаны, хотя не должен бы, ведь пазлы сложные он как-то собирает.
Младшему годик, и он моя отдушина. С ним я отдыхаю, с ним мне хорошо. Но старший… И я понимаю, что это из-за его диагноза я меньше стала его любить, и от этого еще больше ненавижу себя. Чем больше не люблю, тем больше себя ненавижу.
С болью вспоминаю, как обожала старшего в годик, когда еще не знала о диагнозе. Хорошо, хоть удалось пристроить в садик для особенных детей.
На глазах женщины выступили слезы. Она стояла рядом и качала коляску, в которой спал малыш.
Словно я была сама церковь Санта-Мария-ин-Космедин с ее Устами истины. И все мамаши по очереди норовили исповедаться до того, как им откусят руку за чудовищные мысли. Женская хитрость способна обвести любого.
Я понимала, что на деле никакой я не детектор лжи, а так – канализационный люк, сточная канава, сбрасывайте сюда все свое дерьмо. Я вспомнила Уста истины, к которым, будто неверную жену в Средние века, повел меня как-то Борис.
– Веришь?
– А ты не веришь? – усмехнулась Анна.
– Само собой, верю. В Риме полно безруких… художников, – отшутился Борис. Лично я рисковать не могу у меня всего две руки. Когда-то этот люк действительно наводил ужас на всех жителей Рима, из безобидного канализационного люка превратился в беспощадного судью. Жители боялись его как огня. Рядом находился рынок, поэтому к Устам истины зачастую приводили мошенников и воров, а также женщин, которые подозревались в измене.
– Какая несправедливость, а ты спрашиваешь, почему женщины лезут в мужские дела. Их всегда притесняли, подозревали, одним словом, не любили.
– Не любить значительно проще.
– Вот именно, пользовались. А потом – на детектор лжи, чтобы боялись.
– А как не бояться? Частенько жертва вытаскивала из пасти окровавленный обрубок руки. За мраморной маской находился палач, который отрубал топором руку лжецу.
– Это правда? Как же он решал, кого казнить, кого миловать?
– Видимо, он выбирал руки с кольцами.
– Практично.
– Или просто каждого десятого, для устрашения. В Средневековье родители рассказывали детям страшилки об ужасной маске, пытаясь приучить их к правде. Посеянный в душе страх заставлял людей еще по дороге к Устам признаться во всех смертных грехах.
– По поводу каждого десятого очень жестоко, – наконец подошла наша очередь проделать этот фокус.
– Еще бы. Боишься? – улыбнулся Борис.
– Чего мне бояться?
– По статистике человек в среднем лжет в день около тридцати раз.
– Это не про меня. Надеюсь, я не буду десятым, – сунула она левую руку в пасть судье. Внутри было прохладно, сыро и одиноко. Правда – женщина одинокая.
– Как видишь, я с тобой честна.
– Я даже не сомневался.
– А чей это портрет? С кого ваяли? – провела рукой по волосам мраморного мужчины Анна.
– По одной версии, эта маска бога Тритона, по другой – Эрколя Победителя, римский вариант Геракла. Именно он прославился ненавистью к плутам, откусывая им руки.
Рим. Отель
– Любимые уста истины. Здесь тепло и совсем не страшно, – искусно играла рука Бориса с моими чувствами, когда мы валялись в постели.
– Не боишься остаться без пальцев? – шепнула я ему тихо.
– А ты не боишься, что тогда тебе будет меня не хватать?
– Я бы сказала – не схватить. И начнется великая женская депрессия.
– Мне кажется, у тебя никогда не бывает депрессий.
– Так считают все женщины, пока их кто-нибудь не оставит.
– Не оставлю, – впился губами в мою шею Борис.
– Не оставляй… следов, – засмеялась я.
Кровать в номере была из массива, мощная, дубовая, не раскачивалась, несмотря на шторм в постели. Крышу мою снесло, она валялась где-то на полу вместе с одеждой. Утром ее надо будет чинить и ставить на место, но это будет утром, скорее всего даже днем. «Просекко» должно в этом помочь. Початая бутылка стояла прямо на полу и рядом нехитрая закуска: мое платье, белье, его джинсы, трусы, рубашка. Настоящая страсть – это когда ты не ищешь стул, чтобы раздеться.
d’Рим. Пантеон
Под ногами шуршали листья. Я переминалась с ноги на ногу, пытаясь собрать листопад в кучку. Это шуршание совпадало по тональности с речью пуховика, который пытался согреть мои уши своей философией:
– Все мы живем по законам времени, куда бы ни шли, как часы, идем по кругу. Я уже пошла на второй. У меня двое. Это капец. Я не представляла, насколько это тяжко. Кто виноват, что я не сделала аборт со вторым, сбежала из больницы? Постоянно думаю, что зря я лежала на сохранении, не надо было ничего сохранять, если не сохранялось. Кто виноват? Конечно я сама! Кто виноват, что дети бешеные, как и я? Только я! Можно было свалить на наследственность, можно было бы просто свалить, но я просто отдалась судьбе. То есть – не успела приготовить кашу – ешьте хлеб, нет чистой одежды – ходите в б/у, и плевать на общественное мнение. Пусть муж мнением занимается, а хочешь заняться любовью – искупай и уложи обоих, потом приходи, бери. Только я буду лежать как бревно, потому что устала. Ты подумаешь, я баба с яйцами? Да, только яйца давно цыплятами стали, теперь жди, пока они оперятся и улетят. Нет, женственности во мне тоже хватает, только она спит, забилась где-то в угол и спит, она ненавидит крики детей. Благо, скоро на работу выйду. Заведутся свои деньги, приведу себя в порядок, уеду на море одна, я ведь заслужила? Каждой маме это просто необходимо: почувствовать себя собой.
– Да, бедные мужики, не вывезешь бабу летом на море, потом получай люлей до самого Нового года, – попыталась я ответить в том же стиле и защитить мужчин.
– Точно, за богатого надо было выходить, тогда можно было бы и няню нанять.
– И шалаш на дворец поменять, – иронизирую я.
Пуховик отодвинулся от меня, не найдя солидарности. Многие из мам строили шалаши, в надежде укрыться там от всяких невзгод, но все это было похоже на сказку о трех поросятах, сказку, что не выдерживает никакой нагрузки, хоть психологической, хоть экономической. Шалаш – это для девочек. Мамы начинают понимать, что им нужно что-то более существенное, чем шалаш, после того как весьма эгоистично хотели обрести и развивать там любовь – свить свое гнездо в этом чокнутом мире. Но мужчина – шалаш. Милый шалаш в итоге начинает казаться подлым укрытием. Матери нужен не шалаш, а Пантеон.
Пантеоны, так я называла настоящих мужей, они, конечно, встречались тоже. Их были единицы.
Мужчины – глыбы, махины, памятники архитектуры.
Они отличались классической ясностью и целостностью композиции внутреннего пространства, величественностью художественного образа. Все как в Риме.
Их купол был умен и светел. Он образовывал для всей семьи единую оболочку, содержащую внутри все пространство, генерируя в нем тепло, решая проблемы, отметая трудности.
Я понимаю женщин, которые попали под очарование этого пучка света. Туристический оргазм. Это похоже на любовь с первого взгляда, они ослеплены точно так же, как и я первый раз оказавшись в Пантеоне, была поражена ясным лучом, что ворвался в отверстие купола и осветил все вокруг, мое темное прошлое и мое светлое настоящее. Казалось, теперь все стало ясно и понятно.
Теперь в центре их ку́пола, их жизни находится единственное отверстие, через которое они дышат, через которое в храм проникает солнечный свет. Внутренняя отделка, характер определяется редкими чертами. Каких сегодня как днем с огнем. Настоящий мужчина для женщины – храм! Храм, в который она может прийти в любую погоду, с любым настроением, в любой печали, чтобы сразу быть обласканной лучом света.
Чья-то любовь держалась исключительно на материнских чувствах, и они этого не скрывали:
– Я люблю своего, безумно. Он у меня не по залету, желанный и долгожданный, что называется – вымоленный. Кормлю сына грудью – такая милость на меня нападает. А муж целует – совсем другие ощущения. Муж – он другой. Говорят, женщина после родов остывает к мужчине. Может быть, это так, только я остывать раньше начала, мне так кажется. Хотя он неплохой, со своими тараканами, конечно, но вполне терпимый вариант. Функционал средний, материальная база в порядке, жить можно, без Парижей особых, но вполне достойно. Но как же я устала от своего любимого сына! Ему уже скоро три, до сих пор спим вместе, муж в другой комнате. К сыну привязана крепко, сначала думала, что это он ко мне, нет, я, я это поняла, когда на выходные его бабушке оставили. Он же все время со мной. Даже в туалет не отпускает, сразу ор. Накрывает его постоянно. Только родился – уже кризисы. Кризис одного года, двух лет, жить-то когда? Возможно, я сама виновата, отсюда истерики. Без меня ничего не может, как без рук. Разве что мультики. Его надо постоянно развлекать. Причем активно. Знала бы ты, как задрало меня быть круглосуточно аниматором. Он не дает мне присесть принципиально, если видит, что я села, орет, стаскивает меня. Поесть не дает, лезет на колени, лезет ко мне в тарелку или ему срочно надо в туалет. Нет, он абсолютно здоров. Думаешь, характер? Может, и характер, точнее, его отсутствие. Меня одолевают противоречивые чувства – любви и отчаяния. Он крадет всю мою жизнь. В клетках постоянно нервно. Я иногда срываюсь, кричу на него, а потом мне стыдно, я прошу прощения. В основном у себя. Жалко и его, и себя. Мечтаю о своем муниципальном. А с садами полная жопа. Ходишь в это роно, садо-мазо. Конечно, не попасть, люди в роно чаще чем в туалет ходят, годами, а там «мест нет», «ждите, мы вам сообщим». Сидят женщины-роботы, слушают твои эмоции, затем холодным вежливым языком объясняют причину отказа и предлагают подождать. Потом приходит мейл, где канцелярским языком тебе показывают хер. Делать нечего, две недели назад отдали в частный сад. Дорого, конечно, а что делать? Мне надо отдохнуть. Ребенку от меня. Мужу тоже надо, а то ведь никакой личной жизни. В общем, уже полмесяца отдыхаем. Было жалко, а теперь нет. Не жалко. Я делаю это для него в том числе. Малышу нужна здоровая мать.
Мать действительно была здоровая. Таня, как выяснилось, баскетболистка в прошлом, то грустная, то веселая.
– Я беременная, живот круглый, будто, пока бежала к чужому кольцу, мяч проглотила. Меня с детства научили дорожить мячом.
Вот от чего зависело ее настроение – то с мячом Таня, то уронила. «Опять ты залез в лужу, весь испачкался, как свинья».
d’Рим. Сады
Откровенность мам уже не пугала меня так, как вначале. Тем более у меня был консультант. Мою подругу-психолога многие из них не любили, потому что та сразу начинала что-то советовать, но в советах никто из них не нуждался. Им нужно было просто выговориться, им нужна была отдушина, чтобы проветрить душу:
– Надо просыпаться с правильными людьми, в таком случае никогда не проспишь.
– Ты знаешь, иногда очень хочется проспать. И никуда не пойти.
– А если тебя будит твое чадо?
– Ну нам еще повезло, девочки, у нас дети здоровые. То, что мы называем депрессией, называется просто рутиной, чем больше общаюсь со своей сестрой, тем больше себе завидую. Больно за нее и за всех мам особенных детей. О том, как государство жестоко накололо нас. Кругом только призывы – рожайте. А если что не так, ну там, ребенок инвалид, они сделают вид, что вас нет, чтобы вид не портить, не нарушать статистику. Живите как хотите. Главное, не фоните. Мы для статистики. Лица, ответственные за рождаемость. Рождаемость – это настроение страны, поднимается – значит, все хорошо и все счастливы. Счастливчики детей в два года сдали в государственные сады. Тем, кому повезло, в частные, те, кому не повезло по жизни, сидят с детьми дома. Вот реально, мы одни гуляем на площадках зимой, если не считать болеющих, кого в сад не пустили… Сестра сидит с ребенком дома, зашла к ней ненадолго. У ребенка полное отсутствие интереса ко всему. За полчаса устала от его нытья. Короче, у сестры сын особенный. Вообще не радуется ничему. Я устала поднимать его настроение довольно скоро. Сразу поняла, как мне повезло, и своего ребенка в этот момент стала любить еще сильнее. За свою свободу сестра платит няне, из своего небольшого дохода. И государству насрать, что у нее депрессия, самая, настоящая, и у многих других мам в России тоже. Никакой материальной поддержки, ни социальной… Таким мамам нужны няни, сиделки, помощники. Иначе это хуже концлагеря: вроде мирное время, а ты в плену у ситуации, лишенный ресурсов и сил подняться… Она, конечно, пытается работать фрилансером, вяжет еще что-то по ночам. Сколько сил надо на этого малыша. Я бы повесилась. Мы хоть можем напитываться общением с ребенком после рождения, но им это даже не снится. Знаешь, что ей снится? Больницы, диагнозы, разочарования. Потому что это и есть будущее. Развитие ребенка – сплошное отклонение о нормы от начала и до конца. И впереди достоверно точно только больницы. Я просто физически чувствую, как жизненные ручейки утекают из нее, хотя она сильная, гораздо сильнее меня. Мне хочется кричать… но я пришла домой и расплакалась и просто играла со своим ребенком. Любимым. Родным. Сестре бы тоже проще было его любить, кабы страна была по-настоящему родная. Родина, а не просто приятельница. Любовь с Родиной должна быть взаимной.
Я вздрогнула при слове «Родина» и хотела пойти к Римке, которая забралась на качели, но никак не могла их раскачать. Ей тоже нужна была помощь.
– Должна, но где ее взять взаимную? – ответила я за Родину. Точнее сказать спросила, улыбаясь тому, что у Римки стало что-то получаться. Она на моих глазах становилась самостоятельной.
– Взаимная любовь – это когда тебе дают свою взаймы, – ответила мне мамочка, которая стояла вместе с сыном. Тот ни в какую не хотел пойти поиграть и болтался под юбкой матери. – Сначала радуешься: «Ура, место в садике дали». Это отдельная история, если бы ты знала, каким трудом я его получила, место в саду у роно пришлось буквально выгрызать, если хочешь, я тебе расскажу после. В общем, начали мы ходить в сад – и началось. В какой-то момент до тебя доходит, что из-за садика вечные болезни.
Она так кашляет, кажется ребра выпадут, меня пробирает ужас, его холодок мятой оседает в желудке, натуральный физический ужас.
– Когда дети болеют – это жесть, главное – не знаешь, чем помочь. Молишься на лекарства, на врачей, – поддержала ее другая мать. – Я еле держала себя в руках, пока мужа ждала с работы. И кашель малыша уже как рэп «ты плохая мать, твой ребенок болеет, сделай же что-нибудь, сделай скорее», что сделать, я не знаю. «Кхе-кхе» складываются в минуты, минуты – в прием таблеток. Хочется сбежать, но ничего не могу сделать, и бежать мне некуда, свое же, родное. А кашель все за свое: «ты плохая мать, твой ребенок болеет». Крыша едет от его кашля. В какой-то момент я уже включала наушники и громко пела, хоть полчасика не слышать кашля, который добивает меня. Пытка, самая настоящая пытка. За что мне это наказание? Я в буквальном смысле лезла на стенку. Залезла и смотрю сверху. Начала выцеливать этот недуг. «Где ты, сволочь?»
Ощущения, как в первый год декрета, когда ребенок орал день и ночь. Я плакала, что я еще могу сделать, что еще может сделать женщина. Слезы, конечно, бесперспективны, но после них немного легче. Размякла, раскисла, раньше я такой не была. Декрет ломает женщин, хотя я по-прежнему готова на многое, лишь бы ребенок не плакал или не кашлял. Теперь я понимаю, что это за пытка.
Вышла на балкон, там геркулес № 1. С чем еще может сравнить мать снегопад? Снег огромными хлопьями, внизу каша и мужик какой-то на меня смотрит. Слезы текут по щекам, а мне все равно, что он подумает. Снежинки липнут и охлаждают горячую кожу. Снег идет, и не поймешь, то ли от холода глаза красные, то ли от слез. Их в такие моменты море. Значит, во мне еще не вся я умерла. Погода тоже рыдала. Порыдали вместе, полегчало вроде. А мужик все понял и ушел, мужики не любят женских слез, они все время куда-то уходят. Снежинка упала на самый кончик носа и принесла на хвосте щепотку новогоднего настроения. Впечатление было такое, что устроилась на работу в свою жизнь. Навсегда.
– Тоже пожизненное? Не грусти, это ерунда. Некоторые вот устраиваются на работу в чужую, вот где жопа, – ответила я без иллюзий.
– А я вообще не хочу Нового года, – встала на пенек чья-то мать, будто собралась толкать речь.
– Ты чего так высоко забралась? Может, стих новогодний хочешь прочесть? – спросила ее другая мамаша, очевидно, подруга. Обе были под пивом. Видимо, уже отмечали.
– А подарок будет?
– Само собой.
– На злобу дня. Не знаю, кто написал, но мне прямо в душу запали.
Езжай в страну, где вкусная еда. Где можно о работе позабыть Хорош менять обои Города Вот что способно перезагрузить, –поклонилась и спрыгнула с пня женщина.
– Где обещанный подарок?
– Я возвращаю ваш портрет, – подруга вручила ей начатую банку пива. – Я тоже хочу свалить… Хоть куда, даже в лазарет.
– А я хочу на работу, – похлопало в ладоши стихам розовое пальто. – Две недели без сада, пытка – дома сидеть. Я хочу в свой офис, даже без выходных готова работать. А в Новый год – в ресторан. Ресторана, конечно, не будет, но я тоже ничего готовить не буду и вообще пыжиться. Не буду ничего никому дарить. Меняю Новый год на две недели сада. Для меня такие праздники и есть будни: ссоры, выяснение отношений, ругань из-за денег, срач из-за срача в маленькой квартире, где нельзя уединиться. Две недели дома – жесть! Сегодня вышли на улицу, хоть и на больничном, дома подохнуть можно. Сплошные будни из соплей и ночного кашля, от звука которого уже все внутри переворачивается, сегодня хоть температуры нет, белый налет на горле, сука. Ангины нам только не хватало. Может быть, я кипишусь зря, температура пока нормальная, но хэзэ, что будет вечером, кроме соплей. Елку пропустили, естественно, Дед Мороза тоже, мы на него деньги сдавали и письмо ему накатали будьте-нате, но не было там слова «ангина», теперь дома хороводы будем крутить вокруг искусственной, если муж соизволит поставить. За что такие хороводы? Кругом дети, что дочь, что муж. Дедам мы не нужны. Смотрю каждый день на себя со стороны и медитирую: запасись терпением, мандаринами и шампанским. Новый год не за горами, он уже вышел на финишную прямую, он идет, он наступает и совсем скоро возьмет тебя в плен. Поставь елку, наряди себя любимую и жди. В отличие от всех остальных мудаков, он обязательно придет.
– Чувствую, всем, как и мне, надоели черные полосы в жизни? – грелась рядом чья-то мама кофе в руках. Аромат был сумасшедший, только разговор один и тот же.
– Добавь в кофе молока, материнского, – улыбнулась я.
Рим. Лимончелло
– Ты же думаешь, что сейчас мы пойдем в отель, примем ванну, я приму тебя, ты меня, в своей приемной? Как это скучно – все знать, – сказала я Борису.
Ночевали мы исключительно в отелях, дома я у него никогда не была, только в мастерской. Он жил и там, и еще где-то, в подробности я не вдавалась. Настоящий дом художника находился во Франции, в пригороде Парижа. Отели встречались разные, от хороших до дорогих. Это никак не мешало нашей перманентной любви. Я не чувствовала никаких сквозняков, хотя казенная любовь всегда отдает неким холодком, особенно в дождь.
Мы сидели в самом сердце римского квартала Монти на Виа Урбана, в тепле у камина, после того, как прошлись по нестройным рядам магазинчиков и ремесленных лавок, после того, как нас прогнал с улицы дождь. Кофе и мороженое с горгонзолой – этого было достаточно, чтобы вкус Италии оказался у меня в сердце. Борис заказал себе лимончелло с водкой.
– Ужасно скучно. Может, объявить неприемный день?
– Я смотрю, тебе нравится паршивая погода. Я не люблю дождь.
– От дождя до солнца один шаг, одно облако.
– Это была туча.
– И тучи сгустились над Римом, – иронизировал Борис.
– До сих пор не могут разобраться, за что его так.
– Могут, но не хотят. Ты про Рим?
– Я уже про Кеннеди.
– Когда своя жизнь надоедает, мы принимаемся за чужую. Она желаннее, – отпил лимончелло и поморщился с большим удовольствием Борис.
– Неужели и в политике все зависит от желаний?
– Еще больше, чем в сексе.
– Расскажешь? Я про Кеннеди.
– О, это долгая история, – посмотрел на свою опустевшую рюмку Борис.
– Мы же не торопимся, – набрала в ложку мороженое Анна и стала его медленно слизывать.
– Идея приватизировать печатный станок витала в воздухе давно, со времен Ротшильда, но осуществилась только при Вильсоне, был такой президент, который в обмен на поддержку своей предвыборной кампании создал Федеральный резерв США, а по сути – купил себе кресло президента. Так банк назывался для всех, хотя на самом деле был частной лавочкой. «Я случайно разрушил мою страну», – скажет на пенсии Вильсон. Могучая кучка миллиардеров приватизировала станок для печатания денег. Кеннеди был нанят.
– А президентов нанимают на работу?
– Мне кажется, так везде.
– Представляю, листаешь так газету. О, есть вакансия президента страны, приходишь в отдел кадров, сдаешь документы, тебя берут – и давай руководить.
Борис рассмеялся:
– Да, да. Еще хуже когда приватизирован народ.
– Как я поняла, Кеннеди был убит за то, что решил вернуть государству законное право печатать самому свои деньги.
– Может быть, хватит уже о политике, поговорим о любви? – повторил Борису выпивку камерьери.
– А я о чем? Я же о любви и говорю. О любви Родины к своим героям.
– Это антилюбовь.
– Кстати, у меня фамилия Родина.
– Забавно. Значит, ты хочешь узнать все о своих родственниках, – улыбнулся Борис. – То есть рассказать тебе эту историю до конца?
– Да, должна же Родина знать своих героев, – как-то нервно рассмеялась Анна. Ей было интересно узнать подноготную того парня из лимузина.
– Кеннеди подписал указ, дающий правительству США право выпускать деньги в обход Федерального резервного банка, который печатал деньги, а по сути – продавал их правительству Штатов. Одним словом, он возвращал государству законное право печатать самому свои деньги. Хозяева резервного банка сочли это страшным предательством. Ведь именно они ставили его президентом. Банкиры страшно испугались. Ясно было, что за этим указом последует полное отстранение их от печатного станка. Они поняли, что медлить больше нельзя. В тысяча девятьсот шестьдесят третьем году Кеннеди был застрелен.
– Двадцать второго ноября. Это я помню, – вздохнула Анна.
– Не вздыхай так, Кеннеди не первый, кого застрелили. До него был убит президент Линкольн.
– Его убили по ошибке. Наводчик ошибся на сто лет.
– Наводчик?
– Точнее сказать – наводчица. Все из-за того, что у них было слишком много общего. Оба были избраны в конгресс с разницей ровно в сто лет, Линкольн в тысяча восемьсот сорок шестом году, а Кеннеди – в тысяча девятьсот сорок шестом году. Оба избраны президентами США. Линкольна избрали в тысяча восемьсот шестидесятом, а Кеннеди – в тысяча девятьсот шестидесятом. Обоих застрелили в голову. Обоих застрелили в пятницу. Секретаря Линкольна звали Кеннеди. Секретаря Кеннеди – Линкольн. Преемники Линкольна и Кеннеди носили фамилию Джонсон. Линкольн был убит в театре «Кеннеди». Кеннеди был убит в автомобиле «Линкольн». Убийца Линкольна сбежал из театра через чердак. Убийца Кеннеди бежал с чердака в театр.
– Ну да, стреляли по чердакам, а сделали из всего театр. Вот тебе пример чистого концептуализма. Откуда у тебя эта история?
– Просто красивая история.
– Истории свойственно повторяться, – почти не удивился совпадениям Борис. – Тем не менее американцы вроде бы неплохо сейчас живут, но!.. – многозначительно поднял он свою рюмку, – за счет остального мира. Зная последствия, Вильсон мог бы перефразировать: «Я случайно разрушил весь мир».
Он сделал глоток и добавил:
– А ты откуда про Линкольна знаешь?
– Я там была.
– Все там были, столько раз прогнали запись туда обратно. А насчет была там – шутка хорошая. Даже слишком хорошая для просто дизайнера.
– Я не просто дизайнер.
– Ты антидизайнер, – рассмеялся Борис.
– Значит, цепочка выглядит так: сначала Монро, потом братья Кеннеди.
– И Уорхол, как непосредственный художник событий, ранен. Это был тот самый загадочный треугольник, можно сказать – Бермудский. Сначала Мэрилин Монро, потом Кеннеди, сначала младший брат, потом старший. В Уорхола просто срекошетило за то, что он сделал эпическую картину Джеки, и не дал пасть духом стране. Родина всегда была жестока со своими героями.
«Если бы ты знал, как трудно быть жестокой! – снова услышала свою фамилию в словах Анна. – Будь я так жестока, он бы не выжил».
– Ты же слышала про Уорхола?
Анна замешкалась с ответом.
– Ну, как же! Его знаменитое: «Я художник до мозга костей. Не просто рука моя рисует то, что глаз видит, нет, каждая клетка во мне нервная, и из нее прет. Я – произведение искусства, личность, а картина или книга – это только одна из ксерокопий, причем не лучшего качества. Не будь меня, не будет и произведения искусства». Такая суть.
– Да, да, я помню. Ранила его в живот. Одна муза, – исправилась Анна. – Вот только не помню за что.
– Точно. Он никогда не был посредственным. Одна гениальная идея сменяла другую, уже после рекламы Coca-Cola он смог жить не по средствам, – продолжил игру слов Борис. – Пока в шестьдесят восьмом году какая-то радикальная феминистка не выстрелила Энди три раза в живот. Художник пережил клиническую смерть и пятичасовую операцию. Самое интересное, что Уорхол отказался давать обвинительные показания в отношении стрелявшей. Он сделал из этого покушения еще одно произведение искусства. В дальнейшем в его картинах начали преобладать темы насильственной смерти, катастрофы. Боязнь смерти и увечий Уорхол выражал посредством изображения электрических стульев, самоубийств, аварий, похорон, ядерных взрывов.
– Мрак.
– Да нет, просто переживал парень. Его гениальная работа траура Жаклин Кеннеди, посмертные портреты Монро. Может быть, ты видела его «Катастрофу с тунцом», с газетными вырезками и двумя женщинами, отравившихся консервированным тунцом из жестяной банки?
– Да, что-то припоминаю, – вспоминала Анна Уорхола, упавшего на пол в своей киностудии после ее выстрелов. Катастрофа в лице одного человека. Ей действительно не хотелось его убивать. Ей не хотелось убивать художника. – Хорошо, что я его не убила.
– Рука не поднялась, и правильно сделала, – рассмеялся Борис. – Одного не пойму, зачем было стрелять три раза?
– Триптих. Заказали триптих, – первое, что нашла в голове Анна.
– Думаю, Уорхол оценил бы твою шутку. После покушения он переродился, будто в нем убили ребенка, он начал жестче экспериментировать с искусством, а для других просто сбрендил. Облил краской свою тачку, чтобы передать образ скорости.
– И что? – нисколько не зацепило Анну.
– Тогда это было чем-то новым, необычным. Возможно, из-за того, что к авто по-другому относились. Для 1979 года, когда он раскрасил собственный автомобиль, чем Бог послал, это было круто. Художественный образ, движущийся в пространстве, как новый мазок в истории живописи.
– А в чем фишка?
– Картина, если машину можно так назвать, должна была раскрыться в движении. Он показал миру, как выглядит скорость. Попытка передать абстрактное. Похоже на съемку фотоаппаратом на большой выдержке. Когда авто движется на большой скорости, все линии смазываются в одно пятно.
Иногда Анна исчезала из эфира, слух ее отключался, она просто наблюдала за Борисом. Как он был ровен, спокоен, с одной стороны уверен в себе, с другой – безразличен и даже ленив. Она пыталась понять его темперамент, услышать ритм его сердца, где ускоряется, где замедляется. Уравновешенность Бориса так ее пугала, что даже мурашки по коже бежали врассыпную. Неужели влипла? Все это ощущение можно было назвать позитивом. Его большая светлая голова, словно купол собора Святого Петра, блистала умом и выразительностью. От голоса несло умиротворенностью. Только чувства были закрыты где-то глубоко, лишь темные глаза и мимика время от времени приносили весточки от них. Руки медленные, но сильные и уверенные. Вот бы они меня сейчас обняли.
– Кстати, знаешь, что именно дизайн принес первый успех Уорхолу? Потом были банки супа Кэмпбелл. Суп отразил всю безликость и пошлость масскульта, убогий менталитет западной цивилизации.
– Он был теплый? – снова посмотрела на сильные руки Бориса Анна.
– Кто? Суп? – рассмеялся Борис. Он получал удовольствие от неожиданных выходок Анны, они озаряли все вокруг, как неожиданные выстрелы в благопристойной тишине общения.
– Да.
– Скорее всего, нет. Вообще все картины Уорхола довольно холодные, в кислотных тонах.
– Значит, ты не пробовал этот суп?
– Нет, я не люблю консервы. Консервы – это для консерваторов.
Иногда Борису было трудно понять Анну. Он смотрел в ее красивые глаза. Искренние и чистые. Не очень большие. Яркие, эмоциональные, они полностью зависели от настроения, которое могло качнуться просто от подземных толчков. Возникнуть из ниоткуда, «вдруг», потом уйти в себя. Природная естественность Анны только усиливала любые проявления эмоций. Подсвечивала. Только что было темно, и бац, включился свет. Брызнули яркие, сильные эмоции через немного торопливую речь и жесты, но это были не нервы, это она сама. Лампочка. Ему неожиданно захотелось ее обнять. И поцеловать. Неужели влип? Стоит только влюбиться, и мир больше не крутится вокруг тебя, он начинает крутиться вокруг предмета твоей любви.
– Я думала там все романтичнее: роман с Монро, ревность, измена, жена застукала.
– О, это была только красивая фата для народа. Горько! – допил водку Борис, обнял Анну, которая сидел совсем рядом и поцеловал в самые губы.
– Горько, действительно, горько, – освободилась от объятий Анна, чтобы заесть поцелуй мороженым.
– Водка разрушила семью, – улыбнулся Борис.
Рим. Отель
Ночью мне почти не спалось и снилась какая-то ерунда.
Вечер! Темно, иду по дороге встречать Бориса. Подъезжает машина, полная незнакомых людей, со словами: «Ты Бориса идешь встречать?» Я в ответ: «Да!» – «Мы знаем, где он; давай довезем». Я: «Хорошо!» Везут, я понимаю, что что-то не так. Спрашиваю: «Куда мы едем?» Парней было несколько, всем около тридцати. Услышала в ответ «молчи!», отключили меня. Проснувшись, я оказалась в незнакомом доме, одна, пристегнута наручниками к батарее. Батарея горячая, мне жарко, часы отбивают десять раз, входит человек, я спрашиваю: «Что вы хотите со мной сделать?» Ответ: «Молчи!» И тут я понимаю, что нужно предпринимать меры, иначе я сойду с ума. Я отвечаю: «Я хочу в сортир». Он расстегнул наручники и повел меня через комнату, где сидела за столом вся компания, и самое кошмарное, что среди них был Борис. Он увидел меня и отвел глаза. Мне захотелось крикнуть: «Борис!» Но не смогла, голоса не было. Сортир находился на улице, вокруг – огороды, я поняла – вот сейчас нужно бежать. Выйдя из туалета, я перелезла через забор и побежала через эти огороды. Бегу по полю, самой страшно, очень страшно! Снова слезы, оборачиваюсь и вдали вижу: светят фонари, и те люди бегут за мной. Сердце бежит впереди меня. Споткнувшись, падаю в яму, чувствую что-то мягкое. Мертвая Мэрилин Монро. Слышу – они ближе и ближе. Ничего не оставалось сделать, как укрыться ею. Безумный страх сковал меня, хотелось кричать, но я не могла. Они прошли мимо со словами «найдем суку – убьем». Когда стихло, я выкарабкалась из ямы и побежала снова на огни. Впереди было шоссе, стала тормозить машины. Наконец одна из них остановилась, за рулем сидел шеф, я села в машину. Он довез меня до дома. Дома меня ждали родители. Они отругали меня, спрашивая, почему я не отвечала на звонки. Проснулась вся в поту от звонка телефона. Звонил Борис.
– Как спалось?
– Кошмарно.
– Бывает. Какие планы?
– В душ пойду, – сонно ответила я.
– Отлично, тогда заеду через час. Поедем на дачу Боргезе.
– На шашлыки?
– Проголодалась? Я постараюсь быстрее.
– Хорошо, – повесила я трубку.
Рим. Виа Маргута
Мы с Борисом шли по скромной улочке в самом сердце Рима, передавая бутылочку друг другу. Вино приятно щекотало душу. Стены, выцветшие от времени, как старая одежда, что сушится после стирки, нависали над нами и, кажется, даже прислушивались, пытаясь понять, о чем мы говорим.
– А что с современным искусством сейчас?
– Сейчас оно живет по законам большого и малого бизнеса, первые продаются, вторые торгуются, – не без сарказма ответил Борис. – В основном все устаканилось, галеристы бдят своих коллекционеров, те, в свою очередь, не хотят выбрасывать деньги на ветер. Одиночки убиваются или рожают на публику. Войны, эпидемии, миграции, все это снимается как кино, с нескольких камер, с хорошего ракурса. Случаются, конечно, и разные мистификации.
– А в России?
– В России современного искусства нет, есть классика жанра, есть неплохие копии Запада, впрочем, как и в литературе, как и в музыке. Видимо, передышка. Какие-то вспышки, факты скорее подаются как политические акции, чем как чистое искусство. Вообще там еще с советских времен все оценивается с политической точки зрения. Врагов рисуешь или своих? Сейчас вроде как стало свободнее, но мерила те же. Подумаешь, кто-то спел в церкви. Баптисты и сектанты на Западе давно этим живут. Они еще в старину устраивали ритуалы и шабаши с коллективным сексом и бог знает чем еще. Это все повторные концерты.
– Гастроли.
– Точно, сразу видно, что ты дизайнер, даже слова под обои подбираешь.
Анна очаровательно улыбнулась уже седеющим вискам Бориса.
– А почему тебя так интересует Россия?
– Давно там не была.
– Собираешься?
– Может быть. У меня там есть даже какие-то старые корни.
– Седые? – пошутил Борис.
– Да. Надо бы их прокрасить, – поправила я волосы, будто хотела, чтобы они это услышали.
– Красивая улица, – остановилась я возле очередного фонтана.
– Здесь живет богема Рима, по крайней мере, я знаю пару художников.
– Должно быть, у них дорогие картины?
– Ну, не дороже чем «Римские каникулы». Главный герой фильма жил именно на этой улице. Ты, наверное, знаешь.
– Правда? Джо Брэдли? Симпатичный журналист. И квартирка миленькая. Помнишь, как там принцессу застукала горничная?
– После этого фильма богема сюда и потянулась. Даже Феллини прикупил себе здесь квартиру, чтобы жить со своей Джульеттой.
– Настоящий Ромео, – засмеялась Анна. – И художник от Бога.
– Художники все от Бога, – ревностно заметил Борис. – Либо от Бога, либо от России.
– В чем разница?
– В России художникам плохо. Раньше было хорошо, когда всем давали мастерские, а государство гарантированно покупало работы у членов Союза художников. Хотя до сих пор считается, что Россия – страна возможностей. То, что делается там с помпой или с бомбой, приносит известность. Знаешь, с некоторых пор я понял, что популярность очень зависит от совпадения координат, в нужном месте, в нужное время, вот тогда твоя звезда может взойти в мгновение. Даже если это кто-то раньше уже делал. Россия в этом смысле – очень плодородная почва, и не потому, что ее здесь непаханые просторы, просто в другом месте этим никого не удивишь. На Западе вообще трудно кого-то чем-то удивить, вера в чудо здесь минимальная. Здесь все уже было. В России рамки еще остались. И люди не торопятся за них выходить, тем более произведения искусства. Не случайно все новое приходит с Запада. Россия живет по франшизе. Сегодня дешевле купить франшизу, чем придумать свое. Придумывать некому.
– Шизы здесь хватает. Один Микеланджело чего стоит.
– Вот и я говорю, что хватает, а там – нехватка. Я не знаю, будет ли после что-то еще более грандиозное. Настоящий художник – он смелый. Он твердо стоит на своем. Стоит и приколачивает.
– Сидит.
– Да, уже сидит и приколачивает.
– Остальные «Войну» разведут и бежать. Бегут, чтобы избежать наказания, значит, чувствуют за собой вину. Настоящий художник понятия не имеет, что совершает нечто запретное, он просто творит. Зло или добро, это не важно. Потом искусствоведы наверняка разберутся.
– Просто творит, – тихо произнесла Анна и задумчиво посмотрела на Бориса. Ей стало необычайно легко, то ли вино подкралось совсем близко к сознанию и избавило от вины, то ли просто давно хотела услышать эти слова.
Было заметно, что Борис болел Родиной, он любил ее, он жил там, хотя находился здесь. Его постоянно тянуло на Родину. Ее все время подмывало спросить: «Тянет на Родину?» Но потом она вспомнила свою фамилию и только улыбнулась про себя.
– …опять-таки он стал таким известным в мире только потому, что все свои акции устраивал в России, – упустила Анна, о ком говорил Борис. – В Париже и в Риме этим никого не удивишь. Здесь все уже ели этот сыр и пили это вино, это для нас оно кровь, а для изощренных французов это обычное красное пойло, можно сказать… кто-то действительно верит, что создал новое направление в искусстве. Последнее, за которым уже ничего нет. И так с каждым художником. Интересно, будет ли что-нибудь после него? Тут хоть бы запятую оставить, – улыбнулся Борис ровными красивыми зубами почти счастливого человека. Она слушала то, что они говорили, то внимательно, то отвлекаясь на свои будни.
Анна видела, что Борис до сих пор переживает свое бегство, но только теперь до нее дошло глубокое одиночество того марафона.
– …никакой он не сумасшедший. Нормальный человек. Он не вредитель. Он как раз людям хочет пользу принести таким способом. Они не знали, что с ним делать, просто избавились, сослали во Францию.
Только сейчас Анна поняла, что Борис, рассказывая о разных русских художниках, рассказывал о себе.
– Замечательно, что он смог монетизировать свои способности. Это здесь не всем удается, – посмотрел на свои дорогие часы Борис. Видно было, что время дорого для этого человека. Это тем более подкупало Анну. Как много личного времени он отдает ей. Даром.
– Здесь главное не упустить свое время, если хочешь продаваться при жизни, а не потом, когда тебе все равно. Художника же со всех сторон прессуют – давай-давай, выдумывай, ты обязан уже что-то делать. Надо торопиться, чтобы пожить на этом свете, чтобы было чем за него платить.
– Вот почему современное искусство порой некрасивое и какое-то примитивное, в стиле «я смог бы и лучше»?
– Искусство – как вирус, который постоянно мутирует, приспосабливаясь к новым реальностям. Оно все время в противоборстве с техническим прогрессом. Стенобитное орудие. Бьется в него, как в стену, потом откатывается назад, деградирует, затем предпринимает новые попытки, порой идет на компромиссы, особенно сегодня, когда каждый сам по себе, искусство и хочет, чтобы его работы стоили дорого, будь то стихи, фотографии или ролики из серии: как я провел этим утром. Конечно, это ведет к примитивизму. Откатываясь назад, искусство вынуждено пройти путь заново. Вроде как квест не пройден, попробуй еще разок. Постарайся придумать что-то новенькое. Новизна – главный критерий оценки искусства. Термины тоже изменились: «прекрасно» уже не звучит. Все говорят «концептуально», «работы» – ретро, теперь – «объекты».
– Лишь бы это не перешло на людей.
– Вчера на Виа Маргута такую концептуалку встретил!
– А я с таким объектом вчера вечер провела! – сквозь смех подыграла Борису Анна.
d‘Рим. Море
Все это время Анна боялась одного. Одного простого вопроса. Будто кто-то долго целился в нее, и в один неожиданный момент должен был выстрелить.
– Кстати, где наш папа?
Она всякий раз рисовала в голове эту сцену, прописывала сценарий, придумывая все новые и новые реплики. И всякий раз мысли заставляли сердце ее биться чаще, будто она впервые выходила на эту сцену.
– Папа? – переспросила я, пытаясь использовать паузу, чтобы найти лучший ответ.
– Папа, – повторила Римма.
Какой-то запах родной и пряный проник в самые мозги. Борис. Его небритая щека царапала воспоминаниями.
«Скорее всего, в Риме. Где он еще может быть, мой любимый художник? С той последней встречи прошло уже два с половиной года. У меня не было никаких новостей, кроме своих собственных сомнений. Качнуться вправо – это не он, качнуться влево – а кто еще мог меня сдать, и снова качнуться вправо и слезть с этих качелей. Сесть на диван после целого дня, проведенного на ногах. Ощутить песок между пальцами. Закрыть глаза, услышать морской прибой и почувствовать теплый бриз. В тот последний день мы с ним выехали из Рима к морю.
Солнце прожигало небо, немногочисленные римляне прожигали на шезлонгах жизнь. Голубой горизонт так и манил. Мы подошли к нему как можно ближе, разделись и зашли в море, несмотря на прохладную майскую воду, в которой тело мое тут же атаковали мурашки, словно сидели там и ждали, когда я появлюсь. Они облепили меня, едва я окунулась. Борис бросился в воду со всей яростью художника-реалиста, с брызгами и криками, и, отплыв на некоторое расстояние, остановился, чтобы посмотреть на меня. Махнул мне рукой, подзывая к себе. Я покачала головой в ответ. Холодная постель, в которую мы нырнули, никак не хотела согреваться. Меня хватило, чтобы нырнуть пару раз. Борис тоже не заставил себя долго ждать.
– Какая соленая вода, – сказал он, едва мы вышли на берег.
– Я бы сказала – холодная, – бросила я всю свою кожу на солнце, пытаясь отогреться.
– Вижу, ты не хочешь уезжать, – прижал меня к себе Борис. Я вмиг устроилась у костра его сердца. – Все будет хорошо. Ты вся в мурашках. Волнуешься?
– Жутко.
– Я тоже жутко… голоден. Что у нас на обед?
Я пожала плечами и поцеловала его в соленые мокрые губы.
– Ты замечательно готовишь, – засмеялся он, едва наши губы дали друг другу независимость. – Я бы сейчас с удовольствием вздремнул.
– Здесь?
– Да, залег бы к тебе в душу и сладко уснул.
* * *
– Да, папа, – повторила Римма и потянула меня за платье.
– На работе, в Риме.
– Во мне? – оглядела себя дочь. Она уже пыталась паясничать.
– Город такой, помнишь, я тебе рассказывала?
– Помню. А когда папа приедет?
– Не знаю.
– Когда закончит свою работу?
– Скорее всего.
– А когда он ее закончит?
– Откуда я знаю?
– Ты только не волнуйся, мам.
«Как я могу не волноваться?» – ответила я ей вопросом про себя.
– Ладно. Вернется. Я подожду.
И тут, все на том же пляже, будто камнем в меня запустили: – Знаешь, что моя сегодня сделала? Кровать маркером изрисовала.
– Каким маркером? – очнулась я глядя на молодую мамашу в зеленом платье, что появилась рядом.
– Синим.
– И что?
– Ты что, говорю, делаешь? А она мне: ничего не делаю, и красит дальше. Я у нее фломастер отобрала, она в слезы: «Это мои фломастеры, мне папа их подарил!». Я ей: «А если папа увидит? Он знаешь, что с тобой сделает?»
– Что? – я уже не слушала зеленое платье.
– Она у меня то же самое спросила.
– Да ничего он не сделает – ответила я. – Ничего ты не понимаешь в искусстве.
– В смысле?
– Все папы обожают дочерей.
– Это точно, я ругаю, а он просто обожает. Я плохая, он хороший. У тебя тоже так?
– И у меня так же, только наш папа бог знает где.
Рим. Отель
Сильные теплые точные пальцы спускались и поднимались, они знали, куда идут и зачем, они искали меня, настоящую. Нашли, чтобы убить удовольствием. Я истекала прозрачной кровью, я умирала от любви.
Они уходили и возвращались вновь, перебегая от одной точки к другой. Оставляя фото жертвы на память. Точка здесь не одна, как кажется обывателю, и не две, и даже не четыре, как кажется профессионалу, их тысячи. Многоточие – вот что является главной силой любви. Туризм – это тоже своего рода секс, мы забираемся все дальше, все глубже, иногда в самую клоаку и стимулируем, чтобы получить как можно больше наслаждений. При сильном возбуждении ткани души начинают сильно сокращаться и приносят удовольствия. Двигаемся от одной стенки к другой, быстро, медленно, замираем, останавливаемся, ищем ракурс. Ищем эрогенные зоны, стимуляция которых дает нам полный спектр эмоций и переживаний, любви и привязанности к городу, доставляя особо острый и яркий оргазм – культурный. Красный, желтый, синий, кремовый… кремовые стены Рима. Каждый турист, сколько бы раз он там ни был, мечтает снова оказаться в этом креме, вновь заняться сексом с Римом, потому что каждый раз он находит там новые и новые сверхчувствительные участки своей души.
Сытые и пьяные от любви, мы валялись в постели, то касаясь друг друга, то политики и искусства:
– Не всегда, конечно, так получается, как планируешь, но тем не менее жизнь не может состоять из одних минусов, потому что они пересекаются и дают плюсы. Бесконечность, по сути, тоже минус, пересеклась с другой похожей, оп, плюс еще одна вселенная. К чему я клоню? Плюсы демократии и технологий повлияли на искусство. Теперь каждый сам себе искусствовед, и каждый пытается оставить след на мировом холсте. Толпа съела индивидуальность.
– А шредер – холст. Слышал эту историю? Так что можно нарисовать и пустить холст через шредер.
– Или не резать, оставить просто холст, потому как всякий мазок уже грязь, чистотой ты вроде как уже что-то сообщаешь. Но сегодня даже к чистоте есть претензии, чистота не стерильна, поэтому дело дошло до того, что собственное тело используют вместо красок и материалов. Кто-то прыгает с небоскреба на холст, а другие соскребают и рисуют этой гуашью. Художники делают из себя объект искусства. Я весь – художник.
– Художники всегда были высокого мнения о себе. Не правда ли? – улыбнулась Анна.
– Правда. А что может быть дальше правды? За правдой? А дальше только эпатаж, где-то распяли на кресте парня, он сознание потерял прямо в образе.
– Анти-Иисус.
– Точно. Каждый ищет свой язык выражения.
– А как ты нашел свой язык в живописи?
– Чисто случайно. Встретил примерно так же случайно, как встретил тебя.
– На улице?
– В России есть такая организация – Союз художников. Она – как зеленый свет для художника, она – выставки, она – мастерские и прочие блага. Но я не состоял в Союзе, поэтому шансов особенно не было. Мои картинки реализма их не вдохновили. Принесите что-нибудь еще, если у вас есть. Дали мне неделю. А что еще? Я по-другому не умею, решил в этот день напиться, набрал алкоголя. Как сейчас помню, портвейн «Три семерки».
– Три семерки? – повторила Анна.
– Это не тот портвейн, что в Португалии, это из того, что было. Пойло, одним словом. Сел на берегу Москвы-реки. Пароходики ходят, красиво. Пробка у вина пластиковая, ты таких не видела, наверное. Стал открывать канцелярским ножом и так сильно порезал руку, что можно было подставлять стакан.
Сухожилие порезал, наложили швы, шину. Время шло, я взял кисть в левую руку, в буквальном смысле нарисовал то же самое, что было у меня. Несколько пейзажей нашего светлого будущего. Получилось ярко, толсто, непонятно и насыщенно. Все как у детей.
– Взяли?
– А то.
– Дети искреннее взрослых, значит, твоя левая рука тоже оказалась ближе к детству.
– Ну да, она же занимается другими вещами, нежели чем правая.
– У левой меньше прав.
– Как вообще понять, чем заниматься в жизни?
– В каждом что-то есть. Главное понять, что ты можешь делать лучше всего, – вот это и делай, и не ведись на провокации, типа непрестижно, невостребованно.
– Рисково. А где шампанское? – улыбнулась Анна.
– Вот именно, ждешь его ждешь, а его все нет. Где эти презентации с дорогими девушками и уважаемыми людьми? Так что, художник рискует. Не факт, что ты тот самый талант, который должен выстрелить. Рискуешь чуть ли не всей своей жизнью. Не в смысле смерти, а в смысле судьбы, как жизнь сложится, что будет вычтено, на что умножено и кем поделено, а что останется в итоге?
– Поделено будет наследниками, – пошутила Анна. – Это я точно знаю.
– Наследники ничем не рискуют. Это художник готов за идею пойти в тюрьму, мучить себя, издеваться над собой.
– Разве он преступник?
– Конечно, он же постоянно преступает то мораль, то понятия. Помнишь Гойю, который бежал от инквизиции во Францию? А всего-то нарисовал обнаженную маху.
– А убийцу можно считать художником?
– Ну, и вопросики у тебя. Антихудожником, – улыбнулся Борис. – Ты наверное знакома с таким понятием, как синдром Вертера. Вот Гете можно считать художником в литературе, безусловно. Но именно его роман «Страдания юного Вертера» запустил по Европе волну подражающих самоубийств. Художник не всегда добрый самаритянин, чаще – злой гений. А как написал Карамзин? Сотни девушек бросились в воду вслед за бедной Лизой. Дело дошло до того, что у водоемов пришлось ставить столбы с надписью: «Здесь в воду кинулась Эрастова невеста, топитесь девушки, в пруду довольно места». Все творцы – провокаторы. Просто у кого-то это получается лучше. Что-то и правда шампанского захотелось, может, выйдем, пройдемся до ближайшего бара? – взглянул Борис на Анну, которая лежала с закрытыми глазами. Что там за веками? Какие мысли? Какие картинки?
После этого вопроса веки ее резко распахнулись, Анна вскочила с постели и надела платье:
– Я готова.
Рим. «Просекко»
– А признание для художника – это важно?
Выйдя из отеля, мы нашли бар неподалеку и сели прямо на улице. Кругом играла музыка, улица танцевала. Камерьери быстро принес бутылку «Просекко», которая, словно застрявший во льдах ледокол, лежала спокойно в серебряном ведре, отдавая все лучшее нам.
Мы давили игристые пузырьки, и те своим веселящим газом поднимали наши веки, уголки губ и настроение от умиротворенного к радостному.
– Для всех это важно, будь ты художником с амбициями или домохозяйкой с борщом, будь ты следователем или преступником, – снова улыбнулся Борис. – Понятно, не все художники доживают до признания. Да и что это такое – признание? К примеру, таких, как я, в Париже тысячи.
– Поэтому ты перебрался в Рим?
– Точно. Но это между нами, – сделал глоток вина Борис. – А ты чего не пьешь?
– Не хочу, опьянею, испорчу беседу.
– Перегаром?
– Ага. Потом не захочешь меня целовать.
– Насмешила. Русского художника перегаром не испугать. Хотя я тоже сейчас уже не пью так много, как раньше. Вино слишком вкусное – жалко переводить.
– Смотря на какой язык, – улыбнулась Анна.
– Вот и они мне то же самое. Переведите, что хотели сказать. Главные галереи не хотят меня выставлять. Хотя картины продаются, дорого.
– До сих пор не понимаю, что ты делал на площади Навон, там же одни ремесленники.
Анна вспомнила Пьяцца Навона, которая своим искусством под открытым небом чем-то напоминала Монмартр в Париже. Туристов было море, казалось, именно они выдавили из площади форму эллипса. Художники загорали на солнечном вернисаже, кто на что горазд: шарж акварелью, пейзаж тушью, портрет карандашом или маслом.
– Нет, почему, там и профессионалов полно, и известных художников тоже. Я не про себя. Там весело, можно встретить кого-то, поболтать. Захожу туда иногда, для настроения.
Анна посмотрела на смеющиеся губы Бориса и вспомнила, как долго Борис преследовал ее, предлагая сделать портрет, возникая тут и там, в разных уголках площади, пока она блуждала среди картин. Она ни в какую не соглашалась, пока Борис не догадался сменить тему и пригласить ее выпить кофе. «Кофе с художником, почему бы и нет».
Ее не удивило тогда, что на художнике не было ни берета, ни шарфа, ни даже усов с бородой. Только планшет в руках с чистыми листами.
– Нарисовать просто, это каждый может. А ты попробуй с этим рисунком где-нибудь повисеть! Им не нужны картины, им нужно имя. Есть имя, есть художник. У меня, как у диссидента, оно уже было. Теперь покажите нам, что вы рисуете. Только имя дает показать так, чтобы увидели. Хороший ты человек, плохой, это тоже не важно. Плохой, может быть, даже лучше, для резонанса. Это вызывает интерес. Конфликт с обществом, с красками, с самим собой. Теперь я у них есть. Выставки проходят. Картины продаются. Теперь я в каталоге. Там на каждого художника есть цена. Важно иметь и продажи. Горе художнику, который не продается, пусть дешево, но продается.
– Значит, ты продаешься?
– А что делать?
– Да, это лучше, чем не делать ничего. А друзья здесь есть?
– Знакомые в основном. В Риме каждый сам по себе. Одиночки. Вот как в этом «Просекко», пузырьки рвутся наружу, а что там сверху – пена. За этим и хожу на Пьяцца Навона, за общением. Больше знакомых. Весь мир теперь – сплошные знакомые. На языке интернета – друзья. Раньше мы дружили, теперь просто добавляемся. Каждый сам по себе, со своим положением, и положение это все больше материальное. Одного покупают, другого нет. Просто так не поговорить.
– Надоело болтать. Похоже на интервью. Может, сменим пластинку и поцелуемся?
– Да, музыка – это неплохо. Классика или?..
– Нет, это придется слушать. Мы же в Италии, я хочу танцевать. Что скажешь?
– У каждого есть свой эстетический предел. Пошли.
Мы оставили столик и «Просекко» и зашли в толпу танцующих. Нас подхватили черные руки какого-то блюза. Сначала мы пытались делать какие-то движения, но темп музыки был небольшой, и, в конце концов, мы просто обнялись и перебирали ногами от авангардизма к классике, топтанию на месте.
– Недавно я нарвалась на Кандинского. Можешь мне объяснить, как это есть?
– Лучше спроси: «как это слушать?» Он же музыку рисовал, как Клее и много еще кто.
– Я тоже вспомнила ноты.
– Это для других – как другой язык, другая знаковая система. Там все элементы передают информацию.
– Я так и поняла, шифровка. Надо знать коды, явки, пароли. Это искусство только для своих, для избранных. Я не люблю выборы, и условности тоже не люблю.
– Я тоже за реализм. Принимай все как есть, это лучшее лекарство от иллюзий.
– Принимаю, – отправила очередную партию пузырьков игристого вина в свой внутренний мир Анна.
Рим. Отель
Мы продолжили танцевать в постели, в окружении белых хлопчатобумажных стен. Едва отдышались от назойливых желаний, едва я вернулась в себя, как услышала Бориса. Его шутка заставила меня улыбнуться:
– Теперь я могу умирать спокойно, потому что знаю, что внес свой посильный вклад в эволюцию.
– Валяй. Я пока еще покатаюсь на карусели. У меня головокружение.
– В какую сторону?
– В ту же, что и от успехов.
– Если выбирать между успехами в работе и сексом с красивой женщиной, я всегда выберу второе.
– Спасибо. Но это же классика.
– Я давно заметил – все с классики начинается и классикой заканчивается.
– Почти как в отношениях. Все начинается с кофе вечером, а заканчивается кофе утренним, – прижалась я к груди Бориса.
– Ты про наши? – он положил мне руку на плечо, словно хотел его укрыть.
– Наш был протестом против портрета. Искусство не должно быть таким навязчивым, не должно принуждать людей к чему-либо. Я боролась за право делать то, что хочу. Хорошо, что ты догадался, что я хочу кофе.
– У реалистов с воображением туго. Я включил свое на полную мощность.
– Сколько тебе лет?
– Много, думаю, от сорока до пятидесяти.
– А делаешь от тридцати до сорока.
– Насмешила, – улыбался Борис.
– Так почему все возвращается к классике?
– Ты сейчас о чем? – снова рассмеялся Борис.
– Я про искусство.
– Принципы принципами, а чувства чувствами, последних палочками и кружочками не разбудить. Давай завтра сходим на выставку, ты все поймешь.
– А если не пойму?
– Хватит уже напрашиваться на комплименты.
Рим. Музей современного искусства
С одной стороны висели работы Пикассо, Дали и Миро, с другой – Рембрандта, Гойи и Веласкеса. Посередине люди, много людей, между картинами была пропасть людей, вкусов и ощущений. Но всем было понятно, что современники заимствовали у классиков, взяли взаймы и не отдали. Современники выглядели удивительно брошенными, потому что люди толпились вокруг классиков.
– Ну и как? – спросил меня Борис.
– Знаешь, мне нравится, что у Дали свободно. Сколько была в музеях, никогда не видела, чтобы рядом с его картинами было так свободно. Мне это нравится. Классики дают свободу современникам, это очень благородно.
– То есть ты считаешь, что все остальное багаж? – кивнул он на работы Веласкеса и Рембрандта.
– Скорее, груз ответственности.
– Ну и как выставка, как впечатления?
– Производятся, – засмеялась Анна. Надо переварить.
– Ты замечаешь, что сегодня каждый – это мастерская по производству впечатлений на других?
– А ты?
– Я частное предприятие. Сам по себе. Все время пытаюсь впечатлить одного человека – себя.
– Получается?
– Как у всех смертных, – показал рукой на танцующих Борис. – С переменным успехом. – Он взял со стола свой бокал. – Но как только представлю, каково быть бессмертным, мне становится легче.
– Ты про артистов? Это да. Некоторым даже приходится изменять, разводиться и жениться вновь, чтобы собрать стадион. Только становятся ли они от этого счастливее, от своей славы, доходов и рекордов?
– Не думаю. Счастье по-прежнему величина непостоянная. Казалось, вот лишь вчера оно было в руках, а сегодня его отделяет частица «не». Жизнь состоит из элементарных частиц.
– А ты каким его видишь?
– Не вижу, – стал разглядывать пузырьки в бокале Борис. – Его же по крупицам, как золото в речке, надо намывать, необязательно держать в руках, можно купаться в блеске. В счастье как в роуминге – каждая минута дорога.
– У тебя творческий подход. Людям надо быстрее. Может, они мечтали об этой славе и доходах всю жизнь?
– Вряд ли это мечта. Мечта – это нечто дорогое, что сбывается не сразу. В спешке люди сливают ее по дешевке.
– Антимечта, – рассмеялся Борис. – Кстати, как тебе кажется, я смог произвести впечатление на тебя?
– Еще бы! – Она знала, что с ним никаких перспектив. Их бурный роман рано или поздно закончится. В один прекрасный миг он исчезнет, она закроется. Кофе и книга – страстная парочка, потому что никакой бытовухи, только горячие свидания.
– Честно говоря, я не понимаю, зачем сегодня женщине столько. Вы ведь занимаетесь бог знает чем только ради того, чтобы выглядеть успешными, богатыми, счастливыми. Не быть, а именно выглядеть.
– Свободы хочется. Видимо, мы перестали быть уверены, что нам это принесут на блюдечке.
– Звучит красиво. Но ведь свобода – это обычно не здесь, это где-то, нужен еще кто-то, чтобы отправиться в путь, – взял руку Анны Борис.
– Свобода – это и есть путь, все остальное багаж, – свободолюбиво заявила Анна, но руку отнимать не стала.
– Даже если в багаже Рембрандт, Веласкес и др.?
– Даже если Пикассо, Дали и Миро.
Рим. Улица Виколо дель Чинкве
– Трастевере – самый римский район из всех существующих. Особенно ночью. Сейчас здесь тихо и спокойно, но где-то после восьми он оживает, просыпается, как спящий вулкан, и превращается в один шумный бар, где каждый заказывает коктейль под названием «Я без ума от Рима» и каждому его готовят по индивидуальному рецепту.
– А с виду такой тихий приятный уголок, – поправила Анна на плече сумку.
– Давай сумку, я не убегу, клянусь.
Анна протянула свою сумку Борису, плечо ее вздохнуло с облегчением.
– Тяжеленькая. Что ты там носишь?
– Там? Там всякая ерунда и еще книга.
– Чувствую, тяжелый сюжет?
– Еще бы. Достоевский.
– Стало значительно легче. Я думал, что-то современное.
– Не, я предпочитаю классику.
– Это правильно. Романы научились писать не только писатели, но и пиар-менеджеры. Пусть плохонько, но, как и в любом романе, вопрос популярности – это яркий конфликт. Сегодня девяносто процентов конфликтов – запланированы. Все, что люди горячо обсуждают или переживают, – спровоцировано, срежиссировано и, как всякий блокбастер, имеет свой бюджет. Не важно где, в литературе, в шоу-бизнесе, в искусстве, в политике, даже на кухне, – рассмеялся своей шутке Борис. – Станиславского на них не хватает: «Не верю».
– А я верю, иногда и люди верят.
– Читай они классику, понимали бы всю драматургию шоу-бизнеса. Только люди читают всякую ерунду, или смотрят, или обсуждают.
– Может, им просто надоела реальность? Хочется просто ноги в потолок, а глаза в экран.
– Согласен, там легко, там фуфел. Реальность течет по своим древним законам, из утробы матери к Кришне в рот на завтрак. Меняют ее единицы, выскочки: они не согласны ложиться ломтиком сыра на бутерброд вот так просто. И всюду они как заноза общества.
– И чертовски красивы, – посмотрела на Бориса с любовью Анна, – как древнеримские статуи. Они всегда стоят в полный рост – неприлично своевольные, неприлично бесстрашные, смеющиеся даже сквозь слезы.
– Видимо, сегодня нужны силы не только на то, чтобы писать, но и читать. Не только петь, но и слушать. Я как-то ради интереса прочитал что-то современное типа «не выводи меня», не помню название, точно «не … меня».
– Ну и как? Вывело?
– Не меня. Вроде и неплохо, и премии, но не покидает ощущение, что современные писатели грешат спекуляцией острыми темами.
– Ага, точно. Такое чувство, что водят за нос: почувствуй это. А здесь вот это. Жалость. Острую жалость. Еще. И еще. Они не знают меры в накручивании эмоций, и это отдает моветоном.
– Именно такие авторы сегодня собирают награды, они популярны. Устраивают американские горки, аттракционы в своих книгах – и становятся знаменитыми. Но самих их нет, они в тени как личности.
– Видимо, такие сегодня нужны кому-то. После Достоевского, будь он трижды нобелевский лауреат, вряд ли он меня теперь проведет!
– Я сегодня подумала, отчего искусство так трансформировалось… Оно стало… Быстрее, проще. Но не хуже, нет. Оно отвечает лишь ритму современной жизни, и как в давние века оно врачевало души, и сегодня оно скорая помощь.
– В любой книге должна быть хоть одна хорошая мысль. Хорошая мысль – это и есть скорая помощь. Это прямой массаж сердца, искусственное дыхание, разряд и разрядка.
– … укол обезболивающего, сладкий наркоз, снотворное, таблетка от аллергии…
– Весь Достоевский в одной женской сумочке, – покрутил ею Борис.
d’Рим. День рождения
Осень. Понедельник. Начать бы с чистого листа, но листья все б/у.
Анна сидела на кухне и смотрела в окно. В руках – бутерброд, в чашке – чай. Отвлеклась, а зубы тем временем уже вырезали в бутерброде Колизей. Только очнувшись, она ощутила вкус хлеба и масла. Продолжая толкать их во рту, долго смотрела на свой прикус, на бутерброде в разрезе. Во рту возник солнечный Рим, масляный от туристов и достопримечательностей.
После базилики Святого Петра Анна с Борисом шли все еще гремя веригами, которые тащились за ними, то и дело позвякивая наставлениями, пока вдруг за углом не возник его величество Колизей. Цепи отвалились, словно их и не было, потому что весь объем воображения занял Колизей.
– Не хватает воображариума, чтобы вместить арену.
– Одолжить?
– Не, не, не, не поможет. Думаешь, я не пробовала? Я же здесь не первый раз.
– И как эта нехватка у тебя выражается?
– Рот открывается.
Борис рассмеялся так громко, что ряженые римские воины оглянулись на нас и заулыбались, приглашая сфотографироваться. Один из них пил воду из пластиковой бутылки. Картинка смешала времена и нравы.
– Это все, что осталось от тех самых римских зрелищ. Такие веселые.
– Они рады, что выжили. Из артистов мало кто выходил с вечеринки живым, – с сожалением добавил Борис, будто потерял на этой арене кого-то из близких. – Наши перформансы выглядят детским лепетом по сравнению с тем, что здесь тогда происходило. Женщин насиловали дикие животные, гладиаторы убивали друг друга, все на потеху кучки коронованных особ.
– Все равно красиво. А Колизей действительно похож на корону, которую погрызли с одной стороны, – нарушила я возникшую паузу.
– Да, действительно похож.
Мы обошли корону вокруг. Анна неожиданно отвернулась от Колизея. Он ей надоел. Вдали зеленели лужайки и высоченные деревья, растущие корнями вверх.
– Пойдем туда, – потянула Бориса за руку Анна.
Скоро мы оказались на Латеранском холме, у церкви Сан-Джованни.
– Золотая базилика. Оплот католицизма.
– Чувствуется по точному удару клинка, – указала головой на обелиск, воткнутый в самый центр площади, Анна.
– Не веришь?
– Верю, верю, верю, верю. Там над входом написано.
– А клинок этот, – наклонился Борис к фонтанчику обелиска, дотронулся до воды и смочил лицо, – самое древнее оружие из всех существующих.
– Ты сейчас про католицизм? – улыбнулась Анна.
– Надо будет подумать над этим на досуге.
Скрипнул паркет, когда она решила подлить кипятку в чайник. «Нет, не пол – одиночество». Слов нет… Только пустые гильзы души.
День был обычный, день рождения Анны Родиной. Она думала, что приготовить себе и дочери сегодня. Готовить не хотелось, хотелось влюбиться, выйти замуж и пойти в ресторан. Она встала и пошла к раковине, достала из мешка картошку и принялась ее чистить, в голове крутилась всякая ерунда: «Почему чистить картошку – это быт, а чистить мандарины – уже праздник?» Уже хотелось Нового года, хотелось влюбиться, выйти замуж, взять мандарины, шампанское, забраться под елку и целоваться всю зиму. Имела право. Сегодня у Анны Родиной – день рождения. Неожиданно мечту разбил звонок телефона. Именинница вытерла руки полотенцем и взяла трубку. Это была Галина. Она, как всегда, начала издалека:
– Привет, Аня, что делаешь?
– Картошку чищу.
– Работаешь, значит. Бог тоже много работал. Знаю, что советовать девушке бесполезно, ей можно только пожелать: дорогая Анна! За несколько лет общения с тобой я открыла важный закон: женщине много не надо – ей нужно все. Что тебе пожелать, дорогая моя? Конечно же, счастья, любви, здоровья, детей, исполнения всех желаний. Это да, это в первую очередь, только что делать с теми, что лезут нагло без очереди: деньги, слава, успех? Они лезут, и мы их пропускаем вперед. Такова жизнь. Так что желаю тебе принимать все как есть, но при этом оставаться женственной в полном счастье этого слова. Одним словом, желаю тебе и твоей дочке счастливой любви.
– Спасибо! Обязательно, ты только скажи, какая она – счастливая любовь? Чтобы я ее сразу узнала.
– Вот меня утром поцеловал муж, я опьянела на миг, и жить стало легче. Думаю, как-то так.
– Центральное слово «муж»?
– Нет, утром.
– Я-то думаю, что меня с утра так замуж тянет? Спасибо тебе, Галя. Кто, как не ты, поможет расставить акценты? Спасибо!
Еще какое-то время Анна держала трубку возле уха, слушая гудки. «Откуда она знает про мой день рождения? Я никому здесь об этом не говорила».
– Мам, ма-а-ам, ма, мам! – оторвал меня от размышлений крик дочери. Римма проснулась.
Рим. Гарбателла
Борис сделал мне шаг навстречу, я – два. Я не соблюла дистанцию! И мы начали открывать друг друга, в спешке, разбрасывая одежду, открывали консервным ножом, без боязни порезаться острым краем разочарования. Мы открывали друг друга, как открывают шампанское, чтобы пробка вылетела как можно дальше. Мы разлили друг друга в бокалы и пьем, пузырьки тешат наше самолюбие. Постепенно оно выдыхается, унося пеной легкость и новизну, но нас это не пугает. Уже недалек период развал-схождение, когда отношения ветшают, поскольку все хотят быть любимыми, но мало кто умеет любить. Только думать некогда, потому что близость – это полное отсутствие дистанции.
– Здесь нет каких-то фантастических построек, зато тут Италия именно такая, которой она является на самом деле. Здесь сохранился ее дух, потому что нет туристов, которые могли бы этот дух из города испустить. Местные любят сюда приезжать, чтобы отдалиться от суеты, я тоже люблю. Здесь культура. Если центр Рима – это классицизм, то Гарбателла – модернизм. Нравится?
– А тебе? – встала перед Борисом Анна, начав свою любимую игру.
– А ты не заметила? – принял я условия игры.
– Чем?
– Ты не умеешь привязывать. Очаровывать – да, вязать – нет. В этом твоя сила. У тебя нет никаких сомнений, что ты лучшая женщина на свете, а я – лучший мужчина. Наша сила в том, что мы не пытаемся уберечь свои отношения. Отношения не контролируют нас, мы – их. Руки наши лежат друг на друге, а не на пульсе. Нет расспросов о времени, проведенном отдельно, желания все знать друг о друге, стремления все время быть на связи.
– Согласна. Но романтика не может быть вечна, у нее нет способности стареть.
– Старая романтика, звучит забавно. Сейчас я тебе покажу одно романтическое место.
Через несколько минут мы вышли к необычному фонтану.
– Фонтан Карлотты. Здесь обычно встречаются римские влюбленные.
– Перестань, это как с лучшей лазаньей, лучшей пиццей, в Риме, куда ни плюнь, везде она лучшая. То же самое и с фонтанами. Почему любовники их так обожают?
– Туда можно бросать монетки.
– Я так и знала. Похоже на памятник воздушному шару, – разглядывала фонтан со всех сторон Анна, потом нагнулась к струйке воды, которая на этот раз текла из уст девушки, и умыла лицо. – Пить будешь? – спросила она Бориса.
– Белое?
– Я бы сказала – прозрачное, холодное, вкусное.
– Буду, – прильнул к губам мраморной девицы Борис. – Боже, какая она вкусная, – улыбался он, довольный жизнью… Он потолкал воду во рту и проглотил.
– Ты верующий?
– Да, иногда я хожу в храм.
– В храм?
– Да, для этого достаточно положить руку на твои купола, все, ты под покровительством, мое мужество под защитой.
– Шалун. Опять не соблюдаешь дистанцию. Кажется, я к тебе привязалась.
– Не привязывайся ни к чему, это ни к чему.
– Может быть, в детстве мне мало читали сказок, скорее всего совсем не читали.
– Пришлось рано научиться читать? – улыбнулся Борис.
– Да, сама, сама, сама. А все время хотелось волшебства. До сих пор.
– В Риме полно волшебников и других воришек.
– Душу разворовывают потихоньку, пока общаешься не с теми.
– Я тоже все время думаю: «Какая польза от людей, если они не умеют создавать волшебство?»
d’Рим. Фонтан Треви
Рядом с площадкой – большой фонтан, дети лезут в него, словно вместо воды там льется лимонад. Родители следом: «Не лезь в фонтан», «Отойди от фонтана, я кому сказала». Дети лезут из любопытства, родители – остудить нервы.
– Прямо «Сладкая жизнь», – вспомнила я фонтан Треви.
– Или «Римские каникулы», – поняла меня психолог, с которой мы стояли рядом.
– Который из них ваш?
– У меня нет детей. Я много лет работаю психологом, но своих детей иметь не могу.
– Извините.
– Ничего. Я уже привыкла. И вы меня извините, что часто даю советы, хотя с радостью променяла бы все свои знания на бессонные ночи, кричащего малыша и мокрые пеленки. Все до единого.
– Я вас понимаю.
– Это вряд ли, потому что у вас есть ребенок.
Какие-то из родителей не выдержали и уже полезли за своими в акваторию, что еще ярче напомнило мне римский фонтан. Нептун на колеснице в сопровождении тритонов и гиппокампов. По бокам от морского владыки обеспокоенные статуи раздобревших мам, одна из них олицетворяла здоровье, другая – изобилие.
Пробраться к фонтану днем практически нереально. Детей так много, что своего найти будет непросто. Можно долго ждать, пока освободится место у края фонтана.
– В Италии везде конкуренция, даже среди творцов, поэтому надо пользоваться моментом. Раньше на месте фонтана был стадион и рыночная площадь, соревнования атлетов постепенно сменились битвой за клиента среди торговцев, еще позже – соперничеством двух именитых скульпторов. Противостояние баловня судьбы Бернини и трудяги Борромини стало уже настоящей легендой. Один построил церковь, другой – фонтан, – не спеша выдавал мне местные тайны Борис, пока мы пробирались к воде.
– Каждый считал другого антискульптором, – улыбнулась я.
– Это мягко сказано, у них что ни памятник, так противостояние.
– А дворец кто построил? Только не говори, что Микеланджело.
– Луиджи Ванвителли.
– Такое впечатление, что во дворце кран забыли закрыть.
Борис рассмеялся, потом добавил:
– Имперские привычки – все акведуки заканчивать фонтанами.
– Хорошая привычка. Такое впечатление, что вода вытекает из стен дворца.
– А, это… это все поэты, – пренебрежительно бросил Борис. – В Палаццо Поли княгиня Зинаида Волконская когда-то держала литературный салон. Гоголь здесь впервые читал «Ревизора».
– Ты хочешь сказать, поэты льют воду?
– Ой, я не хотел тебя обидеть. Я вижу, ты стихи пишешь?
– А кто их не пишет?
– Я не пишу.
– Ты тоже пишешь, только красками.
– Почитаешь мне что-нибудь? – наконец они протолкнулись к мраморному берегу фонтана.
– Может, не стоит?
– Давай. Будет что вспомнить.
Я скучаю, скучаю дико, – начала играться с водой Анна, будто ребенок, который в стеснении не знал, чем ему занять руки.
объяснить каприз невозможно. заломилась извилина криком, внутривенно ноет подкожно. я скучаю… скучаю жарко… наизусть все даты и строчки, сообщение лучшим подарком в ожидании денно и нощно. я скучаю… скучаю, вяну! голос дерзкий без многоточий. где тот запах, родной и пряный? отзовись, я скучаю очень я скучаю. всего два слова, что к любви приросли забором. не проходит синдром разлуки, там где руки касались током… –брызнула водой Борису в лицо вместе с последней строчкой Анна, замечая, как у него угасает внимание к стиху.
– Неплохо! Трогательно… влажно, – вытер лицо Борис. – Чувствуется, что скучала сильно.
– Ревнуешь?
– Конечно.
– Я же говорила, не стоит.
– Так кому было посвящение?
– Городу.
– Да, ладно.
– Честно, – не хотела ворошить прошлое Анна. – Человек исчезает, а город остается.
– Руки касались током…
– Меня там током просто ударило. Прямо в отеле.
– Ну, все, надоело слушать это вранье, – зачерпнул из фонтана в ладони Борис и окатил Анну. Он попал прямо в самое яблочко. Платье ее намокло, и голая грудь восторженно уставилась сквозь мокрую ткань на хулигана. Тут же Борис прижал Анну к себе, чтобы больше никто не увидел сокровища.
* * *
Мы с ним любили приходить сюда на закате. Вода прозрачна и чиста, если только какой-нибудь придурок не бросит туда краситель (однажды фонтан стал ярко-красным, словно Нептуну пустили кровь.) Народу значительно меньше, особенно тех, кто, стоя спиной к фонтану, бросает в него монетку через плечо, лишь бы вернуться еще. Дно блестит золотом монет. Теперь понятно, почему детей манит сюда как магнитом. Официально монеты имеют право собирать только коммунальные службы. По словам Бориса – «около миллиона евро в год. А чтобы увеличить доход, ловкие итальянцы создали приложение к основной примете. Теперь две монеты, брошенные в фонтан, обеспечат свидание, а три – любовь с первого взгляда, четыре – свадьбу». И действительно, девушки в буквальном смысле удобряли фонтан мелочью.
– И ты тоже? – спросил Борис меня, когда я достала из сумочки мелочь, чтобы проверить доброту фонтана.
– А как же? Я очень хочу вернуться сюда еще раз.
– Каждый считал другого антискульптором, – усмехнулся Борис.
Сначала мы пили вино, потом друг друга, а когда губы наши устали, из каких-то волшебных, судя по цене, трубочек пили воду прямо из фонтана. Как объяснила продавщица, «теперь вас благословил фонтан, и вы будете неразлучны».
«Надо быть щедрее. Видимо, мало я бросила. Хватило только на этот фонтан, – каждый раз иронизировала я. – Да и трубочки оказались фуфло».
* * *
Иногда малышка включала сирену для проверки моего терпения. «Что тебе еще надо, что ты истеришь?» Хотя истерила уже я сама, а она улыбалась, улыбка убивала всякую злость. Я добрела. «Главным было не раздобреть совсем». «Смешно ты кричишь, она не понимает». Уложив наконец ее, усыпив детство, позвоночник творчески откинулся на диван. Я взяла пульт, на экране какой-то усатый дядька объяснял прелести ветрянки. Говорил он бодро, но сон был сильнее.
Утро выглядело ребенком, который только что проснулся. Дитя улыбалось и освещало комнату, его заразительный свет смеялся, и эхо отдавалось во всех уголках квартиры. Те требовали уборки, напоминая об этом кучками пыли, словно бакенбардами, которые давно пора сбрить. Надо было вставать и приниматься за субботу. Суббота. Готовить не хотелось, хотелось влюбиться, выйти замуж и пойти в ресторан. В итоге позавтракали и пошли на прогулку.
Разницы между выходными и буднями не было. Дни были похожи один на другой, я перестала придавать значения тому, как они называются. Погода есть – хорошо, погода портится – жизнь налаживается.
Когда я уставала от разговоров, бесед, ограничивалась беседкой. Сидела там с Риммой, благо площадка находилась далеко, Римка не будет клянчить. Она видела площадки за километр. Рядом пруд с лодочками. Больше никого, можно было помолчать. Но молчание длилось недолго:
– Смотрю я на этих девушек с колясками, – подкатила ко мне сзади со своей коляской миловидная женщина. – С виду все такие счастливые, мужья всем помогают, бабушки – ангелы, так и летают целыми днями вокруг, бдят, дети – цветы, мозг не выносят. Только где же они такие в жизни? Я раньше думала, что я одна такая несчастная, что только у меня муж не помогает, пьет, плюет на нас с сыном. Иногда так хочется просто поплакать, поговорить, выпить с кем-нибудь. Может, выпьем? – достала она бутылку пива.
– А что, уже пятница? – не знала я, что ответить.
– Нет, конец понедельника.
– Я пас.
– Ну, как хочешь, – открыла она бутылку мастерски и сделала большой глоток.
– У меня сын. Как воспитать его так, чтобы всем было хорошо. А то все хозяйство на мне. Сейчас он маленький, учу его постоянно убираться за собой, муж-то приходит поздно. Живу – как с двумя детьми.
– Сочувствую, – улыбнулась я девушке.
– Ксюха, – протянула она руку.
– Аня, – пожали мы друг другу ладони.
– Моя тоже не слезала с рук и орала практически всегда, когда не спала! И бог с ним, что сама я почти не могла спать от этих оров, жизнь проносилась, как скоростной поезд. Я уже забыла как страшный сон все эти истерики, болезни и бессонные ночи, будто нажала delete. В этом дурдоме меня спасала только заставка: огромное синее озеро, розовый горизонт, только меня не хватает. А потом бац! Чистое небо, плеск волн, шум ветерка в кронах сосен, волшебный воздух, я его вдыхаю и не могу надышаться. Господи, какое же это счастье, когда ребенок вырос!
Деревья бросили тень на нашу беседку, на сизый пруд, заслонили солнце, тени тополей продолжали расти, пока не накрыло совсем. «Так и с детьми. Они вырастут, и мы окажемся в их тени», – подумала я, взяла в охапку Римку, подняла и обняла. «Наобниматься вдоволь, пока не выросла».
Сейчас я ярче, чем прежде, поняла, что дочь – это реальность, все остальное – компьютерная игра. У многих было все ровно наоборот, они были преданы интернету, который их постоянно предавал, унося своими картинками все дальше от реальности. В три года с Риммой стало интересно:
– Смотри, какие на небе облака.
– А что они делают?
– Плывут.
– Как они могут, там же нет воды?
Иногда она закатывала сценки со своими куклами, растила их, кормила, воспитывала, а когда куклы ей надоедали, бралась за меня. Я, как все взрослые, плохо поддавалась воспитанию и все время боролась за ощущение естественности в отношениях, не идти на поводу у собственной дочери. Каприз так каприз, ор так ор. Ничего не поделаешь, кризис трех лет, каждый через это должен пройти, чтобы стать человеком, тем более – женщиной.
– Похоже на кризис трех лет.
– А что за кризис?
– Когда ребенок плачет, как тебе кажется, без повода, а повод на самом деле есть. К примеру, он думал, что мама положит кашу в зеленую тарелку, а она положила в белую. Все. Проблема. Потому что он не понимает, почему маме так сложно положить кашу в зеленую тарелку, а ей кажется, что ребенок над ней издевается. То же самое и во всех кризисах среднего возраста. Она думала, что он купит ей красные цветы, он купил желтые, он думал, что она наденет черное платье, она надела – белое. Все. Праздник испорчен. Она думала, что он подарит ей сережки, он подарил автономную зарядку для телефона. Она уныло пытается улыбаться, он не понимает, в чем дело. Вроде полезную вещь купил, но сегодня она оказалась самой что ни на есть бесполезной. Он думал, что она пойдет направо, а она пошла налево. Мы все время придумываем, как должны себя вести близкие люди. А они ведут себя совсем в другую сторону. Обижаемся, злимся, ссоримся до тех пор, пока не перестанем загонять всех в свою примитивную матрицу.
* * *
Я встретились с Борисом на пешеходном мосту Святого Ангела через Тибр. Ярко светило солнце, но для Рима было довольно прохладно, даже холодно. Декабрь морозно намекнул, что надо обниматься чаще. Мы обнялись крепко за все три месяца, что не виделись. Ангелы смотрели на нас со всем своим мраморным безразличием.
– Тепло, – произнесла я еще пылающими от поцелуев губами. – Прямо жар по всему телу. Ты не устал? – мои руки продолжали обнимать его.
– Нет. С чего вдруг?
– Я повисла на тебе и не хочу слезать, – подняла я голову к небу. Над головой висел ангел с колонной в руках. Он повернул голову в сторону, будто не хотел видеть, что будет с нами, там, внизу, если он выпустит колонну из рук.
– Ну, обычай еще с шестнадцатого века.
– Какой обычай?
– Вешать на мосту тела казненных преступников.
– И преступниц?
«Откуда он все знает? Откуда? Или опять сверхчувствительность?» – промелькнуло у меня в голове.
– Наверняка.
– Какое приятное наказание, – наконец оторвалась я от Бориса и двинулась вперед к замку Святого Ангела. – Теперь я понимаю, с чего слетелось на мост столько ангелов.
– Да, да. Спасти души, – поспешил за мной Борис.
– А в замке, видимо, жил самый главный?
– Ага, он спас Рим от чумы. Его звали Миша. Архангел Михаил. Однажды он увидел ангела, в этот же день эпидемия закончилась. Вообще в этом здании много чего было: и семейный склеп и тюрьма.
– Какое многофункциональное здание, – заметила Анна, приближаясь к полукруглой стене замка. – Прямо голова кругом.
– В свое время среди заключенных были Джордано Бруно, Галилей.
– А все-таки она вертится. Мне кажется, они говорили о женщине.
– Кто бы спорил.
– Или лучше так. А все-таки она круглая! Круглая … – вот и вертится, – засмеялась Анна и прокрутилась вокруг своей оси.
– Дура? Нет, это не про тебя.
– А что там сейчас?
– Музей. Картины, скульптуры, оружие.
– Оружие?
– Да, хочешь зайдем?
– Нет, времени жалко.
– А если двигаться дальше по улице Примирения, то можно увидеть место гробницы основателя Рима, Ромула. Теперь там церковь Святой-Марии-за-Мостом.
– Прямо за мостом?
– Прямо за мостом – Ватикан.
– Это я помню.
Борис никогда не расспрашивал меня о моих делах, если я сама не начинала рассказывать что-то. Это было удобно. Это было толерантно по отношению к моему личному пространству. Он знал, что скоро я сама его открою, ему останется только вытереть обувь о коврик и войти.
Через некоторое время мы вышли на большую площадь.
– Ты знаешь, что это за часы? – спросил Борис, когда мы зашли в тень обелиска.
– А, наверное, самые солнечные в мире? – вышли мы снова на солнце. – В Риме солнце даром.
– А может, и самые точные. Площадь Святого Петра, – включил гида Борис. – Сердце Ватикана, оно спокойно, несмотря на египетский обелиск, который вонзил в него Цезарь. Время лечит. По сути, это было самоубийство, тремя годами позже Калигула поплатился жизнью за расточительство. Заговорщики нанесли ему более тридцати ножевых ранений.
– Выходит, Калигула их здесь потерял.
– Похоже, даже отняли. Гоп-стоп средь бела дня, пошел в Колизее в туалет. Мужик, часы снимай! Только тихо, без глупостей. А как Цезарь мог без глупостей? Чувствовал мужик, что времени у него не так много.
– А мы терять не будем, надо поторопиться, не хочу торчать в очереди. Я хочу наверх, на купол, – я взяла Бориса за руку и потянула за собой.
На площади было многолюдно. Сверху за нами приглядывали апостолы. Они, в свою очередь, посмотрели на нас как на мучеников, потому что очередь уже была длиннее, чем всякое ожидание.
Мы встали в хвост на улице, медленно продвигаясь под крышу, под покровительство собора. Рядом со входом дежурили гвардейцы. Они несли службу в форме желто-синих арлекинов, с черным беретом на голове и короткой саблей на поясе.
– Симпатичная охрана! – указал на солдат Борис. – Из Швейцарии.
– Я бы даже сказала «сказочная»! Красивая у них форма и смешная.
– А вот содержание суровое, хотя по лицам не скажешь. Кстати, по слухам форму для армии придумал сам Микеланджело.
– Он еще и портным успел побывать. А что у них с содержанием?
– Чуть больше тысячи евро в месяц. Жениться нельзя.
– Да, с такой зарплатой куда уж жениться. Нет, для Италии еще ничего, но на швейцарскую жену точно не хватит. Они что, как монахи живут?
– Не монахи. Монахам хоть можно бороду и усы носить, а этим нет. А с женитьбой действительно все сложно, надо дослужиться до капрала, тогда можешь заводить семью по решению армии.
– Еще скажи по приказу.
– Нет, я серьезно. Причем жена должна быть католичкой.
– Повезло итальянкам, – улыбнулась Анна.
Тем Калигуловским временем очередь двигалась быстро, и скоро Борис купил входные билеты. Сначала лифт, потом лестница, через несколько ничего не значащих фраз и предложений мы по ступенькам поднялись под купол собора.
– Вау, – вышли на смотровую орбиту собора Святого Петра.
Внизу пустовали Ватиканские сады, аккуратно нарезанное на кусочки религиозное угодье.
– Там никого.
– Пускают только по личному разрешению папы римского. А вот и герб Ватикана.
– Симпатичный. Похож на бородатого мужика с косичками из-под короны.
Борис рассмеялся и покачал головой в знак согласия.
Оставив сады, мы медленно двинулись вокруг купола. С другой стороны открылась площадь с солнечными часами.
– Я нашла часы, которые потерял Калигула. Отсюда они действительно как на ладони, даже как на руке. А улицы – это ремешки часов. Смотри, мы поднялись выше апостолов. На несколько минут стали ближе к Богу, чем они, – запела в голосе Анны Сикстинская капелла. По оде ее радости было слышно, что Рим она любила искренне, как ребенок – мать.
Апостолы, как и прежде, смотрели вниз на толпу. Толпа жаждала зрелищ, которые оставили в стенах Ватиканской галереи Леонардо да Винчи, Тициан, Караваджо, Рафаэль и другие гении.
Спустившись с небес, мы решили зайти внутрь собора.
– Красиво! Нет, концептуально, – засмеялась я. – Микеланджело? – вглядывалась она в изящную мифологию мозаики.
– Он самый.
– Тоже ангел Миша.
– Точно, я даже не думал никогда об этом, – улыбнулся Борис.
– А я до сих пор не знаю, о чем ты все время думаешь.
– Видимо, не о том, раз не замечаю очевидное.
– Как говорила одна моя знакомая – «Зачем мне видеть очевидное, когда я могу чувствовать невероятное», – поцеловала я Бориса в щеку и вдохнула запах его лица. Пахло мужеством. Легкая щетина и отголосок какой-то приятной воды, может быть, даже артезианской.
– Неплохая идея…
– Да, мне тоже нравится, – не дала я ему закончить мысль.
– Микеланджело не может не нравиться.
– Кругом он.
– Правда, доводили до ума другие, – тихо произнес Борис.
– Чувствуется, старались слишком, как всякие прилежные ученики.
– Знали бы они, как перестарались. Народ сюда так и тянет со всей планеты каким-то историческим магнитом.
– Народу много, это факт. Но вот почему? За себя ответить не могу. Может, ты знаешь, почему меня так тянет именно сюда, в Рим?
– Не знаю, возможно, ты, как все эти люди, пришедшие сюда, пытаешься найти место в своей вселенной капризов и стихий, хочешь открыть какую-то свою тайну, определить вектор собственного пути к личному счастью или узнать его у римских апостолов, патрициев и художников. Хотя на мученицу ты не похожа. Может быть, это просто исповедь, которая выражается очарованием и впечатлением.
– Про исповедь было хорошо. Красиво.
– Ну не всех же подавать на алтарь жестокой смерти, пусть даже созрели плоды исторического момента. Эта честь предоставляется избранным.
– Почему именно это красивое место вобрало в себя столько зла, столько красоты и святости?
– Что здесь ни сотвори, все прекрасно: и жизнь, и смерть, и созерцание.
Рим. Пинакотека
– Не устала еще? – спросил меня после двух часов болтания по Ватиканским галереям Борис.
– Нет, я люблю много ходить. Мы еще обязательно зайдем в Пинакотеку. Чувствуешь, меня туда прямо засасывает, где бы я ни была. Прямо трясина. Омут. Одна лестница чего стоит.
Пройдясь по залам музея Пия-Климента мы попали в долгожданную воронку.
– Какая лестница! – взглянула вниз через перила Анна.
– Не лестница, а карьера.
– Кому как. Для меня эта винтовая лестница – самая красивая воронка в мире, радостно побежала по ступеням Анна.
– Да, хороший штопор, – снисходительно заметил Борис.
– Ты просто привык. А вот люди уходят в штопор группами, – показала она туристов, которые считали ступени. – Я их понимаю. Затягивает, как в омут, с головой, и не важно, спускаешься ты или поднимаешься, с одной стороны возносит к небесам, с другой – бросает на самое дно. Головокружительно. Гениальное творение.
– Как всегда в Риме, не обошлось без Микеланджело, – вздохнул Борис. – Вообще он сконструировал макет ДНК. Тот получился огромный, и Микеланджело думал, Куда его девать? Потом присмотрелся: «Ба, да это же лестница! Куда бы ее пристроить? Куда бы по ней подняться?»
Здесь экскурсовод с группой туристов словно подтвердил слова Бориса:
– По легенде, идея двойной спиралевидной лестницы родилась у Микеланджело. Уже тогда он спроектировал ее похожей на структуру молекулы ДНК. Оригинальная лестница архитектора Браманте закрыта для посетителей. Поэтому мы сейчас с вами находимся на второй.
– Анти-Браманте, – тихо шепнула Борису Анна.
– Она получила название Браманте – Момо, – поправил ее экскурсовод, который вел туристов. Группу медленно, но верно затягивало в воронку. – Построена лестница в тысяча девятьсот тридцать втором году, спустя четыре века после гениального архитектурного решения Донато Браманте. Автором шедевра стал архитектор Джузеппе Момо.
– А что на самом верху? – спросил кто-то из туристов.
– Как что? Небо, – произнесла Анна еще тише.
– Если подняться до самого верха, то там будет Почта Ватикана, – ответил гид.
– Кто-то пишет письма Папе-Ноэлю, кто-то папе римскому, – остановились мы у перил, чтобы отпустить туристов. Надоели, особенно экскурсовод. Жужжит и жужжит.
– Головокружительно, как при поцелуях. Раньше я приходила сюда одна целоваться.
– Удобно, – усмехнулся Борис.
– Кажется, лестница движется сама, как эскалатор. Забавно, – опустила я голову вниз.
– Все дело в ступенях. На галерке они пологие и широкие.
– Да, очень похоже на театр. А что в партере?
– Там обычные.
– Наверное, любимый спектакль моей жизни. На который я готова ходить вечно. Что скажет по этому поводу главный концептуалист?
– После такого штопора неплохо было бы откупорить бутылочку.
– Из Пинакотеки в винотеку?
– Ага, я тут знаю поблизости одну, – прямо с лестницы повел Борис меня в очередной винный погреб искать истину. Чем дальше мы отходили от Ватиканского музея, тем заметнее редели ряды туристов, под ногами все та же старая брусчатка и узкие улицы прижимали друг к другу дома, выжимая из пространства все до последнего дюйма, а людей буквально заставляли куда-нибудь зайти перекусить или выпить.
– Район номер тринадцать. Трастевере.
– Хорошая цифра. А что значит?
– За Тибром.
* * *
– Так вот, когда апостола Петра приговорили к распятию, он попросил, чтобы распяли его головой вниз.
– Вот откуда растут ноги концептуализма. Не хотел повторяться, – комментировала рассказ Бориса Анна.
– Ну, почти. Петр считал, что умереть в такой же позе – слишком много чести.
– Чести много не бывает. То есть антипапа?
– Значит, ты в курсе? Вообще-то Петра считают первым папой римским. А антипапа вроде как незаконный, как в школе говорили – неформальный лидер.
– Ты и сейчас такой же.
– Какой?
– Тактичный. Вроде как даешь мне порулить, но процесс контролируешь.
– Ты хочешь сказать, что пора заказывать пасту?
– Давно пора, а то у меня уже душа нараспашку открывается. Да что там открывается, это вино выбило дверь ногой, вкусное, но крепкое.
– «Барбареско», оно такое, душевное. Прямо так и тянет на откровения.
* * *
– А в чем сила мужчины?
– В ответственности, – не раздумывая ответил Борис. – А женщины?
– Сила женщины в том, что она может быть солнцем даже ночью!
– Ты сильная.
– Неужели уже свечусь?
– Ночью посмотрим, – продолжил шутку Борис. – Пока мы еще не ослепли, скажи, откуда эта сила тока?
– Я, видимо, живу в другом измерении. Шестом. Где чувствуют кожей. И когда очередной бессонной ночью я отвечаю на вопросы какой-то малолетки лет тридцати: в чем смысл жизни? чего вы достигли в жизни? – она готова ответить, что у нее хорошая семья, дети, дом на берегу моря с видом на настоящего мужчину. Нет, у меня беспощадная работа, я одинока, живу то там, то здесь в разных отелях, в разных временах, и что недавно мне захотелось стать музой одного старомодного художника. Иногда мне кажется, что я могу вдохновить и убить любого! Даже тебя, стоит тебе только не так подойти ко мне. Но ты подходишь как нельзя лучше. В этом вся проблема. Я одиночка, у меня нет друзей, но много врагов, которые хороводят вокруг меня. Поэтому я осторожна, поэтому я непредсказуема. Мне казалось, что я так и буду одна, но ты умеешь предсказывать будущее. Сейчас ты увидел от меня буквы. Они появились строками на моих губах. Ты тоже умеешь читать по губам, ты смахиваешь их, не читая. Тебе кажется, ты уже все знаешь. Мужчинам всегда так кажется, что они мудрее. А женщинам кажется, что они добрее. Нам кажется, что мы дышим, а мы только боремся за дыхание. С тобой удобно, ты знаешь то, чего хочу я, я пока этого не понимаю, так как за понимание ты в ответе, ты держишь меня в своем нагрудном кармане.
– У меня нет нагрудного кармана, – улыбнулся Борис.
– Есть, – глотнула вина Анна, – просто ты не знаешь. Вначале наши встречи был похожи на собеседование. Собеседование. Как много в этом слове… чтоб сказать: вы были здесь! Я, как наивная душа, не знала, какие тайны нам сулят эти анкеты. Надеюсь, тебе будет интересна эта история. История их разоблачения, можно было бы назвать их историей Рима, так как в них много красивого и уродливого одновременно, как у великих художников. Художник – это тоже история. Это столкновение образов. Ты собиратель людских душ. Что ни мазок, то душа. Души – твои помазанники.
– Похоже на импрессионизм.
– Очень похоже, – согласилась Анна. Пятно… за много лет ты – лучшее, что случалось в моей жизни. Знаешь, это как признание себе через тебя. Ты слушаешь, слушаешь, а выводов не делаешь, не осуждаешь. И это хорошо. Интересно. Люди могут запомнить день своей расплаты или итогов своей жизни? Как думаешь?
– Скорее они запомнят день зарплаты. Вот это точно все помнят, когда, где, сколько. За что? А день расплаты всегда пытаются отодвинуть.
– Мне кажется, я знаю, за что. Моя мама умерла от алкоголизма. А я ведь ее почти не знала. Понимаешь! Почему она пила? Я как-то спросила у нее – зачем ты пьешь, мама? Она сказала – я не хочу жить. Меня это тогда поразило. Но я захотела это забыть. Отгородиться. Она же старше. Ей виднее. Сегодня тот день. Сегодня! Когда я поняла, что я начинаю платить по счетам, – глаза Анны заблестели. – Ты очень счастливый, Борис. Ты можешь рисовать, тебе не обязательно говорить, а вот мне необходимо.
– Дизайнеры разве не творцы? – Борис попытался сменить тему разговора.
– Нет, исполнители. Творцы могут рассказывать о себе, дизайнеры – нет. Главное, что ты можешь говорить через рисунки о себе. Я – нет. Моя работа в этом плане скучнее. Я беру готовое и убираю лишние элементы, делаю модель более обтекаемой, удобной. Удобной для кого-то, но не для себя. Это не моя правда, это просто макияж посредственному лицу реальности, – несло Анну неизвестно куда.
– О! Я знаю одно такое лицо. Хочешь, покажу? Оно здесь, на террасе. Пошли, я покажу тебе закат.
– Я слишком пьяна?
– Это не так важно.
– А что важно?
– Важно с кем.
– Я знаю, закаты отрезвляют. Я в целом, – Анна уверенно вышла из-за стола, потом вместе с Борисом – на балкон. Над горизонтом висел плод, который созревал прямо на глазах, наливаясь янтарным сиропом. Крона неба не могла выдержать тяжести фрукта, и тот медленно, но настойчиво клонился к горизонту.
– Мне как-то пришла в голову мысль, что чем больше задаешь вопросов себе, тем чище горизонт, – посмотрела на Бориса Анна. Глаза ее светились в лучах уходящего дня. – Мама была очень красива. Эта такая духовная красота, как на картинах. Богиня. Она меня не любила. Это я так думаю. Я жалею, что мы с ней так и не стали близки. Что она не рассказала о себе. Когда ей осталось около недели, она просила, чтоб я ей гладила ноги. Я надевала перчатки! Понимаешь? Чтобы погладить ей десять минут. Ноги. А ведь все должно было быть совсем по-другому: «Она подошла и обняла свою маму. Мягкое проникающее тепло без слов отвечало, что ближе никого нет». А когда она умерла? Как ты думаешь, как выносят людей с девятого этажа? А я скажу. Их укладывают в покрывало, берут за углы, заносят в лифт, погружают в грузовик и везут в морг! Я не могу нажимать теперь на эту красную кнопку лифта, когда заезжаю к отцу.
Однажды я спросила его, зачем он оставлял ее одну в барах, знакомился с другими женщинами, назначал им свидания? Она же так любила тебя! Дверь хлопнула очень громко. Но если спросить, кто из них изменять начал первым, то он – телом. А она – душой.
Борис обнял Анну и слушал молча, присматривая за закатом. Кто-то должен был стеречь урожай. Будто его могли украсть, их закат.
– Почему люди расстаются?
– Потому что люди не меняются, – ответил тихо Борис.
– Я пыталась поставить себя на ее место. Однажды пошла с ней на прием к врачу. За дверью слушала разговор. Заставляя себя поверить в то, что я – это она. Слушала о себе, хотя я совсем другой человек! Наверное, я тебя уже запутала, Борис? Еще немного потерпи, – взяла его руку Анна. – Мать была странная, глупая, но добрая. Смешная, но с ней не было скучно. Врач улыбался, ничем не помог. «Вы такая хорошенькая, что над вами хочется смеяться и шутить». Она ушла со своей болью, по жизни смеясь. Человек-спираль. С рождения светилась, а потом спираль стала сжиматься… до малых желаний, до одного платья, до скромной еды, до чтения и перечитывания одних и тех же книг. А много и не надо. До, до, до… одной точки. Она ушла в точку.
Ей почти ничего уже было не надо, а все еще звонил давний поклонник. Когда они познакомились, он только пришел из армии. Она старше его на пятнадцать лет. Сейчас это солидный, большой дядя, он в честь моей мамы назвал свою дочь. Как это оказывается приятно, будто реинкарнация.
Она любила погружения в себя. Там ей было хорошо. Там были книги, интересные мысли. И хотя погружения у людей происходят в масках, она ныряла без. Какая есть. Обнаженная. Обыкновенная.
Анна сделала большой глоток вина, чтобы запить маму, ее любовника, отца и всех остальных, понимая, что все временны. Скоро они вновь всплывут в ее памяти. Борис спокойно слушал, только дробь пальцев по перилам балкона выдавала в нем переживания.
– Я знаю. Ты простишь меня. Что я сейчас тебя заставила переживать. Здесь официант должен был налить нам что-то покрепче вина.
– Я уже заказал кофе.
– Спасибо, как ты все понимаешь.
– Как?
– Примерно, как я понимала маму. Она была смелой, чтобы так пить. Женская смелость нежна до какого-то момента, а потом превращается в пошлость. Я попробую не переступать эту грань. В детстве отец бил меня. Выбивая что-то из меня. Бесов. Непорочное дитя, откуда? Я не знаю. Отцовская инквизиция выбила из меня страх. Поэтому я до сих пор не замужем.
– Еще не поздно.
– А сколько времени? – улыбнулась Анна.
«Как изящно она умела уйти от тяжелого бремени и стать легче легкого только одним предложением», – смотрел изумленно на Анну Борис.
– Не знаю. Хочешь узнать?
– Хочу, только, чур, интим не предлагать.
– Так, – не обратил внимания на шутку Борис, – дай мне свою руку.
– А как же сердце?
– Потом. – Борис взял ладонь Анны и вытянул ее руку вперед. – Смотри на свою руку, чтобы мизинец коснулся горизонта. Есть?
– Да, есть касание. Теперь считай, сколько пальцев уместилось между землей и солнцем. Сколько получилось?
– Три.
– Каждый палец соответствует примерно пятнадцати минутам до заката.
– Значит, у нас еще есть целых сорок пять минут, – опустила руку Анна. – А еще бабушка моя, которая меня растила, шила мне платья, я была самая красивая. Она на серванте ставила фото дедушки и своих детей. Она похоронила всех своих детей и мужа. Однажды я попросила убрать эти фото со стены! Дура.
Видишь, я тоже умею делать больно, но мир меня терпит, мир терпит боль. Знаешь, почему я еще не исчезла? Мне кажется, что я сделаю еще больнее, чем сделала своим близким. Хотя время лечит все, кроме женского алкоголизма. Когда умирает близкий человек, тяжело оставаться. Я сценарист своей смерти. Не могу пока попросить. Кого? Я почувствую, когда все. Чтобы этот человек убрал все мои вещи из дома, ему будет тяжело на них натыкаться. Тяжело тем, кто остается. Вот ушел кот мой любимый. Я помню, как выпустила его сонного из дома, он так хотел спать. А мне нужно было на работу!!! А вдруг он нагадит? И я его на улицу. А он не пришел. Уже неделю. Черт! Черт! Я готова убирать за ним. Только за ним, а не за всем обществом. Каждый день. Только бы пришел. Но его нет. Всю ночь я смотрела передачу о Риме, пила кофе. Кажется, я сейчас сама в этой передаче, рассказываю тебе о себе, я ставлю тебя в неловкое положение. Я вижу теперь – тебе необходимо время, чтобы выйти из него. Была между нами химия, а теперь какая-то алхимия. Ты оставляешь меня на потом. Может, это и хорошо? Я не знаю. Я так далека. От тебя.
– Ты так далеко, что ближе некуда, – обнял Борис Анну, она глотнула еще вина прямо через его плечо, у него за спиной. «Вот женщины, могут творить за спиной бог знает что, пока ты их утешаешь. А стоит только перестать утешать – все, прощай, ты не тот, кто мне нужен».
– Какое чудное вино. Я не понимаю, что со мной происходит? Это похоже на исповедь. Мне становится так легко.
– Мы все укрываемся прошлым, когда знобит от настоящего.
– Да, да. Когда ты стоишь в ду́ше. И воешь. Ты бы побежала к ней и спросила: «Как ты жила, мама?» Но ты не успела, потому что не понимала. Человеку всегда дают шанс. Спросить отца? Но твоя трусость боится. Ха! Трусость – боится. Поговорить. Спросить. Время уходит. И ты знаешь, как будешь выть, когда не будет и отца. Ты вытираешь отпечатки своего тела в душевой кабине, выходишь, улыбаешься, а на лице вода. И возвращаешься в эту бревенчатую жизнь, бурелом, лесоповал. Женщина может постареть за вечер. Зеркало. Она видит себя в нем. Глаза. Море превращается в мутное болото. Улыбка – в оскал, она оставляет морщины, те долго не исчезают. Приходится стирать их пальцами. Она волнуется, если не получается. Волны все глубже и глубже. Но не улыбаться тоже нельзя, выходит еще дороже. Ладошками натягивая подбородок, можно увидеть цифру двадцать пять, а когда отпускаешь… ты видишь в зеркале маму. Свою маму, к которой приезжаешь не часто и меняешь ей цветы раз в год… Что скажешь?
– Трудно что-то добавить.
– Ты не добавляй, ты раздели. Я понимаю, что плакать гораздо легче, чем закатывать рукава. Но ведь хочется именно поплакать.
– Плачь. Твое голубое небо имеет право на дождь.
– Я понимаю, что тебе легче рисовать, чем говорить. Но все же.
– Отпусти ты их, своих родителей, прости просто так, от большой любви. Любовь – это дар Божий, как только начинаешь относиться к нему как к процессу, то сразу появляются: жертва, судья, адвокат и свидетели.
* * *
После этих слов наступила тишина. Борис безмятежно смотрел на Анну, хотя внутри его одолевали странные чувства – то чувство ответственности, то чувство голода.
«Анна все время бросала вызов. Это не было приглашением на казнь, скорее – соломинкой, которая предотвратила бы падение Римской империи в моем внутреннем мире. Влюбленность. Мужику она тоже нужна, тем более художнику. Не влюбляешься, значит, мертвец. Не важно, какой она будет, короткой или с продолжением, не важно, кем она будет – стюардессой попутного рейса, дамой с собачкой или снова женой. Влюбляться в жену каждый день – это образец идеальной семьи, а если холост, доставай холст, пиши новую любовь. Тем более что муза здесь, под боком.
С Анной все было по-другому, вечный раздел имущества. Имуществом были опыт, привычки, регалии – короста времени, уважения и признания, которыми Борис оброс здесь, в Риме, за несколько лет. У Анны совершенно несносный характер, не сахар, даже не сахарозаменитель. Сумасшедшая стерва. Стервы – лучшие из любовниц, никто не будет любить тебя сильнее, никто не будет сильнее ненавидеть, именно эти вкрапления ненависти позволяли ощущать полноту жизни, Анна то появлялась внезапно, то вдруг исчезала. Ее движение по жизни тоже было элементом творчества. Эмоции, вот чем она жила. Вот чем она заставляла заново заставлять жить меня по-другому.
На пути к мечте она, как голодная сука, постоянно копала, рыла, пытаясь докопаться до сути. Глубокие философские разговоры – это та пустая порода, которую надо было переработать, чтобы понять, понять меня и ее. Этой породой она хоронила скуку, что может напасть на всякого. Скука подобна гиене, которая постоянно идет следом, поджидая, когда ты устанешь от жизни, ослабнешь от лести, откажешься от работы над собой, чтобы в какой-то момент напасть. Но если рядом есть сука, то скука не страшна».
* * *
– Психолог мне примерно то же самое сказал: «Когда люди выбирают, с кем жить, то заботятся, в основном, о том, чтобы у человека не было недостатков, с которыми нельзя примириться. Но родителей не выбирают, значит, выбора нет, примите их со всем багажом». Правда, не сразу, сначала он перекопал все мои чувства, будто собирался там посадить разумное, доброе, вечное, а потом я ему сказала, что больше не приду. Он кое-как заштопал рану, с наркозом, предупредил, что будет болеть и гноиться, посоветовал приложить к ней часы, которые должны вылечить… переживать до тех пор, пока не переживешь. Его больше беспокоило мое будущее, поэтому его главной идеей была “главное – не падай духом куда попало… испачкаешься”».
– Хорошо, что я сумела оставить свой дом, выйти на улицу другим человеком, начать с нуля. А один мой хороший друг уверил, что мне надо научиться убивать свою боль и затащил меня в тир. Я стреляла по мишеням, я убивала время, убивала боль в самом прямом смысле. Мишень – та же самая рана. Ее может вылечить только выстрел – чем точнее, тем эффективнее. Не бежала, не спасалась, а приняла эту боль, признала, стала с ней общаться. Да, мне больно. Да, мне обидно. Да, я смертельно боюсь. Да, я плачу. Да, я злюсь. Да, я страдаю. Завела блокнот, стала внимательнее рассматривать людей, не узнавать, а именно рассматривать, как фотографии. Писать им письма прямо в блокноте. Рана стала затягиваться. Какое-то время я еще просто ковыряла ее, а потом стала попадать в самое яблочко, я почувствовала, как уходит злость, ненависть, ревность, обида. Иногда мне кажется, что это и есть любовь. Настоящая любовь, когда все остальное уходит. Встречаешь человека, понимаешь, что у каждой ненависти свой срок годности. Наверняка ее срок тоже можно сосчитать по солнцу. Против заката не попрешь, только не ненависть она уже, а привязанность. И что делать с ней по истечении срока? Выбрасывать жалко, вдруг подберут. Женская позиция. А как у мужчин? – посмотрела на Бориса Анна и ответила за него сама: – Знаю, ты скажешь – дружи, уважай, но на уважение обычно не стоит.
Борис улыбнулся и покачал головой, соглашаясь.
– Занимайся дружбой, барахтайся в уважении. А где удовольствие? Нужно каждый день получать удовольствие. Как я. От кофе, от вина, от солнца, что весна пришла, что наконец-то удалось застать рассвет, что есть у тебя муза, что говорит тебе приятное каждый день или молчит, просто приятно молчит, рядом, а ты смотришь в потолок и улыбаешься. Слушаешь ночь.
– Муза? Давай подробнее с этого места. Очень хочется узнать, какая она.
– Ты хотела сказать, очень хочется узнать себя. Муза – это особа, которая редко говорит то, что я ожидаю услышать. Часто говорит на абсолютно не женские темы, будь то искусство или политика. Муза – это всегда сложно, девушка-вызов, девушка-критик, девушка-вдохновение. Она не радуется тому, что имеет, она хочет иметь то, чего заслуживает. Ей не нужно много, ей нужно все. Она – великая спорщица, в этом ее страсть и забота одновременно. Она не даст тебе сдохнуть от скуки. Эмоции – вот главное ее оружие, помимо обаяния. Глаза ее полны путешествий, а сердце большого таланта, в котором есть место и для таланта моего.
Рим. Виа ди Борго Пио
Поблуждав по переулкам Ватикана, мы вышли на средневековую улицу Борго Пио.
– О, как здесь хорошо, спокойно, – заметила Анна.
– Здесь туристов почти нет, в смысле они есть, конечно, но не занимают все пространство вокруг, пытаясь проникнуть в самую душу города. Как они мне надоели. Заберутся, поглазеют, сделают фото, поедят, выпьют, потом справят нужду и домой.
– Кстати, я здесь тоже туристка, – уточнила, улыбаясь, Анна.
– Ты надолго?
– Туристкой?
– Ну да, уезжаешь надолго?
– Не знаю.
– Что будешь делать в своей командировке?
– Есть заказ. Надо работать.
– Хорошо, что не сказала «скучать».
– Нет, я хочу побыть музой еще немного. И вообще, я люблю одиночество, – лукаво улыбнулась Анна.
– Точно. В одиночестве полно удовольствий. Лично мне просто необходимо одиночество. Крыша, как ни крути, одна. С кем бы под ней не просыпался, с кем бы ни работал, ни пил вино. Всякой идиллии нужна передышка.
– Я тебе надоела?
– Безумно, – прижал Борис Анну к себе.
– Пустая ваза, одинокая бутылка или бокал. Знаешь, почему частенько на картинах на переднем плане одиночные предметы? Это художник говорит: дайте мне немного побыть одному, никаких половинок, тем более четвертинок и осьмушек.
– То есть когда брак оказался браком?
– Пусть брак, брак не может быть конвейером, точнее может, монотонно, многотонно, удручающе. Нужны какие-то ошибки, сбои в программе, кофе-брейки. Именно в такие моменты можно рассмотреть свое, а не теряться в общем. Ягель традиций, лишайник комфорта – это те материалы, которыми отделана рутина.
– В общем, дело дрянь, – пошутила Анна. – Кофе растворимый. Вот почему многим приходится прикидываться сахарком, чтобы так или иначе подсластить эрзац, пойти на компромисс.
– В общем, потеряться. Ты понимаешь, о чем я говорю.
– Может, это чисто мужское желание, хочется побыть наедине с собой без эскорта.
– Может, может. У вас слишком много одиночества, чисто гормонально, а угол один, в который ее тянет вернуться, а ему хочется много углов, разных. Жизнь многоугольна. Многоугольник. А ты находишь только один. Встал, наказан, стоишь.
– Но ведь один? Есть время подумать.
– Есть. Ты какой угол дивана выбираешь? Левый или правый?
– Разложенный, – усмехнулась Анна, и на ее лице появилась озорная улыбка. – Кстати, возвращаясь к натюрмортам. Кто-то любит ставить яблоко на угол стола или класть записную книжку на подоконник.
– Ну да, кто-то просто любит. Просто любит наводить порядок – и яблоко обратно в вазу, а книжку на полку. Сразу личное пространство становится общим.
– Тогда куда сегодня пойдем за личным пространством?
– Завтра. На природу. На дачу Боргезе. Гасить раздражение и агрессию.
– А также чувство комфорта. Вместе пойдем или разойдемся по углам?
– Желание побыть наедине с собой, заняться делами в одиночку подкупает, но мы будем мучиться до конца, – рассмеялся Борис.
– Я покажу тебе любимые места, привычки и скамейки, часть личного пространства, где стабильность не переполнена информацией и людьми.
– Ладно, поставлю телефон в режим полета, чтобы чувство стабильности и спокойствия не нарушало психического баланса.
– Там здорово, вот увидишь. Ты сама не захочешь нарушать баланс и никакие чувства, традиции или доводы логики тут не сработают. Просто тебя накроет животным инстинктом очарования, который, как с ним ни борись, сильнее.
– Прямо пуф какой-то или место за кухонным столом.
– Блюдо с яствами.
– Я уже не в своей тарелке, хочу в твою.
– Тогда давай зайдем сюда, там красивые тарелки, – повел меня Борис в пиццерию, что первой встретилась на пути.
– И пицца у них самая лучшая в Риме, – открыл передо мной дверь Борис.
– Сколько раз я это уже слышала, в разных местах. Что ты на это скажешь? – рассмеялась Анна.
– Это логично. Все готовят на одной кухне. Кухня-то одна – итальянская.
* * *
Мы вышли из порочного круга пиццы, добрые и веселые. У самого входа сидела кошка. Анна нагнулась, погладила ее, та благодарно заурчала.
– Кошки, как время, тоже лечат.
– А коты? – спросил очень серьезно Борис.
– Вчера гладила кота, который живет возле моего отеля. Он осторожно прыгнул ко мне на колени, спросив разрешения. Мы же главные. Смотрю, рядом кошка, позже привратник сказал, что их целая семья, и это его мать. Так вот, кот спрыгнул с моих колен, робко пошел к ней. Она не погнала, хотя кошки гонят свое старшее потомство. Стала его вылизывать. И он заурчал. Коты лечат, когда урчат. Погладь, Борис, вот увидишь.
– Похоже на электрофорез.
– С тобой никогда нельзя серьезно, – взглянула на него сурово Анна.
– Только не говори мне, что с этим котом у тебя серьезно.
Анна рассмеялась, кот спрятался под припаркованную рядом машину.
– Нет, он какой-то несерьезный.
– Я знаю, – погладил Борис по голове Анну, которая продолжала сидеть на корточках. – Я абсолютно точно знаю, что кошкам нужна ласка.
Рим. Вилла Боргезе
На следующий день мы встроили себя в ландшафт парка виллы Боргезе. И плевать нам хотелось на все условности с высоты холма Пинчо. Объятия и поцелуи – вот что преследовало нас постоянно, вот что не давало расслабиться ни на минуту, настолько неутомимые, словно были одной любвеобильной скульптурой этой виллы. И нам за ласку неплохо платили.
– Давай сегодня без музеев.
– Ты читаешь мои мысли. От шедевров тоже надо отдыхать.
– Просто ляжем на травке у озера.
– Где ты хочешь?
– Прямо здесь, – кинула Анна рюкзак на английский газон. – Представляю, какие здесь раньше творились дела. Кто здесь жил?
– Много кто, всех не упомню, но одной из хозяек усадьбы в девятнадцатом веке была Елена Боргезе, внучка русского графа Бенкендорфа.
– Хорошо с тобой. Ты все знаешь?
– Все, что связано с русской историей.
– Я не об этом, ты знаешь то, что хочу я. Я не знаю, а ты знаешь.
Анна изучала пейзаж, который обрамляли итальянские сосны – пинии. Сейчас там, на самых верхушках, под густыми зонтиками крон прятались ее мечты.
– А что за красивые деревья?
– Пинии, им по четыреста лет.
– Нам бы столько прожить и не стареть.
– Ты бы согласилась всю жизнь на одной ноге?
– Да, а что? Красивая декоративная жизнь.
– А это что за здание?
– Греческий храм Эскулапа.
– Солидный.
– Там дальше еще есть ипподром и зоопарк.
– Какая забавная цепочка: сначала ипподром, потом зоопарк, потом музей. Я люблю лошадей, но ни разу не каталась верхом.
– Хочешь, сходим покатаемся?
– На жирафе хочу, можно? – дурачилась Анна.
– Невозможно. У него шея болит.
– Что так?
– Знаешь, сколько там уже сидит желающих?!
– Пусть сидят, мы будем валяться, – вытянула вверх руку Анна, пытаясь поймать в кольцо образованное пальцами яркое солнце. – Здесь так хорошо.
Всякий раз, оказываясь в Риме, она приближалась к своей мечте настолько, что казалось, вытяни руку – и достанешь, но с мечтами никогда не было так просто, а с женскими – тем более. И вот она уже снова вглядывалась в даль, высматривая в оптический прицел новую жертву, спрашивая себя постоянно: «И почему для достижения мечты, мне приходится заниматься бог знает чем?»
– Почему, кроме нас, никто не целуется?
– Рано еще. Люди стали экономнее, мы экономим не только на деньгах, но даже на чувствах, на страстях, перестали бить посуду, потому что – дорого, как и нервы. «Почему, почему? Потому что не с кем. Никому, кроме нас, в голову не приходит».
– Я думала, они в сердце сначала приходят, потом уже в голову.
– А мне сразу в голову. Потому что душа твоя – игольница из красного шелка, голова – прекрасный букет мыслей в вазе 90-60-90, ну или около того, – красноречиво заметил Борис.
– А бить посуду? Как можно разбить пластиковый стаканчик? – помахала своим пустым Анна. Борис тут же налил ей еще белого. Пока вино торопилось в стакан, он думал, что на это ответить. Анна все время заставляла его думать.
– Не надо стараться преобразить мир, он и так прекрасен.
– Расшифруй, – посмотрела она на меня. На ее переносице возник вопрос.
– Делай, что любишь, только так, чтобы этот мир не испортить.
– Хороший девиз. У тебя получается?
– Нет. Просыпаюсь и чувствую себя самозванцем. Начинаю сам себя звать: «Эй, вставай, хватит валяться, жизнь проходит».
– Я тоже не люблю рано вставать.
– В одиннадцать утра это рано? Как считаешь?
– Ну, все зависит от того, с кем просыпаешься, – задумалась над своими же словами Анна.
– Вот эта самая зависимость и пугает, – отшутился Борис, а про себя подумал: «Очень важно даже не то, где ты уснешь, а где проснешься, в одиночестве ли или среди жены. Укутанный в асфальт своих тревог или блаженный, раскинув части тела так гармонично. Что они сами собой в ночи нашли свое продолжение в твоей женщине».
– Ночь – время расставаться со своими комплексами, – будто услышала слова Бориса Анна.
– Мне иногда кажется, что у тебя их нет.
– Только ночью, – соврала Анна. Иногда она запиралась в ночи и не выходила оттуда часами. Да и куда выходить? Другая комната называлась одиночеством.
– Ночь многим дает надежду.
– А потом ворует.
d’Рим. Температура
Анна с Риммой вышли из аптеки на улицу, где купили девочке целый пакет лекарств от соплей и от боли в горле. На улице высокий женский голос прочищал всем мозги. Кричала мать. На ее лице разыгрывалась сцена, которую ставят во всех семейных театрах. Она шла рядом с мальчиком лет пяти. Мальчик держался до последнего, ему было неудобно за свою мать, а она вела себя как капризный ребенок. Кричала на него, постоянно одергивая за руку. Наконец малыш не выдержал и заплакал. Он явно не понимал, чем он провинился. Мама тоже не понимала, поэтому нервничала. Диалог был примерно такой: «Ты меня понимаешь? – Не понимаю. Объясни».
«Слабая позиция», – подумала про себя Анна. Самое мелочное из наших чувств затмило все остальные. Раздражение – это злость, которая не имеет права. Ей только кажется, что она права, но доказательств нет. Малыш сопротивлялся и плакал, потому материнский тон был непреклонный. Этим тоном она уже закрасила все небо над ним, теперь наносила тон на свое лицо. Вот откуда преждевременные морщины – от раздражения. Пока же мать чувствовала себя безнаказанной.
– Мама, а почему тетя кричит? – спросила меня Римма.
– Хочется ей, вот и кричит.
– Нет, она же не просто так. На детей кричать нельзя. Кхе-кхе-кхе-кхе, – закашлялась Римма.
– Хватит болтать, воздух холодный!
– На детей кричать нельзя.
– Нельзя, нельзя. А я разве кричу? Пошли, – одернула я ее за руку.
– Тихо, мама, тихо, – приложила руку к губам дочь.
* * *
Ночью у Римки поднялась температура, измерила – тридцать девять. Дала ей парацетамол. Жар остановился на какое-то время и пополз обратно вверх – тридцать девять и пять. Римма горячая и несет какой-то бред:
– Мама, мне жарко, мне жарко. Мы уже на море?
– Летом, летом поедем.
– А море большое?
– Большое.
– Как ванна?
– Больше.
– Мы там будем купаться. Мы возьмем мой круг?
– Конечно, возьмем.
– А то я спрячусь в воде вот так, – закрыла она глаза. – А ты будешь ловить меня на удочку.
– Мы возьмем круг, обязательно.
– А удочку возьмем?
– Нет, ты не будешь прятаться. Давай температуру померяем.
Страшно смотреть на градусник. Там тридцать девять и девять. Звоню в скорую. Несколько общих вопросов, словно читают рэп:
– Как зовут
не вас
где живете
какая температура
что успели принять
сколько лет
сколько полных лет
как со стулом
как зовут
нет
вас
хорошо ждите
переадресую вас в областную
Потом снова голос женский далекий, читает вопросы той же анкеты, наконец принят вызов, будто монетка наконец-то попала в нужную щель и полетела по инстанциям. Затем долгие гудки, как долгие минуты ожидания. Я под тихий бред Риммы в свою оптику представляю, как вызов доходит до цели. Подстанция скорой помощи: несколько жилых комнат, в каждой из них несколько кушеток, на которых спят врачи и фельдшеры, днем и ночью. Атмосфера полного взаимопонимания, где возраст, регалии и звания не имеют значения, все равны, все едины, все едят из одной посуды, все понимают друг друга без слов. Общага, коммуна, казарма со своей курилкой, где всегда кто-то есть и можно перекинуться парой слов.
– Четвертая бригада, доктор Хаусова. Двое медленно поднимаются со своих кушеток, оставив там какие-то сны. Женщина и мужчина. Доктор и фельдшер. Берут чемоданы, садятся в машину и едут. Молча, ночью на работе говорить неохота.
– Не смотри на меня так. Ну не успела я накраситься.
– Тебе так лучше.
– Пожалуйста, не надо.
– Спасибо.
– Ты вежливый сегодня.
– Я ночью всегда вежливый.
– Нежность, что ли, просыпается? – отвечает с улыбкой водитель.
– Ага, тело спит, а нежность так и прет. Приехали, – заезжает машина в темный двор.
– Вы кто?
– Мы по вызову, – говорят двое в халатах и с медицинскими повязками на лице.
– А кто вызывал?
– Родина.
– Идите за мной.
– Подожди, – придерживает надзиратель врачебную бригаду перед какой-то дверью. Смотрит в глазок. На прицеле мать, держит на руках ребенка.
– Ладно, заходите.
– Родина? – спрашивает с порога врач.
– Родина.
Врач с фельдшером проходят в комнату. На полу остаются следы, но никто их не замечает, даже Анна, которая каждый день его моет.
Врач открывает журнал и в третий раз записывает данные.
– Давайте осмотрим вашу девочку.
– Сейчас она будет орать. Не любит, когда ее трогают, особенно чужие, – не доверяю я врачам.
– При температуре сорок любые руки чужие. Ничего, сейчас мы подружимся. Вот так, молодец, умница, какая красивая девочка, – врач старалась выглядеть теплой и заботливой. – Давайте померяем температуру.
Анна вложила градусник под мышку малышке. Та молча согласилась.
– Что принимали?
– Парацетамол.
– Парацетамол после тридцати восьми с половиной не помогает.
Фельдшер, который все это время молчал и стоял у двери, вдруг вставил свое:
– Ушел. Охранник ушел.
Женщина, обернувшись на дверь, сняла маску.
– Наконец-то. Ну, здравствуйте, Анна Родина. Мы приехали за вами. Нет времени вдаваться в подробности, есть возможность вывезти вас из зоны и сегодня же ночью переправить через границу домой.
В комнате повисла тишина. Стало слышно тяжелое дыхание Римки.
– Как это возможно? Почему я должна вам доверять? – осторожно загорались глаза Анна. Какая-то далекая радость начала наполнять ее сердце Римом.
Тут же перед глазами встал Рим, затем его заслонил Борис, которого очень захотелось увидеть, больше чем Рим, быть может, даже простить. Хотя, в чем он был виноват? В том, что вытащил меня из этого порочного круга? Как ни странно, вся та боль, ненависть – она куда-то исчезла. Вина с годами стерлась и превратилась в прощение. Анна только сейчас осознала это. Будто сегодня был день прощения. Прощеное воскресенье: и прощение и воскресение, все смешалось в одной этой ночи.
«Ура! Я смогу лечь в постель на свежие простыни, потом проснуться от этого плена, будто от кошмара, поняв, что это был только сон. Перевернуть подушку на прохладную сторону и спокойно спать дальше».
Я посмотрела на фельдшера, тот попытался улыбнуться в ответ на мою улыбку. Лицо его явно преувеличивало количество наличного счастья.
– Потому что у нас больше не будет такой возможности, и у вас тоже, – поставил ультиматум мужчина. – Вы же знаете, кто вас сдал, и понимаете, почему вы здесь? – дохнул фельдшер чем-то затхлым.
– Не знаю, не хочу понимать, – замкнулась, словно на допросе, Анна.
– Посмотрите на градусник, – напомнила мне женщина. – Сколько?
– Сорок.
– Не падает. Придется колоть. Жалко такую красавицу. Укол болезненный.
Она расстегнула верхнюю пуговицу халата. Ее немолодую шею прикрывал белый шарфик.
– Подумайте над нашим предложением, у вас еще есть несколько минут, – посмотрел фельдшер на свои часы…
– А что тут думать? – мысленно уже начала собираться Анна.
– Только есть одно условие.
– Какое?
– Малышку нужно будет оставить здесь.
– В смысле? – испытала я на себе тот самый болезненный укол.
– Ну, то есть мы ей сейчас делаем укол.
– Какой укол?
– Не волнуйтесь, это анальгин с димедролом, чтобы упала температура. Делаем укол, забираем вас в больницу. Далее девочка ваша остается там, а вас перевозят за границу.
– Я без нее никуда не поеду! – прижала к себе Римму мать.
– Поставьте еще раз градусник девочке, подумайте, – сняла со своей шеи шарфик женщина и, сделав из него петлю, положила себе на колени.
Фельдшер замолк. Лицо его было, как мелкая неприятность, с которой не хотелось разговаривать, тем более идти ни на какие компромиссы. «Весь его белый наряд – сплошная зима. Вот только что была постельная сцена, а теперь – простуда. Душа моя будет задыхаться в ней астмой снега, понимая, что часть меня – Римма – осталась здесь. А этот фельдшер будет говорить мне: “будьте здоровы, если еще не померли”».
Он снял с лица повязку и сунул ее в карман, что быть как можно красноречивее, однако его розовые губы продолжали молчать. В эту минуту молчание было красноречивее всяких слов.
Зима пробежала по телу Анны от одной этой мысли. Лицо ее стало холоднее стервы, только что летавший в голубом небе голубь замерз под ее взглядом. Рим, лето – все осталось за забором. Но согласись Анна, даже там, в раю, эти двое уже ничем не смогли бы ее чувства реанимировать.
В комнате тоже наступила зима. Ночь сморщилась, как и я, как и врач, от недосыпания. Тишина падала хлопьями снега, зима беспокойно перебирала ногами: фельдшер расстегнул халат и начал ходить туда-сюда. От одного скрипа этой мысли можно было замерзнуть. Я смотрела то на него, то на малышку, которая уснула. За что мне такое наказание? Неужели ты и есть мое наказание, которое я понесла, и теперь буду носить всю свою жизнь? Снова скрип половиц. Зима приближалась, она ждала ответа. Душа не хотела в петлю предложенного теплого шарфика. Она кричала, потом, упав на колени, прозой и рифмой стала умолять: «Останься! не ходи туда, где замерзшие слезы лета стирают охлажденного света пальцы. Мать твою, ты же мать!»
Именно эта мысль оказалась последней каплей сомнений, последним скрипом качелей, последней унцией на весах. Ей больше не хотелось никого уничтожать, в том числе – себя, заниматься бог знает чем, бог не знает зачем. Она хотела быть просто матерью.
– Сколько? – разбудила молчание женщина в белом.
Я вытащила у малышки градусник, тот показывал тридцать девять с половиной. Температура начала падать.
– Вы подумали? – перевел женский вопрос мужчина.
– А что тут думать? – Анна посмотрела сурово сначала на женщину, потом на спящую на ее руках дочь. Волосы у Риммы сбились и вспотели. Несмотря на температуру, она даже улыбнулась во сне и что-то пробормотала. Анна задумалась, взгляд ее стал влажным, он распадался на молекулы до тех пор, пока не нашел точку опоры в виде двух позолоченных туфелек Риммы, которые стояли аккуратно у кроватки и ждали своего бала.
Сноски
1
Американский фильм (1955), иногда переводится как «Семь лет желаний». В главной роли – Мэрилин Монро. Фильм содержит знаменитый эпизод, когда поток воздуха из решётки вентиляционной системы Нью-Йоркского метро раздувает юбку белого платья героини (прим. ред.).
(обратно)




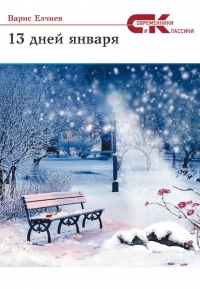

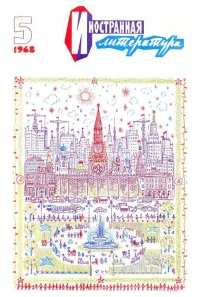

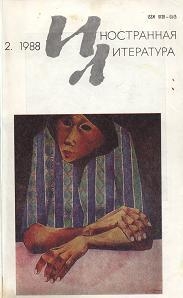
Комментарии к книге «d’Рим», Ринат Рифович Валиуллин
Всего 0 комментариев