Первая глава
тоят жаркие дни второй половины августа. Солнце клонится к западу, но еще ослепительно сверкают косые лучи, заливая неоглядный простор хлопкового поля. В густой зелени листьев кое-где мелькают пушистые белые хлопья, отливая серебром в ласковом сиянии солнца.
Синее небо безоблачно; в тихом прозрачном воздухе чуть приметно дуновение ветерка; едва слышно шелестят тяжелые коробочки, покачиваясь на тонких, гибких ветвях хлопчатника. Так крепко сплелись меж собой эти ветви, что трудно проникнуть под их зеленый свод.
В поле по двое, по трое работают колхозники, звучат голоса, рассыпается смех. Над арыком рядами стоят тутовые и — ближе к селу — урюковые деревья. Неумолчно заливаются жаворонки; «джюип-джюип», — поют они, радуясь тому, что все так прекрасно вокруг. И кажется, будто это коробочки хлопка звенят, покачиваясь на упругих ветвях.
Поливальщик с лопатой на плече идет вдоль арыка, и над полем разносится песня:
Звонко, звонко звенят бубенчики твои, Зимний день в весну обратит улыбка твоя. Брось, красавица, свой нежный взор на меня…Вдруг песня обрывается. Девушка, разрыхлявшая землю под кустами хлопчатника, неожиданно выпрямилась, и ее лицо оказалось вровень с лицом поливальщика, который шел мимо и пел песню.
Поливальщик останавливается, снимает с плеча лопату, втыкает ее в землю. Опустив глаза, сжимая в руках скользкий черенок лопаты, он говорит негромко:
— Айсолтан…
Айсолтан смотрит на поливальщика. Голова его обмотана платком, ворот синей рубахи распахнут, рукава засучены выше локтей. Крепкая грудь, мускулистая шея, руки и лицо покрыты загаром, кожа золотится, как бронза под лучами солнца. Серые штаны закатаны до колен. Босые ноги тонут в мягкой насыпи арыка, и влажный песок просачивается между пальцами.
Поливальщик не смотрит на Айсолтан, и она угадывает его смущение, видя, как он отвел глаза и как вздрагивают его щеки от невольной радостной улыбки. Это придает ей смелость. Как-то весело, весело и легко становится вдруг Айсолтан, и она не знает сама, чего ей хочется — не то еще больше смутить поливальщика, не то прочь отогнать робость, которая сковала его. Айсолтан говорит:
— Ну, Бегенч, что же ты сразу умолк?
Бегенч поднимает глаза и смотрит прямо в лицо Айсолтан.
Черные брови Айсолтан разлетаются птичьими крыльями, в темных, широко раскрытых глазах шаловливо играет солнце; нежные губы улыбаются, и, как белые бусинки, блестят ровные влажные зубы. Кто скажет, что Айсолтан красавица? Но когда она так улыбается и на щеках у нее смеются ямочки, она кажется Бегенчу самой нежной, самой милой, самой красивой девушкой на земле. Бегенч шутник, весельчак, он никогда не робеет перед другими девушками. Только при виде Айсолтан смущение охватывает его, привычные шутки не идут с языка и он кажется себе неловким и глупым. Не раз в присутствии Айсолтан на Бегенча вдруг нападал страх: а не сказал ли он что-нибудь неуместное, не подобающее? Сейчас он силится вспомнить песню, которую только что напевал, и не может. Бегенчу еще больше становится не по себе: а вдруг это была какая-нибудь глупая, бесшабашная песня? И, совсем потерявшись от смущения, он молчит, сжимая в руках лопату.
Снова спрашивает его Айсолтан:
— Что же ты не поешь, Бегенч?
Не зная, что ответить ей, Бегенч бормочет:
— Да просто так…
Но Айсолтан не отстает от него:
— Что это значит — просто так?
У Бегенча все уже перепуталось в голове, он удивленно смотрит на Айсолтан.
— Разве я пел?
— А разве ты не пел?
— Ах, ну да, просто так шел и напевал про себя.
— Ну вот, я тебя и спрашиваю.
— Что спрашиваешь?
Улыбается Айсолтан:
— Да вот о ком эта песня: «Звонко, звонко звенят бубенчики твои…»?
— Да, да, они звенят… звонко, звонко звенят…
— А чьи же это бубенчики?
— Чьи?.. — Бегенч растерянно отворачивается. Взор его падает на коробочки хлопчатника. — Вот чьи, — указывает он. — Бубенчики хлопчатника!
Смеется Айсолтан:
— Ой! Что ты болтаешь, Бегенч! Какие же у хлопчатника бубенчики?
Но Бегенч уже овладел собой. Его страх прошел, и он говорит:
— А ты погляди, Айсолтан, — разве это не бубенчики? Смотри, каждый куст, как разряженная невеста!
Сравнение Бегенча нравится Айсолтан. Она внимательно оглядывает пышный куст хлопчатника и, помолчав немного, говорит:
— Ты это хорошо сказал, Бегенч. Только если песня твоя про хлопчатник, то к чему же эти слова: «Зимний день в весну обратит улыбка твоя»?
Нет, Бегенч больше не боится Айсолтан, словно перед ним не она, а какая-то другая девушка; смело глядя ей в лицо, он восклицает:
— Как к чему? Ведь каждая коробочка хлопчатника — это бутон; когда он распускается — это улыбка, каждое волоконце хлопка — солнечный луч, оно веселит душу, светом озаряет мрак, зиму превращает в весну!
Айсолтан в задумчивости срывает лист хлопчатника, который касается ее груди, подносит его к губам, безотчетно вдыхая сырой, тяжелый запах. Потом она говорит, и ее голос звучит теперь совсем по-другому, проникает Бегенчу в самое сердце:
— Бегенч, я не раз слышала, как ты выступаешь на собрании, делаешь доклад. И я всегда знала, что ты умеешь хорошо, складно говорить. У тебя богатый язык, красивый. Почему же ты не пишешь стихов, Бегенч?
— Ну, что ты, Айсолтан! О, если бы я был поэтом, я бы воспел хлопок! Я бы так воспел его! Все свои стихи я подарил бы ему. Ах, какое это растение, Айсолтан! Его нужно холить и беречь, как ребенка. И оно такое нежное, как девушка. А как трудно ему угодить! Оно капризнее самой строптивой невесты, за которой как ни ухаживай — ей все мало. Да ты не хуже меня это знаешь — разве ты сама не ухаживаешь за ним? Все мы круглый год, и в стужу и в зной, холим и оберегаем его. Мы думаем о нем дни и ночи, — ведь все наше добро, все наше богатство в нем.
Айсолтан роняет лист хлопчатника и смотрит в упор на Бегенча.
— Ты хорошо сказал о том, как много труда и забот должны мы отдавать хлопку, о том, какое это капризное растение. Но твои последние слова… Не хватил ли ты через край, Бегенч?
— Я понимаю, Айсолтан. Конечно, и зерно, и сады, и огороды — все это нужно. Все, что родит земля. Да ведь хлопок-то растет не везде. По хлопку мы занимаем второе место в Союзе. Есть у тебя хлопок — и в твоих чувалах будет зерно, а в твоем доме — все, что ты захочешь себе купить. Хлопок — это залог привольной, зажиточной жизни. Наш край богат солнцем, оно у нас горячее и щедрое. Вот погляди на эти поля, залитые солнцем! Эта земля, если мы будем хорошо заботиться о ней, даст нам с каждого куста столько хлопка, сколько баран дает шерсти…
Айсолтан улыбается, но ее улыбка, которая всегда была радостью для Бегенча, кажется ему недоверчивой, это обижает его.
— Что, Айсолтан? Ты не веришь тому, что я говорю?
Снова улыбается Айсолтан, и Бегенч видит, что он ошибся, — ее улыбка самая прекрасная на свете; она, как всегда, радостью наполняет его душу.
— Я верю, Бегенч. Я улыбаюсь потому, что мне нравится, как ты говоришь о хлопке.
Бегенч вытаскивает лопату, которая глубоко ушла в мокрый песок, и говорит:
— Послушай, Айсолтан. Ведь не я один — вся страна знает о твоих делах. Большую славу заслужила ты со своим звеном. Только напрасно смеешься над моими словами. Я сам знаю, что ты лучше меня понимаешь в хлопке. Да ведь не об этом я.
— А о чем же?
— Я вот что хотел тебе сказать: много тревоги, забот, трудов несли мы полгода на своих плечах. Теперь мы будем собирать плоды этих трудов. Видишь урожай — вот он, погляди на него! Ничто не вырвет его из наших рук, лишь бы хлопок раскрылся вс-время, пока не ударили морозы. А тогда только собирай — и мы соберем все до последней пушинки. Вот я и пел-распевал, потому что у меня играет сердце!
Айсолтан чувствует, как искренно, от души сказаны эти слова. Она снова смотрит на расстилающееся перед ней поле, и ей кажется, что она видит его впервые. Нежное, шелковистое волокно кое-где выбивается наружу пышной пеной, кое-где чуть белеет между створками, плотное, круглое, как куриное яйцо. Некоторые из коробочек еще не совсем оформились — они будут зреть и набухать. А на верхушках кустов еще колышутся желтоватые цветы и тянутся к небу, к благодатному, живительному солнцу.
Айсолтан смотрит, смотрит и не может наглядеться; душу ее переполняет восторг. «Бегенч правду говорит», — думает Айсолтан. Она видит перед собой это поле, каким было оно полгода назад, — глинистое, пустое, гладкое, как ладонь руки. Гляди не гляди — не увидишь ни одного зеленого кустика. Осенью и весной здесь ревели тракторы, острыми плугами выворачивая пласты земли. Сеялки прошли по взрыхленному полю, рядами разбрасывая семена. Миновала неделя, и под лучами весеннего солнца из земли выглянули крошечные зеленые ушки. Они расшили черное поле причудливым шелковистым узором, и, начиная с этого дня, звено Айсолтан почти не покидало своего участка. Девушки вскапывали, разрыхляли кетменями землю вокруг молодых побегов, разравнивали ее. Их яркие платья цвели на поле, как большие, колеблемые ветром маки. Еще через несколько дней стебли хлопчатника, уже выпустившего по три-четыре ушка, вытянулись, порозовели, как журавлиные ноги. Айсолтан работала вместе со своим звеном не покладая рук, и хлопчатник на глазах рос, поднимался, наливался соками день ото дня. Вместе с ним росла и радость в душе Айсолтан. Немало и тревог пережила она за эти полгода. Какой страх нагоняли на нее весенние ливни, когда разлившаяся бурным потоком вода грозила погубить, сгноить в земле еще не давшие всходов семена! А после дождя припекало солнце, и затвердевшая корка земли могла задушить всходы. И нужно было снова разрыхлять землю кетменем, увлажнять ее, делать бороздки. Страшен был и сухой, знойный ветер, который вдруг начинал дуть день за днем, грозя засушить еще не окрепшие растения.
А если во-время не приготовишь удобрений, не накормишь хлопчатник, он начнет хиреть от голода. Могла случиться и другая беда: бывало ведь, что на поля нападали совки и высасывали все соки из молодых ростков. Правду сказал Бегенч — хлопчатник, как дитя, требует неусыпного ухода. Ночи не спала Айсолтан, страх терзал ее: что, если все их труды пропадут? И вот теперь… Теперь хлопок скоро раскроется — и тогда только успевай собирать: все новые и новые коробочки будут, как живые, раскрываться одна за другой. Айсолтан наденет свой фартук и пойдет по рядам, вытягивая волокно из коробочек, и оно, как молоко из сосцов верблюдицы, заструится под пальцами…
Айсолтан стоит, прислушиваясь к тихому, ритмичному шелесту листьев, и ей кажется, что этот шелест складывается в певучие строки стихов. Погрузившись в свои думы, она снова срывает веточку хлопчатника, разглаживает пальцами листья. Бегенч смотрит на Айсолтан, и глаза его сияют от восторга. Айсолтан невысока ростом, стройная. Свободными складками падает ее широкое платье, обрисовывая крепкую грудь. Тонкие смуглые щиколотки кажутся тугими, как натянутые струны. Айсолтан веселая девушка; у неё прямой, смелый взгляд, и она похожа на птицу, которая сейчас взмахнет крыльями, полетит и запоет. Черные волосы венком уложены вокруг головы, чтобы не мешали при работе. Бегенч смотрит на ее золотистую от загара шею, на нежный подбородок и тонкие пальцы, которые играют листом хлопчатника, и сердце часто-часто колотится у него в груди.
Год из году и день изо дня видел Бегенч Айсолтан, и с каждым днем его все больше тянуло к ней. Ему казалось, что если они соединят свою судьбу, он будет счастлив всегда, до самой смерти. Но Бегенч не смел сказать ей об этом. А последнее время он стал еще больше робеть перед Айсолтан. «Теперь, — думал Бегенч, — она, верно, загордилась. Смотреть на меня не захочет. А что скажут люди? Бегенч, мол, прежде не думал об Айсолтан, а как дали ей звание Героя Социалистического Труда, так стала она ему всех краше; видать, этот парень гонится за чужой славой».
Случалось, мать говорила ему:
— Пора бы тебе жениться, Бегенч. Пора устроить свою жизнь, сын мой. Разве мало хороших девушек в нашем селе? И мы не бедняки. Справим свадьбу, устроим той наславу. Выбери себе невесту, сынок. Вот хотя бы Айсолтан — чем плохая девушка? Нежная, как цветок. Давай посватаем ее.
Но Бегенч только сердился в ответ на такие речи матери.
— Что ты говоришь, мать! Уж ты прости, но я свою судьбу никому в руки не отдам, даже тебе. У меня есть глаза — сам выберу, есть язык — сам посватаюсь. И прошу тебя — ты этих пустяков никому не вздумай повторять.
Так говорил Бегенч, а на сердце у него была иная дума:
«Ну чего она ко мне пристает? Поговорила бы сама с Айсолтан, узнала, что та на это скажет». А потом досадовал на себя: «Эх ты, маменькин сынок! Эх ты, слюнтяй!» И, собравшись с духом, принимал решение: «Я свободный человек, сын свободного народа. Чего я страшусь? Пойду к Айсолтан и прямо скажу ей о своем желании. Не станет же она меня бить или ругать. Вот улучу минутку и скажу ей все напрямик!»
Но решать-то Бегенч решал, а сказать нехватало смелости. Хоть немало было удобных случаев, но стоило ему увидеть Айсолтан — и язык прилипал к небу.
И вот сейчас стоит Бегенч перед Айсолтан и смотрит на нее, не отрывая глаз. А она молча играет веточкой хлопчатника, роняет ее на землю, искоса взглядывает на Бегенча, улыбается… И вдруг словно ветер подхватывает Бегенча, и он, уже ничего не видя вокруг, с размаху втыкает в землю острую лопату, втыкает под самый корень куста и делает шаг к девушке.
— Айсолтан… — говорит он, но, увидев, что подсеченный под корень куст никнет к земле, поспешно выдергивает лопату и умолкает, повесив голову.
Айсолтан, пробудившись от своих мечтаний, смотрит во все глаза на Бегенча и ждет. Но тут ее взгляд тоже падает на поникший хлопчатник, и с тихим, горестным возгласом она приподнимает зеленые ветви с полураскрывшимися коробочками и, притянув к себе, ласкает их, словно мать ребенка. Гладкие, отливающие на солнце серебром листья кажутся на ее красном шелковом платье серебряными апбасы и чапразы, которые туркменские женщины носят как украшение на груди.
Бегенч, точно провинившийся ребенок, опустив голову, стоит перед Айсолтан. Потом украдкой взглядывает на нее. Он видит, как она ласкает хлопчатник, словно больное дитя, — белые пушинки хлопка у нее на груди кажутся Бегенчу слезинками Айсолтан, и он снова огорченно потупляет взор.
— Прости меня, Айсолтан, — говорит он. — Сам не знаю, как я это сделал.
Айсолтан видит, как опечалился Бегенч, но ей хочется помучить его.
— Ишь ты, сам побил — и сам плачешь!
Бегенч жалобно возражает:
— Да нет же, Айсолтан, честное комсомольское, я ведь нечаянно!
Айсолтан шутливо пригибает ветви хлопчатник к лицу Бегенча, и они накрывают их обоих, словно шатер. Мягко и задушевно говорит Айсолтан:
— Ну, нечаянно так нечаянно. Что губы надул? Слезами горю не поможешь.
Бегенч даже не заметил, как тяжелые коробочки хлопчатника ударились о его плечо. Но вот нежная рука Айсолтан на мгновение касается руки Бегенча, и по телу его пробегает дрожь. Бегенч чувствует, как горит у него сердце. Он роняет лопату и протягивает руки к Айсолтан.
В эту минуту неподалеку раздается возглас:
— Э-эй! Айсолтан! Иди-ка сюда!
Вторая глава
еление колхоза «Гёрельде» стоит на высоком месте, над шумливым арыком Энеяб. Воздух здесь прозрачен и чист. Далеко вокруг видны поля и сады; они сливаются на горизонте в голубовато-серую дымку.
Айсолтан необычно рано покинула сегодня хлопковое поле. Она стоит на дороге, ведущей в колхоз, смотрит вдаль, на родной поселок, и зеленые сады.
раскинувшиеся на возвышенности, почему-то напоминают ей сейчас веселые кудрявые рощи и зеленые пологие холмы России, виденные ею на картинах.
Что случилось сегодня с Айсолтан? Почему каждая мелочь кажется ей необыкновенно большой и важной, словно впервые раскрылись ее глаза, словно все изменилось вокруг, словно и она сама стала другой? Почему бредет она без цели, не думая ни о чем, почему поет сердце у нее в груди?
Айсолтан и Бегенч родились и выросли в одном селе, учились в одной школе, работали бок о бок на полях своего колхоза. Они встречались друг с другом по нескольку раз на дню, но ни одна из прежних встреч не была похожа на эту. Что-то новое пробудилось сегодня в душе Айсолтан. Айсолтан хорошая девушка; у нее чуткое, горячее сердце, она нежно любит мать, всегда готова прийти на помощь любому из колхозников, всей душой болеет за урожай, ночи напролет может просидеть за книгой, а родину свою Айсолтан любит так горячо, что не пожалеет отдать за нее жизнь. Но то, что родилось сегодня в душе Айсолтан, совсем ново и неожиданно для нее. Такого с ней еще никогда не бывало. Это и радует её, и тревожит, и причиняет какую-то смутную боль.
Солнце, приветливое и благодатное, как всегда в этом краю, щедро льет на землю прощальные лучи. Зеленые хлопковые поля, колхозные сады, огороды — все мирно покоится вокруг. Все как прежде. Что же случилось с Айсолтан? Почему нет покоя в ее душе? Почему так бьется ее сердце, словно ему стало тесно в груди? Почему Айсолтан хочется бежать куда-то без оглядки, кричать, петь свои девичьи ляле?.. Хочется поделиться с кем-то этой необъяснимой радостью. И почему вдруг безотчетной тоской сжимается ее сердце?
А что говорила она сегодня членам своего звена? Какие давала им поручения? Быть может, все это было невпопад? Быть может, они смеялись над ней, когда она ушла, дивясь и спрашивая друг друга: «Что такое случилось с нашей Айсолтан? Почему она стала как безумная? Куда это она убежала в такую рань? Может, ее позвал кто-нибудь?»
Так думает Айсолтан, медленно бредя вдоль арыка. В глубокой задумчивости огибает она хлопковое поле и вдруг видит перед собой Бегенча. Широко раскрыв глаза, затаив дыхание, смотрит прямо перед собой Айсолтан. Нет никакого Бегенча. Только желтоватый цветок приветливо кивает ей, покачиваясь в зелени листьев, словно хочет напомнить о чем-то Айсолтан. Бегенч… Ну, конечно, Бегенч! Он виноват во всем. Что тут от себя таиться! Бегенч! Вот что случилось с ней сегодня. Это случилось, когда они стояли рядом среди зеленых шелковистых листьев и шуршащих коробочек, а гибкие ветки хлопчатника сплелись над ними, как шатер. Это продолжалось только минуту, но разве это была не самая сладостная минута в ее жизни? Почему же она не продлилась год, вечность? Разве Айсолтан не отдала бы за нее все, что у нее есть, все, что у нее будет? Почему в эту прекрасную, как солнце, как земля, как песня, минуту окликнули ее? Почему нарушили первую в ее жизни такую необыкновенную радость? Этот неуместный оклик помешал Бегенчу произнести то, чего она ждала, помешал их сердцам раскрыться навстречу друг другу. Эта минута! Возвратится ли она когда-нибудь? Или она была так же коротка, как жизнь мотылька-однодневки? Нет! Нет, это только первая нежная завязь. Распустится цветок, расцветет, и каждый лепесток его будет страницей золотой книги, в которой пишут о нашей жизни!
Айсолтан кажется, что у нее за плечами вырастают крылья; она окидывает взором расстилающиеся перед ней поля, и сердце ликует в ее груди.
«Я сегодня впервые пришла в этот мир, — думает Айсолтан, — жизнь моя начинается сегодня».
Айсолтан выходит из хлопчатника на бахчи.
Здесь, куда ни кинь взор, всюду лежат дыни и арбузы. Арбузы — темнозеленые, как листья карагача, и нежно-зеленые, как первые весенние всходы, полосатые и одноцветные, продолговатые и круглые. Среди больших пожелтевших листьев они кажутся тяжелыми, гладко обточенными водой валунами, скатившимися сюда со склонов гор.
Дыни — вахарманы, полосатые замча, паяндеки, гокторлы, чалма-секи, гокмюрри, белые терлавуки, каррыкызы, рябоватая, в мелком сетчатом узоре гу-ляби — весело золотятся на солнце. Некоторые дыни испещрены такими широкими трещинами, что кажется, будто из них вырезали целые дольки. От светлых гладкокожих дынь исходит приторный аромат. Бледножелтые, острые, как иглы, усики грозно торчат на толстых плетях.
Груды уже снятых дынь и арбузов округлыми желто-зелеными холмами высятся над бахчой. Трехтонная машина, доверху нагруженная большими спелыми дынями, выезжает на дорогу, поднимая облака пыли.
У края бахчи громоздится гора арбузных корок. Женщины, засучив рукава, подкладывают колючку под огромные котлы, — в котлах варится арбузная патока. Под легкой, ноздреватой пеной патока тяжело бурлит, издавая пыхтящее «парс-ларс». Пена нежно розовеет, и над котлами стоит сладкий аромат.
Пожилые колхозники и колхозницы, сидя на корточках, разрезают на тонкие дольки предназначенные для сушки дыни, раскладывают эти дольки рядами. Те дольки, что уже выпустили из себя сок, переворачивают на другую сторону, потом свивают в длинные жгуты и сваливают на невысокие навесы. Большие желтовато-коричневые груды похожи издали на дремлющих слонов. Золотой загустевший сок стекает с них тяжелыми каплями.
Айсолтан идет дальше. Она входит в колхозный сад, и ее сразу охватывает прохлада. Ровными, строгими рядами стоят здесь плодовые деревья, меж ними разбиты прямые, как полет стрелы, дорожки, которые теряются порой в густой траве. Спелые осенние яблоки, продолговатые и круглые, гнут своей тяжестью к земле длинные гибкие ветви. Розовато-желтые, зеленые и светлокоричневые груши, выгнутые, как сувкяди[1], проглядывают в отливающей серебром листве. Золотистая айва горделиво поблескивает на солнце кожицей, словно хочет сказать, что ей не страшны осенние заморозки. Абрикосовые деревья, которые уже отдали свои плоды человеку в пору летнего зноя, замерли в величавом покое. Молодые гранатовые и инжирные деревья, еще не приносившие плодов, похожи на тонконогих подростков, которые только вступают в пору зрелости. Виноградник захватил несколько гектаров земли. Под зелеными, а кое-где уже пожелтевшими листьями тяжелые лиловато-черные и прозрачно-зеленые гроздья япрака, гелинбармака, тербаша и караузюма свисают почти до самой земли. И повсюду в открытых ящиках, осторожно срезанные и уложенные заботливой рукой, лежат яблоки, груши, виноград, готовые к далекому пути.
Бахчи, плодовый сад, виноградник — все, что видит вокруг себя Айсолтан, наполняет ее сердце ликованием. Вскинув руки, словно желая обнять эту землю, она восклицает:
— Наша земля, как золото! В старинных книгах восхваляли райские сады. Я не думаю, чтобы они были прекраснее наших.
Айсолтан снова, любуясь, окидывает взглядом сад и замечает, что трава под деревьями уже начинает блекнуть. Девушку охватывает раздумье:
«Ах, если бы только у нас было побольше воды, какие бы плоды взрастила эта земля! Вода… Как жаль, что мы еще до сих пор не можем досыта напоить нашу землю! Неужели желание моего сердца так никогда и не исполнится? Неужели я не пущу на наше поле столько воды, сколько нужно, чтобы утолить его жажду? Бегенч, секретарь комсомольской организации, сам обходит колхозные поля, чтобы ни одна капля воды не пропала даром. Бегенч молодец, но воды у нас все-таки нехватает. Если бы мы могли лучше напоить водой наше поле, то с каждого гектара мое звено собрало бы в этом году семьдесят пять центнеров хлопка. Почему, почему у нас мало воды? Почему наша земля вечно должна томиться от жажды? Почему благодатные воды Аму-Дарьи не напоят наших полей?»
Айсолтан верила, что капризные воды Аму-Дарьи, подчинить которые мечтали еще деды и прадеды, будут покорены советскими людьми. И она с великим нетерпением ждала эту воду. Айсолтан знала, что осуществлению грандиозного плана помешала война, знала, что там, где прошел огонь войны, города и села превращены в пепелища, и страна напрягает все силы, чтобы снова дать жизнь этим селам и городам; она понимала, что в четыре года не так легко восстановить то, что было разрушено дотла. Однако, все еще не видя на полях обильных аму-дарьинских вод, девушка невольно грустила, забывая порой, что говорит пословица: «Ребенок торопится, а тутовник поспевает в свой срок».
Айсолтан чувствует, что у нее теперь две заботы, две думы на сердце. Одна дума была с ней всегда, она никогда ее не покидала: это дума о воде. Теперь к этой думе присоединилась еще другая — о Бегенче. И Айсолтан говорит себе:
«Верю я, верю в то, что великая партия большевиков и могучая советская власть, которые так высоко поставили мой народ и меня, исполнят мечту моего народа, мою мечту — приведут обильные воды на наши поля! А вторая моя мечта… Это уж наше с Бегенчем дело!»
Когда Айсолтан подходит к колхозной ферме, красное, круглое, как решето, солнце катится почти над самой землей. Свежеет, и Айсолтан полной грудью вдыхает прохладу. Птицы хлопотливо щебечут, устраиваясь на ночлег в ветвях раскидистого дерева, которое перебросило через дорогу свою длинную тень. Со стороны поля несется протяжное мычание: большие пестрые коровы, стуча копытами и размахивая хвостами, возвращаются домой с пастбищ.
Айсолтан заходит на двор конефермы. Породистые гладкобедрые кобылицы, распушив длинные блестящие хвосты и чутко насторожив маленькие уши, смотрят в ее сторону. Длинноногие жеребята, подобно джейранам, играют и резвятся на просторном дворе, гоняясь друг за другом. Скаковые кони, пофыркивая, перебирают ногами, словно танцуют в своих чисто выметенных стойлах. Краса колхозной конефермы — гнедой конь Лачин, выгнув дугой шею, бьет копытом в землю, словно угрожая другим коням. Гладкие, крутые бока и куполообразный круп его лоснятся и блестят, словно покрытые позолотой. На выпуклой груди играют мускулы; она так широка, что между передними ногами коня может пройти человек в шубе. Во всем этом коне, даже в его острых настороженных ушах, в маленькой голове с белой отметиной на лбу, в блестящих, влажных глазах, чувствуется необыкновенная сила. Этот конь-семилеток ласков, как двухгодовалый жеребенок, и сказочно красив.
Тот, кто приходит полюбоваться на Лачина, стоит как очарованный, и долго не может отвести от него взора. На прошлогодних республиканских скачках он завоевал первенство. Теперь его снова готовят к скачкам и в сентябре увезут в Ашхабад. Конь Лачин любимец Айсолтан. Она не может пройти мимо колхозных конюшен, чтобы не зайти и не взглянуть на Лачина. И хотя колхозники кормят коней наславу, а для Лачина и подавно не скупятся, Айсолтан нередко приносит десяток яиц и просит конюха подмешать их к ячменю для Лачина. Лачин — гордость колхоза «Гёрельде».
Айсолтан идет через поселок, и он кажется ей маленьким городом. Вон под навесом раздуваются и опадают кузнечные мехи, издавая странные звуки — «васс-васс»; от горячих углей поднимается зеленовато-белое пламя, и раскаленное железо цветет в этом пламени волшебным красным цветком. Кузнец с силой бьет по железу молотом; его обнаженная спина блестит, и по ней каплями стекает пот. Сапожники сидят в своей мастерской; зажав между колен выделанную кожу, они быстрыми, ловкими движениями продергивают через нее навощенную дратву. Из этой мастерской несется запах сырых кож и юфти. Вот портные аккуратно складывают сшитые одежды, смазывают и протирают свои машины. В маленькой мастерской часовщик, сдвинув очки на лоб, зажмурив один глаз, рассматривает механизм часов в лупу. Вон подле столяров и резчиков по дереву расставлены готовые двери, столы, табуретки, еще не собранные части повозок.
Айсолтан проходит по одной из улиц поселка, знакомой ей с детства, и, быть может, потому, что она сегодня как-то по-иному смотрит вокруг, ей кажется, что она попала сюда впервые. Похожие друг на друга, как близнецы, стандартные дома стоят по обеим сторонам улицы — каждый из трех комнат, с открытой верандой по фасаду. И около каждого дома на небольшом участке несколько плодовых деревьев. Айсолтан вспоминает, как однажды какой-то человек, приехавший погостить к их соседям, ночью по ошибке забрел к ним в дом, и с досадой думает об архитекторе:
«Почему он построил все дома на один лад? Разве нельзя было для каждого дома найти свою, особенную форму? Или, на худой конец, мог бы хоть по-разному их украсить. Один бы украсил узором ковра, другой — вышивкой кюрте, третий — узором тюбетейки джамборук, четвертый — курсакча. Тогда кто бы ни спросил: „А где здесь дом Айсолтан?“ — ему всякий ответил бы: „Ищи дом, где на стенах ковровые узоры, на дверях резьба, а над дверями лепные украшения, похожие рисунком на те, что женщины носят на груди“. А сейчас здесь, словно в городе: хочешь найти дом — ищи номер. Но если в городе на домах номера, так ведь там и дома не на одно лицо. Ну, да горюй не горюй, а уж построили; не перестраивать же заново. Вот если мы с Бегенчем… Если будет в моей жизни большая-большая перемена, тогда уж я построю себе дом по своему вкусу».
Айсолтан пересекает центральную площадь поселка. Здесь стоит большое светлое здание колхозной школы. Каждая ступенька лестницы, каждый кустик на дворе, даже каждый камешек на дорожке с детства дороги и милы Айсолтан. Десять лет училась она в этой школе вместе с Бегенчем. В атом дворе они играли, бегали, гонялись друг за другом во время перемен. Вон скамейка, на которой они любили отдыхать. Где были тогда твои глаза, Айсолтан? Почему ты словно видела и не видела Бегенча? Почему ты смеялась над ним, когда он иной раз отвечал на уроках невпопад? Почему ты, когда не понимала задачи, просила других ребят помочь тебе, а не его? Почему, когда он однажды повздорил с мальчишками и они набросились на него целой оравой и дразнили и мучили его, ты даже не подумала заступиться? Почему, почему свою детскую привязанность ты не отдала Бегенчу? Ну что же, видно, все приходит своим чередом, как весна, лето, осень, зима. На смену детству приходит юность, из ребенка становишься подростком, а потом наступает иная пора. В младенчестве любовь к матери заполняла все, затем родилась любовь к школе, к подругам, книгам…
Теперь пришла новая пора — пора расцвета. Прежде жизнь Айсолтан текла тихим, мирным ручейком, теперь она кипит и бурлит, разливаясь широким потоком. И в эту пору рождается новое чувство, совсем не похожее на все, что она испытала до сих пор. Айсолтан кажется, что оно зародилось где-то в самом укромном, самом нежном уголке ее сердца. И она дает себе клятву всегда, всю жизнь быть верной этой любви, беречь ее для Бегенча в золотом ларце своего сердца. Айсолтан говорит себе:
«Пусть Бегенч не слышит меня сейчас, не знает моих мыслей. Но он честный человек, я верю в него и не стыжусь моего чувства. Он не сказал еще мне о своей любви, но я знаю, что он любит меня».
Глядя на высокое здание клуба рядом со школой, Айсолтан вспоминает: в этом клубе она выступала вместе с Бегенчем. Драмкружок ставил пьесу «Джамал», и Айсолтан играла в ней роль Джамал, а Бегенч — Кемала. Ух, и сердилась же она тогда на Бегенча! «Почему он разговаривает со мной только пока я Джамал, а потом молчит, словно воды в рот набрал? Неужели ему и поговорить со мной не о чем и поделиться нечем? Неужели он такой бесчувственный? Нет, верно, он любит другую девушку». И все же Айсолтан надеялась, что после спектакля Бегенч подождет ее, чтобы итти домой вместе. Но когда она вышла из клуба, то увидела, что Бегенч и не подумал ее ждать. Он преспокойно удалялся по улице, что-то негромко напевая. Ах, как досадовала она тогда на Бегенча! Даже плохо спала ночь. А наутро повздорила с матерью и рассердилась еще больше — уже на себя. Не понимала она тогда, почему так задевает ее равнодушие Бегенча.
Встреча в хлопчатнике снова встает в памяти Айсолтан, и она радостно улыбается.
Погруженная в свои думы-мечты, Айсолтан медленно проходит по улице. Из широко открытых дверей колхозного кооператива доносятся оживленные голоса, — там идет бойкая торговля. Высокая женщина в шелковом платье и черном, с пестрыми цветами платке, наброшенном на голову, выходит из магазина. В одной руке у нее кулек с рисом, в другой — банка со сливочным маслом. Эта женщина с горделивой осанкой, с едва заметной сединой в густых темных волосах — мать Бегенча. И если она всегда была по душе Айсолтан, то сегодня сердце девушки еще сильнее тянется к ней. Айсолтан хочется подойти к Джерен, помочь ей донести покупки до дому, сказать: «Позволь, Джерен-эдже, пока ты будешь перебирать рис, я растоплю масло, поджарю мясо». Но Айсолтан боится предложить это. А что, если она услышит в ответ: «Эй, джигиджан, разве у тебя в своем доме мало дела? Верно, ты спутала наш дом с каким-нибудь другим, где не могут обойтись без твоей помощи? Так ступай туда, а мы уж как-нибудь и сами управимся». Эта мысль так поражает Айсолтан, что она замедляет шаг. Ей кажется, что она видит, как Джерен-эдже становится между ней и Бегенчем и властным движением руки отстраняет их друг от друга. Испуганная, подавленная этими мыслями, Айсолтан растерянно останавливается посреди дороги, а Джерен, которая, как видно, тоже задумалась, внезапно сталкивается с ней и от неожиданности едва не роняет банку. Она говорит с досадой, даже не поглядев на девушку:
— Эй, джигиджан, что это ты стоишь посреди дороги!
— Прости, Джерен-эдже, — извиняется Айсолтан, и голос ее звучит смущенно и робко.
Тут только Джерен видит, что это Айсолтан, и, в свою очередь немного смутясь, говорит:
— А, это ты, Айсолтан! Ну, как ты — жива-здорова, моя козочка?
— Жива-здорова, Джерен-эдже.
— С работы идешь? Желаю тебе, чтобы она всегда спорилась у тебя, моя голубушка.
— Спасибо на добром слове, Джерен-эдже. Желаю тебе здоровья. Да, я с работы. Но ты знаешь, сейчас в поле легко, даже не устаешь совсем.
— Милая Айсолтан, давно мне хочется с тобой посидеть, потолковать, да все никак не выберусь за разными хлопотами. Вот сейчас пойду приготовлю плов и буду тебя ждать. Выберешь время, так приходи. С матерью приходи — посидим, потолкуем.
— Спасибо, Джерен-эдже, придем, выберем время.
Джерен, улыбаясь, смотрит на Айсолтан, и в словах ее, обращенных к девушке, звучит материнская ласка. И, попрощавшись с Джерен, Айсолтан идет дальше, снова высоко подняв голову, и во взоре ее, устремленном вперед, снова светится радость, и сердце снова ликует у нее в груди. Вдруг она слышит, как кто-то окликает её, — это Потды остановил возле нее машину.
— Я поехал на поле за тобой, Айсолтан, а ты вон уже где. Небось, устала? — спрашивает Потды.
Айсолтан качает головой, смеется, что-то шутливо произносит в ответ. Потды даже не разобрал что, но этот смех и звонкий, счастливый голос говорят не о том, что она устала, а о том, как весело и радостно ей жить на земле. И не нужно быть таким сметливым парнем, как Потды, чтобы увидеть, что Айсолтан какая-то особенная сегодня, что с ней что-то произошло.
— Я ушла пораньше, хотела взглянуть на сад, на бахчи, — говорит Айсолтан.
— Так что же, мне машину поставить в гараж?
— Нет… возвращаться не стоит.
— А куда же ехать?
— Поезжай в поле, найдешь кого-нибудь — отвези домой.
— А кого бы, к примеру?
— Мало ли людей, которых притомила работа! Бегенч сегодня обошел с лопатой весь хлопчатник…
— А-а! Бегенч… Так Бегенча везти, значит?.. Ну, так бы и сказала сразу, что Бегенча.
— Да ты что заладил: Бегенч, Бегенч…
— А ничего, просто так, — красивое имя, красивый парень…
— Ну, хватит глупости болтать! Поезжай.
— А куда мне ехать?
— Я же сказала куда.
— Ну, а потом куда его везти, Бегенча-то? К тебе домой, что ли?
— Это еще зачем? Что ты выдумываешь!
— Так куда же мне его везти?
— Как куда везти? Отвези его к нему домой.
— К нему домой?
— Да что ты все повторяешь, как сорока?
— Да ведь он уже и так сидит у себя дома.
— А, так он дома!.. Ну ладно, поезжай куда хочешь.
— А может быть, передать что-нибудь Бегенчу? Айсолтан смотрит на Потды, сдвинув брови.
— Эй, Потды, придержи язык, — смотри, прогоню!
Но Потды не унимается. Прищурив свои и без того крохотные глазки и скривив рот, что, по его мнению, должно выглядеть весьма многозначительно, он говорит притворно-жалобным голосом:
— Айсолтан, да чем я виноват! Сказала бы мне: «Ты сегодня, Потды, приезжай пораньше», — я бы пораньше и приехал. А теперь вот Бегенч ушел домой один, а ты словно хочешь выместить на мне все свои мучения.
Айсолтан смотрит на него с гневом, но губы ее невольно складываются в улыбку — уж очень он забавен, этот Потды, особенно когда начинает строить такие дурацкие рожи. Кроме того, Айсолтан немножко мучит любопытство: что он хочет сказать своими глупыми намеками?
— Какие это еще мучения? — спрашивает она улыбаясь.
Потды замечает, что Айсолтан уже готова сменить гнев на милость. Он видит ее улыбку, яркий блеск ее глаз, чувствует, что творится с девушкой, и, поняв это все на свой лад, отвечает:
— Так ведь недаром же ты одна-одинешенька ходишь-бродишь сегодня по полям пешком!.. Кто-то в этом виноват, верно…
— Эй, Потды, как видно, с тобой нельзя добром — сейчас же язык распустишь. Убирайся вон! Чтоб мои глаза тебя не видели!
Как ни умел отшучиваться Потды, но под взглядом Айсолтан он все-таки оробел и вся его развязность сразу пропала. Он вспомнил, как однажды уехал куда-то без спросу, и Айсолтан пришлось его долго ждать. Вот и тогда у нее был такой же взгляд. Потды знает, что взгляд этот не предвещает добра. Прогнала тогда Айсолтан Потды. Еле-еле упросил взять обратно. И Потды спрашивает — теперь уже непритворно-жалобным голосом:
— Так что ты велишь делать с машиной?
— А что ты с ней вообще делаешь?
— Да ведь ты гонишь меня с работы, — угрюмо бормочет Потды, но Айсолтан слышит, что голос его дрогнул.
И снова ее губы улыбаются против воли. Она отворачивается от Потды и продолжает свой путь. Но, сделав несколько шагов, останавливается и, полуобернувшись, говорит Потды:
— Поезжай, займись делом. Но если ты еще раз позволишь себе свои глупые шутки, придется нам с тобой расстаться.
Потды видит, что Айсолтан не сердится больше, и, высунувшись из машины, кричит ей вдогонку:
— Айсолтан!
Айсолтан снова оборачивается и, хмуря брови, смотрит на Потды, а он:
— Может, все-таки поехать за Бегенчем?
Айсолтан бросает через плечо:
— Эх ты, пустомеля!
Потды не назовешь красавцем. Лицо его, пожалуй, больше всего походит на арбузную корку, всласть исклеванную курами. Нос у Потды сплюснут так, что сливается со щеками, а глаза запали глубоко-глубоко, и их почти не видно — так, одни только щелки. Но Потды не дурак и слывет острым на язык парнем. Однако он хоть и любит пошутить и никак не может удержаться, чтобы не подразнить Айсолтан, даже рискуя навлечь на себя ее немилость, но там, где нужно, он умеет держать язык за зубами, и честь этой девушки дорога ему, как честь родной сестры. Это хорошо знает и Айсолтан. Быть может, поэтому грубоватые шутки Потды так часто сходят ему с рук. А Потды чувствует доброе отношение Айсолтан и, по правде говоря, уже привык считать себя не шофером, а хозяином машины.
Айсолтан свернула на другую улицу. Из тамдыров[2], стоящих позади домов, вылетает бледножелтое пламя, дым густыми клубами поднимается к небу.
Пожилые колхозницы пекут чуреки, тут же на очагах варят обед, кипятят чай.
Солнце уже закатилось, и по зеленовато-голубому небу протянулись легкие, прозрачные облачка — розовые, лиловые, пурпурно-малиновые; ближе к горизонту края их горят и плавятся, как золото. Спускаются сумерки, и воробьи, обеспокоенные наступлением ночи, суетливо прыгают и чирикают. Где-то в стороне начинает работать мотор. Он испускает глубокий вздох, потом словно откашливается и переходит на ровный, дробный стук: «патыр-патыр». И утопающий в садах поселок вспыхивает огнями; кажется, что большие серебряные звезды упали с неба и повисли на ветвях.
Предавшись своим думам, Айсолтан не заметила, как поднялась на веранду; распахнув дверь в комнату, она звонко закричала:
— Мама! Ты где?
Женщина с ведром в руках выходит из-за угла веранды и, остановившись позади Айсолтан, говорит:
— Твоей матери нет у нас, милая. Она сегодня и не заглядывала.
Айсолтан вздрагивает и оборачивается. С изумлением смотрит на женщину и, поняв, наконец, что, замечтавшись, зашла не в свой дом, восклицает:
— Ой, Нязикджемал-эдже, прости меня! Мне показалось, что это наш дом. А я еще шла и думала: ну зачем настроили такие дома, — все, как один, не отличишь друг от друга!
Нязикджемал ставит на землю ведро с водой, приглаживает седые волосы, с неодобрением смотрит на Айсолтан.
— Ай, моя милая, что это ты вздумала, чтобы в колхозе да дома были не одинаковые! Может, ты еще захочешь, чтобы курица несла разные яйца?
— Нязикджемал-эдже, если у курицы яйца и одинаковые, то ведь цыплята-то разные. Если у нас колхоз, это еще не значит, что все должно быть на один лад, по одной мерке. У одних много трудодней, у других меньше. Один ловкий, спорый на работу, а другой с ленцой. И жизнь у них разная, и мысли разные. Почему же дома должны быть у всех одинаковые? Почему каждому не иметь дом по своему вкусу?
— Ах, голубушка моя, знаешь, как в старину говорили: «Не будь верблюд красив, а будь на ноги крепок».
— Неправильно это. Наше время другое, мы теперь хотим, чтобы все было и крепко и красиво.
— Ну уж не знаю, ты ученая. Может, это и верно. Тебе виднее, что белое, что черное.
— Нязикджемал-эдже, я хоть и могу отличить белое от черного, а вот видишь, свой дом не отличила от чужого.
Нязикджемал щурит красноватые веки, окидывает Айсолтан проницательным взглядом из-под седых насупленных бровей.
— Эх, голубушка, когда в сердце большая радость или печаль и все мысли летят в одну сторону, тут и самой недолго залететь в чужое гнездо. Ты не думай, что все это потому, что у нас дома построзны как-то не так.
Айсолтан невольно отступает в глубь веранды.
«Что же это такое? — проносится у нее в голове. — Мы с Бегенчем еще не сказали друг другу ни слова, а можно подумать, что о нашей любви знают уже все! То Потды со своими глупыми шутками, то теперь вот Нязикджемал. Не успели наши глаза обменяться взглядом, как весть об этом облетела, кажется, уже весь колхоз. Должно быть, не зря говорится, что и стены имеют уши. Ну что ж, мы ведь ничего не крадем и краденого не прячем, нам нечего стыдиться людей…»
— А то ведь знаешь, голубушка, и корова не ошибается хлевом, — назидательно говорит Нязикджемал.
Айсолтан звонко смеется этому неожиданному сравнению.
Искренно удивившись ее смеху, Нязикджемал спрашивает:
— А что, голубушка, разве не так?
Айсолтан спускается с веранды.
— Ты привела славный пример, Нязикджемал-эдже. Спокойной ночи!
Дома Айсолтан передает матери свой разговор с соседкой, и обе от души смеются. Потом, взяв узелок с бельем, Айсолтан идет в баню. Когда она вернется домой, на веранде для нее будет приготовлен и крепко укутан, чтобы не остыл до ее прихода, чайник зеленого чаю.
Третья глава
акинув на плечи пестрый шерстяной платок с длинной бахромой, опершись локтем о подушки, брошенные на ковер, Айсолтан пьет чай на веранде. Ее тугие черные косы, которые раньше были уложены вокруг головы, теперь свободно падают на грудь и, как живые, скользят по красному шелковому платью. Глаза Айсолтан рассеянно блуждают, перебегая от низенького шкафчика с посудой к столу, от стола к стулу, от стула к расписанному цветами пузатому чайнику на ковре.
Нурсолтан, невысокая, полная, с приветливым, добродушным лицом, приносит на веранду миску парного молока. Покрыв ее тарелкой, она опускается на ковер напротив Айсолтан и украдкой поглядывает на дочь. На широком лбу Айсолтан, на щеках около небольшого, чуть толстоватого носа, в углублении нежного, округлого подбородка мелкими, как бисер, капельками блестит пот. Большие черные глаза лучатся радостью.
Уже давно замечает Нурсолтан, что дочь ее вступила в пору зрелости. Уже не раз, ни слова не говоря Айсолтан, отсылала она появлявшихся в доме сватов ни с чем. А когда попробовала Нурсолтан заикнуться как-то о сватах дочери, так и сама была не рада. Вспомнить горько, как ответила ей тогда Айсолтан:
— Прошло то время, мать, когда девушек продавали за калым, когда, не узнав, что у них на сердце, выдавали замуж за немилых людей. Я свободный человек и живу в свободной стране. Жизнь свою я построю сама так, как захочу.
Крепко запали в память Нурсолтан эти слова, а все томится ее душа, хочется увидеть дочь замужем за хорошим человеком.
И, подперев ладонями подбородок, уткнув локти в колени, Нурсолтан погружается в глубокую думу. Айсолтан же, очнувшись от своих мечтаний, смотрит на мать и видит, что у той что-то есть на уме. Сидеть вот так и думать и молчать — это совсем не в характере Нурсолтан. Она обычно сразу же выкладывает все, что у нее на сердце. Такое непривычное состояние должно быть для нее очень тягостно. И Айсолтан хочет помочь матери излить свою душу. Не расспрашивая ее ни о чем, она начинает разговор издалека:
— Мама, посмотрела бы ты, как раскрывается хлопок. Верно, уж через неделю тебе придется надеть фартук.
Нурсолтан, мгновенно позабыв все свои тревоги, выпрямляется и, глядя на дочь помолодевшими глазами, восклицает:
— Ох, скорее бы уже он раскрылся, доченька! Что может быть на свете лучше сбора хлопка! Мы еще наденем фартуки!
— Правильно, мама. Я ведь знаю — если ты что задумаешь, то уж поставишь на своем. А по дому мы как-нибудь вместе управимся. Ночь длинна, успеем и чурек испечь и обед сварить.
Но вот опять, словно облачке, набегает дума на просветлевшее лицо Нурсолтан. Она отводит глаза от дочери и, глядя куда-то в сторону, в темный сад за верандой, говорит:
— Доченька, когда я была такой вот, как ты, жили мы в большой бедности и нужде, и работала я поденно на бая за один кран[3]. Солнце встает — я за работу, сядет солнце — тут только моей работе конец. Тку ковер, а у самой слезы из глаз, — так болели глаза от работы. Потом встретилась с твоим отцом. Он был такой же бедняк, как и я. Стали вместе работать, что было сил, сына растить. Только начали понемногу оправляться — новая напасть: пришли в нашу страну интервенты-англичане. Твой отец горячий был человек, он себя не щадил для народа. Взял винтовку, пошел вместе с другими на войну. Какая это лихая беда — война, знаешь сама. Под Германсегатом попал твой отец в руки к этим поганым англичанам. Долго они его мучили-терзали, потом бросили — думали, что уж прикончили совсем. Да вышло по-иному. С того дня и до самой смерти в долгу я у русского народа. Когда твой отец валялся полумертвый, в луже крови, подобрали его русские солдаты, выходили, поставили на ноги. Вернулся он домой без руки. С тех пор стали его у нас на селе звать Рахман Безрукий. Ну, да он и без руки был молодец. Сколько горя-мучений перетерпел, а все бывало веселый. И как стала у нас жизнь перестраиваться на новый лад, он от других не отстал, работал, хоть и без руки, а за семерых. Когда делили воду и землю, его выбрали председателем сельсовета. Он вместе со всей беднотой начал бороться с баями. Пять баев владели у нас тут, на селе, всей землей. Эти баи были настоящими шакалами. Виноградники, что испокон веков возделывались нашими дедами-прадедами, они захватили себе. Твой отец отдал виноградники беднякам. Тогда проклятые баи убили его…
Голос Нурсолтан обрывается: Опустив голову, она концом головного платка утирает глаза.
Не в первый раз слышит Айсолтан этот рассказ из уст матери. Айсолтан не помнит отца, но каждый раз, когда мать рассказывает ей о нем, ее охватывает страстное желание бороться со всем злом, какое еще осталось на земле, трудиться, быть достойной дочерью своего отца. Пусть бы мать каждый день рассказывала ей об отце, вспоминала все новые случаи из его жизни, добавляла все новые и новые черточки к его облику, чтобы встал он перед ней, как живой. Да ведь жалко мать. Сколько уж лет прошло с тех пор, а Нурсолтан все еще не может не всплакнуть, вспоминая своего Рахмана. И Айсолтан хочет перевести разговор на другое, но Нурсолтан продолжает:
— Ты была тогда еще несмысленыш, крошечная совсем, и месяца тебе не было. Только одно и умела, что молоко сосать. А твоему брату Аннамджану было уже десять лет. Хороший рос парень, крепкий и понятливый такой. Очень он отца любил. Помнишь, как он, о чем ни заговорит — все помянет об отце: «А вот, когда мы с отцом ходили на базар… А вот, когда отец брал меня с собой в поле…» А как учился! От книжки бывало не оторвешь. Выучился, агрономом стал. Да мало ему, бедняжке, пришлось поработать на наших полях. Не стало моего Аннамджана. Вырвали проклятые фашисты дорогого сыночка из моих рук…
Айсолтан с волнением, с болью в сердце слушает мать. Не выдержав, она прерывает ее:
— Мама, да перестань же ты себя расстраивать, бередить рану в сердце. Знаешь сама — слезами горю не поможешь. Сколько ни плачь, ни горюй, не вернешь этим Аннамджана. Не у одной тебя горе. Разве могли мы победить фашистов, освободить нашу страну без крови, без жертв? Ты же сильная, мама! Тах перестань горевать о прошлом. Думай лучше о будущем. Разве у нас плохая жизнь? А ты помечтай и о том, что впереди. Жизнь еще лучше будет.
Нурсолтан снова вытирает глаза и говорит слегка охрипшим голосом:
— Да я уж не плачу больше. Боль сердца — тяжелая боль, доченька. Тяжко носить ее в себе да молчать. Иной раз никак не смолчишь. А жизнь у нас и вправду хорошая. Я разве жалуюсь? Дал бы только бог, чтобы ты была жива-здорова да чтобы все у нас в колхозе шло на лад. Вот хлопок раскроется — то-то будет благодать! Ты не бойся, — я как повяжу фартук, так тоже не отстану от других. Только бы морозы не начались…
Как ни крепится Айсолтан, но воспоминания матери и ей растревожили душу. Но вы не знаете Айсолтан, если думаете, что она будет предаваться унынию. Ее голос звучит спокойно и бодро, когда она отвечает матери:
— Да, лишь бы не ударили морозы. Хлопок — золото, только поспевай собирать. Думается мне, что мы снимем по семидесяти центнеров с гектара…
Нурсолтан, улыбаясь, покачивает головой:
— Семьдесят центнеров?!
— Если мы снимем такой урожай, — говорит Айсолтан, — то, пожалуй, он только в один наш дом принесет не меньше ста тысяч.
— Вот было бы славно!
Айсолтан видит, что ей удалось развеять грустные мысли матери, и начинает ласково подшучивать над ней:
— Да на что тебе такая куча денег, мама? Куда ты их денешь?
— Ишь какую заботу выдумала! Деньги есть, а девать их некуда?! Чистая беда! А мы вот как соберем урожай, так устроим большой той. Тут денег много понадобится.
— Той? Это в честь чего же?
По веранде пробегает свежий ветерок, и Нурсолтан приглаживает выбившиеся из-под платка волосы. У нее так и вертится на языке одно словечко, она уже готова выложить Айсолтан свои заветные мысли, но все никак не соберется с духом. Однако только слепой может не заметить, что в глазах Айсолтан светится любопытство, и Нурсолтан заводит свой разговор, — разумеется, издалека:
— Знаешь, доченька, вот забыла тебе сказать — заходила ко мне Джерен…
Ну, дальше Нурсолтан могла бы и не продолжать: Айсолтан уже понимает, что было у матери на уме, когда она сидела, подпершись кулаком, молчала и как-то странно на нее поглядывала. Сейчас она примется за старое. Но, сказать по совести, сегодня это как будто не так уж возмущает Айсолтан. Впрочем, сна и виду не подает, а лишь переспрашивает как бы с удивлением.
— Джерен?
Нурсолтан видит, что дочка сегодня в особенно хорошем расположении духа, и решает направиться более прямым и кратким путем к намеченной цели.
— Да, знаешь, доченька, я тебе вот что хотела к слову сказать… Для всего приходит своя пора. Если созревшая дыня будет бестолку валяться на бахче и переспеет, то уж от нее никому нет никакой радости, так она и сгниет на грядке. Время-то вспять не повернешь обратно. Оно все идет и идет — и все вперед, а не назад. Да вот взять хоть цветы. Пока они цветут — все на них любуются: и посмотреть приятно и понюхать. А уж как отцвели — солома и солома. Кому она нужна, — корове на подстилку?
Айсолтан боится, что за вторым примером последует третий, еще более сокрушительный, и перебивает мать:
— Да зачем ты мне все это рассказываешь, мама? Я это и в пять лет знала.
— А ты, дочка, пословицу помнишь: «Выслушай заику до конца». Мы, конечно, живем — ни в чем не нуждаемся. Да сердце-то никак не насытишь. Одну думу-мечту исполнишь, а оно уже просит чего-то другого. Мои годы немалые, и есть у меня тоже своя дума-мечта.
Айсолтан прекрасно понимает, куда клонит мать, и говорит с легкой укоризной:
— Ну вот, так бы сразу и сказала, безо всяких примеров, напрямик.
— А напрямик — так мне, дочь моя, тоже хочется баюкать ребенка, качать колыбельку.
Айсолтан широко раскрывает глаза и с притворным изумлением смотрит на мать.
— Что слышат мои уши? Разве ты, достигнув довольно преклонного возраста, решила теперь заново построить свою жизнь?
Увлеченная своими мыслями, Нурсолтан, не заметив, что дочь подтрунивает над ней, простодушно отвечает:
— Да, доченька, да, решила.
Едва удерживаясь от смеха, Айсолтан говорит:
— Тогда, знаешь, мамочка, время-то ведь не ждет, ты же сама говорила. Поспеши, пока не поздно, подыскать себе подходящего спутника жизни.
Тут уж, разобрав, наконец, в чем дело, Нурсолтан накидывается на дочь:
— Ах ты бесстыдница! Этакое про мать выдумала! Ты чего мои слова наизнанку выворачиваешь? Это я о тебе забочусь.
— Обо мне?
— А то о ком же? — И, разгорячившись, Нурсолтан выпаливает совсем уже напрямик: — Ты что ж, всю жизнь думаешь в девках просидеть?
Айсолтан говорит примирительно:
— Да чего ты так расшумелась? Ты говори толком: чего от меня хочешь?
— А то, что за тебя никто и посвататься не смей! Она, видите ли, и слушать не хочет! Одну себя за человека почитает, а другие, я уж и не знаю, кто, — бараны, что ли? И с чего это ты на себя такое напустила? Подумаешь, какая заморская птица! Ну ладно, кто-нибудь да придется тебе по вкусу. Говорят же, что один из тысячи даже злому хану угодить может. Вот мы с Джерен толковали о тебе… Я Джерен никак не ставлю ниже себя, ну, и о сыне ее тоже никто худого слова не скажет. Не парень, а золото.
— Ну вот, договорилась наконец.
— Ну и что ж, ну и договорилась!
Но, к немалому удивлению Нурсолтан, ее строптивая дочка как будто совсем непрочь потолковать на эту тему. Пожав плечами, Айсолтан говорит:
— Какой толк может выйти из парня, который десять лет учился в советской школе, а сам за себя ничего решить не может — цепляется за материнский подол!
Нурсолтан, когда она разойдется, тоже нелегко унять; она снова набрасывается на дочь:
— А вот ты и кончила десятилетку, а не поумнела. Перед матерью-то нос не задирай, что ты ученая, образованная. Ты вот того не понимаешь, что не может мать не желать добра своему ребенку, потому что она его носила, она его рожала, берегла, растила, поила-кормила, баюкала… И вдруг — вот вам: мать ничего не понимает, от матери одно зло, плох тот парень, который с матерью хочет совет держать! Я советской властью очень довольна, она нам такую жизнь дала, о какой мы и не мечтали. А чему вас советская власть учит? Чтобы вы матерей и отцов почитали, вот что. А вы как? Мать хочет своему сыну дать добрый совет, а он ей: «Ты старомыслящая, ступай от меня прочь, не хочу следовать твоим старинным обычаям!» Так, что ли, по-твоему, по-ученому? Что ж тут хорошего, скажите на милость? Да разве среди старых обычаев, что переходят от деда к отцу, а от отца к сыну, нет ничего хорошего, все только плохое? Я что, меньше тебя жила при советской власти? Разве я не советский хлеб ела, когда тебя носила, когда тебя грудью кормила? Разве от твоих слез не болит у меня сердце, твоей радостью не радуется? Что у меня осталось, кроме тебя? А ты, видно, думаешь: нарочно буду тебя мучить-терзать, а себе медовую жизнь сделаю, так, что ли? Вот у тебя какое доверие к матери!
Айсолтан пытается сказать что-то, успокоить мать, но та уже не слушает дочь, ей хочется вылить все, что накопилось на сердце.
— Вы теперь все такие. Сын Джерен тоже не лучше тебя. Думаешь, Джерен приходила от сына? Он тоже против стариковских обычаев. «Стариковские обычаи, стариковские обычаи…» Да что я тебя — за семидесятилетнего бая третьей женой отдаю? Или, может, мне калым за тебя получить хочется? «Стариковские обычаи»! Разве я тебя молиться-поститься учу, талисманы на шею вешаю, яшмаком рот закрываю, к святым на поклонение гоню? А? Что молчишь? Я твоего счастья хочу, вот что! На свадьбе твоей пировать хочу. Или, по-вашему, и свадьба — тоже «стариковский обычай»? Что ж это за жизнь — без тоя, без праздника? Или вам и праздник не в праздник, если мать на нем повеселится? Кто вас этакому научил? Я что-то в советском законе такого не видела. Может, ты думаешь, что сын Джерен хуже тебя? Может, у него ума нет? Может, он неграмотный? Может, он слепой, глухой, урод, калека? Или ты еще очень мала замуж итти? Может, тебе хочется с ребятишками на улице играть?
Айсолтан прикрывает ладонями уши:
— Ой, ой! Ну, хватит уж, мама, хватит! Уймись!
— Если голос мой так режет уши моей родной дочери, если у нее есть другой советчик, так пропади я пропадом, чтобы сказала еще хоть слово!
Айсолтан вскакивает, бросается к матери, обнимает ее, прижимается щекой к ее щеке.
— Мама, дорогая, — говорит Айсолтан, — я знаю, что ты воспитала меня и сделала человеком. Ты и наша партия и советская власть. Я знаю, что ты всегда хотела мне только добра. Что тебе по душе, то и мне по душе. Твоя печаль — моя печаль, твоя радость — моя радость.
Нурсолтан одной рукой вытирает глаза, другой гладит волосы дочери. Если слезы и выступили опять на глазах у Нурсолтан, то это уж от радости. Она крепко прижимает к себе дочь.
В эту минуту за ее спиной раздается детский голосок. Девочка лет восьми, ухватившись за ветку дерева, которое растет на границе между двумя участками, и подпрыгивая от радости, передает возложенное на нее важное поручение.
— Нурсолтан-эдже! Нурсолтан-эдже! — кричит она. — Вас и Айсолтан мама к себе зовет. Мама сказала, чтобы вы скорее приходили. — И, не дожидаясь ответа, убегает.
Выскользнув из объятий матери, Айсолтан снова опускается на ковер. Голосок девочки еще звенит в ее ушах. В другое время Айсолтан, услыхав такое приглашение, не стала бы над ним задумываться, сказала бы просто: «Ну что ж, мама, пойдем». Но сейчас ей опять припоминается встреча в хлопчатнике, и какая-то непривычная робость и смущение овладевают ею. Да еще этот разговор с матерью! Айсолтан думает: «Ну, как я теперь взгляну в лицо Бегенчу и Джерен-эдже? Как сяду есть плов из одной с ними чашки?» Но сердце Айсолтан рвется туда, в этот дом, и она не знает, что сказать матери, на что решиться, — ей и страшно пойти в дом к Бегенчу и больно от этого отказаться. Сама не зная зачем, Айсолтан берет чайник и выливает из него в пиалу последние капли.
А Нурсолтан, наоборот, совсем успокоилась и как нельзя более довольна приглашением, Она быстро убирает с веранды посуду, набрасывает на голову белый шелковый платок и оборачивается к дочери:
— Ну, доченька, пойдем!
Айсолтан делает вид, что уже забыла о приглашении.
— Куда это, мама?
— Как куда? Ты что же, не слыхала? Джерен зовет.
Айсолтан поудобнее устраивается «а подушке, словно уже решила не итти к Джерен, и, хотя сердце у нее щемит, говорит спокойно:
— Зачем я пойду туда? Это как-то неловко. Лучше ты иди одна.
— Ну вот еще что выдумала: ловко — неловко. Видели! Теперь, где не нужно, на нее стыд напал. Вставай, пойдем!
— Да мне просто не хочется итти туда.
— Ну-ну! А еще ругаешь стародавние обычаи! Где же твои хваленые новшества? Нет, дочка, знаешь, говорят: „Незваный — не лезь, а приглашенный — не гнушайся“. Вставай, вставай! — И Нурсолтан тянет дочь за руку.
Айсолтан легко вскакивает на ноги. Слова матери с стародавних обычаях задели ее за живое, она слышит в них справедливый упрек, и это заставляет ее решиться. А может быть, просто очень уж тянет ее в этот дом?
Они спускаются с веранды. Ковры и подушки можно не убирать. В колхозе нет таких дурных людей, чтобы позарились на чужое добро.
По дороге к дому Джерен обе молчат, каждая думает свою думу. Нурсолтан идет, высоко подняв голову, гордо выпрямившись, подобно победившему в схватке борцу. Айсолтан на полшага отстает от матери. Голова ее опущена. В ней нет и сотой доли той решимости, которой полна Нурсолтан.
Легкий ветерок пробегает по деревьям, колеблет листву, и она серебрится в свете электрических фонарей. Темный купол неба расшит сверкающим узором звезд. С севера на юг через все небо прозрачной дымкой протянулся Млечный путь. Звезды Большой Медведицы спокойно, ласково мерцают над горизонтом.
Звучит музыка. Из небольшого рупора, укрепленного на верхушке столба, несется песня:
В степи тюльпаном расцвела, На небе месяцем всплыла, Ты — повелительница звезд, Цветов царица, Огуль-бек. Цветы степей, пески пустынь Полны блаженства, если ты По ним ступаешь…Красота ночи и эта песня тревожат душу Айсолтан, но неотвязные мысли бродят в ее голове, мешают насладиться прелестью ночи и волнующей сладостью песни.
„Ну, на что это похоже, — думает Айсолтан, — чтобы девушка сама шла в гости к парню, за которого мать хочет выдать ее замуж? Как поступаешь ты, Айсолтан? Посовестилась бы! Даже если ты съешь всего одну ложку плова, тебе будет так стыдно, словно ты пришла и съела целого барана. А что люди скажут? „У Айсолтан нет стыда, она сама предлагает себя Бегенчу“. А что Бегенч подумает? „Вот она какая, а я и не знал, — скажет Бегенч. — Ее только помани — она и прибежит“. Ой, смотри, Айсолтан! Как бы таким поступком не уронила себя в его глазах“.
Айсолтан резко останавливается.
Нурсолтан, пройдя несколько шагов, замечает, что дочери нет возле нее, и, оборотясь, кричит:
— Эй, дочка, ты что отстала?
Айсолтан приходит в себя.
— Я… я, кажется, занозила ногу колючкой, — произносит она запинаясь.
Айсолтан оглядывается кругом, вдыхает ароматную свежесть ночи, потом, закинув голову, смотрит на небо, любуясь сверкающими в его темной глуби звездами. „Словно там раскрылись миллиарды коробочек с алмазным хлопком“, — мелькает в голове Айсолтан. В отдалении снова раздается песня. Девушка стоит и слушает, потом быстро догоняет мать.
„Разве я иду к ним в дом, чтобы красть? — думает она. — Чего я стыжусь? И кому какое дело до того, куда я иду, и зачем, и почему? Это мое дело, а других оно не касается. Что я, вправду, сто лет назад родилась, что ли? Если буду всего нового бояться, плохой пример подам подругам! Мать, видно, больше моего понимает. Я же к ним не напрашивалась — сами позвали. Что тут зазорного — пойти, раз зовут? Я к счастливой жизни иду. У кого есть ум, тот меня только похвалит. И другие девушки с меня пример возьмут“.
Джерен встречает их, стоя у входа на веранду. По всему видно, что она очень рада гостям: усаживает их на ковре, хлопочет, подает чайник с чаем, пиалы. Она совсем не такая горделивая и неприступная, какой казалась раньше Айсолтан. „Она добрая женщина, приветливая и ласковая“, — радостно думает Айсолтан и улыбается хозяйке.
Засуетившись, Джерен роняет чайник, хочет поднять его, и тут же у нее из рук падает пиала и разлетается на мелкие осколки. Айсолтан быстро вскакивает, поднимает чайник. Джерен с помощью Айсолтан подбирает осколки, бросает их в полоскательницу, удрученно говорит:
— Милая Айсолтан, брось, не хлопочи, ну, не велика беда — разбился чай, пролилась пиала…
Дочь Джерен, хорошенькая Майса, в расшитой серебром тюбетейке, из-под которой выбегают тугие черные косички, звонко хохочет:
— Мама у нас всегда так. Как придут гости — или пиалу разобьет, или сама упадет на ровном месте. Когда мой дядя приезжал, она раз по нечаянности целое ведро воды на него вылила. И всегда все путает. Бегенча называет дочкой, а меня — сыном…
Смущенная Джерен накидывается на Майсу:
— Ступай прочь отсюда! Ты чего тут вертишься?
Джерен разливает в пиалы чай. В саду раздаются голоса, и на веранду поднимается Бегенч, за ним — парторганизатор Чары и Потды. Потды, бросив косой, лукавый взгляд на Айсолтан, кричит еще с порога:
— Добрый вечер!
Джерен приглашает гостей:
— Добро пожаловать! Заходите, заходите… Будете с нами на веранде чай пить, или, может, в комнате стол накрыть?
И опять Потды, подобно передним ногам козы, опережает остальных:
— Ай, Джерен-эдже, разве мы отсталые от жизни люди? Мы люди культурные. Чай будем пить в комнате, за столом, и сидеть на стульях. А вы пример с нас берите.
Чары говорит:
— Ну, ну, полегче, Потды-хан! Что это значит: „вы“, „мы“? Кто тебе позволил разделять собравшихся на два лагеря? Еще не известно, кто отстал, а кто перегнал. Может, нам с тобой еще не угнаться за пылью из-под ног других людей… Разве ты не на такой же подстилке родился и вырос? По-твоему, вся культура в том, чтобы сидеть выше земли на полметра? А если твою культуру вот тут поискать, может, ничего и не обнаружится, — и Чары легонько стукает Потды по лбу, потом садится на ковер.
Нурсолтан смеется:
— Что, Потды-хан? Получил свое?..
Потды усаживается рядом с Чары, вытирает со лба пот рукавом.
— Да вот, Нурсолтан-эдже, поди пойми, чего им нужно. Сами все твердят: „Ты некультурный. Зачем не чисто одеваешься? Зачем газет не читаешь? Зачем ешь руками? Зачем нос платком не вытираешь?..“ Эх, жалко мне твоих ушей, еще заболят, слушая, а то бы я много насчитал. На этот раз я решил всех опередить насчет культуры, а вышло опять наоборот. Ну, да мне что! Пусть мне теперь кто-нибудь замечание сделает! А я отвечу: „Извините, парторг научил“. Так, что ли, Айсолтан? — и Потды опять лукаво косится на девушку.
Досада разбирает Айсолтан. „И чего этот выскочка-пустомеля суется всюду, куда его не просят?“ — думает она. Будь это не в гостях, уж она бы его отчитала! А здесь Айсолтан робеет. После прихода мужчин она еще не сказала ни слова, не решаясь вступить в разговор. Теперь она говорит, — пусть Потды понимает, как хочет:
— Потды у нас очень культурный молодой человек.
Слова Айсолтан действуют на Потды как освежающий дождь на захиревшее было растение. Он снова оживает и, уставив на девушку свои глазки-щелки, принимается болтать:
— Ай, спасибо, Айсолтан! Пусть будет моя жизнь ковром у тебя под ногами. Пусть будут мои руки-ноги, мои уши-глаза твоими слугами. Посылай меня теперь хоть на край света. Скажешь: „Потды, ступай приведи ко мне одного человека…“ или скажешь: „Ступай передай от меня весточку…“ — Потды все выполнит. — И тут Потды переводит взгляд с Айсолтан на Бегенча и обратно — с Бегенча на Айсолтан.
Однако никому как будто невдомек, на что намекает этот болтун. Никому, кроме Айсолтан. Вся вспыхнув, она сердито обращается к Потды:
— Твой язык не знает удержу, Потды! Слышал, небось: умный, когда его хвалят, молчит, а дурак колесом ходит.
После этого Потды на некоторое время умолкает. А когда он, не выдержав, открывает рот, чтобы снова приняться за свое, возвращается Джерен, которая ходила посмотреть плов, и приглашает гостей:
— Ужин готов. Подавать сюда или пойдем в комнаты?
Можете не сомневаться, что Потды опять отвечает за всех:
— Может быть, мы теперь все-таки будем культурными? По-моему, в такой приятной компании нужно ужинать за столом.
— Ну, Чары, пожалуй, он прав. Как ты думаешь? — спрашивает Бегенч.
Чары смеется:
— Говорят ведь, что даже у безумца из ста слов одно бывает толковым. Давайте на этот раз последуем совету Потды.
В столовой Айсолтан украдкой оглядывается по сторонам. В этой высокой, просторной комнате все блещет чистотой. Буфет, тахта, над тахтой большой ковер, напротив, на стене, два портрета, на маленьком столике патефон. Нигде ни пылинки. На столе, покрытом белой скатертью, — большое блюдо с коурмой[4], помидоры, зеленый лук, розовый виноград в вазе, бутылка вина „ясман-салык“ и шампанское. „Когда это Джерен успела накрыть на стол? — думает Айсолтан. — Тарелки, ножи, вилки, салфетки — все уже расставлено, разложено по местам“.
Вид бутылок веселит сердце Потды. Он хлопает в ладоши:
— Да здравствует Джерен-эдже!
Все садятся к столу, и Потды тотчас придвигает к себе бутылки. Держа одну бутылку в правой руке, другую — в левой, он вопрошает:
— Какое сначала? Какое потом? Кому „ясман-салык“? Кому шампанское?
— Потды-хан, думается мне, что тебя этому учить не надо, — говорит Бегенч.
— Ну, тогда „ясман-салык“ — нам, а с серебряным горлышком — женщинам.
Нурсолтан и Джерен, если уж говорить по совести, с большей охотой остались бы сидеть на ковре; пить вино им тоже не очень-то по нутру. Но разве можно обижать молодежь? Сейчас поднимут крик: „Что, Джерен-эдже, Нурсолтан-эдже, вы все никак не расстанетесь со своим шариатом?“ И Нурсолтан и Джерен сидят за столом и покорно ждут, когда им нальют вина.
Когда из бутылки с серебряным горлышком со звуком, подобным выстрелу, вылетает пробка и ударяется в потолок, Нурсолтан и Джерен, вздрогнув, дружно ахают.
Потды смеется:
— Ай! Спасайся, кто может! Неприятель напал! А вы еще хотите с нами на одном языке разговаривать!
Потды разливает вино и шампанское в пиалы.
— Ну, кому из хозяев дать первое слово? — спрашивает он. — У тебя, Джерен-эдже, большая часть жизни прошла, а ты еще не научилась пить вино, а ты, Бегенч, хоть и обучаешься помаленьку, да у тебя дума сердца витает где-то уж больно высоко…
Не везет сегодня Потды, никак не удается ему развернуться. Чары прерывает его речь:
— Ну, ты, самозванный распорядитель, первое слово предоставь мне.
— Слыхали? Он же секретарь, попробуй, не предоставь ему слова! Говори!
Чары придвигает к себе пиалу с вином.
— Мы пришли сюда прямо после заседания правления колхоза совместно с партбюро…
Этого уж Потды никак не может выдержать; он хватается за голову:
— Ай, ай, ай, эту новость я сам хотел сообщить, да по дороге они на меня такого страху нагнали…
Чары спокойный, серьезный человек, но Потды кого хочешь выведет из себя. Чары стучит пиалой о бутылку и говорит сердито:
— Потды, обуздаешь ты свой язык или нет! Ты ведь мне предоставил слово, — ну, так сиди и молчи.
— Сижу и молчу.
Чары хочет продолжать, но его снова перебивают, на этот раз Айсолтан.
— Если было такое заседание, то почему меня не известили? — спрашивает она с досадой, и даже брови вздрагивают у нее от негодования.
— Подожди, Айсолтан, этому есть причина. Да… Так вот, на совместном заседании обсуждался один вопрос…
— Какой вопрос? — нетерпеливо спрашивает Айсолтан.
Чары молчит, ставит пиалу на стол.
Упустить такой момент не в характере Потды. Он хватает свою пиалу, кричит:
— Ой, якши! Остальное доскажу я!
Но Бегенч стучит вилкой по столу и грозит Потды кулаком.
— Да что вы душу-то тянете из людей? — восклицает Потды. — Ему дали слово, а он молчит, я хочу сказать, а мне кулак показывают, грозят. Давайте тогда пить безо всяких слов.
Айсолтан, как видно, даже забыла, что она в гостях, а не на собрании. Она встает, говорит деловито:
— Потды, помолчи, дай отдохнуть своему языку. Ну, Чары, ты не обижайся, говори дальше.
— Только уж, пожалуйста, больше не перебивать. — Чары поднимает пиалу. — На собрании обсуждался сегодня вопрос о том, кого послать делегатом в Москву на Всесоюзную конференцию сторонников мира…
Потды снова хватается за пиалу, кричит:
— И мы…
Но Бегенч опять грозит ему кулаком.
— И мы все единогласно выдвинули делегатом от нашего колхоза Айсолтан Рахманову, — заканчивает Чары.
Айсолтан смотрит на Чары, широко раскрыв глаза, изумленно надломив брови. Потом ее ресницы опускаются, она склоняет голову. Горячий румянец радости и смущения заливает ее лицо. Бегенч взволнованно смотрит на Айсолтан. Нурсолтан и Джерен одновременно взглядывают друг на друга, и, как видно, каждая из них без слов читает мысли другой.
Чары встает:
— Так выпьем, друзья, за здоровье Айсолтан!
Четвертая глава
егенчу не спится в эту ночь. Он лежит, закинув руки за голову, а сердце сладко щемит у него в груди. В окнах уже начинает светлеть, когда Бегенч ненадолго забывается.
Пробудившись внезапно, словно его окликнули, он встает и, набросив на плечи халат, выходит во двор. Багровое, круглое, точно разрезанный пополам арбуз, солнце проглядывает сквозь ветви деревьев. Небо прозрачно и чисто, как светлоголубое стекло. Ночной свежий ветер стих, и листья на деревьях застыли, словно нарисованные. Аромат свежей листвы, плодов и сочных, спелых дынь пьянит Бегенча. Сжав кулаки, широко раскинув руки, он потягивается, зевает, обводит глазами двор. Крупные черные и белые куры в углу, за проволочной решеткой, клюют ячмень, жадно разгребая, разбрасывая его в разные стороны; четыре жирных, откормленных барана, покачивая круглыми курдюками, грызут дынные корки. Корки звонко хрустят у них на зубах — "хьюрт-хьюрт"; пегая корова сердито мотает головой, стараясь освободиться от веревки; ее тяжелое бледно-розовое вымя едва умещается между ляжками. Огромный лохматый пес приветливо машет куцым хвостом, выражая этим хозяину свою собачью ласку; далеко выставив вперед передние лапы, он вытягивается, пригибаясь грудью к земле, словно кланяется Бегенчу в ноги. Раздается крик чабана:
— У кого коро-о-овы! Выгоняйте коро-о-ов, выгоняйте коро-о-ов!
Село просыпается.
Улицы понемногу наполняются движением и звуками. Громыхая, прокатила арба, где-то вдалеке зафыркал мотор, заржали кони, прогудела и умолкла машина, и на смену ей зазвучал трубный крик осла. И снова, размахивая хвостами, стуча копытами, через поселок идут коровы — той же дорогой, которой они возвращаются вечером. Колхозники с мешками за спиной, с кетменями или серпами в руках преходят по улице, направляясь в поле.
Башлык[5], тучный человек лет сорока, в серой мерлушковой шапке, сером кителе, синих галифе и парусиновых сапогах, уже выехал на своем породистом скакуне. Откинувшись назад в седле, он осаживает коня и, полуоборотясь, кричит что-то хриплым басом, напрягая красную, мясистую шею, и машет кому-то рукой. Его густые, лихо закрученные усы воинственно топорщатся. Башлык осадил коня неподалеку от дома Бегенча, и тот слышит, как он говорит приближающемуся к нему пожилому колхознику, одетому нарядно, как юноша, несмотря на свои семьдесят лет, и даже подпоясанному старинным пуховым кушаком:
— …Ты ему скажи: пусть к одиннадцати часам приедет на участок третьей бригады. Да пусть едет не на "Победе", а на "газике", и возьмет побольше горючего про запас и пусть прихватит двустволку и патронташ.
Башлык трогает коня и, увидав Бегенча, еще издали кричит ему:
— Жив-здоров, а, Бегенч? Ты, друг, не ленись. Два раза проверять — это не худо. Поливальщик-то, конечно, знает цену воде, а все ж держи ее всегда перед глазами. Ты сегодня обойди еще раз те места, куда вчера пускали воду. Погляди: не захирел ли где хлопчатник, не поник ли головой, как обиженная молодуха. Особо погляди на пригорках, — слышишь? — дошла ли до них вода. — Поровнявшись с Бегенчем, башлык натягивает поводья. — Сам знаешь: в эти дни каждая капля воды — горсть хлопка. Ух, и крепко сцепился я вчера с райводхозом, даже в райком его таскал, да, видно, мало. Сегодня в полдень буду в облводхозе и облисполкоме. Не поможет — прямо в центр обращусь.
Бегенч улыбается:
— Товарищ Аннак, ты как заведешь с утра свою пластинку: "О, дайте мне воды, воды, воды…", так до ночи не кончишь. Слезай с коня, я тебя чаем напою.
Аннак, сдерживая нетерпеливого коня, говорит:
— Я, друг, чай пил, когда еще солнце не всходило. Мне водой горло полоскать некогда. Мне вода для другого дела нужна. Ты, коли хочешь пособить, давай мне воды на поля! Воды, воды, воды…
В это веселое, сияющее утро у Бегенча в душе какой-то задор; ему хочется подразнить башлыка, и он начинает:
— Ты, товарищ Аннак, чем бегать из одного учреждения в другое и кричать: "Воды! Воды!", пошел бы лучше на водораспределительный шлюз да проверил сам, как там воду меряют.
— Друг! Ты мое больное место не трогай! У меня и так голова от забот распухла. Я знаю, как меряют. Правильно меряют. Да мне в эти дни, хоть ты лопни, нужно больше воды!
— Так ты думаешь, что, взяв долю других…
Аннак не дает Бегенчу договорить:
— Друг! Да ты пойми: разве я хочу украсть воду у "Красного Октября", или у "Победы", или у другого колхоза? Я о них тоже забочусь. Я хлопочу, чтобы побольше пустили воды из Колхозбента.
Прищурившись, Бегенч с усмешкой смотрит на председателя колхоза.
— Так, товарищ башлык. Значит, по-твоему, все наши учреждения — районные, областные, центральные, которые день и ночь заботятся о том, чтобы мы перевыполнили план по хлопку, — значит, они меньше твоего понимают, как нам сейчас нужна вода? Верно, они сохраняют лишнюю воду в Колхозбенте, чтобы пустить ее на свои огороды?
Аннак растерянно смотрит на Бегенча, хмурит клочкастые брови. Бегенчу кажется даже, что крутые завитки его усов слегка обвисли. Потом, крякнув с досады, башлык ударяет нагайкой по луке седла, и усы его снова встают торчком.
— Ишь, какую лекцию прочел! А ты вот как рассуди: если у меня сейчас колхозники сыты — значит, я на том и успокоиться должен? Значит, мне уж и зерна про запас в амбарах не держать? Так после этого что я за башлык? Гнать такого башлыка в шею! Ну, а в области меньше меня понимают, что ли? Скажешь, они не держат в Колхозбенте излишек воды про запас! Так я и поверил!
Бегенч не может сдержать улыбки, — уж очень по душе ему этот горячий, напористый и прямодушный человек.
— Ты чему ж это, друг, смеешься? — обижается башлык. — Что я смешного, неправильного сказал?
— Нет, Аннак, ты все правильно говорил. Я ведь шутил с тобой, очень занятно ты споришь. Все правильно. В такую горячую пору не обойдешься без того, чтобы не пошуметь. Если в области тебе не помогут — шли телеграмму в центр.
Аннак трогает поводья:
— Ну, прощай, друг. Смотри, обойди хлопчатник.
— Да я думал, как только солнце взойдет, уже там быть, а вот запоздал. Поздно заснул и проспал.
— Да уж знаю, знаю.
"Откуда же он знает? — удивляется Бегенч. Ему кажется, что Аннаку известно, как он всю ночь не мог сомкнуть глаз, думая об Айсолтан. — Вот постоишь с девушкой минутку — и готово, все говорить начнут!" — мысленно досадует Бегенч и спрашивает с напускным равнодушием:
— Что такое ты знаешь?
— Знаю, что вы вчера без меня вино пили, вот что.
— А-а! Так я и тебя звал.
— А я, может быть, шучу. Что ж, мне уж и пошутить нельзя? Не мог я вчера прийти, ведь говорил тебе.
— Ну, в таком случае слезай с коня. Пойдем, выпьем сейчас по пиале за успешнее завершение твоих хлопот.
— Нет. На вчерашний плов гостей не зовут!
— Вот как!
— А я, может, опять шучу. Сейчас, друг, не время. Ты лучше вот что… Я хочу сегодня съездить посмотреть отары. Хочешь, поедем со мной?
— Я тебя что-то не пойму: то ли ты в Мары едешь, то ли на овец глядеть?..
— А я и в Мары и на овец. Сначала в Мары, потом на овец. Ровно в два часа заеду за тобой.
— Эх, Аннак, до чего ж ты кипучий парень!
Похвала Бегенча явно по душе башлыку. Он смотрит на молодое, энергичное лицо юноши, и вдруг глаза его загораются огнем. Привстав на стременах и вытянув, как оратор, правую руку вперед, он говорит с воодушевлением:
— Друг, молод ты, многого не видал на своем веку. Не видал той жизни, какой жили наши деды-прадеды. Ты родился в новую эпоху. Ну вот и подумай, какая она, наша эпоха! Это эпоха машин, эпоха великого движения вперед, эпоха Сталина! Если я в такую эпоху буду на каждый путь по целому дню терять да под каждым кустом спать заваливаться, тогда придется колхозу еще десять башлыков мне в помощь выбрать. Да разве так пятилетку в четыре года выполняют?
Сиповатый голос Аннака рокочет все громче и громче:
— Мы должны бесперебойно давать сырье нашим фабрикам, заводам. Мы должны быть готовы в любую минуту дать отпор черным вражьим силам, которые хотят надеть нам на шею ярмо. Мы должны за один шаг делать два, три, пять шагов… Мы должны показать врагам силу человеческого труда.
Проходящие мимо колхозники останавливаются и слушают горячую речь башлыка.
— Пусть злоумышленники-империалисты знают, что вчерашний чабан и сын чабана не даст в обиду свою родину! Наш труд и наша вера в свои силы всегда одерживали победу и снова одержат победу!
Вокруг Аниака понемногу собирается целая толпа. Подошедшие позже колхозники стараются протиснуться поближе к оратору.
— Пусть наш свободный труд превратит родную страну в прекрасный, цветущий сад!
Вытянувшись на стременах, расправив могучие плечи, Аннак поднимает нагайку и указывает на солнце:
— Пусть солнце, которое обходит весь земной шар, расскажет миру о том, что советский народ — это одно тело и одна душа, что советский народ хочет мирной жизни, но если проклятые торгаши сунутся еще раз к нам, на нашу землю, то мы растопчем их, как вонючих гадов!
Взмахнув нагайкой, Аннак опускает на седло свое грузное тело и тут только замечает, что у него заметно прибавилось слушателей. Смущенно улыбаясь, он отыскивает глазами Бегенча и говорит, стараясь не глядеть по сторонам:
— Да, вот какое дело… У меня, знаешь, что-то распалилась душа. Вот язык и сорвался с привязи. А ты что, друг, меня не одернул?
— А зачем? Ты очень хорошо говорил. Видишь, твой доклад не один я слушал. Вроде как колхозное собрание получилось. И я думаю, Аннак, что мы вчера ошибку допустили.
— Какую ошибку?
— На Всесоюзную конференцию нужно было не Айсолтан послать, а тебя.
Аннак, стараясь скрыть смущение, громко хохочет густым, сиплым басом. Но тут же глаза его снова загораются, и он гудит, наклоняясь с седла к Бегенчу:
— Эх, друг, ну как молчать, как держать такую досаду на сердце! Ведь подумать только, что я тут хлопочу, из сил выбиваюсь, а они ищут базы для своих бомбардировщиков!
— Ничего, Аниак, собака лает, а караван идет вперед.
— Верно, друг. Ну, прощай!
— Так ждать тебя к двум часам?
— Жди.
Аннак отпускает поводья, и серый, в яблоках, горячий конь, который давно уже нетерпеливо перебирал ногами и грыз удила, легко, с места, берет в галоп.
Умывшись, Бегенч садится на веранде пить чай. Маленькая Майса чем-то очень озабочена. Она уж три раза вынимала все книги и тетради из портфеля и снова укладывала их обратно. Она уже три раза убегала в комнаты и каждый раз, возвратясь назад, принималась тяжело вздыхать, растерянно шарить на столе и под столом. Убежав в пятый раз и через секунду вернувшись, она горестно воскликнула:
— Мама, ох, мама! Ну, где же моя чернильница? У меня пропала чернильница!
Оглянувшись по сторонам и увидя, что матери на веранде нет, Майса, чуть не плача, сказала:
— И мамы нет! Да куда же теперь еще мама девалась? Бегенч! Где мама?
Бегенч знает, что мать ушла кормить баранов, но только пожимает плечами.
— А я откуда знаю?
— Да ведь она сейчас, вот только сейчас была здесь! — И маленькая Майса в полном отчаянии снова кричит: — Мама! Ты где, мама?
— А зачем тебе магь? — спрашивает Бегенч.
— У меня пропала чернильница.
— А зачем маме твоя чернильница? Ты ищи там, где положила.
— Да ее там нет.
— Да ну! Так, может быть, чернильница научилась бегать?
— Зачем ты надо мной смеешься? — Майса жалобными, молящими глазами смотрит на брата. — Бегенч… Если ты взял, так, пожалуйста, отдай!
Девочка бросается к Бегенчу и ощупывает его карманы. Она даже заглядывает к нему за пазуху. Бегенч смеется.
Не обнаружив чернильницы и там, Майса говорит еще жалобнее:
— Ну, Бегенч, миленький, хорошенький, отдай чернильницу!
Ее черные, блестящие, как у козленка, глаза смотрят на брата с такой мольбой, пухлый детский рот так трогательно кривится в плаксивой гримасе, что Бегенч не выдерживает:
— А что ты мне дашь, если я найду твою чернильницу?
Майса от радости несколько раз подпрыгивает на месте. Лицо ее сияет.
— Когда я вырасту большая-большая, я вышью тебе тюбетейку.
— А, так ты хочешь, чтобы я искал твою чернильницу в долг? Нет, это не пойдет.
Майса бросается к Бегенчу на шею.
— Ну, Бегенч, миленький, отдай, если ты взял, а то я опоздаю. Мы с девочками хотим до начала занятии повторить то, что в прошлом году проходили. Уговорились к восьми собраться.
Бегенч, отогнув рукав, показывает ей на свои часы:
— Смотри, еще нет половины восьмого. — И, обняв девочку за плечи, смеется: — Ну, дай сюда руку и закрой глаза.
Он достает чернильницу из-под вороха бумаг на столе и вкладывает ее в маленькую горячую ладонь.
Майса сжимает в руке чернильницу и открывает глаза.
— Где она была?
— На столе.
— Ну да, ну да! Я сама ее туда поставила.
— А зачем же ты на меня наговаривала?
— Потому что ты всегда шутишь. Вот я и думала, что ты ее нарочно спрятал.
Бегенч целует сестру в ее нежную, румяную щеку. Маленькая Майса, схватив свой портфель, который кажется чересчур большим в ее тоненькой руке, вприпрыжку сбегает с веранды.
Бегенч берет ружье и, перекинув его через плечо, выходит на улицу.
Из-за поворота выезжает легковая машина, при виде которой Бегенч сразу останавливается и не может больше сделать ни шагу. Сердце его больно сжимается. Он смотрит на приближающуюся машину, и ему чудится, что там, внутри, скрыта частица его души и это серое ползущее чудовище сейчас увезет ее куда-то далеко-далеко. Чудовище в облаках пыли приближается к Бегенчу, и ему хочется броситься вперед и преградить ему путь. Но он не двигается с места, и только глаза его неотступно следуют за машиной.
Машина проезжает мимо Бегенча и останавливается. Тонкая белая пыль медленно оседает в воздухе. Айсолтан опускает стекло в окошечке, ласково улыбается, кивает ему.
Ух, как чешется у Потды язык, как хочется ему подразнить эту влюбленную парочку! Как хочется отпустить добрую шутку, от которой оба они зардеются и начнут смотреть в разные стороны! А потом Айсолтан сдвинет свои черные брови и примется распекать его на все корки. Ух, как хочется Потды блеснуть остроумием — ведь такой случай! Ради такого случая стоит рискнуть и еще раз навлечь на себя гнев Айсолтан.
Но, к немалому своему удивлению, Потды замечает, что другое чувство берет в нем верх.
"Пусть их, — думает он, — уж попрощаются как следует! Пусть в это солнечное утро выскажут друг другу то, что у них на сердце! Пусть обменяются нежным, ласковым словом. А потом вспомнят добром и это светлое утро и Потды".
— Ну, что ты скажешь! Вот беда, так беда! — восклицает Потды, сдвинув тюбетейку с затылка на глаза. — Ключи от машины позабыл!
Он выскакивает из машины и бросается куда-то в сторону, позвякивая ключами, колечко от которых надел на большой палец.
А у Бегенча опять, как всегда при виде Айсолтан, слова не идут с языка, и он говорит первое, что ему приходит на ум:
— Что это Потды, ума лишился? Ключи, говорит, позабыл, а сам ими размахивает. Вот чудак!
Приглаживая ладонями свои черные волосы у висков, Айсолтан усмехается:
— Если Потды не будет всякими странными способами обнаруживать свои сокровенные мысли, то он в неделю зачахнет и умрет с тоски.
Такой оборот беседы кажется Бегенчу вполне удачным. Он даже находит в себе силы спросить:
— Ты не знаешь, Айсолтан, почему это вчера вечером Потды все отпускал какие-то дурацкие шуточки то насчет тебя, то насчет меня? Прямо руки чесались проучить его хорошенько, да боялся, как бы хуже не получилось. Может, он видел нас с тобой вчера? Или просто так выдумывает?
Айсолтан улыбается, и от этой улыбки у Бегенча теплеет на сердце.
— Да разве от Потды что-нибудь утаишь? — просто говорит она. — Зачем ему видеть? Он и так все знает, ему известно не только то, что ты делаешь, а даже о чем задумался. Ему все нужно разнюхать. Если Потды не будет знать наперед, из какого яйца должен вылупиться петушок, а из какого курочка, так он удавится с горя. Такой уж это человек. Он, например, знает даже, какой был разговор между твоей матерью и моей.
Об этом разговоре знает и Бегенч. Правда, когда Джерен стала ему передавать его, он буркнул сначала: "Что это, мать, ты, кажется, опять за старое?", но тем не менее слушал ее с такой жадностью, словно хотел впитать в себя каждое слово. "А что скажет Айсолтан?" — подумал тогда Бегенч и теперь, собравшись с духом и приняв самый небрежный вид, вдруг выпалил:
— Да, между прочим, Айсолтан, а как ты смотришь на их затею?
Айсолтан отворачивается от Бегенча и отвечает так тихо, что он едва может разобрать ее слова:
— По-моему, они хотят нам добра. Или, может быть… Может быть, тебе кажется, что это, как в старину… по чужой указке… Может быть, ты думаешь…
— Я думаю, — решительно прерывает ее Бегенч, и лицо его вспыхивает от счастья, — я думаю, что этот союз мы заключим сами, своей свободной волей, а указчики у нас — наши сердца.
Айсолтан поднимает на него взор, и он ослепляет Бегенча — так сияют ее глаза, такая в них светится радость.
— И этот союз на всю жизнь, — шепчет Айсолтан.
— Да, клянусь! — восклицает Бегенч.
Айсолтан берет руки Бегенча в свои и сжимает их маленькими горячими ладонями.
— Бегенч… Помни: мое сердце — вот так в твоих руках.
От волнения Бегенч снова теряет дар речи, а когда, собравшись с силами, хочет открыть рот, то видит, что Потды уже возвращается. Он глухо, упавшим голосом сообщает:
— Потды идет! — и тихонько высвобождает свои руки из ласковых ладоней девушки.
Айсолтан говорит нежно:
— Милый Бегенч, прощай! Я улечу далеко, но мыслями всегда буду с тобой.
— Айсолтан!.. — голос Бегенча обрывается, и он не может больше вымолвить ни слова.
Потды подходит, расплываясь улыбкой до ушей, прищуривая глубоко запавшие глазки, насмешливо восклицает:
— Ай-ай! И машина цела! Не увели? Ну, молодцы, хорошо сторожили!
Бегенч говорит сердито:
— Мы-то сторожили, а вот ты нашел ли свои ключи, Потды?
Потды бренчит ключами, ухмыляется:
— Вот ключи, друг, вот!
— А разве они не болтались у тебя на том же самом пальце, когда ты убежал отсюда, как угорелый?
— А разве ты не мог вернуть меня обратно, чтобы я зря не бегал, если видел, что ключи при мне?
На это Бегенчу возразить решительно нечего, и он говорит только:
— Ну, будь здоров, Потды, желаю тебе успеха в делах!
— Желаю счастья вам обоим и вашему будущему поколению, — выпаливает вдруг Потды и низко кланяется.
Горячая краска заливает нежные щеки Айсолтан. Ах, как смутил ее этот бессовестный! Дрожащими руками она оправляет платье и, не глядя на Потды, бросает:
— Ну, не болтай пустяков, заводи машину!
— Айсолтан! Зачем говоришь неискренно? Ай-ай! Я-то заведу машину, а вот ты разве не думаешь про себя: "Хоть бы еще не уезжать, еще минутку-другую побыть с милым! И зачем этот конопатый чорт так скоро вернулся!" Вот что ты думаешь, Айсолтан! Сама узел на есю жизнь, до могилы, вяжешь, а своего суженого стыдишься? Тут стыдиться нечего, дело самое хорошее. Верно, друг?
Ну что ты скажешь! И вправду — глазастый! Своими щелочками-глазками все насквозь видит!
Бегенч улыбается:
— Ничего не поделаешь, Айсолтан, это ведь Потды. У него уши-глаза не такие, как у прочих людей. От него ничего не утаишь. Он все видит, все слышит. А душа у него веселая, — он даже хмурой зимой видит, как идет веселая весна.
— Вот спасибо, друг! Первый раз в жизни правильные слова о себе слышу. Будет вам на свадьбу от меня подарок. — И, с шумом захлопнув дверцу, Потды включает мотор.
Айсолтан, приблизив к окошечку улыбающееся лицо, спрашивает:
— Какое поручение дашь ты мне в Москву, Бегенч?
Бегенч смотрит на нее не отрываясь.
— Одно поручение у меня… чтобы ты благополучно возвратилась домой.
Как большая серая черепаха, машина медленно сползает с места.
— Айсолтан! Будет случай — поговори насчет воды! — кричит Бегенч вдогонку.
Тоненькая смуглая ручка, высунувшись из машины, трепещет в воздухе, как птичье крыло, и сердце Бегенча рвется за ней следом. Долго стоит он, не двигаясь, словно ноги его приросли к месту, и смотрит вслед серой машине, которая, превратившись в едва различимое пятнышко, скрылась за поворотом. Толкни, окликни сейчас кто-нибудь из прохожих Бегенча, он все равно ничего не услышит.
Чары уже давно стоит рядом с ним, добродушно прищурившись, разглядывает его взволнованное лицо. Потом, рассмеявшись, хлопает товарища по плечу.
— Эй, Бегенч, проснись! Днем да посреди улицы стоя спать — это, брат, не годится. Что с тобой такое?
Бегенч, словно он и в самом деле только сейчас проснулся, смотрит во все глаза на Чары.
— Со мной? Ничего… — отвечает он, отводя глаза от смеющегося Чары.
— А чего ж ты тут торчишь, как столб?
— Да вот башлык звал с собой… Ну, я стою, думаю… ехать не ехать…
— Меня Аннак тоже звал, да я не могу: в райком вызывают… Только это еще не причина, чтобы стоять посреди дороги, разиня рот. Ты уж лучше прямо говори: что у тебя стряслось?
Бегенч, чтобы скрыть свою растерянность, переходит в наступление:
— Да что ты меня допрашиваешь? Разве стоять здесь законом воспрещается?
Чары видит свежие следы автомобильных шин на дороге и поднимает глаза на Бегенча. Спрашивает:
— Не знаешь, чья это машина проехала?
— Это? Это Айсолтан. Потды ее на аэродром повез. Она завтра в Москву летит.
— А-а… — многозначительно произносит Чары и добавляет: — Ты куда шел?
— Хочу еще разок проверить полив хлопчатника.
— Пошли вместе, нам по пути.
Они выходят из поселка, сворачивают в сторону хлопкового поля.
Бегенчу хочется поделиться с Чары своей радостью, рассказать другу о событии, которое перевернуло всю его жизнь. Эта радость так велика — ему кажется, что она не вмещается у него в груди, рвется наружу, хочет излиться в горячих, звучных словах, похожих на песню. Но Бегенч сдерживает себя. Он боится, что Чары не поймет его волнения, скажет равнодушно или даже с упреком: "Э, друг, я вижу, у тебя все личные дела на первом плане! Подумаешь, невидаль! Жениться задумал! Ну и женись себе на здоровье — разве до тебя никто не женился, замуж не выходил?" "Да к тому же, — думает Бегенч, — о чем и говорить? Ведь нет еще ни музыки, ни плова. А вдруг Айсолтан передумает?"
А Чары ведет с Бегенчем беседу о колхозных делах. Если иной раз Бегенч и отвечает ему невпопад, Чары только усмехается про себя. С кем этого не бывает! Разве он сам не пережил когда-то такую же весну сердца? Он ведь тоже не какой-нибудь истукан бесчувственный.
Чары говорит:
— В общем, Бегенч, я тебе не собираюсь давать советы, наставления. Ты наши нужды и задачи знаешь не хуже меня. Твои ребята-комсомольцы и в посевную и на обработке себя показали. Думаю, и при сборе хлопка не подкачают.
Договоры на соцсоревнование между молодежными бригадами по сбору хлопка мы с тобой утвердили, так? Договоры хорошие. А выполните? По всем пунктам?
Бегенч хватает Чары за плечи и смотрит на него в упор:
— Ты что, не знаешь нашу молодежь? Не знаешь, какая она горячая на работу, какая упорная? Не знаешь, что она свое слово ценит дороже золота? Был такой случай, скажи, чтобы мы ходили с опущенной головой?
— А ты не знаешь, что, если даже полив идет правильно, никогда не мешает прихлопнуть еще раз лопатой по запруде?
— Не мешает, если твоя запруда из песка. А если она каменная?
— Верно! — говорит Чары и снова треплет Бегенча по плечу. — Вот к этому-то я и стремлюсь. Хочу, чтобы слово, данное молодежью, было крепкое, как камень. И верю, что оно такое и есть. Ты прав, Бегенч: наша молодежь выдержит, выстоит. Ну, будь здоров!
И Чары сворачивает с дороги на тропку. А Бегенч продолжает свой путь.
Пятая глава
егенч идет по дороге один — прямо навстречу солнцу. Теперь уже ничто не мешает ему предаваться своим думам. Радостно, легко у него на сердце. Жизнь вообще щедра к Бегенчу, она немало дарила ему таких счастливых, праздничных дней, когда сердце ликует и рвется из груди, как птица. Разве Бегенч может забыть тот день, когда колхоз до срока закончил посевную и молодежь получила за свою работу благодарность от обкома партии? Или тот день, когда он, Бегенч, был награжден орденом Ленина? Разве все эти дни не были светлыми праздниками в жизни Бегенча? И разве их было мало?
И вот теперь наступил новый праздник.
Любовь…
У Бегенча с тех пор, как он себя помнит, сердце всегда было исполнено любви. Он горячо любит мать, любит маленькую сестренку, любил старшего брата, который под городом Будапештом отдал жизнь за независимость народов. Бегенч любит свою землю — ее привольные степи, тенистые ароматные сады, виноградники. Бегенч любит труд. Любит на заре выходить в поле с кетменем или лопатой в руках, любит учиться, любит свою комсомольскую работу. И всякому делу Бегенч отдается со страстью. Даже в детстве во все мальчишеские игры он вносил столько кипучей энергии и задора, что всегда, в любой игре, побеждал своих сверстников. Скажем просто — Бегенч любит жизнь. И вот теперь все, что он любит, все, что ему дорого, как бы соединяется воедино, сливается в одном — в Айсолтан, в любви к ней.
Бегенч смотрит на расстилающееся перед ним необъятное поле, по которому волнами пробегает ветер, и хлопчатник колышется, играет, переливается на солнце, становясь то жемчужно-серым, то яркозеленым… Бегенч всей грудью вдыхает этот свежий ветер и горячий сухой аромат земли, и ему хочется крикнуть громко, на весь мир: "Как хороша жизнь!"
Лицо Айсолтан встает перед ним.
"Как хороша жизнь, которая создает таких девушек, как Айсолтан!" — думает Бегенч. Мир велик. Быть может, есть на земле немало девушек красивее ее, но разве могут быть на чужой земле, в чужих странах такие, как она? Разве могут они так любить труд, как она, так любить родину, как она, быть такими же отважными, как она? Как преобразилась жизнь! Простая туркменская девушка Айсолтан в столице самого могущественного государства на земле обсуждает вместе с другими такими же простыми советскими людьми вопрос, от решения которого зависит судьба всего человечества! Далеко ли то время, когда жизнь туркменской девушки была ограничена стенками кибитки и единственным знакомым ей путем была тропка от кибитки до там дыра? Далеко ли то время, когда глаза туркменской девушки были слепы и язык нем? А теперь в Москве зазвучит на весь мир голос простой туркменской девушки Айсолтан! Как хороша жизнь! — говорит она. — Мирная жизнь и мирный труд!"
Бегенч шагает по дороге и поет:
Моя любимая, душа души моей! Ты — утра яркого сиянье, Айсолтан! Пролей на сердце мне ручей твоих речей, — Ты — кровь моя, мое дыханье, Айсолтан!Так идет он и поет, так же как шел и пел вчера, — и не здесь ли, не на этом ли самом месте, оборвалась вчера его песня и глаза его встретились с глазами Айсолтан?
Бегенч оглядывается вокруг: да, это было здесь. Он видит подрезанный им куст хлопчатника: листья уже пожелтели и сморщились, полураскрывшиеся коробочки печально никнут к земле. Бегенч осторожно приподнимает ветви и, как делала это вчера Айсолтан, притягивает их к себе. Он вдыхает их аромат, мысленно беседует с ними:
"Под вашей тенью, листья, встретился я с Айсолтан. По моей вине до срока зэеяли еы, листья. Я возьму вас с собой и повешу дома, на стене, на самом лучшем из моих ковров. Вы были свидетелями нашей встречи с Айсолтан — вы будете почетными гостями на нашей свадьбе".
Бегенч обламывает ветки хлопчатника, уносит их в глубь хлопкового поля и прячет там, подальше от чужих глаз.
Бегенч обходит хлопчатник, проверяет полив. Он доволен: везде хорошо, равномерно разлилась вода. Она поблескивает в бороздках даже на тех участках, судьба которых беспокоила Айсолтан. Вчера хлопчатник стоял здесь потускневший, пригорюнившийся, и листья его уныло клонились к земле, словно моля ее: "Воды, воды!" А сегодня они тянутся к солнцу, задорно блестят в его лучах, и в шелесте их Бегенчу слышится уже не жалоба, а веселый припев: "Урожай! Урожай! Мы дадим хороший урожай!"
Бегенч чувствует, как сильно припекает ему спину, и решает, что, должно быть, перешло за полдень. Он смотрит на часы: почти два часа! Сейчас приедет Аннак. Бегенч выходит на дорогу, смотрит в ту сторону, откуда должна появиться машина. Нет, не клубится пыль, не видно Аннака. Что ж он не едет? Конечно, в области забот тоже много. Может быть, Аннак не застал кого-нибудь, дожидается.
Пройдя еще немного по дороге, Бегенч видит пожилую женщину, которая стоит у края хлопчатника, спершись на кетмень. Он подходит к ней, приветливо здоровается:
— Добрый день, Нязикджемал-эдже. Желаю тебе работать — не уставать!
— Желаю тебе долгой жизни, мой ягненочек!
— Ну, как справляешься с годами, Нязикджемал-эдже?
— Борюсь с ними, и руками и ногами борюсь. Когда дома сидишь — кряхтишь, а как выйдешь в поле — так охи-ахи и позабудутся. Ты мне скажи: кто я такая, кто? А ведь каждый день один трудодень и еще полтрудодня зарабатываю.
— В такое время живем, Нязикджемал-эдже!
— Правильно говоришь, мой ягненочек. В прежнее-то время нас, женщин, и не подпускали к хлопку. Мы и не знали, как он растет. Собачья жизнь тогда была, вот что. А теперь и меня в число людей поставили. Ты не гляди, что мне шестой десяток пошел, — в этих красавцах и моя доля труда есть. На старости лет есть чем погордиться, чему порадоваться…
Бегенч уже не раз слышал такие речи из уст Нязикджемал. Если Нязикджемал начнет сетовать на старую жизнь — конца-краю не будет ее рассказу. И Бегенч, как только Нязикджемал умолкает на секунду, чтобы перевести дух, спрашивает:
— Нязикджемал-эдже, что передать от тебя Са-заку?
— А что, сын мой, отары смотреть поедешь?
— Поеду, Нязикджемал-эдже.
— Ну, тогда слушай. Ты моему сыну скажи так: "У твоей матери еще не согнулась поясница, она у нее даже выпрямилась". Скажи ему: "Твоя мать каждый день по одному трудодню и еще по полтрудодня зарабатывает". Скажи: "Твоя мать будет тобой недовольна, если ты не вырастишь столько ягнят, сколько у нее коробочек на хлопчатнике". Скажи: "Твоя мать вызывает тебя на соревнование. Она наказывает тебе беречь каждого барана, как свою душу. Если волк задерет у тебя хоть одного барана — ты тогда матери и на глаза не показывайся. Если ветер унесет у тебя хоть клочок шерсти — беги за ней, отними у ветра". Ты ему скажи…
Бегенч слышит шум мотора, оборачивается, видит приближающийся в облаках пыли "газик".
— Скажу, все скажу, Нязикджемал-эдже, прощай! — говорит Бегенч и бежит навстречу машине.
Нязикджемал кричит ему вдогонку:
— Бегенч-джан, постой! Не забудь вот еще что: скажи: "Мать говорит, что она сватает тебе самую лучшую девушку на селе!"
Когда эти слова долетают до ушей Бегенча, он приостанавливается. Уже не ревность ли уколола его в сердце?
"Первую девушку на селе? — думает Бегенч. — Кто же эта девушка? Уж не Айсолтан ли сватает старуха за своего сына? Неужели сын Нязикджемал станет на моем пути? Кому не любо назвать Айсолтан своей женой? Только слепой может не заметить Айсолтан. Да чем Сазак мог прийтись ей по сердцу? Вертлявый, как уж, развязный… Айсолтан и взглянуть на него не захочет. А впрочем, кто разберет, что у девушек на сердце? Если полюбится парень девушке, так будь он хоть кривой, хоть косой, для нее он всех милее на свете".
Так размышляет Бегенч, медленно приближаясь к машине.
А башлык, как видно, потеряв терпение, кричит:
— Эй, Бегенч! Ты что там тащишься, как черепаха? Садись живей!
Аннак, с головы до пят покрытый пылью, сидит за рулем, выжив шофера на заднее сиденье. Бегенч садится рядом с башлыком. Он смотрит на толстые волосатые руки Аннака, лежащие на баранке руля, и ему кажется, что они слишком велики и неуклюжи, чтобы хорошо управлять машиной. Но, как видно, это впечатление обманчиво. "Газик" быстро и уверенно летит вперед и даже там, где путь становится труден, легко преодолевает все препятствия — перемахивает через канавки, переваливается через бугры, а, выбравшись на ровную дорогу, несется так, что дух замирает.
Теперь, когда дорога не причиняет больше беспокойств Аннаку, он заводит разговор:
— Ну, Бегенч, что ты скажешь про Аннака? Кто он будет, сокол или курица?
Бегенч по торжествующему лицу Аннака давно уже понял, что тот возвратился с победой, и говорит:
— За кого же ты принимаешь наших колхозников: цыплята они, что ли, чтобы следовать за курицей?
— Вот то-то и оно! Мне, видишь ты, даже по положению курицей быть никак невозможно, и я ею, если на то пошло, отродясь не был. Да. Ну, короче, поговорили мы в облисполкоме и все вместе пошли к секретарю обкома. Принял он нас. Начинает меня расспрашивать о колхозных делах. Я рассказал. Переходит к вопросам о моем личном житье-бытье. А у меня нутро горит. "Что же это, — думаю, — когда же он перейдет к воде?" А он все — как жена, да как ребятишки, да через каждые три слова все о моем здоровье беспокоится… Ну, ты знаешь мой характер: не выдержал я, говорю: "Товарищ секретарь, мое здоровье в самом что ни на есть цветущем состоянии, только имеется у меня одна тяжелая болезнь, измучила сна меня, собака, всю душу изгрызла". Посмотрел он на меня и смеется: "Как же так, товарищ Аннак? Не понимаю я тебя: здоровье, сам говоришь, у тебя отличное, а, между прочим, ты вроде как бы при смерти?" Я, конечно, вижу, что не совсем удачно выразился…
Дорога круто сворачивает вправо, и Бегенч, воспользовавшись тем, что его собеседник на секунду умолк, спрашивает:
— Аннак, а поближе к делу нельзя? О чем договорились?
— Друг, не понукай! Добрый конь сам знает, где рысью итти, а где шагом.
— Да я ничего…
— А ничего, так не перебивай, не порти песню. Ну, значит, говорю я ему: "У меня, товарищ секре-тарь, болезнь особого рода. Моя болезнь — это вода. Мне вода нужна". А он улыбается, берет со стола графин, наливает воды в стакан, подает мне "На, — говорит, — товарищ Аннак, выпей газировки, остуди сердце. А то ты даже раскраснелся весь". Я, конечно, понимаю, что он со мной шутит, но сбить себя с позиции не даю. "За газировку, — говорю, — спасибо, но только ты и мой хлопчатник напои — вот тогда я тебе двойное спасибо скажу". — "Да, — говорит он, — хлопчатник… Знаю, знаю…" — и берет трубку. "Соедините, — просит, — с Ашхабадом". Тут у меня, поверишь ли, так сердце заколотилось, словно мне сейчас в атаку итти. Соединили его быстро. Что ему там говорили, я, понятно, не слышал, а вот что он говорил — это мне было прямо, как мед. Потом положил он трубку, обращается ко мне: "Ну, товарищ Аннак, не горюй о воде. Воду дадут. До свиданья. Желаю успеха". Я от радости так очумел, что даже спасибо сказать позабыл.
— А все-таки ты у нас молодец, товарищ башлык.
— То-то, друг. Видишь, не сплошал Аннак!
Машина идет по степи, и Бегенч зорко вглядывается в даль, туда, где степь сливается с небом. Вдруг, привстав на сиденье, он дергает Аннака за рукав:
— Аннак, притормози-ка машину.
— А ну, что увидал? — опрашивает башлык. Машина останавливается.
— Дай-ка мне бинокль. Где он у тебя? — говорит Бегенч.
С минуту он смотрит в бинокль, потом передает его Аннаку.
— На, погляди.
Аннак водит биноклем по степи и вдруг замирает.
— Эге! Вижу, вижу! — вскрикивает он. — Три джейрана. Они нас уже приметили. Вон, видишь, как насторожились.
Башлык приказывает шоферу:
— Ну, живо, живо держи свою баранку! Давай сюда ружье. — Вытолкнув Бегенча из машины, он пересаживается на заднее сиденье, кричит: — Теперь, друг, нажимай!
Бегенч едва успевает вскочить в "газик". Машина резко набирает скорость, расстояние между ней и джейранами заметно сокращается. Три темные пятнышка растут, они уже отчетливо видны.
Джейраны, почуяв опасность, тоже срываются с места. Они скачут на восток, к пескам. Машина идет наперерез. Аннак, сжимая в руках двустволку, кричит на шофера:
— Ты не смотри на них! Смотри на дорогу! Нажимай!
Машина летит по степи. Уже видно, как мелькают в воздухе белые салфеточки — пятна на задних ногах джейранов, под хвостом. Джейраны скачут, вытянув шеи, держась близко друг к другу; тонкие ноги, как тугие пружины, подбрасывают в воздух стройные туловища, и кажется, что каждый скачок переносит их сразу на двадцать шагов вперед. Но машина летит, и расстояние продолжает уменьшаться. Она несется по степи, подскакивая на буграх, почти отрываясь от земли: кажется, что и она — дикое животное, разъяренное азартом погони.
Ветер свистит у Бегенча в ушах. Уцепившись руками за спинку переднего сиденья, пригнувшись к шоферу, он упрашивает:
— Осторожнее! Разобьешь машину!
Но Аннак, напряженно сведя плечи, словно готовясь к прыжку, впившись глазами в скачущих джейранов, кричит, и его зычный бас далеко разносится по степи:
— Давай! Давай!
Впереди уже видны барханы. Если только джейраны уйдут в пески, они ускользнут от преследования, и Аннак, поднимая двустволку к плечу, снова торопит шофера:
— Нажимай же! Ну!
Джейраны подходят к краю барханов, но расстояние между ними и машиной теперь не больше пятидесяти шагов.
Аннак, не находя удобного положения для прицела, кричит шоферу:
— Сворачивай! Боком ставь! Дай стрелять, будь ты неладен!
Четыре выстрела гремят один за другим. Увидев, что два джейрана упали, шофер откидывается на сиденье и убавляет скорость. Аннак, следя глазами за третьим джейраном, который большими ленивыми скачками уходит в пески, толкает шофера в бок, хрипит:
— Зачем останавливаешь? Нажимай!
Но Бегенч, видя, что джейран скрылся в барханах, говорит:
— Нет, этого уж не догонишь! Ускользнул, красавец!
Один джейран лежит недвижимо, подогнув под себя передние ноги, уткнувшись рогами в землю. Другой бьется, закидывая голову, поднимая тонкую, светлую пыль маленькими копытцами.
Бегенч первым выскакивает из машины и бежит к животному с ножом в руке. Аннак, у которого на ноге есть отметина, оставленная когда-то острым копытом джейрана, кричит Бегенчу:
— Берегись! Хватай его за рога!
Быстро перерезав джейранам горло, они вспарывают им животы, вытягивают внутренности; потом, взвалив на плечи, переносят в машину.
Машина пересекает холмистую песчаную степь, поросшую сухой, острой, как иглы дикобраза, травой — ылаком. Одиноко стоящие саксаулы простирают над землей свои узловатые ветви. Ветер шелестит в кустах селина, похожих на пучки осоки, покачивает их тонкие, прямые стебли. Суслики, испуганные шумом машины, прячутся в норки; широко расставляя мягкие лапы, вертя длинным хвостом, убегает варан, выражая свое недовольство сердитым шипением. Вертлявые маленькие ящерицы выскакивают прямо из-под колес. И по всей степи на мягком песке барханов отчетливо видны следы лисиц, зайцев, барсуков, птиц… Большая серовато-коричневая змея нежится на пригреве, приподняв плоскую голову.
Вдали уже видны отары овец. Сначала они кажутся сплошным темным пятном, которое постепенно превращается в живую, шевелящуюся массу. Поглядев на часы, Аннак говорит:
— Вот это дело! А шести еще нет. Добрая машина, тоже не любит зря время терять.
— Да, хорошо прокатились, — подтверждает Бегенч.
Он потягивается, расправляя затекшие мускулы, с удовольствием поглядывает по сторонам.
Стриженые каракулевые овцы мирно пасутся, рассыпавшись по степи, наслаждаясь обилием пищи на новых, нетронутых пастбищах. Полугодовалые ягнята, не достигшие еще степенной величавости взрослых баранов, ведут себя шаловливо, как и подобает их возрасту и добродушно-жизнерадостному нраву. Курчавые, глянцевитые шкурки их блестят, как обмазанные маслом. Еще не налившиеся жиром, заостренные книзу курдюки способны вызывать только жалость рядом с полновесными курдюками старшего поколения. Огромные злые псы с обрубленными ушами и куцыми хвостами спокойно лежат около чабанов и подпасков, положив головы на вытянутые передние лапы, но, завидя машину, движущуюся по степи в облаках серой пыли, с заливистым лаем бросаются ей навстречу. Окружив "газик" со всех сторон, они наскакивают на него, отлетают в сторону, снова наскакивают, оскалив зубы в яростном лае, и так провожают машину до чабана.
Чабан, кряжистый, квадратный, обуглившийся под солнцем, стоит, широко расставив ноги, и читает газету, шевеля длинными, свисающими на подбородок усами. На нем опрятный, подпоясанный кушаком чекмень; небольшая бородка аккуратно подстрижена. Заслышав лай, он поднимает голову, роняет газету и, размахивая палкой, кричит на собак:
— Прочь, прочь пошли, дурные! Хозяев не признали!
— Здравствуй, друг. Как дела. Здоров? — спрашивает башлык, вылезая из машины.
— Спасибо, товарищ Аннак. Пока не жалуюсь.
— Овцы как?
— Гляди сам.
— Да с виду хороши. Ну, а насчет болезней как? Черрык не донимает?
— Так откуда ж он возьмется, товарищ башлык? Разве мои овцы по жнивью гуляют? Зерном объедаются?
— Да, пастбища у тебя чистые, нетронутые. Ну, а в каких отношениях ты с волками?
— Я, товарищ Аннак, сказать по совести, с ними связь почти потерял.
— Что ж, совсем не заглядывают?
— Так, наведываются помаленечку — по два, по три, да мы их не жалуем, вот они и обижаются, — угощения нет.
— Значит, ты доволен охраной?
— Да, хлеб не даром едят.
Ответы чабана явно по душе башлыку, но ему хочется попытать его еще:
— А шкуры есть у вас?
— Как говорится: пока отара дойдет до сотни, шкур перевалит за тысячу. Ну, и у нас несколько шкур наберется.
— Акт составляли? Сколько зарезали баранов?
— Сколько околело, столько и в акт попало.
— А тех, что завфермой зарезал, сколько?
— Это, товарищ Аннак, ты сам, верно, лучше знаешь, а мне не известно.
— Как же это так — тебе не известно?
— Да, думаю, не больше того, что председатель колхоза в своей бумажке показал.
— Ишь ты! Хм… Ну, а как жизнь у вас тут? В чем нехватка?
— А ни в чем. Всего хватает.
— Стадо в чем нуждается?
— Стадо-то? Стадо — оно ни в чем не нуждается… Вот только вода далековато. Мы сейчас идем на два перевала. Когда баран двое суток не пьет воды, от этого, сам знаешь, пользы мало.
— И здесь нужна вода! Слышишь, друг! Там напоил — теперь тут плачут! Когда ж у меня будет вода, вода, вода?! Так, чтобы уж больше из-за нее не мучиться!
Чабан недовольно смотрит на башлыка: чего это он раскричался? Говорит обиженно Аннаку:
— Да мне для себя, что ль, вода нужна?
— Знаю… — Аннак треплет нахмурившегося чабана по плечу. Потом оборачивается к Бегенчу. — Слышишь, что говорит пастух?
— Слышу. Так ведь дело известное: хочешь есть чурек — не ленись дров натаскать. Нужно рыть еще один колодец, через перевал отсюда. Думаю, что комсомольцы возьмутся за это.
— Да, легко сказать — вырыть колодец в шестьдесят метров. Если сейчас возьметесь рыть, с хлопком не подкачаете?
— Какая же это будет подмога — одну стену укрепил, а другую повалил?
— Вот, друг, слышал? Месяца через полтора-два требуй с комсомольцев свою воду. Только смотрите, выберите местечко, где вода послаще и травка поближе.
— Выроем, дед, не горюй, — обещает Бегенч чабану. — Так и назовем колодец "Комсомольским".
Аннак направляется к машине, следом за ним идет Бегенч. Они садятся в "газик" и отправляются дальше.
Друзья объезжают другие отары, беседуют с пастухами, с подпасками, расспрашивают их о житье-бытье. Потом идут на главную базу, расположенную между высокими барханами.
В ложбине два дома и длинный навес — теляр. На большой ровной площадке рядом с домом работают стригачи. Связав овцам ноги, повалив их на бок, они быстро лязгают ножницами, снимая шерсть. Туго набитые мешки свалены неподалеку от навеса. Еще не убранная в мешки шерсть высится большой черной горой. Пустая грузовая машина и несколько арб как бы застыли в ожидании. Десятка два верблюдов пасутся в глубине ложбины.
Заведующий фермой, очень загорелый, худощавый человек, с быстрыми черными глазами, быстрыми движениями, быстрой речью, поздоровавшись с приехавшими, сразу ведет их на площадку, где стригут овец.
— Здорово, друзья, — говорит Аннак. — Желаю вам работать — не уставать.
— Желаем вам долго жить-здравствовать.
— Ну, как единоборствуете с овцами? Скоро думаете последнюю овцу положить на лопатки?
— Денька через два закончим, никак не позже.
Аннак с удовольствием следит за проворными движениями стригачей. Эти движения так быстры, что их не уловишь глазом. Шерсть мягкими, шелковистыми пучками падает из-под ножниц. Легкие пушинки плавают в воздухе. Остриженные овцы, с остатками длинной шерсти на ногах и животе, проворно вскакивают и с радостным блеянием убегают прочь. Аннак, поглядев на полугодовалого барашка, которого только что отпустил один из стригачей, спрашивает:
— Эй, друг, а ты слыхал поговорку: весной наголо остриги, а осенью побереги?
Молодой паренек-стригач смотрит на башлыка в недоумении:
— Я что-то тебя не понял, товарищ Аннак.
— А я вот давно понял, что ты ничего еще не понял, не знаешь, как надо овец стричь. Ишь ты, барашка-то как облизал — гуляй, мол, себе на здоровье. А как морозы ударят, ветер налетит лютый, что тогда? Ты, думаешь, мы зря при осенней стрижке шерсть баранам и на животе, и на ногах, и около ушей оставляем? Нет, друг, она им нужна, прямо можно сказать — необходима. Тебя, небось, мать одеялом прикроет, а этих бедняжек кто? Товарищ Сазак, а ты, может, тоже этой поговорки не слыхал? Товарищ Бегенч, вот завфермой товарищ Сазак…
Быстрый Сазак не дает ему договорить:
— Товарищ Аннак, этот парень не стригач, а аробщик. Он нам добровольно помочь вызвался. Это его первый барашек. Парень до сих пор и ножниц в руках не держал.
— Ну и что ж, что первый? Если он первым в руки попался, так теперь ему с холоду околевать? А глаза у этого парня на что? Не видит, как другие стригут? А ты, завфермой, на что? Учи! Учи!
Вдруг до слуха башлыка долетают звуки музыки. Кто-то включил репродуктор, установленный неподалеку от навеса. Аннак прислушивается, и глаза его добреют.
— А вот это ты правильно устроил, товарищ Сазак. За это спасибо. Песня, музыка — великое дело, друг. Под песню и работа лучше спорится. Читал, может, как Кемине со своим пиром [6] шел на поминки, а им навстречу два музыканта-сазандара. Пир разгневался и говорит: "Эй, вы, злоумышленники!" А Кемине ему возражает: "Напрасно гневаешься, мой пир: это мы с тобой злоумышленники, — мы к мертвецам в гости идем. А это хорошие люди, они на той спешат". Ну, добро. Пойдем поглядим колодцы.
По дороге к колодцам Аннак останавливается возле мешков с шерстью. Прикинув в уме, он спрашивает Бегенча:
— Тонн сорок будет, а? Как полагаешь?
Четыре двугорбых верблюда, покачивая маленькими головками, медленно ходят вокруг четырех глубоких колодцев с оцементированными стенами и тянут оттуда толстые канаты, переброшенные через блоки. На концах канатов покачиваются бадьи из бычьей кожи. Пастухи выливают прозрачную студеную воду из бадей в большие цементные водоемы. К этим колодцам придут на водопой отары овец с далеких пастбищ.
Аннак и Бегенч пробуют воду, хороша ли она, не горчит ли. Вода холодна, лишь чуть-чуть солоновата на вкус, и они пьют ее с наслаждением. Четыре часа в машине, под палящим степным солнцем — как тут горлу не пересохнуть! Особенно жадно пьет Бегенч.
Сазак говорит:
— Бегенч, хватит тебе сырой водой желудок наполнять. Оставь место для чая.
Но Аннак чувствует, что чая ему, пожалуй, маловато. Его могучий организм требует чего-то более основательного для восстановления сил. Он возражает:
— Чай, конечно, неплохо. Но только на одном чае далеко не уедешь. Там, в машине, два славных козленочка с нами прибыли. Ты, друг Сазак, сделай милость, похлопочи, чтобы одного изжарили.
— Уже жарится, товарищ Аннак. Хорошее, свежее мясо жарится. А ты своего козленка побереги, домой отвезешь.
— А где ж ты взял свежее мясо?
— Ты слышишь, Бегенч, чт© товарищ башлык спрашивает? Откуда у нас свежее мясо? Товарищ башлык забыл, что у нашего колхоза шестнадцать с лишком тысяч голов баранов. Так пошли обедать. Обед готов.
— Обед — штука хорошая, а все-таки вели отрубить задние ножки у нашего козленка да нанизать на вертел. Я тоже хочу попотчевать вас козленочком из нашего с Бегенчем стада.
На пути к теляру Аннак замечает в стороне от него собранный, в большие кучи чор [7].
— Это на что ж тебе столько чора, друг? — спрашивает башлык. — Что у тебя, все бараны чесоткой болеют, что ли, — столько чора для черной мази наготовил? Или черкеза и саксаула мало, топлива не хватает?
— Нет, товарищ Аннак… Это я для другого дела, — уклончиво отвечает Сазак.
— Для чего же? Любопытно знать.
— Это я по просьбе Айсолтан собрал.
— Айсолтан? — невольно переспрашивает Бегенч.
— Ну да. Она хочет попробовать чор как удобрение для хлопчатника.
— Чудно! За минеральным удобрением пятнадцать километров ездим, а за вашим чором — сто пятьдесят километров машину гнать нужно. Интересно, как агроном на эту затею смотрит?
— Не знаю. Но… конечно, дело опыта… Только Айсолтан меня просила никому пока не говорить…
— Ничего, ничего. Попытка не пытка…
Бегенч уже не слышит, о чем еще говорят Аннак и Сазак. Он думает про себя: "Должно быть, старуха и вправду говорила про Айсолтан. И, как видно, это не просто ее старушечья затея, — как видно, Айсолтан дружит с Сазаком. Небось, ему, Бегенчу, она никаких секретных поручений не дает. Сазак у нее, видать, доверенное лицо. Да, что-то тут неладно". Сгоряча Бегенчу хочется тут же отозвать Сазака в сторону, спросить напрямик: "Ну, друг, как комсомолец комсомольцу, скажи правду".
Солнце, раскрасневшееся, как только что вынутый из тамдыра чурек, скоро коснется края земли. Стрига-чи, закончив работу, гурьбой идут к теляру.
Теляр быстро заполняется людьми. Расстилают на кошмах скатерть. Аннак и Бегенч садятся обедать со стригачами, пастухами и подпасками. Приносят круглые, блестящие чуреки, от которых еще идет пар, ставят миски, доверху наполненные горячей, шипящей в масле коурмой. Аннак, проголодавшись за дорогу, так уплетает коурму и чурек, что на него весело смотреть. Сало тяжелыми каплями стекает с коурмы, Аннак подбирает его чуреком и, покряхтывая от удовольствия, отправляет в рот. Все же, как ни увлечен Аннак едой, он успевает перекинуться словом, веселой шуткой. Уничтожив полную тарелку коурмы, Аннак, не теряя присутствия духа, принимается за изжаренного на вертеле джейрана. Расправившись и с этим блюдом, он берется за дыню, потом за виноград. Он пробует сначала черный, потом прозрачный зеленовато-розовый и на этом заканчивает свою трапезу. Бегенч, с восхищением следивший за Аннаком, только вздыхает от зависти. У Бегенча после разговора с Сазаком совсем пропал аппетит.
Смеркается. Из степи пригоняют пасшихся там верблюдов и, нагрузив шерстью, отправляют в путь.
Раздаются звуки тростниковых дудок, потом чей-то голос запевает песню. Песня несется над степью, улетает за притихшие колодцы, замирает вдали.
Когда Аннак и Бегенч садятся в машину, огромный, опрокинутый над степью купол неба мерцает звездами и на востоке созвездие Плеяды уже отделяется от земли.
Шестая глава
ветает, скоро взойдет солнце; небо уже поголубело, и на востоке над горизонтом разлилось молочно-розовое сияние.
Айсолтан на аэродроме. Вместе с другими делегатами Туркменистана на Всесоюзную конференцию сторонников мира она ожидает посадки на самолет.
Айсолтан разговаривает со своими спутниками — учеными, писателями, стахановцами предприятий. С некоторыми из них она познакомилась еще вчера, в ашхабадской гостинице. Айсолтан ничем не выдает своего волнения: ведь, что ни говорите, а она сейчас впервые в жизни полетит высоко-высоко над землей, полетит в Москву, которую так часто представляла себе в мечтах!
Айсолтан берет свой маленький чемоданчик и идет к самолету; поднявшись по приставной лестнице в кабину, опускаясь в кресло, с любопытством озирается по сторонам. Незаметно наблюдая за своим соседом, видимо привычным к этому роду транспорта, Айсол-тан делает открытие: если нажать металлическую кнопку на поручне, то можно опустить спинку кресла пониже и, вытянув ноги, устроиться полулежа. "Очень удобно, — думает Айсолтан, — можно читать книжку, а устанешь — опусти спинку, закрой глаза и спи себе…" Длинные низенькие окошечки в борту самолета задернуты шелковыми занавесками. Айсолтан раздвигает занавеску — за окном большое гладкое поле аэродрома. Небо совсем посветлело. Внезапно где-то впереди раздается гул, он нарастает, заполняя кабину самолета, сотрясает его. Айсолтан невольно оглядывается и встречает спокойную улыбку соседа — пожилого человека в шляпе и больших очках. Он что-то говорит ей — Айсолтан скорее догадывается, чем разбирает слова: "Сейчас полетим", — и снова поворачивается к окошечку. Самолет катится по земле, Айсолтан это чувствует по неровной тряске. Стараясь преодолеть не совсем приятное ощущение, она опять начинает осматривать кабину. За креслами, в хвосте самолета, девушка в белом халате неторопливо раскладывает по полкам бутерброды с сыром, колбасой, сдобные булочки, ставит бутылки с фруктовой водой, стаканы… Значит, в пути можно будет попить, поесть, ведь не везут же все это в Москву для продажи! Айсолтан улыбается собственной наивности и откидывается на спинку кресла. Самолет положительно нравится Айсолтан, — очень удобное средство передвижения! Лишь бы не качало!
Занятая своими мыслями, Айсолтан не замечает, как самолет отделяется от земли. Взглянув в окошечко, она видит, что земля как-то странно кренится то вправо, то влево и уплывает все глубже вниз. Сосед объясняет Айсолтан, что круглый, похожий на часы прибор, вделанный в переднюю стенку самолета, прямо над дверью в рубку пилота, — указатель высоты. Айсолтан следит за стрелкой: двести, триста, пятьсот, тысяча метров… Она смотрит в окошечко: теперь кажется, что самолет не движется, он словно повис в воздухе. И совсем не качает больше — как славно! Вот точно темная шерстинка протянулась по земле, — это, верно, железная дорога. А тоненькая, медленно медленно ползущая гусеница — поезд. И этот крошечный клубочек, который катится там, внизу, верно, автомобиль. А теперь все сливается в сплошную серую плоскость, покрытую какими-то черточками и пятнами.
Айсолтан смотрит на указатель: три тысячи метров над землей! Как спокойно идет самолет! Какое прозрачное синее-синее небо! И как смешно смотреть на облака сверху вниз! Кажется, что кто-то опрокинул на землю огромную корзину с хлопком. И совсем не качает! Самолет только вздрагивает, словно по нему пробегает озноб. Айсолтан довольно улыбается и, устроившись поудобнее, раскрывает книгу.
Наверное, Айсолтан задремала. Книга выпала у нее из рук на колени, и девушка очнулась. Она снова смотрит в окошечко. Что это теперь голубеет внизу, там, где раньше была земля? Словно небо упало на землю… Ах, да ведь это же Каспийское море! Девушка говорит себе: "Вот куда ты залетела, Айсолтан! Ты летишь над землей, как птица, пересекаешь степи и моря!"
— Скоро Баку, — сообщает сосед.
Айсолтан смотрит на часы.
"Два с половиной часа назад я еще сидела в самолете в Ашхабаде, — думает она. — И вот уже Баку. Хвала тебе, самолет, хвала твоему мастеру!"
Море остается позади. Земля врезается в него широким клином, оттесняет его все дальше и дальше назад. А что это чернеет повсюду? Да это же вышки, ну, конечно, нефтяные вышки! Как она сразу не догадалась!
Самолет слегка качает. Айсолтан кажется, что он порой словно проваливается куда-то в какие-то большие мягкие ямы, и у нее немного гудит в ушах. За окошечком земля опять начинает крениться, — теперь она вздымается вверх, то с одного, то с другого бока самолета. Айсолтан понимает, что самолет идет на посадку. Девушка думает:
"Сейчас я ступлю на бакинскую землю. Как далеко наш колхоз "Гёрельде"! Когда я расскажу об этом матери, она мне, пожалуй, не поверит, засмеется: "Доченька, ты рассказываешь сказки!" Она, бедняжка, и по железной-то дороге никогда не ездила. Ишак да верблюд — вот и весь ее транспорт. Раскачивайся на спине у верблюда под жгучим солнцем — через сутки на двадцать километров продвинешься! А вот теперь ее дочь поднялась под самое небо, выше облаков, пролетает четыреста километров за час! Нет, я знаю, что скажет моя мать. Она будет слушать меня, широко раскрыв глаза, будет ахать, качать головой, а потом скажет: "Спасибо советской власти, которая нашим дочерям дала крылья, выпустила их из кибиток на вольный простор!"
"Победа" мягко катится по московским улицам.
— Еще нет четырех часов, а мы уже в Москве! — восхищенно говорит Айсолтан своим спутникам, увидев большие круглые часы, под которыми на минуту задерживается машина на шумном, широком перекрестке.
Айсолтан смотрит на свои часики, видит, что стрелка на них приближается к шести. Это ашхабадское время. Да, самолет летел так быстро, что на два часа обогнал солнце! Какой замечательный сегодня день в жизни Айсолтан! Сегодня она впервые видит Москву, и это действительно самый большой день в ее жизни: на два часа длиннее обычного дня! Айсолтан с удовлетворением переводит назад стрелки своих часов. Там, в родном колхозе, на девяти гектарах ее хлопчатника, рабочий день уже близится к концу… При этой мысли Айсолтан так живо представляет себе свое поле, на котором она была вчера утром с Бегенчем, что даже невольно закрывает глаза. Девять гектаров! Совсем крошечный кусочек земли, затерянный где-то там, за лесами, за степями, за Каспийским морем. Но разве не этот крошечный кусочек, разве не ее хлопковый участок, которому она отдает все свои силы, всю свою любовь, разве не эта родная земля послала ее сюда, в огромную, шумящую Москву, где в одном доме, верно, больше людей, чем во всем колхозе "Гёрельде"! Нет, пусть далеко отсюда до родных полей — они все равно близки Москве, как матери всегда близки и дороги дети, какое бы расстояние ни отделяло их от нее. А разве Айсолтан, прилетевшая сюда, в Москву, как птица, не принесла в своем маленьком сердце и свою старую мать, никогда не покидавшую родных мест, и всех подруг своего звена, и вечно шумящего Аннака, и всегда серьезного Чары, и насмешника Потды, и… Бегенча. А как жаль, что Бегенча нет сейчас здесь, рядом с ней, как жаль, что он не летел вместе с ней в самолете над Каспийским морем, над Волгой, над подмосковными лесами… Но все-таки ей так хорошо, так хорошо сейчас, что лучше, кажется, никогда еще не бывало!
Ярким солнцем залиты московские улицы. Отвернувшись от спутников, Айсолтан прильнула к стеклу. Нет, это совсем не похоже на города, которые она видела до сих пор, даже на Ашхабад. Улицы широкие, гладкие, как стекло. Высокие, огромные дома, они тянутся бесконечно. А за домами — еще дома, и еще, и еще… Сколько там людей, в этих домах! Сколько людей на улицах! Сколько машин! Вот эта, двухэтажная, скорее похожа на дом на колесах, который катится по улице. И она полна людьми.
Сколько нужно заботы, чтобы накормить, напоить, одеть, обуть всех этих людей, чтобы всем жилось хорошо, чтобы у каждого было дело, которое ему по душе, и чтобы никто не знал ни в чем нужды!
"Слава нашей партии! Слава советской власти! Слава нашему любимому Сталину! — думает Айсолтан. — Это они заботятся обо всех нас, о каждом из нас: и о тех, кто живет в далеком колхозе "Гёрельде", и о тех, кто населяет этот огромный, прекрасный город, самый прекрасный на земле!"
Айсолтан устала, — устала не столько от долгого и непривычного пути, сколько ст волнения, от быстрой смены новых, неожиданных впечатлений, — и все же она с сожалением выходит из машины у подъезда гостиницы "Москва". Ей хочется ехать еще и еще по московским улицам, чтобы сразу увидеть всю Москву, чтобы без конца смотреть на нее! Спутники торопят Айсолтан: они хотят поскорее подняться в свои номера, помыться, переодеться с дороги, пообедать — и тогда снова итти на веселые, кипучие улицы, спуститься в подземные дворцы метро.
В гостинице "Москва" Айсолтан кажется, что она попала еще в один город, только маленький, весь уместившийся в стенах одного дома.
Вот почта, телеграф и сберкасса. Рядом со сберкассой, в отгороженном углу, за столом сидит девушка, которая почти одновременно разговаривает по двум телефонам. Эта девушка сказала Айсолтан, что та будет жить на десятом этаже, в тысяча первой комнате… Айсолтан уже порядком проголодалась и хочет спросить, где можно пообедать, но не решается больше беспокоить девушку, которая, как видно, очень занята: принимает и отправляет приезжающих и отъезжающих.
Айсолтан направляется по указанному ей адресу — в тысяча первую комнату; сейчас нет времени останавливаться, но она замечает, что здесь, не выходя на улицу, можно купить книгу, газету, шоколад… Можно отдать починить часы, почистить туфли… А вот еще киоск, — здесь продают разные золотые и серебряные украшения. А рядом можно приобрести шелковую косынку или платок…
Но оказывается, что не все еще чудеса видела в этом доме-городе Айсолтан. Конечно, девушку, которая уже поднималась на самолете на три тысячи метров над землей, ничем не испугаешь и не удивишь, но все-таки комната-коробочка, которая гудит, шуршит и ползет вверх внутри стены, поднимая сразу десять человек, производит на Айсолтан сильное впечатление.
Айсолтан выходит из лифта на площадку, и вдруг ее взору представляется совсем неожиданнее зрелище.
Ковровая мастерская. Ковровщицы склонились над работой. Красивая девочка лет двенадцати, лежа на ковре, читает газету. За окном мастерской, в неясной дымке, выступают очертания гор, у подножья их раскинулось в зелени садов селение…
Нет, слишком много впечатлений было сегодня у Айсолтан! На мгновение все как-то смещается в ее сознании, и она думает: "Неужели и здесь ткут ковры?.. Какое это селение? Как похоже на Багир!.." Айсолтан делает еще несколько шагов, потом резко останавливается и замирает на месте. Яркая краска заливает ее щеки. С минуту она в замешательстве стоит перед большим стенным панно, растерянная, смущенная своей ошибкой. Потом закидывает голову и так звонко хохочет, что привлекает внимание своих спутников. Что ж, придется объяснить. И Айсолтан снова смеется, еще веселее, вместе со всеми.
В тысяча первой комнате Айсолтан сразу забывает об этом маленьком недоразумении. Здесь даже не одна, а целых три комнаты! Окинув взглядом первую комнату, Айсолтан быстро проходит во вторую, в третью. Потом возвращается обратно, осматривает все сначала: мягкие кресла и диваны, зеркала, радиоприемник, люстры, картины на стенах, ковры на полу. Девушка совсем забыла об усталости, о том, что надо поскорее умыться, переодеться и итти обедать, забыла, что ее ждут. Она опускается в глубокое мягкое кресло и задумывается.
"Сколько комнат для одного человека! Ну что ж, так и надо. Ведь это не только для Айсолтан Рахмановой — это для каждого советского человека делается. Мы с Бегенчем тоже устроим себе такую квартиру. Даже больше. Три комнаты — это для семьи маловато… Бегенч! Что-то он делает сейчас? Может быть, опять обходит хлопчатник? Может быть, он сейчас там, на месте нашей встречи… А тот куст хлопчатника, что он подсек под самый корень, наверное, совсем завял. О чем ты думаешь сейчас, Бегенч? Вспоминаешь ли меня?"
Айсолтан закрывает глаза и видит Бегенча. Он стоит на дороге и смотрит ей вслед…
Девушка подходит к окну. Перед ней высокие башни Кремля. На одной из башен огромные часы с золотыми стрелками. Ровно пять часов…
"Кремль, кремлевские часы! — думает Айсолтан. — Бой этих часов в полночь достигает нашего села, он слышен всему миру. Сияние звезд, которые горят на верхушках башен, льется над всей землей. Это свет правды, справедливости. Кружитесь, кружитесь, мои золотые стрелки! Сверкайте, сверкайте, рубиновые звезды! Сверкайте на весь мир для тех, кто хочет, чтобы правда царила на земле, светите миру, никогда не угасая!"
Двадцать пятое августа 1949 года. Пять часов вечера. В Колонном зале Дома союзов, в Москве, открылась Всесоюзная конференция сторонников мира. Больше тысячи двухсот делегатов съехалось сюда со всех концов Советского Союза. Из четырнадцати различных стран приехали зарубежные гости.
Никогда еще не видела Айсолтан такого огромного светлого зала, не участвовала в таком торжественном собрании. Она сидит неподалеку от трибуны и, вся обратившись в слух, ловит каждое слово докладчика. Он говорит просто, сильно, глубоко взволнованным голосом, изредка подкрепляя речь коротким взмахом руки.
— Мы, советские люди, — говорит он, откидывая со лба поседевшие волосы, — гордимся тем, что наша великая социалистическая родина всегда являлась и является могучим оплотом международной безопасности, стражем мира. Народы всего мира знают, что на чаше весов в годы второй мировой войны лежало не только их настоящее, но и их будущее, и что своим спасением от уничтожения и рабства они обязаны неизмеримому героизму советского народа.
Айсолтан хорошо знает это, как знает каждый колхозник и колхозница, каждый пионер и школьник в ее родном "Гёрельде". Но здесь, в этом зале, с трибуны которого звучит на весь мир могучий голос советского народа, горячее чувство гордости за свою страну с новой силой овладевает Айсолтан, поднимает ее, словно высокая волна…
"Да, это так, и не может быть иначе, потому что нас учит, нас ведет, нами руководит великий учитель, имя которого…"
Докладчик как будто разгадал мысли Айсолтан — мысли всего зала. Он отвечает на эти заветные мысли:
— Во всех концах мира, во всех странах одно имя произносится с большой любовью, имя, звучащее с одинаковой силой на всех языках, как призыв к подлинной дружбе между народами, как призыв к длительному миру и международной безопасности. Это имя известно всем — имя нашего великого учителя и вождя, нашего любимого отца и друга, родного товарища Сталина!
— Товарищ Сталин! — повторяет Айсолтан и поднимается, вся устремившись вперед.
Поднимаются и все делегаты и стоя рукоплещут; словно шумящий прибой, рукоплескания перекатываются по залу из края в край. Обеими руками опираясь на трибуну, докладчик продолжает говорить, и Айсолтан повторяет — нет, вместе с ним произносит — слова, полные несокрушимой веры и силы:
— Жизнь за нас!.. Правда за нас! История за нас! Против прогнившего капитализма, катящегося в бездну! будущее за нас!
Доклад окончен. Снова бушуют рукоплескания, снова звучит любимое имя… Эти голоса и рукоплескания продолжают еще звучать в взволнованном до самой глубины сердце Айсолтан, когда огромный зал уже пустеет. Девушка не хочет покидать зал ни на минуту, но пожилой человек в больших очках, который был ее соседом в самолете, а вечером ходил с ней и с другими туркменскими делегатами по Москве, уговаривает ее пойти в буфет, выпить чаю. После перерыва они первыми возвращаются на свои места около трибуны, и Айсолтан снова вся обращается в слух, внимая речам делегатов конференции — крупнейших советских ученых, писателей, рабочих, колхозников и иностранных гостей.
Радостная улыбка озаряет ее лицо, когда на трибуну поднимается председатель украинского колхоза — рослый, плечистый человек с открытым, простым лицом. Не только его грузная фигура, но и громкий, басовитый голос и пылкость речи сразу переносят Айсолтан в ее родной колхоз. И она, забывшись, теребит соседа за рукав, горячо шепчет ему на ухо:
— А ведь он же совсем, как Аннак, наш председатель! И говорит так же, как он! Вы знаете, ведь Аннак воевал на Украине, через Днепр переходил…
С соседних кресел недовольно оглядываются на Айсолтан, — она мешает слушать, — но, увидав, ее сияющий, взволнованный взгляд, устремленный на трибуну, все понимают — выступает знакомый ей, близкий человек, как же тут не волноваться? И никого не удивляет, что эта смуглая девушка в национальном туркменском платье так горячо принимает к сердцу выступление украинца. В Советском Союзе все народы живут как братья и сестры в родном отцовском доме, — это великий и счастливый закон нашей жизни, дарованный нам гением Ленина — Сталина.
И снова радостно волнуется Айсолтан, когда выступает русоволосая девушка в изящном темном костюме. Девушка говорит от имени текстильщиц Ивановской области. Она обращается ко всем женщинам мира с горячим призывом:
— Везде и всюду поддерживайте миролюбивую политику советского государства, решительно разоблачайте ложь и клевету империалистов… Мы не хотим войны и всеми силами будем бороться за мир… Своим самоотверженным трудом мы отведем кровавые руки поджигателей новой войны!
Девушка энергично встряхивает коротко остриженными светлыми волосами. Айсолтан слушает ее и невольно сжимает свои маленькие крепкие кулачки, хмурит тонкие брови. Уж за ней-то дело не станет, когда надо будет показать, как советские девушки умеют бороться за мирную жизнь!
Делегатов братских республик Советского Союза сменяют на трибуне иностранные гости. Айсолтан горячо аплодирует представителю победоносного китайского народа — народа, разгромившего силы реакции, возглавляемые американскими империалистами. Она запомнит слова этого человека: четырехсотсемидесятимиллионный китайский народ — верный друг Советского Союза и всеми силами будет поддерживать его в борьбе за мир, против войны. Она передаст эти слова всем колхозникам родного села, пусть и они узнают о том, как множатся ряды сторонников мира.
На трибуну поднимается высокий сухощавый старик с гладко выбритым лицом и розовой лысиной, обрамленной белыми волосами. Он приветствует конференцию от имени всех жаждущих мира англичан и говорит, что в сердцах английского рабочего класса глубоко вписано одно магическое слово — Сталинград. Слушая его, Айсолтан невольно вспоминает, как мать" утирая слезы рукавом, рассказывала ей об отце, о том, как он едва не погиб от рук английских интервентов, как они сделали его на всю жизнь калекой, и сердце у нее горит. Ей хочется сказать этому седому человеку, которого внимательно слушает зал, что английские рабочие должны поскорее обуздать хищных английских империалистов, готовящих новую войну…
На другой день то, что хотела сказать Айсолтан, сказал пожилой человек в больших очках, кресло которого с утра пустовало. Тот, кто занимал его вчера, стоит сейчас на трибуне и, прикрывая глаза рукой от яркого света наведенных на него юпитеров, молча ждет, пока затихнут приветствия. Он понимает, что зал рукоплещет не ему, — ведь фамилия его хорошо известна только в ученых кругах: передовые люди советской земли, собравшиеся в этом зале, чтобы сказать о своей воле к миру и готовности бороться за него, приветствуют в его лице свободный туркменский народ и мудрую партию Ленина — Сталина, создавшую государство, в котором сын безграмотного пастуха, сам в юности пасший байские стада, мог стать ученым, профессором, доктором наук. А таких, как он, тысячи. Двести тысяч юношей и девушек в Советском Туркменистане учатся в средних школах. Десятки тысяч учатся в техникумах и высших учебных заведениях.
Он говорит о том, что туркменский народ не хочет войны, он занят мирными делами, он готовится к организации своей национальной Академии наук, он строит каналы для орошения пустующих земель, он создает и выращивает новые сорта советского хлопчатника, в каждой коробочке которого для нас — залог мирной и счастливой жизни, он хочет быстрее восстановить и сделать прекраснее, чем прежде, свою столицу Ашхабад, пострадавшую от землетрясения. Туркменский народ, как и весь советский народ, занят мирным, творческим трудом.
— Господам Трумэнам и Черчиллям не удастся обмануть простых людей мира. Советские народы не хотят войны, им не нужны ни американские, ни чьи-либо другие территории. Мы хотим только одного: чтобы не мешали нашему мирному труду, нашему мирному строительству, не посягали на нашу мирную, радостную жизнь… Мы, советские люди, всегда были и остаемся в первых рядах прогрессивного человечества, борющегося за прочный мир и демократию… Все больше подтверждаются сталинские слова о том, что миллионы простых людей стоят на страже мира. Дело сторонников мира правое, а правое дело всегда побеждает.
И снова рукоплещет зал, и Айсолтан с разгоревшимся лицом хлопает в ладоши, кажется, громче всех: ведь все это было сказано от ее имени, она не могла бы лучше сказать о хлопке и о заветной своей мечте — новом канале для орошения хлопковых полей, о героизме, о трудолюбии туркменского народа, о его беззаветной любви и преданности родному Сталину. Новыми глазами смотрит Айсолтан на своего соседа, стоящего сейчас на трибуне: она видит в нем весь туркменский народ, за тридцать лет с помощью великого русского народа и партии Ленина — Сталина поднявшийся на вершину социализма, избегнувший мрачной пропасти, в которую катится сейчас весь капиталистический мир. И Айсолтан говорит себе:
"Какое это счастье — жить, учиться, работать в Советской стране! Какое это счастье — быть гражданином Советского Союза!"
Нет, никогда не представляла себе Айсолтан, что жизнь может быть так разнообразна, так полна самых ярких, волнующих впечатлений! Посещение музеев и картинных галерей, театров и кино, прогулки по Москве, по каналу Москва — Волга, по золотым осенним подмосковным паркам… Счастливая и усталая возвращается Айсолтан после этих прогулок домой.
Вот она входит в метро и со вздохом облегчения становится на ступеньку эскалатора.
"Ах, как хорошо! Можно немного отдохнуть, постоять на одном месте!"
Казалось бы, Айсолтан уже пора привыкнуть к московскому метрополитену, — но нет, все здесь еще продолжает волновать ее воображение: и вечно движущийся глубоко под землей, под московскими улицами и площадями, широкий, бурливый поток людей, подобный подземной реке в мраморном русле, и огромные, сверкающие огнями подземные дворцы-станции.
"Сколько удивительных способов передвижения изобрели люди! — думает Айсолтан, стоя на эскалаторе. — Из далекой Туркмении прилетела я по воздуху сюда, в Москву. В клеточках-лифтах поднимаюсь под самые крыши высоких зданий. Теперь лестница сама спускает меня под землю…"
Эскалатор доставляет Айсолтан в мраморный подземный дворец. Снова окидывает его Айсолтан восхищенным взором. Стройные колонны поддерживают высокий легкий свод. Они кажутся Айсолтан гигантскими мраморными цветами, в чашечках которых скрыт невидимый источник света. За колоннами, справа и слева, сверкая зеркальными стеклами, с мягким шумом проносятся поезда. Двери на остановках открываются и закрываются сами собой. В вагонах светло, как днем, потому что они залиты ярким электрическим светом, но поезд мчится сквозь землю по длинным полутемным тоннелям и безошибочно находит свой путь. И, опускаясь на кожаное сиденье, Айсолтан снова, как недавно в самолете, мысленно восклицает: "Хвала твоему мастеру!"
В своем номере, который стал для нее как бы вторым домом, Айсолтан тоже не всегда находит желанный отдых. Часто звонит телефон, — Айсолтан приглашают выступить по радио, или дать статью в журнал, или приехать в рабочий клуб. Сегодня Айсолтан прежде всего садится писать письмо матери, ей хочется поделиться с ней всем, что переполняет ее душу. А потом она напишет еще одно письмо — Бегенчу.
Снова высокие стены комнаты-сказки расступаются перед взором Айсолтан и теплый ласковый ветерок овевает ее лицо, снова приветливо колышется зеленый хлопчатник и она видит перед собой Бегенча. Он стоит потупившись, как провинившийся ребенок, потом поднимает глаза, и они без слов выдают его тайну; он роняет лопату и простирает к ней руки…
Стук в дверь заставляет Айсолтан вскочить с кресла. Ей кажется, что она опять, как тогда, в поле, слышит за спиной резкий оклик: "Э-эй! Айсолтан! Иди-ка сюда!" Девушка подает ей на маленьком подносе два письма. Айсолтан дрожащей рукой берет одно из них, — быть может, это от Бегенча? — разрывает конверт. Нет, это даже не письмо, а пригласительный билет: Всесоюзное общество культурной связи с заграницей приглашает Айсолтан на вечер встречи делегатов конференции с иностранными гостями. Айсолтан откладывает билет в сторону и уже спокойно вскрывает второй конверт. Конечно, и это не от Бегенча, — это тоже приглашение: фабричный комитет и дирекция одной из подмосковных текстильных фабрик просят Героя Социалистического Труда, мастера высоких урожаев хлопка Айсолтан Рахманову посетить сегодня их фабрику и побеседовать с текстильщицами.
Да ведь это та фабрика, что была когда-то кузницей туркменских кадров текстильщиков! Когда в Ашхабаде начали строить текстильную фабрику, десятки юношей и девушек из туркменских городов и сел отправились на подмосковную фабрику учиться новому для них мастерству и вернулись в родной край инструкторами и мастерами текстильщиками. Как же можно забыть об этом и как можно отказаться от приглашения побеседовать с русскими текстильщицами?!
"А что же делать с иностранными гостями? Ну да, я видела их уже на конференции, слышала их выступления!.." — размышляет Айсолтан, не выпуская из рук письма текстильщиц и искоса поглядывая на пригласительный билет ВОКСа.
Решение Айсолтан уже принято, когда раздается легкий стук в дверь и в комнату входит стройная светловолосая женщина в сером костюме.
— Здравствуйте, Айсолтан! Получили приглашение? Вот и отлично. Вы уже готовы? Сейчас придет машина и поедем!
Лицо, голос и даже костюм этой женщины знакомы Айсолтан. Ну, конечно, она встречалась с ней на конференции. И гостья тоже, видимо, считает Айсолтан своей хорошей знакомой. Полагая, что вопрос о поездке Айсолтан на фабрику решен, как оно и есть на самом деле, она с любопытством осматривает комнату, мимоходом поправляет перед большим, в позолоченной раме трюмо выбившиеся из-под берета волосы, включает радиоприемник и, быстро поймав нужную волну, садится на диван. При этом она забрасывает Айсолтан вопросами, и та чувствует себя с ней неожиданно легко и просто. Айсолтан рассказывает все, что знает о подмосковной фабрике, но видит, что гостье это уже известно, — она помнит даже фамилии многих учившихся на этой фабрике туркмен.
— А где сейчас товарищ Перманов? — спрашивает она. — А как поживает Огульнияз Бабаева? Вы ее не знаете?
Айсолтан смущена: не так-то легко ответить на все вопросы гостьи. Но та не замечает ее смущения и не ждет ответа на каждый вопрос. Ее интересует сразу столько самых различных вещей, что разговор то и дело меняет русло, как капризная Аму-Дарья… Уступая настояниям новой подруги, Айсолтан надевает свое красное шелковое "кетени" — праздничное платье, заплетает с ее помощью волосы в две косы. "Почти до колен!" — восторгается текстильщица. Айсолтан едва успевает взять свою девичью тюбетейку с остроконечным серебряным гупба, как из вестибюля говорят по телефону:
— Машина для товарища Рахмановой пришла…
Айсолтан жадно вдыхает свежий лесной воздух, напоенный ароматами ранней осени. Открытая машина быстро идет по широкой просеке, которой — кажется Айсолтан — не будет конца. По обеим сторонам дороги высокой стеной стоит подернутый осенним багрянцем лес.
"Вот они, настоящие русские леса, — думает Айсолтан. — Какая тут тень и прохлада!"
Айсолтан не может скрыть от спутницы своего восторга. Та понимающе улыбается.
— Да, — говорит она, — хороший лес. А уж грибов! Таких лесов у вас в Туркмении нет. Все песок да барханы. И как только там хлопок растет!
Теперь улыбается Айсолтан. Конечно, в Туркменистане нет таких лесов, но посмотрела бы эта московская девушка на увитую виноградом террасу маленького домика Айсолтан, на широкую вершину старого урюка, под которым прохладно в самый знойный летний день! А сады, бахчи, зеленое море колхозного хлопчатника, заливающее всю равнину вокруг колхоза "Гёрельде"! Конечно, песков много, велика пустыня Кара-Кумы, но как не правы те, которые думают, что Кара-Кумы — безжизненная пустыня! Весной и осенью, после дождей, она покрывается зелеными коврами пастбищ, и десятки, сотни тысяч колхозных и совхозных овец пасутся там на приволье. "Верно, мало у нас воды, но земля хорошая, золотая земля. Воткни прутик, плюнь — дерево вырастет, — так говорят у нас…" Увлекшись, Айсолтан забывается и начинает говорить по-туркменски. Спутница со смехом прерывает ее, просит перевести, сама повторяет вслед за Айсолтан:
— Агач — дерево…
А машина мчится и мчится по зеленой просеке, спускаясь порой в ложбины и вновь поднимаясь на пологие холмы. Снизу кажется, что там, на вершине холма, лес кончается и просека словно упирается в небо. Но машина легко идет вверх по склону, и Айсол-тан видит, что лес не кончается, а только разбегается в обе стороны от дороги, большим полукругом огибает широкую холмистую возвышенность и снова сходится далеко на горизонте, сливаясь в темную волнистую ленту. Лучи заходящего солнца золотятся на свежем жнивье; кое-где еще стоят невывезенные копны, зеленеют луга. Далеко справа показывается небольшое селение, бревенчатые дома под железными крышами окружены садами. По дороге, в облаках пыли, движется большое стадо коров. Пастух громко щелкает длинным кнутом, освобождает путь машине, сгоняя коров с дороги на жнивье. Машина замедляет ход. Айсолтан приподнимается и, обернувшись, машет пастуху рукой. Тот с изумлением смотрит на ее сверкающую серебряным острием тюбетейку, на смуглое лицо, обрамленное черными косами, и, покрутив головой, снова громко щелкает своим длинным кнутом.
Да, хороши, хороши русские леса и поля! Айсолтан кажется, что эта картина мирной жизни никогда не померкнет в ее памяти. Она провожает взглядом скрывающееся за поворотом селение. Машина огибает невысокий холм, на вершине которого небольшая рощица. У подножья холма деревянная ограда. Айсолтан различает большую каменную плиту, полускрытую под венками из живых цветов.
— Что это? — спрашивает она свою спутницу.
— Это памятник двум девушкам-партизанкам из здешнего села, замученным фашистами в сорок первом году неподалеку отсюда — на подступах к Москве.
Конечно, Айсолтан и раньше знала, что в сорок первом году фашисты подходили к Москве, она читала об этом, слышала от Чары и от Аннака, которые сражались с фашистами." Но сейчас сна с особой силой чувствует, в какой грозной опасности была Мо-сква. И этот памятник, на котором не вянут цветы, без слов говорит ей, с каким бесстрашием, с каким геройством защищали свою столицу, свою землю советские люди. Ничто не сломит их, никто не покорит!
"Советские люди, — думает Айсолтан, — навсегда изгнали врагов из пределов нашей родины и донесли знамя правды до Берлина, до Праги, до Будапешта. Тысячи, миллионы смелых и честных рук за рубежом подхватили знамя правды, знамя мира и справедливости, понесли его по всему миру, и нет такой силы, которая могла бы их остановить, повернуть вспять. Пусть беснуются поджигатели войны — мы их не боимся. Они катятся в бездну, а жизнь — за нас, история — за нас, будущее — за нас!"
Так думает Айсолтан — и так говорит в большом, ярко освещенном зале фабричного клуба. Она вспоминает все, что слышала на конференции и что передумала за эти дни. Потом она рассказывает текстильщицам о Туркменистане, о родном колхозе "Гёрельде", о хлопчатнике и о том, как она со своим звеном добилась высоких урожаев хлопка.
— Хлопчатник — это такое нежное, такое красивое и капризное растение, что сколько за ним ни ухаживай — все ему мало, как избалованному ребенку или своенравной невесте…
Айсолтан растерянно умолкает, поймав себя на том, что говорит о хлопке словами Бегенча. Ну, да кто же может об этом знать? И что тут худого, если она повторяет слова любимого? Но все-таки Айсолтан смущена, — хорошо, что этого никто не замечает. Текстильщицы дружно хлопают в ладоши и что-то кричат ей из глубины шумного зала. Айсолтан смущается еще больше, когда понимает, что они просят ее рассказать, за что она получила маленькую золотую звездочку, которая горит на ее красном шелковом платье, как живой огонек. Она говорит, сколько центнеров "белого золота" собрало ее звено в прошлом году с каждого гектара, но понимает, что этого объяснения еще недостаточно.
— Мы работали не покладая рук, — продолжает Айсолтан. — Мы всегда советовались с лучшими старыми хлопкоробами и агрономом, держали связь с опытной хлопководческой станцией.
Айсолтан рассказывает о работе колхозной опытной лаборатории, организованной по ее почину, о занятиях кружка, о новых книгах по агрономии, почвоведению и орошению, купленных ею в Москве для этого кружка, для себя и Бегенча, который также все время учится и руководит комсомольской организацией и наблюдает за поливами хлопчатника, — а это очень сложное дело, хлопотливое и ответственное, но он хорошо справляется с ним и поэтому его тоже наградили орденом Ленина…
— Бегенч… — Айсолтан опять умолкает, сгорая от смущения. Почему она все время повторяет это имя? — Бегенч! — почти шепчет она и вдруг поднимает голову и смело смотрит в зал. — Бегенч — это значит радость! — восклицает она. — Это любовь, это счастье работать на свободной советской земле, счастье учиться и жить в великой Советской стране, быть советским гражданином!
Какая буря рукоплесканий, восторженных криков и приветствий поднимается в зале! Девушки вскакивают с мест, подбегают к трибуне, тянутся к Айсолтан. Чинно сидевшие за столом президиума пожилые работницы, члены фабкома и парткома, сам директор — все встают, окружают Айсолтан, жмут ей руки.
Потом Айсолтан ведут на фабрику — в огромные, залитые светом залы, где повсюду цветы, на полу ковры, на окнах яркие цветные шторы, где бесконечными рядами стоят машины, которые — так кажется Айсолтан — работают сами, а в длинных проходах между ними спокойно прохаживаются девушки, почти не останавливаясь и только незаметными движениями что-то поправляя то у одного, то у другого станка.
В прядильном цехе с неуловимой быстротой кружатся высокие веретена, наматывая бесконечные сверкающие нити.
В ткацком цехе спутница Айсолтан, делегатка конференции, показывает ей свои станки — тридцать шесть ткацких станков, которые она обслуживает одна, делая за смену сотни метров ткани.
В цехе готовой продукции Айсолтан встречает высокая пожилая женщина. Она преподносит почетной гостье кусок яркой материи, отливающей всеми цветами радуги.
— Это теой хлопок, милая Айсолтан! — говорит она. — Давай нам больше "белого золота", и мы оденем всю нашу великую родину в его золотое сияние!
Айсолтан кажется, что она попала в какое-то сказочное царство. У нее кружится голова, на глаза навертываются слезы. Без слов бросается она к этой русской женщине-работнице и припадает к ее груди…
Огромное пространство Красной площади залито солнцем. Айсолтан пришла сюда вместе с другими делегатами конференции. С замирающим сердцем приближается она к мавзолею Ленина. Вдоль всей площади медленно движется бесконечная вереница людей. Все эти люди стремятся попасть туда, куда идет Айсолтан. У всех сосредоточенные лица. Никто не разговаривает, не шутит, не смеется, как бывает обычно на веселых, шумных московских улицах. Здесь все охвачены одним чувством, одним глубоким сердечным трепетом, и не нужно говорить, чтобы делиться друг с другом своими чувствами и мыслями, — каждый понимает друг друга без слов, ибо сердца всех бьются в лад, как одно большое, взволнованное сердце.
Айсолтан медленно проходит под массивным гранитным сводом и, затаив дыхание, смотрит на Ленина. Она мысленно беседует с ним. Она знает, что Ленин жив и будет жить вечно. Он жив в ее сердце и в сердцах миллионов и миллионов людей, населяющих землю. И Айсолтан хочется рассказать ему, как отцу, как серому дорогому, близкому человеку, о том, что она, простая туркменская девушка, сбросив яшмак, поднялась на высокую трибуну, откуда голос ее звучит на весь мир. Ей хочется рассказать ему, что она, простая туркменская девушка, вырвавшись на вольную волю из тесной кибитки, прилетела сюда из-за степей, из-за морей, прилетела в сказочно-прекрасный город, имя которому Москва. Ей хочется рассказать ему о том, как она счастлива, как счастлив весь туркменский народ, как любит и бережет он свою прекрасную советскую родину. Ей хочется сказать, что советский народ никогда не забудет того, чей великий гений создал самое счастливое и самое могущественное государство на земле. Слезы выступают на глазах Айсолтан. Губы ее чуть слышно шепчут:
— Спасибо, спасибо тебе, дорогой Владимир Ильич!
Седьмая глава
олнце поднимается в зенит, и к дому колхозного правления со всех сторон спешат люди. На просторной площадке перед длинной верандой с резными колоннами расставлены стулья и скамейки. Те, кому нехватило места на скамейках, рассаживаются на перилах веранды или прямо на земле, в тени урюковых деревьев. Если и есть еще где-нибудь такие колхозы, в которых женщины на собраниях не хотят смешиваться с мужчинами и сидят обособленными кучками, то в колхозе "Гёрельде" совсем другие порядки. Здесь все сидят вместе и оживленно беседуют, перекидываются шутками. Если есть еще такие колхозы, в которых женщины молчат на собраниях, словно им глиной рот замазали, то этого никак не скажешь про колхозниц "Гёрельде". Здесь иная девушка как примется честить какого-нибудь парня за плохую работу, так парень только покряхтывает да пот со лба утирает. "Лишь бы, — думает, — ее подружки еще не вцепились!" Но если в колхозе "Гёрельде" умеют покритиковать, то здесь и не боятся критики, относятся к ней по-большевистски. Здесь народ дружный, и если на колхозном собрании ругают кого-нибудь, — так, значит, за дело. Зато если похвалят, так тоже по заслугам. А личные отношения тут ни при чем.
На веранде, за столом президиума, поднимается Аннак и открывает собрание.
— Товарищи! — обращается он к колхозникам. — Сегодня мы прежде всего хотим послушать Айсолтан Рахманову, нашего делегата на Всесоюзную конференцию сторонников мира. А потом поговорим насчет сбора хлопка. Принимаете повестку? Добавления будут?
Айсолтан встает, окидывает взглядом собрание.
— А по-моему, — говорит она, — мирная жизнь и наш труд, наш хлопок так связаны вместе, что нечего тут делить на две части. Я хочу говорить и о мире и о хлопке.
Прежде чем сесть на место, Айсолтан еще раз быстро пробегает глазами по лицам колхозников. Нет! Среди них нет Бегенча! За несколько дней до ее приезда он уехал в Ашхабад. Когда Айсолтан узнала, что Бегенч в Ашхабаде, она чуть не расплакалась от досады.
"Как же так? — думала она. — Ведь он знал, когда я должна вернуться. Почему же он меня не встретил, почему не разыскал в Ашхабаде? Мы бы погуляли вместе по городу, сходили бы в театр… И сегодня его нет. Что-то он не очень спешит со мной повидаться. Будь он здесь, я бы нашла особенные, хорошие слова…"
Большинству колхозников предложение Айсолтан приходится по душе, и Аннак предоставляет ей слово.
Девушка начинает говорить. Айсолтан знает, что она счастливица. Она была в Москве, видела этот прекрасный город! В Колонном зале Дома союзов, вместе с выдающимися людьми Советского Союза, сна принимала участие в работе конференции. Она была в мавзолее Ленина. Была на одном из крупных промышленных предприятий Москвы… Была в музеях, театрах… Видела метро… И ей хочется рассказать собравшимся здесь людям, близким ей с детства, людям, с которыми у нее одна жизнь и один труд, о том, что она видела, рассказать так, чтобы им казалось, что они тоже были там вместе с ней. И она говорит горячо, с воодушевлением; Айсолтан и сама не знала, что может так хорошо, так складно рассказывать…
Колхозники с напряженным вниманием слушают Айсолтан. Когда она говорит о том, что мир расколот на два лагеря, что над ним снова нависла угроза войны, у них темнеют лица, становится суровым взгляд. Быть может, они вспоминают сейчас своих близких, которые не вернулись к ним с полей войны, заново переживают суровое время. Нурсолтан, тихонько всхлипывая, вытирает глаза концом платка. Руки Нязикджемал шевелятся, словно она вяжет что-то.
— Если мы хотим развеять нависшую над миром черную грозовую тучу, — говорит Айсолтан, — если мы хотим, чтобы на наших мирных полях никогда больше не пылал пожар войны, если мы любим мирную жизнь, если мы любим нашу родину, наш труд наших детей, матерей и отцов, — мы должны все силы положить на то, чтобы своим трудом крепить мощь Советского Союза. Мы на наших полях растим драгоценное "белое золото". Хлопок!..
Айсолтан на мгновение умолкает. Ее взгляд встре-чается со взглядом Бегенча. Он стоит, прислонившись к перилам веранды, к широко раскрытыми глазами, с нежностью и восторгом смотрит на Айсолтан.
"Когда он приехал?" — думает девушка и повторяет: "Хлопок!" Голос ее от волнения звенит, как туго натянутая струна.
— Хлопок — это не только наша одежда, — это и наша пища и наше оружие. Хлопок — это источник радости, залог мирной, зажиточной жизни. Берегите его! Берегите его, как мать бережет своего ребенка! Дорожите каждым его волокном! В хлопке, который мы собираем и сдаем нашим фабрикам, не должно быть ни единой соринки. С наших полей не должно быть снято ни одного килограмма нечистосортного хлопка. Не дадим хлопку желтеть на дожде или гибнуть от мороза. Мы должны собрать его без всяких потерь и во-время. Мы должны добиться первенства по сбору хлопка. Я знаю, колхоз "Гёрельде" покажет пример всем колхозам Туркменистана. Пусть это будет подарком к торжественному дню тридцать второй годовщины Великого Октября, открывшего нам дорогу к счастливой жизни.
Айсолтан садится на место, обмахивает платком разгоряченное лицо.
"Какой странный этот Бегенч! — думает она. — Стоит, глаз с меня не сводит, а нет того, чтобы подойти!"
Когда на собрании речь заходит о сборе хлопка, трибуной прочно завладевают женщины. И сейчас они выступают одна за другой, спорят о том, где лучше устроить склады, как лучше наладить питание во время сбора, как организовать врачебную помощь, напоминают о люльках для детей, о чтении вслух газет во время отдыха, толкуют о мешках и фартуках…
Выступает и Нязикджемал; она всегда ходит согнувшись, но сейчас говорит, важно выпятив грудь:
— Разве не хлопок дал мне кусок хлеба, а на плечи халат? Тут говорили о соревновании между колхозниками. Я соревнуюсь со своим сыном Сазаком. Поглядим, кто кого. Хоть колхоз и доверил ему свои отары, но только Сазак еще желторотый, ему за мной не угнаться. Мои старые кости сварились, просолились в работе, им особая цена…
Потды даже на собрании не может не посмеяться. Указывая на белый платок Нязикджемал, из-под которого выбились пряди таких же белых, похожих на хлопок волос, Потды кричит:
— А ты, Нязикджемал-эдже, как положишь на весы свой хлопок да увидишь, что недотягивает, валяй сама садись сверху! Белое к белому, — никто и не заметит, что снизу хлопок, а сверху бабка!
Но шутки Потды не смешат Нязикджемал. Уставив на него сердитый взгляд из-под седых клочкастых бровей, она принимается его отчитывать:
— Потды! Знай, кого затрагиваешь! Я, может, и бабка, да не такая, над которой мальчишки смеются, — ко мне с почетом и уважением относятся. Я свои трудодни не на весах сидя, зарабатываю. Если у меня волосы белые, как хлопок, так руки черные, как земля, которую я ковыряю мотыгой. А ты, Потды-хан, глядел бы лучше за своей машиной, а то как начнешь на каждую бабку пялить глаза, так не долго угодить и в канаву. Или, может, ты от моего сына Сазака, с которым у меня соревнование идет, подарок получить надеешься?
Колхозники дружно смеются. Потды кричит:
— Хорошо сказала, бабка! Молодец! Придется мне у тебя уроки брать…
Зычный голос Аннака покрывает шум:
— Потды, где ты находишься?
— Да я что? Это все Нязикджемал-эдже. А я молчу…
Нязикджемал победоносно смотрит на Потды.
— То-то, молчишь… А не замолчишь, так заставят. Здесь тебе язык распускать не дадут. А я как брала первенство, так и снова возьму! Вот теперь с сыном соревнуюсь — и его побью. Разве я его работу не уважаю? Разве мое дитя не зеница моего глаза? Корова — и та своего теленка лижет. Да я его подзадорить хочу, чтобы у него кровь забурлила-заиграла… Чтобы он тоже сказал: "Эх, дай-ка я мать обгоню!" А вот как управимся с ним — он с овцами, я с хлопком, как выяснится, кто кого перегнал, я большой той устрою, большой той… Я для моего сына самую лучшую девушку приглядела…
Бегенчу кажется, что, говоря эти слова, Нязикджемал смотрит на Айсолтан и та ей улыбается, точно все понимает, точно они уже обо всем договорились… Бегенч хмурит брови, насупившись, искоса поглядывает на Айсолтан. А она вдруг оборачивается к нему, чуть приметно кивает головой, улыбается ласково и словно немного насмешливо. И у Бегенча слабеют руки и ноги.
"Неужели она со мной играет? — думает он. — Неужели у нее в глазах и на языке одно, а в мыслях и на сердце — другое?"
Он невольно сует руку в карман, сжимает в пальцах шелестящие листки письма, словно хочет найти в них ответ.
"Ой, Айсолтан! — думает Бегенч. — Смотри! Если ты меня обманешь…"
Бегенч и сам не знает, чем закончить свою угрозу. Разве Айсолтан не вольна в своем сердце, в своих поступках?
— Ну, Бегенч, твой черед! — слышит он голос Аннака. — Иди сюда, рассказывай, как думаешь строить комсомольскую работу во время сбора хлопка?
Айсолтан внимательно слушает Бегенча, и ее глаза расширяются от удивления. Что такое с Бегенчем? Отчего он путает? Нет, она просто не узнает его сегодня. Уж кто-кто, а он умеет говорить. А сегодня что? Начнет с одного — перескочит на другое. Мямлит что-то… Досада разбирает Айсолтан. Разве так должны выступать комсомольцы? Вон и Чары сидит хмурится, недовольно покачивает головой. И Аннак уткнулся носом в какую-то бумагу, чертит карандашом. Видно, и ему стыдно за Бегенча. Да и все колхозники поглядывают на него с удивлением. А Джерен-эдже — та даже отвернулась.
Айсолтан хотя и сердится на Бегенча, но тревога закрадывается в ее сердце. Уж не заболел ли парень? Или, может, у него горе какое? Странно только, что она ничего не слыхала. Ну, наконец-то он кончил. Теперь будет говорить Чары. Вот он сейчас разнесет его на все корки! Ну и что ж, поделом…
Но, к удивлению Айсолтан, Чары ничего не говорит о неудачном выступлении Бегенча. Он напоминает колхозникам об огромной роли, которую играет хлопок во всем народном хозяйстве Советского Союза, в укреплении обороноспособности страны. Рассказывает о применении хлопка в различных отраслях промышленности и на ярких, живых примерах показывает, какое значение имеет при этом высокосортность и чистосортность хлопка.
"Вот этот дело говорит! — одобрительно думает Айсолтан. — Да, у него светлая голова! Никогда ничего не упустит, ни о чем не позабудет и так все к месту скажет, не то что…" — и она сердито косится в сторону Бегенча.
— Есть такая поговорка: "Чистота — залог здоровья", — говорит Чары. — А здоровье, вы сами знаете, товарищи, — залог хорошей работы. Вот я и думаю, что нам не мешало бы завести себе для сбора хлопка специальную рабочую одежду. Только если каждый будет сам шить, пожалуй, получится кустарщина. Я что-то не очень верю, чтобы Потды, например, мог сам себе сшить спецовку. Он со своим характером непременно карманы на спине пришьет. — Переждав, когда затихнет вызванный этими словами смех, Чары заканчивает: — Так вот, чтобы такого не случилось, давайте двинем дело коллективно.
— Молодец, Чары! Хорошо придумал! — восклицает Айсолтан. — И вообще все твои предложения правильны. Ты бы хоть немного поделился мыслями с другими людьми, с теми, у кого ни одной своей в голове нет, — и Айсолтан бросает уничтожающий взгляд на Бегенча.
Тот сидит, опустив голову, с убитым видом, и Айсолтан жалеет, что сказала такие жестокие слова.
Аннак закрывает собрание, но колхозники, как всегда, расходятся не сразу. Они оживленно беседуют, окружают бригадиров, подходят к Чары. Маленькая Майса вертится тут же вместе с другими ребятишками.
Чары издали наблюдает за Бегенчем и Айсолтан. Бегенч, который обычно любит после собрания потолковать с колхозниками, стоит в стороне, прислонившись к дереву. Чары — чуткий парень: он, кажется, правильно разгадал, что творится с Бегенчем.
"Ясно, как день, — думает Чары, — причина тут одна — Айсолтан. Неужто у них дело разладилось? Жаль, жаль парня".
Но Чары замечает, что Айсолтан тоже как будто не в себе. Вот она стоит в группе колхозниц, поодаль от Бегенча, вполоборота к нему, и громко смеется, но Чары готов побиться об заклад, что смех ее деланный. Он видел, как девушка раза два украдкой бросила взгляд в сторону Бегенча. Поэтому, когда Чары видит, что к Бегенчу с одной стороны направляется Аннак, а с другой в ту же минуту — Айсолтан, он проворно перехватывает Аннака по дороге и, не обращая внимания на его протесты, уводит в правление.
Бегенч, занятый своими мыслями, не видит приближающейся к нему Айсолтан. Очень тяжело сейчас на сердце у Бегенча. Неудачное выступление еще больше расстроило его.
"Эх ты, тряпка! — клянет он себя. — В руках себя держать не умеешь, а еще комсомолец! Теперь она и подавно смотреть на тебя не захочет. Да и народ смеется!"
Бегенч чувствует, что ему больше невмоготу быть здесь, на виду у всех, резко поворачивается и, обогнув здание правления, выходит в поле.
Айсолтан видит, как при ее приближении Бегенч вдруг сорвался с места и быстро зашагал куда-то.
"Что такое? Почему он бежит от меня? — удивляется она. — Почему не подошел после собрания? Неужели не хочет со мной поговорить? Да нет, что я слепая, что ли? Не видела будто, как он на меня смотрел, когда я доклад делала! Бегенч! Бегенч! Что с тобой? Если плохо тебе, горе у тебя, не таись от меня, Бегенч! Подойди, поделись, облегчи сердце! А не хочешь, так я сама подойду!" — и Айсолтан решительным шагом направляется вслед за Бегенчем.
А он стоит на дороге, у края хлопкового поля. Мирно колышется зеленый хлопчатник, и при виде его становится легче на душе у Бегенча.
"Да что тут думать! — решает вдруг он. — Надо спросить ее напрямик: "Айсолтан, скажи, что у тебя с Сазаном?" Лучше уж узнать все сразу, чем так мучиться!"
— Беге-е-енч! — слышит вдруг он у себя за спиной.
Бегенч оборачивается. К нему приближается Айсолтан, дружески протягивает руку. Бегенч смотрит на ее нежное открытое лицо, на высокий чистый лоб, сжимает ее тонкие пальцы в своей широкой ладони и молчит. Нет, он не будет ничего спрашивать у Айсолтан. Если ей нужно что-нибудь ему сказать, так она сама скажет. А она улыбается, ямочки у нее на щеках смеются, солнце золотыми искорками пляшет в глубине зрачков, и все черные мысли Бегенча разлетаются, словно развеянные ветром.
Если вы спросите у Бегенча, о чем говорили они по дороге, он едва ли сумеет вам ответить. Сказать по правде, Бегенч даже не заметил, как очутился перед домом Айсолтан.
Девушка поднимается на ступеньки веранды, с улыбкой смотрит на Бегенча:
— Ну, Бегенч, что же ты словно к месту прирос?
— Подожди, не уходи, Айсолтан!
— Я и не ухожу, мы вместе идем. Или ты не хочешь зайти ко мне в гости?
Бегенч стоит в нерешительности.
— Может быть, мне не стоит заходить к тебе, Айсолтан? — неуверенно спрашивает он.
— Почему не стоит?
— А что скажет Нурсолтан-эдже?
— А что сказала Джерен-эдже, когда я приходила к вам?
— Ты пришла с матерью — это другое дело.
— Кто же, как не мы с тобой, Бегенч, будем разрушать старые традиции? Я думала, что ты лучше других сможешь мне помочь в этом.
— Кто? — спрашивает Бегенч и чувствует, как что-то опять ужалило его в сердце, и ему хочется попытать Айсолтан. — Ну, мало ли кто! Мало ли передовых парней у нас на селе. Чары, Мурад, Дурды. Или вот хотя бы… Сазак… парень тоже такой… напористый…
Айсолтан смотрит на него во все глаза. Что эта с ним такое? Опять он стал какой-то чудной.
— Я тебя не понимаю, Бегенч, — с упреком говорит она. — Сазак, конечно, хороший парень, но почему ты ждешь, чтобы кто-то другой перестраивал за тебя жизнь по-новому? Или ты хочешь чужими руками жар загребать?
— Нет, Айсолтан, нет, — поспешно отвечает Бегенч. Под прямым, строгим взглядом Айсолтан ему становится совестно своих сомнений. — Не смотри на меня так сурово, Айсолтан!
— А нет, так почему же мы не можем сделать шаг вперед? Почему мы должны ждать, когда это сделают за нас другие парни и девушки?
Вместо ответа Бегенч поднимается на ступеньку и слегка касается локтя Айсолтан, как бы приглашая ее вместе войти в дом.
Нурсолтан встречает Бегенча приветливо, усаживает его пить чай, но нельзя не заметить, что ее при этом раздирают самые противоречивые чувства. Она рада, конечно, очень рада. Разве она не нахваливала Бегенча дочери, не толковала с Джерен о том, какая бы это была славная пара? Нурсолтан и сейчас считает, что лучшего жениха для Айсолтан не подберешь. Но все-таки, все-таки… Когда Нурсолтан увидела, что дочь поднимается на веранду вместе с Бегенчем, она почувствовала, что ей как-то не по нутру. Нурсолтан даже сердится на себя за эти мысли, гонит их прочь, но никак не может от них отвязаться. Она и хлопочет, и угощает гостя, и старается занять его беседой, но все получается у нее как-то невпопад, и она теряется все больше и больше. Заметив это, приходит в замешательство и Бегенч, и тот и другая в конце концов растерянно умолкают.
Айсолтан приходит им на выручку. Она принимается рассказывать о Москве, и хотя Нурсолтан уже дважды слышала этот рассказ из уст дочери, но он и сейчас так потрясает ее, что она сидит, подперев подбородок кулаком, слушает и совсем забывает о своих тревогах. Забывает даже подбросить углей в самовар. Нурсолтан не однажды приходилось путешествовать на спине верблюда, и все-таки, когда верблюд поднимался с земли или опускался на колени, Нурсолтан всякий раз с испугом хваталась за седло и давала обещание пожертвовать чурек во имя божие, если все обойдется благополучно. И ей, конечно, нелегко привыкнуть к мысли о том, что дочь ее летает по воздуху. И тому, что под землей ходят поезда, тоже ведь не сразу поверишь. Но когда Айсолтан упоминает о том, что в Москве на улицах повсюду продают с лотков виноград, яблоки, груши и что, верно, там есть фрукты и колхоза "Гёрельде", Нурсолтан облегченно вздыхает:
— Вот это ладно, доченька. Из Москвы к нам большая помощь идет, хорошо, что и мы не остаемся в долгу. Надо будет сказать башлыку: пусть пошлет еще и дынь, и арбузов, и арбузной патоки. А как ты думаешь, дочка, наши фрукты доходят до товарища Сталина?
Айсолтан ласково улыбается матери.
— А почему же им не дойти? Наверное, доходят, Нурсолтан-эдже, — отвечает за Айсолтан Бегенч.
— Так ты скажи башлыку: пусть он прямо товарищу Сталину пошлет верблюда… нет, самолет винограда, яблок, груш, персиков, дынь. И пусть напишет: "Товарищ Сталин! Благодаря твоим добрым заботам в нашей стране течет мед. Прими от нас этот маленький подарок. Теперь у нас всего вдоволь…" Да пусть башлык напишет, что в этом подарке принимала участие и жена Рахмана Безрукого, которая благодарит товарища Сталина за то, что он вывел ее из неволи на светлый простор.
— Да ведь у нас в колхозе не одна ты трудишься, мать, — говорит Айсолтан. — Тогда придется написать имена всех колхозников.
— Ну да, правильно… И пусть всех напишет.
— А не слишком ли велик будет список?
— Ну и что ж, что велик? Бумаги, что ли, в колхозе нехватит?
— Бумаги-то хватит. А вот хватит ли у товарища Сталина времени читать такой длинный список? Ты не подумала, что в Советском Союзе не один только наш колхоз. Сколько еще других!
— Да… Об этом я не подумала. Ну, пусть тогда просто напишет — от всего колхоза "Гёрельде".
Так они сидят и беседуют, и Нурсолтан понемногу осваивается с тем, что дочь ее, никого не спросись, привела домой в гости парня.
"Верно, уж я стара стала — судить об этих делах, — думает Нурсолтан. — Дочка-то в Москве была, по воздуху летала, под землей ездила, — неужто она сама не разберется, что хорошо, что плохо?"
И, окончательно успокоившись, Нурсолтан ставит на стол большое блюдо горячего плова.
Восьмая глава
етер гонит низкие, тяжелые облака. Плотной серой пеленой затянуло с утра все небо, закрыло благодатное солнце. Невесело шелестит хлопчатник, раскачиваясь на ветру, роняя то тут, то там на землю пожелтевшие листья, тронутые первыми холодами. Шелковистые, нежные хлопья, словно жемчужины, матово поблескивают кое-где на темной, сырой земле.
Айсолтан вышла в поле со своим звеном. Нерадостно на сердце Айсолтан. Плохо раскрывается в этом году хлопок, — видно, отразились на нем холода, стоявшие во время посева и всхода хлопка. Хлопок хороший, сильный, он поднимается плотной зеленой стеной, но густо усыпавшие его ветви коробочки раскрылись лишь наполовину, и не сразу найдешь такую, которая уже выпустила на волю серебристую пену волокна. Ищи ее, как ищут белые грибы в русских лесах! Да ходи осторожней, будь все время начеку, не то оборвешь как-нибудь ненароком сырую коробочку.
А сколько желтоватых завязей покачивается еще над верхушками кустов! Они должны развиваться и зреть, наливаться соком под солнцем. Да, плохо, плохо раскрывается хлопок! А тут еще непогода, с утра дует сырой ветер, заволакивает небо тучами, моросит дождь. Айсолтан знает, что это предвещает ранние заморозки. А если ударит мороз, нераскрывшиеся коробочки погибнут, сгниют. Вот почему сегодня утром, повязывая фартук и перекидывая через плечо мешок, Айсолтан не напевала, как обычно. Тяжелым камнем лежит у нее на сердце судьба хлопка.
Заботливо приподнимая ветви, нагибаясь, чтобы не задеть коробочек, Айсолтан обходит ряд за рядом, ловкими, осторожными пальцами выбирает из созревших коробочек тонкорунное длинное волокно.
"Какой урожай! — думает Айсолтан. — Вот он весь как на ладони. Но если ударит мороз, урожай утечет между пальцев, как вода. Сентябрь и октябрь — решающие месяцы в сборе хлопка. В начале октября должно быть собрано уже больше половины, а как соберешь, когда хлопок не раскрывается? Полгода работало наше звено на этом участке. Сколько труда! Сколько надежд! Это же наша гордость, наша радость… И все это может пропасть! Как выполним мы тогда наше обещание? Как соберем семьдесят центнеров с гектара? С какими глазами поеду я в район? Что отвечу Москве, когда девушки-текстильщицы протянут к нам руки, спросят: "Где же хлопок, Айсолтан? "
Слезы подступают к глазам Айсолтан. Она выпрямляется, смотрит на быстро бегущие по небу низкие ровные облака.
"Солнце, дождь… Почему мы не научились еще управлять ими? — думает девушка. — Какие урожаи снимали бы мы с наших полей, если бы могли, когда нам нужно, сказать солнцу: "Грей" — и дождю: "Пролейся!" Почему ученые не отдадут этому все свои силы и знания? Заглянули бы они сейчас в мое сердце! Они, как видно, не спешат — сидят там, в своих лабораториях. А я спешу, не могу не спешить. Ведь хлопок, хлопок может пропасть! Тысячи пудов "белого золота"! Членам звена в глаза смотреть не могу, словно это я во всем виновата. Да и они тоже, с кем ни поговори, чуть не плачут…" — И слезы опять навертываются на глаза Айсолтан.
Аннак в сдвинутой на затылок шапке, в промокшем кителе, не разбирая дороги, перепрыгивая через арыки, спешит от поселка к полю. Остановившись напротив Айсолтан, он смотрит на нее, сдвинув густые брови, и спрашивает:
— Ну, Айсолтан, как хлопок? — Голос его звучит тревожно и гневно.
Айсолтан отводит влажные от слез глаза, виновато опускает голову.
— Хлопок… сам видишь, товарищ Аннак…
— План знаешь?
— Конечно, каждый день сводку смотрю.
Аннак кричит:
— Я тебя не про сводку спрашиваю! Ты план звена знаешь?
— Товарищ Аннак, ты сам, верно, видишь сводки…
— Да! Да! Вижу, потому и спрашиваю: где план? Айсолтан молчит, старается не смотреть в глаза Аннаку.
— Почему не выполняешь ежедневный план?
— А кто в колхозе выполняет сейчас ежедневный план?
— Вон оно что! — лицо Аннака багровеет. — Я тебя спрашиваю: почему ты не выполняешь план, ты, твое звено? Еще на четверть не выполнили! А мороз уже на носу. Ты это понимаешь или нет? Хлопок погибнет! У меня сердце на части рвется! Ты одна из передовых колхозниц, а не выполняешь своего долга!
— Аннак-ага, ну как же собирать нераскрывшийся хлопок?
— А ты найди раскрывшийся! Ищи! Ищи! У тебя душа за хлопок не болит!
Этого уже не может стерпеть Айсолтан. Она тоже кричит, глядя на Аннака загоревшимися от возмущения глазами:
— Ты мне сердце каленым железом не жги! Ты меня за кого считаешь?
Что после этого кричит Аннак, а что Айсолтан — разобрать трудно. Привлеченный их криками, подходит Чары. Он становится между ними, говорит, поворачиваясь то к одному, то к другой:
— Аннак! Айсолтан! Да вы что раскричались? Или хлопок не поделили? Двое руководящих, всеми уважаемых товарищей — и вдруг повышают друг на друга голос! Хороший пример для колхозников, нечего сказать!
Айсолтан умолкает. Башлык затихает не сразу — он еще некоторое время продолжает потрясать кулаками, и голос его рокочет над полем, как замирающие раскаты грома…
Чары успокаивает его:
— Ну, Аннак, чего ты руками размахался? Что тут у вас такое?
Аннак смущенно разглаживает усы, которые сегодня совсем утратили свою всегдашнюю лихость, часто мигает красноватыми толстыми веками с густыми колючими ресницами, с тоской смотрит на Чары.
— Чары, да ты пойми, — говорит он, — ведь мы с тобой на фронте были, смерти в глаза смотрели, а так худо, как сейчас, мне еще никогда, кажется, не было. Тяжело, друг, тяжело. Ты погляди на хлопок! Обойди его из конца в конец. Ведь не раскрывается, не раскрывается, хоть ты тресни! Ложусь спать, думаю: завтра раскроется… У меня эта мысль все нутро сожгла и в костях застряла. Всю ночь с боку на бок ворочаешься, а наутро встал — и опять то же самое: завтра, завтра… А какое тут завтра, когда с погодой невесть что делается! Ударит мороз — и все погибло, Не сдадим мы тогда государству хлопка по плану. Сердце у меня горит, понимаешь? Сам я себя не помню. Вот и на Айсолтан накричал. А ведь я же ее уважаю.
— Если ты и покричишь иной раз — так ведь из-за общего же дела. Это колхозники понимают. Правда, некоторые, — и Чары искоса смотрит на Айсолтан, — кое-чего не соображают, поэтому, видно, и вступают в пререкания… Ты вправе требовать с Айсолтан, чтобы она другим пример подавала. Если она твои упреки не будет принимать, так кто же будет? Знаешь пословицу: первого верблюда первым и бьют. Не раскрывается хлопок — это еще не ответ. Государство без хлопка оставить нельзя. Значит, борись. Не раскрываются коробочки — попробуй раскрыть, поищи средство. Там, где солнце не попадает на них, поверни их осторожно, подставь к солнцу, приподними ветки, раздвинь листья. Попробуй разрыхлить землю у корня. Сиди со своим звеном в хлопчатнике, наблюдай за ним, не покидай его ни на минуту, живи в нем! Ухаживай за ним, приноравливайся к нему. Верно я говорю, Аннак?
— Ведь я ее о том самом и прошу, да не умею так складно сказать, как ты, только горло надрываю.
— А ты не надрывай — оно понятнее будет, — смеется Чары и, перепрыгнув через арык, хочет подойти к Айсолтан, но Аннак останавливает его:
— Я тебя, друг, об одном деле попросить хочу.
— Ты председатель, поручай.
— Если выберешь время, наведайся завтра в пески, на колодец.
— Ты что ж, разве не надеешься на Бегенча? Думаешь, он не сумеет там работу наладить?
— Нет, друг, я на Бегенча, как на себя, полагаюсь. Этот парень, если за что возьмется, так доведет дело до конца. Мы же по его совету и принялись за тот колодец. А все-таки надо проведать, узнать, не нуждаются ли они в чем. Возьмешь "газик", в один день обернешься.
— Ладно, съезжу. Я сам думал, что проведать не мешает.
— А насчет хлопка ты хорошо объяснил. Это я сейчас всем колхозникам растолкую.
Чары кричит вслед Аннаку:
— Только постарайся голосом-то не брать.
— Ладно, друг! Если сумею — шептать буду.
Чары вместе с Айсолтан углубляются в хлопчатник. Здесь кусты чуть не в рост человека и воздух так влажен и тяжел от испарений, что трудно дышать. Ноги вязнут в сырой земле, оставляя четкие следы. Лишь кое-где нижние коробочки, треснув, выпустили хлопья мягкого, как пух, волокна, другие по-называют только узкие белые полоски. Верхние коробочки, плотно сжав створки, висят, как большие пятигранные орехи. И еще выше, на самых верхушках кустов покачиваются желтоватые цветы.
Айсолтан срывает цветок, по одному выдергивает лепестки. Кладет на ладонь зеленое продолговатое семя.
— Чары, зачем это нужны четыре времени года?
Чары улыбается.
— Таков закон природы. Будто ты не знаешь!
— Его надо изменить.
— Кое в чем, может быть, и изменим в свое время.
— Мы уже почти месяц собираем хлопок. А вот смотри, — Айсолтан показывает Чары лежащую на ее ладони зеленую бусинку. — Наверху кустов все еще появляются новые завязи. Если бы не морозы, хлопок круглый год давал бы урожай. А как это облегчит труд! Хотела бы я знать, что думают об этом ученые.
— Ученые все время стремятся подчинить людям природу. И это им удается. Еще как! Ты же знаешь о мичуринцах, они следуют завету своего учителя — не просить природу, а приказывать ей.
— Вот и приказали бы ей не губить наш хлопок!
— Да, еще не научились как следует охранять урожай от заморозков… А вот делать один посев на несколько лет — такие опыты уже проводятся. Это сбережет много труда. Ты на Иолотанской опытной станции была? Цветной хлопок видела?
— Видела, Чары, видела! Я и материю из этого хлопка в Москве видела. Вот уж эта никогда не выцветет. Хотелось бы мне такое платье, Чары, сказать по совести.
— Да ты и в этом хороша. Вот только характер у тебя скверный: выдержки нет. И не понимаешь еще кое-чего. Что ж, как говорится, нет красавицы без изъяна.
— Ну вот, теперь ты на меня напал!
— А то как же? Ты думала, я молчать стану? Если ты в Москве побывала, так тебя и тронуть не смей? Да ты понимаешь, кто такой Аннак, что это за человек? Ведь он для колхоза жизни не пожалеет. Ты погляди на него — он извелся совсем. Человека понимать надо. Ну, погорячился, покричал — подумаешь, велика беда! А ты туда же! Ты еще молода на него кричать! Он председатель. Ты за свое звено болеешь, а он — за весь колхоз. Если ты будешь кричать, я буду кричать, всем колхозом на него навалимся — что ж это получится? Ты не имеешь права подрывать его авторитет. Обидно — стерпи. Потом, на досуге, поговоришь. И на меня не обижайся.
— Нет, Чары, нет, я ведь понимаю. Только когда он на меня налетел, я тоже сама не в себе была… Стою, чуть на плачу, а он…
— С чего это ты?
— Да все из-за хлопка!
— Слезами коробочки не раскроешь, даже если всем колхозом плакать начнем.
— Да ведь сердце болит…
— А ты песню пой.
— Песни на радостях поют.
— Песня разгоняет тоску… А хлопок должен раскрыться. Не сегодня-завтра раскроется.
— Да, все завтра, послезавтра. Жди… А если мороз?
— Я же сказал — помогай ему раскрываться, как можешь. А в панику впадать нельзя. Ты слышала, что вчера Нури-ага говорил? Старику без малого девяносто лет. Есть у него опыт, как ты полагаешь? Он говорил: лето было жаркое, холода не скоро придут. Так что не вешай нос, Айсолтан. Ну, прощай пока.
— Будь здоров, Чары.
Сделав несколько шагов, Чары вспоминает что-то и возвращается:
— Айсолтан, ты слышала, куда я завтра поеду?
— Слышала.
— Что ж никакого поручения не дала?
— Какое поручение?..
— Я не знаю, какое, — тебе виднее. Думал, накажешь передать что-нибудь Бегенчу.
— Что это тебе вздумалось?
— Айсолтан, знаешь, я тоже не затылком хлеб ем.
Айсолтан улыбается, говорит насмешливо:
— А вы с Потды случайно… не родственники?
— Нет, куда мне… Это вот у Бегенча хорошие родственники, — золотые часы ему из Москвы привозят.
— Если б заказал, я бы и тебе привезла.
— Значит, с глаз долой — из сердца вон?.. Так сказать придется?
— Это твое дело.
— Хорошо, прощай.
— Постой, Чары!
— Нет уж, мне теперь стоять некогда.
— Да постой, постой! Ты скажи Бегенчу…
— Нет, ты ему сама теперь говори.
— Ну, хватит, Чары…
— Знаешь, что? Попроси-ка ты Потды…
— Вот ты какой обидчивый! Я и не знала.
— Я тоже не знал, что у тебя один Потды доверием пользуется… Ну ладно, говори, что передать Бегенчу.
— Бегенчу… — повторяет Айсолтан, и лицо ее светлеет. — Ты ему скажи так: "Айсолтан просил передать: "То, что ты думаешь, то и она думает".
— Смотри, девушка! Откуда ты знаешь, что он думает? Может быть, он думает жениться на Айне?
— Это уж ты совсем пустяки говоришь, Чары, — с досадой отвечает Айсолтан. — У Бегенча такого и в мыслях нет.
— А еще говорят, что Айсолтан неглупая девушка! Да ее легче обмануть, чем малого ребенка.
— Ну, уж кто-кто, а Бегенч не обманет.
— Правильно. Я пошутил. Бегенч — хороший парень. Он не из тех, кто обманывает. Он, знаешь, на тебя похож. Ну, прощай.
Айсолтан смотрит вслед Чары и, признаться, слегка завидует ему: он завтра поедет в пески!
Девятая глава
лопок раскрывается. Победоносно, весело раскрывается хлопок! Теперь только успевай собирать! Миллионами серебристых звезд вспыхнули лопнувшие коробочки в густой, темной зелени листьев.
Как вокруг хорошо! Как жизнь хороша! Плещет крыльями птица — моя душа! Земля рождает золото-серебро, Благодатным осенним теплом дыша! Радостью, гордостью полна моя грудь. Приходи, Бегенч, на мой хлопок взглянуть!..
Кто поет эту песню? Ну, конечно, Айсолтан. Это она работает здесь со своим звеном и поет-распевает, радуясь ясному, солнечному дню и обилию раскрывшихся коробочек.
— Приходи, Бегенч, на мой хлопок взглянуть! — повторяет Айсолтан.
Она слишком счастлива, чтобы таить свою радость, и громко произносит имя Бегенча. Ей кажется, что коробочки-бубенчики, наклоняясь друг к другу, тоже шепчут это имя.
Не одна Айсолтан поет сегодня, радуясь солнцу и урожаю. Почти каждая из девушек-сборщиц напевает что-то потихоньку; звуки песни и шелест листьев сливаются в один нежный согласный хор.
Посмотрите на Айсолтан, и вы убедитесь, что она заслуживает славы. Когда она собирает хлопок, есть чему поучиться и на что полюбоваться. Ни одного лишнего движения не делают ее легкие, быстрые руки, и все тело подчинено радостному ритму труда. Она нагибается, обирает нижние коробочки, потом ее руки скользят вверх по кусту, и вместе с ними плавно распрямляется тело. Она выбирает хлопок из коробочек сразу обеими руками, а на это нужна большая сноровка. Айсолтан не бросается торопливо от верхних коробочек к нижним и от нижних снова к верхним, как делают это менее опытные сборщицы. Все ее движения рассчитаны: переходя от куста к кусту, она уже заранее видит, откуда лучше начать сбор, и ни на секунду не нарушает ритма работы. Кажется, что она совсем не спешит, но как быстро двигаются ее проворные руки! Ее лицо безмятежно, глаза сияют. Айсолтан любит свой труд, она счастлива.
На фартуке Айсолтан три больших кармана — для разных сортов хлопка. Нужен острый, опытный глаз, чтобы сразу отличить один сорт хлопка от другого. Даже в одной и той же коробочке из пяти долек в четырех может быть первосортный хлопок, а в пятой — с изъяном. Айсолтан знает, что внимание не должно ослабевать ни на минуту. А как легко загрязнить хлопок сухими листьями, веточками или просто уронить белоснежный клубочек на землю! Кажется, что Айсолтан не спешит. Но попробуйте перегоните ее. Это не так-то просто. Мало кто из колхозных сборщиц может потягаться с ней.
На обочине дороги, около участка, на котором работает звено Айсолтан, уже образовалась целая гора мешков с хлопком, и секретарь обкома партии, остановив возле них машину, разговаривает с Аннаком и довольно поглядывает то на мешки, то на Айсолтан. Потом направляется к ней вместе с Аннаком. Увлеченная работой, Айсолтан не замечает их и, лишь услышав оклик, поднимает голову и обрывает песню.
— Айсолтан Рахмановой привет! Как дела, Айсолтан?
— Собираем понемногу, товарищ секретарь.
— А наш председатель говорит: Айсолтан не торопится.
— Товарищ секретарь… — начинает было Аннак.
— Обожди. Ты же мне сейчас сам сказал… Это верно, что говорит председатель, Айсолтан?
Айсолтан вспоминает, как кричал на нее Аннак, и ей становится обидно. Чего ж он теперь, когда дело так славно пошло на лад, старое вспомнил! Но Айсолтан ничем не выдает своих мыслей.
— Товарищ Аннак — уважаемый человек. Если он говорит — значит, верно.
— Что он уважаемый, это я знаю. А вот тебя он за что ругает?
— А по пословице: дочку учу, а сноха понимай, — чтобы другим пример показать.
— Да ты что, Айсолтан? — удивляется Аннак. — Друг секретарь, я ведь не говорил этого… Он шутит, Айсолтан, просто испытывает тебя.
Секретарь обкома, видя искреннее огорчение, написанное на лице Аннака, усмехается:
— Разве не говорил? Значит, я ошибся. Верно, это в колхозе "Ворошилов" такой разговор был. Ну, Айсолтан, сколько хлопка дашь с гектара?
— Сколько хлопчатник даст, товарищ секретарь.
— А сколько, полагаешь, он даст?
— План выполним.
Аннак даже крякает от досады:
— Айсолтан, ты что скромничаешь? Товарищ секретарь, она два плана выполнит. Она с каждого гектара семьдесят пять, а то и восемьдесят центнеров даст.
— Я от Айсолтан другого и не ждал. А как сбор налажен, Айсолтан? Помех никаких нет?
Айсолтан решается высказать свою заветную мечту:
— Помех нет, товарищ секретарь. А вот если бы машину для сбора…
— В этом году — нет, а на будущий год дадим машину. Тут подготовка нужна, людей выучить надо. А ты мне вот еще что скажи, Айсолтан: кажется, на вашего председателя жалоб много? Неприятный человек, говорят. Ты не стесняйся, что он тут, говори прямо.
Аннак думает:
"А ведь, пожалуй, расскажет сейчас, как я на нее кричал".
Но Айсолтан говорит:
— Товарищ секретарь, вы это и в шутку не говорите. Пусть бы во всех колхозах такие председатели были, как наш.
— Да? Может быть, ты и права. Кажется, и в самом деле председатель "Гёрельде" неплохой… Ну, до свидания, Айсолтан. На той позовешь? Приеду, поздравлю.
"Какой же длинный язык у председателя! — думает Айсолтан. — Уж успел про наш с Бегенчем той наболтать!"
— Какой той, товарищ секретарь? — притворно удивляется сна.
— Да ты, я вижу, прижимиста! Тысячи с урожая зарабатываешь, а на той позвать не хочешь.
— Да нет, я не поняла, товарищ секретарь… Той урожаю непременно сделаем и вас пригласим.
"Какое веселое слово "той"! — думает Айсолтан. — Уж мы с Бегенчем такой той устроим! Наславу! На весь колхоз. А когда? Когда план хлопка выполним. Или, может быть, на годовщину Октябрьской революции. Или на юбилей нашей республики. Да как Бегенч захочет. Скорее бы только он приезжал! Как досадно, что его нет сейчас здесь, с нами, на сборе хлопка! Как обидно лишать себя такого счастья!"
Конечно, Айсолтан понимает, что колодец вещь нужная, но ей от души жаль Бегенча, которому не пришлось участвовать в сборе хлопка. Что ни говори, Бегенч молодец. Золотой парень! Не всякий бы согласился расстаться и с хлопком и с любимой девушкой, чтобы в сухих песках, в зной и в непогоду, под открытым небом, работать от зари — рыть для колхозных отар колодец.
Солнце поднялось уже высоко, и над хлопчатником разносятся веселые возгласы буфетчика:
— Товарищи колхозники! Приехал буфет на ишаке. К буфету, к буфету! Кому чурек? Кому чай? Кому кислое молоко? Кому коурму? Цена за все — одно спасибо. И вам от нас с ишаком будет спасибо, только облегчите груз! Облегчите груз!
Через хлопчатник нельзя проехать ни на машине, ни на арбе, вот почему буфетчик развозит завтрак колхозникам на ишаке.
Нязикджемал, пережевывая что-то беззубым ртом, садится рядом с Нурсолтан. Украдкой поглядывая на Айсолтан, которая сидит неподалеку, Нязикджемал, как видно, хочет о чем-то потолковать с Нурсолтан. Уперев острый локоть в колено и держа сухими пальцами за донышко пиалу, она наливает в нее из термоса горячий чай и, придвинувшись поближе к Нурсолтан, уже открывает рот, но, почему-то передумав, только ожесточенно дует на чай. Отхлебнув чаю из пиалы и собравшись немного с духом, Нязикджемал слегка толкает Нурсолтан в колено.
— Нурсолтан, а Нурсолтан, знаешь, как говорится: хорошая цель — половина богатства, верно, а?
Вопрос несколько неожиданный, и Нурсолтан молчит, не зная, что на него ответить.
— Вот как управимся с урожаем, думаю завести себе сноху. Что ты скажешь?
— Что ж, дело хорошее, — одобрительно отзывается Нурсолтан.
— Да. Девушек у нас много. Но вот угодить мне трудно. Ты меня знаешь, я, как чайник с кривым носиком: сижу в золе, а мысли на горе. Такой у меня нрав. На какую девушку ни погляжу — не нравится мне. Одна длинная, как жердь, другая толстая, как бочка. Одна ходит, как курица, ногами семенит, другая смеется так, что слушать противно. У одной мать мне не по нутру, другая всем бы подошла да неказиста. Есть вот только одна девушка во всем селе… А, к слову, что ты скажешь, Нурсолтан, о моем Сазаке?
— Что ж, Сазак — хороший парень.
— Хороший, хороший, всем хорош мой Сазак.
Вот только шапка у него свалилась, одну жену уже схоронил…
— Это, Нязикджемал, голубушка, в старину зазорным считалось. А теперь девушки внимания не обращают, вдовец или холост. С таким сынком, как твой Сазак, ты к любой посвататься можешь.
— Ай спасибо, Нурсолтан! Твое слово для меня большая опора. Давно уж я приглядела для Сазака одну девушку, да все со дня на день откладываю и откладываю…
— Ну и зря! Хорошее дело зачем откладывать?
— Верно, верно, голубушка, золотые твои слова! Нязикджемал пододвигается совсем вплотную к Нурсолтан, снизу вверх заглядывает ей в глаза, говорит льстивым, вкрадчивым голосом:
— Овладела ты моим сердцем, Нурсолтан. Пусть твои руки-ноги, уши-глаза не знают болезни…
— Спасибо на добром слове, Нязикджемал.
Теперь Нязикджемал пододвигается к Айсолтан, которая давно уже с любопытством прислушивается к их разговору:
— Айсолтан-джан, а тебе как нравится мой Сазак?
Айсолтан, приподняв двумя руками пиалу, заслоняет улыбающееся лицо, говорит:
— Я о твоем сыне, Нязикджемал-эдже, очень хорошие слова слышала от Бегенча.
— От Бегенча? — спрашивает Нязикджемал и тревожно моргает красными веками. — А Бегенч тут при чем?
— Бегенч — секретарь комсомольской организации. Кого ж мне еще слушать, как не его! Раз он говорит, что Сазак примерный парень, я ему верю.
— Так, так. — Нязикджемал опять поворачивается к Нурсолтан. — Мы с тобой старые соседки, Нурсолтан. А уж как я тебя почитаю, как люблю, ты сама знаешь. Да что толковать! Кто в селе не почитает Нурсолтан? Ну, и тебе на меня обижаться не приходится…
— Я тебя, Нязикджемал, считаю как за свою родню, — отвечает Нурсолтан.
— Так давай, Нурсолтан, мы с тобой совсем породнимся. Отдай Айсолтан за моего Сазака. Я ей служить-угождать буду, пока не помру.
Такого оборота беседы Нурсолтан в своем простосердечии никак не ожидала. Она говорит неуверенно:
— Нязикджемал, ты же знаешь, голубушка, какая у нас теперь молодежь-то… Они сами решают свою судьбу.
— Да ты согласись, а они друг от дружки не отвернутся, будь покойна. Другой такой пары и не подберешь. Айсолтан и Сазак — как две половинки одного яблочка. Был такой случай: забрела как-то раз Айсолтан невзначай к нам в дом. Я тогда как глянула на нее — сразу смекнула, почему эта птичка залетела не в свое гнездышко. Ну, думаю, значит, тут ей гнездо и вить, раз сердце само сюда потянуло. Ну что, Айсолтан-джан, тут чужих нет, говори, не стесняйся: любишь ты моего Сазака?
Айсолтан совсем загородилась — и руками и пиалой, но в глазах у нее лукавые, шаловливые искорки. Похоже, что она непрочь немного подразнить ретивую сваху.
— Нязикджемал-эдже, ты бы лучше своего сына спросила, кого он любит.
— Любит, любит… Тебя любит, ты не беспокойся. Он тебя, голубка, до самой смерти на руках будет носить… Так я, Айсолтан-джан, буду понемногу к тою готовиться?
— Я думаю, Нязикджемал-эдже, что об этом не мешало сначала с самим Сазаком поговорить, — едва удерживаясь от смеха, отвечает Айсолтан. — Он как будто тоже имеет право голоса, и у него может быть свое мнение на этот счет. А пока что нам надо не к тою готовиться, а хлопок собирать.
— Ничего, ничего, я потерплю, пока не соберем урожая, моя козочка.
Время уже перевалило за полдень, ветер посвежел и гонит с запада седые облака.
Над хлопковым полем разносятся звуки дутаров и гиджаков, и колхозники один за другим выходят из хлопчатника на большой перерыв. Собираются группами, рассаживаются вокруг котлов с горячим пловом.
Айсолтан последний раз окидывает быстрым взглядом куст: хорошо, чисто выбраны все раскрывшиеся коробочки. Но хлопок будет теперь раскрываться еще и еще, быть может, до декабря, и уже завтра, когда Айсолтан опять придет сюда, на этих кустах, так тщательно осмотренных, засмеются, закивают ей новые созревшие коробочки.
Айсолтан выходит из хлопчатника и видит, что по краю поля идет Бегенч. Наконец-то он приехал! Вырыл уж, должно быть, колодец.
Сердце Айсолтан бьется так, словно хочет выпрыгнуть из груди. Конечно, ей трудно не броситься к Бегенчу, но она сдерживает свой порыв и, наклонившись над мешками, начинает перекладывать в них хлопок из раздувшихся карманов своего фартука. Однако Бегенч не очень торопится! Разве он не видит ее? Мог бы прибавить шагу!
Но Бегенч как будто хочет пройти мимо, словно и впрямь не видит Айсолтан. Тут девушка выпрямляется, смотрит на него, и Бегенч подходит к ней, протягивает руку. Он еще больше загорел там, в степи, и как будто похудел немного. Но почему он такой хмурый? Можно подумать, что он совсем не рад встрече. Как-то нехотя, сквозь зубы, отвечает на быстрые радостные вопросы Айсолтан и даже смотрит куда-то в сторону, словно боится встретиться с ней глазами. Девушка подходит чуть ближе, пытливо вглядывается в его лицо, участливо спрашивает:
— Бегенч, что с тобой?
— Ничего.
— Может быть, с колодцем дело не ладится?
— Как это может не ладиться? Колодец наславу. Такие ответы и особенно то, что Бегенч говорит каким-то чужим, неласковым голосом, обижают Айсолтан, но вид у Бегенча такой потерянный, он так не "вяжется с его резкими, заносчивыми ответами, что Айсолтан спрашивает еще мягче:
— Почему же ты такой невеселый, Бегенч?
— Так. Устал с дороги. Да, вот еще, чуть не забыл… Сазак тебе привет передает.
— Спасибо, что вспомнил.
— Он тебе там удобрение приготовил.
— Вот молодец! Я знала, что на него можно понадеяться. Только зря он до времени болтает.
— И давно вы это с ним задумали?
— Нет, не очень. Ну, да об этом после потолкуем.
— Это уж ты с ним будешь толковать. Он скоро сюда приедет с тобой повидаться.
— Со мной повидаться?
— Ну да, ему там без тебя не спится.
— Кому? Сазаку? Что ты болтаешь, Бегенч?
— Ничего. А только ты, чем зря мучить парня, поторопилась бы лучше со свадьбой!
Айсолтан широко раскрытыми глазами смотрит в упор на Бегенча.
— Бегенч! Ты в своем уме?
— Обо мне не беспокойся. А вот Сазак, гляди, как бы и впрямь не рехнулся, если ты еще долго будешь водить его за нос.
— Да при чем тут Сазак? Что ты выдумал?
— То, что я дурак был, вот что. А теперь поумнел. Твой подарок велишь передать Сазаку?
— Ой, Бегенч! Замолчи лучше!
— А что, Айсолтан? Правда глаза колет?
— Да какая это правда? Очумел ты, что ли?
— Айсолтан, ты девушка умная, прямая будто… Зачем скрытно дело делаешь? Зачем меня огнем жжешь! Я всю правду узнал.
— Какую правду? Сумасшедший ты!
— Такую, что ты с Нязикджемал уже дело сладила. Старуха чуть не пляшет от радости, той готовит…
— Так это тебе Нязикджемал наболтала?
— Нязикджемал.
— А ты и уши развесил?
Айсолтан так рассердилась, что даже уйти собралась, — разве с этим чучелом можно разговаривать! — да вдруг как расхохочется. Повернулась к Бегенчу, схватила его за плечи и давай трясти. Трясет так, что у того только голова болтается.
— Э, друг, да ты ревнивый, ревнивый… — задыхаясь от смеха, говорит она. — Вот я из тебя сейчас дурь-то вытрясу! — И, вглядываясь в растерянное лицо Бегенча, опять хохочет. — Ну, скажи на милость: Нязикджемал поверил! Да ведь я ее просто подразнить хотела, чтобы она дурацкий обычай сватовства бросила.
Отпустив, наконец, Бегенча, Айсолтан переводит дух, говорит полушутя, полусердито:
— Тоже еще, старорежимный выискался! Вот не пойду за тебя после этого! Да как ты мог таким глупым словам поверить? Как у тебя только язык повернулся эти глупые слова повторять? Так-то ты меня любишь, Бегенч?
Бегенч сжимает ее руки в своих, смотрит, не отрываясь, на ее нежное смеющееся лицо, говорит:
— Люблю, Айсолтан! Так люблю, что видишь — голову потерял. Прости.
— Ты же знаешь, Бегенч, что я тебя не только на Сазака, а ни на кого на свете не променяю, — просто говорит Айсолтан.
Ветер развеял облака, прогнал их на восток и стих. Снова весело засияло и начало припекать солнце.
Айсолтан и Бегенч сидят на мешке с хлопком и мирно беседуют. Бегенч с воодушевлением рассказывает девушке о том, как они рыли в песках колодец, как заливали его цементом; о том, как в степи открываются все новые и новые пастбища, над которыми разносятся протяжные песни чабанов и нежные переливы тростниковых дудок; о том, как весело смотреть на баранов, когда они приходят на водопой к новому колодцу и, утолив жажду, тяжело взбираются на барханы и разбредаются по степи, а на смену им приходят новые отары, и о том, как хорошо засыпать в степи, у костра, глядя на звезды.
Потом Бегенч признается Айсолтан, что Нязикджемал давно уже капнула ему в сердце ядом, — потому он и осрамился тогда, на собрании. Да и сама Айсолтан отчасти повинна в их размолвке: она только подливала масло в огонь неумеренными похвалами Сазаку.
Девушка хотя и считает ревность большим пороком, но в этот счастливый, солнечный день ей не хочется бранить Бегенча. Вместо этого она принимается рассказывать ему, как от волнения не спала ночей, когда хлопок не хотел раскрываться, и какой это был праздник, когда хлопок, наконец, раскрылся, и как хорошо идет сегодня сбор.
— Айсолтан, — спрашивает Бегенч, — скоро думаешь выполнить план по звену?
— Думаю, к концу месяца, не позже.
— А по колхозу?
— По колхозу к Октябрьским праздникам должны управиться.
— А тогда сделаем той, Айсолтан?
— Той в честь урожая, Бегенч?
— В честь урожая — это уж само собой. И еще один — наш с тобой, Айсолтан.
— А как же быть с Нязикджемал?
— Опять ты меня дразнишь, Айсолтан?
— Нет, нет, Бегенч. Только, знаешь, я с ней пошутила, а она уж и впрямь готова мне халат на голову накинуть.
— Ничего. Мы ее тоже на той позовем.
— А меня? — раздается сбоку насмешливый голос.
"Потды всегда ухитряется появляться, словно из-под земли", — думает Айсолтан и выдергивает свою руку из руки Бегенча.
— Айсолтан! Никак руку занозила?
— Да, Потды. Ты как верблюжья колючка, которая всегда вырастает там, где ее никто не сажал, — с досадой говорит Бегенч.
— А ты что такой сердитый? Устал, что ли, на мешке сидя?
— Соскучился, давно твоей болтовни не слышал.
— И не услышишь, брат. Я сам по себе соскучился. Ты спроси Айсолтан, как Потды сейчас работает. Один умный человек есть — и с тем теперь поговорить некогда. И в светлый день и в темную ночь на трехтонке хлопок вожу. Такая, брат, горячая пора! Ну, а у вас как план выполняется? Который мешок хлопка прессуете?
Айсолтан вскакивает, смотрит на мешок: хлопок в мешке и вправду изрядно примялся.
— Не твое дело. Ступай куда шел! — сердито восклицает Айсолтан, стараясь скрыть смущение.
— Ну вот, всегда так! Одному — мед, а другому — солому в рот. Вам с Бегенчем — мешок, а мне — вон пошел! Несправедливость! Сердце так болит, так болит… Пожалуй, до вашего тоя не заживет.
— Потды! Ты зачем сюда пришел? — спрашивает Айсолтан.
— За Бегенчем.
— Откуда ты знал, что Бегенч здесь?
— Айсолтан! Меня уже лет тридцать как перестали в пеленки заворачивать. Ты здесь, на хлопке? Здесь! Значит, и Бегенч тоже где-нибудь здесь. Где ж ему еще быть? Поехали, Бегенч, обвезу.
— Ступай, Потды, у меня есть машина.
— Ну, все кончено. Пропал парень. Погиб для общества, оплетенный черными косами Айсолтан. Ой, горе, братцы, горе!
Оставшись вдвоем с Айсолтан, Бегенч говорит:
— Завтра я опять уеду в пески, Айсолтан. На колодце еще много дел.
— Опять уедешь? Что ж, прощай, Бегенч. Желаю успеха. Жаль, что тебя не будет здесь: хлопок раскрывается…
— Да… Хлопок раскрывается…
С минуту они стоят молча, прислушиваясь к веселому шелесту, глядя на безграничное пространство хлопкового поля, на приветливо кивающие из-за листьев, чуть колеблемые ветром белые коробочки.
— Пойду работать, Бегенч.
— Прощай, Айсолтан.
— Прощай, Бегенч.
Но Бегенч не уходит. Он делает шаг вслед за Айсолтан:
— А вечером… Разве мы не увидимся, Айсолтан?
— Вечером?.. Хорошо… После девяти.
— Где? Я приду к тебе домой, Айсолтан. Можно?
— А что скажет Нурсолтан-эдже? — лукаво улыбаясь, спрашивает девушка.
Десятая глава
оторый раз уже за сегодняшний вечер с тоской глядит Айсолтан в окно? За окном косой, холодный дождь, ветер, такая непогода, что обидно до слез. Неужели и завтра не прояснится?
Айсолтан не может усидеть на месте. Она вскакивает, набрасывает на голову платок, выбегает на веранду. Ветер раскачивает привешенную под крышей электрическую лампочку, и в ее колеблющемся свете каплидождя, ударяясь о перила веранды, разлетаются мелкими серебристыми брызгами. Девушка спускается по скользким ступенькам во двор. Закинув голову, вглядывается в черное небо: нет ли просвета? Нет, темень, ни звездочки. Ветер рвет с головы Айсолтан платок, хлещет дождем в лицо, и она, вздохнув, возвращается в дом.
После полуночи на поселок обрушивается настоящий ливень. Айсолтан ворочается в постели с боку на бок, прислушивается к завыванию ветра, к глухому стуку дождя о железную крышу, и ей кажется, что все это воет и стучит у нее в голове. Ей хочется разбудить мать, поделиться с ней своей тревогой. Что если и завтра будет такая же непогода, — ведь все, все тогда испорчено, все! Но Айсолтан жалко мать. Она так замучилась с хлопотами, бедняжка, совсем с ног сбилась, еле добралась до кровати.
"Осень, — думает Айсолтан. — Этот дождь может зарядить надолго. Завтра меня все поднимут на смех. "Эй, Айсолтан, — скажут, — так не пристало! Проясни немного свое лицо, гляди, какую хмурь нагнала на весь мир! Или тебя насильно замуж выдают? Или тебе твой милый не мил?"
Поворочавшись еще немного в постели, Айсолтан в конце концов засыпает.
Когда она открывает глаза, из всех щелей в ставнях бьют яркие солнечные лучи. Девушка вскакивает с постели, распахивает окно. Прохладный утренний воздух ударяет ей в лицо. От черных туч не осталось и следа. Небо безоблачно, воздух чист и прозрачен, как ключевая вода. На ветвях деревьев еще блестят серебристые капли, сорванные ветром пожелтевшие листья прибило дождем к земле. Айсолтан поднялась сегодня вместе с солнцем — оно только-только выглядывает из-за верхушек деревьев и пронизывает все своими косыми лучами. Целую неделю мечтала Айсолтан о том, чтобы в этот день была хорошая погода. Она говорила себе:
"Когда же, как не в день Великой Октябрьской революции, нам с Бегенчем, ее детям, которых она вспоила и вскормила, которым дала такую счастливую судьбу, праздновать свой веселый той? В этот день солнце должно пролить на землю самые яркие лучи: вся природа должна радоваться вместе с нами, вместе с народом!"
Так думала Айсолтан, и теперь она видит, что мечты ее сбылись. Лучшей погоды и пожелать нельзя!
Быстро одевшись, девушка выбегает во двор. Широко раскинув руки, потягивается, вдыхает свежий аромат сырой земли, пропитанной влагой увядающих листьев. Где же мать? Айсолтан хочет поделиться с ней своей радостью.
— Айсолтан!
Айсолтан оглядывается. Это Бегенч. Он тоже встал сегодня вместе с солнцем. Шел куда-то мимо, остановился на улице против дома и смотрит на Айсолтан.
— Бегенч! Погляди, какая погода! — кричит ему Айсолтан.
— Такая же веселая, как ты! — отвечает Бегенч.
К тридцать второй годовщине Великой Октябрьской революции колхоз "Гёрельде" перевыполнил свой план по сдаче хлопка и рапортовал об этом району и области. Но сбор еще не был окончен, хлопок продолжал раскрываться, и на общем колхозном собрании решили той в честь урожая устроить после того, как будет собран весь хлопок и колхозный доход поделен между колхозниками. На этом же собрании стало известно, что Айсолтан и Бегенч приурочивают свой свадебный той к Октябрьским праздникам, и молодежь колхоза рьяно принялась за дело. Не было семьи, которая бы не внесла свой вклад в устройство тоя. Кто тащил жирного барана, кто мешок рису, кто чай, кто сахар. Даже Нязикджемал, которая сперва разобиделась на Айсолтан, сменила в конце концов гнев на милость. Трудно ведь ходить с сумрачным лицом, когда все кругом радуются, трудно не принимать участия в общих веселых хлопотах. И Нязикджемал тоже внесла свою лепту — нежного полугодовалого барашка.
Очень много споров вызвал вопрос о том, где проводить той. Джерен, опираясь на старый обычай, настаивала, что преимущество должно быть отдано дому жениха. Нурсолтан выдвигала на первый план дом невесты.
— Мы живем по-новому, — заявила Нурсолтан. — Зачем же нам цепляться за стариковские обычаи? А уж если на то пошло, так и по обычаю свадебного барана режут в доме невесты.
Этот вопрос вызвал разногласия даже между Айсолтан и Бегенчем. Айсолтан считала, что ее мать права, а Бегенч склонен был думать, что правда на стороне его матери. Ведь что ни говори, а свадебный той всегда устраивается в доме жениха, — разве мало приходилось Бегенчу бывать на таких тоях! Ему самому, по правде говоря, было решительно все равно, где праздновать той, лишь бы праздновать, но он побаивался злых языков. И, конечно, прежде всего Нязикджемал. Этой старухе на зубок лучше не попадайся. Как начнет охать-причитать: "Ай-ай-ай! Слыханное ли дело, чтобы жених шел на свадебный той в дом невесты! Видать, придется Бегенчу всю жизнь ходить на поводу у Айсолтан. Помяните мое слово, она завтра же заставит его выгребать золу из своего очага!" Но когда Бегенч решил поделиться своими сомнениями с Айсолтан, крепко его побранила:
— Бегенч! И тебе не стыдно? Разве этому тебя учили партия и комсомол? Подумать только! Бегенч старухиного языка испугался! Сплетен боится! Послушал бы тебя Чары… Как же ты хочешь новую жизнь строить, новые обычаи создавать? Как же ты будешь своим комсомольцам пример показывать, новые мысли, новые понятия людям прививать? Для меня, Бегенч, что твой дом, что мой — все равно. Если ты сам, не по чужой указке, хочешь у себя той праздновать, я к тебе пойду.
Словом, пристыдила Айсолтан Бегенча, на том у них спор и кончился. Другое дело — у стариков. Тем спорили долго, — то одна сторона, то другая брала перевес, — и в конце концов решили первый день тоя провести в доме Айсолтан, а второй — в доме Бегенча.
Вот почему сегодня, едва взошло солнце, как у дома Айсолтан начал собираться народ. Вот почему приносят сюда столы и стулья, расставляют их во дворе, стелют на веранде ковры. Шумно, весело сегодня у дома Айсолтан. Во дворе роют ямы для очагов, устанавливают большие котлы, обдирают баранов. На кошме под деревом образовалась целая гора посуды и всякой хозяйственной утвари, которую снесли сюда со всего села. Покончив с приготовлениями, чисто-начисто подметя двор, все, кроме поваров, идут на колхозную площадь.
Если молодежь колхоза "Гёрельде" оделась сегодня по-городскому — девушки в яркие праздничные платья, а парни в новые костюмы, то старики принарядились на свой лад — в цветные шелковые халаты, подпоясанные пуховыми кушаками; и большая площадь села похожа сейчас на пестрый, живой цветник.
Аннак, поднявшись на трибуну, произносит горячую речь, забыв даже заглянуть в бумажку, на которой записал тезисы доклада, и его могучий бас гулко перекатывается над головами колхозников. С пением преходят школьники в физкультурных костюмах; для них освобождают место перед трибуной, и они показывают физкультурные упражнения. Потом начинаются веселые спортивные игры, в которых принимают участие не только школьники, но и молодежь.
Теперь на трибуне Чары. Поздравив колхозников с праздником, он говорит:
— Товарищи, мне поручено сделать вам сообщение: Айсолтан и Бегенч приглашают всех вас к себе на свадьбу. Той начнется сегодня днем в доме Айсолтан, а завтра будет продолжатся в доме Бегенча. В четыре часа, с разрешения Айсолтан, будут происходить скачки и состязания в борьбе с раздачей призов. В этом тоже могут принять участие все желающие. А сейчас прошу вас на той к Айсолтан!
Очень весело сегодня в колхозе "Гёрельде"! Вот уж действительно праздник так праздник! Ни одного хмурого лица не увидишь здесь. И вся веселая, нарядная, праздничная толпа направляется к дому Айсолтан. Школьники проходят по главной улице, оглашая ее звонкой песней:
Солнце лучи рассыпает кругом, — Сегодня праздник, сегодня праздник! Щедрому солнцу навстречу идем, — Сегодня праздник, сегодня праздник!Вслед за песней несется частый стук копыт, и в конце главной улицы появляются всадники на разубранных белыми и цветными платками конях. Молодежь колхоза, оседлав коней, которые не будут участвовать в скачках, убрала их по свадебному обычаю и выехала на улицу. Дождь прибил за ночь пыль, и улица кажется чисто вымытой; всадники скачут, перебрасываясь громкими, веселыми восклицаниями, шутками; копыта коней гулко цокают о твердую землю, не поднимая пыли; яркие платки полощутся по ветру.
Кое-кто, вспомнив старый обычай, начинает забрасывать всадников комьями земли, а кое-кто хватается и за палки. Раздаются крики:
— Глядите, за невестой едут! Давай, давай гони их! Гони!..
Но голос Аннака покрывает шум:
— А ну, перестать! Вы же им глаза повыбиваете! Тоже, нашли неприятеля! Пусть скачут себе, пусть веселятся!
Свадебный поезд останавливается у дома Айсолтан. Да, сегодня все село веселится вместе с Айсолтан и Бегенчем, весь народ радуется их счастью.
А посмотрите на Айсолтан — как сияет ее лицо! От волнения ей ни минуты не сидится на месте. И Бегенч не помнит себя от счастья. И Нурсолтан выступает важно, горделиво: осуществилась ее мечта, и той наславу! Джерен, та все время роняет из рук посуду. А маленькая Майса, потряхивая косичками, то и дело бросается на шею Айсолтан.
Даже Нязикджемал разрядилась сегодня. Вот она подходит к всадникам, чтобы собрать платки, которыми разукрашены кони, пока не испачкался белоснежный шелк, не порвались яркие цветные шали, и раздать их, по обычаю, девушкам и молодухам — гостям невесты. Но резвые кони не подпускают ее к себе; они пляшут на месте, прижимая уши, норовят подняться на дыбы и вдруг, испуганные резким автомобильным гудком, прядают в сторону, чуть не сбив с ног старуху. Машина, вся разукрашенная разноцвет-ными платками, из-под которых видны одни только колеса, въезжает с улицы во двор.
Из машины выскакивает Потды в лихо заломленной на ухо каракулевой шапке. Увидав Нязикджемал, кричит:
— А, Нязикджемал-эдже, мое почтение! Вот теперь погляди на Потды. Погляди на его машину! Ну, что скажешь? Вот Потды какой человек! Он новый человек. Он старый обычай умеет повернуть на новый лад. Потды два с половиной месяца к этому тою готовился. Он про этот той знал, когда никто не ждал, не гадал, что этот той будет. А Потды знал и молчал. Да, каково ему было! Этот великий секрет разрывал его грудь на части! Два с половиной месяца Потды не ел и не пил! Два с половиной месяца Потды не спал! Этот секрет жег ему нутро, как огнем! Но Потды решил: захирею, помру, а не выдам тайны…
Нязикджемал, радуясь тому, что автомобиль не брыкается и не лягается, как лошадь, собирает платки с машины, говорит с усмешкой:
— То-то я смотрю, как ты исхудал, голубчик. Весь как есть высох…
Потды недоволен тем, что Нязикджемал прервала его торжественную речь, да еще так, что все кругом смеются… Он сердится:
— Никак в толк не возьму: для чего на такой торжественный праздник старух пускают? Почему бы тебе, почтенная Нязикджемал-эдже, не посидеть дома, восхваляя бога и перебирая четки?
Нязикджемал, вся обвешанная платками, из-под которых торчит только ее седая голова, величественно выпрямляется:
— Да кто ж больше нас, старух, в таком деле, как свадебный той, толк понимает? У тебя, Потды, еще молоко на губах не обсохло, что ты смыслишь? Нет уж, довольно вы нас в яшмаки укутывали. Теперь и мы на свадьбах погуляем!
— Что это ты так пировать разохотилась? Или молодость вспомнила, подарков захотелось?
— Я в твоих подарках не нуждаюсь. Меня мои руки и мой колхоз кормят. Вот как буду женить своего Сазака, так вместо коня тебя разукрашу. — И, совсем разойдясь, Нязикджемал набрасывает Потды на голову один платок за другим.
Под общий смех Потды, путаясь в легких шелковых тканях, старается высвободиться из-под платков, а Нязикджемал говорит невозмутимо:
— Пошел бы ты лучше, Потды, проведал, как там графинчики-бутылочки на столах поживают, — они, небось, соскучились по тебе.
И Потды видит, что, пожалуй, и вправду лучше последовать ее совету.
Стол во дворе, уставленный фруктами и винами, накрыт на сто пятьдесят человек. Остальные гости разместились на кошмах и коврах на веранде и в тени тутовника. В больших котлах варится мясо, и дым ог очагов смешивается с густыми клубами пара, поднимающегося над котлами. В углу веранды бахши уже настраивают свои гиджаки и дутары. Пожилые женщины, встречая гостей, осыпают их, по обычаю, мелким печеньем — пишме — и леденцами.
Гости садятся за стол. Внимание Аннака привлекает несколько необычный предмет: на веранде прибит ковер, а на ковре — увядший куст хлопчатника с пожелтевшими листьями и высохшими коробочками. Наклонясь к сидящему рядом Чары, Аннак спрашивает его громким шопотом:
— Друг, как ты полагаешь, что это означает?
Но Чары недоуменно пожимает плечами. Он и сам уже заметил этот хлопчатник, но может только строить различные догадки. Выждав, пока рассядутся гости и утихнет шум, Аннак встает. Указывая на хлопчатник, он говорит:
— Товарищи! Здесь кроется какая-то тайна. Я прошу хозяев разъяснить гостям: почему они повесили у себя на веранде эти высохшие ветки?
Маленькая Майса радостно хлопает в ладоши. Айсолтан и Бегенч, которые сидят рядом во главе стола, улыбаются, переглядываются, но молчат.
— Похоже, что хозяева сами не раскрыли еще этой тайны, — решает Аннак. — Ну что ж, тогда спросим Потды, уж он-то не может не знать.
Но на этот раз и Потды приходится признать свое поражение: тайна этого хлопчатника неведома даже ему. Потды говорит:
— Известно, что даже у Кемине раз в жизни был такой случай, когда он не сумел ответить одной женщине на вопрос. Я думал, что от меня в колхозе не может быть тайн. Такой уж у нас заведен порядок, что ни одна курица не прокудахчет без моего ведома. А тут — чего не знаю, того не знаю. Но думается мне, что это какая-нибудь древняя стариковская примета, — верно, это дело рук Нурсолтан-эдже и Джерен-эдже.
Но и Нурсолтан-эдже и Джерен-эдже только покачали головой.
— А я знаю, я знаю! — неожиданно кричит маленькая Майса, вскакивая с места. — Этот куст принес Бегенч, когда… — но тут Майса видит, что Бегенч грозит ей пальцем, и умолкает.
— Говори, Майса, говори! — кричат гости. — Ребятишки всегда все знают! Говори, Майса!
Но маленькая Майса только передергивает тоненькими плечиками:
— Да я сказала — Бегенч принес… А больше ничего не знаю.
Вся эта таинственность совсем не по нутру Аниаку. Он говорит, обращаясь к одному из колхозников:
— Да сними ты этот хлопчатник, ну его… От дела отвлекает.
Но тут поднимается Айсолтан.
— Нет! Не трогайте! — восклицает она. — Я сейчас открою вам эту тайну, друзья. Как вы сами не понимаете? Ведь это же хлопок! Хлопок — драгоценное сокровище нашей республики! Хлопок — залог нашей счастливой жизни. Хлопок сделал наши имена известными всему Советскому Союзу. Хлопок… — Айсолтан на секунду умолкает, опускает глаза, говорит тихо, так что эти слова слышат только те, кто близко сидят от нее за столом. — Хлопок соединил Бегенча и Айсолтан. Вот почему, — снова звонко говорит она, — мы с Бегенчем повесили его здесь, как залог нашего счастья, как лучшее, самое дорогое украшение нашего тоя!
Под одобрительные возгласы и дружные рукоплескания гостей Айсолтан с пылающими щеками садится на место. Приносят блюда с горячим, окутанным облаками пара пловом, большие миски с жирным мясным соусом, ставят их на стол, на ковры и на кошмы. Теперь пора избрать тамаду, и этот вопрос не вызывает разногласий. Тамадой единодушно избирают Потды.
Потды встает. Садясь за стол, он не без сожаления снял свою дорогую каракулевую шапку. Но он и без шапки выглядит представительно в своем новом, шоколадного цвета костюме и веселом, как радуга, галстуке. Потды говорит:
— Благодарю всех собравшихся на этот той за то, что они доверили мне судьбу такой большой, почетной компании. Но теперь держитесь! Вы знаете мой характер. Я человек серьезный, шутить не люблю! Теперь вы в моей власти. Даже сам председатель колхоза, глубокоуважаемый товарищ Аннак, сейчас находится в полном моем распоряжении. Кто возьмет слово без очереди, без моего ведома, будет иметь дело со мной! Кто, меня не спросясь, задумает раньше времени покинуть общество, будет иметь дело со мной! А сейчас я объясню ваши обязанности. Вы пришли на это торжественное собрание, чтобы чествовать наших молодых товарищей Бегенча и Айсолтан, которые вступают в счастливую совместную жизнь. И поэтому всем собравшимся здесь вменяется в обязанность: есть, пить, смеяться и веселиться! А кто не подчинится, будет иметь дело со мной! Итак, наполняйте ваши пиалы и стаканы. Первый тост предоставляется Чары.
Чары встает, поднимает стакан с вином; луч солнца падает на стакан, и вино блестит, как расплавленное золото. Чары, обращается к гостям:
— Товарищи! Сегодня радостный для всех нас день. Только не всякий одинаково может это выразить. Я смотрю сейчас на Нурсолтан-эдже и Джерен-эдже: быть может, они самые счастливые сегодня. Потому, что они лучше, чем молодые — Айсолтан и Бегенч, понимают цену такого счастья. Но, быть может, выразить это они и не умеют: слишком долго они были под гнетом, и он наложил на их уста свою печать. Нурсолтан-эдже и Джерен-эдже счастливы сегодня счастьем своих детей, потому что они еще помнят то время, когда у нас не было таких свободных союзов, когда девушек выдавали замуж насильно, без любви. Они помнят то время и видят теперешнюю нашу жизнь. Эта жизнь прекрасна! Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на лица людей: это счастливые лица. Когда глядишь на них, сердце поет. Мы все счастливы, друзья! Мы счастливы, потому что сейчас в нашей стране каждый чабан — хозяин земли. Потому, что и земля, и вода, и воздух — все служит нам. Счастье в наших руках. Потому и Айсолтан и Бегенч так счастливы сегодня и будут счастливы всегда. Они знают это. И мы это знаем. Советские люди счастливы и свободны, и они заключают свободные и счастливые союзы. Они строят ладную, крепкую, дружную семью. Я знаю, что жизнь Айсолтан и Бегенча будет такой — дружной, ладной, счастливой. И я хочу сегодня первый тост провозгласить за здоровье того, кто дал нам эту счастливую жизнь, кто научил нас любить и уважать друг друга и наш труд, — за здоровье нашего отца и учителя, нашего дорогого Сталина!
К бурным рукоплесканиям, к радостным возгласам, к веселому звону стаканов и пиал присоединяются певучие переливы дутаров, все сливается в торжественный многоголосый хор, и ветер несет эту ликующую песню над притихшими, залитыми солнцем улицами, над необъятным зеленым простором хлопковых полей.
Редактор М. Филатова Оформление 3. Ильинской Техн, редактор И. Михайловская А08266. Подп. к печ. 16/Х 1951 г. Бумага 70x108 1/32=2,625 бум. л.= 7,19 печ. л. Уч-изд. л. 6.5 Тир. 75 000 экз. массовое и дание Заказ 1554 Цена 4 руб.
Типография "Красное знамя" изд-ва "Молодая гвардия", Москва, Сущевская, 21.
Примечания
1
Сувкяди — высушенная пустая тыква, употребляемая как посуда для воды.
(обратно)2
Тамдыр — печь для выпечки чуреков.
(обратно)3
Кран — монета, равная 17 копейкам.
(обратно)4
Коурма — жареное мясо.
(обратно)5
Башлык — председатель колхоза.
(обратно)6
П и р — высшее духовное лицо, обычно имеющее учеников.
(обратно)7
Ч о р — овечий помет.
(обратно)


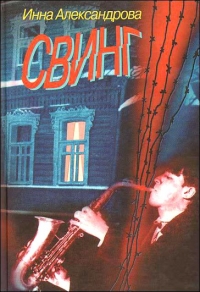

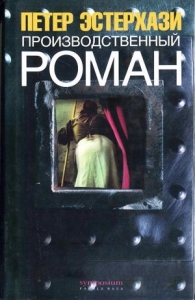
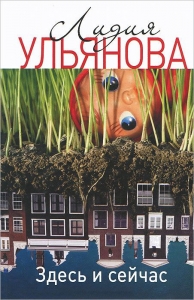




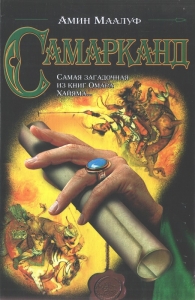
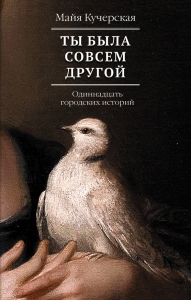
Комментарии к книге «Айсолтан из страны белого золота», Берды Муратович Кербабаев
Всего 0 комментариев