Екатерина Ру Мертвые пианисты
Пролог
Надя выходит на сцену Королевского фестивального зала. Приближается к роялю. Надя слышит в тишине свои шаги и с ужасом понимает, что единственные звуки зала исходят от нее. И в ближайшие минуты все звуки тоже должна мастерить она сама. Своими руками. Надя смотрит на свои пальцы, замечает заусеницу на правом мизинце и тут вспоминает, что нужно посмотреть на зрителей. Улыбнуться им, поклониться. Так положено. Нужно всегда смотреть на людей. «Смотри на меня», — говорила ей мама двенадцать лет назад, поворачивала холодными пальцами за подбородок. А точнее — двенадцать лет, пять месяцев и три дня назад. Наде тогда было почти пять. Глубоко внутри ей и сейчас почти пять. Надя смотрит в притихший зал и постепенно замирает, словно скованная плавной, неспешной смертью. Зрители ждут от Нади Рахманинова. Или не Рахманинова? Тишина зала схлестнула Надины мысли. И тут возникает другой страх, более объемный, чем страх тишины и собственного тела. Всплывает разбухшим утопленником из глубины Нади на поверхность. Перед глазами все начинает рябить, терять четкие контуры. Наде кажется, что она стоит на ярко освещенной дачной кухне, а зрители сидят снаружи, в вечернем саду. За оконными стеклами все плавится, струится, утекает в назревающие сумерки. И только двадцать три зрителя на самом дальнем ряду видны очень хорошо. Они смотрят на Надю осуждающе, даже угрожающе. Особенно тот, что с краю, — с кудрявыми смоляными волосами и родинкой на щеке. «Убийца», — словно шепчет он, не открывая рта. И сидящие рядом с ним кивают, поджав губы. «Нет, я не убийца, — испуганно шепчет в ответ Надя внутри себя. — Я просто… Мне так сказали, сказали, что я должна поехать». «Нет, ты убийца», — не соглашается кудрявый. Виталий Щукин. А рядом с ним кто? Анна Козырева и Антон Ильинский. Да, они. Так странно, обычно Надя не видит их лиц четко. Обычно Надя выделяет их из темноты памяти и воображения исключительно по опознавательным признакам. Вроде густой короткой челки или родинки. А теперь черты их лиц проявились в полной мере, и они сидят перед Надей живее всех живых. И самый живой и самый грозный — Виталий Щукин. Медленно, на дрожащих ватных ногах она продолжает путь к роялю, а тьма перед глазами сгущается. Еще чуть-чуть, и Надя полностью провалится в черноту. Соскользнет в бездонные пропасти собственных глазниц. «Убийца, — все громче шепчет Виталий Щукин. — Бедные старики. Бедная моя Рита». Шепот расправляется в полнозвучный голос, и этот голос начинает наливаться криком. «Я не убийца. Я все могу исправить, — шепчет Надя в глубине себя. — Я все исправлю». Надина левая рука нащупывает клавиши, бесшумно по ним скользит. В животе стремительно раскручивается пустота, словно разъедая внутренности. «Я все исправлю», — повторяет Надя и, не убирая с клавиш левую руку, с силой захлопывает крышку рояля.
Смотри на меня
— Смотри на меня, — говорит мама. Ледяными острыми пальцами берет Надю за подбородок. Поворачивает к себе. — Куда ты опять смотришь? Что там такого? Там ничего. Там шкаф, просто шкаф для белья!
Но Надя смотрит вовсе не на шкаф. Надя смотрит в глубь себя. Там, внутри, мягко, уютно и все знакомо. Вылезать оттуда не хочется. Совсем. Не хочется вытаскивать взгляд из привычного тепла наружу — в холодный и враждебный мир. Снаружи все непредсказуемо, все шатко. Лучше не рисковать.
— Я к тебе обращаюсь! Сюда смотри. Видишь, заяц на картинке? Повтори: «за-яц»!
Мама трясет перед Надиным лицом огромной книгой с болезненно яркими картинками. Не вылезая из глубины себя, Надя скользит глазами по открытой странице. Заяц серый, а вокруг него зеленая трава и розовые цветочные бутоны. При виде этих бутонов Надя вспоминает ветчинные рулетики, которые в Новый год лежали на столе. Вслед за рулетиками возникают розовые свиные ребрышки из мясной лавки напротив, и Надю начинает тошнить. Утренний йогурт кисло всплескивается в горле. Надя закрывает глаза. Очень хочется развидеть и зайца, и бутоны, и рулетики. Но на обратной стороне век по-прежнему сочно розовеют мясные цветы с белыми прожилками.
— Повторяй за мной. Заяц! Говори. За-яц, за-яц, за-яц, мать его!
Надя молчит. К ушам изнутри подбирается тяжелое жаркое гудение крови.
— Ты будешь повторять или нет, дрянь такая!
Мамин голос дребезжит, как сервант в гостиной, когда мимо дома проезжает трамвай. Видимо, мама сердится. Наде это очень не нравится, ей хочется провалиться еще глубже в себя, в собственное тело. А тело спрятать в какой-нибудь чехол. Хотя бы в тесный пропахший лавандой бельевой шкаф.
Книга с шумом падает на пол, и мама закрывает лицо руками.
— Боже мой, за что мне это мучение? Что я сделала не так? Почему ты у меня такая, ну почему? Я этого не заслужила, нет, не заслужила. Я просто хотела ребенка — милого, забавного, умненького ребенка. И вот что я получила в итоге?
Все мамины слова слипаются в жирный розовый фарш. Пытаясь справиться с тошнотой, Надя мысленно считает от пятидесяти до одного. Уже на двадцати семи становится легче.
А через час становится совсем легко, потому что приходит бабушка, и они с мамой идут на кухню пить чай и разговаривать. А это значит, что Надю в ближайшее время точно никто не будет допекать. Не будет ни зайцев, ни цветов, ни прикосновений острыми пальцами. Наде дана небольшая передышка. Можно расслабиться и уютно устроиться внутри себя.
Надя сидит в коридоре, прислонившись спиной к батарее. Вдыхает сосновый освежитель. Из кухни доносится звяканье чашек о блюдца. Мамин голос теперь звучит сухо и остро, словно мертвые листья шелестят на ветру.
— Ну и что мне прикажешь делать? Ребенку почти пять лет, ни слова не говорит, не смотрит ни на кого, не улыбается.
— Ты к врачу-то ее с того года хоть раз водила?
— Ой, а что эти врачи? Врачи, тоже мне. Только и говорят, что дочка у вас отсталая. Я это как бы и сама понимаю.
— Понимает она. А что ты понимала, когда с этим горе-скульптором связалась?
Из приоткрытой кухонной двери льется свет. Приоткрыв рот, Надя рассматривает узоры на обоях. То ли грозди ягод, то ли цветы — непонятно. Чуть подальше от кухни, в глубине коридора, полутьма немного уплотняется, и в узорах можно разглядеть лицо старика. Много старческих лиц.
— Ой, мама, Вадик-то тут при чем?
— Да при том. Разве от такого мужика может родиться нормальный ребенок?
— Мама, хватит уже. Я не хочу опять этот бред слушать.
— Вот и хватит. Не жалуйся тогда.
Надя встает, идет в свою комнату. В теплый и кислый воздух. За окном воздух морозный, сладковатый, чуть колкий. Но Надину комнату редко проветривают. Еще за окном есть серый девятиэтажный дом, похожий на прошлогоднюю, полежавшую в сыром буфете вафлю. Почти такой же, как тот, в котором живет Надя с мамой и папой. В этом доме напротив разноцветными огоньками телевизоров мигают окна. С каждым получасом этих огоньков становится все больше. Наверное, то же самое происходит сейчас и с Надиным домом, но Надя не может этого увидеть.
Совсем скоро вечер, и комната вот-вот опрокинется в темноту, нырнет в черное. А пока в комнате полумрак, а на небе воспаленные полосы, солнечные ранки. Небо порезано. Надя прошлым летом упала с трехколесного велосипеда и тоже порезалась о битое стекло. Теплая ленточка крови долго сбегала вниз по руке. Надю тогда сильно ругали.
— Я больше не могу, я живу, как в аду, из-за этой маленькой дряни, — доносится из кухни мамин голос.
— Отдай ее мне. Я быстро из нее человека сделаю. Она у меня через неделю заговорит и улыбаться будет.
— Тебе? Не смеши. Занимайся лучше своими учениками. Человека она из нее сделает. Да ты не знаешь, о чем говоришь! Ты просто не представляешь.
На подоконнике уже пятый день лежит мертвая муха. Сухая, темно-серая, скрюченная — она напоминает Наде соседку с седьмого этажа. А внизу, под окном, проплывают все более наполненные трамваи — вытянутые красные рыбины с горящими глазами. Рыбы всегда молчат, Надя это знает. Надя тоже молчит.
— Чего это я не представляю? Тебя вот вырастила и с этой разберусь.
— А ты не сравнивай! И вообще это мой крест, мне его и нести.
— Тоже мне, святая мученица, страдалица.
— Это моя дочь, и я ее люблю, между прочим. И не позволю никому у меня ее отобрать!
Через пять минут мама уже в Надиной комнате и, заливаясь горячими слезами, обнимает Надю. От мамы пахнет сигаретами и очень сладкими цветочными духами.
— Доченька, ты у меня самая лучшая, самая прекрасная из всех на свете. Никому тебя не отдам.
Надя изо всех сил прижимает руки к телу. Туго сворачивается внутри себя, сжимается, словно пружина.
Неподвижным взглядом смотрит в окно, на густеющую городскую темноту, прошитую цветными огоньками. Надя ненавидит объятия.
— Все у тебя будет хорошо. И у меня тоже. Ты поняла? Поняла?
Мама отчаянно трясет Надино замершее тело.
К счастью, натиск рук, духов и слез длится недолго. Мама, вспомнив о начавшемся сериале, уходит из комнаты, и внутренняя Надина пружина вновь расправляется. В комнату наплывает тишина. Плотная, густая тишина, через которую никому не прорваться. Надя закрывает глаза и представляет, что сидит в брюхе огромного мертвого кита, выброшенного волнами на берег.
Это, конечно, правда — Надя редко смотрит на других. И никогда не улыбается. Но ведь и другие, думает она, часто поступают так же. Они с мамой постоянно выходят из квартиры: в магазин, в поликлинику, в детский сад. (Хотя в детский сад уже нет: Надю оттуда исключили.) На улице, в автобусе, в трамвае всегда много людей. Особенно на улице вечером. Мимо Нади проплывают бессчетные потоки лиц. Лица молодые, старые, бледные, темные, багрово-оспенные, блестящие от пота; простые и круглые, как яичница; по-лошадиному вытянутые; морщинисто-желтые, как печеные яблоки; уставшие и помятые, словно скомканные простыни. И все эти лица вечно погружены в мрачную неподвижность. Как будто медленно тонут в стоячей чернильной воде. Люди не смотрят друг на друга, они тоже смотрят в себя, как и Надя. Скользят бесшумно, с поджатыми губами, с пустыми замутненными взглядами, каждый в своем футляре. И почти никогда не улыбаются.
Еще Надю обвиняют в том, что за свои пять лет она никому не сказала ни слова. Мама без конца твердит, что нужно жить вовне, нужно реагировать словами на то, что с тобой происходит. Разговаривать с теми, кто тебя окружает. Но при этом сама мама так делает далеко не всегда. Иногда они с Надей встречают на лестнице, в лифте или во дворе соседей. Например, старушку с седьмого этажа, похожую на мертвую муху. Или усатого собачника — кажется, Павла Сергеича, — который вечно сплевывает ржавую густую слюну. Или Аллу Владимировну с двухъярусной прической, жабьим ртом и бровями-ниточками. И мама никогда ничего им не говорит — хотя они ее окружают. И они в свою очередь ничего не говорят окружающим их Наде и маме. Просто отводят взгляд и молча проходят мимо. Надя и имена-то их знает случайно: однажды во дворе проводилось собрание жильцов, и женщина из ЖЭКа громко к ним обращалась. А вот старушки в тот день не было, и Надя так и не знает, как ее зовут.
После множества молчаливых встреч Надя подумала, что, видимо, все не настолько просто. Видимо, разговаривать с окружающими нужно лишь в том случае, когда они сами обращаются к тебе. Но потом стало ясно, что и это не всегда так. Однажды они с мамой шли в гости к какой-то маминой подруге. Надю обычно редко берут в гости, в основном оставляют у бабушки. Но в тот раз взяли, потому что «у бабки, видите ли, родительское собрание, четвертое за год». Недалеко от трамвайной остановки к ним обратилась девушка в лиловом пуховике.
— Подождите, тут вот папа… Пожалуйста, — сбивчиво бубнила она. И указывала мохнатой серой варежкой на пожилого мужчину, сидящего на скамейке. У мужчины были закрыты глаза и приоткрыт рот с длинными желтыми зубами. Над верхней губой алела свежая бусина крови.
Девушка в пуховике обращалась к Надиной маме и другим прохожим, но никто ей почему-то не отвечал.
В тот вечер у маминой подруги было семь человек. Они пили коньяк и громко смеялись.
— Ириш, да не трогай ты ее, — сказала мама, когда одна из подруг попыталась усадить Надю за общий стол. — Она не реагирует ни на что. Как отмороженная. Пусть сидит себе в своем уголке.
От подруги пахло кислым потом, спиртом и приторным ванильным кремом для лица. Она положила ладонь на Надино плечо:
— Детка, ну что ж ты? Такая напряженная, прямо каменная. Пойдем к нам, выпьем чайку с шоколадкой.
Надя не отвечала, и костлявые пальчики с облупившимся бордовым лаком отцепились.
— Вот видишь! — снова сказала мама. — Она будет молчать, хоть ты тресни. Я каждый день такую картину наблюдаю. Это мне кара за все мои грехи.
— Да какие грехи, Мариша, о чем ты?! И вообще, ты большая молодец, что не сломалась, что растишь такого ребенка.
— Уж это точно, — подхватил кто-то еще. — Вы с Вадиком настоящие герои. Не каждому дано столько терпения.
— Да ну бросьте вы, какие мы герои.
— Правда-правда. И давайте, кстати, выпьем за то, чтобы терпение и мужество никогда вас не покидало!
Надя сидела на полу рядом с комодом. Смотрела вверх — на перемотанный изолентой провод люстры. Вниз — на синие тапки хозяйки дома, на ее полные икры со вздутыми корнями вен. Но в основном смотрела внутрь себя. Внутри Нади был сидящий на скамейке мужчина и была девушка в лиловом пуховике. Такие же, как на остановке. Только их лица были немного размазаны памятью и дорисованы заново. Оба казались застывшими и очень печальными. Ничего не говорили, не двигались, словно вмерзли в зимнюю стеклянную тишину. Надя долго их разглядывала, почти весь вечер, и почему-то чувствовала, как за ребрами тяжело перекатывается скользкий холодный ком.
Никто из гостей, к счастью, больше не обращался к Наде, не пытался вытянуть ее из молчания наружу, к шумному и тошнотворно пестрому столу.
На самом деле Надя молчала не от отсутствия слов. Слова у Нади были, причем в большом количестве. Из некоторых даже выстраивались стихи:
В комнате страшно и пусто В трансцендентной лежать синеве. И только ломаются с хрустом Ступеньки в моей голове.Это стихотворение сочинилось в детском саду, во время тихого часа. А точнее, после него. Всех детей разбудила нянечка Светлана Васильевна. Увела на полдник, а потом, видимо, на прогулку. А вот про Надю забыла, не заметила ее в дальнем левом углу. И Надя еще два часа лежала в непривычно пустой детсадовской спальне. Натянув колючее одеяло до подбородка, разглядывала ледяные синие стены, засаленные занавески, причудливую сетку трещин на потолке, похожую на карту рек.
Слово «трансцендентный» Надя однажды услышала по телевизору, когда мама переключала каналы и случайно наткнулась на «Культуру». Разумеется, Надя не знала, что оно обозначает. Не знала и почему именно ступеньки ломаются в голове, а не что-нибудь другое. Но ей казалось, что все очень слаженно, звучно, красиво. Стих и сам как будто разламывается с легким приятным хрустом, словно тоненькая ореховая вафля, а внутри отдает синим морозным небом, застывшим холодом, воскресной тоской.
Писать Надя не умела, поэтому все свои слова — сплетенные в стихи и нет — носила исключительно в голове. Они там жили собственной жизнью, росли, наливались смыслами, выстраивались в разные, все более сложные ряды. Им было хорошо в своем замкнутом мире, и доставать их оттуда не хотелось. Не хотелось выбираться из обволакивающего густого молчания — как порой не хочется в холодный день вылезать из теплой ванны. Молчание затягивало в глубь себя и там щедро рассыпалось спрятанными немыми словами.
— Хочешь йогурт, так и попроси. Скажи: йо-гурт, — говорит мама.
Бабушка ушла час назад, а папа вернулся с работы. Втроем они сидят на кухне. Вечер за окном давно запекся, набух чернотой. Густая вязкая темень полностью поглотила город по ту сторону. Не поглотила только мучительно яркий свет кухни: по окну растекается лишь он — вместе с тонущим в нем столом и тремя согнутыми телами. Кухня замкнулась сама в себе.
Папа уже доел и теперь молча смотрит в свой телефон. С мамой не разговаривает. У мамы в руках блестят нож и вилка, вгрызаются в розовато-серую сосисочную мякоть, в жухлые листья салата. Мама тоже молчит, поджав губу; искоса смотрит на Надю. А та смотрит в телевизор, на бородатого мужчину. Мужчина рассказывает о глобализации. Глобализация влияет на российский рынок труда. Телевизор словно плывет Наде навстречу в слепящем кухонном свете.
Папа чуть слышно усмехается.
— Что? Что тебя так веселит? — резко говорит мама.
— Ничего. Я вообще молчу.
— Вот и молчи дальше. Иди переписываться со своими шлюхами в другое место.
Мама поворачивается к Наде, не выпуская ножа и вилки из рук:
— Ну? Так и не будешь ничего жрать? Решила меня довести? Да пожалуйста, не жри ничего. Только если хочешь шоколадный йогурт, придется попросить.
Надя хочет йогурт, но не настолько, чтобы об этом сказать. Произнесенное слово слишком выпукло, слишком тяжело. Словно неподъемная крышка люка. Да и сам язык во рту кажется огромным, разваренным, неподъемным. И Надя просто отодвигает от себя тарелку с нетронутой ненавистной сосиской.
Папа на секунду поднимает на Надю глаза и, вновь усмехаясь, качает головой:
— Тоже мне, вещь в себе!
Вещь не в себе
Иногда Наде бывает плохо, и она выходит из себя. Первый серьезный приступ случился четыре месяца назад в детском саду. Там все с самого начала не заладилось. Было очень громко, тесно, визгливо, пахло тушеной капустой и хлоркой, а на шкафу в коридоре сидел плюшевый львенок с вырванным правым глазом. Надя подолгу рассматривала этого львенка и представляла, что будет, если вырвать глаз самой себе. Возможно ли это вообще? В конце концов приходила нянечка, Светлана Васильевна, хватала Надю за плечо красными и липкими, как сардельки, пальцами и вела в комнату.
— Нечего тут на сквозняке стоять. А то заболеешь, и придет мамка твоя кричать, что мы тут детей замораживаем.
В комнате на ковре играли дети, вырывали друг у друга игрушки, стреляли из пластмассовых пистолетов. Пытаясь успокоиться, Надя наматывала круги. Иногда делала ровный круг, через всю комнату. Иногда ходила восьмеркой, переступая через разбросанные детали от «Лего». Похлопывала себя по щекам, трясла кистями рук, мысленно повторяла слова заставки из сериала «Холод страсти», который по вечерам смотрела мама. Имена и фамилии всех актеров, режиссера, звукорежиссера, оператора. Затем переходила на анонс воскресного ток-шоу «По следам недели» и правила интеллектуально-развлекательной викторины «Один ответ». Но полностью успокоиться никогда не получалось. Слишком много голосов и лиц на крошечное пространство. Все бесконечно двигалось, шумело, билось. Словно сердце, лишенное отдыха, работающее на износ. Хотелось выть, хотелось забраться в шкаф или хотя бы под стол, в самый дальний угол. Даже во время тихого часа никогда не было по-настоящему тихо: в сознание постоянно и неумолимо пробиралось жужжание ламп.
А однажды, наматывая по классу восьмерки, Надя наступила на руку рыжей девочке в полосатом красно-белом платье. Девочка закричала так пронзительно, что внутри Нади все как будто провалилось в пустоту, в обжигающе холодное безвоздушное пространство. Затем медленно начало всплывать, отдаваясь острой болью в каждой клетке тела.
Ужас от пережитого был настолько невыносим, что Надя никак не могла прийти в себя. Когда рыжая девочка в слезах побежала жаловаться воспитательнице на «немую», Надя упала на ковер и изо всех сил зажала уши. В комнате вдруг возникла тишина, но Надя не разжала пальцы. Еще около минуты она неподвижно лежала на ковре, глубоко провалившись в собственное тело, парализованное ужасом.
К Наде осторожно начали прикасаться чужие руки. Даже рыжая девочка, уже переставшая плакать, легонько тронула ее плечо. Но от прикосновений стало только хуже. Зажимающую в тиски боль можно было одолеть только другой болью. Заглушить, перебить, перекричать. Надя резко вскочила и бросилась к выходу из комнаты. Сунув пальцы в дверной проем, принялась отчаянно хлопать дверью. Насколько хватало сил. Впрочем, от двери ее тут же оттащили. Через несколько секунд Надя вновь оказалась на полу. Машинально пыталась проглотить воду из стакана, который ей совала воспитательница. Но вода упрямо не проходила в горло, лилась по подбородку, по синей футболке. Пальцы горели, а вокруг все растекалось, словно вода из стакана затопила всю комнату. Лампы размазывались по потолку, перепуганные детские лица сливались в одно, бесконечно тянущееся, мутное. Потом Надя все же проглотила воду и какие-то горькие капли, и очень скоро все внутри успокоилось. Ледяной ужас прошел, тело согрелось, начало обмякать. Тело казалось картофелиной, которую вынули из кипятка и теперь поливают маслом и разминают вилкой.
Второй приступ произошел неделю спустя, на прогулке в парке. Пока все остальные дети играли в какую-то непонятную игру с мячом, Надя разглядывала проезжающие мимо парка машины. Загадывала, каким будет день. Если шестнадцатая машина, которая проедет мимо, будет белой или зеленой, то день будет спокойным. А если синей или красной, то обязательно случится что-то нехорошее. Что-то скользящее, вертлявое, бряцающее, как сине-красные бусины на браслете воспитательницы. Поначалу все шло хорошо. Друг за другом с шумом промчались три машины. Но четвертая остановилась прямо напротив парка, и Надя задумалась, надо ли ее считать. Скорее всего, нет, ведь она не проехала мимо. Но все же было не совсем ясно, где именно проходит граница, после которой машина считается проехавшей. Надя заново начала отсчет, приняв за границу высокий горбатый фонарь, непонятно зачем включенный. Подслеповатым бледно-желтым глазом он недоуменно таращился в яркий полнокровный день. Но тут проехала маршрутка и окончательно сбила Надю с толку. Автобусы не считаются — так решено было сразу, — а маршрутки? Пусть тоже не считаются. Вздохнув, Надя продолжила считать. На пятнадцатой машине стало волнительно, сердце повисло перезрелым тяжелым плодом, готовым сорваться с ветки в любую секунду. И тут Надя заметила, что к проезжей части приближается молодой парень. Он был в наушниках и неотрывно смотрел в телефон. Отяжелевшее сердце в Надиной груди ударяло все сильнее, резко втягивалось и ударяло снова. Вот-вот упадет в пустоту. Надя замычала, подняла руку, пытаясь привлечь внимание. Но дети были слишком заняты игрой, а воспитательница, как и парень в наушниках, смотрела в свой телефон. Через несколько секунд раздался острый скрип тормозов, и Надя даже не заметила, какого цвета была шестнадцатая машина, сбившая парня в наушниках. Скрип пролетел под ребра щекотным ужасом. Словно насквозь пролетел.
Парень легко отделался. Быстро встал и, выплюнув несколько пенисто-горьких бранных слов, ушел. Водитель шестнадцатой машины спокойно поехал дальше.
Но Надя отделалась не так легко. Рухнув на спину, она долго стучала ногами, горланила, не поддаваясь на уговоры. Небо всей своей синей тяжестью навалилось сверху, вдавило Надю в землю. Было больно, страшно, обжигающе — словно это ее саму только что чуть не убила машина.
— Ну-ка вставай, психичка мелкая! — сказала воспитательница Наталья Олеговна.
Надя отчаянно завертела головой. Краем глаза увидела на асфальте маленькое красное пятнышко, и ей представилось, что это пятнышко и есть ее болевое ощущение. Закрыла глаза, и пятно начало стремительно расползаться во все стороны. Оно темнело, густело, пузырилось внутри головы, за височными и теменными костями. Прорывалось наружу. Наде казалось, что еще чуть-чуть — и хлынет, и весь парк, вместе с Натальей Олеговной и детьми, потонет в бурлящем темно-алом потоке. И пускай.
— Ваш ребенок больше не может посещать наше учреждение, — сказала вечером маме заведующая.
— Это еще почему?
— Да опять сегодня учудила невесть что. Цирк устроила посреди улицы. С воплями по земле каталась. Да, Наталья Олеговна?
Наталья Олеговна стояла рядом и кивала. Без конца приглаживала волосы. Сине-красный браслет с бряцаньем скользил вверх-вниз по запястью.
— И?
— Что значит «и»? Для вас это нормально?
— Но вы с самого начала знали, что берете особенного ребенка, разве нет?
— Знали, и что теперь? Да, мы пошли вам навстречу. Но мы же не думали, что придется так часто терпеть ее выходки. На прошлой неделе пальцы, теперь это. Не ест ничего, кроме йогуртов, вчера вот в кашу плюнула. Да, Наталья Олеговна?
Надя вспомнила растекающееся маслянистое пятно на поверхности манной каши. Внутри вздрогнула кислая дурнота. А заведующая продолжала:
— Не говоря уже о том, что многие дети ее просто боятся! А что, если она в следующий раз кому-нибудь пальцы дверью отобьет? Мне потом расхлебывать?
Сказав это, заведующая оскалила зубы — редкие и острые, с темным налетом.
— Ничего она никому не отобьет! Да она мухи не обидит! Да она…
Фраза оборвалась. Мамин голос чуть заметно дребезжал.
— Да вот неизвестно. Кто знает, что у нее в голове. Она же молчит все время!
— Молчит, да, молчит! А мне-то что теперь делать?
Дребезжание усилилось.
— Не знаю, что вам делать. Отдайте ее в специализированное учреждение. А к нам, пожалуйста, больше не приводите.
Мама с силой дернула Надю за руку и поволокла прочь из кабинета.
— Можно подумать, у меня деньги есть на специализированное учреждение. Тоже мне. Мрази, — чуть слышно прошипела она в коридоре. А Надя в последний раз посмотрела на львенка с оторванным глазом.
В тот вечер в автобусе было очень много людей. Мама стояла у передней двери. С каменным лицом, поджав растрескавшиеся губы. А Надя сидела позади кондуктора. Смотрела на его лысый затылок, покрытый липкой испариной, словно ромовая баба сиропом. Потом долго смотрела в окно, до самого выхода из автобуса. В сонном густеющем воздухе проплывал знакомый район. Застывшие во времени потрескавшиеся многоэтажки. Между ними желтели тоненькие липы, немного смягчая рубцы и шрамы зданий. А около домов суетилась пестрая человеческая нарезка. Люди казались двумерными, топорными, будто наскоро вырезанными из цветного картона. Живым объемом не обрастали.
Надя видела привычную картину, всегда такую убаюкивающе теплую, вселяющую спокойствие. Но сейчас при виде родного района сердце почему-то неприятно разбухало, давило изнутри на ребра.
В новый детский сад Надю не устроили, и с тех пор она снова проводит все дни дома. Мама больше не работает. Остается в квартире с «маленькой дрянью, которую никуда не берут». С одной стороны, это хорошо. Дома гораздо тише, нет визгливых детей, без конца во что-то играющих. Даже лампы не жужжат. Правда, в коридоре тикают круглые настенные часы. Ритмично отрубают ровные ломтики времени. Но это совсем не страшно, даже наоборот: завораживает и успокаивает. С другой стороны, в детском саду Надю в основном не трогали, не замечали. Не заставляли участвовать в конкурсах и маскарадах. Однажды вот даже забыли поднять после тихого часа. А дома случается по-разному. Иногда мама тоже словно забывает про Надю. Лежит целый день в постели и тихонько всхлипывает. А бывают дни, когда с мамой что-то происходит и она вдруг становится очень активной. И тогда с утра до вечера все ее внимание сосредоточено исключительно на Наде. А значит, приходится терпеть книги с яркими, как из дурного сна, картинками, удушливые болезненные объятия и всплески гнева, от которых в районе солнечного сплетения всегда возникает липкий и холодный сгусток.
— Не хочешь просить йогурт — тогда ешь, что дают, — говорит мама и снова придвигает к Наде тарелку. Отрезает своем ножом кусок сосиски, сует Наде в рот. Кусок соприкасался с пюре и немного им перемазан. Это совсем плохо.
Надя морщится и машинально жует. В голове, как назло, возникает образ соседки Аллы Владимировны, с которой они накануне столкнулись в лифте. Молча ехали вместе на пятый этаж. От соседки густо пахло одеколоном, а на голове у нее, как всегда, был двухэтажный ярко-рыжий начес. Надя вспоминает ее сероватую пористую кожу, рыхлые груди в глубоком вырезе джемпера, под расстегнутым пальто. Надя, конечно, ничего не имеет против Аллы Владимировны. Но сосиска такая же рыхлая, разваренная, сероватая. И Алла Владимировна прорывается из желудка, подкатывает к зубам и выплескивается наружу.
— Ну вот еще! — кричит мама и вскакивает со стула. — Только этого и не хватало. Думаешь, я за тобой убирать буду? Да ни за что! Будешь жрать свою блевотину!
Надя больше не может терпеть. Резко тянет за край скатерти, и все, что есть на столе, с грохотом летит вниз. Звон бьющейся посуды — острый, долгий, оглушительный. Кажется, что все разбивается не на полу, а у Нади внутри. Разлетается на множество осколков, расплывается по сосудам. Надя убегает к себе в комнату. Поскорее скрыться, спрятаться, отдышаться.
А сквозь приоткрытые двери неумолимо продолжают течь голоса:
— Да что же это такое, в конце-то концов! Ни одного вечера спокойно не провести. Все только хуже и хуже с каждым месяцем, — говорит папа.
— Да? Тебе вечер спокойно не провести? А я, между прочим, с ней целыми днями сижу. И знаешь, не жалуюсь.
— Это ты хотела детей. Вот, пожалуйста.
— А я знала, наверное, что она такой родится? Если ты забыл, я из-за нее работу бросила! Потому что ее ни в какой детский сад не берут и не возьмут никогда.
— О да, сочувствую. Тебе пришлось бросить блестящую карьеру консультанта обувного магазина. Какая потеря!
Надя ложится на спину, на ковер, ровно посередине, не вылезая ни на сантиметр за границы центрального бежевого квадрата. Вокруг во все стороны расходятся красно-коричневые пыльные ромбы, овалы, виньетки. Надя смотрит наверх, на незажженный скелет люстры. Осколки от разбитой посуды потихоньку размякают внутри, теряют острые углы, растворяются.
— Да, карьера, какая есть! Ты же вот небось не хочешь бросать свою ради того, чтобы с дочерью сидеть? Не хочешь ведь?
— Да я уже давно бросил свою настоящую карьеру, свое призвание, свое творчество. Бросил, чтобы торчать с утра до вечера в этом идиотском офисе, в угоду тебе и твоей мамаше, чтобы обеспечивать умственно отсталую дочь. И даже вечером, у себя дома, я не могу расслабиться и отдохнуть.
— Представляешь, я тоже не могу расслабиться и отдохнуть!
— Послушай, Марина, я устал. Так больше не может продолжаться. Я хочу выбраться из этого ада, вздохнуть свободно.
— И что? Хочешь развестись? Прекрасно, давай разведемся. Только не думай, пожалуйста, что после развода ты начнешь новую легкую жизнь с чистого лица, с новой молодой пассией, а весь этот кошмар оставишь мне. Не надейся, что я оставлю дочь у себя и дам тебе свободно вздохнуть, как ты говоришь. Да, и не смотри так.
— Да ты просто не в себе.
— Я подам в суд и добьюсь совместной опеки над ребенком с поочередным проживанием. Неделю у тебя, неделю у меня. Мы оба родители, оба несем ответственность. А что ты думал?
— Я думал, что ты вообще-то мать.
— И что? Мне не восемьдесят лет, я тоже собираюсь устраивать свою личную жизнь.
Родители еще долго ругаются, еще долго «не в себе». А Надя сжимается внутри бежевого квадрата. Если они разведутся, значит, наступят перемены. Все перестроится, все пойдет не так, как раньше. Привычный уклад жизни нарушится. Где-то глубоко внутри на Надю набегает пенистая тревожная волна. Как в «Синем страхе», фильме про море. Волна вздувается, опадает, ползет обратно и набегает снова. Все тяжелее, все соленей, все больше оставляет скользких густых водорослей на сердце. Надя начинает вспоминать имена актеров, реплики из первой сцены — в порту, реплики из второй сцены — дома у главного героя, Эдриана, реплики из третьей сцены — на заводе по производству рыбных консервов. На Надином окне занавески красные и блестящие, словно промасленные, словно томатный соус в консервных банках из фильма. И Надя помнит, что в итоге этот соус оказался человеческой кровью. В голове всплывают реплики из предпоследней сцены. Но фильм совсем не пугает: пугают предстоящие перемены, падение в неизвестность. Надя лежит неподвижно, прижав колени к груди. От волнения закусывает изнутри щеку, вгрызается зубами в себя саму. Кусает себя долго, пока не чувствует солоноватое тепло крови. Тогда принимается за другую щеку. Надя вжата в пол, впечатана в комнату — все равно что в консервную банку. Будто полностью отрезанная от мира, утрамбованная, упакованная, она томится в собственном кровянистом соку.
Перемены
Но перемены наступают не сразу. Еще полгода все остается на привычных местах. Новое течение не врывается в жизнь, не сносит своим напором вещи, закрепившиеся вокруг Нади. Все они мирно дремлют в сладковатой и теплой толще застоявшейся воды. И эта толща надежно защищает Надю от огромного и неизвестного мира, где все хаотично и возможные ситуации никем и нигде не прописаны.
Снег постепенно темнеет и сходит с земли. Липы и клены рядом с детской площадкой покрываются хрупкой чахоточной листвой, верх двора затягивается зеленым. Каждый день Надя с мамой ходят на детскую площадку, где есть качели с облупившейся синей краской и ржавые горки. Иногда на площадке резвятся дети, а иногда вместо детей гуляет рыжий кот на трех лапах. Кот неуклюжий, хилый, болезненный — как Надя. Мама всегда садится на скамейку рядом с горкой и сразу достает свой телефон. Долго-долго смотрит на экран. То начинает часто моргать, то приоткрывает рот — непонятно, что это значит. Бывает, что улыбается, но довольно редко. А Надя никогда не идет играть с другими детьми и не забирается на качели, даже если те свободны. Все время, пока мама смотрит в телефон, Надя катает по кругу кусок ржавой ребристой трубы, оставленный кем-то на площадке пару лет назад. Или сковыривает с деревьев лохмотья трухлявой коры. Измельчает их в крошку и рассыпает над лужами, представляя, что это развеянный над океаном прах Фернанды Сантос из сериала «Холод страсти». Иногда гладит рыжего кота.
Потом они возвращаются с прогулки. У подъезда неизменно стоят несколько мешков с мусором, и Надя с мамой аккуратно их обходят. Если нельзя обойти — перешагивают. В подъезде всегда крепкий слоистый запах и стены цвета жеваной резинки. В каких-то местах кожа стен из жеваной резинки осыпалась и выглядывает темно-красное стеночное мясо. Надя не застала времен, когда стены были полностью «мясными», темно-красными. На полу под почтовыми ящиками разбросаны яркие рекламные листовки. Мама всегда ругается, когда их видит, а Наде они нравятся. Словно идешь по ковру из осыпавшихся осенних листьев.
В лифте и на лестнице чаще всего пусто, но иногда встречаются соседи, например усатый Павел Сергеевич с большой собакой, похожей на него самого — и усами, и мутным выражением глаз. Из-за них в лифте периодически пахнет мокрой псиной. А на лестничных площадках почти всегда разбиты лампочки, но с Павлом Сергеичем это, скорее всего, никак не связано.
Дома у Нади есть любимые игрушки. Например, батарейки. Надя выкладывает старые батарейки в ряд. Сначала идут самые толстые бочонки — от часов и сломанного будильника, затем средние пальчиковые — от компьютерной мыши и пульта, и наконец мизинчиковые — от фонарика. Всего двадцать четыре, и запасы постоянно пополняются. Еще Надя любит вырезать из бумаги ромбы и овалы — чтобы были по размеру как ромбы и овалы на ковре и точно на них накладывались. Чтобы белые бумажные фигуры закрывали собой ворсистые красно-коричневые. Правда, ровно вырезать никогда не получается: тяжелые ржавые ножницы не слушаются Надиных рук, без конца выскальзывают, упрямо отклоняются от намеченных линий. А мама вообще говорит, что у Нади руки растут не из того места. Но Надя очень старается. В детском саду ее как-то заставили вырезать вместе с другими детьми из бумаги снежинки, и это было настоящей пыткой. А вот вырезать ромбы и овалы приятно и увлекательно.
По вечерам Надя смотрит с мамой телевизор. Садится в уголке гостиной, поджав под себя одну ногу, на старый бордовый диван с оголенными пружинными нервами. Больше всего Надя любит сериалы — особенно начальные и конечные титры. Во время серий в основном разглядывает лица актеров на заднем плане — не важных, массовочных персонажей, выброшенных на периферию сцен.
А главное удовольствие — это забраться с ногами на подоконник своей комнаты и смотреть вниз, на протекающую улицу. Или перед собой — на годами не мытые подслеповатые прямоугольники окон, которые к вечеру наполняются разноцветным теплом. Смотреть в окно — это ритуал, от которого невозможно отказаться. Надя забирается на подоконник в двенадцать, в пятнадцать десять, в семнадцать тридцать и в восемнадцать сорок. У других тоже есть свои ритуалы: например, в семь вечера в доме напротив на балкон выходит мужчина в трениках и желтом свитере. Три минуты он курит, затем бросает окурок вниз и неизменно плюет ему вслед. Однажды мужчина не выходил на балкон целых четыре дня, и Надя все это время сильно тревожилась. Даже болела. Словно длинная скользкая змея развернулась, расплелась у Нади за ребрами, поползла к горлу и там застряла. И только когда мужчина вновь показался на балконе в положенный час, змея исчезла. Надя сидела в тот вечер на подоконнике легкая и свободная. Ей казалось, что волшебное, нездешнее спокойствие густо разлито в воздухе. Как зачарованная, Надя неподвижно смотрела на мужчину все три минуты, а тот — как зачарованный — неподвижно смотрел куда-то в пространство. Будто оба медленно проваливались в один и тот же застывший сон. И все было хорошо, все на своих местах.
В Надину комнату часто заходит мама. Пытается расшевелить, разговорить, превратить в «нормального ребенка». Каждый раз словно пытается вытянуть Надю из тела, с кровью оторвать от нутра. Это, конечно, не очень приятно, но тоже стало частью рутины. Пустило корни в привычный распорядок дня. И Наде уже не представить свою жизнь без ежедневных маминых тормошений.
Перемен избегает не только Надя, а, похоже, многие. Например, соседи из коммуналки на первом этаже, которые не хотят расселяться, хотя папа сказал, что «этим долбоебам давно предлагают отдельные жилплощади». Или вот мамина подруга тетя Ира. Полгода назад она приходила в гости жаловаться на жизнь. И вот сейчас Наде кажется, что ее безупречная память, дословно сохранившая разговор полугодичной давности, по капле просачивается на поверхность реальности. Тетя Ира сидит на том же стуле, точно так же подперев подбородок. Говорит хрипловатым низким голосом, немного шуршащим, словно оседающие в коридоре пластиковые пакеты. Надя играет в батарейки на кухонном полу, в метре от ее небритых икр, затянутых прозрачными колготками. По левой ноге — как и полгода назад — бежит тоненькая стрелка.
Тетя Ира плачется Надиной маме:
— Я просто уже больше не могу. За копейки сидеть в этом гадюшнике, бумажки выдавать, это вообще нормально? Еще и постоянно со всякими уродами общаться. На днях вон явился чурка престарелый, устроил скандал, типа чего это ему разрешение на работу не хотят продлевать. Действительно, чего это? Да потому что, блядь, у тебя регистрация уже месяц как просрочена и миграционка фиг знает где. Его вообще пора гнать давно в три шеи. А он еще права качает и чуть ли не угрожает мне.
— Ириш, может, уйдешь уже наконец оттуда?
— А куда? В поликлинику, в регистратуру?
— А на хрена тебе вообще эти гребаные госучреждения? Неужели не устроиться в частную контору?
Надя поднимает глаза. Тетя Ира — как и тогда — похожа на несвежую зеленовато-серую рыбину. Острые скулы, острый нос, постоянно выпученные глаза. Когда тетя Ира молчит и слушает маму, ее рот беззвучно приоткрывается.
— Не, ну правда, — продолжает мама. — Сейчас, по-моему, столько предложений. Вообще где угодно можно найти. С нормальной зарплатой.
— Ага, и вкалывать по двенадцать часов. Нет уж, спасибо. У нас хоть расписание божеское: отсидел свои положенные часы и свободен. Да и вообще… Я привыкла уже как-то. Всегда горячий чай, кофе, девочки печенюшки вкусные приносят. Магазин в соседнем здании, если сигареты закончились. И у нас дворик для перекуров симпатичный. Да и работа сама не такая уж кошмарная, это я преувеличиваю.
— Ну да. Всяко лучше, чем дома сидеть с умственно отсталым ребенком.
Тетя Ира допивает резким глотком вино, поворачивается к Наде и бордовыми губами улыбается ей. Улыбка выходит приторной, свекольно-паточной.
— Ты так и не говоришь, детка?
Надя морщится. Ее будто макнули в густую свекольную патоку с головой.
— Не говорит она, нет. Я уже рукой махнула. Ладно, не обращай ты на нее внимания. Пусть играет в свои батарейки, строит из них замки или что там еще. Ты лучше скажи мне, как у вас с Гришей? Лучше не стало?
Тетя Ира наливает себе еще вина.
— А с чего должно становиться лучше? Нет, конечно. Вчера вон пришел опять за полночь. Прошел на кухню, достал пиво из холодильника, на меня ноль внимания. Как будто я вообще не существую. Смотрит в свой телефон, посмеивается вполголоса. Я к нему подхожу, говорю: «Я что, прозрачная?» А он тут же кривится, убирает телефон и такой мне заявляет: «Слушай, Ира, я устал очень. Отстань от меня, пожалуйста». Не, ну нормально вообще? Я как бы тоже устаю, и что дальше?
Монолог полугодичной давности ровно накладывается в Надиной голове на монолог теперешний. Словно белый бумажный ромб на красно-коричневый ворсистый. Две абсолютно идентичные сцены.
— Да, знакомая картина. Тебе давно пора уже от него уходить, как и мне от Вадика. Только вот мне не к кому, а у тебя же вроде намечался какой-то ухажер? Разве нет? Ты же мне рассказывала, тот самый, из налоговой, как его?
Надя помнит про ухажера из налоговой. Его зовут Этот.
— А, этот… — тетя Ира машет рукой. — Ну есть такой. Но уходить к нему — это как-то слишком. Да он и не предлагал. И вообще… вдруг этот еще хуже окажется? Вполне возможно, кстати. Не зря же от него бывшая ушла с двумя детьми. К тому же у него с жилплощадью проблемы. Ну а Гришу я уже почти пятнадцать лет знаю.
Тетя Ира пьет без остановки и повторяет знакомые фразы. К концу вечера ее острые рыбьи черты слегка обмякают, подтаивают, словно полежавшее в тепле мороженое. Выпученные глаза потихоньку вдавливаются обратно в орбиты и теперь напоминают красноватые блестящие пуговицы. Как на мамином демисезонном пальто.
— Ничего, пусть все останется так, как есть. Правда, Мариш? Как-то дотянули до сих пор, протянем и дальше, — хрипло говорит она и роняет крупную слезу в остатки салата «Мимоза с сайрой».
Надя согласна с тетей Ирой. Пусть все останется как есть. И поэтому Надя рада, что приходящее лето — так же, как и весна — не приносит с собой перемен.
Июнь такой же, как в прошлом году. На детской площадке все больше подтеков от пива: иногда они высохшие, а иногда совсем свежие. Нередко валяются пустые жестяные банки — Надя с удовольствием катает их по кругу вместо ребристой трубы. Они гораздо легче и звонче. Мужчина из дома напротив — тот самый, что курит на балконе в семь вечера, — сменил желтый свитер на белую майку с большой дырой на животе. Как в прошлом июне. А Надина теплая куртка сменилась на легкую фиолетовую ветровку. Втискивая в нее неповоротливое, словно закаменевшее Надино тело, мама каждый раз раздраженно произносит: «Эй, проснись!»
А бамперы и капоты машин все гуще покрываются трупами мошек и комаров. Нередко среди этой серой трупной массы возникают и цветные пятна бабочек. Глядя на них, Надя всегда представляет, что эти бабочки не случайно впечатались в летящую поперек их пути железную смерть, а сознательно покончили с собой, умышленно бросились на машину. Как Энни и Коул из сериала «Невспомненные» (в ролях Оливия Диас и Норвуд Ли). Надя может остановиться на улице и подолгу смотреть на размазанные по капоту или лобовому стеклу яркие крылья. Даже разозленной маме, кричащей и больно дергающей за руку, не под силу сдвинуть Надю с места в такие моменты. Надя стоит и рисует в голове последний момент жизни бабочки. Этот момент густеет, набухает, растягивается до бесконечности в тревожно-синем ветреном блеске. Как иной раз бывает во сне. Наливается предчувствием неизбежной боли. Бабочки очень хрупкие, к ним вообще нельзя прикасаться, даже слегка… Но ведь эта сама захотела болезненной смерти, думает Надя. Хотя неболезненного способа умереть для нее, наверное, не существует.
Надя не уходит до тех пор, пока все ее ощущения сами не становятся хрупкими, как крылья бабочки.
Родители продолжают ругаться, но это в порядке вещей. Лишь бы их ссоры не перелились через край. Закусив губу или щеку, Надя смотрит в окно, на экран телевизора, в себя. Ходит на детскую площадку, где катает пивные банки. Под шумными детьми все громче скрипят качели, и в этом скрипе Наде слышатся слова. В основном имена. Например, Дженис. Джееенис, Джееенис, Джееенис. Дженис умерла от рака в позапрошлой серии.
Перемены приходят только в самом конце августа. Около недели назад в доме сломался лифт, и целый день все ходили вверх и вниз пешком. Надя с мамой тоже. Возвращаясь с прогулки, они поднимались по лестнице и заметили, что у двадцать третьей квартиры стоят люди в форме — молодой и постарше. Мама остановилась посмотреть, и Надя вместе с ней. А две минуты спустя из квартиры на носилках вынесли два маленьких тела, накрытые простынями. От носилок шел удушливый запах. На лестничной площадке тут же откуда ни возьмись появились соседи: старушка, похожая на мертвую муху, два сухощавых парня, которых до этого Надя видела всего один раз, и Алла Владимировна. Обращаясь к людям в форме, Алла Владимировна сильно кривила свой жабий рот и сводила брови-ниточки:
— Ну так нам-то откуда было знать? Мы что, следим за ними?
— Их больше месяца назад машина сбила. За это время могли бы и заметить что-то, — сухо ответил человек в форме — тот, что постарше, — и странно оскалился. У него не хватало одного зуба, и его рот напоминал мамину серо-бежевую расческу с отломанным зубцом.
Его молодой напарник что-то строчил, не отрываясь, в своем блокноте.
— Да мы не общались с ними вообще, — продолжала Алла Владимировна. — Они и по-русски-то с трудом говорили. Неудивительно, что без регистрации.
— Но вы были в курсе, что у них есть маленькие дети?
— Ну видели пару раз… И что из этого? Мы же не знали, что их в квартире одних оставили.
— Что из этого, что из этого… Если бы ближайшие соседи из-за запаха не позвонили, так бы и не выяснили никогда.
После этого мама потянула Надю за руку, наверх.
В течение следующей недели Надя еще глубже проваливалась в себя. Без конца вспоминала прошедший месяц. Что она делала, например, две недели, три дня и шесть часов назад? А три недели, один день и восемь часов назад? Раскладывала батарейки? Смотрела в окно? Сидела в остывшей ванне с остатками пены и ждала, когда мама закончит говорить по телефону и вытрет ее полотенцем? Надя ложилась на ковер, вжималась спиной в пол, словно прорастала в перекрытия, становилась частью дома, всеми нижележащими этажами. Четвертым, третьим, вторым… Растекалась по трубам, по рисунчатым обоям, по старой чужой мебели. Мысленно собирала внутри себя все квартиры.
Еще Надя всю неделю плохо спала. С ней такое случалось и раньше, причем довольно часто. Но раньше она переносила бессонницу молча. Тихонько покусывала щеку, уставившись в темноту. В темноту свою и темноту комнаты. Мысленно соединяла половинки узора на стенах: те разъехались вверх и вниз из-за несостыкованных обойных полос. Но тут носилки из двадцать третьей квартиры будто вынесли Надю из беззвучной ночной темноты — сами собой, без помощи санитаров. Надя стала скулить, сначала вполголоса, хлопая себя по щекам липкими от пота ладонями. До утра ворочалась в мятой влажной постели. А ее все несли и несли, бесконечно выносили из молчания, из спокойствия собственного тела. И Надя скулила все громче, все сильнее хлопала себя по щекам. А вчерашней ночью закричала. Густые утробные звуки вылетали из Надиного горла, словно подгоняемые потоком крови — не своей, теплой, а чей-то чужой, остывшей, непонятно как оказавшейся в Надином теле.
В комнате по очереди появились родители. Зажгли свет и посмотрели на Надю заспанными красными глазами. Надя тут же замолчала, до боли впившись неостриженными ногтями в мякоть щек.
— Ну что опять устраиваешь? — сдавленным раздраженным голосом сказала мама.
Надя закрыла глаза, и за веками разлилось красное воспаленное тепло, смешавшись с отпечатанным светом люстры.
— Сказать ничего не можешь, только вопить умеешь, да? По ночам особенно. Ты слышишь меня, дрянь такая?
Мама злилась сильнее, чем обычно. Приоткрыв глаза, Надя смотрела на ее закаменевшее лицо. Внутри Нади все быстро соскальзывало в засасывающую воронку тревожной пустоты. Откуда-то снизу из этой пустоты ударяло сердце, отскакивало и ударяло с удвоенной силой. Пятьдесят, сорок девять, сорок восемь…
— Ну и что с тобой делать? Вот что делать, сейчас-то? Я, конечно, сама виновата, потому что делать что-то надо было раньше, несколько лет назад. В первом триместре беременности.
Тут молчащий до сих пор папа с силой ударил кулаком о стену, как раз по несостыкованному узору.
— Да что ж такое! Теперь и поспать нормально нельзя. Мне завтра на работу вставать в шесть утра. Все, с меня хватит. Больше не могу. Я человек в конце концов, а не робот. Я ухожу из этого ада.
Тут вдруг каменные черты маминого лица словно ожили и странно растянулись. Мама резко села на Надину кровать, схватила Надю за плечо и потянула к себе. От сильного рывка в глазах потемнело. Мама прижала ее голову к своей груди, от которой пахло табаком. Стало больно, но Надя не сопротивлялась. Она словно целиком была проглочена ужасом, заперта внутри прозрачной ледяной неподвижности. Надя не могла даже думать. Мысли тоже беспомощно застыли, примерзли друг к другу. А мама принялась порывисто гладить Надю по голове, еще больше растрепывая ей волосы.
— Пожалуйста, уходи, раз хочешь. Никто тебя не держит. Вот прямо сейчас собери вещи и проваливай. Оставь нас на произвол судьбы — меня и больную дочь. Спать ему, видите ли, мешают. Ничего, мы справимся и без тебя, да, доченька? Не переживай, Надюш, мы справимся. А ты иди. Убирайся. Я свою дочь не брошу, буду растить ее в одиночку.
Но мама не стала растить Надю в одиночку. И вот сейчас в непривычно опустевшей Надиной комнате стоит бабушка, и мама вручает ей большую дорожную сумку.
— Вот, мам, пожалуйста. Ты, кажется, хотела сделать из нее человека — так у тебя появился шанс.
Бабушка молча берет сумку и сжимает Надину ладонь. Наде так страшно, что она не ощущает своего тела. Будто ее сорвали с ветки, как сливу, разорвали пополам и вытащили косточку. Осталась бесчувственная мякоть — бесформенная, не согретая жизнью.
Когда они с бабушкой спускаются по лестнице, Надя ведет пальцами по стенам. Неотрывно смотрит, как от ее прикосновения со стен желтоватой перхотью осыпаются чешуйки. Приоткрывают предыдущий, темно-красный слой. Изначальная краска потихоньку отвоевывает назад свою территорию. Когда-нибудь стены снова станут полностью темно-красными, но Надя этого уже не увидит.
— Хватит грязь собирать! — говорит бабушка.
А мама так не говорила. Она обычно смотрела в свой телефон и не замечала, что Надя трогает стены.
По дороге к автобусной остановке Надя без конца оборачивается, смотрит на такие привычные и родные пакеты с мусором, выстроенные в идеально ровный ряд у двери. Больше их не будет. А что будет взамен? Надя пытается представить свою новую жизнь, но ничего не получается. Мысли бегут и с разбега налетают на ослепительно белую пустоту. Наталкиваются на абсолютную стерильность. Почти такую же, как в белоснежном шкафчике процедурного кабинета поликлиники. Поликлиника, кстати, тоже, возможно, будет другой.
Надя с бабушкой молча идут по вечереющей летней улице. Прошел дождь, и в воздухе резко пахнет то ли свежестью, то ли осенне-грибной прелью. Улица мокрая, залита светом фар и оттого похожа на облизанный леденец. Или просто мокрый. В памяти всплывают леденцы в виде сердечек, выданные в детском саду на чей-то день рождения. Кажется, на день рождения той рыжей девочки, которой Надя наступила на руку. Надя тогда представила, что это вырванные сердца замерзших в пруду уток, и, перед тем как съесть свой леденец, долго отогревала его под струей горячей воды.
Во рту становится сладко, тепло, и страх немного отступает.
Первое слово
На новом месте, как и следовало ожидать, все было по-другому. Этаж был вторым, окна выходили не на жилой девятиэтажный дом, а на одиноко стоящую маленькую «Пятерочку», приютившую под своим крылышком аптеку. Использованных батареек в квартире не оказалось вовсе: их сразу же выбрасывали; а освежитель воздуха был не сосновый, а лимонный. Еще был дядя Олег, мамин брат. Ему уже исполнилось тридцать два года, но жить отдельно он не собирался. Его лицо казалось совсем детским: молочно-белое, с красным прыщиком на носу. Вечно растрепанные волосы были пшеничного цвета. Огромные глаза — ореховыми. Как у детсадовского мальчика Гриши, который однажды описался во время тихого часа. Дядя Олег работал удаленно — фрилансером-программистом, как он сам себя однажды назвал, разговаривая с кем-то по телефону. Или вольным копейщиком, как называла его бабушка. Целыми днями он сидел за компьютером. Проходя мимо его комнаты, Надя всякий раз незаметно заглядывала внутрь через приоткрытую дверь. На мониторе компьютера виднелись то стреляющие монстры, то голые женщины.
— Олежка, приходи кушать, — говорила каждый вечер бабушка.
Но Олежка никогда не шел, не отрывался от работы, и бабушка приносила ему ужин в комнату. Днем, когда бабушка была на работе, дяде Олегу приходилось самому добывать себе пропитание. И на его столе рядом с компьютером появлялись разведенный «Доширак» или банка консервированной кукурузы. Вечером при виде этих яств бабушка неизменно всплескивала руками:
— Олежка, ну как так можно! Ты же желудок себе испортишь. Женить тебя надо, а то я вот помру, и кто за тобой ухаживать будет?
— Мама, хватит уже, — лениво отмахивался дядя Олег, не отрывая глаз от монитора.
— А что хватит? Что хватит? Ты даже стиральную машину не в состоянии включить. На, возьми яблочко: хоть витаминов немного получишь.
Дядя Олег не любил яблочки. С раздраженным видом откусывал и клал на стол. Яблоко так и оставалось лежать целые сутки рядом с компьютером: с одной стороны гладкое, налитое медовой полупрозрачностью; с другой — раненое, изувеченное, с разорванным бочком, покрытым коричневатой кровью. Как нарисованное яблочко на крышке ноутбука.
Когда бабушка привела Надю в дом, дядя Олег совсем не обрадовался.
— А мы-то тут при чем? — тягуче-гнусавым голосом говорил он. Страдальчески сводил при этом брови. — Ну, ушел от нее Вадик, и что дальше? Правильно сделал, между прочим. Нечего было ему мозг выносить. И вообще пусть сами решают проблемы со своими отпрысками.
— Олеж, ну как ты можешь?! Это же родная кровь!
— Родная кровь… Сказал бы я. И что, мне теперь следить за ней, пока ты на работе? У меня вообще-то тоже работа, если ты забыла. И нянькой наниматься я не собираюсь.
— Я постараюсь пораньше приходить. Договорюсь с Антониной Илларионовной. Свой восьмой «Б» Любе отдам. Не переживай, Олеж.
Дядя Олег прикрыл глаза и застонал.
— Пусть только молчит и не смеет ко мне лезть со всякими мультфильмами и тупыми играми.
— Олеж, так она и так все время молчит. Забыл, что ли?
— Ах, ну да. Она же еще и инвалид.
Впрочем, довольно скоро дядя Олег смирился с присутствием Нади. По крайней мере перестал жаловаться бабушке. Практически целыми днями Надя сидела в своей комнате, он — в своей. А если кому-нибудь случалось выйти в коридор, то зеленый пушистый ковер бесшумно проглатывал шаги. Две жизни, втиснутые в небольшое квартирное пространство, почти не пересекались. Надя никогда не подходила к дяде Олегу, а дядя Олег не подходил к Наде. И только с возвращением бабушки плотное молчание квартиры прорывалось.
— Ну как вы тут, мирно живете? — спрашивала она, распахивая настежь все двери. Словно морозный вихрь, врывалась в стоячий комнатный воздух. У Нади даже слипались ноздри, как на настоящем морозе.
— Нормально все, — бурчал в ответ дядя Олег.
— Ну вот видишь, Олеж. Я же говорила, что Надюша тебя не потревожит.
— Ну, допустим.
— Ты суп вчерашний разогревал?
— Нет, мам, я консервов поел.
— Консервов он поел. А Надю покормил?
— Да она как-то сама вроде бы там кормится.
— Эх, ничего вы без меня не можете. Ладно, мойте руки.
К новой комнате Надя привыкала довольно долго. Бабушка говорила, что когда-то эта комната была маминой. Видимо, очень давно. Потому что никаких маминых следов здесь не обнаружилось. И табачного запаха совсем не ощущалось, даже легкого.
Надя раскладывала повсюду красочные книжки, которые мама положила ей в дорожную сумку. Ни разу их не открывала, но немного успокаивалась, видя в чужой обстановке знакомые предметы. Обои на новом месте были, как и в родительской квартире, цветастые, но все узоры оказались состыкованными. На одной стене пестрели любительские акварельки — подарок какой-то бабушкиной ученицы; с другой на Надю удивленными квадратными глазами таращилась кружевная сова в рамке. Еще была черно-белая бумажная гравюра: худая женщина с вытянутым лицом и хищным взглядом. Надя очень боялась ее: чудилось, что по ночам та оживает, и глаза женщины наливаются колючим ледяным светом. Снять гравюру у Нади не получилось, и на шестой день она заштриховала угрожающее лицо жирным черным карандашом. Но это не помогло. Надя чувствовала, что сквозь крошечные, невидимые глазу прорехи в черной штриховке женщина продолжает за ней наблюдать. Смотрит из укрытия, из-под покрова черноты. И тогда Надя плеснула на гравюру кока-колой, тайком взятой из холодильника. Пятно мгновенно растеклось и впиталось в бумагу, не оставив хищному взгляду ни единого шанса.
— Ну что ж ты у меня за горе-ребенок! — сказала на следующий день бабушка.
А затем убрала гравюру и положила ее в шкаф под книги. Надя была этому очень рада, потому что из-под тяжелых томов женщина, тем более ослепшая от кока-колы, вряд ли сможет выбраться.
По ночам Надя не кричала и не скулила. Но спала очень плохо — особенно в первые две недели. Напряженно вглядывалась в непривычные очертания комнаты. Сознание постоянно опрокидывалось вспять, летело обратно в родительскую квартиру.
Сейчас Надя тоже не спит. Все представляет, как они там сейчас, без нее, — узорчатые стены ее родной комнаты. Она лежит здесь, в новом доме, в новой постели, а они существуют там сами по себе, смотрят друг на друга в тишине. В абсолютной тишине. Хотя нет, не в абсолютной: коридорные часы, наверное, по-прежнему тикают. Стены смотрят из глубины себя, смотрят, молчат и… существуют. Или уже и не существуют? И правда, зачем им существовать без Нади? Тогда, когда Надя их не видит? Но мама ведь существует без Нади. И, возможно, сейчас пьет вино с тетей Ирой или кем-то еще из подруг.
Сон долго не покрывает полностью Надино сознание — в последний момент разламывается и плавает по поверхности отдельными кусками, словно льдины по реке, а Надя как будто смотрит в пространство между ними, снизу вверх, из черной водянистой глубины. Только к утру удается покрыться сплошным слоем сновидения. И слой этот тонкий, хрупкий и насквозь пропитан кошмарами.
Но проходит месяц, и Надя начинает привыкать. Начинает строить новый уютный мир вокруг себя, с новыми атрибутами. Напротив больше нет балконов и курящего в семь вечера мужчины, зато есть старушка, которая приходит в «Пятерочку» за покупками по вторникам и пятницам в четырнадцать двадцать. Со второго этажа неплохо можно разглядеть ее болотно-зеленый плащ и серый берет, из-под которого торчат жесткие волосы с проседью. А в восемь вечера мимо «Пятерочки» каждый день проходит парень с коричневым лабрадором.
Сентябрь в этот раз дождливый, и окно часто в мелких каплях — словно покрыто бисером. Аптека напротив зажимается мокрыми стеклами, и когда кто-то открывает или закрывает ее двери, кажется, будто она зябко вздрагивает во сне. Ее зеленый неоновый крест влажно светится и стекает в асфальт. Надя думает, что он гораздо красивее, чем новогодняя елка, которой ее мучили прошлой зимой, заставляя терпеть прикосновения пьяного Деда Мороза.
Вместо батареек Надя теперь сортирует старые пуговицы. Их у бабушки оказалось много — на целых три жестяные коробки из-под конфет. Круглые, квадратные, прямоугольные, овальные, красные, оранжевые, черные, зеленые, металлические, костяные, деревянные, пластмассовые. Надя раскладывает их изо дня в день, классифицируя по форме, цвету, материалу, размеру. Одну пуговицу — овальную, с ушком — Надя всегда оставляет в стороне. Представляет, что эта пуговица — она сама, лежащая особняком вдали от всех. Вдали от строев, колонн, шеренг.
Иногда бабушка отбирает у Нади пуговицы и ставит коробки на самую высокую полку шкафа. Тогда Надя принимается за столовые приборы. Разделяет суповые, десертные, чайные и кофейные ложки. У бабушки, видимо, плохо со зрением: она вечно их путает и кладет не в те отделения ящика.
Бабушка, как и обещала, постоянно пытается сделать из Нади человека. Гораздо чаще, чем мама. Подносит к лицу книжки и картинки, как будто в них есть что-то большее, чем в других вещах; что-то такое, что заставит Надю прервать молчание. Бабушка трясет ее за плечо, заглядывает в рот в ожидании слов. Смотрит так отчаянно, словно готова выковыривать эти самые слова с мясом из Надиного горла. А не сумев пробиться сквозь стенку немоты, вздыхает и садится проверять тетради. При этом вполголоса ругается.
Надя страдает от бабушкиных попыток ее растормошить. Зато радуется, что дядя Олег вообще ее не трогает, а сидит в своей комнате перед монитором и молча ест «Доширак». Дядя Олег для Нади — идеальный мужчина, и если бы можно было выйти замуж за дядю, она обязательно бы это сделала. По крайней мере так она сейчас думает. И, кажется, ее симпатия взаимна: несколько дней назад Надя слышала, как дядя Олег говорил кому-то по телефону: «Девчонка, слава богу, вообще нормальная: не слышно, не видно». Первый раз Надя от кого-то услышала, что она нормальная.
Сериалов, в отличие от мамы, бабушка не смотрит. Развлекательных шоу тоже. Зато часто включает радио, когда проверяет на кухне тетради. В основном слушает новости и передачу о здоровье.
Но позавчера по ее станции передавали Венгерские танцы Брамса в фортепианном исполнении.
Когда из приемника доносился хрипло-скрипучий голос диктора — словно сухими крошками рассыпался, — Надя стояла в коридоре. Думала о разном — ни о чем конкретном. Бесформенные мысли утопали в сознании, проваливались в бездонный внутренний колодец. Взгляд безвольно скользил по ровным обойным узорам. И вдруг из-за закрытой кухонной двери полилась музыка. Надя тут же почувствовала, что у ее внутреннего колодца вдруг возникло дно и падение мыслей прекратилось. Почувствовала и то, как ее собственный взгляд выплыл из пустоты и наткнулся на кухонную дверь. Надя сделала несколько шагов, дернула за ручку, и раскупоренные звуки фортепиано стремительно на нее полетели.
Бабушка вздыхала, слюнявила палец, резко переворачивала страницы. Не поднимала глаз. А Надя, замерев, стояла на пороге кухни, и ноты из приемника все летели на нее. Ноты были похожи на мыльные пузыри, которые однажды незнакомый мальчик пускал во дворе — рядом с ржавой горкой. Вот летят несколько больших, а за ними стайкой — много маленьких и совсем крошечных, еле различимых. Ноты полупрозрачны, округлы, легки. Переливаются в лучистом воздухе. Ноты очень уязвимы: одно неосторожное движение, и они схлопнутся, растают. Поэтому Надя старается не двигаться. Ноты полностью заполнили собой кухню, заполнили Надю. Надя улыбается — впервые в жизни. Бабушка этого не видит: она поглощена «писаниной оболтусов». Надя чувствует, как летящие ноты касаются ее, остаются в ней. И ей кажется, что она сама воздушна, практически невесома. Все Надины чувства обнажаются, становятся такими же уязвимыми, как ноты. И стайкой летят вверх, к кухонному закопченному потолку.
В ту ночь Надя наконец-то хорошо спала. Едва только устроилась под одеялом, как вязкий успокаивающий сон без волнующих видений сразу же утянул ее за собой, в глубь ночи.
А вчера случилось неожиданное. Надя произнесла свое первое слово.
Они с бабушкой редко выходили на улицу: за месяц погуляли всего пять раз — вокруг «Пятерочки» и в лежащем неподалеку сквере. А вот вчера даже поехали на автобусе. Бабушке зачем-то понадобилось отправиться в субботу в РОНО, и она решила взять с собой Надю, «вывести в свет».
— Нужно привыкать бывать среди людей, — сказала бабушка, всовывая деревянные Надины руки в шуршащие рукава ветровки.
Посещение РОНО Надю совсем не впечатлило. Было сиротливое трехэтажное здание, рядом с которым росли кустарники, и среди жирных зелено-желтых листьев блестел пакет из-под чипсов. Были потрескавшиеся стены, гулкий коридор с коричневым паркетом, прочерченным посередине вытоптанной бежевой тропой. Были сосредоточенные хмурые лица, покрытые чешуйками и бородавками. Вот, собственно, и все. Зато обратную поездку на автобусе Надя запомнила навсегда.
Поначалу ничего примечательного не происходило. Автобус летел по незнакомым улицам, надрывно рычал, размашисто вилял на поворотах тяжелым корпусом. Бабушка сидела рядом с Надей, без конца листала со вздохами какие-то бумаги. Утренний дождь закончился, и теперь над коростами плывущих мимо крыш назревало солнце. Нагревало Надино автобусное окно. Надя щурилась, и солнце переливалось между ресницами золотистым топленым медом.
И тут она стала прислушиваться к разговору сидящих впереди. А точнее, разговор как будто сам выплыл из внешнего мира в ее сознание.
— Вот блин! — сказала коротко стриженная красноволосая девушка, нервно потрясая телефоном.
— Что такое? — спросил парень с крепким белобрысым затылком.
— Да маме надо срочно включить мой старый ноут. Ее сломался. Сонькины анализы надо сканировать и врачу отправить этому новому. А я пароля не помню.
— Вообще не помнишь?
— Ну, там было что-то связано с «Синим страхом». Я его как раз тогда посмотрела. Какое-то кодовое слово из записки.
— И?..
— Да не помню, говорю же! Не знаю, что делать. Не пересматривать же теперь весь фильм ради этого слова. Да и времени нет на это. Ты сам-то не знаешь?
— Не, извини, я такую хрень не смотрю.
Надя застыла, приоткрыв рот. Конечно, она знала «Синий страх» наизусть. И слово из записки, полученной Эдрианом на сорок третьей минуте фильма, прекрасно помнила. Это слово тут же собралось в Надиной голове из разноцветных звуков и зависло где-то на краю горла. Будто капля, которая все тяжелеет, набухает, но никак не может упасть.
За окном возникла неподвижная «скорая помощь», припаркованная у подъезда. И двое одетых в белые халаты людей с носилками. Надя не успела разглядеть лежавшего на носилках, но внутренне вздрогнула. Солнечное тепло куда-то делось, и резко подступивший мороз вытянул тысячи крошечных кусочков кожи. Вытянул и с силой перекрутил.
— Проснись, — вдруг сказала Надя.
Очень тихо, но сказала. И тут же опустила голову. Заметила, что к левому сапожку прилип багровый лист. Совсем осенний. Вспомнила, как прошлым летом однажды поехала с родителями за город, на дачу к какому-то папиному другу. У этого друга на участке росла малина, и ее листья зеленели густо и сочно. Время от времени раскрывали жаркому летнему ветру свою бледную изнанку. А потом этот друг умер от передозы, как сказал папа. Надя не знала, что такое передоза.
— Проснись, — повторила она чуть громче и подняла глаза. Мороз начал отступать.
Сидящие впереди парень и девушка повернулись к Наде и удивленно на нее посмотрели. У девушки на брови была сережка, а у парня — маленький шрам на щеке.
— Точняк, «проснись». Спасибо! — сказала девушка после трехсекундной паузы и тут же отвернулась. Полезла в свой телефон.
Надя медленно перевела взгляд на бабушку. Та смотрела застывшим, не моргающим взглядом. Рядом с багровым осенним листком на Надином сапожке лег исписанный лист формата А4, соскользнувший с бабушкиных колен. Бабушка не стала его поднимать.
И вот сейчас Надя сидит на кухне и в четырнадцатый раз за день повторяет свое первое слово. Теперь уже застывшим взглядом на нее смотрит мама, пришедшая в гости по такому невероятному поводу. Пришедшая в гости в первый раз после Надиного переезда.
— Вот видишь! — говорит бабушка. — Я тебе обещала, что человека из нее сделаю? Не прошло и месяца, а она у меня заговорила!
— Как тебе это удалось? — шепчет мама.
— А вот так! Внимание надо ребенку уделять.
— Да я и уделяла…
— Да как же, уделяла она. В телефон пялилась без конца и вино пила с этой своей шалавой. А я с Надюшей занималась — и вот результат! У нее сейчас язык совсем развяжется, так она еще и в школу пойдет, как все дети, и болтать будет без умолку!
Стоящий на пороге кухни дядя Олег закатывает глаза и страдальчески сводит брови:
— Только меня пусть не смеет доставать болтовней! У меня вообще-то работа, если вы забыли.
На краю праздника
Надя не собиралась никого доставать.
Слова и правда вышли из горла в большом количестве. Сначала выходили медленно, друг за другом, а потом хлынули потоком. Вырвались наружу из заточения, разбили своим напором плотную немоту.
Но Надя обращала их в основном к себе самой. Ходила в одиночестве по комнате, садилась на подоконник, ложилась на пол — и говорила вполголоса. Вспоминала титры и реплики из сериалов, правила викторин. Только теперь все знакомые слова оказывались вовне, разлетались за пределами Надиного тела. Периодически Надя вздрагивала, осознавая, что звуки, которые она слышит, исходят от нее. Завернуты в оболочку ее голоса.
Впрочем, иногда Надя разговаривала и с другими людьми — в основном с бабушкой. Но только когда та обращалась к ней сама.
— Надюш, подай мне ту синюю тетрадку, что на мусорном ведре лежит. Этого оболтуса Назарова еще надо проверить, — просит бабушка и прижимает руку к сердцу. — Представляю, что он там понаписал. Сведут они меня в могилу, и кто за вами с Олежкой будет присматривать?
Надя берет тетрадку и внимательно смотрит на обложку. Корявые размашистые буквы выстраиваются в голове и обрастают цветом. Наливаются каждая своей краской. «О» — белая, с темно-зеленой каемкой. «Р» — песочно-желтая. «Л» — ярко-голубая, как летнее небо, разлитое ровно, без прожилок. Еще одна «О», чуть поменьше, и каемка бледнее. «В» — сочно-коричневая, почти янтарная, как яблочное варенье. А если смотреть в целом, то цвет первой буквы главнее всех и чуть смазывает своей белизной цвета остальных.
— Здесь не Назаров, а Орлов, — говорит Надя и кладет тетрадь на стол.
Не отнимая руки от сердца, бабушка резко поднимает голову:
— Так ты читать умеешь?
Конечно, умеет. Надя выучила буквы уже давно. Но не по книжкам, что ей настойчиво совали — сначала мама, потом бабушка. Выучила сама, разглядывая цветные слова из викторины, которая вечером шла по телевизору пестрым журчащим фоном, пока родители ругались или смотрели каждый в свой телефон. Надя скользила взглядом по экрану, по ярким квадратикам с буквами, и слушала закадровый голос. Буквы сходились воедино со звуками и постепенно врастали в сознание. Сначала были накрепко связаны с первичными, викторинными цветами. Но потом стали наполняться другими образами. «М» — золотистая, как мамины волосы. «Л» — лето, синее летнее небо, синяя лейка, которая с мая по август стояла на цветастом подоконнике из дома напротив. «Р» — песочная теплая Ривьера с рекламного плаката недалеко от поликлиники. «Х» — нечто фиолетовое, трупное, потому что именно такими были круги под глазами умирающего Харви из сериала «На краю сна».
А через два дня Надя признаётся, что умеет еще и считать.
Это получается нечаянно. Бабушка опять отняла коробки с пуговицами. Убрала на полку. А Надя на этот раз решила не сдаваться: незаметно подтянула к шкафу трехступенчатую стремянку. Стремянка была тяжелой, но Надя справилась. Пока тащила ее по коридору, неотрывно смотрела на верхнюю ступеньку, где было три ржавых пятна. Наде все казалось, что эти пятна — силуэты вышедших из подъезда в зимний вечер людей. Семьи?. Родители сгорбились от мокрого холодного ветра и разошлись в разные стороны, к краям, а маленькое пятно посередине — это их ребенок, оставшийся у дверей. Не знающий, куда идти.
Надя сумела достать заветные коробки. Но внутри одной из них произошли изменения.
— Здесь было семнадцать маленьких круглых пуговиц. А теперь шестнадцать, — говорит она, дрожащими руками протягивая бабушке открытую коробку.
Недостающая маленькая круглая пуговица нужна позарез. Срочно нужна. Надя уже чувствует где-то в груди пульсирующий жар восходящих слез.
Бабушка растерянно смотрит в коробку несколько секунд.
— Так я ее… дяде Олегу на рубашку пришила. У него оторвалась. Да не расстраивайся ты так, я тебе другую дам… Погоди-ка, а ты что? Уже и считать научилась? Вот молодчина! Я так и знала: со мной ты не пропадешь.
Другую маленькую круглую пуговицу Наде так и не дали. Но это еще не самое страшное. Несколько месяцев спустя умеющую читать и считать Надю записали в школу. В самую обычную школу, для обычных детей. В ту самую, в которой работала бабушка.
В апреле Надю отвели на «собеседование». Бабушка крепко держала за руку и всю дорогу повторяла: «Антонине Илларионовне нужно улыбаться», «хлопать себя по щекам в ее присутствии нельзя». Надя молча тащилась на полшага позади. Чувствовала, как ужас все больше вмерзает в мысли, все дальше утягивает за собой в ледяную скважину. Медленно сжималась в комок.
— И не напрягайся так, — добавила бабушка. — Веди себя естественно. Я сказала, что ты умненькая милая девочка. Не подведи меня.
Утро было свежим, весенним, звенящим птицами и трамваями. По голубизне неба растекались молочные пятна облаков. Бомж из соседнего двора считал монеты рядом с подвальным универмагом. Надя смотрела вокруг, и ей казалось, что она видит все это в последний раз. Что вот-вот у нее все это отнимут. Еще чуть-чуть, и на нее обрушится удар черноты. Возникнет черная воронка и с бульканьем заглотит ее и все происходящее с ней. Как в сериале «На краю сна».
А еще Наде было неприятно, что бабушка держит ее за руку. Мама хватала ее ладонь только в редких случаях — когда Надю нужно было срочно куда-то потянуть. А бабушка поступала так часто. И это ужасно: ведь ладони потеют, и пот двух людей смешивается.
Школьные стены снаружи и изнутри оказались угрюмыми, цвета венозной крови. У Нади однажды брали кровь из вены для каких-то анализов. В поликлиническом кабинете стоял белый шкафчик с пробирками, а рядом — этажерка с уродливыми пластмассовыми игрушками. Пахло лекарствами, хлоркой и тревогой. В школе запаха лекарств не было, но хлорка и тревога ощущались даже сильнее.
Кабинет директрисы — Антонины Илларионовны — оказался на третьем этаже. Когда Надя с бабушкой зашли, она криво улыбнулась и вытянула вперед ладонь с желтоватыми ногтями.
— Ну наконец-то, а мы уж вас заждались! — сказала директриса писклявым занозливым голосом.
— Извините, Антонина Илларионовна, просто Надюша что-то сегодня вдруг занервничала, долго упрямилась, — ответила бабушка.
И после паузы добавила:
— Но вообще она в школу очень хочет.
Антонина Илларионовна была дамой неопределенного возраста. Тучной, желеобразной, похожей на холодец. С мышино-серыми глазами и такого же цвета волосами, гладко зализанными на пробор. Рядом с ней сидела осанистая девушка в кремовой блузке. У девушки были круглые глаза навыкате, словно совсем без век, и плотно сомкнутые тонкие губы.
— Это хорошо, это замечательно! — проверещала директриса.
Надя с бабушкой сели на черную жесткую кушетку. Вокруг было очень много предметов, совсем разных предметов, и они наплывали пестрой массой изо всех углов. Золотые кубки, книги, дипломы, календари с изображением Кремля, тяжело дышащий компьютер, стеклянные фигурки ежиков, лисиц и грибов. Настольная лампа с кисло-зеленым светом, горшки с кактусами, золотой керамический кот, машущий лапой. В первые минуты Надя не прислушивалась к разговору. Смотрела на вещи, сбитые в случайную кучу, нелепые, неприкаянные. Через эту неприкаянность чувствовала с ними родство.
— Но все же… если она такая… особенная… не знаю, как это отразится на ее взаимоотношениях с классом.
Бабушка выпрямилась и сложила руки на коленях. А потом ответила — отрывисто, резко. Говорила так, будто рубила кухонным топориком мясо:
— Я вам на это вот что скажу, Антонина Илларионовна. Особенные тоже бывают разными. Моя Надюша спокойненькая. И очень умная. Проблем с ней не будет. Я вам это обещаю.
— Ну а помните, вы про детский сад тогда рассказывали.
— Там другое совсем. Себе она может больно сделать. Но другим — никогда. Она ни на кого не нападает. Уж что-что, а агрессивность — это не про нее. К тому же с тех пор как я забрала ее у мамани…
Надя снова выпала из разговора. Будто стала погружаться в воду. Голоса директрисы и бабушки скрылись от нее за нарастающей водной толщей. За теплой тьмой застоявшейся тишины. Фразы плавали по кабинету — далекие, бессмысленные — и оседали где-то на стенах, рядом с дипломами и грамотами. Словно пузырьки воздуха на стенках аквариума.
— Ну а ты что, солнышко, нам на это скажешь? — вдруг раскупорился занозливый голос директрисы. — Может, что-нибудь про себя поведаешь?
Надя вздрогнула. Взгляды директрисы и сидящей рядом девушки были устремлены на нее.
— Конечно, поведает. Она очень умненькая девочка, — сказала бабушка и с тревогой посмотрела на Надю.
Но Надя ничего не поведала. Она все еще сидела под толстой ледяной коркой ужаса. Звуки не выходили.
Антонина Илларионовна усмехнулась:
— Ну скажи, солнышко, как тебя зовут? Хочешь ли ты учиться? Что же ты, ни слова нам не подаришь?
Накануне они с бабушкой готовили какую-то речь. Вроде рассказа о себе. И дома Надя неплохо с этим рассказом справилась. Но теперь все слова застряли в горле маленькими и острыми рыбьими косточками — ни сглотнуть, ни выплюнуть.
— Нет? Не хочешь с нами говорить?
Бабушка вздохнула и принялась долго и яростно качать головой. А директриса повернулась к сидящей рядом девушке:
— Ну и что вы об этом думаете?
— Я думаю, что всем надо дать хотя бы один шанс на полноценную жизнь, — торжественно заявила она. И вновь пожала свои тонкие губы.
— Я тоже так думаю. — Директриса вновь обернулась к бабушке: — Но девочка ваша, конечно, очень непростая. Поймите, я беру ее исключительно ради вас, Софья Борисовна. Из уважения к вашему многолетнему труду.
Надя очень переживала все лето, предчувствуя новые перемены — куда более серьезные, чем в прошлый раз. Практически все три месяца проболела. Молча лежала в постели и смотрела в окно — на жаркое густо-синее небо, залитое лучами. Солнце стекало приторным горячим соком, словно перележавший махровый персик. Порой Наде казалось, что ее постель медленно скользит туда, в вышину раскаленного сочащегося небосвода.
Иногда Надя просила бабушку принести ей в комнату радио. Настроить на нужную волну — без передач про воспаление селезенки и артроз тазобедренного сустава. Закрыв глаза, Надя ждала первых аккордов Чайковского, Рахманинова, Шуберта, Листа, Грига. Беззвучно вздыхала, придавленная жаром лета и жаром собственного больного тела. А после — постепенно уединялась в глубине себя, окружала себя высокими прохладными стенами музыки. Надя пряталась в музыке, чтобы весь прочий мир не задевал ни глаз, ни ушей. Чтобы плескался на солнцепеке где-то очень далеко, за пределами мягкой полутьмы нот. Надя не открывала глаз до тех пор, пока голос диктора не прорывался в ее уединение. Или пока радиопомехи не начинали скворчать, как масло на сковороде, вытягивая Надю наружу, в болезненное летнее пекло.
Осенью началась новая жизнь. И эта жизнь поначалу была невыносимой. Школа оказалась огромным несмолкаемым человечником. Гораздо более шумным и многолюдным, чем детский сад. Повсюду кричали, толкались, двигали стулья. В столовой с грохотом кидали грязные ножи и вилки. Кидали на поднос, а Наде казалось, будто кидают в нее. Будто зубцы и лезвия с разлета впиваются в живое. И никуда нельзя было деться, не находилось ни единого убежища.
В первые месяцы на переменах Надя ходила туда и обратно по коридору, прикусив губу, и отчаянно хлестала себя по щекам. В голове больше не было ни титров, ни реплик — все куда-то провалилось, исчезло. Только кипящими волнами плескалась паника. К счастью, никогда не выплескивалась наружу. Разбивалась всякий раз о крепкие скалы оцепенения. Надя настолько уставала от людей, что даже привычные домашние атрибуты — дядя Олег с бабушкой — казались ей нестерпимо тяжелым грузом. И по вечерам Надя нередко убегала на лестницу. Сидела на ступеньках, уставившись на квартирную дверь «богача» с третьего этажа. Этот «богач» красиво отремонтировал свою лестничную площадку. Выложил бежевой керамической плиткой пол и стены, побелил потолок над дверью, повесил новый плафон. Еще и расставил горшки с бегониями. Жаль только, что вверх и вниз от этого островка красоты убегала все та же обшарпанная лестница с разбитыми окнами и оголенными спутанными проводами. Насмотревшись на лестничную клетку «богача», Надя брала с подоконника второго этажа банку из-под кофе, всегда наполненную на треть желтоватой водой, и перегоняла от края к краю мертвые окурки. Прокручивала в голове Первый концерт Чайковского. И немного успокаивалась.
Уроки вела Ольга Аркадьевна — очень полная женщина, еще полнее, чем директриса. У нее были седые волосы, перевязанные черным бантом, зеленые бусы до живота и мучительно тяжелое дыхание. В кабинет директрисы она поднималась в несколько этапов, с остановками, и подъем занимал всю перемену. Надя думала, что она выбрала начальные классы специально, чтобы работать на первом этаже.
Школьный материал Надя осваивала в целом неплохо — так говорила бабушка. Довольно быстро научилась писать. Правда, буквы выходили кривыми и разнородными: то вытянутыми, то сжатыми, как сама Надя. Но это было не так и важно: главное, не наделать ошибок. Письменные задания Надя выполняла исправно. А вот отвечать устно при всем классе не могла. Даже если накануне тщательно готовилась. Стояла у доски, чувствуя горячие короткие толчки где-то около солнечного сплетения. А голос вжимался в горло — такое уютное, родное — и там прирастал. Надя снова становилась немой. Да и нужный ответ выпадал из головы. В памяти без конца взбалтывались и оседали никак не вычленяемые слова.
— Что ж ты, Завьялова, бабушку позоришь? Садись на место, — металлическим голосом говорила Ольга Аркадьевна.
И Надя шла, опустив голову, к своей последней парте. Проглатывала мутный горьковатый осадок неиспользованных слов.
Была еще одна проблема: Надя не могла долго концентрироваться. В начале урока старательно слушала. К середине начинала все чаще поглядывать в окно, на густую листву — то мокрую, мелко дрожащую, то неподвижно и мягко зеленеющую. Либо на голые костлявые руки кустарников, тянущиеся к ледяному свинцовому небу. Стелется ветер, и руки взмахивают, словно в приступе судороги. Иногда в эти кустарники приходил помочиться районный алкоголик Семен.
А к концу урока Надя порой и вовсе не могла слышать голос Ольги Аркадьевны. С Надей случалась информативная перегрузка. Хотелось завыть, зажать уши руками, закрыть глаза. А Ольга Аркадьевна все говорила и говорила. Это было похоже на сломанную ленту на кассе в супермаркете. Однажды Надя с мамой пришли в магазин, выбрали товары и стали класть их на ленту. Стиральный порошок уже доплыл до кассы, а лента сломалась, никак не могла остановиться, и кассирша в первые секунды ничего не заметила. И товары все плыли и плыли друг за другом, все нагромождались возле кассового аппарата. До тех пор, пока не посыпались на пол.
А иногда Наде становилось просто скучно. Безо всякой перегрузки. И во время урока она вставала с места, подходила к шкафу с застекленными дверцами, доставала из него какую-нибудь книгу. И садилась с этой книгой на пол, в уголке класса.
— Завьялова, ты что себе позволяешь? Ну-ка вернись за парту! Ты сейчас к директору отправишься! Завьялова! Ты слышишь меня или нет? Я тебя сейчас за ухо возьму и усажу обратно, — кричала Ольга Аркадьевна до тех пор, пока не начинала задыхаться.
Дело всегда ограничивалось угрозами. Дойти до противоположного конца класса и усадить Надю на место у нее просто не было сил.
Постепенно прекратились и угрозы. С каждым месяцем Ольга Аркадьевна обращала внимание на Надю все реже. Все реже вызывала ее к доске. Все реже называла ее фамилию. И в конце концов Надя была почти совсем забыта. Она могла теперь делать что угодно за своей последней партой, без соседа. Все сидели по двое, только Надя одна. Вдали от всех, на периферии урока. Иногда ей казалось, что она — нетронутый песок побережья, до которого никогда не доходит морская волна. И Надя поднималась в воздух с каждым порывом ветра и рассыпалась в углу за шкафом — легкая, зыбкая, сухая. И ненужная.
Еще были уроки физкультуры. Был физрук — невысокий коренастый мужчина с поредевшими волосами. Он тщательно зализывал их назад, упорно пытаясь скрыть растущую лысину. На физкультуре Надя в основном стояла на месте, дрожала от холода и, плотно прижав руки к телу, уворачивалась от мяча. Физрук сначала громко рычал на Надю, называл заморышем. Но со временем, как и Ольга Аркадьевна, словно перестал ее замечать. Мяч больше не летел в Надину сторону. И даже когда все вокруг отжимались, а Надя сидела на скамейке, до крови раскусывая губу, это не вызывало со стороны физрука никаких комментариев. Так и проходил урок за уроком: Надя сидела в неподвижном одиночестве, пряталась в себе от оглушительного шума резвящихся детей. Шума, в котором слепо и упорно стучала бусина пульса. Урок физкультуры поднимал со дна тела и тщательно взбалтывал горячую юную кровь. А Надина кровь не хотела взбалтываться. Она застыла и прилипла к сосудам.
Одноклассники тоже не обращали на нее внимания. Еще перед школой бабушка переживала, что «Надюшу будут обижать». Однажды Надя услышала, как бабушка говорила кому-то по телефону:
— Ты же знаешь, эти дети такие подчас жестокие. А Надюша у нас особенная… Как бы не вышло чего плохого. А то мало ли, обидят, а она ведь не расскажет.
Но Надю никто не обижал. Ее вообще словно не видели.
Одноклассники смеялись, играли в непонятные игры. Дразнили и обзывали друг друга. Нади не было среди них. Иногда, проходя мимо какой-нибудь компании, она пыталась вслушаться в разговоры. Но не понимала, о чем речь. Темы бесед неудержимо ускользали куда-то в сторону, будто плавающие перед глазами мушки и паутинки. Уловить ничего не получалось.
Как-то раз Надя остановилась рядом с двумя девочками из первого «В». Хотела узнать, что такое интересное они разглядывают в телефоне. Надя подошла к ним со спины. Подошла так близко, что своим дыханием всколыхнула темно-русую прядь волос одной из них. Девочки повернули в сторону Нади гибкие тонкие шеи, переглянулись и молча отошли на несколько метров. Просто отошли. А что было на экране телефона — Надя так и не узнала.
В первый раз кто-то из школьников обратился к Наде лишь спустя три месяца после начала занятий. Надя гуляла, как обычно, по коридору, погруженная в собственное тело. И вдруг ее с силой толкнули в плечо.
— Эй, куда ты прешь? Не видишь, что ли?
Надя оглянулась и поняла, что находится уже не в коридоре, а в актовом зале, в самой гуще игровой эстафеты для второклассников. Надино тело только что возникло на чьем-то пути, помешало кому-то пробежать.
Надя вздрогнула и отошла в сторону. Эстафета продолжилась как ни в чем не бывало. Надя поколебала ее течение всего на несколько секунд. И вот уже нежданное препятствие устранено и забыто, дети снова бегут, энергия кипит, переливается через край.
— Я не видела… Извините… — прошептала Надя.
Но теперь уже не видели ее. И, разумеется, не слышали: зал тонул в радостном сочном шуме здоровой жизни. Надя постояла в растерянности несколько секунд и вышла в коридор. За ней сквозняком захлопнуло дверь, отрезав звуки зала. Окончательно отделив Надю от красочного и непоколебимого праздника. И Надя отправилась дальше — бродить по первому этажу, натыкаясь на стены и двери. Словно слепой опавший лист, бьющийся на ветру о тротуарный поребрик.
С этого дня ужас от многолюдности школы стал постепенно сменяться новым и очень странным ощущением. Поначалу маленьким, склизким и вертлявым. Затем все более очевидным и оттого пугающим. Ощущением собственной незримости. Пустоты.
После уроков Надя всегда ждала бабушку. Бабушка учила русскому и литературе старшеклассников на четвертом этаже. Часто оставалась заниматься с двоечниками до самого вечера. Надя ждала ее сначала на продленке, а после продленки — в коридоре первого этажа на подоконнике. Прислонялась затылком к холодному стеклу, болтала ногами. И вокруг никого не было, давно не было, только уборщица тетя Таня иногда приходила мыть пол. Медленно вела голубым прямоугольником махровой ткани по истоптанному линолеуму. Оставляла после себя длинный и очень ровный влажный путь. На Надю никогда не смотрела. А потом тетя Таня исчезала за поворотом, и коридор проваливался в холодную неподвижную тишину. Только острые и мучительно долгие звонки периодически эту тишину прорезали. А потом она делалась еще плотнее.
И Надя сидела на подоконнике в одиночестве, над вымытым полом, и уже не знала, есть ли она вообще.
Кровавая Элиза
Надя почувствовала, что она есть, только в третьем классе, зимой.
Учительница музыки Юлия Валентиновна давала в школе частные уроки игры на пианино. Бывало, что во время этих уроков Надя проходила мимо класса музыки. Слышала сквозь приоткрытую дверь шершавую, рубленую игру. Ученики играли либо плохо, либо очень плохо. Но один мальчик играл просто отвратительно. Бетховеновская Элиза под его пальцами расклеивалась, расползалась по швам, издавая предсмертные стоны. Юлия Валентиновна останавливала игру и вздыхала. Что-то бубнила вполголоса. А затем игра возобновлялась — рваная, ухабистая, угловатая. С неожиданными бугорками акцентов, возникающих совсем не к месту. С резкими и глубокими рытвинами переходов. Бетховена трясло, мотало из стороны в сторону, как в старом «уазике». Надя однажды тоже ездила в «уазике». Это был «уазик» папиного знакомого — того самого, который потом умер от передозы. Надя подпрыгивала на кочках, на вздутых сосновых корнях, проваливалась в ямы. Ударялась головой о стекло. Молчала, закусив губу.
— Хорошая у тебя девчонка, — говорил папин друг. — Сидит себе тихонько, не хныкает, не жалуется. Вот бы все бабы такими были.
На самом деле Наде тогда стало плохо. Плохо ей стало и теперь — при звуках трясущегося и вконец укачанного Бетховена. Она закрыла глаза и почувствовала, что вот-вот раскаленное сверло боли вкрутится ей в ухо. Пройдет до самого мозга. И Надя поскорее убежала подальше от класса музыки, от громоздких ухабистых нот, от вздыхающей Юлии Валентиновны.
Но убежать не получилось. Всю последующую неделю изуродованная багатель жила в Надиной голове. Жалила, кричала, разрывала голову изнутри. Раздувалась в ушах волдырями, не давала спокойно уснуть. Ее несмолкающие звуки постоянно вытаскивали Надю из назревающей полудремы в реальность, мешали полностью провалиться в сон. Надя ворочалась до утра, словно балансируя между полусном и комнатой. Между полусном и стареньким пианино из класса музыки. Между комнатой и неловкими пальцами ученика Юлии Валентиновны. Между его пальцами.
В конце концов Надя поняла, что нужно во что бы то ни стало вытеснить из своей головы чудовищное бренчанье. Заменить его успокаивающе плавной линией звуков. Услышать те же ноты, но выстроенные в гармонии. Чтобы в ощущениях осталось именно пластичное, тонкое, ровное исполнение. Увы, по радио «К Элизе» все эти дни не передавали. И Надя решила взять дело в свои руки. В свои пальцы.
И вот она заходит в пустующий класс музыки. Чувствует, как из глубины тела наплывает тревожный зной. Да и жар от батарей наваливается снаружи всей своей тяжестью, усугубляя недомогание. Но нужно действовать. Бабушка освободится только через полчаса — еще много времени. Надя подходит к пианино, садится на обшарпанную деревянную табуретку, из которой торчат шляпки гвоздей. Прямо как изюм из печенья «Счастливый день». Надя кладет пальцы на клавиши. И эти самые пальцы — обычно закостенелые, сжатые в кулачки — медленно расправляются и оживают. Надя начинает играть осторожно, словно идет на ощупь по темному загадочному коридору. Но очень скоро становится ясно, что коридор не такой уж и загадочный. Вот же они — привычные предметы. Подсказывают путь, успокаивают, запросто угадываясь в темноте. Вот книжный шкаф, трехступенчатая стремянка, низкая покосившаяся тумба. На тумбе три коробки отзываются легким металлическим холодком. В коробках — драгоценные россыпи пуговиц. Здесь, в углу, притаился пылесос. А здесь на стене висит овальное зеркало в лепной раме, и надо повернуть направо. Надя идет все увереннее, все ровнее. В какой-то момент осознает, что ей больше вообще не нужны осязательные ориентиры, потому что в коридоре зажегся свет и все стало видно, все понятно. Она слышит собственные твердые шаги, слышит звуки, которые мастерит сама. И эти звуки выталкивают из головы кошмарные дребезги всей последней недели.
Надя идет. Надя существует. Иначе бы никаких звуков не было.
Когда она доходит до конца коридора, ей уже совсем спокойно и легко на душе. Надя вслушивается несколько секунд в возникшую тишину. Скользит взглядом по зеленоватым шторам. И тишина вокруг тоже зеленоватая, прохладная, густая, словно только что вынутый из холодильника щавелевый кисель.
Но тут Надя поворачивает голову и видит, что за ее спиной стоит Юлия Валентиновна. У Юлии Валентиновны черные усики над ярко накрашенными морковными губами. И сейчас этот морковный рот с усиками приоткрыт.
— Завьялова, а ты…
Юлия Валентиновна не заканчивает фразу. Надя снова свертывается, чувствует, как напрягаются плечи, как заостряются под полосатым джемпером лопатки. На секунду вспоминает, что бабушка обещала сегодня этот джемпер постирать.
— Извините, я просто…
Надя тоже не заканчивает фразу. Где-то за грудной клеткой, чуть выше живота, журчит, плещется волнами и закручивается в тугую воронку страх. Сейчас Надю точно будут ругать, ведь она зашла в класс музыки без разрешения. Без разрешения села за пианино. И Юлия Валентиновна наверняка все расскажет бабушке. Потому что Надя позорит бабушку.
— Завьялова, так ты что, в музыкальную школу ходишь?
— Нет. Извините. Я не хожу, я просто…
От виска через шею и ключицу бойко бежит крупная жгучая капля. Надя проводит по коже рукой — вновь одеревеневшей. Смотрит на пальцы, почему-то ожидая увидеть густую темно-вишневую кровь. Но нет, это всего лишь испарина, обжигающе ледяной пот.
— Вот так новость! И бабушка твоя ничего мне не говорила.
— Бабушка не знает…
— Как это не знает? Что она не знает? Завьялова, тебя кто так играть научил?
— Меня никто не учил… Я первый раз. Извините, пожалуйста.
Юлия Валентиновна замирает на несколько секунд, закусив нижнюю морковную губу.
— Так, Завьялова. Я сейчас позову твою бабушку. И директора. Это нельзя так оставлять.
Надя вздрагивает. Новая капля скользит тем же путем. Гораздо более жгучая, чем первая. Надя уверена, что она оставляет за собой алый след на коже.
— Не надо директора, пожалуйста. И бабушку не надо. Я случайно. Я… больше не буду так делать. Правда.
— Завьялова, да тебя надо на апрельский конкурс в Омск отправить. Так, сегодня двадцать первое… Еще успеем подать заявку. Сиди здесь, сейчас вернусь. И сыграешь еще раз: для директора и бабушки.
— Не надо, не надо, пожалуйста!
Надя вскакивает и бежит прочь из класса музыки. Капли скатываются одна за другой. В последний момент как будто срываются внутрь, летят в темноту Надиного тела, ударяются о сердечное дно. И разлетаются за ребрами жгучими ледяными брызгами.
— Завьялова, ну-ка остановись! — кричит вслед Юлия Валентиновна.
Надя бежит что есть духу. Собирает в беге всю силу своего тщедушного тела. Ей больно вдыхать навалившийся острый воздух — легкие не привыкли к таким забегам. Но ничего, надо потерпеть. Страх перед необходимостью играть для зрителей посерьезнее, чем перед выговором от Юлии Валентиновны. Он трепыхается, отчаянно колотится внутри Нади.
Кажется, Юлия Валентиновна пытается бежать следом. Но все-таки Надя бежит чуть быстрее. Правда, у лестницы спотыкается о брошенный кем-то учебник по естествознанию. Прочерчивает коленями и выставленными вперед ладонями невидимый след по линолеуму. Надо встать, тут же подняться и бежать снова — нельзя терять ни секунды на вязкое, засасывающее осознание боли. Разодранные колени — это мелочь.
Надя забегает в гардероб и захлопывает за собой дверь. Голос Юлии Валентиновны еще какое-то время звучит вдалеке, а потом на Надю обрушивается тишина.
Почти все ученики уже ушли домой, и гардероб поднимается перед Надей опустевшим лесом вешалок. Но редкие стволы еще покрыты последней пестрой листвой. Надя пробирается в дальний угол и прячется за чьим-то розовым пуховиком. Лучше спрятаться — так надежнее. Страх уже не такой живой, как минуту назад. Уже не мечется, не бьет крыльями в запертой грудной клетке. Но все еще остается внутри — бездыханным телом. Медленно перекатывается, скользит от края к краю. Словно мертвый мотылек, плавающий в старой чайной заварке.
Надя долго сидит за пуховиком в лимонном обезжиренном свете гардероба. Над ней целое созвездие плафонов лимонного цвета. Она смотрит в крошечное гардеробное окошко, на темнеющую январскую улицу. Вспоминает лето, мотыльков-самоубийц, которые бросались на машины. Или топились в чае — такое тоже не раз бывало. Надя думает о мотыльках, о бархатистых теплых вечерах. Почти успокаивается.
Но вдруг где-то совсем рядом слышится топот, раздаются знакомые голоса. И мертвый мотылек страха внутри Нади оживает.
— Я вас уверяю, Софья Борисовна, ваша внучка — гений. Я такого никогда не слышала, за все свои тридцать лет работы. А уж учеников у меня было море. Мо-ре.
Дверь гардероба скрипуче отворяется, и на пороге оказываются Юлия Валентиновна, бабушка и директриса. Непонятно, как они догадались, что Надя прячется именно здесь.
— Надюш, вылезай оттуда, иди к нам, — говорит бабушка.
Надя отчаянно мотает головой. Дышит на желтоватый капюшонный пух, шевелит его своим дыханием, словно ветер осеннюю траву. От капюшона пахнет густым ландышевым парфюмом. Совсем не по-осеннему.
— Солнышко, Юлия Валентиновна нам сказала, что ты прекрасно играешь Бетховена, — тычется в Надю, въедаясь занозами, голос директрисы. — Сыграй, пожалуйста, еще раз для нас. Можешь?
— Не могу, — чуть слышно шепчет Надя, — Не могу.
— Ну почему, солнышко? Если у тебя есть талант, его надо использовать!
— Конечно, надо! Да ее на конкурс надо срочно регистрировать, пока не поздно. На «Юное звучание весны». А то кого мне туда отправлять? Эту Савицкую, что ли? Или Фомичева криворукого?
— Надюш, не упрямься. Слышишь, тебя на конкурс хотят отправить!
— Солнышко, конкурс — это очень важно. От конкурсов зависят престиж и честь нашей школы.
— Нет. Нет, — повторяет Надя почти беззвучно, одними губами.
— Ну как это — «нет»? Тебе что — не важна честь школы?
Надя зарывается лицом в засаленный рукав пуховика, и честь школы кисло вздрагивает в пищеводе.
— Давай, Надюш. Хватит. Пошли.
Надя зажмуривается. Чувствует, как чьи-то пальцы хватают ее за руку. За потный локтевой сгиб. Надю вытягивают из ее укрытия, тащат обратно в класс музыки.
Сопротивляться бесполезно, и она машинально переставляет закаменелые ноги. Ее бросает то в жар, то в холод, и сквозь эти перепады температуры к ней постепенно возвращается зудящая боль от разодранных коленок и ладошек. Надя замечает, что колготки на коленях порваны. Ловит себя на мысли, что бабушка ее из-за этого не ругает, хотя наверняка тоже обратила внимание. Еще Надя осознает, что сейчас ей вообще все равно, будут ли ее ругать из-за колготок.
Когда Надю усаживают за пианино, ей кажется, что со всех сторон собираются клочковатые сумерки. Затягивают ее в себя. Зеленоватые шторы на окне принимают зловещий болотный оттенок. Становится душно, мутно, словно на илистом дне озера. Само ощущение происходящего как будто замутнено илом. И вот-вот наплывут хищные зубастые рыбы и обглодают до косточек Надино мертвое тело.
— Давай, Надюш, порадуй нас. Что ты тут играла? Давай еще разок, а мы послушаем.
Надя кладет руки на клавиши. Поднимает глаза и видит устремленные на нее взгляды. Взгляды, полные ожидания. Полные надежды. Сердце снова возникает в груди, резко впрыгнув из пустоты. И в этот момент Надя отчетливо понимает: нет. Она не может, нет. Просто нет.
По горлу катится черный тяжелый шар. Выкатывается наружу яростным воем, который Надя будто слышит со стороны. И ее правая рука будто сама по себе начинает хлопать крышкой пианино по левой. Приподнимать черное лакированное дерево над неподвижно лежащими пальцами и резко отпускать. Нет. Нет. Нет. От ногтей мизинца и безымянного пальца отскакивают маленькие кровяные бусинки. Ровные, одинаковые, словно с одного ожерелья. В голове у Нади тоже словно рвется кровяное ожерелье, и алые бусины мыслей беспорядочно прыгают, разбегаются в стороны. Катятся по бетховеновской Элизе, оставляя на ней длинные и тонкие кровавые следы.
А потом Надя попадает в темноту, набухшую солью — от сочащейся крови и от слез Элизы.
Спасти бабушку
Надя приходит в себя уже на кушетке медкабинета. Сверху льется холодный обезжиренный свет — такой же, как в гардеробе. Надя вспоминает свет своей комнаты — густой, наваристый, как свежеприготовленный куриный бульон, — и зябко ежится.
К Наде подскакивает медсестра, сует пластиковый стаканчик с чем-то травяным и терпким.
— Ну что, очнулась, красавица? На, пей. Пей.
За ее спиной тут же возникает бабушка.
— Надюш, да что же это такое? Ты чего сейчас устроила? Перепугала нас всех! Хорошо еще, что Анна Васильевна не ушла пока, а то уж тебя хотели сразу в больницу везти.
Надя глотает терпкое травяное зелье. Часть его тут же выливается изо рта, и медсестра вытирает Надин подбородок бумажным платочком. У платочка сладковатый персиковый аромат, а у медсестры резкие, порывистые движения.
— Что с тобой случилось? — продолжает бабушка. — Послушай, Надюш, ты ведь умненькая девочка, должна понимать, что так нельзя себя вести. Когда тебя брали в школу, я обещала Антонине Илларионовне, что проблем с тобой не будет. Что же ты меня подводишь?
Надя вдруг чувствует, как пальцы левой руки медленно наливаются болью. Приподнимает руку и видит белый бинт с бледно-розовой кляксой. А бабушка все не унимается, все говорит и говорит, сводит седые брови — то ли встревоженно, то ли укоризненно. Всплескивает руками и прижимает их к сердцу.
— Ты отвечать-то мне будешь? Что ты натворила? Довести меня решила, а, Надюш?
Боль в пальцах достигает пика. Боль нестерпима и бесконечна, она словно вытягивает фаланги до небывалой длины. Пальцы болят всей своей немыслимой протяженностью. Надя уже даже не слышит бабушкиных слов. Все пространство сконцентрировалось в одной точке — в пульсирующей болью левой руке. А вокруг этой точки разрастается пустота.
Домой в тот раз Надя с бабушкой ехали на автобусе. Хотя обычно ходили пешком. Бабушка за всю дорогу не проронила ни слова. Видимо, все ее слова были выплеснуты в медкабинете. Она сидела, прижав руку к сердцу и наполовину отвернувшись от Нади. Ее взгляд казался замутненным, полностью обращенным вовнутрь. Будто то, что происходило у нее внутри, целиком впитало в себя живое сияние глаз. Надя хотела ей что-то сказать, но не знала, что именно. Все слова в голове до сих пор размазывались жирными красными пятнами. Наверное, мозг был в тот момент похож на кровяной суп-пюре.
И Надя тоже отвернулась и стала смотреть в окно. Здоровой рукой расчистила маленький кусочек запотевшего стекла. Больную убрала в карман. В медкабинете Наде дали таблетку, и боль уже не была столь мучительной.
За окном автобуса проезжали машины. Красными слезами фар стекали на дорогу. Тянулись многолюдные улицы — уже знакомые, родные. Улицы, до терпкого, чуть затхлого привкуса настоянные на всеобщем глухом молчании. Теперь это всеобщее молчание смешивалось еще и с молчанием бабушки. И Наде было от этого неуютно.
Бабушка снова заговорила только за ужином. Налила Наде фрикаделькового супа и уселась напротив.
— Надюш, мне нужно серьезно с тобой поговорить. Из-за твоего сегодняшнего поступка мне было очень стыдно. И плохо. Я твой родной человек, а с родными так не поступают. Я надеюсь, ты это понимаешь?
Надя кивнула, не поднимая глаз. Раздавила ложкой фрикадельку.
— У меня очень слабое сердце. Оно может внезапно остановиться. Просто взять и замереть. И меня не станет.
Надя вздрогнула. Известие о возможности бабушкиной смерти зависло в сознании, словно капля росы на паутине, и принялось дрожать, мерцать, бессмысленно переливаться.
— А умирать я не могу. Если я умру, кто за тобой присматривать будет? Не твоя же нерадивая маманя. Тоже мне. Сбагрила дочь и довольна. Звонит раз в месяц. Ну ладно, Бог ей судья. Я уж не говорю о твоем так называемом отце, который вообще, наверное, забыл, как ты выглядишь. Ты только мне одной нужна. А без меня ты пропадешь. Ведь ты ничего не умеешь, Надюш, да и учиться не хочешь. Не смотришь вокруг, ни к чему любопытства не проявляешь. Не замечаешь ничего. Джемпер вот шиворот-навыворот надела. Потому что я утром не уследила, занята была контрольными этого десятого «А». А ты за целый день не обратила внимание, что швы наружу. Ну ты же девочка, должна за собой следить. Да ты ешь, ешь, а то остынет.
— Я не пропаду… — прошептала Надя.
— Конечно, пропадешь. Да и дядя Олег пропадет. Он тоже без меня не справится. Он же совсем еще ребенок. Почти как ты. Он даже поесть забывает, если ему в комнату еду не принести и на стол не поставить. Вы оба мои дети, и я несу за вас ответственность. Поэтому, Надюш, не надо меня огорчать. Не делай так больше, пожалуйста. Хорошо?
Надя кивнула. В голове из колодца памяти всплыли санитары с носилками.
— И когда ручка у тебя пройдет, сыграй для нас на пианино. Пусть Антонина Илларионовна будет знать, что ты хорошая спокойная девочка. И умненькая. Порадуешь нас всех. Меня особенно. Я ведь и не знала даже, что ты играть умеешь.
Бессонница продолжилась. По ночам Надя разматывала бинт, разглядывала свои почерневшие ногти, вспухшие черничные пальцы. Представляла, что все ее тело такое же — синее и разбухшее. Как у Рейчел, утопленницы из фильма «Не говори Анне».
Разбежавшиеся в голове бусины мыслей потихоньку склеивались заново. Но на этот раз в очень неровное, сильно давящее ожерелье. Бабушка сказала, что Надя одна не справится. Пропадет. А пропадет — это как? Надя не знала, но пропадать очень не хотела. И решила на всякий случай научиться справляться сама.
Самостоятельная осознанная жизнь связалась в Надиной голове с джемпером. А через джемпер — и с другой одеждой. И теперь каждое утро Надя внимательно осматривала свои вещи. Не вывернуты ли они наизнанку, нет ли на них дыр или пятен. Надя даже научилась сама включать стиральную машину. Понаблюдала за бабушкиными действиями, выстроила их мысленно в список. И как-то раз, оставшись из-за простуды дома, перешла к действию. Это было непросто и очень волнующе. Надя долго колебалась, прежде чем нажать на большую красную кнопку. Стеклянная круглая дверца точно закрыта? Порошок засыпан? А цифра, на которую указывает красная черточка, точно три? Сомнения скользкими ломтями желе облепляли Надю изнутри. Все ли сделано правильно? В верном ли порядке? Несколько раз Надя прокрутила в голове список действий. И наконец решилась. Но ничего не произошло. Журчания льющейся воды не раздалось. Несколько минут Надя, приоткрыв рот, смотрела на неподвижный пестрый комок за круглым стеклом. А потом убежала к себе в комнату и упала на пол лицом вниз, обхватив руками голову. Завертелась влево и вправо. Наде казалось, что она упала внутри себя — словно дерево с прогнившими корнями. Рухнувшим деревом покатилась по земле, сочась кровью. Так и прокаталась до бабушкиного прихода.
— Надюш, надо сначала кран на трубе повернуть. Чтобы водичка могла набраться, — сказала вечером бабушка. — Вот здесь, поняла?
Надя поняла. Не сразу, но поняла. Попробовала еще раз — получилось! И с тех пор она включала стиральную машину регулярно. Даже сама загружала в нее вещи — свои и дяди Олега. Однажды, правда, вместе с джинсами случайно постирала его паспорт. Дядя Олег, когда узнал, страдальчески закатил глаза:
— Ну вот, из-за тебя мне в такую холодину в паспортный стол тащиться. В очереди там стоять. А у меня вообще-то работы много.
В паспортный стол в итоге пошла бабушка.
Уверившись, что теперь она не пропадет, Надя решила взять на себя заботу и о дяде Олеге. Чтобы и он не пропал. Бабушка говорила, что дядя Олег иногда забывает поесть. А без еды человек может умереть. И однажды Надя самостоятельно достала с полки «Доширак», развела его кипятком и отнесла в комнату дяди Олега. Немного помялась у приоткрытой двери, но все же вошла. Образ дяди, пораженного голодной смертью и падающего со стула, придал ей смелости.
— Вот. Я принесла поесть, — тихо сказала Надя и поставила горячий пластиковый контейнер на стол, около монитора.
На мониторе красовалась голая девушка с веснушками и длинными рыжими волосами.
— Спасибо, конечно… — пробормотал застывший дядя Олег, не поднимая на Надю глаз.
С тех пор такое подношение еды стало ритуалом. Всякий раз, когда простуженная Надя оставалась дома — а случалось это довольно часто, — она неизменно кормила дядю Олега. Все увереннее заходила в его комнату, пахнущую носками и лимонным освежителем. Приносила то «Доширак», то консервную банку. Правда, открывать консервные банки Надя не научилась, но с этим дядя Олег справлялся и сам.
— Спасибо тебе, мелкая, — говорил он, получая очередную порцию еды. — А то мне реально иногда не оторваться от работы. Ты классная.
И у Нади становилось уютно на сердце. В такие моменты она ощущала теплоту и легкость кровотока. Потому что дядя Олег теперь окружен ее заботой. И если что, он не пропадет. Если что…
Если что?
Время шло, пальцы давно перестали болеть. Но бессонница никуда не исчезла. Когда ночь огромным черным ледником наплывала в комнату, Надя лежала с широко открытыми глазами. Смотрела на тревожно-темное глубокое небо в развалинах туч. И в унисон с радостью от самостоятельной жизни где-то за грудной клеткой распускался маленьким бутоном смутный, но терпкий страх.
А что, если бабушка и правда умрет? Даже если Надя и дядя Олег без нее не пропадут, это будет очень грустно. Надя представляла, как бабушкин взгляд останавливается, как ее серые водянистые глаза затвердевают, словно замерзают. И от зрачков по глазному льду тут же бегут тонкие трещинки. Белесые ресницы покрываются инеем. Бабушку выносят из квартиры на носилках, а на кухонном столе остается стопка непроверенных сочинений десятого «А». И чашка недопитого кофе «Якобс Монарх».
Если так действительно произойдет, виновата будет Надя. Ведь это Надя своим поведением доводит бабушку. Бьет себя крышкой пианино по рукам. Отказывается играть Бетховена. После того случая Юлия Валентиновна и бабушка снова просили Надю исполнить им «К Элизе». За локоть, правда, уже не тянули, но просили настойчиво. А Надя упрямилась. И бабушка каждый раз хваталась за сердце и прикрывала глаза. У бабушки больное сердце, и если оно остановится, Надя никогда себе этого не простит. Никогда. Она добровольно отправится в тюрьму за убийство. Напишет заявление, как Вильсон из сериала «Невспомненные». Даже текст заявления не надо будет сочинять: Надя прекрасно его помнит. Только имена придется заменить, но это просто.
Надя ворочалась, и шерстяное одеяло выбивалось из пододеяльника, покалывало кожу, обдавало затхлостью. В конечном итоге почти бесшумно соскальзывало на пол. Поднимать его не хотелось. Надю и без того словно окутывало изнутри одеяло. Такое же колючее и душное. И нисколько не согревающее. Бутон страха все распускался за ребрами, все выпрастывал лепестки. Превращался в полноценный ядовитый цветок. Было уже по-настоящему жутко. Было мучительно стыдно, потому что Надя неблагодарная, потому что бабушка — родной человек, а с родными людьми так не поступают.
А в середине марта с бабушкой и правда чуть не случился самый настоящий приступ.
— Боже мой, за что мне все это, — вздыхала она, прикрыв глаза. — Эх, Черняева, я так и знала, что этим все закончится. Вот ведь шалава.
Бабушка собирала вещи в учительской после рабочего дня. Судорожно запихивала в сумку стопку тетрадей. Надя сидела в углу и грызла сушку. Крошила на синюю складчатую юбку. Надю внутренне передергивало от того, что стопка неровная, что все тетради разных размеров и самые большие с трудом помещаются.
— Ну ладно вам, Софья Борисовна, — протянула из другого угла учительница географии.
У нее был ленивый и тягучий, как ириска, голос. Она сидела, закинув ногу на ногу. Слизывала с краев пластикового стаканчика легкую кофейную пенку.
Бабушка швырнула непослушную стопку тетрадей на стол.
— А что ладно, Светочка, что ладно? Она погуляла, а мне теперь расхлебывать. Четырнадцать лет девке, это же в голову не лезет. Вот как так можно, взять и жизнь себе сломать? Куда родители смотрели? Теперь ведь все наперекосяк пойдет, все коту под хвост. Без аттестата из школы уйдет.
— Да может, она не виновата ни в чем? По-всякому ведь бывает…
— Не виновата, говорите? А вы видели, в какой она юбке ходит? Это даже юбкой нельзя назвать. Не виновата. Ну конечно.
Когда Надя с бабушкой вышли из учительской, коридор был пустым и особенно гулким. Бабушка сделала несколько шагов и схватилась за сердце. Разумеется, она хваталась за сердце и раньше, но теперь ее скрюченные пальцы прямо-таки вцепились в зеленую шерстяную ткань на груди. Рядом с брошкой в виде грозди рябины. Бабушка остановилась, прислонилась к стенке и полностью закрыла глаза.
— Доведете вы меня все, доведете. Ну, Черняева, ну устроила мне. А еще ты, Надюш. Если бы хоть ты свою бабушку жалела. Но нет, и от тебя ведь сострадания не дождешься.
Бабушка сказала это непривычным голосом — сжимающим, стискивающим. От него все внутренности словно перекрутились, прямо как мокрая половая тряпка в руках уборщицы тети Тани. И Надя поняла, что критический момент настал.
Последней каплей стала какая-то Черняева в необычной юбке. Но Надя понимала, что настоящей причиной бабушкиного приступа стал отказ играть Бетховена. Все корни уходят именно туда, в тот самый ужасный день, когда Надя повела себя просто отвратительно. И теперь нужно срочно исправлять ситуацию. Иначе случится непоправимое. Выбора нет.
Надя посмотрела в окно, на медленные густые снежинки. Деревья за окном стояли будто в молоке. В плотном молочном тумане. Надя с силой сжала кулачки, сопротивляясь студеной волне, бегущей через все тело. Сердце скользко вертелось, как маринованный гриб на тарелке. Но нужно было думать не о своем, а о бабушкином сердце. Нужно было спасать бабушку.
— Я могу сыграть… «К Элизе». И если ты хочешь послушать, я не против. И если Антонина Илларионовна хочет послушать, я тоже не против.
Бабушка тут же открыла глаза и отняла руку от груди.
— Ты это правда, Надюш? Ты серьезно сейчас?
Голос уже не казался пугающим. Не давил, не перекручивал. И серые водянистые глаза как будто мгновенно оттаяли, потеплели, налились солнечными парными лучами.
Надя кивнула. Слегка разжала пальцы, чувствуя, как волна внутри затихает.
И вот Надя снова сидит за пианино в музыкальном классе. Поднимает черную полированную крышку, местами изувеченную паутиной тонких царапин, а местами и вовсе светлеющую жирными ранами ободранного лака. За спиной — как и в тот раз — стоят бабушка, Юлия Валентиновна и директриса. А еще зачем-то пришел физрук в своем синем спортивном костюме. Надины руки почти не дрожат. Конечно, немного страшно: тот самый мотылек никуда не делся из чашки с чаем. Но все-таки он мертвый, и уже даже не перекатывается по поверхности. Он постепенно оседает, вслед за чаинками опускается на дно. Там и остается лежать, почти неразличимый в черной разбухшей массе. Надя утопила своего мотылька — ради бабушки. Чтобы самой не потонуть в страхе. Чтобы сыграть при всех Бетховена. Чтобы бабушкино сердце не остановилось.
Надя начинает играть. И вдруг осознает, что с каждой нотой присутствие зрителей становится все легче, все воздушнее. Где-то на десятом такте уже получается почти о них не думать, получается просто быть, просто играть, ловить ритм текущей под пальцами музыки. Текущей под пальцами жизни. Музыка — как теплый песок с рекламного плаката Ривьеры. (Того самого, рядом с поликлиникой.) Постепенно засыпает все прочие, посторонние ощущения. Наде кажется, что вот-вот ее затянет окончательно и края музыки сомкнутся у нее над головой.
Когда игра заканчивается, она на несколько секунд закрывает глаза. В темноте возникает лицо Элизы — очищенное от кровавых следов, неподвижное, спокойное. У Нади на душе теперь тоже спокойно, а еще тепло и как будто немного влажно. Словно Надина душа — это мякоть свежеиспеченного хлеба.
Юлия Валентиновна молча поворачивается к остальным и приподнимает подбородок. Ее морковные губы с черными усиками оказываются как раз под светом лампы.
Директриса тоже молчит, странно покачивая головой. Словно о чем-то напряженно думает. Стеклянно таращится то ли на Юлию Валентиновну, то ли куда-то в невидимое пространство.
— Ну, Завьялова, ну удивила, — весело говорит физрук, потирая ладони. — Вот бы еще научилась так же ловко через козла прыгать, как Моцарта играешь. Цены бы тебе не было!
Надя смотрит на бабушку. Бабушка улыбается — просто и безмятежно, как будто уже напрочь забыла про юбку шалавы Черняевой, про аттестат, которого та не получит, и вообще про всех оболтусов, которые регулярно вытворяют невесть что. А главное — про ужасную Надину выходку. И это значит, что сердечного приступа, скорее всего, не произойдет. И Надя улыбается в ответ.
Виноградины
С этого дня Надя стала брать уроки музыки у Юлии Валентиновны, потому что «такой редкий дар нужно обязательно развивать». Еще для Нади привезли пианино — прямо домой. Подержанное, конечно, но не такое исцарапанное, как школьное. Это пианино досталось от племянника подруги сестры самой Антонины Илларионовны. Племянник закончил музыкальную школу и отправился в Москву — поступать в консерваторию. Бабушка так часто это повторяла, что Надя в конце концов прониклась оказанной ей честью.
Пианино принесли в Надину комнату двое молчаливых незнакомых мужчин. Под руководством бабушки немного подвинули комод и втиснули пузатый «Красный Октябрь» племянника в промежуток между комодом и письменным столом. Кружевную сову пришлось перевесить.
— О нет! — воскликнул дядя Олег при виде пианино. — Теперь она целыми днями тут будет тренькать? А как же я? У меня вообще-то как бы работа.
— Олеж, ну что ты, — шипела в ответ бабушка. — У девочки талант настоящий. Абсолютный слух. Ей заниматься нужно, мы ее на конкурс всероссийский собираемся отправить. Потерпишь со своей работой, ничего.
Дядя Олег махал руками и страдальчески сводил брови. Видимо, не хотел терпеть.
Впрочем, два дня спустя проблема была решена. Дядя Олег купил себе большие темно-синие наушники и сидел за компьютером в них. Чтобы слушать во время работы «нормальную музыку, а не это унылое бряцанье».
Сама Надя привыкла к пианино не так быстро. В первое время напряженно разглядывала его по ночам, лежа на боку и вжавшись щекой в шершавую подушку. Неизменно натыкалась на него, наматывая в задумчивости круги по комнате. Только спустя две недели она сроднилась взглядом с громоздкими пианинными очертаниями и научилась считаться телом с его габаритами, легко и безболезненно от них уворачиваться.
Еще Наде было поначалу очень странно, что теперь она может извлекать музыку прямо у себя в комнате. В любой момент поднять крышку и нащупать все, что угодно, отыскать любые звуки, выстроить их в любые ряды. Она подходила к пианино лишь изредка. Нерешительно, словно боязливо трогала клавиши. Медленно доставала из глубины памяти услышанные когда-то мелодии, разливала их в тишину, наполняя комнату интонациями. На середине часто замирала, словно увидев и услышав себя со стороны. Опускала руки и в оцепенении ложилась на пол. Тело как будто плавилось, проваливалось в мягкую студенистую бесчувственность. Надя дышала глубоко и ровно, пытаясь прийти в себя. Вернуться к себе самой.
Но с каждым днем черпать из памяти музыку и орошать комнатную тишину становилось все легче. Надя подходила к пианино все чаще, играла все дольше и спокойнее. Пианино постепенно вросло в комнату, в Надины ощущения, в Надин распорядок дня. Пустило цепкие опутывающие корни. Окончательно укрепилось на своем месте.
С появлением пианино Надя начала чувствовать перемены в своем сознании. Пока что не очень ясные. Но что-то в Наде однозначно преображалось. Лежа на полу в перерывах между мелодиями, она стала мысленно разглядывать себя внутри своего тела. Проваливалась в темноту собственной крови, распадалась на куски, затем собиралась заново, снова смотрела и постепенно осознавала, что вот эта заново собранная девочка — уже кто-то другой. Кто именно — сказать было трудно. Внутри что-то безостановочно трепетало — нечто тревожно-горячее, болезненно-сладкое — и все никак не застывало в определенной форме. Словно Надя постепенно просыпалась от долгого глубокого сна, но открыть глаза не получалось.
Занятия с Юлией Валентиновной были два раза в неделю, по вторникам и пятницам, в пятнадцать тридцать. Теперь в эти дни Наде больше не приходилось ждать бабушку ни на продленке, ни на подоконнике пустынного коридора. После уроков Надя сразу шла в класс музыки. Около часа сидела в углу, рядом со стеллажом, пока Юлия Валентиновна куда-то уходила «по своим делам». Надя пила компот из сухофруктов, который бабушка наливала ей по утрам в маленький розовый термос. Разглядывала фарфоровые статуэтки скрипачей, выстроенные по росту на средней полке стеллажа. У самого маленького из них половина скрипки была отколота. Потом Юлия Валентиновна возвращалась в класс, и Надя усаживалась на свою «изюмную» табуретку.
Нотную грамоту она освоила моментально. В наследство от племянника подруги сестры Антонины Илларионовны вместе с пианино досталась толстая пачка нот. Множество пожелтевших страниц, заклеенных скотчем, с оранжевыми фломастерными пометками. Юлия Валентиновна задавала Наде этюды, мазурки и сонаты из этих многострадальных хрестоматий. Надя справлялась с ними легко. Впрочем, в нотах она вообще не особо нуждалась, ведь все можно было поймать слухом и нащупать вслепую. Этюды жили вовсе не на истрепанных пожелтевших страницах, а повсюду, вокруг, в воздухе, в Надиной голове. Вот же они, вот, как на ладони, на чьей-то маленькой припухлой ладошке. Мерцают, переливаются разноцветными звуками, разносятся в пространстве. Их не надо искать в печатных знаках.
— Эх, Завьялова, если так пойдет, через год-другой мне и учить-то тебя будет нечему, — говорила Юлия Валентиновна, выпячивая нижнюю морковную губу.
При этом, однако, замечания делала Наде постоянно. В основном упрекала в рассеянности, в несобранности. Надя часто перескакивала с одного произведения на другое. Или пропускала целые куски в середине.
— Давай, Завьялова, соберись. Еще раз заново, только теперь, пожалуйста, сконцентрируйся. А то впечатление складывается, что ты где-то в облаках витаешь. Вот куда ты только что улетела, скажи на милость? Разве так сложно сосредоточиться на одном простеньком этюде? Сыграть от начала до конца? Да для тебя этот этюд — раз плюнуть!
Но дело было не в концентрации. В Надиной голове музыка звучала намного быстрее, чем в реальности. Мысль опережала руки. И различные пассажи — те, что внутри, и те, что снаружи, — наслаивались друг на друга, смешивались, сбивали игру. В результате целый ряд тактов под Надиными пальцами проваливался в никуда. А когда одно произведение в голове заканчивалось, тут же начиналось другое, и Надины руки машинально следовали за внутренним звучанием. Прерывали звучание внешнее. Было уже невозможно разобрать, что откуда доносится.
«У тебя каша в голове», — нередко говорила Наде бабушка. И была права. Надя замирала перед пианино, опускала голову и молча слушала упреки Юлии Валентиновны. Краем взгляда скользила по ее лицу. По недовольно поджатым морковным губам, по черным усикам. По бледно-желтой, чуть бугристой коже, напоминающей застывшую маслянистую пенку на манной каше, которую варили в детском саду. Эта каша до сих пор была у Нади в голове.
В целом занятия с Юлией Валентиновной казались не очень интересными и к тому же утомительными. Постоянно тормозили полет Надиной музыкальной мысли. Нещадно прижимали к земле, заставляя распутывать клубок невольно получавшегося, бессознательного попурри. Это отнимало много сил. После занятий Надя нередко чувствовала себя разбитой, измученной, полностью высохшей изнутри. Но выбора не было: бабушка очень хотела, чтобы Надюша научилась играть «блестяще». Ведь на одном таланте далеко не уедешь, нужна ежедневная усердная работа. И Надя безропотно шла работать.
Впрочем, лучше уж приходить два раза в неделю в класс Юлии Валентиновны, чем заниматься в музыкальной школе. А ведь такой риск был. Надя узнала о нем одним обычным апрельским днем в учительской. Бабушка проверяла контрольные восьмого «В», а географичка с ленивым тягучим голосом стояла рядом. Расчесывала крашеные кудри.
— Софья Борисовна, а вы не думали внучку в музыкалку записать?
— Думала, Светочка, конечно, думала, — ответила бабушка, не отрывая глаз от тетрадей.
Надю при этих словах будто ударило по лицу отскочившей колючей веткой.
— Все-таки там уровень соответствующий, в консерваторию готовят, — продолжила географичка. — А то Юлия Валентиновна, спору нет, хороший педагог, но музыкалка есть музыкалка…
— Вы все верно говорите, Светочка. Но Надюша у меня особенная, вы же знаете, — бабушка мазнула взглядом по закаменевшей Наде. — Она музыкальную школу не вынесет. Ее и здесь-то с трудом уговорили заниматься. Упиралась, как… как не знаю кто. Ладно уж, пусть хотя бы так. К тому же на конкурсах нашу школу будет представлять, нашего педагога, а не какого-нибудь Петра Семеныча.
— Ну вам виднее… Может, и правда не стоит ребенка зря мучить.
На конкурс «Юное звучание весны» Надю в этом году не отправили. Просто не успели зарегистрировать. Зато твердо решили исправить ситуацию в следующем году. «Как раз есть время спокойно подготовиться». Занятия с Юлией Валентиновной были, по сути, не чем иным, как подготовкой к защите чести школы.
Во время занятий в класс нередко заглядывала директриса. Протискивала в дверь свое полное студенистое тело, медленно и величаво приближалась к пианино. Подходила практически вплотную, нависала над Надей, туго свернутой внутри себя от смущения и тошноты. Гладила сплющенную, уплотненную Надю по голове.
— Ну как ты, солнышко, все получается?
— Все прекрасно получается, — отвечала за нее Юлия Валентиновна. — Надя у нас просто умница. Молниеносно все схватывает. Ей бы еще немного концентрации добавить. А так — все чудесно.
— Ну и хорошо, ну и занимайтесь. Чтобы, главное, на конкурсе не подвести.
— Не подведем, Антонина Илларионовна, не беспокойтесь. Мы с такими учениками еще и в энциклопедию войдем.
Ради подготовки к конкурсу и к энциклопедии Наде прощалось многое. Учителя стали как будто смотреть сквозь пальцы на ее невыполненные домашние задания. А их оказывалось с каждым месяцем все больше. И когда другим ученикам ставили в классный журнал двойки синей гелевой ручкой, напротив Надиной фамилии возникала лишь крошечная карандашная точка.
— Ладно, Завьялова, принесешь на следующий урок. Что же делать, раз ты у нас второй Моцарт.
Учительницы ИЗО и английского даже иногда звали Надю после продленки попить с ними чаю. Говорили мягкими замшевыми голосами, придвигали к Наде вазочку с отсыревшим печеньем «Особое». Расспрашивали об игре на пианино, не переставая удивляться: «У девочки такая склонность! И ведь в Наденькиной семье нет ни одного музыканта».
Бабушка тоже стала снисходительнее. Практически перестала бранить за невнимательность, за упрямство. За отсутствие сострадания. Слушала Надину игру с восхищенными теплыми глазами. И даже если бурлящие музыкальные потоки доносились из Надиной комнаты в очень поздний час, бабушка не заходила, не ругалась, не хваталась за сердце. Не заставляла «полуночницу» немедленно ложиться спать, как это часто бывало раньше, когда Надя заигрывалась с пуговицами.
Занятия с Юлией Валентиновной продолжились и летом, когда школьные уроки закончились и все ученики разъехались на каникулы. Все, кроме Нади. Ей некуда было ехать. Бабушкин дачный домик в сорока километрах от города сгорел пять лет назад. А восстанавливать его «не было ни сил, ни денег». Впрочем, Надя никуда и не рвалась. Напротив, радовалась, приходя в непривычно пустую школу. Прохладную, тихую и большую, словно резко выросшую. Теперь занятия начинались не в пятнадцать тридцать, а в девять утра. «Чтобы потом целый день был свободен».
Летом Надя ходила в школу одна, без бабушки. Ведь когда-то нужно начинать. Бабушка не будет сопровождать ее повсюду до конца жизни. Надя уже немного научилась самостоятельно покорять пространство. Выпутываться из патины улиц. Паутина оставалась сложной и прочной, несмотря на то что улицы были знакомы. Ведь знакомы они были лишь в отдельности, каждая сама по себе — рекламным щитом «Теле 2», разрисованной скамейкой, брошенной машиной с выбитыми стеклами, сладковато-клейким запахом пекарни, оставленным с февраля объявлением о чистке крыши от сосулек. Каждая улица начиналась из ниоткуда и уходила в никуда. Чтобы связать все улицы воедино и выстроить из них маршрут, требовались умственные усилия — особенно поначалу. Надя шла и говорила внутри себя: вот здесь, после кирпичного дома, направо; вот здесь, у «Ароматного мира», надо перейти дорогу наискосок, по зеленому сигналу светофора, к рекламном щиту. Однажды улицу рядом с пекарней перекрыли, и пришлось идти в обход, через сквер. По крайней мере все пешеходы шли именно так. И Надя последовала за толпой, покрываясь при этом холодным потом. Мысли, поврежденные внезапным головокружением, обездвиженные мутным, заторможенным осознанием происходящего, безвольно скользили вниз. После сквера пешеходы расходились в разные стороны, а Надя растерянно стояла на месте — на непривычном месте, в непривычных обстоятельствах. Вертела головой, отчаянно пытаясь найти путеводные знаки. Уже сквозь навернувшиеся слезы увидела красно-желтую вывеску «Ароматного мира». Буквы нельзя было различить, они сливались в сплошное кроваво-гнойное пятно. Но Надя все-таки поняла, что это они. И успокоилась. Потому что от «Ароматного мира» уже можно идти дальше — перейти дорогу наискосок, по зеленому сигналу светофора, к рекламному щиту.
Впрочем, через месяц дорога стала гораздо легче. Весь необходимый маршрут закрепился в сознании, вместе с маленьким альтернативным крючком сквера. Необходимость в указателях начала отпадать. И Надя даже не особенно переживала, заметив, что объявление о чистке крыши от сосулек наконец-то сняли. Теперь можно было немного расслабиться, даже подумать о музыке.
К середине июля Надя полюбила свои утренние одинокие прогулки до школы. Все чаще поднимала голову, смотрела, как окна тянущихся мимо домов постепенно наполняются днем. Как вялые электрические огни в квартирах гаснут, и внутренности комнат исчезают за бликами стекол. Смотрела, как небо все больше наливается полупрозрачной белизной — ослепительной, знойной, ниспадающей легкими крупными складками. Как беспокойные голуби прокалывают острыми крыльями утренний сонный воздух. И распространяют в нем множество патогенных микробов.
Надя шла и внутренне играла на пианино. Внутренняя музыка лилась свободно, громко, полнозвучно. Смешивалась с кружащими улицами. Приходя в музыкальный класс, Надя садилась на «изюмную» табуретку и тут же подхватывала внутренний поток руками. А Юлия Валентиновна вздыхала, качала головой и недовольно поджимала морковный рот:
— С начала, Завьялова. Начинать надо с начала, а не с середины. Давай заново.
И все начиналось заново: гаснущие электрические огни, полупрозрачная белизна неба, кружащие голуби. Звуки становились еще больше, сильнее, словно налетали на невидимый заоконный город, захлестывали, топили в себе.
Надя продолжала меняться, продолжала свое странное медленное пробуждение. Словно через музыку в ней росло чувство сопричастности жизни. Надя все отчетливее ощущала, что окружающие ее улицы, наполненные фортепианными звуками, — это она сама. И фортепианные звуки — это тоже она. Все вокруг живет, звучит, движется, перетекает. Все неделимо, взаимосвязано, и Надя — часть этого большого сложного мира. Надя — гостья на празднике жизни. Потому что ее тоже приглашали на этот праздник, не только всех остальных. Не только детей, с веселыми криками бегущих эстафету в актовом зале. И Надя вовсе не на краю этого праздника, она в нем, внутри, в самом центре. Вот же она, кружится в потоке баховской Фантазии до минор. Или вот сейчас застывает в «Слезе» Мусоргского, медленно скатывается вместе с ней на пол. Она тут, в этом мире. Она вовлечена во все, что происходит вокруг. И от этой мысли внутри становится тепло, душисто и липко, словно рассыпаются перележавшие на солнце виноградины. Зеленые, полупрозрачные — как Надины глаза.
Но вместе с праздником пробуждения приходило что-то еще. Что-то горькое и неотвратимое. Неотрывно связанное с раскрывающейся полнотой чувств. Будто обратная сторона медали. Тяжелая густая тишина, нависшая в неубранном после веселья зале. Надя не сразу поняла, что это. Начала догадываться только первого августа, в последний день занятий перед отпуском Юлии Валентиновны. В то утро Надя увидела на тротуаре рядом с «Ароматным миром» мертвого голубя. Зачем-то остановилась, склонившись над птичьим телом, несомненно кишащим болезнетворными бактериями. По крайней мере так сказала бы бабушка. Надя замерла над приоткрытым клювом, остановившимся желтым глазом, иссохшей сизостью крыльев. И спустя несколько секунд вздрогнула, неожиданно осознав, что в смерти голубя как будто видит собственную смерть.
Влившись в цветущую, горячую кровь жизни, Надя стала видеть собственную смерть повсюду — во всех смертях. И рассыпавшиеся внутри Нади виноградины трескаются, и сквозь их лопнувшую кожицу просачивается мякоть, слегка тронутая удушливо-сладким разложением.
Траурный марш весны
Уже с осени Юлия Валентиновна стала твердить, что необходимо выбрать произведение для конкурса.
— Что-нибудь такое, что ты сможешь сыграть просто бесподобно. Чтобы все ахнули, понимаешь? Чтобы все остальные тут же померкли на твоем фоне. Умеешь ты многое, выбор у тебя немаленький. Так что давай, Завьялова, выбирай. И мы это отработаем с тобой до блеска.
Директриса тоже поторапливала. Свисала над Надей, обдавая то кофейным, то уксусным дыханием, и пискляво говорила, на октаву выше Юлии Валентиновны:
— Ты, солнышко, с этим не тяни. Это только кажется, что времени впереди еще много. Не успеешь оглянуться, и весна опять тут как тут.
А Надя не знала, что выбрать. Сидела на своей «изюмной» табуретке, смотрела снизу вверх на двух взрослых людей, упирающихся в нее — словно с потолка — то ли строгими, то ли ласково-выжидающими взглядами. И молчала.
Выбор у Нади и правда был немаленький. За полгода регулярных занятий она научилась многому. И репертуар постоянно рос. Но выделить что-то одно, особенное, вбирающее в себя всю соль репертуара, было мучительно сложно.
Озарение пришло только в конце ноября.
Как-то в перерыве между этюдами Шумана и Черни Надя залезла на подоконник своей комнаты и принялась смотреть в окно. Заоконный кусочек предвечерней улицы тонул в пасмурности, в промозглой стылой серости, плавно перетекающей с каждой минутой в черноту. Легкий мороз уже устоялся. Первые сугробы в тощем, анемичном свете фонарей казались кусками сливочного масла. Мимо «Пятерочки» торопливо сновали люди. Пожилые — в кожаных плоских ботинках и меховых ушанках, местами полысевших. Молодые — в кедах и толстовочных капюшонах, торчащих поверх курток. Дети — в веселых цветастых сапожках и шапочках с помпонами. И вдруг в этом непрерывном потоке Надя увидела девушку в черных мокасинах и черном берете. Эта девушка выделялась из толпы тем, что странно размахивала руками. А ещё тем, что, кроме мокасин и берета, на ней не было ничего.
Из-под берета вылезали короткие рыжие волосы. Кожа казалась очень светлой, сливочного оттенка, с коричневой россыпью веснушек по всему телу. Девушка была худой — почти такой же, как те, которых рассматривал на своем компьютере дядя Олег. Надя подумала, что дяде Олегу она бы понравилась. В первые секунды даже хотела пойти в соседнюю комнату, позвать его. Но все-таки не пошла, осталась неподвижно сидеть на подоконнике.
На девушку никто, кроме Нади, почему-то не смотрел. Все обходили ее стороной, опустив голову. Было странно наблюдать, как в радиусе нескольких метров от девушки толпа теряла свою плотность. Размякала, плавилась. Девушка вертела головой, трясла руками и, судя по движению губ, разговаривала. Видимо, сама с собой: больше говорить было не с кем. Удивительно, что ей не холодно, думала Надя. И при этом вжимала голову в плечи и дрожала. Словно это ее обнаженное тело шло в ту минуту по морозной улице.
Девушка резко свернула с грязно-серой вытоптанной дорожки. Отправилась куда-то в сторону, через маслянистые сугробы, прочь от толпы. Туда, где снег лежал нетронутым, в своей зернистой первозданности. Еще несколько секунд помотала головой, обронив при этом берет, а затем скрылась из Надиного поля зрения.
За ужином Надя рассказала бабушке о необычной закаленной пешеходке. Бабушка часто говорила, что закаляться необходимо для здоровья, и Надя была уверена, что пешеходку похвалят. Но бабушка только пожала плечами и закатила глаза:
— Ну что ж тут скажешь… Кого только земля не носит.
Надя отрывала друг от друга слипшиеся макаронины. Прямо руками.
— Неужели ей действительно не холодно?
— Ей, Надюша, скорее всего, вообще никак. Не холодно и не жарко. Она просто не чувствует ничего. Не надо в тарелку ручками лезть, я тебе вилку дала.
Надя вздрогнула и замерла. Если человек ничего не чувствует, значит, он мертв.
— Ты хочешь сказать, что она умерла?
— Может, еще и не умерла. Но скоро, видимо, умрет. Если не от воспаления легких, то от передозы.
— От передозы?
— Ну да, все они рано или поздно умирают от передозы. Чудят вот так вот, вытворяют невесть что, а потом умирают. Ешь, Надюша, не отвлекайся.
Видимо, передозой и называли смертельные последствия чудаковатостей. Надя вспомнила папиного друга, который катал ее на «уазике», а потом умер от передозы. Попыталась представить его идущим голышом по ноябрьской улице — в черных мокасинах и берете. Но образ в голове расслаивался, растекался, никак не мог собраться в четкую картинку — такую, как в книжке. И Надя снова переключилась на девушку:
— А может быть, она все-таки не умрет? Она шла довольно быстро. И казалась бодрой.
— Вряд ли человек в таком состоянии долго протянет. Увы, Надюш, это так. Ничего не поделать. Знаешь, как говорят: каждый человек — кузнец своей судьбы. Главное, не стать такой же. А для этого, Надюш, надо хорошо учиться. И вообще стараться все делать хорошо.
Умрет. Умрет. Это слово капнуло в сердце каплей горячего воска и, тут же затвердев, превратилась в лепешку. В толстую тяжелую лепешку, мешающую дышать.
— Но ведь можно сделать так, чтобы она не умерла?
— А что ты тут сделаешь, Надюш? Ты ей никак не поможешь. Да и не надо: мир станет чище. Ты можешь помочь только себе.
Надя вскочила из-за стола. Бросилась в свою комнату, оставив тарелку с остывшими тельцами макаронин, навечно сросшимися в сиамские двойни и тройни. Обреченными на помоечную братскую могилу.
— Надюш! Надюш, ты куда?
Надя подбежала к окну. На улице шел снег. Он засыпал дорогу рядом с «Пятерочкой» и тут же пачкался под ногами прохожих, покрывался темными точками и становился похожим на мороженое с шоколадной крошкой. А в стороне от дороги, среди неповрежденной белизны, темнела точка побольше — потерянный черный берет. Девушка так и не вернулась за ним. И его медленно заносило снегом.
Надя села на пол и схватилась за батарею.
— Надюш, ты довести меня хочешь? Ну-ка вернись за стол немедленно! — кричала из коридора бабушка.
Не вставая, Надя повернулась лицом к комнате. В окно из глубины влажного снежного вечера струилась бархатистая темнота вперемешку с фонарным светом. И со светом зеленого аптечного креста. Умерла, подумала Надя. Значит, она и правда умерла.
И Надя стала представлять девушку мертвой. Как когда-то бабушку. Представлять, как сливочная кожа становится совсем бледной, почти белой, и резко контрастирует с внезапно расплывшимися и будто потемневшими веснушками. Рот искривлен в напряженной гримасе. Большие глаза распахнуты и неподвижно смотрят в ледяное ноябрьское небо. Девушка лежит на мерзлой земле в одних мокасинах. Надя смотрит на ее бледные руки с тонкими запястьями, вытянутые вдоль туловища, на чуть вздернутый подбородок. На лобок, покрытый тонкой полоской рыжего пушка. Надя склоняется над ней. Но ничем не может помочь.
А вот девушка уже в гробу, и глаза ее закрыты. И тело прикрыто черной тканью. Кто-то бьет лопатой промерзшую землю. Прямо как в фильме… В каком это было фильме? Надя не помнит. Надя вообще уже ничего не помнит. Она только молча смотрит на девушку, умершую то ли от воспаления легких, то ли от передозы. И где-то вдалеке звучит Похоронный марш Шопена.
— Похоронный марш Шопена, — тихо, но твердо сказала Надя.
Юлия Валентиновна выпучила глаза и приоткрыла морковный рот:
— Завьялова, да ты что, соображаешь?! Это детский конкурс. «Юное звучание весны». Нужно что-нибудь весеннее, солнечное, радостное. Ну, то есть необязательно, конечно, радостное, можно лиричное. Но не Траурный марш, нет…
— Но я хочу его. Только его.
— Хорошо, что Антонина Илларионовна этого не слышит. Что о тебе подумают, если ты сыграешь такое на конкурсе? Что подумают о нашей школе? О твоей бабушке? Ребенок не должен выбирать произведение о смерти. Пусть даже такое красивое. К тому же ты еще слишком мала, не можешь его как следует прочувствовать. А ты ведь сама знаешь: чтобы хорошо исполнить вещь, нужно…
Надя не дослушала фразу Юлии Валентиновны. Начала играть.
И Юлия Валентиновна замолчала.
В этот же вечер Надя вместе с бабушкой и Юлией Валентиновной сидела в кабинете директрисы. Решалась участь Надиного выбора. Было волнующе. Все предметы вокруг — вплоть до фигурок ежиков и японского золотого кота, машущего лапой, — казались тусклыми и пугающе угрюмыми. Словно были пропитаны изнутри ноябрьскими сумерками. И даже президент на календаре казался угрюмым.
— Антонина Илларионовна, не переживайте. Правда. Я знаю, что это странный выбор. Но играет она прекрасно. Я только сегодня слышала. Еще чуть-чуть отточить технику — и будет полный восторг.
Директриса скептически мотала головой. Ее студенистый второй подбородок раскачивался из стороны в сторону.
— Не знаю, Юленька, ой не знаю. А вы что думаете, Софья Борисовна?
Бабушка смотрела на Надю тревожными глазами.
— Да я вот думаю: может, мне Надюшу к психологу отвести?
Надя очень смутно представляла, кто такой психолог. И тут же съежилась от пробежавшего через мысли сквознячка. Повеяло еще одной неизвестностью.
— К психологу можно и даже нужно, — пропищала директриса. — Есть у меня один хороший на примете. Кстати, отец друга Юрочки, который вам пианино отдал.
Ее голос словно проехался по всем Надиным внутренностям, оставляя за собой целую россыпь крошечных, но очень болезненных заноз.
Бабушка неопределенно покивала, не сводя с Нади тревожных глаз.
— Насчет психолога, конечно, вам решать, — продолжила Юлия Валентиновна. — Но что касается конкурса, смею вас уверить: первое место нам гарантировано.
Гарантированное первое место убедило директрису и бабушку. Наде разрешили играть Шопена. Несмотря на то, что это не совсем весеннее и совсем не детское произведение. Надю оставили в покое. И к психологу-отцу-друга-Юрочки, к счастью, так и не отправили.
Началась активная подготовка. Потому что не успеет Надя оглянуться, как апрель уже будет тут. На занятиях с Юлией Валентиновной «оттачивали технику». А дома Надя ничего не оттачивала, просто расслабленно растекалась по клавишам, проливалась всем телом в игру.
Внутренняя музыка уже не опережала руки, как раньше. Мысли научились не бежать вперед пальцев. Зато у Нади появилась новая склонность. А точнее, проклюнулась старая, давняя, прорастающая из всех предыдущих привычек. Неодолимая тяга к зацикливанию. К закруглению себя самой на чем-то маленьком, обособленном, отделенном от большого. Раньше Надя могла часами повторять внутри себя слова одних и тех же титров, одних и тех же рекламных слоганов. Играть часами с одним и тем же набором пуговиц. А теперь подолгу застревала на одном каком-нибудь музыкальном отрывке. Наматывала круги в пределах нескольких тактов, словно ходила по периметру крошечной комнатушки. Вот оно, необходимое пространство для жизни, заключенное в четырех стенках. Четыре стенки, и больше не надо, и дверь в коридор не нужна.
Это необязательно был отрывок из Шопена. Надя все чаще забывала про конкурс, про Юлию Валентиновну и директрису. Извлекала гладкие, стройные куски из разных произведений и принималась ими упиваться. Не то чтобы эти куски были чем-то особенно красивы. Но Надя увязала в них, не могла двигаться дальше. Пальцы становились иглами, застрявшими на царапине виниловой пластинки. Периодически Надя останавливалась, отрывала иглы-пальцы от заезженного винила. Покусывала себя за косточки, похлопывала по щекам. Не от волнения, а от удовольствия. И продолжала смаковать свой ровненько отрезанный музыкальный ломоть. Так ровно Надя не умела раньше вырезать. Надя вспоминает свои бумажные круги — обкромсанные многоугольники. Вспоминает свои детсадовские снежинки — дырявые, изувеченные ножницами листы. Надя встает, распахивает окно. Протягивает ладонь на улицу, прямо в рой белых ледяных мух. Настоящие снежинки идеально симметричны, абсолютно правильны. Как Надины музыкальные отрывки. И в этой совершенной пропорциональности ей чуется холодная отстраненность от мира. Чуется смерть. Потому что в жизни все не так, в жизни нет упорядоченных граней, нет ровно вырезанных краев, нет безошибочной соразмерности. В жизни все как-то смазано, нелогично, все бесконечно перетекает одно в другое. И Надя вязнет в ровной и понятной смерти. Возвращается к пианино и вновь и вновь играет один и тот же зловеще равноугольный фрагмент.
— Я так больше не могу, — воет из коридора дядя Олег, вышедший за «Дошираком» и кока-колой. Потому что Надя стала забывать приносить ему еду. — Мам, скажи ей, а? Как сниму наушники — одно и то же, одно и то же. С утра до вечера. Ее там заклинило, похоже.
Надя продолжает. Под Надиными пальцами крутится кусочек из средней части «Января» Чайковского. «Январь» не о смерти. Но Надин кусочек — о смерти, только о ней. Под Надиными пальцами крутится смерть. Крутится девушка, потерявшая черный берет. Под Надиными пальцами крутится сама Надя.
Хочется проворачивать этот кусочек снова и снова. Поселиться в нем навсегда, не двигаться дальше. Застыть, вмерзнуть в его границы.
— Надюш, да что же это такое, в самом деле? — В комнату заходит бабушка. — Тебе что, Юлия Валентиновна велела отработать этот отрывок? Ты уже несколько дней подряд играешь только его.
— Нет, — отвечает Надя. — Нет.
— Ну а зачем тогда? И почему ты Шопена забросила? Тебе же его на конкурс надо готовить. Раз уж так решили. Сама же настаивала.
— Я готовлю.
— Да вот я что-то уже давно не слышала. Тем более от начала до конца. Все только какими-то кусками, клочками. Давай-ка, Надюша, работай. Не подведи нас.
Надя продолжает. Упивается отстраненностью, упивается абсолютной симметрией. И даже не ходит по периметру замкнутой музыкальной комнатушки. Она словно любуется ею со стороны. Из ниоткуда, с территории бескрайней пустоты. Наде совсем не больно, она уже не переживает за умершую беретную девушку. Не переживает ни за каких умерших людей.
Время идет, стрелки на часах тоже делают идеально ровные круги. Снежинки за окном все более редкие, все более тощие. Но такие же пропорциональные, как и раньше.
— Шопена, — повторяет бабушка. — Играй Шопена, раз уж решили.
Хорошо, говорит внутри себя Надя. Хорошо. И вот уже под пальцами вертится отрывок из Марша. Делаются несколько медленно-размеренных минорных шагов, от стенки к стенке, от такта к такту. Делаются не Надей, а сами по себе. И еще один раз. И еще. Шопен, говорит бабушка за спиной. Шопен, Траурный марш, говорит за спиной еще кто-то. Незнакомым звонким голосом. Шаги раздаются вновь и вновь. Одни и те же шаги. Одни и те же такты. Ровно вырезанный кусочек, несущий в себе смерть. Безболезненную абстрактную смерть.
И вдруг Надя поднимает глаза и не видит над пианино цветастых обоев. Видит непривычно белую стенку. Словно эта стенка выскочила из ниоткуда и бросилась своей белизной наперерез Надиным мыслям. Надя закрывает глаза, и под затворенными веками в бархатистом желе скользят кроваво-красные звездочки. Нужно отдохнуть, думает она, нужно отдохнуть. Отрывает руки от клавиш, кладет на колени. Распахивает веки в надежде увидеть родные узоры. Но белизна снова тут. Она абсолютная, всепоглощающая. Кажется, проникает даже внутрь. Теперь от нее не скрыться даже за сомкнутыми веками. Даже звездочки как будто побелели.
На периферии взгляда мелькает что-то знакомое. Надя поворачивает голову и видит три знакомых лица — застывших в ужасе. Бабушки, Юлии Валентиновны и директрисы. Все три сидят во втором ряду зала. Большого светлого зала. С белыми стенами и тяжелыми малиновыми занавесками. За огромными окнами тянутся ветви, усыпанные набухающими почками. У края сцены стоит полная женщина в синем брючном костюме и с недоумением смотрит на Надю. А Надя сидит в самом центре сцены, перед роялем. И время, отведенное Наде на выступление, подошло к концу.
Семейные узы
Наде долго не удавалось прийти в себя. В голове по ночам словно набухал ком изумленного сознания и лопался криком и слезами, растекался по подушке. Как она могла так опозорить бабушку и школу? Как могла настолько провалиться в забытье? Ведь Надя помнила, как ехала на поезде в Омск, где был первый тур конкурса. («Региональный этап, самый легкий».) Помнила, как поезд стремительно набирал скорость и земля убегала, уносилась назад и вниз — зыбкая, пронизанная мелькающими тонкими тенями. Надя лежала на верхней полке и смотрела в мутные разводы окна. За окном изгибались незнакомые улицы, скованные цепями бесконечно сереющих домов; смыкались и размыкались полуразрушенные стены, хранящие за собой пустоту. Колыхались кроны весенних деревьев. А бабушка сидела внизу и резала на развернутом бумажном платочке «Клинекс» огурец и вареное яйцо.
Потом был Омск. Надя оказалась там впервые в жизни. Но Омск ее не впечатлил. Почти такой же серый город, как и Надин родной, только чуть более распухший от бетона, машин, людей. Она помнила, как они с бабушкой протискивались сквозь толпу на бульваре. Как в супермаркете у бабушки чуть не украли кошелек. И как на тротуаре спал бомж, и бесцельно бредущий ветер спотыкался об его тело.
А потом Надя села за рояль, и мир вокруг стал сворачиваться и слипаться. И все пошло наперекосяк.
После провала на конкурсе бабушка три дня не разговаривала с Надей. Всю обратную дорогу молчала. И Надя боялась пошевелиться на своей верхней полке, боялась даже посмотреть в окно. Лежала на спине, уставившись широко открытыми не моргающими глазами в разрисованный потолок. На синюю фломастерную россыпь хуев. По крайней мере именно таким словом был подписан рисунок.
— Не знаю даже, что тебе и сказать, Надюша, — прошептала бабушка на третий день после конкурса, заходя в Надину комнату со стопкой выглаженного белья. — Я вот все для тебя делаю, а ты… Доведешь ты меня до могилы, доведешь.
Сказала, положила белье и ушла к себе. А Надя осталась сидеть на полу между стулом и пианино. Сгорбившись, крепко обняв колготочные коленки. И внутри горячими кровяными пузырями бурлил стыд.
Учителя тоже на какое-то время отстранились от Нади. Перестали спрашивать ее об успехах, о репертуаре, о планах на будущее. Юлия Валентиновна заявила, что в ближайший месяц не сможет давать Наде уроки. А директриса на целые две недели даже перестала с Надей здороваться. Молча проносила мимо свое тучное тело. Только изредка скользила быстрым презрительным взглядом. Наде в эти секунды казалось, что у директрисы в горле ворочается застрявшая скользкая жаба, изо всех сил пытаясь выпрыгнуть наружу.
С потерей всеобщего внимания от Нади как будто отхлынула тяжелая морская волна. Но дышать легче не стало. Стало пусто и обидно. Надя теперь снова ждала бабушку на коридорном подоконнике первого этажа. Одна домой не уходила. Надя вновь и вновь мысленно падала в ужасные воспоминания о выступлении на конкурсе. О несмываемом позоре. Хотя больше всего хотелось просто вырезать конкурс из сознания — грубо, садовыми ножницами, прихватив лишнюю ткань времени по краям. Чтобы наверняка. Почему я не умерла, почему я не умерла, почемуянеумерла, почемуянеумерла, пчмунеумла — бесконечно повторяла Надя. Покрывалась ледяной испариной. Медленно сползала на пол. Так и сидела: липкая от холодного пота, брошенная всеми — словно брошенная в урну липкая обертка от мороженого.
Зато Надя внезапно стала очень нужна родителям.
Первой объявляется мама. Мама приходит в воскресное утро и заявляет, что Надя теперь будет жить «с ними».
— Вспомнила! — кричит бабушка. — Посмотрите на нее, она вспомнила, что у нее есть дочь!
— Я и не забывала. Просто так сложились обстоятельства. И теперь я пришла забрать Надю.
Бабушка держит Надю за плечо потной рукой, и через руку ощущается ее бешеное сердцебиение. Пульсирующая бусина часто-часто подпрыгивает под кожей. Мама стоит напротив, на пороге кухни. Выглядит странно. Надя помнит, что раньше мама носила в основном джинсы с футболками и ярко красила глаза и губы. А теперь на маме синяя складчатая юбка, очень длинная, прямо до пола, и серая шерстяная кофта с высоким горлом. И к тому же на лице ни капли косметики: губы тонкие и бескровные, ресницы почти белые.
— Забрать она пришла! Да ни за что. Это я из Нади человека сделала, это у меня она сказала первое слово и на пианино, между прочим, заиграла! Она со мной останется, поняла меня? Со мной!
— Послушай, мама, Надя — моя дочь. По документам она моя. И живет со мной.
— Ах вот оно что! Надо же, как мы заговорили. Документами решили потрясти. Давай, выложи мне свои документы, сюда вот на стол, — бабушка стучит ногтем по клеенчатому обеденному столу, прямо по розово-желтому кораблику. — Давай. Можешь еще и в суд на меня подать.
— Мама, прекрати нести бред. Просто отдай мне Надю. Она должна жить с нами. В нормальной полноценной семье. Ей так будет лучше, неужели непонятно.
Мама говорит отрывисто и жестко, надавливает с силой на каждое слово. Будто с трудом режет черствый пересушенный хлеб.
— Мне понятно только одно: ты свою дочь уже упустила. Так что не надо теперь цирк устраивать и документами меня стращать.
За маминой спиной появляется дядя Олег:
— Слушайте, а можно как-нибудь потише? Я все-таки работаю.
Бабушка отвлекается на его внезапное появление и на секунду ослабляет хватку пульсирующей руки. Наде хватает этой секунды, чтобы ускользнуть. Она проносится мимо мамы и дяди Олега, прячется в своей комнате. Подальше от криков, подальше от бабушкиного сердцебиения. Надя садится на пол, между пианино и стулом, не боясь заноз. Гладит горячей ладошкой педали — и те отзываются металлическим холодом. Нет, даже не металлическим, а трупным, фиолетовым, как буква «Х». Надя затыкает уши и мысленно играет Первый концерт Чайковского. Но Первый концерт слишком длинный, она спотыкается, мотает головой, впивается зубами в нижнюю губу. Сквозь закрытую дверь и закрытые уши все еще доносятся фразы. Мутные и дрожащие, словно желе. Все короткие и все неразличимые. Из губы идет кровь, и у крови металлический привкус. Привкус пианинных педалей.
Надя не помнит, как долго уже сидит на полу. В конце концов приходит мама и вытаскивает ее из-под пианино. Мамин голос уже не черствый, он внезапно стал совершенно мягким, пластичным, ласковым:
— Доченька, Наденька, скажи бабушке, что ты хочешь жить со мной. И с твоим новым папой. Ведь так тебе будет лучше. Скажи, что хочешь, чтобы было так.
Надя хочет только одного: чтобы весь этот спор поскорее прекратился.
— Скажи, Наденька, просто скажи «да». И мы с тобой пойдем домой. К нам домой.
В комнате появляется бабушка с очень бледным лицом. Мама больно хватает Надю за локоть и неотрывно смотрит на нее ласковыми, просящими глазами. Пышные аккорды из концерта Чайковского вытягиваются в голове в тоненький солоновато-металлический свист.
— Да, — шепчет Надя. Чтобы мама отпустила ее локоть. Чтобы отвернулась. Чтобы все закончилось.
И мама действительно расцепляет пальцы. Победоносно распрямляет спину. А бабушка странно улыбается и качает головой:
— Ну, конечно. Конечно. Идите, живите одной большой православной семьей. Ведь этого же хочет твой Игореша, или как там его? Ну да, не по-христиански бросать своих детей, что уж говорить. Пожалуйста, на здоровье. Раз вы такие правильные, такие прямо благочестивые. А бабка — нет. Бабка — только так, временная нянька. Подкинули ей ребенка — забрали, подкинули — забрали. А больше от бабки толку никакого.
Надя вернулась в прежнюю квартиру.
Возвращаться было очень странно. За время Надиного отсутствия соседи сверху залили гостиную, и по потолку здесь теперь расплывалось огромное желтое пятно в виде медведя без задних лап. На стенах тоже были потеки, но поменьше: несколько волнистых змеек, пара бубликов и один противогаз — прямо как из учебника по ОБЖ. Надя медленно, осторожно ходила от стенки к стенке. Залитая гостиная казалась полузатонувшим кораблем, на котором Надя когда-то потерпела крушение. И вот теперь она оказалась в знакомом до боли, но мертвом трюме со стоячей гнилой водой. Правда, стоячая вода была только в Надином воображении, но сути дела это не меняло.
Кроме потеков, были и другие изменения. В частности, повсюду теперь стояли и висели иконки. В гостиной, в прихожей, в коридоре. И на кухне, рядом с телевизором — самая большая, на белой салфетке с кружевными прорехами. Прислоненная к сломанной микроволновке.
Еще в квартире теперь жили незнакомые люди, и это оказалось ужаснее всего. Самым большим и ощутимым из новых жильцов был мамин муж дядя Игорь.
— Это дядя Игорь, — сказала мама в день переезда, подводя к нему Надю. — Это теперь твой папа.
У дяди Игоря были печальные глаза, волосы с проседью и выпирающие передние зубы. В целом он походил на темно-серого задумчивого зайца.
Надя испугалась, что он сейчас начнет ее обнимать, душить и слюняво целовать в щеку (так иногда происходило в фильмах в похожих ситуациях). Но он, слава богу, только прикрыл свои медленные печальные глаза и чуть заметно кивнул:
— Здравствуй, Надежда. Добро пожаловать обратно в семью. Надеюсь, тебе будет у нас хорошо и спокойно.
Надя удивилась, услышав «у нас». Значит, она «у них». А значит, не у себя. На этом мысли порвались и полетели ошметками в разные стороны.
— Проходи, Наденька, не стесняйся, — сказала мама, но эту фразу Надя уже не в силах была осмыслить.
Кроме дяди Игоря, в квартире поселились двое его сыновей, примерно Надиного возраста. У обоих были плоские скорбные лица с отсутствующим взглядом. На Надю они практически не смотрели. Звали их Ярослав и Мирослав, но Надя так и не поняла, кто из них кто. Ей казалось, что они близнецы, хотя такого быть не могло, потому что братья вроде как родились в разные годы.
Ярослав и Мирослав теперь жили в бывшей Надиной комнате, а Надя жила в гостиной. Спала на старом бордовом диване — на котором когда-то смотрела вместе с мамой сериалы, поджав под себя одну ногу. Телевизора в гостиной больше не было — на его месте стояла ваза с сушеными цветами.
Бордовый диван раскладывался, и на него каждый вечер стелилось белье — белоснежное и жесткое от крахмальной чистоты. Раньше, до переезда к бабушке, мама редко меняла Наде постельное белье, а теперь делала это раз в три дня. Теперь простыня постоянно хрустела под Надей, и казалось, что это ломаются тысячи птичьих косточек. Или шуршат мертвые бабочки. Она ворочалась, и в ребра больно впивались пружины.
Самым неприятным было то, что гостиная продолжала оставаться для всех нейтральной территорией. И даже когда Надя лежала вечером на хрустящей простыне, в пижаме с кенгуренком, мимо беспрестанно проходили. Мама, дядя Игорь, Ярослав и Мирослав спокойно вышагивали по скрипучему паркету, что-то доставали из шкафа, из серванта. Вполголоса переговаривались. И Надя отворачивалась к стенке, с головой ныряла в шуршащее одеяло, прикусывала щеку. Изо всех сил старалась уснуть, поскорее погрузиться в свои обособленные грезы, куда никому не было доступа.
Днем мама и дядя Игорь отправлялись на работу, в какую-то религиозную организацию, а Надя со своими новоиспеченными братьями оставалась дома. Потому что подходил к концу май и уроки прекратились, закруглившись годовыми контрольными. Братья в основном сидели в своей комнате с книгами, а Надя наматывала круги по гостиной. Не было больше домашних заданий, не было пианино, не было даже использованных батареек, и Надя не знала, куда себя деть. Пару раз забиралась на подоконник и смотрела в окно, но быстро проваливалась в тоску. К тому же мужчина в трениках и белой майке больше не появлялся на балконе. А дом напротив был все таким же, серым, неподвижным, словно разбитый параличом больной.
Вечером ужинали всей семьей. Телевизор на кухне не включали. Все сидели очень прямо, особенно братья, и при этом не делали лишних движений. Не говорили лишних слов: только самые важные. Скользкими, улиточными голосами. Надя часто не хотела есть, и аппетит с каждым днем уменьшался. А от вида тушеной брюквы и плоских лиц братьев в груди начинал вращаться в разные стороны барабан стиральной машины в режиме «Интенсивная стирка». Мама больше не ругалась, не называла Надю маленькой дрянью, как раньше, но тихим вкрадчивым голосом объясняла, что не доедать нехорошо, потому что Бог дал Наде пищу и нужно с благодарностью ее принимать. Дядя Игорь кивал, прикрывая свои печальные медленные глаза:
— Это правда, Надежда. Слушай маму, не расстраивай ее. Цени то, что у тебя есть. Мы с мамой работаем в ассоциации, которая помогает больным детям. В том числе и таким, как ты. Так вот поверь мне, что эти дети были бы счастливы, если бы им давали ежедневно хотя бы половину того, что дают тебе.
Надя изо всех сил старалась остановить вертящийся в груди барабан. Старалась не смотреть, не думать, не слушать. Просто глотать, глотать, глотать.
Периодически Надю пытались учить молитвам. Но Надя учиться не хотела. Молитвы никак не представлялись в ее голове, ни во что не окрашивались. Сквозь прикрытые веки разливался свинцовый фон, тоненько прошитый по краям бликами от торшера. Затем блики таяли, и перед Надей тянулись только бесконечные гладко-серые проходы в никуда. Надя молчала, не повторяла за мамой. И мама делала несколько горьких вздохов и оборачивалась к дяде Игорю.
— Ну что я могу сделать? — сдавленно говорила она.
Дядя Игорь успокаивающим жестом клал ей на плечо руку. Приоткрывал рот, обнажая свои заячьи зубы:
— Ничего, Марина, ничего. Не все сразу. Надо уметь терпеть и ждать. Бог терпел и нам велел.
Несколько раз приходила бабушка, гладила по руке, встревоженно шептала:
— Как ты тут, Надюш, а? Не скучаешь? Все хорошо? Может, это и правильно. Ребенок должен жить с матерью, Надюша. Но если захочешь вернуться, то знай: бабушка всегда тебя ждет.
Надя не знала, чего она хочет. Все ее желания тоже как будто были разбиты параличом. Как дом напротив. И Надя молча вытягивала зеленые нитки из джемпера, наматывала их на указательный палец. Бабушка, хоть и была рядом, казалась далекой, недосягаемой. Словно сидела за витринным стеклом.
— Слышишь меня, Надюша?
Надя кивала. Но не поднимала глаз и не произносила ни слова. Ниток становилось все больше, и они лианами опутывали уже всю ладонь целиком.
Тетя Ира не приходила в гости, не пила с мамой вино, не жаловалась на жизнь. Вообще посиделок с вином больше не было. Да и без вина тоже. Только однажды вечером в гостиной собралось много незнакомых взрослых людей. Они садились на Надин диван, пили чай и смотрели на Надю грустно и пристально. А Надя вглядывалась в свое отражение на окне. Ей казалось, что оно существует отдельно от гостиной, от квартиры, от всех присутствующих. Будто вырезано из какого-то другого окружения и неровно наклеено на светящийся оконный квадрат. Вокруг говорили — много, скучно и непонятно. Иногда даже обращались к Наде. Но слова падали в сознание тяжело — словно камни на дно очень глубокого колодца. Надя не отвечала, и на нее смотрели еще грустнее.
По воскресеньям Надю иногда водили в церковь. В церкви постоянно было многолюдно и очень неуютно. Голос священника казался грозным, устрашающим. К тому же мама надевала на Надину голову косынку и туго затягивала концы под подбородком. Узел мучительно натирал шею, оставлял после себя на коже розовый след, который потом два дня чесался. Во время службы мама периодически поворачивалась к Наде и подносила палец к бесцветным губам. Непонятно, что означал этот жест. Надя и не думала издавать хоть какие-то звуки.
Зато Надя с удовольствием смотрела на тонкие свечки, роняющие кремово-желтые слезы. Стекала вместе с этими слезами все дальше внутрь себя. Дальше от мамы, от дяди Игоря, от священника.
После службы медленно выходили на улицу, выныривали из церковного прохладного полумрака в горячую синь. Улица казалась слепяще яркой, била по глазам.
— Не знаю, что мне делать с Надей, — сказала как-то раз мама дяде Игорю, когда семья возвращалась из церкви домой. — Она вообще ничем не интересуется. Сейчас вот стояла — в облаках витала. Не слушала, не пыталась вникнуть.
Мама, дядя Игорь и братья шли впереди. Надя, как всегда, отставала на два шага, плелась хвостом — за прямыми спинами братьев.
— Не все сразу, Марина, не все сразу.
— Но ведь должен же быть у человека какой-то интерес в жизни, какой-то стержень! Она вроде начинала немного играть на пианино: мама что-то говорила. Но, кажется, без особого успеха. Конкурс какой-то с треском провалила. Может, мне ее Даше отдать учиться орнаментальному шитью? Хотя нет, вряд ли… С руками-то у Нади всегда были нелады.
— Не переживай, Марина, не тревожься. Пусть все идет своим чередом. А Надеждой мы займемся. Сделаем из нее человека.
Надя вздрогнула. Она раньше думала, что человека из нее уже сделала бабушка. Но оказывается, это не так. Оказывается, вся работа по очеловечиванию еще только предстоит, и делать ее будут дядя Игорь и мама.
А между тем Надя все больше запиралась в себе. Окружающий мир исчезал — сначала маленькими деталями, затем целыми фрагментами. Музыка исчезала сначала нотами: шестнадцатыми, восьмыми, четвертями, половинами. Затем тактами. Затем исчезала полностью. Медленно затихал внутренний праздник жизни. Исчезала и речь: сначала словами, затем предложениями. Произносимых Надей фраз становилось все меньше. Надя возвращалась к себе пятилетней.
В конце концов она стала выть по ночам — как когда-то, еще в немой период своего существования. Мама и дядя Игорь вставали и, шурша тапками, плелись в гостиную. Включали свет, смотрели на Надю заспанными глазами. Ругани и проклятий не следовало. Были только долгие уговоры и наставления. Непонятные, запутанные увещевания по поводу внутреннего Надиного спокойствия и внутреннего спокойствия окружающих. По поводу смирения и послушания. Все это говорилось в основном дядей Игорем — монотонным и тихим голосом. Но в грустной заячьей невозмутимости его взгляда Надя впервые стала замечать маленькие осколки раздражения.
В начале августа объявился папа.
Он пришел в субботу, когда мама с Надей остались дома одни. Дядя Игорь с сыновьями поехал на кладбище — проведать могилу первой жены.
Папа, в отличие от мамы, практически не изменился. Только отпустил легкую щетину. А еще от него теперь пахнет древесно-пряным парфюмом. И вот он стоит посреди гостиной и взмахивает жилистыми руками в засученных по локоть белых рукавах. Мама стоит напротив него и тоже взмахивает руками — тонкими, обтянутыми синим трикотажем. А Надя сидит в углу на своем диване и вязнет в странном ощущении знакомости происходящей сцены.
— Вспомнил! — кричит мама. — Посмотрите на него, он вспомнил, что у него есть дочь!
— Я и не забывал. Просто так сложились обстоятельства. И теперь я пришел забрать Надю.
— А с какой, интересно, стати ты собираешься ее забрать? Она живет с нами, в полноценной правильной семье, и ей у нас хорошо!
— В правильной семье! Охренеть. Будешь строить из себя заботливую мамочку?
— Я ничего из себя не строю, в отличие от тебя. Это ты ушел от семьи. Ты разрушил семью. А я Надю в семью вернула. И окружила ее заботой.
— А ничего, что Надя и моя дочь тоже? И я вообще-то тоже собираюсь создать семью.
— Ага, хочешь разжалобить свою молодую шлюху больным ребенком? Так вот запомни: у тебя ничего не выйдет. А знаешь почему? Потому что ты этого не заслуживаешь. Потому что ты лживый похотливый недоумок, для которого нет ничего святого. А Бог все видит.
— Охренеть, какой ты стала набожной.
— Я, в отличие от тебя, многое поняла за это время. А ты все только за свое. Не можешь смириться с тем, что стареешь. Все никак не угомонишься. А уж что такое благочестие — даже примерно не представляешь.
— Вы сначала со своим Игорешей отдайте мне полностью мою часть денег за квартиру, а потом уже говорите про благочестие.
— Отдадим мы тебе твои деньги, не переживай. А теперь проваливай, и чтоб мы тебя здесь больше не видели.
Надя скользит взглядом по желтому пятну-медведю, и ее голова больше не пережевывает звуки. Все родительские слова остаются в неизменном виде — по ту сторону головы. Продолжает жеваться только боль — туповатая, пресная. Будто жвачка, потерявшая вкус.
В тот день папа ушел без Нади. Хлопнул сначала дверью гостиной, а потом и входной дверью в квартиру. Надя села на пол под открытое окно и стала смотреть, как ветер то засасывает, то выталкивает тюлевые занавески. Занавески вздувались и опадали, как вздувалось и опадало внутри Нади смутное беспокойство. А когда спустя два часа вернулся дядя Игорь с сыновьями, мама принялась плакать и жаловаться на «дерзкого грубияна», пытавшегося отнять у нее дочь. Дядя Игорь утешал маму, убеждал, что «никто не посмеет разлучить ее с Надеждой, и не стоит предаваться тревоге и унынию».
В ту ночь Надя снова подняла вой. Точнее, вой поднялся сам из Надиной глубины. Негромкий, стесненный, сжатый, но достаточный для того, чтобы мама и дядя Игорь опять проснулись. И в первый раз за все время дядя Игорь не стал увещевать Надю. Пока мама поправляла сбившееся одеяло, он молча стоял рядом с сервантом. Скрестив руки на груди и опустив в пол взгляд, налившийся усталостью и неприязнью.
А на следующий день, выходя из церкви, дядя Игорь тихонько сказал маме:
— Знаешь, Марина, я подумал, что, возможно, мы поступаем неправильно. Ведь Надежда и его дочь тоже. И он имеет на нее такое же право. Не по-божески лишать его возможности о ней заботиться.
— Ты хочешь, чтобы я отдала Надю этому подонку?
— Не то чтобы отдала, Марина, нет. Но время от времени Надежда может жить и у него. Ведь вы оба родители.
— Да какой же он родитель! — мамин голос всколыхнулся возмущением. — Он бросил ее на произвол судьбы. Больную дочь!
— Но раз он все-таки вернулся, значит, он раскаивается в своем грехе.
— Только что-то поздно он раскаялся.
— Каяться никогда не поздно, Марина. И нужно уметь прощать. Давать раскаявшемуся второй шанс.
Мамины возражения становились с каждым разом все менее твердыми, все более студенистыми. И в тот же вечер на Надином диване возникла знакомая дорожная сумка. Туго набитая вещами, она криво улыбалась чуть разошедшейся молнией.
Надю отправили к папе.
Папа жил в незнакомом районе, на окраине. В однокомнатной квартире на четырнадцатом этаже. Вид оттуда был потрясающе обширным: на темнеющий пустырь, прорезанный заброшенными трамвайными путями, на ржавые коробки гаражей, на жмущиеся друг к другу однотипные дома, на дымящую вдалеке теплоцентраль. Надя подолгу увязала в этом виде. Стояла часами у окна, как завороженная. Город с высоты казался ей огромной рыболовной сетью, которая вытащила из нее множество разрозненных воспоминаний. Из глубины Нади в наземный мир. И Надя неотрывно смотрела на собственные пережитые моменты, лежащие теперь снаружи, за пределами памяти, и как будто объединенные неприкаянностью. Девочка в полосатом красно-белом платье снова кричала от того, что Надя наступила ей на руку. Кричала громко и долго, вырастала до небывалых размеров, поднималась красно-белыми трубами централи к небу. Над трубами застывал дым, замирал в недоигранном Надей на конкурсе Траурном марше. Простыни, которыми когда-то были накрыты детские тела из двадцать третьей квартиры, теперь развевались на веревках балкона одиннадцатого этажа второго желтого корпуса. И в телах снова бежала по кругу теплая кровь. Ржавые пятна с бабушкиной стремянки перекочевали на стены и крыши гаражей. А между воспоминаниями расползался землистый пустырь, поросший редкими пучками травы. Землисто-серая пустота.
Папа не заставлял учить молитвы, ходить в церковь и с благодарностью есть тушеную брюкву. Это было хорошо. А совсем замечательно было то, что у Нади снова появилась своя комната, куда никто не заходил. По крайней мере в ночное время. Потому что папа спал на кухне, на надувном матрасе.
Не приходилось и терпеть в квартире посторонних жильцов. Правда, в гости очень часто приходила девушка по имени Яна. Очень молодая — всего лет на семь старше Нади. С золотистыми волосами (почти такими же, как у мамы, но более гладкими), акварельно-синими глазами и аккуратными перламутровыми ногтями. Яна смотрела на Надю со странным беспокойством и обращалась к ней очень ласковым голосом. Говорила всегда просто и медленно, почти по слогам. Почти так же, как мама, которая когда-то пыталась заставить немую Надю сказать хоть слово.
— За-яц, — говорит мама внутри Нади.
— Ан-глий-ский, — говорит Яна на папиной кухне. — Это такой язык. Я-зык, понимаешь? Есть русский язык. Мы на нем говорим. А есть английский. Совсем другой. Там другие слова. Вообще непохожие.
Надя знает, что такое английский язык. У нее в школе он тоже есть, со второго класса. Но Надя не хочет расстраивать Яну, поэтому слушает ее сосредоточенно, с удивлением. Приоткрыв рот.
— И я его учу. В институте. Читаю на нем, пишу. Там другие буквы. Бук-вы.
— Бук-вы, — зачем-то прилежно повторяет Надя.
Янина манера говорить кажется очень странной. Но, видимо, так надо. Видимо, Яне хочется, чтобы разговор был именно таким. А Наде хочется сделать Яне приятное. Возможно, потому что Яна говорит с ней очень ласково. А возможно, потому, что Наде отчего-то ее жаль. Жаль по-доброму, искренне.
— Ты знаешь буквы? Умеешь немножко читать?
Надя чуть заметно кивает.
— А писать? — Яна вытягивает правую руку под абрикосово-теплый свет абажура. Крутит пальцами с перламутровыми ногтями, как будто пишет на скатерти.
Надя кивает снова.
— Да. У-ме-ю.
— Молодец, — говорит Яна. — Ты просто умничка.
Папа стоит рядом, курит в открытое окно. Дым медленно утекает в небо, растворяется в мягкой поволоке летнего вечера.
— У тебя такая милая дочка, — говорит Яна папе. — И вы оба просто молодцы, что не сдаетесь, несмотря ни на что.
Папа разводит руками и грустно смотрит в окно:
— Мы стараемся.
— Нет, ну правда. Помнишь, я тебе рассказывала про Юлю, одногруппницу? Так у нее племянник с похожими проблемами. Что-то там с хромосомами не то. Ну или что-то в этом роде. И его мать — Юлина сестра — им вообще не занимается. Ну и результат: в шесть лет мальчик совсем ничего не умеет. Только мычит постоянно.
Папа выдыхает дым и трагически жмурится:
— Это сложно все, Ян, очень сложно. Не надо никого судить.
— Нет, я понимаю, конечно. Я и не сужу… Просто говорю, что вы с Надей молодцы. Все-таки научиться читать и писать… А она ходит в какую-то специальную школу?
Папа замирает, несколько секунд задумчиво и напряженно смотрит на Надю. Затем снова переводит взгляд на заоконный город.
— Да, ходит…
Надя молчит. Ей не хочется возражать. Если папа и Яна хотят думать, что она ходит не в обычную школу, а в специальную, пусть так и думают. А осенью, когда начнутся уроки и придется во всем признаться, они, возможно, уже забудут, что так думали.
И Надя встает из-за стола и тоже смотрит в окно. Вечер начинает потихоньку густеть. Город еще не потерял четких контуров, но уже загорелся щедрой россыпью огоньков — уличных и квартирных. Эти маленькие предвечерние огни кажутся чайными каплями, повисшими на ветру.
Как оказалось, после развода с мамой папа бросил работу «в идиотском офисе». Вернулся к творчеству, к скульптурам. Еще Надя заметила, что папино творчество каким-то образом связано с Яниным отцом. По крайней мере, когда разговор между папой и Яной заходил о мастерской, скульптурах и выставках, часто звучали фразы вроде «Позвони моему папе, поблагодари». Или: «Папа же обещал, так что не волнуйся». Или: «Напомни, пожалуйста, Виктору Геннадиевичу».
Виктор Геннадиевич — это, видимо, было имя Яниного отца.
Несколько раз папа звал Надю с собой в мастерскую, посмотреть на скульптуры. Но Надю скульптуры не интересовали, и она предпочитала оставаться дома одна. Сидеть на подоконнике или расставлять ровными рядами стаканы и чашки.
Иногда Надя ходила гулять. Случалось это в основном, когда папа и Яна были дома. Папа объяснял Наде, что взрослые иногда ведут серьезные разговоры, при которых детям не стоит присутствовать.
— Как же так, она пойдет на улицу совсем одна?! — с ужасом воскликнула Яна, когда папа впервые предложил Наде сходить «проветриться».
— Да, она уже может гулять одна, — гордо ответил папа. — Она очень самостоятельная, несмотря ни на что.
Яна тревожно посмотрела на Надю и впилась ей в плечи острыми перламутровыми ногтями.
— Это правда? Ты у-ве-ре-на? Ты можешь выходить одна? Од-на? Без папы? Без взрослых?
— У-ве-ре-на, — ответила Надя, слегка скривив губы, чтобы звуки выходили чуть менее внятными.
— Вадик, а у нее телефон-то есть, чтобы позвонить, если что?
Папа растерянно поднял брови:
— Телефон… нет, телефона нет. Так ведь она и пользоваться не умеет. Да ничего страшного. Она говорила, что уже выходила на улицу одна.
— Нет, ни за что. Без телефона, больного ребенка, одного — я категорически против. Она, конечно, не моя дочь, и все такое. Но я против.
И на следующий день папа подарил Наде телефон.
Яна тут же принялась объяснять, как им пользоваться, как нужно «проводить пальчиком по экрану». Наде было скучно, телефон не вызвал никаких эмоций. Но чтобы не обижать Яну, она терпеливо прослушала инструкцию.
— Вот тааак, хо-ро-шо. Смотри: нажимаешь сюда, и папин телефон… звонит! Слышишь? Попробуй сама.
Надя послушно пробовала.
— А теперь смотри. На экране написано «Я-на». Это я тебе звоню. Твой телефон уже знает, что это я. Нужно провести вот так. Тааак. Умничка.
С этого дня Яна согласилась отпускать Надю на прогулку.
— Только осторожно там, и смотри не чуди! — говорил папа, закрывая за ней дверь.
Она и не собиралась чудить. Помнила, что когда чудишь, можно умереть от передозы.
Поначалу Надя не решалась выходить на улицу. Спускалась по лестнице с четырнадцатого этажа и медленно-медленно поднималась обратно. Иногда по два раза. Гладила перила, подоконники, чужие дерматиновые двери. Считала на каждом этаже окурки, плавающие в обрезанных пластиковых бутылках. Потом стала осторожно выныривать из подъезда в летний обволакивающий воздух, немного сонный от жары. Далеко Надя не уходила, чтобы не потеряться. В основном кружила около дома, смотрела, как мальчишки играют в футбол на пустыре. Или просто смотрела под ноги, на вздрагивающие при каждом шаге кроссовочные шнурки. Максимум доходила до небольшого сквера за домом. Сквер утопал в сверкающей зелени, и солнце висело среди листвы перезревшим плодом. Еще повсюду пестрели клумбы с крупными мясистыми цветами.
Яна обязательно звонила и отчетливо спрашивала, как дела, все ли «в по-ряд-ке».
— Все в по-ряд-ке, — отвечала Надя хилым расплывчатым голосом.
— Возвращайся домой. Только осторожно. Слышишь? Ос-то-рож-но!
Прогулки в основном были скучными. Но мешать серьезным разговорам не хотелось. И Надя послушно уходила на «проветривание». К тому же «в такую прекрасную погоду грех сидеть дома». А грех — это серьезно, Надя знала это от мамы и дяди Игоря. Так что выбора не было.
Впрочем, вскоре Яна принесла Наде наушники и показала, как слушать на телефоне музыку. Это наполнило прогулки новым смыслом. Теперь Надя могла в любую секунду включить желанное произведение, а не ждать, пока его передадут по бабушкиному приемнику. И Надя стала покидать папину квартиру в радостном предвкушении. Все дольше разгуливала по дорожкам сквера, давала себе пропитаться мягким тенистым теплом. Вдыхала густые летние запахи, прикрывала глаза. И в уши лились концерты Бетховена, Чайковского, Рахманинова. Музыка постепенно, нота за нотой, возвращалась в Надю.
А как-то раз Надя с папой были у Яны в гостях. Яна жила в чистенькой и очень светлой розово-бежевой квартире. В кирпичном доме недалеко от Надиной школы. Наде в гостях понравилось. Она сидела на плюшевом розовом диване рядом с папой, а Яна поила их чаем и кормила довольно вкусным банановым чизкейком. В комнате были розовые подушки, пуфики, ароматные свечки, диковинные изогнутые вазы. А еще в углу стояло пианино. Надя долго смотрела на него и все яснее осознавала, что страшно истосковалась за эти три месяца по ощущению клавиш под пальцами. Горячая тоска больно и одновременно сладко впилась в Надино сердце. Острыми длинными зубами в сочную сердечную мякоть. Надя поднялась с дивана. И, оставив на бежевой квадратной тарелке недоеденный кусочек чизкейка, подошла к пианино и открыла крышку.
— Я слышала, ты чуть-чуть умеешь играть? — спросила Яна и помахала пальцами, изображая игру на воздухе. — И-грать.
— Да, — прошептала Надя.
С обкусанным сердцем она стояла над клавишами и не знала, с чего начать.
— Я тоже, немного. Ты знаешь все ноты? Можешь сыграть гамму? Гам-му? До мажор, например.
— Мо-гу.
Впрочем, Яна не настаивала на гамме. Тут же повернулась к папе и принялась приглаживать свои и без того гладкие золотистые волосы.
— А я ведь когда-то даже ходила в музыкальную школу, представляешь? Так вот пианино с тех пор и стоит. Но я, конечно, музыкалку не окончила: это реально был ад.
— А что так?
— Да там надо было играть по нескольку часов в сутки. Постоянно какие-то экзамены сдавать перед целой комиссией… А склонности особой у меня не было. Это папа заставлял, все хотел сделать из меня образованную девочку. — Яна закатила глаза. — Как сейчас помню, я ушла, когда начали разбирать «Жалобу» Гречанинова. Тогда мои нервы окончательно сдали, и я сама наконец представила папе жалобу. На свою невыносимую жизнь.
Можно и Гречанинова, подумала Надя. «Жалобу» она помнила хорошо. Сначала легкая, почти невесомая, как скользящая по мягким волнам лодка. Потом все более тревожная и уплотняющаяся. Надя положила руки на клавиатуру. Опустила педаль, опустила клавиши, опустила саму себя внутрь нот.
В следующую секунду комната наполнилась звуками. Самые первые звуки были довольно робкими: то ли из-за отвыкших рук, то ли из-за долго не стриженных ногтей. Но уже на втором такте звуки окрепли. И все тревоги последних месяцев разом схлестнула музыка — моментально натекшая из тишины. Натекшая сквозь Надины пальцы, которые вновь стали гибкими, теплыми, живыми.
Лодка восходит на гребень волны, задерживается там, на верхней ноте, поворачивается на сильной доле — и ниспадает. А внизу, в морской глубине, короткими настойчивыми шагами идет буря. Постепенно прорывается на поверхность. Волны становятся все больше, все сильнее, и вот уже лодка терпит крушение. Сидящая в лодке Надя пытается спастись. Несколько тактов отчаянно борется со стихией. Но потом успокаивается и навсегда уходит на дно.
Когда Надя закончила играть, никто не проронил ни слова. Папа удивленно поднял брови и положил ногу на ногу. А Яна замерла на несколько секунд, держа в пальцах золотистую прядь своих волос. Стояла и смотрела, приоткрыв рот, куда-то перед собой.
— Да, это она… Та самая «Жалоба».
С этого дня Яна перестала говорить с Надей по слогам.
Осенью началась школа. Как Надя и предполагала, ни папа, ни Яна не вспомнили, что ее школа должна быть специальной. Папа полгода назад купил машину и возил Надю в школу на ней. Потому что добираться пешком было слишком долго, а нужный автобус рядом с домом не ходил. В папиной машине громко играла странная агрессивная музыка, которая Наде совсем не нравилась. Еще в машине пахло папиным древесно-пряным парфюмом. Иногда пеной для бритья или чипсами со сметаной и луком.
В школе к Наде постоянно подходила бабушка, с тревогой спрашивала, все ли с Надюшей хорошо. Чем ее кормят. Есть ли у нее осенние сапоги.
— Тебе отец твой передал, что я вчера звонила?
Надя всякий раз качала головой, и бабушка вздыхала. Прикрывала серые водянистые глаза.
— Дай хоть волосы тебе расчешу, а то опять вшивый домик на голове.
Бабушка больно и долго вытягивала Надины колтуны, заплетала их в косу. Потом вручала завернутые в салфетку и в полиэтиленовый пакетик бутерброды с брауншвейгской колбасой и сыром «Российский». Надя не любила бутерброды — особенно в венозных стенах школы. Предпочитала папины сметанно-луковые чипсы. Но чтобы не расстраивать бабушку, молча брала пакетик и убирала в рюкзак. После уроков скармливала — хлеб голубям, а колбасу и сыр грустной бездомной хаски, часто гуляющей на пустыре.
В целом Наде нравится ее теперешняя жизнь. Нравится папина квартира с бесконечным видом из окна. Нравится Яна. Нравятся прогулки по скверу с музыкой в ушах. Осень продолжается, и воздух в сквере становится терпким, сладковато-прелым. В ушах уже звучит «Октябрь» Чайковского. Солнце с каждым разом все раньше лопается кровяным пузырем. Все раньше по окнам соседских корпусов стекает бледная закатная сукровица. Все на своих местах, все хорошо. Не хватает только пианино…
Но и эта жизнь должна закончиться.
Первая тонкая трещинка побежала по устоявшемуся порядку вещей поздним октябрьским вечером. Надя уже лежала в кровати, но уснуть не получалось. Из кухни доносились приглушенные, но резкие голоса — папин и Янин.
— А что я могу сделать? Ничего! — шершаво и чуть хрипло заявляла Яна.
— Ты можешь с ним еще раз поговорить! — энергичным полушепотом возражал ей папа.
— А что толку? Если он что-то решил, его не переубедить. Разве не знаешь?
— Я не понимаю. Все же было хорошо!
— Было, но эта последняя выставка…
— И что? Он считает меня бесперспективным? Бездарным?
— Прекрати, нет, конечно…
— Да, у меня тоже бывают спады, как у всех! Или, может, он думает, что это очень просто: растить особенного ребенка и при этом заниматься творчеством?
— Перестань, я же говорю! Конечно, он все понимает.
— Тогда что? По-моему, выставка тут ни при чем. Он просто не хочет, чтобы мы были вместе. Это из-за моего возраста? Да? Ну скажи, да?
— Послушай, ну папу тоже можно понять. Просто он…
В окно смотрел обглоданный безжизненно-белый месяц. Звезд на удивление было много, и они сверкали остро и отрывисто, словно стаккато в «Смелом наезднике» Шумана. Приподнявшись на локтях, Надя принялась их пересчитывать. Несколько раз сбилась со счета и так и не сосчитала. Бросила.
С того вечера Яна стала ругаться с папой постоянно. Трещина углублялась, ширилась, разветвлялась. При Наде Яна старалась сглаживать интонации, но как только Надя уходила в комнату, ее голос мгновенно заострялся. И папин тоже.
Еще Яна стала приходить в гости все реже. А после очередной ссоры ушла навсегда. Надя сразу поняла, что она больше не вернется. Еще когда Яна натягивала на себя в прихожей приталенное бежевое пальто и замшевые сапоги на невероятно высоких каблуках.
— Давай, тебя тут никто не держит. Катись отсюда, — кричал папа из кухни. — Иди, пожалуйся на меня папочке. И пусть он подберет для тебя молодого и богатого гения.
Яна не ответила папе. Натянув пальто и сапоги, склонилась к стоящей рядом Наде. Больно вцепилась ей в плечи. Прошептала:
— Ты очень классная… Пусть у тебя все в жизни получится.
И ее акварельно-синие глаза влажно заблестели.
Всю следующую неделю папа практически не смотрел на Надю, не разговаривал с ней. Надя думала, что, возможно, каким-то образом виновата в папином разрыве с Яной. Возможно, совершила какой-то грех. Например, один раз из-за простуды не отправилась гулять и помешала серьезному разговору. Несколько раз она даже пыталась попросить прощения. Но как только подходила к папе, тот поворачивался к ней резким сердитым движением. Бросал царапающий и очень быстрый взгляд. И Надины голосовые связки тут же разбухали и расползались в разные стороны.
Надя переживала молча, внутри себя. Снова перестала спать. Снова стала неотрывно смотреть по ночам на тяжелое небо, уплывшее в густые чернила. Проколотое все более редкими звездами. Надя думала о грустной уходящей Яне, о сердитом папе, о своих возможных грехах. И до зуда в лопатках ворочалась на затхлой простыне, не сменявшейся со дня переезда.
А вчера вечером папа долго и раздраженно говорил с мамой по телефону. Его голос был таким громким и раскаленным, что каждая фраза казалась Наде прикосновением шипящего утюга. Надя закрылась в комнате, надела Янины наушники и включила на телефоне Листа. В первый раз на полную мощность. Чтобы только не слышать папиных раскаленных фраз. Чтобы ничего не слышать, кроме музыки. Папин голос тут же откатился далеко в сторону. Правда, он все еще был ощутим, упрямо пробивался сквозь переливчатые ноты. Но смысл слов больше не доходил до Нади. А это главное. Больше не было горячей утюжной поверхности. Только слегка почесывались в ушах и затылке уже полученные ожоги.
Папа явно звонил потом кому-то еще. Кому-то, кроме мамы. А Надя стояла у окна с Листом в ушах, смотрела на свежую закатную рану, тянущуюся над коростами крыш. И еще на плесневелое пятнышко в виде улитки — на оконном откосе.
— Собирайся, — сказал папа сегодня.
Поставил на кровать Надину дорожную сумку и вышел из комнаты.
У Нади под ребрами что-то вздрогнуло, как пойманная рыба, и тут же затихло. Больше под ребрами, казалось, не было вообще ничего, кроме фантомного зуда. Словно все живое нутро кто-то вырезал, и отчаянно заныла образовавшаяся пустота.
Надя осталась стоять одна посреди комнаты. Своей комнаты, которая уже делалась чужой. И вдруг поняла, что с самого начала, с самого первого дня в папиной квартире предчувствовала подобный исход.
Собирая дрожащими руками одежду и учебники, натягивая куртку и садясь в папину машину, Надя почти не думала. От страха в голове перекатывались увесистые шары. Маленькие и большие, но все мучительно тяжелые. Они сталкивались и разлетались, ударяясь о височные, лобные и теменные кости. Расплющивая мысли. Надя была уверена в одном: ее возвращают к маме. К дяде Игорю, молитвам и тушеной брюкве. К бордовому дивану в гостиной.
Но неожиданно папина машина останавливается рядом со знакомым сквером. Нет, не тем, в котором Надя гуляла с музыкой в ушах, ожидая конца серьезных разговоров. А тем самым, в котором однажды чуть не заблудилась по дороге в школу. Около «Ароматного мира». Тогда здесь толпились люди, зацветало лето, и солнечные лучи были плотными и теплыми. Ярко зеленели кусты. А теперь здесь пусто, сумрачно, и от кустов остались одни черные скелеты. Черные прочерки в пасмурной пустоте.
Надя с папой выходят из машины, и им навстречу из пустоты вырастает бабушка.
— Здравствуйте, Софья Борисовна, — чуть сдавленно говорит папа.
— Ну что, наигрался? — откликается она ржавым глубоким голосом и забирает у него из рук Надину сумку.
Несуществующие
Надя вернулась к своему пианино.
Первое время играла часами одни и те же отрывки из давно знакомых произведений. Как перед конкурсом. Но уже не ради любования смертоносно идеальной соразмерностью фрагмента. Играла для успокоения. Утопала в привычных, родных пассажах. В самых любимых отрывках. Прокручивала раз за разом знакомые ноты и наполнялась изнутри теплым густым умиротворением.
Впрочем, зов смерти никуда не делся. Просто перешел в немного другую форму. И теперь Надя «уходила в смерть» в перерывах между пассажами.
Этот уход в понарошечную смерть помогал избавиться от мучительных мыслей о жизни. О печальной Яне, о провале на конкурсе. И о реальной смерти: о черном берете, о простынях из двадцать третьей квартиры. Об отце девушки в лиловом пуховике. Надя абстрагировалась от переживаний. Отправлялась в другое пространство ощущений.
Ускользая от реальности, она трясла кистями рук. Как когда-то в детском саду. Иногда брала нотные хрестоматии или школьные прошлогодние тетради и принималась теребить страницы. Потому что через кисти рук можно все забыть. Вытрясти все из себя. Можно почувствовать, как в голове становится дурманяще сладко, и переживания сначала притупляются, а потом и вовсе перестают существовать. Да, они уже не существуют. Существует лишь упорядоченный мир, в котором Нади нет. Она отделяется от мира, она больше не принадлежит ему, она смотрит на него извне. Так, как, возможно, узорчатые стены ее родной комнаты смотрели когда-то в пустоте друг на друга… До тех пор, пока в них не поселились братья.
Надя мнет страницы и сочиняет списки.
Это может быть список телепередач. Телепрограмма какого-нибудь выдуманного канала. Время, названия передач и примерное представление, о чем эти передачи. Дальше идти незачем. Главный критерий — правдоподобность. Например, программа канала Сейчас.
Вторник
05:00 Ранние пташки
(Это такая передача о здоровом образе жизни и о том, как готовить разнообразные и полезные завтраки. Она довольно скучная, и поэтому ее показывают, когда большинство людей еще спит.)
06:00 Новости
06:30 На задворках жизни
(Это драматический сериал, героя которого когда-то несправедливо осудили за убийство. И теперь он выходит на свободу и пытается доказать бывшей жене свою невиновность. А заодно и заново найти свое место в мире. Сериал идет по будням, в вечернее время — в 19:00. А на следующий день в 06:30 повторяют вчерашнюю серию.)
07:30 Раритет
(Передача, в которой люди решают продать свои необычные старинные вещи, которые долгие годы пылились на антресолях. Среди продаваемого антиквариата часто встречаются весьма интересные и ценные экземпляры.)
08:00 Крайний центр
(Это ток-шоу, в котором обсуждаются актуальные социальные проблемы. У приглашенных гостей обычно противоположные, очень крайние точки зрения, а ведущий пытается их максимально примирить, найти «крайний центр».)
Ну и так далее.
Ведь такая программа может существовать? Может, вполне.
Или, например, Надя придумывает и много раз прокручивает в голове список музыкальных произведений, которые должны прозвучать на воображаемом концерте. Список продуктов и товаров для дома, которые условная пятидесятидвухлетняя Елена Ивановна покупает на неделю. Самых обычных, характерных, среднестатистических.
Сметана 100 г
Кефир 200 мл
Куриный фарш 1,5 кг
(У Елены Ивановны двое сыновей-подростков.)
Чеснок 3 шт
Салфетки белые бумажные 1 упаковка
Лампочка Е27 60 Вт 1 шт
(Лампочка в ванной вчера перегорела, надо заменить.)
Но чаще всего списки касаются одушевленных существ. К примеру, перечень пациентов обычной городской больницы. Или учеников какой-нибудь условной школы. Вот самый любимый список — придуманного девятого «Б» класса. По алфавиту, как в классном журнале:
Андреева Ольга
Андрианов Павел
Анисимова Надежда
Беляев Денис
Бондаренко Ольга
Губанова Маргарита
Дроздова Анна
…
Всего в классе двадцать семь человек (в прошлом году было двадцать восемь, но потом Сотникова Алина перешла в другую школу). Девочек на пять больше, чем мальчиков, — так часто бывает. Имена и фамилии учеников — как и продукты Елены Ивановны — обыкновенные, неприметные. Две Оли, два Саши и три Ани. Однофамильцев нет.
Биографиями ученики не обрастают, четкой внешностью — тоже. Впрочем, у некоторых все же имеются кое-какие опознавательные признаки. Например, у Виталика Щукина — кудрявые смоляные волосы и родинка на щеке. Он сидит за второй партой со своей подругой и возлюбленной Ритой Губановой. Ритины волосы, каштановые и слегка вьющиеся, всегда собраны в аккуратный пучок на затылке. В ушах маленькие сережки в виде бабочек. А глаза у Риты медовые и бархатистые. Глубоко посаженные.
Еще у девятого «Б» есть классная руководительница — Лидия Матвеевна. У нее пепельные кудряшки. Она часто курит и любит собак. Характер мягкий, дружелюбный, спокойный — такой бывает у учителей не так уж и редко. Например, географичка из Надиной школы примерно того же склада.
Надя никогда не пишет свои списки на реальной бумаге. Все слова хранятся исключительно в голове, как было еще в немой период Надиного существования. Никакой формы во внешнем мире им не требуется. К тому же они ведь и так уже как будто написаны: Надя видит списки внутри себя — напечатанными на компьютере или выведенными синей шариковой ручкой. Видит буквы, пробелы, строки.
В Надиных списках все очень правильно. Все типично, выверено, а главное, правдоподобно. Конечно, в настоящей жизни так не бывает: на ровные строчки то и дело неожиданными густыми кляксами падают исключения. И в классном журнале вдруг появляются странные экзотические фамилии, а в списке Елены Ивановны почему-то оказывается нелогичная клюшка для гольфа. На то она и жизнь. Но закономерный, предсказуемый мир можно изучать по Надиным перечням. Мир, каким он должен быть согласно логике. Ровная, идеальная жизнь, текущая строго по правилам. И отдающая смертью — как симметричная снежинка или безупречно вырезанный музыкальный фрагмент.
Сама Надя никогда не участвует в своей воображаемой идеальной жизни. Она просто зритель. Зритель, сидящий в абсолютно темном зале на последнем ряду. И от этого в груди становится волшебно пусто и упоительно легко.
Конечно, после списков бывает довольно сложно возвращаться в реальность. Как после крепкого температурного сна. Болит голова, и немного ломит тело. К тому же бабушка обязательно спросит с недоумением:
— Надюш, почему ноты опять такие мятые?
Надя не ответит. Будет сидеть на полу и слушать пульсирующий стук в голове. Нужно время, чтобы прийти в себя. Хотя бы несколько минут. А потом можно снова налиться кровью, задышать, развернуть мятые ноты и приступить к игре. Вернуться к жизни.
Юлия Валентиновна простила Надю за конкурсный провал и вновь стала давать ей уроки. Правда, о новом участии в конкурсе речи пока не было. В первую очередь Наде предстояло разобраться «со своими психическими проблемами». Чтобы избежать нового позора. И Надю отправили к психологу.
Психолог был не тот, которого когда-то рекомендовала директриса. Не отец друга Юрочки. Оказалось, что за это время он уехал, как и сам Юрочка, в Москву. И решать Надины психические проблемы доверили какой-то Тамаре Вадимовне.
Идти к Тамаре Вадимовне, конечно, не хотелось. Но внутри уже не было сквознячкового трепета, как год назад, когда угроза психолога впервые повисла в воздухе. После бесконечных переездов Надя была готова ко многому. Все острые гибкие страхи немного притупились, закостенели. И поэтому, заходя в светлый кабинет, пахнущий миндальным пирожным, Надя не чувствовала ничего, кроме привычного стеснения.
— А вот и Надежда! Здравствуй. Проходи, располагайся. Меня зовут Тамара Вадимовна, — сладко прощебетала Тамара Вадимовна. Указала на желтое кресло перед собой.
Надя вспомнила, что Надеждой ее называл дядя Игорь, и приподняла вмиг напрягшиеся плечи. На деревянных ногах подошла к креслу. Села на краешек.
Тамара Вадимовна два раза кашлянула и улыбнулась.
— Мы с тобой будем звать бабушку? Или ты не хочешь, чтобы она присутствовала при нашем разговоре? Смотри, Надежда, решать тебе. Если не хочешь — оставим бабушку ждать в коридоре.
Надя медленно покачала головой.
— Это что значит? — с улыбкой спросила Тамара Вадимовна.
— В коридоре, — чуть слышно прошептала Надя в ответ.
— Хорошо, Надежда. Главное, чтобы ты чувствовала себя комфортно.
Тамаре Вадимовне было лет сорок — сорок пять. У нее были ироничные, густо подведенные глаза неясного цвета и ровно уложенные медные волосы с челкой. Она напоминала женщину из рекламы чистящего средства для ванны. Ту самую, которая раньше пользовалась обычным средством, а потом открыла для себя жидкость нового поколения, и ее жизнь в одночасье изменилась. И теперь она готова поделиться секретом своего благоденствия со всем миром.
— Ты знаешь, о чем мы с тобой будем разговаривать?
— Нет, — ответила Надя.
Хотя на самом деле примерно представляла. Видимо, разговор должен пойти о провале на конкурсе: ведь это из-за него Надю отправили сюда.
Тамара Вадимовна снова кашлянула.
— Твоя бабушка сказала, что у тебя сложности с окружающим миром. Еще она мне поведала о твоей особенности. И мы попытаемся разобраться, что именно тебя тревожит и как тебе помочь.
Голос у Тамары Вадимовны был сладкий, карамельный, и покашливание в начале фраз — прямо как раскрывающийся с шуршанием фантик.
— Скажи мне, Надежда, у тебя есть хобби? Я слышала, ты играешь на пианино?
Надя кивнула.
— И тебе нравится играть?
Надя кивнула снова.
— Очень хорошо. А как у тебя дела в школе? Как учеба?
Учеба давалась не очень легко. То, что касалось запоминания, проблем не вызывало. Надя без труда копировала памятью целые страницы из учебников — слово в слово. Но когда дело доходило до умственной обработки прочитанного, до рассуждений и заключений, все Надины мысли упирались в гладкую белую стенку. Прилипали к ней и так и висели — растерянно, бесцельно, безвольно, — пока не сползали в сон.
Надя сидела перед Тамарой Вадимовной, смотрела на кончик своего левого сапога и думала о белой стенке. Просто думала. Потому что рассказать о ней вслух казалось непосильной задачей.
— Нормально, — ответила она.
— Да? А бабушка мне сказала, что у тебя очень средние оценки. А могли бы быть отличными, стань ты чуточку повнимательней и поусердней.
Это частично было правдой. Надины оценки действительно ухудшались по мере усложнения школьного материала. Ослабевали четверки, все чаще расступаясь перед тройками. Но дело было не в усердии. Дело было в белой стенке.
— Да, бабушка так считает.
— Ну а ты сама как считаешь?
— Не знаю. Возможно, бабушка права. Бабушка часто права.
Наступила пауза. Затем снова прошуршал фантик, и покатилась сладкая карамельная волна.
— Хорошо, допустим. А скажи, Надежда, у тебя есть в школе друзья? Ты общаешься с ребятами?
С ребятами Надя не общалась.
Одноклассники по-прежнему не замечали Надю. Проходили мимо, не оборачиваясь. Не смеялись над ней, не задирали, не звали в игры, не приглашали на дни рождения. Впрочем, некоторые, узнав о Надином музыкальном таланте, стали поглядывать на нее с любопытством. Но интерес очень быстро прошел.
— Нет, — ответила Надя.
— Почему?
Надя посмотрела в окно. Ноябрьское солнце едва пробивалось сквозь облака и казалось тусклым пыльным шаром — забытым, заброшенным на антресоли. Как в программе «Раритет». Но придет время, и его оттуда достанут.
— Я не знаю. Со мной не хотят дружить.
— А сама ты хочешь дружить?
— Я не знаю.
Надя правда не знала. Никогда об этом не задумывалась. И теперь этот неожиданный вопрос маленькой червоточиной заныл глубоко внутри.
— Понятно. А скажи… возможно, у тебя есть какие-нибудь воображаемые друзья?
Воображаемых друзей тоже не было. Был, конечно, воображаемый девятый «Б» класс. Двадцать семь человек (после ухода Сотниковой Алины). Но они не являлись Надиными друзьями. Они вообще никак к Наде не относились.
— Нет…
— Ты уверена?
Надя кивнула, опустив глаза на вытекающую из-под сапог лужицу слякотного сиропа.
— Вот что, Надежда…
Боковым зрением Надя заметила, что Тамара Вадимовна подвигает к ней лист бумаги и пачку цветных карандашей.
— Нарисуй мне, пожалуйста, несуществующего человека.
Это было странно. Как можно нарисовать того, кто не существует? Впрочем, к примеру, девушка в черном берете, скорее всего, умерла и, значит, уже не существует. Можно было нарисовать ее. Но Надя не помнила черт ее лица. Да и не умела рисовать, всегда получала слабые жалостливые тройки на уроках ИЗО.
Тамара Вадимовна смотрела с ожиданием и вязкой тягучей иронией. Будто она знала какой-то сокровенный Надин секрет. Будто предвидела то, что должно произойти.
Надя мазнула по ней взглядом и уставилась в сторону, на полку с книгами. У второй книги справа немного отклеился корешок.
— Я плохо рисую.
— Это не страшно, Надежда. Нарисуй, как умеешь.
Надя положила руку на пачку карандашей, но тут же отдернула. Нет, рисовать девушку в черном берете она не станет. Ведь девушка была голой. А Надя с тех пор уже поняла, что быть голым неприлично. Потому что бабушка как-то обвинила дядю Олега в том, что он смотрит «неприличные картинки». И значит, если Надя изобразит ту девушку, ее рисунок тоже будет неприличным. И Тамара Вадимовна все расскажет бабушке.
Лучше нарисовать кого-нибудь из девятого «Б» класса. Они ведь тоже не существуют. Хотя, с другой стороны, существуют — в Надином воображении. Но Надя не знала, считается это или нет. А Тамара Вадимовна смотрела все пристальнее, все ироничнее. Нужно было что-то решать.
И Надя решила нарисовать Виталика Щукина. По крайней мере он живет не в реальном мире, и поэтому его портрет может быть засчитан. К тому же он всегда одет. То есть, наверное, не всегда: надо полагать, в какие-то моменты на нем нет ничего. Но Надя никогда его таким не видела. В Надиной голове он всегда сидит за партой в сером школьном костюме.
Правда, была и другая проблема. Надя не представляла с ясностью его лица. Равно как и лиц всех остальных учеников. У Щукина были только кудрявые смоляные волосы и родинка на щеке. Минимальный необходимый набор. Чтобы как-то отличать его от других — таких же трафаретных мальчиков. Остальные детали внешности тонули в полумраке Надиного сознания.
Впрочем, Надя в любом случае не умела рисовать и не смогла бы вывести на бумаге все нюансы его лица. Даже если бы видела их в глубине себя. Поэтому она подумала, что не стоит сильно переживать по этому поводу. И, вытащив из пластиковой упаковки несколько карандашей, быстро нацарапала схематичного человечка с черными завитушками вокруг головного шара и жирной черной точкой на правой щеке. Глаза решила сделать зелеными.
— Кто это? — спросила Тамара Вадимовна, с улыбкой косясь на рисунок.
— Это Виталий Щукин, ученик девятого «Б» класса.
Цветущая улыбка Тамары Вадимовны тут же слегка сжалась, как будто подвяла.
— Так это реальный мальчик?
Надя посмотрела на портрет. Теперь, когда Щукин был изображен на настоящей, осязаемой бумаге, он и правда казался реальным. По крайней мере гораздо более реальным, чем две минуты назад.
— Да, наверное.
— То есть как это — наверное? Я просила тебя нарисовать несуществующего человека. Этот мальчик существует или нет?
Надя окончательно запуталась и замолчала.
— Скажите, вы ведь учительница в Надеждиной школе, так? — спросила в коридоре Тамара Вадимовна бабушку.
Бабушка казалась очень встревоженной. Возможно, от длительного ожидания. Сжимала и разжимала кусочек белой блузочной ткани около сердца. Надя стояла рядом, втянув голову в плечи. Она почему-то была уверена, что ее будут ругать за портрет Виталика. Предчувствие укоризненных слов разливалось по Наде медленными ознобными потоками. Будто предгриппозная слабость.
— Да. Учительница.
— А скажите… у вас в девятом классе учится мальчик по фамилии Щукин? Виталий Щукин?
Бабушкины глаза удивленно округлились. Пальцы замерли.
— Нет… такого нет.
— Точно?
— Точно… А что?
— Ну все понятно, — с улыбкой прощебетала Тамара Вадимовна.
— Что понятно? Что вам понятно? Вы мне скажите, что с Надюшей делать! Она живет в своем мире и не видит ничего вокруг!
Бабушка снова вцепилась в блузку и на этот раз чуть не вырвала из нее клок. А Тамара Вадимовна продолжала невозмутимо улыбаться.
— Да не нервничайте вы так. Успокойтесь. Ничего особенного с Надеждой делать не надо. Ей просто нужны друзья. Реальные друзья.
Друзья
Надя стала задумываться о том, что друзей у нее действительно нет. Стала все чаще незаметно садиться рядом с компаниями одноклассников и слушать их разговоры. Правда, толку от этого было мало. Голоса сливались в одну бессмысленную полифоническую волну, которая скользила мимо. Надя слышала обрывки предложений, обрубки рассказов, но они никак не складывались в голове. Так и оставались обособленными стеклышками, не способными стать витражом.
Надя не отчаивалась. Как-то раз даже набралась храбрости и попыталась вступить в беседу. Бабушка учила, что нужно говорить только те вещи, которые относятся к текущей теме разговора. И когда Женя Сухарев заявил своим друзьям, что у него на телефоне есть фотографии голых женщин, Надя выпрямила спину и неожиданно твердо сказала, что на компьютере ее дяди Олега тоже есть такие фотографии. Наде казалось, что это было в тему. Даже очень. Но Женя и его компания только удивленно обернулись к источнику чужого голоса, помолчали несколько секунд и продолжили разговор. Как ни в чем не бывало.
Больше Надя не вставляла реплик. Правда, несколько раз порывалась. Но как только реплика полностью созревала в голове, тема беседы одноклассников оказывалась уже другой. И нужно было судорожно придумывать новую фразу, относящуюся к новой теме — тоже зыбкой и ускользающей. Надя не поспевала.
Бабушка после разговора с Тамарой Вадимовной тоже обеспокоилась отсутствием у Нади друзей. Даже как-то раз пригласила Надиных одноклассников домой, на чаепитие. (Конечно, не всех: двоечники вроде Жени Сухарева не удостоились приглашения. Да все и не поместились бы.) В итоге пришла только одна девочка — отличница с первой парты Вероника Зябликова. Она сидела до вечера за кухонным столом, жирно чавкала заварными пирожными и обсуждала с бабушкой проблемы класса. А Надя молча сидела на полу, прижавшись спиной к холодильнику.
— Ну как так можно, Надюш! — горько сказала бабушка, когда Вероника наконец ушла. — Я вот пытаюсь найти тебе друзей. А ты слова не скажешь! Даже за стол с нами сесть не соизволила! Просто уму непостижимо. Разве кто-нибудь захочет с тобой общаться, если ты будешь себя так вести? Никому не интересно смотреть на твое кислое лицо, поверь. Надо прилагать усилия, расспрашивать, высказывать свое мнение. Иначе никак. Понимаешь, Надюша, никак.
Надя так устала от скучного голоса Вероники и от обсуждения классных проблем, что едва могла воспринимать обращенные к ней упреки. Бабушкины слова доходили до сознания неравномерно, словно пульсирующими кровяными толчками. Наде очень хотелось поскорее уйти в комнату, вдеть в уши наушники и включить Брамса. А бабушка все говорила, все выплескивала хаотичные фонтанчики ярко-алой вербальной крови. Словесно-артериальное кровотечение.
— Вот Вероника. Хорошая девочка, умная, серьезная. Рассуждает по-взрослому. Уже сейчас задумывается, куда поступать после школы. Пришла к тебе в гости — а ты молчишь как рыба. Смотришь в сторону. Так неприлично просто, Надюш. Подружилась бы с ней!
Надя не отвечала. Дружить с Вероникой Зябликовой не было ни малейшего желания.
Бабушка вздыхала, хваталась за сердце. И Надино одиночество продолжалось.
Все изменилось в седьмом классе, когда двоечник Женя Сухарев украл из учительской и сжег классный журнал.
Разумеется, без скандала не обошлось. Поднялся вопрос об отчислении Жени Сухарева из школы. А Надиному классу объявили, что придется пересдавать все самостоятельные и контрольные с начала четверти. По всем предметам, кроме русского и литературы: бабушка записывала оценки в отдельную тетрадь.
— Что за хрень вообще, я на прошлой неделе с трудом получила четверку по географии, — возмущалась на классном собрании Ксюша Лебедева. — Вообще, можно сказать, чудом! И чё теперь?
— Тихо, Лебедева! — лязгнула бабушка. — Будешь пересдавать свою четверку.
— Так я не сдам во второй раз!
— И съебешь из школы вслед за Сухарем, — негромко добавил с четвертой парты прыщавый Антон Уваров и залился гиеньим смехом.
Слушая его смех, Надя непроизвольно вспоминала английский сериал «Рассказы о животных».
— Заткнись, даун прыщавый, — нарочито ласково сказала Ксюша и снова повернулась к бабушке: — Не, ну нормально, а? И чё, лабораторную по биологии тоже? И отжиматься опять на время?
— Да, опять. Скажите спасибо Сухареву.
— А мы-то почему из-за него должны страдать?
— Потому что оценки нужно восстановить, вот почему. А значит, придется пострадать. Другого выхода у нас нет. Все, тема закрыта.
Но другой выход был. Четыре дня назад, когда бабушка разбирала тетради в учительской, Надя сидела рядом. Листала классный журнал — еще не тронутый огнем. И запомнила все оценки. Всех учеников, по всем предметам. Точнее, они как-то запомнились сами собой. Раскрасились в Надиной голове, обросли рельефом, пейзажами, переплелись с фамилиями. И сейчас, снова сидя в учительской, на том же месте, Надя понимает, что может помочь Ксюше Лебедевой и остальным одноклассникам избежать «страданий».
— Ну вот что прикажете делать, Светочка? — непривычно вялым, словно озябшим голосом говорит бабушка. — У меня уже голова кругом идет от этой истории.
— Да уж, представляю… — тянет из своего угла географичка Светлана Яковлевна. — Ко мне сегодня ваша Лебедева подходила… Спрашивала, помню ли я, что она на прошлой неделе получила четверку. Ну, конечно, помню, такое случается раз в год…
— Мне эта Лебедева вот уже где! — бабушка резким движением подносит ладонь к горлу. — По мне — так пусть заново все учит и пересдает. Может, хоть что-то в голове останется. Хоть какая-то будет польза от всей этой катавасии.
— Вам, конечно, виднее, вы их классный руководитель… Но, честно говоря, как представлю, что нужно все у них заново принимать… Четверть-то к концу подходит, много всего накопилось. Я вот и думаю: оценки-то я более или менее помню. Примерно, конечно. Но все же… Проставлю, может, так — без пересдачи. Что забуду — ребята сами подскажут.
— Ой, Светочка, ну это не разговор. Ну что значит «примерно»? В вашем возрасте еще можно рассчитывать на память, но я бы не стала. А уж спрашивать этих оболтусов — последнее дело. Наврут с три короба.
— Наверное, вы правы… И когда мы уже наконец, как все нормальные школы, перейдем на электронный журнал? Будто в прошлом веке живем…
— О чем вы говорите, Светочка, какой еще электронный журнал? Все эти ваши нововведения… Можно и без всяких электронных журналов прекрасно обойтись, если воспитывать нормальных, порядочных учеников, которые не воруют документы из учительской. Украсть и сжечь журнал — это же уму непостижимо! И дневники надо нормально вести. А то, кроме меня, никто в дневник им с пятого класса оценки не ставит. Только так, изредка. И вы, Светочка, тоже. Уж извините. Вот, пожалуйста, результат. Могли бы по дневникам восстановить — но нет.
Надя думает о Ксюше Лебедевой. У Ксюши глаза похожи на чуть-чуть недоспелые желуди. Надя, когда смотрит на нее, всегда вспоминает сентябрьский сквер рядом с папиным домом. Вспоминает, как подошвы скользили по гладким желудевым бочкам, как раздавалось сквозь затихшую музыку легкое похрустывание. И вдруг Надя видит внутри себя, как кто-то наступает на Ксюшины желудевые глаза и они с хрустом разламываются.
— Я помню все оценки, — говорит скованная внезапным холодом Надя.
Бабушка и географичка тут же к ней поворачиваются. На две секунды замирают.
— Что, Надюша?
— Я помню все оценки. Точно. Не примерно.
Надя смотрит в окно. На улице дождь, и быстрые капли мчатся вниз по стеклу. Некоторые забегают через щели внутрь, в учительскую. За шиворот зябкой сонной школе. Надя думает о том, что давно не видела желудей, потому что со дня возвращения к бабушке перестала гулять в скверах. А по дороге в школу дубов нет.
— Надюша, как ты можешь помнить все оценки всех твоих одноклассников?
— Я могу помнить. Я пролистала весь журнал. Четыре дня назад.
Бабушка растерянно смотрит на географичку, а та улыбается и пожимает плечами:
— Ну а что, Софья Борисовна, у вашей внучки феноменальная память. Это всем известно.
— Но не настолько же феноменальная, чтобы запомнить весь классный журнал! Целиком! За один раз!
— Ну, параграфы из учебника она мне пересказывает дословно, без единого отклонения от текста. Даже жутковато иногда становится, — географичка весело подмигивает Наде.
— Да знаю я, конечно, но все же…
Бабушка запинается, часто моргает, словно от внутренней, мыслительной щекотки. Беззвучно шевелит губами.
— Если хочешь, проверь по своей тетрадке, — решительно говорит Надя. — Потому что у тебя есть тетрадка с оценками по русскому и литературе. И я могу тебе сказать все оценки из твоей тетрадки. И ты увидишь, что я помню оценки.
Надя снова поворачивается к дождливому окну. Несколько секунд неподвижно смотрит на уличные огни, дробящиеся в мокром стекле.
— Софья Борисовна, а давайте и правда проверим.
Скрипит стул, бабушка поспешно садится и принимается листать немного помятую синюю тетрадь. Географичка потягивается, слегка прогибает вязаную оранжевую спину. Выплывает из своего угла, волоча шлейф оживших от шевеления духов. Духи у географички солоновато-терпкие, с легкой цитрусовой горчинкой.
— Ну, раз вы просите… — взволнованно говорит бабушка. — Только это все равно как-то… Ну, не знаю!
— Да хотя бы просто из любопытства, — улыбается географичка. Склоняется над бабушкиной тетрадью душистым оранжевым движением: — Вот, например, по литературе у Легковой…
Аня Легкова — легкая, гибкая, воздушная. С крашеными сливовыми волосами. С тонкими, словно невесомыми косточками. А на литературе и вовсе порхает от оценки к оценке, как набоковская бабочка с теплым отливом сливы созревшей. Хрупко вздрагивает крыльями, перелетает с цветка поменьше на цветок побольше, с четверки на пятерку, с четверки на пятерку. И вдруг насмерть разбивается о возникшее впереди лобовое стекло двойки.
— Четыре, пять, четыре, пять, два.
Бабушка и географичка переглядываются.
— Хорошо… У Лопатина?
— Тоже по литературе? — уточняет Надя.
— Да, по литературе.
Денис Лопатин учится плохо. И литература — не исключение. Когда бабушка спрашивает его на уроке, в чем смысл какого-нибудь произведения, Лопатин молчит. Лопатин не откапывает ни поверхностных, ни тем более глубинных смыслов. Лениво машет лопатой и натыкается только на изогнутые корни двоек. Вот еще один корень, и еще. А вот удалось раскопать одну тройку, ну надо же.
— Два, два, два, три.
— А по русскому? — географичка с улыбкой перелистывает страницу.
По русскому тоже не очень. Пишет Лопатин коряво и с ошибками. И мало. В основном Лопатин прогуливает русский. За всю первую четверть сумел вывести своей лопатой на остывающей осенней земле только две двойки — хилые, косые, недоразвитые. Их тут же засыпало мертвыми листьями — н, н, н, н, н.
— Две двойки. И пять прогулов.
— Катаева, русский?
Наташа Катаева быстрая и решительная. Уверенно катится на санках по скользким строчкам диктанта. Правда, в середине пути санки подскакивают на ледяной колдобине сложного слова, и Наташа откатывается в сторону. Чуть не скатывается вниз, в пропасть безграмотности. Но берет себя в руки и продолжает путь. Доезжает до финиша без падений: только в самом конце санки слегка заносит.
— Пять, пять, три, пять, пять, четыре.
Бабушка все еще смотрит в тетрадь. Ее лицо растерянно, неподвижно, словно вморожено в тугое осмысление происходящего. А географичка смеется медленным тягучим смехом:
— Ну что тут еще добавить, Софья Борисовна… Завтра после уроков соберем всех коллег и восстановим журнал.
— Что, вот так просто? А… а Антонина Илларионовна? Она будет против!
— Не думаю. Лишние заморочки ей тоже не нужны. А так — все быстро разрешится. Я с ней поговорю, не переживайте.
На следующий день первым уроком идет география. В самом начале кто-то поднимает руку и спрашивает о пересдаче самостоятельной. А географичка с улыбкой кивает на Надю:
— Пересдачи не будет. Благодаря Завьяловой.
И тут происходит небывалое. Все двадцать четыре ученика поворачиваются к Наде. Вливаются живыми, подвижными взглядами в ее застоявшийся взгляд. Кружатся в нем густыми витками, словно свежие теплые сливки в остывшем чае.
— В каком смысле, Светлана Яковлевна? — спрашивает кто-то. Кажется, Вероника Зябликова.
— В прямом. Завьялова помнит все ваши оценки.
Надя медленно стекает под парту от наплыва взглядов.
— Чё, реально, что ли? — полнозвучно всплескивается голос Ксюши Лебедевой.
Ее желудевые глаза тоже направлены на Надю.
— Реально, Лебедева, реально. Так что вам несказанно повезло.
Голоса вокруг бурлят, журчат, пенятся — слов уже не разобрать. Стекая под парту, Надя вглядывается в рисунок из веснушек на правой щеке Лебедевой. Он похож на карту Пиренейского полуострова, которая висит рядом с доской.
— Ну все, все, успокоились. Потом еще успеете обсудить. А сейчас откройте-ка тетради. Да, Лопатин, да.
До конца урока Наде уже не успокоиться. Не сосредоточиться. Даже параграфы, аккуратно отложенные в голове накануне, исчезли от волнения. Впитались в белое полотно внезапного беспамятства. К счастью, за весь урок ее так и не спросили.
А на перемене к Наде подошли одноклассники. Сами. Обратились к ней по собственной воле. И Надя застыла в обнимку с рюкзаком, прижавшись спиной к липкой коридорной стене.
— Слушай, Завьялова, можно тебя попросить? — говорит Ксюша Лебедева. Опускает на полсекунды накрашенные светло-коричневые веки — желудевые плюски.
Надя молчит. Во рту пересохло, и огромный неуклюжий язык липнет к нёбу.
— Ты же сегодня будешь наши оценки… ну типа восстанавливать? Так вот, ты можешь не говорить, что я получила двойку по алгебре? Сергеич сам про нее точно не вспомнит. Можешь?
— А у меня были две двойки по биологии, можешь тоже не говорить?! — вопит за Ксюшиной спиной Лопатин.
— Заткнись, — оборачивается к нему Ксюша. — Если она про твои двойки не скажет, это будет палево! — И снова смотрит на Надю: — Про него правду скажи!
Внимание одноклассников обволакивает Надю густым ватным теплом. Словно обогретая прихожая, в которую заходишь с мороза.
— А мне лишнюю четверку по геометрии устроишь? — звонко кричит кто-то из обступившей Надю толпы.
— Короче, всем нормальные оценки организуешь, а иначе пиздец тебе, — немного придавленным голосом говорит Антон Уваров и взрывается гиеньим смехом.
Видимо, это какое-то неприятное замечание. Возможно, даже угроза. Но Надя понимает это очень смутно — ей сейчас плохо соображается. И слова Уварова — просто легкий, едва уловимый сквознячок, который вдруг появился в обогретой прихожей. Появился — и тут же исчез, потонул в море парного тепла.
— Да ты достал уже, — говорит Ксюша, отпихивая Уварова и пробираясь ближе к Наде. — Забей на этого дауна. Не скажешь про мою двойку, ладно? Мне просто очень нужно, чтобы у меня в четверти вышла четверка по алгебре. Мне за нее родители обещали новый телефон.
Надя не помнит, что она в итоге ответила. И ответила ли хоть что-то. Когда она выплывает из дурманящего тепла, вокруг уже никого. И еще около минуты, до звонка на следующий урок, Надя неподвижно стоит, прислонившись к стене. Грызет щеки и губы изнутри, глотает соленые капельки себя самой.
После уроков бабушка с Надей идут в учительскую. Там собрались почти все учителя: тесно, как вечером в автобусе. Некоторые улыбаются вошедшей Наде, а некоторые косятся на нее со скептично поджатыми губами. Кто-то равнодушно смотрит в свои телефоны. Географичка тягучим ирисочным голосом в чем-то убеждает директрису. Надя не понимает смысла. Только слышит вроде бы знакомые наборы звуков. Местами дырявые. Черные прорехи тянутся между словами. Душно стелется поеденная молью звуковая ткань.
— Ну что, солнышко, ты уверена, что можешь нам помочь? — вдруг прокалывается сквозь прорехи голос директрисы.
Ткань уплотняется.
— Да это бред какой-то, — раскатисто говорит физрук. — Завьялова, ты чего нам тут мозги пудришь?
— Ну почему сразу бред… — вступается географичка. — Надя у нас уникум, это все знают. Можете сами проверить, с тетрадью Софьи Борисовны.
И Наде снова приходится называть оценки по русскому и литературе.
С каждой новой фамилией выражения лиц вокруг как-то одинаково застывают. Все учителя будто становятся похожими друг на друга в своем остолбенении. А оценки все сыплются: мягкие, острые, ржавые, колючие, разноцветные. Сыплются словно сами по себе, без Надиного участия. Незаметно с русского и литературы перекатываются на поле географии, английского, биологии, принимают иные формы, раскрашиваются иными цветами. Наполняют чистые строчки нового журнала.
— Да вроде как-то так и было… — произносит кто-то из учителей. — Похоже на правду.
— Дурдом, — произносит бабушка и закрывает глаза ладонью.
Надя не помнит, о каких именно оценках ее просили говорить или не говорить одноклассники в коридоре. Все их просьбы рассеялись вместе с парным теплом. Осталась только двойка по алгебре Ксюши Лебедевой. И когда дело доходит до нее, Надя спотыкается и замолкает.
Алгеброид Сергеич рассеянно ждет, потирает след от очков на переносице. Возможно, он и правда не помнит об этой двойке. Но ведь эта двойка была. Надя четко ее помнит — большую, прозрачно-малиновую, как обложка на Ксюшином учебнике алгебры. Откормленным сказочным лебедем она изгибает шею над тремя четверками и двумя тройками.
Бабушка смотрит на замолчавшую Надю пристально и серьезно.
— Надюш, ты ведь понимаешь, что нужно правду говорить? Всю как есть. Не придумывать ничего. Хорошо?
— Да с чего ей придумывать, Софья Борисовна?..
Надина мысль разделилась. Одна часть стремительно и остро тянется к логике, к правде. А другая течет вслед за Ксюшей Лебедевой, за желудями. Надя кусает губу изнутри, вытягивает зубами кусочки слизистой. То справа, то слева.
— Надюш, ну говори, мы же ждем.
— Четыре, четыре… два. Четыре, три, три.
Логика победила. Надя не сумела соврать.
— Надо же, и двойка была, — задумчиво говорит алгеброид, проставляя оценки. — Хотя да, была… за решение у доски. Ну хорошо… Дальше поехали. Легкова?
Надя больше не может говорить. Оценки оцарапали ей рот и горло до крови. По крайней мере до воображаемой крови. Она обхватывает голову руками и протяжно воет. Раскачивается из стороны в сторону. Вой заливает учительскую, заливает журнал. Растворяет в Надиной голове оставшиеся оценки. Силы закончились. Слишком много эмоций. Слишком много всего для одного дня.
— Тихо, тихо, — говорит кто-то рядом. — Успокойся сейчас же!
Но окончательно успокаивается Надя только дома. Лежа на своей кровати и упершись взглядом в открытую створку окна. В комнату льется чистый холодный воздух, промытый недавним дождем. Надя съеживается. В онемевшей голове что-то покалывает, словно перебегают с места на место острые мурашки.
— Ну что, Надюша, — раздается сзади бабушкин голос, — я говорила, что до добра это не доведет… Во придумала Светлана Яковлевна! Чтобы ученица диктовала учителям оценки! Да это же в голове не укладывается. А всё от лени. Лишь бы заново не опрашивать учеников! Ладно. Не мне решать. Раз Антонина Илларионовна согласилась — пускай. И раз уж начали это безумие — надо довести до конца. Так что завтра, Надюша, будь добра, заверши начатое. И давай без этих твоих сцен. Не доводи меня, мне не двадцать лет, чтобы такое выносить.
Надя вздрагивает. Но не от страха перед необходимостью вернуться в учительскую. А от ясного осознания того, что просьбу Ксюши Лебедевой она не выполнила.
Ксюша Лебедева узнает об этом очень быстро. На следующий день после алгебры она подходит к Наде и больно толкает ее в плечо.
— Идиотка, — говорит она. — Такая же даунша, как Уваров.
Это, конечно, просто слова, но от них у Нади внутри будто лягнулась дикая лошадь. От лягания больно, еще больнее, чем от Ксюшиного толчка. Надя потирает плечо, потирает внешнюю себя, а внутри никак не потереть. Ушибленная внутренняя Надя неподвижна.
— Я тебя просила нормально, по-человечески. Так сложно было промолчать? Сложно, да? Дебилка. Из-за тебя я останусь без телефона.
Ксюша говорит что-то еще, но Надя не слышит. Неожиданно подходит Уваров и тоже что-то говорит, а потом сплевывает тягучую слюну себе под ноги. Надя видит это боковым зрением. А основным зрением Надя видит, как внутри нее, прямо на ушибленное место, сыплются недоспелые желуди.
Этой ночью не спится. Только дремлется — с ежечасными пробуждениями. Непереваренные желуди то и дело выкатываются из дырявого сна. И по-осеннему золотисто шелестит над ними голос Ксюши Лебедевой. Бедная, бедная, осенняя Ксюша Лебедева. Надеялась на Надю, а Надя оказалась ненадежной. Неудивительно, что с Надей никто не хочет дружить. И теперь тем более не захочет. Но ведь Надя не могла соврать. Надя не может говорить того, чего нет на самом деле. Вранье — это отклонение от правил. А значит, съезд с привычной колеи в тревожную и шаткую неизвестность. В замутненное пространство, где все непредсказуемо. Где все на ощупь.
К утру Надя понимает одно: придется расстаться со своим телефоном. Отдать его Ксюше Лебедевой, чтобы хоть как-то загладить свою вину.
Это, конечно, будет очень тяжело. Надя с ним почти не разлучается — с тех самых пор как получила его от папы. Лежа на полу своей комнаты, по дороге в школу и из школы, на переменах и иногда даже на уроках она слушает музыку. И огромный рельефный мир, возникающий в наушниках, отгораживает Надю от мира внешнего. Защищает, успокаивает, наполняет жизнью. Это мир Нади, ее собственный мир, в который никто посторонний не может ворваться. Даже бабушка. А теперь этого мира придется лишиться. Но так надо.
— Возьми, это тебе, — говорит на следующий день Надя, протягивая телефон Ксюше Лебедевой. Вместе с наушниками.
Надя не видит Ксюшиного лица, потому что смотрит в сторону, на облупившуюся краску коридорного подоконника. Кусочки слоев острые по краям и почему-то напоминают о боли в горле при простуде.
— Что это? — спрашивает Ксюша Лебедева, не прикасаясь к подарку.
— Это мой телефон. С наушниками. Я отдаю его тебе, потому что из-за меня у тебя будет тройка в четверти по алгебре и тебе не купят новый телефон.
Ксюша Лебедева молчит несколько секунд. Потом вдруг фыркает — прямо как лошадь. Даже, возможно, как лошадь, лягнувшая вчера Надю изнутри.
— Мне обещали новый телефон. Новый. На фига мне твое старье? Что это вообще за говно мамонта? Его в программу «Раритет» можно отдавать.
Надя вздрагивает и резко переводит взгляд на Ксюшу. Программы «Раритет» не существует, Надя знает это точно. То есть существует, но только в Надиной голове. А в реальности нет. Надя проверяла. Тогда откуда?.. То есть почему?..
— Что ты вытаращилась? Убери свой хлам и вали отсюда.
Но Надя продолжает неподвижно стоять с протянутым телефоном. И тогда Ксюша Лебедева ударяет ее по руке, и телефон грохается на пол. Кружится несколько секунд на грязном линолеуме экраном вниз. Сначала резко, стремительно, затем все медленнее. Надя смотрит на него, и ей кажется, что это любимый Первый концерт Чайковского кружится сейчас на истоптанном школьном полу.
— Что у вас тут происходит? — вдруг слышится голос бабушки.
Ксюша Лебедева плотно сжимает губы и опускает глаза. А Надя наклоняется за Первым концертом, аккуратно его переворачивает. Концерт разбит паутиной трещин. Но продолжает звучать. А это главное.
— Я еще раз спрашиваю: что у вас тут происходит?
Бабушка говорит остро и ржаво. Неотрывно смотрит на Ксюшу Лебедеву.
— Ничего страшного, — вдруг возникает Надин голос — будто сам по себе. — Я случайно уронила телефон. Он немного поцарапался, но продолжает работать.
Бабушка удивленно переводит взгляд на Надю:
— Осторожнее надо. У меня, знаешь ли, нет денег тебе новый покупать. Останешься без телефона — пеняй на себя. А ты, Лебедева, у меня допрыгаешься.
— А я-то что?
— Да ничего. Еще один раз прогуляешь мой урок — поставлю вопрос о твоем отчислении из школы.
И бабушка уходит. А Надя снова смотрит на облупившуюся краску подоконника и не понимает, как ей удалось так легко соврать. Ведь она только что соврала. Ведь телефон упал не случайно.
— Слушай, Завьялова, — говорит после паузы Ксюша Лебедева — спокойным, чуть шелестящим голосом. — Я все хотела тебя спросить. Почему ты так странно всегда говоришь?
Надя вздрагивает.
— Странно всегда говорю?
— Ну да. У тебя интонации какие-то искусственные. Как у джипиэс. Тебя все так и называют.
— Как называют?
— Ну, Джипиэс. Прозвище у тебя такое.
Надя тут же чувствует в груди плотно переплетенные потоки — обжигающие и ледяные. У нее, оказывается, есть прозвище! Ее как-то называют, про нее говорят. Когда Нади нет рядом с одноклассниками, о ней упоминают в разговорах. Как об обычном нормальном человеке, как об Ане Легковой, например. Обсуждают ее интонации, а возможно, не только интонации. И это так странно.
Пытаясь справиться со своим поразительным открытием, Надя вспоминает, что нужно что-то ответить. Например, объяснить, что ей самой ее интонации не кажутся странными. А еще нужно добавить какую-нибудь реплику по теме. Тема — джипиэс. Значит, можно сказать, что в машине ее папы был джипиэс, правда, папа его никогда не слушал, потому что и так отлично знал дорогу. Только один раз джипиэс пригодился, когда из-за какой-то аварии скопилась большая пробка, а джипиэс знал, как ее объехать.
Но Надя внезапно решает ничего не говорить и просто улыбается. Растерянно, чуть заметно, но все же улыбается.
— Ты странная, — говорит Ксюша Лебедева. — Извини, что разбила тебе экран. Но возмещать ничего не буду, обойдешься.
— И не нужно возмещать, — тут же, не задумываясь, отвечает Надя и ощущает в горле жар от собственного голоса. — Не нужно. Это я должна тебе возместить. Но я пока не могу, потому что у меня нет денег. И у бабушки тоже нет денег. Но когда-нибудь я пойду работать и куплю тебе новый телефон.
Ксюша Лебедева смеется:
— Да ладно! Ты чего… Забей.
С того дня Ксюша Лебедева стала иногда садиться за последнюю парту рядом с Надей.
Синий страх
А через Ксюшу Лебедеву Надя подружилась и с другими одноклассниками. То есть не то чтобы прямо подружилась, но стала хоть как-то общаться. Правда, в основном это общение сводилось к списыванию у Нади самостоятельных. Но это было не важно. Нацарапав за минуту ответы — запомненные легко, без зубрежки, — она с радостным трепетом передавала свой листок нуждающимся. Очередь нуждающихся определялась Ксюшей Лебедевой. А Надя весь остаток урока сидела в сладком волнении, и воздух казался клейким и как будто млечным.
— Спасибо тебе, Завьялова! Ты наше спасение. Где ж ты была все эти годы? — говорили после урока одноклассники.
После этих слов Надю обычно снова оставляли в одиночестве — до следующей самостоятельной. Но и этого ей хватало.
Иногда Ксюша Лебедева приглашала Надю сесть с ней рядом в столовой. И она садилась, а спустя какое-то время рядом садились другие одноклассники, и получалось, что Надя сидит за общим столом. В общих разговорах она, конечно, не участвовала. Оставалась в плотной скорлупе, не впускающей посторонние звуки. Сидела, втянувшись в себя, глотала чай и старалась не смотреть на жирные растекающиеся котлеты в чужих тарелках. Пыталась подавить кислоту в горле. Но иногда кто-то называл Надину фамилию, и скорлупа трескалась.
— Завьялова, а чего ты не ешь никогда? — говорил Лопатин.
— Я не люблю котлеты, — отвечала Надя.
— Там есть и сэндвичи вообще-то, — возражала Ксюша Лебедева и кивала в сторону застекленной столовской витрины.
На витрине действительно лежали мертвенно серые треугольники хлеба с зажатыми между ними кусками сыра и ветчины. Сверху треугольники были украшены вялыми, потемневшими веточками укропа. Словно траурными венками.
Но когда Надя собиралась отвечать, что такие безжизненные бутерброды ей нравятся еще меньше, чем котлеты, оказывалось, что все говорят уже не о еде, а об «охреневших предках» Андрея Демидова. Или о каком-то ночном клубе, в который пустили на прошлой неделе друга Лопатина, хотя ему еще нет восемнадцати. И Надя снова покрывалась скорлупой.
Несколько раз к Наде обращались в коридоре. Просили убедить бабушку не устраивать на следующей неделе диктант. Или не задавать реферат. Надя стояла в оцепенении и абсолютно не знала, что говорить. От непривычности ситуации Надины мысли не прорастали в слова, осыпались чешуйками. К счастью, каждый раз подходила Ксюша Лебедева и отвечала вместо Нади.
— Отстань от нее, придурок, — спокойно говорила она.
Или не «придурок», а «дура».
— А тебе-то тут что надо? — резко отвечал(а) придурок или дура.
— А ты не видишь, что достал(а) уже человека? Поучись немного, растряси свою жалкую каплю серого вещества.
И когда придурок или дура, обиженно фыркнув, уходил(а), Ксюша Лебедева поворачивалась к Наде:
— Ты чё, послать не могла?
Надя пожимала плечами, молча смотрела в окно на раздувшуюся от снега улицу. Разгребала в голове чешуйки мыслей.
— Эй, опять уснула, что ли? Не спи, алё!
И Ксюша Лебедева щелкала пальцами перед Надиным лицом и слегка прислонялась к ней острым теплым плечом.
А спустя несколько месяцев Надю впервые пригласили в гости.
Бабушке это очень не понравилось.
— И зачем ты к ней пойдешь, к этой двоечнице? — строгим жилистым голосом спросила она.
— Не двоечнице, а троечнице, — удивилась Надя.
— Ей тройки ставят, чтобы уж совсем не портить отчетность. Если в вашем классе начать ставить двойки всем, кто их заслуживает, то полкласса придется выгнать за неуспеваемость.
— В первой четверти она могла получить четверку по алгебре.
— Ничего она не могла, Надюш. Ничего. У нее ветер в голове. И у всей ее компании. Нашла с кем подружиться! Ты меня удивляешь, Надюш. Удивляешь и расстраиваешь очень. Тоже мне, в гости она собралась. Кто еще пойдет? Что вы там будете делать?
— Я не знаю, — прошептала Надя.
— Еще и не знает, с кем идет… Ладно. Раз психолог говорит, что тебе нужно больше общаться, так уж и быть. Но ненадолго, договорились? И я позвоню, так что держи телефон рядом. — Бабушка прерывисто вздохнула. — Боже мой, за что мне это? Ну подружилась бы ты с Вероникой Зябликовой…
Чтобы сделать бабушке приятное, Надя спросила у Ксюши Лебедевой, может ли та пригласить вместе со всеми Веронику Зябликову.
— А ты, оказывается, шутница, — ответила Ксюша Лебедева.
Надя не знала, как реагировать на такой странный ответ. И просто замолчала, замерла, прикусив изнутри левую щеку.
Целый учебный день Надя думала исключительно о предстоящем походе в гости. Даже почти не расстроилась из-за двойки за контрольную по физике.
На уроках теребила под партой страницы тетради. Представляла, как все должно пройти. Надя, конечно, уже ходила в своей жизни в гости, но вместе с мамой. Маминым дополнением. А теперь вся ответственность лежала исключительно на Наде.
На всех переменах она в одиночестве стояла у приоткрытого коридорного окна, вдыхая весенний воздух. Потирала крылья носа, шевелящиеся при каждом вдохе. Весна — тревожная, прогорклая — густо разливалась над подоконником, смешивалась с Надиным волнением. Надя молчала, не оглядывалась на снующих мимо школьников. Не пыталась примкнуть ни к одному разговору. Нужно было набраться сил для длительного нахождения в компании. Вдоволь надышаться уединением.
После уроков все, кто шел в гости к Ксюше Лебедевой, собрались в гардеробе. Кроме Нади, были еще Денис Лопатин, Андрей Демидов, Аня Ищенко, Сережа Гордеев и Олеся Тихонова. Вероники Зябликовой не было.
— Ксюха, а у тебя точно родаков дома нет? — спросил Лопатин, натягивая куртку.
— А даже если есть, то что?
— Ну, мало ли, я решу переспать с тобой в ванной. Неудобно как-то.
— Переспишь в подвале с местным бомжом, — ответила Ксюша Лебедева и показала ему средний палец.
— Ну а если серьезно?
— Если серьезно, то все свалили до воскресенья.
— Хорошие родаки, — заметил Андрей Демидов. — Правильные такие.
— Ага, все в меня, — кивнула Ксюша Лебедева. — Слушайте, народ, нам надо еще в магаз зайти за пивом.
Надя оторвала сухой кусочек кожи с нижней губы. Повертела его в ладони. Подумала, что это безжизненный кусочек ее самой, мертвая частичка, отделившаяся от ее живого организма. А если посмотреть по-другому, то это частичка мертвой Нади, Надиного тела, начинающего мертветь. Крошечная крупица будущего трупа. Как если бы Надя уже чуть-чуть умерла.
— Так нам опять не продадут! — с ужасом воскликнул Сережа Гордеев.
— Спокойно! — твердо сказала Ксюша Лебедева и на секунду прикрыла желудевые глаза. — Надо решить, кто пойдет покупать. Я пас: меня в прошлый раз запалили.
— Давайте Завьялова пойдет, — резко, словно лопнул воздушный шарик, сказала Олеся Тихонова.
Надя вздрогнула. Мертвый кусочек кожи выпал из руки.
— Точняк, Завьялова! — воскликнула Ксюша и повернулась к Наде: — На восемнадцать ты, конечно, не тянешь, но из всех нас самое взрослое лицо у тебя. Может прокатить.
От новой, совершенно неожиданной ответственности Наде стало еще тревожнее. Когда все шумно вышагивали по грязным весенним улицам, она молча плелась позади. Неотрывно смотрела на блестяще-белую курточную спину Олеси Тихоновой со странными узорами цвета запекшейся крови. На Надю никто не оборачивался. Под ногами хлюпал серый разлагающийся снег, и из-за него казалось, будто в груди и в животе тоже сыро.
У супермаркета, в котором Надя раньше никогда не была, все достали из карманов и сумок деньги. Ксюша Лебедева два раза пересчитала немногочисленные бумажки и вручила пачку Наде.
— Вот, и с тебя еще стольник. Ну или хотя бы полтинник. Купишь всем по «Балтике». Если хватит денег — возьми больше. И закуску еще какую-нибудь на свое усмотрение.
— Какое усмотрение? — совсем испугалась Надя.
— Господи, ну чипсов купи.
— И когда на кассе будешь, сделай лицо посерьезнее, — добавил Лопатин.
Надя с трудом пробиралась через отделы, наполненные густой человечьей похлебкой. Надины ноги дрожали, а Надина правая рука так и не убрала в карман полученную пачку денег. Так и сжимала ее перед Надиным животом. Крепко, почти намертво, чтобы не дай бог не потерять.
Найти нужный отдел долго не получалось. Надя почти отчаялась, даже несколько раз успела пожалеть о том, что вообще решилась пойти в гости. Ведь сейчас она могла бы спокойно сидеть в учительской и ждать бабушку! Хотелось разрыдаться, хотелось позвонить бабушке и покаяться. Попросить, чтобы та ее забрала. Но забрала откуда? Надя была в незнакомом районе и по дороге в магазин абсолютно не обращала внимания на названия улиц.
К счастью, перед ней все же возникли стеллажи, заставленные разноцветными банками и бутылками.
Сглотнув горячий слезный ком, Надя тут же принялась искать «Балтику». Нашла довольно быстро. Мысленно сосчитала, что если добавит к общим деньгам сто рублей — как велела Ксюша Лебедева, — то сможет купить девять банок. И еще останутся деньги на три упаковки чипсов, лежащие тут же, по соседству. Надя выбрала сметанно-луковые — те, что ела, когда жила у папы.
И еще из общих денег останутся восемь рублей, но на них уже не купить ничего. Можно купить один рулон туалетной бумаги, но его не заказывали.
Надя аккуратно сложила банки и чипсы в корзинку и четыре раза их пересчитала. Чтобы точно не ошибиться. Прокрутила в голове список покупок условной Елены Ивановны. Добавила в него две банки пива «Балтика».
На кассе перед Надей стояла старушка с мальчиком лет шести. Старушка была чем-то похожа на ту, что одно время ходила в «Пятерочку» напротив Надиного дома (по вторникам и пятницам в четырнадцать двадцать). Мальчик настойчиво просил купить ему коробку жевательных мишек.
— Перестань, Сашенька. Я же сказала нет. Не могу я тебе их купить. Когда ты уже научишься понимать с первого раза?
А мальчик все не унимался, клянчил конфеты, носился вокруг бабушки — юркий, легкий, как флейта из «Шутки» Баха.
Надя подумала, что, видимо, у его бабушки нет денег. И тут же вспомнила, что, помимо общих денег, у нее есть еще дополнительные сто пятьдесят рублей. Должно хватить на мишек. Осознание этого факта расплылось по затылку согревающим оранжевым пятном.
Как только старушка с мальчиком отошли от кассы и стали укладывать свои покупки в сумку, Надя бросила на ленту коробку мишек. Ту самую, которую просил мальчик. Коробка медленно поплыла по ленте в окружении «Балтики». Надя сделала серьезное лицо, как ей сказал Лопатин, но кассир на серьезное Надино лицо даже не взглянул. Его собственное лицо было хмурым и словно бы неряшливым, небрежно вылепленным — с крупным носом и глубокими носогубными складками. Не поднимая на Надю глаз, он пробил Надины товары и устало буркнул цену. Чуть заметно шевельнул безвольными мясистыми губами. Надя выложила перед ним все имеющиеся деньги — общие и личные, побросала покупки в пакет и помчалась вслед за старушкой и мальчиком. Те уже приближались к выходу.
— Подождите! — закричала Надя, доставая на бегу из пакета коробку мишек.
Старушка и мальчик тут же остановились и удивленно обернулись. Добежав до них по коварному скользкому полу, Надя с трудом отдышалась и потрясла перед бабушкиным лицом коробкой с мишками. Теперь надо было что-то говорить. И Надя принялась судорожно разгребать кашеобразные мысли. Вылепливать в голове фразы из расползающегося теста слов.
— Что это? — металлическим голосом спросила старушка, кивнув на коробку.
Надя заметила, что морщин на лице старушки почти нет, зато есть сосудистые сеточки. В своей совокупности они напоминали карту крупных рек Африки.
— Это… это мишки. Жевательные мишки. Я их купила за свои деньги. Оплатила на кассе вместе с пивом «Балтика»…
Старушка молчала, и только сосудистые щеки слегка дрожали.
— И я хочу отдать их вам, — робко продолжила Надя, чувствуя, как теплое оранжевое пятно в голове почему-то остывает и съеживается. — Раз у вас нет денег… А мальчик хотел, и поэтому…
— Идиотка! — лязгнула старушка. — Малолетка скудоумная. У Сашеньки аллергия на эту химическую дрянь. За свои деньги она купила… Ты лучше мозги себе купи.
Она крепко схватила Сашеньку за руку и повела его прочь. А Надя так и осталась стоять с мишками в руках.
— Да я просто… — сказала она в никуда, а потом голос сорвался и свалился в немоту.
Надя не сразу почувствовала назревающие на лице горячие соленые слезы. Несколько секунд стояла в оцепенении, широко раскрыв глаза. Потом перед глазами все расплылось. Сквозь густую, набухшую солью пелену Надя видела, как аллергичный Сашенька у самых дверей обернулся и с улыбкой на нее посмотрел. А потом он исчез, а в магазин вошли какие-то другие люди, показавшиеся Наде знакомыми. Когда эти люди подошли почти вплотную, Надя осознала, что это ее одноклассники.
— Блин, Завьялова, ты хоть знаешь, сколько мы тебя уже ждем?! — сказал Лопатин. — Мы уж думали, тебя убили или в полицию загребли. А это чё за хрень? Чё за мишки? Мы такого не заказывали.
— Это… это просто.
— Да ладно, сожрем, — махнула рукой Ксюша Лебедева. — А чё рыдаешь-то? Не продали, что ли, пиво?
— Все нормально, все ей продали, — сказала Олеся Тихонова, с довольной маслянистой улыбкой потрясая Надиным пакетом.
— Завьялова, я тебя люблю. Я знал, что ты не подведешь! — взвизгнул Сережа Гордеев и тут же полез за банкой. — Блин, что это? Безалкогольное?! Завьялова, ты совсем тупая, что ли?
Лопатин вырвал из рук Гордеева банку, повертел ее и разочарованно вздохнул:
— Завьялова, ты читать не умеешь? Написано же… Без-ал-ко-голь-ное. И ноль нарисован.
Надя увидела, что прямо по центру банки действительно выведен жирный ноль. И в ее голове все тоже как будто обнулилось. Сгладилось, залилось густой белой краской. Мыслей не осталось.
— Я… я умею читать, я просто…
— Идиотка, — буркнул Андрей Демидов.
— Да ладно вам на нее наезжать, — сказала Аня Ищенко.
— Да, действительно, — согласилась Ксюша. — А тебе, Демидов, вообще пора бросать пить, а то скоро станешь дауном, как Уваров.
Всю дорогу до Ксюшиного дома Надя смотрела вниз, на липкую слякоть, на грязные ноздреватые холмики снега. Не смела поднять глаза даже на плывущую впереди спину Олеси Тихоновой. Чтобы хоть как-то успокоиться, слушала «Лунный свет» Дебюсси. Успела прослушать два с половиной раза, а потом все зашли в подъезд, и музыку пришлось выключить.
Дома у Ксюши Лебедевой было просторно, светло и пахло чем-то пряным и приятным. В гостиной все настолько сияло глянцевой белизной, что Надя даже боялась прикасаться к предметам. Осторожно присела на краешек белоснежного дивана и обхватила себя за джемперные плечи.
— Блин, да не стесняйся ты! — сказала Ксюша, расставляя на низком белоснежном столике банки с безалкогольным пивом.
— Я не стесняюсь, я просто…
Когда все расселись, Ксюша принесла еще множество разных закусок. В том числе и купленные Надей чипсы. Надя не поняла, зачем вообще было скидываться на чипсы, если у Ксюши дома столько всего. Но спросить не решилась. Ее дружба с одноклассниками и так висела на волоске, а от глупых вопросов могла и вовсе рухнуть. Скатиться в серую пропасть забвения и там постепенно разлагаться, как труп Харви из сериала «На краю сна».
— А может, ты все-таки достанешь что-нибудь из родительских запасов? — мечтательно протянул Лопатин. — Я видел в шкафчике…
— Нет, не может, — отрубила Ксюша. — Чё думаешь, они не заметят? Да они каждый отпитый миллилитр запалят. И все, не видать мне нового айфона.
— Ну вот… а все из-за Завьяловой. Если бы она тогда не сказала про твою двойку, тебе бы уже тогда купили айфон, и сейчас мы могли бы нормально выпить.
Надя крепче вцепилась себе в плечи.
— Хватит уже! — отрезала Ксюша. — Решили же — сегодня безалкогольный день.
— Безалкогольное пиво — хрень полная, — заявил Андрей Демидов, отхлебнув из банки.
Надя тоже сделала глоточек и поморщилась. Аккуратно поставила банку на столик. Все стали говорить на непонятные, ускользающие темы, а Надя от нечего делать озиралась по сторонам. В гостиной были причудливой формы полки с причудливыми предметами, огромный телевизор и странная расплывчатая картина, на которой Наде почему-то мерещилась учительница музыки Юлия Валентиновна, разрезанная пополам и утопающая обеими половинками в кабачковом пюре. Еще был кот — белый, как и вся гостиная, щекастый, самодовольный. Он лежал на подоконнике, а потом подошел к Наде и запрыгнул ей на колени. Несколько минут урчал, прикасался к Надиным напряженным рукам шелковистым сердечком носа. Надя не любила прикосновений, но терпела.
— Ни фига себе, он обычно не подходит к гостям, — сказала Ксюша Лебедева. — Ты ему явно понравилась.
Наде было странно сидеть вот так, вместе со всеми, вне школы. Ощущать себя частью чего-то, а не отдельно плывущим телом. Странно и приятно. Правда, периодически все же хотелось достать из кармана телефон и продолжать слушать Дебюсси, но Надя этого не делала. Потому что бабушка говорила, что так поступать неприлично. Неприлично даже просто смотреть в телефон во время разговора. Зато остальные одноклассники о приличиях не задумывались. Спокойно смотрели в свои телефоны во время общей беседы. Иногда подолгу — словно вмерзали взглядами в экраны.
Надя достала телефон только тогда, когда позвонила бабушка.
— Ну, и что вы там делаете? — раздался засохший от недовольства голос.
— Мы… мы просто сидим.
— Сидят они. Чтобы в семь была дома, как мы и договаривались. Поняла, Надюш?
— Поняла…
Надя действительно поняла. Но через полчаса бабушка позвонила снова и напомнила, что завтра опрос по Лермонтову, очень серьезный опрос, к которому нужно подготовиться. И это касается всех.
— Завтра опрос по Лермонтову, очень серьезный опрос, к которому нужно подготовиться. И это касается всех, — повторила Надя по бабушкиной просьбе.
— Боже мой, ну тебя и пасут! — фыркнула Ксюша, закатив желудевые глаза. — Опрос по Лермонтову, блин. Надо было мне тогда реально разбить твой телефон, чтобы твоя бабуля не доставала тебя каждые пять минут.
— Да, Завьялова, ты уж извини, но твоя бабуля и правда больная, — добавил Андрей Демидов.
— Андрей, ну зачем ты так… — поморщилась Аня Ищенко и откинула со лба крашеную прядь.
— Да, это правда, у нее больное сердце, — пробормотала Надя.
Все молча смотрели на нее три секунды. А потом начали говорить про Сухарева, которого исключили из школы, про какой-то очень интересный сайт, про компьютерные игры, про то, что почему-то у них в школе не устраивают дискотек, хотя в соседней школе устраивают. Надя не видела связи между всеми этими темами, не ощущала переходов. Переходы были словно спрятаны в тумане. Ты вроде плывешь в одной разговорной теме, а потом раз — и оказываешься в самой гуще другой. А как это произошло — непонятно.
Надя и не пыталась гнаться за неуловимым. К тому же сказать ей было нечего ни по одной теме. Разве что по теме Сухарева: бабушка очень часто обсуждала его в учительской. Но пауз между чужими фразами практически не оставалось, не получалось втиснуться своим голосом. Да и ладно. Наде было хорошо и так. На коленях неподвижно лежал кот, больше не тыкался мокрым носом. Внутри Надиной головы все недавние волнения улеглись. И только от стыда за неправильное пиво что-то слегка зудело, как от позавчерашнего укуса слепня. От зуда хотелось избавиться. Поэтому, когда разговор снова зашел об алкогольных напитках, Надя все же решила высказаться:
— Я приношу свои извинения за то, что купила не то пиво, что вы мне поручили. Надеюсь, вы меня простите.
Все удивленно посмотрели на Надю. А Надя порывисто глотнула воздух. Словно пытаясь запить звуки собственного прорезавшегося голоса.
— Не простим, — серьезным тоном сказал Лопатин. — Порубим тебя на фарш.
— Ага, — еще серьезнее добавила Олеся Тихонова. — И скормим Ксюшиному коту.
Надино сердце садануло по ребрам. Колени дернулись и скинули сонного кота на пол.
— Я могу все исправить, — тихо сказала Надя. — Я… я завтра принесу всем вам по пиву.
— Давай, — одобрила Ксюша. — Прямо в школу, на алгебру. А еще лучше — на опрос по Лермонтову. Предложи бабушке устроить пивную вечеринку вместо литературы.
— Хорошо, — прошептала Надя, скатываясь внутри себя в ледяной ужас.
— Конечно, хорошо. А иначе бабушка никогда тебя больше не увидит.
И тут все засмеялись. Затряслись, громко хватая воздух раскрытыми в улыбке ртами. А Надя почувствовала себя беспомощным комком плоти. Словно вся она — вынутый хирургом из чьего-то тела орган. Скользкая, уязвимая. Чужая.
— Да это шутка, Завьялова, расслабься, — задыхаясь от смеха, простонал кто-то. — Это шутка.
Надя снова попыталась расслабиться. Но получалось хуже, чем раньше. Чувство сопричастности внезапно истощилось. Надя снова сократилась до самой себя, до своего обособленного скрюченного туловища, до своей болезненной неуклюжести. И в голове почему-то зашевелились неприятные воспоминания, медленно оживая. Будто плохо погребенные покойники. Все разом, и старые — как, например, об одиноком сидении на подоконнике после уроков, и совсем свежие — о жевательных мишках из магазина. Мишек, кстати, съел Сережа Гордеев.
А в полседьмого бабушка позвонила в третий раз и сказала, чтобы Надя живо шла домой.
— Вы не могли бы меня проводить до дома? — промямлила она после разговора с бабушкой. — Дело в том, что я не знаю дороги. То есть я не запомнила дорогу.
— А ты не боишься, что мы заведем тебя в лес с маньяками и там привяжем к дереву? И оставим умирать? — сказал Лопатин.
— Ребя-я-я-ят, — умоляюще протянула Аня Ищенко.
— А что? Мы на все способны. Или запрем в подвале, а бабушке скажем, что ты от нас ушла в семь и больше мы тебя не видели.
Все снова засмеялись, и Надя догадалась, что это, видимо, опять была шутка.
— Да не парься, проводим мы тебя, — сказала, отсмеявшись, Ксюша Лебедева. — Доставим бабушке в целости и сохранности.
Одноклассники действительно проводили Надю до дома. Правда, не к семи, а к девяти шестнадцати. И бабушка очень ругалась, месила воздух горькими возмущенными фразами.
— Разве мы так договаривались, Надюш? О чем мы с тобой договаривались? Ты хочешь меня довести? Связалась непонятно с кем. Скоро скатишься на двойки.
А Надя молча стояла напротив, косилась на обувные коробки, нагроможденные друг на друга в раскрытом шкафу. В шести из них действительно была обувь, а в двух — старые елочные игрушки. Многие поцарапанные и со сломанными крючками.
— Полдесятого на дворе. Когда ты собираешься домашнее задание делать? Ты скоро станешь как Уваров. Или, не дай Бог, как Сухарев этот несчастный. Ты этого добиваешься, а, Надюш? Быть на них похожей?
Надя не хотела быть похожей ни на Уварова, ни на Сухарева. Просто не могла четко объяснить, что опоздала не по собственной воле. А по воле одноклассников, которые решили разойтись только без семи девять. А раньше она уйти не могла, потому что не знала дороги.
Но со временем Надя выучила дорогу от Ксюши Лебедевой и стала уходить вечером одна.
— Мне нужно заниматься, — говорила Надя, поднимаясь с белоснежного дивана в шесть тридцать. — Мне пора.
— Нам всем нужно заниматься, и чё теперь? — не понимала Ксюша.
— Помимо домашнего задания, мне еще нужно играть на пианино.
— Блин, твоя бабушка — просто монстр какой-то. Как можно заставлять человека тренькать на пианино целыми сутками?
Вообще-то бабушка не заставляла Надю играть на пианино целыми сутками. Надя сама хотела играть. После нескольких часов «напряженного общения» ей было необходимо запереться в себе — вместе с музыкой. Восстановить потраченные силы. Когда ты в себе, когда уже не нужно мчаться за убегающими темами и лихорадочно сочинять реплики, можно наконец расслабиться по-настоящему. Можно купаться в ласковой безграничной свободе, быть самой собой. Быть звуками, которые ты извлекаешь. И Надя окуналась в пианино, ныряла с поверхности себя в глубину себя. Туда, где была сердцевина маленькой Надиной жизни.
Но одноклассники этого не знали. Одноклассники были убеждены, что Надя так много занимается музыкой из-за тираничной бабушки. А сама мечтает вырваться из бабушкиного плена, допоздна пить пиво дома у Ксюши Лебедевой и смотреть вместе со всеми странные кривлянческие фильмы, от которых должно быть смешно. Наверное, они так думали, потому что сами любили все это. И любить все это считалось нормальным. Поэтому Надя не убеждала их в обратном. Ей не хотелось, чтобы ее называли ненормальной, ей хотелось, чтобы ее принимали. Чтобы у нее были друзья: пусть даже непонятные, непохожие на нее и слишком говорливые. Пусть даже Надя с ними быстро уставала. Зачем-то они все-таки были нужны.
— Бабушка просто хочет, чтобы я хорошо играла, — оправдывалась она в прихожей Ксюши Лебедевой.
— Ага. А мы типа тебя отвлекаем.
— Да. Бабушка говорит, что вы все оболтусы. И что у вас ветер в голове.
Бабушка, конечно, действительно так говорила. Но все же, видимо, радовалась, что у Нади есть хоть какие-то друзья (жаль, конечно, что не Вероника Зябликова).
А значит, указание психолога Тамары Вадимовны выполнено. А значит, Надины «психические проблемы» постепенно решаются. Соответственно, можно опять послать Надю на музыкальный конкурс. Без страха еще раз опозориться.
И в восьмом классе Надя вновь оказалась в заявке на «Юное звучание весны».
Надя не слишком обрадовалась новости о своем официальном возведении в ранг «здоровых». И совсем не обрадовалась вытекающей из него отправке на конкурс. Живот заныл, заелозил, и руки потянулись к щекам.
— Прекрати, Надюш, — строго сказала бабушка. — Сейчас же прекрати себя бить по щекам. Ты ведь общаешься с ребятами, ты теперь обычная нормальная девочка.
— Я не хочу на конкурс! — тихо прокричала Надя.
— Как это не хочешь, Надюш, ну как это?! Мы с Юлией Валентиновной уже обо всем договорились. Надо загладить тот позор. Показать всем, на что ты действительно способна. Ты ведь очень способная девочка и можешь многое. Обязательно нужно участвовать! К тому же и ехать никуда не придется: первый тур будет в этом году у нас. Не расстраивай меня.
Расстраивать бабушку не хотелось, и Надя отняла руки от щек. Надавила на ерзающий живот, вцепившись пальцами в синий джемпер. Попыталась унять щупальца страха внутри живота.
С того дня началась подготовка к конкурсу. Впрочем, о конкурсе Надя старалась не думать. Старалась играть, как обычно, просто играть, просто жить. Создавать движениями пальцев потоки собственной внутренней жизни: медленные, стремительные, звонкие, задумчивые. Почти всегда обжигающие. Сидя в гостях у Ксюши Лебедевой или в кафе за школой (бывало и такое), Надя продолжала мечтать о музыкальном уединении. Желание уйти ото всех в глубь себя ни на секунду не покидало. Вертелось, скреблось за ребрами острой щекоткой. Но Надя знала, что если все время оставаться в глубине себя, то друзей не будет. И поэтому исправно досиживала со всеми до того часа, когда «нужно идти играть на пианино, чтобы бабушка не заругала».
Между тем Надя все чаще стала помещаться голосом в общих разговорах. Места было мало, и Надины реплики скрючивались в неестественных позах, пережимались. Но все же втискивались, все же находили себе уголок наравне с репликами других.
Многое, конечно, до сих пор от Нади ускользало. Особенно шутки. Или ощущение пространства. Как-то раз Лопатин спросил Надю, не боится ли она его. Она удивилась, потому что Лопатина не боялась. И не видела причин бояться. Он был щуплый и на полголовы ниже Нади.
— Ты просто, когда разговариваешь, стоишь в десяти метрах от меня.
— В десяти метрах? — переспросила Надя.
— Ну, не в десяти. Но в общем далеко.
В следующий раз, вручая Лопатину биологию для списывания, Надя подошла ближе. Лопатин биологию взял, но почему-то шагнул назад. Смял в удивленную складку свой выпуклый лоб и не сказал ни слова. Даже «спасибо».
Надя около минуты простояла в неподвижном недоумении. Пытаясь прийти в себя и найти мысленную опору, обратилась к своим выдуманным спискам. Прокрутила в голове весь журнал девятого «Б». От Андреевой Ольги до Юрьева Никиты. Там все было без изменений, все привычно и спокойно. Представила Виталика Щукина, его кудрявые смоляные волосы и родинку на щеке. Представила, как он сидит за второй партой со своей подругой и возлюбленной Ритой Губановой, аккуратно кладет на парту учебник и тетрадь. Накануне Виталик и Рита допоздна говорили по телефону, и Рита не выспалась. Сидит сейчас и трет свои медовые бархатистые глаза, которые от недосыпа налились красным.
— Ты что, влюбилась в Лопатина? — спросила потом Ксюша Лебедева.
— Нет, — испугалась Надя. — Почему?
— Ну, не знаю, ты к нему так близко подошла в коридоре. Почти вплотную. Я думала, ты хочешь прижать его к стенке и сделать с ним что-нибудь нехорошее.
Надя растерялась совсем. Влюбляться в Лопатина, а тем более делать с ним что-то нехорошее не входило в ее планы.
— Нет, — повторила она. — Нет. Я просто…
— Да ладно, можешь не скрывать от меня своих чувств. Все и так знают, что ты давно о нем грезишь, — развела руками Ксюша Лебедева.
И тут же, заметив Надин серьезный взгляд, добавила:
— Расслабься, это шутка. Просто на таком расстоянии одноклассники обычно не разговаривают.
— А на каком расстоянии мне следует с ним разговаривать?
— Ну, примерно вот на таком, — сказала Ксюша и встала от Нади на расстоянии трех ромбиков линолеума.
Три ромбика линолеума. С коридорными разговорами все более или менее прояснилось. Но оставался вопрос, как быть с разговорами внекоридорными. В местах, где нет ромбиков-ориентиров.
Надя много думала об этом, особенно по ночам. Успокаивала себя, вновь вызывая в голове свой девятый «Б». Смотрела из глубины воображения на Виталика и Риту, которые точно знают, на каком расстоянии от одноклассников нужно стоять при разговоре с ними. Знают они и то, что при разговоре друг с другом это расстояние может быть гораздо меньше. Потому что они друг в друга влюблены. Еще Наде снились странные сны, например про то, что Ксюша Лебедева и Лопатин оказались в списке Надиного девятого «Б», хотя такого быть не могло точно. Во-первых, потому что Ксюша и Лопатин — реальные люди. А во-вторых, в девятом «Б» всего одна фамилия на букву «Л» — Лазарева. А после нее в классном журнале сразу идет Муратов.
Неделю спустя Надя отмерила линейкой расстояние в три ромбика коридорного линолеума. Оно оказалось равным семидесяти пяти сантиметрам. Этой же длине, как выяснилось, соответствовали полтора квадрата плитки в столовой и в школьном туалете, а также девять прямоугольников линолеума под паркет «елочка» — в классах и в актовом зале. Зона ориентиров заметно расширилась, и Наде стало спокойнее.
В целом все протекало без изменений, и ей это нравилось. Только иногда с медленным скрипом из головной темноты поднимались мысли о предстоящем конкурсе, грозящем нарушить привычное течение жизни. Но Надя загоняла эти мысли обратно в темноту. Продолжала сидеть за пианино, доставая из тишины музыку. Продолжала дружить с одноклассниками, протягивать им самостоятельные работы для списывания. Бабушка периодически ругала Надю за то, что она дает списывать «всяким лодырям», но ей все равно хотелось лодырям помогать. Многие самостоятельные требовали исключительно заучивания параграфов. Для лодырей это было сложно. Их занимало все жизненное и сиюминутное, а не устройство птичьей кровеносной системы или столицы регионов России. В головах лодырей теснились мечты о ночном клубе, ссора с Беловым из параллельного класса, новые телефоны, офигенная сумка из магазина на Лесной улице. И куча другой ерунды. А в Надиной голове все это отсутствовало. В Надину герметичную голову пестрый шумливый мир не просачивался. А значит, в ней оставалось очень много места для запоминания параграфов. Не вовлеченная в повседневную сутолоку, с раннего детства отгороженная от суеты Надя купалась во внутренних просторах. Свободно и легко раскидывала по не заполненным суетой головным пустотам страницы из учебников. И ей было не жалко, совсем не жалко делиться этими страницами с другими.
Возможно — даже скорее всего, — Надина дружба с одноклассниками держалась исключительно на этом списывании. Как-то раз Надя случайно услышала, как Андрей Демидов спросил Лопатина:
— Слушай, а чего эта джипиэсница тормознутая вечно с нами таскается?
— Да ладно, — ответил Лопатин. — Мне она не мешает. Да и вообще она нам списывать дает.
— Ну она же вообще пришибленная какая-то! Как зомбячка.
— И чё? Тебе с ней не трахаться.
— Ну, только если в самом страшном кошмаре, — сказал Демидов и потряс плечами.
— Да забей, короче. Зато она добрая. И безотказная. По-моему, удобно всегда иметь под рукой полуботаншу для списывания. Не у Зябликовой же просить.
— Ну да, и то верно…
Надя не расстроилась от этих слов. Ведь эти слова означали лишь то, что она приносит своим друзьям пользу. И это было замечательно.
А однажды, незадолго до конкурса, Надя решилась пригласить друзей к себе. В тот день бабушка уехала в РОНО, и даже дядя Олег ушел по каким-то своим неясным делам. Конечно, Надя очень волновалась и даже не сумела открыть входную дверь ни с первой, ни со второй попытки. Ключи неумолимо выскальзывали из липких ладоней и падали. С третьей попытки Надя тоже не открыла, потому что третьей попытки не было. После второго падения ключей их поднял Лопатин и открыл дверь сам.
Все прошли в Надину комнату, не разуваясь. Надя полминуты переживала, увидев на светлом полу тропинки серых следов. Но потом подумала, что дома у Ксюши Лебедевой тоже никто обычно не разувается. И значит, так надо, значит, все нормально.
— О, пианино, прикольно, — сказал Сережа Гордеев. Не спросив разрешения, поднял крышку и принялся бить по клавишам.
Беспорядочное бряцание мучительно вобрало в себя всю Надю. Словно высосало за секунду все внутренности. Но Надя ничего не сказала, не сделала Гордееву замечание. Потому что Гордеев гость, а бабушка учила, что гостям делать замечания невежливо.
— Ты по-прежнему занимаешься с этой усатой? — спросила Ксюша Лебедева, когда Гордеев наконец перестал бренчать.
— Усатой? — не поняла Надя.
— Ну с училкой музыки. Валентиновной.
— Да… Раз в неделю. А в основном я занимаюсь сама. То есть одна.
— Блин, как ты ее выносишь? Ну сыграй нам чё-нибудь.
— Что именно?
— Ну не знаю. Что-нибудь легкое, не слишком депрессивное. Моцарта там какого-нибудь.
— Музыка Моцарта не легкая. Ее ошибочно считают легкой, возможно, из-за ее гармонической ясности. На первый взгляд она может показаться простой и прозрачной. У нее воздушная и чистая оболочка формы. Но это лишь оболочка. На самом деле эта музыка многостороння, глубока и полна контрастов трагедии и шутки.
— Ну все, села на коня, да? — сказала Ксюша, подперев рукой правую щеку. Ту, что с веснушчатым рисунком, похожим на карту Пиренейского полуострова.
— Какого коня? — напряглась Надя.
— Да никакого, расслабься. Я просто от тебя столько слов раньше никогда не слышала. В общем, играй, что хочешь, короче.
И Надя сыграла сначала «Лунную сонату», а потом вальс Шопена до-диез минор и вальс си минор. Одноклассники сначала слушали молча. К концу первого вальса начали перекидываться короткими тихими фразами. А к середине второго стали разговаривать свободно, в полный голос. Надя доиграла и медленно выдохнула. Положила руки на колени — плавно, изящно, как учила когда-то Юлия Валентиновна. И тут заметила, что друзья как будто совершенно про нее забыли. Даже когда музыка затихла, никто не повернул головы в сторону пианино. Все продолжали выпускать изо рта быстрые фразы, недоступные Надиному пониманию. Волнообразные, причудливые фразы — словно арабески. Словно фигурации из ми-мажорной «Арабески» Дебюсси. Все говорили, смеялись переливчатым смехом, непринужденно взмахивали руками. Отдельно от Нади. Надю ото всех как будто отделяла стеклянная стена. Беседа струилась там, по ту сторону. Обычная дружеская беседа — воздушная, прозрачная и непостижимая. Вторя ей, Надя начала играть «Арабеску». Наде хотелось чувствовать себя хоть как-то вовлеченной в беседу. Быть вместе со всеми. И чем дальше пальцы уносили Надю в струящиеся музыкальные узоры, тем ближе казались одноклассники. Она играла почти в унисон с их голосами. Вливалась в общий разговор. По-своему, но вливалась.
Кстати, именно «Арабеску» Наде предстояло исполнять на конкурсе. Так распорядилась Юлия Валентиновна:
— В этот раз сыграешь нечто светлое и мажорное. Подходящее для твоего возраста.
Наде было все равно. Любой разговор о конкурсе перекручивал внутри нее все органы. Сил на обдумывание репертуара просто не оставалось.
И когда наступил конкурсный день, Наде было настолько страшно, что она еле дышала. Надя боялась вновь опозорить бабушку и школу. Боялась рухнуть в беспамятство, с головой уйти в себя и там примерзнуть к собственному дну. Не всплыть в реальность в нужный момент. Пропустить решающие минуты отведенного ей конкурсного времени.
Но вот деревянные ноги доставляют Надю на сцену, и она вроде бы осознает, где находится. Надя в своем городе, в местном ДК. Вот на первом ряду сидят члены жюри. Вот стоит рояль. Но страх почему-то никуда не исчезает.
Надя двигается к роялю медленно, словно пробирается через глубокий снег. Лучистый, сверкающе-синий — как на календарных фотографиях. На втором ряду сидит бабушка. Надя быстро цепляет ее взглядом и тут же смотрит под ноги. Не споткнуться, не упасть в сугроб. Краем глаз видит, что вокруг поднимаются синие холодные стены зала. Такие же были в детсадовской спальне. «Трансцендентная синева». Надя вспоминает, как нянечка Светлана Васильевна забыла ее поднять после тихого часа. Не заметила в дальнем левом углу. А про остальных вспомнила, и все ушли на полдник и на прогулку. Все ели запеканку и гуляли по синему снегу парка, пока Надя лежала два часа в непривычной синей пустоте. И хотя пустота была ласковой, освобождающей, и можно было делать, что хочешь, где-то в глубине едва ощутимо покалывал синий страх.
И тут Надя ясно понимает, что просто не хочет еще раз оказаться забытой в дальнем углу. Этого она и боится — не только сейчас, а всегда. Если ее не забудут, то все пройдет нормально. Со всем остальным можно справиться. И сама Надя никого в дальнем углу не забудет. В этом она уверена.
Надя садится за рояль, растерянно смотрит на клавиши, затем смотрит в зал. На седьмом ряду сидят Ксюша Лебедева, Лопатин и кто-то еще. Они не ждут в напряжении первых звуков Надиной игры. Они уже принялись хихикать, переглядываться, перешептываться. И, вливаясь в их тихую искрящуюся беседу, Надя начинает «Арабеску».
Собака Надя
В следующий миг в зале медленным нарастающим шумом поднимаются аплодисменты. Надя уже в Москве и только что исполнила «Арабеску» в финальном туре конкурса. Надя кланяется, смотрит на зрителей — все как положено. Как учила Юлия Валентиновна. И тут же щурится: слишком уж ярко льется в глаза московская люстра. Как будто резко разгорелась после Надиного исполнения. Хочется убежать в мягкий полумрак, но нужно постоять еще несколько секунд. Досчитать до восьми. И сквозь притворенные веки Надя продолжает разглядывать зрительское море. Море шумит, поднимается волнами рук, разливается складчатой пестротой одежды. У самого берега — рядом со сценой — извивается тонкая полоска белой пены. Белые рубашки жюри.
Досчитав до восьми, Надя убегает. В полумраке подсобки ее настигает плотная горячая рука Юлии Валентиновны.
— Молодец, Завьялова. Просто молодчина. В тройку точно войдешь, однозначно. Школа может тобой гордиться.
Юлия Валентиновна радостно смотрит из полумрака на Надю, и ее широко раскрытые глаза растекаются зрачками. Жирно блестят чернотой, словно маслины.
Когда председательница жюри начинает объявлять победителей, Надя уже сама влита в зрительское море. Сидит рядом с бабушкой и пытается слушать. Но от перегрузки нотами и эмоциями ничего услышать не может. Слова тягучи, расплывчаты, и их смыслы мертвы. Лишь после мягкого толчка под локоть Надя замечает, что со сцены — из безжизненной каши звуков — дважды выплывает ее фамилия.
— Надюш, ты не слышишь, что ли? Тебя зовут! Первое место, Надюш, первое место! — раздается знакомый голос справа.
Нужно возвращаться на сцену и кланяться. Надя медленно встает, протискивается через плотные ряды, деревянно поднимается по трем ступенькам. Думает, что бабушкина старая стремянка тоже трехступенчатая и что на ее верхней ступеньке три ржавых пятна. Два больших и одно маленькое.
Сцена наполнена членами жюри. И, видимо, высокая прямоугольная женщина в белом пиджаке — самая главная. Председательница. Она слегка прикасается к Наде потной кожей и что-то говорит. Что-то про яркие таланты, про новое поколение, про ежегодные открытия. Смысл ее слов гибнет, едва родившись.
— Спасибо, — говорит Надя. — Спасибо.
Надин успех стал предметом всеобщих школьных разговоров. В первые дни учителя упоминали о нем практически на каждом уроке.
— Вот, берите все пример с Завьяловой, — говорили они по любому поводу, даже никак не связанному с конкурсом и с музыкой. Раскрывали ладони в сторону Надиной последней парты.
Директриса один раз вызвала Надю к себе в кабинет и минут пятнадцать пискляво нахваливала. Заставила выпить очень сладкий кипяток, подкрашенный пакетиком «Липтона», и съесть зачерствевший бублик.
— Солнышко, мы тобой гордимся. И гордимся собой. Помнишь, какой ты пришла к нам впервые? Помнишь, а? Вот такой ма-а-а-аленькой, забитой, испуганной девочкой, которая слова из себя выдавить не могла. Но мы в тебя верили. Мы всегда знали, что наша школа сделает из тебя человека.
Розовеющие рядом секретарско-завхозные лица благодушно и сыто кивали.
На втором этаже даже вывесили стенгазету, посвященную Наде. С Надиной фотографией.
— Круто, — говорили одноклассники. — Поздравляю. Круто. Поздравляю.
А Надя уворачивалась от потных похлопываний по плечу и старалась проходить мимо стенгазеты как можно быстрее. Ей не нравилось смотреть на себя, висящую на школьной стене. И приплюснутая навалившимся вниманием Надя убегала на переменах в класс музыки, который часто пустовал. Закрывала за собой дверь и играла в одиночестве до самого звонка, наслаждаясь отсутствием зрителей. Если в классе музыки кто-то был, Надя искала себе другое пристанище. Уединившись, топталась по кругу в такт внутренней музыке. Или полувнутренней музыке — той, что в наушниках. Кружилась по линолеуму, имитирующему паркет «елочка». Размеренными движениями ступней играла мелодии на полу.
Бабушка тоже без конца поздравляла Надю. А еще названивала знакомым и хвасталась Надиными достижениями по телефону.
— А что я говорила? Нет, Анюта, ты не верила. А я сделала-таки из Надюши человека.
Надя сидела в своей комнате, смотрела в окно на вечерний мокрый асфальт — блестящий в свете фонарей, словно залитый маслом. И с удивлением думала, что ее очеловечивание, оказывается, сводилось к победе в детско-юношеском музыкальном конкурсе.
А Ксюша Лебедева заявила, что Надину победу обязательно нужно отметить.
— У Лопатина на даче, — уточнила она.
Надя отступила на четвертый от Ксюши линолеумный ромбик.
— Как это — на даче? То есть не в городе?
— Нет, Завьялова, не в городе. Мы сядем на электричку и через полтора часа доедем до лопатинской станции.
— Полтора часа — это ведь очень много. Мы не успеем вернуться.
— А мы и не будем возвращаться.
Надя потянулась руками к лицу, но вспомнила, что хлопать себя по щекам нехорошо. Тем более победительнице музыкального конкурса. И принялась еле заметно постукивать пальцами правой руки по левой ладошке.
— Как это — не будем возвращаться? Останемся там насовсем?
Ксюшины глазные желуди закатились под веки.
— Да, Завьялова, насовсем, навсегда. Станем выращивать помидоры в парнике, а со временем заведем корову. Правда, пианино там для тебя не будет, но ты переквалифицируешься, начнешь ходить по деревне с гармошкой.
— У меня нет гармошки…
— Тогда вернемся в город на следующий день.
— Ты хочешь сказать, что мы все-таки останемся там ночевать? И что нужно взять с собой пижаму?
— Нужно, Завьялова, нужно. Хотя… неизвестно, как далеко тебя заведет празднование. Возможно, пижама тебе и не пригодится. В общем, смотри сама. Главное, у бабушки отпросись.
Надя была уверена, что бабушка никогда не отпустит ее с ночевкой.
Но бабушка отпустила. Возможно, потому что сетка уроков истощалась, главные контрольные были написаны, подступало лето. А еще потому, что вместе со всеми собиралась ехать Вероника Зябликова. И, главное, ее брат-одиннадцатиклассник Кирилл, похожий на сестру настолько, что Надя иногда не могла их различить.
— Ладно уж, так и быть, — сказала бабушка. — Кирюша — взрослый, ответственный мальчик, присмотрит там за вами, за оболтусами.
О том, что ни Вероника, ни Кирюша на самом деле никуда не едут, Надя узнала уже на вокзале.
— Прости, — пожала плечами Ксюша Лебедева. — Мне пришлось соврать твоей бабушке, чтобы она тебя отпустила.
— И мне ты соврала тоже, — плавно сообразила Надя.
— Ну да. Иначе бы ты не поехала. Я ж тебя знаю, ты такая, блин, честная. Сразу призналась бы бабушке.
Надя уже собиралась внутренне раскалиться и разлететься на множество крошечных горячих осколков. Но тут шум отъезжающей электрички совпал в голове с аккордами из середины Пятой симфонии Бетховена. Надя тут же начала мысленно воспроизводить симфонию — прямо с услышанного такта. И остыла, вернувшись в себя.
На даче у Лопатина было по-весеннему сыро, но тепло. В кухне, где все сидели за дубовым столом, сладко пахло яблоками и медом. Горбились шкафы до потолка, набухшие то ли столовой утварью, то ли старыми журналами, то ли просто наслоившимися годами.
Помимо одноклассников, на даче были еще двое неизвестных Наде ребят. Полноватый мальчик с круглым румяным лицом и точеная мелированная девочка. Оба целый день и вечер стеклянно смотрели в свои телефоны, в беседе почти не участвовали. Надя так и не узнала, как их зовут. И вообще практически ничего про них не узнала.
— Ребят, давайте выпьем за Завьялову! — предложила Ксюша. — За ее победу в каком-то там конкурсе юных пианистов.
— О, точно, — сказала Аня Ищенко, подсаживаясь к Наде. — Кстати, расскажи про второй тур. Сложно было?
— Нормально, — ответила Надя. — Не очень сложно.
— А в Москве тебе понравилось?
Надя задумалась. Начала собирать воедино кусочки впечатлений. Ярких впечатлений практически не было, разве что метро. А точнее, использованные трамвайные билетики, раскиданные около павильона, у которого Надя с бабушкой ждали маршрутку. Билетики мирно лежали на ступеньках. Однако время от времени тяжелые стеклянные двери метро открывались, высвобождая течение теплого зловонного воздуха. И все скомканные бумажки тут же хаотично взлетали и набрасывались на Надю. А еще запах метро смешивался с запахом газет, продаваемых в ближайших киосках. Но внутрь метро они с бабушкой так и не зашли. И вообще, по одним билетикам судить о городе сложно. Надя долго обдумывала свой ответ, чтобы он получился правдивым. А когда наконец открыла рот, чтобы сказать, что не знает, понравилась ли ей Москва, все уже говорили не о Москве, а о Брюсселе, где жила подруга тети Ани Ищенко. В Брюсселе Надя не была.
Пили на этот раз не пиво, а виски с колой. Надя пробовать виски не хотела, а колу не любила, поэтому первую часть вечера не пила ничего. Сухо щелкала полуоторванной губной корочкой, прижимала ее верхней губой к нижней. Потом щелкать надоело, и Надя все же отхлебнула немного колы из пластикового стаканчика. Корочка тут же размокла, безвольно повиснув.
— Завьялова, да выпей ты виски, — уговаривал Лопатин. — Все равно бабуля не видит.
— А мы ей не скажем, — добавила Ксюша. — Да и к тому же — это безалкогольный виски. Ты ведь сама покупала.
— Я не покупала, — удивленно пробормотала Надя.
Все вокруг засмеялись.
— Блин! — вдруг сказала Ксюша.
— Чё такое? Порезалась?
— Ага, дебильная открывашка!
Ксюша бросила полуоткрытую консервную банку на стол и принялась утирать краем скатерти раненые пальцы. Надя сжалась при виде красных разводов.
— Это все из-за тебя, Завьялова, — кровяным солоноватым голосом сказала Ксюша.
— Почему? — чуть слышно спросила Надя.
— Ну как почему? Если бы ты пила виски, остальным бы меньше досталось и мне тоже. И к шести вечера я не была бы такой пьяной и не порезалась бы, открывая эти чертовы оливки.
— Да, Завьялова, — согласился с Ксюшей Лопатин. — Ты виновата. Так что быстро пей. А иначе мы все расскажем твоей бабуле.
Надя дрожащей рукой взяла протянутый ей кем-то стаканчик с виски и сделала небольшой глоток. От переживаний даже не почувствовала вкуса.
— Пей-пей, — сказала Ксюша. — А иначе мы выпьем твою порцию, станем совсем бухими и подожжем лопатинскую дачу. И будешь выплачивать лопатинским родителям компенсацию.
Надя сделала еще один глоток, и тут все засмеялись.
— Да это шутка, Завьялова. Это шутка.
Смеялась даже раненая Ксюша. Стояла и смеялась, облокотившись на смеющегося Лопатина и обматывая красные пальцы бинтом, откуда-то принесенным смеющейся Аней Ищенко. Не смеялись только двое незнакомых Наде ребят. Да и вообще они ни разу не оторвали от экрана стеклянных глаз. Ни на Ксюшин возглас, ни на общий смех. Надя даже засомневалась, настоящие ли они.
Беседа течет мимо нее. Она пьет маленькими глотками отвратительный виски, который ей постоянно подливает Лопатин. Прокручивает в голове список своего девятого класса «Б». Представляет, как Виталик Щукин и Рита Губанова после урока алгебры идут в школьную столовую. Берут себе чай и сэндвичи с веточками мертвого укропа. Садятся за столик, обсуждают прошедшую контрольную. Рита слегка оттягивает мочку правого уха, поглаживает сережку в виде бабочки. За соседним столиком сидят Аня Дроздова и Оля Бондаренко и что-то увлеченно рассматривают в Олиной тетради. А за столиком в углу сидят… Нет, не может быть. Наде на секунду видится, что там сидят те самые ребята с телефонами. Румяный мальчик и мелированная девочка. Но ведь они сидят сейчас напротив Нади, за лопатинским дубовым столом. И значит, в столовой воображаемой школы их быть не может.
Мысли кажутся размякшими, слегка растекаются, словно подтаявшая в кармане конфета. Надя встает и выходит на крыльцо. Выплывает из шумного освещенного дома в прохладный густеющий сумрак.
На крыльце, на синем половике лежит овчарка. Устало и немного грустно смотрит на Надю. Осмысленным, почти человечьим взглядом. И Надя почему-то гладит ее, прикасается к ней, хотя и не любит соприкосновений.
— Ну как вы там, гуляете? — доносится откуда-то сбоку теплый маслянистый голос.
Надя поворачивает голову вправо и видит силуэт женщины.
— Здравствуйте. Нет, мы не гуляем. Мы… сидим в доме. То есть они сидят, а я…
— Понятно. Родителей Денискиных нет — свобода полная. Ну что ж, дело молодое. Я тетя Лида, соседка.
— А, здравствуйте. Я Надя, подруга Дениса. То есть не то чтобы подруга. Одноклассница. Нет, не просто одноклассница. Приятельница.
Тетя Лида щелкает зажигалкой. Прорезает на секунду горячим светом зябкий расплывающийся полумрак. Надя видит ее вислые щеки, пепельные кудряшки, сигарету, зажатую в улыбке.
— Ну что ж, очень приятно. А я за собакой своей пришла.
— Это ваша собака? — резко выпрямляется Надя.
— Моя, моя. Почему-то вот решила к вам в гости напроситься. Ни с того ни с сего.
— А как ее зовут?
Тетя Лида отвечает, но Наде не удается расслышать из-за веселых воплей, брызгающих из дома. Как-то похоже на Надю. Может, и есть Надя. Может, собаку тоже зовут Надя. Как Надю. Хотя, с другой стороны, если бы это было так, тетя Лида наверняка отметила бы совпадение. Возможно, собаку зовут как-то иначе. Например, Найда. Но переспросить Надя стесняется.
— Вы там хоть закусываете? — спрашивает тетя Лида, медленно затягиваясь.
Надя видит ее взгляд — теплый и обволакивающий.
— Да, мы закусываем. У нас есть сметанные чипсы, чипсы с укропом и оливки.
— А хочешь соленый огурчик? Подожди, сейчас принесу тебе. Я только что банку открыла.
Тетя Лида нагибается, аккуратно тушит сигарету о камень и уходит, сжимая окурок в пухлой ладони.
— Сейчас, — говорит она, — сейчас.
Собака Надя и Надя не двигаются с места, послушно остаются на крыльце. На дачный участок набегают плотные тягучие тени — как волны на берег. А за сараем, на улице, в густо-синем вечере зажигаются первые фонари. Надя гладит собаку Надю и безвольно утекает взглядом в фонарный лиловый свет. Словно в разбавленные чернила. Немного холодно, но уходить в дом не хочется. Не хочется оставлять собаку Надю одну. К тому же Надя должна ждать тетю Лиду. И ждет. Неустанно проводит ладонью по гладкой черной шерсти. Собака Надя напряженно жмурится — возможно, Надя как-то неправильно ее гладит. Но гладить по-другому она не умеет.
— Вот они, угощайся, Наденька, — говорит вернувшаяся тетя Лида и протягивает банку.
В банке плавают крупные тела огурцов. Вода мутная, цвета радужки слепого глаза. В сериале «Холод страсти» у слепой старухи Фернанды Сантос были глаза точно такого же цвета. Надя думает, что уже очень давно не смотрела сериалов. Много лет. Практически с момента переезда к бабушке. Еще Надя думает, что ненавидит соленые огурцы. Но чтобы не обижать тетю Лиду, вынимает одно огурцовое тело и надкусывает.
— Правда ведь вкусно? — спрашивает тетя Лида.
— Правда, — отвечает Надя, пытаясь тут же не выплюнуть соленую мягкую массу. Надя непроизвольно представляет, что у нее во рту глазные яблоки Фернанды Сантос. Вместе с веками и мертвыми зрительными нервами.
— А я смотрю, вы подружились? — Тетя Лида наклоняется и свободной левой рукой треплет собаку за ухом. — Она у меня хорошая. И не капризная. Ей много не надо. Живет в своем личном, просто устроенном раю. В этом раю все изо дня в день течет по кругу. Сон, прогулка, обед, игра, просмотр сериала вместе со мной, прогулка. И так каждый день, одни и те же действия, одни и те же ритуалы. И это все, что ей нужно для счастья. Ты знаешь, Наденька, ей не нужны никакие перемены, никакие там приключения. Ей просто не бывает скучно. Ей хорошо в монотонности, среди круговорота привычных вещей и дел.
Поднимается легкий, чуть заметный ветер. Нехотя пощипывает листья в саду и выбившиеся из половика синие грубые нити. Собака Надя зябко жмется в себя, и Надя жмется тоже.
— Да, — шепчет она. — Я знаю.
— Возможно, в настоящем раю все так же. Все течет по кругу, все повторяется. Мы вот все за чем-то бежим, постоянно хотим чего-то нового, необычного, яркого. Так ведь? И рая у нас нет. Рай — это, наверно, и есть повторение. Счастье однообразия.
Надя уже прожевала глазные яблоки и теперь задумчиво смотрит вниз. Смотрит, как жирная лимонная щель под дверью перечеркивает сгустившиеся сумерки. Дачное нутро зовет теплом.
— Ладно, Наденька, ты, наверное, замерзла. Возвращайся к ребятам. Да и мы пойдем потихоньку. До свидания, рада была знакомству.
Тетя Лида прижимает к себе огурцовую банку и уплывает в сумерки. В плотную синюю пустоту. Собака Надя тут же поднимается с половика, бесшумно уплывает ей вслед. А Надя не спешит возвращаться в дом. Еще несколько минут стоит в одиночестве на крыльце, обхватив себя обеими руками. Руки еще хранят густой собачий запах. Наде почему-то хорошо и спокойно, несмотря на холод. Ей кажется, что вечер вокруг — величественный и высокий, словно храм. Не такой храм, в который она ходила с мамой и дядей Игорем, а какой-то другой, настоящий. Какой именно — Надя не может с ясностью понять.
В доме никто как будто не заметил ее долгого отсутствия. Все уже окончательно расслаблены, пропитаны изнутри терпким солодовым теплом.
— Да вообще… кровищи было море… — медленно и тягуче говорит незнакомый румяный мальчик. Протягивает телефон с включенным видео. — Просто все заснять не получилось.
— Охренеть, — говорит Сережа Гордеев, глядя на экран.
— Жаль, потом эти приехали… ну как их… разогнали всех на хер, короче.
Надя молча садится на свое место и смотрит в окно. Ей кажется, что одноклассники сидят снаружи, в вечернем саду, а вовсе не рядом, не в ярко освещенной кухне. Плавятся, струятся за оконными стеклами, постепенно утекают в ночь. И через какое-то время Надя замечает, что рядом действительно не осталось никого. Кроме спящего Андрея Демидова, положившего голову на стол. Надя наливает себе виски и выпивает залпом полный стакан. Виски уже не кажется ей таким отвратительным, как два часа назад. Надя думает о собаке Наде и о рае с вечным повторением одного и того же. Кто-то выключает электрический свет, и через минуту на столе уже стоит толстая свечка, проглоченная стеклянным подсвечником. Тускло мерцает из его полупрозрачного желудка.
Мимо проходит Аня Ищенко со стопкой тарелок.
— Надя, ты не собираешься ложиться? Там, на втором этаже, ваша с Лебедевой комната. Лебедева уже спит, кстати.
Нет, Надя ложиться не собирается. Она внезапно понимает, что хочет еще раз увидеть собаку Надю. Собаку, которая ее понимает. И Надя медленно поднимается с места, чуть не опрокинув подсвечник.
— Ну как хочешь, — пожимает плечами Аня Ищенко.
На крыльце Надя сталкивается с Лопатиным.
— Завьялова, ты куда собралась? — устало говорит он, толкая Надю в плечо фонариком. Словно заталкивая обратно в дом.
Но Надя мягко отстраняет его и сходит с крыльца. Сад тут же наваливается липким густым холодом.
— Где собака Надя? — спрашивает Надя.
В воздухе уже висит плотная ночь, и вокруг ничего не видно.
— Кто?
— Собака, которая любит повторения…
— Завьялова, ты спятила?
Лопатин наводит на Надю свет фонарика, тревожно ощупывает пьяным взглядом Надино лицо.
— Здесь была собака… которая не любит перемены… Собака твоей соседки, тети Лиды.
— Какой еще тети Лиды? Чё ты несешь вообще? Вроде выпила меньше всех…
Разбухшие за день мысли вдруг резко слипаются в один тяжелый болезненный сгусток. Утягивают в темный и глубокий колодец усталости.
— Она была… а потом ушла… вот туда, — говорит Надя и показывает направление.
Лопатинский фонарик следует за Надиной рукой. Длинный острый луч тут же всковыривает темноту сада, легко проваливается на соседний участок. Выхватывает по частям одноэтажный домик с заколоченными ставнями.
— Там нет никого уже четвертый год, — говорит Лопатин. — Иди спать, Завьялова.
Лопатин уходит в дом, унося с собой луч. А Надя остается неподвижно стоять у крыльца. В темноте тихо спит сад, легким узором вплетает в свою тишину отголоски чьего-то храпа. Надя смотрит за сарай, на дорогу, залитую пятнами лилового света. Наде кажется, что она видит собаку Надю, придавленную чем-то тяжелым. Собака Надя беззвучно скулит, вертится, пытаясь освободиться, а рядом стоят безымянные лопатинские гости — румяный мальчик и мелированная девочка — и снимают собаку Надю на видео. Надя тяжело и прерывисто вздыхает, чувствуя, что сознанию все труднее пробиваться сквозь налипающий сон.
Медальки
— Твоя бабушка звонила мне вчера пять раз, — говорит Ксюша Лебедева. Со скрипом двигает стул, и скрип больно процарапывает Надин сонный слух. — Слышишь, Завьялова? Просыпайся.
Наде сложно проснуться. Сон придавил ее, будто тяжелый валун, и из-под него никак не вылезти.
— Завьялова. Подъем.
Она медленно открывает глаза в незнакомой дачной комнате. Спутанные вчерашние впечатления плавают в темном внутреннем колодце. По кругу, словно пытаясь преодолеть колодезную замкнутость. Голова идет трещинами.
— И что тебе сказала бабушка?..
— Ничего не сказала. Я не слышала вчера. Сейчас только увидела пропущенные вызовы.
Надя садится на кровати, смотрит в замызганное зеркало. Видит собственное помятое лицо, а за ним окно. Жмущиеся к стеклу дубовые ветки и тонко разлитые молочные облака.
— Завьялова, блин, я к тебе обращаюсь! Я пыталась сегодня ей перезвонить, но она трубку не берет. Позвони ей сама. Может, с тобой она согласится разговаривать.
Облака расступаются, и в комнату вкатывается воспаленный глаз солнца. Оттолкнувшись от зеркала, щекотными брызгами летит в глаза.
— Ладно? А то она меня убьет потом.
— Да, — говорит Надя. — Я позвоню. Но она тебя не убьет.
Надя нащупывает в комке лежащей рядом одежды телефон. Заспанно смотрит на экран и тут же вздрагивает всем телом. Девять пропущенных вызовов. Цифра «девять» словно окатывает Надю изнутри ветряным холодом. Она звонит — долго, упрямо, но в телефоне только больно колются гудки.
— Бабушка не отвечает, — говорит Надя, взглянув в первый раз за утро на Ксюшу Лебедеву. У Ксюши Лебедевой тоже заспанное лицо, а на правой, «пиренейской», щеке даже остался след от подушки.
— И чё теперь делать?
— Я поеду в город. Наверное, что-то случилось. Из-за меня.
— Да ладно, так уж сильно-то не парься. Почему сразу из-за тебя? Да и вообще, может, просто не слышит. Проверяет сочинение Уварова и так поглотилась его умными мыслями, что забыла про все вокруг.
Но Надя встает и быстро собирается. Несмотря на рухнувшую из ниоткуда в тело чудовищную слабость. Выходит из лопатинского дома, не попрощавшись ни с кем. Даже не взглянув ни на кого. Только удивленно пробегает взглядом по соседскому домику с заколоченными ставнями. Что-то чуть заметно шевелится на границе сознания, но наружу так и не прорывается. Нет времени вытаскивать.
Слава богу, станция совсем рядом, на соседней улице. И Надя может найти ее самостоятельно. Разве что приходится один-единственный раз уточнить направление — у старичка с прозрачными ноздрями, усеянными капиллярами. Чтобы наверняка.
В электричке Надя вдруг понимает, что впервые едет так далеко одна. Как обычный, притом взрослый человек. Это осознание довольно приятно, но тут же растворяется в головной боли и в волнении. Головная боль тесная, местами потемневшая и как будто ребристая. Как деревянная вагонная скамейка, на которой Надя сидит. Когда она проводит по скамейке кончиками пальцев, кажется, что головная боль усиливается. А от подбитого вагонного окна усиливается волнение. Стекло бежит грустными трещинами во все стороны. Такие же грустные морщины бывают на бабушкином лице, когда она переживает. Надя снова пытается звонить бабушке, но бабушка не отвечает.
Прямой дороги от вокзала до дома Надя не знает. Зато знает дорогу от вокзала от желтого магазина «24». Там Ксюша Лебедева и Лопатин покупали виски перед поездкой на дачу, и она была вместе с ними. А от желтого магазина «24» Надя может дойти до школы, потому что в магазин все шли оттуда. Ну а от школы уже совсем просто. Может, конечно, она сделает огромный ненужный крюк, но выбора нет. И Надя бежит по знакомым и полузнакомым улицам, а по Надиной спине ползут ледяные гусеницы пота. Воздух похолодел. Облака загустели, и в их глубине темными складками нарастает тяжесть дождя. Внутри Нади тоже как будто нарастает дождь. Еще чуть-чуть, и разразится шумным потоком. Вот желтый угол магазина, Надя касается его кончиками пальцев, чтобы точно удостовериться, что он есть. Вот первый светофор. Вот стенка с граффити. Вот второй светофор. Вот школа. От школы Надя знает короткий путь — дворами. Надя бежит мимо переполненных мусором контейнеров — скалящихся, с приоткрытыми крышками. Вот наконец и совсем знакомая улица, и «Пятерочка», и совсем знакомый подъезд. Дверь открывается, и домофон пиликает неуместно весело.
В квартире бабушки нет, а дядя Олег сидит на своем привычном месте за компьютером. На столе стоит кружка с недопитым кофе «Якобс Монарх».
— Где бабушка? — спрашивает, задыхаясь, Надя у затылка дяди Олега.
— Бабушка… У нее был сердечный приступ, — отвечает дядиолеговский затылок. — Но ты не переживай. Ее увезли в больницу, и теперь все нормально.
У Нади в груди стучит колесами по ребрам электричка.
— Как это — сердечный приступ? Из-за меня?
— Да расслабься ты. Просто приступ. У нее же сердце больное… Но сейчас уже все нормально, мне врач звонил. Ей там оказали помощь, и все такое.
— В какой она больнице? Отвези меня туда, пожалуйста.
Дядя Олег поворачивается к Наде. Закатывает глаза и страдальчески сводит пшеничные брови:
— Слушай, мелкая, я же говорю: успокойся. Не надо никуда ехать. С ней уже все в порядке. Ей просто нужен покой. Понимаешь? Покой.
— Ну пожалуйста.
— У меня работа вообще-то. И поверь мне, наше присутствие ей сейчас ни к чему… Врач звонил, говорю же тебе. Сказал, ей отдохнуть надо.
Электричка внутри Надиной грудной клетки разгоняется.
— Я должна попросить у нее прощения. Я поеду. Напиши мне, пожалуйста, адрес больницы.
Дядя Олег причмокивает, берет бежевый клейкий листочек и что-то на нем пишет. Буквы расслаиваются, крошатся перед Надиными глазами.
— На, мелкая, держи. Но вообще ты это зря.
И Надя выбегает на улицу с бежевым дядиолеговским листочком. Снова глотает уличный воздух — уже совсем тревожный, налившийся неминуемым дождем. Не знает, куда податься. То ли на автобусную остановку, то ли на трамвайную. То ли просто бежать наугад, через весь город. А вдруг больница где-то совсем рядом? Можно у кого-нибудь спросить. Например, вернуться в квартиру и спросить у дяди Олега. Но нет, лучше не отвлекать его от работы. К тому же непросто объяснить маршрут, когда ты не на улице и не можешь показать направление рукой. Значит, нужно спрашивать у прохожих. Вокруг плавает множество тел, тела сталкиваются друг с другом и разлетаются в разные стороны в густом преддождевом воздухе. Как тела соленых огурцов в банке с мутной слепой водой. Тела не обращают на Надю никакого внимания. Проплывают мимо, слегка покачиваясь. Достают из сумок зонтики. Надя отчаянно вертит головой, зачем-то бежит до «Пятерочки» и обратно. И еще раз до «Пятерочки» и обратно. Как на физкультуре. Трясет перед собой дядиолеговским листочком. И тут на листочек падает тяжелая капля. Ползет к бежевым краям вместе с чернилами. Надя с ужасом наблюдает, как дядиолеговские буквы сгущаются в один сплошной кровоподтек. Вместо адреса больницы теперь сияет лиловая гематома. Приоткрыв рот, Надя подносит листочек совсем близко к глазам. Падает новая капля — еще тяжелее предыдущей. А в следующую секунду обрушивается целая капельная стена. Надя резко поднимает от листочка голову. Вокруг ежесекундно раскрываются яркие пятна зонтиков, распускаются блестящие спицы. Наде хочется крикнуть в толпу тел, в бурлящий дождевой поток. Но крикнуть не получается: крик упирается в плотную тишину герметично закрытой банки. И Надин голос схлопывается, сжимается в еле слышный писк. Еще несколько минут она стоит под дождем, на пустеющей мокрой улице. Уже не пытается что-либо предпринять. Надя начинает догадываться, что до больницы ей не добраться.
Дождь шел весь день и всю ночь. Надя лежала на полу, глядя на кружевную сову в рамке. На понедельник оставалось домашнее задание по английскому, но делать его совсем не было сил. Она слушала бурление воды там, снаружи, за пределами комнаты, и словно отсыревала внутри себя. Иногда подходила к окну и разглядывала безлюдную дорогу, серебрящуюся жирными пузырями. Несколько раз пыталась начать играть, но, приблизившись к пианино, понимала, что не может разжать деревянные руки. Надя застряла в собственном затверделом теле, увязла в неподвижности. Как мошка в застывшей капле смолы.
А на следующее утро бабушка вернулась домой. Молча прошла в свою комнату и просидела там около получаса. Затем вышла на кухню, где сидела неподвижная Надя, и посмотрела куда-то в пространство глубоким неморгающим взглядом.
— Надюш, зачем ты так со мной? Ведь я твой родной человек, а с родными так не поступают. Это бесчеловечно, Надюш.
Надя опустила взгляд на кухонный линолеум, на стык светло-коричневого и темно-коричневого квадратиков. А бабушка продолжала:
— Я позавчера вечером встретила Кирилла Зябликова в «Пятерочке». Зачем ты меня обманула, Надюш? Зачем сказала, что он едет с вами? Он даже не в курсе был вашей поездки. И Вероники с вами не было, я знаю. Она вчера сидела целый день дома, мне Кирилл сказал. И я, как только узнала, принялась тебе звонить. Звонила раз пятнадцать, а ты трубку не брала.
— Не пятнадцать, а девять, — прошептала Надя.
— Да какая разница? Какая разница, Надюш, если ты меня чуть на тот свет не отправила? Что вы там делали, скажи? Чем таким важным занимались, что нельзя было ответить бабушке?
— Я просто не слышала… Я гладила собаку.
— Какую еще собаку? Там этот Лопатин был, да? Кто еще? Демидов, кто? Наверняка устроили там невесть что. Так? А присматривать за вами некому. Вот что, Надюш. Я от тебя такого не ожидала. Никогда не думала, что ты можешь докатиться до вранья. Я понимаю, конечно, что это Лебедева тебя подговорила. Ей я, кстати, тоже вчера пыталась звонить, но и она, похоже, была занята чем-то особенным.
— Нет, Лебедева меня не подговаривала, она просто…
— Давай выгораживай. Довела меня до приступа и теперь еще спорит со мной. Ну, я сама виновата. Вырастила внучку. Еще похлеще, чем ее нерадивая маманя. В общем, опозорила ты меня, Надюша, что сказать. И ведь даже в больницу ко мне не приехала…
Надя потом еще долго распутывала бабушкины фразы на слова, слова на звуки, а звуки на образы. Тяжелые, мучительно четкие образы. «Родной человек» с кровоточащим, наполовину выдернутым сердцем. Сидит на остывшем ривьерском песке, повесив голову. А «нерадивая маманя» просто уходит прочь, просто удаляется, и даже золотистый звук «М» резко выцветает вместе с золотистыми маманиными волосами.
С того дня Надя стала проводить меньше времени с оболтусами и больше с бабушкой.
А еще, чтобы хоть как-то оправдаться за свой бесчеловечный поступок, начала активно участвовать в музыкальных конкурсах и фестивалях. Во всех, без разбора. Городских и региональных, профессиональных и любительских, пасхальных и первомайских. Везде, где только требовалось «что-нибудь смузицировать».
— Ну, Завьялова, ну ты даешь, — удивлялась Юлия Валентиновна. — Раньше тебя на школьный концерт нельзя было затащить, а теперь — прямо народная звезда!
Народной звездой быть не хотелось, но приходилось. Ведь Надя очеловечилась во многом благодаря победе в конкурсе. И каждая новая победа была дополнительным поводом для бабушки убедиться в том, что Надя действительно готовый, сделанный человек.
Побед было много. В основном в юношеских конкурсах. Практически каждый конкурс приносил Наде первое место. Каждый фестиваль — шквал восторгов. Надя, как говорили учителя и даже местные газетчики, всегда была «на недосягаемой высоте». Разве что один раз, играя на сцене Шопена, Надя вдруг зацепилась взглядом за маленькую царапину в виде треугольника — рядом с пюпитром. Подумала, что похожая царапина была на капоте папиной машины. И в это время Надин мизинец соскользнул с черного бемоля на белую си. После такого промаха уже невозможно было собраться. Спотыкаясь, Надя проковыляла еще несколько пассажей, а потом замерла. Руки забыли, куда им идти. В голове безупречной белизной клавиш растекалась пустота — без единого пятнышка. Белые клавиши как будто полностью поглотили черные. И Надя вскочила и убежала со сцены, отчаянно хлопая себя по ушам. Пытаясь не слышать внутри себя длинную, нескончаемую белую си.
Впрочем, белая си очень скоро потонула в череде Надиных успехов. Все последующие разы пальцы добегали до финала легко и уверенно. Надю награждали всевозможными дипломами и медалями, пожимали Надину правую руку всевозможными потными руками. И бабушка была довольна.
— Моя Надюша — просто редчайший талант, — снова хвасталась она по телефону. — Да… а ты посмотри… Да, там, в этом самом Интернете, статью вывесили… «Новый Моцарт» или как-то… И видео там тоже есть. Запись, да.
А Надя стояла рядом и чувствовала облегчение. Главное, что история с поездкой на лопатинскую дачу была окончательно забыта.
Сами по себе конкурсы и фестивали были Наде не нужны. Надя шла на них исключительно ради бабушки. Проходила на сцену, играла заявленную вещь, немного вжималась в себя от неумолимо шипящего потока аплодисментов. Страха больше не было. Все бывшие страхи — зрителей, забвения, соскользнувшего пальца — со временем улеглись на внутреннее Надино дно. Выступления стали чем-то обычным, знакомым и уже не выщипывали нервы. Просто тянулись друг за другом бесцветным потоком. Привычные действия, привычное окружение. Надя почти не замечала конкурсно-фестивальных дней, не отделяла их от обычных, рабочих будней. Играла, кланялась, получала медаль. Так было нужно.
А со временем Надя осознала, что и сама музыка все реже трогает ее нервы. Как будто музыка частично омертвела внутри Нади. А, возможно, она и раньше была в Наде немножко мертвой. К самой Наде никак не относящейся. Была чем-то вроде выдуманных списков, вроде телепрограммы канала «Сейчас» или журнала девятого «Б». И, возможно, Наде все это время только казалось, что музыка говорит ей о ней самой, соединяет ее с миром, вталкивает в самое сердце праздника жизни.
Надя часто думала об этом, глядя на свое мутное отражение в домашнем «Красном Октябре». Отражение было похоже на утопленницу, всплывающую из черной густой воды. А что, если музыка как раз-таки всегда была в Наде живой, а вот сама Надя — мертвой? Очень даже может быть. Недаром Андрей Демидов как-то назвал ее «зомбячкой». Да и бабушка не раз говорила, что Надя иногда «словно неживая». Но как в этом случае музыка может прорываться сквозь Надину мертвую оболочку? А ведь она прорывается, и другие слышат ее, считают «пронзительно исполненной» и вручают Наде медали.
Ответы на вопросы никогда не находились. И в конце концов утопленница-Надя выбиралась из черной пианинной гущи и принималась за игру. Репетировала к очередному конкурсу.
Как-то раз, на городском конкурсе для школьников, Надя увидела среди зрителей маму. Мама сидела через два ряда от бабушки, вместе с незнакомой женщиной. После Надиного выступления энергично рукоплескала. А затем — уже в холле ДК — подошла к Наде и обняла. От мамы густо пахло химической сиренью, и Наде очень хотелось увернуться. Но увернуться не получилось. Поэтому Надя просто крепко прижала руки к туловищу и закрыла глаза. По внутренней стороне век тут же разошлись сиреневые спирали.
— Поздравляю, доченька, — сказала мама. — Ты у меня такая молодец! Так блестяще выступила!
Объятья чуть ослабли, и Надины глаза приоткрылись. В холл вышла женщина, которая сидела во время выступления рядом с мамой. У женщины было блестящее чешуйчатое лицо и губы в полусъеденной малиновой помаде.
— Вот, познакомься, Ленусь, это Надя, моя дочка, — сказала мама, так и не убрав руку с Надиного плеча.
— Здравствуй, Наденька! Какая же ты умница! — сахарно воскликнула чешуйчатая.
— Да, это моя гордость…
Надя заметила, что на маме джинсы и пестрая футболка с глубоким вырезом. А на ресницах коричневая тушь. Это означало, что мама вернулась к своему привычному образу. Тому, что был у нее до встречи с дядей Игорем.
— Я слышала от мамы, что это уже далеко не первая твоя медалька? — не унималась чешуйчатая.
Надя покачала головой. От сахарно произнесенной медальки слегка затошнило.
— Конечно, не первая! — шелково улыбнулась мама и потрепала Надю по плечу. — Заходи ко мне, Надюш. Расскажешь, как живешь. А то что-то совсем меня забыла, не звонишь в последнее время, не заходишь.
Мама явно хотела добавить что-то еще. Но, видимо, заметила приближающуюся бабушку. И стала поспешно удаляться, уводя чешуйчатую под локоть.
Надя очень удивилась приглашению. Мама никогда раньше не звала ее «зайти». И Надя не заходила. Не только в последнее время, а вообще никогда. Сама мама навещала Надю и бабушку с каждым годом все реже. В последний раз была у них семь месяцев и шесть дней назад. Но, возможно, теперь все изменится. Теперь мама будет заходить чаще и приглашать Надю к себе. Хотя, конечно, странно. С чего бы? А еще странным показалось то, что мама сказала «заходи ко мне», а не к нам. Значит, дяди Игоря и братьев дома больше не было.
— Что тебе мать наговорила? — металлически строго сказала подошедшая бабушка. Вместо привычных поздравлений.
— Ничего не наговорила… звала меня в гости. Можно?
Бабушка ничего не ответила. Сердито поджав губы, взяла Надю за руку и повела к лестнице.
— Можно? — робко повторила Надя уже на темно-серых мраморных ступеньках ДК.
— Если хочешь меня довести, иди, пожалуйста.
С тех пор Надя больше не просила отпустить ее в гости к маме. А та вообще перестала приходить в гости к Наде и бабушке.
Папа, кстати, не заходил тоже. Но он не заходил и раньше. Надя ничего о нем не знала. Просто надеялась, что у него все хорошо и что он все-таки смог добиться успеха со своими скульптурами. Без помощи Яниного отца.
Тем временем конкурсы в угоду бабушке продолжались. Причем уже не только юношеские. А самые что ни на есть взрослые и серьезные — по крайней мере так говорили. Как только Наде исполнилось шестнадцать, Юлия Валентиновна записала на видео ее исполнение «Октября» из «Времен года». И отправила на Международный конкурс имени Чайковского. На отборочный тур.
И вот теперь выясняется, что Надя видеоотбор прошла.
— Надюша, ты слышишь? Ты хоть понимаешь, что это значит? — радостно кричат наперебой бабушка и Юлия Валентиновна. — Ты представляешь, какого уровня музыканты выступают на этом конкурсе? Представляешь, какие перспективы тебе откроются?
Надя не очень представляет. То есть не представляет совсем. Но раз бабушка и Юлия Валентиновна так бурно радуются, значит, перспективы должны быть хорошими. Хотя Надю перспективы не особо интересуют.
После того как Надю допустили на предварительные слушания, в школу даже приезжало местное телевидение. Правда, взять интервью у «юного дарования» не получилось, потому что Надя убежала от телевизионщиков. Спряталась в туалете второго этажа. И пока полшколы бегало по коридорам и классам в поисках пропавшей звезды, звезда сидела на липком полу, прислонившись лопатками к сырой шершавой стене. Согнув ноги и поставив горячие вспотевшие ступни на стыки плиточных квадратиков. Прямо так, без балеток. Надя слушала ржавый больной кран, не перестающий истекать прозрачной кровью даже в закрытом состоянии. Представляла Риту Губанову, моющую руки под таким же краном. Вот Рита уже отряхивает кисти — бумажных полотенец в ее школе тоже нет, как и в Надиной. К этому все давно привыкли. Глядя в зеркало, Рита поправляет чуть сбившийся пучок каштановых волос. Проводит напудренной кисточкой по лицу. Необходимости в этом нет — ее лицо сегодня и так свежее и отдохнувшее. Вот Рита убирает кисточку и приятным, вкусным щелчком закрывает сумку. Нужно еще зайти к биологичке, спросить про реферат. И поговорить с Виталиком насчет субботы. Перекинув сумку через плечо, Рита уходит.
Предварительные прослушивания в Москве не слишком сильно отличались от всех предыдущих Надиных выступлений. Как и первый тур, к которому Надю допустили.
— Прошла! — кричала бабушка кому-то в трубку. — Да-да, прошла, уже точно!
Вместе с Надей, как выяснилось, в первый тур прошли еще двадцать девять пианистов со всего мира. Все они были старше Нади, некоторые совсем взрослые. Наверное, в этом и заключалась основная особенность.
В остальном же все было привычно. Ну разве что зал гораздо больше, чем те, в которых ей приходилось выступать раньше.
— Ну так это же Большой зал Консерватории! — разводила руками Юлия Валентиновна.
В первом туре Надя играла Баха — фантазию и фугу до минор (ХТК II), Сонату си-бемоль мажор Клементи, «Октябрь» Чайковского и Виртуозный этюд № 4 Листа. Заигравшись, где-то на середине «Октября» чуть не забыла про конкурс, про зрителей, про жюри. Начала представлять вечереющий октябрьский парк. В глубине Надиного сознания уже чернели скелеты кустов, выворачивая сухие безлистные руки; сонно жались друг к другу облетающие деревья. Запахло кленовыми листьями, догорающим костром, горьковатой пасмурностью. И по дорожкам парка пошли Виталик Щукин и Рита Губанова. Куда-то прочь от школы.
Доиграв «Октябрь» до конца, Надя чуть было не начала его заново. Хотелось продолжить прогулку Виталика и Риты. Узнать, куда же они направляются. Но Надин взгляд успел скользнуть по первому зрительскому ряду и обнаружить несколько непроницаемых лиц членов жюри. Большой зал Консерватории никуда не делся. Надино сознание тут же встрепенулось, выплыло из осеннего спелого воздуха и окунулось в Листа.
На объявлениях результатов первого тура лица жюри немного раскрылись, потеряли равнодушную плотность. Сначала коренастый мужчина средних лет произнес на английском небольшую речь. А стоящая рядом с ним высокая женщина в бирюзовом платье перевела эту речь на русский. Надя почти не слушала. Поняла только то, что «выбор был не из простых». Потом английский мужчина начал объявлять фамилии прошедших во второй тур. Те, кого называли, должны были вставать и кланяться всплеску аплодисментов. Надя не сразу узнала собственные имя и фамилию. Они прокатились по залу в плотной оболочке английского акцента. И только когда все — все стоящие на сцене члены жюри с выжидающей улыбкой посмотрели на Надю, произнесенные только что имя и фамилия освободились в ее голове от акцентной оболочки и написались четкими латинскими буквами: Nadezhda Zavialova. Прямо как на зеленой обложке тетради по английскому. Надя поспешно встала, уронив на пол сумку с телефоном и с термосом, в котором плескался бабушкин компот из сухофруктов. Стала порывисто кланяться, гадая, разлился ли компот или нет. Ведь если разлился — телефону конец. И бабушка очень расстроится. Надя кланялась секунд пятнадцать — почти механически, безотчетно. И все это время аплодисменты не затихали, а жюри улыбалось со сцены мягкими, дружелюбными улыбками.
Компот не разлился.
Во втором туре Надя исполнила Сонату № 1 фа минор Прокофьева, прелюдии и фуги Шостаковича и Сонату для фортепиано Стравинского. Играть было очень неудобно, потому что перед выступлением Надя не смогла как следует отрегулировать высоту банкетки. Опустить ее под свой рост после низкого китайца. То ли механизм заупрямился, то ли Надины руки, настроенные на Прокофьева, не справились с простейшим механизмом. Скорее всего, второе. Недаром мама говорила, что с руками у Нади всегда были нелады. Ведь она даже снежинку не могла ровно вырезать в детском саду. Только клавиши оживляли закаменелые Надины руки. А за пределами клавиш все было очень печально.
Надя не осмелилась попросить помощи. Не осмелилась заставить жюри подождать. Ведь, помимо Нади, есть еще другие кандидаты. Им нельзя попусту терять время. «Это взрослый, серьезный конкурс, Надюша. Международный», — говорила не раз бабушка. И Надя начала играть, неуклюже возвышаясь над клавиатурой. Словно одинокая отвесная скала над черно-белыми волнами.
Возможно, именно из-за этой обременительной телесной высоты музыка звучала не так, как хотелось Наде. И в третий, финальный, тур она не прошла.
Впрочем, бабушка все равно была довольна результатом.
— Горжусь тобой, Надюша, — сказала она в поезде, разрезая на бумажном платочке «Клинекс» помидор.
А в родном городе Надю встречали как настоящего героя. Внимание нахлынуло со всех сторон бешеными потоками. Скрыться от него было невозможно. Пришлось даже дать интервью телевизионщикам. Причем на этот раз не местным, а специально приехавшим журналистам с канала «Культура». Того самого, по которому Надя услышала в детстве слово «трансцендентный». А после сочинила стихотворение про синеву и ступеньки.
— Расскажите о своих впечатлениях. Сложно ли было выступать перед именитыми музыкантами? И что вы можете сказать об атмосфере, царившей на конкурсе? — спрашивал энергичный молодой журналист с бородавкой на лбу.
— Нормально, — отвечала Надя. — Ничего.
В Интернете начали появляться статьи о «необыкновенно одаренной шестнадцатилетней девочке», о присущих ее исполнению «лиричности, безупречном чувстве формы и удивительной зрелости». Появились и видеозаписи Надиных выступлений.
— Ни фига себе, — говорила Ксюша Лебедева, поднося к Надиному носу телефон. — Ты видела, сколько у тебя уже просмотров на Ютюбе? Охренеть… А комментарии видела? Тут тебе на всех языках пишут комплименты.
— Да вообще крутяк, — соглашался стоящий рядом Лопатин. — Музыка, конечно, так себе…
— Ой, да много ты понимаешь, — махала рукой Ксюша.
— Ты, что ли, Лебедева, понимаешь? Типа знаток классической музыки, да?
— Да заткнись ты уже. Я просто говорю, что прикольно иметь подругу-гения.
Надя равнодушно скользила глазами по комментариям, теребя корочку на нижней губе.
А еще на Надю посыпались гастрольные предложения. Ее звали в другие города и страны. Звали не на конкурсы, а с сольными концертами. Чтобы какие-то незнакомые люди специально покупали билеты и приходили послушать Надю. Исключительно Надю, и никого другого.
Это было настолько необычно, что Надя снова стала плохо спать. Часто просыпалась до рассвета. Лежа в тугом, спрессованном полумраке, начинала представлять, что поедет куда-то далеко, одна, без бабушки. И на Надину бессонную комнату накатывалась, все нарастая, предутренняя тревога. Смешивалась со звучащим внутри Нади рахманиновским «Островом мертвых».
— Ну ты же там будешь не одна, — сказала зашедшая как-то в гости Ксюша Лебедева.
(Бабушка, конечно, продолжала недолюбливать Ксюшу, но все-таки немного смягчилась после Надиного успеха. И разрешала Ксюше иногда приходить на летних каникулах в гости.)
— Как это — не одна?
— Ну так. Ты будешь с этой усатой. Она ж собирается тебя повсюду сопровождать. Так что не заблудишься. И вообще, гастроли — это же круто: посмотришь Европу. Куда тебя там зовут? В Германию, в Голландию? Я была с родителями в Амстердаме прошлым летом. Смотри, как красиво.
Ксюша снова тычет в Надю телефоном. На экране — аккуратные яркие домики, прямо как из кондитерской. И обрамленные деревьями каналы с мутной водой.
— Я не знаю… Просто… А как же бабушка?
— Господи, да не парься ты так! Прошвырнешься по красивым городам, заодно заработаешь кучу бабла и купишь своей любимой бабушке новую тетрадку. Чтобы она туда аккуратно записывала все-е-е-е наши оценочки. И даже если кто-нибудь опять сожжет классный журнал, а тебе в лом будет его восстанавливать, ни одна двойка не потеряется.
Надя задумалась. Но на гастроли все-таки не поехала.
О своем
Потому что к началу Надиного одиннадцатого класса бабушкино здоровье резко пошло под откос. Так резко, что бабушке даже пришлось уйти с работы. Оставить школу с нерадивыми оболтусами на произвол судьбы.
— Я совсем сдала, Надюша, — говорит бабушка сентябрьским воскресным утром. — Все из рук валится. Придется мне вас оставить.
Надя постукивает пальцами правой руки по левой ладошке. Неотрывно смотрит на плотный комок пыли под раковиной.
— Руководство над вашим классом передадут Светлане Яковлевне… Эх, не знаю, конечно, как она справится. Слишком уж она… мягкотелая, что ли. Ну да ладно. Выбирать не приходится, Антонина Илларионовна все уже решила. Доучитесь как-нибудь этот год — а там уже пойдете каждый своим путем. Сложный, конечно, будет год. Самый важный. ЕГЭ этот дурацкий вам предстоит… До сих пор не могу к нему привыкнуть. Чушь несусветная. Ладно. — Бабушка вздыхает. — Хотела я довести вас до конца, но вот поняла, что не могу. Все, Надюш, силы мои на исходе.
Дядя Олег хлопает дверью, и комок пыли слегка подпрыгивает. Уносится сквозняком на соседний квадратик линолеума — темно-коричневый.
— И вот еще что, Надюш… Я не только школу оставляю. Но и вас с Олежкой. Выбора у меня нет.
Надя резко поднимает голову. И как будто только сейчас с ледяной ясностью видит, насколько бабушка постарела. Бабушкино лицо совсем блеклое, увядшее, словно на выцветшей фотографии. Такие бесцветные фотографии Надя видела в каком-то музее два года назад. И на них были давно ушедшие из жизни люди.
— Как это… как это — оставляешь?
Серые бабушкины глаза смотрят скорбно, устало и почти жалобно.
— Да вот так… Перебираюсь в дом для престарелых. А что мне еще делать? Я вот по квартире еле передвигаюсь. Не говоря уже про улицу. Мне чтобы в магазин сходить — полдня нужно потратить.
— Но ведь я тоже хожу в магазин, — удивляется Надя.
— Да, Надюша, ходишь, я знаю. Но ведь не только в магазине дело, понимаешь. Мне с каждым днем все хуже.
— Это из-за меня? Из-за меня тебе хуже?
Бабушка улыбается грустной, будто высохшей улыбкой:
— Нет, конечно, Надюша. Конечно, не из-за тебя. Просто здоровья у меня не осталось, возраст такой, вот и все. Я давно уже знала, что так все закончится. Накопила немного за последние годы, продала наконец участок… Тебе на первое время хватит, пока на ноги не встанешь. Ну и мне, пока не умру. Не из дешевых, конечно, удовольствий — жить в доме для престарелых, но как иначе? Я скоро даже помыться буду не в состоянии. А возиться со мной некому. Олежка вон сидит за своим компьютером сутками, головы ко мне не повернет. Да за ним самим ухаживать нужно! Он ведь как ребенок малый… Ну а про маманю твою я вообще молчу. Звонила она тут на днях. Я тебе не говорила… — Бабушка причмокивает и долго качает головой. — Развелась она со своим Игорем, уже официально. Нашла себе какого-то голландца и переезжает теперь туда к нему. В Амстердам или рядом куда-то.
В Надиной голове всплывают картинки с Ксюшиного телефона. Маленькие выточенные дома, похожие на глазированные пряники.
— Мама навсегда переезжает?
— Да кто ее знает, Надюш. Навсегда, не навсегда… У нее ветер в голове. Куда этот ветер подует, туда она и летит. Упустила я ее, давно еще. Что говорить. В общем, к чему это я?.. Да. Некому будет за мной подтирать. Пусть уж этим займутся специально обученные люди.
— А я? Я могу за тобой ухаживать.
— Ну о чем ты говоришь?.. Ты у меня девочка добрая, но не от мира сего. Не приспособленная для таких вещей, понимаешь? Ты вообще за бытом следить не можешь. Куда уж тебе о малосильной бабушке заботиться.
— Но ведь я умею включать стиральную машину. И варить макароны и рис.
— Да, Надюш. Вчера вон поставила вариться макароны и ушла играть своего Чайковского. А когда я на кухню приковыляла, вся вода уже выкипела. Дно кастрюльное почернело. Еще бы чуть-чуть — и начался пожар.
Надя снова опускает взгляд на пыльный комок.
— Я за тебя переживаю очень, Надюш. И за Олежку тоже. Все думаю, как вы одни тут справитесь. Не представляю. Надо вас пристраивать срочно. Да только куда… Но хоть обузы в виде немощной старухи у вас не будет, и то хорошо. А там — придумаем что-нибудь. Может, Олежка женится наконец, и его жена за вами обоими присмотрит.
Бабушка гладит Надю по волосам — легко, почти невесомо.
— Мы справимся, — говорит Надя еле слышно. — Я обещаю. Я буду очень внимательно за всем следить. И не уходить с кухни, пока макароны не сварятся.
Бабушка уехала в дом престарелых в конце сентября. Собрала две сумки вещей и уехала на такси. Дядя Олег и Надя проводили ее до темно-красной машины. И дядя Олег обещал каждые две-три недели обязательно бабушку навещать. А как только такси превратилось в далекую кровяную каплю и скрылось за поворотом, тут же юркнул обратно в подъезд. Надя постояла еще пять минут, растерянно глядя то на «Пятерочку», то себе под ноги — на маленькую черную деревяшку, полусгнившую от дождя. И внутри Нади было черно и трухляво.
Вернувшись в квартиру, она прошла в бабушкину комнату. Не закрывая дверь, села на голый матрас и зачем-то принялась пересчитывать завитки на обоях. В комнате все еще пахло бабушкой. И если не смотреть на опустевшие шкафы и кровать, можно было представить, что ничего не изменилось, что все на своих местах. Да и в комнате напротив, через две приоткрытые двери, виднелся привычный затылок дяди Олега. Как в самый обыкновенный день. Но долго себя обманывать все равно не получалось. Свежее кровянистое воспоминание об отъезжающем такси тянуло Надю в реальность.
Как и обещала, Надя стала следить за всем внимательнее, чем раньше. Научилась, помимо макарон и риса, варить куриный бульон. Посмотрела в Интернете видео, в какой момент что нужно добавлять. И четко последовала инструкции. Правда, кастрюля была не совсем такая же, как в видеоролике, и Надя из-за этого переживала. Но другой кастрюли не было — другую Надя сожгла две недели назад, оставив без присмотра на плите. И пришлось варить в том, что было. Надя просмотрела видео четыре раза, чтобы точно ни в чем не ошибиться. В пятый раз посмотрела уже после приготовления: проверить, что ничего не упущено. Вроде бы она все сделала верно. Но бульон оказался катастрофически пересоленным. Видимо, щепотки соли из видеоролика с Надиными щепотками не совпадали. Но как их можно было правильно отмерить, если в инструкции об их величине не говорилось ни слова?
— Да нет, мелкая, все нормально. Отличный супчик, — сказал дядя Олег, не отрываясь от экрана.
Надя взяла на себя заботу о дяде Олеге — насколько это было возможно. Приносила ему в комнату еду, уносила пустые тарелки. Загружала его одежду в стиральную машину, а потом развешивала в ванной, на сломанной сушилке (две спицы вылетели еще в августе). По средам и субботам ходила после школы в магазин за продуктами. С самым настоящим — хоть и мысленным — списком покупок. Почти как Елена Ивановна.
А по вторникам, пятницам и воскресеньям Надя ездила навещать бабушку. Дом престарелых оказался не очень далеко, и до него от дома можно было доехать на пятом автобусе. Мимо вещевого рынка, вокзала и сквера со статуей девушки. Три остановки не выходить, на четвертой выходить. Все это Наде объяснила соседка с первого этажа Ольга Викторовна, с которой бабушка иногда общалась.
В новом доме у бабушки тоже была своя комната, правда, чуть поменьше. Стены окружали бабушку ровной, практически больничной белизной. В воздухе было пусто и стерильно. И даже спустя недели и месяцы бабушкин запах там не поселился. Хотя повсюду были расставлены и разложены бабушкины вещи. Бабушкины заколки, расческа, брошка в виде грозди рябины, мази, флаконы с лекарствами. Поначалу Наде казалось странным, что такие родные и знакомые вещи вдруг очутились в непривычной, чужой обстановке. Особенно сиротливой и бесприютной почему-то выглядела брошка.
— Все хорошо, — рассказывала Надя, садясь на скрипучий стул у бабушкиного изголовья. — Я получила вчера четверку за контрольную по физике, а сегодня пятерку по истории за реферат «Политика коллективизации СССР в тридцатые годы». На обед сегодня я готовила рис и сосиски «Великолукские». Я поела в четыре пятнадцать. Дядя Олег тоже поел, но сказал, что больше двух сосисок ему варить не надо. А я сварила шесть сосисок на нас двоих. Еще я прочистила раковину на кухне, потому что она засорилась.
Бабушка молча кивала. Гладила Надю по руке и печально улыбалась. А Надя, закончив свой отчет, поднимала глаза к потолку, к зеленоватой круглой лампе. Эта лампа почему-то все время была включена, даже днем. И поэтому напоминала Наде луну на светлом небе.
В основном бабушка лежала. Поднималась все реже и ходила все медленнее. По вечерам Надя сопровождала ее на прогулку во двор. Поддерживала под локоть и передвигалась — как и бабушка — крошечными шажками. Время от времени они останавливались, чтобы бабушка перевела дух. Надя в эти минуты разглядывала фонари, влажным охристым светом стекающие в асфальтовую дорожку. И темные кусты с охристыми пятнами воздуха в пролетах между ветвями.
Иногда бабушка расспрашивала Надю о школе, об одноклассниках. Но особых новостей обычно не было. Разве что когда Уваров разбил окно в женском туалете.
Как-то раз, уходя из бабушкиной комнаты, Надя заблудилась в коридорах и забрела в актовый зал. В зале были расставлены по углам пальмы с подсохшими кончиками листьев и громоздились сложенные друг на друга пластиковые стулья. А на сцене стоял белый рояль. Надя подошла к нему почти рефлективно. Подняла пыльную крышку и нащупала клавишные позвонки. Звуки разлетелись по залу грязноватым глухим дребезжанием.
— На нем уже сто лет никто не играл, — громоподобным голосом сказала вошедшая в зал уборщица.
Надя вздрогнула и резко подняла пальцы. Стало неловко, вспомнилось, как Юлия Валентиновна когда-то застала ее в пустом музыкальным классе за исполнением «К Элизе». И Надя вжала голову в плечи.
— Да ты чего, не смущайся. Ты умеешь играть? Может, исполнишь что-нибудь для наших стариков? Что угодно, хоть «Собачий вальс»! Знаешь, как они рады будут?!
С тех пор пластиковые стулья актового зала стали разъединяться три раза в неделю. По вторникам, пятницам и воскресеньям. Отчитавшись перед бабушкой о своих житейских делах, Надя уводила ее под руку из комнаты, приводила в уже переполненный зал и усаживала на первый ряд. Для бабушки всегда оставляли свободное место на первом ряду. Затем под серебристо-теплый шелест рукоплесканий Надя поднималась на сцену. Кланялась несколько раз — потому что так положено. И садилась за рояль.
Надя не расстраивалась из-за несложившихся европейских гастролей. Ведь концерты все равно были. Пусть не в Германии, не в Чехии, не в Голландии, а в Надином родном городе, в доме престарелых. Здесь тоже были люди, и они специально приходили в зал, чтобы послушать Надю. Или приезжали на колясках.
Некоторые слушали с мечтательной улыбкой, некоторые с серьезным, сосредоточенным взглядом. А некоторые с полностью непроницаемым, герметичным лицом. Как жюри конкурса Чайковского.
После концертов все снова рукоплескали. Те, кто мог, поднимали со стульев выцветшие, иссохшие тела, чтобы подойти к Наде и поблагодарить. Надя каждый раз думала, что когда-то все эти люди цвели, а теперь от них остались одни гербарии. Практически бескровные плоти. Сухой остаток жизни.
Некоторые говорили, что Надя — это «их лучик света». Обнимали, прижимали к себе, обдавая запахом немытого тела. Наде он напоминал запах попкорна. (Как-то раз она ходила с одноклассниками в кино, и там все ели попкорн. Фильм совсем не запомнился — проплыл мимо. А вот запах остался.) Некоторые просто пожимали Надины руки своими вялыми, будто переваренными руками. Она стойко сносила все прикосновения. И когда в голове невольно возникали разбухшие тошнотворные макаронины, тут же стряхивала их обратно в темноту сознания.
После концерта Надя иногда сидела со стариками в холле второго этажа. Слушала их разговоры. Говорили старики много и охотно — все, кроме Маргариты Владимировны с парализованными ногами. Та все время молча смотрела куда-то в сторону глубоко посаженными выцветшими глазами и только изредка причмокивала.
— Тогда вот я и видела свою Анечку в последний раз, — говорит малиново-куперозная Наталья Сергеевна и кладет на столик фотоальбом в бархатной обложке. — Даже на вокзал не поехала провожать — так сильно на нее разозлилась. И все. Уехала она с этим своим Рустамом в Тамдыбулак. И ни разу я ее не навестила. Не смогла через себя переступить.
— В Тамдыбулак? — уточняет Николай Игоревич с орлиным носом и густыми бровями. — Так это от Учкудука совсем близко.
Наталья Сергеевна кивает, заливаясь звонким, раскатистым кашлем. А Николай Игоревич продолжает:
— Я почему переспрашиваю. Я ведь сам там несколько лет прожил. В Учкудуке, то бишь. Поехал туда в шестьдесят девятом, работать на комбинате. Навоийском горно-металлургическом.
Парализованная Маргарита Владимировна тоже кашляет. Но у нее кашель другой: сыроватый и рыхлый. А Галина Вениаминовна — в противоположном от Нади углу — чуть слышно запевает «Учкудук, три колодца».
— Так и потеряла я Анечку, — продолжает, откашлявшись, Наталья Сергеевна. — Свою единственную дочь. Уже семнадцатый год в земле лежит. А вот здесь ей тридцать четыре… Последняя фотография, которая у меня от нее осталась. — Наталья Сергеевна открывает альбом и предъявляет худенькую светловолосую женщину с красной помадой. — Это еще до того, как она своего Рустама встретила. До того как все ее беды начались… И все же было замечательно: и работа достойная в поликлинике, и ухажеров достаточно. Так ведь нет: понесло ее в эту пустыню ужасную. Непонятно с кем, непонятно ради чего… Там ведь нет ничего в округе!
— А может быть, это усталости бред, и нет Учкудука, спасения нет, — продолжает подвывать из своего угла Галина Вениаминовна.
— Да не так уж она и ужасна, пустыня-то, — задумчиво произносит Николай Игоревич. — Я ведь потом в Москву уехал, в середине семидесятых. Надоело руду добывать. Решил переквалифицироваться, думал, перспектив в Москве больше будет. И пожалел потом. Ничего лучшего так и не нашел. Сюда вот вернулся в конце концов, в родной город. Ни с чем фактически… А Учкудук до сих пор вспоминаю с теплотой.
Наталья Сергеевна закрывает альбом и вздыхает. Ее Анечка остается лежать на столике в своем бархатном гробу. А Галина Вениаминовна наконец заканчивает петь.
— Эх, надо было мне в свое время все-таки серьезно заняться пением, — дребезжащим голосом говорит она. — Меня еще в школе хвалили! Я на всех школьных концертах выступала. А после школы даже в ансамбль приглашали! «Праздник жизни», помните, был у нас в городе такой?
— Анечка в школе тоже пела, — снова вздыхает Наталья Сергеевна. Потирает куперозную щеку.
— Ну вот. И я вроде собиралась, а потом всякие проблемы начались, и как-то не до пения стало. Так и проработала всю жизнь на фабрике. Яркого ничего в жизни не случалось. Вроде и была чем-то заполнена жизнь. А чем именно — и не вспомнишь. Кроме школьных выступлений, одна только серая пыль. Дунешь — и разлетится, и нет ничего. И мечты нет. А на самом деле все вокруг тоже так жили. Привыкли жить без мечты, да и я привыкла. Не до мечты было.
— Да, — говорит сидящая рядом бабушка. — Это, Галочка, так и есть… Как там у Толстого? «Нет условий, к которым нельзя привыкнуть, если видишь…» — Бабушка на две секунды замолкает и напряженно жмурится. — Сейчас… «Если видишь, что окружающие…» Нет, не вспомню. Надюш, сбегай принеси из комнаты «Анну Каренину».
Надя уходит и возвращается с зеленым потрепанным томом. Отдает его бабушке. Бабушка тут же слюнявит палец и начинает резко перелистывать страницы. А Галина Вениаминовна уже допевает «Отчего».
— Все теперь забываться стало, — вздыхает бабушка. — Раньше основные цитаты из классики знала наизусть. Даже из прозы. На уроках по памяти цитировала.
— Навыки теряются, — разводит руками допевшая Галина Вениаминовна. — У меня вот голос тоже уже не тот, конечно, что еще каких-то лет десять назад.
— Да, точно: «Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности если он видит, что все окружающие его живут так же».
— А только надо было плевать на то, как живут окружающие, и идти к мечте. В консерваторию поступать. Шучу, конечно, насчет консерватории.
— А ты, Наденька, в консерваторию-то собираешься? — вдруг спрашивает Николай Игоревич.
Надя растерянно приоткрывает рот. Смотрит на пустую кушетку в углу холла. На скользящую поперек нее тень от длинного потолочного светильника.
— Не знаю… Наверное.
— Что-то ты молчишь, ничего не рассказываешь. В нашей беседе участия не принимаешь.
— Ой, ну о чем вы, — говорит бабушка, откладывая книгу и прижимая Надю к себе. — Она в общих беседах никогда не участвует. Она же девочка с особенностями… Все время думает только о своем.
Мертвые пианисты
Со временем Надя почувствовала, что ее списки теряют свое главное свойство — правдоподобность. Например, Елена Ивановна не может из раза в раз делать одни и те же покупки. К тому же когда-нибудь она состарится — как бабушка — и вообще не сумеет выходить в магазин. Или девятый класс «Б». Он не может вечно оставаться девятым. Надя ведь переходит из класса в класс и уже переросла и Виталика Щукина, и Риту Губанову, и всех остальных. Но остальные тоже должны расти. Класс должен стать десятым, потом одиннадцатым. А потом — что? Надя лишится своего любимого списка? Виталик и Рита сдадут экзамены и поступят в институты. Возможно, уедут в Москву. Возможно, на всю жизнь останутся в родном городе. Но, так или иначе, девятого класса «Б» уже не будет никогда. А пренебречь течением лет и навсегда оставить их девятиклассниками — нечестно. И застрявший во времени список потеряет весь свой интерес.
К тому же была еще одна проблема. Девятый класс «Б» учился в определенном школьном здании. И это определенное школьное здание должно где-то находиться. Оно не может возвышаться среди пустоты — это слишком недостоверно. Конечно, ничто не мешало представить, что воображаемая школа существует в воображаемом городе. Но это было не так. Надя не придумывала никакого города для своей школы. Потому что если придумать для нее город, то этот город должен находиться в какой-то стране, занимать на карте какое-то место. А страна девятого класса «Б» явно была Россией — исходя из имен, фамилий, языка, интерьера школьных классов и столовой, а главное — портрета президента в кабинете директора. Но ведь в России все города уже обозначены на карте, и для нового, воображаемого города места нет. Разве что где-нибудь в тундре, но это уж совсем нереалистично. Девятый класс «Б» учился не среди тундры. А если уж помещать школу в воображаемый город, то для этого города нужно составить план. Расчертить сетку улиц, дать этим улицам названия. Куда-то поселить учеников и учителей. Придумать для города мэра. Мысленно соединить город железной дорогой с другими городами — существующими в реальности. И так далее. Чтобы все было правдоподобно. Но так можно уйти в детали очень глубоко, захлебнуться в них и никогда больше не выбраться. Поэтому Надя решила ограничиться представлением одной только школы.
И поместила школу в свой родной город. Однако и здесь оставалась неопределенность. Надин город был плотно застроен, и втиснуть куда-нибудь пятиэтажное школьное здание долго не получалось. Не представлять же его на месте одной из серых вафельных девятиэтажек. Или сквера рядом с «Ароматным миром». Или «Пятерочки». Все эти объекты уже существовали, принимали в себя людей, крепко держались за свои места, и сдвинуть их было нельзя.
В конце концов Надя решила, что воображаемая школа находится на пустыре за поликлиникой № 2. Пустырь был большой и мог спокойно приютить школьную пятиэтажку. Надя нередко приходила туда (точнее, приезжала на одиннадцатом трамвае), стояла среди белой осенне-зимней или серой весенне-летней пустоты и смотрела вдаль, на толчею разностильных домов.
Но в один сентябрьский день, в начале одиннадцатого класса (как раз после переезда бабушки в дом престарелых), Надя узнала, что пустырь будет застроен. Рядом с поликлиникой вырос огромный плакат, возвещающий о том, что пустота скоро заполнится уютом новостроек. Что много-много счастливых семей с голубоглазыми детишками станут жить в современных комфортабельных квартирах и гулять в солнечном обустроенном дворе. По крайней мере на фотографии будущих домов все выглядело именно так. И обитатели жилого комплекса, судя по всему, перезнакомятся и подружатся. Белокурая мама с белокурой дочкой будут махать с балкона идущему мимо детской площадки старичку. Юноша в белой машине притормозит перед полной женщиной с крошечной собачкой и приветливо улыбнется обеим. А еще одна полная женщина угостит сидящую на скамейке влюбленную парочку только что испеченным пирогом. И парочка радостно посмотрит на пирог и на женщину.
В тот день Надя возвращалась домой пешком, а не на трамвае. Дорогу уже выучила почти полностью, только два раза сверилась с картой на телефоне. Надя шла тридцать семь минут по асфальту, через размытые, наслаивающиеся друг на друга отражения города в тонко разлитых лужах. Думала, что для ее школы больше нет места. Конечно, в городе есть еще один пустырь — рядом с папиным домом. Но переносить школу туда почему-то не хотелось. К тому же и этот пустырь наверняка однажды застроят. И он наполнится «радужными домашними очагами».
Надя приняла решение обратиться к другим спискам. Реальным, не вымышленным. Тем, которые устоят перед напором времени и застройщиков. Которые никогда, ни при каких обстоятельствах, не потеряют правдоподобности. Потому что они правдивы изначально, по своей сути.
Еще перед конкурсом Чайковского Юлия Валентиновна как-то перечисляла Наде известных пианистов. Тех, на которых «нужно ориентироваться». И, узнав о застройке пустыря, Надя подумала, не составить ли ей полный пианистический список. Взамен списка девятого «Б». Но очень быстро осознала, что пианистов в мире слишком много. И такой список прокрутить в голове довольно сложно. Или даже невозможно. А значит, нужно найти какие-то критерии отбора. Например, известность. Добавлять в перечень только известных пианистов. Но известность — это, пожалуй, довольно субъективный критерий. Что значит «известный»? По каким параметрам это определяется? Все параметры для определения известности слишком расплывчаты. И хрупки, как крылья мертвой бабочки. Лучше полагаться на что-то более прочное. Например, ограничить пианистов по стране проживания. Составить список исключительно из пианистов России. Но и этот список почти сразу стал казаться нескончаемым. Надя захлебывалась в волнах паники, выуживая все новые и новые имена. Список разрастался до бесконечности, словно в кошмарном сне. Дойти до его конца было нереально.
Тогда Надя сузила критерий отбора. Стала включать в список только пианистов своего родного города. И хотя их численность уже не превышала границ разумного и конец списка ясно поблескивал в перспективе, все-таки оставался один неясный момент. Ведь в любой день в городе мог появиться новый пианист, о котором Надя не знала. Или наоборот: какой-нибудь пианист из списка мог решить оставить музыку и заняться, например, ремонтом измерительных приборов или выпеканием пирожков. И получается, что в этом случае составленный список автоматически оказался бы неверным, неправдивым. А значит, бессмысленным.
Регулярно отслеживать всех приходящих в пианинный мир и уходящих из него людей не было ни сил, ни времени, ни возможности. К тому же Надя хотела твердый, непоколебимый список. Тот, которому были бы не страшны постоянные перемены реальности.
И в конце концов она решила остановиться на списке умерших пианистов своего родного города. Конечно, и этот список мог в любое время пополниться. Но все же в нем было гораздо больше прочности и незыблемости. Ведь люди умирали реже, чем меняли профессии. И выйти из этого списка уже точно никто бы не сумел.
Покопавшись в Интернете и в старых библиотечных энциклопедиях, Надя утвердила двадцать два пианиста. Четырнадцать мужчин и восемь женщин. От некоторых из них остались фотографии. Например, от Антона Ильинского. Он был светловолосым жилистым парнем с немного асимметричным лицом. Родился в шестьдесят девятом году, закончил местную музыкальную школу, затем Московскую консерваторию. Вернулся в родной город и несколько лет обучал детей игре на фортепиано. Умер Антон пятого февраля две тысячи седьмого года в возрасте тридцати восьми лет. В этот день ему на голову с крыши родной музыкальной школы свалился кусок наледи. Перед смертью Антон два дня пролежал в реанимации.
Или вот Анна Козырева. Она прожила сорок девять лет. Давала концерты в родном городе и в близлежащих городах. На фотографиях из Интернета у нее было худое вытянутое лицо и немного хищный взгляд. Как-то раз, проснувшись среди ночи, Надя вдруг подумала, что Анна Козырева чем-то похожа на женщину с гравюры, которая раньше — очень давно — висела в комнате. И на которую Надя в страхе плеснула кока-колой. Возможно, Анна Козырева и была этой женщиной? Надя даже нашла гравюру в шкафу среди книг. Но поскольку изображенное лицо до сих пор пряталось под засохшим кокакольным пятном, Надя так и не поняла, Анна Козырева это или нет. Впрочем, это было не так уж и принципиально.
Анна Козырева умерла двадцать четвертого декабря две тысячи шестого года от рака глазного яблока. Похоронена на местном кладбище.
От большинства мертвых пианистов фотографий не осталось. Это и понятно. Они были не очень знамениты, и к тому же многие из них жили довольно давно. Например, Юрий Захаров родился аж в тысяча восемьсот девяносто пятом году. А умер в тысяча девятьсот сорок третьем. Надя нашла о нем одну-единственную крошечную статью в потрепанной музыкальной энциклопедии региона.
Тем, кто не оставил после себя зрительного образа, она придумывала внешность сама. Отчетливыми, ясными чертами пианисты, конечно, не наделялись — как и ученики девятого «Б». Но у всех были опознавательные признаки. У Полины Наумовой — густая короткая челка и щербинка между зубами. У Юрия Захарова — высокий лоб с залысинами и маленький шрам у виска. Этого было вполне достаточно, чтобы выводить их из хаоса темного фантазийного подвала и выстраивать в ряд — в светлом мысленном зале.
Впрочем, те, чьи фотографии остались в истории, тоже не слишком четко вырисовывались в Надином сознании. Надя вообще крайне плохо запоминала человеческие лица. В памяти всегда хранились только отдельные, особенные приметы, но никак не лица в целом. А лица без особенных примет не сохранялись вовсе. Когда кто-нибудь с неприметной внешностью занимал за Надей очередь в кассу, а затем отходил, предупреждая, что вернется через две минуты, ей всякий раз становилось не по себе. Надя с ужасом думала, что если через пару минут за ней встанет кто-то неприметный, она не поймет, тот ли это самый. Соответственно, не будет знать, как реагировать на его появление: то ли сдержанно улыбнуться, то ли заявить, что за ней занял очередь один человек. Человек, который куда-то отлучился, но скоро должен вернуться.
Но к счастью, у всех сфотографированных умерших пианистов опознавательные признаки были. У Антона Ильинского — асимметрия лица (различная форма уголков рта и глубина носогубных складок), у Анны Козыревой — худое вытянутое лицо и хищные, как у кошки, глаза, у Сергея Голубева — изрытая оспой кожа… И когда в моменты эмоционального напряжения (или просто ради удовольствия) Надя прокручивала в голове список мертвых пианистов родного города, все узнавались легко и быстро. Все двадцать два человека.
А одним октябрьским вторником произошло нечто странное.
После очередного концерта в доме престарелых вечно молчавшая Маргарита Владимировна вдруг заговорила. Подъехала к Наде на своей коляске и тихо сказала:
— Спасибо вам, Наденька. Вы так дивно играете Шопена. В последний раз я слышала подобное исполнение много лет назад… Так же тонко и лирично, как вы, играл только покойный Виталик Щукин…
Надя вздрогнула и прикусила изнутри губу. Во-первых, казалось поразительным то, что обычный, реальный человек так запросто произнес имя и фамилию ученика из Надиного девятого «Б». Виталик Щукин. До этого Надя никогда не слышала этого сочетания звуков во внешнем мире. Только внутри своей головы. Во-вторых, странно было, что ученик из Надиного воображаемого класса оказался тезкой и однофамильцем какого-то умершего пианиста. И наконец, в-третьих, — и это изумляло больше всего — среди вороха информации, перерытой для составления пианистического списка, Надя не встретила ни строчки ни про какого Виталика Щукина. И в Надином списке он не значился. Хотя по логике вещей его следовало бы туда включить.
Впрочем, возможно, он просто не был местным? Скорее всего.
— Вы сказали — Виталик Щукин? — осторожно переспросила Надя.
Маргарита Владимировна медленно кивнула, прикрыв глаза:
— Да, Наденька… Был такой прекрасный пианист… Мой друг.
— Он был из другого города?
— Нет… Почему вы так подумали? Нет. Он родился здесь и всю свою короткую жизнь прожил здесь. Похоронен на городском кладбище.
Надя хотела спросить что-то еще, но мысли слиплись и перепутались, как остывшие спагетти. Сформулировать ничего не получалось. А тут еще Галина Вениаминовна внезапно запела сухим надтреснутым голосом и окончательно сбила с толку.
Два последующих дня Надя провела в непрерывном поиске информации о Виталии Щукине. Даже не ходила в школу и в магазин за продуктами. Дяде Олегу снова пришлось самому разводить «Доширак», как много лет назад.
Поиск результатов не дал. Ни на одном сайте, ни в одной библиотечной энциклопедии пианист Виталий Щукин не упоминался. Пытаясь найти хоть какие-то следы его существования, Надя даже сходила на кладбище. Два с половиной часа бродила среди покосившихся крестов и заиндевелых мертвых листьев, прилипших к земле. Но могилы Виталия Щукина так нигде и не увидела.
И вот Надя решает не дожидаться пятницы. Вопреки расписанию, приезжает в дом престарелых в четверг вечером — сразу после кладбища. И прямиком отправляется в комнату Маргариты Владимировны. То есть сначала, конечно, спрашивает о нахождении этой комнаты у длинноносой сотрудницы Инги. Надя почти не стесняется — настолько она охвачена волнением.
— Напротив двери в актовый зал, — равнодушно тянет Инга, не отрывая глаз от телефона.
— Спасибо, — говорит Надя. — Большое вам спасибо. Мне просто нужно кое-что у нее уточнить. Один очень важный момент. Спасибо.
Инга ничего не отвечает, и Надя мчится на второй этаж.
Комната оказывается такой же белой и ничем не пахнущей, как и бабушкина. Освещение мягкое, чуть теплое — от скрюченного маленького торшера. Маргарита Владимировна сидит у окна с книгой в руках. Увидев зашедшую Надю, тут же кладет книгу на подоконник и поправляет бежевый плед, в который укутаны ее парализованные ноги.
— А, здравствуйте, Наденька. Не ожидала вас сегодня увидеть.
— Здравствуйте, Маргарита Владимировна. Я тоже не ожидала. То есть я ожидала, потому что сама к вам пришла. Но не ожидала, что приду сегодня… А пришла я потому, что мне нужно спросить у вас кое-что о Виталии Щукине.
— О Виталике? Спрашивайте, конечно. Проходите, не стойте в дверях.
Надя проходит в глубь комнаты и останавливается около прикроватной тумбочки. Медленно выдохнув, задает заранее заготовленный вопрос:
— Вы мне сказали в прошлый раз, что он был прекрасным пианистом. Но о прекрасных пианистах обычно пишут статьи в Интернете. Даже обо мне в интернете есть статьи. А о Виталии Щукине нет ничего. И в энциклопедиях тоже нет. Как такое может быть?
Надя неотрывно смотрит в окно. По ту сторону стекла, в пустынном осеннем переулке мигает одинокий фонарь. Кажется, будто переулок неспешно открывает и закрывает глаза — то устремляясь к свету, то погружаясь в промозглую слепую черноту.
— Понимаете, Наденька. Когда я говорила, что он был прекрасным пианистом, я имела в виду то, что он был таким для меня. Может, у него и не было широкого признания… И даже не очень широкого. Но я любила его слушать. Любила его вдумчивое, лиричное исполнение. Возможно, я не очень разбираюсь во всех нюансах. Я не большой знаток музыки. Вообще не знаток. Но мне становилось тепло на сердце, когда он играл. Я говорю исключительно о своих личных эмоциях.
— Я поняла, — говорит Надя. — Вы высказали тогда ваше субъективное мнение. Я поняла. Но вы еще сказали, что Виталий Щукин похоронен на городском кладбище. Вы в этом уверены?
Маргарита Владимировна несколько секунд молчит. Надя не видит ее лица. По-прежнему смотрит в моргающий пустой переулок, покрытый мокрым блеском.
— Конечно, уверена. Я сама его хоронила. Мы были с ним близкими друзьями… Больше, чем друзьями.
— А где именно находится его могила?
— На четвертой аллее, между часовенкой и кленом…
В Надиной памяти вырастает старая деревянная часовенка. А рядом с ней среди желтых подмороженных листьев расплывается безымянная могила — видимо, давно заброшенная.
— Я там была сегодня. Но не видела надгробия с именем Виталия Щукина.
— Возможно, его там уже нет… Я почти пятнадцать лет не была на его могиле — с тех самых пор, как отказали ноги. А кроме меня, ходить туда некому. Вдова его, Ольга, давно уехала в Москву. Да и большинство друзей разъехались кто куда. А те, кто не уехал, сами уже на том свете. Детей у них с Ольгой нет. Может, могилу уже признали бесхозной. Или скоро признают… И похоронят в ней кого-нибудь другого.
Фонарь гаснет и больше не включается. Переулок словно окончательно проваливается в глубокий осенний сон.
— Вы говорите, вы были с ним близкими друзьями, — говорит Надя. — Больше, чем друзьями. Значит, видимо, любовниками. А откуда вы его знали?
Маргарита Владимировна чуть заметно улыбается:
— Мы вместе учились в школе — с первого класса. А в девятом как-то особенно сдружились. Сидели за одной партой. А теперь и школы нашей нет.
— Нет? Почему теперь нет?
— Да давно уже нет, что и говорить. Ее лет двадцать назад снесли.
Надя вздрагивает и резко переводит взгляд на Маргариту Владимировну:
— А где? Где она была раньше?
— Школа? На севере города… Рядом со второй поликлиникой. Знаете, где это?
— Знаю, — шепчет окаменевшая Надя. — Знаю.
— Ну вот, Наденька, там и была наша школа. А после сноса остался пустырь. Может, сейчас его уже застроили. Даже скорее всего. Не знаете случайно, застроили или все еще нет?
Надя машинально качает головой.
— Не знаете, да? Вот и я не знаю. Я ведь, с тех пор как села в эту коляску, нигде не бываю. Не имею ни малейшего представления, что творится в городе. Дальше двора меня никто не вывозит. Ну, это и понятно, я не жалуюсь…
Сквозь черные рваные тучи неожиданно проглядывает луна, заливает заоконный переулок мягким серебристым светом. Однако уже не кажется, что переулок вновь открыл глаза: это скорее свет из его глубокого сна, как будто затянувшего Надю в себя. Свет, идущий изнутри.
— А как он выглядел? Виталий Щукин.
— Виталик… Он был хорош собой, что и говорить. На него многие в нашей школе заглядывались. Но вот выбрал он почему-то меня. Правда, потом все равно женился на Ольге Андреевой — нашей однокласснице.
— Почему? — удивляется Надя.
— Ну, так бывает в жизни, Наденька. Так бывает. Но мы все равно остались с ним добрыми друзьями. До самой его смерти. А умер Виталик очень рано — от пневмонии, от самой обычной пневмонии… Вот, смотрите, каким он был.
Маргарита Владимировна достает из книги маленькую черно-белую фотографию. На фотографии — молодой парень с кудрявыми черными волосами и родинкой на щеке. Черно-белый крошечный образ тут же наливается внутри Нади яркими цветами, оживает, растет. Надя поднимает взгляд на Маргариту Владимировну и замечает, что где-то на самом дне ее выцветших глаз остались бархатисто-медовые крупинки.
— А ваша фамилия — Губанова? — тихо спрашивает Надя.
— Да, — удивляется Маргарита Владимировна. — А откуда вы знаете? Вам бабушка сказала? Или Инга?
— Наверно, кто-то сказал… Я уже не помню, кто именно.
— А почему вы вдруг спрашиваете?
— Не знаю. Просто так. Извините, если я вас побеспокоила со своими вопросами.
— Нет, Наденька, что вы. Мне приятно с вами поговорить.
Вздохнув, Маргарита Владимировна поворачивается к окну. Кладет фотографию Виталия Щукина обратно — между пожелтевших книжных страниц. И Надя видит, как на мочке ее левого уха переливается сережка в виде бабочки.
Красавица
Надя продолжила приезжать в дом престарелых по вторникам, пятницам и воскресеньям. Навещала бабушку и давала концерты. А по воскресеньям теперь еще и выкатывала Маргариту Владимировну за пределы двора. Чтобы та могла собственными глазами видеть «все, что творится в городе». То есть, конечно, не совсем все. А точнее, очень малую часть. Потому что далеко укатить коляску никогда не получалось, и прогулки выходили каждый раз обидно короткими. Но Маргарита Владимировна все равно была «безмерно рада вернуться в мир пятнадцать лет спустя».
В целом Надина жизнь после бабушкиного переезда довольно быстро утряслась, найдя себе новый, убаюкивающе размеренный ритм. И вроде бы дни спокойно покатились по надежной колее. Уроки — пианино — покупки — дом престарелых. Но что-то постоянно грозило утянуть Надю в сторону — туда, где ничего не протоптано и можно заблудиться. Этим чем-то были странные мужские взгляды, которых становилось все больше.
Наде стали все чаще делать комплименты. По поводу ее внешности. И даже Андрей Демидов уже не говорил, что потрахается с Надей только в самом страшном кошмаре. А Рома Павловский из параллельного класса как-то сказал, что у Нади «красивые, особенные руки». Это было довольно неожиданно. Надя потом восемь минут разглядывала свои длинные, практически паучьи пальцы, но ничего особенно примечательного в них не нашла. Разве что заусеницу на правом мизинце.
В первый раз Наде сказали, что она красива, еще два года назад. Точнее, сказали не Наде, а бабушке. Соседка с первого этажа Ольга Викторовна как-то зашла за димедролом и так прямо и выпалила:
— Софья Борисовна, какая же у вас внучка красавица!
А спустя год Ксюша Лебедева заявила, что если бы Надя не была пианисткой, ее следовало бы отдать в модельное агентство.
— Зачем? — испугалась Надя.
— Ну как зачем? Модели много зарабатывают. Тем более красивые модели, как ты. А я бы стала твоим арт-директором и разбогатела вместе с тобой.
Сама Надя красивой себя не считала. Время от времени подходила к большому зеркалу в прихожей и удивленно смотрела на свою телесную упаковку. Упаковка казалась странной, не соответствующей тому, что было в ней заперто. Надя видела худое скуластое лицо, светло-русые пакли, зеленые полупрозрачные виноградины глаз с крошечными оранжевыми вкраплениями — словно первыми вестниками гнили. Видела тонкое сухопарое тело, длинные костлявые ноги, которые вытягивались с каждым месяцем. Разглядывая себя в зеркале, Надя неизбежно вспоминала обглоданный хребет селедки. И к горлу медленно подступала тошнота.
В одиннадцатом классе на Надю стали по-другому смотреть не только одноклассники и юноши из параллельного класса. Но и незнакомцы с улицы. Некоторые даже подходили к Наде, называя красавицей (прямо как Ольга Викторовна). Правда, в большинстве случаев довольно быстро отходили, словно почуяв, что с красавицей что-то не так.
А иногда незнакомцы говорили странные вещи и вообще весьма странно себя вели.
Как-то раз, ожидая пятого автобуса, Надя очень замерзла. И зашла в кафе рядом с остановкой — выпить имбирного чая. Потому что имбирный чай полезен для укрепления иммунитета — так говорила бабушка. А Наде нельзя было болеть. Ведь если она заболеет, кто будет давать концерты в доме престарелых по вторникам, пятницам и воскресеньям?
Как только Надя села за столик, к ней подошел полноватый отечный мужчина с чашкой кофе. И, не спрашивая разрешения, уселся рядом.
— Привет, красавица! — сказал он.
— Здравствуйте, — ответила Надя, посмотрев ему в лицо — как положено. И его темные глаза как будто просветлели до полупрозрачного карего.
— Слушай, я сегодня заключил с партнерами отличную сделку. Заработал кучу денег. Только вот есть одна проблема. — Мужчина вздохнул. — Я не знаю, как эту кучу денег теперь потратить. Нет у меня идей. Может, ты подскажешь?
— Конечно, подскажу! — воскликнула Надя. — У нас в городе есть дом престарелых. И ему требуется ремонт. Потому что на лестнице и в холлах довольно обшарпанные стены. А средств, получаемых от постояльцев, не хватает. Потому что нужно еще платить персоналу, а персонала там очень много. Я вам сейчас покажу сайт.
Надя принялась судорожно искать на своем телефоне сайт дома престарелых.
— Подождите…. Подождите секундочку. Вы увидите, там еще давно не меняли окна, и теперь большая часть тепла из помещений уходит, потому что в окнах образовались щели…
Надя подняла голову и вдруг увидела, что мужчина странно прищурился. И полупрозрачные карие глаза, неожиданно загустев, вновь свернулись плотной темнотой.
— Слышь, ты. Щель. Иди заклейся клеем «Момент».
После этого мужчина ушел. Даже кофе не допил.
Надя так и не поняла, чем обидела мужчину. И рассказала об этом случае Ксюше Лебедевой.
— Да ты все правильно сделала, — ответила Ксюша.
— Думаешь? А почему тогда он так быстро ушел? И не посмотрел сайт?
— Ну, наверное, просто понял, что на такой ремонт денег ему не хватит. И не захотел позориться. А вообще знаешь что? Тебе нужно найти себе нормального парня.
— В смысле найти? — удивилась Надя.
— Ну, начать с кем-нибудь встречаться.
— А это еще зачем?
— Должен же кто-то помочь тебе с ремонтом.
Надя встречаться с парнем не очень хотела. Уж если нужно обязательно с кем-нибудь встречаться, то она предпочла бы встречаться с Ксюшей Лебедевой. Та была понятней и ближе, чем все остальные сверстники. И у нее были красивые желудевые глаза — гораздо красивее Надиных. Но Ксюша, по всей видимости, не была настроена так же. Она встречалась с каким-то «нормальным парнем». И советовала Наде последовать ее примеру.
А однажды в ноябре Надя пришла на школьную дискотеку. Конечно, не по собственной воле. Дискотеки она не любила: на них играла мучительно громкая музыка, и все больно толкались. Но Ксюша заявила, что если Надя не будет тусить вместе со всеми, то ее будут считать ботанкой и лузершей.
— Ты и так совсем нас забросила со своим домом престарелых, — сказала Ксюша накануне. — Только туда теперь и ходишь.
— Я туда не хожу. Я туда езжу на пятом автобусе. И я вас не забросила… Просто у меня концерты.
— Какие, на фиг, концерты? Ты от концертов отказалась. Проебала такие гастроли…
— У меня концерты в актовом зале дома престарелых. По вторникам, пятницам и воскресеньям.
— А завтра суббота. Так что отмазки у тебя нет.
Надя опустила глаза и заметила, что стоит от Ксюши на расстоянии не трех, а двух с половиной линолеумных ромбиков. И сделала маленький шаг назад.
— Я даже не знаю, как нужно танцевать… И вообще, что нужно делать на этой дискотеке.
— Ничего особенного. Просто перетаптывайся с ноги на ногу. Как будто ждешь на сильном морозе своего пятого автобуса.
Надя пока еще ни разу не ждала пятого автобуса на сильном морозе. Потому что после бабушкиного переезда в дом престарелых настоящих морозов еще не случалось. Но все же несколько дней выдались достаточно холодными. Так что в принципе представить себе морозное ожидание пятого автобуса было возможно.
Она принесла с собой на дискотеку наушники и включила Второй концерт Рахманинова. Включить пришлось на полную громкость, чтобы хоть немного заглушить болезненный грохот динамиков. Полная громкость в наушниках — это очень вредно. Так не раз говорила бабушка. Но выбора не было. Надя встала подальше от общей толкотни — в углу, рядом с окном, — и принялась переминаться с ноги на ногу. Внизу, под окном актового зала, какие-то люди торопились домой. Ветер выворачивал их зонты наизнанку, и люди горбились от колкого снежного дождя. Наде тоже было неуютно, тоже хотелось домой, в укрытие. Внутри все словно продувалось, и в уязвимую сердечную мякоть больно вонзались вывернутые сломанные спицы. Даже Рахманинов не помогал. А тут еще Ксюша Лебедева выдернула наушники из Надиных ушей.
— Завьялова, я придумала, с кем тебе встречаться.
Ксюша сказала это громко и прямо в ухо. Подошла почти вплотную, не соблюдая дистанции в девять прямоугольников линолеума под паркет «елочка».
— Тебе, Завьялова, нужно встречаться с физруком.
Надя нервно оторвала от губы еще не совсем засохший кусочек кожи. И тут же слизала набежавшую кровяную каплю.
— Ладно, расслабься. Это шутка. Я думаю, ты могла бы обратить внимание на Рому. Павловского. Нормальный парень. Симпатичный, не слишком тупой. С ним, кстати, многие хотели бы встречаться. А он, кажется, запал на тебя. Видишь, пялится?
Надя внимательно посмотрела в сторону Павловского, но так и не сумела определить, куда он пялится.
Ксюша остро толкнула ее в позвонок:
— Давай, иди, поговори с ним.
— О чем?
— Да о чем угодно. Только не о классической музыке. Это никому не интересно.
— Ты же говорила, что тебе было очень интересно, когда я тебе рассказывала про роль Зилоти в рецепции творчества Баха?
— Я врала, Завьялова. Извини.
Надя машинально сделала несколько шагов в сторону Павловского. Казалось, будто он и правда смотрит на нее. Еще она подумала, что Павловский, возможно, похож на Виталия Щукина. По крайней мере у него тоже очень темные кудрявые волосы и родинка на щеке. (Впрочем, оказалось, что нет, не похож. На следующий день Надя попросила Маргариту Владимировну снова показать его фотографию. И даже немного удивилась внутри себя, когда посмотрела на снимок. Потому что человек на снимке не напоминал Рому вообще. Несмотря на кудри и родинку.)
— Не ожидал тебя здесь увидеть, — громко сказал Павловский, когда Надя остановилась в девяти прямоугольниках от него.
— Почему не ожидал? — спросила она.
Голоса прорывались сквозь дискотечную музыку с большим трудом. Отчаянно хотелось куда-нибудь в тишину. Например, на пустырь за поликлиникой № 2. В легкий стеклянистый туман и полное безветрие. Правда, в тот момент это было невозможно. Потому что на улице давно стемнело и шел мокрый снег. К тому же на пустыре, возможно, уже началась стройка. А если так, то ходить туда вообще больше не имело смысла.
— Ну… Тебе ж вроде как не очень нравятся подобные мероприятия. Нет, неправда?
— Правда. Но если я не стану в них участвовать, меня будут считать изгоем.
Павловский почему-то улыбнулся. Надя стеснялась смотреть ему в глаза и смотрела на подбородок. На редкие точки щетины.
— Ну, ясно. А как твои фортепианные конкурсы? Поедешь еще куда-нибудь?
Надя ничего не ответила. Говорить про классическую музыку было нельзя.
— Как твои конкурсы? — повторил Павловский еще громче и наклонился прямо к Надиному уху.
— Нормально, — испуганно ответила Надя, сделав шаг назад. — То есть никак. Их пока больше нет.
— С тобой все в порядке?
— Да, в порядке.
— Не хочешь разговаривать?
— Хочу, только не здесь. Здесь очень громко.
— А где хочешь?
В Надиной голове из пестрого мелькающего шума выросла тихая и родная комната. Около стены очертились и уплотнились черные линии «Красного Октября». А за окном сквозь беззвучную густую ночь поплыл корабль «Пятерочки».
— Можно пойти ко мне домой, — предложила Надя.
Павловский замер на две секунды. Затем потер левую щеку — около родинки.
— А у тебя дома кто-нибудь есть?
— Есть. Дядя Олег.
— Думаю, дядя Олег не очень обрадуется моему внезапному вечернему появлению, нет?
— Да, наверное, он не очень обрадуется. У него всегда много работы. И он не любит гостей.
— Ну… тогда можно пойти не к тебе домой, а в какое-нибудь другое место?
— Нет, я хочу пойти именно к себе домой.
— Хорошо… Давай я тогда хотя бы тебя провожу?
— Не надо. Я люблю ходить одна.
— Даже в такой поздний час?
— Да, в поздний час тоже.
— Ну… Это опасно.
— Да, я слышала от многих, что возвращаться одной в поздний час — опасно. Но мне кажется, что опасность преувеличена. Так что провожать меня не надо. Пока.
Рома Павловский, видимо, хотел прикоснуться к Надиной руке. Но Надя вовремя сделала еще один шаг назад.
— Ты уверена?
— Да, я уверена. Я часто возвращаюсь вечером одна. Из дома престарелых, где живет бабушка. Иду до остановки пятого автобуса пешком. И потом, когда выхожу из автобуса, иду от остановки до своего дома. И я нигде не встречаю никаких опасностей.
Это было правдой. Гуляя в одиночестве по вечерним улицам — да и не только по вечерним, — Надя никогда не чувствовала, что во внешнем мире ей что-то активно угрожает. Ни от чего и ни от кого не исходило обжигающе враждебного дуновения. Или тревожно ледяного. Внешний мир словно плыл параллельно Наде в своей огромной тепловатой капсуле. До Нади ему не было никакого дела. «Ты ни холоден, ни горяч». Эту фразу из Библии как-то вспоминал дядя Игорь. И Наде казалось, что она относится к миру в целом, а не только к лаодикийцу. На улицах было не страшно. Было просто никак.
Придя в тот вечер домой, Надя сразу легла на кровать. Люстру зажигать не стала. Целых сорок семь минут Надя смотрела в плотный комнатный полумрак и слушала, как в голове звенит нахлынувшая тишина. Подушка немного промокла от снежинок, стекших с волос. Наверное, следовало бы вытереть волосы и перевернуть подушку другой стороной. Но Надино тело словно обмякло, расползлось по кровати и никак не могло собраться с силами.
Надя думала, как ей хорошо и спокойно лежать в своей комнате. И что встречаться с Ромой Павловским она не хочет. И не будет.
Однако позже, а именно на следующий день, Надя изменила свое решение.
Когда она рассматривала в холле второго этажа фотографию Виталия Щукина, бабушка спросила, кто это.
— Это знакомый Маргариты Владимировны, — ответила Надя. — То есть не просто знакомый, а друг. Близкий друг. Скорее всего, даже любовник. Но он уже умер. Много лет назад.
Надин голос слегка царапался хрипом. Словно в горле похрустывали невидимые крошечные осколки скорлупы грецкого ореха. Все из-за вчерашнего перекрикивания дискотечной музыки.
— А зачем тебе его фотография?
— Я просто хотела понять, похож ли он на Рому Павловского. Теперь я четко вижу, что не похож. И в самое ближайшее время верну фотографию Маргарите Владимировне.
— Подожди, Надюш, на Рому Павловского? Из класса «В»? — удивилась бабушка. Задумчиво посмотрела на фотографию. — Действительно, не похож… А почему ты вдруг про него подумала?
За окном распухший солнечный шар опускался все ниже между деревьями. Надя подумала о распухшем комке в воспаленном горле и сглотнула слюну. Решила больше не смотреть за окно — чтобы осипшее горло не разболелось — и стала разглядывать само стекло, трещинку внизу справа.
— Просто я вчера думала, что, возможно, буду с ним встречаться. То есть находиться в близких отношениях.
— С Ромой? — Бабушка зачем-то снова задумчиво посмотрела на снимок Виталия Щукина. Хотя Виталий Щукин не имел к Роме никакого отношения. — Ну а что… Рома хороший мальчик. Из приличной интеллигентной семьи. Умный. Сочинения мне по Гончарову писал неплохие. И по Тургеневу тоже. Не блестящие, конечно, как Вероника Зябликова, но вполне добротные. Почему бы и нет, Надюша.
— Почему бы и нет? — хриплым шепотом переспросила изумленная Надя. С силой прижала фотографию Виталия Щукина к джинсовой коленке.
— Ну а что? Ты уже взрослая у меня, скоро вот школу закончишь. И если рядом с тобой окажется серьезный, хороший мальчик, то мне станет спокойнее на сердце. Я буду знать, что ты не одна, что кто-то тебя поддержит, если вдруг что-то случится.
— Случится? А что должно случиться?
— Да мало ли что, Надюша. Жизнь, она такая… Лучше держаться вместе.
На следующий день, в понедельник, Надя предложила Роме Павловскому встречаться. Увидев его в коридоре, прокрутила в голове для успокоения список мертвых пианистов (теперь их было двадцать три: добавился Виталий Щукин). Затем подошла к Роме на расстояние не трех, а двух линолеумных ромбиков. Потому что дистанция между двумя людьми, которые состоят в отношениях, обычно сокращена.
— Я думаю, что мы могли бы с тобой встречаться, — сказала Надя, смотря на витиеватый узор внутри ромбика.
— В каком смысле? — переспросил Рома Павловский.
— В том смысле, что мы уже взрослые и скоро заканчиваем школу.
Около пяти секунд Рома молчал. Надя не видела выражения его лица, потому что продолжала смотреть в пол.
— Странно, — сказал он наконец. — В субботу ты так быстро убежала. А теперь предлагаешь встречаться.
— Я понимаю, это не очень логично. Но в субботу на школьной дискотеке было слишком шумно. И мне захотелось уйти. Пройтись одной по улицам. Совсем одной. Извини, пожалуйста.
— Да ничего… Ничего страшного.
— А потом я подумала, что лучше держаться вместе.
— Это правда, — ответил Рома и взял Надю за руку.
В первую секунду Надя хотела выдернуть руку, но тут же вспомнила, что они с Ромой теперь встречаются. А те люди, которые друг с другом встречаются, часто держатся за руки. Так нужно.
А что еще было нужно — Надя решила узнать у Ксюши Лебедевой.
— Ну, как это что… Если вы встречаетесь, вы должны вместе гулять… Ходить в кино, в кафе, друг к другу в гости.
— Гулять, ходить в кино, в кафе, друг к другу в гости, — бормотала Надя, составляя в голове список необходимых действий. Аккуратно прописывая мысленными буквами все пункты.
— Ну, не знаю, что еще. Можете еще в театр сходить. И на каток.
— Театр, каток… Дальше?
— Пока хватит. На первое время.
— А первое время — это сколько?
— Господи, Завьялова… Не знаю. Какая же ты дотошная! Два месяца.
— Два месяца… А как часто нужно туда ходить? Я имею в виду — в кино, в кафе и так далее?
— Хотя бы раз в неделю.
— То есть раз в неделю нужно посещать все эти места? — испугалась Надя.
— Да нет, не обязательно. Можете одну неделю в кино, другую на каток, например. И вообще, пусть Павловский сам организовывает ваш досуг. Он же парень.
— У меня должно быть расписание…
— Вот и составляйте его вместе. Ты мне лучше скажи, ты реально сама подошла к нему и так прямо предложила встречаться?
— Да, подошла и так прямо предложила.
— Ну, ты крута! Я-то думала, ты стесняшка и тихоня. А оказывается-то, вон оно как…
Надя добросовестно выполняла все необходимые пункты. За два месяца они с Ромой Павловским сходили три раза на каток, три раза в кафе рядом с остановкой пятого автобуса, два раза в кино на странные фильмы про несуществующих злодеев и один раз в театр на еще более странный спектакль про любовь. К счастью, в театре была необыкновенно красивая люстра — огромная, воздушная, прохладно и сладко сверкающая хрусталем. И Надя смотрела на эту люстру практически весь спектакль.
— Тебе было скучно? — спросил Рома Павловский после театра.
— С чего ты это взял?
— Ну… ты практически не смотрела на сцену.
— Из этого не следует, что мне было скучно, — удивилась Надя.
— Ты забавная, — улыбнулся Рома. — И очень милая.
Рома часто говорил, что Надя забавная. И часто сжимал Надину ладонь. Надя к этому почти привыкла и не чувствовала отвращения. К тому же Ромина ладонь обычно была прохладной и не потной.
— Можно мне сегодня тебя проводить?
— Нет. Извини, пожалуйста. Я хочу пройтись одна.
— Ну что ж… Как всегда. Может, хоть когда-нибудь в далеком будущем я удостоюсь такой чести.
В списке, предложенном Ксюшей Лебедевой, не значились обязательные проводы домой. И Надя ни за что не хотела их добавлять. Одинокие прогулки были необходимы для восстановления внутренней тишины. Для внутренней звуковой расчистки и освобождения от ненужных шумов. Чтобы потом музыке было где звучать внутри Нади.
— Это вовсе не честь. К тому же, не провожая меня, ты экономишь собственное время. Которое ты можешь потратить, например, на подготовку к контрольной работе по геометрии.
— Да плевать я хотел на геометрию, когда со мной самая красивая пианистка мира!
— Плевать на геометрию нельзя, потому что через полгода нам нужно сдавать ЕГЭ по математике. А что касается самой красивой пианистки мира, то ты не можешь этого утверждать. Ты просто не видел всех пианисток мира. Соответственно, у тебя нет оснований делать подобные выводы.
Несколько раз Надя играла Роме Павловскому на пианино. В школьном классе музыки, на перемене. Рома слушал очень внимательно, а потом сжимал Надины запястья и говорил, что встречается «с настоящим гением». Она осторожно высвобождала руки и отвечала, что «гениальность — это весьма субъективное понятие».
Днем свиданий была суббота. Однако в качестве бонуса иногда добавлялись вторник или среда. В один из бонусных вторников Надя с Ромой пришли вместе в дом престарелых. Навестить бабушку.
Бабушка очень обрадовалась. Гладила обоих по рукам и говорила, что в жизни не видела «такой чудесной пары». Расспрашивала Рому про его планы на будущее, куда он собирается поступать.
— Я пока точно не решил, — отвечал Рома. — Возможно, менеджмент. Или финансы.
— Пора бы уже определиться, Ромочка. Полгода осталось. Ты здесь останешься или в городок покрупнее поедешь учиться?
— Возможно, уеду…
— И правильно. С твоими способностями надо ехать в крупный город. Напишешь хорошо ЕГЭ — и можно хоть в Москву. Вместе с Надюшей поедете: она в консерваторию, а ты в МГУ.
О том, что Надя собиралась поступать в Московскую консерваторию, Рома услышал впервые. И сама Надя тоже.
— Ты правда поедешь после школы в Москву? — спросил он уже в пятом автобусе.
(Он не провожал Надю, просто пятый автобус ехал и до его дома. Ромина остановка была сразу после Надиной.)
— Может быть. Я не знаю… Я пока не определилась, как и ты.
— Ты знаешь… — Рома вздохнул и посмотрел в автобусное окно. Сквозь процарапанный кем-то иней. — Я на самом деле определился. То есть за меня все определили мои родители. После того как я закончу одиннадцатый класс, моя семья переедет в Англию. У папы там живет двоюродный брат… Он недавно открыл свой магазин и зовет папу работать вместе с ним. А я буду учиться в Лондонской школе бизнеса и финансов. Я не хотел тебе говорить, потому что до прошлой недели не был уверен. А теперь все решилось окончательно. Ну а бабушке твоей я не сказал, чтобы… чтобы она не переживала.
— Понятно, — ответила Надя и тоже посмотрела в очищенный кусочек окна. Автобус проезжал мимо сквера со статуей девушки. На бронзовом теле девушки лежал снег, и казалось, будто она запахнулась в белый больничный халат.
— Ну послушай, это не мое решение. И я не хочу уезжать. Не хочу с тобой расставаться. Это мои родители так решили. Но мы обязательно что-нибудь придумаем. Слышишь? Обязательно.
— Хорошо, — ответила Надя.
Она думала о том, что ни разу в жизни не надевала больничный халат.
А в одну бонусную среду они ходили в гости к Роме. И Надя познакомилась с Ромиными родителями, которые собирались увезти его после школы в Англию. Родители оказались приветливыми и милыми, правда, чересчур восторженными. Мама была похожа на восторженную лошадь с квадратной челюстью и крупными зубами, а папа — на восторженного верблюда с изумленно выпуклыми губами и пушистыми ресницами. Весь вечер они подкладывали в Надину тарелку куски покупного пирога с фаршем и капустой. И пытались расспрашивать Надю про ее «музыкальную карьеру». В особенности про конкурс Чайковского.
— Это неинтересно, — отвечала Надя, пожимая плечами.
Она прекрасно помнила наставления Ксюши Лебедевой и старалась избегать разговоров о классической музыке.
— Ну что ты, Наденька, это очень интересно, — возражала Лошадь. — В шестнадцать лет — и выступать на таком уровне… Ромчик нам показывал твое выступление на Ютюбе. Мы, конечно, не специалисты и вообще не слишком понимаем всякие тонкости. Но пришли в полный восторг!
— Это точно! — подхватывал Верблюд. — Таким успехом в шестнадцать лет не каждый может похвастаться. Мы уже всем нашим знакомым все уши прожужжали, с какой необыкновенной девочкой дружит наш сын! А у тебя еще предвидятся какие-нибудь конкурсы в ближайшее время? Или концерты?
— Не знаю, — отвечала Надя. — Это неинтересно.
Она не испытывала к Роме Павловскому никаких особенных чувств. И даже неособенных. Не страдала от его частого присутствия, нет. Но и не радовалась ему. Просто включила его в свое расписание. И за два месяца «отношений» ничего не изменилось.
Зато бабушке было спокойно на сердце. Она знала, что рядом с ее Надюшей серьезный, хороший мальчик. Заботливый. Рома Павловский действительно был заботливым — даже чрезмерно. Аккуратно заправлял Надин шарф в пуховик, чтобы Надю не продуло. Размешивал сахар в Надином чае, пока Надя разглядывала обрывок переливающегося фантика на полу школьной столовой. Звонил всякий раз, когда Надя возвращалась вечером одна. (Она никогда не отвечала голосом, чтобы не нарушать тишину. Сбрасывала вызов и отправляла сообщение о том, что «дошла».)
Бабушка радовалась Надиному «выбору», и это было главным. Поэтому Надя встречалась с Ромой Павловским старательно и исправно. Держала его за руку. С большим вниманием слушала его комплименты по поводу рук и других частей тела. Сносила тесные объятия. И даже склизкие улиточные поцелуи. Так было нужно.
О том, что Рома после окончания школы уедет в Англию, Надя не думала. До окончания школы было еще много времени. А решать проблемы стоило по мере их поступления. (Так говорил кто-то из учителей. Кажется, Светлана Яковлевна.) И ближайшей поступившей проблемой стало то, что два месяца, отведенные Ксюшей Лебедевой для «первого времени», истекли. И значит, подступали перемены.
— Ты составила мне список необходимых действий для первых двух месяцев. А что дальше? — спросила Надя у Ксюши на большой перемене.
— Господи, каких еще действий?
— Ты говорила, что нам с Ромой Павловским нужно ходить в кино, кафе, театр, на каток и друг к другу в гости. Но с оговоркой, что этого хватит только на первое время.
— Ах, вот оно что… Ну допустим. И?..
Надя медленно выдохнула и закусила губу изнутри.
— Я все это выполняла. Чтобы считалось, что мы с Ромой встречаемся. Но теперь первое время закончилось. Два месяца прошли. Нужно что-то еще?
— Два месяца, говоришь… В принципе можете перейти уже на новый уровень отношений.
— В каком смысле? — испугалась Надя.
— В прямом. Ты уже взрослая девочка. Можно и подумать о близости. И даже не только подумать.
— Ты хочешь сказать, что мне нужно заняться с ним сексом? — почти закричала Надя.
Прошедшие мимо пятиклассники притормозили. Некоторые принялись оборачиваться, вытягивать шеи.
— Не ори ты так, — вздохнула Ксюша Лебедева и понизила голос. — Ну а почему нет? Тебе скоро семнадцать. Или ты хочешь всю жизнь прожить убогой монашкой?
— Я не монашка, — удивилась Надя.
В голове всплыли угрюмые образы женского монастыря из фильма «Не говори Анне».
— Ну, раз не монашка, тогда на, держи. Это от моей квартиры.
Ксюша вытащила из сумки связку ключей и сунула ее в Надины руки. Связка оказалась тяжелой и прохладной.
— Зачем? — прошептала Надя.
— За тем самым. У меня предки свалили в Москву до следующей недели. А я после школы все равно иду по магазинам. Так что вам с Павловским несказанно повезло. Развлекайтесь на здоровье. Белье там, в сером шкафчике, найдете.
— В сером шкафчике… — зачем-то повторила Надя и медленно сжала ключи. — А это обязательно? Я имею в виду… вообще все это?
— Конечно, обязательно, Завьялова. Иначе не будет считаться, что вы с Павловским встречаетесь.
Лишь бы меня не трогали
Когда Надя жила с родителями, в подъезде часто протекала батарея. А еще ломался домофон, и на лестнице постоянно разбивались окна. Но родители никогда никуда не писали жалоб и вообще старались избегать собраний жильцов. «Ну и ладно, лишь бы нас не трогали», — устало говорила всякий раз мама, проходя мимо разбитого лестничного окна. Ту же фразу произносил папа, когда по телевизору показывали новости о грядущих неприятных переменах. Разумеется, о тех переменах, которые касались не папы, а кого-то далекого и абстрактного. И даже бабушка, слушая по радиоприемнику репортажи о войнах, иногда со вздохом заявляла: «Печально это все, конечно. Но что поделать… Лишь бы нас не трогали».
Надя была в целом согласна с этой фразой. Согласна по сути. Потому что спокойно пережить можно многое, но только не трогание. Надя переносила прикосновения с большим трудом. Когда ее обнимали, она крепко прижимала руки к телу и жмурилась. От трогания становилось почти больно, в груди начинало тошнотно бурлить, а в голове как будто включалась электродрель. Иногда вместо дрели включался сломанный телевизор, показывающий цветные полосы с очень громким писком.
Но если заниматься с кем-нибудь сексом, трогание, наверное, неизбежно. Иначе, скорее всего, ничего не получится. Причем — что самое ужасное — неизбежно не только трогание, но и проникновение. А это значит, что другой человек находится не просто на поверхности твоей кожи, а в глубине тебя. Внутри твоего организма. Одна только мысль об этом казалась невыносимой. Наполняла голову скользким ноющим ужасом.
Однако выбора у Нади не было. «Первое время» прошло, и в списке Ксюши Лебедевой появился новый обязательный пункт. Пункт, без которого отношения с Ромой Павловским будут считаться недействительными. А такого произойти не должно. Это очень расстроит бабушку, у которой сердце и так изношено. Слишком изношено.
Поэтому после уроков Надя подошла к Роме Павловскому и вручила ему ключи от Ксюшиной квартиры.
— Что это? — спросил Рома, машинально забирая протянутую связку.
Надины руки освободились. И Надя принялась постукивать пальцами правой руки по левой ладошке.
— Это ключи от квартиры Ксюши Лебедевой. Я отдаю их тебе. Просто у меня плохо получается открывать двери. Особенно незнакомые. То есть эта дверь, конечно, знакомая. Но я ее никогда раньше не открывала сама.
Это было правдой. Надя всегда очень долго возилась с замком собственной входной двери. Что уж говорить о чужом, неизведанном замке.
— Зачем мне… ключи от квартиры Ксюши Лебедевой? — блеклым, почти бесцветным голосом спросил Рома.
Надя хрустнула костяшками левой руки.
— Чтобы открыть эту квартиру. Мы должны сегодня пойти к Ксюше Лебедевой. Она отправится после уроков за покупками, и в ее квартире никого не будет. И мы сможем заняться сексом.
По странно застывшему выражению лица Ромы Павловского Надя поняла, что сказала что-то не то. Вообще она часто говорила что-то не то. Но обычно Рома просто улыбался ее неуместным фразам. А в этот раз не улыбнулся и непонятно застыл. Видимо, сказанное Надей было настолько абсурдным, что не вызывало даже легкой ухмылки. И Надя тут же принялась отчаянно хлопать себя по ушам. Как тогда на сцене, когда мизинец соскользнул с черного бемоля на белую си.
— Нет! — закричала Надя. — Нет, нет! Я не то хотела сказать, нет!
Она жмурилась и била себя по ушам, словно пытаясь заглушить в голове только что произнесенные слова. Отменить сказанное, стереть выведенные в воздухе нелепые фразы. Вернуться назад, удалить.
— Успокойся, — вдруг сказал Рома Павловский и схватил ее за руку.
Надя замерла на несколько секунд. Задышала неровно и сипло. А потом вдруг закашлялась, будто поперхнувшись собственными непереваренными словами.
— Тебе воды принести?
Она покачала головой. Медленно высвободила руку из ослабшей Роминой хватки.
— Я сказала что-то ужасное, да? — спросила Надя сквозь затихающий кашель.
— Нет, — ответил Павловский. — Нет. Просто… Ты уверена, что этого хочешь?
Ромин голос казался теперь ломким, хрупким, мелко дрожащим. А Надин — несвежим и мятым, как использованное полотенце. Хотя насчет собственного голоса уверенности у нее не было. Мы ведь слышим свой голос немного по-другому, не так, как он звучит на самом деле. Наде объяснили в школе, что звуковые вибрации проходят через внутренние ткани и жидкости. И это изменяет восприятие.
— Хочу чего именно? — осторожно уточнила она.
— Того, что ты сама только что предложила.
Надя этого не хотела. Не хотела в принципе. Иногда, конечно, ее охватывало что-то наподобие волнения. В основном когда Ксюша Лебедева подходила к ней ближе, чем на три линолеумных ромбика. В эти редкие моменты внутри Нади, чуть ниже воронки пупка, расползалось что-то тягучее и очень теплое. Но не требующее никакого вмешательства. А уж от близкого присутствия Ромы Павловского не возникало даже тягучего тепла.
Но пункт есть пункт. Все должно быть по-честному.
— Уверена, — твердо ответила Надя.
Дорога до Ксюшиного дома помнилась плохо. Надя словно перекатывалась в пустоте мыльного пузыря. Мимо проплывали какие-то люди, много людей из разных человечников. И все упакованные, все запертые — каждый в свое тело. Надя видела их очень смутно. Она тоже была заперта в своем теле, которое вдруг стало ощущаться невероятно остро. Словно вся сущность мира сконцентрировалась в Надиных сосудах, костях и суставах. И то, что осталось за пределами Надиного тела, расплывалось и теряло смысл.
Мыльный пузырь лопнул только в квартире. Надя очнулась на белоснежном диване в тот момент, когда Рома Павловский стягивал с нее джинсы. И тогда она с ясностью увидела то, что было вокруг. Увидела причудливые полки с цветными изогнутыми вазами и статуэтками, огромный телевизор и непонятную картину с кем-то похожим на разрезанную Юлию Валентиновну. Увидела Ксюшиного белого кота, сидящего на подоконнике и с удивлением смотрящего на нежданных гостей. И наконец увидела Ромино лицо — напряженное, с невидящими зрачками и капельками пота на висках.
— Там есть белье. В сером шкафчике, — сказала Надя, но Рома, кажется, ее не услышал.
Он бормотал что-то невнятное, возился с Надиной и со своей одеждой и мокрыми горячими губами водил по Надиной коже. Надя не двигалась. Лежала мертвым мясным продуктом, суповым набором костей и жил. В голове то и дело всплывала мясная лавка из детства. Эта лавка находилась напротив родительского дома. На первом этаже серой девятиэтажки. Мама иногда заходила туда вместе с Надей и покупала суповой набор. И вот теперь Надя сама была таким суповым набором. Скелетом с некоторым количеством мяса.
Она внезапно почувствовала, что Рома Павловский с силой разводит ее окаменевшие колени. И несколько секунд спустя все Надино тело окунулось в жгучую боль. Окунулось и тут же вынырнуло — в огромную подступающую тошноту. Тошнота оказалась больше и сильнее, чем боль. Мгновенно ее затмила.
Надя попыталась мысленно отвлечься от происходящего. Повернула голову, цепляясь взглядом за спящий экран телевизора. Но экран равнодушным черным зеркалом отражал то, что происходило на диване. Тогда Надя резко подняла глаза на потолок. Очень хотелось ни о чем не думать. Вообще ни о чем. Но упорно думалось, несмотря на все усилия. Думалось о мясе. О липких говяжьих сердцах, разложенных за витринным стеклом. О светло-розовой корейке с кровоподтеками и кисловатым запахом. О посеревших слизистых окорочках с отслоившейся кожицей. О влажном зернистом разрезе свиной печени. Думалось и о собственном мясе, и о мясе Ромы Павловского. О том, что два сорта мяса и хрящиков сейчас соприкасаются, вдавливаются друг в друга, обмениваются жидкостями.
Тошнота подступила совсем близко. И уже готова была вырваться из заточения, из постного Надиного мяса. Но тут Рома Павловский резко дернулся несколько раз, и все закончилось.
Полминуты Надя неподвижно лежала на белоснежном Ксюшином диване. Затем медленно села, подтянув колени к груди. На сотую долю секунды ей показалось, будто она видит свое собственное сгорбленное туловище со стороны. Видит камешки позвонков, отчетливо проступившие на спине. И растрепанные светло-русые волосы.
— Тебе понравилось? — тихо спросил Рома Павловский, лежащий рядом.
— Нет, не понравилось. Но ничего страшного.
Мысленное мясо проваливалось в темноту, и тошнота потихоньку отступала.
— Прости. Я, наверное, слишком поторопился.
— Ничего страшного.
— Просто как-то странно… Неожиданно. Все должно было произойти не так. То есть я представлял это совсем по-другому. Но ты так внезапно предложила… В общем, я растерялся.
— Почему ты растерялся?
— Ну… я же говорю, не ожидал. Ты ведь такая… замкнутая. Недосягаемая, что ли. Даже от простых объятий постоянно уворачиваешься. Честно говоря, я не думал, что ты так быстро окажешься в моей постели.
— Я не в твоей постели, — удивилась Надя. — Мы оба в постели Ксюши Лебедевой. То есть даже не в постели, а на диване ее гостиной.
— Ну, с этим не поспоришь.
В следующую секунду Надин телефон коротко провибрировал. Надя скинула ноги с дивана и принялась рыться в груде одежды, накиданной Ромой Павловским на пол. Одежды было много, и она пахла потом и пряным гелем для душа.
— Это, наверное, твоя Ксюша, — вздохнул Павловский. — Предупредить, что возвращается домой, и нам пора собираться.
— Наверное. Но мы ведь уже сделали все, что должны были. И можем разойтись по домам.
— По домам? Так быстро?
— Я просто еще хотела сегодня поиграть Шуберта. Извини.
Выудив телефон из кармана скомканных джинсов, Надя заметила боковым зрением, что по внутренней стороне бедра бежит алая капля. Но капля так и не успела добежать до сознания и осмыслиться. Потому что Надино сознание тут же до краев наполнилось пришедшим сообщением.
— Ну что, я был прав? Это Лебедева?
— Нет, — сказала Надя глухим надорванным голосом. Хотя, возможно, голос был вовсе не надорванным и не глухим, и Наде так только показалось изнутри головы. — Это дядя Олег прислал эсэмэс. Бабушка умерла.
Стать человеком
Бабушку похоронили три дня спустя. Когда гроб опускали в землю, Надя неотрывно смотрела на сереющую вдали часовенку. Вместе с густым паром как будто выдыхала свое бесконечное глубинное удивление. Удивляло то, что все происходит вот так, наяву, по-настоящему. От удивления даже хотелось броситься в снег и закричать в молочно-белую плотную кладбищенскую тишину. Но тело зажималось, а горло не пропускало звуки, словно заледенев. И Надя молча переминалась с ноги на ногу. Как на школьной дискотеке. Или на остановке пятого автобуса. Было очень холодно. Мерзлая январская земля неумолимо грызла ступни.
Мама на похороны не приехала. Дядя Олег сказал, что у нее сложная беременность и врачи не советовали ей лететь на самолете. А другим способом добраться до родного города из Голландии было невозможно.
Зато пришли Надины одноклассники, учителя и Рома Павловский. После того как бабушку засыпали землей и снегом, Ксюша Лебедева, Лопатин, Светлана Яковлевна и многие другие по очереди подходили к Наде, все еще изумленно глядящей на часовенку. Прикасались перчатками и варежками к Надиному пуховику. Говорили тихими, потухшими голосами что-то очень невнятное. А Рома Павловский постоянно поправлял Надин сползающий капюшон.
Потом все медленно и бесконечно долго шли через кладбище. Передвигались друг за другом непрерывной вереницей по сухо скрипящему снегу. Сверху сыпались крупные, ровно вырезанные снежинки. Идеально симметричные. Во все стороны хаотично разбредались старенькие покосившиеся кресты и надгробия, покрытые жирными ледяными корками. Надя молчала, и остальные тоже молчали. Всех покрывало январское стеклянное безмолвие.
Боль от осознания того, что бабушки действительно больше нет, начала появляться позднее — примерно через неделю после похорон. Всю эту неделю Надя просто изумлялась тому, что все вокруг продолжало течь, как обычно. Так же, как и раньше, по дорогам ездили автобусы, в школе звенели звонки, на тротуарах толпились люди. Особенно изумляли незнакомые люди. Их безмятежные заурядные лица на какие-то секунды даже вытягивали Надю из ледяного удивления в теплый привычный мир. Но тут же выкидывали обратно, и изумление сковывало еще сильнее.
Потом стала приходить боль. В основном по ночам. Словно огромный топор внезапно разрубал внутри Нади лед изумления и выпускал мучительный живой кипяток. Тогда Надя широко открывала глаза, чувствуя, как кипяток медленно разливается по сосудам. Садилась на кровати, уставившись в темноту комнаты. А в голове могильными червями начинали копошиться фразы, произнесенные бабушкиным голосом.
В дом престарелых Надя приехала только в конце февраля. Впрочем, ни с кем в тот раз не увиделась, даже с Маргаритой Владимировной. Постояла перед дверью бабушкиной комнаты и ушла, так и не решившись войти. Здание словно резко опустело. Ни в холлах, ни в коридорах Надя не встретила ни одного человека. С потолков струился зеленоватый свет — вязкий, густой — и натыкался на растерянную мертвую пустоту. Будто бабушкина смерть парализовала весь дом. Выпотрошила, вырезала живое нутро. Сковала холодом стены, пол, скудную мебель.
А к пианино Надя вновь подошла только в начале марта. Первые дни просто машинально вколачивала звуки в тишину, вдруг ставшую невыносимой. Тяжело, остервенело, безудержно. Словно совала руки в огромную белую пасть с острыми черными клыками. Упрямо ждала физической боли; хотела, чтобы пасть наконец отгрызла ей пальцы. Или хотя бы покусала до крови.
Но пасть ничего не отгрызла. И со временем клыки притупились, затем размякли, а затем и вовсе расплылись черной сладкозвучной патокой диезов и бемолей. Надины руки успокоились, перестали искать себе истязаний. С середины марта Надя снова начала давать концерты в доме престарелых. По вторникам, пятницам и воскресеньям. А по воскресеньям выкатывать Маргариту Владимировну за пределы двора. Один раз даже сумела докатить ее до пустыря за второй поликлиникой. Туда, где раньше была школа. И где теперь полным ходом шло строительство нового жилого комплекса для счастливых семей. Надя и Маргарита Владимировна пробыли там совсем недолго — не больше пяти минут. Обеим не хотелось смотреть ни на стройку, ни на рекламный щит с умиротворенными жильцами.
— Ладно, наше время прошло, что ж тут сделаешь, — сказала Маргарита Владимировна на обратном пути.
— Наше время прошло? — удивленно переспросила Надя.
— Я имею в виду мое. Не ваше, Наденька, конечно, нет. У вас еще все впереди. Я говорю про себя. Грустно возвращаться туда, где прошли твои лучшие годы. И где теперь все настолько по-другому, что ты уже не знаешь, действительно ли они были, эти твои лучшие годы. Или же были только в твоей голове. На земле от них не осталось никаких следов. Даже пространство их вытеснило. Понимаете, Наденька?
— Понимаю. Извините.
— Господи, да за что?
— Это я вас привезла на пустырь. Значит, мои действия являются косвенной причиной того, что вам сейчас грустно.
— Нет, Наденька, что вы. Вы тут ни при чем. Наоборот, вы мне приносите только радость. Вы мне приносите саму жизнь. Знаете, все, что у меня осталось, — мои воспоминания. Они как драгоценные камушки янтаря, застывшей смолы. Драгоценные, но мертвые. А когда вы играете Шопена, они оживают, снова превращаются в живицу.
— Это потому что я играю Шопена так же, как Виталий Щукин?
— Возможно, поэтому. Я не знаю почему.
Весь тот воскресный вечер Надя играла в актовом зале исключительно Шопена. Играла и представляла себе янтарные сережки. Такие были у Юлии Валентиновны — она надевала их на все Надины выступления. И по мере того как Надины руки погружались в ноктюрны, эти сережки плавились, стекали вниз, на плечи и ключицы Юлии Валентиновны. И сама Юлия Валентиновна постепенно вытягивалась и превращалась в длинный надрезанный ствол хвойного дерева.
Один раз Наде написала мама. Сообщила, что в конце марта у нее родился сын. Немного недоношенным, но здоровым. Мама звала Надю приехать в Голландию, «посмотреть на братика, а возможно, и насовсем тут остаться». Потому что в Голландии все прекрасно. «Не сравнить с нашей убогой помойкой». Надя поблагодарила маму за письмо, но написала, что приехать не сумеет, так как дает концерты три раза в неделю. А про себя Надя подумала, что очень рада рождению этого мальчика. Возможно, он окажется нормальным, не таким, как она. И значит, мама будет счастлива. Ведь она всегда хотела обычного, нормального ребенка — «милого, забавного, умненького».
Надя продолжала встречаться с Ромой Павловским. Словно по инерции. И со дня бабушкиной смерти еще много раз занималась с ним сексом. Правда, уже не в гостиной Ксюши Лебедевой, а в Роминой комнате — когда Роминых родителей не было дома. Надю больше не тошнило, и мысли о мясе не появлялись. Глядя в безупречно белый потолок без единой трещинки, она думала о посторонних вещах — не связанных с совокуплением. В основном прокручивала в голове список мертвых пианистов. Все двадцать три имени со зрительными образами. От Юрия Захарова до Сергея Голубева. Раньше Надя выстраивала их по алфавиту — как в классном журнале. Но потом решила, что это нелогично: они же не ученики. И расположила их по дате смерти. Виталий Щукин оказался шестнадцатым.
А в середине апреля Рома Павловский совершенно неожиданно заявил:
— После окончания школы мы с тобой поедем вместе в Англию.
— В Англию? — удивилась Надя и рассеянно посмотрела в окно. — Я знаю, что ты с родителями туда собираешься. Я это помню. Но я туда не собираюсь.
— У меня для тебя сюрприз. Последние два месяца я переписывался с Лондонской консерваторией. С Королевской академией музыки. Они видели твое выступление на конкурсе Чайковского. И готовы тебя принять.
На небе было очень много маленьких белоснежных облаков, напоминающих в совокупности рыбью чешую. Огромная синяя рыба с белой чешуей.
— Ты слышишь меня, Надя? Ты поняла, что я только что сказал?
— Я слышу. И я поняла, что ты сказал. Но все равно не понимаю, зачем мне туда ехать.
— Как это зачем? Ты не хочешь учиться в Королевской академии?
— Я не знаю, хочу или нет. Я об этом не думала.
— Не знаешь? Ты сомневаешься, стоит ли учиться в престижнейшем музыкальном заведении? Сомневаешься, стоит ли ехать вместе со мной?
Надя зажмурилась от натекшей в глаза белизны.
— Я в любом случае не могу туда поехать. У меня концерты по вторникам, пятницам и воскресеньям.
— Да какие еще концерты, что ты несешь?
Рома Павловский схватил Надю за плечо и затряс. Надя напряглась, изо всех сил прижала локти к ребрам. В голове зазвенела таблица цветовой профилактики.
— Извини, — тут же сказал Рома Павловский и медленно отнял руку. — Просто я тебя вообще иногда не понимаю… Я все делаю для того, чтобы мы были вместе. Закрываю глаза на твои… особенности. Не обижаюсь, когда ты уходишь не попрощавшись. Когда закрываешь дверь прямо перед моим носом.
— А я так делаю? — удивилась Надя, вытряхивая из головы остатки профилактической заставки.
— Ты так делаешь постоянно. Но ладно. Я к этому привык. Я готов с этим мириться. Потому что я тебя люблю и не хочу с тобой расставаться. Ради нас я сумел договориться с Лондонской консерваторией. Убедил родителей, что мы с тобой должны жить вместе. А ты не соглашаешься ехать из-за каких-то концертов для полоумных стариков?
— Они вовсе не полоумные.
— Да какая к черту разница? Твоей бабушки там больше нет. Что тебя там держит?
— Меня там не держат. Просто им нравится, как я играю. Это оживляет в них воспоминания. Возвращает к жизни.
Рома Павловский сел на подоконник и закрыл лицо руками.
— Послушай, Надя. Ты ничего им не должна, этим людям. Кто они тебе вообще? Ты должна думать о своей жизни, понимаешь? О своей. Она у тебя одна.
Надя вдруг подумала, что действительно ощущает перед обитателями дома престарелых некую провинность. Очень смутную, вроде первородного греха.
— Я не могу их бросить.
— А меня ты, значит, можешь бросить? Послушай. У тебя вся жизнь впереди. Ты закончишь консерваторию, будешь давать концерты в Королевском фестивальном зале. Сольные или с оркестром. Вот смотри. — Рома Павловский достал из кармана телефон и включил видеозапись Лондонского симфонического оркестра, исполняющего «Болеро». — Ты хочешь выступать там, с ними? Или предпочитаешь обшарпанный актовый зал дома престарелых?
— Там нет рояля, — отрезала Надя, покосившись на телефон. — И вообще я не очень люблю Мориса Равеля. Из импрессионистов мне больше нравится Дебюсси.
Рома Павловский вздохнул и выключил запись.
— Значит, будешь играть своего Дебюсси. Но на нормальной сцене. А еще мы будем с тобой вместе. Первое время поживем в общежитии, а потом снимем квартиру. Я стану подрабатывать, и родители помогут нам с деньгами.
— Нет, это неправильно, — сказала Надя, проводя рукой по безобойной стене Роминой комнаты. Стена была выкрашена рельефной бежевой краской и слегка покалывала подушечки пальцев. Наде нравилось это ощущение.
— Неправильно? Что именно?
— То, что твои родители помогут нам с деньгами. Нам — значит, и мне тоже. Бабушка говорила, что неправильно одалживаться у чужих людей.
— Надя, мои родители — не чужие люди. И я же говорю: я буду подрабатывать. У папы и дяди Коли. Помогать им с магазином.
— С каким магазином?
— Как это с каким? Надя, мы же в прошлый раз у моих родителей целый вечер это обсуждали…
— Извини, я, видимо, прослушала.
— Ладно, не суть. Главное, соглашайся. Пожалуйста. Иначе я очень сильно расстроюсь и даже не знаю, как это переживу. Не убивай меня отказом.
Надя не хотела расстраивать Рому Павловского. Тем более убивать. В конце концов, Рома — добрый и терпеливый человек. Заботливый друг. И Надя решила посоветоваться с Ксюшей Лебедевой.
— Конечно, поезжай, — не задумываясь, ответила Ксюша.
— Почему «конечно»?
— Ну а что, ты хочешь всю жизнь гнить в этой захолустной дыре? Я тоже после школы отсюда сваливаю. Правда, к сожалению, не в Лондон, а в Москву. В Лондон меня никто не зовет. А если бы позвал, я бы помчалась со всех ног. Слушай, может, твой Рома и меня возьмет в свой гарем?
— Я не знаю… Но могу спросить.
— Да ладно, Завьялова, не надо. Это шутка. Короче, поезжай, и точка. Все после школы сваливают. Лопатин тоже. И Демидов. И Тихонова.
— Зачем?
— А что здесь делать? Особенно тебе. У нас тут даже консерватории нет. Хочешь работать учительницей в детской музыкальной школе за три копейки?
— Я не знаю. Я об этом не думала.
— Что ж ты ничего не знаешь? Тебе надо делать карьеру. Чего-то добиться. Стать человеком.
— Стать человеком? — испугалась Надя. — То есть я им еще не стала?
— Вот станешь, когда будешь собирать полные залы в Лондоне.
Юлия Валентиновна тоже советовала Наде ехать.
В последние несколько месяцев Надя уже не брала у нее уроки. Во-первых, не было времени. Во-вторых, не было смысла. Надя не понимала, зачем играть в школьном классе музыки, на неудобной «изюмной» табуретке, если можно делать это дома, в своей родной комнате. Без посторонних. Присутствие Юлии Валентиновны Надя считала абсолютно бесполезным. И даже обременительным. После конкурса Чайковского Юлия Валентиновна практически перестала делать Наде замечания. В основном только нахваливала. Прерывала Надину игру, чтобы сделать очередной комплимент. И Наде приходилось каждый раз ей что-то отвечать.
Но все же она была первой и единственной Надиной учительницей музыки. И не спросить ее мнения Надя не могла.
— Конечно, Завьялова, ты еще сомневаешься? — сказала Юлия Валентиновна, от удивления распустив свой неровно накрашенный морковный рот. — Обязательно поезжай. А мы в школе повесим огромный плакат, чтобы все видели, какие выдающиеся у нас ученики. И на школьном сайте вывесим новость. Поезжай.
— Вы думаете?
— А тут и думать нечего. Будешь потом выступать с Лондонским симфоническим оркестром. Знаешь, как твоя бабушка — царствие ей небесное — была бы рада? И горда тобой.
Наде очень хотелось, чтобы бабушка была рада. Пусть даже она не здесь, не рядом, а в «небесном царствии». Возможно, она и оттуда видит все, что происходит с Надей. И ждет, что Надя наконец станет человеком. Потому что, видимо, до сих пор Надя им все-таки не стала, а только лишь начала процесс очеловечивания.
Но, как выяснилось, очеловечиться, давая концерты в доме престарелых, невозможно. Надя не знала почему, но раз все вокруг так считали, значит, так оно и было.
— А если я перестану приходить? — спросила Надя в следующий вторник у Маргариты Владимировны.
— Перестанете, Наденька? Почему?
— Возможно, мне придется уехать. Мой друг договорился с Лондонской консерваторией, и меня туда готовы принять. То есть договорился не друг, а… человек, с которым я встречаюсь.
Надя хотела добавить, что у этого человека на щеке родинка, как у Виталия Щукина. Но потом решила, что не стоит, потому что родинка тут в общем-то ни при чем.
Маргарита Владимировна опустила голову и вытащила маленькую шерстинку из пледа, лежащего на ее парализованных ногах.
— Ну что ж, Наденька… Вам сам бог велел поступать в консерваторию. Поезжайте, конечно.
— Но мне будет очень жаль, если я перестану сюда приходить.
— Мне тоже будет очень жаль. И всем остальным. Мы так привыкли уже к вашим концертам. Для нас это каждый раз такая светлая, невыразимая радость… Даже не знаю, как мы переживем ваше отсутствие.
— То есть, возможно, вы умрете? — испуганно воскликнула Надя.
— Да нет, Наденька, ну что вы, не переживайте. Просто нам будет вас очень не хватать. Но вы обязательно поезжайте, не упускайте такую возможность.
Надя поняла одно. Если она не поедет в Англию, этого не переживет Рома Павловский. А если поедет — этого не переживут обитатели дома престарелых, в частности Маргарита Владимировна. Но в пользу Англии работает еще один, дополнительный аргумент: Надино очеловечивание. И значит, логичнее все-таки поехать.
— Я согласна, — сказала Надя Роме Павловскому на большой перемене. Между химией и алгеброй. — Согласна поехать с тобой в Англию.
Рома Павловский на три секунды замер, а потом негромко переспросил — прозрачным виолончельным голосом:
— Ты это серьезно?
— Да, я это серьезно. Я подумала, что мне нужно чего-то добиться. Стать человеком. Бабушка была бы этому рада.
И тогда Рома Павловский с силой прижал Надю к себе. С очень большой силой. В Надиной голове включился даже не сломанный телевизор и даже не дрель. А сварочный аппарат. И во все стороны полетели сверкающие золотистые искры.
— Конечно, была бы рада. А я-то как рад, ты даже себе представить не можешь!
— Да, наверное, не могу, — прошептала Надя, вжимая горящую голову в плечи.
К счастью, Рома Павловский немного ослабил объятия. И огненные сварочные брызги начали потихоньку таять в головной темноте.
— Ты не пожалеешь, обещаю. Я сделаю все, чтобы тебе там было хорошо.
С того дня началась подготовка к поездке. Впрочем, Надю она не слишком затронула, поскольку ею занимался Рома Павловский. Наде только пришлось найти в ящике и передать Роме некоторые свои документы. А еще сфотографироваться два раза в фотоагентстве: на загранпаспорт и на визу.
По субботам и иногда по средам Надя бывала у Ромы в гостях. По средам Роминых восторженных родителей не было дома. По крайней мере днем. И Надя занималась с Ромой Павловским сексом. Смотрела в потолок или в сторону и вспоминала мертвых пианистов. А в субботу родители были почти всегда. Кормили Надю покупными пирогами или пиццей и восторженными голосами говорили о будущем. Об английском будущем их семьи, об их личном будущем, в котором Надя тоже теперь присутствовала. И потому сидела с ними за одним столом. От этой мысли становилось очень неловко. Неуютно и странно. Надя чувствовала себя не к месту в совершенно чужой, инородной, среде. Словно Надину черно-белую фотографию из загранпаспорта кто-то наклеил на цветной семейный снимок Павловских. Наклеил крепко, намертво, придавил тяжелой книжкой, и вот теперь Надя вроде как тоже член семьи. Хотя на самом деле ее тут не должно быть.
И тем не менее Надя была среди них. Старательно пилила ножом кусок пиццы с артишоками. Усердно кивала каждые пятнадцать секунд, чтобы показать, что слушает. Что вовлечена в общую беседу. Пару раз даже задала заранее подготовленные вопросы на неизменную тему — Лондон. Например, однажды Надя спросила у Роминых родителей, сколько примерно в Лондоне автобусных маршрутов. Ромины родители ответить не смогли. Впрочем, Надя и так знала, что маршрутов около семисот. Заранее посмотрела в Википедии. А вопрос задала исключительно ради участия в разговоре.
— Я сдам на права и буду тебя каждый день возить до консерватории на машине, — сказал Рома, положив руку совсем рядом с Надиной тарелкой. Даже слегка задев костяшкой мизинца кусочек вяленого помидора. — И никакие автобусы тебе не понадобятся.
— Но я люблю автобусы, — удивилась Надя и отодвинула тарелку от Роминых пальцев.
— Значит, будем ездить вместе на автобусе.
— Да какой автобус, пешком можно гулять! — восторженно воскликнула крупнозубая Ромина мама. — Это же совсем рядом с вашим общежитием.
— Ну не так уж и рядом, — задумался Рома. — Километра два, наверное. А до Надиной консерватории и того больше.
— И ничего, нужно двигаться! Вы же молодые.
— Ну… каждый день проходить по четыре километра… в любую погоду. Не катит.
— Ромчик, ты же хотел спортом заняться!
— Ну… это совсем другое.
— Да разберутся ребята, — вмешался Ромин папа, расплываясь в мясистой верблюжьей улыбке. — Это уже мелочи. Главное для вас сейчас — школу хорошо закончить. Сдать нормально все эти ЕГЭ.
Это шутка
ЕГЭ сдали нормально. То есть Надя, конечно, не очень хорошо. Намного хуже, чем Рома. Но все-таки минимальные баллы для получения аттестата набрала. За счет вопросов, требующих исключительно запоминания. Единственное Надино орудие — безотказная память, напрочь лишенная синтеза, — вновь помогла выкарабкаться, как помогала на протяжении всех школьных лет.
На выпускном вечере Надя молча стояла в стороне. Неподвижно — даже не переминаясь с ноги на ногу. Смотрела в раскрытое окно школьного актового зала. В медленно наплывающий полумрак. Пахло сиренью и близким дождем. Вечер был теплым, но словно проколотым предчувствием осени. Вроде бы лето только зацвело, однако где-то глубоко внутри воздуха уже притаилось умирание.
К Наде постоянно подходила Ксюша Лебедева и подносила пластиковые стаканчики с тошнотворно сладким шипучим вином. При этом каждый раз что-то говорила заплетающимся винным голосом. Ксюшины слова лились перебродившими и газированными.
— Давай, когда ты станешь суууперизвестной, мы создадим супергруппу. Ты будешь тренькать на пианино, Лопатин на гитаре, а я… буду петь.
— Ты умеешь петь? — удивилась Надя.
— Не умею, но… ради такого случая научусь. И даже английский выучу. Правда. Чтобы наши песни понимали миллионы. Миллиааарды людей во всем мире.
— Хорошо. Это надо обдумать.
— Тут и обдумывать нечего. Чего ты не пьешь? Пей.
Надя отхлебывала каждый раз по глотку и ставила почти полный стакан на подоконник. В один ровный ряд с предыдущими.
А два дня назад Надя дала прощальный концерт в доме престарелых.
Все аплодировали не дольше, чем обычно. И не крепче, чем обычно, обнимали Надю после выступления. Вообще, первая часть послеконцертного вечера прошла по заведенному порядку. Разве что к благодарностям добавились пожелания и напутствия. Малиново-куперозная Наталья Сергеевна заявила Наде, что она чем-то похожа на ее Анечку в молодости и пожелала не забывать родителей вдалеке от дома. А Николай Игоревич пожелал не ударить в грязь лицом и, вообще, достойно представлять нашу Родину за рубежом.
После напутствий все заговорили о своем. На выцветшие от времени, уплывающие в далекое прошлое, но так и не отболевшие темы. Впрочем, боль уже давно была не острой. И даже не глухой. Она стала почти уютной, родимой. Привычно журчащим неторопливым ручьем бежала между фраз.
Но потом Галина Вениаминовна внезапно расплакалась и заявила, что они тут все умрут от тоски без Надиных концертов. А вслед за ней расплакалась и Наталья Сергеевна. Громко всхлипывала пять минут, размазывала рукавом слезы по куперозным щекам.
Маргарита Владимировна весь вечер молчала. Только под конец, перед самым Надиным уходом, тихо сказала:
— Наденька, будьте счастливы.
— Хорошо. Вы тоже будьте счастливы.
— Ну, о чем вы говорите… Мне уже счастья не будет. Самое последнее мое счастье уезжает вместе с вами.
И вот Надя лежит в своей комнате и смотрит в косые провалы темноты между мебелью. Рядом с кроватью стоит огромный блестящий чемодан (Рома принес неделю назад). Чемодан заполнен только на треть: вещей у Нади оказалось совсем немного.
Завтра в семь десять Надя проснется и поедет на вокзал, где встретится с Ромой. Вместе они отправятся на поезде в Омск, оттуда на самолете в Москву, а из Москвы — тоже на самолете — в Лондон. Ромины родители уже там, в Англии. Уже звонили Роме по скайпу.
Надя думает о своем прощальном концерте. Слушает в своей голове Маргариту Владимировну и других постояльцев. Думает, как все они медленно умрут в безучастной холодной тишине. В забвении. Среди сложенных друг на друга стульев из актового зала. И Надя будет виновата в их смерти.
Уснуть не получается долго. Надя ворочается и теребит искусанную до крови губу. Только к самому рассвету глаза медленно закрываются и тревожный, болезненно четкий сон втягивает Надю в себя.
Во сне Надя выходит на сцену Королевского фестивального зала. Сцена в точности такая же, как на видео, показанном Ромой. Только нет оркестра. Надя приближается к роялю. Слышит в тишине свои шаги и с ужасом понимает, что единственные звуки зала исходят от нее. И в ближайшие минуты все звуки так же должна мастерить она сама. Своими руками. Надя смотрит на свои пальцы, замечает заусеницу на правом мизинце и тут вспоминает, что нужно посмотреть на зрителей. Улыбнуться им, поклониться. Так положено. Надя смотрит в притихший зал и постепенно замирает, словно скованная плавной, неспешной смертью. Зрители ждут от Нади Рахманинова. Или не Рахманинова? Тишина зала схлестнула Надины мысли. И тут возникает другой страх, более объемный, чем страх тишины и собственного тела. Всплывает разбухшим утопленником — из глубины Нади на поверхность. Перед глазами все начинает рябить, терять четкие контуры. И только двадцать три зрителя на самом дальнем ряду видны очень хорошо. Они смотрят на Надю осуждающе, даже, скорее, угрожающе. Особенно тот, что с краю, — с кудрявыми смоляными волосами и родинкой на щеке. «Убийца», — словно шепчет он, не открывая рта. И сидящие рядом с ним кивают, поджав губы. «Нет, я не убийца, — испуганно шепчет в ответ Надя внутри себя. — Я просто… Мне так сказали, сказали, что я должна поехать». «Нет, ты убийца», — не соглашается кудрявый. Виталий Щукин. А рядом с ним кто? Анна Козырева и Антон Ильинский. Да, они. Так странно, обычно Надя не видит их лиц четко. Обычно Надя выделяет их из темноты памяти и воображения исключительно по опознавательным признакам. Вроде густой короткой челки или родинки. А теперь черты их лиц проявились в полной мере, и они сидят перед Надей живее всех живых. И самый живой и самый грозный — Виталий Щукин. Медленно, на дрожащих ватных ногах она продолжает путь к роялю, а тьма перед глазами сгущается. Еще чуть-чуть, и Надя полностью провалится в черноту. Соскользнет в кромешные провалы собственных глазниц. «Убийца, — все громче шепчет Виталий Щукин. — Бедные старики. Бедная моя Рита». Шепот расправляется в полнозвучный голос, и этот голос начинает наливаться криком. «Я не убийца. Я все могу исправить, — шепчет Надя в глубине себя. — Я все исправлю». Надина левая рука нащупывает клавиши, бесшумно по ним скользит. В животе стремительно раскручивается пустота, словно разъедая внутренности. «Я все исправлю», — повторяет Надя и, не убирая с клавиш левую руку, с силой захлопывает крышку рояля.
«Да ты чего? — вдруг смеется Виталий Щукин. — Это шутка. Успокойся! Слышишь? Это шутка». И вслед за Щукиным начинают смеяться остальные двадцать два пианиста.
Надя не знает, как быть. Растерянно приоткрыв рот, потирает ушибленный ноготь указательного пальца. А тем временем уже весь зал заливается буйным оглушительным смехом. Зрители грохочут, захлебываются в собственном веселье. Трясутся на бежевых стульях, будто от электричества. Некоторые роняют головы назад и ловят воздух беззвучными перекошенными ртами. Надя смущенно улыбается, а потом вдруг тоже начинает смеяться. Расслабляется, развязывается внутри себя. Словно отвечая ей, зал взрывается новым приступом хохота. Еще более заливистым. Сквозь прыснувшие слезы Надя снова смотрит на последний ряд. И тут понимает, что на нем сидят вовсе не пианисты из ее списка. А просто какие-то незнакомые люди. Возможно, чем-то на них похожие.
Да и правда: как бы могли оказаться мертвые пианисты Надиного города среди зрителей лондонского фестивального зала?
Надя просыпается сама, без будильника, в шесть пятьдесят семь. Смотрит в просветлевший потолок и продолжает улыбаться. На душе непривычно легко и спокойно. Как будто из души удалили что-то инородное и постоянно нарывающее.
Через тридцать восемь минут Надя уже на улице, рядом с такси. Дядя Олег кладет ее чемодан в багажник и совсем некрепко, еле ощутимо обнимает. Из всех объятий Надя лучше всего переносит именно такие — дядиолеговские.
— С тобой точно все будет хорошо? — спрашивает Надя.
— Да, конечно. Не переживай, я распрекрасно тут со всем справлюсь. Удачи тебе, мелкая. Как-нибудь наведаюсь в гости.
Надя садится в такси и машет на прощание. Правда, дядя Олег не видит Надиной машущей руки: он уже скрылся в подъезде.
На вокзале ее встречает Рома Павловский — как и договаривались.
— Паспорт не забыла? — спрашивает Рома, забирая скользкую чемоданную ручку из Надиных пальцев.
Нет, Надя ничего не забыла. Вдвоем они идут через здание вокзала. Здание почти пустое, сонно дышащее, умиротворенное. Лишь под самым потолком, усевшись на застывшее табло прибытий и отправлений, беспокойно хлопает крыльями голубь.
— Даже не верится, что мы наконец-то едем, — торжественно говорит Рома. — Я вчера поздно вечером звонил родителям. У них там двадцать девять градусов и палящее солнце. Весьма редкое явление для Лондона.
На платформе тоже практически пусто. Солнце — в отличие от лондонского — не палящее. Тускло и вяло мерцает сквозь пелену облаков. Словно подтаявший кусок сливочного масла.
Рома подходит к краю платформы, пытаясь высмотреть поезд. Поезда не видно, и тогда он утыкается взглядом в свой телефон. А Надя разглядывает вздутые вены рельсов, сплетающиеся и расплетающиеся провода. И жилой дом прямо за вокзалом. Две простыни, сохнущие на балконе третьего этажа. Неподвижно белеющие в полном безветрии.
— Я должна тебе кое-что сказать, — говорит Надя.
— Что? — спрашивает Рома, убирая телефон.
— Мне сегодня приснился один странный сон.
— Что за сон?
— Не важно, что за сон. То есть не важно, что в нем происходило. Важно то, что после него я вдруг поняла, что у меня нет никакой вины перед людьми, которые остались в доме престарелых.
— Конечно, нет! А раньше ты считала, что есть?
— Не знаю. Возможно. Я как будто чувствовала свою личную ответственность за их одиночество. За их покинутость.
— Какую ответственность? Что за бред?
— Но теперь я поняла, что это не так.
— Ну и хорошо.
Вдалеке, в дрожащем воздухе, возникает поезд. Надя опускает голову и принимается растирать костяшки пальцев. Внезапно замечает, что под ногтем указательного пальца левой руки расползается темно-синяя гематома в виде бабочки.
— Но это еще не все, что я хотела тебе сказать.
— Говори, я тебя слушаю.
— Я не поеду с тобой. Извини, пожалуйста.
Рома резко поворачивается к Наде. Задевает ногой и чуть не опрокидывает свой чемодан.
— Что ты сказала?
— Я сказала, что не поеду. И не полечу с тобой в Англию. Извини.
— Извини?! Хватит, Надя, перестань. Я долго терпел твои особенности. Но всему есть предел.
— Я знаю, что ты терпел мои особенности. Но тебе больше не придется их терпеть. Потому что мы расстаемся.
Поезд уже подъезжает к платформе. Рома берет Надю за руку, крепко, до боли сжимает ее пальцы.
— Наденька, пожалуйста, прекрати. Пойдем. Наш поезд прибыл. Он простоит две минуты, так что времени у нас очень мало. Я знаю, что ты волнуешься, что ты никогда не была за границей и что любые перемены для тебя болезненны. Но я уверяю тебя, что все будет хорошо.
— Я правда остаюсь. Я не могу с тобой поехать.
— Да почему не можешь? Опять из-за твоих так называемых концертов? Ты же мне только что сказала, что не чувствуешь никакой вины перед этими людьми!
— Да, не чувствую. Я остаюсь не из-за вины.
— А из-за чего тогда?
Вагонные двери скрипуче распахиваются, и полная проводница медленно спускается на платформу. С трудом выносит наружу свои лиловые варикозные вены.
— Я не знаю, из-за чего. Просто остаюсь.
Ромино лицо напряжено, даже как будто немного перекошено. А ладонь непривычно горячая и потная.
— Просто остаешься? Ты хоть знаешь, сколько я сделал для того, чтобы ты могла со мной поехать? Конечно, не знаешь! Тебя ведь все это не касается, все эти низменные бюрократические хлопоты! Ты ведь думаешь только о высоком, о музыке. И правда: зачем опускаться до всяких там суетных заморочек, если кто-то может заняться ими вместо тебя!
— Я знаю, что ты сделал очень много. Ты очень хороший. И я уверена, что у тебя все будет замечательно. Ты будешь учиться в Лондонской школе бизнеса и финансов. Будешь встречаться с какой-нибудь девушкой. Заниматься с ней сексом. И ходить в театр и кино. А я буду здесь.
— Это ты сейчас решила?
— Нет. Я решила утром. Как только проснулась. Я приехала на вокзал, чтобы с тобой попрощаться.
— С чемоданом?!
— Да, с чемоданом. Я его взяла, чтобы не пришлось объясняться рядом с такси. Просто если бы его не было, ты бы сразу начал допытываться… А мне нужно время, чтобы сформулировать то, что я хочу сказать.
Рома обмякает, резко старится лицом. Как будто еще чуть-чуть, и заплачет.
— Пойдем. Пожалуйста.
— Нет, я не пойду. Извини еще раз.
Надя вынимает руку из Роминой руки, внезапно ослабевшей. Разворачивается и быстрым шагом уходит прочь.
— Идиотка тупая! — кричит за спиной Рома. — Дебилка! Иди лечись в клинику таких же, как ты, умственно отсталых! Можешь там хоть целыми днями давать концерты! Кретинка недоразвитая!
С вокзала Надя сразу бежит в дом престарелых. Дорогу она знает. Причем прямую дорогу: не через школу и не через дом. Надя уже выучила почти весь город и теперь может спокойно передвигаться из района в район, не боясь заблудиться. Как обычный, нормальный человек.
Вот Надя уже внутри дома. Пробегает мимо сидящей у входа Инги. Мчится на второй этаж, к Маргарите Владимировне. Скорее сообщить, что осталась, что никуда не уехала из родного города.
Но у стеклянных дверей актового зала Надя резко тормозит. Рояля больше нет. И пластиковых стульев тоже. Еще три дня назад они были, а теперь нет. Надя заходит в зал и полминуты удивленно разглядывает опустевшее пространство. Сиротливое, печальное. Даже стены словно стали еще более обшарпанными. Надя машинально делает круг по непривычно пустой сцене. Медленно, как во сне. Замирает на несколько секунд, пытаясь осознать увиденное. И тут же несется обратно вниз.
— Где рояль? — спрашивает Надя у Инги. Чуть не задыхается от бега и от волнения.
— Выбросили мы ваш рояль, — равнодушно отвечает Инга, не отрываясь от телефона. — Вот только что вынесли. Скоро машина за ним должна прийти.
Надино сердце срывается в пустоту.
— Как это — выбросили?
— Ну а что? Инструмент старый. Покупателей на него нет.
— Но зачем… он же давно стоял… Зачем?
Инга вздыхает и наконец поднимает на Надю покрасневшие безучастные глаза:
— Вы же все равно вроде как в Америку уезжаете. Или куда там? Играть на нем некому. А заведующая наша, Виктория Евгеньевна, решила реорганизовать второй этаж. Увеличить столовую за счет актового зала. Ну вот. Рояль ваш мешал. Его надо было куда-то деть. А покупателей — я же говорю — нет.
— И где? Где он теперь?
— Я же говорю. Только что вынесли. Через двор пронесли, к улице. Сейчас за ним машина приедет. Вы сами-то не заметили, что ли, когда сюда шли?
— Нет, не заметила… Извините, я плохо замечаю. Извините.
Надя выбегает из дома престарелых и мчится через двор. Видит за кустами — рядом с открытыми воротами — свой рояль. Значит, еще не увезли. Значит, не все потеряно. Она ускоряется, бежит на пределе своих сил.
Но внезапно под ноги подворачивается камень и отрезает Надино тело от двора, от кустов, от заветного рояля. Навстречу летит земля, накрывает резкой болью, темной промозглой сыростью. На секунду Надю затягивает в черноту — затем снова отпускает. Кто-то осторожно тянет за локоть, помогает подняться. Надя встает, отряхивает колени и видит перед собой Виталия Щукина.
— Я знал, что ты никуда от нас не уедешь, — с улыбкой говорит он. — Не переживай, твой рояль никто не увезет. Пойдем.
И Виталий Щукин берет онемевшую Надю за руку и медленно, очень спокойно подводит к роялю. Придвигает непонятно откуда взявшийся пластиковый стул. Впрочем, возможно, стулья из актового тоже стоят где-то неподалеку и ждут мусорного грузовика? Надя настолько поражена, что даже не в состоянии оглянуться. Мысли запутываются, стягиваются плотными узлами.
— Сыграй Шопена. Рите всегда нравился Шопен.
Надя машинально садится и опускает руки в четвертую, ми-минорную прелюдию. Проваливается все глубже в свои спутанные мысли. Никак не может найти хоть какого-нибудь объяснения происходящему. И аккорды нисходят вслед за Надей, сползают все ниже и ниже. Диссонансы сменяются, выкрашиваются разными цветами, но так и не обретают тонического завершения. Не находят покоя, остаются в неразрешенности.
И тогда Надя пытается подняться из мысленных узлов. Перетекает пальцами в шестую прелюдию. Си-минорную. Устремляется всеми ощущениями вверх, прорываясь сквозь привычную логику. Туда, где разумно и последовательно выстроенные мысли вообще теряют свою силу. Но Надины ощущения тормозятся, упираются в невидимую верхнюю границу. И взлетающая мелодия тормозится следом. Не может сломить сопротивления фактуры.
В отчаянии Надя бросается в двенадцатый, «Революционный», этюд. Мчится без оглядки, без направления. Просто бежит по клавишам. Подальше от себя, от непонятности происходящего.
Краем глаза Надя замечает подъехавший грузовик. Из грузовика выходит коренастый мужчина и возмущенно кричит, размахивая руками. Его сразу же уводит в сторону Виталий Щукин. Утихомиривает, добродушно улыбается. Говорит ему что-то на ухо. И через две минуты мужчина садится обратно в свой грузовик и уезжает.
И тут Надя решает просто принять все как есть. Не мучиться, не искать объяснений. В конце концов не у всего в мире есть логическое объяснение. И Надя медленно успокаивается в ноктюрнах.
На звуки успокоения тут же приходят слушатели. Двор дома престарелых наполняется постояльцами. И не только постояльцами. Надя видит, как по асфальтовой дорожке в ее сторону бодро вышагивает Юрий Захаров — самый первый из списка мертвых пианистов. За ним крошечными шажками движутся Галина Вениаминовна и Наталья Сергеевна. Затем идет не так давно умершая Анна Козырева. Поддерживает под руку Николая Игоревича. Надя улыбается и кивает пришедшим. А Виталий Щукин расставляет пластиковые стулья — прямо во дворе, рядом с воротами.
Вот за кустами показывается немного асимметричное лицо Антона Ильинского. Рядом с ним — чья-то щербатая улыбка и густая короткая челка. Это Полина Наумова. Зрители подходят, улыбаются и плавно, степенно рассаживаются. Места заполняются очень скоро, но Виталий Щукин откуда-то приносит все новые и новые стулья.
Звуки первого ноктюрна из девятого опуса льются как будто сами по себе. Без помощи Надиных рук. Наде кажется, что если она сейчас замрет, музыка не остановится. Но Надя не замирает. Не хочет замирать.
Перетекая из пассажа в пассаж, она плавно поворачивает голову. Там, вдалеке, у дверей дома престарелых, появляется Маргарита Владимировна. Без инвалидной коляски и без пледа. Выходит на своих ногах и уверенно приближается к роялю.
Внутри Нади все переворачивается. Еще три дня назад Маргарита Владимировна была парализована. За три дня нельзя полностью вернуть себе движение. Это невозможно. Тем более в таком возрасте.
В каком возрасте?..
Надя вглядывается в приближающееся лицо и вдруг понимает, что это лицо совсем юное. Глаза у Маргариты Владимировны снова бархатистые, смеющиеся, очень живые. Медовые. Волосы распустились, налились цветом.
Маргарита Владимировна теперь младше Нади. Теперь она школьница, ученица девятого класса «Б».
От изумления Надя вздрагивает и подносит руки к своему пылающему лицу. Чуть не принимается хлопать себя по щекам, как когда-то в детстве. Но тут же вспоминает, что решила принимать все как данность. И успокаивается окончательно.
Эпилог
Рояль так и оставили во дворе рядом с воротами. Обратно заносить не стали, потому что заведующая домом престарелых Виктория Евгеньевна решила объединить актовый зал и столовую, и для рояля места не было. А мусоровоз больше не приезжал.
Надя давала концерты под открытым небом. Правда, по мере приближения осени и учащения дождей слушателей становилось все меньше. Когда пришли первые заморозки, она играла уже в одиночестве.
В один из октябрьских вечеров Надя настолько заигралась, что не заметила ледяного ветра и отсутствия на себе верхней одежды. А саму Надю, видимо, не заметил ни один из прохожих, идущих мимо дома престарелых. Только к двум часам ночи дежурившая Инга вышла во двор и попросила Надю уйти. Потому что ее игра была слышна в некоторых комнатах и мешала постояльцам спать.
Неделю спустя Надю госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Она пролежала в реанимации три дня. А потом очутилась в своем любимом списке.
Похоронили Надю на городском кладбище, на четвертой аллее — между часовней и кленом. Могилу, которая была на этом месте до Нади, месяцем ранее официально признали заброшенной.
На Надиных похоронах людей было немного. Старики из дома престарелых не могли передвигаться на такие большие расстояния. А почти все одноклассники разъехались сразу после вручения аттестатов. Из школьных приятелей пришли только Аня Ищенко и несколько бывших учеников из параллельных классов. Из учителей — Юлия Валентиновна и Светлана Яковлевна.
Надин папа на похороны не явился. Но не потому, что не захотел, а потому что дядя Олег не сообщил ему о смерти дочери. А не сообщил дядя Олег просто потому, что давно потерял все его контакты.
Зато из Голландии приехала мама с полугодовалым сыном. Долго стояла у Надиной могилы и громко всхлипывала. Затем аккуратно положила рядом с надгробием восемь голландских тюльпанов.
Заодно мама посетила и бабушкину могилу. И наконец-то решила вопрос наследства. Квартиру, оставшуюся от бабушки, решено было продать. Половина вырученных средств доставалась маме. А на вторую половину дядя Олег должен был подыскать себе новое жилье — менее просторное. Впрочем, дядю Олега это не сильно огорчало. Ему хватало одной-единственной комнаты.
Рома Павловский был успешно зачислен в Лондонскую школу бизнеса и финансов. О Надиной смерти он узнал только в начале ноября — от Ксюши Лебедевой (которая, в свою очередь, узнала от Ани Ищенко). Первый месяц Рома сильно переживал и даже собирался вернуться в родной город. Провести день на Надиной могиле. Пройтись по родным местам — тем самым, в которых он бывал вместе с Надей. Но родители уговорили его не пропускать занятия, не прерывать учебу в самом начале. И вообще оставить в прошлом и Надю, и родной город.
А жилой комплекс рядом со второй поликлиникой уже достроили. Правда, добрые, улыбчивые жильцы с голубоглазыми детишками в него пока не заселились.


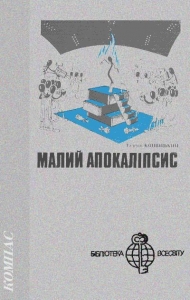




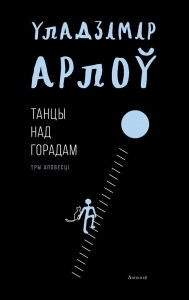





Комментарии к книге «Мертвые пианисты», Екатерина Алексеевна Ру
Всего 0 комментариев