Леонид ГАРТУНГ БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ… повести
БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ… Повесть
1
Когда Федю Кораблева спрашивали, где он живет, он отвечал:
— За переездом.
И было понятно, что мальчишка имеет в виду Сосновый переезд.
Что такое переезд? Рельсы, деревянный настил, полосатый шлагбаум. Около самого пути — белая будка с балкончиком. На балкончик выходила полная женщина в форменной фуражке и белой кофточке и подымала навернутый на палочку желтый флажок. Так она провожала каждый проходящий поезд.
Существовали, конечно, и другие переезды, но Федя там не бывал. Знал только свой — Сосновый. Так назывался он, может быть, потому, что к этому переезду почти вплотную подходил сосновый лес, а может быть, потому, что когда-то им заканчивалась Сосновая улица. А потом десятка два домов шагнули за переезд, в открытое поле. В одном из этих домов и жил Федя Кораблев. Перед окнами шло асфальтированное шоссе и нитка железной дороги. А дальше — небо и горизонт…
В их доме находились две квартиры, во дворе — два цветника, дальше — сарайчик для дров, в котором было две двери. Все это оттого, что здесь проживали две семьи: Перелясовы и Кораблевы. Кораблевых трое: мать — Лидия Борисовна, ее дочь Тая и сын Федя.
Лидия Борисовна работает ремонтницей. Встает она в пять: готовит на весь день для Таисьи и Феди. В семь она уходит на станцию. Оттуда ее везут на рабочем поезде к месту работы — иногда это близко, иногда далеко. Обед им привозят. На месте она надевает оранжевый жилет и в нем работает. Возвращается вечером.
Мать уже немолодая — так говорит она сама. До пенсии ей еще далеко, но выглядит она, и правда, старше своих лет. С работы возвращается усталая… Иногда рассказывает, что произошло «на дороге». Какая-то Валя работает как попало: забралась в кусты и дала храпака… Она дрыхнет, а за нее работай… А Мария Панкратовна, которую Федя никогда не видел, придавила палец — ноготь, должно быть, слезет; а Любка плохо щебенку подбивает, после нее приходится переделывать… А вчера на дороге кто-то разбил три контейнера. Милиция прибыла, но уже поздно… Осталось только две раздавленные коробки у асфальтированного шоссе. Коробки из-под женских зимних сапог. Те, кто разбил, ждать не будут, похитили добро и поминай как звали…
Таиска учится в университете, на физмате. Федя пробовал заглянуть в одну ее книжку и не понял ни строчки. Премудрость — выше ума человеческого. А Таиске это все — по колено. Значит, она ужасно умная.
Таиска сама себя недооценивает:
— Я обыкновенная, просто мне дается легко.
У Таискиного зеркала, что стоит на тумбочке, недавно появились всякие девичьи причиндалы: духи, кремы, шпильки. Федя удивился:
— А зачем тебе — ты и без того красивая.
— Скажешь тоже!
А сама, конечно, знает, что это так.
Федя рано понял, как плохо иметь красивую сестру. Где бы она ни появилась с братом, все на Таиску пялят глаза, как на какое-нибудь чудо. Да, она красивая. А он — «так себе». Ему тоже хотелось бы выглядеть несколько попривлекательнее, но тут уж ничего не поделаешь. Впрочем, он и не собирается никому нравиться.
Для Лидии Борисовны Тая — свет в окне, не то, что Федя. Тот учится «в полосочку»: иногда пять, четыре, три, изредка даже два. То сочинение сдал не вовремя, то задерется кто-нибудь — ну как не дать сдачи? Последнее время Федя чувствовал, что мать не спокойна за Таю. Чуть припоздает та из университета — Лидия Борисовна по нескольку раз выходит во двор встречать. А что, спрашивается, с ней может случиться? Маленькая она, что ли? Так Федя мать и спросил. Лидия Борисовна ответила:
— В том-то и дело, что не маленькая.
Со своими соседями Кораблевы с некоторых пор «на ножах». Впрочем, это только так говорится. До ножей, само собой, дело не доходит… Началось это давно. Почему? Во-первых, когда умерла старушка-соседка, Перелясовы мечтали занять весь дом, но из этого ничего не вышло. Напрасно старик Перелясов грозил, что будет жаловаться. ЖЭК вселил Кораблевых — и все.
Вторая причина — в ночь под первое сентября прошлого года кто-то забрался в перелясовский цветник и ополовинил их лилии. Кто-то… А подумали на Федю. Перелясов даже участкового милиционера, Черныша, вызвал. Лидия Борисовна, которая обычно соседям все прощала, на этот раз возмутилась: «Ну, это уж слишком!»
Черныш, правда, отнесся к делу без энтузиазма: составил акт, измерил складным метром следы на земле и на этом поставил точку. Но все же обидно…
И, вообще, не понятно, почему Перелясовы не купят себе отдельный дом? Эльма Самойловна, жена Перелясова, говорит, что нет денег, но вряд ли это так. И она, и ее муж Модест Антипович просто прибедняются. Оба — пенсионеры, но денежки у них, как видно, водятся. Они не в пример богаче Кораблевых: телефон у них, цветной телевизор, водопровод на кухне, верандочка, качалка, ковер и многое другое.
Лучше всего, конечно, телевизор. Без него какая жизнь… Правда, Федя нашел выход: взбирается на третью перекладину той лестницы, которая ведет на чердак, и заглядывает в перелясовское окно. Поверх занавески отлично виден экран. Иногда мешает затылок Модеста Антиповича. Но, к счастью, когда дело доходит до футбола, Модест Антипович уже дремлет, склоняет голову ниже и ниже, и тогда видно все до мельчайших подробностей. Спрашивается — зачем ему телевизор?
Федина мама сердится, усовещает сына:
— Где ты был? Опять у чужого окна? Охота унижаться? — Свои нравоучения она обычно заканчивает поговоркой: — На чужой каравай рот не разевай.
Что ж, это вполне резонно, но недолго осталось Перелясовым гордиться телевизором. Скоро у Кораблевых будет свой.
Мама об этом ничего не знает. Федя и Таиска втайне от нее копят деньги. Накоплено только 282 рубля. Но это неважно. Решено — значит, будет, хоть через год, но обязательно.
Откуда у них деньги? Очень просто: Таиска что-то берет считать на Моторном заводе, а Федя подрабатывает на железной дороге. На лето составилась студенческая бригада. Туда приняли Леньку Бублика, а тот потащил за собой Федю. Бублик сам на волоске, но все же позаботился о друге. Состоялся разговор со студентами, в котором Бублик превозносил достоинства Феди:
— Вы знаете, какой он жилистый!
— Не похоже…
— Это на вид он мелкий, а так почти взрослый. В каждом классе по два года сидел.
Все это, конечно, выдумки. Ни в одном классе Федя не сидел… Но на этот раз он не мешал врать Леньке — сопел и помалкивал. Студенты тоже, видимо, понимали, что Ленька преувеличивает, но не подавали вида.
— Пусть ходит. Посмотрим.
И Федя старался изо всех сил.
А вообще-то хорошо: ночь, пустынные улицы, желтые, зеленые и красные огни товарной станции. Легче всего было разгружать вагоны из Средней Азии — студенты где-то достали желоб, и по нему сами катились арбузы. Иногда какой-нибудь неудачник выскакивал на асфальт, разбивался. И тогда он становился сладкой добычей ребят.
…Есть у соседей и овчар Нерон. На ночь Перелясовы открывают калитку в цветник, чтобы Нерон до утра караулил их лилии. А днем он больше в конуре. Конура у него отличная. Просторная, сухая, с застекленным окошечком и пенопластовым ковриком. Только электричества не хватает. Конура — что твоя квартира. Сам бы жил. Сомнительно только одно — как правильно называть собаку. По этому поводу получился спор у Феди с Таиской: она утверждала — надо «овчарка», а Федя говорит — «овчар», так как Нерон мужчина. По замыслу Перелясовых, Нерон должен бы стать диким и злым, но Федя давно уже его закадычный друг.
Подружиться с Нероном не так-то просто. Федя, чтобы приручить собаку, вылавливал из своего супа куски мяса. Один раз сестра застала его за этим делом. Пришлось сочинить, что мясо нужно для рыбалки. На него, будто бы, карась здорово клюет. Таиска поверила — она в рыболовецких делах ни в зуб ногой. А вообще-то Федя врать избегает. Он убедился, что говорить неправду хлопотно. Соврешь, а потом в голове держи, что соврал и кому. И действовать соответственно. Так, например, после того разговора о карасях, хотя и не очень-то хотелось, пришлось топать с удочками на озеро. А это километров шесть только туда. В общем, Федя не раз убеждался, что гораздо проще говорить правду: сказал — и ходи себе гоголем, ни о чем не думай.
И что за обидная кличка «Нерон»? И зачем он только откликается? Федя на его месте и ухом бы не повел. В учебнике про Нерона ни слова. Пришлось обратиться к школьному историку. Перемена была маленькая — сильно не разговоришься. Но то, что узнал Федя, очень очернило личность этого римского императора. Слово «садист» Федя нашел в словаре, но оказалось, что он его почти знал. Кроме того, историк сказал о Нероне: «…прославился своей жестокостью…» Одного этого уже достаточно было бы. Столько веков прошло, а люди все помнят, какой он был свирепый.
В общем, Федя решил твердо овчара переименовать и назвать Джульбарсом. Благородное и знаменитое имя. Не то что Нерон какой-то…
Из-за этого Федя с Модестом Антиповичем еще раз поссорились. То есть, не поссорились, но добавили к тому, что было. Вышел Перелясов на свою верандочку с пластмассовой плошкой в руках и ну звать:
— Нерон! Нерон!
А Федя потихоньку:
— Джульбарс! Джульбарс!
Вот тут Джульбарс и заметался: не знает, как поступить — и хозяину нельзя не подчиниться, и к мальчишке большая симпатия.
Перелясов продолжает свое уже с угрозой в голосе:
— Нерон! Ко мне! — И по коленке призывно шлеп-шлеп.
Федя тоже зовет пса:
— Джульбарс! Сюда! — И показывает ему конфету в красной бумажке.
В общем, у них на то пошло: кто кого.
Кончилось тем, что овчар махнул хозяину хвостом, улыбнулся виновато — и к кораблевскому заборчику. Такого позора Перелясов снести не мог, нахмурился — и в дом. Даже плошку собачью швырнул прочь. А Джульбарс Федину конфету вместе с бумажкой вмиг схрумкал и еще просит.
После этого Перелясов совсем перестал здороваться с Федей (раньше все же сквозь зубы), а заодно — с Лидией Борисовной и Таиской. (А они-то, спрашивается, причем?) До этого случая Кораблевы называли соседей уважительно «Модест Антипович» и «Эльма Самойловна». (Имя «Эльма» Феде сначала не понравилось: звучит, как ненастоящее, смахивает на название какой-то зубной пасты. А потом привык — ничего). А тут стали называть соседей с насмешкой: «Перепляс» и «Переплясиха» — будто они кого-то переплясали. Прозвище, вроде, веселое, но какие там пляски — оба люди солидные и серьезные. Она до пенсии работала страхагентом, а он — главным бухгалтером на мясокомбинате. Теперь стали: она — старушкой, он — старичком, «божьим одуванчиком». Впрочем, на счет одуванчика Федя ошибся. Верно Лидия Борисовна как-то сказала: «Чтобы человека узнать, надо с ним пуд соли съесть». Но об этом потом…
Мирно ли Перелясовы жили? (Об этом позже участковый Черныш спрашивал Федю.) А кто их знает? За стеной ничего толком не слышно. Да он и не прислушивался. Но все же раза два Федя был свидетелем: Эльма Самойловна выходила на верандочку и потихоньку плакала. Тогда еще Федя спросил ее:
— Вам воды принести?
Она не захотела.
— Нет, спасибо… Это не поможет.
Другой раз было то же самое, но Федя спрашивать ничего не стал. Только с Таиской поделился:
— Переплясиха-то опять…
На этом все и кончилось.
Цветы Эльма Самойловна носит продавать в бельевой корзине. Носит на кладбище, которое совсем недалеко. В этих случаях она надевает темные очки, берет с собой складной стульчик и зонтик.
Особенно много цветов у нее покупают в «родительский день» и на Троицу.
А Модест Антипович ничего не делает. Днем его вообще не видно, а когда солнце переходит на другую сторону дома, он выползает на верандочку в тюбетейке, с газеткой и — плюх в качалку… Должно быть, он любит посидеть и послушать, как шумят сосны. Даже когда нет ветра, они поют свои песни. Всегда их слышно над домом. Вернее, над крышей. Над Кораблевыми их три, а над Перелясовыми четыре. Это, конечно, несправедливость. Их трое, и Кораблевых трое. Впрочем, сколько Перелясовых — трудно сказать. Живут они вдвоем. А как считать Аркадия, который сейчас служит на флоте? Впрочем, говорят, уже отслужил, но домой не торопится. И вернется домой или нет — неизвестно.
Федя хорошо его помнит. Аркадий Бугримов. Мать звала его Арик, а улица — Белый. Он и правда белый. А в общем-то, парень что надо! Каждое утро обливался в садике холодной водой из шланга, а зимой до пояса обтирался снегом. (Феде тоже хотелось бы так же не бояться холода и играть мускулами.) Здесь же, около верандочки, он занимался тяжелой атлетикой — поднимал и швырял штангу. И проигрыватель у него был — «Аккорд» с двумя колонками. Летом он вешал их на столбики верандочки. Проигрыватель пел песни. А теперь тихо.
Известно, что у Перелясовых есть еще дочь Фиска, она живет с мужем в Н. Фиска как-то приезжала к старикам, переночевала и уехала. Федя видел ее только мельком. Арик — сын Эльмы Самойловны, а Фиска — дочь Модеста Антиповича.
Лидия Борисовна на своей половине тоже разводит цветы, но до Перелясовых ей далеко. Прежде всего, у нее нет воды, Перелясовы протянули из кухонного окна шланг и лей — не хочу. Прежде они и Кораблевым уделяли, но теперь перестали. (Вернее, Кораблевы сами не обращаются.) К тому же, Лидия Борисовна занимается цветами от случая к случаю, а чтобы что-нибудь получалось, нужно постоянное внимание. Это хоть к чему относится… Но главное — силы. Мать придет с работы «без рук, без ног», не до садика… А Таиска и Федя плохие помощники. Таиске бы за своими книжками сидеть, а Феде с друзьями бегать.
Года три назад у Аркадия и Таиски кое-что намечалось. Феде запомнился один вечер: Белый пришел в кораблевский садик, и они с Таиской все говорили и говорили, словно решили обсудить все на свете. Все уже спать легли, даже Джульбарс залез в свою конуру, а они все не могли расстаться.
Потом они с Таиской готовились в университет. Весь дощатый стол в садике был завален раскрытыми учебниками таблицами и справочниками. Но Аркадий не сдал, а Таиска поступила на физмат. Аркадий пошел служить в армию.
Федя помнил также, как Белый уезжал. Правда, сам Федя на вокзале не был, но при том присутствовал Ленька Бублик. Он в этот день вместо своей матери, Маргариты Михайловны, подметал перрон.
— Плакала? — спросил Федя его про сестру.
— Хохотала.
Федя не поверил:
— Загибаешь!
— И он тоже хохотал. А потом она поцеловала его прямо при всех.
— Врешь!
— Сам видел. Вагон уже тронулся. Она вдруг вскочила на подножку и чмок его прямо в щеку.
— А он?
— Тоже хотел, но не успел…
То, что рассказывал друг, поразило Федю. Впрочем, сестра держалась так, как будто ничего не случилось.
Белый уехал, как в воду канул. И вдруг из Владивостока — письмо с фотографией. На ней двое моряков: Белый и еще кто-то. Белый сам на себя не похож: красивый, взрослый — как будто не месяц прошел, а несколько лет. Того, второго, Таиска сразу отрезала, а Белого повесила над своей кроватью. Вот так Аркадий поселился у Кораблевых.
2
От железной дороги их дом стоит близко. Ясно слышно, как мимо дома проходят поезда. Кораблевы по их шуму научились определять время. Им и часов не надо — на стене часы давно остановились, никто не подымает их гири. Можно бы отнести их в комиссионный магазин, но мама говорит, что это единственная вещь из «того дома». Теперь там Черныш со своей женой и многочисленными ребятишками. Черныш — участковый вместо отца Феди. Отец умер, когда мальчишка был совсем маленький. Феде идет пенсия, как «потерявшему кормильца».
Чтобы участкового легче было найти, около дома Черныша по ночам горит фонарь. Во всем другом этот дом ничем не отличается от остальных.
Каждый раз, проходя мимо него, Федя несколько замедляет шаг. Вечерами, когда внутренность домика освещена, он видит на потолке большой зеленый абажур. И тогда кое-что вспоминается. Однажды он спросил:
— Когда мы уезжали, ты оставила наш абажур?
— Не помню, — ответила мама.
— Зеленый?
— Да…
Федя так и думал: вещи все увезли, а абажур остался висеть.
На поезда обращали внимание главным образом взрослые. Мальчишки чаще определяли время по солнцу. Зимой рано темнеет, зато летом ребята бегают допоздна. «Бегают» — это матери так говорят, глупо было бы все время просто бегать. Нет, мальчишки не бегают, а играют в футбол. Здесь у них все, как полагается. Впрочем, если уж на честность, то футбольный мяч у них ненастоящий — это девчачий резиновый мяч, клеенный и переклеенный. Он принадлежит Леньке Бублику.
А когда надоедает футбол, мальчишки начинают играть в прятушки. Это продолжается до темноты. Тогда интереснее всего: можно пройти совсем рядом и никого не заметить, а если ты сам спрятался, то легче незаметно выскочить и «застучаться». А еще лучше с кем-нибудь переодеться, чтобы тот, кто «голит», неправильно назвал имя, тогда можно выскочить из засады и, подпрыгивая от радости, выкрикивать: «Обознался! Обознался!» — и снова спрятаться.
Обычно прятушки кончаются тем, что Ленькина мать кричит в форточку:
— Лапушка!
Ребята подначивают Леньку:
— Лапушка, тебя!
Ленька делает вид, что зов матери его не касается. Через некоторое время она опять зовет:
— Лелик! Домой!
Никто, кроме матери, его «Лапушкой» и «Леликом» не зовет. Впрочем, и настоящее его имя никто не употребляет. Он — Леопольд, но это слишком мудреное имя.
— Домой!
Ленька и на этот раз притворяется, что не слышит, и наконец из форточки раздается угрожающее:
— Ленька, черт! Сколько раз можно говорить?! Выйду — башку оторву…
Только после этого Ленька «сдается», вылазит из своего укромного местечка и, буркнув сердито: «Чур, не играю», плетется домой.
После ухода Леньки появляется предлог прекратить «прятушки». Но никто еще не решается сказать: «Айда домой». Потом случается происшествие с одним из самых маленьких. Ищет его сначала тот, кто «голит», потом все… Оказалось, он пригрелся в каком-то закутке и уснул. После этого уходят домой еще несколько ребят. Остаются на улице только самые безнадзорные. Они садятся поплотнее на крыльце сарая и рассказывают друг другу разные случаи. Один страшней другого. Кое-что они слышали, кое-что читали, остальное — выдумали.
Когда Федя возвращается домой, все уже спят. Не зажигая света, он нащупывает на столе оставленные для него кружку молока и кусок хлеба.
Все лето Федя спит в сенях. Он укладывается на раскладушку, но спать не хочется. Приходят мысли о Бублике. Ленька собирается стать главным следователем. Обязательно главным, на меньшее он не согласен. Мистер Холмс, отец Браун и мосье Мегрэ для него добрые друзья. О них он знает все.
У Леньки есть странности, и довольно заметные. Первая странность: почерк у него округлый и разборчивый, как у девчонки. И тетради он ведет по всем предметам, даже по зоологии, раскрашивая рисунки в них цветными карандашами.
Вторая странность: играет в футбол без азарта. Пояснил, что просто развивает сердце и легкие. И еще быстроту реакции. По правде сказать, не очень понятно: как это играть без азарта? На то и игра, чтоб хотелось выиграть. Однако Бублик играет, и неплохо.
Благодаря Леньке Федя познакомился с Игорем Григошиным. Был у Кораблевых телевизор. Еще от отца остался: громоздкий ящик с маленьким экраном. Телевизор не действовал и потому стоял в сенях. Федя пробовал его починить. Он ничего не понимал, но придерживался принципа: отвинтил — туда же привинти. Пыли было много. Федя ее убрал, но видно не в ней заключалась основная загвоздка. На помощь явился Ленька с преогромной отверткой. Федя встретил его ехидным вопросом:
— А колун не захватил?
Ленька сперва не понял:
— Зачем колун?
А когда понял, обиделся:
— Сам ты колун!
Таиски не было дома, и Федя с Ленькой разложили детали телевизора по всему полу. Никто не мешал. В общем, Ленька доконал телевизор, раньше хоть звук был, а теперь и приемник замолчал.
Друзья вынесли его в сени и прикрыли мешком из-под картофеля. А через несколько дней Ленька сообщил другу:
— Игорь приехал! Чуешь?
— Что за Игорь?
— Был на военном корабле радистом… Мастер, одним словом. Для него телик — раз плюнуть. Он на этом деле собаку съел.
— А что он вообще за парень?
— Игорь только что с флота. Поселился у нас. Он в маленькой комнатке, а мы в большой. Парень ладный, не пьет, не курит. Кровати у него пока нет. Но уже купил велосипед. Что еще? В наш город сманил его Белый, а сам не приехал. Помнишь Белого?
Федя ясно представил себе, как поезд стоял несколько минут на станции и, возможно, Аркадий сомневался — сойти или нет?
А потом, когда проезжал через Сосновый переезд, не мог не видеть крышу своего дома. Игорь слез, а он покатил дальше…
Игоря позвали друзья, когда Таиски дома не было. Первым делом Игорь снял пиджак и остался в тельняшке. Федя присмотрелся — личность Игоря вроде бы знакомая. Засмеялся:
— А я тебя знаю.
— Каким образом?
— Ты тот, которого Таиска отрезала.
— Не понял.
Федя рассказал, как сестра разрезала фотографию пополам.
— А где же часть, которую она оставила? — спросил Игорь.
— А вон она!
Показал фотографию Белого над Таискиной кроватью.
— Вы вместе служили?
— Было дело.
— А почему он не едет?
— Он проехал в Н. Там у него сестра. Работает на конфетной фабрике. Отчим посоветовал ему.
Федя постарался его успокоить:
— Ты не обижайся, что тебя отрезали.
— Отрезали, говоришь? — Игорь улыбнулся. — Ну, это еще не беда. Хуже, что телевизор ваш никуда не годится. Его переделывать — никакого смысла. Выгоднее купить новый.
Федя сказал солидно:
— Подумаем…
Так телевизор опять вернулся в сени.
Этот год у Феди какой-то невезучий. По алгебре хотя и перевели в восьмой класс, но с работой на осень. По этому поводу был разговор с завучем. Завуч спросила:
— Ну что мне с тобой, Кораблев, делать?
— Подгоню!
— Это я уже слышала.
Федя стал припоминать: действительно, обещал подогнать.
— Надо будет походить в школу, — посоветовала завуч.
Федя знал, что в школе будет заниматься с отстающими Лилия Леонидовна. Каждый день предстояло торчать в классе, затем дома готовить уроки… Противно!
— Я сам…
— Ну что ты один сделаешь?
— Сестра поможет.
— А она алгебру знает?
— Еще бы! На физмате учится.
— Ого!
И дальше пошло-поехало:
— Такая сестра, а ты?.. Как не стыдно?
Как будто одно от другого зависит. Сестра сама по себе, а Федя сам по себе.
Все же пришлось сказать Таиске о том, что тройку по алгебре учительница выставила условно.
Таиска сказала только:
— Ну ты даешь!
Больше ничего не было: ни нотаций, ни упреков. Стали заниматься каждый день. Федя предложил было два раза в неделю, но Таиска не стала слушать его доказательств. Ответила кратко:
— Там посмотрим!
И дело с концом.
Феде понравилось, как она объясняет, у нее получалось много понятнее, чем у Лилии Леонидовны. Только решать задавала целыми страницами. Федя пытался сопротивляться. Не тут-то было.
Сестра не спорила, но и не уступала.
3
В это время появилась Клавушка. Федя вернулся с улицы. Был поздний час. Таиска обратилась к брату:
— Сегодня ляжешь на полу. Я тебе в комнате постелила.
— Что за новости?
— На твоей раскладушке спать будет Клавушка. Она из дома ушла…
Федя не спросил, почему ушла, но обиделся:
— А я причем?
— Так надо!
Таиска смотрела на Клавушку и не верилось, что было время, когда они сидели за одной партой. Тогда у Клавушки было прозвище «Птичка-невеличка». Она и теперь осталась маленькой. Но сколько с тех пор произошло тяжелых событий. Отец и мать Клавы, научные работники, погибли в автомобильной катастрофе. После этого она пустила к себе на квартиру брата с женой. Через несколько месяцев эта жена создала Клаве такие условия, что ей пришлось уйти… Сама о себе Клавушка ничего не рассказывала, но Тая, думая, что Федя спит, сообщила матери, что прошлой зимой Клавушка выходила замуж за однокурсника, но брак этот оказался неудачным, они разошлись… Этим дело не ограничилось — в Новосибирске, где училась Клавушка, она нахватала в институте двоек и с таким «багажом» приехала в Томск. И «хвосты-то» серьезные: высшая математика и физика. Решила вообще бросить учиться.
Таиска стала ее разубеждать.
— Надо попытаться пересдать. Я тебе помогу… Главное — не унывай. Держи хвост морковкой…
Лидии Борисовне Клавушка почему-то сразу понравилась. (И правда, было в ней «что-то такое».)
— Поглянулась мне твоя подружка, — призналась она.
Таиска возразила:
— Во-первых, она не подружка. Мы только бывшие одноклассницы. К тому же, очень разные. Во-вторых, ты ее еще не знаешь…
— Может быть.
— «Не может быть», а точно… Но помочь надо — у нее все плохо. Такой период…
В общем, Клавушка поселилась у Кораблевых.
Занимались они с Таиской в садике, за дощатым круглым столом. Однажды Федя заметил, что Таиска стала покуривать. Обнаружилось это так: Лидия Борисовна нашла в помойном ведре окурок:
— Федя, это твой?
Федя с недоумением посмотрел на нее, на окурок и вздохнул. Но на этот раз он не был виноват.
Разговор о куреве был уже не первый. Первый произошел месяца два назад. Тогда мать узнала о том, что Федя курит. В школе с товарищами, за углом, в большую перемену. Но дома — никогда. Она, поймав его за рукав, потребовала:
— Ну-ка, дыхни!
Феде пришлось дыхнуть.
— Не врут люди, — вздохнула мать.
На этот вопрос Федя ничего не смог ответить. Мать не стала «пробирать» или стыдить, сказала только:
— Думаешь, у нас есть лишние деньги?
— Ничего не надо. Я бросить решил.
— Решил?
Вот тут Федю и заело. Решил бросить с четвертой четверти. Решил, но все как-то не получалось…
Теперь, не дождавшись ответа, мать продолжала укоризненно:
— Ты же обещал… Какая сейчас четверть?..
Хорошо еще, не заметила на окурке след губной помады. Ушла во двор.
Так получилось, что виноват оказался Федя, но он ни словом не проговорился. Таиска благодарно обняла и поцеловала брата. Вот этих «телячьих нежностей» Федя терпеть не мог. И вообще, они были большой редкостью, по пальцам можно было сосчитать, когда Таиска целовала брата.
— Отстань… Куришь, значит?
— Я не всерьез.
— Тем более ни к чему.
— А сам?
Феде «крыть» было нечем, замолчал. Плохой он агитатор против курения.
Фотографией Белого, что была у Таиски над кроватью, почему-то очень заинтересовалась Клавушка. Она сняла ее со стены и стала рассматривать:
— Это кто у тебя?
— Ой, не надо, отдай, — испугалась Таиска.
— Ну, чего заойкала, сейчас отдам. Кавалер?
— Да! Отдай!
Клавушка засмеялась:
— На, возьми. Подумаешь, добро!
В этой сцене вдруг проглянула какая-то другая, незнакомая Клавушка.
Один раз получилось так, что Федя целый вечер был с Клавушкой вдвоем. Как-то нечаянно разговорились. Клавушка спросила его:
— Кем ты мечтаешь стать?
Он, конечно, знал, но высказывать свою мечту, да еще девчонке, не хотел.
— Еще не думал. А ты?
— Артисткой, — отозвалась Клавушка с готовностью.
Это было удивительно: Клавушка — и вдруг артистка! Смех курам. Но Федя и вида не подал:
— А что ты можешь?
— Читать.
Он был разочарован:
— Читать и я умею.
Клавушка взяла с Таискиной книжной полки голубой томик Блока:
— Ну вот это, например. Хочешь послушать «Демона»?
Клавушка начала читать. Сначала Федя слушал довольно равнодушно, но затем неожиданно для самого себя почувствовал озноб — тот самый, какой приходил к нему на хороших фильмах. Хотелось слушать и слушать. Все исчезло, остался только голос, произносящий слова:
«…Да, я возьму тебя с собою И вознесу тебя туда, Где кажется Земля звездою, Землею кажется звезда…»И Клавушка была какая-то другая: не маленькая девчонка, в ней вдруг проглянуло что-то величественное. И Федя до тех пор не знал, что Блок — великий поэт. То есть, слышал по радио, но все это было «ненастоящее». А вот теперь было «то самое».
Клавушка захлопнула книгу и спросила:
— Ну, как?
— Здорово, — искренне сказал Федя. — Ты правильно делаешь, что не зубришь интегралы.
Клавушка зарделась от радости, но поспешила переменить тему:
— И куда это Таиска запропастилась?
От нечего делать Клавушка стала учить Федю танцевать.
— Я не умею, — упирался Федя.
— Не велика премудрость, — настаивала Клавушка. — И не красней, пожалуйста. Современный юноша должен обязательно… Ты слушай меня. Я напеваю… Ну, раз-два, раз-два… Правой ногой, теперь левой… Учись…
Неожиданно пришла Таиска, молча остановилась в дверях. Они перестали танцевать.
— Ну чего ты? — спросила Клава.
— Хороши! — покачала головой Таиска и засмеялась.
4
Белый приехал неожиданно. У Фиски в Н. ему не пожилось…
За те годы, что Федя его не видел, Аркадий стал вроде бы меньше, хотя, конечно, этого не могло быть.
И с Таиской они встретились совсем не так, как думал Федя. Белый заглянул на минуту, а она была со сна, кое-как одетая, даже непричесанная. Таиска вышла на крыльцо.
— Приехал, пропадущий? А я думала, ты… Ну, как там, в Н.?
— Отлично… Даже птичье молоко было.
— Сладкая жизнь?
— Переслащенная.
— Вот как? — словно бы удивилась Таиска.
— Ну я пойду.
— Ты насовсем?
— Не знаю пока.
Из окна было видно, как Белый перебросил через штакетник чемоданчик, перемахнул сам. Наклонился приласкать Джульбарса. Джульбарс узнал его, начал прыгать и лизать ему руки.
Потом Аркадий и Таиска встречались в беседке. Там они садились один против другого. Федя старался им не мешать. Он понимал, что они отвыкли друг от друга и им надо дать возможность снова познакомиться.
Белый рассказывал ей:
— Думали развернуться… Фиска таскала понемножку. Шоколад… А меня приспособили на склад… Хотели через меня… выйти на большие «дела». Барыги… Так я им и сказал. Разругались…
— Не жалеешь?
— Ну их к черту!
— Молодец…
— Спасибо — похвалила…
Возвращаясь со свиданий, Таиска задумывалась, а это плохой признак. О чем думать, если все хорошо? И кроме того, Феде было их почему-то жаль.
Получилось так, что Федя, сам того не желая, стал свидетелем одного их свидания. Он полол грядку, и сначала они его не заметили.
Белый: — Ты мне как будто не рада?
Таиска: — А чему радоваться? В институт ты не готовишься…
Белый: — Скоро начну. — И добавил с усмешкой: — Может быть…
Таиска: — Расхотелось?
Белый: — Почти… Поцелуй лучше.
Таиска: — Не заслужил. И вообще…
Белый: — Что «вообще»?
Таиска: — Обернись…
Он обернулся и заметил Федю.
Непонятно, зачем Белый и Таиска старались друг друга обозлить. Так, например, Таиска была шатенка, а перекрасилась в рыжий цвет. Белый ничего не сказал, но на другой день явился тоже рыжим.
Таиска сказала:
— Зря деньги потратил…
— Почему?
— Теперь ты сам на себя не похож.
— Не к лицу?
— Хуже некуда. — Помолчала. Затем добавила: — До чего ж ты поперечный.
Впрочем, она и сама была достаточно «поперечная». Несколько лет назад, когда гремела гроза и весь домик, где жили Кораблевы, дрожал от раскатов грома, Таиска и Федя были одни дома. Федя тогда испугался и еле сдерживал слезы.
— А я нисколько не боюсь, — заявила сестра.
Он не поверил:
— Хвастаешь!
— Хочешь, докажу?!
Она выбежала под ливень и, раскинув руки, стала кружиться под окном. Вся вымокла до нитки, но вернулась с хохотом:
— Нисколько не страшно… Пойдем…
И они выбежали в сад. С ней, и правда, было совсем не страшно. А один бы ни за что…
В общем, у нее характер, и у Белого характер.
Мать предполагает, что дело в характерах, но Таиска сказала:
— Если б только в этом дело… Тут другое…
Однажды Федя все, что думает о ней и о Белом, выложил сестре. Она выслушала и засмеялась:
— Во-первых, когда спрошу твоего совета, тогда ты выскажешь свое мнение. Понял?
— Почему не понять? А во-вторых?
— Не скажу, обидишься.
— Не обижусь… Даю слово…
— Обещаешь? Тогда слушай… Я считаю — рано тебе рассуждать о том, чего не понимаешь.
Федя хотел было обидеться. А потом задумался. Правильно сестра говорит. Если откровенно, он и вправду не все понимает. А понимают ли они сами?
У мамы свое мнение: у нее в сундуке лежит подвенечное платье и белая фата. Платье дожидается своего часа, только не очень-то похоже, чтоб час этот наступил.
Никак не получалось мира между Клавушкой и Белым. Что бы он ни сказал, Клавушка обязательно возражала. Так, например, он говорил простое:
— Будет дождь.
Клава тут же отзывалась:
— Откуда тебе известно?
— Туча наползает.
— Как наползет, так и уползет!
Или он спрашивал Таю:
— Ты читала в газете? — и называл статью.
Клава не упускала случая иронически спросить его:
— Ты и газеты читаешь? Все стараешься умнее стать?
И находчивый Белый почему-то не знал, что ответить.
Зато к Игорю Клавушка относилась с откровенным восхищением:
— Парень — первый сорт. Присмотрись! Как раз по тебе, — говорила она Таиске. — Вполне положительный. А Арик не из твоей оперы. Верно?
— Не знаю.
А вскоре Федя всерьез поссорился с Таиской. Он читал во дворе, как вдруг где-то близко зазвенело, запело. Федя даже вздрогнул. Думал, что Белый включил «Аккорд». Посмотрел на свое окно и тогда понял, откуда звук. На кораблевском подоконнике работал какой-то проигрыватель. Бросил книжку, вбежал в комнату, кинулся к Таиске:
— Чей такой? Клавушкин?
— Я купила.
— На какие шиши?
— Какой ты грубиян. Такой жаргон — уши вянут.
— «Уши вянут» — тоже жаргон.
— Не жаргон, а идиома.
— Какая разница?
Федю вдруг осенило, крикнул сестре:
— Покажи-ка нашу книжку.
— А ты кто? Ревизор?
— Покажи…
— На! Отцепись…
Она бросила сберегательную книжку Феде. Он поймал ее на лету. Посмотрел — снято.
Сел, задумался.
— Ну, что надулся, как мышь на крупу?..
— Причем тут мышь?
— Ну, хочешь, я его в окно выброшу. И не будет у нас никакой музыки.
— Бросай! Мне-то что?
Таиска подержала проигрыватель над головой и поставила на место.
— Ну, чего ты взъелся? Верну тебе твои копейки.
— Порядочные люди так не поступают, — сказал Федя, стараясь выглядеть спокойным.
— Знаю… Все знаю, что ты мне скажешь… И вообще — оставь меня в покое.
«Оставь в покое» означало «убирайся вон!». Что Феде оставалось делать? Он ушел в беседку и стал обдумывать, что случилось. Прощай телевизор, голубая мечта… Но из-за одного телевизора Федя так не переживал бы. Сестра потратила общие деньги, даже не поинтересовавшись его мнением. Вот что особенно обидно.
За ужином мать заметила, что между братом и сестрой пробежала черная кошка.
— Вы что? Повздорили?
— С чего ты взяла? — удивилась Таиска почти натурально.
Федя промолчал, ему не хотелось ни врать, ни рассказывать, что случилось.
О новом проигрывателе мать ничего не спросила, видно, тоже подумала, что это Клавушкин.
С некоторых пор Клавушка загрустила. И однажды сказала Таиске, отодвигая от себя учебники:
— Зря ты со мной занимаешься. Не в коня корм…
— Что ты, с ума сошла?
— Нет, почему? Неужели тебе действительно нравятся эти крючки?
— Интегралы…
— Романтика крючков? Бр-р…
— Что ты «брыкаешь»?
— Ошиблась… Не влечет меня ни к математике, ни к физике. И пересдавать не надо.
— Что ты говоришь? Устала?
— Нисколько. Говорю, что чувствую.
На этом их занятия прекратились.
После этого был случай: Аркадий и Клавушка о чем-то оживленно говорили, Федя видел их в садике за столом. Аркадий сидел спиной к мальчишке, а вот Клавушка лицом к нему, и Федя удивился, какой она может быть красивой и веселой.
5
А потом Клавушка и Таиска окончательно поссорились. Ссора вспыхнула из-за пустяка, из-за каких-то паршивых духов.
Федю давно возмущала манера Клавушки лить духи на себя прямо из горлышка пузырька. Он сказал ей:
— Вот пульверизатор…
— Не будь жмотом, — огрызнулась Клавушка.
Тут вернулась Таиска. И первый вопрос к Феде:
— Это ты мои духи трогал?
— И не думал. Не веришь — понюхай меня.
— А кто здесь похозяйничал?
— Я! — вмешалась Клавушка. Она сощурилась (так всегда делала, когда рассердится). Бросила Таиске: — Уж пожалела духи для подруги…
— Нисколько я не пожалела. Что мое — то твое…
— Это только так говорится…
— Думай, как хочешь.
— Вот я и думаю. Видно, пора уходить…
Федя не ожидал, что Клавушка так быстро уйдет. Сказано — сделано. Ей удалось найти комнатку в частном доме по ту сторону переезда. Федя помог ей перенести вещи: чемодан, зимнее пальто, огромная «боярская» шапка, сапоги на меховой подкладке. Не понравилась Феде комнатка, где предстояло жить Клавушке: узкая, оклеенная желтенькими обоями.
Таиска, когда он вернулся, спросила:
— Ну, как там?
— Жить можно, — уклончиво ответил брат.
Странно, что этим заинтересовался Белый. Он спросил Таиску:
— Ушла?
— Ушла. А тебе что?
— Спросить нельзя?
— Спрашивай сколько угодно…
6
…Все началось с того, что в дверь Кораблевых постучали. Федя уже собирался спать, Таиска, как обычно, что-то читала. И вдруг в сенную дверь: тук-тук…
Первая мысль: кто бы это мог быть? Федя тогда подумал, что это Белому взбрело в голову увидеть Таиску. Но оказалось совсем не то.
Федя вышел в сени, зажег свет:
— Кто там?
За дверью послышался незнакомый женский голос:
— Это я.
«Вот так номер», — подумал Федя, но крючок отбросил. Открыл дверь и увидел женщину, не очень молодую, но еще и не старую. Как будто немного знакомую. Она взглянула на него испуганно:
— Я ошиблась…
Федя запер дверь, погасил в сенях свет и прислушался: у Перелясовых скрипнула дверь — значит, это к ним. Но почему так поздно? Странно…
Теперь еще об одном обстоятельстве, которое в дальнейшем будет играть важную роль. Когда только Кораблевы переехали на новое место, Модест Антипович предложил им перегородить сарай пополам и прорубить еще одну дверь. То есть, разделиться. Для этого требовалось купить кое-какое количество леса и нанять рабочих. Лидия Борисовна на это не пошла. С какой стати? Перелясов попробовал ее уговорить:
— Материал и транспорт я беру на себя.
— Мне и так ладно, — засмеялась она. — Не будете же вы таскать мои дрова?
— Не буду, — согласился Перелясов.
Согласился, но сделал по-своему. Он нанял двух мастеров и привез на машине доски и столбики. Плотники поставили перегородку, пропилили новый ход и навесили вторую дверь.
Еще надо сказать о курах. У Перелясовых было восемь кур и петух. Петух — ужасный франт и задавала. А у Кораблевых всего одна курица, хроменькая Марь-Иванна. Она ночевала под крыльцом и была такая старая, что не ходила, а ковыляла и яиц не несла. Можно было, конечно, отправить ее в суп, но Лидия Борисовна не хотела:
— Какой с нее навар? Одна кожа да кости.
Может, оно так и было, но Федя подозревал совсем другое — просто матери было жалко курицу. В общем, с Марь-Иванны не было никакой пользы, так себе — приживалка.
В тот день, как всегда, Марь-Иванна прогуливалась по двору с перелясовскими курами. Потом наступил вечер, двор опустел. Кинулись искать — она как сквозь землю провалилась. Вернулась мама и сразу хватилась:
— А где наша курица? Ничего вам доверить нельзя!
Федя и Таиска искали курицу повсюду, но одно место осталось неосмотренным — сарайчик. Перелясовская половина была закрыта на замок, а после лилий и Нерона было неудобно просить ключ. И тогда Феде пришла удачная мысль: поглядеть в перелясовскую половину из своей. Сделать это было нетрудно, в дощатой перегородке вынимался сучок и получалось нечто вроде смотрового «глазка». Глянул и удивился: прямо против него находилась невысокая поленница березовых дров, а на ней что-то прикрытое зеленым брезентом. Что же такое под ним? Пригляделся — внизу из-под брезента выглядывал край розовой обувной коробки. Должно быть и выше, до самого потолка, такие же? Сколько же их? И откуда они здесь взялись?
Эти коробки так поразили Федю, что он не сразу обратил внимание на Марь-Иванну, которая спокойно гуляла с перелясовскими курами.
Маме и Таиске Федя решил пока ничего не говорить.
Ночью он спал беспокойно. Сквозь дрему слышал, как к соседям приезжала какая-то грузовая машина. Домик вздрагивал, в щели сеней проталкивались яркие лучи фар.
Только Лидия Борисовна ушла на работу, Федя помчался к Леньке. Друга своего он застал в одних трусах над цинковым тазом, тот стирал себе рубашку. Во дворе на веревке висела красная майка.
— Ты что так рано? — смутился Ленька.
— Можешь сейчас ко мне?
— Что случилось?
— Такое дело! Закачаешься!
Федя начал рассказывать про Марь-Иванну. Тут Ленька проявил нетерпение и посоветовал Феде не тянуть. Тогда Федя сразу выложил ему про розовые коробки. Ленька загорелся, хлопнул Федю по плечу:
— Тут что-то есть!
Почему Федя обратился именно к Леньке? Во-первых, потому что Ленька — друг. Во-вторых, никто так не начитан в области криминалистики. В-третьих, у него вообще голова работает. Он по алгебре в уме задачи решает. В шахматы сражается один против всего 7-го «Б». Если б захотел, был бы круглым отличником, да все некогда…
Ленька натянул сырую майку, и они побежали к Кораблевым. Первым делом Ленька захотел взглянуть на коробки своими глазами. Прокрались в сарай. Ленька приложился к отверстию, посмотрел и сказал обиженно:
— Здорово ты меня разыграл!
— Ты что, сдурел?! — возмутился Федя. Оттолкнув друга, он глянул в отверстие: никаких коробок. Видны лишь березовые поленья. И брезента тоже нет.
— Но ведь были! — воскликнул Федя.
— Куда же они делись?
Тут Федя вспомнил про машину, которая разбудила его ночью. Он рассказал об этом Леньке. Тот поднял указательный палец и произнес важно:
— Это уже кое-что!
На этом друзья расстались. (Леньке надо было позаботиться о рубашке, она так и осталась в оцинкованном тазу.) После его ухода случилось еще одно происшествие. Ярко светило солнце, пчелы с жужжанием перелетали от цветка к цветку, ветерок еле шелестел листьями малины и вдруг среди этих мирных звуков раздался крик.
Дико залаял и загремел цепью Джульбарс.
Федя сперва не узнал голоса, но потом догадался, что кричит не кто иной, как Модест Антипович. Он вопил без слов:
— А… а… а!..
— Будешь еще мухлевать? — спросил чей-то хриплый, злой голос.
— Не… не…
— Получи еще!
Послышался глухой звук удара и что-то тяжелое упало на крыльцо. Федя перемахнул через заборчик и застыл, как вкопанный. Модест Антипович лежал на крыльце лицом вниз, а какой-то мужчина деловито и быстро направлялся от него к калитке. В это время Федя увидел его лицо — полноватое, в морщинах. Только тут Федя заметил, что на улице стоит такси. Хлопнула дверца. Такси фыркнуло и исчезло.
«Надо запомнить номер машины», — подумал Федя, но было уже поздно. Стал припоминать, что осталось в памяти: во-первых, лицо — такого не забудешь — жестокое и вместе насмешливое. Затем клетчатый пиджак незнакомца, его широкие плечи и заросший седеющими — волосами затылок.
Дверь на веранду распахнулась, выбежала Эльма Самойловна:
— Модя! Что с тобой?
Перелясов приподнялся с ее помощью, сел на ступеньках крыльца.
— Что с тобой?
— Пустяки.
— Кто это?
— Какой-то хулиган.
— Что ему надо было?
— Не знаю.
— Вызвать «скорую»?
— Не вздумай…
— Милицию?
— Еще чего не хватало.
Это были последние слова, которые слышал Федя. Эльма Самойловна помогла мужу встать на ноги и увела его в дом. Опять все стихло. На крыльце осталась лежать тюбетейка, которой всегда прикрывал свою лысину Перелясов.
7
Таиска каждый день занимается с Федей алгеброй. Она поставила перед ним цель — перерешать весь задачник Ларичева. Почему именно весь? Федя уверяет:
— Мы так не решали, два-три примера со страницы. А все подряд — никогда.
— Не стоит мелочиться. Рука должна сама решать, — говорит сестра.
Это представлялось непостижимым, но он покорно решает целыми страницами. Сперва перерешали свой задачник, потом Таиска принесла откуда-то еще несколько штук.
— Мы этого не проходили, — робко заметил Федя без всякой надежды на успех.
— Не важно! — небрежно ответила Тая. — Я покажу…
Однажды Федя сидел, решал и безнадежно смотрел в окно. Шел дождь. Совсем не летний — мелкий, какой-то нескончаемый, нудный. И вдруг он увидел Игоря. Он пробежал по улице в красных трусах и белой майке.
— Вон Игорь побежал, — заметил Федя.
— Решай, решай… Какой еще Игорь? — спросила Таиска.
— Которого ты отрезала…
Через некоторое время Таиска поглядела в окно:
— Опять бежит.
— Обратно? — спросил Федя.
— Нелепый вопрос… Не вокруг же земного шара он обежал, — засмеялась Таиска.
До чего же вреднючий у нее характер! Нет просто сказать: «обратно». Обязательно надо брата подначить.
Каждый день в одно и то же время Игорь пробегал мимо кораблевских окон. А потом произошел разговор с самим Игорем. Федя вышел на улицу вставить стекло в окошко. Подъехал Игорь на велосипеде. Соскочил:
— Тебя ведь Федей звать?
— Ну!..
Игорь похлопал ладонью по раме:
— Ты этой штукой владеешь?
— Ясное дело.
Тогда Игорь объяснил, чего хочет: ему нужен лидер, то есть тот, кто ехал бы впереди, а он сам бежал бы за ним.
— Сможешь?
— А почему нет?
Оставался один вопрос. Игорь сразу угадал, что Федя хочет что-то сказать.
— Ну, говори!
— А Ленька разве не мог бы?
— У него сейчас книжка интересная. Говорит, что некогда… Но ведь ты не отказываешься?
Так и стали делать: Федя выезжал на велосипеде, а Игорь сзади бегом. Иногда мальчишка увлекался и вырывался вперед, тогда Игорь поучал его:
— Держи одну и ту же скорость.
Постепенно Федя научился соблюдать дистанцию. Не оглядываясь, он чувствовал Игоря сзади. Уже на другой день тот хвалил Федю:
— Молодец. Быстро освоил.
После занятий Игорь предоставлял мальчишке велосипед. Это было для Феди самое счастливое время. Он выезжал на шоссе. Развивал предельную скорость… Один раз Федя остановил велосипед около Игоря:
— Кажется, спустил…
Игорь наклонился, пощупал шины:
— Тебе показалось.
В это время подошла Таиска.
— Ты домой? — спросила она Федю.
— Нет, сейчас на велике…
— Смотри, голову не сломи.
И ушла. Игорь посмотрел ей вслед:
— Ты сильно похож на свою сестру.
Федя кивнул:
— Это все говорят.
А сам подумал: «Вот еще один». И не ошибся.
8
За Сосновым переездом организовались две футбольные команды. В одной капитаном стал Игорь, в другой — Белый. Федя с Ленькой, конечно, хотели попасть в одну команду, но так не получилось. Федя угодил к Игорю, Ленька — к Белому. Сошлись на пустыре перед бывшей баней, а там повсюду камни и бурьян вымахал выше головы. На счет камней даже удивительно, откуда их здесь столько?
— Ну, что? Примемся? — бодро призвал к работе Игорь.
Федя окинул взглядом поле и подумал: «Мартышкин труд. Ничего здесь не получится». Но глаза боятся, а руки делают.
В первый день очистили поле от всякого хлама. Здорово взялись ребята; куда камни, куда бурьян.
На второй день работали лопатами — забросали канавы, сровняли бугры. Потом сходили в лес, срубили столбики для ворот.
Сперва даже сеток не было, натягивали веревку. И играли в чем попало. Ленька, например, в длинных брюках, а Федя, хоть и в трусах, но в рубашке в полосочку (к тому же тесноватой, купленной год назад).
Ребятам стало известно, что Игорь поступил в Федину школу преподавателем физкультуры. Срочно пришлось переходить на «вы» и привыкать звать его Игорем Николаевичем. Чудно было спервоначала.
Федя правильно догадался, что Игорь Николаевич неравнодушен к Таиске. Он расспрашивал о ней как бы между прочим.
— Что-то давно Таисьи Павловны не видно?
Федя несколько важничал:
— «Таисья Павловна»? Кто такая?
— Сестра твоя.
— Почему не видно? Она в своем универе.
— Но сейчас каникулы.
— Ну и что? Может быть, в вычислительном центре. Она там кое-что просчитывает…
— А-а…
Вообще-то Феде очень повезло, что он попал к Игорю Николаевичу, а не к Белому. Однажды Ленька послал в свои ворота мяч. Хорошо еще, что вратарь не растерялся, этот неожиданный мяч взял. А Белый, ни слова не говоря, к Леньке подбежал и бац его по затылку.
Ленька потом объяснял:
— Это он мне не со зла, а ради дисциплины.
— Ну, ты сыграл, — засмеялся Федя, — мастеровито.
— А у тебя не случалось?
— Так — ни разу.
— Ты во всем лучше меня?..
Слово за слово, чуть не подрались. Но что хорошо в Леньке — долго обиды не держит. На другой день как ни в чем не бывало зашел за Федей:
— Собирайся. Пойдем на тренировку…
Феде нравилась игра в футбол. Все в ней решалось в какие-то доли секунды. Нет времени всесторонне обдумывать ситуацию. Это тебе не шахматы. Раз, два и мяч, который противник гнал в твои ворота, уже у тебя. Но и ты не зевай — со всех сторон на тебя летят защитники в чужих майках… А когда рядом появился Белый, Федя наперед знал, что тот отнимет мяч. Белый чертовски умел угадать, что противник собирается делать. Федя любовался его ногами: мускулистые, загорелые, умные. Ребята завидовали ему и Игорю Николаевичу. Их двоих уже приняли в спортобщество «Сибиряк» и выдали спортивную форму. В ней Белый и играет, но на голове у него всегда красная вязаная шапочка. Он никогда с нею не расстается. Что это — амулет или просто не хочет походить на других? Последнее кажется более вероятным. Это Федя давно подметил в нем. Впрочем, не важно. Но что не нравится мальчишке в Белом — грубость. Он, не задумываясь, прибегает к силе и разбрасывает игроков противника, как котят… Однажды Федя гнал мяч к воротам противника. И забил бы гол. Наверняка. Как вдруг появился Белый. Он не стал утруждать себя никакими уловками, просто оттолкнул Федю в сторону и завладел мячом. Федя чуть не заплакал от обиды.
Таиска как-то спросила брата, когда тот собирался на игру:
— Можно посмотреть, что вы там делаете? Не прогоните?
Тоже выдумала, кому нужно ее прогонять?
— Приходи, — кивнул Федя. — У нас без билетов…
По краям поля ребята соорудили скамейки — простые, на столбиках — для болельщиков. Здесь-то и устроилась Таиска. Сперва сидела, как неживая, удерживая на губах презрительную улыбку. Федя видел эту усмешку сестры и хорошо понимал ее значение: «Подумаешь, гоняют мяч и воображают, что делают важное дело». Но потом он забыл о сестре и о ее насмешливой улыбке. Играл. А после получилось так, что его удалили на две минуты: за что — нет смысла рассказывать. Пришлось отдохнуть. Он уселся рядом с сестрой. В это время Белый забил Фединой команде два гола подряд. И именно тогда Таиска рассталась со своим равнодушием. Прыгала, кричала, хлопала в ладоши.
— Ты за кого болеешь-то? — спросил Федя сестру. — Это же нам влепили…
— А я не разбираюсь кому, — ответила сестра. И прибавила: — Мне все равно.
Вот тут Федя возмутился:
— Как же так — «все равно»? Мы — это мы, а наши противники — это наши противники. Проще простого…
После игры Белый не подошел к Таиске. А она, видимо, ждала и смотрела в его сторону. Подошел Игорь Николаевич. Стал говорить с Федей и смотрел ему в глаза. «Что ему надо?» — недоумевал мальчишка и вдруг догадался: «Он хочет познакомиться с Таиской».
— Знакомьтесь, — предложил Федя.
— Мы почти знакомы, — засмеялась сестра.
— Да, «почти», — согласился Игорь Николаевич.
— Заходите как-нибудь, — сказала она ему.
— Зайти? — спросил он. — Вы серьезно?
— А почему бы и нет, если познакомились по-настоящему.
— Хорошо, зайду.
9
…Дом, в котором жили Кораблевы, в сухую погоду был дом как дом, даже уютный. А во время дождя с потолка иногда лилось. (У Перелясовых не текло — их половина крыши была аккуратно покрыта листами волнистого шифера.) Лидия Борисовна послала сына на чердак посмотреть, в чем там дело. На чердаке Федя нашел старые вещи: чьи-то покрытые пылью учебники; деревянный, почерневший от времени рубель, старый сапог со шпорой (почему один и почему со шпорой — непонятно). Все это Федя ощупывал, разглядывал. Заставил очнуться его голос матери, который доносился снизу из сеней:
— Ты что там? Уснул?
Что касается крыши, то положение оказалось безнадежным: совсем сгнили три доски. Сам Федя ничего не мог сделать. Нужны были настоящие плотники, а главное, новые доски. На другой день мать сходила к начальнику ЖЭКа, молодому симпатичному человеку. Начальник объяснил, что о прохудившейся крыше он знает, но чинить ее в план не поставит: «Ваш дом в ближайшее время подлежит сносу!» Лидия Борисовна очень расстроилась и спросила начальника:
— А как же мы?
— Под небом не останетесь, — успокоил тот. — Не одних вас будем расселять.
Женщины на работе даже позавидовали:
— Вот повезло!
Но Кораблевы не разделяли их радости. Легко ли покидать насиженное место? Предложат новое жилье где-нибудь «у черта на куличках», не будет ни цветника, ни огородика, ни сосен. И Федя огорчился: придется ходить в какую-то другую школу. Незнакомые ребята, незнакомые учителя… Расстроились они не на шутку, а пуще всех почему-то Таиска. Федя стал ее успокаивать:
— Ну, переедем, а тебе-то что? Не все ли равно, откуда ездить в университет?
Она не ответила, только улыбнулась. Федя смотрел на Перелясовых и думал: «Живут и не знают, что рассыплется их гнездышко».
И правда, начало рассыпаться, но совсем не потому, почему думал Федя. Неожиданно Аркадий ушел из дома. И должно быть, насовсем. Ни плача, ни крика не было. Эльма Самойловна бодро вышла утром полить цветы. Но это была только видимость.
Таиска заметила:
— Побледнела, осунулась!..
Федя поглядел — и правда.
Впрочем, ничто не бывает ни с того, ни с сего. Теперь Федя припомнил, что у Перелясовых было несколько ссор. Вообще-то говоря, они ссорились тихо, только последняя ссора произошла с шумом.
Голос Модеста Антиповича звучал так внятно, что можно было различить отдельные слова:
— Ты еще пожалеешь!
Эльма Самойловна отвечала ему тоже тихо, но внятно:
— Наша квартира не склад… Больше не потерплю…
Он в чем-то старался убедить ее:
— Это абсолютно безопасно.
А она ответила:
— Если б Арик тебе был родной, ты бы не так рассуждал…
— Назло вам не сдохну! Еще как заживу, завидовать будете!.. — это кричал Аркадий.
Видимо, кто-то сказал ему, что он один не проживет.
Тая вздохнула:
— Тоже мне, бунтарь!
Через день к Кораблевым пришел Игорь Николаевич. Они с Таиской говорили о чем угодно, только не об Аркадии. До одного момента. Прощаясь, Таиска неожиданно спросила:
— Теперь вы довольны?
— Вы о чем? — спросил он.
— Вы знаете… Аркадий куда-то ушел…
— Нет, вы ошибаетесь…
А еще через день появился Белый. Не заходя к старикам, поманил пальцем Федю:
— Позови Таю…
Федя просунул лицо в полуоткрытую дверь. Позвал сестру:
— Тебя… Аркадий зовет.
— О господи! — почему-то испугалась она.
Вышла к нему в своем синем платье. Села рядом.
— Ну, что надумала?
Федя понял, что до этого между ними был какой-то разговор, в итоге которого сестра обещала подумать.
— Ничего.
— Плохо.
— Смотря для кого.
— Для тебя, конечно… Мы бы вдвоем… Уехали бы отсюда далеко-далеко.
— А зачем мне ехать?
— А мне надо уехать. Обязательно надо. Не хочу больше…
— Чего не хочешь?
— Такой подлой жизни.
На перелясовской верандочке зашлепали домашние туфли. Это была Эльма Самойловна. Она подошла к ним.
— Арик! Милый!
Обняла, поцеловала сына. Он нахмурился:
— Не надо. — Отстранил ее локтем.
— Какой ты неласковый…
— Мама, прошу! Иди к себе.
Когда Белый ушел, Федя заметил, что Таиска о чем-то задумалась.
— Ты чего? — спросил он.
— Нехорошо он сказал: «Иди к себе».
— Это он умеет, — кивнул Федя.
— Что умеет?
— Нагрубить…
— Много ты понимаешь!
Таиска села у окна. Ждала. Кого? Это без всяких объяснений понятно. Зачем-то спросила Федю насмешливо:
— Как по-твоему, я красивая?
Он ответил:
— Даже слишком.
— Представь себе, что ты мне не брат, а я совсем-совсем не красивая. Ты смог бы полюбить меня?
— Еще бы.
— Не верю!
— Тогда зачем спрашиваешь?
Она промолчала. Федя пошел играть в футбол. Здесь, на поле, произошел разговор. Белый спросил Игоря Николаевича:
— Ты будешь сегодня у Таи?
— Ну и что?
— Так передай ей, что я вообще больше не приду.
— Нет уж. Тут я тебе не помощник. По этим вопросам объясняйся сам.
Белый прищурился:
— Вот оно что! Понятно. Ну, что ж, желаю удачи.
— Не нуждаюсь в твоих пожеланиях. Что ты так смотришь?
— А что, нельзя? Между прочим, смотрю не на тебя, а на твой подбородок. У него такая форма — так бы и заехал.
— Попробуй.
— Не хочется руки марать.
Белый отвернулся. Увидел Федю. Подозвал его:
— Ты скажи сеструхе, что я — фью-ить…
— Это как понять?
— Уехал. Вернее, уеду. Сегодня ночью. Так скажешь?
Когда Федя вернулся домой, Таиска все еще сидела у окна. Федя сказал ей:
— Зря сидишь! Он не придет.
— Откуда ты знаешь?
— Он велел передать, что сегодня ночью уедет.
— Что ж… Я этого ждала.
10
Конечно, Федя считал, что Белый больше не явится. Но Белый пришел на следующий день. Увидев Федю, сказал ему:
— Ну, чего встал, как аршин проглотил? Позови лучше Таю.
Она вышла на крыльцо. Белый сказал ей:
— Еду в Пензу. Пришел попрощаться…
— Кто у тебя там?
— Никого. А разве нельзя?
— Хоть на Луну.
— Вот как?..
В последующие дни Тая заглядывала в почтовый ящик.
А Федя уж кое-что разнюхал, поэтому предупредил ее:
— Писем не будет.
— Неправда!
— Нет, правда. Потому что Белый никуда не уехал.
— Ты не ошибся?
Федя пожал плечами. Что тут скажешь?
Дня через два она послала брата в разведку. Конечно, этого не следовало делать. Это понимал даже Федя. Но отправился. Нашел нужную улицу, дом, вошел во двор, подлез под мокрыми подсиненными простынями. Товарищ Белого по комнате, завитой молодой человек, встретил мальчишку не очень приветливо:
— Аркадий? Вот его койка… Где он сам? Кто ж его знает… Должно быть, к своей перебрался. Кто она? Маленькая такая, кудрявая. В чем душа держится.
— Не Клава?
— Кажется, так он звал ее…
Федя вернулся домой, все доложил Таиске:
— Сходить к Клавушке?
— Не смей, — нахмурилась сестра.
Была еще одна встреча. Правда, заочная… Кораблевы уже собирались спать. В это время с улицы донесся звон гитары и песня. Голоса певца нельзя было не узнать — пел Белый. Он не столько пел, сколько выкрикивал слова песни; слова были похабные, про вошь, гниду и бабку Степаниду. Лидия Борисовна сказала:
— Твой разоряется.
Дочь прошептала:
— Он пьяный… И вовсе не мой.
Кораблевы потушили свет. Из темноты послышались Таискины всхлипывания.
11
Обе команды готовились к поездке в Кемерово, но получилось не так, как думали. Поехала только сборная. Само собой, Игорь Николаевич и Белый. Кроме них — некоторые ребята. Федя остался дома. В самый последний момент он заработал травму. Коленка забинтована, куда такого. Вместо Феди включили Леньку Бублика.
Пока они ездили на дружескую встречу, Федя читал, томился и слушал по радио подряд все передачи. Из Кемерова не было никаких вестей, пока не приехали сами.
Ребята вернулись, но с ними не было ни Белого, ни Игоря Николаевича. Федя спросил Леньку:
— Ну, как вы там?
— Кемеровчане вложили нам… по первое число.
— Этого и следовало ожидать.
— Почему же следовало?
— Сборная — с бору по сосенке.
— Поехали лучшие…
— Это ты-то лучший?
Назревала ссора, но обоим хотелось примирения. Все же не виделись почти неделю.
Наконец вернулись из Кемерова Белый и с ним Игорь Николаевич. Они неохотно рассказали, почему приехали с таким опозданием. Оказывается, Белый поскандалил в гостинице, да так, что администратор вызвала милицию. Белого забрали, а Игорь Николаевич не уехал домой, бегал, хлопотал, чтобы дело не передавали в суд. Суд все же состоялся, и Белому припаяли штраф. Уплатил его Игорь Николаевич.
Как только появился Игорь Николаевич, сборная сразу же начала готовиться к встрече с футболистами города Асино.
А потом случилось то, что должно было случиться. («Должно было» — это Федя много позже сообразил, а тогда то, что произошло, представилось полной неожиданностью.) Белый явился на тренировку «под мухой». Игорь Николаевич сразу это заметил, остановил его, когда тот шел на поле:
— Аркадий, обожди-ка!
— Ну, чего тебе?
— По-моему, ты немного «того»…
Игорь Николаевич выразительно щелкнул себя ниже подбородка.
Белый усмехнулся:
— Вот и ошибаешься — не «немного», а на полную катушку.
— Иди домой спать.
Сборная напряженно слушала.
— А ты кто такой, чтобы советовать? Пошли, ребята! Начнем играть без него.
Никто не шелохнулся. Все стояли и смотрели, что будет дальше. Белый вспылил. Теперь он даже не пытался сохранить видимость спокойствия.
— Ах так? Тогда я уйду… Совсем… Хватит ишачить.
— По-моему, ты не ишачишь, а играешь, — возразил Игорь Николаевич.
— Иди ты знаешь куда?
— Можешь не уточнять…
Но Белый все-таки «уточнил» и ушел с поля.
12
Федя все откладывал намерение бросить курить. Должно быть, не было настоящего желания. Не было, пока они с Ленькой не решили тоже заняться бегом. Тайно от Игоря Николаевича. И тут выяснилась одна удивительная вещь, которой Федя никак не ожидал: Ленька, по сравнению с Федей, слабак, оказался куда выносливей. Он не отставал от Феди, даже больше — иногда обставлял его, и Федя ничего не мог с этим поделать. А тут еще Игорь Николаевич спросил:
— Отстаешь?
Это было совсем уж непонятно: откуда он узнал?
— Иногда…
И новый вопрос:
— Задыхаешься? Куришь, верно?
— Есть немного, — неохотно подтвердил Федя.
— Придется тебе выбирать между спортом и курением.
Больше он ничего не сказал. Его дело сказать, Федино — думать. (Вообще-то, очень приятно, когда взрослые признают, что у тебя на плечах своя голова, которой можно пользоваться.) Если б кто-нибудь другой сказал, Федя, может быть, и не обратил бы внимания… Но Игорь Николаевич! Он нравился Феде. В нем было то, чего так не хватало мальчишке. Ходил Игорь Николаевич как-то определенно, как привык на флоте. В каждом движении сквозила выправка, сила, ловкость.
Еще до летних каникул классный руководитель Елизавета Павловна кое-что пронюхала и вручила Феде брошюрку «О вреде табака», сказав при этом, чтобы он подготовил доклад для классного часа. Федя терпеть не мог, когда его воспитывали! Но тут дело другое, прочел брошюру и даже приуныл. Курить, оказывается, не просто вредно, а прямо-таки самоубийственно, особенно в раннем возрасте. Никотин разрушает сердце, почки, нервную систему. А главное — грозит раком легких. После этой брошюры приснился ему ужасный сон: собственные похороны. Феде приснилось, как будто он умер, а вместе с тем все видит и слышит. Лежать в гробу очень неприятно. За гробом двигались ребята из его класса: девочки в парадной форме и мальчишки, умытые и причесанные. Две женщины догнали процессию и заглянули ему в лицо:
— Лежит, как будто спит. Ну, совсем как живой.
— От чего это он?
— Известно — от курения.
— Бедняжка!.. Такой молоденький…
Было ужасно жалко себя. Все после похорон отправятся готовить уроки на завтра, а он останется один на кладбище. Федя проснулся в холодном поту. Слава богу, это только сон.
Теперь летом, когда стал задыхаться во время бега, содержание брошюры снова вспомнилось.
В результате он бросил курить. Не стал курить, и все. Неделю перетерпел, а потом отвлекся, начал забывать…
13
Столкновения между братом и сестрой мать называла «контрами».
— Опять между вами контры?
Чаще всего это было оттого, что Федя сам «задирался».
Сколько раз он говорил себе: «Хватит дразниться!», но его опять так и тянуло чем-нибудь поддеть сестру. Как-то Федя спросил ее:
— Что такое «коллоквиум»?
Таиска осторожничала, чуя подвох:
— А почему ты спрашиваешь?
— Слово какое-то нерусское.
— Латинское, означает: со-бе-се-до-ва-ние.
Усыпив бдительность сестры, Федя нанес свой главный удар:
— А зачем ты перед каждым коллоквиумом губы красишь?
Но Таиску не так легко смутить:
— Покрась ты! Кто тебе не велит?
Вот и поговори с ней.
Таиска часто распекает Федю, а однажды даже заявила:
— Другие мальчишки умнеют с возрастом, а этот становится все глупее. Не знаю, что и делать!
Таиска съездила в парикмахерскую, завилась. Федя не удержался, с пренаивным видом начал выспрашивать, сколько это удовольствие стоит, чем завивают и так далее, а потом ехидно осведомился, больше ли стало у нее «извилин» после завивки. Но она и тут не растерялась: отвечала, что извилин у нее в мозгах вполне достаточно, и даже может одолжить, если ему не хватает. Если говорить всерьез, то насчет извилин у нее полный порядок. С университетских экзаменов она таскает одни пятерки. А он, как видно, не в нее — переведен с работой по алгебре. Теперь приходится перерешивать весь задачник. Да если б только задачник. Сама жизнь подсовывает задачи куда посложней. Так например: почему заведующая девятнадцатым магазином точная копия той, которая по ошибке постучала ночью к Кораблевым? И зуб золотой, и брови такие же подбритые. В общем, как две капли воды… А может быть, это и есть она сама?
Таиска как-то спросила брата:
— Федюшка, ты пойдешь в магазин?
— Не собирался…
— Будь добр, сходи.
Уже по Таискиному голосу Федя уловил, что ей что-то надо. Так и есть:
— Купи мне пачку сигарет.
Федя укоризненно качает головой:
— Все-таки куришь?
— Иногда… Ну прошу… Будь ты поменьше, обещала бы тебе мороженое. Вот деньги, пачку «Космоса».
В магазине Федя уплатил в кассу продуктового отдела, протянул продавцу чек.
— Не положено, — нахмурилась продавщица.
— Мне уже исполнилось 16 лет, — сказал Федя и подумал: «Из-за Таиски врать приходится. Другой раз не пойду, проси не проси».
— Если заведующая разрешит.
Из промышленного отдела пришла заведующая.
— Агния Григорьевна, вот мальчик…
— Что тебе?
Во-первых, Федя ужасно не любил, когда его называли мальчиком. Во-вторых, он, как только взглянул на нее, сразу узнал.
— Ты ко мне?
Он стоял, смотрел и не мог вымолвить ни слова.
До тех пор она привычно улыбалась, открывая золотой зуб, а тут посмотрела внимательно, серьезно:
— Ты что, молчать решил?
И продавцу с деланным недоумением:
— Что за чудеса?
— Он хочет купить пачку сигарет…
— Ну и продай, раз хочет…
Повернулась и ушла.
Не заходя домой, Федя помчался к Леньке. Вместе они снова ходили в магазин. Ленька посмотрел на заведующую и сказал твердо:
— Она самая!
— Но ведь ты не видел ту, которая приходила?
— Шестое чувство подсказывает.
Может, и правда шестое? Кто его знает?
Но пойти за сигаретами для Таиски — это, конечно, слабость. Федя за это себя корил и решил прижать сестру с курением. Стал упрекать:
— Рак легких схлопочешь.
Веский довод, но результатом было лишь то, что Таиска стала хранить свои сигареты не дома за книгами, а в сарайчике.
В день ее рождения неожиданно появился Аркадий. Вернее, не просто появился, а приехал на такси. (День рождения — семейный праздник, Федя его очень любил. Мама с вечера напекла пирожков со сливовым джемом.)
Мама вышла с миской пирожков во двор, чтобы угостить дочь. И тут подкатил Белый, шикарный такой, в новом костюме. Лидия Борисовна спросила его:
— Хочешь пирожков?
Он взял один, должно быть, из вежливости, поблагодарил.
— Пойдем в сад, что ли, — предложила Таиска.
Пошли в цветничок, сели на скамейку. Тут он преподнес ей что-то в розовой коробке.
— Что это? — спросила Таиска.
— Посмотри. На меху.
Тая приподняла крышку коробки.
— Сапоги? Нет уж, избавь, пожалуйста…
— Возьми, прошу тебя!
— Сказала — не возьму, и оставим этот разговор. Давай о другом, — предложила Тая. — Расскажи лучше, где поселился?
— Это неинтересно…
Потом он опять начал:
— Возьми на память…
— Ты что, умирать задумал? Не уговаривай. Иди, а то Клавушка беспокоиться будет.
— Ну и пусть!
— Вот как? И между прочим, откуда у тебя деньги?
Белый усмехнулся:
— Это касается только меня.
Наступило молчание. Белый спросил:
— Опять рассердилась?
— Это касается только меня.
Он взял коробку и ушел. А Федя лихорадочно стал вспоминать. «Розовая коробка… Розовая коробка… Где он видел такие?» И вдруг вспомнил: у Перелясова в сарайчике! И еще мама рассказывала что-то про хищения на железной дороге… А что если между этими фактами есть связь? Но что она говорила? Он тогда почти не слушал. Пришли на станцию разбитые контейнеры, что-то было из них похищено. Но где это было, и что именно похищено? Почему он тогда не обратил внимания? Она ведь рассказывала подробно, а он не запомнил. Отправился посоветоваться с Ленькой. Ленька загорелся:
— Сейчас же к твоей матери!
— Может, подождем когда она с работы придет?
— Дорога каждая минута.
Одолжили велосипед у Игоря Николаевича. Уселись вдвоем. Ленька впереди на раме. Тяжеловато, но терпеть можно. Немного не доехав до места, Федя затормозил и спешился:
— Вот мамина работа, — сказал он и вытер со лба пот. Друзья постояли, посмотрели: свежая щебенка, серый, еще сырой балласт около рельсов.
— А вон и она сама…
Вдали видны были оранжевые жилеты. Подъехали к Лидии Борисовне. Она отошла от работающих в сторону. Ребята стали расспрашивать. Мать с трудом, но кое-что припомнила:
— Да, был такой случай… Три контейнера разворовали. Несколько десятков пар сапог женских и пальто. Налетчики успели скрыться. Подробнее? А какие здесь подробности? Видно, разбивали контейнеры и сбрасывали. А на шоссе кто-то их ждал. Все подобрали и увезли. Так мы в бригаде рассуждали. Милиция думала их захватить. Были дежурства на шоссе и засады. Потом сняли. Почему? А зачем без толку людей томить? Грабители тоже не дураки. Сделали свое дело и в сторону.
— Ты говорила про две коробки…
— Их подобрали и увезли… Должно быть в милицию.
— Розовые?
— Откуда ты знаешь?
— Я все знаю, — с гордостью проговорил Федя, но это было обыкновенное хвастовство, знал он далеко не все.
Друзья поехали обратно. Через некоторое время сели отдохнуть на горке. Спускалось солнце. Вдали видна была какая-то деревня. Пастух и белая собачонка заворачивали к ней стадо. Перед ними асфальтированное шоссе, шпалы, рельсы, бетонные столбы контактных проводов.
— Только здесь, — шептал Ленька в ухо другу.
Он почему-то говорил шепотом, хотя рядом никого не было. Да, пожалуй, это было как раз «то место» — последний подъем. Именно здесь поезд замедлял ход и входил в выемку. Его ниоткуда не видно. А рядом шоссе. А дальше поезд опять мчит вовсю до самого города.
— Главное, — продолжал шептать Ленька, — это проникнуть в психологию преступника. Тогда он готов.
— Как это? — спросил Федя, думая о другом.
— Разоблачен…
А думы Феди были вот о чем: он ясно представил себе, как поезд вползает в выемку, а две черные, безликие тени пробираются в это время вдоль состава, а затем перебираются с платформы на платформу. Добираются до контейнеров, отдирают и рубят тонкие доски. Ни стука, ни ударов не слышно — все тонет в грохоте идущего поезда. Сбрасывают добычу на шоссе. Там ее ждет машина. Потом поезд увеличивает скорость, а перед самым городом опять замедляет ход. Те двое соскакивают, не дожидаясь полной остановки.
— Что же теперь будем делать? — прервав свои мысли, спросил на обратном пути Федя.
— Мы их поймаем, — решительно заявил Ленька.
Федя промолчал, но он был другого мнения: без милиции тут не обойтись.
А тут еще одно происшествие. Сколько раз Федя обещал себе не задевать Таиску, но никак не получалось. Хотя как это назвать ссорой?
Бублик сообщил Феде тайну: вчера вечером Белый не в силах был сам добраться до дома. Ребята сбегали к Клавушке. Она сказала только:
— Никуда не пойду.
— Но ведь его заберут…
— Туда ему и дорога. Надоел хуже горькой редьки.
Тогда Бублик и двое его помощников пытались довести его до квартиры. Но Черныш позвонил в медвытрезвитель. Таким образом, Белый не ночевал дома…
Федя рассказал об этом Таиске. Таиска выслушала спокойно, не перебивая, затем спросила:
— А почему это тебя так волнует?
— Меня? Волнует? Я думал, тебе интересно.
— Лучше не вмешивайся.
Весь день дулись друг на друга, а под вечер Таиска уединилась в сарайчике. Как только она скрылась за дверью, он подкрался и запер дверь на задвижку (замка так и не собрались купить).
— Федя, это ты? — крикнула Таиска и торкнулась в дверь. — Отопри сейчас же!..
Но Федя не стал пререкаться, на цыпочках пошел прочь, а она, видимо, смотрела в щель:
— Все равно тебя вижу. Открой…
— Посиди, подумай. Ты же обещала, что не будешь курить.
Он ушел домой. Таиска осталась в сарайчике. На некоторое время Федя честно забыл о ней. Потом вспомнил и ему стало ее жалко. Пошел, отодвинул задвижку и отбежал в сторону. Он ожидал, что Таиска выскочит, как разъяренная тигрица. Вместо этого она вышла скорее озабоченная, чем злая.
— Иди сюда, что я тебе скажу!
На лице ее не было подвоха, но Федя не терял осторожности.
— Честное слово, не трону…
Тогда Федя осмелел и приблизился к сестре.
— Какой-то непонятный разговор… в перелясовской половине. Два голоса: один женский, другой мужской, кажется, Модеста Антиповича.
— О чем они говорили?
— Та женщина, вероятно, передала деньги. Потом мужчина сказал: «Маловато…»
— А что она ответила?
— Я не расслышала… Потом мужчина сказал: «Сегодня в одиннадцать тридцать жди». «Опять на ЖД?» «А какое тебе дело?». Ничего не понятно, — вздохнула Таиска.
— Очень даже понятно!
— Понятно? — спросила она.
Да, ему было понятно. Прежде всего стало ясным, что надо действовать. Но как? Бежать к Бублику? Что толку? Идти к Чернышу? Очень не хотелось. Но что-то следовало предпринять немедля, потому что начинало смеркаться.
— Поеду в Управление, — сказал Федя, но не столько Тае, сколько самому себе. — Пусть займется милиция.
Сказал и осекся — на перелясовской верандочке сидел Модест Антипович с газетой в руках. «Может не слышал? — подумал Федя. — Конечно не слышал. Даже не шелохнулся».
— Зачем? — спросила Тая.
Но он не ответил, незачем болтать!
Все-таки обойти Леньку в таком деле было бы бесчестно. Пошел к нему. Когда Федя рассказал все события, его друг степенно изрек:
— Да, надо ехать.
— На чем?
— На велике. Попросим у Игоря Николаевича.
К сожалению, Игоря Николаевича не оказалось дома. Правда, его велосипед стоял во дворе. Посомневались.
— Возьмем без спроса, — предложил Ленька. — Мы ему все объясним.
Взять велосипед было очень соблазнительно, и Федя уже решился, но Ленька вдруг заявил:
— И я с тобой. Впереди, на раме.
— Мне надо быстрее.
— Тогда ты никуда не поедешь! Этот велик почти мой. Игорь Николаевич завсегда дает мне.
— Но пойми, некогда мне с тобой.
Вот тут и получилось нечто вроде стычки. Кончилось тем, что Федя оттолкнул друга плечом и выбежал с велосипедом со двора. Ленька кричал что-то угрожающее, Федя, не слушая его, вскочил на седло и энергично заработал педалями…
Только миновал переезд, как случилось непредвиденное. У обочины стояла какая-то грузовая автомашина. Федя обогнул ее, как и полагается, с левой стороны, но едва он оказался впереди, машина помчалась вслед. Федя решил, что шофер не видит его и на всякий случай вильнул в сторону. Именно это движение спасло ему жизнь. Он почувствовал сильный удар слева и вместе с велосипедом его кинуло куда-то в темноту. На секунду Федя потерял сознание, но тут же очнулся. Первая мысль была: «Где же велик?». Он лежал рядом. По инерции еще крутилось переднее колесо. Федя поднялся на ноги и поставил велосипед. Рама и заднее колесо были смяты, катить велосипед невозможно. Федя взвалил его на плечо и сделал несколько шагов по шоссе. «Далеко же меня отбросило», — подумал он. В таком виде он пришел к Игорю Николаевичу. Тот сам открыл ему дверь:
— Тише. Все уже спят.
И тут поднял глаза на лицо Феди.
— Что с тобой?
— Упал.
— Кости целы?
Он достал из настенного шкафчика бинты и какой-то белый порошок, стал перевязывать голову. Федя рассказал ему, как все получилось.
— Твое счастье, что тебя в сторону отбросило. А то бы… А я-то думаю: «Куда велосипед делся?». Хорошо, Леня объяснил.
Игорь Николаевич отрезал бинт, завязал концы:
— Ну, вот и все… До свадьбы заживет.
— Я никогда не женюсь, — сказал Федя.
— Разумеется, — согласился Игорь Николаевич.
После этого он пошел во двор посмотреть велосипед. Федя приблизился к зеркальцу, висящему на стене: «Ну и видок!»
Вернулся Игорь Николаевич. Федя спросил:
— Ну как велик?
— Ему прямая дорога в металлолом.
— У нас есть деньги. Я куплю новый…
— Брось глупости. Но все-таки, куда ты ехал на ночь глядя?
Федя объяснил ему. Затем пошел домой. Постучал в окно. Таиска посмотрела, приставив ладонь козырьком ко лбу. На мгновенье обмерла от страха:
— Кто это?
— Я, — откликнулся Федя.
Узнала по голосу. Впустила. Спросила то же самое, что и Игорь Николаевич:
— Что с тобой?
— Упал…
— Откуда?
— С велосипеда…
— Я подумала, пугает кто-то… Бинты… белые…
В дверь постучали. Вошел Игорь Николаевич. Обратился к Феде.
— К Чернышу надо.
— Не пойду.
До этого Федя видел участкового не раз, но только издали. Он ему не понравился. Черный, вернее, смуглый. Длинноногий, как журавль.
Все же Игорь Николаевич настоял на своем, вдвоем они пошли к Чернышу. Черныш ходил по комнате с младенцем на руках. Его, должно быть, озадачил Федин вид, но он ничем не показал этого. Отдал младенца жене, предложил сесть. Начал было слушать, потом прервал:
— Ты короче. Значит, Перелясов знал, что ты поедешь в Управление?
— Может быть, слышал…
И вдруг Федя сообразил:
— Антон Антонович, у вас мотоцикл… Отвезите меня в Управление.
Черныш улыбнулся:
— Не обязательно возить.
И показал глазами на телефон.
14
Мать спала. Таиска тоже лежала, но дыхания ее не было слышно. Федя прокрался из своих сеней к окну и посмотрел на улицу. К домику Черныша неслышно подкатила «Волга», потом еще одна. Одна из них повернула к Фединому дому. Кто-то постучал к Перелясовым. Скрипнула дверь и опять тихо… Через некоторое время Федя вышел во двор. Почти одновременно из перелясовской половины появились Перелясов и какие-то люди. Среди них был Черныш. Седоусый высокий человек, которого все называли Николаем Ивановичем, сказал Перелясову:
— Отоприте ваш сарай!
— Зачем?
Николай Иванович повторил настойчиво:
— Отоприте!
Внутренность сарайчика кто-то осветил электрическим фонариком. У одной стены дрова, у другой — старый столик с точеными ножками.
— Ничего! — сказал кто-то.
— Как я и говорил, — подхватил Перелясов.
От сарая все пошли к дому. Вместе со всеми Федя поднялся на верандочку. Николай Иванович его заметил.
— А это кто?
— Тот самый мальчик, — сказал тихо Черныш.
— Потом.
Черныш придержал Федю за локоть:
— Ты вот что, иди домой. Тебе пора спать.
Идти домой Феде никак не хотелось. Он сделал вид, что направляется домой, а сам вышел во двор и поднялся на третью ступеньку лестницы, против открытого окна Перелясовых. Здесь его привычное место. Отсюда видна была вся комната соседей.
Федя видел, как Николай Иванович и Перелясов сели за стол один против другого. Николай Иванович спросил:
— Когда Лизунов первый раз привез вам вещи?
— Лизунов, говорите? А это кто такой?
Перелясов сделал недоумевающее лицо.
Николай Иванович положил перед ним фотографию Лизунова.
— Не узнаете?
Перелясов близко наклонился к фотографии, всматриваясь в ее черты. Потом выпрямился:
— Такого не знаю.
Федя испугался: неужели Николай Иванович поверит? Ведь это фотография того, который приезжал на такси к Перелясову и избил его.
Николай Иванович нахмурился:
— Так-таки и не узнаете? А ведь полтора месяца находились в одной камере.
— Не помню такого.
— Короткая же у вас память.
— Ей богу…
— Оставьте бога в покое.
В это время лестница скрипнула, Николай Иванович недовольно взглянул в окно и приказал:
— Закройте!
Чьи-то руки закрыли створки окна и задернули занавески. Сидеть на лестнице больше не было смысла. Федя вышел на улицу.
Около дома Черныша стояла грузовая машина. Федя ухватился за задний борт и подтянулся на руках. Он увидел Аркадия, неподвижно лежащего на спине. На желтой футболке темнело большое пятно крови. В кузове стояло еще что-то, какой-то мотор и корзина, завязанная белой тряпкой. Федя приподнялся еще раз: сомнения быть не могло — на дне кузова лежал труп Аркадия. Федя коснулся ногами земли.
— Что там? — вдруг услышал Федя знакомый голос. Перед ним стояла Таиска.
— Ты что такой?
— Какой?
— Какой-то пришибленный, что ли.
Любопытство мучило ее:
— Подсади меня.
Таиска ухватилась за кузов руками и хотела подтянуться.
— Ой, ой! — схватился за голову Федя.
— Что такое?
— Голова… Бинт…
— Покажи.
Таиска осмотрела повязку:
— Вроде все в порядке.
Наклонилась к брату:
— Соврал? Да?
Но Федя не успел ответить. В это время подошел Черныш с каким-то человеком. Они влезли в кабину грузовика и машина уехала.
— Что все-таки здесь происходит? — спросила Тая.
Федя рассказал ей о Перелясове.
— Он — вор? Вот бы не подумала, — сказала Таиска.
15
…Наступила пора выполнять работу по алгебре. В день экзаменов он пришел в школу. Лилия Леонидовна сидела одна в большом классе. Заметила Федю:
— Входи, входи! У тебя есть чем писать?
Дала пример и задачку. И то и другое — ерунда. Такие с Таиской решали косяками. Быстро решил, подал учительнице. Та посмотрела, удивилась. Затем немного поспрашивала правила.
В дверь постучали. Лилия Леонидовна вышла, стала шептаться с кем-то. Федя слышал разговор:
— Слаб? — спросил чей-то голос.
— Совсем наоборот. Поразительно! Совсем другой ученик.
Федя понял, что это о нем. Вернулась Лилия Леонидовна.
— Можно идти?
— Конечно. Считай, что перешел в восьмой класс.
— А я, может быть, у вас учиться не буду.
— Почему это?
— Мы скоро переедем на другую квартиру… Может быть, даже в другой район.
— Что ж поделаешь, — вздохнула Лилия Леонидовна. — Но вообще-то жалко расставаться с тобой. Будешь учиться в другой школе — старайся. Не осрами нас.
— Постараюсь.
16
В последние дни августа Федю вызвали в Управление гормилиции. Туда он ходил вместе с Таиской. На третьем этаже они нашли комнату номер 327. Там их встретил Николай Иванович. Он вышел из-за стола, пожал Феде руку, как взрослому.
— Федор Кораблев… Это твоя сестра, Таисья Павловна? Очень приятно. А сейчас сюда приведут одного гражданина, и ты скажешь нам, встречал ли ты его до этого и где именно…
Привели какого-то пожилого человека. Усадили против Феди.
— Я его не знаю, — сказал мальчик.
Мужчину увели.
— Так я и думал, — сказал Николай Иванович, — но он тебя знает… Догадался, кто это был?
— Нет.
— Сергей Александрович Чебров, тот самый шофер, который пытался тебя задавить. И еще один момент…
Он кому-то позвонил.
— Приведите Климову.
В кабинет вошла женщина. Федя сразу узнал ее. Это была директор магазина № 19.
— Где и когда ты видел ее?
Федя рассказал о ней и обо всем, что знал.
— Ну, что ж, можете быть свободны, — попрощался Николай Иванович.
В коридоре они встретили Эльму Самойловну. Она прошла мимо и сделала вид, что не заметила своих соседей. После смерти Аркадия и ареста мужа ее вообще почти не было видно. Мелькнет перед окнами, и все.
17
Теперь Лидия Борисовна не ездила на прежнюю работу. Она училась на курсах, но в этот день и на курсах не была, до обеда где-то ходила, а потом пришла и положила на стол ключи от новой квартиры.
Надо было переезжать. По правде сказать, Феде этого ни капля не хотелось.
Очень помог им Игорь Николаевич; он и машину выписал, и вещи в кузов поднимал. Лидия Борисовна сказала:
— Не знаю, что бы мы без вас делали…
Перебрались в сухости, дождь пошел позже, когда все вещи уже втащили в подъезд.
Перед отъездом Таиска вынесла свое подвенечное платье во двор, положила на чурбан, на котором Федя рубил хворост, и подняла топор. Лидия Борисовна ее остановила:
— Обожди!
— Зачем оно мне? — спросила Таиска.
— Платье пусть полежит, есть не просит. Жизнь ведь не кончилась.
Таиска поняла, о чем думала Лидия Борисовна.
— Никогда этому не бывать… — Но все же платье рубить не стала.
Жили Кораблевы и, вроде, у них ничего не было, а тронулись с места — откуда что взялось. И еще: в прежней квартире их донимала теснота, они проклинали вещи. А стали собираться и обдумывать — оказывается, ничего не выбросишь. Взять, хотя бы, одни Таискины книги. Их сгрудили сперва посреди комнаты. Целый курган получился. Таиска постояла около, вздохнула:
— Теперь книжный шкаф потребуется.
И никто ей не возразил. Как будто так и надо. А раньше об этом Таиска даже не смела бы и заикнуться.
Несогласие получилось из-за дивана, на котором спала Лидия Борисовна. Перевозить ли его на новую квартиру? Диван и правда был «не того» — с выцветшей обивкой, пружины выпирают словно кочки на болоте, одной ножки вообще нет. Ее заменял кирпич. В общем, «не смотрелся». Таиска по поводу дивана сказала матери:
— Еще чего не хватало, тащить на новую квартиру всякую рухлядь.
— А на чем же мне спать? — начала Лидия Борисовна и не договорила. Федя даже удивился: такая закаленная и вдруг расстроилась из-за какой-то чепухи.
Увидев, что у мамы на глазах слезы, Таиска пошла на попятный:
— Возьмем, возьмем…
Теперь Лидия Борисовна сама начала уступать:
— Ладно уж, я как-нибудь.
И тут впервые спросили Фединого мнения. Таиска обратилась к нему:
— А ты как считаешь?
Он подумал и ответил:
— В магазин привезли импортные. Как можно без дивана?
На том и порешили: купить новый.
В новой квартире на кухне Федя первым делом открыл кран. Стала бить струя. Таиска услышала и прикрикнула:
— Кто там с водой балуется?
Федя кран закрутил. Он и не думал баловаться, просто интересно.
Вообще-то Таиска обосновалась лучше всех, у нее теперь отдельная комната. Здесь она все устроила по-своему: этажерка с книгами, над кроватью фотографии Энштейна и Эдит Пиаф.
Игорь Николаевич получил комнату через стенку от Кораблевых. Двери на одной площадке. Когда он ушел к себе, Кораблевы устремились в ванную. Сперва Лидия Борисовна, затем Таиска, а потом Федя. Таиска, как залезла, — не вытянешь. Пришлось даже постучать в дверь:
— Хватит тебе размываться! — крикнул ей Федя. — Растаешь!
Но Таиска не растаяла. Вышла из ванной красная, разомлевшая и мечтательно вздохнула:
— Теперь бы мне халат толстый, махровый, как у Перелясихи.
— Не завидуй Перелясихе, — оборвала ее мать, — у нее теперь черные дни…
Подумать только, сколько новых вещей надо купить: диван, книжный шкаф, люстру зеленую, какая была когда-то, и еще, может быть, махровый халат.
На другой день Игорь Николаевич позвал Таиску и Федю к себе. Таиска почему-то не пошла, а Федя — с удовольствием. У Игоря Николаевича была большая комната с отдельной кухней и всеми удобствами. Окно во двор. Сидеть приходится пока на стопках книг и на подоконнике. Вместо занавесок — газеты. На полу магнитофон: пела женщина на нерусском языке. Федя спросил:
— Кто поет?
Игорь Николаевич ответил, но Федя о такой певице не слышал.
— И вы ее понимаете?
— Конечно.
Федя не поверил:
— Ну вот, о чем она сейчас поет?
— О любви.
— А на каком языке?
— Не все ли равно? Это на всех языках понятно.
Тут Федя, не подумавши, ляпнул:
— Теперь жену бы вам…
Сказал, и тут же пожалел.
Игорь Николаевич взглянул на Федю невесело:
— Кто за меня пойдет?
— Хотя бы наша Таиска.
— Ты уверен?
— Не очень, — признался Федя.
— Я тоже!
Игорь Николаевич вздохнул, прислушался и озабоченно покачал головой:
— Резонанс!
— Ну и что? Зато громко, — успокоил его Федя.
Что правда, то правда. Так громко, что все отлично слышно и в квартире Кораблевых. Даже слова можно различить.
Самое замечательное в новой квартире — балкон. Иногда Федя берет у Игоря Николаевича полевой бинокль. (Бинокль этот Игорь Николаевич очень бережет, его отец привез с войны). Тогда до переезда рукой подать. Виден лес. Еще тепло, но листья берез пожелтели. Видны светлые рельсы дороги, асфальтированное шоссе. Когда-то за домиком, где жили Кораблевы и Перелясовы, ничего не было. А теперь — целая улица. Зато самого домика как не бывало. Остались сосны.
А на соседнем балконе девочка. Федя еще не знает, как ее зовут. Внешне она как все: косички с ленточками, коричневое платье с белым воротничком. Но есть в ней что-то такое, чего не замечает никто, кроме Феди. Он пробовал сформулировать, что именно, но не получилось. Утром она поливает цветы в длинных ящиках, прикрепленных к перилам балкона. Тут он видит ее мельком. А вечерами она подолгу сидит на балконе с книгой. Сперва он думал, что это стихи, но книга у нее на коленях толстая-претолстая. Должно быть, какой-нибудь роман. Интересно бы узнать заглавие.
На новой квартире исполнилась мечта Феди — его приняли в юношеское спортобщество «Здоровье», зачислили в футбольную секцию и выдали синюю майку, трусы и бутсы. Федя ходил, как именинник.
В эти последние дни августа Феде захотелось побывать в той школе, в которой ему предстояло учиться. Запись происходила во дворе школы. Незнакомая учительница за столиком, покрытым красной скатеркой, сказала:
— Будешь учиться в восьмом «В».
Ему все равно было — «А» или «В» — и так, и так все незнакомые: и учителя и ученики.
В школе на Федю никто не обратил внимания: все заняты были своим делом.
Готовые классы и кабинеты были заперты. Какой-то дяденька в сапогах привинчивал к дверям стеклянные таблички.
Двери были открыты только в актовый зал. На Федю сердито наскочила уборщица:
— Ты что? Туда нельзя…
Но Федя все же заглянул: в лицо пахнула жара — здесь, раскаленные докрасна, стояли десятка полтора электрических плиток — ускоренно сушили краску только что покрашенных панелей.
В коридоре встретилась женщина в сером халате. Федя спросил ее:
— Где будет восьмой «В» класс?
— А кто его знает… Для нас они все одинаковые.
Какой-то мужчина — не то директор, не то завуч — спросил:
— Вам что?
Он не сказал «мальчик», и непривычно прозвучало это «вы».
— Я буду здесь учиться.
— Приходите первого сентября. В полдевятого. Записались?
Федя кивнул. Ходил он по школе и всюду заглядывал: оказывается, он не один — по коридорам ходила та самая девочка… Он хотел спросить, как ее зовут, но не посмел. Увидел близко только ее глаза, карие, внимательные. Мельком осведомился:
— Ты в каком классе будешь учиться?
— В восьмом «В».
— Вместе, значит.
— Угу…
Больше никакого разговора не было. Федя пошел домой.
Дома Таиска спросила его:
— Ты чувствуешь, что теперь у нас все новое?
Она была права. Жизнь как будто только начиналась: новая школа, новая квартира, будут и новые товарищи. Все обновилось, но говорить об этом не хотелось. Зачем говорить о том, что и так понятно?
Семья Бубликовых получила квартиру в другом районе города. Ленька встретил Федю как-то сдержанно… Перед Фединым другом лежал на столе тетрадный листок. На листке было написано Ленькиным почерком: «Зоркий», «Выслежников», «Детективов», «Антикриминалов», «Неподкупный»…
— Что делаешь? — осведомился Федя.
— Вот… Какая фамилия тебе больше нравится?
— Чепуховина какая-то…
— Нет, не чепуховина. Я фамилию ищу. Для себя.
— Зоркий…
— Зоркий отпадает, есть такой фотоаппарат для начинающих. «Антикриминалов» — длинно. «Выслежников», может быть? А тебе как?
— Что-то собачье…
Ленька согласился:
— Но и Бублик не годится для следователя: «Ваше дело будет вести Бублик…»
— Да, не то… — согласился Федя.
— Скоро паспорт получать. Подам заявление, старая фамилия очень уж неблагозвучная, попрошу присвоить новую… Как думаешь? Впрочем, тебе-то что? «Кораблев» — вполне подходяще…
В итоге Федя ушел от Леньки с непривычным сознанием того, что он много взрослее своего друга.
18
Лидия Борисовна решила сделать Таиске сюрприз — купила ей книжный шкаф. Стоил он сам по себе, стоила перевозка до дома, кроме того, пришлось заплатить двум грузчикам, чтобы они втащили его на девятый этаж… Все это деньги немалые. Но верно говорит мать:
— Деньги существуют для человека, а не человек для денег.
Они решили, пока Таиски нет дома, все ее книги расставить в новом шкафу. И вот, когда он помогал расставлять книги, наткнулся на фотографию Белого, которую тот прислал еще из армии. На ней Белый такой красивый, веселый. Вдруг рядом прозвучал голос мамы:
— Что ты там рассматриваешь?
Взяла из рук сына фотографию:
— Где взял?
— Вот в этой книге.
— На, и сейчас же положи на место.
Федя послушался, но это показалось ей недостаточным. Она продолжала:
— Таиска должна быть уверена, что в ее отсутствие мы ничего не тронем.
— Подумаешь, секреты, — усмехнулся Федя.
— Секреты, не секреты… Это ее дело. И только ее.
А через день или два пришла Эльма Самойловна. Федя был дома один. В прихожей раздался звонок. Открыл дверь — на пороге она. В очках, седая. Не поздоровалась, ничего не спросила, сразу начала говорить:
— Была у Модеста. Его самого не видела, но передачу ему взяли.
Села на стул, задумалась. Замолчала, словно забыла, что не одна.
— Как вы живете? — спросил Федя, чтобы только не молчать.
— Я живу? — очнулась она, недоуменно взглянула на Федю. — Впрочем, может быть, и живу. У меня комната и кухня. В новом доме.
Опять замолчала, потом внезапно заговорила:
— Клавушка его отговаривала. Она мне все рассказала. А Модест, напротив, посылал. Не родной. Всегда был и остался… Лизунов там этот старался. Сам бы Арик ни за что…
Опять замолчала. Усмехнулась:
— Взяли подписку о невыезде. Странные люди… Да куда же я от его могилы!..
На подоконнике лежал полевой бинокль. Мальчик предложил Эльме Самойловне:
— Хотите посмотреть наш дом? Правда, от него ничего не осталось.
Эльма Самойловна усмехнулась:
— Зачем? Чепуха! У меня ведь просьба к тебе: может быть, у вас найдется его фотография? У меня только детские…
Федя нашел, подал. Женщина оживилась:
— Можно взять? Милый ты мой, дай я тебя поцелую… Я даже не надеялась…
После этого она ушла. Федя стал смотреть в окно. Эльма Самойловна вышла из подъезда, уселась на скамью. Когда подошел автобус, женщина привстала, но никуда не поехала.
«Может быть, у нее нет мелочи? — подумал Федя. — Зачем тогда ждать?»
Эльма Самойловна опять опустилась на скамью, вынула что-то из сумочки и стала рассматривать. Так она пропустила еще автобуса.
Федя думал, что Таиска не скоро хватится фотографии, но на другой же день она обнаружила пропажу (из этого Федя сделал заключение, что она часто на нее смотрела). Она подошла к Феде с раскрытой книгой:
— Здесь была вложена… Ты взял?
— Не только взял… Отдал Эльме Самойловне.
— Насовсем?
— Конечно.
Федя ждал бури, но все обошлось неожиданно мирно. Таиска приблизилась к Феде, погладила по волосам:
— Это, пожалуй, к лучшему…
Федя не все понял в переживаниях сестры, но расспрашивать не стал.
Потом Таиска получила письмо от Клавушки из другого города. Письмо это Таиска почему-то дала Феде прочесть:
«Вот и все, — писала Клавушка. — Я даже на похоронах не была. Пришла на кладбище, когда уже все разошлись. Унесла с могилы комок земли.
…Все началось с пустяка. Сестра из Н. попросила его об одной маленькой услуге, потом о другой — побольше, а потом и о третьей. Ну, знаешь, как это бывает. Впрочем, может быть, и не знаешь: откуда тебе?
Приехал домой, а тут Клевый (Лизунов). Черт его знает, каким-то образом пронюхал про дела Аркадия в Н. Прижал его, стал угрожать. Тот согласился один-единственный раз. Но где раз, там и два.
Аркадий мне сам рассказывал, что решил совсем отойти, но Лизунов, видимо, упросил — последний раз. Последний раз. А вот как обернулось.
…Уехала, чтобы никому не мешать. Начну все сначала. Не знаю, смогу ли? В общем, не поминайте лихом. Может, когда и увидимся. Весной родится новый человек. Он пойдет другим путем, не таким, как его отец… Я бесконечно виновата перед тобой. Прости, если можешь. Собиралась написать много-много, а села писать, и получилось мало.
Клавдия Захарова».
Значит, она «Захарова», а Федя и не знал ее фамилии.
19
Федя и Таиска были одного и того же мнения: если уж покупать телевизор, то цветной. Чтобы потом не менять. Но цветной «кусается», значит, надо подождать. На этом и порешили — не торопиться.
В общем, с Таиской установились ровные, мирные отношения, хотя вчера, например, она опять подцепила брата: посмотрела на соседний балкон и сообщила как-будто никому:
— Леночка уже с книгой.
— Ее зовут Леной? — удивился Федя.
— А ты и не знал? Странно…
Федя покраснел, а Таиска засмеялась и ушла к себе в комнату. И больше ни о чем не спросила. Да и о чем спрашивать?
Лидия Борисовна работает теперь на том самом переезде. Выходит и подымает желтый флажок. Дежурит.
В первое же воскресенье Федя сел на автобус и поехал смотреть место, где прежде жил.
Кораблевскую половину дома совсем уж разломали, а от квартиры Перелясовых осталась одна стена, оклеенная голубыми обоями. Сами обои уже выгорели, а то место, где когда-то висел ковер, осталось как новое. Федя хорошо помнит этот ковер, его всегда было видно через окно, на нем был выткан стройный золотистый олень, выбегающий из темного леса. На переднем плане стоял юноша с пером на шляпе, в штанишках до колен. В руках у него рог, а рядом белые борзые с висящими розовыми языками. Теперь ковра не было. Оставшийся кусок стены Федя не раз видел в бинокль, но не мог понять, что там белеет. В остатках стены Федя увидел железную дверку. Удивился. Похоже, что в стену был вмурован шкафчик.
Черныш окликнул Федю:
— Ты что тут бродишь? Оставил что-нибудь?
Федя вздрогнул и спросил:
— Что это за коробка?
— Тайник. Рабочие нашли шкатулку с золотом Перелясова. Наверное, всю жизнь копил…
— Теперь поймали Лизунова?
— В Сочи арестовали.
— Перелясов хранил, а куда они потом девали награбленное?
— А ты не догадываешься?
— В 19-й магазин, завмагу?
— Точно. Всем заправлял Лизунов, а Аркадий был для него всего лишь рабочей силой.
— А за что Лизунов избил Перелясова?
— Тот прикарманил кое-что из награбленного. Перелясов замешан был в махинациях с мясом и познакомился с Лизуновым еще в следственном изоляторе. Перелясов был осужден условно, а Лизунов получил пять лет. После освобождения он нашел старика и приспособил его к своему «делу».
— А кто убил Белого?
— Когда они увидели, что машина на шоссе не ждет, они поняли, что им грозит провал, и решили не дожидаться замедления поезда у станции, боялись, что там их встретит милиция. Они спрыгнули на большой скорости. Аркадий сломал ногу. Тогда Лизунов убил его, чтобы тот ничего не рассказал…
…Закружились снежинки. Черныш подставил ладонь:
— Через месяц настоящий ляжет.
Участковый ушел.
Федя остался один около разрушенного дома. Увидел штангу около клумбы помятых цветов. Попробовал поднять. Она не тронулась с места. «Примерзла», — подумал Федя, но это была только первая мысль. Уперся ногой — штанга шевельнулась. Значит, не примерзла, а просто такая тяжелая. А Белый играючи поднимал ее.
…У Леньки не поблекла мечта стать следователем. После десятилетки хочет поехать в Омское училище милиции. Стать следователем — это хорошо, но плохо то, что Ленька трезвонит об этом направо и налево. Это как-то несерьезно.
А Федя сперва хотел быть машинистом электровоза, потом цирковым клоуном, затем тренером, а теперь он мечтает стать… Но этого он не может сказать вслух. Может, еще что переменится и тогда он будет выглядеть болтуном. И вообще дело серьезное — выбрать профессию, это не баран чихнул. Потому что на всю жизнь.
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ… Повесть
Посвящается милым моим внукам Диме, Оле, Маше и Сереже.
В ту пору мы жили на Прибрежной улице. Она имеет только одну сторону. Противоположной — просто нет. Вместо нее — крутой берег Томи.
Если случался сильный ветер, он кидал в наши окна брызги воды. И когда на реке кричали что-нибудь в рупор, то у нас было слышно каждое слово. А однажды в апреле затор нагромоздил лед точно против наших окон. Ребята говорили, что прилетали самолеты и сбрасывали бомбы, чтобы разбить затор, но это брехня. Просто приехали подрывники на двух грузовиках. Они привязывали к длинным палкам какие-то штуки, совали их под лед, а потом раздавались взрывы. От них весь наш дом вздрагивал и в ушах как будто что-то лопалось. Один из взрывов был такой сильный, что ледяные крошки ударили о наши оконные стекла. Мама побледнела:
— Что они, с ума сошли, что ли? Нюра, уйди от окна…
Но Нюра как стояла у окна, так даже не пошевельнулась.
Тогда мы занимали две комнаты нижнего этажа в единственном на улице двухэтажном доме. До революции он принадлежал какому-то торговцу, а потом торговец скрылся, и дом стал жактовским. Я любил наш дом и школу, в которой учился. Она тоже находилась на Прибрежной улице. Ее строил отец, когда только начинал плотничать. Город наш долго оставался совсем небольшим. На окраинах сажали огороды и весной улицы зарастали мелкой «гусиной» травкой.
Целыми днями мы, мальчишки, пропадали на берегу, особенно в апреле, когда шел лед. Льдины плыли, задевая друг за друга, хрустя и позванивая, грязные сверху, чистые и голубые внизу. Как-то раз близко к берегу проплыла широкая льдина. На ней сидела худая рыжая кошка. Около кошки валялась палка — должно быть, кто-то кинул и не попал.
Кошка посмотрела на меня равнодушно — она уже ни от кого не ждала помощи и поставила на своей судьбе крест.
Льдина плыла не быстро, и я пошел за ней. Около Нижних складов, как я и ожидал, она почти коснулась берега. Я прыгнул на нее, чтобы снять кошку, но это оказалось не так-то просто — кошка почему-то испугалась меня и стремглав бросилась на другой конец льдины. Она не обращала внимания на мои ласковые слова:
— Кисанька, куда же ты?
С трудом я поймал ее. За это время льдина успела отойти от берега. Пришлось разбежаться и прыгнуть. Расстояние было небольшое, но мешала кошка в руках. Правой ногой я угодил в воду и набрал полный ботинок. К тому же моя рыжая зверюга чего-то испугалась, стала царапаться и чуть не выскользнула из моих рук. Непонятное существо: когда ей грозила гибель — спокойно сидела на льдине, а когда ее спасли, — стала вырываться, как сумасшедшая.
Встретив меня во дворе, Нюра спросила:
— Неужели ты эту дрянь потащишь в дом?
— Почему дрянь? — возмутился я. — Очень умная кошка. Рыжуха!
— Как узнал ты, как ее звать? Она сама сказала?
Такая уж манера у моей сестры — подкусывать меня по любому поводу.
Мама отнеслась к Рыжухе спокойнее, а папа вообще не обратил на нее внимания.
Если бы только Рыжуха знала, как Нюра называла ее. Кроме «дрянь приблудная» — другого имени ей не было, но это продолжалось недолго. Дня через два я из сеней услышал, как сестра говорила нежным голосом:
— Милый ты мой, не сиди на подоконнике. Простудишься!
Я попытался поправить сестру:
— Почему ты кошку называешь «милый мой»?
— Потому что это не Рыжуха, а Рыжик.
— Не все ли равно?
— Как сказать? Во всяком случае, у Рыжика не будет котят… Это уж точно…
Мне оставалось только пожать плечами.
Рыжик мало ел и много спал. Я попробовал его дрессировать, но из этого ничего не получилось. Кот не хотел даже прыгать через палочку. Он вообще ничего не собирался выполнять. Меня, своего спасителя и хозяина, он не признавал. Целыми днями сидел на окне, поджав под себя лапы, и грелся на солнце. Никакого в нем интереса. Скучный зверь.
Семья наша состояла из пяти человек. Отец мой был «сезонник». Работал он только летом, а зимой сидел дома. Но «сидел» — это только говорится — отец не умел бездельничать. Целыми днями он столярничал во дворе, в своей избушке, мастерил полочки для цветов, табуретки, санки для детей, и мама относила их на базар.
Еще совсем маленький я понял, что отец работает не только ради денег — ему нравилось что-нибудь мастерить. В избушке у него стояла небольшая железная печка, верстак с двумя тисками и разным столярным инструментом. Мне нравилось приходить к отцу и, усевшись на березовую чурку, смотреть, как он работает. Был я самым младшим в семье. Вообще-то мое появление на свет произошло, как мама говорила, «ни к чему». Обидно, что живешь «ни к чему», но что поделаешь…
Иногда летом в день получки отец выпивал с товарищами и приходил домой навеселе. Тогда в комнатах ему было тесно, он выходил на улицу и садился на длинной скамейке. К нему подсаживались соседи и начиналась игра в лото. Но навеселе он бывал редко — отец не любил пьяных и сам, когда немного выпивал, не болтал, не хвастал, а делал вид, что ничего не случилось.
Брата моего звали Гришей. Отец учил его столярному делу. С завистью я слышал, как он хвалил Гришу:
— Руки у тебя золотые.
После этого я внимательно разглядывал Гришины руки и не находил в них ничего «золотого» — руки как руки.
Говорили, что характером отец пошел в деда — легкий, веселый, все делал быстро, ни над чем особенно не задумывался.
Когда я немного подрос, то из разговоров с Гришей узнал, что у отца есть одна мечта. Он собирался со временем купить токарный станок по дереву и стать токарем. Для этого отец откладывал деньги, достал резцы. Купив такой станок, он перестал бы мастерить табуретки, полочки и стал бы точить детские песочницы, изящные балясинки для балконов, замысловатые трости для стариков. Но на этом мечта не кончалась — став токарем, отец заработал бы много денег и как-нибудь повез бы всех нас в Крым, в Ливадию, где прежде нежились цари…
Сестра Нюра с детства росла, как мама говорила, «шибко сурьезной». Серьезность ее выражалась, прежде всего, в том, что она все делала по-своему. Так, летом сорокового года, после окончания десятого класса, она укатила в Москву — там пыталась сдать в университет, на химфак, но приехала домой ни с чем. Видно, одной самоуверенности для Москвы мало. Мама, зная характер Нюры, не стала подробно пытать, что и как, спросила только:
— Что теперь делать-то думаешь?
— Не пропаду, — ответила Нюра коротко.
Пропасть она, конечно, не пропала, даже замуж вышла, но об этом потом…
Когда я был совсем маленьким, а Нюра еще училась, она мечтала стать балериной и устраивала представления для меня одного. Играл граммофон. Огромный, неподъемный, с большой трубой. На трубе масляной краской художник нарисовал букеты голубых цветов. Помню пластинки: «Подайте Христа ради» («Песнь нищего») и «Гриша уезжает». Ее терпеть не мог Гриша — мы каждый раз его подначивали: «Куда это ты собрался?» Особенно любила Нюра «Цыганские пляски». Вот под «пляски» Нюра и танцевала. Пластинки были дореволюционные, толстые, с бороздками только на одной стороне. Граммофон остался еще от бабушки, которая считала его главным своим богатством. Бабушку, мамину маму я уже не застал.
Нюра выросла почему-то строптивой, но что было хорошего в ней — она никогда не жаловалась на меня маме. Что-нибудь натворю — шлепнет что есть мочи — и молчок. И я тоже на нее никогда не жаловался.
Перед войной Гриша перешел уже в десятый класс, а я еще только во второй.
Мама до войны нигде не работала — и без того хватало забот. Весь дом держался на ней. Целыми днями она стирала, штопала, шила на швейной машине, варила, мыла полы.
На втором этаже нашего дома жили разные люди. Помню милиционера, он ходил в форме, с наганом в кобуре. Когда он жил наверху, там пахло кожей и хорошим табаком. Однажды летом его убили бандиты где-то на железной дороге. Смерть его помню смутно. На похороны приезжала его мать, которая жила в деревне. Она забрала оставшиеся вещи: серое солдатское одеяло, выходные хромовые сапоги и гармошку, на которой он никогда не играл. Запомнилась красная крышка гроба, прислоненная к стене отцовской избушки, духовой оркестр. Мощные и печальные звуки оркестра меня поразили. Очень хотелось умереть, чтобы и на моих похоронах играла такая же красивая музыка.
После милиционера наверху поселился учитель нашей школы Кирилл Петрович. Когда он переезжал, старшие ученики помогали ему таскать книги. А книг было великое множество. Их навалили среди комнаты целую гору. Я тогда еще подумал: «Век ему с ними не разобраться». Однако я ошибся. Через два дня все книги аккуратно стояли на полках. Провожая глазами Кирилла Петровича, я с уважением думал: «Неужели он все это прочел?» Впрочем, ничего мудреного — наверное, прочел, потому что целыми вечерами сидел за книгами. Мы уже, бывало, ляжем спать, а у него все еще свет. Один раз, когда Кирилл Петрович ушел в школу, я поднялся наверх и посмотрел, что это за книги. Читать меня Гриша научил еще до школы, поэтому я сумел разобрать некоторые заглавия. Среди них встречались очень завлекательные, например: «Тайны египетских пирамид». «Тайны» — решил я, это что-нибудь очень интересное, а посмотрел: непонятно и скучно.
Любопытный человек был «новый жилец», как его называла Нюра. Он так же, как она, никогда не улыбался. Однако его нельзя было назвать нелюдимым. К нему часто приходили ученики старших классов — они собирали материал для книги, которую он писал. В нашем городе жило много бывших партизан. Они тоже приходили к Кириллу Петровичу, что-то рассказывали ему о гражданской войне, и он записывал эти рассказы.
Каждый день я видел его в школе — он преподавал историю в девятом и десятом классах.
Однажды я не выдержал и удивился вслух:
— Как много у вас книг… И все по истории?
Он засмеялся:
— Самая главная история не в книгах…
Я тогда не понял, что он хотел сказать.
Кирилл Петрович прожил тяжелую жизнь. Рос он сиротой и никто не помогал ему. О своей жизни он не рассказывал. Я узнал о ней из черновика автобиографии, в который он завернул ягоды. Ягоды он почему-то отдал Нюре. Она их съела, а листок бросила. Из этого листка я узнал, что Кирилл Петрович родился в селе Уртам на Оби в 1910 году. Отца и мать его убили колчаковцы. Оставшись без родителей, он до четырнадцати лет жил у дяди, брата матери, затем уехал в наш город. Работал токарем на мебельной фабрике, а вечерами посещал рабфак. Заочно кончил Томский пединститут и стал учителем.
Жил он не как все: не ходил в кино, не бывал в гостях, не играл ни в какие игры. И, по-честному сказать, он мне не нравился. Я его даже немного побаивался. Одно привлекало меня — его любовь к рыбалке. Почти каждую субботу он уходил на Томь, ночевал где-то один, на берегу, а чуть свет закидывал удочки. Возвращался он всегда с уловом и всю рыбу отдавал маме. Мама варила уху для него и для нас.
Свою большую комнату он разгородил на две части книжными полками и устроил себе маленькую спаленку. Как-то поздно вечером я решился посмотреть, что он делает. Снял ботинки и неслышно стал пробираться наверх. Он сидел спиной к двери и что-то писал. Я старался двигаться бесшумно, но он все же услышал меня и обернулся:
— Тебе что-нибудь нужно?
— Я только посмотреть…
— Ну смотри, — сказал он серьезно и снова занялся своим делом. Но мне уже расхотелось смотреть.
Вообще, все в нашем доме относились к нему с уважением. Одна Нюра разговаривала с Кириллом Петровичем насмешливо и даже грубо. Это было тем более удивительно, что он ведь был когда-то ее учителем. Я слышал такой разговор между ними:
— Что это вы все пишите?
— Книгу.
— Разве мало на свете книг?
— Такой еще нет.
— Вы уверены?
— Вполне.
В голосе ее, когда она говорила с ним, слышалась насмешка.
«За что она его так не любит? — удивлялся я. — И почему он ей все спускает?» А она продолжала задираться. Говорила сердито:
— Почему вы так много курите?
— Могу бросить, если не нравится…
— Слабо!
— Если решу — брошу.
— Трудно решить?
— Пожалуй.
— А я хочу, чтобы вы бросили… Хочу!..
Я думал, что он возмутится, но он покорно и вежливо сказал:
— Ну что ж — я брошу, если ты хочешь.
И, самое удивительное, он, правда, перестал курить. Взял и перестал, хотя я слышал, что от этой плохой привычки не так-то легко отделаться. Тоже непонятные, хотя совсем другие отношения сложились у Кирилла Петровича с отцом. Почти каждую субботу отец поднимался к Кириллу Петровичу и оставался у него около часа. О чем они там говорили — не знаю, но возвращался отец, торжественно держа в руках книгу. Потом он читал ее вечерами, не торопясь. Эти чтения были неким священнодействием — отец умывался после работы, переодевался во все чистое, причесывал мокрые волосы. Сняв сапоги, он надевал шерстяные носки, садился за стол и раскрывал перед собой книгу. В доме все затихало:
— Отец читает!
А до того, как у нас поселился Кирилл Петрович, отец вообще книг не любил, особенно презрительно относился к романам:
— Это для молоденьких. Нам такое ни к чему.
Тем более непривычно было видеть, что теперь он каждый вечер сидел за чтением. Книги были сплошь исторические, в том числе и романы.
Отец и мама никогда не ссорились, но недовольство друг другом случалось.
— Все читаешь? — спросила его как-то вечером мама. — Глаза испортишь…
— Не твоя забота, — нахмурился отец.
— Что-то поздно ты за чтение взялся.
— В детстве не успел.
Мама ничего не ответила. На этом разговор, как будто, окончился, но я понимал, что он продолжается.
Благодаря чтению отец забросил свои полочки и этажерки. Как-то в воскресенье мама проговорила, ни к кому не обращаясь:
— Сегодня я на базар не пойду.
Отец вопросительно посмотрел на маму.
— Не с чем идти, — вздохнула она.
Отец тоже вздохнул, но промолчал.
Между прочим, он и Нюру пытался приохотить к истории.
— На-ка, почитай… Хорошо написано.
Сестра взяла книгу, повертела в руках и фыркнула:
— Киевская Русь… Грекова? Неужели это тебе интересно?
— Очень даже… Как же — наша, Русская земля.
— И все ты понимаешь?
Отец серьезно покачал головой:
— Не все… Приходится у Кирилла Петровича спрашивать…
Однажды он отодвинул книгу, поправил очки и строго спросил Нюру:
— В каком году Курбский бежал в Литву?
— Не знаю, — усмехнулась сестра.
— Почему? — еще строже продолжал отец.
— Забыла, а может быть, не проходили…
— Как же это не проходили?
— Сдался тебе этот князь? Ну сбежал и сбежал, подумаешь — важность…
— Свою-то историю мы должны знать? Или не должны?
— Должны, — согласилась Нюра, — но всех пустяков в голове не удержишь…
— Письма Грозного Курбскому — это не пустяк… Вот Кирилл Петрович наверняка знает, в каком году…
— Ну и спрашивай у него, — дернулась обиженно сестра.
— Мне надо, чтоб ты знала… А он — само собой… Он все знает…
А Кирилл Петрович и правда все знал.
Авторитет его вырос, особенно после одного случая. Отец купил словарь иностранных слов. И, конечно, сразу же похвастался перед Кириллом Петровичем своим приобретением, но тот не разделил отцовской радости, даже удивился:
— Зачем он вам?
— Как зачем? Слова незнакомые смотреть. Хотел и вам купить.
— Мне он не нужен.
— Почему?
— Слова я и так знаю.
— Все?
— Все.
— Не может быть, — усомнился отец.
— Можно проверить, — предложил Кирилл Петрович.
Я помог отцу выбрать из книги слова позаковыристей, каких Кирилл Петрович наверняка не знал.
— Что такое «ихтиоз»?
— Кожная болезнь, — отвечал, не задумываясь, Кирилл Петрович.
— А «манганит»?
— Минерал с содержанием марганца.
Мы с отцом тщательно проверили его ответы. И «ихтиоз» и «манганит» он объяснил правильно. Затем мы выкопали слово, которого он уж никак не мог знать: «рудбекия». Я такого чуда сроду не слыхивал… А Кирилл Петрович сразу ответил:
— Южно-американское растение.
После «рудбекии» дальнейшие испытания производить мы не стали. И без этого ясно, что Кирилл Петрович лицом в грязь не ударит.
Когда Кирилл Петрович ушел, отец тихо, но значительно произнес:
— Вот голова так голова! Просто электростанция…
И я был с ним вполне согласен.
Отца в семье у нас побаивались. «Смотри, скажу отцу!», «Отец тебя выпорет!» — частенько слышал я от мамы. Но я рано понял, что это только угрозы — отец за всю жизнь меня пальцем не тронул. Один только раз он проявил свою власть. И все получилось из-за голубей. С чего началось — я не помню, но суть была в том, что Гриша забросил учебу, не выполнял домашних заданий и нахватал «неудов». Целыми днями он пропадал у нас на чердаке и на крыше. Там он возился со своими голубями: «гонял» их, заманивал чужих, менял, продавал, покупал, т. е. стал заправским голубятником. Отец стыдил Гришу, увещевал, убеждал, а потом вдруг вспылил, да так, что все в доме притихли. Он ворвался на чердак и через слуховое окно повыкидывал всех голубей наружу. Гриша умолял его, хватал за руки, но отец оказался непоколебимым. Так в какие-то пять минут было покончено с Гришиным увлечением. Из девятнадцати домой вернулись только три голубя.
Гриша плакал и говорил, что никогда не простит отцу такого самоуправства. Но оказалось, что есть в жизни кое-что посерьезнее голубей. Через несколько дней обида забылась, а главное, после этого Гриша стал учиться намного лучше.
Однажды отец велел мне:
— Пойди к Кириллу Петровичу и попроси у него «Литературную газету».
Я поднялся по лестнице наверх и застыл от удивления. Перед Кириллом Петровичем стояла наша Нюра и завязывала ему галстук.
— Вот так, — говорила она тихо. — Что здесь мудреного? Все очень просто…
— А откуда ты умеешь? — спросил он.
— Тебе это знать не обязательно.
Меня поразило, что она говорит ему «ты». Осторожно, чтобы они не услышали моих шагов, я спустился вниз.
— Где же газета? — спросил меня отец.
— У него нет, — ответил я.
— «Литературную газету» приносили сегодня, — заметила мама.
— Он сам читает.
— Так как же понять: нет газеты или он читает?
— Читает, читает, — поспешно сказал я.
Незаметно внизу появилась Нюра. А может быть, ее отсутствие нарочно не замечали. Во всяком случае, на другой день я убедился, что взрослые знают что-то такое, чего не знаю я. Отец и мама тихо переговаривались.
Мама: — Он старше ее чуть не вдвое.
Отец: — Ее дело — старше он или моложе.
Мама: — И образование: он учитель, книгу пишет, а у нее всего-то десять классов.
Отец: — Будет учиться…
О ком шла речь? Об этом я узнал позже, когда мама и Нюра говорили, думая, что я их не пойму.
Нюра: — Что ты против него имеешь? Скажи прямо.
Мама: — Не по себе дерево рубишь.
Нюра: — Это не тебе решать…
Мама: — А кому же?
Нюра: — Здесь Костя!..
Вот так всегда — чуть разговор посерьезней, меня считают маленьким, а как в ларек за керосином, то большой.
Кирилл Петрович обычно обедал в столовой, а ужинал с нами. Однажды он почему-то не спустился к ужину. Мама сказала отцу:
— Кирилл Петрович просит руки нашей Нюрочки.
— Давно пора, — сказал отец, но так тихо, что услышал только я.
— Что ты там говоришь? — спросила его мама.
— Я очень рад.
Однако я нисколько не заметил, чтоб он радовался. Пришла Нюра, села на свое место.
— Поздравляю тебя, — сказал отец.
Нюра ничего не ответила, только тряхнула челкой.
— Где же он сам? — спросил отец.
— Сейчас…
Нюра побежала наверх. Через несколько минут Кирилл Петрович спустился вниз. Нюра тянула его за рукав.
— Ну, скажи, — подтолкнула она его вперед.
— Ты уже сказала…
После этого отец и мама поцеловали Кирилла Петровича. К щеке его приложился Гриша, а потом примеру всех последовал и я. Разговор пошел о свадьбе, но Нюра объяснила, что Кирилл Петрович считает свадьбу пережитком прошлого.
— А ты как думаешь? — спросил отец.
— И я так же…
— Гм… А мы с мамой придерживаемся другого мнения…
— Мы зарегистрируемся, — сказала Нюра. — Разве этого недостаточно?
Отец хотел еще что-то сказать, но сдержался.
Что касается меня, то мне хотелось настоящей свадьбы, такой, какая была у Киселевых, что живут рядом. Молодые приехали из ЗАГСа на извозчике и разбрасывали детям шоколадные конфеты. А потом в их доме были открыты все окна, слышались звон посуды и красивые, протяжные песни. Мы заглядывали в окна, раздвинув горшки с цветами. Сестра Лены Киселевой краснела и улыбалась, а жених что-то говорил ей на ухо. А потом они при всех поцеловались.
Такую свадьбу можно было вспоминать и вспоминать, а у нас мало что изменилось, только теперь Нюра поселилась наверху, у Кирилла Петровича.
Недели через две Нюра вдруг заговорила со мной о Кирилле Петровиче.
— Он ведь славный… Как ты считаешь? Очень умный. Нисколько не пьет и не копит денег. И во всем справедливый. Правильно я говорю?
Я кивнул. Последнее время Кирилл Петрович начал мне нравиться. Хороший человек, ничего не скажешь: на день рождения подарил мне бамбуковую удочку с крючком и двухцветным поплавком.
* * *
…В тот день мы поднялись раным-рано. О червях я позаботился с вечера — накопал их полную банку из-под кукурузы. Отец разрешил взять с собой Рыжика. Только предупредил:
— Смотри, убежит — не поймаешь.
Город еще спал. Под нашими шагами скрипели деревянные тротуары. На Томи лежала ночная тишина.
Я был счастлив — в левой руке я нес Рыжика, а в правой — настоящую бамбуковую удочку с красивым поплавком. Жалко, ее никто не видел. Впереди двигались отец и Гриша. Кирилл Петрович остался дома — на рыбалку он любил ходить один.
На лодочной базе сторож отцепил нам самую хорошую лодку — называлась она «Тихая» и была покрашена в голубой цвет.
Эта поездка началась с большого для меня события. Когда мы размещались в лодке, Гриша сел было за руль, но отец приказал ему.
— Дай Косте, пусть поучится.
Гриша усмехнулся и молча уступил мне место. Я постарался не показать своей радости, хотя давно мечтал править лодкой.
На реке лежал легкий туман. Солнце еще не взошло. Я вел лодку близко от берега, чтобы легче было идти против течения. Левое весло едва не задевало за песок. Я управлялся с рулем как опытный речник. Удивительное это чувство — ощущать, что лодка подчиняется каждому твоему движению.
Раз я был рулевым, мне предстояло выбрать место для переправы на остров. Я смотрел на лицо отца, но не мог угадать: пора уже или нет. Потом решился, поставил лодку наискось и скомандовал:
— Нажать!
Я знал, что и отец, и Гриша должны мне подчиниться, и они подчинились.
Мы перевалили… Место для стоянки выбрал тоже я. Хорошее место — маленький заливчик, песчаный пригорок и на нем густые заросли тальника. Палатку поставили почти у самых кустов.
Отец и Гриша взяли бредень и ушли на озеро. Я остался один. Взошло солнце. Заблестела вода. Прежде чем заняться рыбалкой, я натаскал хвороста для костра, потом только сел с удочкой.
Рыжик сперва не понял, в чем дело, но когда я вытащил пескаря, кот жадно съел его и уселся рядом со мной. Он внимательно следил за поплавком. Потом я поймал чебака. Рыжик раньше меня кинулся к нему. Так повторялось несколько раз. Насытившись, он перестал следить за поплавком, свернулся калачиком и уснул на песке, пригретый солнцем.
Было хорошо и тихо. Один только раз прошел большой белый пароход на Томск, да где-то далеко протарахтела моторка. Всего я добыл двух окуней и штук восемь небольших чебаков. К обеду вернулись отец и Гриша и принесли ведро рыбы. Оба окоченевшие, с пупырышками на коже. Из нескольких рыбин сварили уху, остальных почистили и выпотрошили, чтобы отвезти домой.
После обеда мы спали в палатке на тальниковых ветвях. Я проснулся, лежал и думал, а Гриша с отцом все спали. Потом и они проснулись. Гриша попросил у меня удочку и стал удить. Поймал всего пару ершей, рассердился и сказал, что моя удочка никуда не годится.
Когда солнце клонилось к закату, мы начали собираться домой. Сняли и сложили палатку, столкнули лодку на воду. Рыжик поместился на носу и подремывал с таким невозмутимым видом, как будто всю жизнь провел в лодке.
Вниз спустились быстро. Лихо описав полукруг, причалили к базе. Сторож молча примкнул нашу лодку. На мостках нас ждали мама и Нюра.
— Ну наконец-то…
— Что случилось? — спросил отец.
— Война, Захар, — заплакала мама.
С кем война — можно было и не спрашивать.
На следующее утро отец позавтракал рано и ушел в военкомат. Он поцеловал каждого из нас и сказал:
— Провожать не надо.
Мы смотрели в окно, как он удалялся по Прибрежной улице, пока не скрылся из вида.
На столе осталась горка костей из чебаков, его чашка на блюдечке, рядом чайная ложка и корка хлеба. Нюра прибрала на столе, вытерла клеенку тряпкой. Но не все она прибрала. Уходя, отец оставил на подоконнике недочитанную книгу с закладкой на 143-й странице. Нюра хотела отнести ее наверх, но Кирилл Петрович сказал:
— Не надо, Захар Петрович вернется — дочитает.
Через неделю мы с Гришей снова поехали на то место. Сторож опять отцепил нам «Тихую» и спросил об отце.
— Не знаем, — отвечал Гриша, — куда-то отправили…
Место нашей прежней стоянки мы нашли сразу. Об отце почему-то не говорили, но все напоминало о нем. И зола костра и следы его сапог на песке, которые не успел замести ветер, и серебристая чешуя на бревне, где он чистил рыбу…
Гриша взял свои удочки и ушел куда-то вверх по берегу. Я остался, как в тот раз, один. Опять насобирал хвороста, опять удил рыбу прямо около палатки.
…Дома нас ждало письмо от отца. Они вот-вот должны были отправиться на фронт.
* * *
Мать, вытирая пыль, наткнулась на отцову книгу на подоконнике.
— Вот почитать бы… Да времени нет.
— Да ты и не поймешь, — усмехнулась Нюра.
— Может, и не пойму, — добродушно согласилась мама.
Когда взрослые ушли, в комнату заглянул я. Попробовал почитать, но и правда ничего не понял. Каждое слово в отдельности вроде вполне знакомо, а вместе, как ни старайся, ничего не складывается.
И тут до меня дошла одна простая вещь: отец намного умнее меня. Какой же тогда ум у Кирилла Петровича? Страшно подумать! Правда, я об этом открытии никому не сказал.
Неожиданно Кирилла Петровича назначили директором Алмазовской средней школы. Помню последний вечер перед Нюриным отъездом. Отцово место оставалось пустым. На его стул никто не садился. Мама нам ничего не сказала — просто так вышло, словно сговорились.
Кирилл Петрович жаловался в тот вечер:
— Как же не хочется принимать школу. Да и какой я руководитель? Ни дня не работал директором. Да я просто-напросто и не умею…
Мама обычно соглашалась с Кириллом Петровичем, во всем поддакивала ему, а тут вдруг решительно возразила. Это было так неожиданно, что все перестали есть и ждали, что будет дальше. Мама проговорила тихо, но твердо:
— Что значит — не хочу? Не умею? Ты думаешь, наши на фронте все хотят и все умеют? Надо — вот и делают свое дело.
Нюра посмотрела на Кирилла Петровича вопросительно. Я тоже ждал, что он что-то скажет. Но Кирилл Петрович промолчал, только покраснел.
На другой день они с Нюрой уехали. Мама объяснила мне коротко:
— Нюра не только наша. Теперь они с Кириллом Петровичем должны быть всегда вместе.
За ними из Алмазова пришла большая бричка, которую тянула пара лошадей.
На улице накрапывал дождь. Бородатый возчик таскал связки книг, утирал рукавом пот с лица и говорил все время:
— Не извольте беспокоиться…
Сверху книг он навалил две книжные полки и все прикрыл брезентом.
С собой они не взяли ни кровати, ни стола, ни стульев.
— Там все есть, — объяснил Кирилл Петрович.
Запомнилось прощание с Нюрой: до того дня я и не подозревал, что она меня так любит. Я пошел проверить — не забыли ли они чего нужного, поднялся в оставленную комнату, как вдруг услышал шорох позади. Оглянулся — на пороге стояла Нюра, протягивая ко мне руки. Она подошла и запустила пальцы в мои волосы:
— Если б ты знал, как не хочется…
— Тогда оставайся с нами!
— Глупенький ты! И совсем маленький.
И то и другое было очень обидным, но я понял, что сейчас не до обид, и сдержался. Сестра крепко поцеловала меня и убежала вниз. На прощание я подарил ей Рыжика. Мне кажется, она обрадовалась.
Кирилл Петрович надел дождевик и предложил Нюре опробовать черный зонтик, который он ей недавно купил. Она взобралась на бричку, поставила у ног граммофон.
Телега поехала вдоль улицы. Нюра сидела на брезенте и махала белым платком. Из-под полы ее плаща выглядывали белые усы Рыжика.
* * *
Осталась в памяти и школьная линейка первого сентября. Началось все как всегда: выпускники дарили цветы первоклашкам, первоклашки посматривали на родителей, которые стояли в сторонке. Потом произнес речь директор школы Иван Михайлович. Он объявил, что заниматься будут только младшие классы, а старшие будут ходить в пригородное хозяйство водников убирать картофель.
Еще помню, Иван Михайлович сказал, что война скоро кончится и к зиме наши будут в Берлине. Тут уж мы долго ему хлопали, пока наша учительница, Ольга Петровна, не сказала: «Хватит!»
Мы, второклассники, тоже два раза ходили на поля. Правда, не копали картошку, а дергали морковь. Ели ее сколько хотели. Никто этого не запрещал, только предупредили, что нельзя уносить домой. Это несколько испортило удовольствие, потому что мне очень хотелось принести морковь маме и Грише.
* * *
Наша мама не верила приметам, но все же один раз, мне кажется, не обошлось без этого. На стене висели часы в дубовом длинном ящике. Они всегда шли и ни разу не ломались, и вдруг остановились в тот самый момент, когда отец ушел из дома. Гриша хотел отнести их часовщику, который жил на нашей же улице, но мама не позволила:
— Отец вернется, сам починит.
На второй этаж, где прежде жили Кирилл Петрович и Нюра, мы почему-то старались не заходить. Посреди пола лежала газета. Помню, она пожелтела, но никто не поднял ее.
Без Нюры дома стало как-то пусто, и в середине сентября мы с Гришей отправились проведать ее в Алмазово. До Алмазова от нашего города было недалеко — километров шесть-семь. Дорога шла вдоль реки Виляйки, иногда открытыми полями. Дул сильный попутный ветер, шумел в березняке, срывал желтые листья. Когда подходили к селу, запомнилось красное заходящее солнце и такие же красные длинные облака, протянувшиеся вдоль горизонта.
Гриша сообщил мне под большим секретом о новом оружии нашей армии, о каких-то машинах, которые стреляют снарядами огромной разрушительной силы. Через несколько лет я догадался, что Гриша рассказывал мне о знаменитых наших «катюшах». Но откуда он мог знать о них — в глубочайшем тылу, в сентябре сорок первого?
Жили Кирилл Петрович с Нюрой в большом пустом здании школы. (Занятия в старших классах, как и у нас, должны были начаться только в октябре.) Приняли они нас хорошо. Здесь я встретил Рыжика — он растолстел и стал важным. Он сделал вид, что не узнал меня. Когда я взял его на руки, он не выразил никакой радости и, по-моему, думал только о том, чтобы я оставил его в покое.
Ужин мне понравился, даже очень, хотя Нюра извинялась, что нечем угостить. Кирилл Петрович достал из погреба огромный спелый арбуз. Такой спелый, что чуть воткнешь в него нож, он трескается и разваливается на части. Нюра подавала мне кусок за куском. Арбуз был сладкий, а черный хлеб кислый — вместе получалось такое — просто пальчики оближешь. Кирилл Петрович все советовал:
— Ты не стесняйся. Будь как дома.
А я и не думал стесняться… Потом он принес кринку холодного молока и малосольных огурцов, пахнущих укропом. Жалко, что я уже наелся. Живот и так был как барабан. После ужина Гриша пошел во двор покурить, а Нюра и Кирилл Петрович стали переговариваться, и я понял, что у них не все так хорошо, как они старались показать. Запомнился разговор. Нюра говорила капризным тоном:
— Завтра пойдем в лес. Должны появиться опята…
— Их еще нет.
— Ну и пускай, но я хочу в лес…
— В твоем-то положении?..
Нюра ничего не ответила, но я потом спросил ее, что у нее за положение. Она, видимо, не ждала такого моего вопроса.
— Зимой ты станешь дядей…
И, видя, что я не понимаю, разъяснила:
— У меня будет сынок или дочка. Тебе хочется?
— Хочется, — подтвердил я, хотя это была неправда. Всерьез мне хотелось только, чтоб кончилась война и чтоб дома все было по-прежнему.
Поздно вечером, когда Нюра зажгла лампу, к Кириллу Петровичу пришла седая учительница. Сразу с порога она начала:
— Кирилл Петрович, а поостроумнее вы ничего не придумали?
— Что такое? — удивился он.
— Я никогда не вела математику…
— Поведете.
— Но я все-все забыла.
— Вспомните.
— Нужны способности.
— Появятся.
— Но я не хочу. Понимаете — просто не хочу.
Кирилл Петрович посмотрел на нее строго и холодно:
— Что значит «не хочу». Такие слова забывать надо. Думаете, наши на фронте все хотят и все умеют? Но надо — значит, делают свое дело… — И добавил: — Поймите, что больше некому.
После этого он перечислил всех мужчин-учителей, которые мобилизованы в армию.
— Звонил в РОНО — оттуда мне ответили: «Обходитесь своими силами.»
Учительница усмехнулась:
— Это я-то сила?
— Сила и очень значительная.
Я считал, что они договорились, учительница вроде бы согласилась, но вдруг она отвернулась и заплакала. Кирилл Петрович нахмурился и прошелся по комнате:
— Вот это уж ни к чему…
— Я больше не буду, — по-детски сказала учительница и ушла.
Ночевать Кирилл Петрович повел нас с Гришей в пустой класс. Грише постелили на столе, а мне на полу.
Гриша сразу уснул, а я сперва задремал, а потом очнулся и вдруг понял, что не усну. У меня так случается — не хочется спать и все. Впрочем, на этот раз была причина. Мешали мыши — безвредный зверек, ничего человеку сделать не может, но все-таки немного боязно. Хоть бы одна, а то целых две: одна где-то под шкафом перекатывала сухую корку, а другая грызла дерево в углу — может, прогрызала себе новый ход. Я попробовал вспугнуть их — хлопнул по полу ладонью и прошипел: «ш-ш-ш». Они на минуту умолкли, а затем опять принялись за свое. Сперва я хотел разбудить Гришу, но побоялся, что он поднимет меня на смех. Это была длинная, прямо-таки бесконечная ночь. Сперва я пробовал уснуть, но потом понял, что из этого ничего не выйдет, и подошел к окну. Оказывается, школа находилась недалеко от железной дороги. По высокой насыпи прошел поезд. Отлично видны были окна вагонов и даже искры из трубы паровоза. Белел ствол березы, освещенный из окна. Потом этот свет погас и стал виден школьный сад. Звезды не светили. Они были закрыты низкими облаками.
Я спустился вниз и вышел во двор. Откуда-то из дальней дали донесся гудок паровоза. Потом он умолк и стали слышны удары капель начинающегося дождя о железную крышу.
Когда я вернулся со двора и вошел по лестнице на второй этаж, то никак не мог найти нужную дверь. Я заглянул в один класс, в другой и нигде не нашел Гриши. Я вспотел от волнения, открыл какую-то дверь и решил хоть где-нибудь улечься спать, как вдруг заметил, что в углу стоит кто-то белый. Мне почему-то показалось, что это муж Нюры. Шепотом я окликнул его:
— Кирилл Петрович!
Но он не откликнулся и не пошевельнулся. Я сделал шаг или два вперед и вдруг увидел, что это не Кирилл Петрович, а скелет человека. Он смотрел на меня темными впадинами глаз и скалил зубы. Я кинулся от него прочь. От страха не сразу нашел дверь, все натыкался на какие-то шкафы. Наконец, выскочил в коридор. Тут виднелся темный силуэт человека. Это был Кирилл Петрович.
— Не спится? — спросил он.
— Угу, — промычал я.
Теперь-то я понял, что попал в кабинет биологии, у нас в школе был такой скелет, и он тоже стоял в углу.
Утром мы попросили Нюру, чтобы она завела граммофон. Вместо нее ответил Кирилл Петрович:
— Граммофон не играет. При переезде сломалась мембрана… Там пустяки, надо будет как-нибудь припаять…
(Надеясь, что он исправит граммофон, я позже наточил на бруске десятка два иголок. Услышать голос этого граммофона стало моей мечтой, но мечта эта так и не сбылась.)
Запомнилось также наше возвращение домой. И не все возвращение, а только кусочек. Где-то на полпути мы присели отдохнуть на поваленную ветром осину. Откуда она взялась на берегу Виляйки? Кругом рос только кустарник. Вершина осины касалась воды, а ствол лежал на берегу. Гриша молча смотрел на воду, а я сидел рядом. Плеснула большая рыба, и по тихой воде пошли круги.
— Вот тут карась хорошо клюет, — проговорил Гриша. — Один раз я здесь десять штук взял…
Этот случай я помнил. Мама пожарила тогда их в сметане. Превкусные были караси, только очень уж костистые.
Так закончился наш поход в Алмазово.
* * *
В феврале мама ходила в Алмазово и, вернувшись, сказала, что Нюра родила девочку, которую назвали Светой. Теперь я стал дядей… Оказывается, и второклассники могут быть дядями.
От отца мы получили письмо — их часть стояла на отдыхе. Он сообщал, что видел пленных немцев, обутых в огромные, сплетенные из соломы валенки. Мама и я сразу написали ему о всех наших домашних новостях.
Однажды, в начале марта, кто-то постучал в ставню. Вошла Нюра, вся в снегу, худая-прехудая, со Светкой на руках. Светку положили на кровать и перепеленали.
— Мама, — сказала Нюра, — Кирилл ушел на фронт. Я решила до конца войны жить у вас. Господи! — воскликнула она. — Я же ведь не одна… Совсем забыла.
Не одеваясь, она выбежала на улицу и привела старика в широченном тулупе и с кнутом.
— Вот — Степан Иннокентьевич… Наш возчик.
— Степан Иннокентьевич уже были у нас, — вгляделась мама в старика. Вспомнил его и я. Он и сейчас все время улыбался и заискивающе говорил:
— Не извольте беспокоиться…
Степан Иннокентьевич принес со двора замерзший фикус и узел с какими-то вещами.
— Вот и все, что мы нажили, — засмеялась Нюра.
— Какая важность, — махнула рукой мама.
— И правда, — кивнула Нюра, — не в этом счастье.
— А граммофон? — спросил я.
— Граммофон? — Нюра помедлила, наморщила лоб. — Не помню, где он…
— Я дарил тебе Рыжика, — напомнил я.
— Рыжик остался в Алмазове, — отвечала она, — он там единственный кот на всю школу. Будет охотиться на мышей.
Нюра погладила меня по плечу, и я понял, что спрашивать больше не надо.
Она рассказала, что Кирилл Петрович сразу после нашего посещения был мобилизован. Все книги Нюра отдала в школьную библиотеку, а домой привезла только фикус, Светланкины пеленки и незаконченную рукопись Кирилла Петровича.
Возчика напоили чаем и хотели оставить ночевать:
— Куда на ночь глядя, да в такую метель?
Но старик настоял на своем:
— Не извольте беспокоиться… Лошади сами дорогу знают…
И уехал.
Так сестра стала опять жить у нас.
* * *
Весной сорок второго года Гриша ушел из школы и поступил работать на фабрику, сперва учеником, а потом фрезеровщиком. А летом получил повестку. Когда он увидел ее, то схватил меня под мышки и крутанул вокруг себя. Я попросил:
— Еще!
Он крутанул еще раз, я задел ногами спинку стула. Стул опрокинулся. На шум пришла мама.
— Что это вы развоевались?
— Вот! — показал Гриша повестку.
Мама стала очень грустная и весь вечер молчала. И мне и Нюре тоже жалко было расставаться с Гришей. Я спросил его:
— Тебе дадут автомат?
— А как же!
Вот тогда я понял, что Гриша теперь совсем взрослый человек. Я напомнил ему:
— Ты обещал мне сделать самокат.
— Вернусь — сделаю.
Посмотрел на меня и похлопал по плечу:
— Ну чего, Федул, губы надул? Немцев надо прогнать. Никто за нас этого не сделает.
На другой день мама, я и Нюра со Светкой пошли провожать Гришу. Полдня сидели на затоптанной, повядшей траве против кирпичного здания военкомата. Здесь же почему-то оказалась девчонка из соседнего дома — Лена Киселева. Она села вместе с нами, и Гриша держал ее за руку.
Потом с крыльца военкомата сошел военный, приказал мобилизованным построиться по росту в один ряд. В руках он держал список и выкрикивал фамилии и имена. Когда он назвал: «Агеев Григорий Захарович!» — Гриша звонко откликнулся:
— Я…
Ох как было завидно. Как хотелось, чтоб крикнули: «Агеев Константин Захарович!»
Потом мобилизованных построили в колонну по четыре и куда-то повели. Мы сперва остались на месте, затем догнали колонну и пошли в толпе женщин. Так дошли до Красных казарм на краю города, и на прощание Гриша помахал нам рукой. С утра было холодно, и потому он надел свое черное драповое пальто, но к обеду стало жарко, он расстегнул его. Таким он и запомнился мне: с росинками пота на лбу, в расстегнутом пальто, между расходящимися полами которого виднелась белая рубашка. Некоторое время мы постояли перед окнами казарм, но Гришу не увидели и пошли домой. Пошла с нами и Лена. Дома меня отослали наверх, где теперь жила Нюра со Светкой, и я слышал, как внизу мама и Лена всхлипывали и утешали друг друга. А когда Лена уходила, мама поцеловала ее.
Лена приходила к нам еще несколько раз. Вместе с мамой они читали Гришины письма, которые приходили из Омска. Он писал, что учится на зенитчика и скоро уедет на фронт.
Ходить в десятый класс Лена не стала, поступила официанткой в столовую водников. Как-то она встретила меня и спросила:
— Почему не заходишь?
Я не знал, что ответить, потому что не понял, куда заходить: в столовую или к ней домой?
* * *
Перед самой зимой к нам приехал завод из-под Москвы. Мы, пацаны, бегали на станцию встречать составы со станками и каким-то непонятным оборудованием. Хотели помочь сгружать с платформ машины, но нас прогнали… Завод обосновался в бывших Красных казармах…
Тогда же у нас начались несчастья. В это время перестали приходить письма от папки. До этого его коротенькие письма мы получали каждый месяц. А теперь он вдруг замолчал… Мама ходила в военкомат, но там ей ничего не смогли сказать.
Пришло известие, что Гриша погиб под Наро-Фоминском, а немного позднее умерла Светка, и тогда же пришло сообщение, что в госпитале в Саратове скончался от ран Кирилл Петрович.
Света умерла в декабре. Не могу вспомнить, какого числа.
Конечно, было еще что-то — наверно, приходили врачи, давали какие-то лекарства или делали уколы. Это не осталось в памяти. А запомнилось вот что: утром Нюра не спустилась к нам. Мама позвала ее, но наверху все оставалось тихо. Позвала еще раз, а потом сама поднялась по лестнице. Через минуту послышался крик мамы. Запомнилось также, как маленький беленький гробик несли на кладбище. Наша соседка, высокая, похожая на мужчину, несла гробик перед собой на длинном вафельном полотенце, завязанном наискось через плечо. Ей было тяжело, по лицу ее струился пот, но она не уступила никому.
Кладбище было равниной, почти без деревьев. Лес крестов и памятников. В гробу видно было только стеариновое личико, в искусственных бумажных цветах, с очень длинными ресницами.
Когда Светка умерла, мама предложила Нюре:
— Переходи к нам вниз.
— Мне и одной неплохо.
— Скучно же одной.
— Нет.
Отвечала она намеренно коротко, чтобы не вступать в пререкания. Но что она делала там, наверху? Не раз я прислушивался — сверху не доносилось ни звука. Нюра не ходила, не передвигала стульев, не плакала. Казалось, даже не дышала. Но так она выдержала недолго. Через несколько дней сказала:
— Мама, я пойду работать, а то так с ума сойти можно.
Мама одобрила желание Нюры, и сестра поступила работать на эвакуированный завод. Уходила на завод она еще в темноте, а приходила поздно вечером.
— Что ты там делаешь? — как-то поинтересовался я.
Нюра усмехнулась:
— Что делаю? Об этом не положено говорить. Даже братьям…
— Интересно?
— Нет. Это не по мне… Но ведь надо.
На этом и кончился наш разговор о ее работе.
* * *
В начале сорок третьего управдом явился к нам и предложил: «Ослобоните помещение. Здесь поселятся эвакуированные». Речь шла о верхнем этаже, где жила Нюра. Помещение мы освободили, мама даже побелила комнату, чтобы люди не подумали, что мы грязнули.
Я почему-то представлял себе, что эвакуированные приедут на грузовой машине, будут носить множество всяких вещей, но получилось совсем не так. Кирьяковы пришли пешком. Это были Лариса Антоновна и двое ее детей. Сережа, одного со мною возраста, и Зоя, на два года младше, — на детских маленьких костылях. И вещей у них почти не было: ни кровати, ни стола, ни стульев. Был только один чемодан с оторванной ручкой. Скоро многие наши вещи перекочевали к Кирьяковым — кастрюли, тарелки, ложки, не говоря уже о том, что оставила в своей комнате Нюра: кровать, стол, стулья…
В это же время мама пошла работать на мебельную фабрику. Вначале она хотела стать на фрезерный станок, на котором прежде работал Гриша, но дело у нее почему-то не пошло, может быть, просто не хватало сил ворочать шаблоны, поэтому она стала в этом цехе уборщицей. Каждый день она приносила мешок стружек, и мы ими топили железную печку внизу. Топливо это было плохое — стружки быстро прогорали, а тепла с них — кот наплакал. Иногда даже не успевала свариться картошка. А Кирьяковы совсем не топили свою печь, правда, от нас все тепло поднималось к ним.
Однажды мама принесла с фабрики толстую березовую чурку, чтобы положить ее в печь. Однако мне жалко было тратить ее на такое дело — из нее мог получиться отличный линкор. Мы с Серегой выпросили ее у мамы и, не теряя времени, принялись за работу. В ход пошел отцов инструмент, который мама перенесла из избушки домой. Корпус корабля получился сразу, хуже обстояло дело со всякими палубными надстройками. Нужно было где-то раздобыть хорошую картинку линкора, чтобы все было как у настоящего корабля. Вот из-за картинки-то строительство приостановилось.
На нашей фабрике к этому времени произошли большие изменения — открылся «спеццех» — там стали делать ложи для автоматов, а в остальных цехах тоже теперь изготовляли новую продукцию — лыжи для наших войск. Поговаривали даже, что вся наша фабрика станет военным заводом, но почему-то этого не сделали.
После смерти Гриши мама как-то вдруг постарела — появились седые волосы и стали трястись руки. Она решила продать Гришины вещи и купить машину угля. Нам с Нюрой такой план не понравился — не верилось, что Гриша никогда не вернется и его вещи ему уже не понадобятся. Все же мы отправились на «барахолку». Я помог донести вещи: выходной костюм Гриши, его валенки, старые брюки, шапку из кроличьего меха и романовский полушубок. Нюра все это «добро» разложила на столе. Я ходил и грелся, а она стояла и мерзла. Торговля у нее пошла не очень-то бойко. Точнее сказать, почти не сдвинулась с места. Нюра оказалась никудышным продавцом — ни на одну вещь не хотела сбавить цену. Сколько сказала мама, на том она и стояла, а за такую цену никто не брал. В общем, продали только валенки. Когда уже темнело, совсем продрогшие, вернулись домой. Мы думали, мама будет нас упрекать, но она неожиданно сказала:
— Вот и хорошо, что не продали…
Значит, и у нее была мысль, что Гриша еще вернется. Ведь бывают же ошибки.
Это все было до Кирьяковых, а когда приехала Лариса Антоновна с детьми, мама стала говорить им совсем другое:
— Берите все… Если Гриша придет — наживем. Мы не безрукие…
Все пошло в ход, потому что у Кирьяковых совсем ничего не было. Только серый костюм Гриши мама спрятала опять в сундук:
— Пусть лежит.
Перед тем как отдать Гришины вещи, мама осматривала их. В старых брюках она нашла два билета с неоторванным контролем. Пятый ряд, четырнадцатое и пятнадцатое места. Припомнили, что перед самой войной в клубе водников выступала труппа артистов из Томска… А до этого Гриша вечерами стал куда-то уходить. Уйдет и долго не возвращается. Отец как-то спросил его:
— Так на улице и стоите? Пригласил бы ее в клуб. Как раз «Любовь Яровая» идет.
Мы не поняли — о чем отец. А Гриша понял. Покраснел и спрашивает:
— А ты денег на билеты дашь?
— Ясное дело… Как звать-то ее?
— Леной.
— Киселева?
Гриша кивнул. На другой день он пошел и купил билеты, но приключилась беда. Когда нужно было идти в клуб, билеты вдруг исчезли. Гриша все перерыл — и тетради на столе, и все книги перелистал, и даже в мой ранец заглядывал — они как в воду канули. И вот теперь нашлись в старых брюках. Так Гриша и не узнал, куда они запропастились. Эти билеты почему-то расстроили маму. «Матроску» Гришину отдала, первые его сапоги, пальтишко детское — и ничего. А никому не нужные билеты довели ее до слез.
Лариса Антоновна взяла все вещи и спросила:
— Сколько с меня?
— Нисколь, — обиделась мама.
Первое время странно было видеть Сережку в Гришиных брюках. Хотя Лариса Антоновна и перешила их, но все же видно было, что они не его. Сама она стала ходить в Гришином полушубке и шапке. А детские Нюрины вещи пошли Зое…
* * *
До Кирьяковых было как-то скучно, а приехали они, и стало не то чтобы весело, а совсем по-другому. Раньше наверху жила одна Нюра, и ее не было слышно, а Кирьяковы давали о себе знать с раннего утра. Зоя поднималась раньше всех. Стучали о пол ее костыльки. Еле слышно шелестели легкие шаги Ларисы Антоновны. Затем раздавался крик Сереги — это Зоя стаскивала с него одеяло. Между прочим, они часто дрались. Серега был мальчишка и на два года старше ее, но Зоя не поддавалась. Во время драки она становилась на коленки, наступая на него, размахивала костыльком. И он отступал. Нюра теперь поселилась вместе с нами и говорила, что Кирьяковы приехали очень кстати — наша семья теперь как будто стала такая же, как прежде, но, конечно, это было не так — ни на минуту мы не забывали о папке, Грише и Кирилле Петровиче.
Пока не было снега, Зоя добиралась до школы на костылях. Ходила она с их помощью неумело и медленно, а когда выпал снег, мы с Серегой стали сажать ее на санки и мчали по улице, как заправские рысаки.
Я подружился с Серегой Кирьяковым, несмотря на то, что он был везучий, а я нет. Что он был везучий, я убеждался не раз. Взять хотя бы такой случай. Наша Прибрежная улица — не простая. Говорят, здесь давным-давно проходил защитный вал. От кого именно защищал этот вал город, точно не знаю. Кажется, от каких-то кочевников. Теперь от вала ничего не осталось, но нет-нет да и напомнит Прибрежная улица о прежних боях. Еще летом Серега копал червей и нашел костяной наконечник стрелы. Он обменял его у мальчишки из седьмого «б» на сто пятьдесят граммов хлеба. Конечно, Серега продешевил.
…Когда выпал снег, каждый день было одно и то же: мы с Серегой довозили Зою до школьного крыльца, помогали ей взобраться по ступеням до двери, а санки прятали в сарай. А потом у моего друга случилась ангина — такой счастливчик: сидел дома и читал «Остров сокровищ», а Зою стал возить один я. Стало, конечно, тяжелее, но не в этом дело. В перемену Щеткин из четвертого «в» начал нас дразнить «жених и невеста». Глупо, конечно, будь у нее обе ноги в целости, я бы и не подумал ее возить. Да какая Зоя невеста — маленькая-премаленькая. Она сказала Щеткину:
— Подойди поближе!
Я понял, что Зоя собирается огреть его костылем. Понял и он. Засмеялся:
— Что я, дурак, что ли?
— Испугался? А еще мальчишка… Черт с письмом!
— Дура набитая!
Зоя пыталась достать его костылем, но потеряла равновесие и упала. Тут вмешался я: мы сцепились со Щеткиным и покатились по полу. Ребята из нашего класса хотели за меня заступиться, но я крикнул, чтоб не вмешивались, что сам справлюсь. Не пойму, откуда взялась такая уверенность, что я побью Щеткина. И я побил бы, если б нас не разняли. Откуда ни возьмись, появился дежурный учитель с красной повязкой. Нас он повел к директору — это был мой первый разговор с Иваном Михайловичем. Мы с ним еще не были близко знакомы, но Нюра очень хвалила его. Он у них когда-то вел географию. Тогда еще кабинет директора был похож на кабинет: письменный стол, на столе телефон, огромная-преогромная мраморная чернильница (рабочий с отбойным молотком), позади стола — окно с шелковыми шторами, а левее — большая белая изразцовая печь.
Иван Михайлович усадил нас в мягкие кресла. Если б стояли перед ним — еще куда бы ни шло, а сидя в кресле, не соврешь — это я сразу понял. И спрашивает так вежливо-привежливо:
— Подрались, значит?
Мы оба не стали отрицать этого факта.
— В чем же причина драки?
— Он дразнится…
— Он тоже дразнился, — вскипел Щеткин.
Я очень боялся, что Иван Михайлович поинтересуется, как именно мы дразнились, но он этого уточнять не стал, спросил только, обращаясь к нам обоим:
— Но вы понимаете, что это нехорошо?
Мы дружно подтвердили, что понимаем. Щеткин уже не мог говорить — он вот-вот готов был разнюниться. Я же смог произнести вполне понятное: «Да». Я чувствовал себя правым, потому что он первый задирался. После этого Иван Михайлович нас отпустил. В коридоре Щеткин показал мне кулак и пригрозил:
— Ты у меня еще получишь…
Но меня не так легко было напугать.
— Черт с письмом, — крикнул я, и мы снова схватились у дверей директорского кабинета.
«Черт с письмом» — я знал, что этого прозвища Щеткин не переносит. Большой перед ним или маленький — ему все равно, налетает с кулаками на обидчика. И все знали, почему у него такое прозвище. Однажды ребята соорудили на берегу Томи трамплин. И, конечно, нашлись среди учеников такие «артисты», что перестали ходить на уроки, а целыми днями торчали на этом трамплине. И дежурного учителя посылали, и уборщицу со звонком, и дворнику велели трамплин сломать — все бесполезно, прыгают мальчишки да и только. И вот приходит однажды в школу мать Щеткина. Является в перемену к классному руководителю:
— Как мой Ваня учится, как ведет себя?
Классный руководитель отвечает:
— Ваш Ваня третий день в школу не ходит.
— А где же он?
— Должно быть, на трамплине…
— Ах, чтоб ему пусто было!
Неясно, к кому это относилось — к Ване или к трамплину. Бежит Щеткина-мать к реке. Торопится, чуть не падает. «Подбегаю, — рассказывала потом, — глянула наверх, а он руки расставил и летит на меня, как черт с письмом». Почему «с письмом» — непонятно, но бывает так — чем непонятней, тем лучше прозвище. Ване на этот раз пришлось плохо. Приземлившись, он попал в руки своей матери. Она ему всыпала от души, отобрала лыжи и дома изрубила их в щепки. Но лыжи — полбеды, — через неделю он уже смастерил другие, хуже прозвище — «черт с письмом», оно крепко прилепилось к Ване Щеткину.
Между прочим, обидными бывают не только прозвища. Взять, хотя бы, Зою. Она по секрету сообщила мне, что ее настоящее имя не Зоя, а Изольда. Нет, конечно, она никакая не немка — просто папе понравилось такое красивое имя из какой-то немецкой сказки. Это было еще в те времена, когда немцы не воевали с нами. Конечно, можно было уже тогда предполагать, что война будет, но папа не предположил и назвал девочку так, как называть не надо было. Зоиной вины в этом никакой нет, и все же она всем говорит, что ее зовут Зоей. Так ее все и называют. Только иногда, когда Сережке очень хочется ее подразнить, он кричит Зое:
— Изольда! Изольда!
Тогда она бросается на него. Глаза у нее так и готовы выскочить. Я даже не думал, что девчонки бывают такими злыми.
— А ты, если хочешь быть моим другом, никогда не называй меня Изольдой. Понял?
Что ж тут не понять — дело ясное.
Примерно в это же время произошел мой второй разговор с директором школы Иваном Михайловичем. Первый случай (драка со Щеткиным) в его памяти, может быть, и не удержался, но второй, как я потом убедился, он запомнил крепко. И почему-то все получалось, что я поворачивался к нему своей плохой и даже глупой стороной. Видно, просто не везло мне. Ведь был же я одно время почти отличником — во всяком случае, фотография моя висела на доске Почета, а вверху была надпись: «Берите с них пример!» По всем предметам у меня было отлично, только по пению красовался «пос». Но этого «пса» я получил вовсе не за пение. Я дернул впереди стоявшую девчонку за бантик. Так она из-за этого несчастного бантика даже заплакала, как будто я голову ей оторвал. Знал бы, что она такая вредная, не связывался бы…
Так вот о случае. Дело было под Новый год. Все ребята в зале смотрят на сцену, а мы с Серегой давай бродить по школе. В одном классе на доске страшную рожу нарисовали, в другом — мусорную корзину на учительский стол поставили, а в третий вошли и не знаем, что предпринять. А натворить что-нибудь хочется. Так хочется, что прямо сказать не могу. Тут Серега говорит:
— Давай посмотрим, что на печке находится?
Печка круглая, железом обитая, высокая, почти до самого потолка.
— А как мы туда залезем? — посомневался я.
— Пара пустяков, — отвечает Серега. — Вот смотри!
Прыг на парту. С парты вскарабкался на шкаф, со шкафа рукой подать до верха печи. Влез и меня зовет:
— Айда сюда. Здесь интересно.
Ну конечно, я за ним. Мне немного труднее пришлось, я — пониже. Но все же забрался. Осмотрелись. По правде сказать, ничего такого интересного. Но кое-что есть. Во-первых, наверху печи что-то вроде ямы, глубокая впадина, вся забрызганная известкой и покрытая слоем пыли в палец толщиной.
Во-вторых, кое-что из вещей: расщепленное перо № 86, дырявый мячик и пожелтевшая бумажная галка с надписью: «Костя дурак!!!» Серега как прочел, так и задохнулся от смеха.
— Это, — говорит, — про тебя…
— Нет, — нашелся я, — я в этом классе еще не учился.
Вдруг слышим шаги. Кто-то входит в класс и раздается голос самого Ивана Михайловича:
— Кто здесь?
Мы молчим, притаились, шевельнуться боимся. Но его не обманешь. Он говорит нарочно громко:
— По-моему, на печке кто-то есть…
Мы опять молчим. А он продолжает:
— Ну что ж — никого. Значит, мне показалось. Тогда я потушу свет и запру дверь на ключ…
Мы смекнули, что дело принимает плохой оборот — сидеть в пустом классе до утра нам не улыбалось. Серега откликнулся:
— Это мы!
Теперь не оставалось ничего другого, как слезть. Слезли и встали перед Иваном Михайловичем. Мы ждали, что он станет распекать, говорить о совести и так далее, а он только осмотрел нас и покачал головой:
— Хороши, нечего сказать…
А мы и правда были хороши — все с ног до головы измазаны известкой и пылью. А в руках у Сереги еще дурацкая бумажная «галка».
— И как это вас угораздило на печку попасть?
Что мы могли ответить? Попадают же альпинисты на самые высокие пики. А зачем, спрашивается?
Уже на пороге он резко обернулся и сказал очень строго:
— Приведите себя в порядок.
Так нам в этот вечер и не удалось посмотреть, что делалось на сцене — весь остаток вечера мы только и делали, что плевали на ладони и стряхивали пыль со штанов и рубашек.
Так произошло мое второе «свидание» с Иваном Михайловичем.
* * *
Когда начал таять снег, Нюра взяла лопату и отправилась на кладбище подправить Светкину могилу. Мама убеждала ее, что рано, но разве Нюра послушает? И я увязался с ней, вернее, не увязался, а мама шепнула мне:
— Сходи с ней… Мало ли что?
Не знаю, чего она опасалась, но понял, что мама считает меня взрослым.
До кладбища мы шли молча. Так же молча стали ходить между могилами. Потом Нюра села на заметенную снегом скамью. И я примостился рядом. Мы оба очень устали. Кладбище находилось далеко, а сил у нас было совсем мало. Потом опять долго ходили и искали Светкину могилу, но найти так и не смогли. Когда-то она была с краю, а теперь здесь было много новых могил. Наконец Нюра сказала:
— Ничего мы не найдем. Все замело…
Второй раз мы пошли, когда совсем растаял снег. И опять не нашли. Наткнулись на одну похожую. Нюра даже стала подправлять, а потом бросила:
— Нет, не эта… Там рядом черемуха росла.
И тут Нюра заплакала. До тех пор я никогда не видел ее слез. Может быть, это и случалось с ней, когда она была маленькая, но меня самого тогда не было.
У переезда Нюра остановилась, достала платок и вытерла лицо. Еще раз пошли в конце мая, вместе с мамой. По лицу Нюры и по тому безразличию, с каким она шла, я понял, что на этот раз она нисколько не надеется найти, а идет так просто, потому что надо идти. Мама же почему-то была уверена, что найдет могилку. Она заранее припасла какие-то продолговатые луковички, чтобы посадить на могилке. Нюре сказала:
— Возьми лопату.
— Тот раз зря носила…
— Возьми.
Мама и правда нашла. Не плутала по кладбищу, не искала, а сразу привела нас куда надо, к цветущей черемухе. Светкина могила опустилась и почти сравнялась с землей. Мама насыпала новый холмик, посадила луковицы и сказала, что летом расцветут лилии. Тут Нюра заплакала еще раз — теперь от радости, что нашли Светкину могилку.
* * *
Мать Сережи и Зои — Лариса Антоновна — была много моложе моей мамы и потому у нас в семье ее звали просто Ларой. Месяц она искала работу по специальности, но стенографистки нигде не требовались и в конце концов поступила работать на нашу мебельную фабрику. Жаловалась моей маме, что потеряет скорость… Непонятно, как это можно потерять скорость? Что она, шофер, что ли?
Мама успокаивала ее как могла:
— Скорость — дело наживное… Вот вернешься домой…
— Все равно без Миши…
Это Лара говорила о муже. О нем она тосковала и часто плакала:
— Не могу представить, что его нет. Как я буду жить?
Мама неумело успокаивала:
— Так и будешь жить, пока не помрешь.
Лара продолжала жаловаться:
— Никому я не нужна…
Мама спокойно возражала:
— Всем нужна. И Сереже, и Зое, и нам…
Серега рассказывал мне, как погиб его отец. В первый же день войны, в Минске, их отца убило немецкой бомбой, а Зое раздробило ступню правой ноги. (Как-то я спросил ее, кем она собирается стать. Она ответила мне: «Как мама — стенографисткой» и показала книжки с какими-то мудреными значками.)
Когда Зоя играла с нами, то отбрасывала свои костыльки в сторону и так увлекалась, что забывала о своем увечье. И мы делали вид, что она ничем от нас не отличается — играли даже в догоняшки, она бегала на четвереньках и хохотала, когда ей удавалось схватить кого-нибудь из нас. Конечно, мы немного поддавались, но так, чтобы она не замечала. Беда, если мы не умели этого скрыть. Тогда она сердилась, кидалась драться и кричала:
— Бессовестные! Как вам не стыдно?!
* * *
И вдруг — великая радость! Пришло письмо от отца. Он был ранен в плечо. Сейчас писал из госпиталя. Мы всей семьей написали ему ответ — описали все подробно, только ничего не написали о гибели Гриши. Пусть он пока думает, что сын тоже сражается с общим врагом…
* * *
Еще до уроков по всем классам разнесся слух, что школу забирают под госпиталь. Помню, мы гордились, что наша школа оказалась подходящей для такого важного дела (значит, и мы немножко воюем!) И вместе с тем было ее жалко.
Уже во время первого урока в наш класс вошли двое военных и с ними Иван Михайлович. У Ивана Михайловича было растерянное выражение лица. Из военных один был высокий, с молодым лицом, но совсем седой. Говорили тихо, но мы все же услышали, как тот, который пониже, прошептал:
— Белить будем заново.
— Конечно.
— А как общее впечатление?
Высокий военный произнес:
— Пойдет…
И это короткое слово решило судьбу нашей школы.
Перевозили все имущество на лошадях. Старшеклассники грузили на телеги парты и шкафы. При этом они держались очень важно и покрикивали на нас:
— Эй, мелкота, а ну-ка из-под ног!
А нам тоже хватало работы. Я сходил в новую школу несколько раз: унес два глобуса, затем какие-то физические приборы со стрелками, потом два рулона географических карт.
Мы растянулись по всей улице — кто нес чучела из биологического кабинета, кто исторические картины, а Сереге досталось нести самый настоящий скелет, точно такой, какой нагнал на меня страху в Алмазове. Сережка пугал этим скелетом девчонок, те визжали. Удивительная привычка — визжать!
К вечеру мы все перетаскали в новое помещение.
Новая школа. Ее и школой-то назвать трудно — несколько одноэтажных домиков на берегу Томи.
А в прежней школе появились новые хозяева. В воскресенье вечером мы влезли в открытое окно нашего бывшего четвертого класса. Парты увезли, классную доску — тоже. Стены и потолок были только что побелены и местами еще не успели высохнуть. На чисто вымытом полу стояли застеленные серыми одеялами железные кровати.
— Тише, тише, — останавливали мы друг друга. И все-таки нас «засекли». Внезапно дверь отворилась и на пороге появился часовой с винтовкой.
— Вы что здесь делаете?
Отвечать на этот вопрос мы не стали, а всей толпой кинулись к подоконнику. Путь был известный — с подоконника на дерево, по дереву вниз на землю.
На другое утро приехали четыре автобуса — белые, как снег, с красными крестами на боках. Из первых двух раненых вынесли на носилках, а из двух других они вылезали и шли сами. Мы смотрели на это, повиснув на заборе.
* * *
Мое утро обычно начиналось с хлебного магазина. По карточкам можно было получить хлеб на три дня: за вчерашний день, на сегодня и на завтра. Мы почему-то всегда ели за завтрашний день. По правде сказать, хлеба больше всего доставалось мне. А мама часто отказывалась от своей «пайки». Она отвечала:
— А я и есть не хочу, потому что какая у меня работа? А ты растешь — тебе нужнее.
Я сопротивлялся этой доброте, но мама находила случай сунуть мне лишний кусок.
Пока я ходил в магазин, Нюра успевала сбегать к водокачке, выливала воду в кадку и отдавала ведра Кирьяковым — у них ведер не было. Когда я приносил хлеб, уже топилась печь, и мы спешили позавтракать, пока комната освещалась пламенем горящих дров. На завтрак ели всегда одно и то же — хлеб и кипяток. Потом я и Серега везли в школу Зою. Первый и второй уроки проходили обычно при керосиновой лампе. Потом постепенно светало. Окна становились синими, затем голубыми, розовыми и из-за реки показывалось солнце. Лампу хотелось погасить каждому.
— Я!
— Я… — выкрикивали мы наперебой и тянули руки. Чаще всего Ольга Петровна позволяла потушить лампу Вере Севрюгиной, которая училась лучше всех. Она даже диктанты писала без ошибок. Просто непонятно, как ей это удавалось — она божилась, что никогда не учит правил. Кто ее знает: правда это или только хвасталась?
В большую перемену я бежал в фабричную столовую с большим зеленым чайником. В него мне наливали суп. С чайником под партой я досиживал вторую половину уроков. Однажды из-за этого чайника я чуть не подрался с Серегой, потому что он опрокинул его ногой и оставил нас без ужина. Конечно, он не нарочно распустил свои длинные ноги, но я обозлился и дал ему хорошего подзатыльника. Ольга Петровна услышала и спрашивает:
— Что там такое?
— Ничего! — отвечали мы с Серегой хором.
(Из-за этого несчастного чайника я часто опаздывал на четвертый урок. Ольга Петровна не обращала на это внимания, но однажды в коридоре я столкнулся с завучем Нинель Викторовной, и от нее мне здорово попало.)
Пришло время рассказать о моем третьем свидании с директором школы. В середине зимы наступили сильнейшие холода, и не только на улице, но и у нас дома, так как дрова все кончились. Мы, конечно, спасались от холода как могли. Прежде всего разобрали и сожгли отцову столярную избушку. Потом мама пересмотрела в чулане все вещи и отправила в печь все, что могло гореть: какие-то отцовы заготовки, размеченные красным карандашом, старые галоши, трехногий венский стул и даже мою удочку, которую подарил мне Кирилл Петрович. И, чтобы было теплее, мы поселились все вместе. Кирьяковы перешли к нам вниз, а верх вообще закрыли, чтобы топить одну печку. (Поздно мы это догадались сделать. Надо было поселиться всем вместе с осени — тогда бы хватило топлива на всю зиму.) Кроме того, сожгли заборы, отделяющие нас от соседей — зачем раньше отделялись, непонятно. Как будто у нас были какие-то секреты.
И вдруг Серега притаскивает ведро угля. Настоящий красногорский уголь, который горит, как дрова.
— Откуда? — спрашиваю.
— От верблюда!
— Нет, правда…
И тут он мне рассказал кое-что, похожее на сказку. Угля там невпроворот — бери, сколько хочешь. Заброшенный склад угля да еще забор повалился. Главное — заброшенный. На другой день после школы Серега повел меня к этому складу. Он посоветовал одеться потеплее — может, ждать придется.
— Кого ждать? — попробовал я уточнить. Серега не ответил. Я все же надел мамины валенки — они-то меня и погубили…
Взяли по ведру. Прошли всю нашу Прибрежную и добрались до железной дороги. Мороз был так себе, но все же пощипывал. Серега показал зеленый забор, в одном месте и правда поваленный, и горы угля.
— Вот здесь, — прошептал Серега. — Если появится сторож, беги в эту сторону, а я в эту.
Значит, склад не был таким уж заброшенным, но отступать было поздно: неужели я трусливее Сереги?
Между прочим, сторожа нигде не было видно. Серега еще успокоил меня:
— Слышишь, паровоз загудел? Наверно, новый уголь привезли. Значит, он там… Принимает.
Вот это и было главной нашей промашкой — сторож никуда и не думал уходить. Только мы стали набирать уголь и он загремел о ведра, как сторож выскочил из темноты и кинулся к нам. Мы, как и было условлено, побежали в разные стороны. И тут, как всегда, мне не повезло. Во-первых, сторож побежал за мной, а не за Серегой. Во-вторых, меня подвели мамины валенки (из своих я вырос, после подшивки их невозможно было натянуть). Если б я мог сбросить эти проклятые валенки, то удрал бы от сторожа в два счета. Мешало также ведро — одно из двух, с которыми Нюра каждый день ходила на водокачку. Бросить его тоже было нельзя.
В конце концов я все же его кинул, но сделал это слишком поздно, уже тогда, когда сторож схватил меня за шиворот. Я попробовал было вывернуться, но не тут-то было. Он крикнул мне:
— Не балуй, малец! — и сжал мой воротник еще крепче. Вполне дурацкое замечание — в это время у меня не было никакой охоты баловаться. (Очень находчиво, как я узнал позже, поступил Серега, — как только он убедился, что сторож побежал в другую сторону, он вернулся, набрал полное ведро угля и спокойно направился домой). Сторож заставил меня подобрать рассыпавшийся уголь, сложить его в ведро и с этим вещественным доказательством повел меня в отделение милиции.
Время от времени он останавливался и свистел в свой свисток. Тогда мне уже было наплевать на ведро и на уголь — я ревел и гнусил:
— Дяденька, отпустите…
Но дяденька и не думал внимать моим мольбам. Он твердо и безжалостно вел меня в милицию. По дороге я слышал, как говорили двое прохожих:
— Воришку поймали…
— Им тюрьма — дом родной…
— Много вы знаете! — крикнул я злому прохожему.
— Ну, ты не очень-то. Иди куда надо… — вмешался сторож.
Мне очень не хотелось идти «куда надо», но тут наше путешествие окончилось. В отделении оказался всего один дежурный милиционер. Он сидел у открытой чугунной печки и грыз кедровые орехи. На печке сопел чайник, родной брат того, с которым я бегал за супом. Только теперь я разглядел сторожа — это был старик в большой мохнатой шапке.
— Вот получайте — натуральный вор.
Милиционер сел за стол, положил перед собой чистый бланк и приказал старику:
— Не держи!
Старик отпустил мой воротник и мне стало свободнее дышать.
— Ну, что ревешь? — сердито спросил милиционер. — Бить я тебя не буду. Но протокол составить обязан. Как фамилия и имя?
— Ваня Иванов, — выдумал я.
— Отчество?
С отчеством у меня получилось некоторое затмение — я не успел ничего придумать и назвал настоящее.
— Возраст? Пол?
Насчет пола мне смешно стало. Как будто не видит, что я мальчишка. Но, в общем-то, смешного мало… Спросил и сторожа:
— Имя, отчество, фамилия, пол, возраст…
И обратился ко мне:
— Ну, что натворил?
— Ничего не натворил, — сказал я.
— Он уголь воровал, — пояснил сторож. — Вот и ведро евонное. Их двое было — так тот успел скрыться.
— А ты не успел? — спросил меня милиционер, и в голосе его послышалась укоризна.
— Где живешь?
Я вспомнил, что недавно читал Стивенсона, и ляпнул:
— Стивенсоновская 7, квартира 5.
— Такой и улицы-то нет, — посмотрел на меня внимательно милиционер.
— Значит есть, — уверенно настаивал я. А потом или мне надоело врать, или слишком уж недоверчивым стало лицо милиционера, но школу и класс я почему-то назвал правильно.
В милиции мне не понравилось. Особенно страшной мне показалась комната за толстой железной решеткой. Такие решетки я видел только в зоопарке. В решетке была дверь с большим замком. Высоко под потолком горела электрическая лампочка. Она тускло освещала табурет и небольшой стол. «Вот сюда меня и запрут», — с тоской подумал я. Между тем дежурный продолжал допрос:
— Стало быть, набрал ведро угля с целью похищения?
— С целью, — подтвердил я.
— И при появлении сторожа пытался скрыться…
— Пытался.
— Но благодаря своевременным действиям гражданина Захарова был задержан…
— Был…
— Все верно? Прочти и подпишись…
Я подписался внизу бланка, где милиционер поставил «галочку».
— А теперь сымай валенки, чтоб соблазна не было.
Вот этого я не ожидал. Я все же еще надеялся как-нибудь улизнуть. Теперь последняя надежда пропала.
Милиционер стянул с меня валенки.
— Чьи такие?
— Материны.
— Понятно, — вздохнул милиционер, запер их за решетку, а ключ сунул в карман.
— А вы можете идти, — сказал он сторожу. — Надо будет — вызовем.
— А вор?
— Останется у нас.
Сторож ушел.
— У меня ноги мерзнут, — протянул я жалобным тоном.
— Сядь ближе к печке, — посоветовал милиционер. — Чай пить будешь?
— С сахаром?
— Сахара нет. А соль найдется… Вот тебе кружка… Наливай.
Тем временем милиционер звонил куда-то:
— Ваня Иванов. Ученик вашей школы. Четвертый класс… Задержан…
Кроме валенок беспокоило меня ведро. Уголь пошел в печку — ну, это черт с ним. Туда ему и дорога, но ведро… Оно стояло рядом с валенками за решеткой.
Милиционер выдвинул ящик стола, достал кусочек хлеба:
— Есть хочешь?
— Нет.
— Ну, это ты не ври… Нынче все хотят.
Я взял кружку кипятку, кусок хлеба, густо посыпанный крупной солью, а сам думал: «Неужели меня посадят в тюрьму?»
В это время появился Иван Михайлович. Он поздоровался с милиционером и взглянул на меня, как мне показалось, насмешливо:
— А, старый знакомый… Все понятно — а я-то голову ломал, что за «Ваня Иванов»? Как же ты сюда попал?
Я промолчал. Пояснил милиционер:
— Похитил ведро угля.
— Вот как?
Я заплакал, на этот раз уже по-настоящему.
Иван Михайлович нахмурился:
— Где у тебя валенки?
— Валенки — вон они, под арестом, — сказал милиционер.
— Он пойдет со мной. — В голосе Ивана Михайловича была властность и уверенность. Милиционер посомневался немного и отдал мне валенки.
Мы оказались на улице. Только тут я вспомнил про ведро, но возвращаться побоялся.
— Хорош, нечего сказать, — заговорил Иван Михайлович. — Стало быть, воровать начал? Позор да и только…
Он сердился, но гнев его был почему-то не страшен. Я рассказал ему, как сожгли отцову избушку, старые галоши и даже мою бамбуковую удочку, которую мне подарил Кирилл Петрович.
— Ну, до завтра, «Ваня Иванов», — сказал Иван Михайлович. — Вот мы и дошли…
Домой идти совсем не хотелось. Я представил себе состояние мамы, шум и всякие обидные прозвища, но неожиданно все обошлось благополучно. Молодец все-таки Серега — промолчал, что меня поймал сторож.
На другой день в школе я чувствовал себя «не в своей тарелке» — считал, что если Иван Михайлович не стал говорить со мной на улице, то теперь не упустит случая вызвать и «помотать душу». Ведь не каждый день его ученики попадают в милицию. Но он меня не вызвал. Чувствуя свою вину, я задержался в классе и помог уборщице протирать пол. В общем, пришел домой поздно. Уже у калитки на меня набросилась мама:
— Где ты пропадал? Как нарочно… Неужели пораньше не мог?
Уже до этого я понял, что во дворе происходит что-то необычное. Мама, Нюра, Лара и Серега таскали уголь в сарайчик. Угля была навалена посреди двора огромная куча. Я глазам своим не поверил. Во-первых, откуда уголь? Во-вторых, где они достали столько ведер? Мама пояснила мне: уголь прислал военкомат, а ведра заняли у соседей: «Одного нашего никак не нашли…»
— И как они узнали, что у нас нет ни крошки? — изумлялась мама.
Я сразу догадался, откуда они узнали, но промолчал. О том, куда делось наше второе ведро, я тоже не распространялся. Пришлось купить на базаре. Это новое ведро было много хуже, чем прежнее. То было оцинкованное, а это какое-то самодельное из тяжелого кровельного железа.
* * *
Около прежней школы, перед окнами бывшей учительской, спилили пять больших тополей, из них получилось всего три поленницы дров. Зачем их спилили?
Ночью весь город погружался во тьму. Электричество давали только самым важным учреждениям, в том числе госпиталю и эвакуированному заводу. И особенно ярко светились окна бывшей учительской. Мы, ребята, старались догадаться, что там могло быть. Снизу мы видели только кусок потолка и на нем несколько больших электрических ламп. Изредка в окнах мелькали белые халаты.
Один раз, когда уже стемнело, пацаны подначили меня взобраться на единственный оставшийся тополь, чтобы посмотреть, что там такое. Ребята притихли внизу, а я вскарабкался наверх почти по гладкому стволу и заглянул в ярко освещенное окно. Я увидел такое, от чего у меня потемнело в глазах. Да и у любого бы потемнело… Кое-как спустился с дерева, сел на землю и сидел до тех пор, пока не пришел в себя.
— Ну, что там? — спрашивали меня наперебой ребята.
— Операцию делают, — только и мог ответить я.
* * *
Вскоре Нюра ушла с завода и стала работать санитаркой в госпитале. Она сутки работала и сутки была дома.
* * *
Теперь пора рассказать мне об Ольге Петровне. Дело было весной, когда мы заканчивали четвертый класс. Вернее, начать нужно с осени. Ольга Петровна читала нам из учебника какой-то рассказ, а на Томи началась страшная буря. Такой еще никогда не было. Я сидел и все время смотрел в окно. Дул сильный низовой ветер, и против течения шла одна лодка под парусом. Ее били волны, временами казалось, что она захлебнулась и больше не поднимется, но это только казалось — лодка храбро шла против течения, разрезая носом гребни волн. Не я один смотрел на реку — почти все ребята незаметно старались привстать, чтобы посмотреть на бурю.
Ольга Петровна сделала одно замечание, другое, потом закрыла учебник и показала:
— Вот этот ряд — подойдите к окнам… Только без шума… Теперь второй ряд.
Так она всем нам позволила посмотреть, а на следующем уроке мы рассказали ей, что видели на реке, и написали небольшое сочинение.
Это было осенью, и не знаю, почему так хорошо запомнилось, а весной у Ольги Петровны случилось несчастье. Сперва нам сказали, что сегодня уроков не будет, потому что у Ольги Петровны на войне убили единственного сына. Сына этого мы все немного знали. Когда я учился в первом классе, Лева уже перешел в десятый. После окончания школы он работал в Затоне на ремонте речных судов. Высокий, сутулый, по праздникам он носил серую фетровую шляпу. Мы очень его уважали, потому что всем известно было, что он парашютист, а парашютист — это почти летчик. И вот теперь Лева погиб…
Но все же Ольга Петровна пришла в этот день в класс, и мы сидели тихо-претихо, чтобы ничем ей не досаждать. А потом случилось это самое…
В начале третьего урока она открыла окно и еще, помню, спросила нас:
— Вам не дует?
В это время в музшколе заиграла труба. (Музыкальная школа, после того как мы переехали, стала нашим соседом. У них тоже было открыто окно…)
Не знаю, кто играл — ученик или учитель, только звук трубы был протяжным и очень грустным. Ольга Петровна подошла к окну и замерла. Лица ее мы не видели. Мы обратили внимание на пальцы ее рук, которые сжимали край подоконника. Пальцы эти совсем побелели. Мы ждали, а она все стояла, забыв о нас и об уроке. Так продолжалось минуту, две, десять. Мы окликнули ее:
— Ольга Петровна!
Она не слышала, а мы боялись к ней подойти. Тогда Севрюгина побежала за Нинель Викторовной. Та пришла и пыталась увести Ольгу Петровну из класса, но наша учительница не хотела уходить. Нинель Викторовна тоже чуть не плакала — она не знала, что делать.
— Ольга Петровна, миленькая… Пойдемте со мной. Вам надо отдохнуть…
Ольга Петровна ничего не отвечала ей. Тогда пришел Иван Михайлович. Он послал кого-то в музыкальную школу, и труба перестала играть. И только когда наступила тишина, Нинель Викторовна увела Ольгу Петровну в учительскую. Прозвучал звонок, Нинель Викторовна пришла еще раз, взяла со стола книги и тетрадки Ольги Петровны и унесла. Потом нас распустили — последних двух уроков не было и вообще мы больше Ольгу Петровну не видели. У нас стала другая учительница — тоже Ольга, но не Петровна, а Михайловна. Но дело, конечно, не в этом. Просто мы друг другу не понравились.
* * *
Играть в «чику» мы наладились внизу, под обрывом, у самой реки. Это хуже, чем на асфальте, но зато никто не увидит.
Один раз мы после уроков пошли на берег и только разыгрались, как появился Иван Михайлович. У меня от испуга даже сердце замерло. Бежать было поздно. Он окинул нас взглядом и спросил:
— Все здесь?
Наверное, он успел заметить, что кое-кто нырнул под деревянную лодку. Мы подавленно молчали. Не обращая на это внимания, он предложил:
— Разбирайте свои копейки и айда со мной в столовую.
Сперва мы ему не поверили — застукал нас на «чике» и вдруг — столовая. С какой это радости? Видя, что мы не шевелимся, а только переглядываемся, он засмеялся:
— Ну, чего встали? Идемте… За всех плачу я.
На этот раз мы поверили, что он не шутит. Нас было семь человек, и мы гуськом пошли за ним. (Здорово же проиграли те, кто спрятались под лодку.) По дороге я успел забежать домой за ложкой.
Столовая водников помещалась возле пристани. Питались в ней, в основном, рабочие, которые ремонтировали суда: слесари, сварщики, маляры, котельщики. Чтобы не надоедали всякие «посторонние», на входных дверях висела бумажка: «Столовая не работает», но Иван Михайлович не обратил на нее никакого внимания. Мы прошли с черного хода, и нас пропустили. Навстречу вышла женщина в белом переднике с розовыми руками и широко раскрыла глаза.
— Сколько вас?
Иван Михайлович поправил очки, пересчитал нас и спокойно ответил:
— Со мной — восемь…
«Вот теперь-то нас турнут», — подумал я, но ничего особенного не случилось.
— Пройдите на вешалку, — показала рукой женщина. Простые ее слова повергли меня в смятение: пока не поздно, я решил незаметно улизнуть и, несмотря на аппетитнейший запах, стал пятиться к двери. На мне было пальто, брюки, ботинки, а рубашка отсутствовала. Как назло, в этот день мама взяла постирать ее. Вместо рубашки Нюра дала мне надеть черный жилет Кирилла Петровича. Не мог же я в таком виде сесть за стол. Спас меня все тот же Иван Михайлович — он поймал меня за рукав и спросил тихо:
— Ты куда?
И тут я чистосердечно, но тоже тихо, признался ему во всем.
— Подумаешь, беда какая, — махнул он рукой, шепнул что-то гардеробщице, и та не стала настаивать, чтобы я раздевался. Но, вообще говоря, было все же не то. Все сидели чинно в рубашках, Иван Михайлович в своем пиджаке, а я в пальто. Серега толкнул меня локтем:
— Что ты, сдурел?
— Не больше, чем ты, — огрызнулся я.
До сих пор я благодарен Ивану Михайловичу за то, что он не дал мне уйти. Такого обеда, мне кажется, не было ни до этого, ни после. Прежде всего, мы наелись густого картофельного супа. Потом подали по полной миске бигуса и, наконец, по стакану киселя. Правда, не было хлеба, но и без хлеба мы наелись до отвала.
А знаете, кто был официанткой? Лена Киселева. Я сначала не узнал ее, такую красивую, в белом фартуке. А она кивнула мне и улыбнулась.
Я уплетал за обе щеки, пока меня, как молния, не поразила одна мысль, вернее, опасение. Как сможет расплатиться Иван Михайлович за всех нас? А вдруг у него не хватит денег? Ведь наели мы не на один рубль. Только супа, считая «добавки», съели порций двадцать, не меньше.
И вот наступил самый опасный момент: Иван Михайлович поманил рукой, подзывая Лену:
— Подсчитайте!
Она положила на стол маленькие счетики, погоняла на них костяшки и назвала огромную сумму. Я думал, Иван Михайлович скажет, что принесет деньги завтра. Но он нисколько не растерялся — выложил на стол несколько бумажек и весело подмигнул нам: «Ничего, мы, мол, не пропадем». Впрочем, я еще в милиции стал догадываться, что Иван Михайлович не из тех, что пропадают.
После столовой мы гурьбой вышли на улицу и не знали, что делать. Продолжать игру в «чику» было теперь стыдно. К тому же мне лично очень захотелось спать. Но и тут Иван Михайлович сумел понять нас. Он решительно объявил:
— Ну а теперь по домам…
И мы разошлись и, кажется, даже забыли сказать ему «спасибо». Нет, не кажется, а действительно забыли…
С Иваном Михайловичем мы шли домой вместе.
— Ты кем же собираешься стать? — спросил он меня.
— Не знаю еще…
— Пора знать.
И он повторил, должно быть, думая о чем-то другом:
— Пора знать…
Я хотел сказать, что я еще маленький, что времени у меня впереди хоть отбавляй, и я не раз успею решить, кем стать, но вовремя сообразил, что для Ивана Михайловича маленьких людей не существует. И промолчал.
— Ты зайди ко мне, — вдруг оживленно заговорил он. — Дело есть.
А дело было вот в чем: он показал мне черного пушистого щенка и заглянул в глаза:
— Нравится?
— Еще бы!
— Так вот — возьми себе Рекса. А я вернусь с фронта — ты мне его обратно отдашь.
Он говорил так, как будто был твердо уверен, что вернется, но я-то уже знал, что с войны можно и не вернуться.
Иван Михайлович пожал мне руку, как взрослому, и предостерег:
— Смотри не накорми горячим.
— Ладно.
Он предложил мне деньги на содержание Рекса, но я, конечно, отказался.
Это был наш последний разговор. На другой день Иван Михайлович пришел к нам в класс попрощаться. Он весь был в военном и все на нем было новенькое, необношенное. Извинившись перед Ольгой Михайловной, он улыбнулся нам:
— До свиданья, ребята!
На следующий день он уехал.
Директором школы теперь стала Нинель Викторовна. Она тоже была ничего, но уж совсем не то. Она даже подражала Ивану Михайловичу, но в нем чувствовался хозяин школы, а в ней этого, хозяйского, совсем не было. Иван Михайлович и ходить-то умел по-директорски. Пройдет по школе молча, и самые хулиганистые успокоятся. У него были очки в тяжелой оправе, а у нее — пенсне, которое того и гляди махнет крылышками и улетит. И вообще, Иван Михайлович умел сказать так, что на всю жизнь запомнишь, а она то улыбается, то наставляет брови.
Говорят, что Нинель Викторовна — строгая, может быть, это и так — мне трудно сказать, со мной она говорила всего один раз.
* * *
Вот тут и произошло то, что я потом называл «сказочный ужин». Да и как его иначе назвать, хотя он окончился плохо.
Вечером мама поставила на стол сметану в двухлитровой банке, каждому по чашке сахарного песку, кусок ярко-желтого сливочного масла, которое бывало у нас до войны, и еще каждому по две шоколадные конфеты «Кара-Кум», в бумажках. (Кроме того, шесть конфет я отнес Кирьяковым.)
Я не понял, откуда вдруг у мамы такое богатство, а Нюра отодвинула чашку с сахаром. Мама снова передвинула ее Нюре.
— Ешь!
Сестра с сомнением дотронулась указательным пальцем до сахара, подняла на маму глаза:
— Обещай, что этого больше не будет.
О чем они говорили? Я с удивлением смотрел то на одну, то на другую.
Мама хмуро и серьезно ответила:
— Нет, не обещаю. Как я могу обещать? Сама подумай…
Нюра кивнула, но чашку опять отодвинула:
— Сахар твой.
Мама притворно рассмеялась:
— Будем теперь считаться: «твое — мое».
Нюра обернулась ко мне:
— И ты не смей брать.
— Ну это ты ни к чему, — нахмурилась мама.
— Очень даже к чему.
— Я тоже пойду и сдам… Как это я раньше не догадалась, — проговорила Нюра.
— У тебя не возьмут. Ты посмотри на себя: на кого ты похожа… А я — совсем другое дело.
Потом обе ели сметану и сахар, угощали меня и плакали.
На другой день Нюра объяснила мне, в чем дело: мама сдала кровь, получила донорский паек и поставила его на стол для всех нас.
— Наша мама — стихийно добрая, — задумчиво закончила Нюра свое объяснение.
Мне непонятно было выражение «стихийно». Нюра заметила это по моему лицу и пояснила:
— Слишком добрая… без рассуждения…
* * *
Ранней весной сорок четвертого года у нас с Серегой появился капитальный план. Дело в том, что мы с ним решили уехать на фронт и стать разведчиками. Для этого нужно было: первое — собрать на дорогу хоть сколько-нибудь продуктов; второе — найти подходящую карту западной части Советского Союза и Германии; третье — выучить на «отлично» немецкий язык, чтоб говорить на нем совершенно свободно.
Серега обменял свой зеленый свитер на хлеб. Я тоже сбагрил одному барыге свои старые валенки и купил сала.
Карту мы вырвали из учебника географии, оставшегося после Гриши.
Хуже обстояло дело с немецким языком. Немецкий знал старик сапожник, который два года еще до революции провел в австрийском плену. Он охотно рассказывал нам, как работал у немецкого кулака, но язык, оказывается, почти забыл. Короче говоря, он обманул наши надежды и ничему нас не научил. Тогда Серега достал русско-немецкий разговорник — это было много лучше, чем старик сапожник. Мы набросились, было, на этот разговорник, но быстро в нем разочаровались: сообразили, что к военной обстановке он мало приспособлен. Мы выучили буквы и научились произносить: «Как вам понравилась эта кинокартина?», «Берта, тебе не к лицу яркая помада», «Ганс, хочешь еще одно пирожное?». В общем, с немецким у нас дело обстояло хуже всего.
Был еще один трудный вопрос — Рекс. Куда его девать? Мы с Серегой все подробно обсудили. Везти с собой, но если нас возьмут разведчиками, собака может помешать. Оставить здесь? Но кто будет заботиться о ней? Волей-неволей пришлось обратиться к Зое. Она дала честное пионерское, что будет хранить тайну. Мы боялись, что она попросится с нами, но, видимо, она сама поняла, что разведчица на костылях уже не разведчица. О Рексе она обещала заботиться. На этот месяц оставались наши детские карточки, а это было уже кое-что. А дальше?
— А дальше — видно будет, — успокоила нас Зоя, и мы согласились.
Не знали мы также, кто будет возить Зою в школу. Но и тут она постаралась успокоить нас: скоро снега вообще не будет. Ездить так и так не придется. Надо только пораньше выходить, чтоб не опоздать. А когда опять выпадет снег, можно приспособить Рекса. Ведь ездят же на Севере на собаках. К тому времени он подрастет и станет сильным и большим.
Молодец девчонка, мы от нее даже не ожидали. Полная сознательность и даже больше. Жалко, что нельзя было ее взять с собой…
Отъезд мы назначили почему-то на 20 апреля. К этому сроку все должно быть готовым. Время выбрали, когда все взрослые на работе. Привезли из школы Зою. Серега поцеловал сестренку, я пожал ей руку, и мы двинулись на товарную станцию. Каждый из нас оставил по записке. Сергей написал: «Мама, не ищи меня. Вернусь после победы. Смерть немецким оккупантам! Сергей Кирьяков». Я тоже написал: «Смерть немецким оккупантам!», хотя мы и не сговаривались, что писать.
Товарная станция находилась у черта на куличках. Мы прошли через весь город и даже вспотели, потому что очень торопились.
Пришли. Пробрались к составам, конечно, не через станцию. Серега предусмотрительно сказал:
— Главное — никого ни о чем не спрашивать.
На путях стоял пустой товарный состав. На одном из вагонов мы увидели крупную надпись мелом — «Челяб.».
— Ну что ж, — сказал Серега, — доберемся до Челябинска, а там видно будет.
— А когда он пойдет? — спросил я.
— Надо потерпеть. На фронте все терпят… Не будет же он стоять вечно.
Залезли в один из вагонов, задвинули дверь и зарылись в какую-то солому. Пахло почему-то навозом. Здесь не было ветра и сначала показалось тепло. Но это только сначала. Немного погодя почувствовали, как холод залезает под пальто.
— Ты спишь? — прошептал Серега.
— Какой тут сон? — отвечал я.
Потом мы услышали далекие голоса. Серега осторожно выглянул и доложил обстановку. Какие-то двое идут вдоль состава с фонарем и заглядывают в каждый вагон.
— Значит, скоро поедем, — заключил я.
Серега был другого мнения.
— Зарывайся поглубже в солому, — скомандовал он.
Так я и сделал.
Мужские голоса прозвучали около нашего вагона. Заскрипела тяжелая дверь.
— И тут никого нет, — прозвучал хриплый старческий голос.
— Обожди, а это что? — спросил другой.
Кто-то схватил меня за ногу и вытащил из соломы.
— Ты что здесь делаешь? — спросил мужчина.
— Ничего…
Что я еще мог ответить?
Крепко держа меня за рукава, эти двое повели меня на станцию. Одеты они были в форму железнодорожников. «Хорошо, что не милиция», — подумал я. Но без милиции не обошлось. На станции они подвели меня к двери, над которой висела табличка «Железнодорожная милиция». Посадили на скамью в теплой, ярко освещенной комнате. Молодой сразу ушел. Со мной остался старый. Позвонил телефон. Железнодорожник снял трубку:
— Да, да… У нас… Я же говорил, что никуда не денется… Можете забрать…
«Значит, нас-то они и искали по вагонам», — понял я.
Дальнейшее представлялось мне совершенно ясно — сейчас прибежит мама, будет обнимать меня и плакать, а потом поведет домой. Ну что ж — чему быть, того не миновать. В тепле я отогрелся немного и задремал — может быть, потому что ночь перед этим не спал.
Внезапно дверь открылась, и в комнате появилась не моя мама, а почему-то Лара. Она с недоумением уставилась на меня.
— Получайте вашего Сергея, — засмеялся железнодорожник. — В целости и сохранности.
Лара побледнела:
— Это не он…
— Как не он? Ах ты, черт побери!
Мгновенно обо мне забыли. Старик и Лара побежали куда-то. Через несколько минут вернулись.
— Ушел уже… — причитала Лара.
— Надо дать телеграмму на следующую станцию. Там его снимут…
Она еще осталась на станции, а я пошел домой. Тогда я не понимал, что случилось, а позже выяснилось вот что: Лара вернулась с фабрики раньше обычного. Она порезала палец, ей сделали перевязку на здравпункте и отправили домой. Дома она нашла записку Сергея, позвонила в школу, побежала в военкомат. Оттуда дежурный позвонил на станцию. Вот почему железнодорожники осматривали каждый вагон и меня приняли за Сергея.
Дома я прежде всего порвал свою записку, а что касается Сереги, то ему, как всегда, повезло. На следующей станции его почему-то не сняли, и он спокойно покатил в сторону фронта.
А я так и остался дома. И конечно, мама узнала, что я был с Серегой, но все обошлось без скандала: она почти не ругала меня, а Нюра даже сказала, что я молодец и она гордится моим поступком.
А вот в школе сложилось все по-другому. На другой день меня вызвала к себе Нинель Викторовна. Она встретила очень ласково, улыбнулась:
— Присаживайся, Агеев.
Я сел на краешек стула.
— Ну расскажи, зачем ты это сделал?
«К чему спрашивать о том, что совершенно ясно? Мама и Нюра этого не спрашивали».
— Не подумал? Да?
«Опять не то… Как можно было „не подумать“? Наоборот, все до мелочей было думано-передумано.»
— Обещай мне, что этого больше не будет…
«Зачем же я буду ей обещать? Лучше промолчать». А дальше началась сплошная педагогика.
— Собственно говоря, я хотела выяснить, почему ты стал учиться слабее, чем прежде…
— Кто его знает… — шмыгнул я носом.
— У тебя носовой платок есть?
Я стал рыться в карманах.
— Прежде ты учился много лучше… Ведь так?
— Ну…
— Не «нукай» — ты не на конюшне…
Она перестала улыбаться.
— Что с тобой? Ты, говорят, увлекаешься «чикой»?
При чем здесь «чика»? Да разве все расскажешь? Может быть, дело в том, что все время хочется есть, а может быть, дело в той бумажке, в которой незнакомым почерком написано, что «верный воинской присяге, пал смертью храбрых под Наро-Фоминском рядовой Григорий Захарович Агеев… Похоронен в братской могиле…» А Григорий Захарович — это просто наш Гриша… Обо всем этом можно бы сказать Ивану Михайловичу, а вот Нинель Викторовне — нельзя. Нет таких слов, чтобы сказать. Ведь не скажешь, что последнее время мама стала сухонькой и маленькой и все чаще подолгу молчит. А Нинель Викторовна — молодая, красивая — спрашивает:
— Кто твои друзья?
Я не знаю, что ответить. Теперь Сереги нет. А может, мой друг — Зоя, которую я вожу в школу?
— Какие книги ты читаешь?
Стоит ли рассказывать ей, что я давно уже ничего не читаю. Потому что у нас темно. Вечером, сидя перед раскрытой печкой, я едва успеваю приготовить письменные уроки. И то кое-как… Я опять молчу. Нинель Викторовну обижает мое молчание.
— Ну почему ты ничем не хочешь поделиться со мной? Какой ты скрытный, — вздыхает она, — а напрасно. Я, возможно, могла бы помочь тебе…
«Не нужно мне никакой помощи», — думаю я и так сжимаю в кармане алюминиевую расческу, что острые ее зубья впиваются мне в ладонь.
— Можешь быть свободным, — произносит, наконец, Нинель Викторовна.
* * *
Этой же весной фабрика выделила маме три сотки земли. Кирьяковы тоже могли взять, но брать не стали, потому что они уже собирались домой (надо сказать, что они с первого же дня, как поселились у нас, все собирались домой).
Землю «вырешили» километрах в трех от города в местности, которую назвали «Холерными бараками». Когда-то здесь, еще при царе, во время холеры, построили несколько домов для больных. Теперь домов уже не было. На том месте, где когда-то они стояли, возвышалось несколько поросших молодыми деревьями холмов, да темнели какие-то ямы.
— Много народа здесь повымерло. Еще дед мой рассказывал, — пояснила нам мама.
Теперь о смерти ничто не напоминало — в частом березняке пели птицы, а на полянах цвели огоньки…
Мама родилась в селе Кожевниково и на всю жизнь сохранила любовь к земле. Ей давно хотелось иметь свой огород. До войны — для души, в войну он помог бы нам прокормиться.
Между прочим, был не огород, а просто большая поляна. Среди травы торчали колышки с номерками. Наш номер был тридцать седьмой. Участок этот достался нам по жребию. Что такое «жребий», я не знал, но мне здесь понравилось. И мама была здесь совсем другая — веселая, сильная, будто помолодевшая на много лет. Она копала и готовила землю под рассаду капусты и помидоров, а мы с Нюрой таскали воду из лога, где протекал ручей. Когда шли обратно, Нюра уходила вперед, а я, как ни старался, все равно отставал. Идти быстрее никак не получалось — ведра раскачивались, и вода расплескивалась. Плохо было только то, что здесь, в лесу, особенно хотелось есть. Мы с Нюрой никак не могли дождаться ужина.
Мама говорила, что земля нам досталась чудесная: черная, рассыпчатая. Но у нашего огорода было два недостатка: первый — от нашего дома сюда надо было идти чуть не час; второй — далеко от участка находилась вода. И еще плохо, что сторож попался, как мама определила: «из-за угла мешком пуганый». Одет он был удивительно: в старой стеганке без пуговиц, в широких штанах, сшитых из розового байкового одеяла, и босиком. За сторожение он попросил хлеба вперед — полтора килограмма (пришлось купить на базаре). И все смеялся безо всякой причины. Из-за этого смеха его, наверное, и в армию не взяли — куда же годится такой боец, ему и автомат дать нельзя. Представьте, идет в атаку и хохочет. Это уже не воин. Впрочем, берданку ему доверили: парень везде ходил с ружьем на широком засаленном ремне.
Здесь, на участке, я первый раз в жизни видел соловья: оказывается, он похож на воробья — такая же серая невзрачная птичка, только, кажется, посерьезней. Сидел на сухой талине, надувал зобик и заливался трелями…
Отправляясь на участок, мы каждый раз брали с собой Рекса. Постепенно он становился настоящей собакой и без памяти любил нас. Все труднее становилось его прокормить. Чаще всего хлеб ему из своей «пайки» уделял я.
Ему нравились эти прогулки — он бежал, обгоняя нас, садился и ждал, когда мы подойдем, то далеко отставал, обнюхивая заборы и выясняя что-то, одному ему нужное. В лесу он тоже не сидел и не смотрел, как мы работаем. Как только мы приходили на огород, он мчался в лес, и мы его не видели до конца работы. Когда мы собирались домой, я кричал:
— Рекс! Рекс!
И он прибегал, сломя голову, с мордой, на которой были написаны восторг и одновременно возмущение: «Неужели вы домой? Неужели вам не хочется побегать по траве, половить мышей, полазить в кустах?»
И вот однажды Рекс не прибежал на мой зов. Я пошел искать его. Долго я ходил между берез и потом увидел… Он лежал, вытянув задние лапы, около сухой талины. Я назвал его по имени. Он не шевельнулся. Я подошел ближе. Вся его голова была в крови. Он был уже совсем холодный. Я взял его на руки и принес к нашему огороду. По пути я вспомнил, что утром слышал два выстрела. Кто стрелял?
— Я знаю, чьих это рук дело, — сразу сказала Нюра, как только увидела мертвого Рекса.
Мы с ней пошли к шалашу сторожа, а мама пошла рыть яму. Парень встретил нас смехом. Он и не думал отрицать, что стрелял.
— Это ваша собака? Повадилась из шалаша хлеб воровать. Такая шкодливая…
Ни я, ни Нюра ему не поверили: Рекс и воровство — вещи несовместимые. У нас дома мы оставляли хлеб на столе — Рекс ни разу не тронул ни крошки.
Мы похоронили его на пригорке под высокой красивой березой, далеко от огорода, на берегу ручья.
Осенью мы одолжили у соседей тележку и поехали за своим урожаем. Теперь лес был совсем другой — желтый, тихий. Когда приехали, Нюра вскрикнула:
— Мама, где же наш огород?
Мама опустилась на повядшую траву и по ее лицу я понял, что у нас случилось большое несчастье. Так оно и было. Кто-то выкопал нашу картошку, срубил недозревшую капусту, повыдергал морковь. Мама даже застонала:
— Что сторож смотрел? Такую страсть наделали…
— Да он первый и поживился, — усмехнулась Нюра.
— Не может быть, — возразила мама.
Присмотрелись к траве: на ней ясно отпечатались следы колес и конских подков.
— Пойдем к сторожу, может быть, он видел, — продолжала мама свое.
Подошли к шалашу. Он был пуст. Видно, в нем давно никто не жил. Шелестели сухие листья. На месте костра оставалась рыжая выжженная земля, но золы не было — видимо, ее унес ветер.
Домой мы шли налегке, толкая впереди себя пустую тележку.
* * *
В госпиталь мы заявились всем классом. Дали мировой концерт внизу, в том зале, где до войны проходили школьные вечера.
Те, которые не могли ходить, лежали на первом этаже. Их прикатили в зал на колясках и поставили впереди, чтобы им было все хорошо видно. Ходячие сели позади на скамейках.
Я выступил с песней, которую научил меня петь еще Серега.
Без хвастовства скажу — здорово получилось. Некоторые раненые даже вытирали слезы.
Потом мы еще ходили по палатам, читали и пели тем раненым, которым вообще нельзя было двигаться… Тут и состоялся мой первый разговор с дядей Сеней. Он спросил:
— Ну и что в вашем городишке есть?
Меня задело слово «городишко». Не городишко, а самый настоящий город, правда, небольшой.
— Фабрики, заводы, — отвечал я. — И вообще все, что нужно…
— А какие?
— Это военная тайна…
Тут я, конечно, приврал для пущей важности, потому что с какой стати было докладывать дяде Сене, что у нас, кроме мебельной фабрики и судоремонтных мастерских, ничего сроду не было. Правда, был еще эвакуированный завод, но о нем я сам ничего не знал. Слова мои почему-то развеселили дядю Сеню:
— Молодец, военную тайну разглашать нельзя… Это верно… Ты учишься?
— А как же?
— На пятерки?
— Всяко бывает.
— В каком же ты классе?
— В пятом.
Такой поворот разговора от нашего города к моей личности не очень понравился мне. Того и гляди спросит, сколько мне лет, и скажет: «А я думал — ты маленький». (Вот что значит медленно расти).
— Как звать тебя?
— Костя Агеев…
— Не брат ли Нюры?
— Брат.
— Значит, Костя? Хорошее имя. У меня сын Костя. Чуть побольше тебя… И еще девчушка Ниночка…
— Далеко?
— Под Хабаровском…
Я спросил его:
— Ты из деревни?
— Из райцентра.
— А кем работал?
— Плотником.
Он нахмурился озабоченно:
— Теперь придется подыскивать что-нибудь другое…
Он шевельнул загипсованной рукой:
— С такой цацей много не наработаешь…
— Конечно, — согласился я.
— Ты мне запиши ту песню — хорошая.
Я обещал.
После того как весь наш класс освободился, нас повели в бывший школьный буфет и накормили пшенной кашей. Каши положили по полной тарелке, а сверху еще кусочек сливочного масла. Хлеб я хотел унести домой, но постеснялся, что скажут: «Здесь натрескался, да еще домой тащит». Так корка хлеба и осталась на столе. Я надеялся, что кто-нибудь заметит такое дело и скажет: «Мальчик, возьми это с собой». Но никто не заметил и не сказал.
На другой день я принес дяде Сене песню, переписанную каллиграфическим почерком. (Пришлось мне попотеть.) И тут он еще немного рассказал о себе. До самого ранения он был сапером. Строил мосты и сколачивал плоты, обезвреживал немецкие мины. Как его ранило, он рассказывать избегал. Сказал просто, что «попал в такую передрягу, что не приведи бог». Я спросил его, верит ли он в бога.
— С чего это ты вдруг? — удивился он.
— А ты бога помянул…
— Это так, к слову пришлось.
Я вышел в коридор и остановился.
Думал я совсем о другом: теперь я совершенно ясно знал, кем быть. Раз не получилось на фронт, значит, надо стать хирургом. Как мне это раньше не пришло в голову? Сперва мечты о море, затем стремился стать разведчиком, а теперь — хирургом. Нет, это не очередное увлечение. Я твердо надумал — только хирургом.
И с этого дня я решил стать другим человеком. Может быть, именно в эту минуту кончилось мое детство. Теперь я знал, зачем жить на свете. Не было больше мальчика «ни к чему».
* * *
О намерении моем стать хирургом я никому не говорил, но сам не забывал о нем ни на минуту. Бессмысленно было бы только мечтать. Надо было что-то делать. Прежде всего взял в городской библиотеке толстую книгу «Полевая хирургия» и начал ее читать, таясь от всех. Затем я решил подлечить Зоину ногу. Почему девочка часто говорит, что у нее болит ступня? Ступни-то ведь у нее и нет.
— Зоя, — попросил я, — покажи мне больную ногу.
— Зачем тебе? — удивилась она.
Я объяснил ей все и, мне кажется, очень убедительно, но она вдруг заупрямилась: «нет» да «нет». Она не захотела снять с больной ноги нечто вроде стеганого рукава, который сшила для тепла Лара.
Тогда меня осенила замечательная мысль — показать Зоину ногу начальнику госпиталя. Пусть он даст Зое подходящий протез.
— Завтра пойдем со мной. Пусть твою ногу посмотрит врач.
На это Зоя согласилась.
На другой день мы с ней не пошли в школу и отправились в госпиталь. К начальнику нас не пустили. Тогда я через санитарку вызвал Сеню, а он уже договорился, что начальник нас примет. Впрочем, начальник был чем-то занят, и нам пришлось посидеть на скамейке в коридоре. Потом он вышел к нам — голова белая и халат белый.
— Это вы ко мне?
Когда мы вошли в его кабинет, я объяснил, зачем мы пришли. Он спросил, как нас звать, и сказал:
— Так вот, Костя, твою сестренку ты подожди там…
Он махнул в сторону двери.
— Нам с Зоей свидетели не понадобятся.
Почему-то он был уверен, что она моя сестра. Возражать я не стал. Через некоторое время он позвал меня обратно. Усадил на белую табуретку.
— Так вот что я вам обоим скажу: протез сейчас подобрать нельзя. У нас таких нет… Другими словами: пусть Зоя немного подрастет. А насчет того, как сложится дальнейшая жизнь — пусть не сомневается: будет Зоя свободно ходить, даже танцевать. Вы поняли меня?
Мы кивнули утвердительно, сказали «спасибо» и хотели уйти, но он догнал нас в дверях и обоим уважительно пожал руку: сперва Зое, потом мне.
В коридоре Зоя почему-то заплакала.
Опять наступил апрель. Последний апрель войны. Теперь нельзя было возить Зою на санках. Да и на костыльках своих она управлялась очень ловко. Доходила до школы быстро, почти как я. Кирьяковы снова переселились к себе наверх… А с нашей Нюрой что-то случилось. Во-первых, она все время что-то напевала. Слов нельзя было разобрать, но губы ее шевелились, и ходить она стала легко и весело, словно под музыку. Во-вторых, все свободное время пропадала у Лары и с ее помощью что-то шила себе. Несколько раз за вечер Нюра сбегала вниз к нашему большому зеркалу и приказывала мне:
— Отвернись к окну!
Это значило, что она примеряет кофточку или юбку. А что было смотреть в окно? Все одно и то же — серый лед и остров с черными кустами. Шила она из старья, ничего хорошего не получалось, но сестра, видно, была другого мнения. Вообще я заметил, что ей вдруг захотелось быть красивой. Дошла до того, что взяла у меня толстый красный карандаш и не призналась. Но меня ведь не обманешь. Куда делся карандаш, я увидел по ее губам — они вдруг стали ярко-красными. Я прямо сказал ей, что нехорошо так делать — красть у родного брата карандаш, который, между прочим, нигде не купишь.
С началом весны старая школа тянула к себе как магнитом. Каждый день мы залезали в госпитальный сад. Раненые встречали нас приветливо, шутили с нами, малышей брали на колени, со старшими играли в шашки и домино. У каждого мальчишки появился свой взрослый друг. И у меня, конечно, дядя Сеня. Нюра привозила его в сад на коляске и оставляла где-нибудь около беседки. Помню его ясно: плотный, с оспенными рябинками на лбу и щеках, глаза серые, внимательные и всегда такие, как будто он собирается сказать что-то смешное. Когда читал, надевал очки. Из березового полена с помощью отцова топора и перочинного ножа я смастерил отличные «цыпки» — посередине манок, а по бокам две ловушки для птиц. Вот с этой штукой я и появился однажды в госпитальном саду. Дядя Сеня осмотрел их, похвалил и сообщил, что в детстве мастерил точно такие же.
Он, как и другие раненые, был в одном нижнем белье. Старшая сестра Бахтина не разрешила выдавать раненым пижамы, чтоб они не уходили в город. Конечно, дядя Сеня никуда бы не ушел, он вообще еще ходить не мог, но тут всех стригли под одну гребенку.
— Без штанов какой я мужик, — ворчал дядя Сеня. — Вот дуреха!
«Дуреха» — это я выразился очень мягко. Дядя Сеня употребил куда более крепкое словечко, но тут же вспомнил, что за его спиной стоит Нюра, и спохватился:
— Ты прости меня, Нюра… С языка само сорвалось. Ты иди, отдохни.
Нюра согласилась отдохнуть, кивнула в мою сторону:
— Если нужна буду — пусть позовет.
Когда Нюра ушла, дядя Сеня подозвал меня:
— Тебе на первый раз поручение… Знаешь, где базар?
Он оглянулся, вытащил из-за пазухи краюху хлеба:
— Дуй на базар и обменяй вот это на махру. Только чур — никому! Держи кисет…
— А сколько дадут махры?
— Ты не рядись — сколь насыпят, то и ладно.
Базар находился в двух кварталах от госпиталя. Чем тут только ни торговали — всякими нужными и ненужными вещами: мышеловками, вениками, травами, солью, старой и новой одеждой. Один старичок торговал огарками стеариновых свечей. За каждый огарок он просил по десять рублей.
Моим ломтем хлеба сразу заинтересовались:
— Эй, пацан, подваливай сюда…
— Сколь просишь?
— Давай баш на баш — твой хлеб, моя литра молока.
Будь моя воля, сменял бы я хлеб на молоко, но дядя Сеня ждал махорку. Нашел я ее у парня с подвязанным грязным бинтом подбородком. Он насыпал мне граненый стакан махорки и еще добавил — бросил в кисет щепотку.
— Закури, — предложил он мне, — крепкая, мягонькая…
— Я не курю…
Он окинул меня недоверчивым взглядом, но я не врал. Курить я попробовал всего один раз. Серега уговорил, но ничего не получилось. У меня закружилась голова и чуть не вырвало.
В общем, принес я дяде Сене стакан самосада. В это время вернулась Нюра. На махорку она не обратила никакого внимания, а вот кисет заинтересовал ее. Кисет и правда был занятный: на синем бархате кто-то вышил красными бусинками: «Далекому другу от Любы из Перелюба».
— Кто эта Люба? — спросила Нюра.
— Любушка-голубушка… — подмигнул дядя Сеня.
— Жена?
— Жену мою не Любой зовут, — серьезно ответил дядя Сеня.
— Она, наверное, красивая?
— Кто? Люба?
— Жена твоя. Покажи карточку.
— И рад бы, да нет ее. Ранило меня — и прямо в медсанбат. Очнулся в одном белье, а карточка в кармане гимнастерки лежала…
Посмотрел внимательно на Нюру, озабоченно покачал головой:
— Ну и закуксилась… Ты, Костя, знаешь что — маленько пробегись.
— А долго бегать?
— До угла и обратно. Я время засеку…
Он взглянул на наручные часы. Часы у него были что надо — швейцарские, трофейные, с черным квадратным циферблатом.
— До какого угла?
— Хотя бы где магазин.
Вот это «хотя бы» меня сильно расхолодило — значит, ему все равно, до какого угла… Но делать нечего — побежал. Сперва во всю мочь, а потом рысью. Бегу и думаю: «Тоже мне — нашли дурачка. Зачем мне всю дорогу бегом бежать?» Обратно шел, уже не торопясь.
Пришел, а они меня ни о чем не спросили. Дядя Сеня даже время посмотреть забыл.
Сестру я не сразу узнал. Что-то случилось с ее лицом. Смотрю, а она улыбается. Когда увозила его, слышал, как она сказала:
— Хороший ты человек, Сеня.
Он возразил:
— Был человек, да сплыл. Теперь немец от меня полчеловека оставил.
А ночью мне почему-то не спалось. И Нюра не спала. В одной рубашке она сидела на подоконнике и смотрела на темную улицу. Сомневаюсь, чтобы она там что-нибудь могла увидеть. Я спросил шепотом:
— Дядя Сеня тебе нравится?
Она даже не повернулась ко мне.
— Не твоя забота…
Через несколько дней дядя Сеня попросил меня написать письмо. И пояснил:
— Катя нашла меня… Надо ответить…
Я принес из дома чернильницу-непроливашку, тетрадь в клеточку и ручку. Писал стоя на коленях перед садовой скамейкой. (Теперь дядю Сеню не возили на коляске — он учился ходить с помощью костылей.)
Сидя рядом со мной, он продиктовал:
«Родная моя жена Катя! Вот скоро год, как я мотаюсь по госпиталям. Всякое бывало — одно время ногу хотели совсем оттяпать, а правая рука и теперь не гнется. Главный наш хирург Людмила Михаиловна, хорошая такая женщина, спрашивала меня перед операцией: „Как тебе руку зафиксировать? В согнутом положении или прямом?“ Я спросил ее: „А в том и другом нельзя?“ Она смеется: „Никак нельзя. Она двигаться не сможет. Как заживет, так и останется“.
И я решил: лучше в прямом, чтобы косить можно было.
Ты спрашиваешь меня, почему я так долго молчал — а молчал я по причине неясности: что мне делать после госпиталя — домой возвращаться или какого другого пути искать? Без всякой доброты напиши, чтобы я никому потом не был в тягость. Лучше все сразу выложи.
Поцелуй от меня Ниночку и Костю. Большие теперь, наверно, стали? Поклон также деду Захару и всем родным и знакомым.
С уважением и любовью твой муж Семен.»
Потом дядя Сеня попросил:
— Дай сюда!
Взял исписанный тетрадный лист, долго держал его в руках: то ли читал, то ли о чем-то думал. Посмотрел на меня с сомнением.
— Что-нибудь не так? — забеспокоился я.
(Уж больно не хотелось мне переписывать — Ольга Михайловна в школе с этим надоела.)
— Все правильно, — вздохнул дядя Сеня и порвал письмо на мелкие кусочки. — Так-то лучше будет…
В ту ночь я слышал, как Нюра сидела у мамы на краю постели и рассказывала про старшую сестру Бахтину:
— Во все нос сует… «Поставлю вопрос о пребывании…» Ну и пусть ставит… Не боюсь нисколько… И мне высказалась: «У вас не любовь, а сплошное затмение…» Много она смыслит, старая грымза…
Я повернулся на другой бок, чтобы лучше было слышно. Но ужасно догадливые эти взрослые.
— Тише, — шепнула мама, — Костя, кажется, проснулся.
И Нюра замолчала.
* * *
Тогда же произошло еще одно событие. По правде сказать, меня все время мучило одно сомнение: «Как же я стану хирургом, если проявляю обыкновенную трусость?» Бывшая учительская не давала мне покоя.
И вот однажды вечером я подошел к бывшей школе с той стороны, где рос последний тополь. Самое трудное было преодолеть гладкий ствол. Дальше росли ветки. Но я, конечно, взобрался наверх, хотя с головы слетела фуражка.
Стал смотреть в окно. В комнату ввезли на высокой тележке кого-то прикрытого белым. Когда его перекладывали на стол, я увидел его лицо — оно было совсем молодое и похожее на лицо нашего Гриши. Я даже чуть не вскрикнул — сперва подумал, что это он. Но чудес на свете не бывает… И я заставил себя смотреть. И видел все с самого начала до самого конца. Ни разу не закрыл глаза, хоть были моменты, когда мне становилось страшно…
С тех пор, как только освещались окна операционной, я взбирался на тополь и смотрел. Но никому из ребят я об этом ни словечка…
В госпитальный сад мы попадали всегда одним и тем же путем — знали место, где доска в заборе висела на одном гвозде. Дядю Сеню и Нюру я почти всегда находил в самом конце сада, в зарослях черемухи, где кто-то поставил скамейку. Однажды здесь я застал Нюру, очень расстроенную. Она шла медленно, но меня почему-то не заметила. Я окликнул ее. Она вздрогнула и подняла на меня заплаканные глаза:
— Ты куда?
— К дяде Сене.
Он сидел на своем обычном месте. По его лицу я тоже заметил, что и у него что-то случилось.
— Иди-ка сюда, — позвал он.
В руках у него было письмо и не треугольное, какие он получал из других госпиталей, а в длинном сером конверте.
— Нюра читать не захотела, а ты прочти…
Мне приятно было такое доверие. Я сел рядом и прочитал:
«Здравствуй, мой многоуважаемый муж Семен Макарович! С низким поклоном пишет жена ваша Екатерина Самсоновна. Очень надеюсь, что на это письмо вы мне ответите самостоятельно, хоть левой как-нибудь. Неужели я заслужила такое, что вы и написать не желаете. А я к вам нисколько не переменилась.
Мне два раза писала ваша старшая сестра Бахтина — дай ей бог здоровья, такая расчудесная женщина — и описала все ваше состояние и в настоящее время и на будущее. Скажу вам с полной откровенностью: какой ты ни есть — ты один у меня на веки вечные. И зачем ты в голову взял такую несуразицу. Что-нибудь придумаем насчет работы. У нас Степанов уходит на пенсию, так, может быть, тебя возьмут на его место.
Косте брюки опять стали коротки. А Ниночка совсем барышня — Кости уже стесняется, когда утром одевается…
Еще Бахтина писала про твой орден. Мы все тебя сердечно поздравляем: и я, и сестра Тоня, и ее муж Егор Петрович, и Ниночка, и Костик. На том письмо кончаем. Жена твоя
Екатерина Самсоновна.»
— Ну и что ты решил? — дочитал я письмо.
— Прямо не знаю, что и делать…
Он задумался, как будто забыв, что я рядом.
— Ты почему никогда ко мне не придешь?
— Приду, — ответил он с готовностью.
Я сказал, что у меня есть деревянный линкор, совсем как настоящий, только маленький. Уж очень мне хотелось, чтобы дядя Сеня пришел. И он сдержал слово (вот такие люди мне нравятся: сказал — сделал).
Он пришел в воскресенье — точнее, не пришел, а приковылял на костылях. Так далеко он еще не ходил и очень устал. Когда Нюра увидела дядю Сеню в окно, она почему-то убежала наверх. Войдя и поздоровавшись со мной, он спросил:
— А где Анна Захаровна? Не заболела?
— Анна Захаровна?
Я не сразу сообразил, о ком он говорит — прежде он никогда так не называл Нюру. Да и никто не называл. Я был уверен, что, услышав его голос, она сразу придет, но ее все не было и не было. И я позвал:
— Нюра, дядя Сеня пришел.
Тогда она спустилась вниз в новом платье (потом-то я понял, что оно вовсе не новое, только перешитое) и с губами, ярко накрашенными моим карандашом.
Вначале, мне кажется, они оба были почему-то смущены.
— Вы здесь живете? — спросил дядя Сеня.
— Здесь, — отвечала Нюра.
Дядя Сеня подошел к окну:
— Река у вас… Лед идет…
— Это Томь… Но со второго этажа еще лучше видно. Пойдемте, посмотрим.
Мне это не очень-то понравилось, так как он все-таки пришел не к ней, а ко мне — зачем же уводить от меня моего гостя. Уж столько-то я понимаю — что вежливо, а что — нет. Они ушли наверх и, должно быть, он дал ей читать то письмо. Я понял по ее вопросам:
— Значит, она — Самсоновна?
— Стало быть, так.
— А кто такой Степанов?
— Приемщик сырья в сельпо.
Я все ждал, что дядя Сеня спустится вниз, но сделать этого он не торопился, и потому пришлось понести показать ему линкор наверх. Корабль был не совсем еще готов: его надо было покрасить, но масляной краски я нигде достать не смог, акварельная же долго не продержится, ведь ему не на столе стоять, а плавать. Дядя Сеня похвалил линкор, но без души — видно было, что думал о чем-то другом. Я ожидал совсем не того — каких-нибудь вопросов, дельных советов.
«Скорей бы лед прошел на Томи. Тогда бы можно испытать линкор, на большой воде, а в ручье не хватает глубины», — думал я.
Потом пришла мама, но на этот раз повела себя странно. Обычно очень гостеприимная, она с дядей Сеней держалась строго и ни разу ему не улыбнулась. И ничем не угостила (а у нас была копченая рыба — получили вместо мяса по продуктовым карточкам).
Дядя Сеня посидел и ушел, и разговора хорошего не получилось, а я надеялся, что он подробно расскажет, как воевал с фрицами.
В общем, вышло все совсем не так, как я ожидал. Нюра пошла проводить его и сказала, не обращая внимания на меня:
— Значит, надо ехать.
— Ты думаешь?
— Обязательно… Ведь там дети…
В первые дни мая наступил срок отъезда дяди Сени. Мама не позволила мне пропустить занятия в этот день, поэтому я отсидел все пять уроков и чуть не опоздал. К госпиталю я прибежал, когда автобус был уже заполнен. Уезжающие сидели на своих местах, только дядя Сеня стоял, опираясь на палочку, у кабины шофера.
— Дядя Сеня, — окликнул я его.
— А, это ты?! — обернулся он ко мне.
«Это ты» не понравилось мне. В его голосе прозвучало разочарование, как будто он ждал не меня.
— Вот возьми. Передай своему Косте!
Я отдал линкор. Дядя Сеня взял его под мышку и обещал дома покрасить (масляной краски я так и не раздобыл).
— Тебя долго еще ждать? — приоткрыл дверцу шофер.
— Сейчас, сейчас… — ответил ему дядя Сеня и попросил меня: — Слушай, Костя, будь другом… Позови Нюру…
Видно, он забыл с ней попрощаться.
Нюру я нашел на втором этаже, у окна, из которого она смотрела на автобусы. Я сказал ей, что дядя Сеня ждет ее.
— Вот еще чего не хватало, — усмехнулась она. — Надо ему — пусть сам идет…
— Он же плохо ходит.
— Ну и что?
— Так что сказать ему?
— Что хочешь, то и говори.
Когда я вернулся, автобус уже фыркал.
— Семен, ты что — остаешься? — крикнул кто-то в окно.
— Я сейчас, ребята…
И ко мне:
— Ну что?
— Не хочет она.
В автобусе засмеялись:
— От ворот поворот…
— Вот и весь сказ…
— Ну, едешь или как?
— Еду.
Навстречу ему из раскрытых дверей потянулись руки.
— До свидания, дядя Сеня, — крикнул я. — Адрес-то помнишь?
— А как же… Я приеду на будущий год.
Автобус тронулся.
Бахтина, высокая, широкоплечая, стояла рядом.
— Вот и ладно, — вздохнула она и пошла в госпиталь.
«О чем она? — подумал я. — Уехал мой лучший друг — что ж здесь ладного?»
Недели через две я получил письмо:
«Здравствуй, дорогой Костик,! Добрался я очень благополучно. До Красноярска ехал со своими ребятами, а дальше один. Но и тут мне повезло — попались хорошие попутчики: и за кипятком бегали, и в карты со мной играли. Дома тоже все в порядке. Ребята вымахали — не узнать. Пока я по госпиталям кочевал, семья моя перебралась на другую квартиру — похожа на вашу. Тоже дом двухэтажный и из окон река видна — только у нас Амур. Теперь у нас две комнаты и даже с балконом. Будешь поблизости — заезжай к нам. Жизнь большая — может, еще и встретимся. А пока учись на „четыре“ и „пять“. Привет Анне Захаровне. Адрес мой простой: Хабаровск. Почтамт. До востребования.
С приветом, ваш Семен.»
О том, что приедет — ни слова. «Неужели обманет», — опечалился я.
Мама к письму отнеслась равнодушно, а Нюра заинтересовалась и попросила дать ей почитать, пообещав:
— Будешь письмо посылать, скажи. Я тоже свое вложу.
На другой день я напомнил ей, а она рассердилась:
— Не буду я писать.
— Почему?
— «Почему» да «почему», — передразнила она меня. — Не обязана я писать. Никому ничего не обязана…
Позже было еще одно письмо:
«Дорогой Костик!
Письмо твое получил. Большое спасибо. Дела мои идут неплохо. Устроился заготовителем — езжу по деревням, принимаю шерсть, кожи и так далее. Работа мне глянется не очень, но плотничать теперь надо забывать — здоровья нет. Нога сильно болит, особенно к погоде, но на судьбу жаловаться не приходится — спасибо, что голова на плечах. Увидишь Бахтину Елизавету Андреевну, передай ей мой низкий поклон, хотя она, может, меня уже и не помнит… Пользуйся своими молодыми годами — учись на 4 и 5. Слушай учителей, они плохому не научат.
С приветом, Семен.»
Я хотел обрадовать Нюру:
— От дяди Сени опять письмо.
Но она встретила мое сообщение равнодушно:
— А мне-то что?
Сделала вид, что ее нисколько не интересует, что он пишет. Только я понял — это одно притворство. Письмо я положил на подоконник. Аккуратно так положил, а потом смотрю, оно сложено пополам и в конверт засунуто наспех, кое-как. Значит, читала она его, когда меня не было.
На это второе письмо я опять сразу ответил. Очень подробно описал все мелочи нашей жизни. А ответа не получил. Может быть, и не о чем писать ему? Нельзя же каждый раз наказывать, чтобы учился на 4 и 5. Я и без него стараюсь.
Еще до Дня Победы уехали Кирьяковы. Мама пробовала их отговаривать:
— Живите… Ведь дома у вас все поразрушено…
Лара и слушать не хотела:
— Теперь я ничего не боюсь.
— Небось опять за свою стенографию возьмешься?
— Там видно будет…
На прощание Зоя подарила мне свою точеную ручку с маленьким компасом на конце. Перед самым отъездом она меня при всех взяла и поцеловала. Я думал, над нами будут смеяться, но никто даже не улыбнулся. (Наверно, надо было тоже поцеловать ее, но я сразу не сообразил, а потом было уже поздно.)
Я сказал только:
— Пиши!
Зоя написала мне. Первое время они жили в каком-то подвале. Затем перешли во вновь отстроенный дом.
Вскоре мама поехала в Наро-Фоминск и привезла оттуда землю с братской могилы, где был похоронен Гриша. Фабричные сварили оградку и памятник, и мама положила под него эту землю в ящике из нержавеющей стали. На памятнике товарищи Гриши укрепили надпись: «Григорию Захаровичу Агееву (1924–1942 гг.), отдавшему свою жизнь за свободу нашей Родины (от его друзей из III цеха)».
* * *
Вернулся прежний директор школы. Пришла Нюра и сказала мне:
— Тебя Иван Михайлович зовет.
— Он вернулся?
Вопрос был глупый и Нюра не удостоила его ответом, — она вообще не любила лишних слов.
А между тем ужасно не хотелось идти к Ивану Михайловичу. Прямо ноги не шевелились, но я все же пошел. Надо, значит, надо — и никуда не денешься.
Дверь в его комнату была настежь открыта — я вошел бесшумно. Ивана Михайловича я в первое мгновенье не узнал: на глазах его были черные очки, а лицо все в синих шрамах и рытвинах, как будто сшитое из кусков. Он сидел за столом и весь был поглощен своим занятием: перед ним лежала толстая тетрадь из плотных коричневых листов с мелкими пупырышками. Он ощупывал концами пальцев эти пупырышки и что-то шептал. Я понял, что он читает.
Внезапно он повернулся ко мне:
— Здесь кто-то есть?
— Есть, — отозвался я.
— Костя? Надумал теперь, кем быть?
— Надумал.
— Кем же?
— Хирургом.
Он улыбнулся одобрительно:
— Это дело…
Мне надо было сказать ему то, что тяжелее всего:
— Иван Михайлович, я без Рекса…
— Говори, — нахмурился он.
Я рассказал, как погиб Рекс.
— Жаль, — только и сказал Иван Михайлович, а я думал, он будет ругать меня, что недосмотрел. И вдруг он засмеялся:
— А помнишь, как я тебя с печки снимал?
— Мы сами слезли.
Мне стало обидно, что он не вспомнил ни о чем путном — только глупое происшествие с печкой.
— Пойдем, посидим на улице. Там скамейка.
Но сидеть долго не пришлось.
Послышался далекий звонок. Иван Михайлович забеспокоился:
— Ну беги, а то опоздаешь…
— До свидания, — сказал я и ушел.
Я не стал объяснять ему, что никак не опоздаю, потому что хожу теперь во вторую смену.
* * *
…Наконец наступил тот день, которого мы все ждали — День Победы. Люди радовались, смеялись, некоторые плакали. У нас было много слез.
Пришло письмо от отца. Он опять находился в госпитале, в Челябинске. Мама отпросилась на заводе и решила поехать к нему. Я очень просил ее взять меня с собой, но слезы мои не помогли. Взяла она не меня, а Нюру. С ними я передал папе письмо и ту книгу, которую он не дочитал — четвертый том истории Ключевского.
Через неделю они вернулись — от Нюры я ничего не мог добиться, а мама сказала, что отец очень благодарен за книгу и обещал скоро приехать домой. Был ранен он тяжело — пулей в правое легкое, но теперь дело пошло на поправку. Когда мама и Нюра уезжали, они твердо договорились — не говорить отцу о Грише, но он почему-то догадался сам.
Вскоре пришло письмо от Зои. Она писала, что Серега вернулся домой. Правда, разведчиком ему не удалось стать, но он наврал, что потерял родителей, и его определили на кухню одной артиллерийской части. Так он, хотя и не получил ордена, как мечтал, но побывал и в Польше, и в Венгрии, и в Германии. Командование хотело послать его в Суворовское училище, но Серегу туда не взяли — и возрастом и образованием не вышел.
Скоро из госпиталя все уехали: и бывшие больные, и врачи, и сестры, и Бахтина, и сам седой начальник.
В конце августа наша школа вернулась в прежнее здание. Из пеньков тополей, что спилили перед учительской, выросли новые побеги.
Все пошло по-старому, вроде никогда госпиталя в школе и не было. Только первое время пахло лекарствами. Теперь и этот запах исчез. Мы-то, прежние ученики, помним все, что было, а придут новые, так те даже не будут знать, что в нашей школе в годы войны размещался госпиталь, а в учительской была операционная.
Но об этом нельзя забывать.



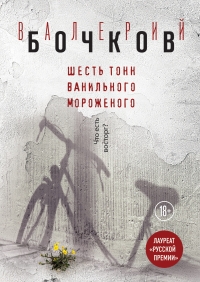


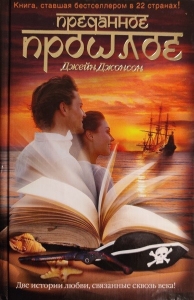
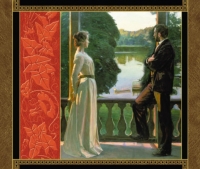


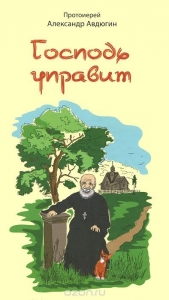


Комментарии к книге «Был такой случай…», Леонид Андреевич Гартунг
Всего 0 комментариев