Александр Стесин Нью-йоркский обход
© А. Стесин, 2019,
© ООО «Новое литературное обозрение», 2019
* * *
Бронкс
Лопес[1]
– Припозднился ты, папи, нельзя заставлять больного так долго ждать. Мне со вчерашнего вечера никто повязку не менял. Совсем, видно, про меня забыли.
– А я-то тут при чем? Не я вчера дежурил. Ну давай, Лопес, ложись, будем менять.
Он лег на спину и, устроившись поудобнее (скрестив ноги, подложив руки под голову), кивнул: валяй.
– Вот я и говорю, папи, кроме тебя обо мне тут никто не позаботится. Я и соседям своим так сказал: вон, говорю, идет мой доктор, уж как он умеет менять мне повязки, никто больше так не умеет!
Этот диалог повторялся у нас каждое утро. Хорхе Лопес, немолодой пуэрториканец с огромным пузом, провел в больнице уже больше трех месяцев и, судя по всему, никуда отсюда не собирался. Колит, с которым он поступил к нам, вылечили раз и навсегда, удалив толстую кишку. Но в послеоперационный период начались осложнения, расхождение краев разреза, бактериемия. Лопеса откачали, разрез повторно открыли и оставили заживать «естественным способом». Как правило, зараженные раны так и заживают, при условии что сам больной не мешает процессу, соблюдает правила гигиены и т. д. В случае Лопеса все было ровно наоборот: понятия «гигиена» и «постельный режим» были ему чужды. Успев побрататься с другими, такими же, как он, пациентами со стажем, он целыми днями слонялся по этажу либо смывался через черный ход – покурить и купить пива в ближайшем ларьке. То и дело снимал повязку (надо потрогать, проверить, заживает ли).
– Как там, папи, заживает, нет? По-моему, только хуже становится.
– Хуже не хуже, а улучшения пока не видно. Тебе бы вакуум[2] поставить, сразу бы лучше стало. А так и за три года не заживет. Хочешь, я тебе вакуум поставлю?
– Не-не-не, папи, вакуум мне нельзя, даже не думай. Он мне все брюхо раздерет, я с ним ни спать, ни жить не смогу!
– Ну как знаешь.
Возможно, он нарочно подыгрывал, видя, что мне нравится этот ритуал, его фамильярность и то, как он вальяжно расположился на своей койке (вид клиента массажного салона), пока я вожусь с его распоротым брюхом, промывая никак не срастающуюся фасцию, покрытую зеленоватой плесенью. В непроветриваемой палате пахнет сигаретами и фастфудом. По телеку крутят фильм тридцатилетней давности, в котором один из голливудских ковбоев охотится за советскими шпионами («Доктор, ты ведь руссо? Тогда это для тебя…»). Уставившись в экран под потолком, я продолжаю машинально разматывать бинт, повторяю назидательно-бессмысленную речь о необходимости следовать предписаниям врача и здоровом образе жизни. Для меня это десять минут отдыха.
Если ты живешь в Южном Бронксе, тебе незачем смотреть боевики. Узнав, что меня отправляют на стажировку в печально известный Линкольн-Хоспитал, знакомый хирург резюмировал: «Ну что ж, побудешь фронтовым врачом. Заодно и испанский подучишь». Насчет последнего он все-таки ошибался, хотя значительную часть местного населения составляют пуэрториканцы, доминиканцы и прочие латинос. Дело в том, что многие из врачей, работающих в Линкольне, – тоже эмигранты, но испанским они не владеют. В основном это африканцы, индийцы или выходцы из Восточной Европы – все те, чей американский путь к звездам лежит через тернии бесконечных переэкзаменовок и ординатуры в гетто. Двум сторонам трудно найти общий язык, приходится объясняться на пальцах. К счастью, в операционке все несколько проще.
В отличие от других, Лопес бегло изъяснялся поанглийски, никогда не упуская случая выступить в качестве переводчика. Когда ему становилось невмоготу сидеть у себя на шестом этаже, он сбегал в травмпункт поприветствовать новоприбывших.
– Ай-ай-ай, чико, Габриэлу опять порезали. Доктор, ее опять муж порезал, да?
– Хватит здесь ошиваться, Лопес, иди обратно в палату.
– Сейчас, папи, сейчас. Эй, а кого это там привезли? Небось Фернандо?
– Не знаю, Лопес, это не мой пациент. Да и если бы знал…
– Точно Фернандо, он на сто сорок пятой улице живет, только что из тюрьмы вышел. У него старший брат – большой человек в Доминиканской.
Рассказывать о своей «добольничной» жизни Лопес отказывался, так что его осведомленность некоторое время оставалась загадкой. На наркодилера он не был похож, на священника тоже. Откуда же ему известна биография каждого бандита в Южном Бронксе? Дело выяснилось, когда в Линкольн поступила престарелая сеньора Лопес, мать героя (поступила, как ни странно, все с тем же колитом). Разгадка оказалась до обидного простой: Лопес – мороженщик, в свободное от лазарета время он толкает по Бронксу тележку с эскимо.
Прибытие матери было как бы сменой караула: на следующий же день Лопес удрал из больницы, прихватив с собой недельный запас бинтов и соляного раствора. «Вы не обижайтесь, – успокаивала la madre. – Он ненадолго. Просто у него там дела какие-то появились. Вот он их доделает и сразу вернется. Ему здесь хорошо…»
Через три дня его тело нашли на стоянке возле супермаркета «Вестерн Биф». Непредумышленное убийство, то бишь бытовая поножовщина или что-то вроде того, толком не разобраться.
Эльба
Друзьям и родственникам, приходившим навестить больных, выдавали временные пропуска. Все, что требуется для получения такого пропуска, – это пройти через металлодетектор и предъявить удостоверение личности (необязательно своей). Охранник вводит данные в допотопный компьютер и, сделав фотографию анфас, распечатывает карточку, которую посетитель обязан наклеить на грудь. С этими наклейками связан забавный обычай: перед уходом посетители переклеивают их на дверь палаты или на спинку кровати больного. Традиционное «здесь был Вася» с фотографией. Иногда мне казалось, что лица на снимках повторяются: вот этот «Мартинес, Рикардо» висел на двери и у предыдущего подстреленного братка. Не исключено, что на одном из тревожных объявлений, расклеенных по бронкскому метро, это небритое лицо запечатлено также и в профиль.
По количеству наклеек можно судить о социальном статусе пациента. У молодого гангстера их наберется десяток, а то и два; у не гангстера – поменьше (в основном навещает родня). После определенного возраста многие лежат и вовсе без наклеек. Таких привозят в травмпункт после ДТП; откачав, держат в стационаре по несколько дней в надежде найти какого-нибудь родственника, чтобы тот оплатил больничный счет. Но родственников нет, как нет и истории болезни. Просто еще один безымянный бомж с белой горячкой или безумная старуха, выкатившаяся на проезжую часть во время эпилептического припадка. В придачу к эпилепсии у нее – последняя стадия болезни Альцгеймера. Вот уже вторую неделю она лежит пластом, отказываясь от пищи и таблеток. Можно колоть галоперидол или успокоительное, но это мало что изменит.
«Буенос диас, Эльба! Комо сэ сиенте? Комо сэ сиенте эста маньяна?»[3] Я осторожно кладу ей руку на плечо, пытаюсь растолкать. Больно вцепившись ногтями в мое запястье, Эльба выкрикивает что-то нелестное на малопонятном мне языке, а через минуту снова уходит в себя, натягивая на голову одеяло, заворачиваясь в тишину одиночной палаты, куда Альцгеймер шлет ей фантомов из прошлого, как океан Солярис. Но однажды утром, когда все документы о переводе Эльбы в дом престарелых уже оформлены, один из гостей орбитальной станции вдруг оказывается вполне телесным: гнилые зубы, сморщенное лицо, плешь, наполовину прикрытая капюшоном. Во время утреннего обхода он подзывает ординатора и говорит, что пришел забрать мать домой. В дом престарелых не надо, в психушку не надо. Сиделку, чтобы помогала с уходом, тоже не надо, без сиделок как-нибудь обойдутся. Он сам будет ей готовить – знает, что она любит. «К больничной еде она никогда в жизни не притронется, – говорит он, уплетая завтрак, который принесла Эльбе медсестра. И, слегка смутившись, добавляет: – Ну порцию-то уже принесли, а она это есть не хочет… Так что я вместо нее пожую, можно?»
– А вы понимаете, что у вашей матери болезнь Альцгеймера?
– Что у нее, что?
– Болезнь Альцгеймера. Вам будет нелегко за ней ухаживать. Вы уверены, что готовы взять на себя эту ответственность?
– А-а… В смысле, что она иногда забывает? Я ей буду напоминать. Нам вдвоем хорошо, мы телевизор вместе смотрим… Это же моя мама…
Покончив с завтраком, он вытирает губы краешком простыни, затем поворачивается к Эльбе, протягивает ей руку. И тогда она – взъерошенная, одетая в безразмерную госпитальную ночнушку – послушно усаживается на койку рядом с сыном и гладит его ладонь, узнавая или не узнавая.
Назир
В хирургии, как и в армии, все построено по принципу «субординация и выслуга лет». Золотые руки и железные нервы. Рабочий день начинается в пять утра, а заканчивается когда в девять вечера, когда в три часа ночи. Досуг ограничивается коктейлями раз в месяц и периодическими вылазками в стрип-клуб с коллегами. Но и тут все непросто: особое гусарство состоит в том, чтобы, выпив больше всех, на следующее утро приплестись на работу ни свет ни заря и оперировать еще дольше, чем обычно. Перманентная нехватка свободного времени обрастает традициями, помогающими сделать жизнь более разнообразной. Так, например, в каждой операционке установлена стереосистема – ни одна операция не обходится без музыкального сопровождения. Музыку заказывает старший, а от ассистента требуется доскональное знание музыкальных предпочтений светила: кто и когда входил в состав любимых рок-групп, годы выпуска любимых альбомов. От того, насколько твердо ты знаешь этот материал, может зависеть, дадут ли тебе сегодня оперировать.
Хирургическим отделением в Линкольне заведовал двухметровый доктор Вагран, отчаянно пытавшийся привить коллегам любовь к консилиумам и ученому дискурсу. Раз в неделю он устраивал заседания «журнального клуба», где предполагалось обсуждение последних достижений в области биомедицинских исследований. Заседания исправно посещались, но отксерокопированных научных статей, которые Вагран заблаговременно вручал каждому лично, никто никогда не читал, включая самого Ваграна. Впрочем, это не мешало председателю втягивать присутствующих в длительные дискуссии. «Наша миссия, – говорил председатель, – заключается в том, чтобы преобразить Линкольн-Хоспитал в настоящий академический центр…» Коллеги, кто во что горазд, принимались развивать эту маниловщину.
Оперировать с Ваграном было хорошо: в отличие от других, он почти не орал на ассистентов и, даже когда выходил из себя, оставался в меру дипломатичным. Выступая в роли наставника, он был полон энтузиазма и полезных советов, но советы всегда были немного мимо цели. Так или иначе, на выигрышном фоне брутальных методов его предшественника, соблазнявшего новобранцев предложениями «пооперировать» после суточного дежурства («Ну что, доктор, идешь домой отсыпаться? А мы как раз хотели предложить тебе пооперировать… Завтра уже не предложим…»), педагогический подход Ваграна казался более чем гуманным.
Роль старшины была отведена ординатору Фаруку Назиру. Отец Назира занимал какой-то важный пост – чуть ли не замминистра здравоохранения – в Пакистане, о чем коллегам по ординатуре приходилось слышать пять раз на дню. Говорили, что именно этот факт родословной и побудил Ваграна взять Назира-сына, трижды провалившего вступительный экзамен, к себе в отделение.
Наше знакомство со «старшиной» состоялось во время моего первого дежурства, когда он растолкал меня в три часа ночи, сославшись на необходимость срочно узнать мою фамилию. За пятнадцать минут до того закончилась последняя ночная операция и, воспользовавшись затишьем, я лег было поспать пару часов до обхода.
– Ты спишь? – Спросил он, зажигая свет в ординаторской.
– Сплю.
– Ну, спи… Просто я хотел узнать, как тебя зовут. Меня зовут Назир, а тебя как?
Я представился.
– Послушай, тут такое дело. У меня на шестом этаже лежит одна пациентка, вот я тут записал тебе ее фамилию и номер палаты. Я хочу, чтобы ты поставил ей капельницу и катетер. Заодно возьмешь у нее анализы и отнесешь их в центральную лабораторию. Это срочно. А потом можешь спать до обхода. Идет?
Пока я натягивал башмаки, а Назир готовился занять освобожденную мною койку, в соседнем закутке проснулся Вагран. Он в ту ночь, даром что завотделением, тоже дежурил, заменяя захворавшего подчиненного.
– Назир, ты почему спать не ложишься? Отдохнул бы, пока есть возможность.
– Что вы, доктор Вагран, – отвечал Назир через стенку, – какое там спать. Мне еще нужно поставить пациентке капельницу, потом отнести анализы в лабораторию. Думаю, до обхода не лягу…
«Ничего, я тебе это припомню», – думал я, копошась в медсестерской в поисках иглы и катетера. Но, как вскоре выяснилось, замышлять злую месть было совершенно необязательно: Назира и так пинали ногами все кому не лень, а он только и делал, что подставлялся. «Ну-ка, быстро расскажи нам, какие основные сосуды я собираюсь лигировать во время этой операции», – экзаменовал он студента-медика, и всем, кто присутствовал в операционке, от студента до главхирурга, сразу же становилось ясно, что Назир сам не уверен, что он там должен или не должен лигировать. «Думаю, не стоит мешкать с антибиотиками, предлагаю начать курс сегодня же», – говорил он, обсуждая послеоперационное лечение пациента, и все понимали, что он попросту забыл назначить предоперационную профилактику… Впрочем, пинали его и без повода, просто так – из уважения к традиции.
Чем дальше, тем больше Назир старался избегать встреч с коллегами за пределами операционки, поэтому и ночевал, как правило, не в ординаторской комнате, а где-то еще. После той первой ночи я видел его в этой комнате только однажды, когда, заскочив, чтобы взять припасенную с вечера еду, застал его за коленопреклоненной молитвой на подстеленном полотенце. Поначалу я решил, что он занимается йогой, и уже открыл рот, чтобы возмутиться (полотенце-то было мое), но, услышав самозабвенную скороговорку глядящего в сторону Мекки, запнулся. Случайное свидетельство другой, не взятой в расчет стороны его жизни дало волю воображению. Мне представился седовласый Назир-отец, почетный прихожанин мечети, до слез гордящийся заокеанскими успехами сына.
Стараясь не мешать намазу, я тихо взял свой мешок с бутербродом, проскользнул к двери, и в этот момент Назир, как будто прочитав мои мысли, вскочил как ужаленный.
– Ты что делаешь? Ты почему… не на операции?
– Операция закончилась, Назир. Очень странно, кстати, что тебя там не было. Имею я право позавтракать?
– Ты как разговариваешь со старшим по званию? Я все Ваграну расскажу, ты слышишь?
Капать он капал, но куда больше капали на него. Вагран, вполне поощрявший все эти доносы, по-своему заступался за министерского сынка. «Молодой еще, вырастет – научится», – добродушничал Вагран, чем вызывал всеобщий смех: как-никак Назиру было уже сильно за сорок.
Завсегдатаи
Работая в Линкольне, ты практически не видишь выздоравливающих; видишь либо умирающих, либо хронически больных. Последних здесь называют «frequent flyers»[4]. Всякий раз я пытаюсь, но не могу представить себе их существование за пределами госпиталя. Как вообще живут люди изо дня в день? Насколько непроницаема для меня, прохожего, их жизнь, настолько знакома, привычна ее оболочка: и одноэтажные лачуги, в которых ютится испаноязычная служба быта, и грязнокирпичные проджекты с изнаночным лабиринтом пожарных лестниц, и местный стрит-арт, восходящий не то к мексиканским муралистам, не то к изощренным граффити Баския, и религиозные воззвания на каждом углу, и вывески стрип-клубов с рекламой обедов за полцены («самые красивые девочки, самые дешевые буррито»), и реклама уроков английского или уроков вождения, и полусгнившие скелеты автомобилей на штраф-стоянке, и велосипеды, украшенные пуэрториканскими флажками и оснащенные допотопными магнитофонами, чтобы можно было кататься с музыкой, и эта солнечная латинская музыка из каждого окна, круглосуточный саундтрек для столь неприглядных видов.
В зимние дни «frequent flyers» отогреваются в битком набитом приемнике. Некоторые из них находятся здесь «по делу»: ампутации и дренирование абсцессов, хлеб линкольнской хирургии. К некоторым приставлена охрана; этих перевели сюда на время из тюрьмы Райкерс-Айленд. Дело обычное: в больницу попадают не только жертвы перестрелок, но и сами стрелки2. Присутствие полиции сильно помогает – не столько в смысле личной безопасности, сколько в качестве катализатора для развития добрых отношений между врачом и пациентом. Из двух зол узник выбирает меньшее; надзиратель в белом халате предпочтительней того, что в синей форме. Да и сама больница – не худшее из мест заключения, даже если заключенному и приходится проводить дни и ночи, не вставая с постели (наручники пристегнуты к спинке кровати). Зато кормят здесь, видимо, поприличнее, чем там, и телевизор можно смотреть сколько влезет.
Попадаются среди постояльцев и такие, чей основной недуг – хроническая бездомность. Взять хотя бы Карабассоса и Вульски. Эту неразлучную парочку привечает сердобольный психиатр, доктор Асеведо. Вот они сидят в ожидании своего благодетеля, два коротышки с залысинами и бакенбардами, как две капли похожие друг на друга (тот, что чуть покрупнее, – Вульски).
– Ну, рассказывай, Карабассос, на что жалуешься.
– Депрессия, доктор.
– Понятно. Что еще?
– Мания, доктор. Паранойя. Иду по улице, смотрю: все против меня.
– Молодец. Дальше?
– Агрессия. Страшные приступы агрессии. В такие минуты я опасен для окружающих.
– Ладно. Переночуешь у нас?
– Ой, доктор, – вздыхает Карабассос, – боюсь, придется.
– Черт с тобой, – соглашается Асеведо, – разместим тебя как-нибудь на шестом этаже.
– Спасибо вам, доктор, спасибо… Только вот как со сном-то быть? Может, перкоцета немножко, а?
– Ну, перкоцет я тебе не дам, а снотворное, так уж и быть, получишь.
– Доктор, вы просто ангел. Может, еще викодина чуть-чуть на всякий случай?
– Карабассос, не перегибай палку. Полтаблетки диазепама, и хватит с тебя… Иди сюда, Вульски, рассказывай.
(Карабассос уходит; на его месте тут же появляется Вульски.)
– Я нахожусь на грани самоубийства, – начинает он тяжелым басом.
– Понятно… И давно находишься?
– Вы надо мной потешаетесь. Потешайтесь. Но если вы откажете мне в приюте и я покончу с собой, эта смерть будет на вашей совести. Вас отдадут под суд!
– Дурак ты, Вульски. Вот тут только что выступал твой друг Карабассос, он поумнее будет. Он доктору не грубил, поэтому сейчас отправится в уютную палату, где его накормят и дадут таблетку. А ты, Вульски, дурак. На улицу я тебя не выкину, но за свое поведение ты будешь ночевать не у нас на шестом, а здесь, в приемнике. И никакого тебе сегодня диазепама.
В рапортах доктора Асеведо пациенты Карабассос и Вульски проходили по ведомству «маниакально-депрессивный психоз». За престарелой Флорой Кабесас был закреплен диагноз «шизоаффективное расстройство». Она наведывалась по два-три раза в неделю, неизменно жалуясь на головокружения, хотя все прекрасно знали, что она ночует у нас потому, что дома ее бьет сын. Рано или поздно каждый из этих завсегдатаев исчезает так же внезапно, как появился.
«Чем больше мы тратим ресурсов на такую благотворительность, тем меньше у нас остается возможностей помочь тем, кто действительно нуждается в нашей помощи, – урезонивал коллег главврач. – Приятно быть матерью Терезой за больничный счет. Но зарплату-то платят за лечение больных. От чего мы лечим Карабассоса или ту же Кабесас? От тяжелой жизни? А когда к нам поступает ребенок, родившийся с пороком сердца, сын или дочь наркоманки, мы ставим ребенка на очередь, потому что у нас нет коек. Потому что на койке покоится задница Карабассоса. Не верите, полистайте отчеты за последнее полугодие…» Отчетов за полугодие я не листал, но и детей наркоманки, стоящих у нас на очереди, тоже не видел. Тем, кто нуждается в помощи больше всего, редко случается добраться до приемного покоя.
* * *
В перерывах между абсцессами и ампутациями я выхожу подышать воздухом у служебного входа, старательно не замечая переминающихся рядом завсегдатаев – коренастого Проповедника и долговязого Серхио в шапке-ушанке. Эту ушанку Серхио носит зимой и летом, она нужна, чтобы заглушать голоса. О том, насколько успешно идет борьба с голосами, можно судить также и по растительности: если нижняя часть его лица упрятана в свалявшуюся бороду, значит, ни ушанка, ни нейролептики не помогают. Бедный Серхио забивается в угол; отвернувшись от мира, он изо всех сил бьет себя запястьем по голове. Если же борода аккуратно подстрижена или вовсе отсутствует, значит, наступил период просветления. В такие дни свежевыбритый Серхио сидит на ступеньках у входа в госпиталь и, беззубо улыбаясь, машет своей шапкой-невидимкой торопящимся мимо врачам. К сожалению, в последнее время он бреется все реже.
Что же касается Проповедника, я познакомился с ним пару месяцев назад, когда в нарушение всех правил безопасности вышел на улицу во время ночного дежурства. «Молись», – сказал невесть откуда возникший человек в капюшоне. Поначалу я подумал, что обращаются не ко мне. «Я сказал, молись. Вставай на колени!» Каменное лицо, вид полного безразличия, как учили на обязательных курсах самообороны. «Ах, ты меня не слышишь? Сейчас услышишь…» Порывшись в кармане, он извлек раскладной нож с узким лезвием и показал мне его так, как дети показывают клад, найденный в песочнице: драгоценный трофей на распростертой ладони. Изо всех сил стараясь казаться спокойным, я попятился к служебному входу. «Ты куда это собрался?» Он угрожающе двинулся на меня, но, точно в ответ на его движение, где-то взвыла сирена. Проповедник остановился, глотнул воздух и, согнувшись так, как будто его самого только что пырнули ножом, зашелся в приступе астматического кашля. Удрать, пока есть возможность, или попробовать затащить астматика в больницу, чтобы там оказали помощь? Кажется, самое глупое и малодушное в такой ситуации – это стоять на месте, бессмысленно глядя, как человека трясет. Однако именно это я и делал. Подойти боязно, но боязно и оставить: если, не дай бог, помрет, ответственность будет на мне. По счастью, через несколько минут его отпустило. Прислонившись к стене, он устало съехал на корточки и напрочь забыл о моем существовании.
На следующее утро я увидел его среди ждущих в травмпункте. Как выяснилось, в предыдущую ночь он пустил по вене «спидбол», то есть смесь кокаина с героином, но, по его же словам, «перепутал пропорции», в результате чего всю ночь мучился, а под утро грохнулся об асфальт и расквасил физиономию. Меня он, конечно, не узнал, ласково называл «доктор» и «папи», виновато улыбался, то и дело засыпая посреди своего путаного рассказа о злоключениях предыдущей ночи. Человек, которому он настойчиво предлагал помолиться, в повествовании не фигурировал.
«Странно, обычно он у нас мирный, – удивился мой напарник, когда я рассказал ему о ночной встрече. – Может, ему и вправду какую-то неправильную наркоту подсунули. Вообще-то он из набожных. Прихожанин. Все пытается молитвами с героина сойти. Старается, в общем…»
Омана
Между утренним обходом и первой операцией – десятиминутный перерыв, время собраться с мыслями. За окном медленно светает, на тусклом фоне февральского неба вырисовывается трущобно-городской пейзаж. Неприветливые ларьки, полуобрушившиеся здания, решетчатый мост, украшенный гирляндой электрички. Лишь бы с погодой везло: если на улице дождь, дежурство будет более или менее спокойным. Об этой «примете» мне поведал доктор Омана, слегка обрюзгший красавец доминиканского происхождения. «Во время дождя нас никто не дергает, все по домам сидят. А вот как солнце выглянет – тут они и выползают на свет Божий. И пойдет тогда к нам острая травма сплошным потоком. Это не люди, это насекомые…» Подобные реплики в адрес собратьев от Оманы можно было услышать довольно часто. Тем не менее полтора года назад, когда ему, наконец, выпала возможность перейти на более высокооплачиваемую работу в пригородную частную клинику, он предпочел остаться в Линкольне. На вопрос «почему?» Омана отвечал, что лучше вписывается в здешний коллектив.
Коллектив, то есть постоянный состав отделения хирургии, не включавший ординаторов-индийцев или стажеров вроде меня, был настолько разношерстным и странным, что в него и впрямь трудно было бы не вписаться. Был здесь и пожилой растаман с Ямайки, специалист по мастэктомиям; и страшный, похожий на фельдфебеля немец Людерс, специализировавшийся на педиатрической хирургии; и красноносый Мэдлинкер, бывший слесарь-сантехник, в тридцать с лишним внезапно решивший заделаться травмхирургом; и ортодоксальная еврейка Рэйчел Кац, чей муж таскался в больницу по ночам, принося из дома кульки с еще теплой кошерной едой.
В вестибюле, куда я по обыкновению спускался купить отдающий бытовой химией кофе «с-молоком-без-сахара» («регьюлар кофе но» на языке пуэрториканки-продавщицы), стояли два истукана с дубинками. После стольких часов неподвижного держания крючков в операционке начинаешь чувствовать солидарность со всеми, чье дело – стоять по стойке смирно. Во всяком случае, то сомнамбулическое состояние, которое маскируется сосредоточенно хмурым выражением лица и позой боевой готовности, мне хорошо знакомо. Если бы в данную минуту в больницу ворвался какой-нибудь маньяк, эти охранники молниеносно повязали бы его, продолжая пребывать все в том же полусне. Но никакого маньяка в вестибюле не было, да и вообще никого не было, потому что на улице дождь, так что можно отключиться в открытую и стоять так втроем – они со своими дубинками, я со своим кофе, – хотя как раз в эту минуту по громкоговорителю уже в третий раз объявляли «код травмы».
В травмпункте меня встретили красноглазый, ошалевший от вечного недосыпа доктор Омана и старший ординатор Назир.
– Ты где был? – спросил Омана. – Код уже десять минут как объявили.
– Я лифта ждал…
– Слышь, доктор, не тормози. Когда вызывают, должен бежать, а не кофе пить, понял?
На носилках, вокруг которых суетился медперсонал, лежал чернокожий парень лет двадцати пяти. Когда, принимая пациента в травмпункте, ты видишь его замертво лежащим во всей наготе, подключенным к жизни с помощью многочисленных трубок, трудно поверить, что тот же человек в другое время и в другом месте мог – а главное, еще сможет – двигаться, говорить, быть «взаправду» живым. Воскрешение невероятно, речь идет о настоящем «талифа куми».
Дежурный по отделению неотложной помощи ввел в курс дела: три ножевых ранения в области шеи («Они знают, куда ножичком тыкать», – прокомментировал Омана). Пациент заинтубирован, давление и пульс в норме. Томограмма сосудов не выявила никаких очевидных повреждений. Единственно, что вызывало сомнения, – еле заметная точка на уровне раздвоения сонной артерии. Для консультации вызвали Ночного Сокола, как называли радиологов, работавших в ночную смену.
– Что это за точка? Дефект в стенке артерии?
– Не думаю, не похоже.
– Может, лучше отвезти в операционку и проверить? – не унимался Омана.
– Я свое мнение высказал, – пожал плечами Ночной Сокол.
Проведя всю ночь «у станка», я был более чем готов поверить радиологу на слово, но спорить с Оманой мне не по чину, а после моего недавнего кофепития – просто исключено. Омана посмотрел на часы, потом на снимок, потом опять на часы и, наконец, нашел какую-то йоговскую точку пространства, на которую уставился немигающим взглядом. Затем вынес приговор:
– Ладно, скорее всего, он прав. Но проверить все-таки надо. Иди, Хуссейн, на второй этаж, проследи, чтоб подготовили операционку. А ты, Финкель, свяжись с Лайенсом из хирургии сосудов, попроси его приехать.
Под «Хуссейном» подразумевался Назир, а «Финкель» – это я. Каждый день Омана выдумывал какую-нибудь новую ашкеназскую фамилию и без труда убеждал себя в том, что меня именно так и зовут. Финкель так Финкель, какая мне разница? Но на двадцать шестом часу дежурства начинаешь относиться к жизни всерьез, огрызаешься по мелочам. «Извините, доктор, но я не Финкель. Моя фамилия – Стесин». На те редкие случаи, когда ему нечего ответить (а ответить необходимо), у Оманы припасены две линии дискурса: отборная матерщина и философская проповедь. В данном случае он предпочел последнюю.
– Вот через двадцать лет ты не вспомнишь ни сегодняшнего дежурства, ни нас с Хуссейном, ни Линкольн как таковой. Разве что какая-нибудь необычная операция отложится для рассказов студентам, а больше ничего. Все – вода, доктор. А ты говоришь «не Финкель»… Ты, кстати, сегодня оперировать вообще собираешься?
– Если дадите…
– А как же, ты ведь сюда учиться пришел или как? Крючки-то каждый дебил держать может.
Омана оказался прав: темная точка, проступившая на снимке, была дефектом в стенке артерии. Лезвие ножа рассекло эту стенку, не коснувшись внутреннего слоя. Зайди оно на один миллиметр левее, и пациента привезли бы не к нам, а в морг.
«Да, молодец Омана, – приговаривал доктор Лайенс, здоровенный седобородый негр из хирургии сосудов, – если б послушали вашего Сокола и оставили как есть, дня через два артерию обязательно бы прорвало. А так будет жить. Сделаем ему заплатку, будет как новенький… Если только наш молодой доктор сейчас не напортачит. Аккуратнее, молодой человек, скальпель – не лопата, чтоб им копать… Да осторожно же!»
Но было уже поздно. Фонтан артериальной крови ударил мне в лицо, заливая глаза и рот несмотря на маску.
Остаток операции прошел в полной тишине. Уж лучше бы наорали, обматерили, не знаю, выгнали из операционки. Но они и не думали разоряться, просто молча работали, не утруждая провалившегося новичка даже держанием крючков. Наконец этот ужас закончился и аккуратно заштопанного пациента повезли в послеоперационную палату. «Пойду умоюсь», – объявил я ни к селу ни к городу. «Иди». Затем молчание продолжилось в раздевалке, куда следом за мной вошел разочарованный ментор. Я вспомнил, как три часа тому назад вякал по поводу «Финкеля».
– Ты бы хоть умылся как следует, что ли, – посоветовал Омана, – вон на левой щеке подтек остался… Нахимичил ты, конечно, будь здоров. Ладно, не паникуй, доктор, бывает и хуже. По крайней мере, будет что вспомнить… Я вот до сих пор вспоминаю.
– В смысле?
– А я в свой первый день ординатуры пациента убил. С дозировкой калия ошибся, а старший не проверил… Подсудное дело, между прочим. Ну в Бронксе-то, слава Богу, никто ни с кем не судится. Так что, можно считать, мне повезло. У нас тут вообще многим везет, тебе и не снилось.
Он встал на весы; взвесившись, сокрушенно покачал головой, после чего сделал пару отчаянных приседаний, хрустя всеми суставами.
Фуэнтес
Через три дня я уже вполне оправился от своего «хирургического» позора и, превращая провал в анекдот, взахлеб рассказывал о проколотой артерии и фонтанирующей крови, пока сидел в дежурной комнате с Рэйчел Кац, с которой, как мне казалось, я нашел общий язык еще в первые дни стажировки. Однако история моя не позабавила слушательницу; дослушав до конца, многоопытная Рэйчел посмотрела на меня с каким-то задумчивым сожалением: «Ножевое ранение, говоришь… А на ВИЧ твоего раненого проверяли?» Этот вопрос не приходил мне в голову. Нет, конечно, не проверяли, в травмпункте даже его имя-фамилию никто не знал. Нашли на улице без сознания и без документов. Острая травма – это значит все впопыхах и бегом, какая уж там проверка. А между тем поинтересоваться стоило бы. «Тут тебе не Манхэттен, тут половина населения инфицирована». Сейчас он, должно быть, лежит в одной из общих палат, но палат много, а фамилии я так и не знаю. Иголка в стоге сена. «А мы по датам посмотрим в больничном списке, – подсказала Рэйчел. – Вот, пожалуйста, двадцать пятого февраля с ножевыми к нам поступили… Тебе повезло: всего один пациент и поступил. Фуэнтес, Хосе, ножевое ранение в шею. Пойди загляни к нему в медкарту».
Медкарта отыскалась не сразу. Наконец, разворошив очередной ящик, медсестра победоносно извлекла из него огромную бордовую папку и, полистав, шваркнула ее передо мной: «Вот ваш пациент. Только тут еще вот какое дело, доктор… Вы, когда пойдете его осматривать, не могли бы заодно и кровь у него взять на электролиты? А то направление на анализ еще утром пришло, а флеботомиста[5] не дождешься».
Вот он, момент истины. Фуэнтес, Хосе. ВИЧ-статус: положительный. Уровень вирусной нагрузки – выше некуда. Вот и приплыли! Я с ужасом представил себе, как буду глотать антиретровирусную профилактику. На другие, куда более мрачные картины мое воображение не отважилось. Вспомнив о поручении медсестры, я собрал все необходимое для венепункции, но при мысли о крови Фуэнтеса у меня засосало под ложечкой, и я метнулся к ближайшему туалету.
Кажется, где-то это уже было: медик, приученный отвечать спокойствием и рассудительностью на вопрошания больного о диагнозе, неожиданно обнаруживает, что сам всецело зависит от диагноза своего пациента. Нечто среднее между гегельянской парадигмой социального равенства и чеховской «Палатой № 6». Реальность, повторяющая книжные фабулы (вплоть до откровенного плагиата), заставляет человека лишний раз усомниться в достоверности происходящего. При условии что он достаточно отстранен от ситуации, чтобы быть в состоянии позволить себе эту роскошь – усомниться.
Выдавив на палец оставленную кем-то для общего пользования зубную пасту, я старательно тер зубы и отговаривал себя от паники. Ну, допустим, попало в глаза и в рот. Вероятность передачи через слизистую мала, даже если у больного высокая вирусная нагрузка и все такое. В конце концов я пришел в себя, освободил востребованное помещение и поплелся «осматривать» пациента.
Мысленно репетируя предстоящую встречу, я пытался представить, как выглядит Фуэнтес теперь, когда к нему вернулось сознание и спал отек. Перевоплощения часто бывают разительными. Однако такой метаморфозы я предугадать не мог: вместо давешнего афро-латино на койке лежал исхудалый белый человек с воспаленным взглядом и седеющей челкой, спадающей на глаза…
В его внешности было что-то богемно-артистическое, недаром фамилия – Фуэнтес. Может, какой-нибудь внучатый племянник автора «Смерти Артемио Круса», всякое бывает. А может, просто однофамилец. Что героинщик, это точно.
В противоположном углу сидел широкоплечий, бритоголовый мужик в десантной форме.
– Проходи, доктор, не стесняйся. Ничего, что у меня тут гости? Это мой старший брат Карлос, у него побывка.
– Ничего, пусть сидит. – Я снова чувствовал себя хозяином ситуации. – Я вообще-то ненадолго, анализ крови возьму – и все. Вены-то есть? (Я осмотрел его тощие руки – разжиться нечем.)
– Не волнуйся, папи, есть на ноге одна вена. Специально для тебя приберег. Глянь вон, какая. В нее и слепой попадет!
– Он про эти дела знает не хуже вашего. Если б захотел, сам мог бы доктором работать, – с неподдельной гордостью сказал Карлос Фуэнтес.
– Да, вена идеальная… Скажи, а ты не помнишь, какого числа тебя к нам привезли?
– А три дня назад. Какое у нас было тогда число? Двадцать пятое, кажется? Меня какой-то индус принимал… Марзал, Мурзим…
– Назир?
– Ну да, он. Я, между прочим, три часа в травмпункте провалялся, прежде чем до меня очередь дошла. Думал, концы отдам. У вас всегда так, доктор?
– Да что ты к доктору привязался! – вступился старший брат. – Не он виноват, коньо, виноваты индусы, они везде!
Аноним
Между тем самого главного я так и не выяснил; и где искать того безымянного пациента, чей ВИЧ-статус требовалось установить? Очевидно, его занесли не в тот список или вообще никуда не занесли, бюрократическая неразбериха в Линкольне не знает пределов. Вполне возможно, что его и вовсе нет в госпитале: отойдя от наркоза, многие бойцы предпочитают не дожидаться утреннего обхода и обязательного визита полиции. Но больничные коридоры неисповедимы. Возвращаясь в дежурную комнату от братьев Фуэнтес, я по чистой случайности заглянул в одну из соседних палат и – бывают же чудеса – увидел там своего «анонима».
Он сидел на краю кровати как ни в чем не бывало – здоровый, подтянутый, всецело поглощенный игрой в шахматы с одноногим стариком-соседом. Соседа я, кстати, узнал: это – Анхел Сото из больничной компашки Лопеса. Когда-то он прослыл одним из самых свирепых бандюг в Южном Бронксе, но, потеряв ногу (не боевое ранение, а просто запущенный диабет), сошел с дистанции и теперь околачивался здесь, грозясь подать в суд на всех и вся, если ему не введут дополнительную дозу морфия.
Оторвав взгляд от доски, аноним радостно замахал руками, приветствуя меня как старого знакомого, хотя он-то меня помнить никак не мог.
– Буенос диас, как самочувствие?
– Бьен, папи, грасиас а Диос!
– Извини, что беспокою, но тут такое дело… – Я не знал, как начать. – В общем, тебя когда-нибудь проверяли на СПИД?
– Ке? – Аноним посерьезнел и, помолчав с минуту, широко развел руками. – Сорри, доктор, но абло инглес…
– Ну эль СИДА. Проверяли или нет?
– Но компрендо, доктор.
– Ладно, подожди, я сейчас.
Через десять минут я вернулся в сопровождении Рэйчел Кац и «переводного телефона». Этот телефон с двумя трубками – чуть ли не единственное исправно работающее устройство в Линкольн-Хоспитал. По нему всегда можно вызвать штатного переводчика. Подключив аппарат к сети, Рэйчел вручила одну трубку пациенту, а другую взяла сама: «В общем так, папи, три дня назад вот этот доктор принимал участие в твоей операции. Во время операции у него произошел контакт с твоей кровью. Поэтому нам нужно проверить тебя на СПИД и гепатит С. Все, что от тебя требуется, – это подписать разрешение на анализ. Если анализ даст положительный результат, тебя поставят на учет и проинформируют о возможной терапии. Все понятно?»
На другом конце провода защебетали по-испански. Аноним растерянно поддакивал, смотрел то на меня, то на Рэйчел и переспрашивал, не понимая, чего от него хотят. Потом, наконец, понял и расписался детским почерком. «Эрик Ринальдо-Гитьеррес».
– Вот и все, – бодро сказала Рэйчел, когда мы вышли из палаты, – теперь тебе осталось только сходить к инфекционщикам, заполнить все бумажки на случай, если придется проходить профилактический курс. Потом возьмем у него кровь, сдадим на анализ, и можно будет жить спокойно.
– Слушай, а может, не надо всей этой возни? Вероятность-то в любом случае небольшая… Может, черт с ним?
– Ну я не знаю, тебе решать. Оформить инфекционный запрос – дело пяти минут. Я бы на твоем месте проверила, но я в таких делах известный параноик. А ты поступай, как считаешь нужным.
Страх перед возможностью узнать худшее – сильнее, чем страх неопределенности. Легче пребывать в неведении, чем заставить себя что-то сделать; лень – союзница малодушия. Словом, ни к каким «инфекционщикам» я так и не пошел, успокоив себя мыслью, что многие из местных хирургов, даже уколовшись кривой иглой, не делают из этого события.
Через две недели я столкнулся с Гитьерресом при выходе из метро. Было около семи утра, самое безлюдное время суток.
– Доброе утро, доктор, ты меня еще помнишь? – Он задрал голову, демонстрируя шрам.
Странно: на этот раз он говорил по-английски, причем говорил, как мне показалось, почти без акцента.
– Привет, привет, как себя чувствуешь? Оклемался? – Я почему-то обрадовался ему как родному.
– Слава Богу, папи, слава Богу… А насчет той вещи ты не беспокойся, меня проверяли перед выездом из Пуэрто-Рико.
В тоннеле под нами застучал подходивший к платформе поезд, и минуту спустя мимо нас промаршировали двое-трое идущих на службу. Работники больницы, не иначе.
Возвращаясь с дежурства (привычный путь от Линкольна до метро), я глазею по сторонам и думаю о том, что нет ничего тоскливее, чем предутреннее спокойствие «неспокойного района». Как будто в этом затишье отражается все одиночество живущих здесь людей. Справа по борту виднеется магазин-барахолка, где вперемешку с подержанными вещами продаются патриотические значки и куклы-статуэтки Девы Марии. Дальше – склад, кирпичные стены, расписанные традиционными граффити. Кое-где расклеены афиши, какие только и увидишь в Южном Бронксе: «Время пришло! Спаси свою душу сегодня в 10:00, 12:00 и 15:00». Снизу указаны адрес церкви и имя священника.
май – июнь 2008Бруклин
1
Я впишусь в эту осень, к стене прислонившись спиной. Это время – река, где непарных ботинок галеры по теченью плывут. И слышны из ближайшей пивной фортепьянные опусы в темпе домашней аллегры. Я впишусь в этот рыжий кирпич и с изнанки моста меловые граффити, чумных баскиятов творенья, и в общагу, где будка консьержки уж год, как пуста, но жильцы до сих пор предъявляют удостоверенья. Здесь на койке больничной кончается некто, и свет упрощается в нем, перевернутым кажется днищем. И открыты все учрежденья. И в желтой листве сокращенное солнце восходит над парковым нищим. Я в графе распишусь. С белой койки мертвец поглядит в поднесенное зеркальце, и заведут хоровую та консьержка пропавшая и этот нищий, к груди прижимающий мокрого пса, точно грелку живую.2
Она говорит: «Тяжело, а ему тяжелей», говоря о муже. Они – в ожиданьи врача в онкологической клинике. «Пожалей нас», причитает. И медсестра, ворча, приносит ему подушку, питье, журнал. Он – восьмидесятитрехлетний. Рак почки. Худой, как жердь, но худей – жена. Он и она – из выживших: тьма, барак в Треблинке или Дахау. С недоверьем глядят на студента-медика, думают: свой – не свой? Да, говорю, еврей. И тогда галдят, жалуясь на врача с медсестрой. Весной будет ровно шестьдесят лет со дня их женитьбы. Кивает на мужа: «Тогда он был вроде тебя… – и оглядывает меня, – …но постройней». Верный муж охраняет тыл. Она говорит: «Мы постились на Йом-Киппур даже там… Берегли паек… А в этом году в первый раз в жизни не выдержали. Чересчур…» Говорит: «Когда он уйдет, я тоже уйду». Он – вечно мерзнущий; помнящий назубок: «Образ Господа виден смертному со спины, – засыпает, подушку подкладывая под бок, – Next year in Jerusalem. Все будем спасены».3
«Все, что может случиться, случалось уже с другими» – это надпись на киноафише, реклама фильма. У ларька стоит нищий с извечным «sir, could you give me…». Алабамский акцент; свитер драный, хотя и фирма. Сделай вид, что турист, что не знаешь-де по-английски. Алабамец икнет и – на чистом русском: «да елки, денег нет похмелиться» и «дорого тут в Нью-Йорке». Даже склянки, и те дорожают, даже огрызки. «Вот вчера, – говорит, – вроде было еще нормально». Объясняет, что «долларов было – на два кармана». Выпивали культурно, возвышенных тем касались. Но закончился пир. И товарищи рассосались. Лейся, жалостливый мотив, рефрен стародавний, панегирик отбросам общества и объедкам. У кого это было – «мистерии состраданий», про родство всех живых и слиянье субъекта с объектом? Про единую Волю-судьбу. На просторах карты незаметен сдвиг: на березовом фоне Визбор или выговор алабамский, бренчанье кантри. Все как будто само собой, свободный невыбор. А по сути – поди разберись. Представить не можешь, как попал сюда этот субъект, из контекста вырван. Видно, было зачем – перебрался ведь за три моря ж… Где-то был, несомненно, и этот сюжет обыгран. Чем закончилась пьянка, не вспомнить (бывало и хуже). А очнешься с утра – на другом уже континенте. Поясок часовой затянуть на семь дырок туже. Новой жизни искать, на скамеечке коченеть ли. «Помоги, – говорит, – собрату», хоть не собрат он. Раздобыть на метро два бакса, попасть на Брайтон. Заглянуть в одну школу… Там дочка сестры училась. Разыскать, расспросить, как там что у них получилось…4
И видишь как бы сон, и как бы – нет (настенного динамика мембрана процедит бормотание медбрата, вернет тебя в знакомый кабинет, пропитанный лизолом и крахмалом) о чтении с больничного листа анамнеза от первого лица – о том, что жив… И видит сон, как мал он. О третьих лицах, слившихся в одно: сухой хасид, его сосед, отечен, на происках спецслужб сосредоточен, женщина, глядящая в окно, пока другие жители палаты (полупалата – полукоридор, где всех равняет галоперидол), в пижамное одеты и патлаты, раскрашивают что-то всемером (арт-терапии труд ежесубботний как подтвержденье мысли, что свободный художник – все-таки оксюморон). О том, что видишь: лифт, подсобка, будка вахтерская… Сбиваешься с пути, блуждаешь. И в ответ на «как пройти?» дежурный тычет в пустоту, как будто ее проткнуть пытаясь или на невидимую кнопку нажимая. Похожесть помещений нежилая, уложенная в лабиринт длина. Больнично-коридорный сумрак суток. Как время замирает на посту, как зренье превращает пустоту в расплывчатый рисунок, и рассудок спешит назад, к приметам бытовым. И видишь, достоверности добытчик, не свет в конце, а красный свет табличек «пожарный выход» зреньем боковым. И – скрежет лифтов, и сквозняк подсобок, и оклик, относящийся не к нам, все дальше… Разбредаются по снам жильцы палаты, спящие бок о бок.5
Назидательных тостов патетика и густой чикен-суп из пакетика. Совмещая с молитвой еду, соберется община нью-йоркская, и дитя, между взрослыми ерзая, песню схватывает на лету: «…Были в землях, где власть фараонова, мы рабами. Была Ааронова речь темна, вера наша – слаба. Дай же знак нам десницей простертою…» Чикен-супом задумчиво сёрпая, мальчик Мотл повторяет слова. Повторение жизни мгновенное. Засыпая, услышу, наверное, как бушует соседка одна во дворе, обзывая подонками тех, кто песни горланит под окнами. Как, вернувшись домой, допоздна потрошит кладовую и мусорку. Забывает слова. Помнит музыку и пюпитром зовет парапет. Отовсюду ей слышится пение. Терапия – от слова «терпение», врач витийствует, неторопевт. От Освенцима и до Альцгеймера – никого (вспомнит: «было нас семеро»). Давность лет. Отличить нелегко год от года и месяц от месяца. Но ждала. И раз в месяц отметиться заезжал то ли сын, то ли кто. Личность темная (в памяти – яркая); вензель в форме русалки и якоря, отличительный знак расписной, на костлявом плече, рядом с оспиной. «Все лечу по методике собственной. Ни простуд, ни проблем со спиной». Как с утра подлечив, что не лечится, на бычками усыпанной лестнице изливал мне, малóму, свое алкогоре. Общаться не велено. Поминальной молитвой навеяна, канет исповедь в небытие. …Мышцей мощной, простертой десницею… Будет Мотлу рука эта сниться и будет сниться еще на руке то русалка наплечного вензеля, то соседкина бирка Освенцима (детям врали, что это – пирке). …И явил чудеса… И усвоили: будет каждому знак при условии, что поверит – не с пеной у рта, не как смертник, а как засыпающий верит в будничный день наступающий, в продолжение жизни с утра. 2004–2012Квинс
Утро
Каждое утро будильник звонит в 5:10, то есть ровно в пять. Как и все часы у нас в доме, он спешит на десять минут. Прошлепав на кухню, я принимаю пять таблеток: две – от головной боли, три – для пищеварения. Все это – плацебо. И таблетки, и часы, на десять минут опережающие жизнь. Уж я-то знаю. Сколько ни принимай, мигрень и диспепсия никуда от тебя не уйдут. Сколько ни переводи часы, все равно будешь опаздывать на работу на те же десять минут. Но без плацебо – никуда.
В шесть ноль-ноль (5:50? 6:10?) я сажусь в машину. Водительские права я получил только в прошлом году, устроившись на работу на другом конце острова (без машины не добраться). Теперь, заводя мотор, я, тридцатишестилетний, испытываю чувство гордости, которое большинство моих сверстников испытали в шестнадцать. Недавно я признался жене, что с тех пор, как сел за руль, ощущаю себя другим человеком.
– Другим – это каким?
– Взрослым.
– Вот интересно: ты – врач, у тебя есть дочь, но все это не наводило тебя на мысль, что ты уже взрослый?
Нет, это наводило на мысли об ответственности и о старении. А тут другое. Я как будто приобщился к одному из тех взрослых разговоров, которые ведутся за столом после того, как детей отправляют спать. Какая страховка лучше, «Олстейт» или «Гайко»? Где дешевле покупать шины на зиму? Раньше от подобных бесед у меня сводило скулы, а теперь – в самый раз. Еще немного, и я стану следить за акциями на бирже или к восхищению тестя начну выписывать бюллетень Home Depot[6].
Если нет пробок, дорога занимает около часа. Но пробки есть почти всегда. В общей сложности я кручу баранку по три часа в день. Где искать утраченное время? В аудиокнигах? За последние несколько месяцев я прослушал все семь томов Пруста в переводах Франковского и Любимова. «Беглянку» и «Обретенное время» читал некто с сильным одесским акцентом, отчего представители французской аристократии – от барона де Шарлю до герцогини Германтской – неожиданно превратились в персонажей Бабеля. Если бы за окном был Южный Бруклин, эта метаморфоза была бы к месту. Но я живу в Квинсе, и одесский выговор тут ни при чем. Квинс – это Азия во всем своем многообразии: Индия (Джексон-Хайтс), Ближний Восток (Астория), Бухара (Рего-Парк), Китай (Флашинг), Корея (Северный бульвар), Филиппины (Вудсайд). До Одессы отсюда далеко. Как, впрочем, и до Парижа.
Нортерн-бульвар уходит на восток, в сторону Лонг-Айленда, где паучки китайских иероглифов на магазинных вывесках постепенно сменяются домиками корейского хангыля. Еще год назад эта часть Квинса была для меня terra incognita, а сейчас корейские домики кажутся почти родными. Вдоль центральных улиц тянутся бесконечные ряды ресторанчиков и продовольственных лавок. Среда объедания. Для любопытного посетителя знакомство с жизнью этнических анклавов, как правило, ограничивается кулинарной экзотикой. Китайская пельменная, корейское барбекю – вот тебе и весь Восток. Можно свернуть на одну из боковых улочек, но никаких достопримечательностей там нет. Просто жилые дома – двухэтажные таунхаусы впритирку, облицованные красным кирпичом или сероватым сайдингом, привычная архитектура спального района, плавно переходящего в пригород. Глядя на эти постройки, я вспоминаю, как в девяносто первом году в Чикаго приятель Мишка с гордостью сообщил мне, что его семья купила собственный дом. Тогда это казалось если не воплощением американской мечты, то по крайней мере первым значительным шагом к ее осуществлению. Дорогу в тысячу ли осилит идущий, но только при условии, что он – домовладелец. Это был такой же кирпичный таунхаус в три приталенных этажа (по комнатушке на каждом). Впервые я побывал там всего через месяц после того, как Мишкина семья въехала в дом, но внутри все уже выглядело и пахло так, как будто они прожили там лет десять. Мишка был моим первым близким приятелем в Чикаго. Мы жили в черном «иннер-сити», а его семья – в русско-еврейском пригороде Скоки, в захламленном уюте дешевого таунхауса, где пахло пылью и котлетами. Четверть века спустя краснокирпичные фасады Квинса, воскрешающие в памяти тот домашний запах, действуют на меня так же, как печенье «мадлен» и цветы боярышника – на состарившегося мальчика из Комбре.
С тех пор как я начал водить машину, главным открытием для меня стало утреннее небо. Каждое утро, выезжая затемно, я застаю восход, и, поскольку шоссе в это время обычно бывает пустым, у меня есть возможность некоторое время следить за небесным калейдоскопом. Пробуждающееся сознание собирает с поля зрения щедрый урожай – невероятные трансформации цвета и формы. Несмотря на первую чашку кофе, выпитую залпом перед выходом из дому, я еще не до конца проснулся, и предрассветная фата-моргана, озвученная подробными изысканиями Пруста, служит как бы продолжением прерванным сновидениям. «Во время сна человек держит вокруг себя нить часов, порядок лет и миров. Он инстинктивно справляется с ними, просыпаясь, в одну секунду угадывает пункт земного шара, который он занимает, и время, протекшее до его пробуждения; но они могут перепутаться в нем, порядок их может быть нарушен…» Кто я? Где я?
На подъезде к госпиталю в повествование Марселя врывается искаженный телефонным динамиком голос медбрата Келси.
– Ты где, док? Пациенты ждут.
– Я паркуюсь, буду через пять минут. Можете включать ускоритель.
– Давно уже включили.
Первая пациентка – девочка тринадцати лет. Саркома Юинга с метастазами по всему телу и множественными очагами в мозгу. Перед началом сеанса лучевой терапии все должны покинуть бункер. Девочка остается одна. «Но ты не бойся, мы будем тебя ждать снаружи, и нам оттуда все будет видно и слышно…» Отец девочки успокаивает ее через переговорное устройство. Говорит без умолку. «Еще пять минут, всего пять минут. Что тебе рассказать? Про Томми, может? Вчера после того, как ты уснула, он пришел к тебе и лег рядом, а потом во сне сполз с кровати и остался спать на полу в твоей комнате. Это потому что он тебя очень-очень любит, хотел спать только рядом с тобой…» В этот момент до меня наконец доходит, что речь – о собаке. «…А сегодня, если ты захочешь, мы можем выйти на улицу и посидеть на солнышке. Если захочешь, конечно. И Томми с нами посидит…» Этой девочке осталось жить несколько дней, от силы неделю. И она, и ее родители все прекрасно знают, ни о чем не спрашивают. Паллиативная помощь.
Спрашивают те, кто надеется. «Сколько мне осталось, доктор?» Я усвоил мысль Достоевского о том, что самое бесчеловечное – это объявить человеку срок. Я в это верю и поэтому упорно продолжаю мотать головой: «Сколько вам осталось, я не знаю, и никто не знает». На самом деле, по части прогнозов современная медицина давно переплюнула метеорологию. И тот же Пруст, не упускающий случая пнуть «медицинскую корпорацию», лишь отчасти прав в своем наблюдении: «…обычно доктора бывают чересчур оптимистичны, когда предписывают режим, и чересчур пессимистичны, когда угадывают исход». Хотелось бы, чтобы это было так, но в моей области, как правило, пессимистичность прогноза вполне соответствует реальности. Просто действует некий закон, по сути неведомый. В какой-то момент процесс умирания становится столь же необъяснимым, сколь и необратимым. Все показатели стабильны, томография показывает, что опухоль – ровно тех же размеров, каких она была три месяца назад, когда больной чувствовал себя относительно нормально. Но что-то изменилось. Закон вступил в силу, и теперь все будет разыгрываться как по нотам. Скоро в истории болезни начнет мелькать слово «кахексия» – термин, за которым фактически ничего не стоит. Просто иссякли силы. Это-то и распознается. Объективные параметры не изменились, но тут уже смерть словно бы отстаивает свое право на тайну, неподвластную никакой молекулярной биологии. Сколько бы мы ни продвинулись в нашем понимании биологических процессов, мы лишь асимптотически приближаемся к этой тайне – и никогда не раскроем ее. Это граница человеческого познания, черта, которую не переступить.
При отсутствии истинного понимания самое страшное – это статистика. Она дает нам подробные данные, позволяющие предсказывать и не позволяющие надеяться, хотя именно надежду она и должна была вывести на свет. Если шансы успешного лечения – 80–90 %, все будет хорошо, но если шансы – «5 % или меньше», эти проценты оказываются несуществующими, чисто абстрактными, как выигрыш в лотерее. Статистика, намекающая на возможность чуда (ведь вероятность никогда не бывает равна нулю!), кажется гиммиком, мефистофельской насмешкой. Почему хоть раз кому-нибудь из пациентов не попасть в те несбыточные 5 %? Только однажды я видел чудо. Оно выпало шестидесятилетней алкоголичке с криминальным прошлым. В девяносто шестом году у нее нашли мелкоклеточный рак легкого. И вот, двадцать лет спустя, она продолжает курить по две пачки и выпивать по бутылке в день.
Господи, пусть сбудется, пусть свершится чудо – для той девочки с саркомой или для восьмилетнего Джеймса… Или для тридцатипятилетней Лорэн (как она была счастлива, когда ушли лимфоузлы, но не прошло и двух месяцев, как все вернулось)… Возможно, сегодня во время дневного обхода выяснится, что кого-то из них уже нет в живых. Узнав о смерти пациента, работники отделения онкологии качают головой, поджимают губы, выдерживают трехсекундную паузу. Все в порядке вещей. Смерть вплетается в жизнь, обступает ее со всех сторон.
Ужас заглушается рутиной, усталостью, заполнением бумажек, отвлеченным интеллектуальным любопытством («интересный случай»), инстинктом самосохранения. Но – одна фраза, и всего этого оказывается недостаточно, и ты – лицом к лицу с трагедией во всем ее масштабе. Сейчас это фраза, произнесенная Уильямом (сорок семь лет, рак поджелудочной железы): «Все, чего я хочу, – забиться в какой-нибудь темный угол». Теперь она будет крутиться в голове до тех пор, пока я снова не сяду в машину и не поставлю Пруста. Но и голос чтеца-одессита вряд ли заглушит ее.
В конце рабочего дня аудиокниги воспринимаются плохо, я слушаю вполуха. Текст уже не продолжает прерванные сны, как это было утром. Но, думая о чем-то другом, я вдруг вспоминаю, что прошлой ночью мне снился Амаду, молодой африканец, умерший от рака кишечника месяц назад. Амаду сидит в приемной. В руках у него, как и при жизни, четки. Увидев, что мой взгляд упал на них, он неожиданно говорит, что вера – это умение прощать Аллаху. Я отмечаю для себя эту мысль, но по пробуждении она уже не кажется правдой.
Ким
В приемной отделения лучевой терапии висит красивая табличка с фамилиями штатных врачей: Ким, Пак, Ли, Сун… Моя фамилия – последняя в списке («и примкнувший к ним…»). До этого я работал в другой больнице, в коллективе, состоявшем преимущественно из индийцев; еще раньше – в африканском Бриджпорте, в пуэрториканском Бронксе. А год назад оказался в районе, где больше половины населения носит одну из трех фамилий: Ким, Пак, Ли. Из этих фамилий можно составить город – Сеул-на-Гудзоне.
Корейский анклав возник здесь сравнительно недавно; еще в начале двухтысячных в этой больнице работали совсем другие люди. Но несколько лет назад начался ледниковый период (заморозка бюджета в Национальных институтах здоровья, реформа Обамы) с сопутствующим вымиранием мастодонтов. Кто-то вышел на пенсию, кто-то перешел в частную клинику. В нашем отделении остались два пожилых корейца, доктор Пак и доктор Ким (прежний начальник, американец ирландского происхождения, вечно путал их и до последнего дня считал китайцами). Такой же массовый «исход врачей» произошел и в других отделениях. В результате онкологический центр при Рокриверском университете опустел, как после стихийного бедствия. Совет попечителей рассудил, что единственный возможный выход из ситуации – назначить нового главврача. Выбор пал на знаменитого Ли Кан Хо, одного из основоположников стереотаксической радиохирургии мозга. Новый главврач, в свою очередь, предложил немудрящий план действий: чтобы спасти госпиталь, нужно нанять молодых. Вскоре состав отделения гематологии-онкологии пополнился двумя корейскими именами, Чхве Чжэ Чун и О Чжи Ён, а в отделение лучевой терапии взяли Джулию Сун и меня. По правде сказать, я попал в этот список почти случайно, а именно – благодаря лабораторным грызунам. Как выяснилось, мои последние, неопубликованные результаты по облучению ксенотрансплантата глиобластомы совпадали с результатами самого Ли. Узнав об этом от моего бывшего научного руководителя, с которым они разговорились за ужином на каком-то симпозиуме, Ли немедленно сделал меня соавтором в своей новой статье, а затем предложил мне работу. Предложение пришлось как нельзя кстати: как раз в это время завотделением в индийском госпитале, где я провел предыдущие четыре года, собирался дать мне пинка, чтобы освободить место для своего зятя. Таким образом, я перебрался из Индии в Корею, не покидая пределов Нью-Йорка.
В меру деспотичный и всецело преданный своему делу профессор Ли, хоть ему еще не было и шестидесяти, напоминал старого мастера традиционной корейской музыки или живописи – того, в чьем присутствии ученики продолжают стоять, даже если им разрешили сесть. И хотя поначалу он настаивал, чтобы мы запросто называли его Кан Хо, мы с Джулией никак не могли заставить себя отказаться от формального обращения.
– Хорошо еще, – говорила Джулия, – что в английском языке нет почтительной формы речи, как в корейском.
– А ты когда-нибудь пробовала говорить с ним покорейски?
– Боже упаси. Он этого терпеть не может. Я слышала, как Ким один раз перешел было на корейский. Ли ему знаешь что ответил? «У нас в отделении говорят поанглийски». Так и сказал. А ведь Ким его на пятнадцать лет старше!
Эта разница в возрасте стояла нашему шефу поперек горла. Я видел, как Ли с плохо скрываемым раздражением выслушивает монологи Кима во время утренних планерок. Ким это тоже видел – и тем усерднее гнул свою линию; он был старшим и одновременно подчиненным – слыханное ли дело? «Да-а, да-а, пятьдесят четыре грея за три сеанса[7] – это непло-охо, но и сорок восемь за четыре сеанса – то-оже непло-охо», – повторял Ким, не обращая внимания на то, что завотделением уже перешел к обсуждению следующего случая. Тем самым Ким как бы говорил: «Мало того что начальник годится мне в сыновья, так он еще и относится ко мне без должного почтения – перебивает, не дает закончить…»
На самом деле отношение Ли к старику нельзя было назвать непочтительным, по крайней мере по западным меркам. Однажды мне пришлось наблюдать, как конфуцианское хё борется в нашем начальнике с профессиональной этикой врача. Вопреки моим ожиданиям, конфуцианская мораль одержала победу. Дело было вот как. На одном из утренних совещаний Ким представил план лечения пациента с аденокарциномой легкого. Стереотаксическая радиотерапия – те самые пятьдесят четыре грея за три сеанса или сорок восемь за четыре; в общем, стандартный случай. Однако, глядя на томограмму, даже человек, не имеющий отношения к нашей специальности, без труда определил бы, что план Кима никуда не годится: половина опухоли оказалась за пределами поля облучения. «Да у него просто старческий маразм!» – шепнула мне Джулия. Пак и Ли оцепенело таращились на экран. Ким же, напротив, имел вполне довольный вид; казалось, он в упор не видит своей чудовищной ошибки. Наконец, Ли не выдержал:
– Доктор Ким, возможно, я чего-то недопонимаю, но… почему вы решили не покрывать верхнюю часть опухоли? Вот тут, видите, участок…
– Я все покрыл, – перебил его Ким, – все покрыл и все проверил.
– Может быть, вы просто не заметили… Взгляните на сагиттальный разрез…
– Все покрыл и все проверил, – пошевелив своими пушистыми бровями, Ким демонстративно отвернулся от экрана.
Ли слегка опустил голову; лицо его приняло боевое выражение – взгляд исподлобья, уголки рта опущены вниз. Я видел у него это выражение и раньше, и всякий раз мне казалось, что в следующий момент он с криком «Кия!» разобьет своим массивным лбом какую-нибудь бетонную плиту. Но:
– Хорошо, доктор Ким, вам, конечно, виднее. План одобрен. Следующий случай.
На другой день я тайком открыл файл пациента и убедился: Ким все исправил. Когда я сказал об этом Джулии, она засмеялась:
– Да, я тоже сегодня с утра проверила. Все-таки он еще не совсем в маразме. Я думаю, он сразу понял, что напортачил. Но признать – ни за что. Это очень по-корейски. И этот его пунктик насчет возраста… Тоже наша корейская специфика. Хотя у него есть дополнительный повод жаловаться на неуважение к старшим… Только ты никому не говори. Я слышала, что его сын с ним уже много лет не общается. Не знаю, понимаешь ли ты, о чем идет речь. Для корейской семьи это катастрофа.
Разумеется, Ли и Джулия знали гораздо больше, чем я, – о личных обстоятельствах Кима, о геронтократии в корейском обществе и обо всем остальном, что побуждало их относиться к старику без особой симпатии. Не мне судить. Со мной он был мил и доброжелателен, давал советы (временами полезные), звал обедать в больничной столовке; как выяснилось, он вообще предпочитал обедать с молодежью, собирал целую компанию молодых врачей, стажеров, дозиметристов и очень обижался, если его приглашение отклоняли. За едой он, как Иммануил Кант, принимавший пищу только в обществе кухарок и домохозяек, любил поговорить о еде.
– Курица – это непло-охо, свинина – очень непло-охо…
– А собачатина, доктор Ким, а собачатина? – подначивал кто-то из дозиметристов.
– Собачатина? Хорошо-о, поле-езно…
Но если, набравшись терпения, внимательно слушать его замедленную и – из-за сильного акцента – не всегда понятную речь, можно было услышать много интересного. Мне нравилась его привязанность к традиционной корейской культуре, сохранившейся со времен династии Чосон и стремительно исчезающей в наши дни, с ее обилием сложных и странных обрядов, поверий, церемоний; со знакомой ортодоксальной негибкостью (недаром корейские конфуцианцы на картинах, развешенных в кабинете Кима, своим видом напомнили мне хасидов из Боро-парка); с культом предков, верой в колдовство и этим причудливым, чисто корейским сплавом конфуцианства и шаманизма… Нравилось мне и то, что, будучи опытным врачом, специалистом по лучевой терапии, требующей знания квантовой механики и ядерной физики, Ким мог почти всерьез утверждать, что отвар из мочевого пузыря беременной козы – лучшее средство от туберкулеза.
Как-то, пригласив меня к себе в кабинет после обеда, Ким принялся объяснять сложную корейскую систему имен на примере собственного семейного древа: «Мой сын – Ким Сён Ун. Ким – металл, Сён – мудрец, Ун – облако. Сён – это от моего деда. Наш род – это Кэмнын Ким, из клана Сук Чон Гун. Мое поколение двенадцатое в роду. Наш предок был Ун Сик, Ун – это дом, Сик – это еда. Во времена Чосон он был важным чиновником при Совете цензоров. После него у нас было много ученых и чиновников на государственной службе… А моего второго деда звали Бён Су, Бён – это слог, который был у всех в его поколении, Бён – блеск, Су – вода. А в моем поколении был слог Чжин. Поэтому я – Ким Дон Чжин. Чжин – истина, Дон – рассвет…» Потом он долго показывал мне семейные фотографии. Это было еще до того, как я узнал от Джулии о его разрыве с сыном. Мне запомнилось то, как Ким с неподдельной гордостью и нежностью приговаривал: «А это мой мальчик, тут он еще совсем маленький… А это его дочь – моя внучка…»
Пак
Пак был десятью годами младше Кима и, стало быть, на пять лет старше Ли. Извечную азиатскую проблему возрастной иерархии он решал самым естественным образом: не признавал ее существования. Без лишних слов подчинялся младшему, запросто подшучивал над старшим. В такой непринужденности было что-то от буддийской мудрости, хотя меньше всего этот человек ассоциировался у меня с буддизмом. Обмениваясь впечатлениями после первой недели работы в Несконсетском госпитале, мы с Джулией сошлись на том, что Пак – типичный врач из частной клиники; непонятно только, что он делает в академическом центре. На планерках он то и дело заводил речь о «денежной стороне вопроса»: за эту процедуру Medicare[8] платит столько-то, а за ту – столько-то. Таблицы кодирования медицинских процедур и МКБ-10[9] он знал назубок, чем вызывал безграничное уважение доктора Ли.
Возможно, наше с Джулией первое впечатление было отчасти обусловлено и самой внешностью Пака: низкорослый, щуплый человек с пирамидальной формой черепа, скошенным подбородком и сильно выдающимся верхним рядом зубов. Когда он улыбался, то становился похожим на персонажей из мультфильма «Симпсоны». «Какой-то он неказистый», – подытожила Джулия. Но она же первой признала ошибку, изменив свое мнение о Паке гораздо раньше, чем это сделал я.
– Знаешь, мне кажется, мы с тобой были неправы насчет Пака.
– Из чего ты сделала такое заключение?
– А я с ним поговорила.
– Про МКБ-10?
– Нет, просто так поговорила. И тебе советую.
К Паку, как и к Киму, надо было прислушиваться: его глухая, монотонная речь не сразу поддавалась расшифровке. Попросту говоря, он бубнил себе под нос. И только привыкнув к полному отсутствию интонационного оформления, ты начинал улавливать смысл и с удивлением обнаруживал, например, что Пак весьма остроумен.
Последовав совету Джулии, я решил разговорить Пака на посторонние темы и, не найдя ничего лучшего, выбрал в качестве повода карту мира, висевшую над его рабочим столом. Карта была истыкана канцелярскими кнопками. В общем, ничего особенного: в наше время повального туризма многие вывешивают у себя такие карты и с гордостью помечают места, где они побывали. Только выбор точек несколько странный: Сальвадор, Гондурас, Ангола, Бурунди…
– Вы были в Анголе, доктор Пак?
– Был, да, с миссией. Наша церковь часто устраивает миссии. Я стараюсь ездить туда, где требуются медики. Но в Анголе мы в основном строили. Плотничали. Так что для меня это был скорее образовательный опыт.
Обнаружилось и другое: помимо миссионерской деятельности и лучевой терапии, доктор Пак занимается иглоукалыванием, считается настоящим мастером, даже в Китае преподавал. Об этой стороне его жизни я узнал так же случайно, как и об Анголе, причем не от самого Пака, а от дозиметриста Санни. У меня разыгрался радикулит, и Санни, увидев, как я с откляченным задом ковыляю по коридору, посоветовал обратиться к мастеру: «Он у нас волшебник, за один сеанс тебя на ноги поставит!»
В другой раз один из моих пациентов, увидев Пака, закричал, что знает его – не как врача, а как музыканта («Это же Пак Тхэ-у! Музыкант! Сто лет не видел!»). Как выяснилось, в молодости доктор Пак был джазовым барабанщиком и до сих пор время от времени подыгрывает музыкантам в корейской евангелической церкви. Мой пациент оказался одним из прихожан; по не слишком странному совпадению его тоже звали Пак. Пак № 2. Встреча однофамильцев произошла, когда доктор Пак по моей просьбе заглянул в приемную, чтобы помочь с барахлившим ларингоскопом (теперь мы с Джулией всегда обращались к нему, если что-то ломалось или требовалась помощь с какой-нибудь нестандартной процедурой).
– Пак Тхэ-у, так вы еще и доктор? – изумился пациент-однофамилец.
– Вот ваш доктор, – скромно ответил доктор Пак, кивая на меня. И, вручив мне починенный ларингоскоп, вышел из комнаты.
Пак № 2 совершенно не соответствовал моему представлению о том, как выглядит благочестивый прихожанин. Скорее он был похож на корейского бизнесмена – из тех, что сидят на работе по восемнадцать часов, не смея уйти домой, пока не уйдет начальник, а по четвергам мешают водку с пивом на корпоративных ужинах. Мы лечили его от рака основания языка, вернувшегося после ремиссии. Облучали лимфоузлы.
Во время еженедельных осмотров он подолгу не отпускал меня, как будто боялся, что, как только я уйду, его состояние сразу ухудшится. То показывал склянки со всякими гомеопатическими средствами, спрашивая, можно ли ему принимать их во время радиотерапии, то жаловался, что от него в последнее время часто пахнет чесноком, хотя он давно перестал употреблять чеснок в пищу, – не может ли это быть признаком того, что болезнь прогрессирует? «Нет, – отвечал я, – вряд ли». Тогда он страстно жал мне руку, кланялся, повторяя «спасибо, доктор, спасибо, спасибо вам, доктор», потом начинал рыдать, и, когда я обнимал его, крупного мужчину средних лет, снова бормотал «спасибо, спасибо…». Так повторялось каждую неделю. «Это потому что он пьет, – сказала медсестра Ён Рим, которую возмущала несдержанность пациента, – вы небось не знали, доктор? После работы каждый вечер выдувает три четверти бутылки виски. Он мне сам признался».
Однажды Пак № 2 пришел на прием, нервничая еще больше обычного, и без обиняков сообщил мне, что решил прекратить химию и радиацию, так как нашел целителя в Италии. Итальянский чудотворец гарантировал, что вылечит его от рака за несколько дней. «Каким же образом он собирается вас лечить?» Пак № 2 достал распечатку: «Лечение раковых заболеваний, панацея, которую так долго скрывали от вас врачи. Успех гарантирован!» Все окутано тайной, но, насколько я мог судить, панацея представляла собой уколы физраствора, растирания чем-то вроде вьетнамской «звездочки», а в качестве тяжелой артиллерии – вкалывание низких доз налоксона[10].
– Послушайте, я, к сожалению, ничего не могу вам обещать относительно химии и радиации, очень надеюсь, что они сработают, но стопроцентных гарантий тут не бывает. Но одно могу гарантировать и готов дать вам эту гарантию в письменном виде: ваш итальянец – шарлатан. Лечение, которое он предлагает, ничего не даст. Хорошо еще, если не сделает хуже. Это циничные, бессовестные люди, наживающиеся на чужом несчастье, таких нужно сажать в тюрьму. Ни в коем случае не покупайтесь на его обман, говорю это как ваш врач, от всей души желающий вашего выздоровления…
– Спасибо вам, доктор, спасибо, доктор, спасибо, – бормотал Пак № 2, тряся мою руку, и я уже понимал, что больше его не увижу.
Через несколько дней по приглашению доктора Пака я побывал на воскресной службе в корейской евангелической церкви. Кажется, церковные обряды евангелистов и баптистов особенно легко приживаются там, где до недавнего времени господствовало шаманство – будь то Корея или Нигерия. И там и тут – упор на трансовое состояние как способ приобщиться благодати, возликовать духом. Говоря по правде, служба оставила тяжелое впечатление; на меня повеяло чем-то болезненным и неприятным, вспомнились телепередачи о религиозных культах Мун Сон Мёна[11] и Ан Сён-хона[12], окруженных ореолом скандальной славы. Мессианский бред, массовые бракосочетания, денежные махинации… Нет, конечно, ничего подобного я не увидел. Служба как служба. Священнику в светлом костюме и тонированных очках аккомпанирует ресторанный ансамбль. Все по-корейски. О чем он говорит? «Тема сегодняшней проповеди – исцеление, обещание новой жизни, – перевела мне сидевшая рядом женщина. – Порок безверья, подобно раковой опухоли, проникает во все области человеческого бытия…» Понятно. Только зачем нужна эта слащавая музыка, эти плавные движения рукой (ладонь экстрасенса)? «Вот панацея, которую так долго скрывали от вас врачи…» В какой-то момент я, видимо, и сам впал в транс, и холеный корейский священник с микрофоном в руке слился в моем сознании с образом того итальянского «целителя». Налоксон для народа.
Когда мы вышли на улицу по окончании службы, я рассказал доктору Паку о фиаско с лечением Пака № 2. Я был уверен, что услышу в ответ если не мудрый совет, то уж точно какие-нибудь вдумчивые слова участия. Но доктор только улыбался своей дурашливой симпсоновской улыбкой, и я впервые заметил, что у него не хватает двух или трех боковых зубов.
Чжэ Хун
Мы есть то, что мы едим, а передо мной стоял выбор из живого осьминога, рыбьей требухи, личинок шелкопряда, асцидий, сырых трепангов, морских червей, желе из желудей, протухших крыльев ската. В общем, полный набор корейских деликатесов. И пока я опасливо жевал, мой собеседник Чжэ Хун говорил о культуре и обществе. Не говорил даже, а пел своим высоким, почти женским голосом, никак не вязавшимся с его внешностью (крепко сбитый мужчина с двойным подбородком и стрижкой а-ля Ким Чен Ын).
– Мы, корейцы, любим все острое. Не только в пище. В кино, например. Либо садистские ужасы, как у Пак Чан Ука и Ким Ки Дука, либо что-нибудь душераздирающее вроде «Шальной пули». Ты смотрел «Шальную пулю»?»
Я кивнул, не отрывая взгляда от своей тарелки. Все мое внимание было сосредоточено на извивающихся осьминожьих щупальцах. Последние пять минут я безуспешно пытался ухватить одно из них металлическими палочками. «Шальную пулю» я смотрел много лет назад, но до сих пор помню эпизод, где главный герой убегает от полиции, бежит по каким-то подвалам, и в одном из подвалов мы видим самоубийцу, качающегося на веревке, и ребенка, только что обнаружившего тело отца. Все это не имеет ни малейшего отношения к сюжету, показывается впроброс, мелькающим кадром – и именно поэтому производит такое сильное впечатление.
– Вот и я говорю, – пропел Чжэ Хун, – слишком много драмы. У американцев такого нет, они сдержаннее. Я, хоть и кореец, по характеру чистый американец.
– Или японец, – вставил я.
– Не-е, – поморщился Чжэ Хун, – кореец японцу не брат, японцы – захватчики.
– Китаец?
– Тоже нет. Китайцы хитрые, а у нас хитрых не любят.
– Хорошо, – согласился я, придавив щупальце палочкой, – ты чистый американец.
* * *
Мои родители прожили в Корее чуть меньше года. Отец преподавал математику в Сеульском национальном университете. Возвращаясь с работы поздно вечером, он звонил мне по скайпу, чтобы поделиться впечатлениями.
– Никогда раньше не видел, чтобы люди так вкалывали. По сравнению с ними даже китайцы – сущие лодыри. Представляешь, мои коллеги – математики, которые тут считаются чуть ли не «свободными художниками», – садятся за рабочий стол в семь утра и трудятся без перерывов до шести вечера. Потом идут ужинать в университетскую столовку, а после ужина возвращаются на работу. Я сегодня раньше всех ушел.
– Когда же они домой попадают?
– Кто как. Некоторые вообще видятся с семьей только по выходным.
– То есть в течение недели они ночуют прямо на работе?
– Ну, необязательно. Они же еще и выпить любят. А потом идут ночевать в баню. Говорят, здешняя баня – это целый пансионат. Там тебе и горячие бассейны, и солевые ванны, и сауны разной температуры. Обязательно сходим, когда приедешь. Так вот, в этой бане за двадцать долларов можно переночевать на лежаке. У кого семья живет за городом, те в будние дни ночуют в бане. С утра встал, попарился и – вперед. От похмелья помогает, опять же.
– Ты есть будешь? – Слышался мамин голос.
– Если это можно назвать едой…
В отличие от меня папа терпеть не мог корейскую пищу. Слишком остро. Мама готовила ему дома, давала обед с собой, но и с домашней едой было непросто: в магазине все по-корейски, ничего не поймешь. Хочешь купить соевого соуса, а на полке перед тобой стоят триста разных бутылочек, в каждой – темная жидкость. Поди разберись, что есть что. В конце концов выбираешь методом тыка и, конечно, мимо: вместо соевого соуса в бутылке – неведомая приторная мерзость. И ведь спросить не у кого: за пределами университетского кампуса англоговорящих мало. Зато там, где знание английского не требуется, всегда найдутся помощники. Например, в метро, если ты стоишь посреди платформы, уткнувшись в карту, обязательно подойдут, предложат проводить или, по крайней мере, укажут нужное направление.
«Здесь много плюсов, – уговаривала себя мама, – и люди такие, как бы это сказать, неиспорченные. Сеульцы чем-то напоминают мне москвичей, только не нынешних, а времен хрущевской оттепели…» Для моей мамы шестидесятые (школьные) годы – золотой век человечества, а Москва того времени – эталон, по которому оценивается любой новый географический пункт. Что-то в этом есть: путешествие как попытка вернуться в исходную точку. Не потому что тридевятое царство неожиданно обнаруживает реальное сходство с тем местом, где ты родился. Скорее наоборот: чем меньше сходства, тем его больше. Возможно, дело в абсолютной (детской) новизне впечатлений. А может быть, это механизм непроизвольной памяти приходит в действие там, где горизонт восприятия не загроможден знакомыми лицами и предметами. Так или иначе, жить в Сеуле родителям нравилось. По крайней мере, на первых порах. Однако изжога после каждого приема пищи и полное отсутствие общения постепенно умерили их энтузиазм. Когда все фильмы Им Квон Тхэка и Ли Чхан Дона были просмотрены, папа отказался от предложения продлить контракт с Сеульским университетом. В бане-пансионате мы с ним так и не побывали.
Прошло сколько-то лет. И вот я тоже работаю в коллективе, состоящем из одних корейцев. Правда, уже не в Сеуле, а в Квинсе. Мои рабочие часы вполне соответствуют корейским стандартам (от двенадцати до четырнадцати часов в день). По вечерам, возвращаясь из больницы, я проезжаю мимо разноцветных огней «чимчильбана», где при желании можно переночевать на лежаке, хотя в нашем «Сеуле-на-Гудзоне» эта практика, кажется, не столь распространена. С видом знатока я читаю вывески (в отличие от иероглифов, фонетическое письмо хангыль нетрудно выучить), и моей радости нет предела, когда прочитанное по слогам слово оказывается одним из тех пяти-шести, что я знаю по-корейски. Я ощущаю себя великим востоковедом, однако сдерживаю эмоции и как бы между прочим сообщаю жене, указывая на неприметное двухэтажное здание: «это церковь» или «это баня». Жена восхищенно качает головой, продолжая думать о чем-то своем. Время от времени мы заезжаем за продуктами в корейский магазин «Эйч-Март». Кулинарной экзотикой меня не смутишь: я менее разборчив, чем папа, и в свое время перепробовал все самые страшные корейские блюда – от супа из черной козы до собачатины. Но вот мой взгляд упирается в аккуратные ряды бутылочек с темной жидкостью, и некому подсказать, какая из бутылочек содержит соевый соус.
* * *
«Ты опять неправильно палочки держишь», – критикует меня Чжэ Хун. Борьба с осьминожьими щупальцами (поединок от слова «поедать») продолжается. В конце концов я сдаюсь и вру, что уже сыт. «Ладно, тогда я доедаю, – Чжэ Хун придвигает тарелку к себе, за минуту разделывается с оставшимися щупальцами, – и мы переходим к следующей части нашей программы!» Если бы он не был врачом, то был бы, наверное, массовиком-затейником. Собственно, он и есть. Это Чжэ Хун организовал у нас киноклуб, благодаря которому я основательно ознакомился с корейским кинематографом. Это Чжэ Хун регулярно вытаскивает своих коллег – Юн Су, Чжи Ён и меня – на корейское барбекю, в корейскую баню, на караоке. В компании этих ребят мне иногда кажется, будто я перенесся в какой-нибудь из фильмов Хон Сан Су, которого один мой друг метко окрестил «корейским Иоселиани». В противоположность знаменитым Пак Чхан Уку и Ким Ки Дуку с их эпатажным садизмом и болезненной зацикленностью на возмездии и самоистязании, Хон Сан Су снимает созерцательно-лирическое кино о повседневности. В его фильмах идет снег или цветет магнолия; персонажи – интеллигентные и закомплексованные молодые люди – встречаются в сеульских ресторанчиках, употребляют умопомрачительное количество соджу и никак не могут высказать того, что хотят; их любовь всегда несчастна, творческий поиск безрезультатен, а окружающий мир полон щемящей, мимолетной красоты. Как-то так.
Все наши посиделки начинаются с заглазного обсуждения сослуживцев. Это привычное перемывание косточек, на самом деле, довольно интересно: оценки, которые выносят мои корейские коллеги, всегда удивляют. Про тихоню медсестру говорят, что она кажется им тщеславной; про другую медсестру, известную стерву, – что она честная и, судя по всему, любит приключения. Возможно, за всем этим кроется какое-то совершенно иное мировосприятие, непереводимое, как корейский юмор. Когда я признаюсь, что плохо понимаю их шутки, Чжэ Хун успокаивает: «Это просто потому, что ты еще мало выпил». Мы выпиваем ровно столько, чтобы потом можно было вести машину. Но через некоторое время нам приносят панчхан[13], пулькоги[14] или твенчжан чиге[15], и мы заказываем еще соджу, и Чжэ Хун призывает всех мешать соджу с пивом, как это делают в Сеуле. Теперь о том, чтобы сесть за руль, не может быть и речи. «Жаль, – говорит Чжи Ён, – что в Нью-Йорке нельзя вызвать водителя. В Сеуле есть специальная служба: звонишь по телефону, приезжает водитель и довозит тебя, пьяного, на твоей же машине до дому. Интересно, почему здесь еще до этого не додумались?» И мы начинаем обсуждать во всех подробностях, как, организовав подобную компанию в Америке, мы заработаем кучу денег, и нам уже не придется каждое утро ни свет ни заря тащиться на консилиум. Потом разговор забредает в алкогольно-философские дебри; потом захмелевшая Чжи Ён со слезами на глазах признается, что год от года ощущает себя все более одинокой, и неловко пытается соблазнить Чжэ Хуна; потом они все начинают, перекрикивая друг друга, спорить о чем-то по-корейски, уже не заморачиваясь с переводом, а я уплываю в собственные дебри бессвязной рефлексии. За окном идет снег или цветет магнолия. Я выхожу на улицу, долго пытаюсь поймать такси.
Томас
– Ты куда? – забеспокоился Чжэ Хун. – Мы же только что еще заказали.
– Я на секунду. Кто-то мне звонит с незнакомого номера. Кажется, это мать одного моего пациента.
– Ты что, раздаешь пациентам свой номер телефона?
– Иногда. Хотя в данном случае, видимо, не стоило. Эта женщина названивает мне по двадцать раз на дню.
– Так не бери трубку.
– Она будет продолжать звонить.
– Ну, ясно, – протянула Чжи Ён, – не отвечать на звонки нельзя, и заблокировать номер тоже нельзя: пациент все-таки. В общем, ты влип. А ты уверен, что это она звонит?
– Практически. Ладно, я сейчас.
Полтора года назад у шестнадцатилетнего Томаса Ди Франко обнаружили рабдомиосаркому. Предприимчивой миссис Ди Франко удалось записать сына на прием к светилам из Слоуна-Кеттеринга; те прооперировали, провели курс химии и радиации. Однако через три месяца болезнь вернулась. Никто не давал гарантий, но с точки зрения матери Томаса все выглядит по-другому: если взялись лечить, значит, гарантия успеха подразумевается. Иначе зачем было его мучить? Химия, радиация, еще химия – ad nauseam, до тошноты, до выпадения волос, до периферической нейропатии. Никто не давал гарантий; единственное, что мы можем гарантировать – это побочные эффекты. И все же, если болезнь вернулась, значит неправильно лечили, так ведь? По сути она права. «Как я могу вам, докторам, верить? Вы же ничего не знаете. Почему мой Том заболел? Не знаем. Почему не работает лечение? Не знаем. О чем ни спросишь, ответ всегда один. Не знаем, не знаем, не знаем… А что вы вообще знаете?»
Причина – это тростинка, за которую можно было бы ухватиться, если бы не обескураживающие ответы врача, если бы не его невозмутимое покачивание головой: дескать, причина не в том и не в этом. «Доктор, откуда у меня рак? Я же никогда не курил!» Этиология неясна, да и какое значение она имеет теперь, постфактум? Но человек продолжает допытываться: а может, дело в таблетках от ожирения, которые он одно время принимал? В компьютерах? Сотовых телефонах? Кого или что винить? Как будто, если выяснить причину, можно будет что-то переиграть. Или хотя бы избавиться от глубинного страха перед неопределенностью. Страх неизвестного направлен не только в будущее, но и в прошлое, вот в чем дело.
«Можем еще побороться», – сказал профессор из Слоуна-Кеттеринга[16]. Я сказал бы то же самое. Но мать Томаса больше не верит нашим полуобещаниям. Теперь ее миссия – создать альтернативную картину мира, восстановить причинно-следственную связь. После слов «решила взять дело в свои руки» рассказ этой женщины становится – нет, не бессвязным, наоборот… Во всех ее действиях прослеживается логика. Пугающая логика безумия. Отказавшись от повторного облучения и химиотерапии второй линии, решила лечить Томаса с помощью натуропатии, наняла консультанта. «Где нашла? Через гугл, где же еще? Мадам Арсенио. Вы о ней не слыхали? А еще называете себя онкологом. Мадам Арсенио – наш ангел-хранитель, вы бы многому могли у нее научиться. Велела нам исключить из диеты сахар: глюкоза кормит раковые клетки. Мясо, рыбу тоже исключили, перешли на веганство. Сработало: Томас похудел на пятнадцать кило и еще продолжает худеть. Рост – метр семьдесят пять, вес – пятьдесят два килограмма. Ни грамма жира! Чтобы убрать метастазы в легких, ставили ежедневные капельницы с аскорбиновой кислотой, по вечерам – клизмы. Мадам Арсенио советовала еще банки, но уже не понадобилось: метастазы и так все ушли. Единственное, что помешало полному выздоровлению, – это прививка от менингита. Сама во всем виновата: записала его на вечерние курсы в училище, а там потребовали сделать прививку. Это, конечно, была ошибка. Вместо того чтобы бороться с раком, организм переключился на борьбу с менингитом. Потом Тома рвало, поехали в больницу, там ему сделали томограмму грудной клетки и брюшной полости. Еще одна ошибка. Потому что томограмма якобы выявила метастазы в легких и кишечнике. Но вы-то, надеюсь, понимаете, что до томограммы никаких метастазов там не было, мы все убрали с помощью витамина С. А томограмма – это радиация, радиация вызывает рак. Вот она и вызвала все эти новые метастазы. Они там еще хотели какие-то тесты делать, но я отказалась. Спасибо, и так уже достаточно подорвали его здоровье. Если мальчика тошнит, значит, надо проверить на гастрит. Все, что мне от вас нужно, – это чтобы вы сделали эндоскопию. Не соглашаются. Говорят, нужны другие тесты. Нет так нет, забрала его из больницы, поехали к знакомому мадам Арсенио, он сделал ментальную эндоскопию. Телепатическим способом. Сказал, гастрита нет, но есть желудочная забывчивость. Это от избытка сои. Ничего страшного, сою можно исключить. Но на следующий день у Томаса отнялась правая нога, пришлось снова ехать в больницу, делать еще одну томограмму. Теперь мне говорят, что у него метастазы в мозгу. Я верю: после всех этих томограмм, прививок и капельниц с глюкозой, конечно, могли появиться новые метастазы. Их нужно просто убрать, это хотя бы вы можете? Уберете метастазы в мозгу, а дальше я сама: витамин С, очищающая диета. В будущем году ему поступать в институт, на дневное отделение, к тому моменту он должен быть здоров. У меня ведь кроме него никого нет, только я и он. Но мы вдвоем всегда справлялись, значит и тут сдюжим. Вы говорите, нужна радиация, но радиация вызывает рак. Уж вы-то должны это знать…»
Как принять безысходность? Надо думать о малом, сосредоточиться на скорости роста опухоли и реакции на облучение, всецело посвятить себя «микрозадаче», стать недальновидным. Иначе невозможно ничего сделать. Не думать о том, что заранее известно, о работе умирания, которую ты наблюдаешь изо дня в день. Внутривенный катетер, инфузионный порт, назогастральный зонд, электромеханическая койка с дистанционным пультом управления, вызов медсестры, ежеутреннее обтирание губкой, парентеральное питание, писк мониторов, перевод в другую палату, тошнота на третий день после химии, ломкость ногтей, пониженные тромбоциты, повторные томограммы, опухоль в форме «лучистого венчика», напоминающая не то паука, не то цветок для гадания (любишь – не любишь, уменьшишь – не уменьшишь), сообщение плохих результатов («у меня для вас две новости: хорошая и не очень…»), консультация паллиативщика – первый, вкрадчивый разговор о «целях ухода», исподволь подталкивающий к идее хосписа, но до этого может и не дойти: состояние пациента ухудшилось значительно быстрее, чем ожидалось, теперь оформлять перевод в хоспис не имеет смысла. Эпикризы паллиативщиков всегда пестрят немедицинскими подробностями. Отрывки из разговоров с семьей больного, их переживания и страхи. Все внесено в протокол. Все записано привычным канцеляритом с вкраплениями неуклюжей отсебятины. «Дочь мистера Матео выразила беспокойство по поводу того, что ее отец ничего не ест. Служба паллиативной помощи объяснила, что у мистера Матео начался процесс умирания, и отныне он не будет испытывать голода, а только сухость во рту. Ему должно понравиться смачивание губ и полости рта влажной губкой…» Мистер Матео и Томас – соседи по палате. У постели первого круглые сутки дежурит двадцатилетняя дочь Нэтали, у второго – невыносимая миссис Ди Франко. «Натали, ты не видела мать Томаса?» «Кристину? Она скоро вернется. Я ее попросила, пока Том на процедуре, подъехать ко мне домой и забрать кое-какие вещи».
Эта история закончится через неделю. После всех разъяснений, звонков в неурочное время, ругани и обвинений в профнепригодности миссис Ди Франко наконец согласится с моей рекомендацией (нужна фракционированная радиохирургия мозга). Но за несколько минут до начала первого сеанса я замечу, что состояние Томаса внезапно изменилось: он перестал стонать, тело вытянулось в той неестественной позе, о которой известно всякому студенту-медику («позотонические реакции»); зрачки не реагируют на свет. Срочная томограмма подтвердит то, что и так было очевидно: вклинение мозга. Теперь радиация не понадобится, можно выключать ускоритель. Объявят экстренный вызов, сбежится медперсонал из отделения реаниматологии. Безутешная мать будет звать сына, будет трясти его («Томас, проснись, проснись!»), будет требовать, чтобы все немедленно убрались из комнаты – санитары, медсестры, «весь этот сброд». Вон из комнаты. Все кроме доктора. В этот последний день я неожиданно стану для нее тем «единственным, кому можно верить», заменю всегдашнего ангела-хранителя мадам Арсенио. Но проку от меня теперь не больше, чем от знахарки-шарлатанки с ее банками и клизмами. Мертвому припарки. Нет, еще не мертвому, но теперь это дело нескольких часов, необратимый процесс. Мозг уже поражен, искусственная вентиляция легких может только продлить вегетативное состояние. От миссис Ди Франко требуется подписать бумагу с разрешением не интубировать. Так будет лучше. Лучше для Томаса. Она ведь просила моего совета. Дать ему спокойно уйти, не превращать его в Терри Шайво[17]. Она согласна? Она поступает правильно. «Не интубировать», – объявлю я реаниматологам, ждущим нас за дверью. Медсестры поздравят меня с успехом.
В последнее время я заметил, что автоматически захожу в фейсбук и начинаю просматривать френдленту всякий раз, когда узнаю о смерти пациента. Это на уровне рефлекса, вроде нервной привычки грызть ногти или чесать голову. Стыдно ловить себя на таком. Но бывает и хуже. Торжественная показуха надгробных речей или досужие разглагольствования о жизни и смерти. Лучше молчать, лучше читать френдленту… Мистер Матео и Томас Ди Франко скончались в один и тот же день. Через несколько дней после смерти отца Натали прислала мне приглашение дружить в фейсбуке. Видимо, у нее тоже «привычка грызть ногти».
…Итак, я выхожу из кафе, чтобы ответить на звонок, несмотря на увещевания Чжи Ён и Чжэ Хуна. Позывные миссис Ди Франко ни с чем не спутать, даже если она звонит с незнакомого номера. Мне кажется, я различаю ее истерические нотки в стандартной мелодии мобильника, чувствую, как она выходит из себя, дожидаясь ответа, вернее ответов. Но на этот раз я ошибся: звонила Джулия.
Джулия
Когда передо мной наконец остановилось такси, и я плюхнулся на заднее сиденье, то не смог назвать нужный мне адрес. «Поехали в сторону Рокривера, уточню ближе к делу». Седобородый сикх тряхнул чалмой и включил MP3-плеер. Прибавил громкость, видимо, желая, чтобы мне было слышно каждое непонятное слово молитвы (проповеди? мантры?).
– Нельзя ли сделать потише? Мне нужно позвонить…
– Что?
– Позвонить…
– Да-да, звоните, вы мне не мешаете.
– Зато вы мне мешаете. Ничего не слышно.
– Что?
– Нужно позвонить! Ничего не слышно!
– А-а, связь плохая, – сикх сочувственно покачал чалмой.
Все напрасно: Джулия не отвечает. Полчаса назад она звонила мне с просьбой приехать, но повесила трубку прежде, чем я мог уточнить адрес. Теперь до нее не дозвониться, и я понятия не имею, где ее искать.
«Уроженка Сеула, жительница Нью-Йорка, выпускница Йеля», – так она представилась на организационном собрании новых работников больницы. Больше ничего. Загадка. Даже для меня, хотя мы знакомы уже давно: вместе учились, выбрали одну и ту же специализацию. После окончания мединститута Джулия проходила ординатуру в Чикаго, а я остался в Нью-Йорке. Несколько лет мы не общались. И вот пути снова пересеклись – в Несконсетском госпитале. «Я и не знал, что вы знакомы, – удивился завотделением Ли, – хотя вы, молодежь, такие общительные: фейсбук, твиттер… Теперь все друг друга знают!» Но Джулия как раз не пользуется соцсетями. В мединституте мои впечатления от поверхностного знакомства с ней сводились к стереотипу: зубрила-отличница; азиатская девушка, нацеленная на успех. С такими хорошо вместе готовиться к экзаменам, а на посторонние темы не очень-то поговоришь. Оказалось, все с точностью до наоборот.
«Интересно, что ты обо мне думал, когда мы были студентами?» – допытывается Джулия. Она обожает подобные допросы. Я начинаю издалека: у нас за домом есть детская площадка с песочницей, по выходным мы с дочкой лепим там куличи. Несколько месяцев назад я наблюдал такую картину: в песочнице работает – не играет, а именно работает – корейская девочка лет шести. Обливаясь потом, она копает яму, уже целый котлован выкопала. Рядом стоит ее отец и наблюдает за работой. Нашей полуторагодовалой Соне нравится такая игра: кореянка копает, а она, саботажница, бросает песок обратно в яму. «Сонечка, нельзя так делать. Если хочешь поиграть с девочкой, скажи: давай играть вместе», – это я провожу воспитательную работу. Но отцу копающей девочки мое миротворчество не по душе: «Пожалуйста, прикажите своей дочери оставить мою дочь в покое». Что на такое ответишь? Отвожу Соню в сторону, говорю: «Мы пойдем в соседний двор и будем играть в другой песочнице». Тут кореянка уже сама вступает в разговор: «В другой песочнице тоже нельзя, там копает мой брат. Понимаете, наши родители каждые выходные устраивают нам соревнование: кто быстрее выроет яму глубиной в человеческий рост. Пока что он всегда выигрывал, но я очень надеюсь тоже когда-нибудь выиграть…» Ну вот, когда она это сказала, я вдруг представил, что это – ты в детстве. Маленькая Джулия. Скажи, Джулия, когда ты была маленькой, тебя заставляли рыть ямы?
– Да-да, – хохочет Джулия, – и яму рыть, и воду из колодца носить… Нет, до такого изуверства в моей семье не доходили. На скрипке играть – это да, заставляли, как все корейские родители. Но ямы копать вроде бы никто никого не посылал. Хотя могли бы, наверное. Папа, как истинный кореец, ставил работу превыше всего. Дескать, труд облагораживает. Облагораживает, конечно, но ведь и заглушает много чего. Выживать проще, чем жить. Выживание – это просто долбежка в одну точку.
В первые месяцы в Рокривере, когда у нас было еще не слишком много пациентов, мы с Джулией часто болтали на посторонние темы. С ней было хорошо: оказавшись вместе со мной в «корейском» отделении, она с ходу взяла на себя роль моего гида-переводчика. Да и вообще была заботливым другом. Угощала целебным супом, когда мне приходилось дежурить в больном виде. Сама замечала, что у меня в кабинете недостает того или этого, и на следующий день приносила необходимую вещь (дырокол, органайзер, коврик для мыши) в подарок. Но внезапно ветер мог перемениться, и она начинала подозревать меня в каких-то дурных помыслах, обвиняла в двурушничестве («Думаешь, я не знаю, что ты пытаешься выжить меня из этого госпиталя?»). Когда я в свою очередь приносил ей что-нибудь в подарок, взрывалась: «Не нужны мне твои подачки». Писала пространные письма, которые начинались с примирительных объяснений («Не пойми меня неправильно…»), а заканчивались неожиданными упреками («До сих пор не могу забыть, как на втором курсе мединститута, когда мы с тобой готовились к экзамену по патофизиологии, ты вел себя так, будто ты профессор, а я двоечница-студентка. Ненавижу тебя за это!»). Я оправдывался и просил прощения, но мои оправдания только вызывали у нее новую вспышку гнева. И столь же внезапно гроза сменялась затишьем, и мы снова становились закадычными друзьями.
– Какая муха тебя вчера укусила?
– Сама не знаю. Со мной такое бывает. Приступы жалости к себе. Не обращай внимания. Хорошо, что ты здесь!
– Я тоже рад, что ты здесь, Джулия.
– Расскажи мне про свою семью. Что-то ты давно о них не говорил. Как твоя жена, как дочь? Надо мне будет нагрянуть к вам в гости. Давно, давно пора, – она говорила с воодушевлением, но взгляд ее при этом был рассредоточен. Казалось, она куда-то уплывает или готовится к отплытию, и присутствие собеседника – временная помеха, ненадежный якорь. – Слушай, зачем мы вообще живем? Нет, я серьезно. Вот ты ради чего живешь? Только не надо острить. Я ведь тебя серьезно спросила. У меня на твои остроты аллергия.
– Кажется, вчерашняя гроза еще не прошла.
– Извини, больше не буду.
По окончании рабочего дня, когда я выезжал с больничной стоянки, невесть откуда появившаяся Джулия с раскинутыми руками бросилась под колеса моего «ниссана»:
– Стоп машина!
– Ты с ума сошла? Я же тебя чуть не сбил!
– Да ладно тебе. Я только хотела еще раз сказать: я рада, что ты здесь.
– Что с тобой, Джулия?
– Со мной? Ничего. Просто я не могу вспомнить, где утром запарковалась.
– Помочь тебе найти машину?
– Не, я сама. Счастливо!
Это было в пятницу, а в воскресенье во второй половине дня раздался звонок. В трубке – молчание, потом – медленный, тяжелый голос:
– Это Джулия. Я заболела.
– Что такое?
– В меня вселились бесы. Я делаю вид, что их нет. Вру себе и другим. Знаю, что мне все это не по силам. Что же мне делать?
– Я сейчас приеду, Джулия. Хочешь, я приеду?
Опять тишина, наполненная напряженным дыханием.
– Джулия? Можно, я к тебе приеду?
– А ты сам как думаешь? – С этими словами она повесила трубку.
День благодарения
И вот я паникую, вызываю скорую и полицию, но ответ неутешителен: без точного адреса ничем не могут помочь. Разве у них нет способов установить чей-либо адрес? Увы, нет таких полномочий. Я звоню нашей администраторше Эвелине, говорю, что у Джулии сильный грипп и она просила меня приехать, но теперь не подходит к телефону; нельзя ли узнать ее адрес? Эвелина выясняет адрес через каких-то знакомых в полицейском участке (если есть связи, будут и полномочия). Затем, почуяв неладное, сама мчится к Джулии. Я застаю Эвелину, растрепанную-взволнованную, перед дверью. Ну что там? Кажется, никого нет дома. Эвелина не собирается лезть не в свое дело, но… ведь это – не грипп, она правильно понимает? В этот момент появляется полиция. Кто такие? Сослуживцы? После надлежащих объяснений («А, так вы знаете нашего Рика? Так бы сразу и сказали!») страж порядка охотно делится с нами «секретной информацией»: «Вашу коллегу только что доставили в больницу Сент-Джеймс. Там ее и ищите». «Думаешь, их к ней сейчас пустят?» – сомневается его напарник. Нет, не пустят, конечно. Лучше подождать до утра. В десять вечера приходит СМС от Джулии: «Завтра на работу не выйду. Посмотри моих пациентов».
Наутро я объясняю коллегам, что у Джулии сильный грипп. Она вернется на работу через несколько дней, а до возвращения препоручила своих пациентов мне. Все понимающе кивают и желают ей скорейшего выздоровления. Никто не собирается лезть не в свое дело. Но на следующий день меня вызывает Ли и, сверля взглядом, спрашивает, где Джулия. Я повторяю легенду про грипп. «Вы с Эвелиной, судя по всему, решили, что я идиот, – негодует завотделением, – ты обязан рассказать мне все как есть!» Но ведь я и вправду ничего не знаю: телефон у Джулии отключен, а в Сент-Джеймсе информацию выдают только членам семьи больного.
На третий день я снова звоню в больничную справочную и, назвавшись родственником Джулии, спрашиваю, в какой она палате. Доверчивая секретарша (видимо, новенькая) проверяет по списку и сообщает мне, что пациентку вчера выписали. Выписать выписали, но где она теперь, неизвестно; дозвониться по-прежнему невозможно. «Оставьте ваше сообщение, и я перезвоню вам при первой возможности», – в пятнадцатый раз обещает мне автоответчик. Впору сдаваться заведующему.
– Говори прямо: она – наркоманка? – начинает он очередной допрос.
– Да нет, что вы, она даже к спиртному не притрагивается, – это, разумеется, неправда; выпить Джулия любит не меньше Чжэ Хуна. Но наркотики? Исключено.
– Тогда расскажи все, что знаешь. Я тоже кое-что знаю, ломать комедию тут не имеет смысла. Речь идет о жизни и смерти.
Этот довод кажется мне убедительным, и я выкладываю все начистоту.
– Ладно, – смягчается начальник, – теперь я расскажу. В прошлые выходные, еще до того, как тебе позвонить, она позвонила мне. Это было в субботу рано утром, где-то в половине шестого. Я еще спал. Как проснулся, сразу перезвонил. Сначала она не подходила к телефону. Мне пришлось набирать ее раза три или четыре. В конце концов подошла и страшно удивилась, услышав мой голос. Я сказал, что перезваниваю. Она долго молчала, потом говорит: «Перезваниваете мне? Зачем?» Медленно-медленно говорит. И вдруг ее как подменили. Она стала хихикать, как школьница, и повторять «привет-привет», пока я не повесил трубку. Я был в полной уверенности, что она на чем-то торчит.
– Она не наркоманка, доктор Ли. Насколько я понимаю, она лежала в психиатрическом отделении в Сент-Джеймсе, но вчера ее оттуда выписали.
– Может, ее следует положить к нам? У нас же тоже есть психиатрическое отделение.
– Не думаю, чтобы ей это понравилось.
– В любом случае вы с Эвелиной должны сейчас же поехать к ней домой. Ты сказал, что ее вчера выписали. Значит, она должна быть дома?
– Я в этом не уверен. Телефон у нее до сих пор отключен.
– Тем более надо проверить.
На улице – промозглая, тоскливая погода, какая часто бывает перед Днем благодарения. Дождь со снегом. Это время года ассоциируется у меня с поездами линии Amtrak: будучи студентом, я ездил домой на праздники, и нескончаемая железнодорожная сутолока – маршрут из Баффало, где я учился, в Олбани, где живут мои родители, – навсегда отложилась в памяти. Битком набитый вагон, пропахший гигиеническими салфетками и размокшими бутербродами, одышливый кондуктор, с трудом протискивающийся между баулами, загромождающими проход, пунктирные линии дождя на стекле, убогий уют городков с индейскими названиями, уносящихся в продрогшие сумерки. Впереди побывка в кругу родных, с индюшкой и клюквенной подливой, с американским футболом по телевизору. Домашнее безделье, вернее его предвкушение, – это одеяло, под которое хочется навсегда забраться; четыре дня каникул в обратной перспективе равноценны этому «навсегда». Двадцать лет спустя я все еще живу в ожидании тех поездок. Надо бы наконец привыкнуть к мысли, что каникулы закончились; научиться отдыхать наплаву, как это делают акулы, – половина мозга спит, другая половина бодрствует, потому что нельзя останавливаться.
В психиатрическом стационаре День благодарения и Рождество часто отмечаются заранее. Во-первых, потому что в праздничный день никого из медперсонала, кроме дежурных, в отделении не будет и устроить все будет куда сложнее. Во-вторых, многие больные, как известно, плохо переносят напоминания о праздниках. Вероятны обострения. Поэтому празднование по возможности стараются перенести на другую, «некрасную» дату (вовсе отменить тоже было бы неправильно). Считается, что таким образом можно смягчить удар.
Как и следовало ожидать, Джулии нет дома. «Нет дома или не открывает?» – загремел в телефонной трубке голос доктора Ли. Вопрос на засыпку. Джулия живет одна. Ее отец несколько лет назад вернулся в Корею, а мать переехала в Пенсильванию. Больше родственников у нее нет. «А друзья? Друзья есть? Ты должен знать. Вы же с ней вместе учились!» Должен знать, но не знаю. Кажется, она упоминала каких-то друзей в Чикаго. Был друг, мужчина старше ее лет на двадцать, профессор истории в Нортвестернском университете. Но они расстались еще полгода назад. Больше мне ничего не известно. «Стучись к соседям. Может, они что-нибудь знают…» Соседи – пузатый патриарх в майке-алкоголичке и супруга в косметической маске, хэллоуинским пугалом выглядывающая из-за его плеча, – знают всё. В последний раз Джулию видели в прошлую субботу в два часа дня. С тех пор она не появлялась, дома не ночевала. Сегодня утром в ее квартире несколько раз звонил телефон, но сообщения не оставили.
– Им бы в ФБР работать, – сказала Эвелина. Не успела она это произнести, как у нее в сумочке запел мобильник.
– А вот и ФБР, – пошутил я. И, как ни странно, почти угадал: звонил Рик, «наш человек» в полицейском участке.
В течение следующих пяти минут Эвелина хмыкала, цокала и ахала на все лады. Время от времени она даже закатывала глаза и, подперев ладонью щеку, покачивалась из стороны в сторону, точно кукла-неваляшка. Я жадно вслушивался в доносившееся из трубки щебетание, но ничего не мог разобрать. Казалось бы, людям, работающим в онкологическом отделении, должно хватать сюжетной остроты и драматизма. Но нет, малейшего намека на детектив («История пропавшей сотрудницы») достаточно, чтобы в человеке загорелся огонек праздного любопытства, освещающий матовую монотонность осенних будней. Если этот огонек вовремя не потушить, он может запросто испепелить все прочие чувства – сострадание, тревогу о ближнем…
– Не томи, Эвелина. Что он тебе сказал?
– Поехали, – процедила Эвелина с хмурой серьезностью сыщика из телесериала, – расскажу по дороге.
Оказалось, всю информацию, поступившую от Рика и вызвавшую столь бурную реакцию у нашей администраторши, можно резюмировать в двух словах. В прошлое воскресенье Джулию «подобрали» в универмаге Target. Кто-то из покупателей заметил, что она странно себя ведет, и поспешил вызвать скорую. Парамедикам Джулия сказала, что готова ехать в любую больницу кроме той, в которой она работает, и ее отвезли в Сент-Джеймс. Остальное нам уже известно. «Следовательно, – заключила Эвелина, продолжая играть в комиссара Мегрэ, – в воскресенье ее машина осталась стоять на парковке возле „Таргета“. Вот мы и проверим, стоит ли она там до сих пор». Я отдал должное дедуктивному методу коллеги. Оказавшись «на свободе», Джулия наверняка бы первым делом забрала машину. Стало быть, если машина до сих пор на стоянке, значит Джулию, скорее всего, не выписали, а просто перевели в другую больницу. И действительно: бордовая Хонда с пучеглазым пупсом на зеркале заднего вида попрежнему стояла на полупустой парковке в ожидании своей запропастившейся хозяйки.
– Машина стоит, значит надо обзванивать окрестные больницы, – отрапортовал я начальнику. Однако наши детективные домыслы не показались ему убедительными.
– Пока вы будете больницы обзванивать, она может покончить с собой. Откуда вы знаете, что она не сидит сейчас у себя в спальне и не готовится принять летальную дозу снотворного? Немедленно езжайте к ней и ждите меня у входа. Надо подключать полицию, взламывать дверь.
Но полицию подключать не пришлось: как только мы распрощались с Ли, позвонила Джулия.
– Я знаю, что ты не мог до меня дозвониться, но у меня все в порядке. Я просто приболела и вернусь на работу через пару недель.
– Где ты?
– Я… приболела.
– Я знаю, что ты была в Сент-Джеймсе и что тебя выписали. Где ты сейчас?
– Знаешь? А кто еще знает?
– Эвелина и Ли, больше никто.
– Ну, хорошо. Меня перевели в другую больницу. Мне уже лучше. Я тебе еще позвоню.
В этот момент на заднем плане послышался знакомый с мединститута приятный голос, каким обычно делают объявления в психиатрической лечебнице: «Внимание! Часы посещения больных заканчиваются через пятнадцать минут. Уважаемые посетители, в целях соблюдения больничного расписания просим вас попрощаться с вашими близкими и безотлагательно покинуть палату. Поздравляем вас с наступающими праздниками, желаем спокойного и приятного вечера». Я почувствовал, как к горлу подступает комок. Вот тебе и «детектив».
В День благодарения она снова позвонила:
– Мне уже лучше, через день-другой выпишут. Но я не очень понимаю, что мне теперь делать. Просто появиться на работе в понедельник как ни в чем не бывало?
– Думаю, да.
После праздников она вернулась на работу. Проведя около получаса в кабинете у Ли, вышла оттуда в прекрасном настроении: «Ну вот. Каникулы закончились, пора приниматься за дело. Спасибо тебе, что позаботился о моих пациентах». На мои осторожные вопросы она ответила, что подобное с ней уже случалось, но сейчас всё под контролем и впредь, она надеется, не повторится. Да, еще вот что. Узнав о случившемся, ее мама приехала из Пенсильвании и собирается некоторое время у нее пожить. Это означает, что ее, Джулию, будут закармливать домашней корейской едой. В одиночку ей с таким количеством деликатесов не справиться, и она очень рассчитывает на мою помощь. Я не стал отказываться и в течение следующих трех недель чуть ли не ежедневно питался блинчиками с кимчи и острым супом из морепродуктов.
Корейская опера
О том, что она собирается уходить, я узнал из третьих рук. Не то, чтобы я не догадывался. Первое время каждый из нас старался вести себя так, будто ничего не произошло. Вернее, старался я, а она, казалось, и впрямь не придавала недавнему происшествию никакого значения. Но через несколько недель, когда изначальная неловкость, вызванная нашим негласным соглашением не говорить о случившемся, уже наполовину уступила место привычке, Джулия как бы между прочим сообщила, что планирует «всерьез заняться литературной деятельностью». Раньше за ней такого не водилось.
– Я и не знал, что тебя интересует литература.
– Никогда не интересовала. Но я подумала: а почему бы и нет? Просто я сейчас на распутье и пытаюсь понять, чем мне заниматься дальше.
– А как же медицина?
– Медицина от меня никуда не уйдет. Но я не уверена, что этого достаточно. Нужно что-то еще. Вот литература, например.
– То есть ты собираешься стать писательницей?
– Ну да. Хотя, конечно, самое ценное, что есть в литературе, всегда черпается из Библии. Лучшие писатели – это священники. Особенно в наше время. Хорошая проповедь стоит десяти романов. Но в пасторы идти мне уже поздно. А вот стать хорошей христианской писательницей – вполне по силам. Как ты считаешь?
– Не знаю, Джулия, тебе виднее.
– Но ведь ты же и сам, насколько я помню, пробовал что-то писать. Мы с тобой об этом еще в мединституте говорили. Значит, у тебя должно быть свое мнение по этому вопросу. Разве нет?
Две или три недели спустя наша медсестра Шэрил, экзальтированная и любопытная женщина, вечно ищущая случая озаботиться чужими проблемами, отвела меня в сторонку, чтобы поговорить о Джулии Сун. «Я знаю, вы с ней старые друзья, поэтому я и решила к вам обратиться. Видите ли, в последнее время я чувствую, что доктор Сун недовольна нашим коллективом. По-моему, ей у нас разонравилось. Мы должны сделать так, чтобы ей было здесь хорошо. Ведь она – человек незаурядный. Пару дней назад я узнала… только это по секрету, обещаете? Так вот, доктор Сун – не только врач, она еще и литератор. Христианская писательница. Представляете? Мы должны беречь ее как зеницу ока». На следующий день я услышал почти то же самое от дозиметриста Санни и фельдшера Оути. Все говорили о неожиданно обнаружившемся литературном таланте Джулии и о том, что она «находится на распутье». Вскоре ее намерения уйти из Рокривера, а может быть и вообще из медицины, стали секретом Полишинеля.
Но никто, включая меня, не подозревал, что решение об уходе исходило не от нее самой, а от доктора Ли. В тот день, когда она вернулась на работу и в течение получаса беседовала с ним за закрытыми дверьми, он сказал ей, что после случившегося не сможет продлить ее контракт с Рокриверским госпиталем. Однако, продолжал Ли, он никоим образом не хочет ломать ей карьеру и жизнь. Поэтому он предлагает обыграть дело так, будто она увольняется по собственному желанию. Обо всем этом я узнал много позже от администраторши Эвелины. Тоже, разумеется, по секрету.
* * *
За несколько дней до ухода Джулия, окрыленная своими творческими амбициями и веселая как никогда, пригласила меня в театр – послушать корейскую оперу. Это традиционное искусство, уверяла она, произведет на меня неизгладимое впечатление. «Тебе как человеку, интересующемуся нашей культурой, это будет полезно». В основу либретто легла книга корейского классика Ли Чхончуна, та самая, по которой Им Квон Тхэк в свое время снял фильм «Сопендже». Вот краткое содержание.
Певец Ю Бон, в прошлом самый талантливый из учеников старого мастера «корейской оперы» (пхансори), а ныне пьяница и неудачник, живет впроголодь, в то время как его бывшие соученики давно выбились в люди и выступают в столичном театре. Втайне завидуя их удаче, он раз за разом отвергает предложения помощи и в конце концов, рассорившись со всеми, уходит из города, чтобы начать новую жизнь. После длительных скитаний он попадает в отдаленную деревню, где живет крестьянка с маленьким сыном. Песни пхансори завораживают женщину, она начинает ходить к нему по ночам. Вскоре выясняется, что она беременна. Чтобы избежать позора, крестьянка решает покинуть деревню и разделить скитальческую судьбу Ю Бона. У нее рождается дочь, но сама она умирает при родах.
Ю Бон воспитывает дочь и приемного сына как умеет, надеясь сделать из них великих пхансори. Они странствуют по Западным провинциям, выступая в кабаках и на ярмарках. Ю Бон требует от детей беспрекословного послушания, бьет их палкой – в общем, ведет себя как нормальный злыдень-учитель из восточной классики. Пасынок Дон Хо, так и не простивший Ю Бону смерть матери, мечтает убить отчима, но никак не может решиться. Однажды, когда Ю Бон валяется пьяный, Дон Хо заносит над ним булыжник, но боится нанести удар. В этот момент Ю Бон открывает глаза и костерит пасынка за нерешительность. Дон Хо бросает булыжник на землю и убегает, поклявшись никогда больше не возвращаться домой.
Теперь вся надежда – на дочь Ю Бона, Сон Ха, у которой рано обнаружились незаурядные способности пхансори. Однако после побега брата Сон Ха перестает петь и вообще теряет интерес к жизни. Ю Бон дает дочери выпить «целебный взвар», от которого та слепнет. Хозяин трактира, где они остановились, предполагает, что Ю Бон ослепил дочь, чтобы она никогда его не бросила. Однако Ю Бон уверяет, что сделал это ради ее же блага: для того чтобы стать великим пхансори, ученик должен испытать большое горе. И действительно, ослепнув, она снова начинает петь и решает посвятить жизнь искусству пхансори.
Отец и дочь продолжают странствовать, он возит слепую в самые отдаленные области, где живут старые мастера корейской оперы, просит их обучить ее своей технике. Сон Ха поет все лучше, но дела у отца и дочери идут плохо: у них нет денег, к тому же Ю Бон заболевает чахоткой. Чтобы прокормиться, ему приходится воровать пищу у крестьян. Сам он почти ничего не ест, все отдает дочери и врет ей, что это местные жители так вознаградили их за прекрасное пение. Но его обман вскоре открывается: крестьяне, обнаружив кражу, пускаются в погоню за стариком и, поймав, избивают его до полусмерти. Сон Ха ползает перед ними на коленях, умоляя, чтобы они били не его, а ее. Крестьяне прекращают побои и велят бродягам убираться из деревни.
Горемыки-пхансори отправляются в поисках пристанища и в конце концов набредают на заброшенную хижину на вершине холма. Ю Бон говорит дочери, что это и есть счастье: из этой хижины их никто не выгонит, и они смогут провести здесь остаток дней, совершенствуясь в искусстве пения. Через несколько дней Ю Бон умирает от чахотки и перенесенных побоев. Слепая девушка находит приют в трактире, которым владеет одинокий старик, недавно потерявший жену. Сердобольный трактирщик предлагает певице ночлег, и она остается жить у него в подвале. Поет она все реже и постепенно совсем оставляет это занятие.
Тем временем выясняется, что Дон Хо, который занимается теперь торговлей целебными травами, уже несколько лет разыскивает сестру. Он попадает в трактир, где она живет, просится на постой и справляется у хозяина, нет ли в окрестностях певицы пхансори. Трактирщик приводит слепую Сон Ха, и Дон Хо, не выдав ей, кто он, просит ее спеть. Она начинает петь, он аккомпанирует ей на барабане. Наутро Дон Хо уходит, так и не открывшись сестре. Но Сон Ха и сама догадалась; когда хозяин спрашивает, куда подевался давешний постоялец, она отвечает: «Брат уже уехал». Через несколько дней после визита Дон Хо Сон Ха собирает пожитки и, несмотря на уговоры трактирщика, уходит в никуда.
Когда мы вышли из театра, Джулия снова завела речь о том, что лучшее в литературе черпается из Библии, а заодно сообщила, что Ким и Пак тоже собираются уходить из Рокривера: Ким выходит на пенсию, а Пак подписался на долгосрочную миссию не то в Анголе, не то в Камеруне. «Ты остаешься один на один с начальством». Потом она заговорила о чем-то еще. Я машинально поддакивал, пытаясь переварить только что увиденное. Что хотел сказать автор?
Главная загадка – сам жанр пхансори. Традиционное пение, которое на Западе называют корейской оперой. Непривычное, исступленное, завывающее и завораживающее, оно долго не выходило у меня из головы. Это и шаманское камлание, и театр, и площадное сказительство гриота. В голосе исполнителя – надрыв, бесприютность, горе, излитое в песне. Это игра на разрыв аорты, но предназначена она главным образом для развлечения ярмарочной толпы. Разрыв между творческой интенцией и возможной отдачей здесь велик, как нигде. Попросту говоря, певец ставит все на карту искусства, которое никем не может быть оценено. Более того, главный герой трагедии жертвует не только собственным благополучием, но и благополучием дочери, и тут мы оказываемся в той области, где – по Кьеркегору – вера противостоит морали. Кажется, история Ю Бона – это что-то вроде жертвы Авраама. Но у безумца Авраама есть Господь, который должен в последний момент отвести нож от Исаака (определение веры). А у безумца-пхансори такого Господа нет, и весь смысл его искусства изначально заключается в том, что ножа не отвести.
* * *
…В ее последний рабочий день на утреннем совещании подавали бублики со сливочным сыром. Таким незатейливым образом у нас отмечают любые проводы.
Ли
За ужином начальник объяснял мне этику и психологию семейной жизни. Когда он, Ли Кан Хо, был в моем возрасте, у него было трое маленьких детей, но он почти никогда их не видел. Днем – пациенты, ночью – наука. Просиживал в лаборатории до трех утра. Детей растила жена. Только так и можно преуспеть. Муж должен быть Одиссеем, открывателем новых миров; жена должна его ждать. Но, думал я, если Одиссей будет слишком долго отсутствовать, у жены и терпение может пенелопнуть… Ли Кан Хо подливал мне соджу и предавался воспоминаниям. Надежды юности, уроки зрелости. Много, много работал, а надо было еще больше. Он хочет, чтобы я видел в нем не столько начальника, сколько наставника. Хочет, чтобы у меня – в отличие от него – все получилось. А разве у него что-то не получилось? Да, очень многое. Из всего, что не получилось, надо склеить что-то одно – это и будет жизнь.
Если ты жаждешь постичь загадочную корейскую, индийскую или, скажем, пуэрториканскую душу, устройся на работу под началом корейца, индуса, пуэрториканца, и ты получишь национальную специфику в полном объеме. Волей-неволей усвоишь обычаи и традиции. Более эффективного способа «культурного погружения» не придумать. Особенно, если дело доходит до алкоголя. Исповедь – часть питейного этикета. Так же как манера отворачиваться и прикрывать рот рукой, когда пьешь соджу в присутствии старшего (об этом меня предупредила Джулия). Ли Кан Хо придавал попойкам с подчиненными немалое значение; они были даже вписаны в бизнес-план. Но если на следующий день, столкнувшись с ним в больничном коридоре, я благодарил его за вчерашний ужин, он делал каменное лицо: на работе надо говорить о работе. Из всех интонационных масок восточного театра он предпочитал маску суровой непроницаемости и лишь изредка, залучив меня в кабинет после окончания рабочего дня, пускался в откровения. Тогда, перевоплотившись подобно диккенсовскому Уэммику, он снова вел беседу «не как начальник, а как наставник».
Впрочем, и в рабочие часы суровые складки на его лице нет-нет да и разглаживались – например, в то осеннее утро, когда он неожиданно принес на консилиум ореховый кекс. «Это моя жена для всех испекла», – с виноватой улыбкой пояснил он. Уже потом, задним числом, мы узнали, что угощение было приурочено к его дню рождения. Это было трогательно. «Как вы отпраздновали свой день рождения, доктор Ли?» – «Ничего особенного. Посидели с женой, посмотрели телевизор».
Его жена – Пенелопа, отправившаяся в плаванье вместе с Одиссеем. Тридцать лет назад они приехали в Америку без гроша в кармане; первые годы бедствовали. Ли работал круглосуточно, а она самостоятельно растила троих детей. Мне запомнилась история о том, как они ездили на конференцию в Чикаго, и, пока Ли сидел на докладах, жена показывала детям город. Старшему было пять, младшему – год. Она таскалась с ними по всему Чикаго – когда на общественном транспорте, а когда и пешком. Те, у кого есть дети, поймут, что это за подвиг. «Но это было сто лет назад, наши дети давно выросли, и мы им больше не нужны». Старший сын работает бухгалтером, дочь – клерком в банке, младший сын – еще в колледже, но учится через пень-колоду. Наверстывает ли их отец упущенное, собирая вокруг себя учеников, или просто роль наставника ему больше по душе, чем роль отца?
Даже теперь, когда он стал начальником, Ли продолжал приходить на службу раньше всех, а уходил последним. Как врач он вызывал безусловное уважение, хотя его фанатичный подход к работе вселял в меня, некорейца, определенный страх. Иногда он представлялся мне эдаким сонби, самоотверженным конфуцианцем. Разумеется, этот образ имел весьма отдаленное отношение к реальности. Романтический стереотип. Так еще в Москве, в самом конце восьмидесятых, мы всей семьей смотрели премьеру какого-то диснеевского мультфильма по ЦТ, и родители повторяли, видимо, популярную в те годы сентенцию: «Нет, все-таки американцы – чистые дети». Чем меньше мы знаем, тем афористичнее наши суждения. Чужая культура – это черный ящик фокусника, куб, в котором ютятся неведомые кролики, голуби и бог весть кто еще. Куб – фигура таинственная именно в силу своей простоты. Это уже потом, при ближайшем рассмотрении, куб оказывается тетраэдром, икосаэдром, додекаэдром. Взгляду открывается все больше граней, пока многогранник не превратится наконец в шар. А шар – идеальная фигура, везде одинаковая. Корейское уже неотличимо от русского, русское – от американского. Но первое суждение, каким бы наивным оно ни было, наложило свой отпечаток; книги о конфуцианстве, как и диснеевские мультики, еще не утратили своей притягательности. Словом, мне хотелось романтизировать. Тем более что я только что прочел повесть Ли Мун Ёля «Золотой феникс» и воображал моего начальника в роли старого мастера живописи Ким Сок Тама. А я тогда, получается, кто? Ко Чжук, ученик Сок Тама, который на старости лет сходит с ума и сжигает все свои работы? Нет, все-таки корейцы – чистые дети.
Похоже, Ли, хоть и прожил здесь полжизни, тоже плоховато знал американцев. Во всяком случае, такое ощущение у меня возникало, когда мы ужинали – уже не в корейском, а в итальянском кафе – в компании биологов, Майкла и Пэтти Томпсонов, и мой начальник ни с того ни с сего заводил речь о Кентуккийском дерби. Далее следовала натужная и совершенно бессодержательная беседа: южане Томпсоны знали о Кентуккийском дерби не больше, чем Ли, то есть не знали ничего. У меня же не хватало смелости объяснить боссу, что наши коллеги, хоть и южане, но не из Кентукки, а из Луизианы, и, стало быть, его разговоры о скачках – мимо кассы. Признаться, у меня вообще не было желания что-либо говорить в их присутствии, но Ли упорно продолжал таскать меня на эти ужины. Супруги Томпсоны были большими шишками в системе институтов здоровья, и мой начальник надеялся установить с ними сотрудничество («У них большая лаборатория, много связей, нам это может быть полезно»). В результате мне раз за разом приходилось наблюдать, как он, обычно такой степенный и неприступный, нервно хихикает, безуспешно пытаясь овладеть искусством «смол-ток», а они разглагольствуют на медицинские темы. Последнее особенно действовало на нервы. Как будто их лабораторные исследования делали их экспертами в клинической практике и служили гарантией от онкологических и других заболеваний, да и вообще от смерти. «Недавно говорил с Бобом – вы знаете Боба Дженкинса из Чикагского университета? – так вот у него, оказывается, нашли рак мозга. Я ему говорю: Боб, ты не валяй дурака, обращайся только к лучшим специалистам, это тебе не триппер, тут нужны только самые лучшие…» Вальяжная поза, самодовольный тон, вкусный эспрессо мелкими глотками. Ли кивал, прихлебывал в пандан и никак не мог перевести разговор на нужную ему тему.
В глубине души я завидовал их невозмутимости. Какое-то поразительное ощущение собственной защищенности, вера в то, что «ад – это у других». Возможно, в случае Ли невозмутимость была всего лишь еще одной маской, но даже это вызывало зависть. У меня и маску-то натянуть не получается – настолько крепко во мне засела неврастеническая тревога. Я живу с ней уже много лет; может быть, с тех пор, как я впервые попал в Нью-Йорк. Но Нью-Йорк – единственный город на свете, где я дома. И моя тревога – тоже очень домашнее чувство, родное, как окружающий меня город. Повседневная жизнь его разношерстных районов сосредотачивает в себе то, что принято называть «культурным багажом», привезенным из Старого Света (где бы он ни был). Все предстает как бы в сгущенном виде. И точно так же работа в больнице концентрирует экзистенциальную подоплеку человеческой жизни, ее незащищенность и оцепенение. Страх – с детства, но теперь, повзрослев, начинаешь понимать, что это нормально, все так живут. Взросление одомашнивает страх. Как будто все время идешь по канату и при этом стараешься наслаждаться прогулкой, любоваться видом… Что же касается Итаки, ее нет как нет, а если и есть, это, по-видимому, ничего не меняет.
Снова утро
Туманным ноябрьским утром работники больницы (явка обязательна), пациенты (их меньшинство), а также некоторое количество активистов, энтузиастов и просто зевак собираются в отдаленной части Квинса на ежегодный марш «Против рака молочной железы». Все пожертвования пойдут в пользу какого-то важного фонда. Хотя до зимних праздников осталось больше месяца, в зябком воздухе уже звенит «’Tis the season to be jolly…»[18], непременный аккомпанемент сезона. Скоро пойдут сплошной чередой офисные вечеринки с красными колпаками, приторным пуншем, натужным весельем и подведением годовых итогов. Под Рождество все скинутся на подарки больным детям. Мы устроим утренник с Санта-Клаусом, играми и призами. Среди тех, кто лечится в нашей больнице, много бедных, так что подарки детям (а заодно и вспомоществования их родителям) очень кстати. У каждого из врачей в отделении лучевой терапии имеется дополнительная специализация; я специализируюсь на педиатрической онкологии. Получатели подарков – Патрик, Дженни, Фернандо – мои пациенты, и этот утренник – единственное предпраздничное мероприятие, которое имеет значение. Все прочее – бессмысленная обязаловка. Ни уму ни сердцу. Что за фонд? Кому и как он помогает?
Прижимая к груди пенопластовый стаканчик с кофе из Dunkin’ Donuts, я примыкаю к заспанной толпе участников и сразу замечаю в ней знакомых. Заботливая Чжи Ён помогает Чжэ Хуну приколоть к лацкану розовую ленточку. У каждого человека должна быть ленточка, кому какая по душе. Мы живем в эпоху ленточек и маршей.
– Ленточный глист, вот что это такое! – зубоскалит Чжэ Хун. – Терпеть не могу всю эту мишуру. Самые трудные пациенты – это тетушки с протоковой карциномой in situ, которую вылечить – раз плюнуть. Пока они у тебя лечатся, перед ними надо ходить на цыпочках. Слова не скажи. А когда вылечатся, будут всю оставшуюся жизнь щеголять этими ленточками, называя себя «выжившими».
– Это потому что ты мужик, не понимаешь, – парирует Чжи Ён, – и к тому же ты лицемер. Когда эти тетушки потом год за годом приходят к тебе на прием с подарками и называют спасителем-чудотворцем, ты, я думаю, не особо сопротивляешься.
– Нет, тех, которые с подарками приходят, люблю. Не люблю тех, которые мелодраму разводят и других поучают. У меня в приемной сидит женщина, у нее рак поджелудочной, ей жить осталось, если повезет, месяцев семь-восемь. А рядом сидит такая тетушка и утешает: у меня, мол, тоже был рак, а я вот выжила.
– Ну и хорошо, что утешает.
– Да? Я бы на месте той женщины ей за такое утешение в лицо плюнул.
– На ее месте плюнул бы, а на своем месте растекался в медовых речах и сладких улыбках. А то я тебя не знаю.
– По-видимому, нет, не знаешь, – Чжэ Хун продолжает спорить, но уже без твердости в голосе.
Конечно, он растекался, расплывался, рассыпался. Стелился перед глупой и сумасбродной тетушкой. Я бы вел себя точно так же. Все мы достаточно намуштрованы, знаем, что «клиент всегда прав». Есть пациенты, чья врожденная или приобретенная презумпция собственного бесправия заставляет тебя выполнять функцию не только врача, но и адвоката. Чаще всего эти люди действительно нуждаются в защитнике, но в их беспомощности заложена определенная стратегия выживания. Надо сказать, стратегия работает: ведь так или иначе за этих пациентов всегда болеешь душой и, сам того не сознавая, стараешься больше обычного. Есть и другая крайность: пациенты, которым ты вынужден угождать. Потакать прихотям, выслушивать монологи. Перекроенные пластической хирургией дамы с Парк-авеню, «тетушки» с карциномой in situ. В Квинсе такие попадаются нечасто, зато в манхэттенской больнице, где я проходил ординатуру, они сплошь и рядом. Впрочем, и в Рокриверском госпитале время от времени лечатся разнообразные ВИПы. Каких только пациентов не было: саудовский принц, вождь индейского племени, итальянский мафиозо.
Принц в куфии-арафатке держался не слишком дружелюбно, сразу распознав во мне еврея, однако требовать другого врача не стал и под конец даже расщедрился на коробку засахаренных фиников («бери, это меджул, лучший сорт»). Куда проще было иметь дело с индейским вождем. Тот к своему онкологическому диагнозу отнесся стоически: «Вылечите – хорошо, а нет – тоже ладно». Залучив меня на разговор по душам (троим увальням-сыновьям было приказано ждать за дверью), вождь жаловался лишь на избыточный вес: «У нас в роду все большие. Широкая кость. Хороший аппетит. Теперь мне говорят, надо худеть. Я и сам понимаю, но ничего не могу поделать. Даже у меня есть слабости…»
Что же касается мафиозо, то был вылитый персонаж Скорсезе, если представить себе, как эти персонажи должны выглядеть в старости. Бровастый, одетый с иголочки, крепко надушенный каким-то стариковским одеколоном. Подчеркнуто приятный в общении, почти приторный. «Старость не радость, доктор, от этого никуда не денешься. Всю жизнь со здоровьем везло, если не считать язвенного колита. Колит несильный, в самой легкой форме. Да и нынешний рак прямой кишки – тоже несильный, мы ведь его с вами вылечим, не правда ли, доктор? С вашими-то мозгами и умением, да с моим упрямством. Я же страшный упрямец. Как меня только жена до сих пор терпит? Она, бедняжка, в последнее время тоже хворает. Альцгеймер. Но несильный, в самой легкой форме. Как будто его и нет вовсе… Поговорим-ка лучше об опере. Если вы теперь мой доктор, мне необходимо знать: любите ли вы бельканто?» Дальше – несколько баек про Джузеппе Ди Стефано[19], который приходился нашему капореджиме каким-то дальним родственником; про Паваротти, которого капореджиме угощал ужином всякий раз, когда тот бывал в Нью-Йорке. И вдруг светская беседа обрывается, лицо пациента принимает совсем иное выражение: «Значит, мы с вами обо всем договорились, да, доктор? Я в вас верю». Один быстрый взгляд, и снова – сахар-медович, треп про бельканто. Но этого взгляда достаточно, чтобы душа ушла в пятки. Спокойствие, только спокойствие. Держать фасад, жать руку («И мне приятно!»). Не успел я выпроводить любителя оперы, как в кармане завибрировал телефон: СМС от доктора Ли. Просьба зайти к нему в кабинет при первой возможности.
– Вызывали?
– Молодец, хорошо справился с консультацией. То есть я, конечно, не знаю, меня там не было, но уверен, что ты справился хорошо, – похвалил завотделением. Оказалось, «во все время разговора он стоял позадь забора». Под дверью подслушивал.
– Спасибо, доктор Ли.
– Страшно было?
– Страшновато.
– Начнешь лечить, перестанешь бояться. По себе знаю. Мне тоже приходилось иметь дело с такими пациентами.
И правда: когда во время КТ-симуляции вводишь катетер в прямую кишку, уже не имеет значения, кто перед тобой, Аль Капоне или мать Тереза. Примат физиологии над историей.
В назначенном месте у входа во Флашинг-Медоус-Корона-парк наш немногочисленный отряд сливается с другой, более плотной колонной, а затем приток из Рокривера впадает в основное течение и без остатка растворяется в розовом мареве флажков и помпонов, плывущем мимо «Унисферы» по направлению к теннисному стадиону Луиса Армстронга. «Жизнь в розовом цвете». Тут бы и сбежать. Но сбежать уже нельзя: вот-вот подтянутся люди с камерами, станут интервьюировать участников. «Если к нам подойдут, Чжэ Хун, ты будешь нашим представителем, расскажешь им про карциному in situ». Нет, Чжэ Хун не согласен. Да и я не горю желанием сегодня толкать речь. Репортер, сующий мне микрофон, ожидает услышать какую-нибудь «историю успеха», трогательную байку со счастливым концом и непременной моралью – вроде тех, которые рассказывают политики во время предвыборной кампании. «Я помню Дженнифер из штата Висконсин, мать-одиночку, вырастившую четверых детей. Какие только преграды не вставали на ее жизненном пути! Но что бы ни случалось, она всегда…» Увы. Моя память работает по-другому, истории про «Дженнифер из штата Висконсин» не запоминаются.
Начинается дождь, и марширующие как по команде раскрывают зонты. Некоторые даже запаслись зонтами розового цвета. Розовое на сером фоне. Пока шагаешь со всеми в ногу, можно ни о чем не беспокоиться. Идешь себе и идешь. Ходьба помогает. Особенно в дождливые дни, когда всех бросает в сон – даже тех, кто сейчас грозит смерти парадными помпонами и флажками. Помогает вообще любое движение. Можно уйти в себя. Надеть мысленные наушники, слушать внутреннюю аудиокнигу. Только не спать.
Когда подъем в пять утра, ко второй половине дня сонливость обволакивает тебя, хочешь ты того или нет. Рано ложиться, рано вставать, чтобы потом весь день вспоминать вчерашний сон на тему memento mori. Подобное снилось и раньше. Мнительность и ипохондрия – свойства любого зрелого человека. Но во сне, который я видел позапрошлой ночью, все было настолько связно, как будто это – готовый киносценарий. Что-то вроде «Бьютифул», только без Хавьера Бардема. В моем сне главный герой – врач-онколог, привыкший сообщать пациентам с диагнозом «рак щитовидной железы» хорошие новости: прогноз крайне благоприятен; от этой болезни, как и от протоковой карциномы in situ, не умирают. И вот ему самому приходят результаты анализов. Странные показатели, подозрение на… Разумеется, надо еще проверить. Но он уже все знает: ведь и раньше всплывали эти «странные показатели», только он испугался и убедил себя, что все в норме. Теперь же он точно знает (можно и не проверять), что это рак щитовидки с метастазами. Сидя на приеме в собственном отделении, он замечает, что с ним разговаривают точно так же, как он обычно разговаривает со своими пациентами. И привычные слова утешения (есть шанс, можно вылечить… никаких гарантий, но сделаем все возможное) звучат чудовищно, обнаруживая всю отчужденность профессионального сострадания. Он теряет терпение, выговаривает медсестре: знаете, я ведь тоже врач. На самом деле он предпочел бы полностью положиться теперь на своих коллег, верить их расплывчато-обнадеживающим речам; верить, что их познания намного превосходят его собственные. Но вернуться в состояние неведения нельзя. Он-то знает, что его ждет. Лишь один из врачей в отделении по-прежнему держится с ним, как с коллегой, а не с пациентом. «Да, старик, есть метастазы в легких, в кости…» «Это значит, осталось два года или меньше, так?» «Ну, старик, ты же сам все знаешь». И тут герой моего сна понимает, что не смог бы – именно потому что «сам все знает» – бороться так, как борются его пациенты, обладающие силой неведения. «Что бы вы делали, если б знали, что вам осталось жить два года?» Ушел бы с работы? Совершил кругосветное путешествие? Написал книгу? На все это способны люди сильные. Раньше он был уверен, что он тоже сильный. Но теперь он чувствует, что у него не хватит душевных сил ни на один из этих проектов. Как писать, путешествовать, жить, зная срок, когда смертный приговор должен быть приведен в исполнение? Невозможно. И – по сценарию «Бьютифул» – первая мысль о дочери. О том, что она не запомнит его, если он умрет, когда она будет еще маленькой. «Помни, помни меня», – заклинает Хавьер Бардем. Вот откуда все слезы.
Я вспоминаю пациента Стэнли с мелкоклеточной карциномой легкого: «Моей дочери 13 лет. Скажите, доктор, я доживу до ее выпуска?» Вспоминаю, что по результатам какого-то опроса, проведенного Национальным институтом здоровья, большинство смертельно больных людей признались, что, если бы им отпустили еще год или два, они предпочли бы провести это время дома с семьей. Просто побыть с родными. Господи, дай время, отсрочь расставание, насколько это только возможно. Проснувшись, я плетусь на кухню, завариваю себе кофе. В шесть ноль-ноль (5:50? 6:10?) я завожу машину, выезжаю из гаража. Дождь зарядил надолго. Над Лонг-Айлендским шоссе тускло светит табло с лозунгом, призывающим не спать за рулем: «Stay awake, stay alive».
апрель – декабрь 2015Вудсайд
Там, где седьмой маршрут нью-йоркского метро встречается с железной дорогой Лонг-Айленда, есть район, как две капли похожий на Брайтон-Бич. Спустившись с надземной платформы в мезонин с турникетами и решеткой, прошмыгнув мимо надзирателя в окошке кассы, ты оказываешься на очень знакомой улице. Останавливаешься на углу, где тебя обдает паром из полосатой трубы, и машинально начинаешь вертеть головой, чтобы понять, с какой стороны океан. Но выхода к океану здесь нет. Это не Брайтон-Бич, а Рузвельт-авеню. Поперечные улицы не пронумерованы и, вероятно, ведут в никуда. И все же сходство с брайтонской обстановкой настолько разительно, что ты никак не можешь разувериться в своем узнавании: нет-нет, это то же самое пространство. Как будто снова попал в квартиру, в которой бывал десятки раз, – впервые с тех пор, как съехали прежние жильцы и вселились новые. Новые квартиранты даже не потрудились переставить казенную мебель; рокировка тумбочки и комода – это все, на что их хватило. Зато вместо плаката со звездами российской эстрады в коридоре висит теперь другой – с портретом певицы Чарис и надписью на тагальском. Оказывается, Маленькая Манила и Маленькая Одесса – города-побратимы.
Тридцать лет назад филиппинские эмигранты предпочитали селиться на Нижнем Ист-Сайде – в общежитиях для работников больниц Бет Израэль и Сент-Винсент. Тогда, в середине восьмидесятых, в этих учреждениях, обслуживавших весь нижний Манхэттен, обнаружилась нехватка медсестер и санитаров, и филиппинская диаспора с готовностью заняла свободную нишу. На углу Первой авеню и Четырнадцатой стрит пооткрывались рестораны и видеосалоны с тагальскими названиями. Паства, привыкшая к проповедям на илокано, илонго и себуано, хлынула в католические церкви Грамерси. Но этот этнический анклав просуществовал недолго. В конце девяностых администрация Нью-Йоркского университета озаботилась скупкой недвижимости в районе южнее Юнион-сквер. Цены на аренду пошли вверх, и к началу нового века филиппинских заведений на Нижнем Ист-Сайде практически не осталось. Теперь Маленькая Манила ютится под метроэстакадой на Рузвельт-авеню, а профессия медсестры стала для нью-йоркских филиппинцев потомственным ремеслом. Так в Москве во времена моего детства ассирийцы ассоциировались с чисткой обуви. В современном Нью-Йорке разделение труда по национальному принципу – дело обычное. В маникюрных салонах тянут лямку корейцы, в ювелирной торговле – хасиды, в строительных подрядах – итальянцы.
В нашем отделении работают три медсестры-филиппинки, и, хотя по возрасту лишь одна из них годится мне в матери, все три изъявили желание меня усыновить. Очевидно, я со своей стоптанной обувью и порезами от бритья произвожу на них впечатление человека, нуждающегося в уходе. Вот только почему их материнская забота проявляется главным образом в кормежке? Уж что-что, а усиленное питание мне точно не нужно. Я протестую, но не могу удержаться и пробую все, что они приносят. Устоять невозможно. Особенно если учесть, что одна из них, Рена, имеет еще и образование шеф-повара. Как правило, мой обеденный перерыв длится не больше десяти минут, но за эти минуты я успеваю отдать должное деликатесам и даже записываю названия. Временами я получаю и другие полезные сведения. Например, недавно я узнал, что девушкам, которые поют во время приготовления пищи, суждено остаться незамужними.
«Я знаю, вы интересуетесь нашими поверьями, доктор. Вот еще одно прибавление в вашу коллекцию…» За последние три года я не выучил ни слова по-тагальски, но зато чувствую себя настоящим экспертом по части филиппинских поверий. Многие из них, понятно, связаны с рождением и смертью. Беременным женщинам не следует сидеть на ступеньках, зашивать себе платье или носить колье. Пуповину новорожденного рекомендуется привязывать к лестнице. Если родители хотят, чтобы из их ребенка вырос хороший оратор, следует кормить его супом из свиной матки. А вот листья моринги есть не стоит, особенно на похоронах: с помощью этих листьев покойник может потянуть за собой родных и близких. Вообще я заметил, что плохих примет больше, чем хороших, и они как-то самобытнее («…каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»). Плохой приметой считается открывать зонтик в помещении, подметать пол в шесть вечера или когда рядом играют в азартные игры, дарить возлюбленной обувь, причесываться по ночам… Несметное количество примет – вот что я знаю о филиппинской культуре. Да и не только о филиппинской. Иногда мне кажется, что весь культурный багаж эмиграции состоит из одних рецептов да суеверий. Это базовые вещи. Возможно, и то и другое необходимо для душевного покоя: еда создает ощущение домашнего уюта, суеверия – ощущение защиты. Ни на что другое не хватает ни сил, ни времени.
Накануне Рождества, подготовка к которому начинается еще в сентябре, в отделении устраивают пиршество камайан. Обычай требует, чтобы гости ели угощение руками из общей тарелки, но для нас, не в меру брезгливых американцев, припасены пластмассовые приборы. Все здесь – и подача, и блюда, и сами люди (их открытость, заботливость, хлебосольство) – напоминает близкую моему сердцу Африку. Да-да, скорее Африка, чем Азия. Недаром ареал австронезийских культур, к которым принадлежит и филиппинская, простирается аж до Мадагаскара. Впрочем, там, где мне мерещится Африка, другие видят Латинскую Америку. И подвыпивший гинеколог Майкл Хауэрд, запихнув в рот последний ломтик лонганизы[20], с чавканьем признается, что никогда не мог отличить филиппинцев от мексиканцев. Да и как тут отличишь? И те и другие – приземистые, смуглые, слегка раскосые. У всех испанские фамилии. Поди разберись.
– Конечно, мексиканцы ведь католики, как и мы. Стало быть, они – наши братья, – дипломатично отвечает Рена.
– Все люди – братья! – с пьяным энтузиазмом подхватывает Майкл Хауэрд. Ему хорошо, он в восторге от собственного великодушия.
– А вот это блюдо, – перебивает его старшая медсестра Тельма, снимая крышку с кастрюли, до краев наполненной густым варевом, – это блюдо оценят только филиппинцы и еще, может быть, доктор Стесин. Он у нас – настоящий пиной[21], даже балют[22] уважает. Для него готовить – одно удовольствие. Не то что для моих детей. Тем только спагетти да гамбургеры подавай. Не зря, видно, их «бананами» дразнят. Желтые снаружи, белые изнутри. – Бросив быстрый взгляд на Рену, Тельма обрывает свой монолог: при Рене о детях не надо.
Муж Рены тоже работает медбратом в нашей больнице, кажется, в отделении анестезиологии. В прошлом году я лечил их дочь, восьмилетнюю Розу, когда у нее нашли саркому Юинга с метастазами в легких и позвоночнике. Облучал пояснично-крестцовую область, чтобы предотвратить паралич ног и хроническую дисфункцию мочеиспускания. Рост опухоли, сдавливающей спинномозговые корешки, удалось приостановить, метастазы в легких – тоже. Но вот уже год, как Роза не встает с постели. За год постельного режима у нее атрофировались мышцы; теперь ей нужна интенсивная физиотерапия. Роза от физиотерапии отказывается. Раз в неделю ей капают химию. До болезни она занималась балетом и художественной гимнастикой. «Она у себя в классе считалась главным заводилой!» – повторяет Рена с дрожью гордости и умиления, превозмогая привычный комок. Даже после того как Розе поставили диагноз, она старалась не падать духом; первое время подруги навещали ее в больнице. Потом ей стало совсем плохо. Девочка уткнулась в iPad и перестала реагировать на окружающих. За полтора месяца она не сказала ни слова. Знакомая знахарка советовала использовать средства от дурного глаза и мутной воды («усог ат пасма»). Детский психиатр прописал антидепрессанты. Поверили психиатру. Теперь Роза общается – с родителями, с врачами, с учителем, который приходит к ней на дом. Она согласна мириться, но на своих условиях. Родителям велено никогда больше не приводить к ней подруг и не заставлять ее заново учиться ходить. Единственный, с кем Роза готова играть, – это ее младший брат Сальвадор. У пятилетнего Сальвадора тяжелая форма аутизма. Он не говорит и не отзывается на свое имя. Но родители утверждают, что он привязан к старшей сестре. Когда Роза заболела, он очень переживал. Что с ним будет, когда ее не станет? Шансов на выздоровление у Розы немного.
Тельма замолкает, с опаской поглядывая на Рену, но Рена ее не слушала – она поглощена другим разговором. Ее собеседники, Мэнни и Бинг, перекрикивают друг друга, подражая участникам политического ток-шоу на GMA Pinoy TV. Их спору уже почти тридцать лет, и за это время аргументов не прибавилось. Появились, правда, новые имена, но наши спорщики чувствуют себя комфортнее среди имен и событий прошлого века. Диктатура Маркоса, надежды, связанные с Желтой революцией и приходом Корасон Акино, ее реформы, изменения к лучшему – увы, столь же недолговечные, как независимость, провозглашенная в 1898 году генералом Эмилио Агуинальдо. Клептократия толстяка Эстрады. Борьба с Исламским освободительным фронтом Моро, более известным как MILF (дети Тельмы всегда веселятся, когда слышат про MILF; кажется, у американской молодежи эта аббревиатура означает что-то совсем другое).
За тридцать лет от воспоминаний о Маниле осталось несколько общих мест – стандартный перечень красот с туристических открыток. Колониальная архитектура старого города Интрамурос, форт Сантьяго, Манильский собор, церковь св. Августина, базилики св. Лоренцо Руис и св. Себастьяна, памятник национальному герою и мартиру Хосе Ризалю, автору романа «Noli me tangere». Кто из молодых читал этот роман? Если что и читали, то лишь подростковую литературу вроде Мигеля Сихуко – тоже, кстати, общее место.
«Сколько всего утекло за эти тридцать лет, – сокрушается Бинг, – страшно подумать». Некогда бездонное водохранилище памяти выглядит теперь, как лужа на третий день после дождя: у кромки темной воды все еще блестит бензиновая радуга или виднеется вафельный след от шины грузовика, но пенопластовые фрегаты уже не пускаются в дальнее плаванье. Скоро этот водоем высохнет до конца… Время от времени еще всплывают кадры из прежней жизни; снится жаркий, перенаселенный город – такой, каким его когда-то видели изо дня в день. Разноцветные ретроавтобусы «Джипни», ползущие по Макати-авеню в сторону кольцевой дороги ЭДСА. Круглосуточные гуляния по бульвару Роксас. Толпы манильской молодежи, перетекающие из пустого в порожнее, то бишь из ночных клубов в забегаловки Jollibee и Tapa King, где жертвам похмелья уготован обильный завтрак из яичницы, мяса и риса («тапсилог»). Снится променад вдоль западного побережья острова Лусон, шпалеры кокосовых пальм. Уличные торговки с венками белых и желтых цветов, нанизанных на зубную нитку. Что еще вспомнить? Запахи водорослей, выхлопа, тропической влаги и острой приправы, смутно напоминающей японскую горчицу васаби… Но запахи никогда не снятся, вот в чем беда. Странное, несправедливое устройство мозга: ни запах, ни вкус не проникают в сны.
Все вращается вокруг еды. Еда заменяет вкус и запах прошлого (то, что никогда не снится), компенсирует отсутствие времени, денег и возможности поехать домой. Еда – это доступный праздник. Но вот он кончается, сытный камайан. Пора возвращаться на рабочее место, заниматься делом. В коридоре в ожидании своей очереди лежит на носилках моя пациентка Мария. У нее рак миндалины. Она не может глотать, ее кормят через гастростомическую трубку. За последние три месяца она похудела на тридцать пять килограмм. Пока Тельма промывает гастростому физраствором, Мария тихо жалуется на жизнь. Англо-тагальский суржик. Я понимаю каждое третье слово, но общий смысл улавливается легко: муж злится на Марию за то, что она перестала ему готовить. В последнее время он все чаще приходит домой пьяный, устраивает скандалы, бьет посуду. «Где моя гребаная курица адобо? Где каре-каре?»[23] Мария никогда не думала, что он окажется таким черствым болваном. «Я ему говорю: давай-давай, паре[24], круши все, что видишь! Забыл небось, что сегодня пятница, а разбить стакан в пятницу – обеспечить себе семь лет несчастья?»
Тельма, как может, успокаивает Марию, но ее утешительные слова перекрывает скороговорка телерепортажа. В новостной программе Pinoy TV мелькают фотографии трупов на улицах Манилы. Затем показывают президента Дутерте; он призывает граждан быть беспощадными к наркоманам и наркоторговцам (пришло время очистить страну от скверны). Глядя на ораторствующего Дутерте, я вдруг понимаю, кого он мне напоминает: того японского актера, который всегда играет в фильмах про якудза… Такэси Китано! Буквально одно лицо. Я радуюсь своему открытию, но благоразумно решаю держать его при себе. Обе женщины вперились в телеэкран. Кажется, речь президента действует на них гипнотически. «Хорошо все-таки, что его выбрали, – устало замечает Мария. – Уж он-то, я думаю, наведет порядок».
январь 2017Флэтбуш
Никак не могу заставить себя ответить на то единственное письмо, которое Иван прислал мне по возвращении домой. Боюсь писать ему, не хочу потом ждать ответа. Спрашиваю у Анеля: «Может, ты позвонишь?» Анель тоже боится, отказывается. «Международный звонок – целое дело, док. Да и зачем нам ему звонить? У них там в Порт-о-Пренсе и без нас небось забот хватает…» Анель, конечно, прав. К чему эти письма, звонки? Чтобы узнать, жив ли абонент? Удовлетворить любопытство, прикрываемое фиговым листом участия? Не наше дело. Теперь он дома, и мы никогда не узнаем о его смерти.
Иван – это Yvon (ничего русского). Иван Лаферьер, гаитянец. Тридцать восемь лет, то есть мой ровесник. Среди пациентов нашего отделения есть и те, кто годится мне в отцы, и те, кому в отцы гожусь я. Но увидеть в медкарте больного свой собственный год рождения – это как-то особенно бьет по психике. «А мы вполне могли бы быть одноклассниками, – говорила, помнится, Лорен, тоже моя ровесница. – Но мы бы с тобой вряд ли дружили, потому что я была двоечницей, а ты, надо думать, отличником. Может, мы сидели бы за одной партой, и я была бы в тебя тайно влюблена или, наоборот, ты – в меня, а я бы над тобой издевалась. Все возможно. А теперь я – онкобольная, а ты – мой врач. Разве не странно?» У Лорен, как и у Ивана, был рак прямой кишки; она умерла два года назад.
Иван Лаферье – вот кто наверняка был отличником. Университетское образование, безупречная французская речь. До болезни он работал в Миссии ООН по стабилизации в Гаити, занимался обеспечением гуманитарной помощи и защитой прав человека. О Гаити западный человек, следящий за новостями, знает только ужасное: диктатура отца и сына Дювалье, эскадроны смерти тонтон-макутов, дважды избранный и дважды изгнанный Аристид, гражданская война в 2004 году, землетрясение и эпидемия холеры в 2010-м, нищета, один из самых низких ВВП в мире… «Так и есть, – подтверждает Иван, – у нас все плохо. Хуже, чем в Африке. Мы ничего не производим, не экспортируем. Знаете, доктор, откуда наше государство получает деньги? Отсюда, из Флэтбуша. Да-да. Главный источник доходов – это валютные переводы от эмигрантов. Люди шлют деньги домой, чтобы поддержать родных, а правительство взимает пятидесятипроцентный налог. Как вы думаете, что они делают с этими деньгами? Правильно, дома строят. Роскошные дома, можно сказать, дворцы. С видом на халупы. В халупах, как вы понимаете, живут те, кому предназначались эти переводы. После всех налогов им остаются крохи. А ведь у нас за все надо платить. Образование, медицина – на Гаити все платно. Пока я работал в ООН, я мог прокормить семью, даже кое-что откладывал. По гаитянским меркам мы жили хорошо. Но после того как я заболел, все мои сбережения улетучились. У меня болел живот, я таскался по врачам в Порт-о-Пренсе, они заламывали дикие цены и прописывали таблетки, от которых мне становилось только хуже. И так – много месяцев подряд, и за все это время ни один из них не удосужился направить меня на колоноскопию. Мне пришлось ехать на Кубу, там с меня тоже содрали кучу денег, но хотя бы поставили диагноз. Я верю, на все воля Божья, Господь послал мне вас, доктор, чтобы вы меня вылечили. Потому что у меня жена и сын, которому недавно исполнилось семь лет. Кроме меня, о них некому позаботиться, а я потратил все наши деньги…»
Я ничего не обещал, но говорил с ним так, что мои слова можно было принять за обещание. Как правило, эта форма рака поддается лечению; стандартный подход в таких случаях – предоперационная радиация в сочетании с химиотерапией, затем куративная резекция. Кажется, под конец консультации я не удержался и сказал что-то вроде «поживете еще». То есть все-таки пообещал, приобняв и похлопывая его по плечу. Позволил себе этот жест, поддался соблазну обнадежить и таким образом сразу расположить к себе пациента. Но на тот момент мой оптимизм не был враньем. Я, как и он, надеялся на лучшее.
Осенью растрескавшийся, как такырная почва, асфальт тротуаров на Флэтбуш-авеню заметает сухой листвой из Проспект-парка. Если идти на север (по направлению к Краун-стрит), через некоторое время по левую руку покажется Бруклинский ботанический сад, где представлена флора со всех концов света. Там есть и мексиканские кактусы, и японская сакура, и ливанский кедр. Есть и уроженцы Вест-Индии: креольская сосна, орхидеи, душистая трава ветивер – та же, что растет на окраинах Порт-о-Пренса. Можно сказать, часть природы эмигрировала в Нью-Йорк вместе с людьми. Но, как это часто бывает в эмиграции, соседи, прежде жившие душа в душу, теперь оказались по разные стороны глухого забора: люди живут во Флэтбуше, а растения – в Проспект-парке. И хотя эти районы граничат друг с другом, жители Флэтбуша и Конарси – гаитянцы, ямайцы, гайанцы, гренадцы, тринидадцы – почти никогда не бывают в саду, где, проявляя неожиданную морозостойкость, растут их бывшие соотечественники. Переселенец забывает родную природу, и в конце концов природа сама посылает ему прощальный привет. На пересечении Флэтбуш-авеню и Монтгомери среди прочего мусора у светофорного столба валяется засохшая пальмовая ветка. Вероятно, она осталась от комнатной пальмы, которую хозяева выбросили вместе с кадкой во время переезда. Ее безжизненная гербарная рыжина гармонирует с типовым однообразием общественного жилья – многоэтажек из ржавого кирпича, безлюдных скверов, детских площадок, обнесенных железной оградой, точно тюремные дворы.
С наступлением дня район оживает через силу. Эти обшарпанные фасады, груды мусора, унылая мишура универмага «Все за доллар», порткулисы и опускные ворота, размалеванные граффити, ночные забрала грошовых лавок, привычные декорации бруклинской бедноты – не то, ради чего хочется утром вставать. Но мало-помалу на улицах появляются люди. Ямайцы в рабочих комбинезонах и растаманских шапках, труженики кузовных цехов и автомобильных кладбищ, толпятся у закусочных на колесах, наспех уминая аки с соленой рыбой и пампушками. Многие из них работают без выходных. Выслушивая распоряжения начальства, жалобы клиентуры, ворчание жены или предписания врача, на все кивают «я-ман». В качестве приветствия они используют общеупотребительное «окей», а в случае ссоры пускают в ход страшное ругательство «бамбаклот». Что это такое – «бамбаклот»? «Вам не понять, доктор, у вас в Америке все пользуются туалетной бумагой». Ямайская речь – это быстрое бормотание, скороговорка с примесью патуа. Тринидадцы и барбадосцы – те, наоборот, говорят медленно, нараспев; в их произношении мне слышится эдакое стариковское добродушие. Кажется, человек с таким обаятельным выговором не способен рассердиться и уж тем более не может быть членом уличной банды, диктатором, людоедом. Гаитянская фонетика – суше и строже. В плане культуры и языка гаитянцы стоят особняком. Они говорят по-английски с французско-креольским акцентом.
Гаити занимает западную часть острова Эспаньола, соседствуя с Доминиканской Республикой, и, кажется, на всем земном шаре не найти более непохожих соседей, чем доминиканцы и гаитянцы. Одни – светлокожие и испаноязычные, другие – чернокожие и франкофоны. Первые идентифицируют себя с латиноамериканской культурой, а вторые – потомки рабов, привезенных из Западной Африки в конце семнадцатого века и свергнувших рабовладельческую власть белых в начале девятнадцатого. Вольнодумцы и бунтовщики Антильского архипелага, чей креольский язык довольно далек от французского (французским как таковым владеют около двух процентов населения); чья национальная кухня изобилует такими диковинными сочетаниями, как кукурузная каша с копченой селедкой и сгущенное молоко со свекольным соком. Доминиканская же кухня мало чем отличается от пуэрториканской или колумбийской. Неудивительно, что, переселившись в Нью-Йорк, два народа с Эспаньолы не посчитали нужным сохранить территориальную близость. Доминиканские районы – это Южный Бронкс и Вашингтон-Хайтс (там же находится и пуэрториканский анклав), а гаитянцы обитают в бруклинском Флэтбуше, деля жилплощадь с другими чернокожими карибцами, с которыми, впрочем, у них тоже не слишком много общего.
Карибские женщины – дебелые, кисло пахнущие кремом для кожи и маслом для волос – обмениваются сплетнями, сидя в приемнике госпиталя Кингс-Каунти. Улыбаются, издали приветствуют доктора («Окей!»). Но меня не проведешь: я их знаю, этих тетушек с их странными и непоколебимыми представлениями об источниках болезней, с их недоверием к врачам и верой в колдунов-травников, в иридодиагностику[25], в обереги и заклинания. «С карибскими пациентами трудно, а особенно трудно с гаитянцами», – сказал однажды мой приятель Валери, с которым мы когда-то вместе проходили интернатуру в Бриджпорте. В 2010 году мы встретились в кафе «Ле Кайе» в Проспект-хайтс за день до того, как они – Валери, Поль и Анн-Лиз – отбыли в Порт-о-Пренс оказывать медицинскую помощь жертвам землетрясения. Эту готовность гаитянских иммигрантов в любой момент послать деньги или даже вернуться на родину, если их присутствие там может быть полезным, я отмечал и раньше. Это та же отзывчивость, та же семейная забота, которой проникнуты книги Эдвидж Дантика – тоже гаитянки, уехавшей в Нью-Йорк, но неоднократно возвращавшейся, чтобы помочь. «Мы врачи, и мы гаитянцы, значит мы обязаны сейчас быть там», – трубил Валери под одобрительные кивки Поля и Анн-Лиз, и я понимал, что при всей патетике, вызванной в тот вечер неумеренным потреблением пива «Престиж», это были честные слова. И они никак не противоречили тому, что было сказано минутой позже: «С карибскими пациентами трудно, а особенно трудно с гаитянцами. Гаитянцы – самые упрямые, и, что ужаснее всего, у них есть вуду. Знаешь ли ты, что даже здесь, в Бруклине, есть вудуистские святилища с хунганами и мамбо? Я убежден, что наука – это ширма, за которой Всевышний прячет свои чудеса, но наши люди не верят в науку, а значит не верят и в Господа. Они верят в духов. Боятся принять самое безобидное лекарство, но за милую душу глотают снадобья, которые им дает жрица мамбо. Только тебе они об этом никогда не скажут, потому что вуду учит их быть скрытными. А еще они думают, что ты, будучи белым человеком, все равно не станешь лечить их так, как лечил бы своего брата. Наша пословица гласит: когда купаешь чужого ребенка, помой его с одного боку, а с другого оставь грязным. И они уверены, что у тебя к ним тот же подход, ведь они тебе чужие».
Иван не прибегал к советам вудуистских жрецов, всецело полагаясь на западную медицину, но против его болезни у медицины было не больше действенных средств, чем у жрицы мамбо. На третьей неделе лечения у него появился узел Вирхова – метастаз в области ключицы. «Как сообщать пациенту плохие новости?» Так называется лекция, которую из года в год читают студентам-медикам, одна из самых бесполезных лекций на свете. Этот узел означает, что болезнь неизлечима; что химия и радиотерапия не работают (но закончить курс все-таки надо). Говори как есть… Иван заплакал, я подошел к нему, обнял. Он положил голову мне на плечо. Когда человек болеет, его тело избавляется от лишнего веса, как судно от балласта, а под конец меняется и тембр голоса. Голос мужчины может сделаться высоким, как у ребенка. Готовясь к смерти, тело и голос как бы впадают в детство – становятся легкими, беззащитными.
Я дал Ивану свой номер мобильного телефона, и всякий раз, когда он звонил, его тонкий, почти детский голос вынимал мне душу. «Allo? Monsieur le Docteur? C’est moi, Yvon…» Он был крайне деликатен, старался звонить только в случае необходимости («Excusez-moi de vous déranger…»), но, задав свой срочный вопрос по медицинской части, не спешил вешать трубку. От нашего радиотехника Анеля я узнал, что Иван снимает комнату в подвале какой-то церкви и целыми днями сидит в этой комнате в ожидании следующего сеанса радиотерапии.
– Ты хочешь сказать, что у него совсем никого здесь нет?
– Никого, док. У него там даже телевизора нет. Ни телевизора нет, ни машины. Пользуется общественным транспортом, да и то по минимуму. Из дому почти не выходит. Только чтобы сюда прийти… Экономит.
– На проезде в автобусе?
– Ну да. У него же денег почти не осталось, а в Порт-о-Пренсе жена и сын маленький. Им там, наверное, скоро вообще жить будет не на что. Вот он и сидит целыми днями у себя в подвале, страдает, думает, как они там и что будет дальше.
– Слушай, Анель, не сочти за бестактность, но, может, ты бы его куда-нибудь сводил или даже к себе пригласил? Вы же с ним земляки, говорите на одном языке. И живете в одном районе.
– Да я и сам об этом думал. Но, если честно, я боюсь с ним сближаться, не могу. Я же знаю, чем у него все кончится. А у меня, док, у самого сейчас дома такое творится… Ну, ты в курсе.
Я в курсе и могу понять: у Анеля – черная полоса. Вся его душевная энергия уходит на семейные невзгоды. Последние полгода он то и дело обращается ко мне за советом. Сперва свояченица в Майами заболела «женскими делами» (когда ее наконец уговорили обратиться к врачу, выяснилось, что «женские дела» – это неоперабельный рак матки). Потом у его младшего брата, 34-летнего Брэнди, нашли нейроэндокринную опухоль поджелудочной железы. Я направил его к одному из своих коллег, специалисту по этому типу заболеваний, но там все сразу пошло вкривь и вкось. После первого же вливания химии Брэнди госпитализировали с подозрением на сепсис, затем обнаружилось, что у него отказали почки и нужен срочный диализ, а еще через два дня Анель сообщил мне, что его брата больше нет. «Я знаю, ты тут ни при чем, док, ты пытался помочь. И на коллегу твоего зла не держу, можешь ему передать…» Никто не виноват, но хочется кого-то винить. Себя – в первую очередь. Брэнди умер накануне Рождества. На излете праздничной недели подвыпивший Анель позвонил мне, чтобы сказать: праздники невыносимы, его мать общается с мертвым Брэнди через вудуистского медиума, «посадила» Брэнди вместе со всеми за стол, следит, чтобы его не обнесли угощением. Анель накричал на нее и ушел из дома. «Тяжело, док, тяжело. А тут еще этот Иван… Что делать с чужими, когда и на своих-то не остается жалости? Ладно, командуй. Чем я могу помочь?»
Общими усилиями мы собрали для Ивана пятьсот долларов. Пусть эти деньги глобально ничего не изменят, хотя бы на еду и проезд в ближайшее время будет хватать. В сочельник Шанталь, жена Анеля, принесла нашему пациенту запеченную индюшку. Иван встретил ее у входа в дом. Поблагодарил за подарок, извинился, что не может пустить к себе. К нему в подвал гостей лучше не приглашать. Поделился неутешительными новостями: у его семьи было интервью в американском посольстве; как и следовало ожидать, им опять отказали в визе. Может ли мадам Лаферьер гарантировать, что после смерти Ивана они с сыном не останутся в США в качестве нелегальных иммигрантов? Жена Ивана плакала и давала честное слово – они обещают вернуться домой через две недели, она только хочет навестить мужа, хочет, чтобы мальчик побыл с отцом. Работник посольства остался непреклонен: к сожалению, мадам Лаферьер не смогла обосновать необходимость своего возвращения на родину после смерти мужа. Попросту говоря, в Порт-о-Пренсе их с сыном ничто не удерживает. Она ведь не работает, верно? И шансы найти здесь хорошо оплачиваемую работу у нее невелики. Если бы он, работник посольства, был на ее месте, он бы непременно попытался попасть в США и остаться там, пусть даже нелегально. Возможно, в конце разговора, перегнувшись через стол, этот человек доверительно шепнул ей ту же фразочку, которую я услышал от помощника конгрессмена, когда безуспешно ходатайствовал за семью Ивана: «Видите ли, с Гаити всегда проблемы. Выбить визу для гаитянцев – это, как у нас говорят, тяжелая атлетика. Боюсь, моих мускулов на это не хватит».
– Ну что ж, придется нам полагаться на собственную мускулатуру, – рассудила Шанталь, когда я передал им с Анелем свой разговор с помощником конгрессмена. – У них ведь, кажется, в нынешнем году выборы, так? Вот мы и раззвоним эту историю, чтобы она стала частью предвыборной кампании. Пригласим журналистов, познакомим их с Иваном и дадим возможность нашему конгрессмену показать себя защитником обездоленных и бесправных. Можно сказать, сделаем ему бесплатный пиар!
– Вот видишь, док, я же говорил, что Шанталь – голова! – воскликнул Анель. Прожектерство супруги временно вывело его из уныния.
Я тоже обрадовался инициативности Шанталь, ее благородному порыву. И хотя, разумеется, никаких передовиц с фотографиями Ивана не воспоследовало, определенные телодвижения безусловно были, и в конце концов что-то сработало. В середине января американское посольство на удивление быстро обжаловало решение об отказе в выдаче визы мадам Лаферьер (в отношении ее семилетнего сына решение оставалось прежним).
Они ждали меня в приемной, еще окутанные уличным холодом, в своих болоньевых куртках и лыжных шапках. И в том, как они, сложив ладони лодочкой, отогревали их дыханьем, был задор, какой бывает у молодых и здоровых людей. Я подумал, что впервые вижу Ивана счастливым, может, почти таким, каким он был до болезни. Помню эти фотографии «до», при галстуке и пиджаке: как-то раз он ни с того ни с сего затеял просмотр телефонного фотоальбома («Смотрите, доктор, это я у себя в офисе, а это – дома»). Любовался и хвастался собою-прежним. Тогда, прекрасно понимая, почему ему так важно показать мне эти снимки, я все-таки не понимал, как реагировать. Зато теперь, знакомясь с его женой, я уже знал, что от меня требуется. Каждый из них бодрился ради другого, и, как ни странно, суммой этих двух встречных усилий было не натужное, не показное, а подлинное ощущение счастья – счастливые несколько минут, продлеваемые и моей болтовней: никаких разговоров о болезни, только беззаботный small talk как неявное подтверждение тому, что все не так плохо. Показывал ли Иван жене Бруклин? Сводил ли в ботанический сад? Увы, ничего еще не показывал. Он и сам-то за все эти месяцы не видел ни Бруклина, ни Манхэттена, ничего не видел. А теперь надо поторопиться: ей уезжать уже через три дня. Но у нее здесь живет школьная подруга, она обещала их повозить. За три дня можно многое успеть.
После того как жена уехала, Ивану сообщили то, что он знал и сам: ничего не работает, ни вторая линия химиотерапии, ни третья. Узел Вирхова, разросшийся в огромную опухоль, давил теперь на подключичную вену, из-за чего у Ивана вздуло правую руку. Казалось, кожа на руке вот-вот лопнет. Я опросил консилиум, но не услышал ничего кроме равнодушно-бесполезного совета облучить «паллиативненько».
Вечером мне позвонила незнакомая гаитянка и, представившись как сестра Жюстина из церкви Доброго самарянина, сказала, что хочет поговорить со мной об одном из их прихожан – об Иване Лаферьере. Он сам дал ей мой телефон.
– Дело в том, что последние полгода он ходит в нашу церковь и, вообще говоря, стал частью нашей общины… Так что мы чувствуем некую ответственность, не можем не чувствовать… Поэтому мы решили обратиться к вам, доктор, за советом. Ведь у него дела совсем плохи, да? Может быть, ему пора возвращаться на Гаити? Потому что мы его все-таки плохо знаем, хотя, конечно, и рады помочь, не поймите неправильно, но если он умрет… а он умрет, да, доктор? Так вот, если он умрет, кто будет его хоронить? То есть не кто даже, а где? Ведь он наверняка хотел бы, чтобы его похоронили на Гаити. А переправить туда тело очень непросто, уж вы мне поверьте… Так не лучше ли это сделать, пока он еще жив… я хочу сказать, не лучше ли ему провести оставшееся время дома, с семьей? Деньги на билет мы ему соберем, это мы сделаем… Но скажите, доктор, вот вы как врач можете гарантировать, что он перенесет перелет? Потому что если он умрет… скончается в пути, тогда его… тогда тело отправят обратно в Нью-Йорк, и ответственность опять ляжет на нас… И мы готовы помочь, но нам бы хотелось, чтобы он был дома, с семьей… Но вы как его врач, вы можете гарантировать, что это безопасно, я имею в виду этот перелет?
Ничего такого гарантировать я не мог. Я и говорить-то не мог из-за ларингита, но она продолжала тараторить свое, не обращая внимания на мой хрип и, кажется, вообще не ожидая никакого ответа. Через десять минут после того, как она повесила трубку, позвонил Иван.
– Вы простите, доктор, я предупреждал ее, что у вас ларингит и что вам сейчас не надо звонить, но она меня не послушала. Она не плохая, эта Жюстина. Хочет, как лучше. Но она мало что понимает и никого не слушает. Я просил ее не звонить…
Я прохрипел, что Жюстина, в общем, права. Ему действительно имело бы смысл вернуться домой, воспользоваться тем, что церковь готова оплатить билет.
– Но на Гаити нет обезболивающих… Как же я там буду с моей рукой?
– Выпишем вам оксикодон, возьмете его с собой. Двухмесячный запас.
– А таможня?
– Думаю, они не станут вас обыскивать.
– А через два месяца что? Что я буду делать, когда запас закончится? – По выражению его лица было видно, что он не хуже моего понимает: ни о каких двух месяцах речь не идет. Осталось от силы две-три недели.
– Что-нибудь придумаем.
– Хорошо, доктор, я готов. Я много думал в последнее время и понял вот что. Если мне в тридцать восемь лет выпало такое испытание, значит, на то есть причины. Но ничего, я буду работать, левой-то рукой я еще могу пользоваться, буду работать из дому, договорюсь в ООН, и буду приезжать к вам, проверяться каждые несколько месяцев, как получится… Как вам такой план?
– Очень даже.
Церковь купила билет, Иван улетел и на следующий же день прислал нам с Анелем письмо и фотографию: он уже дома. На фотографии он лежит в постели под противомоскитной сеткой. Его шестилетний сын лежит рядом, прижавшись к отцу. Иван обнимает мальчика здоровой рукой.
январь 2017 – апрель 2018Гарлем
1
Пациентку звали Джереми. Мужское имя и странная, некрасивая фамилия. Вот что остается. У нее была та самая «нулевая стадия», от которой никто никогда не умирает. Но из медкарты, которую я просмотрел накануне консультации, стало ясно, что рак молочной железы – далеко не главная из ее медицинских проблем. Первым делом мне попались записки психиатра (история болезни на пять с лишним страниц). Героиновая зависимость, депрессия. Семьи нет, работы тоже. Много лет назад работала медсестрой, но в последние годы никаких попыток трудоустройства не предпринимала. Во время недавнего визита к психиатру призналась, что неоднократно задумывалась о самоубийстве, но решила повременить, потому что ей не на кого оставить кошку. Кошке двенадцать лет, а ее хозяйке – пятьдесят три. В анамнезе стоит стандартная фраза «пациентка выглядит старше своего хронологического возраста». Так и есть. Морщинистая кожа, как у старухи, хотя совсем еще не старуха. В остальном же она кажется совершенно «нормальной». Приятная женщина средних лет, все время виновато улыбающаяся. Кажется нормальной, но я уже читал медкарту. И потому я подхожу к разговору на цыпочках. Хотя в данном случае разговор не должен быть трудным: у меня ведь для нее хорошие новости, ее опухоль имеет крайне благоприятный прогноз. «Это даже не рак, а предраковое состояние, нулевая стадия», – сообщаю я самым бодрым тоном. Она улыбается и энергично кивает. В какой-то момент вворачивает в разговор, что работает медсестрой, и я с радостью подхватываю эту ложь: «Ну да, вы же медсестра, значит сами знаете, что такое карцинома in situ. Все у вас будет в порядке». Она снова расплывается в счастливой улыбке: «Да, доктор, я знаю. Мне повезло». Кажется, нам обоим хочется сделать друг другу приятно, и поэтому мы врем и разыгрываем роли, хотя все всё понимают… Все же Джереми сделала над собой усилие и пришла на пять сеансов лучевой терапии из запланированных тридцати. Это было последнее усилие в ее жизни. Действительно ли она пыталась выкарабкаться или приходила машинально? Может, уже ни на что не надеялась, но хотела еще немного поиграть роль человека, у которого все в порядке? О том, что она покончила с собой, мы узнали от ее брата, с которым связались после того, как она пропустила пять или шесть сеансов. Собственно, это соцработники каким-то образом выяснили, что у нее есть брат; в медкарте этого не значилось.
2
Вэлери Джонсон, приемная мать Брайана Джонсона, – дородная негритянка лет пятидесяти. С одышкой и добродушным смехом. Брайану шесть лет. Он – сын наркоманки; во время беременности его биологическая мать ежедневно употребляла крэк, а когда он родился, вымещала всю агрессию крэкового угара на младенце. «Синдром ребенка, которого трясли». К тому же в шестимесячном возрасте он перенес мозговую травму (то ли уронили, то ли бросили об стенку). Неизвестно, как это все обнаружилось. В иных домах годами творится такое, о чем полиция не имеет ни малейшего представления. Но так или иначе, наркоманку лишили родительских прав, а может она сама сдала ребенка. А может, умерла от передозы, и таким образом ребенок попал на свободу. Но поздно. В результате всего, что произошло, у него тяжелейшее повреждение мозга. Он не говорит, ест только через гастростому, так как не может глотать (но любит сосать конфеты); у него контрактуры, мышечные спазмы, хорея; и в довершение ко всему он почти слеп. И вот его, такого, усыновила одинокая Вэлери. Кажется, в ее жизни тоже было мало радости. Но с тех пор, как у нее появился Брайан, она счастлива. Вся ее жизнь посвящена ему. «А еще с вами кто-нибудь живет?» «Нет, только мы с Брайаном». Но это не совсем так: она наняла няньку. Одной не справиться, к тому же Вэлери работает (аж на двух работах: уборщицей в городской библиотеке и прачкой в больнице). Нянька – тоже негритянка средних лет, и тоже души не чает в этом ребенке. Женщины водят Брайана на специальные занятия, прикладывают огромные усилия к его развитию (по общепринятой диагностической шкале DSM-4 у него «глубокая умственная отсталость»). Вэлери с гордостью рассказывает, что вчера в школе он сам вылепил кулич из пластилина. Каким образом? У него же хорея и нулевая координация! Но они понимают и интерпретируют каждый его жест, как какой-нибудь буддистский монах, реинкарнация Святого Франциска, понимает язык животных и птиц. Вот и сейчас: «А вы ему понравились, доктор, это сразу видно». Или: «Не обращайте внимания, он просто капризничает, потому что его повели к врачу, а он хотел погулять в парке». Не знаю. Выглядит все это ужасно. Мычащий, извивающийся умственно отсталый ребенок в инвалидном кресле, с текущей слюной, множеством трубок и диким, бессмысленным взглядом. Когда сталкиваешься с таким на улице, поспешно отводишь глаза. Вспоминаешь стихи Гандельсмана:
Cлучается, днем переулочным катают больное дитя. Столкнешься со взглядом придурочным, и слезы задушат тебя, – так бродится зябко в тиши ему, как если б он был обращен всей нежностью к Непостижимому, отвергнут и тут же прощен.Три года назад у Брайана нашли опухоль Вильмса. Его прооперировали, провели курс химии и радиотерапии. Среди педиатрических раковых заболеваний нефробластома Вильмса считается одним из самых благоприятных: она хорошо поддается лечению и в большинстве случаев вылечивается. Вот и лечение Брайана прошло успешно, болезнь ушла, и можно надеяться, что не вернется.
3
Петронила Делеонмора. Никто из обслуживающего персонала больницы не мог запомнить ее фамилию, сокращали до Делеон, а тут она возьми да поменяй свою длинную фамилию на еще более длинную: Делеондерозарио. Говорит, «дерозарио» – это по мужу. Хорошо бы ее разбить, эту фамилию, на несколько частей. Обособить приставки. Или хотя бы дефис где-нибудь поставить. Но нет, у нее все слитно. Не сразу поймешь, что это две фамилии. Де Леон – Де Розарио. Как у испанских аристократов. Муж, сеньор Де Розарио – сухопарый человек с полным комплектом золотых зубов. Он носит широкополую шляпу, как у мариачи, и ковбойскую куртку с бахромой. Сама же Петронила – круглая, как шарик, старушка семидесяти пяти лет. Они – из Доминиканской Республики.
В американских госпиталях бытует выражение «часто летающий пассажир». Так называют хронических пациентов, для которых больница – второй дом («Так в тюрьму возвращаются в ней побывавшие люди, и голубки – в ковчег»). Диабетики, астматики, сердечники, почечники, «серповидники» (страдающие серповидноклеточной анемией). Или – алкоголики, шизофреники, люди с биполярным расстройством. Словом, все, кто живет от обострения до обострения. В онкологии тоже есть свои «часто летающие». Есть, как известно, раковые заболевания, от которых – даже при наличии очагов по всему телу – не сгорают за несколько месяцев, а тлеют годами. То вспыхнет, то погаснет. До поры до времени «огнетушитель» работает, и рак с метастазами ведет себя как хроническое заболевание. Такова множественная миелома, таковы в определенных случаях рак простаты, щитовидки, молочной железы – те, что дают метастазы в кости. Я облучаю (тушу) то один, то другой очаг. Резюмирую план лечения: «На этой неделе будем лечить плечо, на следующей – займемся бедром, потом – крестец на очереди… Словом, считайте, что я – ваш костоправ».
Петронила – тоже из «хронических», хотя у нее рак легких, который, как правило, расправляется с человеком куда быстрее. Два года назад я облучал ее метастаз в позвоночнике; год назад – средостение, где опухоль давила на трахею; три курса стереотаксической радиохирургии на мозг, потом – опять позвоночник… От химиотерапии она отказывается. Да и не даст ей никто химию: у нее и медицинской страховки-то нет. А вся радиация – чистая благотворительность. «Интересно, – говорит мой ассистент Раким, – вот мы ее лечим, используя самые сложные, новые и дорогие методы, и небось все бесплатно, да?» Я подтверждаю: так и есть. Из тех, у кого есть хоть какие-то сбережения, медицинская система способна высосать все до последней капли. Но тех, кто гол как сокол, у нас лечат бесплатно, на то есть специальные программы помощи. Фактически за лечение Петронилы мне не платят ни копейки. «А ведь она и не осознает поди, как ей повезло, – продолжает Раким. – Как вообще такие люди живут?»
Я тоже плохо себе представляю, как живет Петронила. На прием с ней всякий раз приходит целый табор испаноязычной родни: дети и внуки. Ни у кого из них нет ни документов, ни работы. Вероятно, все ютятся в одной комнатушке. Однажды мы в течение целого часа обзванивали аптеки, ища самую дешевую, – ту, где лекарство, которое я выписал Петрониле, стоило бы меньше десяти долларов. Оказалось, в большинстве аптек такого препарата вообще нет, даже не слыхали о таком. И неудивительно: это – лекарство от тропической паразитарной инфекции, которую я последний раз видел, когда работал в Гане. Если бы не мой африканский стаж, никогда бы не опознал у Петронилы эту болячку.
Все они – и Петронила, и муж в широкополой шляпе, и бесчисленные дети-внуки – из какого-то другого мира, не менее диковинного, чем тот, с которым я соприкоснулся в Африке, и столь же непредставимого. Какой была ее жизнь в Доминиканской Республике? Чем она там занималась? Как выглядела в молодости? Старость, болезнь и эмиграция – эта смесь всех способна уравнять, сделать безликими, непохожими на себя и похожими друг на друга. Требуется стать «часто летающим пассажиром», чтобы обрести лицо в глазах тех, кто не знал тебя прежде. Но теперь я знаю, помню, выговариваю ее две фамилии, слипшиеся в одну. Общаюсь с ней через переводчика – испаноязычную медсестру Марлени.
Петронила собирается домой. В Доминиканскую. Обещает своим детям: «Съезжу на месяц-другой и вернусь». Но в разговоре с Марлени как-то призналась, что едет домой умирать. «Я ведь не дурочка, все прекрасно понимаю». И про дорогостоимость лечения понимает. Меня она называет «ми амор». Говорит: «Спроси, Марлени, у ми-амор-эль-доктор, любит ли он сыр». Люблю, почему бы и нет? «Ага, – оживляется Петронила, – в таком случае я привезу тебе из Доминиканской много-много сыра. У меня младшая сестра на сырной фабрике работает».
Незадолго до ее отъезда я провел еще несколько сеансов стереотаксической радиохирургии, пытаясь убрать максимальное количество метастазов, которые могли бы в скором будущем причинить ей боль. «На первое время должно хватить. А когда надо будет, вы вернетесь, и мы еще облучим». Она кивает – в знак того, что возвращаться не собирается, но, как и я, не хочет слезных прощаний (хватит того, что сеньор Де Розарио уже развел сырость). И снова звучит тема сыра. «Будет, будет тебе сыр, отплачу за добро, привезу целую сырную голову», – говорит Петронила, и в ее сознании это обещание как-то уживается с намерением больше не возвращаться в Нью-Йорк. Не вернется, но сыр непременно подарит – в этой ли, в следующей ли жизни. И действительно: через полтора месяца пришла посылка из Доминиканской Республики. По словам Марлени, сыр уплетали всем отделением. Сам я в это время был в отъезде, и к тому моменту, как я вернулся, от гостинца осталась только упаковка, на которой было выведено «Miamoreldoctor». Все в одно слово.
январь 2017 – апрель 2018Анирвачания Нью-Йорк – Нью-Дели
Шри Аппани
Человек, который долго не спал и никак не может уснуть, закрывает глаза, надавливает кончиками пальцев на опущенные веки, и замкнутому взгляду предстает световая паутина, похожая на гигантский отпечаток пальца. Почему именно паутина? Веданта учит, что абсолютный субъект Атман подобно гигантскому пауку выпускает из себя нити гун; так возникает майя, паутина иллюзий, опутывающая все мироздание. Все иллюзорно, повторяет философ Шанкара, в мире нет ничего кроме безграничного, безличного Брахмана. Причина и следствие суть одно и то же. Сатьям гьянам анантам Браман. Спи, и пусть тебе снится бенгальский тигр, и пусть он заставит тебя проснуться от страха. Знай, что мир – это снящийся тигр. Иллюзия, благодаря которой сознание может пробудиться к реальности. Но, возражает философ Рамануджа, для того чтобы мы испугались тигра во сне, должен существовать и реальный тигр. Значит, в мире есть не только субъект, но и объект. Что же тогда нам сказать о той паутине, реальна она или нет? Она ни то ни се, отвечает философ Шанкара. Ни да ни нет, ни сат ни асат. Она – анирвачания, необъяснимое. Понять нельзя, можно только запомнить.
Я не сплю и не вижу никакого тигра. Вижу лишь вспышку света перед глазами. Может ли она быть обманом зрения, если само зрение – обман? Додумать эту мысль не легче, чем заставить себя уснуть. Через секунду мир снова погружается в темноту. Но мозг продолжает бодрствовать и бороться с соблазном открыть глаза. Левое полушарие уговаривает правое потерпеть: если лежать тихо, сон обязательно придет. И он наконец приходит – в виде мучительного ощущения. Засыпающему кажется, что он тонет; сознание изо всех сил пытается удержаться на плаву, хватается за проникающий с улицы звук, точно за спасительный буек, – и топит его своим весом. Но вот он снова всплывает, звук-буек, и на сей раз слышится отчетливо: «Кабари-и-и…» Предрассветная рага.
* * *
«Кабари-и-и… Кабари-и-и…» Сборщик стеклотары колесит по утреннему Дели на своем всепогодном велосипеде с груженным под завязку багажником. «Кабари-и-и…» Этот клич с обязательным глиссандо в конце возвещает о прибытии; заплечное позвякивание пустых бутылок из-под «Кингфишера» служит ему аккомпанементом. Так когда-то – еще до моего появления на свет – в советских городах кричали «ножи-ножницы точу». Позывной сигнал, маркирующий время и место. За стеной образцовая хозяйка, миссис Сингх, жарит по заказу квартирантов картофельные лепешки «алу паратха» (завтрак включен в стоимость Airbnb). Хлопоча по хозяйству, она непрерывно что-то напевает. Тонкий, как струйка воды из неисправного крана, ее голос соревнуется в назойливости с заоконным «кабари-и-и…», с хриплыми гудками десяти миллионов делийских автомобилистов, но мне, иностранцу, по душе и эта неотвязная какофония. Что-то в ней есть упоительно будничное, предвещающее погружение в незнакомую реальность. Недаром Набоков отмечал как вещь прекрасную первое утро в новом городе.
– Что это она такое поет? – спрашиваю я у Сандипа.
– Мантру. Она же из набожных сикхов. Ей положено петь гимны из «Ади Грантха» все время, пока она бодрствует. Моя бабушка тоже так делала. Cколько я ее помню, с утра до вечера пела одну и ту же мантру. Просыпается – поет, спать ложится – тоже поет…
– А думать когда?
– А кто сказал, что думать – это хорошо? Думают те, кто не умеет молиться.
– Ты в это веришь?
– Конечно, верю. Только сам я, как ты знаешь, далек от религии. К гуру за наставлениями не бегаю, в храме не бываю. Пью, курю, даже говядину ем. Но в том, что этой женщине мантра помогает жить, ни на секунду не сомневаюсь. Если бы я умел молиться так, как она, я бы тоже давно перестал думать.
– По-моему, Санни, ты просто трепло.
– И это тоже верно, – легко соглашается Сандип.
На сегодняшнее утро у нас запланирована встреча с коллегами из госпиталя Аполло. По словам моего друга, Аполло – один из самых престижных медицинских центров в Южной Азии. Собственно, это даже не госпиталь, а сеть госпиталей с филиалами по всей Индии – от Калькутты до Ченнаи. Не секрет, что своим процветанием Аполло отчасти обязан медицинскому туризму. Если верить рекламным памфлетам, здесь лечатся пациенты из ста двадцати стран. Оплата медуслуг – только наличными. Обычная сцена, невообразимая для медиков из США или Западной Европы: пациент достает из портфеля пачку купюр, протягивает доктору; тот, послюнявив указательный, пересчитывает, одобрительно покачивает головой из стороны в сторону и прячет выручку в верхний ящик стола. Вот тебе и вся бухгалтерия. Никаких страховых полисов, никакого налогового вычета. Медицинским туризмом кормятся и другие, не имеющие отношения к медицине предприниматели в прилегающем к госпиталю районе Джасола – от лавочников до рантье вроде нашей миссис Сингх. Иностранцам, приезжающим на лечение, надо где-то жить, и врачи нередко сами направляют пациентов к арендодателям. Таким образом, медицинская братия составляет здесь нешуточную конкуренцию международной компании Airbnb. Однако мы с Сандипом предпочли иметь дело с последней и подыскали себе жилье без посредничества коллег из Аполло.
– Лечиться приехали? – участливо спрашивает миссис Сингх, внося долгожданный поднос с «алу паратха» и кофе.
– Не лечиться, а лечить, – отвечает, лопаясь от важности, Сандип. – Это доктор Стесин, онколог с международной репутацией, признанный эксперт в области лучевой терапии. А я – его подчиненный, медицинский физик. Вы ведь наверняка слыхали о знаменитом онкологическом центре Рокривер в Нью-Йорке? Так вот, именно там мы с доктором Стесиным и работаем. А сюда приехали делиться опытом, понимаете? – Хозяйка почтительно складывает ладони лодочкой и, еле слышно продолжая мурлыкать свою извечную мантру, мелкими шажками пятится к двери.
– Зачем ты ей наврал? – набрасываюсь я на Сандипа после того, как она уходит. – Ведь мы не собираемся здесь никого лечить. Просто встретимся с людьми из Аполло, может, обсудим возможные варианты совместных проектов, не более того. И потом, что это за пройдошливая самореклама: «онколог с международной репутацией», «знаменитый онкологический центр»? Мы что, подержанные машины продаем? И с каких это пор ты – мой подчиненный?
– Нормально, – отмахивается Сандип, – все нормально. Просто ты не знаешь индийской психологии, а я знаю. Я уехал из этой страны двадцать лет назад, но по сути за это время ничего не изменилось. Тут важно с самого начала правильно себя поставить.
Но Сандип ошибается: я, житель Квинса, тоже кое-что знаю. Или воображаю, что знаю. Как известно, специфика Нью-Йорка и его окрестностей – в изобилии этнических анклавов. Эта «домагелланова» география не перестает удивлять: Корея находится в получасе езды от Индии и в сорока минутах от Пуэрто-Рико. Несколько веков подряд, начиная с мореплаваний великих португальцев, земное пространство становилось все необъятней, недосягаемые страны – все многочисленней. Но вот Земля снова съежилась до размеров одного города-микрокосма, и теперь на этом пятачке умещаются все народы мира. Нью-йоркский Неаполь граничит с Дублином, Афины – с Каиром. Есть здесь и города – призраки прошлого, муляжные копии того, чего больше не существует: отголоски советской Одессы на Брайтон-Бич, или светский, дореволюционный Тегеран в Грэйт-Неке, или восточноевропейский штетл в Боро-парке (одно из последних мест на Земле, где главный язык – идиш). Избитая метафора плавильного котла не отражает нью-йоркской действительности; другой, не менее затасканный образ лоскутного одеяла – ближе к истине. Особенно наглядно эта «лоскутность» почему-то проявляется в больницах: в одном отделении штат врачей целиком состоит из индусов, в другом – из персидских евреев, в третьем – из египетских коптов. Оно и понятно: все тянут своих. Но в каждом из таких коллективов обязательно должен присутствовать чужак, чтобы при необходимости можно было отбиться от обвинений в своячестве. И я несколько раз оказывался тем самым чужаком. Сначала стажировался в пуэрториканском Бронксе, затем работал в африканском Бриджпорте, сейчас – в корейском Квинсе. А где-то между «Африкой» и «Кореей» я провел четыре года ординатуры в онкологическом отделении манхэттенского госпиталя, где большинство моих коллег были выходцами из Индии. Так что от Дели, который я вижу впервые, у меня впечатление двоякое: все здесь диковинно и в то же время узнаваемо. И хотя я еще ни разу не был в госпитале Аполло, мое восприятие заранее опутано социальной сетью заочных знакомств, смутных сплетен, интриг, поручений и прочих нитей, тянущихся из Нью-Йорка в Дели. Вот она, паутина иллюзий.
* * *
В центре паутины сидит пожилой человек с зачесом-переплюйчиком и резким, слегка гнусавым тенором. Он сидит за большим дубовым столом, смотрит на собеседника поверх очков и на протяжении всего разговора не перестает играть с массивным перстнем-печаткой на левом мизинце. На верхней площадке перстня вместо гравировки фамильного герба или инициалов виднеется миниатюрный портрет какого-то гуру в рубиновом обрамлении. А может быть, это портрет самого обладателя перстня. Изрытое оспинами лицо, на котором написано: проходимец. Несколько секунд он изучает меня, поглаживая свое кольцо, затем откидывается в кресле и заводит речь, которую, по-видимому, произносит уже много лет:
– Итак, вы хотите заниматься лучевой терапией. Вам повезло. Я – один из лучших в мире специалистов. Это я первым начал применять брахитерапию в лечении рака простаты, я ввел дистанционную загрузку источника. У меня учились все, кого вы считаете светилами. Вам повезло. Я возьму вас к себе в отделение и подарю вам свою книгу.
Этот разговор произошел в Манхэттене восемь лет назад. Человека, отрекомендовавшегося изобретателем брахитерапии, звали Дандаюдхапани Аппани. С минимальными поправками его хвастливая речь могла бы быть адресована и пришедшему на прием больному: «Итак, вы хотите вылечиться от рака. Вам повезло… Я возьму вас к себе в пациенты и подарю вам свою книгу». И действительно, в течение следующих четырех лет мне, ассистенту прославленного доктора Аппани, приходилось слышать подобные преамбулы изо дня в день. Всегда одна и та же кондовая самореклама. Так продают залежалый товар на восточном базаре или предлагают невостребованные услуги по ремонту компьютеров. Но, как ни странно, взыскательную клиентуру Верхнего Ист-Сайда не отпугивали ни его беззастенчивое бахвальство, ни хамовато-неловкая манера общения, ни ломаный английский с сильным индийским акцентом, который бывало трудно понять. От пациентов-ВИПов не было отбоя. Да и сам я, хотя во время собеседования Аппани показался мне форменным прохиндеем, все же пошел к нему в отделение и провел там четыре года ординатуры. Своего мнения о нем я за это время не изменил, но о выборе ординаторской программы нисколько не жалею: я приобрел там опыт, о котором мог только мечтать.
Индийцы в отделении Дандаюдхапани Аппани делились на родичей и остальных, причем количество первых значительно перевешивало. Хлопотливая врачиха Прасад и ее неповоротливая медсестра Раджни; прекраснодушный, но выживший из ума восьмидесятилетний физик Дамарсингх и его помощник Картхик, тоже числившийся медицинским физиком, хотя по образованию он был, кажется, зоотехником; администратор Вемпати, дозиметрист Паван, санитар Химаншу – все они приходились родственниками нашему начальнику. Но были и другие, не состоявшие в родстве или свойстве с боссом, и на этих других держалось все отделение.
Нанимая человека на работу, доктор Аппани говорил без околичностей: «Мне не нужны выпускники Гарварда, мне нужны подчиненные, которые будут меня слушаться». Казалось бы, по такому принципу можно набрать только бездарей-подхалимов. Но – то ли провозглашенный им критерий отбора на самом деле не был главным, то ли срабатывало чутье, которое у Аппани и вправду было блестящим. Во всяком случае, среди тех, кого он выбрал из числа не-родственников, было немало превосходных врачей. Например, мой друг Прашант или директор нашей ординаторской программы Маниш Шарма. Если я что-то и понимаю в онкологии, то во многом благодаря им, Прашанту и Шарме. Сам же Аппани, как прустовский доктор Котар, обладал незаурядной клинической интуицией, компенсировавшей отсутствие многого другого. Когда-то он действительно что-то открыл и разработал, но это было тридцать лет назад, и с тех пор его усилия были целиком направлены на зарабатывание денег и заботу о многочисленной родне, а медицина отошла на задний план. И все же Аппани был далеко не худшим начальником. При всем фанфаронстве, надувательстве и кумовстве, которые так бросались в глаза, в нем было неподдельное добросердечие – это тоже сразу чувствовалось, и, возможно, в этом был залог его многолетнего успеха: как известно, люди склонны прощать жулику его жульничество, если верят, что в глубине души он – добрый малый.
Заявив, что ему нужны подчиненные, которые будут его слушаться, Аппани, однако, не думал править железной рукой. Напротив, он предоставлял своим ассистентам полную свободу действий и только бедному Прашанту не давал спуску. Но в том была вина самого Прашанта: вундеркинд, наделенный фотографической памятью, он уже на первом году ординатуры знал о лучевой терапии больше, чем многие из профессоров, и не упускал случая продемонстрировать свои недюжинные познания, прилюдно указывая старшим на их ошибки. Разумеется, такое зазнайство не могло понравиться заведующему.
– Как тебе кажется, в чем твой главный недостаток? – спросил Аппани, залучив Прашанта к себе в кабинет после утреннего консилиума.
– Не знаю… В чем?
– В том, что ты ведешь себя не так, как подобает ординатору первого года. Подумай над этим и постарайся исправиться.
После этой отповеди Прашант проникся к начальнику внезапным уважением: «Другой бы на его месте выгнал меня взашей, а Аппани только сделал замечание, да еще в довольно мягкой форме. Такое отношение надо ценить. Хоть он и проходимец, но, в общем, наверное, неплохой мужик. Постараюсь впредь держать себя в узде». Как и следовало ожидать, стараний Прашанта хватило ненадолго. Но мало-помалу завотделением и выскочка-ординатор притерлись друг к другу, и на ужине, который устроили в честь нашего выпуска, Аппани во всеуслышанье заявил, что мы с Прашантом – его лучшие ученики. Правда, зачислить нас в штат младшей профессуры он отказался, но на то была веская причина: госпиталь выделил онкологическому отделению всего одну ставку, и Аппани счел нужным придержать это место для своего зятя Рудры, который должен был закончить ординатуру годом позже нас. Зато после того, как я перешел в другой госпиталь, расчистив дорогу для зятя, Аппани несколько раз направлял ко мне пациентов, рекомендуя меня как своего лучшего ученика. Подозреваю, однако, что звания «лучшего ученика» из уст Аппани удостоились не только мы с Прашантом.
«Человек-паук» – так в свое время окрестил нашего заведующего непочтительный Прашант. Дело в том, что несколько лет назад Аппани получил «Падма Шри», одну из главных правительственных наград Индии, за вклад в медицину. Узнав об этом, Прашант воспылал праведным гневом: «Как мог человек, который последние тридцать лет только и делает, что пускает всем пыль в глаза, получить „Падма Шри“? Это как если бы нашему зоотехнику Картхику дали Нобелевскую премию по физике!» Между тем толки о высокой чести, которой был удостоен завотделением, все не смолкали. Газеты пестрели фотографиями Аппани в обнимку с Викрамом Сетом[26] и другими лауреатами. Будто бы нарочно, чтобы позлить моего друга, к нам в ординаторскую звонили индийские журналисты, желавшие разузнать во всех подробностях о трудах и днях шри Аппани. Что еще за Шри Аппани? Прашант объяснил: «Шри» – уважительная приставка к имени. Что-то вроде английского «мистер». Шри Аппани, Аппани-джи или, как говорят бенгальцы, Аппани-бабу. Но мало кто знает, что «шри» – это еще и санскритское слово, означающее «паук». И, кстати, город Шрикалахасти в штате Андхра-Прадеш, откуда родом Аппани, назван в честь трех священных животных, подручных бога Шивы: шри (паук), кала (змея) и хасти (слон). Так что же получается, они просят к телефону паука Аппани? «Вот именно, – захохотал Прашант, – Человек-паук! Шри Аппани из Шрикалахасти!»
И вот я еду в госпиталь Аполло, где меня ждут потому, что я – ученик великого шри Аппани. Он сам вчера звонил им и предупредил… Признаться, в Индию я собирался не за этим. Мне, как нормальному западному туристу, грезилось нечто радужно-мистическое: приятное приключение или, наоборот, такое, о котором приятно будет только вспоминать, но в котором обязательно присутствует духовный поиск, расширение сознания путем йоги и медитации, посещение ашрамов и пещер, где живут пышнобородые аскеты. Священный Ганг, восход над гхатами Варанаси. Но, как известно, каждому воздается по вере (а не по рекламной мечте); человек видит лишь то, что он готов воспринять. Я – не Джулия Робертс в фильме «Ешь, молись, люби». Мое путешествие начинается с того, что я знаю лучше всего: больница, отделение онкологии и лучевой терапии, дистанционная загрузка источника. Спасибо за науку, Аппани-джи.
Прашант
Шамина Сайид – так звали первую пациентку, которую направил ко мне Аппани после того, как я перешел в Рокривер. Стоит вспомнить имя, и все остальное разом всплывает со дна памяти. Почему Аппани не захотел вести ее сам? Сказал, что страшно занят, через несколько недель уезжает на саббатикал[27]. Но есть любимый ученик, Алекс, которому он, Аппани, доверяет безоговорочно. Если кому и под силу, так это Алексу… Обычная лапша на уши или, пользуясь любимым выражением Сандипа, чистая майя. Как нетрудно догадаться, пациентку спихнули на меня потому, что ей уже ничем не помочь.
Два года назад у 27-летней Шамины нашли глиому ствола головного мозга. Эта опухоль неоперабельна, лечению химиотерапией практически не поддается. Единственное, что можно сделать, – это облучить и, если повезет, отсрочить смерть на год-два. Что и было сделано – настолько успешно, насколько возможно в ее ситуации. Что дальше, гадать не приходится. Но то ли Шамина с мужем отказались верить прогнозам врачей, то ли, наоборот, рассудили, что надо действовать, раз времени в обрез… Через несколько недель после окончания лучевой терапии она забеременела («Понимаете, доктор, мы ведь давно пытались завести ребенка, ничего не получалось. Уже было отчаялись. А тут – такая радость!»). Теперь у Шамины двухлетняя дочь, а сама она подключена к аппарату ИВЛ, но сохраняет ясность сознания и даже «разговаривает» с родными, шевеля мизинцем правой руки. Это шевеление – последний канал связи с окружающим миром.
Каждое утро отец приводит девочку в больницу пообщаться с мамой. Рослый бенгалец с волосатыми ушами и дурно пахнущими подмышками. Хозяин забегаловки «Curry without worry». Вызывает меня в коридор, спрашивает, сколько его жене осталось. Трудно сказать, может, несколько дней, а может, три недели. Болезнь прогрессирует, и все возможные варианты лечения исчерпаны. Но, протестует он, семья еще не готова сдаться. Нельзя ли повторить курс лучевой терапии? К сожалению, повторить нельзя. Продолговатый мозг уже получил максимально допустимую дозу радиации; при передозировке начнется радионекроз, откажут центры дыхания и сердечной деятельности. «Но ведь они и так откажут! Пожалуйста, доктор, посоветуйте что-нибудь. Аппани-бабу говорил, что вы все можете». Аппани-бабу слишком добр.
– Что мне делать, Пи? – я, как всегда в трудных случаях, советуюсь с Прашантом («если кому и под силу…»).
– Ты сам прекрасно знаешь, что делать, – строго отвечает Прашант. – Направить в хоспис.
– Они не хотят в хоспис.
– Тогда направь их обратно к Аппани, пусть он разбирается.
– Может, попробовать стереотактику?
– Спалишь ствол, и дело с концом.
– Но ведь радионекроз начинается не сразу.
– Ну да, опухоль может ее убить за несколько дней, а радионекроз – через два-три месяца. То есть в лучшем случае ты дашь ей небольшую отсрочку. А сама-то она что хочет?
– Вроде бы то же, что и ее муж. Повторить лучевую терапию. Хотя вообще трудно понять, она же только мизинцем шевелить может.
– А теперь представь себе, что твоя стереотактика спалит ей ретикулярную формацию. Мизинец перестанет шевелиться, и она будет полностью отрезана от внешнего мира. Синдром запертого человека. По-моему, это хуже смерти, нет?
– Не знаю, Пи. Понятия не имею, что делать.
– Вот из-за такого я и стал атеистом.
– Не меняй, пожалуйста, тему. Скажи лучше, как мне поступить.
– Я и не меняю, – обиженно отвечает Прашант. Это значит: о моей клинической дилемме он сказал все, что мог, а сейчас настало время для отвлеченных дискуссий. – Все взаимосвязано, Алекс. До того как речь зашла о твоей пациентке, мы с тобой говорили…
– Ты говорил о Бхагавад-Гите. А я тебя перебил. Извини.
– Гита начинается с того, что смерть иллюзорна и не стоит переживаний. «Бытие непричастно небытию, небытие – бытию…» Но человеческое страдание – оното не иллюзорно, что бы ни говорила по этому поводу веданта. Я вижу, как мучаются мои пациенты, и я не вижу смысла поклоняться источнику их страданий. Самая большая жертва, которую я могу принести Ишваре, – это отказаться в него верить.
– Ты у нас прямо Иван Карамазов.
– Кто-кто?
– Карамазов.
– Это русская книга, да?
– Ты, которого так интересует религиозная философия, не читал Достоевского?
– Ну-ну, я уже, кажется, догадываюсь, что будет дальше. Сейчас выяснится, что все, о чем я говорю, было сказано каким-то русским гуру полторы тысячи лет назад. Так?
– Нет, не полторы тысячи, а всего сто пятьдесят лет назад.
– Сто пятьдесят? Ну, тогда по индийским меркам мы с ним практически современники.
Я знаю двух людей, способных много часов подряд поносить Того, кто, по их убеждению, не существует. Оба они, обладая незаурядным умом, держат в голове сотни философских трактатов. Оба когда-то были верующими – верили с тем же неистовством, с каким теперь не верят. Оба имеют репутацию завзятых спорщиков, непримиримых и резких в суждениях. Оба – люди одинокие, и в той жизненной позиции, которую они для себя избрали, мне видится нечто подвижническое. Эти двое – русский поэт Алексей Цветков и индийский врач Прашант Чандури. От первого я узнал в свое время об англо-американской аналитической философии, от второго – о философии индийской. Разница в том, что Цветков читает философию, созвучную его собственному миропониманию, а Прашант продолжает штудировать ведическую литературу, которую сам же провозгласил полной чушью.
В отрочестве Прашант, продолжатель рода брахманов из Махараштры, чуть ли не на коленях приползал на утреннюю молитву. Родители, в целом приветствуя рвение сына, предостерегали от религиозного фанатизма. Да и сам Прашант, как ни был он набожен, не мечтал о судьбе аскета. По окончании университета он уехал в Америку, устроился на работу в крупной айтишной компании, дорос до руководящей должности, но, заработав достаточно денег, чтобы некоторое время не работать, уволился. Летал обратно в Индию, спрашивал у гуру, чем ему заняться дальше. Гуру указал на медицину.
То, что из Прашанта получится замечательный врач, было понятно еще на первом курсе мединститута. Но именно в мединституте он, как Сиддхартха Гаутама, засомневался в истинности ведического учения. Дальше – больше, и к началу ординатуры он был уже убежденным атеистом. При этом он зачем-то продолжал исправно посещать храм Ганеши в Квинсе. Я несколько раз ходил туда с ним. По дороге на пуджу[28] он любил вести богоборческие беседы, а на вопрос, зачем он со своим неверием так спешит в храм, отвечал, что просто любит петь мантры, любит запах сандала и звон каратал[29], а больше всего любит блины «доса», которые можно купить за доллар в храмовой столовой. К самой вере все это не имеет никакого отношения. Как, видимо, не имеет к ней отношения и то, что он продолжает воздерживаться от мяса, спиртного и половых связей.
Последний пункт, впрочем, требует пояснения: Прашант не давал обет брахмачарьи и не планировал жить анахоретом. Просто он уже который год ищет себе жену. В браки, устроенные по сговору, он больше не верит. На моей памяти у него было шесть или семь «потенциальных жен», но всякий раз он ни с того ни с сего отменял приготовления к свадьбе, навлекая на себя гнев брошенной невесты и ее семейства. «Просто я точно знаю, чего хочу», – оправдывался горе-жених. Насколько я понял, Прашант ищет индуску, которая, как и он, не верит ни в Шиву, ни в Вишну, но при этом неукоснительно следует шастрам. Ему нужна правоверная атеистка. Желательно из штата Махараштра.
Если бы кто-нибудь попросил Прашанта сформулировать свое кредо, он, вероятно, ответил бы: «Религия – вранье, но жить надо так, как будто она – истина в последней инстанции». Собственно, это позиция пурва-мимансы, одной из шести школ ортодоксальной индийской философии. Ставя под сомнение существование Брахмана, мимансаки настаивали на самоценности ритуала, и Прашант с ними полностью солидарен. Единственное отступление от ведических правил, которое он себе позволяет, – это сквернословие. Зато уж в этом он не знает удержу, матерится, как сапожник. Надо полагать, идеальной жене его трехэтажный мат должен прийтись по вкусу.
Летом после третьего года ординатуры мы с Прашантом вместе ездили в Эфиопию, и наши разговоры в продолжение всей поездки почему-то вращались вокруг теодицеи.
– А нейробластома, она зачем? – вопрошал Прашант, пока мы томились в ожидании вечно опаздывающего автобуса на Аддис-Абебу. – Вот ты занимаешься педиатрической онкологией и при этом говоришь, что веришь в Бога. Так объясни мне, зачем Он создал опухоль, от которой умирают двухлетние дети?
Я силился вспомнить, как отвечал на такие вопросы ребе Коплович из еврейской воскресной школы, где я хлопал ушами тридцать лет назад. Но ничего не вспоминалось; я нес что попало, и мои путаные доводы еще больше раззадоривали моего оппонента.
– Шри Ауробиндо[30] учил, что вера – это интуиция, которая не ждет подтверждающего опыта, а сама ведет к опыту. Что же в таком случае делать с верой человеку нашей профессии? Разве может такой опыт укрепить веру, какой бы эта вера ни была?
Но, защищался я, теодицея тут вообще ни при чем. Чтобы ответить на вопрос, совместима ли наша работа с верой, достаточно взглянуть на ежегодную конференцию американского радиоонкологического общества. Это собрание сплошь состоит из ортодоксальных евреев в кипах, сикхов в тюрбанах, строгих католиков и набожных протестантов, правоверных мусульман и индусов – словом, это самая религиозная группа людей, какую только можно себе представить. Даже шри Аппани, известный своей прижимистостью, несколько раз жертвовал огромные суммы на строительство храмов в Андхра-Прадеше. Почему? Потому ли что «в окопах не бывает атеистов», и, согласно диагностике Кьеркегора, любая вера начинается со страха (вера слепа, да у страха глаза велики)? Потому ли, что человеком, который выбирает профессию врача, движет – помимо прочего – желание контролировать ситуацию, но, как выясняется, никакого контроля нет и быть не может? Или потому что болезнь – это одиночество, и врач, изо дня в день имеющий дело с чужим одиночеством, не может не примерять его на себя? Все объяснения лежат на поверхности и по большому счету не имеют значения. Вера нужна лично мне, чтобы продолжать заниматься своим делом, принимать все как есть. Чтобы не отводить глаз, когда бенгалец Сайид бормочет свое «иншалла, иншалла». «Чудо возможно, доктор, иншалла». Посильное чудо.
Я провел повторный курс радиации. И чуть ли не год спустя Сайид позвонил мне, чтобы сообщить: вопреки всем прогнозам, его жена Шамина все еще жива и продолжает шевелить правым мизинцем.
Гуру-джи
Старшие ординаторы Гита и Паллави считали своим долгом начинать обучение новобранцев с лошадиной дозы сплетен. В первый же день ординатуры, во время затянувшегося обеденного перерыва, нам с Прашантом растолковали, кто есть кто в отделении «папани Аппани». Особое внимание было уделено самому «папане». Паллави рассказала, как застукала его за правкой собственной страницы в Википедии. Старый лгунишка Аппани приплел к своему послужному списку звание почетного профессора Гарвардского университета, причем написал это так, будто он до сих пор читает там лекции. На самом же деле его выгнали из Гарварда двадцать с лишним лет назад, и не за что-нибудь, а за сексуальное домогательство. Что правда, то правда: наш папаня, дай ему богиня долгих лет, слаб на передок. Но вообще-то, добавила Гита, он добряк и душка. Не то что директор ординаторской программы Маниш Шарма. И девицы принялись в один голос перемывать косточки Шарме. Делали они это с запалом, который, как я потом уже понял, объяснялся отчасти тем, что никакого компромата на Шарму у них не было. Подноготную приходилось выдумывать, и выдумка получалась криво, одна сплетня противоречила другой. Общий смысл состоял в том, что Шарма – заклятый враг ординаторов и вообще мерзавец, каких поискать, хоть и прикидывается святошей. Главная цель его жизни – напакостить тем, кого он, директор программы, обязан учить и опекать. Все это звучало как очень глупый поклеп, каковым, разумеется, и было, но фокус в том, что до этого, наушничая о скандальном прошлом Аппани и медицинских ошибках Кавиты Прасад, наши девицы в основном говорили правду. Стратегия сработала, и, хотя я очень старался выбросить из головы их злословие, первые несколько месяцев я поглядывал на Шарму с опаской. Впрочем, дело было не только в дурном влиянии старших ординаторов. Теперь, задним числом, я понимаю, что мое тогдашнее недоверие к Шарме было вызвано в первую очередь непониманием – тем же самым, которое побуждало Гиту и Паллави выливать на него ушаты грязи. Никто из нас никогда не встречал таких людей, как Шарма.
Каждый вечер, придя домой с работы, Шарма садился в позу лотоса, перебирал четки рудракша и часами повторял мантру. Будучи брахманом, он никогда не притрагивался ни к спиртному, ни к мясу. В юности, дав пожизненный обет безбрачия, он объявил свою холостяцкую квартиру в Джексон-Хайтс ашрамом. При этом ни внешность, ни манера поведения не выдавали в нем отшельника-саньяси. Наоборот, всегда одетый с иголочки, наделенный красотой Кришнамурти[31] и недюжинным обаянием, он производил впечатление жизнелюбивого человека с большим количеством привязанностей: пациенты, ученики, многочисленные друзья. Умение дружить – одно из лучших человеческих качеств, и эта добродетель, кажется, нередко бывает свойственна тем, кто вырос в индийской культуре. Начиная с восьмого класса американской школы, у меня всегда было много друзей-индийцев, и я не понаслышке знаю об индийской теплоте и щедрости. Этими качествами в полной мере обладал и Маниш Шарма. Порой от его рачительности становилось не по себе. Он мог, например, ни с того ни с сего подарить мне новый галстук со словами: «Ты знаешь, вчера я купил себе этот галстук, но сегодня вижу, что он мне совершенно не подходит, а тебе, как мне кажется, очень подойдет. Возьми, пожалуйста, а то мне придется его выбросить». Я принимал подарок и, придя домой, обнаруживал, что он стоит четыреста долларов.
Верный завету Бхагавад-Гиты «Откажись не от деятельности, а лишь от плодов деятельности», Шарма посвятил себя двум мирским занятиям, врачеванию и преподаванию, и потому, как он сам говорил, не смог продвинуться в духовной практике так далеко, как хотел бы. На это я шутя отвечал ему, что и праотец Авраам, согласно талмудической экзегезе, был вынужден приостановиться в своем духовном развитии, чтобы учить других. Не знаю, как с точки зрения индуизма, но, по крайней мере, в иудейском понимании такая «задержка в развитии» похвальна и богоугодна. Говоря это, я знал, что попаду в точку: Шарму интересовало все, что связано с иудейским мистицизмом. Он читал Гершома Шолема, Моше бен Нахмана и Луцатто. Он вообще был открыт всему чужому, проявляя зашоренность лишь в отношении к исламу, который он, как многие индусы, считал религией невежества и насилия. Как известно, длинная история антагонизма между индусами и мусульманами достигла своего апогея в период Раздела 1947 года, когда в результате обоюдного геноцида погибло около полутора миллионов индийцев обоих вероисповеданий. Отец Шармы, которому тогда было шесть лет, бежал из Лахора после того, как соседи-мусульмане зарубили саблями его родителей и сестру. Правы ли те, кто возлагает часть вины за ужасы тех дней на политику Махатмы Ганди? Если это так, то можно сказать, что своими религиозными предрассудками, унаследованными от отца, Маниш Шарма отчасти обязан великому идеологу сатьяграхи.
Насколько Шарма был легок в общении за пределами больницы, настолько он был въедлив и безжалостен в качестве преподавателя. Потому-то его так поносили не отличавшиеся трудолюбием Гитпа и Паллави. Преподаватель Шарма требовал досконального знания всех клинических исследований, когда-либо проводившихся в нашей области. Для того чтобы держать все это в голове, надо было иметь дисциплину памяти, как у индийских пандитов с их многовековой традицией мнемонического канона. Иначе говоря, это было под силу только Шарме да Прашанту. Мне было далеко до них, но я старался как мог.
Работая по двенадцать часов в день, ординаторы жили в ожидании следующей передышки, и она наступала, причем всегда неожиданно. Раз в два или три месяца Шарма заглядывал в ординаторскую перед началом утреннего консилиума и с виноватым видом сообщал, что ему, к сожалению, срочно надо отлучиться примерно на неделю. Он надеется, что мы в его отсутствие не оставим занятий и будем внимательно вести наших пациентов. При необходимости с ним можно будет связаться в любое время дня и ночи: мобильник всегда при нем.
– Как ты думаешь, куда это он ездит? – спросил я у Прашанта, когда история с внезапным отъездом Шармы повторилась во второй или третий раз.
– Как куда? Ты разве не знаешь? – удивился Прашант. – В Индию ездит, к своему гуру-джи.
– А зачем он к этому гуру-джи все время наезжает?
– Это ты у него спроси.
* * *
Я спросил и в ответ услышал одну из многочисленных историй про гуру-джи, теперь уже не вспомнить, какую именно. За годы моего общения с Шармой слово «гуру-джи» стало настолько привычным, что я до сих пор ощущаю неявное, но подразумеваемое присутствие этого человека, как если бы он был моим очень давним знакомым. Между тем я даже не знаю его имени и никогда не видел его вживую. Видел только на фотографиях, развешенных по квартире Шармы. Из-за очень близко посаженных глаз и кустистой, словно бы накладной бороды лицо гуру-джи кажется плутоватым и утрированным, как у опереточного персонажа. В этом лице нет ни визионерской одержимости, ни выстраданной думы, как у Шри Ауробиндо или Рабиндраната Тагора. Но смеющиеся глаза приковывают к себе, неправильные черты моментально отпечатываются в памяти, их уже не забудешь. В остальном же человек на портрете, занимающем полстены в гостиной у Шармы, мало чем отличается от тысяч других садху[32]: шафранное платье, венок из маргариток на шее, шиваитская трипундра на лбу. На противоположной стене висит другая фотография, где гуру-джи, еще довольно молодой (снимок был сделан в конце шестидесятых), запечатлен рядом со своим учителем. У того – выпяченная нижняя губа и густые, низко нависающие брови, придающие его лицу грозное выражение. Его облик тоже кажется карикатурным, особенно рядом с гуру-джи. Более эффектной парочки не найти: один хитроват и бородат, а другой сердит, как Шива, и лыс, как Ганди. Вот тебе и парампара[33]. Но эти двое – духовные предтечи и учителя Маниша Шармы, которого я, в свою очередь, считаю моим учителем, хоть и по совсем другому предмету.
Ашрам гуру-джи находится в окрестностях Бомбея, но гуру-джи проводит там лишь часть времени. В свои восемьдесят пять лет он еще вовсю колесит по свету, навещая учеников, которые, разумеется, полностью оплачивают эти странствия. Надо заметить, однако, что он никогда и никуда не ездит по приглашению. Его визиты стихийны, предугадать их невозможно. В Нью-Йорке он был всего один раз, лет семь назад, и неизвестно, приедет ли когда-нибудь снова. Но в двухкомнатной квартире Шармы одну комнату занимает сам Шарма, а другая пустует в ожидании гуру-джи. В этой комнате гуру-джи жил и медитировал во время своего непродолжительного визита, и с тех пор подушка, на которой он сидел в позе лотоса, зовется «подушкой гуру-джи». Подушка, накидка, подставка для курительных палочек хранят его вибрации. Словом, этой комнатой безраздельно владеет дух гуру-джи. Как, впрочем, и всей квартирой.
– Ну так что, Шарма, собираешься ты жениться?
– Нет, гуру-джи, не собираюсь.
– Тогда пусть твоя квартира и все, что в ней есть, принадлежит мне. Согласен?
– Да, гуру-джи.
Такой разговор произошел у них пятнадцать лет назад. И за все это время гуру-джи побывал в своей нью-йоркской квартире лишь однажды. Но Шарма ни на секунду не забывает, кто в доме хозяин. Правда, был случай, когда ему потребовалось напоминание. В гости нагрянули друзья юности, бывшие сокурсники из мединститута. Принесли пиво и DVD с порнофильмом. Решили тряхнуть стариной – попить пивка и поглядеть порнушку, как, бывало, делали в общаге. Спросили у Шармы: «Ты не против?» Он не хотел обижать их, сказал, что не против. «Меня, как вы знаете, такие вещи не интересуют. Но вы, пожалуйста, чувствуйте себя как дома». Не успел он это сказать, как в кармане у него загудел мобильник. Звонили из Бомбея.
– Привет, Шарма, прости, что отвлекаю. Скажи, правильно ли я понял, что ты считаешь свою квартиру ашрамом?
– Да, гуру-джи.
– Ага, спасибо. Просто хотел проверить. Ну, пока.
Шарму этот звонок нисколько не удивил: о сверхъестественных способностях учителя ему было хорошо известно. К тому же их общение с самого начала протекало в таком ключе. Гуру-джи никогда ничего не втолковывал, не читал лекций; он учил посредством фокусов и выкрутасов. Заставал врасплох неожиданным звонком, демонстрировал свой дар ясновидящего и экстрасенса. А то вдруг, ни с того ни с сего требовал, чтобы Шарма бросил все и немедленно прилетел к нему в Бомбей. Ослушаться было невозможно: вся система построена на беспрекословном послушании. Если хочешь учиться у гуру-джи, ты должен раз и навсегда поверить, что твой учитель знает, как лучше. Поверить его словам и действиям, какими бы странными они ни казались. Принимать его прихоти, помня, что пути гуру-джи неисповедимы. Короче говоря, Шарма с готовностью делал то, что от него требовалось. Отпрашивался у начальства (благо, Аппани, у которого был свой гуру, относился с пониманием), покупал втридорога авиабилет, забегал в ординаторскую, чтобы сообщить нам, что должен срочно уехать… Но за два часа до вылета гуру-джи мог позвонить ему со словами: «Что-то мне нездоровится. Приезжай лучше в другой раз». И наши внезапно наступившие каникулы столь же внезапно отменялись.
Бывали сюрпризы и похлеще. Как, например, в истории с братом Шармы, Гопалом. В отличие от своего брата, Гопал был далек от религиозного подвижничества. Основатель финансового стартапа и отец троих детей, он был всецело поглощен мирскими заботами, и заботы его множились день ото дня. Чувствуя, что нуждается в отдыхе, Гопал решил слетать на четыре дня в Лондон, куда его младшего брата Маниша вызвал гуру-джи. Сам Гопал с гуру-джи до этого никогда не встречался. В Лондоне все прошло как нельзя лучше. Американский бизнесмен и индийский мистик до того понравились друг другу, что по истечении четырех дней Гопал, удивляясь собственному легкомыслию, отправился не обратно в Нью-Йорк, а в Бомбей – в гости к новому знакомому. Он планировал провести в ашраме неделю, а затем вернуться в Америку в сопровождении гуру-джи, собиравшегося навестить своих учеников в Сиэтле. Но через неделю Гопал позвонил домой и сквозь чавканье и треск трансатлантической связи сообщил жене, что вынужден задержаться еще на несколько дней, так как у гуру-джи открылся сильный понос и он просит Гопала побыть с ним, пока ему не полегчает. Когда, спустя еще две недели, он снова позвонил, чтобы доложить, что гуру-джи до сих пор хворает и никак не хочет его отпустить, жена ответила, что у нее тоже есть новости: компания Гопала находится на грани банкротства, а их старшего сына собираются отчислить из колледжа за неуспеваемость. Если он не вернется домой в течение трех дней, она подаст на развод. «Отпусти меня, гуру-джи», – взмолился Гопал. Но старик только скорчил страдальческую мину и схватился за живот: «Понос, сильный понос! Останься еще на недельку…»
Гуру-джи продержал Гопала у себя ровно год. Когда же Гопал наконец вернулся в Нью-Йорк, оказалось, что его стартап процветает, сын взялся за ум и учится теперь на отлично, а сам он, Гопал Шарма, за этот год стал другим человеком, и новый Гопал нравится жене куда больше прежнего.
– Чему же он вас там учил? – расспрашивала Гопала жена.
– Кто? Гуру-джи? Да так…
– Ну, о чем вы с ним разговаривали?
– Мы мало разговаривали…
– А что вы делали? Все время медитировали?
– Немножко медитировали. Но в основном смотрели телевизор.
– Телевизор? И это всё?
– Нет, не всё. Когда он спал, мы массировали ему ноги.
Однажды по телевизору показывали речь Обамы. Гуру-джи, который никогда не интересовался политикой и не обсуждал ее, вдруг повернулся к любимому ученику и, хитро улыбнувшись, спросил: «Скажи, Маниш, разве этот чернокожий может быть хорошим президентом?» Шарма, пораженный таким вопросом, принялся с пеной у рта убеждать своего учителя в необходимости избавления от расовых предрассудков. Смерив невоздержанного ученика ледяным взглядом, гуру-джи произнес: «Думаю, тебе пора увольняться с работы». И директор ординаторской программы Маниш Шарма, достав из чемодана ноутбук, покорно принялся писать заявление об отставке. Когда заявление было готово, и Шарма уже вводил адрес электронной почты Аппани, гуру-джи как бы невзначай обронил: «Наверно, не обязательно отсылать это заявление прямо сейчас. Лучше подождать…»
Можно ли таким способом чему-нибудь научить? Да и стремится ли он научить? Что это за человек? Что им движет? Проще всего было бы сказать себе, что гуру-джи – типичный лидер культа, то есть, по сути, шарлатан и манипулятор. Может быть, так оно и есть. Но я слишком люблю и уважаю Шарму, чтобы даже не пытаться понять. К тому же мне доподлинно известно о некоторых странных происшествиях, которые я не в состоянии объяснить. Так, например, одна наша с Шармой общая приятельница много лет безуспешно пыталась забеременеть. Испробовав все способы от экстракорпорального оплодотворения до гаитянского вуду, она обратилась за советом к гуру-джи: «Мы с мужем уже десять лет пытаемся завести ребенка, все без толку. Теперь нам обоим за сорок. Есть ли еще надежда?» Гуру-джи пообещал ей, что у нее скоро будет новый муж, и все получится естественным образом, не нужно никакого ЭКО. Женщина удивилась: они с супругом, хоть и не жили душа в душу, вовсе не собирались расставаться. Однако через год она была уже разведена с мужем и помолвлена с другим мужчиной. Когда же назначили день свадьбы, оказалось, что он совпадает с днем рождения гуру-джи (о чем ни жених, ни невеста не подозревали). А еще через год, ровно в тот же день, у них родился сын.
«Если ты когда-нибудь решишь посетить Индию, непременно поезжай к гуру-джи, не пожалеешь», – агитировал меня Шарма. После всех историй и часов, проведенных в комнате, где бородатый мистик следил за мной с фотографии, притворяясь, будто глядит в объектив, я и сам чувствовал, что созрел для паломничества в бомбейский ашрам. Когда представилась возможность побывать в Дели с Сандипом, я попросил Шарму справиться у гуру-джи о возможности визита (я уже выяснил, что от Дели до Бомбея всего два часа лету). Ответ не заставил себя ждать: «Он говорит, что будет рад тебя принять. И еще он просил передать, чтобы ты не беспокоился: то, что он исповедует, никак не связано с религией. Это не религия, это наука». Иными словами, не имеет значения, индус ты или еврей, – у гуру-джи все кошерно. И я стал готовиться к поездке. Сандипу я сказал, что в какой-то момент наши пути разойдутся: я полечу в Бомбей, а он останется с семьей в Дели. Так и для него будет лучше. Ему ведь наверняка захочется пообщаться с родными без назойливого присутствия посторонних и без необходимости все время говорить по-английски. Этот мой довод вызвал у Сандипа бурный протест. Какие еще «посторонние», что за чушь? Наоборот: он способен переносить свою родню только в самых малых дозах; мое присутствие разрядит обстановку и, стало быть, очень ему поможет. Да и вообще, уверен ли я, что хочу провести две недели в ашраме? За это время мы могли бы столько всего посмотреть! Но я был настроен решительно, и моему другу пришлось покориться. При этом я старался быть готовым к тому, что все может еще сорваться в последний момент. Так и случилось. За полторы недели до поездки гуру-джи позвонил Шарме и как ни в чем не бывало сообщил, что не сможет меня принять, так как ровно в то время, когда я собирался у него гостить, он будет в Ченнаи. Но если я хочу приехать к нему через месяц, он, понятно, будет только рад. Мои тщательно выстроенные планы лопнули, как мыльный пузырь, и я вздохнул с облегчением.
И все же во время путешествия по Индии я то и дело пытался представить себе гуру-джи и его ашрам, примеряя контекст всего, что я видел вокруг, к тому странному, герметичному миру, в который я так и не попал и вряд ли теперь когда-нибудь попаду. Даже если верить утверждению Упанишад, что человек, правильно использующий свою пранаяму[34], должен дожить до ста лет, время ухода восьмидесятипятилетнего гуру-джи не за горами. Что будет делать брахмачарья Шарма, когда его учитель умрет? Однажды мы говорили об этом. Шарма сказал, что собирается принять саньясу[35]; в этом состоял изначальный план. Перед тем как навсегда погрузиться в самадхи, а может быть еще раньше, гуру-джи даст Шарме сигнал, и тот откажется от своей нынешней жизни, уедет из Нью-Йорка, оставит медицину, пациентов, друзей и учеников. Он вернется в Индию, чтобы предаться окончательному одиночеству йогического созерцания. Разумеется, он будет нас помнить, и если, например, мы с Прашантом когда-нибудь решим его навестить, он будет только рад… Иначе говоря, мы больше его не увидим.
Рахман
В эмиграции, как известно, все становятся кем-то еще. Русские евреи превращаются в Russians, а выходцы с индийского субконтинента перестают быть индусами, мусульманами, сикхами, джайнами, христианами из Кералы или парсами из Мумбая – и становятся сразу и тем, и другим, и третьим. Белому человеку трудно отличить пакистанца от пенджабца, бенгальца из Индии от бенгальца из Бангладеш. Все религиозные и этнические различия, веками служившие почвой для кровопролитий, разом стираются, и вместо нескольких сотен народностей, языков и религиозных течений появляется один усредненный образ темнокожего человека в тюрбане, пропитанного запахами восточного базара, говорящего с определенным акцентом. В худшем случае это образ врага; в лучшем – нечто чужое, но уже вроде бы знакомое. В Нью-Йорке в этом смысле дела обстоят лучше, чем где-либо еще: человек в тюрбане здесь так же привычен, как человек в кипе или в бейсбольной кепке. Все живут бок о бок, замечая или не замечая друг друга. Кроме лозунгов, призывающих вернуть Америке былое величие, на бамперах случается увидеть и другие наклейки – например, слово «coexist», где буква c заменена полумесяцем, буква х – магендовидом, буква s – символом «инь-ян», а буква t – крестом. Сосуществование возможно, таков посыл, даже если нам не отличить суннита от шиита, вайшнава от шиваита.
Врач, работающий в Нью-Йорке, имеет дело с иммигрантами со всех концов света; они – его коллеги и пациенты, и это дает ему возможность узнать другие культуры так, как их никогда не узнает путешественник, сколько бы времени тот ни провел в чужой стране. Десять лет назад, когда я строчил свои первые рассказы о хирургической практике в пуэрториканском Южном Бронксе, я не предполагал, что мне предстоит совершить «кругосветное путешествие» по нью-йоркским больницам, переходя из Ганы в Индию, из Индии – в Корею, с заездами в местный Египет, в Грецию, в Китай, на Филиппины. Мне хотелось зафиксировать этот опыт, но по мере записывания становилось все очевиднее, что подразумеваемый «взгляд изнутри» – иллюзия, потому что мое знакомство с той или иной культурой всегда происходит на фоне экстремальной ситуации. Речь идет о жизни и смерти; любая культурная специфика в этом контексте сводится к минимуму. Пакистанца не отличить от пенджабца, бенгальца из Индии от бенгальца из Бангладеш, человека в тюрбане от человека в кипе или в бейсбольной кепке. Все реагируют одинаково, хотят одного и того же. Но это равенство неутешительно. Если это и есть тот самый переход от множества к единству, предписанный адвайтой, то он – не то, к чему хотелось бы стремиться. Равенство и единство – это смерть, множество и неравенство – жизнь. Изо дня в день имея дело с умирающими людьми, я хватаюсь за все поверхностное – за соблазнительную экзотику, странную еду и одежду, внешние различия, примитивные стереотипы – за все, что возвращает в область жизни. Это мой защитный механизм.
Индийские пациенты не носят врачу подарков, как русские и американцы; не качают права и не угрожают жалобами, как итальянцы; не предаются панике, как женщины из Латинской Америки. В основном пациенты из Индии спокойны и доброжелательны; с ними приятно иметь дело. Я люблю запахи карри и курительных палочек, которыми пропитана их одежда. Люблю обращение, которое они используют, когда зовут медбрата: «пхаи-сахиб», то есть «брат-господин» (что ни говори, «брат-господин» звучит куда приветливей, чем «молодой человек»). Люблю слушать их разговоры в приемной, их английский, исковерканный на особый индийский лад:
– Ramesh will go to New Jersey for buying new car, is it?
– Yes, he will go tomorrow itself.
– What he is thinking? In New Jersey even it is costing too much.
– Don’t worry, this place it is very less. Less profit only they are taking.
Я выглядываю в приемную, вижу там двух бенгальцев, молодого и старого. Молодой бенгалец с церемониальной важностью поднимается мне навстречу, представляется: «Абу Рашид. А это – доктор Рахман, мой тесть и ваш пациент». Я уже наслышан о докторе Рахмане. Коллега, который направил его ко мне на облучение, специально позвонил предупредить: этот Рахман – ВИП из Бангладеш, по слухам большой филантроп и меценат, сделал огромные пожертвования какому-то медицинскому центру не то в Техасе, не то в Аризоне, да и в Бангладеш он, говорят, целую больницу построил за свой счет. Все это я уже слышал. Но доктор Рахман не доверяет чужим рекомендациям, хочет сам рассказать о своих достижениях. Вообще-то он хирург, но последние двадцать лет непосредственно медициной не занимается. Занимается благотворительностью. Построил с десяток госпиталей у себя на родине, примерно столько же в других странах. Раздает гранты направо и налево, читает лекции по всему миру, выступает в ООН. Последние шесть или семь президентов США – его близкие друзья. Он писал письма Рейгану, тот ответил и пригласил его в Белый дом. После одиннадцатого сентября он, доктор Рахман, правоверный мусульманин, был первым, кто выступил против Усамы бен Ладена и его террористической организации…
Зачем он все это мне рассказывает? Что за глупость? Не глупость, а деменция. Бедный доктор Рахман, восьмидесятилетний ВИП из Бангладеш, выжил из ума и теперь несет околесицу, решив, что я буду лучше его лечить, если увижу в нем большого человека. Молодой бенгалец Абу Рашид сидит с каменным лицом, не поощряя, но и не прерывая конфабуляции тестя. Деменция деменцией, а человек он, судя по всему, богатый, глядишь, и нашему отделению что-нибудь отвалит. Так рассуждает наша администраторша Джейми. Возможно, зять Рахмана рассуждает так же. Все в порядке вещей, и, сколько я ни сопротивляюсь и ни прошу Джейми оставить старика в покое, она упорно гнет свою линию: «После того как вы закончите консультацию, я попрошу его ненадолго задержаться и подниму тему благотворительности. Наше отделение нуждается в пожертвованиях не меньше прочих, вы сами это прекрасно знаете. Разумеется, вам не нужно присутствовать при этом разговоре. От вас требуется только представить меня пациенту, а дальше я сама». В госпитале Аполло пациенты протягивают доктору взятку перед началом консультации. У нас все устроено несколько хитрее, но, думаю я, в сущности, разница невелика. Я не хочу участвовать в этом позорище, но у меня нет выбора: Джейми уже сама постучалась, приоткрыла дверь в кабинет. «Можно? Я – Джейми Кориган, а вы, как я понимаю, доктор Рахман. Как же мне приятно с вами познакомиться! Я столько слышала о ваших заслугах, о вашей щедрости…» На лице у старика отражается страх. Я говорю, что мне пора, и выскальзываю за дверь. Я не хочу быть свидетелем этой сцены. Все продолжается недолго, минут десять. Первой из кабинета выходит Джейми; выражение лица у нее озлобленно-деловитое. Вслед за ней в дверях появляются сконфуженные бенгальцы. «Кажется, вы были правы, – бросает мне Джейми, нисколько не заботясь о том, что ее может услышать Рахман. – Игра не стоила свеч. Мне кажется, он вообще никакой не меценат. Просто старый маразматик».
Через неделю Рахман приходит на первый сеанс лучевой терапии. Вид у него сияющий. На сей раз, кроме Абу Рашида, его сопровождают еще двое – зятья или сыновья, кто их знает.
– Сегодня, – торжественно начинает Рахман, – я хочу подкрепить слово делом. В прошлый раз я говорил вам, что всю жизнь занимаюсь благотворительностью, помогаю талантам, поддерживаю достойные начинания. Теперь я докажу вам, что это были не пустые слова. Я хочу, – голос Рахмана дрожит от волнения, – я хотел бы… я решил представить вас к награде.
С этими словами Рахман достает из портфеля довольно увесистый предмет. При ближайшем рассмотрении он оказывается дипломом в бархатном футляре. На блестящий алюминиевый композит накатано мое фото с больничного веб-сайта, а снизу красивыми буквами выгравировано: «Доктор Джари Рахман награждает этим дипломом доктора Александра Стесина». Выглядит внушительно. Я благодарю Рахмана за прекрасный подарок, я действительно очень тронут. На лице у него играет гордая улыбка.
– Вы знаете, – говорит он, – последние семь президентов США были моими друзьями. Я писал Рейгану письма, и он лично пригласил меня в Белый дом. После одиннадцатого сентября я был первым, кто заклеймил Усаму и его организацию. Вы помните одиннадцатое сентября?
Да, я помню, хотя за пятнадцать лет мои воспоминания успели перемешаться с телекадрами. Толпы бегущих по Бруклинскому мосту, полицейские и пожарные команды, тарабарщина объявлений по громкоговорителю, а наверху – люди выбрасываются из окон горящей башни… Все это видела моя жена Алла. Она была среди тех, кого эвакуировали. В хронике, которую из года в год крутят по CNN в этот день, мелькает ее испуганное лицо, и каждый год доброхоты с радостным «тебя опять по телеку показывали!» непременно присылают ей ссылки, а иногда и стоп-кадры, сколько она ни просит не присылать, не напоминать… Я в этот день был на другом конце Манхэттена – проходил практику в Гарлемской клинике. Помню, как возвращался домой через весь город пешком (метро остановили). Помню оцепенелую тишину на улицах Мидтауна, только у телефонов-автоматов – очереди и причитания, все пытаются дозвониться до родных. Помню, как на углу 66-й улицы пожилая женщина в хиджабе, по виду откуда-то из Пакистана или Бангладеш, повторяла, как безумная, обращая свои слова в безответное пространство: «Теперь они нас убьют, теперь они всех нас убьют…»
Аполло
– …Или еще вот такая история, – Сандип болтал без умолку, повернувшись вполоборота ко мне, сидящему сзади. – Дрона пообещал своему любимому ученику Арджуне, что тот будет лучшим на свете лучником. В один прекрасный день к Дроне приходит юноша Экалавья и говорит: «Научи и меня стрелять из лука». Но Экалавья – не ариец, он – из кочевого племени, то есть низшей расы. И Дрона отказывается взять его в ученики. Тогда Экалавья уходит в лес и лепит из глины образ Дроны. С этим глиняным истуканом Экалавья делит пищу, поклоняется ему, называет учителем. Тренируясь в стрельбе из лука, представляет себе, что это Дрона его учит. Он тренируется много лет подряд и в конце концов становится лучшим стрелком, гораздо лучше Арджуны. И вот однажды заблудившийся в лесу охотничий пес Арджуны с громким лаем подбегает к хижине Экалавьи. Тот хочет заткнуть пса и выпускает ему в пасть семь стрел. Но делает он это так искусно, что пес остается невредим и, зажав стрелы в зубах, прибегает обратно к Арджуне. Арджуна удивляется: «Что за великий лучник живет в лесу?» И бежит жаловаться Дроне: дескать, ты сказал, что я буду лучшим из лучших, а там в лесу живет какой-то неведомый богатырь, он умеет то, чего не умею я. Дрона с Арджуной отправляются в лес, находят там хижину Экалавьи. Тот страшно рад Дроне: «Учитель, наконец-то вы пришли!» Дрона смущен: «Разве я твой учитель? Я тебя совершенно не помню». «Вы меня когда-то отвергли, но это не важно, вы – мой учитель, и я обязан вам всем, что у меня есть». «Раз так, – говорит Дрона, – дай мне мою дакшину». Дакшина – это такое вознаграждение, которое ученик должен дать своему гуру. «Все, что пожелаете, учитель!» «Дай мне свой правый большой палец». Экалавья, недолго думая, отрубает себе палец и протягивает его Дроне. Без пальца он, конечно же, не сможет больше стрелять из лука, и Арджуна снова будет вне конкуренции. Вот такая грустная история. Хотя, если вдуматься, Дрона в этой истории ведет себя именно как гуру. Он ведь учит Экалавью тому же, чему Кришна потом будет учить Арджуну: отринь привязанности. А мастерство – это привязанность, верно? Если он не сможет больше стрелять из лука, значит у него будет одной привязанностью меньше. Но и привязанность к гуру – это тоже привязанность. Поэтому в следующей части книги Кришна будет призывать Арджуну не щадить в бою своего учителя Дрону. Так что все по-честному. А Экалавью потом убьет сам Кришна…
Стоя в пробке, можно прослушать не один эпизод из Махабхараты. Уж я-то знаю: в Нью-Йорке я трачу на дорогу по полтора часа в один конец – слушаю много аудиокниг. Историю Дроны и Экалавьи я слышал и раньше, но в силлабо-тоническом переводе Семена Липкина она звучала совсем не так живо, как в вольном пересказе Сандипа. С той же непринужденностью мой попутчик пересказывал и другие эпизоды: про детей Шантану и Ганги, про сожжение змей, про подвижника, чьи предки висят вниз головой на тонком стебле, который неумолимо грызет крыса Время…
Водитель Манудж тоже заслушался, в результате чего мы поехали не в ту сторону и вынуждены были сделать большой крюк.
– Больше никогда не стану нанимать этого болвана, – кипятился Сандип. – Мало того что он сегодня утром запросил цену втрое выше той, о которой мы договаривались на прошлой неделе. Так теперь мы из-за него еще и в Аполло опоздаем.
Но его опасения были напрасны: мы ни на секунду не опоздали. Вернее, опоздать-то мы опоздали, да только главврач Неха Кумар, с которой мы должны были встретиться, опоздала еще больше нашего. Возможно, ее таксиста тоже кто-то сбил с толку захватывающими сценами из Махабхараты.
Огромный госпиталь Аполло производил странное впечатление: грандиозный вестибюль с мраморными колоннами напоминал мою альма-матер – госпиталь Корнеллского университета в Нью-Йорке. Архитектурный размах фасада свидетельствовал о неограниченных возможностях. У посетителя, глядящего на этот фасад, не возникало сомнений: здесь все по высшему разряду. Но чем дальше мы углублялись в лабиринт приемных покоев, неприютных комнат, набитых тревожно и покорно ждущими пациентами, тем больше обстановка начинала напоминать ту клинику в Гане, где я когда-то работал волонтером. Вспомнился и Линкольн-Хоспитал в Южном Бронксе, где я проходил хирургическую практику: как однажды во время лапароскопической операции я попросил у медсестры стерильное полотенце и теплую воду, чтобы протереть линзу лапароскопа. Полотенце мне дали, а на повторную просьбу принести подогретой стерильной воды ответили: «Подогретой воды нет. У нас тут не Корнелл». То же и в Аполло. Все как будто специально устроено так, чтобы пациент знал свое место и ни в коем случае не забывал: «У нас тут не Америка». Теплой воды (чая, кофе, журнала, подушки, чистого туалета – элементарных удобств) нет и не будет. Нет и других, более существенных вещей. Например, предварительной записи на прием к врачу. Онкобольные приходят ни свет ни заря, чтобы встать в очередь. Если их не примут сегодня, они придут завтра, послезавтра. Они будут приходить, пока не откажут ноги; а когда это произойдет, их переведут в другую очередь – в стационар. И за все это им придется платить наличными. Те, у кого нет денег, лечатся в госучреждениях, где ресурсов совсем мало. Те, у кого денег много, ездят на лечение в Америку или в Европу. Аполло – промежуточный вариант. Здесь вполне современное оборудование и квалифицированные врачи, а очереди значительно короче тех, что можно увидеть в Дхарамшиле или Всеиндийском институте медицинских наук. И то сказать, в очереди стоят те, кто не умеет давать взятки.
В приемной отделения лучевой терапии сидела секретарша и, как бы отдуваясь за всех, с неестественным воодушевлением стучала по клавишам. Что же она там печатает с такой скоростью? Может, наш разговор стенографирует? Да ведь нечего стенографировать: за последние пять минут мы с Сандипом не сказали друг другу ни слова. Может, книгу пишет? В другое время этот маниакальный стук клавиш вывел бы меня из равновесия. Но сейчас он даже понравился: словно на табле[36] играет. Того и гляди, запрокинет голову и вдохновенно затараторит: «Дха-дхин-га-ка-на-на-та-ти-тиракита-тита-тин-ту…» Кто слышал, знает, о чем я. А кто не знает, сейчас узнает: пока мы тут скучаем в приемной, можно и на музыку отвлечься.
Скороговорка, которую таблаист произносит, как заклинание, прежде чем дотронуться до барабанов, завораживает слушателя. На самом деле, музыкант таким образом проговаривает ритмический пассаж, который собирается сыграть. В былые времена игре на табле обучались вот как: первые семь лет ученик затверживал слоги и лишь на восьмой год, в совершенстве овладев мнемонической скороговоркой, получал право прикоснуться к барабанам. Во всяком случае, так утверждал мой друг Абхиджит. Это он когда-то приобщил меня к хиндустанской классической музыке. «Заметил ли ты, что среди профессиональных исполнителей европейской симфонической музыки полным полно корейцев, японцев, китайцев и кого хочешь еще, но почти нет индийцев? Как ты думаешь, почему?» Я терялся в догадках, и Абхиджит, довольный моим неведением, с расстановкой отвечал на свой вопрос: «Потому что у нас есть достойная альтернатива. Индия – единственное место в мире, где существует музыкальная традиция, сравнимая по сложности и элитарности с европейской классикой. У нас есть свои Моцарты и Бетховены». Я охотно верил. Мы ходили на выступления Вилайята Хана, Закира Хуссейна, других великих пандитов и устадов. Один раз даже побывали на всенощном концерте карнатической вокальной музыки. В Индии такие всенощные бдения, джаграты, устраивают в честь богини Дурги. Классическая джаграта – это нечто среднее между музыкальным фестивалем и спиритическим сеансом. Многочасовое мелизматическое пение способствует погружению в транс. Под нью-йоркскую джаграту арендовали большую негритянскую церковь в Гарлеме. Слушатели пришли со спальниками, расположились кто где мог. Пение сопровождалось жужжанием тамбуры, накрапыванием и бульканьем таблы, переливами бансури[37]. Под утро, когда зазвучала рассветная рага, я обнаружил, что уже несколько часов сижу неподвижно. Вот оно, искомое растворение эго, выпадение из пространства, времени и причинности майи. Вивекананда учит, что наше ограниченное «я» проявляется на среднем уровне сознания, ниже которого – тамасический сон, а выше – самадхи. Что же это было, низший или высший пилотаж, тамас или самадхи? Так или иначе, было здорово. Что касается Абхиджита, он не выходил из транса весь следующий год. Мы работали с ним в одной лаборатории, но виделись в основном в нерабочее время, так как на работе он появлялся крайне редко. Чем дальше, тем реже. «Где этот чертов Абушит?» – бушевал завлаб Юрген, чья немецкая душа переполнялась негодованием при одном упоминании об аспиранте-таблаисте. «Где он, черт его побери? Приведите его сюда!» И я плелся в общежитие, подолгу стучал в дверь Абхиджита, пока он не открывал наконец – весь взъерошенный, красноглазый. «Чем ты тут занимаешься?» «Да так… Курю ганджу, играю на табле… Вот новый концерт Бомбей Джаяшри[38] скачал… Хочешь послушать?» В конце концов его выгнали из института. Он вернулся в Индию – и неожиданно остепенился. Обзавелся семьей, завязал с ганджой. Теперь он работает гематологом в Мемориальном госпитале Тата в Бомбее. В следующий раз надо будет его навестить.
Доктор Неха Кумар появилась в полдень. В Дели, где все привыкли вести ночной образ жизни, рабочий день, как правило, начинается не раньше десяти, а то и одиннадцати утра. Но полдень – это уже слишком даже для Дели. К тому же ведь мы договаривались на одиннадцать. Предметом нашей встречи должна была стать программа совместных клинических испытаний. Но как только мы расположились для разговора в просторном кабинете главврача, я понял, что никаких совместных исследований не будет: передо мной сидел Шри Аппани в юбке. Тот же взгляд поверх очков; та же непроизвольная подвижность лица, которому слишком долго (но не слишком успешно) пытались придать выражение искреннего участия.
– А вот и вы, проходите, проходите. Мы вас ждали. Я уж про вас от Данды наслышана. Он вас хвалил, а это дорогого стоит…
Я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь называл его Дандой. Я тщетно попытался представить себе Дандаюдхапани Аппани ребенком или хотя бы юношей. Каким он был до того, как стал Человеком-пауком?
– Простите за нескромный вопрос, а вы очень давно знаете доктора Аппани?
– О, я его знала, когда вас еще на свете не было. Мы познакомились на первом курсе мединститута. Уже тогда было понятно, что из него выйдет выдающийся врач. Кстати, как поживает его дочка? Она ведь тоже врач, да?
– Да, она работает пульмонологом в частной клинике.
– А зять? Правильно ли я помню, что его зять занимается онкологией?
– Так и есть. Рудра.
– Точно, Рудра. Я слышала, он делает большие успехи. Кажется, ему дали профессорскую ставку в том же госпитале, где работает Данда?
– Не просто в том же госпитале, а в том же отделении, – не удержался я.
– Что ж, надо думать, он – очень способный молодой человек, – парировала доктор Кумар.
О способностях Рудры я тоже мог бы кое-что рассказать. Ведь это мы с Прашантом по просьбе Аппани натаскивали Рудру к государственному лицензионному экзамену, который он до этого дважды заваливал. А с другой стороны, кто сказал, что все должно быть по справедливости? Я промолчал, и, оценив мое молчание, Неха Кумар завела профессиональную пластинку. Как вскоре выяснилось, таких пластинок у нее было две. Одна – для пациентов – напоминала пластинку Аппани («Вам повезло, вы попали к лучшему специалисту в лучшем отделении лучшего госпиталя…») и заканчивалась объявлением цены («для вас – со скидкой»). Вторая пластинка предназначалась для иностранных коллег и звучала примерно так: «Даже у нас, хотя по сравнению с остальными индийскими госпиталями Аполло – Мекка медицины, однако даже у нас – катастрофическая нехватка ресурсов. Это, увы, повсеместная правда индийской жизни. Но мы стараемся, изобретаем, выкручиваемся… Голь на выдумки хитра… Работаем в поте лица и даже в таких неблагоприятных условиях умудряемся время от времени творить чудеса…» Эту пластинку и прослушали мы с Сандипом. После церемониальной паузы мы выразили свое неподдельное восхищение самоотверженностью коллег из Аполло, а затем снова сделали паузу, давая понять, что на пожертвования с нашей стороны рассчитывать не стоит. Кажется, никакой другой реакции от нас и не ожидали. Доктор Кумар с видимой неохотой поглядела на часы (без четверти час), потом – с еще большей неохотой – на дверь, за которой с шести утра толпились больные.
– Ну что ж, – сказала она, – пора начинать прием. С двух до трех у нас обеденный перерыв, а после обеда – ваш доклад, доктор Стесин. Мы его с нетерпением ждем.
– Когда же вы успеете принять всех ваших пациентов?
– Всех? Если удастся посмотреть четверть, уже хорошо. Но вообще вы правы: что-то их сегодня у нас многовато, надо будет подключить Амиша.
С этими словами она вышла из кабинета, а через минуту вошел ее ассистент, доктор Амиш Гупта. Вдумчивый, обходительный – он мне сразу понравился. В течение следующих полутора часов, пока Сандип общался с коллегами-физиками, мы с Амишем принимали пациентов. Вернее, он принимал, а я сидел рядом. Прописывая лечение, он то и дело поворачивался ко мне: «А как бы у вас в Америке это лечили?» И всякий раз мне казалось, что он скорее разочарован, чем обрадован моим ответом: «Точно так же».
Амиш
Планировка больничных корпусов предусматривает множество вариантов, но, если вы спросите, как пройти в отделение радиоонкологии, вас почти наверняка отправят в подвал. В этом отношении между госпиталями Нью-Йорка, Дели и других городов планеты нет никакой разницы. Оно и понятно: где еще, как не в подвале, разместить бункер с бетонными и свинцовыми стенами, а внутри бункера – линейный ускоритель весом в десять тонн? Есть, впрочем, и другая причина. В подвал прячут все самое неудобное и неприглядное, а «онкология» и «радиация» – два слова, от которых большинству людей становится не по себе. Тут и Чернобыль, и Хиросима, фотографии жертв лучевой болезни, журавлики Садако Сасаки – словом, полный комплект подкорочных кошмаров. Если же сложить два страшных слова вместе, получится медицинская специальность, радиационная онкология. Лечение раковых заболеваний с помощью ионизирующих лучей. Моя профессия. Но сколько бы такие, как я, ни твердили про целебный мирный атом, большинство окружающих, включая коллег из других областей медицины, продолжают ассоциировать радиацию с кунсткамерными ужасами, которым место в катакомбах. С глаз долой, из сердца вон. И радиотерапевтические отделения всей Земли продолжают делить жилплощадь с анатомическим театром, моргом и прачечной.
Окончив прием, мы с Амишем вышли в подвальный коридор, и я втянул знакомый запах – смесь формалина с моющим средством. В одном известном интервью Иосиф Бродский рассказывал, как когда-то, еще в первые месяцы эмиграции, сидя за рабочим столом, он потянулся за словарем и вдруг понял, что это машинальное движение снимает любые различия между «здесь» и «там». Куда бы ни забросила его судьба, его левая рука будет вот так же тянуться к словарю, пока правая дописывает строчку. Эта мысль, говорит поэт, помогла ему избавиться от дискомфорта, связанного с обживанием нового пространства. Красивая байка, мне она всегда нравилась. Если привычное телодвижение может служить точкой отсчета, что и говорить о привычных запахах – они подавно способны связать любое «здесь и сейчас» с душемутительным «там и тогда». Я снова повел носом и, вдохнув родную химию, на минуту почувствовал себя как дома. Но только на минуту.
Чтобы выйти к лифту (тому, что возвращает посетителей преисподней на поверхность Земли), нам пришлось довольно долго плутать по лабиринту подземных коридоров. В какой-то момент у меня возникло подозрение, что Амиш и сам толком не знает, куда нам идти. Но наконец впереди загорелась красным светом табличка «Выход», а затем мы неожиданно очутились в центре странной безмолвной толпы в темных спецодеждах. Кто это, люди или тени? Дети подземелья. Нет, они не ждали лифта. Ждали чего-то еще, какого-то сигнала к действию. До нас им не было дела. Когда мы подошли вплотную, они расступились, вжались в стены и, глядя прямо перед собой, пропустили нас, как караул пропускает колонну туристов к национальному монументу. «Это новая партия ассенизаторов, – пояснил мой проводник. – Только что заступили. Ждут инструктажа». В глазах у новобранцев читались гордость и страх. Им, нанятым на работу, несказанно повезло, но их могут заменить в любую минуту. Под этим подвалом еще много уровней, бесконечно нисходящих ступеней социальной лестницы. Как бы ни был ты беден, всегда найдется тот, кто беднее тебя. Там, внизу, открывается бездна. Нижней ступени не видно, но если она и есть, ее занимает не блаженный нищий в охряном одеянии, не садху (тот вообще стоит особняком – в стороне от этой лестницы), а некто, напрочь потерявший человеческий облик.
Видно, не зря все-таки Прашант с Рудрой в один голос повторяли: «Если Африка – третий мир, то Индия – четвертый». До сих пор я принимал эту сентенцию за шутку и, кажется, только сейчас обратил внимание на заведомую долю правды. Здесь, в отличие от Африки, самое удручающее замечаешь не сразу. Спрашивается почему. Ведь всё, казалось бы, на виду. Вот беспризорный ребенок, сидя на бордюре у входа в дорогой ресторан, жжет пластмассовую бутылку, чтобы согреться. Вот попрошайка-трансвестит снует среди машин, предлагая автомобилистам потрепанную Бхагавад-Гиту за несколько рупий (о хиджрах, людях «третьего пола», некогда связанных с культом богини Бахучара-Маты, я читал в свое время и у Джона Ирвинга, и у Джита Тайила, но, по словам Сандипа, о жреческом предназначении хиджр все давно позабыли, и теперь в индийском обществе к ним относятся хуже, чем к прокаженным). Вот работник, собирающий деньги за проезд на платной магистрали, – похожий на дистрофика из Дахау, но выряженный в униформу с бейджиком «Шарма» (брахманская фамилия!), – высовывается из своей кабинки, чтобы подобрать с земли выброшенный кем-то яблочный огрызок. Вот другой доходяга с наступлением дня вылезает из-под прикрытия картонных коробок. Вслед за ним появляется женщина, в руках у нее пластмассовая канистра с водой из канавы (эта вода будет им завтраком). Они чистят зубы веточками, как в африканской деревне, и их картонные жилища точно напоминают Африку – например, тот лагерь беженцев, который я видел на границе Эфиопии с Суданом. Только в данном случае лагерь разбили в самом центре города, в среднем течении одной из главных улиц, недалеко от Коннот-плейс. «DP from CP»[39]. Скоро эту выгородку снесут по приказу городских властей, и обитатели картонных коробок опустятся еще на ступень ниже (что это за ступень, можно только догадываться). Вот люди, чей мир для посторонних закрыт так же плотно, как мир заоблачных богачей. Бенгальская пословица гласит: «До тех, кто наверху, можно дотянуться, только если бросать в них камни»; а до тех, кто внизу? Индийская беднота представляет собой как бы другой антропологический тип: по-дравидийски смуглые, почти черные, худые, как щепки, мужчины в коротких дхоти и женщины в цветастых сари (сама цветастость служит знаком низкого положения). Бессловесная прислуга, не реагирующая на твои американские приветствия. Они недоступны для контакта, для твоего участия, искреннего или показного, для жалости. И ты видишь их боковым зрением или вовсе не замечаешь, как будто здешнее мироустройство каким-то образом влияет на твой зрительный аппарат, создает слепые зоны, не позволяя прикасаться взглядом к той стороне жизни, что от века зовется неприкасаемой. Не прикасаться, не заглядывать в бездну – и тогда, ужиная в «Бухаре» или в «Дум-пухте», можно пуститься в рассуждения о позитивной дискриминации, о резервировании должностей в государственном секторе для представителей низших каст, о том, справедливо это или нет. Можно даже позволить себе немного назидательности, произнося что-нибудь вроде «любая правда правдива только отчасти».
* * *
На следующее утро после непродолжительного приема пациентов Амиш взял увольнительную, чтобы показать мне достопримечательности, которых мы накануне так и не увидели с Сандипом.
Сам же Сандип в это утро был зван в подневольные гости к шурину, о котором он отзывался без особой приязни. «Тебе туда не надо, я схожу к нему сам. Надеюсь, ненадолго. Ничего, что я тебя оставляю одного? Разберешься?» Оставшись без попутчика, я воспользовался любезным предложением Амиша поводить меня по храмам Дели. Что до Сандипа, он был только рад препоручить меня Амишу и таким образом отвертеться от обязательной «храмовой экскурсии» (в отличие от Прашанта, он не возвещал urbi et orbi о своем атеизме, но от мандира[40] предпочитал держаться подальше). С Амишем мы побывали в бахайском храме Лотоса, который Сандип помогал проектировать, будучи студентом, больше тридцати лет назад; в златоглавой гурдваре[41] Бангла Сахиб с лангаром на тысячу человек и огромным прудом, наполненным святой водой; в храме обезьяноподобного бога Ханумана, где с августа 1964 года и по сей день непрерывно звучит мантра радости «Шри рам джей рам».
Последним номером программы шел мраморный храм Лакшми-Нараян. Расположенный на улице Мандир-Марг, среди развалин, из которых, точно паразитарные фикусы, росли новые дома, этот комплекс, окруженный садом с фонтанами и каскадными водопадами, больше походил на музей, чем на место богослужения. Здесь не было ни столпотворения калек и нищих, как на паперти храма Ханумана, ни очередей за прасадом[42], как в Бангла Сахибе. В главном святилище, хоть оно и было открыто со всех сторон, я впервые с момента прибытия в Дели не услышал всепроникающего запаха гари. Можно было подумать, что воздуху на территории этого храма дарован автономный статус. Ни гари, ни смога, только прохладная сандаловая свежесть. Тишина, нарушаемая разве что редкими всплесками голубей под куполом. Небольшая группа прихожан, человек пять или шесть, выстроилась в безмолвную очередь у алтаря, и священник, панда-джи, мазал каждому межбровье красной пастой. Это – тилака, отличительный знак индуизма.
– Хотите, он и вам намажет? – шепнул мне Амиш.
– Нет, спасибо, мне тилаку нельзя. Религия не позволяет.
– Правда? А кто вы по вероисповеданию?
– Иудей.
– Иудей? – переспросил он с неожиданным воодушевлением. – Очень хорошо!
– Хорошо? Чем хорошо?
Мы вышли в сад, и мой новый знакомый пустился в экскурс, из которого следовало, что у индуизма с иудаизмом много общего. Гораздо больше, чем люди думают. Например? Ну, например, известно ли мне, что иудейское «омейн», а стало быть и христианское «аминь», произошло от индуистского «ом»? Или о связи между бар-мицвой и упанаяной? Между пейсами и священной прядью брахмана? Между цицит и брахманским шнуром? Между хупой и мандапамом? Или о том, что каббалистические сфирот соответствуют индуистским аватарам? Есть и такая теория. А число 18, которому в иудейской нумерологии отведено почетное место? Откуда пришла эта нумерология? Правильно, из индуизма. Вся «Махабхарата» строится на магическом числе 18, об этом написано немало книг. А как насчет змея Такшаки, с которого начинается та же «Махабхарата»? Уж не перекочевал ли он в Книгу Бытия из эпоса Вьясы? На этом месте я решился внести свои пять копеек: насчет змея я сомневаюсь. Насколько я понял, Такшака олицетворяет непреложность кармического закона, от которого не уйти нечестивому царю Парикшиту. Библейский же змей представляет собой онтологическую природу зла, его необходимость и несамостоятельность по отношению к вселенскому замыслу Творца. Все-таки это разные «змеи», хотя безусловно родственные…
Амиш уставился на меня так, как если бы я вдруг заговорил на чистом хинди. Пользуясь его замешательством, я продолжал разглагольствовать. Что касается параллелей между иудаизмом и индуизмом, эта мысль мне и самому неоднократно приходила в голову. У Найпола в «Территории тьмы» есть запоминающаяся сцена, где семейство брахманов принимает пищу во время паломничества в крепость Пандавов. Автора поражает нарочитая грубость их манер, сочетание неопрятности с ортодоксальной строгостью, небрежность, за которой кроется тысяча правил и запретов. Читая это описание, я невольно представлял себе не брахманов, а хасидов из Боро-парка. Действительно очень похоже.
– У вас, наверное, много друзей из Индии, – предположил Амиш, оставляя мою речь без прямого ответа. – Я рад, что вас, как и меня, интересуют вопросы религии. Ваши индийские друзья, должно быть, рассказывали вам об индуизме?
Я утвердительно покачал головой и тут же устыдился: этот жест – первое, что перенимают туристы, желающие казаться искушенными в местных обычаях. Все еще стараясь произвести впечатление на моего собеседника, я вкратце поведал ему о своих премудрых беседах с Прашантом, о карамазовском богоборчестве последнего. Казалось, Амиш слушает меня вполуха или вовсе не слушает. Его скучающий вид заставлял меня тушеваться и по нескольку раз повторять одно и то же. Когда я наконец умолк, он в свою очередь покачал головой и включил безопасный режим монолога.
– В Катха-Упанишаде сказано: «Сто один путь исходит из сердца; один из них ведет к верхушке головы». Вот вы говорите, что ваш друг Прашант вырос в Индии и получил здесь образование. Но у него какой-то очень западный подход. Индийская философия начинается с размышлений о природе страдания, это верно. Но она, в отличие от западной, не одержима вопросом божественной несправедливости. Если существует страдание, значит должен быть и способ его устранения. На этом и надо сосредоточиться.
Очевидно, затевая этот разговор с Амишем, я надеялся услышать нечто, чего никогда прежде не слышал и что навсегда изменило бы мое миропонимание. Озарение, откровение – разве не за этим едут в Индию? Живут в ашраме, записываются на курсы випассаны, увязываются за каким-нибудь бесноватым бородачом, распознав в нем великого гуру? Но вместо искомого откровения я услышал лишь общеизвестную сентенцию. Сетуя на несовершенное устройство нашего мира, запад спрашивает «кто виноват?»; восток же начинает с вопроса «что делать?». И тут же отвечает: работать над собой. Медитировать, заниматься йогой. Не то, чтобы я был против такого подхода, но от перипатетической беседы в сандаловой роще я ожидал большего. Чего же именно?
– Йога – это прекрасно, – начал я. – Но ведь есть еще и молитва. У индусов, насколько мне известно, она тоже имеет место. Когда человек молится, он о чем-то просит или, по крайней мере, обращается к высшей инстанции. И если он верит в существование этой инстанции, то наверняка полагает ее всеблагой и справедливой, разве нет?
– Вы снова рассуждаете очень по-европейски. У нас молитва – это прежде всего медитация. И если вы как следует поразмыслите о сути молитвы в иудаизме, то поймете, что и у вас, иудеев, то же самое. Любая молитва есть медитация, а медитация – это не просьба и даже не обращение. К кому и зачем обращаться? Есть только Брахман, остальное – майя. Помните историю с веревкой, которая издали кажется змеей?
– Если я не ошибаюсь, это точка зрения адвайты Шанкары. Но вот, например, Рамануджа верит в реальность индивидуальных душ, а Брахмана отождествляет с Ишварой, наделяя его атрибутами любви и сострадания. Или взять философию Патанджали…
– Чувствую, ваш Прашант совсем сбил вас с толку, – с досадой сказал Амиш и отвернулся, давая понять, что не намерен больше дискутировать. Я не возражал: меня и самого уже подташнивало от собственного умничанья.
Мы прошли в одно из малых святилищ храма. Мраморные стены были украшены иллюстрациями сцен из Рамаяны и Махабхараты. Говорят, в этих эпосах содержатся ответы на все вопросы. Впрочем, то же самое, кажется, говорят и о Коране, Авесте, «Дао дэ цзин»… То ли это такая общая для всех гипербола, то ли вопросов, на которые требуется дать ответ, на самом деле не так уж много. Махабхарата и Рамаяна – очень разные книги, но и в той и в другой есть эпизод, где один из положительных героев побеждает врага обманом. Бхимасена по наущению Кришны обманывает Дурьодхану, а Сугрива – при помощи Рамы – нечестным способом повергает своего брата и супостата Вали. В обоих случаях поднимается резонный вопрос об этичности поступка, и оба раза боги дают неожиданный ответ. Кришна замечает, что с наступлением Кали-Юги вопросы морали как бы отпали сами собой, а Рама просто напоминает Вали, что тот – бесправная обезьяна. Божественная справедливость оказывается чем-то весьма сомнительным.
Был в этом храме и зал взаимно отражающих зеркал. Казалось бы, символика очевидна: бесконечно повторяющееся отражение объекта в этих зеркалах должно служить наглядным напоминанием о том, что наш мир – иллюзия. Но Амиш отверг мою интерпретацию как слишком поверхностную. Читал ли я Бхагавад-Гиту и, если читал, помню ли главу, где обсуждается Кала? Там Кришна предстает перед Арджуной в своей истинной форме, и Арджуна холодеет от ужаса: «Вижу Тебя повсюду в образах неисчислимых, с многочисленными руками, чревами, устами, глазами; Владыка всеобразный, Твоих начала, середины, конца не вижу…»[43] И тогда Кришна объясняет: то, что так испугало Арджуну, – бесконечно повторяющееся и дробящееся, не имеющее ни конца, ни начала, вечно ускользающее от понимания – есть форма Времени. Время – самое ужасное, что существует, но и это ужасное надо полюбить. Таково предписание бхакти-йоги.
Когда мы вышли на улицу, был уже вечер. За то время, что мы провели в храме, смог как будто усилился. В сгущающейся темноте казалось: все предметы покрыты толстым слоем золы. Засыпая на заднем сиденье застрявшего в пробке автомобиля, я смотрел в окно, и мне полуснилось, что нас накрыл не смог, а пепел от погребальных костров Варанаси.
Одноклассники
Сандип был прав: за те две недели, которые я планировал провести в ашраме, мы увидели куда больше, чем я мог ожидать. Как знать, может быть, в этом и состоял тайный замысел гуру-джи. Я не получил от него мантру, зато окунулся – если и не с головой, то уж точно по грудь – в делийскую повседневность.
Пока пожилые норвежцы, с которыми мы разговорились в автобусе по пути из аэропорта, осуществляли свою давнишнюю мечту побывать в Варанаси, а красотка из Еревана (тоже автобусное знакомство) занималась хатха-йогой в Гималаях, я воевал с хозяином съемной квартиры в районе Нью-Френдс-Колони, требуя немедленной починки унитаза. Миссис Сингх, хозяйка с ангельским характером и пташечьим голосом, смогла приютить нас всего на четыре дня. После этого нам пришлось подыскать себе новое жилье, и мы оказались во власти двадцатипятилетнего арендодателя по имени Абишек. Четырехэтажное здание, где он сдавал квартиры через Airbnb, принадлежало его родителям. Нас поселили на третьем этаже; сами хозяева жили на первом. Абишек был жуликом, но каким-то очень ленивым жуликом. Его смазливое лицо вечно казалось заспанным, волосы были всегда взъерошены, а щеки покрыты трехдневной щетиной (однако мы увидели его чисто выбритым, когда в квартиру на втором этаже въехали две пышногрудых немки). Набивая себе цену, он сообщил нам, что работает адвокатом, но мы с Сандипом были уверены, что он, если когда-нибудь и учился на юридическом, вылетел с первого же курса. Его было немножко жалко, хотя у нас не было никаких причин его жалеть. Сандип, у которого этот оболтус вызывал отеческие чувства, даже ласково называл его «Аби». Но туалет день ото дня работал все хуже, и отеческие чувства вскоре сменились другими, куда менее благожелательными. Наконец, Абишек озаботился нашим бедственным положением и, решив сэкономить на вызове сантехника, сам явился к нам с вантузом наперевес. Крутанув какую-то ручку, он пару раз потыкал вантузом, точно пытался осадить наступающего врага. Засим, отступив на три шага для безопасности, стал ждать. Атаки не произошло, и новоявленный сантехник заверил нас, что теперь все будет в порядке.
– Я все исправил. Вы просто слив отключили. Больше так не делайте.
– Извини, Абишек, но мы ничего не отключали, – запротестовал я, точно зная, что в следующий раз, когда мы попробуем воспользоваться унитазом, из недр канализации снова хлынут нечистоты. – Посмотри, пожалуйста, еще раз. Я уверен, что дело в чем-то другом.
– Ничего, ничего, – обадривающе похлопал меня по плечу Абишек. – Я понимаю, что вы отключили его не специально. Вам совершенно не за что извиняться.
Не стерпев такой наглости, мы съехали от Абишека на день раньше, чем было условлено. И крупно о том пожалели. Следующая квартира представляла собой большое полуподвальное помещение с аляповатым фонтаном в центре и четырьмя каморками по периметру. В каждой каморке был матрас, запечатанный в пластиковую упаковку, как будто только что привезенный из магазина. Матрас и ничего больше. Ни подушки, ни покрывала, ни постельного белья. Помощник, который пришел выдать нам ключи, смотрел на нас испуганными глазами, затравленно втягивал голову в плечи и на все вопросы повторял что-то вроде «не могу знать». После того как я обнаружил в одной из каморок использованный презерватив и кровавое пятно на матрасе, этот парень наконец подтвердил мои подозрения. Квартира, которую нам сдали, была временно пустующим домом свиданий. Но к тому моменту, как это открылось, других вариантов у нас уже не было: на часах одиннадцать вечера, искать сейчас гостиницу – гиблое дело, да и Wi-Fi в этом подвале не работает. Нам ничего не оставалось, как переночевать на каменных матрасах, подложив под голову башмаки.
Утром нас разбудил автомобильный гудок. Беспрестанная перекличка разъяренных клаксонов – часть шумового фона, к которому в Дели привыкаешь на удивление быстро. Но тут дудели прямо под окнами и, очевидно, не кому-нибудь, а именно нам. Пять минут спустя обладательница джипа «махиндра скорпио», красавица по имени Чару, уже стояла в дверях нашей злачной квартиры, с любопытством разглядывая фонтан и прочую специфику.
– Да у вас тут весело, как я погляжу. Может, мне отвезти вас к себе, чтобы вы хоть умыться могли как следует?
– Позавтракать бы, – произнес Сандип рыхлым голосом человека, который то ли сильно болел, то ли долго пил без просыпу.
– Можно и позавтракать, – согласилась наша спасительница. – Поехали, я знаю неплохое южноиндийское место. У них там идли, упма, вада с самбаром[44]. Ровно то, что вам сейчас нужно.
Тридцать пять лет назад Чару с Сандипом учились в одном классе, но в то время большой дружбы между ними не было. Повторное знакомство состоялось на встрече одноклассников – через четверть века после выпуска. Встречи одноклассников, важные санскары нашего времени, везде проходят примерно одинаково. Тут куда меньше культурных различий, чем в проведении свадеб, похорон или, скажем, обрядов совершеннолетия. Class reunion – он и в Индии class reunion. Как правило, это мероприятие, замечательно выписанное Филипом Ротом в «Американской пасторали», рассчитано на одноразовый катарсис. Встретились, прослезились вслед за возгласом «Ты ли?», вспомнили что-нибудь смешное или, наоборот, вызывающее спазмы в горле, помянули тех, кого нет в этом зале. Записной тамада толкнул речь. Друзья и подружки юности вышли на танцплощадку, отдали должное давно забытым хитам. И разошлись, чтобы встретиться еще через двадцать лет или, что более вероятно, не встретиться уже никогда. Но в компании бывших одноклассников Сандипа все было иначе. Сойдясь однажды, чтобы отметить двадцатипятилетие школьного выпуска, эти люди среднего возраста, у которых, насколько я мог судить, не было никаких общих интересов, заново сбились в тесную компашку и больше не разлучались. Теперь они собирались раз в неделю под эгидой «Клуба политических дискуссий», а в остальное время общались через веб-форум. Сандип старался следить за их прениями из-за океана. По прибытии в Дели он первым делом потянул меня в гости к одной из своих бывших одноклассниц, у которой в тот вечер проходила сходка этого загадочного клуба. Там я познакомился и с Чару.
Хозяйку звали Минакши, а имени хозяина я так и не узнал. Выяснил только, что его имя труднопроизносимо даже для индийцев, поэтому все называют его Джей-Джей, как нищего адвоката из джойсовского «Улисса». Муж Минакши не был нищим; не был он и адвокатом, хотя вполне вероятно, что он когда-то подумывал им стать. Во всяком случае, его было бы намного проще представить адвокатом, чем Абишека. Страстный спорщик на любые темы, Джей-Джей всегда говорил безапелляционным тоном, подкрепляя свою позицию фактами, которые не было возможности проверить. Он сыпал цитатами, приводил статистику (наверняка взятую с потолка), и его аргументы в целом звучали убедительно. Но он был не адвокатом, а офицером военно-морского флота и командиром военного корабля. И как раз в этой роли я представлял его с большим трудом. У него было огромное пузо, толстые шлепающие губы и набрякшие веки. С определенного ракурса он походил на спилбергского Инопланетянина, раскормленного до неприличия. Каждые лето и осень он проводил в плаванье, а оставшиеся полгода сидел дома, развалясь на тахте и приятно увязнув в болоте политических дискуссий. Когда мы зашли в гостиную, он комментировал последние новости. Накануне в штате Мадхья-Прадеш полицейские расстреляли семерых студентов, арестованных за участие в Студенческом исламском движении Индии (SIMI) и совершивших побег из тюрьмы. Согласно полицейскому рапорту, беглецы первыми открыли огонь, и преследователям пришлось отстреливаться. Но, говорил Джей Джей, все мы помним подобные случаи в Гуджарате в те годы, когда главным министром Гуджарата был Нарендра Моди. Этот безотказный метод борьбы с оппозицией он применял уже тогда, а сейчас только повторяет пройденное. Схема предельно проста: найти удобного врага (для индуистского фанатика Моди таким врагом раз и навсегда стало мусульманское меньшинство), спровоцировать какую-нибудь акцию протеста и послать наряд полиции, чтобы они расстреляли всех, кого надо, – якобы в целях самозащиты… Излагая все это, Джей-Джей настолько увлекся, что даже не заметил нашего прибытия.
– О, а вот и наши американские гости! – воскликнул он, наконец увидев нас и не без труда поднимаясь с дивана.
– У Джей-Джея на все есть свое мнение, и он бывает слишком прямолинеен, – сказал мне Сандип, приобняв хозяина; казалось, он заискивает одновременно передо мной и перед ним, стараясь представить нас друг другу с лучшей стороны. – Кому-то его высказывания могут даже показаться грубыми. Но он очень много знает. И я, как правило, на девяносто процентов соглашаюсь с тем, что он говорит.
– Интересно было бы узнать про остальные десять процентов, – проговорил Джей-Джей, заговорщицки подмигнув мне и шлепнув толстыми губами.
Минакши протянула нам с Сандипом по бокалу джин-тоника, и все вернулись к обсуждению индуистского фанатизма Моди. До этого я встречал словосочетание «индуистский фанатик» лишь у Рабиндраната Тагора в романе «Гора». Оказалось, за столетие, прошедшее с момента публикации «Горы», эта проблема стала еще более актуальной. И хотя никто из присутствующих не был мусульманином, национальную политику Моди критиковали в первую очередь в связи с нетолерантностью к исламскому меньшинству. Вспомнили о том, как в штате Харьяна запретили продажу говядины и учинили расправу над владельцами халяльных мясницких лавок; о продвижении на высокие правительственные посты так называемых «лжегуру», поддерживавших Моди и призывавших очистить страну от всего, что противно духу индуизма.
– Вообще-то, я как убежденный атеист не люблю ни индуизма, ни ислама, – признался Джей-Джей. – Но, держу пари, я знаю об этих религиях больше, чем вы все вместе взятые. Доказать? Пожалуйста. Вот вы наверняка думаете, что помните историю Рамаяны. Но кто из вас скажет мне, как звали сестру Рамы? – И все моментально переключились на обсуждение героев Рамаяны и их родственных связей.
Помимо хозяев, нас с Сандипом и Чару, на собрании «Клуба политических дискуссий» присутствовали еще трое. Галерейщица Притхи, импозантная женщина в дизайнерском сари от какого-то знаменитого кутюрье, реагировала на любое высказывание потоком бессмысленных вопросов и экзальтированных возгласов: «Как ты сказал? Лжегуру? Какой кошмар!», или «Неужели вы и правда из Нью-Йорка? Вот это да!», или «Сестру Рамы? Ох, ну и вопрос же ты нам задал!». Казалось, ей совершенно все равно, к чему проявлять интерес. «Шанта? Ее звали Шанта?! Подумать только! А ведь я никогда этого не знала!» – тараторила она с таким жаром, что создавалось впечатление, будто имя Шанта (в переводе: «миролюбивая») открывает какие-то новые глубины в понимании Рамаяны и вообще индуизма.
Щуплый человек, сидевший на тахте рядом с Притхи, наоборот, отмалчивался и за весь вечер произнес всего три или четыре фразы, из которых мы узнали, что он владеет астрологическим кол-центром. Клиенты звонят в любое время дня и ночи и за определенную плату узнают свое будущее или получают советы в жизненно важных делах. Все предсказания генерируются компьютерной программой, которую Раджив – так звали нашего астролога – в свое время задешево купил у одного знакомого.
– Неплохо устроился! – похвалил астролога широколобый очкарик Прабху, который сидел ближе всех к выпивке и поминутно подливал себе то из одной, то из другой бутылки. – Будь я чуточку поумнее, я бы тоже замутил что-нибудь эдакое. Живешь в свое удовольствие, а денежки тебе капают. Кап, кап, кап… У меня, конечно, тоже была хлебная работа, и не одна. Сначала в Канаде, потом у вас там в Нью-Йорке. А потом я вернулся в Дели. Вы спросите, какого черта? Я вам отвечу: потому что я дурак. Круглый дурак, идеалист. Думал, что смогу изменить мир, внести свою лепту в создание новой Индии. Но Индия – не такая страна, где можно что-то изменить…
Впоследствии я узнал от Сандипа, что этот Прабху возглавляет фирму, которая занимается информационной безопасностью; по сравнению с ним все остальные члены клуба – просто нищие.
Отец Минакши был главным дистрибьютором проигрывателей His Master’s Voice в Индии. Семья жила в центре Дели, в десятикомнатном доме с прислугой. В старших классах Сандип был влюблен в Минакши, но Минакши не удостаивала внимания или вовсе не замечала его попыток ухажерства. Ее лучшей подругой была Чару, и Сандип одно время набивался к Чару в друзья, надеясь, что та сведет его с Минакши. Но из этого проекта тоже ничего не вышло. «Они были из богатых семей, а я – из бедной, какая уж тут дружба», – завел Сандип свою любимую пластинку, вспоминая школьные годы. Первая красавица класса, солистка школьного хора и победительница городских олимпиад по физике, Минакши вышла замуж сразу после выпуска. Глядя на черно-белую фотографию на трюмо, я, как ни старался, не смог узнать в той болливудской, неправдоподобно красивой чете своих нынешних визави – расплывшегося краснобая и худощавую немолодую женщину с улыбкой, обнаруживающей несколько недостающих зубов.
После джин-тоника гостям были предложены чечевичные крокеты в йогурте «дахи вада», затем – еще пять или шесть закусок. Пока все остальные, сгрудившись вокруг фуршетного стола, накладывали себе с горкой того и этого, Джей-Джей сидел на диване и листал книгу Сэма Харриса «Конец веры». Когда же гости взяли, кто что хотел, и разбрелись с наполненными тарелками по разным углам комнаты, Минакши принесла складной столик, поставила его перед мужем и принялась обслуживать его, поднося то одно, то другое блюдо. В завершение трапезы всех угостили жвачкой «паан» из листьев бетеля, после чего вернулись к джин-тонику, а разговор переключился на традиционную тему крикета. Около девяти начали расходиться: всем надо было успеть еще на какие-то вечерние мероприятия. Засобирались и мы.
Чару
В то утро, когда Чару вызволила нас с Сандипом из трущобного дома свиданий, нам предстоял дальний путь в Уттар-Прадеш, где наш маршрут должен был пролегать через Фатехпур-Сикри, Агру, Канпур и так далее – до Варанаси. Все было организовано в последний момент, так как сама идея этого путешествия возникла спонтанно. После шоу в Красном форте мы утоляли полночный голод в забегаловке BTW, и Чару корила Сандипа за безынициативность. Дескать, чем маяться в майе смрадного Дели, выслушивая пьяный бред бывших одноклассников, уж лучше бы он показал мне что-нибудь из того, ради чего люди ездят в Индию. Когда же Сандип признался, что и сам никогда не бывал ни в Айодхье, ни в Варанаси, Чару с интонацией американского подростка воскликнула: «Road trip!» И добавила, что никаких планов на ближайшую неделю у нее нет, так что, если мы готовы на подобную авантюру, то и она готова выступить в роли нашего шофера.
Как можно, ничего не оговаривая заранее, сорваться с места и уехать на неделю? Неужели здесь так живут? Мне с моим американским рабочим графиком эта вольница показалась более диковинной, чем все Ганеши с Хануманами вместе взятые. Да, да, подтвердил Сандип, здесь так живут! Но, уточнил он, конечно, так живут далеко не все. Приходится признать, что сам он никогда так не жил. Его родители принадлежали к другой прослойке населения: отец – инженер-строитель, мать – школьный инспектор… И я в очередной раз прослушал уже наизусть знакомую историю о детстве моего друга.
У Чару было другое детство и совсем другая взрослая жизнь. По окончании школы она, как и Минакши, сразу вышла замуж, и не за кого-нибудь, а за юриста. В отличие от юного Абишека, выдающего себя за адвоката, и грузного Джей-Джея, по-адвокатски отстаивающего свою позицию в праздных спорах, муж Чару был настоящим адвокатом и даже преподавал юриспруденцию в университете. К сожалению, тяга к преподаванию не покидала его и дома: в часы семейного досуга он любил поучить домочадцев с помощью кулаков. Благочестивой супруге полагается безропотно сносить и такие проявления мужней заботы. Как известно, когда Дхритараштра, царь Кауравов, ослеп, его жена завязала себе глаза, чтобы ни в чем не превосходить своего господина. Вот образец женской самоотверженности и верности. Но Чару было трудно закрывать глаза на тот очевидный факт, что муж изменяет ей с одной из ее подруг. Когда же его внебрачное приключение обернулось судебным иском со стороны любовницы (подруга Чару оказалась девушкой не промах), обвиняемый, который в этом процессе выступал собственным защитником, вызвал Чару в суд для дачи показаний о его безупречном моральном облике. Чару согласилась сказать все, что требовалось для оправдания мужа, но при одном условии: после того как процесс закончится, мерзавец даст ей развод. Вскоре она вернулась под родительский кров, где живет по сей день с двумя дочерьми (младшая заканчивает школу, а старшая недавно поступила в аспирантуру).
Избавившись от благоверного, Чару приобрела независимость, о которой большинство индийских женщин могут только мечтать. Кроме джипа «махиндра» у нее есть мотоцикл; в предутренние часы, когда дороги еще пусты, она гоняет по городу, как байкер, а днем ходит гулять в сады Лоди. Несколько раз в год она ездит в монастырь заниматься випассаной. Но не надо думать, что Чару, как тургеневская барышня, никогда не работает. Художник-модельер, она открыла собственное ателье, и хотя до сих пор ее бизнес не приносил дохода, она не теряет надежды рано или поздно пробиться в индустрии высокой моды. «Скоро она у нас переплюнет Ральфа Лорена», – предрек Сандип.
* * *
За Ноидой пробки кончились, и за окнами «махиндры» замелькала кустарниковая поросль Гангской равнины. В последний кадр столичной жизни, который предстал моему зрению перед выездом из города, вошли пятеро мужчин, невозмутимо испражнявшихся на краю шоссе. На сей раз Сандип воздержался от ехидных комментариев, только развел руками. Но его выдержки хватило ненадолго; следующий красочный кадр не заставил себя ждать.
– Фотографируй, фотографируй! – закричал Сандип, тыча пальцем в лобовое стекло.
Я поднял глаза и увидел уже знакомую картину: навстречу нам несся автобус, под завязку набитый желающими попасть в Дели. Те, кому не хватило места в салоне, сидели на крыше в обнимку со скарбом. Человек двадцать, а может и больше. Стоит водителю резко затормозить или наехать на рытвину, и эти люди полетят с крыши, как какой-нибудь плохо уложенный груз, и разобьются в лепешку.
– Не хочешь фотографировать? Но ведь это же классика, можно сказать, квинтэссенция Индии!
– В том-то и дело. Таких снимков и без меня уже сделано предостаточно.
И все же на подъезде к Агре я не удержался от соблазна сфотографировать «классику». Я запечатлел лачугу размером чуть больше собачьей конуры и чуть меньше сторожевой будки. Над дверью, которая вот-вот упадет с петель, старательно-кривыми буквами было выведено: «Наркологическая клиника».
– Вот это я понимаю! – оживился Сандип. – Такое фото хоть в National Geographic посылай! Не забудь только подписать: «Индия, штат Мудар-Блядеш».
– «Мудар-Блядеш»? Неплохо, неплохо, – с напускной веселостью подхватила Чару. Но было видно, что эта веселость дается ей с трудом. Так очкарик, зажатый в угол на большой перемене, бодрится и даже присоединяется к хохоту третирующей его своры.
В этот момент у Сандипа зазвонил телефон, и потехе пришел конец: звонок был из Нью-Йорка. Чару выключила радио. Мигом посерьезневший Сандип залепетал в трубку:
– Все хорошо, все хорошо, а у вас?.. Едем в Агру… Кто нас везет? Манудж, конечно. Сколько слупил? До черта, на самом деле… Совсем обнаглел, ага. В следующий раз найму другого водителя… Я говорю, придется искать другого водителя. А? Слишком дорого берет. Ага. Что-что? Нет, ночевать в Агре не останется. Не хватало еще, чтобы я платил за его ночлег… Как обратно поедем? Ну, придумаем что-нибудь… Алекс? Алекс, по-моему, всем доволен. Алекс, ты доволен? Говорит: доволен.
Повесив трубку, он принялся оправдываться, но не перед Чару, а передо мной. Чару, похоже, давно ко всему привыкла.
– Понимаешь, с тех пор как Чару развелась со своим идиотом, моя жена подозревает ее в нечистых намерениях по отношению ко мне. Дескать, разведенкам нельзя доверять, они только и думают, как бы увести чужого мужа. Поди объясни, что мы просто друзья. Даже Минакши, и та взяла с Джей-Джея слово, что он будет общаться с Чару только в ее присутствии. Ты скажешь: если все они так думают, значит что-то было, какой-то прецедент, так? Ничего подобного, просто это типичный ход мыслей индийской жены. Чару провинилась только тем, что она в разводе. А я? За семнадцать лет совместной жизни с Ниру я только один раз дал ей повод для ревности. Пять лет назад на праздновании Холи я выпил бханг ласси[45]. Меня развезло, и я полез целоваться к какой-то даме. Но, повторяю, это случилось всего один раз. Я был не в себе. И главное, при чем тут Чару? «Обидно» – не то слово. Но поделать ничего нельзя, приходится врать. Ты уж, пожалуйста, не проговорись, когда мы вернемся в Нью-Йорк… – Я пообещал держать язык за зубами.
– Скоро доедем до Фатехпур-сикри, – как ни в чем не бывало сказала Чару. Я открыл путеводитель и стал читать вслух.
– Бабур, Хамаюн, Акбар, Джахангир… Вот она, история Индии, – резюмировал Сандип. – Слава победителям! Моголам, персам, англичанам и прочим захватчикам! Теперь их достижения – это наши достижения. Их архитектура, их язык. Все привозное. Только вегетарианство у нас свое. И еще ахимса. Непротивление злу. Есть две вещи, которых у нас не терпят: агрессия и законопослушность. Это индийская философия, которую нам внушали с детства. Мы – жуликоватые вегетарианцы. Потому нас и завоевывали все, кому не лень.
– Ты так думаешь? А по-моему, все как раз наоборот, – возразила Чару. – Ненасилие – это то, что просветители вроде Ганди-джи пытались, но так и не смогли привить нашему народу. Помнишь, ты рассказывал, как после убийства Индиры Ганди вы с Ариджитом стояли у входа в общагу, а в это время мимо проезжал грузовик с дружинниками?
– Помню, конечно. Они уговаривали нас поехать с ними в гурдвару, чтобы бросать булыжники в сикхов. Даже деньги предлагали. Десять рупий за каждый удачно брошенный камень.
– А мусульманские погромы в Мумбае помнишь? У нас всегда кого-нибудь бьют, забрасывают камнями, сжигают заживо. Вся наша история от Чандрагупты до Нарендры показывает, что вегетарианцы вполне могут быть людоедами.
В противоположность большинству ее знакомых, Чару придерживалась либеральных взглядов, порицала Нарендру Моди за религиозный консерватизм (в этом она была единодушна с Джей-Джеем) и мечтала, чтобы ее дочери вышли замуж за иностранцев. Кастовая система, говорила она, есть безусловное зло. Из-за своей косности индийское общество утратило способность к состраданию, вот откуда все нынешние беды. Для паломников с рюкзаками и путеводителями «Lonely Planet» Индия – это саньяси в шафрановых одеждах, сидящий в позе лотоса на ступеньках гхата. Но есть и другая Индия, которую не показывают туристам и о которой редко пишут в книгах. Есть Дели – столица насилия, где еще свежа память о Джиоти Сингх Панди[46], но после всех обличительных статей и речей количество групповых изнасилований не только не упало, а, наоборот, возросло. Есть убийства чести в Харьяне: если девушка выйдет замуж за представителя другой касты, ее родственники могут сжечь ее заживо, и их действия наверняка останутся безнаказанными. Есть – в той же Харьяне – особый вид политического протеста: угнетенные джаты устраивают засаду на дорогах, останавливают машины со столичными номерами, избивают мужчин и насилуют женщин. Есть миллионы мусульман, которым приходится скрывать, что они мусульмане, чтобы устроиться на работу. Есть безысходность, полное отсутствие социальной мобильности, несмотря на все списки SC/ST[47], и закономерные следствия этой безысходности – грабежи, убийства, героиновая эпидемия от Пенджаба до Бихара. Есть чудовищная коррупция и необузданная агрессия со стороны представителей власти, чей лозунг «С вами, для вас, всегда!». Все это есть. Но она, Чару, всегда помнит: это ее город, ее страна. Если ее дочери захотят жить в Америке или где-нибудь еще, она будет только рада. Но сама она никуда отсюда не уедет, даже если будет знать, что на новом месте ее ждет все самое лучшее.
– Чару у нас всегда была матерью Терезой, – сказал Сандип. – Помнишь, Чару, того нищего старика, который околачивался возле нашей школы, когда мы были не то в пятом, не то в шестом классе? Он еще тебя мамой называл. Решил почему-то, что ты в прошлой жизни была его матерью. Он приходил чуть ли не каждый день и всегда тебя звал: «Мама, мама!» А ты его жалела и давала ему деньги. Помнишь, как мы тебе кричали: «Чару, Чару, твой сын пришел»?
– Не помню ничего такого. По-моему, Санни, ты так долго отсутствовал, что твои воспоминания перемешались с эпизодами из мыльных опер.
– Мои воспоминания, как назойливые родственники, которые продолжают тебя навещать даже после того, как ты дал им понять, что их присутствие в твоем доме нежелательно.
– Красиво. Это ты сам придумал?
– Нет, вычитал где-то. Уже не помню где.
– Не верю, – засмеялась Чару. – Ты, кроме учебников и статей по физике, отродясь ничего не читал!.. Так, – сказала она после паузы, – а теперь чего ты там вспоминаешь?
– Ничего.
– А все-таки?
– Однажды, когда мне было лет семь, я пришел домой и увидел, что перед нашей калиткой стоит мусульманская семья. Я спросил, что им нужно, а они ответили, что до Раздела это был их дом. Представляешь? А теперь я сам вот так же вернулся к Кашмирским воротам, глазею на свой прежний дом и распугиваю новых жильцов.
– Вот уж не ожидала от тебя лирики.
– Да я и сам себе удивляюсь.
* * *
Пока дорога на Агру разматывалась, как бесконечное сари царевны Драупади, Чару с Сандипом продолжали о чем-то дискутировать, но я уже выпал из разговора и, глазея на заоконную пастораль, ушел в отключку. Человек с рюкзаком и путеводителем «Lonely Planet» – это я. Паломник-половник, который черпает (или хочет почерпнуть) некий смысл из разрозненных путевых впечатлений. Вглядываясь во всепоглощающий смог, я выхватываю из него отдельные очертания, вижу то одни, то другие детали, но никак не могу составить целостную картину. Вижу то храмовое святилище, то больничную палату, где до боли знакомые лица мелькают, как беспорядочные мысли у человека, впервые пробующего медитировать. Вспоминаю то безумного садху, застывшего, как мим, на паперти храма Ханумана, то делийского полицейского, который долго рылся в моем рюкзаке в поисках взрывчатки (читай: в ожидании взятки), то плутоватого гуру-джи с огромного фотопортрета в гостиной у Маниша Шармы, то детское кладбище под Нью-Йорком, где вместо цветов на могилы приносят воздушные шарики и плюшевые игрушки. «Вижу Тебя в образах неисчислимых…»
Как можно, внимая наказу Бхагавад-Гиты, полюбить Время, если оно – самое ужасное из всего, что существует? Что получится, если свести воедино мелькающие картины из прошлого и настоящего? Ни то ни се. Майя, митхья, авидья, анирвачания. Так же, как у эскимосов, согласно расхожей байке, есть тридцать различных слов, означающих снег, а у туарегов – сорок названий песка, так у индусов существует целый словарь синонимов для обозначения кажимости, которая не является ни бытием, ни небытием. Как понять, что мир, который мы видим, – не больше чем лунное отражение, размноженное озерной рябью на тысячи маленьких лун, или небо, упакованное в тысячу кубышек, расфасованный абсолют?
Несколько лет назад в Таиланде мы с женой записались на курсы медитации в буддийском монастыре. Молодой монах преподавал неофитам нехитрую технику: «Для начала вы, как водится, должны сосредоточиться на дыхании. Вдох-выдох, вдох-выдох. Но обезьяний ум не дает вам покоя, то и дело напоминая о теле. Где-то что-то ноет, покалывает, чешется. Вы не должны пытаться подавить в себе эти сигналы. Наоборот, ваш мысленный центр временно переносится в область тела, и, продолжая сидеть неподвижно, вы отмечаете этот зуд, констатируете его, повторяя про себя: „чешется, чешется, чешется…“ Через некоторое время обезьяне вашего ума надоест такое повторение, и вы увидите, как неприятное телесное ощущение исчезнет само собой, уступая место какому-нибудь внешнему стимулу – например, тиканью часов. Пока вы пытаетесь игнорировать это тиканье, у вас ничего не получится. Но как только вы сосредоточитесь на нем, повторяя „тикает, тикает, тикает“, оно исчезнет. Не желая успокаиваться, обезьяна подсунет вам какую-нибудь навязчивую мысль, и вы отметите ее: „вспомнил о неоплаченном счете, о неоплаченном счете, о неоплаченном счете…“ Потом вы почувствуете умиротворение и сонливость, но, не поддаваясь соблазну, сосредоточитесь на своем состоянии и будете мысленно повторять „клонит ко сну, клонит ко сну, клонит ко сну“, пока не проснетесь».
Прослушав эту лекцию, я бросился претворять теорию в практику. Каждое утро в течение трех с половиной недель я усаживался медитировать на фоне красот Юго-Восточной Азии, а вечерами, пока Алла читала путеводители по Таиланду, Лаосу и Вьетнаму, я с усердием чокнутого нью-эйджера штудировал труды Щербатского. Это было наше свадебное путешествие – на велосипедах по Ханою, Вьентьяну и Луангпхабангу, на пароходе по Меконгу. Когда вокруг такие виды, просветление – не вопрос. По возвращении в Нью-Йорк я попробовал было продолжить свои занятия, но врачебные будни довольно скоро повыбили из меня всю дурь. Правда, работая под началом Маниша Шармы, я все еще ощущал некоторую связь с миром восточных психофизических практик. Как-то раз, валяясь в постели с гриппом, я даже попытался с помощью медитации сбить себе температуру. Я дышал, как учил нас монах в Чиангмае, повторял «чешется, чешется» и «тикает, тикает». Медитация при температуре, как бикрам-йога, имеет усиленный эффект, и, хотя сбить температуру мне так и не удалось, в какой-то момент на меня снизошло озарение. Я понял, что Брахман – это ровное дыхание, а майя – все, что чешется, тикает и клонит ко сну. Вот почему единственный способ прийти к единому – это сосредоточиться на «образах неисчислимых», то есть на том, чего на самом деле не существует. «Спи, и пусть тебе снится тигр…» Я уснул, проспал до утра и наутро, почувствовав себя намного лучше, понял, что вчерашнее озарение не представляло особой ценности. В сущности, оно было обычным бредом.
И вот я снова перескакиваю с одного на другое, наспех записываю все, что смог разглядеть сквозь смог. И, перечитывая написанное, понимаю, что получается еще одна из моих «фирменных» вещей: смесь травелога с мемуаром на фоне медицинской тематики. Ну и хорошо. С некоторых пор мне кажется, что вернее всего – не пытаться максимально варьировать цели и средства, а, наоборот, все время долбить в одну точку. Вот он, йогический метод. Долбить в одну точку, чтобы что? Пробить или хотя бы наметить брешь в непроницаемой завесе иллюзий? Вряд ли. Скорее так: вписаться в эту неопределенность, которая не есть ни реальность, ни вымысел; ни сат, ни асат; ни фикшен, ни нон-фикшен. Обживать ее, как дом; как литературный жанр. Кропать свою анирвачанию, чтобы убить время.
Саурабх
После очередного фиаско со съемной квартирой (вместо трех комнат, забронированных через сайт Airbnb, нам сдали одну – по утроенной цене) мы решили наконец пожить на широкую ногу и, расплевавшись с бессовестным арендодателем, отправились в отель Mughal Sheraton. Туристов, купающихся в этой пятизвездочной роскоши перед отбытием в Гоа или в Гималаи, можно понять: такого люкса за такие деньги на Западе не сыщешь. Однова живем. Встав на путь гедонизма, надо идти до конца. И я записался на аюрведические процедуры, которые предлагали в нашем отеле. Меня били по спине мешочками с каким-то целебным разнотравьем; мне лили горячее масло на переносицу; мне открывали чакры и приводили в порядок доша[48]. В результате я, как и было обещано, почувствовал себя новым человеком, и этот новый человек уснул посреди ужина, не донеся ложки до рта. «Это хороший знак, – уверила меня Чару. – Значит, аюрведа уже оказывает на тебя благотворное действие».
Утром за завтраком обнаружилось, что среди клиентов «Могола Шератона» индийцев едва ли не больше, чем иностранцев. Чару пояснила: для жителей Дели эта гостиница с аюрведой и видом на Тадж-Махал – популярный дом отдыха; те, кто может себе это позволить, приезжают сюда на выходные. Она и сама неоднократно бывала здесь со своим муженьком-адвокатом, и тот всякий раз отравлял ей отдых. «Ладно, не будем о грустном. Давай лучше сходим за добавкой пури». В буфете нам были предложены два варианта завтрака – индийский и европейский. Пока мы стояли в очереди, я заметил любопытную вещь: европейцы в основном берут завтрак по-индийски (паратхи, пури, разнообразные чатни); индийцы же предпочитают яичницу с тостом или овсянку. В Шанхае в аналогичной ситуации все было ровно наоборот: китайцы выбирали китайское, а европейцы – европейское. Что-то в этом есть принципиальное, отражающее, так сказать, сущность трех великих культур и их непростых взаимоотношений… Но Чару, с которой я поделился своим тонким наблюдением, только пожала плечами: «Каждый ест, что ему нравится, вот и все».
Мои культурологические изыскания прервали очередной спор, завязавшийся у Чару с Сандипом. Предмет этого спора – что-то из области эзотерики – интересовал Чару куда больше, чем обсуждение, кто чем завтракает. Не хлебом единым. Но мне было трудно поддержать их беседу. К эзотерике я отношусь с обывательским подозрением. У кого-то из последователей Шри Ауробиндо я читал, что любая болезнь – всего лишь изъян в сознании. Кажется, сам Шри Ауробиндо никогда не говорил подобных глупостей, но его писания подчас довольно иносказательны, интерпретировать можно и так и эдак. И вот интерпретаторы пускают в ход псевдонаучный язык, толкуя про экстериоризацию, супраментальное видение, выход из тела и возможность остановить циклон силой воли. Вот и болезнь – любая болезнь, включая рак, – оказывается изъяном сознания, а значит поддается лечению интегральной йогой. Паранормальные опыты оккультистов мне недоступны, но у меня имеется другое знание. Мое знание – память обо всех моих пациентах, поверивших в несуществующее чудо. «Вот скажи, Алекс, а правда ли, что с помощью аюрведы можно вылечить рак?» – подначивал меня Сандип. Напрасно я говорил себе, что не поддамся на его провокацию. На меня такие разговоры действуют, как красная тряпка на быка. Разумеется, Сандипу это прекрасно известно. Он ломает комедию специально для Чару, которая упрямо верит разным небылицам и долгое время отказывалась отвести своего отца на прием к врачу, предпочитая «натуральные методы». К счастью, болезнь ее отца оказалась не очень серьезной и не имела отношения к онкологии. А если бы имела? Аюрведой не заменишь химиотерапию. Нет никаких альтернатив, никаких чудодейственных средств, о которых знает, но молчит коварная медицинская корпорация. Панацея, тщательно скрываемая врачами и фармацевтическими компаниями, – это конспирологическая чушь, а те, кто пропагандирует эту чушь, – либо идиоты, либо шарлатаны, наживающиеся на людских страданиях и страхах. «Но ведь больному человеку необходимо утешение, – возразила мне Чару, – а западная медицина с ее всезнайством не очень утешительна».
* * *
После завтрака Чару занялась аюрведой, а мы с Сандипом отправились фотографироваться на фоне главной достопримечательности Агры. Увидев многотысячную толпу, тянувшуюся от входа в усыпальницу до противоположного конца главной аллеи, я уже собрался было повернуть обратно (издали поглядел, и ладно). Но: «Тот не бывал в Индии, кто не посетил Тадж-Махал», – заявил Сандип, который сам до этого видел знаменитый мавзолей лишь однажды в далеком детстве. Через неделю он использует ту же тактику, агитируя меня поехать с ним в южный штат Керала: «Тот не бывал в Индии, кто не посетил Кералу, родину индийского театра и невероятно вкусного садья. Знаешь, что такое садья? Пир на банановых листьях!» Если малаяльскую кухню мне предстояло попробовать впервые, то с малаяльским театром катхакали, воспетым в бестселлере «Бог мелочей», я был знаком и раньше. Несколько лет назад одна из последних трупп, специализирующихся на этом древнем виде искусства, приезжала в Нью-Йорк.
Рано или поздно все забудется – и Тадж-Махал, и катхакали; останутся фотоальбомы, в которые никогда не заглядываешь. Если что и хотелось бы удержать в памяти, это лица и голоса людей. Для всего остального есть Википедия. Человека, который повел меня на индийский спектакль, зовут Саурабх. Мы с ним вместе проходили интернатуру и в течение года были неразлучны. Кажется, за всю свою жизнь я не встречал более заботливого и одновременно беззаботного человека. Это он, Саурабх, потратил все деньги на покупку новой машины своему двоюродному брату, когда тот попал в аварию. Это Саурабх добровольно заночевал в больнице, чтобы присматривать за тяжелым пациентом, хотя в ту ночь должен был дежурить кто-то другой. Это Саурабх пожертвовал отпуском, чтобы помочь мне с переездом. И – это он после выпуска из мединститута целый год просидел перед телевизором в родительской гостиной.
– Неужели ты весь год только и делал, что смотрел телевизор?
– В общем, да.
– У тебя была депрессия?
– Наоборот, я был вполне счастлив. Потом мне, конечно, стало стыдно: родители стареют, а я ничего не делаю. Но если б можно было, я бы и дальше так сидел. Мне кажется, я бы мог так просидеть всю жизнь и ни о чем не жалел бы. С одной стороны, эта мысль меня пугает, а с другой, почему бы и нет?
В ту пору я еще не был знаком с Шармой и не слышал историй о причудах гуру-джи. Да и сам Саурабх, хоть он и брахман по происхождению, далек от религии и каких бы то ни было психофизических практик. В пору нашей дружбы он приобщил меня к болливудской попсе («Let’s have some raunak shaunak, let’s have some party now…»[49]), к бирьяни с козлятиной, к танцу бхангра (по четвергам мы наведывались в манхеттэнский клуб Basement Bhangra), к романам Премчанда, драмам Калидасы и фильмам Сатьяджита Рая. Когда мы познакомились, он был безответно влюблен в мусульманку по имени Шахла; она позволяла ему водить ее в дорогие рестораны, пока не нашла себе жениха-пакистанца. Потом он ухаживал за персидской красавицей Лейлой, не подозревая, что она спит с его другом Ранджитом. В конце концов он женился на пенджабской девушке, которую ему подыскали родители. Свадьбу сыграли в Дели. Мы с Аллой хотели поехать, но я не смог отпроситься с работы. После свадьбы Саурабх сократил общение с прежним кругом друзей – кажется, по воле жены. Через год она забеременела, но во втором триместре у нее случился выкидыш. Саурабх разослал всем письмо с просьбой некоторое время с ним не связываться. «Я знаю, что вы меня любите, сочувствуете и хотите выразить соболезнования. Я вас тоже люблю, но мне сейчас проще ни с кем не общаться». После этого он исчез из моей жизни на несколько лет и лишь совсем недавно снова появился – пришел на помощь. Это произошло в ноябре прошлого года. Накануне Дня благодарения я попал в аварию, о чем тут же возвестил у себя в фейсбуке («Попал в аварию. Машина всмятку. Сам вроде жив. Всех с праздником!»). Не успел я вывесить свой жалобный пост, как Саурабх, который сейчас живет в штате Род-Айленд, позвонил мне с предложением немедленно приехать.
– Всё в порядке, – успокоил я друга. – Только машину жалко. Я ее купил всего три месяца назад.
– Машина – ерунда. А сам-то ты точно цел? Не было сотрясения? Симптомы ведь обычно появляются не сразу. Может, мне все-таки лучше приехать?
– Разве что если ты собираешься лечить меня аюрведическими примочками, – неуклюже сострил я.
Это от Саурабха я впервые услышал об аюрведе. По его версии, до наших дней это древнее знание не дошло; все, что сейчас выдается за аюрведу, надо считать подделкой. «Но я верю, что много веков назад, во времена царя Ашоки или еще раньше, индийская медицина действительно была чем-то исключительным». Разумеется, вера в утраченный идеал аюрведы – такой же костыль, как вера в существование чудодейственного лекарства от рака где-то за пределами фармакопеи («то, что хочет скрыть от вас медицинская корпорация»). Человеку нужно утешение, а западная медицина неутешительна так же, как неутешителен атеизм или имперсонализм адвайты. Мне, приверженцу авраамической религии, это более чем понятно.
Крысы
Судха, младшая сестра Сандипа, встретила нас в Удайпуре. В течение двух дней мы обозревали белокаменное великолепие резиденции махараджей на озере Пичола (так, должно быть, выглядел тот дворец, что построил для Пандавов демон Майя), слушали истории про воителя Пратапа Сингха и его коня Четака, на которого перед сражением надевали кожаный хобот, чтобы враги принимали его за слона. Про боевых слонов, в совершенстве владевших искусством меча (дрессированный слон держал в хоботе меч с отравленным лезвием). Про то, как «элефантерия» раджпутов давала отпор могулам и англичанам. Экскурсовод, проворный толстяк с раздувшейся от флюса щекой, отрекомендовался школьным учителем истории. Судха нашла его через каких-то знакомых; по их словам, он был лучшим гидом в Удайпуре, если не в Раджастхане. В отличие от водителя он свободно изъяснялся по-английски, но то и дело норовил перейти на хинди, выражая таким образом свой патриотизм. Когда же Сандип по-английски напоминал ему, что в группе есть иностранец, наш гид поворачивался к Судхе и делал жалостливое лицо: «Я вижу, ваш бедный брат, живя на чужбине, совсем забыл родную речь… Как это печально!» Раз за разом выпадая из разговора, я никак не мог решить, что в этом человеке раздражает меня больше – его националистическая фанаберия или непрерывное жевание бетеля, которым он врачевал свой флюс. Судха пыталась как могла нивелировать ситуацию, но к исходу второго дня ее долготерпению пришел конец и учитель был послан по известному адресу на чистом хинди.
Оставшись таким образом без экскурсовода, мы вышли в свободное плаванье и положились на волю случая, олицетворяемую лихачом-шофером. За несколько дней мы исколесили пол-Раджастхана, от пустыни Тар до горы Абу, высшей точки хребта Аравали. По пути мы останавливались в отдаленных деревнях и, не отваживаясь отойти дальше чем на сто шагов от машины, топтались у кромки леса, где, по утверждению нашего водителя, до сих пор водятся олени, кабаны, гиены, медведи-губачи и леопарды. Разумеется, никто из этих персонажей «Книги джунглей» не попался нам на глаза. Не увидели мы и свирепых адиваси[50]. Но зато мы взобрались на стену форта Кумбалгарх, разрекламированную как «одна из самых длинных крепостных стен в мире… вторая после Великой Китайской!». В это утверждение верилось с трудом. Как-никак, длина Великой Китайской стены составляет почти девять тысяч километров, а длина стены Кумбалгарх – тридцать шесть километров. Пожилая туристка из Великобритании подтвердила наши сомнения. «Всё врут! – возмутилась она. – Вторая по длине стена находится у нас в Англии. Семьдесят два километра!» Возможно, так оно и есть. Но где в Англии сыщешь эти строения из джайпурского розового камня, древовидные узоры расщелин и трещин, храмы, похожие сверху не то на грибы строчки2, не то на сосновые шишки? Панорамные виды гор Аравали? К югу отсюда – Гуджарат, к западу – Пакистан. Кто бы мог подумать, что доведется увидеть эти края?
– Ты еще не видел востока страны! – затараторил Сандип. Там, где красота мира заставляет нас застыть в немом созерцании, он, переполненный эмоциями, всегда трещал без умолку.
– А ты видел?
– Нет, но скоро увижу. Вместе с тобой. Рванем в Бенгалию. Ты знаешь, что такое Бенгалия? Гуджаратцы – гениальные бизнесмены. Раджпуты – воины. А бенгальцы – люди творчества. Все лучшее, что есть в индийской культуре, пришло из Бенгалии. Я, пенджабец, готов это признать. Бенгалия – родина Рабиндраната Тагора. Знаешь, кто такой Тагор?
Я промычал что-то уважительное. О том, что бенгальцы – самые творческие люди, я слышал и раньше, не то от Саурабха, не то от Прашанта. Расхожий стереотип. А стереотипам надо верить. Тагор Тагором, но ведь есть и великий роман «Шриканто» Шоротчондро Чоттопаддхая. Есть «Подходящий жених» Викрама Сета и «Теневые линии» Амитава Гхоша. Есть поэзия Джибанананда Даса, прекрасная даже в переводах. Есть мои любимые фильмы Сатьяджита Рая (что может быть лучше «Трилогии Апу»?), философия Рамакришны и Вивекананды, музыка Вилаята Хана и Рави Шанкара. Все это родом из Бенгалии. Если будем живы, Санни, обязательно съездим.
А пока нас интересует необъяснимое: лес и лесная обитель, джайнский монастырь в Ранакпуре, где вместе с послушниками живут обезьяны, такие же невозмутимые, как все остальные животные в этих краях. Храмовая постройка XV столетия, архитектурное чудо, двадцать куполов, 1444 резные колонны, среди которых нет двух одинаковых, 350 статуй святых. Настоятель требует, чтобы каждую из этих статуй ежедневно мыли водой и молоком. Более того, у статуи, как и у человека, есть чакры. По утрам и вечерам чакры статуй следует натирать смесью сандала и шафрана. Лишь после того как все истуканы вымыты и натерты, послушникам разрешается приступать к медитации. Медитировали и мы. Монах пел мантру; акустика храма преображала слог «Ом» в отголосок набата. Нам наказали следить за дыханием. Вдох-выдох, вдох-выдох. Оммммммм. Казалось, за моим дыханием слежу не только я, но все триста пятьдесят святых, а заодно – Брахма, Шива, Вишну, Индра, Кали, Лакшми, Ганеша, Гаруда, Хануман, Дурга, Лакшми Нараяна, Бадарайяна, Капила, Патанджали, Канада, Готама, Джаймини, Шанкара и Рамануджа – пантеон богов и философов Индии. Все они, прикидываясь эхом, подпевают монаху. Я слушаю этот хор и попутно вспоминаю, что веданта, чей лейтмотив – переход от множества к единству, определяет аватары как состояния души Единого; одно переходит в другое и, соединяясь, дает третье. Я теряюсь в этом лабиринте отголосков, а когда выныриваю и открываю глаза, обнаруживаю, что нахожусь уже в другом храме, где нет обезьян, зато есть крысы, целые полчища крыс. Это храм Карни Маты. Первый крысиный храм был воздвигнут примерно тогда же, что и Ранакпур. Согласно преданию, Карни Мата, святая подвижница из касты чаранов, заключила сделку с богом смерти Ямой после того, как ее пасынок Лакхан утонул в пруду. Смилостившись, Яма согласился воскресить мальчика в теле крысы, но при одном условии: отныне каждому из потомков Карни Маты придется прожить жизнь в обличье крысы прежде, чем перевоплотиться в человека. С тех пор в Раджастхане строят крысиные храмы. Впрочем, крыса считалась священным животным и до Карни Маты: она служит транспортным средством слоноподобному богу Ганеше. Крысиному храму, который мы посетили, около трехсот лет. Мраморный фасад, серебряные кованые двери, пол в шахматную клетку, архитектурный стиль Великих Моголов. В храме живут двадцать тысяч крыс. Посетители ходят босиком (если одна из крыс пробежит по вашей ноге, это считается доброй приметой). Иные отчаянные бхакты даже грохаются оземь, чтобы крысам было легче на них взобраться. Или пьют воду и молоко, в которых плавали крысы. Говорят, за триста лет не было ни одного случая отравления или заражения какой-нибудь иерсинией. Наоборот, крысиная вода лечит все болезни. Священник, которого называют панда-джи, щуплый неприметный человек в белом дхоти, благословляет прихожан, нанося на межбровье мазок красной пудрой, и выдает каждому по волшебной нитке. Нитку надо обвязать вокруг ветки дерева, растущего у входа в храм. Если при этом загадать желание, оно непременно сбудется. Судха встает в очередь. Когда подходит ее черед получить благословение, она протягивает панде кулек с ломтиками кокоса. Тот бормочет какое-то заклинание и возвращает ей кулек со словами: «Богиня поела, теперь и ты поешь». Мажет межбровье, но нитки не дает. Где же нитка, панда-джи? Человек в белом дхоти отвечает ей долгим взглядом, в котором читается что-то неопределенное. Всеведущая жалость, монашеская отрешенность или, может быть, признание старого брахмана из рассказа Салмана Рушди: «В бессмертную душу я не верю, но я не верю и в то, что мы только мясо да скелет. Я верю в смертную душу, в бестелесную квинтэссенцию человека, которая гнездится в плоти, как паразит, процветает, пока мы процветаем, и умирает, когда мы умираем».
– Где же нитка, панда-джи, почему мне не дали нитку? – обиженно повторяет Судха.
– Потому, – произносит он наконец, – что ты, дочка, издалека приехала. Если твое желание сбудется, тебе надо будет вернуться и развязать нитку. А как ты вернешься? Когда еще приедешь к нам из своей Америки?
От этих слов глаза у Судхи увлажняются. Ей хочется исповедаться. В Америке у нее есть сын. Она хотела троих, даже четверых детей. Но после родов были осложнения, и в конце концов ей удалили матку. После этого она много лет не могла заставить себя прийти в храм. Но сейчас ее сыну уже пятнадцать лет, она за него боится, хочет, чтобы он был защищен.
Пока она рассказывает, я пячусь к выходу, следя, чтобы по ноге не пробежала крыса. У меня нет сурифобии, но такое количество «белок сабвея», как их называют в Нью-Йорке, смутит кого угодно. Кроме того, меня мучает совесть. Однажды, в мою бытность лаборантом, мне пришлось участвовать в умерщвлении подопытных мышей. В нашей лаборатории их убивали с помощью газа, это считалось наиболее гуманным способом. Помню, как их загоняли в камеру по трое и по четверо; как они сначала метались в поисках выхода, а потом жались друг к дружке, дрожа мохнатыми тельцами, и через минуту этих жизней уже не существовало. В другой раз я выдумал какую-то уважительную причину и был освобожден от дежурства по газовой камере. Но и одного раза хватило на целый месяц дурных снов.
– Можешь быть спокойна, – обнадеживает Судху панда-джи. – Ты свой долг выполнила, пришла в храм, теперь ешь кокос. Богиня присмотрит за сыном.
– А откуда вы знали, панда-джи, что я живу в Америке?
– Так ведь, – панда-джи кивает на меня, – муж-то у тебя американец.
– Алекс? Он мне не муж. Это друг моего брата. Он приехал в Индию по врачебным делам.
– Ах, вот оно что… – Панда-джи устремляет на меня свой бездонный взгляд и впервые за все время обращается ко мне. – Возьми этот кокос и покорми крыс.
Ашрам
В лесу, окруженном живописными предгорьями и меандром большой реки, мы приобщились к ведической медитации, посетив обитель «Арша Видья Гурукулам». Этот лесной ашрам был основан полвека назад ведантистом Свами Даянанда Сарасвати (для приближенных – Пуджья Свами). Семья Сандипа ездит сюда уже много лет. С некоторых пор встречи в Арша Видья вошли у них в традицию. Сандип и Ниру приезжают с детьми из Нью-Йорка, Санджай и Судха – из Калифорнии, родители Ниру и Санджая – из Дели, родители Сандипа и Судхи – из Коннектикута. Воссоединение на нейтральной территории ашрама – верный способ избежать конфликта. Каждый год в течение недели они всей семьей медитируют, занимаются йогой, гуляют по лесу и поют бхаджаны[51]. Затем разъезжаются до следующего раза. Никаких раздоров и разногласий. Мир да покой. Шанти, шанти, шанти. Попадая в ашрам, человек тотчас проникается духом вселенской любви и доверия. На дверях коттеджей, где размещают постояльцев, нет замков. Встречаясь на лесной тропе или за трапезой в монастырской столовой, незнакомые люди улыбаются и уступают друг другу место. В другое время, при других обстоятельствах они бы ни на секунду не забывали о том, что человек человеку волк. Но пока они здесь, ни у кого не возникает и мысли, что кошелек, оставленный в незапертой комнате, могут украсть. Арша Видья – это макет царства Рамы, дом отдыха от мирского зла. Монастырь-санаторий на краю священного Ришикеша.
Длинный день начинался с управляемой медитации: аккурат в шесть утра многоголосица бхактов запевала шадакшара-мантру «Ом намах Шивая». Запах сандаловых благовоний прикрывал несвежее дыхание заспанных людей, медитирующих натощак. Полагалось сидеть со скрещенными ногами и прямой спиной, чтобы пробудить энергию кундалини. Несколько лет назад я пытался освоить основы дзадзэн в Японии, а еще раньше занимался «осознанной медитацией» в Таиланде. Ни в том ни в другом случае я не продвинулся дальше стартовой точки, но, по крайней мере, без особых усилий высиживал положенные полчаса. Теперь же я был не в состоянии сосредоточиться ни на чем, кроме боли в тазобедренных суставах. «Встреча с собой, это встреча с собой, – доносился из динамика голос Свами. – Никаких ожиданий, никаких откровений, просто встреча с собой. Я – не тело, я – не имя, я есмь То…» Боль в суставах свидетельствовала об обратном: я есмь тело, тело со всеми его неполадками.
Сам Свами-джи появлялся ближе к семи. В панорамные окна храма мне было видно, как он идет по тропинке в окружении свиты. Он был облачен в оранжевое одеяние саньяси. Оранжевый цвет символизирует огонь, пожирающий тело. Цвет отречения. Я – не тело, я – не имя… За пять минут до его прибытия в зале включали кондиционер. Когда он входил, все поспешно вставали, как вставали, помнится, в начальной школе при появлении учительницы. «Здравствуйте, садитесь. В тетрадях – число, классная работа». Свами-джи поднимался на подиум, опускался в кресло, надевал петличный микрофон. Прежде чем начать лекцию, он отправлял в рот что-то вроде облатки. Семидесятипятилетний гуру, худой, как жердь, до блеска лысый, с большим крючковатым носом и темными, почти лиловыми губами, с шиваитской трипундрой на лбу и огромной старческой родинкой на правой скуле. Эта родинка выглядела, как нечто наносное, еще одна обрядовая отметина из глины и пепла, а трипундра – наоборот, как естественная часть лицевого рельефа, глубокомысленные складки на переносице. Когда он говорил, его лицо оставалось неподвижным, зато руки непрерывно двигались, пальцы складывались то в одну, то в другую мудру, запястья выгибались, как у актера-танцора катхакали. Эта причудливая жестикуляция приковывала внимание зрителя. Медленная речь с глухим завыванием в конце каждой фразы воспринималась как музыкальное сопровождение к танцу рук. Скелет с крючковатым носом и фиолетовыми губами, утопающий в оранжевой тоге, наш учитель казался инопланетянином, существом иной породы, чем все остальные, сидящие в зале. Между тем, низводя веданту до нашего уровня понимания, он сыпал примерами из повседневной жизни: «Вот мы спешим на работу, или сидим на совещании, или просматриваем фейсбук…» Кто это «мы»? Ведь у него, человека в оранжевом одеянии, совсем другой опыт! А опыт, согласно Бхагавад-Гите, стоит выше знания. Возможно, когда-то и он, еще не будучи Свами-джи, жил обыкновенной жизнью – спешил на работу, сидел на совещаниях. Но это было давным-давно, и теперь он пользовался реалиями из своей прошлой жизни так же, как писатель, много лет живущий в эмиграции, пользуется родной речью, изо всех сил стараясь избегать калькирования и архаизмов. Увы, его попытки говорить на нашем языке были не вполне удачны, приводимые примеры чересчур схематичны, реалии приблизительны. Но суть была не в этом, а в том, как он играл руками, в интонационных модуляциях голоса Свами, в самом его присутствии (Маниш Шарма употребил бы слово «вибрации»), в благовониях, которыми был пропитан воздух, в том приятном комке умиротворенности, что набухал у меня в груди.
Присутствующие в зале были, условно говоря, людьми среднего возраста – в диапазоне от моих ровесников до ровесников моих родителей. Молодежи практически не было, как не было и иностранцев (кроме меня – еще двое-трое белых). В основном паства состояла из людей обеспеченных, принадлежащих к «профессиональному сословию». Финансисты, айтишники, инженеры, врачи, адвокаты. В первой лекции по Бхагавад-Гите Свами-джи проповедовал им отречение от земных благ; говорил, что все амбиции, успехи и неудачи, честь и бесчестие не имеют никакого значения. Let it be. И люди, погруженные в суету сует, внимали его речам, после лекции падали ему в ноги в согласии с древним обычаем, обещали исправиться, прекрасно понимая, что назавтра снова станут служить маммоне, вернутся к кармической жизни, от которой предостерегал их Свами. Ибо если бы они и вправду вняли его советам и отказались от амбиций, ашраму-пансионату, живущему на пожертвования попечителей, довольно скоро пришлось бы закрыть свои двери за неимением средств к дальнейшему существованию. Однако в этом действе не было и тени лицемерия. Напротив, оно было необходимой частью заведенного миропорядка. Каждый должен знать свое место и делать свое дело. Этот кастовый принцип прописан в шастрах. Дело саньяси – призывать к отречению от мирских благ, а дело мирянина-домовладельца – раскошеливаться на поддержание ашрама.
Насилу оторвавшись от завороженного наблюдения за руками Свами-джи, я пытался вслушаться в содержание лекции. О чем он толкует? Кажется, ничего такого, что нельзя было бы почерпнуть из книги Мюллера «Шесть систем индийской философии». Ишвара, майя, раджас, тамас и саттва, ахимса, сат-чит-ананда… Немножко логики ньяи: при каком условии А равно Б, но Б не равно А? Все это знакомо, если не сказать привычно. Все узнаваемо. Так санскритские корни неожиданно проступают в русских словах, и недоступное сразу делается доступным: «виджняна» взывает «виждь!», «буддхи» слышит себя в «побудке» и «пробуждении», а «манас» ведет к «пониманию», открыв потайную «двар» (дверь).
В плотном графике ашрама лекции Свами чередовались с ведическими песнопениями, медитацией, йогой, пранаямой и «общественными работами» (одни подметали двор, другие помогали на кухне). Трехразовое питание в столовой не предусматривало кулинарного разнообразия: на завтрак – пшеничная каша «упма» с острым соусом и простоквашей, на обед – чечевичная похлебка, тушеная капуста или карри из баклажанов, на ужин – то же, что и на обед. Было, правда, одно неуставное лакомство: в лесу, где постояльцам позволялось гулять после обеда, росла шелковица.
На второй день я с удивлением обнаружил, что медитировать стало намного легче. Я уже не чувствовал, что отсидел ногу, боль в суставах заметно поутихла. Я поделился своими наблюдениями с Сандипом, и он сказал, что отметил то же самое. Невероятно, но факт: твои тело и ум начинают приходить в порядок почти сразу. Или нет? После нескольких дней, посвященных веданте, мы вернулись в мир, и созерцательного спокойствия, нисшедшего на нас стараниями Свами, как не бывало. Более того, стоило нам выехать за ворота ашрама, как я почувствовал свинцовую усталость, накопившуюся за предыдущие дни. Ближе к вечеру я позвонил жене, чтобы сказать, что люблю и соскучился, но вместо этого зачем-то накричал на нее, после чего весь вечер мучился угрызениями совести. Вот результат всех усилий, йоги и медитации.
Ночью мне снились ужасные сны, связанные с болезнью и смертью родных. Тем, кого я люблю, ставили страшные диагнозы, и мои медицинские познания оказывались никчемными. Я слышал, как мамин голос спрашивает: «Кому из нас уйти первым, мне или папе? Как бы тебе хотелось?» Несколько раз я почти выныривал из кошмара, но отступающая волна слез и душевной мути засасывала меня обратно. Наутро я проснулся разбитым, досконально помня детали сна, который предпочел бы забыть. Откуда эти ужасы, что они значат? Может, это и есть те «витальные и ментальные низшие силы», которые, согласно Шри Ауробиндо, представляют опасность для начинающих занятия йогой без надлежащей подготовки? Или это просто реакция организма на многодневное сидение в позе лотоса и питание чечевичной похлебкой? Нормальное явление, побочное действие всех этих психофизических практик? Или знак, что со мной происходит что-то нехорошее? Спросить было не у кого.
* * *
Во что я верю или, по крайней мере, хотел бы верить? Что я понял и как изменился за десять лет работы врачом-онкологом, изо дня в день имея дело с физиологической границей между жизнью и смертью? Возможно ли вообще осмысление такого опыта? В другом мире, вдалеке от моего нью-йоркского обхода? В лесном ашраме, где есть все условия для спокойного размышления, но нет подходящего метода (а ведь именно за методом я сюда и ехал)? Что дает отвлеченная философия, которую я так прилежно штудировал все эти годы за неимением прочной веры? Помогает ли она с ответом на вопрос о злокачественных опухолях у двухлетних детей? Нужна ли теодицея? Демон Хирани Кашипу, предтеча ницшеанского Заратустры, искал бога Вишну, чтобы убить его, и, нигде не найдя, решил, что Вишну уже умер. Все, что имеет имя и форму, должно умереть, а то, что умрет, не имеет подлинного существования. Реально только непреходящее Единство, остальное – условность человеческого восприятия. Такова позиция монизма, от Парменида до Шри Ауробиндо. У последнего читаем: «Смерти нет. Умереть может лишь Бессмертное; то, что смертно, не может ни родиться, ни погибнуть. Нет ничего конечного. Лишь Беспредельное может установить свои пределы; у конечного же не может быть ни начала, ни конца, ибо сам акт мысленного представления собственного начала и конца служит доказательством его бесконечности».
С точки зрения логики жизнь и смерть невозможны. От этого отталкивается веданта в своем утверждении, что ни жизни, ни смерти, ни прочих антиномий в реальности не существует. Конечно, другой возможный вывод – о несостоятельности самой логики. И действительно, адвайта делает этот шаг, вводя нелогичную категорию майи, которая есть «ни то ни се». Ни да ни нет, и даже не гегельянский синтез. Тогда что? В одном каноническом тексте майя определяется как завеса иллюзий, в другом – как творческая энергия мироздания. Так или иначе, с апорией Ауробиндо не поспоришь. Что же в таком случае можно сказать об имени и форме, которым суждено исчезнуть? Что они иллюзорны? Что их нет и никогда не было? Надо сказать что-то еще. Нужен отдельный статус для мимолетности – ведь есть же онтологическое различие между человеком и единорогом. Может быть, нужен даже какой-то другой язык.
Кажется, если адвайту перевести на язык философии Канта, многие понятия прояснятся, обнаруживая неожиданное сходство с тем, что уже знакомо (недаром продолжатель Канта Шопенгауэр так восхищался индийской философией). Майя – не иллюзия, а кантовская «вещь для нас»; ей присущи пространство и время как чистые формы чувственного созерцания. Атман – абсолютный субъект, трансцендентальное единство апперцепции. Джняна-йога – это «критика чистого разума», а бхакти-йога – «критика практического разума», допускающая для служебного пользования то, что исключалось в джняна-йоге. Однако в отличие от Канта адвайта не считает «вещь в себе» непознаваемой. Наоборот, непостижимой представляется «вещь для нас», то есть майя; для обозначения ее непостижимости вводится даже специальный термин: анирвачания. То, что нельзя назвать ни реальным, ни нереальным.
Кант ставил под сомнение реальность времени и пространства, Юм – субстанцию и причинность, Беркли – существование материального мира. Но, хотя философы Нового времени и указывали на логическую ошибку в знаменитом утверждении Декарта (правильным было бы сказать «я мыслю, значит существует нечто»), никто из них не отрицал реальность «я» с тем упорством, с каким это делает веданта. В слове «индивидуум» реален только «ум». Не индивидуальный, а некий надмирный Ум; целое, не знающее, что мы – его часть. Кажется, при таком раскладе о свободе воли не может быть и речи.
«Я знаю исход, но не могу отказаться», – признается предводитель Пандавов Юдхиштхира перед тем, как проиграть в кости свою сестру. Его противник Дурьодхана тоже не волен над собой: он знает, что его действия приведут к гибели Кауравов, но не может отступиться. Толкователи-ведантисты объясняют: свобода воли – оксюморон, так как воля подчинена закону причинности. Но и сама причинность – заблуждение; на самом деле, причина и следствие тождественны. Приводится аналогия веревки, выдаваемой за змею. Брахман соотносится с миром так же, как веревка со змеей (или иллюзией змеи). Зачем веревке прикидываться змеей? Просто так. Никакой телеологии тут нет. Телеология существует только в пределах «вещи для нас». Майя – паутина мира, где все взаимосвязано и целесообразно; об этом говорят философы ньяи. Если же речь идет о «вещи в себе» (Брахмане), никакого целеполагания быть не может, так как целевая причина подразумевает внеположного Творца, в которого веданта не верит. Значит, не только свобода воли, но и смысл жизни – бессмысленная фраза.
Но реальность мира не отрицается полностью: с точки зрения нашего страха (практического разума) змея реальна. В этом смысле можно говорить и о свободе воли, и о нравственности. Так рассуждает великий Свами Вивекананда. В его интерпретации веданта – это философия любви, ибо любовь есть отречение от своего ограниченного «я» ради «Ты», стремление к единству с мирозданием. Здесь Вивекананда неожиданно сходится с Бубером (преобразование отношения «я и оно» в «я и ты») и, развивая свою философию диалога, признает: «Мы должны стать дуалистами во имя любви». Но дальше, пытаясь примирить этику дуализма (карма-йога и бхакти-йога) с онтологией веданты (джняна-йога), он как бы намеренно смешивает монизм с пантеизмом. Вера в Бога, говорит он, есть вера в себя и любовь к ближнему, потому что Бог – во всем, Он – это мы, а мы – это Он, «я есмь То» («Со хам»), как разбегающиеся волны на поверхности моря суть само море. Однако волны, которые Вивекананда приводит в качестве иллюстрации, подозрительно похожи на модусы из философии Спинозы и Мальбранша. Означает ли это, что монизм превращается в пантеизм, который в свою очередь неизбежно должен превратиться в атеизм? В другом месте Вивекананда приводит аналогию круга: чем дальше от центра, тем больше кажущихся различий. «Мыслители древности уже замечали, что с отдалением от центра все заметней становятся различия, с приближением же к центру заметней единство сущего. Чем ближе мы стоим к центру окружности, тем ближе мы к месту сопряжения всех радиусов, а чем дальше, тем больше расстояние между радиальными линиями. Внешний мир весьма отдален от центра, здесь места соприкосновения различных уровней существования отсутствуют…»
Кажется, основной вопрос, на который должен ответить ученик восточной философии, хорошо известен: готов ли ты принять буддистскую и отчасти индуистскую точку зрения, что наш мир – бессмысленный цикл страданий, из которого нужно как можно скорее высвободиться; что единственная цель – избавление от эгоистической природы сознания? Все мы суть одно, такова формула вселенской любви, но это какая-то абстрактная, аутистичная любовь к человечеству, отрицающая конкретную любовь к конкретным людям. И еще это – точка зрения здорового человека, который волен теоретизировать о жизни, не цепляясь за нее из последних сил. Имперсонализм безжалостен, неутешителен. Или наоборот – он и есть единственно возможное утешение? Ведь многочисленные исследования показали, что медитация помогает онкобольным. Во многих онкологических центрах в США йогу и медитацию «прописывают» в дополнение к радиации и химиотерапии. Медитацию, а не молитву. Почему? Может, потому что у молитвы другая функция. Амиш Гупта был неправ: молитва и медитация – совсем не одно и то же. Медитирует тот, кому больно; молится тот, кому страшно. Но страх, как напоминает нам Вивекананда, не фундамент веры, а лишь проявление эгоизма. Монизм адвайты не стал религией масс, но и дуалистические направления индуизма проводят разграничение: молиться можно богам-аватарам (их же и бояться), а Единого можно только любить. Любить Ишвару, не как Отца, а наоборот – как своего ребенка, ибо такая любовь безусловна, лишена суеверных страхов и претензий, требующих теодицеи. «Отречение выше знания, а служение выше отречения». Вот проповедь Свами Вивекананды.
Мне нравится эта приставка, «свами». Если верить Википедии, на санскрите она означает «владеющий собой» или «свободный от чувств». Но мне слышится другое: «С вами Вивекананда». Как будто вечером, возвращаясь с работы, я слушаю не аудиокнигу, а радиопередачу; не стенограмму лекций, прочитанных в Чикаго больше ста лет назад, а прямую трансляцию оттуда, где нет жизни и смерти, пространства и времени в образах неисчислимых; где Я и Оно превращается в Я и Ты. «Добрый вечер! С вами Вивекананда. Вы не одни».
ноябрь 2016 – июль 2017Сноски
1
Хотя в основу этой книги легли реальные события, не следует воспринимать ее как документальную прозу. Все имена, за исключением имени автора, вымышленные.
(обратно)2
Имеется в виду герметичная повязка, соединенная с вакуумным насосом, откачивающим жидкость из раны.
(обратно)3
Доброе утро, Эльба! Как самочувствие? Как вы себя сегодня чувствуете? (исп.)
(обратно)4
«Часто летающие пассажиры».
(обратно)5
Медицинский работник, чья специальность – забор крови.
(обратно)6
Магазин мебели и товаров для дома.
(обратно)7
Дозировка лучевой терапии; грей – единица измерения дозы радиационного излучения.
(обратно)8
Программа национального страхования для американцев от 65 лет и старше.
(обратно)9
Международная классификация болезней (десятый пересмотр) – единая классификационная система медицинской диагностики, используемая во всем мире.
(обратно)10
Средство, применяющееся как антидот при передозировках героина и других опиоидных наркотиков.
(обратно)11
Мун Сон Мён – основатель религиозного движения «Церковь объединения», известного массовыми бракосочетаниями и другими спорными практиками. Последователи движения считают его мессией.
(обратно)12
Ан Сён-хон – основатель религиозного движения «Свидетели Иисуса», предрекавший конец света в 1966, 1988 и 2012 годах.
(обратно)13
Общее название закусок и салатов, которые принято подавать в качестве аккомпанемента к основному блюду.
(обратно)14
Барбекю из маринованной говядины.
(обратно)15
Густой суп из ферментированной соевой пасты с овощами.
(обратно)16
Ведущий онкологический центр в США.
(обратно)17
Американка, впавшая в вегетативное состояние после обширного инфаркта в 1994 году, после чего в течение многих лет ее жизнь поддерживалась путем искусственного дыхания, так как родители пациентки были против эвтаназии. Случай Шайво привлек внимание всего мира.
(обратно)18
Слова из «Deck the Halls», одной из наиболее популярных рождественских песен на английском языке.
(обратно)19
Знаменитый оперный певец, считается одним из лучших теноров ХХ века.
(обратно)20
Острая колбаса, филиппинский вариант чоризо.
(обратно)21
Сленговое самоназвание филиппинцев.
(обратно)22
Традиционное филиппинское блюдо: вареное утиное яйцо, в котором уже сформировался плод.
(обратно)23
Бычьи хвосты и требуха в соусе из арахиса.
(обратно)24
Паре – приятель. Распространенное обращение к мужчине.
(обратно)25
Способ диагностики в нетрадиционной медицине, основанный на обследовании радужной оболочки глаза.
(обратно)26
Один из наиболее значительных индийских писателей современности.
(обратно)27
Оплачиваемый длительный отпуск, который предоставляется профессору за выслугу лет; распространенная практика в американских университетах.
(обратно)28
Служба в индуистском храме.
(обратно)29
Ударный инструмент из двух металлических дисков, используемый во время пуджи.
(обратно)30
Индийский философ-мистик, основоположник интегральной йоги.
(обратно)31
Философ-оккультист. В молодые годы пользовался широкой популярностью в кругах, близких к Теософскому обществу, – отчасти из-за своей необычайно привлекательной внешности.
(обратно)32
Монах-аскет, отрекшийся от мирских благ и посвятивший себя духовному поиску.
(обратно)33
Традиция преемственности в индуизме: считается, что самое сокровенное знание может быть получено только от духовного наставника.
(обратно)34
Жизненная энергия, управляемая дыханием.
(обратно)35
Религиозная аскеза.
(обратно)36
Парный барабан, основной перкуссионный инструмент индийской классической музыки.
(обратно)37
Бамбуковая флейта, один из широко используемых инструментов в хиндустанской классической музыке.
(обратно)38
Знаменитая певица, представительница карнатической вокальной традиции.
(обратно)39
DP (displaced person) – перемещенное лицо, беженец; CP (Connaught Place) – один из крупнейших деловых, финансовых и торговых центров Дели.
(обратно)40
Индуистский храм.
(обратно)41
Сикхский храм.
(обратно)42
Пища, предлагаемая после службы в храме как символ божественной благодати.
(обратно)43
Бхагавад-Гита, глава 11 (перевод Б. Л. Смирнова).
(обратно)44
Традиционный южноиндийский завтрак: идли – лепешки из маша и рисовой муки; упма – каша из обжаренной манной крупы с овощами; вада – пончики из чечевичной муки; самбар – томатно-чечевичная похлебка.
(обратно)45
Ласси – напиток на основе йогурта с фруктами; бханг ласси – ласси с марихуаной.
(обратно)46
Джиоти Сингх Панди – студентка, ставшая жертвой группового изнасилования в общественном транспорте в 2013 году. Скончалась в больнице от ран, нанесенных ей насильниками.
(обратно)47
SC/ST (Scheduled Castes/Scheduled Tribes) – зарегистрированные касты и племена, по отношению к которым принята политика положительной дискриминации.
(обратно)48
В аюрведе – структуры, отвечающие за физиологическую и психологическую деятельность организма. Считается, что доша по своей природе склонны к дисбалансу и повреждению. Одна из основных задач аюрведического лечения – выправление доша.
(обратно)49
Слова из популярной песни «Twist», прозвучавшей в фильме «Любовь вчера и сегодня» (2009).
(обратно)50
Малочисленные племена, считающиеся аборигенными жителями Индии.
(обратно)51
Религиозные песнопения.
(обратно)







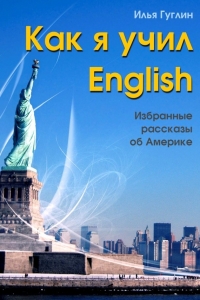
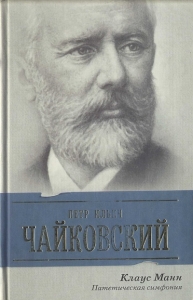
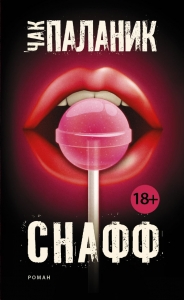

Комментарии к книге «Нью-йоркский обход», Александр Михайлович Стесин
Всего 0 комментариев