Борис Екимов ЗЯТЬ
В райцентре, в его конторах, когда рядом, в подмогу, был умный человек, Мартиновна ничего не страшилась, все бумаги подписывала. И в машине, когда возвращались на хутор, она раз за разом повторяла:
— Я — хозяйка… Я — в своем праве. А он — пришей-пристебай! Решил: бабы глупые, зажмурки живут, обведу их, как серка, за уши. А мы и впрямь хуторские овечки… — призналась она и добавила: — Но кое-чего соображаем…
Главная подмога Мартиновны, Лельки-бригадирши брат, бухгалтер колхозный — головочка умная, лысая, недаром еще смолоду его Плешкой величали, он рядом, в машине, за рулем сидел и поддакивал.
— Они нахалтай привыкли, чужими джуреками свою родню поминать. А тут коса на камень… — хохотнул он довольно. — Прищемили. Теперь налицо будет, кто глупый. Ты жизнь на колхоз поклала! — возвысил он голос. — А он прибег на белые буханки. Земли ему захотелось. Воспрещен проезд! Земля наша. Мартиновны и Макуни. Они на этой земле загорбатились. А он забогатеть решил, на чужой шее. И — в Америку, на ихних курортах скрыться: с деньгами там примут. Абы деньги. И будет смеяться издаля над дураками. А вы тут свистите в кулак.
Приехали на хутор. Плешка ссадил Мартиновну прямо у ее двора, на прощание подбодрил:
— Чуть брыкнет, ты шуми сеструшке, она при телефоне. И мы его враз определим. За высокий забор. Я участковому дам знать. Пристроим, где был. Там место еще не остыло.
Плешка убыл. Мартиновна осталась одна. И хоть лежал вокруг родной хутор, а рядом — родной двор и дом и сама Мартиновна была бабой не робкой: с тяжелой поступью, крепкими руками, низким, мужичьим голосом, но, конечно, боялась она своего зятя-«затюремщика». С первого шага, когда пришел он из лагеря, лишь ступил во двор, старая мать Мартиновны, бабка Макуня, сразу сказала: «Он людей резал». А старая ворона зря не каркнет. И потом, хоть целых пять лет под одной крышей прожили, а как сощурит глазоньки, процедит: «Ты не в свои дела не лезь… Понятно?..» Это «понятно» огнем ли, холодом, но обжигает до самого нутра. Так что не сразу вздохнешь.
Конечно, она боялась. Но страх перемогала. И повторяла про себя: «Я хозяйка. Я — в своем праве. А он — пришей-пристебай. Копеечку бабью, сиротскую не дам отнять. И пусть даже убьет, — на крайнее решалась она, — зато внуки с сумой не пойдут и дочка не будет век слезы точить. Пускай убивает. А может, и не убьет, — думалось. — Может, унесет его Господь, как и принес. Может, даст покою. Галдят все: Мартиновна, Мартиновна двух мужиков стоит… Сколь накосила Мартиновна… Сколь накопала картошки… Словно все это с неба валится: сено, дрова, картошка… Кто бы знал, что у Мартиновны руки уже ни вил, ни лопаты не держат. А внутри все скрипом скрипит, видать, проржавело. Пора бы и отдохнуть. Наработалась, слава Богу. Сложить бы крестиком руки да сидеть на лавочке возле двора, семечки лузгать и басни тачать. Может, и приведет Господь… — теплилась в душе надежда. — Все же копеечка неплохая…»
Мартиновна вслух сказать боялась. Шутка ли — целых семьдесят миллионов. Отнимался язык. Хотя по хутору и округе про семьдесят челядинских миллионов трезвонили кому не лень.
Это началось летом, когда хлеб убирали. Челядинское поле озимой пшеницы по пятьдесят центнеров с гектара давало. Удалась пшеничка: зерно к зерну. А народ нынче грамотный. Считать умеют. Особенно в чужом кармане. Прикинули. Получалось, что семьдесят миллионов рублей получит за эту пшеницу челядинский зять. Вот тебе и «затюремщик» и лодырь.
Челядины на хуторе жили всегда. Но с мужиками им не везло. Бабка Макуня в войну овдовела. Мартиновну оставил муж с годовалой Раисой на руках. А в годы вошла Раиса, и ей Бог счастья не дал. Дружечка ее сгорел в одночасье. Так и жили бабьей артелью, пока не послал им Господь в зятья Костю-«затюремщика».
На погляд Костя был похож на военного: высокий, поджарый, в короткой стрижке, с железными зубами. А взгляд — неморгающий, строгий.
Челядины зятя приняли, хотя вначале не больно верилось, что он приживется — чужой гусак среди свойских: всегда бритый, с одеколонным душком, а не с водочным перегаром.
Колхозный бригадир Чапурин определил челядинского зятя в лодыри. Костя в скотниках побывал, в кочегарах на ферме, в плотниках. А потом приладился шофером на старую машину. Летом он собирал да разбирал ее возле двора, изредка ездил. Зимой машина стояла.
А в семье примаком были довольны: не пьет, не гуляет, как другие. Раиса мальчика родила. Хотя по меркам хуторским в тридцать лет бабе не рожать, а внучат надо пестать. Но родила. И этому радовались. Как говорят, не любовь сведет, так дите спутает. Костя прижился, получив твердое имя: челядинский зять. И все шло хорошо, когда бы не дурь эта с землей, а потом с миллионами.
Мартиновна после райцентровской колготы да машинной езды не сразу пришла в себя. Плешка уехал, а она стояла, опасаясь во двор родной идти.
Но все пока было спокойно. Хутор лежал в теплой сентябрьской тиши. Деревья в садах еще не желтели. Лишь кое-где тронуло багрецом маковки груш. В палисадниках алели гроздья калины; пестрели, доживали летнюю пору простые цветы: астры, петуньи, высокие георгины.
Словно на казнь, со вздохом, крестясь, Мартиновна ступила в свой двор. Здесь, за высоким крепким забором, в безветрии, было и вовсе по-летнему тепло. Старая бабка Макуня в пуховом платке, валенках и плюшевом жакете сидела возле кухни с хворостиной, внука стерегла. Вовка лез во все углы, куда не положено. Бабка, а вернее, прабабка стращала его:
— Шелужиной тебя… неуемный…
Мартиновна, словно наскучав по внуку, подхватила на руки этот теплый дорогой комочек, проговорила:
— Жалюшка моя…
И разом стало ей легче: не для себя — для малого внука старалась, для него и для дочери.
А дочь Раиса выглянула из кухни, спросила у матери:
— Ты где блукаешь? Увеялась — ни слуху ни духу…
— Плешка в район ехал. Я прицепилась, насчет пенсии. Дурят нас. Солонечихе боле моего принесли.
От дочери Мартиновна правду таила. Раиса не в нее удалась: покорная овца, обмануть ее — раз плюнуть. Тем более — ночная пристежка: под чьим боком греется, с тем и песни поет, про завтрашнее не думает.
— Солонечихе принесли на две тысячи боле моего! — возвысила голос Мартиновна, потому что, еще не увидев зятя, почуяла взгляд его. — Бесстыжие! У меня стажу — хоть на базар неси! Я — почетный колхозник!
Зять сидел возле сарая, рыболовные снасти ладил. Любил он это дело.
— Я им вложила ума! — опуская внука на землю, закончила Мартиновна и ушла в дом, чтобы переодеться да от зятя укрыться. Он ведь, словно колдун, прищурится и все насквозь видит.
Обедали в летней кухне. Мартиновне кусок в горло не лез. Понимала она, что шила в мешке не утаишь: не ныне, так завтра Костя обо всем узнает. Что будет тогда? Уж точно — в последний раз за одним столом сидят: Раиса с внуком, Костя; мальчик тянется к отцу, мешает ему — привычное, семейное, сердцу дорогое.
Слава Богу, заглянула соседка, Раисина сверстница. Обедать она не стала, но ушла не вдруг. Жаловалась на колхоз, в котором с весны не платят. А на работу ходи, коров не бросишь. Завидовала вслух Раисе, хвалила Костю, что из колхоза не побоялся уйти. Речи были обычные после нынешней уборки, когда про миллионы узнали.
— Копейку начислят — и той не дождешься, — жаловалась соседка. — Потом да потом… На вас поглядишь — завидно…
Под эти разговоры Мартиновна быстро доела и в огород ушла. Завидовали нынче многие. А вот было ли чему?
Сколько пережили, сколько пролили слез, когда Костя из колхоза решил уйти. Он и работал-то в колхозе без году неделю. Да и работал ли? В скотниках — не захотел. На дробилке — пыльно. В плотниках — мало платят.
А потом вдруг надумал и объявил: «Из колхоза надо выходить, пока не поздно». Сколько слез было… А он стоял на своем: «Уходить надо, пока другие в затылке чешут. Тарасов не зря ушел». Мартиновна плакала в голос: «Тарасов в тракторе зародился. Он и спит в нем. И сын — весь в него. А у нас? Сейчас ли в колхозе не жить?! Бери чего хочешь, никто слова не скажет. Хоть сено, хоть зерно. Огрузись…» — «Потому и надо уходить, через год-другой все растянут». Неожиданно его поддержала Раиса, сказав: «Он — мужик. Он — в силах». Мартиновна сдалась. Дочери в ту пору пришло время рожать. Как спорить с ней? Тем более с глазу на глаз сказала Раиса матери: «Либо ты не видишь? Он попивать начал. Нудится. Пускай к делу прислоняется. Сладит он».
Написал заявление. Бумаги ездили оформлять Костя с Мартиновной. Где нужно, Мартиновна кулаком себя в грудь стучала: «Два ордена! Почетный колхозник! Имею право!» И Костя не промах был: подмазать умел, с людьми разговаривать. Он и прежде, надо ли огород вспахать, сено привезти, обычно говорил: «Организуем. Готовьте горючее».
Но одно дело — погреб выкопать, тележку зерна привезти, другое — триста гектаров земли, кус немалый Челядины выхватили.
На хуторе, когда узнали, головами качали да посмеивались: «Бабка Макуня будет пахать». Колхозный бригадир Чапурин — он по соседству жил — спросил Костю напрямую:
— Зачем берешь землю? Людей баламутить?
— Попытаем, — спокойно ответил Костя.
— Чего пытать? Ты же в земле ни бум-бум. Лишь червяков копаешь для рыболовства.
— А я у добрых людей совета спрошу, — так же спокойно ответил Костя. — У тебя, например. Ты ведь подскажешь, когда пахать да когда сеять, — и, помолчав, добавил: — А кто на хуторе может? Турчок? Шаляпин? Сытилин? Ванька Махно? — считал он хуторских пьяниц. — Ну, кто?
Чапурин вдруг понял, что нечем ему ответить. Давняя то была беда. И он досадливо рукой махнул, смяв разговор. А у себя дома бурчал: «Землероб… В тракторе сроду не сидел…» На что жена его, Лелька, ответила сразу: «А он в него и не сядет, в трактор. Либо у нас пьяниц мало? Они всей бригадой колхозную землю бросят, а ему будут пахать за поллитру».
Тракторами, иной техникой челядинский зять обзавелся. Но в кабину, за рычаги, как мудрая Лелька вещала, он не полез. За поллитру ли, за что еще, но земля его была вовремя вспахана, где надо — засеяна. И сам бригадир Чапурин помог ее щедро удобрить.
Скотные дворы колхоза на хуторе не убирались который уже год. Это когда-то были «отряды плодородия», районная «Сельхозтехника» помогала, а теперь лишь изредка сдвигали навоз, нагребая за курганом курган вокруг фермы. Потом и вовсе бульдозер сломался. Нечищеные базы тонули в навозе.
Как-то летом Костя пришел к бригадиру, сказал:
— Не против? Я навоз заберу с базов.
— Как заберешь? Куда? — не сразу понял Чапурин.
— Себе на поля. Под озимку.
— Молодец. А чем ты его вывезешь? Мартиновну запряжешь?
— Мое дело, — уклончиво ответил Костя. — У тебя коровы на базах плавают по брюхо. К осени тонуть начнут. Я вычищу. Тебе благодарность объявят за чистые базы.
— Забирай, агитатор, — недолго думая согласился Чапурин. — Я погляжу, как ты его вывезешь.
На следующий день на колхозных скотьих базах урчали бульдозер да скреперы, шеястый экскаватор. Могучие самосвалы один за другим потянулись на челядинское поле.
Отряд районного автодора, что недалеко от хутора асфальтовую дорогу вел, одним махом с навозом разделался. Чапурин лишь завистливо глядел на эту картинку, прикидывая, как ему придется отбрехиваться в правлении колхоза. Скажут, что продал навоз.
А вечером бригадира ругала жена:
— Всю жизнь работаешь, ни днем ни ночью покоя нет… А чего заслужил? Медаль? Внукам играть? Затюремщик деньги будет грести, а ты слюнки глотай. Или — к нему, внаймы, на старости лет.
Чапурин лишь вздыхал:
— Жизнь такая пошла.
— А к ней применяться надо, к этой жизни. Навоз ему задарма отдал?
— Сумел человек. Молодец. Почистил базы.
Он и Костю при встрече похвалил:
— Молодец. Сколько же ты им поставил, дорожникам?
— Коммерческая тайна, — усмехнулся Костя.
Поле, на которое навоз свезли, отпаровав, засеяли озимой пшеницей. И следующим летом, в июле, стоял возле него Чапурин и глядел.
В солнечном полудне лежало пшеничное поле червонным золотым слитком колос к колосу, не войти в него. А через ложбину — колхозное, жиденькое, словно клеваное, в зеленых островах вьюнка, в седых — осота.
Тогда и прикинул Чапурин вслух:
— Пятьдесят центнеров… Элита… По семьдесят тысяч… Не меньше семидесяти миллионов. Вот тебе и Костя.
В ту пору не было никого рядом. Но словно ветер слова его разнес.
То один, то другой приставал:
— Забогатели? Семьдесят миллионов. Куда же девать будете?
— Плетите… — отмахивалась Мартиновна.
— А ты не боишься? — шепотом спросила ее хуторская ворожея Солонечиха. Жизни решат.
— Столько и не пропьешь… — посочувствовал вечно хмельной Шаляпин.
Партийная Макарьевна при встрече сказала строго:
— Коммунисты все одно победят. Сибирь просторная, — предупреждала она. Гляди не загреми на старости лет.
И что-то тронулось в душе. Мартиновна была бабой большой, тяжелой, пожившей. Но и мшистый камень-валун, коли его бить и бить, не сразу, а треснет.
В земельные дела Мартиновна прежде не лезла. Теперь пришлось. При дочери за ужином завела она разговор:
— В била забили: миллионы да миллионы… Волочат молву. Взаправду, что ль, за пшеницу хорошо заплатили?
Против ожидания зять ничего не скрыл.
— Цена хорошая. Но у нас и пшеничка… — гордясь, сказал он. — Клейковина высокая. Пятьдесят миллионов уже перечислили. Остальные — обещают. А чего? спросил он. — Взаймы просят?
— Да нет… Думала, может, напраслину кидают… — проговорила Мартиновна и смолкла.
Если прежде она верила и не верила, то теперь ее словно жаром осыпало, перехватило дух. А немного в память войдя и вздохнув свободней, она с ходу решила:
— Презир надо денежкам дать. На книжку положить. На Володю и на Раису. Там проценты пойдут. Да-да, — убеждала она. — Так все делают.
— Э-эх, мать… — по-доброму посмеялся Костя. — Не забивай себе голову. Это кажется, что много. А их еще бы столько — и не хватило. С кредитом надо рассчитаться. Новый трактор нужен, КамАЗ с прицепом, горючее, запчасти. И если получится, то надо будет ехать в Словакию.
— Куда-куда?..
— В Словакию, за границу. Хорошие там есть комплексы: мельница, рушилка, пекарня — все вместе, — говорил он необычно мягко и глядел на жену, на сына, который тянулся к нему с рук матери, а та его не пускала.
— Пекарня? — спросила Мартиновна. — Хлеб будешь печь?
— Будем печь, — ответил Костя.
— Да его чуть не каждый день возят.
— Наш будет лучше и дешевле, — объяснил Костя и повторил, с чего начал: — Не забивай себе голову, мать. Я уж сам разберусь.
На том и кончили разговор.
Со старой матерью, с бабкой Макуней, говорить было без толку, она лишь отзывалась эхом.
— Либо он брешет все? — спросила у нее Мартиновна. — Обманет?
— Абманат, абманат… Он в тюрьме сидел, — согласно кивала бабка.
— А Володю жалеет и Раису не обижает.
— Мне пряников привез из станицы, — похвалилась бабка. — Сладкие.
Вот и поговори с ней. А поговорить было надо. Мартиновна ночь не спала, пытаясь понять то богатство, что рухнуло на ее баз. Сколько там… в этих миллионах. В гаманке ли, в кармане не уместить. Грезились они каким-то курганом. Всю ночь этот курган виделся. До сна ли?..
Утром Мартиновна к Раисе приступила всерьез.
— Моя доча, — начала она ласково, — об жизни надо загад делать. Это нам с бабкой дорога короткая — на кладбище. А тебе еще на веку, как на долгом волоку, всего придется перевидать. А время — надежи нет. И люди не зря про черный день копеечку сбивают.
— Ты об деньгах? — поняла ее Раиса.
— Об них, — призналась Мартиновна, — об вас с Володей мое сердце кровит. Такая страсть — миллионы. А он их — в распыл.
— Ой, мама… — вздохнула Раиса. — Я ему говорила. А он: нужны в дело. Трактор, машина, пекарня… — повторяла Костины слова.
— Набрешет — конем не перепрянешь, — в сердцах оборвала ее Мартиновна. — А ты вослед за ним едешь, ночная пристежка. Повадили его… Хозяин… Я тебе всегда учила: для каждого дружка держи камень за пазушкой. И для сердечного тоже. Сколь дурили тебя… Ныне он — милый, а завтра — постылый. Кинет — и осталась с дитем на руках. А он парень клеваный, крым и рым прошел.
Раиса слушала мать не переча. Эти пятьдесят ли, семьдесят миллионов и у нее на сердце лежали. Сколько разговоров вокруг… Но первым про деньги Костя сказал, когда лишь начали пшеницу сдавать. Она испугалась, стала говорить про лихих людей, про сберкнижку. Костя посмеялся, потом сказал: «Шубу тебе, если хочешь, купим. Тряпки нужны — скажи. А в остальное не лезь. Тут моей голове болеть». Она поверила, вздохнув облегченно. Мужик — он хозяин.
И теперь верила Косте, привыкнув к нему. Но материнскую боль понимала. А чем ей ответить? Лишь вздохами да слезами. Такой был характер, далекий от материнского.
— Телушка… — в сердцах обругала ее Мартиновна. — Тебя лишь почухай — и хоть на бойню веди.
Она махнула рукой на дочь и на старую мать, понимая, что, как и прежде, надеяться надо на себя.
Идти нужно было к Лельке, к бригадировой жене. Та — грамотная и при власти; брат ее Плешка и вовсе в конторе с младых ногтей. А жили всегда рядом. Правда, когда Челядины из колхоза ушли, меж соседскими дворами словно сквозняком потянуло. Не ругались, не ссорились, а чуялся холодок.
Теперь нужно было идти. Хочешь не хочешь, а больше некуда.
Мартиновна подгадала ко времени. Бригадирова жена Лелька сидела на солнышке, на крылечке, пуховый платок вязала.
— Я к тебе, Леля, с бедой, — открылась Мартиновна сразу.
— Деньги?.. — поняла ее Лелька. — Миллионы?
— Они…
— Не отдает?
— И слухать не хочет. Не забивай, мол, голову. Туды да сюды. Трактор купить. Да еще за границу надо, какую-то турунду везти. Вроде пекарню…
Ростом невеликая и телом худая, Лелька мудрой была, даром что баба.
— Заграница? — спросила она шепотом и потянула Мартиновну в дом, подалее от чужих глаз и ушей. — Вот оно и открылось! — объявила она. — Все так делают. За границу — и хвост в хворост. Чтоб наша милиция не поймала. А ихнюю подкупит. По телевизору каждый день объявляют. Ты либо не глядишь?
— Лишь кино, «Марию».
— А надо все глядеть! — Глаза Лельки загорелись желтым огнем. — Всякий день про это гутарят. Украл денежку — и на побег, в Америку, на ихние курорты. Там раздолье ворам. Ты сама пойми: зачем ему, с миллионами, возле вас галтаться? Чего он забыл здесь? Там он во дворце будет жить. Шалашовки найдутся — не нашим чета. Потому и намылился, к сладкой жизни. Об вас не думает. А если бы по-умному…
— Вот я и говорю, — пожаловалась Мартиновна, — положи деньги на книжку. На Раису, на Володю. Вырастет дите — копеечка есть.
— Правильно раскладаешь, — одобрила Лелька. — Шутка ли, семьдесят миллионов. Завтра чего случись… А ты их по щелям распихай. На дитя положи. У дитя да у старика власти не отымут. Домик на станции купи. Там — газ. Там тепло. Об угле да дровах голова не боли. Там хлеб и молоко в магазин кажденно возят. Горя не знают люди, живут. А он увеется, все подгребет… Вы останетесь яко наг, яко благ. Семьдесят миллионов… Такая страсть…
Это была и вправду страсть. Что Мартиновна?.. Даже у премудрой Лельки все в голове мешалось, когда думала она об этих деньгах.
Добрые люди век отработали. Чапурин в бригадирах ни дня ни ночи не знает, весь хутор на нем. А денежки огреб «затюремщик», какой голым-босым лишь вчера на хуторе объявился.
— Ты — в своем праве! — убеждала Лелька. — Земля твоя, материна, Раисина а он ей завладал. И техника твоя, на тебе все записано, ему бы и не дали ничего, он у нас без году неделя. Ты в своем праве. Я ныне же братушке позвоню. Прищемит он затюремщику хвост. Лишь ты не молчи. А то привыкли слезы точить. Счастья не упусти… Оно раз в жизни досталось. Тебе счастье, Раисе и внуку… Счастье!
Телефон на хуторе был один. Днем он трезвонил в конторе, вечером да в выходные — на дому у бригадира, через дорогу от Челядиных. Когда Косте звонили из райцентра, бригадирова жена Лелька кричала от своего двора:
— Ко-онста-анти-ин!!
Нынче она голосила особенно старательно. Мартиновна, из огорода услышав этот призывный клич, сердцем почуяла: вот оно, начинается. Не ожидая хорошего, она бросила лопату и пошла к дому медленно, нехотя.
Встретились посреди двора, Костя против ожидания был вовсе не сердит. Остановившись, он улыбнулся растерянно и спросил:
— Ты чего, мать, сделала? Ты с ума сошла?
Мартиновна привыкла к зятю строгому, жесткому. А теперь его словно подменили. И, разом поняв его слабину, а свою силу, она ответила тоже мягко:
— Ага-а… Прищемила. Хотел — виль хвостом. Не вышло?! — Осознав победу, торжествующе возвысила голос: — Абманат… Абманат ты и есть! Погубить нас хотел?! Завладать денежкой! В Америку, на побег потянуло?! С большим гаманком! Вот теперь и лети в свою Америку! Со своим нажитком! Какой из тюрьмы принес! Перо тебе в зад!
— В какую Америку? Ты чего плетешь?
— А вот и плету… Прищемила хвост! Прищемила!!
— Не орать, — холодно приказал Костя.
В прищуренных глазах Мартиновна увидела то страшное, чего всегда боялась. Но нынешняя отвага, но страсть пересилили.
— Бей! И убей!! — закричала она, зная, что услышат ее. — Убивай!! А сиротскую копеечку не отдам! И дочерю не пущу по миру!! — Она кричала не видя, но зная, как выбирается из кухни старая мать ее, как дочь спешит, оставив мальчонку, как досужая бригадирова Лелька заглядывает во двор.
— Мама… Костя… Господи, помоги… Чего там у вас? — смешались разом три бабьих голоса.
Костя шагнул, Мартиновна охнула. Но зять прошел мимо, быстро пересек двор и так же быстро стал спускаться к леваде, к одичавшим садам, к речке.
Проводив зятя взглядом, Мартиновна процедила:
— Хоть бы ты потонул там. Дал покоя.
Покоя искал и Костя, когда, оборвав ругню, заспешил прочь от Мартиновны. Бабья слепая дурь ошеломила его, и он испугался, что полыхнет в ответ такая же злость в душе собственной. Он быстро прошел узкой тропкою через старый сад и возле речки разом остыл, словно оставил житейское там, за чащею сада, на хуторе.
Синела быстрая вода Ворчунки, на том берегу начинал желтеть тополевник. Скоро он вспыхнет свечным мягким пламенем в осеннем пасмурном дне. Потом листва ляжет на землю, и сразу станет над речкой просторно, далеко видать. На берегу, по земле, уже поднималась мягкая трава, вторая отава. Первую недавно скосили. И как всегда, охапку сухой травы оставили на берегу, чтобы Косте сидеть, когда он рыбачит.
Он сел, минуту-другую бездумно глядел в текучую воду, успокаиваясь и все более понимая, как просчитался, когда два года назад, затеваясь с землею, оформил хозяйство на тещу. В том решении были свои резоны: ему могли в земле отказать, Мартиновна — почетный колхозник, сорок лет стажа, два ордена за труды. Тараном вел ее Костя по районным кабинетам, добиваясь земли. Добился. Мирно, покойно жили. Не взял в расчет лишь бабьей глупости да людских завистливых слов: «Миллионы… Миллионы…»
Неостывшее начало подниматься в душе: боль и горечь, бессилие, злость… Но легкий ветер пахнул, пробежала по воде рябь — стало легче.
Вода уже день ото дня холодела. Но Костя купался каждое утро. И сейчас он поплавал, понырял под левым глубоким берегом. Вроде полегчало. Он вспомнил, как первый раз, приехав на хутор, прямо из лагеря освободившись, пришел сюда, к речке. Лежал в траве, словно в покойной колыбели. Был день первый, потом второй, третий — здесь, на этом берегу. Зелень, текучая вода, тишина. Тогда он решил остаться на этом хуторе. В лагере, за колючей проволокой, грезилось ему: речка, лес, тишина. И он нашел их.
А теперь… Словно обухом по голове.
Костя долго сидел на берегу, думал, но ничего придумать не мог. Конечно, теща не сама на это решилась. Посоветовали да помогли доброхоты. Вбили ей в голову: «Семьдесят миллионов!» И закружилась голова у старой дурехи.
Нужно было говорить с женой. Когда землю брал, она свое слово сказала. Должна понять и теперь.
Клонился день к вечеру. Костя сидел на берегу. Теперь уже не в раздумье, а словно в отрешенье. Всегда его завораживали быстрая вода, зеленый берег, небо и тишина, врачуя душу. Помогло и нынче.
А тем временем, пока Костя вечера ждал, окрыленная легкой победой, Мартиновна клевала и клевала дочь:
— Нечего слезы лить, телушка глупая… Для тебе стараюсь! Я не вечная, помру… Домик в райцентре купишь… Володю в детский садик, в школу… И человека найдешь не хуже его… Дитя в люди выведешь и сама… Наша земля, наша денежка…
Раиса пыталась перечить, но не могла. К тому же какая-то правда чуялась ей в словах матери. Семьдесят миллионов… Хотелось хорошего: для себя, для сына. Ведь люди живут. И детишки с белыми бантиками в школы ходят. А не на тракторной тележке, по грязи, за двадцать верст. Деньги уйдут… Болтали про какую-то бабу из районного банка, чуть не директоршу, вроде видали с ней Костю… Увеется… И мать не вечная. А без нее страшно подумать, как жить.
Ужинали порознь. Рано спать легли. В постели Раиса слушала Костины слова, верила им и не верила, плакала, говорила в слезах: «С мамой поговори… Она жизнь прожила… Она нам добра хочет…»
Костя твердил свое: про мельницу, про пекарню, про завтрашний день. Но слов его Раиса будто не слышала. А может, и вправду не слышала. Уснула ли, притворилась ли спящей.
Костя полночи просидел на крыльце. И ни свет ни заря уехал в райцентр.
Все получалось, как говорили ему: в единый час он оказался лишним. Теперь он шага не мог ступить без подписи Мартиновны. В фермерском союзе и банке Косте сочувствовали, но разводили руками: «Разбирайтесь по-семейному…»
С чем уехал, с тем и на хутор вернулся. Поставил машину. Во дворе было пусто. Лишь куры бродили, сонно татакая, да топырил крылья петух. А на подворье соседском — вовсе тишина. Костя прошел туда. В соседях жила старая одинокая женщина. С ней сговорились, в сельсовете бумаги оформили и на ее просторном базу поставили склад-ангар. Здесь же намечал Костя ставить мельницу и пекарню, объединив два подворья в одно огромное, где хватит места всему: новому дому, на который проект был готов и обещали для стройки льготный кредит, с рассрочкой на пятьдесят лет, то есть задаром. Дом Костя задумал на городской манер. С ванной, с парной, с гаражом в этаже цокольном. Первый этаж, второй, да еще мансарда…
А что теперь?.. Теще в глаза заглядывать. Или плюнуть на все и снова рыбачить, охотиться, бродя по окрестным озерам. Но уже набродился.
Вот он стоит, сияя белою арочной крышей, ангар. А рядом хотел…
Не будет покоя. Это словно зараза, чума ли какая. Наверное, он всегда был азартен. В юности верховодил окрестной шпаной. После первой отсидки не по чужим карманам лазал, а вагонами, платформами угоняли с завода нужное. И в лагере, в заключении, бригадирствовал, строил, словно для себя. Это — азарт.
И здесь, на хуторе, за это короткое время уже привык к уважительному вниманию. Сначала его боялись. Потом иное пришло. На хуторе и во всей округе. И даже в райцентре — в банке да в фермерском союзе. А теперь все — прахом? Нет! Лучше уйти. Но куда? Прошлое отрезано. И что в нем, в том прошлом?
От этих мыслей стало нехорошо. А потом пришло отчетливое: надо, пока не поздно, действовать. Думать и делать, а не вздыхать, словно красная девица.
Он поднялся с ветхого крыльца и пошел — сухощавый, высокий, прямой. Лишь поднялся — сразу пришло разуменье, что к чему и как. Рисковое… Но было что ставить на кон. А главное, нет выбора.
Костя зашел домой, взял ключи от склада-ангара, предупредил:
— Не расходитесь. Собрание буду проводить.
В складе он пробыл не очень долго — дверь оставил распахнутой — и, вернувшись к себе во двор, позвал:
— Пошли со мной. Все пошли, все… И ты, бабуня…
Решительно шагала Мартиновна, ступая тяжко; рядом ковыляла иссохшая от жизни Макуня, костыликом подпираясь; Раиса шла с мальчонкою на руках. И Костя — чуть в стороне и сзади, словно старшина, неулыбчивый, строгий. Казалось, вот-вот раздастся команда: «Ать-два! Ать-два! Левой!»
Дверь склада была открытой.
— Заходи! — приказал Костя.
Вошли. Костя последним. Он запер дверь, накинув крючок. Вспыхнули яркие лампы. И Мартиновна охнула:
— Губить будет…
Она первой углядела лестницу, табуретку и веревку с петлей под поперечною балкою. Никакая Лелька тут не услышит, никакой участковый. Видно, пришла пора помирать. И когда поняла это Мартиновна, то ватными сделались ноги, онемел язык.
— Значит, я — абманат? — спросил Костя. — Обмануть вас хочу? Миллионы украсть? Забирайте эти миллионы! — возвысил он голос. — Набирайте золота, дом купите, нового зятя… и отца ему. — Он шагнул к сынишке, к Володе, которого держала на руках растерянная Раиса, поцеловал его и так же ровно пошел к табурету, влез на него, надел петлю на шею, качнулся и вышиб из-под себя ногой опору.
Табурет покатился к стене, а сам Костя, тело его начало биться. Он вытягивал и вытягивал шею, словно что-то еще хотел сказать, но уже не мог. Страшно открылся и запенился рот в немом раздирающем крике. Выпученные глаза безумно таращились. Судорога ломала жилистое тело, изгибая и вытягивая его в предсмертной корче.
— Грех… Грех… — заплакала старая Макуня, шагнула и, упав, поползла на четвереньках.
— Мамка! — закричала Раиса и, уронив с рук сына, кинулась к Косте, стала ловить ноги его и кричала: — Ма-амка!!! — потом к табурету — и снова к Косте и дико орала: — Ма-амка!!
На амбарной стене висели друг возле дружки четыре косы. Мартиновна, ухватив самую малую, задыхаясь, спеша, полезла по лестнице и с первого раза, с потягом, пересекла веревку над головою зятя.
Костя рухнул на асфальтовый пол. Раиса бросилась к нему, все так же крича: «Мамка!» А потом смолкла, упав на колени, приникла к груди мужа и слушала: колотится ли еще гулкое Костино сердце?
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

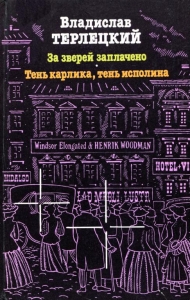
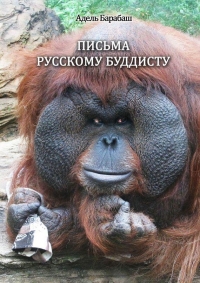








Комментарии к книге «Зять», Борис Петрович Екимов
Всего 0 комментариев