И сошлись старики A Gathering Of Old Men 1983
Посвящается памяти мистера Уолтера Зино — он же Привет, Лихач, Пит и т. д.
Джордж Элиот-младший, он же Кукиш
Во дворе раздался голос Кэнди: она звала мою бабушку. Наша троица — Тодди, Минни и я — сидела за столом и ела, а бабушка отошла к плите посмотреть, много ли еще еды в кастрюле и хватит ли на ужин. А Кэнди во дворе все кричит да кричит: "Тетя Гло-о! Тетя Гло-о! Тетя Гло-о!" Я вскочил, хотел посмотреть, чего ей нужно, но бабушка велела мне сидеть где сидел и все докушать, потому как мое имя не Гло и не Тетя. И посмотрела на меня в упор, чтобы как следует дошло; и потом только двинулась к двери во двор, где надрывалась Кэнди: "Тетя Гло-о! Тетя Гло-о! Тетя Гло-о!"
Тодди глядит на меня и щерится: думает, я очень огорчился, что бабушка мне не велела вставать с места. Я показал ему кулак, но он знал: я его все равно не ударю, потому как он один раз нас в бурьяне застукал — Минни и меня, — мы играли в папу-маму, и Тодди мне сказал, что теперь целый год я не могу ему ничего сделать, а он мне может что угодно, а ежели я сдачи дам, он расскажет бабушке, как нас застукал. Он сказал, он может надо мной смеяться, и ударить меня кулаком и ногой, и ущипнуть (в церкви или дома, где угодно), и, если захочет, может слопать мой сладкий пирог или конфеты, если у меня будут конфеты, и он может проиграть мне все стеклянные шарики, но чтоб я не смел их брать, и чтоб я не смел трогать волчок, когда он его запускает, а не то он расскажет бабушке, чем мы с Минни занимались в кустах. Он сказал, так будет целый год, и чтоб я не смел вякать. А случилось это как раз перед тем, как Кэнди стала кликать мою бабушку, — мы только-только вошли в дом и сели за обед, и я сразу же услышал во дворе ее голос.
Кэнди спрашивает бабушку:
— Кукиш тут?
— Тут, тут, обедает. В чем дело, Кэнди?
— Позови его, — говорит Кэнди.
— Он чего натворил? — бабушка спрашивает.
— Поскорей, тетя Гло, — говорит Кэнди.
— Кукиш! — кричит бабушка.
Тодди и Минни тоже вскочили, а бабушка обернулась и говорит:
— Сидите как сидели и кушайте репку. Я Кукиша звала.
— А почему это Кукиш не будет кушать репку? — Тодди спрашивает. — Почему это только Минни и я должны кушать репку?
— Потому что я его зову, — говорит бабушка. — Шагом марш за стол — и кончайте репку.
— Я не машина для кушания репки, — Тодди говорит.
— Лучше бы стал такой машиной, пока я не вернулась, — говорит бабушка. — Кукиш, с тобой Кэнди хочет поговорить. А вы, Тодди и Минни, добирайте репку.
— Кукиш, можешь там себе воображать сейчас, — говорит Тодди. — Но я такое про тебя знаю…
Когда я вышел на галерейку, Кэнди рядышком стояла, у самого крыльца. На ней была белая рубашка, брюки защитного цвета и коричневые туфли с золотыми пряжечками. Волосы у нее светло-каштановые, а стрижка короткая, как у мужчины.
— Подойди-ка сюда, Кукиш, — говорит она.
Я спрыгнул на землю, где она стояла, и она сразу хвать меня за плечи. Наклонилась, прямо к моему лицу, и глаза ее такого цвета, как дым, когда он синий, шальные, дикие. Я подумал, может, я чего натворил, и она на меня разозлилась.
— Теперь слушай, — говорит она. — Я тебе велю: беги и не останавливайся. Скажешь Руфу, и преподобному Джеймсону, и Коринне, и остальным, чтоб все сейчас же собрались у Мату. А потом ты побежишь к усадьбе, и я велю тебе… теперь слушай внимательно, — говорит Кэнди и так сжимает мне плечи, что даже больно, — ты подойдешь к дому и узнаешь, там ли сейчас мисс Мерль. Если там, скажи ей, пусть немедленно приезжает сюда. Нет, не так… если она там, пусть сперва позвонит Луи велит ему сейчас же сюда ехать, а потом немедленно приезжает сама. Если же ее там нет, пусть Джени позвонит мисс Мерль и Лу и скажет, чтоб они сейчас же сюда приезжали. Делать ничего не надо, просто сразу же ехать сюда. Ты все понял, Кукиш?
— А зачем всем этим людям сразу спешить сюда?
— Это не твое дело, Кукиш. Ты еще маленький. Ну, беги давай что есть духу.
Я сразу за калитку. Выскочил на дорогу, гляжу — перед домом Мату стоит трактор. Мотор запущен — слышно, как стучит, а Чарли на тракторе нету. Тростник нагружен, а Чарли нет. На обочине у дома Мату — большой черный автомобиль, машина Кэнди; стоит блестит на солнце. Вообще-то Кэнди мне ничего не велела передавать Мату, но я прикинул: у него же в доме надо всех этих людей собрать, стало быть, прикидываю я, ему тоже следует про это знать. Я подбежал к дому — и сразу во двор, и там я Бо увидел. Лежит на траве, весь в крови.
— Пошел вон, мальчишка! — кричит Мату с галерейки.
— Меня Кэнди послала, — отвечаю я.
— Не сюда она тебя послала, — кричит он. — Убирайся отсюда!
Мату сидит, прислонившись к стене, а в руках у него двустволка. В шляпе сидит, в старой своей серой шляпе, такого цвета, как земля. В белой грязной майке и в зеленых штанах. Сигарету курит. Сам черный-пречерный, только борода белая.
— Кэнди хочет, чтобы все у тебя в доме собрались, — говорю я.
— Если хочет, так беги и делай, что тебе велят, — отвечает. — Давай убирайся!
Я глянул на трактор. Мотор урчит. Глянул на Мату — сидит себе у стенки.
— Где Чарли? — спрашиваю. — Почему это он не уехал на тракторе?
— Не твое дело, — Мату говорит. — Выметайся с моего двора, да побыстрей, а не то возьму прут и надеру по заднице.
Мату стал приподниматься, и я мигом выскочил за ворота и помчал по деревне, а сам себя по заду похлестываю, как похлестывают лошадь, чтобы бежала скорей. Руф был на огороде, грядки полол. Огород у него за домом, Руф там с утра до ночи работает и все поет. Когда я сказал ему, что Кэнди велела, он сначала вылупился, удивленно так: что случилось, мол; за ним-то она зачем посылает; а потом как шваркнет тяпку на землю — и бежать. Я подстегнул свою лошадку и тоже припустил, дальше по деревне. Коринна в эту пору на кухне — это я смекнул и не стал в переднюю дверь стучаться. С ходу прошмыгнул через весь дом на кухню. Сидит она за столом и прямо из кастрюли кушает овощи с рисом. Одна ест. У нее ни мужа, ни детей. Одна во всем доме — сидит ест и смотрит в раскрытую дверь во двор. Когда я ей передал, что велела Кэнди, она медленно так повернула голову и посмотрела на меня, а глаза у нее совсем темные и такие усталые. Ничего не сказала, даже "угу", даже не хмыкнула. Сидит, и все, такая старая, такая усталая. Жует передними зубами — и такая старая, усталая на вид. Я повернулся — и бежать, только по заду себя подстегнул, как подхлестывают лошадей, чтоб скакали быстро. Джеймсон, наш священник, выходил из своего дома как раз в ту минуту, когда я влетел к нему во двор. С Джеймсоном у нас неважные отношения. Он все ворчит, что в церковь надо ходить и богу молиться, а я, мол, только шарики катаю и гоняю мяч. Я передал ему слова Кэнди, он глянул в ту сторону, да разве чего разглядишь, все сплошь заросло бурьяном. Я не стал дожидаться, пока он спросит чего, повернулся и дальше побежал по деревне. Теперь я уже не забегал во двор — просто стану на дороге и ору, зову хозяев. Кто их знает, может, их и дома нету. Бурьян высоченный, да еще кусты, тут не то что людей, бывает, и домов не видно. Ору во всю глотку, зову хозяев; потом дальше бегу, подхлестываю себя по заду — и опять во всю глотку ору: "Кэнди велела вам всем бежать к Мату! Кэнди велела вам всем бежать к Мату! Кэнди велела вам всем бежать к Мату!"
Когда я до Маршалловой усадьбы добрался, я так устал, что еле ноги волочил; протащился кое-как по выгону до цветника. В калитку не вошел, стал у калитки, зову Джени. Ору, ору. Она долго что-то не показывалась, потом выходит на веранду и сразу напустилась на меня.
— Что с этим мальчиком случилось? — говорит. — Ты разве не знаешь, что майор и мисс Би отдыхают?
— Меня прислала Кэнди, — говорю.
— И что ж она тебе велела? Пробудить усопших, да?
Смотрит, смотрит на меня, потом наконец по ступенькам спустилась. Платье на ней белое, туфли белые и фартук. Джени такая же толстая, как моя бабушка, но не такая старая, кроме того, бабушка моя светлей. Подходит так, не торопясь, вразвалочку, к калитке, а я тем временем углядел: две бабочки летают над цветами в углу их цветника. Дома я бы их уже давно поймал. Но тут-то, я знаю, стоит мне только подумать, чтоб войти в ихний сад, Джени меня на месте прикончит.
— Ну, чего тебе? — спрашивает, когда к калитке подошла.
— Кэнди велела, чтоб ты позвонила Лу.
— Надо говорить "мистер Лу", и надо говорить "мисс Кэнди", — Джени отвечает и смотрит на меня сверху вниз. — Не знаю уж, они все у нас такие культурные стали, да ты-то еще сопляк. И чтоб при мне завсегда говорил "мисс" и "мистер". Нос не дорос так разговаривать, а то всыплю будь здоров.
— Мисс Мерль дома? — спрашиваю.
— Нету, — Джени отвечает.
— Тогда, наверно, тебе можно это дело поручить, — говорю я.
— Благодарю вас, сэр, — говорит Джени и смотрит на меня поверх калитки. — Очень это лестно для меня.
— Позвони Лу, — говорю я. — Скажи, что Кэнди ему велела сейчас же приехать сюда.
— А что я тебе только что сказала, всего одну минуточку назад? Чтоб ты при мне говорил "мисс" и "мистер".
В упор уставилась и долго так глядит. Они, взрослые, всегда так делают, если хотят, чтобы ты что-то хорошо запомнил.
— Зачем это понадобилось Кэнди их в деревню вызывать? — спрашивает меня Джени.
— Там чего-то приключилось с Мату и Бо. Бо лежит на спине у Мату во дворе. А Мату сидит на галерейке и держит в руках дробовик.
И тут Джени в момент в лице переменилась. Только что сердилась, теперь напугалась. Распахнула калитку и меня за шиворот хвать.
— Так это я тот выстрел слышала? — спрашивает. — Тот самый выстрел?
— Пусти, больно, — говорю; потом вывернулся. — Есть у тебя кекс или торт… как его… пларине!
— Ну и ну, — говорит Джени и на меня замахнулась — не сердилась она, просто напугалась до смерти. Я шмыг — и увернулся от нее.
— Значит, тот, что я слыхала? — спрашивает снова. И такое у нее лицо, будто вот-вот заплачет. — Тот самый выстрел, что я слышала?
— Не знаю, может, и тот, — говорю.
Тут она как заголосит:
— Господи, помилуй! Господи Иисусе, смилуйся над нами! Да ты знаешь, что теперь будет? Фикс нагрянет к нам в деревню со своими душегубами. Ты еще мал, не знаешь, что такое Фикс. Да я-то его знаю.
Повернулась, пошла к дому. Я гляжу через калитку ей вслед.
— Кекс принесешь? — кричу. — Кэнди меня к вам послала, а сама не дала ничего.
Она молчит, не отвечает. Идет себе, и все. Потом гляжу: глаза фартуком вытирает.
— Э-эй! — кричу. Прижался к калитке, прямо втиснулся в решетку лицом. — Есть у тебя кекс или торт пларине?
Она ушла, и дверь за ней закрылась. Ноль внимания, точно я бабочка, что над цветами летает. Я отошел от калитки и поплелся назад в деревню. Столько бегал — и хоть бы тебе цент или кекс или торт пларине. Одно здорово — обскакал я Тодди. Он того не видел, что видел я.
Дженис Робинсон, она же Джени
Господи, смилуйся надо мной, Иисусе, как быть? С кого начинать? Куда кинуться? Майор? Что с него толку? Сидит на веранде пьяный вдребадан, а время ведь только двенадцать часов. Мисс Би? Все равно что со стеной говорить. Кто еще? Мистер Лу? Ага. Кэнди велела позвонить мистеру Лу. Мистеру Лу и мисс Мерль. Позвоню-ка я сперва мистеру Лу. Господи, смилуйся надо мной, пошли мне силы, да будет на то Твоя святая воля.
Вошла в дом и начала звонить в эту его газету в Батон-Руже, и палец у меня дрожит, ну просто ужас как. Телефонистка мне ответила, и я ей говорю, что, мол, мне нужен мистер Лу Даймс. Она сказала "Город" и велела трубку не ложить. Потом еще кто-то отозвался, тоже "Город" сказал; а потом говорят: "Тоби Райт". Я говорю ему: "Мне нужен срочно мистер Лу Даймс". "Лу сейчас обедает", — отвечает он. "О господи, — говорю. — Где? Сыщите его! Поскорей! Кэнди требует его немедленно сюда. Очень прошу вас, сэр. Очень прошу!" "Не кладите трубку, — говорит. — Успокойтесь. Он скоро придет. С кем я говорю? Это Джени?" "Да, сэр, — отвечаю. — Это я. Сыщите его поскорей, ну как можно скорей, и чтоб он как можно поскорей сюда приехал. Не надобно ему сюда звонить. Пусть приезжает, и конец. Только поскорей. Поскорей".
Я так плакала, я так рыдала, когда с ним говорила, мне пришлось обтереть фартуком все лицо. Потом стала звонить мисс Мерль. Никто трубку не берет. С десяток гудков переждала — нет ответа. Господи Иисусе, думаю. Господи Иисусе, спаси и помилуй!
На переднюю веранду иду. Майор свернулся на качелях калачиком, спит. Лицом в руки уткнулся. Рядом с качелями, на перильцах, полстакана виски с водой. Господи Иисусе, думаю, до вечера-то еще далеко, а он уж готов, накачался. Господи Иисусе, спаси и помоги! Вернулась в дом, пошла к мисс Би на второй этаж, но не дошла — вспомнила: в комнате-то ее нет, на заднем выгоне она. Пошла на черный ход, выглянула в дверь — тут она, моя голубушка, вон куда забрела, под орехом топчется, махонькая такая, метра полтора в ней от силы, тросточкой траву ворошит, орехи ищет. Господи Иисусе, думаю, ну всякое же может быть, всякое ведь бывает, ну вот выползет змея из травы или еще какая пакость и укусит старушку. Господи Иисусе, говорю, спаси и помоги! Помоги мне, да будет на то Твоя святая воля, Господи!
Вернулась в дом и обратно звоню мисс Мерль, а ее обратно нет дома. Помоги мне, Господи Иисусе, говорю. Смилуйся, помоги рабе Твоей смиренной, сколько живу, я Твоей воле покорялась. Опять пошла на веранду, на майора поглядеть — спит себе, свернулся, храпеть начал. Забрала я стакан его, снесла на кухню и снова глянула в дверь на старушечку, как она шарит тросточкой в траве и орехи ищет. Вы видали, думаю? Видали вы ее? Ведь, ежели ее, старушечку эту, кто ужалит, виноватить-то будут меня. Господи Иисусе, говорю, помоги мне, Господи Иисусе! Помоги мне. Снова в комнаты вернулась, обратно мисс Мерль звоню, и обратно ее нет дома. Господи Иисусе, говорю, помоги мне, Господи Иисусе. На западную галерейку вышла, на деревню поглядеть, да разве там что разглядишь, все сплошь заросло кустами да бурьяном. Господи Иисусе, говорю, помоги мне, Господи Иисусе! На шоссейку поглядела, на речку — с той стороны-то Фикс с шарагой должен заявиться, на грузовиках приедут, с ружьями, вот-вот явятся. Господи Иисусе, думаю, помоги мне, Господи Иисусе. В комнаты вернулась, обратно мисс Мерль звоню, и обратно нет ее дома. Господи Иисусе, думаю я, помоги мне, Господи Иисусе!
Снова стала пыль вытирать, как раз этим занималась, когда он прибег, этот мальчишка, и поднял шум. Минут десять махала я тряпкой, слышу, машина подъезжает. Я бегом на галерейку, и, как увидела, что это мисс Мерль, ровно гора у меня с плеч свалилась. Я бегом по лестнице, во дворе ее перехватить.
Улыбается. Всегда-то она улыбается. Уж до чего характер у нее хороший. Такая душенька, такая она милая у нас.
— Господи помилуй, до чего ж я рада, что вы приехали, — говорю.
Она заметила в момент, что я плакала, и перестала улыбаться.
— Что случилось? — спрашивает.
Дама она полная, личико круглое, приятное, носик маленький, острый такой, ротик красный, тоже маленький, глаза серые. На сову она похожа, очень смахивает на сову; наши деревенские так ее и называют — Совушкой, — за глаза, конечно.
— Случилось что-то? — спрашивает опять.
На майора поглядела — он свернулся там, на качелях. "Да нет, просто пьяный", — говорит. Она глянула тогда на золотые часики на своей короткой полненькой ручке.
— Первый час, даже полпервого еще нет, — говорит.
— А я вам все домой звоню, все звоню, звоню, — рассказываю.
— Я в это время ехала сюда, — объясняет она. — Да что случилось-то? В чем дело?
— Кэнди, — говорю.
— Что — Кэнди?
— Смертоубийство, — говорю.
— Что? — спрашивает мисс Мерль. И как глянет на меня своими глазищами, до того неласково да строго; только вижу я — за всей за ее строгостью, — напугалась она до смерти.
— Кэнди? — спрашивает.
— Нет, мэм. Бо.
— Бо? — спрашивает она. — Кэнди? Бо? Да что же, наконец, случилось?
— Бо убили, — говорю.
— Кэнди? — спрашивает она.
— Не знаю, — говорю.
— Где сейчас Кэнди?
— В деревне, — отвечаю.
— И что там делает?
— Да ведь в деревне-то все и случилось, — говорю. — У Мату во дворе.
— Боже мой, боже ты мой, — говорит и зажимает рот рукою. Глянула на галерейку, где майор на качелях свернулся. — Джек! — кричит она ему. — Джек! Джек!
— Интересно, как он вас услышит? — говорю.
— Где Беатриса? — спрашивает мисс Мерль.
— На заднем выгоне, орехи ищет. Мисс Мерль, — говорю, — Кэнди сказала, чтоб вы сию минуту в деревню ехали.
— Кто еще об этом знает? — спрашивает мисс Мерль.
— Только наши деревенские, — отвечаю. — Она велела мне вас известить и мистера Лу, и никого больше.
— Ты до Лу дозвонилась? — спрашивает мисс Мерль.
— Он обедает, — отвечаю.
— У, ч-черт, — говорит она и обратно взглядывает на галерейку. — Джек! Джек!
— Не слышит он вас, — говорю. — Он с одиннадцати часов уже такой.
— Ну так я поеду в деревню, — говорит тогда мисс Мерль.
И обратно влезает в машину. Толстущая до того, что еле в дверку втискивается.
— Молись, — говорит она мне. — Молись, Джени!
Я понимаю, про чего она думает: про Фикса и его дружков.
— Молись, Джени, — говорит она и поворачивает. Наехала маленечко на клумбы и кусты, гравий из-под колес как брызнет — все засыпал, все как есть кругом, и меня тоже. — Молись, — говорит и выезжает со двора. — Молись.
Я вернулась в дом. Могла бы не просить меня молиться. Она еще не приезжала, а я уж молилась.
Мертл Бушар, она же мисс Мерль
Я велела Люси испечь яблочный пирог — Джек их просто обожает. Как только Люси пришла утром, я ей сразу говорю: испечешь самый лучший пирог в своей жизни — будешь свободна с половины дня. А она мне говорит: не стоит волноваться. И испекла-таки: ей-ей — лучше я не ела и не видывала. Золотисто-коричневый, сладкий, но не приторный, в самую меру. Ровно в двенадцать я ей говорю: ты свободна, поскольку я человек слова. А она мне: разве же я этого не знаю, мисс Мерль? Такая лапочка. Потом говорит: думаете, это мой лучший пирог? Да в следующий раз я испеку еще лучше.
Вышли мы из дому в одно время — она отправилась к себе в Медлоу, а я в усадьбу, в гости к Беатрисе и Джеку. Пирог-то для Джека, конечно… господи боже, если б он меня любил так же, как любит яблочные пироги! Но я это уже столько лет повторяю.
Только въехала к ним во двор, выбегает на веранду Джени. Чувствую, что-то произошло, а когда Джени во двор спустилась, я вижу, она вся зареванная.
Потом она мне все рассказала, и я думаю: господи, господи! Гляжу на Джека: спит себе на качелях, а сама думаю: господи, господи!
И про яблочный пирог забыла. Скорей назад в машину — и за ворота. Въехала в деревню: посреди дороги стоит трактор, а черный "ЛТД" Кэнди — на обочине. И вот что интересно: пока я проезжала по деревне, мимо их развалюх, мне ни души не встретилось. Попрятались, думаю, как клопы. Всполошились, как клопы, и попрятались. Подъезжаю, однако, я к дому Мату и гляжу: какие там клопы! Все как один собрались у Мату во дворе и на галерее. Трое даже с дробовиками — Мату, Джонни Пол и Руф. Женщины без ружей; женщины и дети просто так сидят и смотрят на меня. К тому времени, как я выбралась из машины, Кэнди уже на дорогу вышла.
— Я убила Бо, — выпаливает с ходу.
А я гляжу мимо нее — на Мату, на Руфа и на Джонни Пола, на стариков этих со старыми дробовиками. Мату на корточках, спиной к стене, возле самой двери и ружье, как ребенка, к себе прижимает. Он всегда на корточках — не сидит и не стоит; как выйдет на галерею — любимая его поза. А местечко: у двери, спиной к стене — самое любимое его местечко. Джонни Пол сидит на крыльце, и дробовик в руках; а Руф в углу на галерее примостился. Ничего подобного я не видала никогда, ни разу в жизни, и не вполне была уверена, что сейчас это вижу.
— Что? — спрашиваю, а сама никак не отведу глаз от галереи.
— Я убила Бо, — говорит Кэнди.
Тогда я посмотрела на нее. Медленно так повернула голову и посмотрела. Я знаю Кэнди двадцать пять лет, даже немножко больше. Ей было годиков пять или шесть, когда ее родители погибли в автомобильной катастрофе; и я ее растила. Я и Мату. Уж это точно — Мату здесь, в деревне, и я в усадьбе; занимались ею не меньше, чем дядюшка и тетушка. А может, и побольше. Да, да, да, мы с Мату занимались ее воспитанием куда основательней, чем они, ее дядя и тетя. И поэтому я знаю, когда она мне врет, и сейчас увидела сразу: она врет мне.
— Кэнди, что здесь происходит? — спрашиваю я ее.
— Слушайте меня, — отвечает. Кэнди маленькая и тощая как щепка. Одеваться совершенно не умеет, и волосы слишком короткие для девушки, которая хочет нравиться мужчинам. Но Кэнди, наверно, не хочет. Молодой человек имеется, только понять не могу, что у них за отношения. Вполне возможно, такие же, как у меня с Джеком. — Я не знаю, что тут творится, — продолжает Кэнди. — Мне только нужно было, чтобы вы и Лу приехали раньше Мейпса. Я не…
— Дробовики зачем им понадобились? — спрашиваю.
— Не знаю, мисс Мерль, — отвечает. — Я его застрелила. И вдруг Мату заявляет, будто это он сделал. А потом ни с того ни с сего Руф говорит: нет, это не Мату, а он. Джонни Пола тут вообще и близко не было. Но потом он является сюда, видит все это и объявляет, что у него достаточно причин прикончить Бо, и тотчас после этого бежит домой и достает свой старый дробовик. Но это я его убила.
Я посмотрела на тело, лежащее в траве. Трава такая высокая, что я увидала только носки ковбойских сапог. А подходить ближе, чтобы разглядеть получше, я, разумеется, не стала.
— Разве они не знают, с кем имеют дело? — спрашиваю я.
— Знают, — отвечает Кэнди. — Просто они сами хотели бы его убить. Но это я его застрелила.
— Здесь, во дворе у Мату? Мейпс не дурак, тебе это известно.
— Я его застрелила, — говорит она. — И вы должны мне поверить. Мейпс может и не верить, мне плевать. Но мне нужно, чтобы вы поверили. А с Мейпсом Клинтон справится в суде.
— А кто справится с Фиксом, ты мне не скажешь, Кэнди? Прежде, чем дело дойдет до суда. Кто с Фиксом справится?
— Я его застрелила, — опять повторяет она. — Вы должны мне поверить.
— Не должна, — говорю.
— Должны.
— Нет, — говорю и головой качаю. Я посмотрела мимо нее на Мату у стены, с дробовиком в руках. Он сидел и курил. Он знал, что я на него гляжу, но смотрел не на меня, а на трактор, который стоял на дороге. Вся остальная публика на веранде и на ступеньках безмолвно наблюдала за нами.
— Я не позволю им трогать этих людей, — говорит Кэнди. — Это я его убила.
Я посмотрела ей в глаза. Кэнди видела: перед этим я смотрела на Мату.
— Вот так, и только так, — говорит. А сама понимает, что я вовсе не согласна с ней.
— Кэнди! — говорю я.
— И мне понадобится ваша помощь, — перебивает она меня.
— Самая большая помощь, какую я могу тебе оказать, — это заставить тебя рассказать правду, Кэнди, — говорю я.
— А я вам правду рассказала, — отвечает она. Но понимает, впрочем: я ей ничуть не верю. — Вы можете сделать одно из двух, — продолжает Кэнди. — Помочь мне — или уехать.
— Уехать? — спрашиваю. Мне уже незачем смотреть на убитого. Мне уже незачем смотреть на Мату. И она, девчонка эта, отлично понимает, что никуда я не уеду, что уехать я не могу. — Уехать? — снова спрашиваю я.
— Тогда помогите.
— Как я могу тебе помочь?
— Мне нужны еще дробовики двенадцатого калибра, — говорит Кэнди.
— Что?!
— Достаньте мне дробовики двенадцатого калибра, — говорит Кэнди. — И пригоните сюда побольше народу.
— Побольше народу? — переспрашиваю я. — А это еще зачем?
— Вы их видите? — спрашивает Кэнди и кивает на галерею.
Конечно, вижу, и совершенно незачем мне еще раз на них смотреть.
— Я вижу стариков с дробовиками, конечно, вижу, — говорю я, — а дальше что?
— А дальше, — отвечает она, — мне нужно, чтобы их было больше. Приедет Мейпс, двоих излупит и заставит расколоться, потом одного арестует. Мне нужно, чтобы здесь было много людей.
— Кэнди, ты в своем уме? — спрашиваю. — Ты в своем ли уме? Ты понимаешь, что ты говоришь?
— Я понимаю, что я говорю, и понимаю, что я делаю, — отвечает Кэнди. — Пригоните сюда как можно больше народу, и побыстрей.
— Кого тебе пригнать?
— Кого? — говорит. И смотрит на меня так, будто я ей голову морочу. Но я вовсе не морочу ей голову, я действительно не понимаю, о ком она говорит. — Кого? — спрашивает снова. — Да здесь во всем округе нет такой семьи, которой не принесли бы горя Фикс и компания! Вы старше, вы все это знаете лучше, чем я. Зовите сюда любого, всех зовите. Пришла их пора дать отпор.
— И погибнуть? Ты этого хочешь? Залить кровью деревню?
— Вы взгляните, взгляните, мисс Мерль, — говорит она и показывает рукой на галерею. Мне незачем туда глядеть, и без того знаю, как тихо они там сидят, как жадно слушают. — Разве не готовы они умереть? — спрашивает Кэнди. — Посмотрите на Мату. Вы ведь знаете Мату, вы его знаете, мисс Мерль? Мисс Мерль, я спрашиваю: знаете вы Мату?
— Знаю, Кэнди, знаю я его, — отвечаю. — Мату я знала задолго до того, как ты родилась.
Я посмотрела на нее — и смотрела довольно долго, чтобы дать ей понять: стрелял он, а не она, и мне это известно. Кэнди быстро отвернулась.
— Посмотрите на Руфа, — говорит. Это чтобы отвлечь меня от Мату. — Посмотрите на Джонни Пола.
— Ох, Кэнди! — говорю я.
— У нас мало времени, — говорит она. — Нам ведь все же надо известить Мейпса. Я хочу опередить его хотя бы на час. Лу должен приехать сюда раньше Мейпса. Мне нужно, чтобы сюда пришло как можно больше народу с дробовиками двенадцатого калибра и гильзами из-под пятого номера. Стреляными гильзами. Стреляными. Времени у вас немного. Поговорите с Джени.
— С Джени? Да о чем мне с ней говорить?
— Если сами вы забыли, что и кому здесь сделали Фикс и его дружки, может быть, Джени напомнит вам. Я не дам этих людей в обиду ни Мейпсу, ни Фиксу.
— Кэнди, — говорю я. И протягиваю к ней руку, но она отодвигается. — Кэнди…
— Нет, я не позволю обижать этих людей, — говорит, — я их буду защищать. Мой папа и все наши, кто жил тут до него, всегда так поступали, и я…
— Кэнди! — говорю.
— Я одна буду их защищать. Пусть только попробуют кого-нибудь из них обидеть, я их буду защищать одна!
— Кэнди, я прошу тебя. Пожалуйста, Кэнди…
— Я его застрелила, — говорит она.
— Да ведь ни одна душа в округе этому не поверит.
— А мне все равно, чему верят люди в этом округе, — отвечает. — Какое мне дело, чему они тут верят, в этом округе? Я одна буду их защищать!
Я отвернулась и стала смотреть на Мату — он сидел на корточках черный-пречерный и, как ребенка, держал двустволку в руках. Бог ты мой, сколько раз мы разговаривали с ним: я стояла во дворе, а он сидел на корточках, как сейчас, а она, малышка эта, рядом с ним в углу галереи! А сколько раз я на машине, не останавливаясь, проезжала мимо, но всегда махала ему рукой, а он сидел у стены в своей любимой позе, а малышка на крыльце или в уголке, и вечно-то они о чем-то меж собой толкуют. А сколько раз мы разговаривали в Маршалловой усадьбе: я сидела на веранде, Мату — на крыльце, свесив между колен свою старую шляпу, а она на перилах, к нему все льнула, не ко мне, не к тетушке, не к дяде. Сколько раз так было? Сколько? Сколько?
Я снова повернулась к ней. Но не успела я открыть рот, как она выпалила уж в который раз:
— Я его убила.
— Сломя голову бежать отсюда — вот что мне надо делать, — говорю. — Будь я поумней, я сделала бы это много лет тому назад. Но я дура. Всегда была дура. Верно?
— Мне не к кому обратиться, кроме вас и Лу, — говорит она.
— Еще бы, — отвечаю. — Два сапога пара. Оба дураки. Обоим надо бы давно бежать отсюда без оглядки. Но нет, как можно!
— Посоветуйтесь с Джени, — говорит она.
— Мне кажется, я согласия не давала…
— Пусть сразу назовет вам имена, — продолжает свое Кэнди. Горох об стену все, что я ей говорю. — Пусть назовет много имен, как можно больше, — инструктирует она меня. — Дробовики двенадцатого калибра и гильзы из-под номера пятого. Стреляные. Когда сюда заявится Мейпс, мне будет нужно очень много стреляных гильз из-под пятого номера.
— Ну да, — говорю я. — Стреляли-то в него пятым номером.
Тут она умолкла было, но тотчас же снова повела свое:
— Пусть Джени станет на западной галерее, чтобы не пропустить машину Лу. Когда Лу проедет мимо дома, звоните Мейпсу. Не звоните Мейпсу прежде, чем проедет Лу. Лу должен быть здесь раньше. Мисс Мерль, если наша семья вам хоть немножко дорога, если вы меня хоть капельку любите… Я вас так прошу.
— Никогда я тебя не любила, — говорю и смотрю ей в глаза. — Никогда я не слыхала о вашей семье.
Я покосилась в сторону — на чуть видневшиеся из травы носки ковбойских сапог, на Мату, сидевшего с дробовиком в своей излюбленной позе. Он снова закурил. Теперь он даже не глядел на нас. Он глядел куда-то вдоль улицы — на что глядел? Не было там ничего, кроме высокой травы, что росла по обочине. Я молча пошла к машине.
Минуты за две, за три я добралась до маршалловской усадьбы. Еще за воротами начала сигналить что есть мочи, и когда машина остановилась во дворе, Джени была у дверцы. Джек по-прежнему спал на качелях.
— Возьми с заднего сиденья яблочный пирог и следуй за мной, — говорю я Джени. — Где Беатриса?
— На западной галерее.
— Джек! — кричу я, поднимаясь по ступенькам. — Джек!
— Как он может вас услышать? — спрашивает Джени.
Я подошла к качелям и принялась его трясти: "Джек! Джек!"
— Все без толку, — говорит Джени.
— Джек! — Я покрепче встряхнула его. Хоть бы хны. Да ну его к черту! Он ведь всегда держался подальше от таких дел.
Мы с Джени входим в дом. Она тащит на кухню пирог, а я тем временем иду на западную галерею, где должна быть Беатриса. Она сидит в кресле-качалке у двери и глядит куда-то далеко-далеко, за цветник, на деревья на дальнем выгоне. Там, за деревьями, проселок, ведущий в деревню. Проселок этот ответвляется от шоссе на Байонну, а сразу за шоссе — река, Сент-Чарльз. Вот потянуло ветерком от реки, и ветерок принес к нам слабый аромат чистоуста, растущего в правом углу сада.
— Нам нужно поговорить, Беатриса, — сказала я.
— Это ты, Мерль? — Она повернула ко мне голову. — Почему бы не поговорить? Но сперва я хоть горло промочу. Бог ты мой, скоро час. Куда девалась Джени? Джени-и! — кричит.
— Беатриса, — говорю я, обошла ее кресло и встала прямо перед ней. — У нас нет на это времени, Беатриса.
— Чушь, — отвечает она. — Еще чего не хватало — нет времени промочить горло. Где Джени?
— Беатриса, — говорю я ей. — Разве ты не знаешь, что случилось?
— Наплевать мне на то, что случилось, — говорит она и поворачивается в сторону двери, затянутой москитной сеткой. — Джени! — кричит.
— Да, мэм? — отзывается Джени и выходит на галерею.
— Тебе известно, который час? — спрашивает Би и смотрит на нее снизу вверх из качалки.
Джени оглядывается на меня. Не знает, как ей быть.
— Беатриса, — говорю я. — Умер человек. У вас в деревне. И человек этот — Бо Бутан.
— Ну и что? — отвечает она. — При чем тут я? Каждый день кто-то умирает. И я когда-нибудь умру, и ты умрешь. Джени, тебе известно, который час?
— Стой на месте, Джени, — говорю я. — И ты мне нужна, Беатриса, — продолжаю я. — Ты слышала, что я сказала? У вас тут в деревне убит человек. Кто-то убил Бо Бутана. И Кэнди тут же примчалась туда и уверяет всех, что это она его застрелила. Понимаешь ты, чем дело пахнет?
— Отчаянная девчонка, — говорит Би. — Отчаянная — я давно говорю. Она и замуж не выходит поэтому. Джени, ступай и принеси мне коктейль.
— Никуда не ходи, Джени, — говорю я.
— Что ты сказала? — спрашивает Би и поднимает на меня взгляд. Ее белое, под толстым слоем пудры, маленькое личико сморщено, как черносливина. Подсиненные седые волосы такие реденькие, что сквозь них просвечивает серая кожа. И только серо-голубые глаза по-прежнему молоды и полны жизни, но сейчас в них пылает гнев. — Что ты сказала? — спрашивает снова. — Ты ей велела никуда не ходить? Мисс, вы ошиблись, вы не у себя в "Семи дубах", вы в усадьбе у Маршаллов, мисс, а здесь я распоряжаюсь, нужно что-то делать или нет. — И повела на Джени таким же гневным взглядом, каким только что одарила меня. — Чего ты дожидаешься? — спрашивает она Джени.
— Слушаюсь, мэм, — сказала Джени и пошла в дом.
Коктейль, наверное, был уже приготовлен и стоял в холодильнике — не прошло и двух минут, как Джени возвратилась на галерею с двумя стаканами. Напиток состоял из джина, розового лимонада, в нем плавали ломтик апельсина, вишня, кусочек плода лайма, и из каждого стакана торчала зеленая соломинка. Стакан, поданный мне, я поставила на перила, зато Беатриса с жадностью набросилась на свой. Это была ее первая порция спиртного за день, да к тому же с опозданием на полчаса. Мы с Джени стоя ожидали, когда она покончит с этой процедурой.
— Так что, ты говоришь, там натворила Кэнди? — спросила Беатриса. — Отчаянная девчонка. Вылитый дедушка Нат.
— Господи! — говорю я. — О господи, Беатриса! Кэнди только что мне сообщила, что убила человека. А ты, узнав об этом, не можешь ничего сказать, кроме того, что она похожа на своего дедушку!
— На моего дедушку, — отвечает она. — Ей он прапрадедушка. Дед ее деда. Что ж, давно пора, пожалуй, пристрелить хоть одного из этих кэдженов[1], перерывших тракторами нашу землю. Отчаянная девчонка, молодец!
Тут я отчетливо поняла, что разговоры с Беатрисой — пустая трата времени, и повернулась к Джени. Та стояла, глядя на хозяйку и кусая губы — вот-вот снова расплачется.
— Держись, Джени, — говорю. — Мне одной не справиться с такими делами. Так что, будь добра, пожалуйста, держись.
— Я не подведу вас, мисс, — отвечает.
— Не подведи, — говорю. — А теперь послушай. Мне нужны одни ответы. Одни ответы, больше ничего. Никаких вопросов. Только ответы. Знаешь ты кого-нибудь, кто не любит Фикса?
— Мэ-эм, — говорит она, и пятится, и глядит на меня как на сумасшедшую. Можно подумать, я спросила, кто из ее знакомых любит черта.
— Джени, я предупредила: никаких вопросов, только ответы, — говорю я. — Нам просто времени не хватит, если мы с тобой обе станем задавать вопросы. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Так вот: знаешь ли ты кого-нибудь, кто не любит Фикса?
— Я его не люблю, — говорит Би. — И никогда не любила. Чего ради мы пустили их на свою землю, ума не приложу. Приволокли свои мерзкие трактора и изуродовали нам всю землю.
— Беатриса, будь любезна, помолчи, — говорю я. — Сделай мне такое одолжение, Беатриса, очень прошу тебя. — Она поднесла ко рту стакан и опять присосалась к соломинке. — Джени, так кого ты знаешь, кто не любит Фикса?
— Я не знаю никого, кто его любит, — отвечает она.
— Думаешь, они его так ненавидят, что не побоятся Мейпса?
— То есть как это, мэм? — спрашивает она.
— Джени, я тебя предупредила, — говорю я. — Только "да" или "нет". Не струсят ли они перед Мейпсом со своими пустыми дробовиками?
— Я не понимаю, про чего вы говорите, мисс Мерль, — отвечает Джени, и чувствую, она вот-вот заплачет. — Не сердитесь, мэм, но я не пойму, про чего вы говорите.
— Сейчас я тебе объясню — про чего, — отвечаю я. — Один раз я тебе отвечу, ну а уж после этого отвечать будешь только ты. Белая девушка тридцати лет от роду, белая девушка, у которой мозги набекрень, явилась в деревню и утверждает, что она только что убила белого человека. Я прекрасно знаю, что убила его не она… убил Мату. Но ей хочется спасти Мату. Ей так этого хочется, что она готова для его спасения втянуть в эту заваруху всех чернокожих, что живут в нашем штате. Два старых дурака уже пришли, Руф и Джонни Пол, оба клянутся, что убили Бо Бутана. Но ей этого мало. Ей нужно еще. Еще десять человек, пятнадцать, двадцать… тысячу! Она хочет, чтобы все они притащили с собой дробовики двенадцатого калибра и гильзы из-под пятого номера, чтобы все они выстрелили из своих дробовиков и сохранили стреляные гильзы, так что, когда Мейпс укажет пальцем на Мату, каждый из них скажет… Так кого ты знаешь, кто не любит Фикса? Марш к телефону и звони им всем.
Тут она давай реветь… ну просто как корова.
— Господи, смилуйся надо мной, Иисусе! Ох, не надо меня ничего такого заставлять! Я вас так прошу, мисс Мерль. Мэм, мисс Мерль, пожалуйста, Христом богом вас заклинаю: не надо меня ничего такого заставлять!
Я сгребла ее за шкирку и влепила две-три затрещины.
— Чтоб я больше тут не слышала "не надо меня заставлять", — говорю. — Ты что, думаешь, я это делаю для собственного развлечения? Или сразу говори, кто тут не любит Фикса, или я тебе еще по роже надаю. Ну, так кто у вас не обожает Фикса?
Напугалась она, вижу — голову откинула назад, лицо, черное и круглое, словно желе, трясется, а слезы прямо градом по щекам. Я понимаю, я безжалостно себя веду — меня припекло, я свою боль на ней срываю, — но что поделаешь. Уж если я в это впуталась, пусть и они помогают. И если мне пришлось затрещину ей залепить, чтобы она освоилась с этой мыслью, — очень плачевно, но, увы, у меня нет другого выхода.
— Так кто не любит Фикса? — снова спрашиваю я.
— Клэту, уж это точно, — вдруг произносит Би. — Враждуют испокон веку.
Я поглядела на нее, но Беатриса уже снова присосалась к соломинке.
Стала я припоминать, что сделал Фикс Клэту. Я неплохо знаю историю этой реки и этого округа за последние полсотни лет. И вот я, значит, припоминаю: что же такое между ними было, между Фиксом и Клэту? Припомнила. Вовсе не Фикс, а псих этот, его братец, Лесной Бутан, чуть не изнасиловал одну из сестер Клэту. Он к ней полез, а она защищалась ножом, которым рубят тростник, и ударила его раз пять. Насмерть не убила, но изуродовала навсегда. А ее — опять же навсегда — упрятали в каталажку; она там просидела много лет — так много, что под конец сошла с ума, — и умерла там безумной. Случилось же это как раз перед второй мировой войной.
— Клэту на прежнем месте живет, в Гленне? — спрашиваю я.
Джени упорно старается высвободиться из моих рук, но руки у меня — это известно всем — самые сильные в округе святого Рафаила.
— Да, мэм, — говорит она, убедившись, что из ее попыток ничего не выходит. — Там же все, на прежнем месте, огородик у него.
— А телефон у него тоже есть?
— Я, я, я… — лепечет она.
Тут я как рвану ее за ворот:
— Отвечай, дуреха.
— Он у Эммы там живет, — всхлипывая, говорит она.
— А как фамилия этой Эммы?
— Хендерсон, — отвечает. — Так мне кажется… да, мэм. Хендерсон ее фамилия.
Тут я выпустила ее наконец из рук, и она сразу же стала растирать себе шею.
— Я сейчас пойду и разыщу ее номер в телефонной книге, — говорю я. — А ты и Беатриса пока что пошевелите мозгами и вспомните еще кого-нибудь. Ну, скажем, дюжину людей. То ли мы все в тюрьму угодим, то ли в сумасшедший дом. Где у вас телефонная книга?
— На столе возле камина, — Джени говорит.
— Когда я поговорю с Клэту, вы обе мне еще нескольких подберете, — говорю я. — Джени, слышишь ты меня?
— Да, мэм, — отвечает.
— Сначала приготовь мне коктейль, — говорит Би и протягивает Джени свой стакан.
— Боже милосердный, — говорит Джени. — Мало, по-вашему, у меня хлопот сегодня, мисс Би?
— Возьми стакан, пойди на кухню и приготовь коктейль, — говорит Беатриса. — А когда вернешься, я помогу тебе припомнить, кого нужно.
Джени взяла ее стакан, я сняла с перил свой, и мы вместе вошли в дом. Она отправилась на кухню готовить коктейль для Беатрисы, а я — к телефону, звонить Клэту.
Роберт Луи Стивенсон Бэнкс, он же Сажа
Сидим мы себе с Мэтом на бережку, удим рыбу. Мы с ним по вторникам и четвергам завсегда на рыбалку ходим. Теперь на реке только одно это местечко и осталось. То ли дело раньше: вся река твоя, где хочешь, там и уди. А теперь белые всю реку скупили, никуда не ткнешься, одно это местечко только нам и оставили. Ну мы с Мэтом кажинный вторник и четверг и ходим сюда. По другим дням другие ходят, зато уж вторник и четверг наши. Мы сюда лет десять, а то и одиннадцать ходим, ни одного вторника и четверга не пропустили. Только сюда. А больше-то теперь некуда и податься.
И просидели мы с ним так этак с час. Мэт поймал штук восемь-девять порядочных окуньков, и я шесть, ну и парочку краппи для ровного счета добавьте. Сидим мы себе с Мэтом, прохлаждаемся, беседуем потихоньку. Мэт на сумке на своей, на холщовой, сидит, я — на ведре на своем. А рыбу на низке в реку спустили, чтоб посвежее была. Сидим, значит, беседуем себе потихоньку про прежнее житье-бытье.
А тут старшой мальчонка Берто, тот, балованный, его еще Фью кличут, скатился на берег и говорит, Клэту, мол, говорит, мисс Мерль говорит, Маршаллов молодая хозяйка, Кэнди, велит, чтоб враз к ним идти. Прихватить дробовики двенадцатого калибра и патроны с пятым номером и чтобы выстрелить, а стреляные гильзы сохранить и безотлагательно к ней.
Мы с Мэтом смотрим, а с него пот градом льет — здоровенный уж парень вымахал, ряшку наел, сразу видать, балованный, в джинсах, в синей ковбойке, и ковбойка мокрая, хоть выжимай, — бежал, видать, со всех ног.
Мэт и говорит:
— И из-за чего это?
А парень аж ногами сучит — до того ему дальше бечь не терпится. По лицу пот текет. Из этих здоровенных балованных парней — по одной по ряшке по его гладкой видать, что балованный.
Фью и говорит:
— Из-за Мату да из-за Бо Бутана. Бо у Мату во дворе мертвый лежит. А больше я ничего не знаю и знать не хочу. Дальше дело ваше, а я свое дело сделал. Хотите — идите к ей, делайте по ее, нет — идите домой, двери позапирайте да залезайте под кровать, это вам не внове. Ну а я побег.
И давай ходу.
— Ты куда? — Мэт ему вслед.
А Фью ему:
— Ни тебе, никому из Бутанов о том не дознаться.
— Тогда тебе лучше и вовсе из Луизианы удрать. — Это уже Мэт сам себе сказал.
А до парня и не докричаться — знай себе чешет, хоть и на кручу, от этих гладких балованных парней чего и ждать.
Мы с Мэтом еще долго друг на друга не глядели. Прикидывались, будто нам удочки больно интересны. Только не удочки у нас на уме. На уме у нас, что с нами делали после того, как такое делалось, ну пусть не совсем такое. Не убийство, нет. Отродясь не слыхал, чтобы у нас в округе черный белого убил. Драться дрались, грозиться грозились, а чтоб убивать — такого не водилось. И теперь у меня на уме было, чем эти драки да угрозы кончались, как белые после на нас злобу вымещали. Вот что у меня на уме было, да и у Мэта, я знаю, тоже. Вот почему мы еще долго друг на друга не глядели. Не хотелось видеть, что у другого на уме. Не хотелось видеть лицо его напуганное.
— А ведь пути господни неисповедимы, — говорит Мэт. Тихо так, будто не со мной, а сам с собой говорит. Но я-то знаю, он со мной говорит. Говорит, а на меня и не глядит, но я все равно знаю, он со мной говорит. А я все на удочку гляжу.
— Так люди говорят, — отвечаю.
А Мэт все на удочку глядит. Мне и смотреть на него не надо, я и так знаю, что он на удочку глядит. Мы с ним почитай сызмальства вместе, я и не глядя знаю, что он делает.
— Не хочешь — не отвечай, Сажа, — говорит. И опять тихо так говорит. Он удочку только что подсек — я слышал, как леска воду прорезала.
— Чего-чего? — говорю.
А он опять удочку подсек. Может, это черепаха за наживкой охотилась. А может, он удочку подсекал, чтобы на меня не глядеть.
— Боишься? — говорит. А голос у него все такой же тихий. И на меня все не глядит.
— Боюсь, — говорю.
А он опять удочку подсек. И вытащил краппи с ладонь величиной, не больше. Наживил крючок, поплевал на наживку, чтоб не сглазить, и снова закинул удочку в воду. А на меня как не глядел, так и не глядит. И я на него не гляжу. Это я краем глаза вижу. А как удочка под воду ушла, он и говорит:
— Мне семьдесят один год, Сажа, семьдесят один с гаком. И под кровать, как Фью говорит, лезть у меня уже нет сил.
— А мне семьдесят два, — говорю. Но на него и тут не гляжу.
Сидим на удочки глядим. А река текет чистая, голубая, тихая, спокойная. Так бы и сидел весь день да на удочку глядел.
— Думаешь, это он? — Мэт спрашивает.
Я плечами только пожал.
— Откуда мне знать, Мэт?
— Если это он, Сажа, сам понимаешь, нам туда беспременно надо идти, — говорит Мэт.
Я ему не ответил, но о чем речь — понимал. Помнил, как Мату с Фиксом схватились у Маршаллов в лавке. Сыр-бор загорелся из-за бутылки кока-колы. Фикс свою бутылку выпил и велел Мату пустую бутылку в лавку отнести. А Мату ему и скажи: я, мол, тебе услужать не нанимался. А Фикс ему: неси, мол, бутылку, не то схлопочешь у меня.
Нас в лавке целая орава набилась — белые, черные, — сидим на галерейке, лимонад пьем, коврижками заедаем. И шериф наш, Гидри, тоже тут. Мату шерифу и говорит: если Фикс к нему привяжется, он даст сдачи. А Гидри и ухом не ведет, знай лимонад попивает да коврижкой заедает.
И велит Фикс опять Мату бутылку отнесть, а Мату знай себе сидит, тут Фикс как вдарит, ну, они и схватились. Всем дракам драка была, в жизни страшней не видал. Час целый что один, что другой не мог взять верх. А как час к концу подошел, Фикс оземь хлоп, а Мату — тот стоит. Белые хотели вздернуть Мату, но Гидри их окоротил. Подошел к Мату и как плюху отвесит — враз с ног свалил. Потом повернулся к Фиксу — бац в зубы, ну, и Фикс в другой раз оземь бряк, а Гидри сел на галерейке и лимонад с коврижкой прикончил. Тут и драке конец. Мату и после на реке не раз случалось с белыми драться. Вот про чего Мэт говорил. Вот чего у него на уме было, когда он говорил, мол, если это Мату, беспременно надо нам туда идти. Перед белыми все пасовали, Мату, он один им спуску не давал.
Гляжу я, как Мэт на сумке на своей сидит. За удочку ухватился двумя руками, на леску уставился. Я знал, про чего он думает, — недаром мы почитай всю жизнь вместе. А все равно спросил.
— Да про кровать про эту, — говорит. — Стар я стал под кровать лезть. Сил моих больше нет. Низкая она, больно низкая она, кровать моя, Сажа.
— Да и моя не выше, — говорю.
Тут он на меня поглядел. Из себя он красивый, темный, но не черный. Вся наша жизнь рядом прошла. В холостые годы гуляли вместе. От жен гуляли тоже вместе, хоть и немного пришлось погулять. Вместе в разных переплетах побывали, в серьезных, правда, не случалось. Ну а такого, о чем сейчас думали, сроду не делали. Думать, может, и думали, как не думать. А до дела не доходило.
— Твое слово, Сажа? — спрашивает Мэт.
Я кивнул.
Смотали мы удочки, полезли на кручу. Мэт свою рыбу в сумке несет, я — в ведре.
— Велела перво-наперво выстрелить, — говорю я, — кабы знать — зачем.
— Откуда мне знать, — говорит Мэт. — Как твой старый дробовик, исправный?
— Последний раз хорошо стрелял, — говорю. — Только когда ж это было.
— А патроны с пятым номером у тебя есть? — спрашивает Мэт.
— Пара-тройка должна где ни то валяться, — говорю. — Только я давненько на них не глядел.
— Если найдешь, отложи парочку для меня, — Мэт говорит. — Похоже, мне и ружье тоже придется просить. У меня в доме только дробовик двадцатого калибра да старая винтовка, а больше почитай что ничего исправного нет.
— И как ты думаешь туда добираться? — спрашиваю.
— Тут без Клэту не обойтись, — говорит Мэт. — Попрошу Клэту подкинуть на грузовике.
— Попроси, чтобы он и меня прихватил, — говорю.
А как поравнялись с моей калиткой, Мэт опять на меня глянул: ростом он куда выше меня будет, и мне пришлось задрать голову — иначе мне его глаз не увидать.
— Ну как, Сажа, решился? — говорит.
— Ты пойдешь, Мэт. И я с тобой.
— Мне беспременно надо идти, Сажа, — говорит. — Другого случая у меня, может, и не будет.
Я поглядел ему в глаза. Глаза у него карие, светлые. И глаза его сказали мне куда больше, чем он сам. Глаза его за нас обоих все сказали.
— Тогда и я пойду, — говорю.
А Мэт все глядит на меня. И глаза его больше говорят, чем он сам. Глаза его говорят: и мы до сих пор ждали? До самой старости дождались и только теперь расхрабрились?
Я не знал, что отвечать. Знал одно: если он пойдет, тогда и мне беспременно надо идти.
Мэт пошел к себе домой, а я прошел во двор. И через порог переступить не успел, как моя старуха на меня насела. С чего это я так рано домой заявился? До вечера, покуда жара не спадет, она рыбу нипочем чистить не будет. Я ничего ей не ответил. Поставил ведро с рыбой на стол в кухне, прошел в залу, взял старый дробовик — он там к стене прислоненный стоял. Перебрал патроны — я их держал в сигарной коробке на шкафу, — нашел-таки с пятым номером. Сдул с них пыль, зарядил дробовик, сунул в окно, а голову отвернул — не ровен час, еще разорвет — и стрельнул. А старуха тут как тут, сызнова на меня насела:
— Ты чего это, старик? Чего это тебе стрелять вздумалось, чего шум поднял?
— Я пока что и сам не знаю, чего стрелял, — говорю ей. — Но смотри у меня, чтоб, когда из Маршалловой деревни вернусь, рыба на столе была, не то придется мне опять за дробовик взяться. Слышь, что я тебе сказал?
Она губы поджала, глаза выкатила, но смекнула, что не время умничать. Я прихватил еще пару патронов с пятым номером, сдул с них пыль и вышел на дорогу — поджидать Клэту.
Мэтью Линкольн Браун, он же Мэт
Пришел я домой, сумку с рыбой Элле отдал и прошел в другую комнату — позвонить Клэту. Жюли, Эммина дочка, говорит мне: Клэту, мол, только-только ушел, а что, спрашивает, у вас там стряслось? Клэту, говорит она, мисс Мерль позвонила, и Клэту достал старый дробовик, сел в машину и уехал, а вы скажите, говорит — и с тем же ко мне вопросом: что у вас там стряслось? Если Клэту тебе ничего не сказал, говорю, значит, и я ничего не могу сказать; и не сказал ли Клэту, спрашиваю, куда он едет? Нет, ей, говорит, про то ничего не известно, но она слыхала, мисс Мерль по телефону он говорил чего-то насчет мистера Билли Вашингтона и чего-то насчет мистера Жакоба Агийяра. Вдруг вы их еще нагоните, говорит, не в Сайло, так в Мулатском поселке, и что такое у вас там стряслось, спрашивает сызнова.
Я повесил трубку, нашел телефон Билли Вашингтона. А жена его, Селина, мне и говорит: Билли только-только уехал с Клэту на грузовике. А дробовик, спрашиваю, Билли взял с собой? То-то и оно, что взял, говорит, только вы-то откуда знаете? А они не сказали, спрашиваю, куда дальше поедут? Сдается ей, говорит, что не иначе как в Мулатский поселок подались, а то с чего бы им Жакоба Агийяра поминать. А у Жакоба, спрашиваю, есть телефон? Насчет Жакоба не скажу, говорит, а вот у Лиолы Бовэ есть. Не вешайте, говорит, еще минуточку трубку, я посмотрю номер. А погодя чуток берет трубку, дает мне номер — и туда же: что у вас там стряслось, спрашивает. Я трубку повесил, звоню Лиоле. Клэту только-только остановился у Жакобова дома, говорит Лиола. Похоже, говорит, что и Билли Вашингтон с ним, и похоже, у них у обоих дробовики. А вон и Жакоб из дома вышел, и у него тоже дробовик. Выбеги, велю ей, на галерейку и вели Клэту чуток обождать. Положила она трубку, а погодя чуток, слышу, сызнова взяла. Клэту, говорит, обождет. А у тебя, спрашиваю ее, есть исправный дробовик двенадцатого калибра? От мужа, говорит, от покойного остались ружья, но ей один калибр от другого нипочем не отличить. А что у вас стряслось-то, сызнова спрашивает. Тащи, говорю, ружья к Клэту да вели ему, чтоб проверил их, и если найдется среди них исправный дробовик, пусть прихватит с собой. Патроны с пятым номером, спрашиваю, у тебя есть? Не знаю, говорит. Бери, велю ей, все патроны, какие найдутся, тащи к Клэту и вели Клэту выбрать, какие надо, и прихватить с собой. А что стряслось-то, спрашивает. У Клэту, говорю, спроси, а я знать ничего не знаю. И повесил трубку. Оглянулся, смотрю — в дверях Элла стоит, руки в боки уперла. Вот бабища, весь проем загородила.
— Для какой такой надобности вам дробовики? — спрашивает.
— На охоту собрались, — говорю.
— Посеред дня на охоту?
— Поохотиться захотелось.
— Не отвиливай, Мэтью, — говорит. — И на кого ж вы охотиться будете?
— Вернусь, тогда скажу.
— Пока не скажешь, тебе из дому не выйти, — говорит.
— Отойди от двери, баба. Иди отдохни, — говорю, — это дело только нас, мужиков, касаемо.
— Нет, оно и меня касаемо, — говорит — и пошла на меня. — И на кого ж вы охотиться будете?
— Отцепись, баба, — говорю, — хоть раз в жизни, покуда я не помер еще, могу я… — И осекся. — И не задавай ты мне, Христа ради, вопросов, — говорю и на галерейку вышел.
Слышу, она по телефону говорит, потом трубку повесила, другой, слышу, номер набирает. А потом как закричит: "Что? Что? Дядя Билли? Что?" Бряк, слышу, трубку — и шасть на галерейку.
— А дяде Билли для какой такой надобности дробовик, в его-то годы?
— А я почем знаю? — говорю. — Дядя Билли Вашингтон — он мне не подчиненный.
— Знаешь, еще как знаешь, — говорит она и опять руки в боки уперла. — Тебе ли не знать. И пока ты мне все не выложишь, я тебя из дому не выпущу.
Тут я к ней обернулся.
— Тебе надобно знать, что стряслось? — говорю. — Тебе все надобно знать?
Она от меня задом, задом — испугалась, видать, как бы я ее не прибил.
— Так я тебе скажу, — говорю. — В Маршалловой деревне мертвый кэджен лежит. У Мату во дворе. Теперь ты знаешь, что стряслось.
— А тебе-то какое до этого дело? — говорит. Отошла от меня подальше и теперь уж не боится — сызнова волю языку дала. — И какое дяде Билли до этого дело?
— Выходит, тебе что говори, что не говори — все одно? — спрашиваю.
Отвернулся от нее, на дорогу гляжу. А Клэту все не видать.
— Старый ты дурень, — говорит она, — старый дурень. Вы что, ополоумели все?
— Вот-вот, — говорю, а сам на нее не гляжу, гляжу на дорогу. — Только мы решим за себя постоять, нам говорят, мы ополоумели! Правда твоя, ополоумели мы.
— Старый ты дурень, — говорит. — Старый дурень. Если я с тобой не слажу, так и знай, я твоего брата позову. Он с тобой сладит.
— Что ты, что Джесс — лучше мне не перечьте, не то как бы вам пожалеть не пришлось, — говорю, а сам на дорогу гляжу. А Клэту все нет и нет.
— Так я тебя и пустила в Маршаллову деревню, чтоб тебя там убили…
— Пустила не пустила, а тебе меня не удержать, — говорю, а сам на дорогу гляжу.
— А я закон призову, — говорит. — Пусть ты ни меня, ни брата слушать не хочешь, закона ты не ослушаешься.
Тут я к ней обернулся, тычу в нее пальцем:
— Тронь только телефон, баба, костей не соберешь!
— Это мы еще поглядим! — говорит — и шасть в дом.
Я ее догнал и как толкану, да где там — мне такую бабищу с места не сдвинуть. Зато до телефона я первый добег, шнур вырвал и швырнул на пол.
— Давай теперь, звони, — говорю.
— Старый дурень, — говорит. — Старый ты дурень. Что с тобой, дурень ты старый, в чем дело-то?
А у меня грудь ходуном ходит. Будто я на гору бежал, на крутую гору, и теперь доверху добрался. Гляжу я на бабу мою: это сколько ж я лет с ней прожил — не счесть, гляжу — и не узнаю. А грудь у меня все ходит ходуном, гляжу я на нее — и не узнаю. И лицо у меня, видать, такое, что она от меня задом, задом. И все задом, задом пятится, пока в стену не уперлась. А я все гляжу, гляжу на нее — и не узнаю. И грудь у меня все ходит и ходит ходуном.
— Что со мной? Что со мной стряслось, спрашиваешь? Сколько лет мы вместе, а тебе все невдомек, в чем дело? Сколько мы горбатились на Джорджа Медлоу, и он богател и богател, а мы нищали и нищали, а тебе все невдомек, в чем дело? Сколько лет я выходил на задний двор и клял господа, и сколько лет я выходил на галерейку и клял весь свет, и сколько раз приходил домой надрамши и колотил тебя без всякой твоей вины, а тебе все невдомек, в чем дело? В Оливере дело, баба! — ору ей. — В Оливере! Они его в больнице уморили потому только, что он черный. Ни один доктор к нему не подошел, и он кровью истек, а все потому, что он черный. А ты еще спрашиваешь, что со мной стряслось?
Замолчал, гляжу на нее. И чую, по лицу по моему катятся жаркие слезы. Чую, губы у меня трясутся, я сжал их покрепче, а слезы все равно знай катятся. Давно я с ней так не разговаривал. А уж слез моих она не видала и того давней. И голову не отворачиваю. И лица не вытираю. Стою и гляжу на нее. Поперву она напугалась. Потом обозлилась — с перепугу, понятное дело, обозлилась.
— Неисповедимы пути господни, — говорю ей. — Он дает мне, старому негру, случай — пусть, мол, старик не напрасно проживет жизнь. Он мне дает такой случай, и я его не упущу. Я пойду в Маршаллову деревню. А там пусть хоть и умру. Я знаю, что я совсем старый, а может, и полоумный, а все равно туда пойду. И тебе тут ничего не поделать. Молись, если тебе так легче. Молись за нас, за всех старых дурней. Но остановить меня не пытайся. И да поможет мне бог, а ты и не пробуй меня остановить.
Тут слышу, Клэту гудит, ну, я утер лицо и вышел на галерейку. Клэту сидел в старом зеленом грузовичке, на котором он овощи со своего огорода развозил. В соломенной шляпе, в белой рубашке и при галстуке. Клэту, он не давал забыть, что у него своя торговля.
В кабине с ним сидели Билли Вашингтон и Жакоб Агийяр. Билли жил в Сайло, а Жакоб — в Мулатском поселке. Жакоб и прочие мулаты не больно якшались с теми, кто потемнее, но сегодня и Жакоб приехал.
В кузове сидели Сажа и Персик Белло. Персик, он желтый с краснинкой, темные волосы курчавятся шапкой. Я влез в кузов, подсел к Персику с Сажей. Пока Клэту разворачивался, Элла вылезла на галерейку — посмотреть, что мы будем делать.
— Видать, никого без боя не отпустили? — спрашивает Персик.
— Моя нипочем не хотела меня пускать, — говорю.
— А я в магазине был, когда позвонили, — говорит Персик. — Моя и знать ничего не знает. А я, конечное дело, не стал ей звонить докладываться.
У Персика Белло торговля вином и бакалеей на шоссе между Сайло и Батон-Ружем.
— А я своей так и сказал: смотри, чтоб к моему приезду обед был на столе, — говорит Сажа. — Ей невдомек, куда я еду. Да, похоже, и наплевать.
Мы разместились на полу кузова, спинами в кабину уперлись, ноги вытянули. Около Персика Белло лежали два дробовика двенадцатого калибра, один он мне отдал. Дал и пару патронов к нему.
— Это тебе Лиола послала, — говорит.
— Все патроны расстреляли? — спрашиваю.
— Я расстрелял, — Сажа говорит.
— А я свой поберегаю, пока на поле не выйдем, — говорит Персик. — Неравно заяц повстречается. Чего попусту хороший патрон расходовать.
— А чего мы на поле потеряли? — спрашиваю.
— Клэту нас ссадит перед самой Маршалловой плантацией, — Персик говорит. — А там пройдем полем и задами выйдем к Мату. Клэту еще за другими надо съездить. Похоже, в Маршалловой деревне сегодня прорва народу соберется.
— Это уж точно, — тихонько говорит Сажа.
Сажа сидел посередке. Ростом он пониже меня и Персика Белло будет. Да и почернее меня и Персика, за то его Сажей и прозвали. Когда друзья его Сажей зовут, он не против — он знает, это не в обиду ему говорится, но чтобы белые его звали Сажей — не терпит. Папаша мой, всякий раз напомнит, нарек меня не Сажа, а Роберт Луи Стивенсон Бэнкс; а им хоть бы хны, посмеются над ним, и опять он у них Сажа да Сажа.
Гляжу я на Сажу — он посередке между мной и Персиком сидит. На моего старого друга, друга старого, с которым мы всю жизнь рыбалим. Я Сажу спокон веку знаю. Ближе его у меня теперь друга нет, остальные-то все перемерли.
— Как ты, приятель? — говорю.
А он глядит на меня и ухмыляется.
— До смерти боюсь, — говорит.
А на голове у него доджеровская бейсбольная кепка, он ее как надел, еще когда "Доджеры" играли в Бруклине, так с тех пор и не снимает. Кепка из синей аж белесой стала, да и велика ему. Вот какой он "Доджерам" верный, старик Сажа. "До смерти боюсь, — говорит, — но я здесь".
Я кивнул ему и ухмыльнулся в ответ. Я и сам боялся до смерти. И все равно у меня на душе славно оттого, что и я, и Сажа, и Персик, и остальные прочие отважились на такое, на что не отваживались всю нашу жизнь.
Грант Белло, он же Персик
Янки поджидал нас за кустом, по ту сторону дороги, что ближе к реке. Клэту притормозил, и старикан Янки запрыгнул в кузов на ходу. Клэту даже останавливаться не пришлось. Янки прежде ковбоем был и по сю пору себя ковбоем мнит, хоть ему и перевалило за семьдесят. Лет тридцать-сорок тому назад Янки объезжал лошадей и мулов и посейчас одевается, как о ту пору. Соломенная шляпа заломлена лихо, на ковбойский манер. Вокруг шеи линялый красный платочек в горошек наверчен. Брюки заправлены в сапоги, правда, не ковбойские, резиновые. Сколько раз он ключицы, спину ломал, не счесть, оттого его при ходьбе и кренит наперед. Руки у него тоже ломаные-переломаные, так что теперь он их ни свести, ни развести толком не может. А все ковбоем себя мнит. Поначалу мы немного поговорили, потом больше помалкивали. Уж очень гордились. Я это по Янки видел; а Сажу и Мэта я хоть и не видел — они со мной рядом сидели, — но и так чувствовал, что они гордые. Гордые-прегордые.
А километра через полтора после того, как подобрали Янки, подобрали Чумазого в Толботе. Клэту дважды пришлось гуднуть. Чумазый только тогда из-за дома вышел. Дробовик свой старый держит за ствол, приклад тащит чуть не по земле. Из угла рта самокрутка свисает. На самокрутке столбик пепла чуть ли не длинней самокрутки. Чумазому руку поднять лень, чтобы стряхнуть пепел. Столбик, как подлиннее нарастет, сам падает. Чумазый вскарабкался в кузов и всех чохом поприветствовал.
— Здорово! — говорит.
Поздоровались и мы. Чумазый на Сажу глядит.
— Как жизнь, Сажа?
Сажа кивнул. Чумазый осклабился в ответ.
А километров через пять-шесть после того, как Чумазого подобрали, Клэту свернул с шоссе на грунтовую дорогу, ту, что Моргановы плантации от Маршалловых отделяет. По обе стороны ее тростник рос: по одну сторону моргановский, по другую — маршалловский. Высоченный, аж к дороге клонится. Отъехали мы чуток подальше, чтобы с шоссе нас не видать, и Клэту грузовик останавливает: вылазьте, говорит. Ему надо назад на шоссе ворочаться — других подобрать. Ждите, говорит, нас на кладбище, а там все вместе пойдем к Мату. Так, думает, оно лучше будет, чем стягиваться туда по одному, по двое. Развернул грузовик и покатил к шоссе, а мы пошли себе потихоньку.
Жакоб и Мэт впереди, Сажа впритык за ними. Жакоб свое ружье на плече по-солдатски несет. Мэт свое — под мышкой, дулом к земле, по-охотничьи. Сажа тоже под мышкой ружье несет, только до Мэта и Жакоба ему далеко — выправки у него той нет. Шаркает, голову свесил, словно следы в пыли разглядывает. Случись Мэту с Жакобом остановиться, он бы в них врезался, ей-ей. Мы с Янки за Сажей идем, а за нами — Чумазый и Билли Вашингтон. Билли ружье вскинул, но оно у него ерзает по плечу. Так впору палку нести, не ружье. Билли и в амбар нипочем не попасть, даже с двух шагов. Следом за ним Чумазый идет, волокет по пыли дробовик. И не скажу, кто из них жалчей выглядит: Чумазый, Билли Вашингтон или Сажа. Скажу одно: вид у них у всех не больно боевой.
А по обе стороны от нас тростник стоит, высоченный, иссиня-зеленый, — слева Морганов, справа Маршаллов. Только теперь он уже не Маршаллов был. Бо Бутан всю как есть плантацию у Маршаллов заарендовал. Уже лет двадцать пять — тридцать, как Бо и родня его всю землю тут заарендовали. Ту самую землю, на которой мы работали, на которой отцы наши работали, на которой деды и прадеды наши работали еще со времен рабства. А теперь она вся как есть его была, мистера Бо. Точнее сказать, была его — до полудня до сегодняшнего.
Прошли мы километра с полтора и повернули направо — тут межа начиналась. Здесь тоже тростник рос, но только по одну сторону. Слева тростник убрали и увезли, так что стало видно болото. И такая меня тоска взяла. На старости, особливо когда тростник рубят, как вижу пустое поле, меня всегда тоска берет. Борозды стоят оголенные, серые, тоскливые — ни дать ни взять старый дом, откуда все жильцы съехали. Откуда твои друзья съехали, и дом стоит пустой, нежилой, и никого, кроме привидений, там не встретишь.
Смотрю я, смотрю на поле и тут слышу — выстрел. Повернулся — вижу, крольчишка прыгает по пустым бороздам. Пока я целился, он уже на середину поля ускакал, прыгает с одной голой борозды на другую, только ушки мелькают. Оглянулся посмотреть, что Билли и Чумазый поделывают. Смотрю — Билли ружье опускает. Мы с Янки чуток подождали, пока они с Чумазым нас нагонят.
— Ну что, Билли, промазал? — спрашиваю.
Билли промолчал. Ни на меня, ни на Янки не глядит. Стыдно ему.
— Ты хоть в Фикса-то не промажь, — поддел его Чумазый. У Чумазого изо рта самокрутка торчит, голову набок свесил, чтоб глаза дым не ел. — Кролик совсем рядом был, я уже дробовик занес, хотел его прикладом оглоушить, да ладно, думаю, пусть Билли пользуется.
— Да он же побежал, — говорит Билли. Спокойно так говорит. А в нашу сторону и не глядит.
— Ты об него споткнулся, вот он и побежал, — не унимается Чумазый.
Билли и головы не поднял.
— Будет у тебя и другой случай, Билли, погоди маленько, — говорю.
И снова пошли себе потихоньку. Мы с Янки впереди, Билли и Чумазый — за нами. Мэт, Жакоб и Сажа постояли-постояли и тоже пошли следом. Слышу я, позади Чумазый заливается. На минуту затихнет и опять смеется, заливается. Я-то знаю, это он над Билли смеется. Уж не дурной ли это признак, опасаюсь: может, если Билли по кролику промазал, нам сегодня ни в чем удачи не будет.
А впереди уже завиднелись масличный орех и дуб на кладбище в Маршалловой деревне. На кладбище было этак с десяток деревьев и могильных камней почти столько же, ну разве чуток побольше. А двадцать пять — тридцать лет тому назад там и всего-то два-три могильных камня стояло. Когда я мальчонкой был, никто никаких камней не ставил. У каждой семьи свой участок был, и все знали, где чей. Если семья большая и ей своего участка не хватало, они еще земли отрезали, и подчас у той семьи, что поменьше. А что тут такого? Все мы из одного округа, все при жизни так перепутались, что после смерти сторониться друг друга и подавно не резон. На старом кладбище черных хоронили еще с рабских времен. Мне семьдесят четыре, а там еще мои дед с бабкой похоронены.
Присели мы на корточки под орехом, прямо у кладбищенской ограды. Земля вокруг вся орехами засыпана, а подымешь голову — на дереве орехов тьма-тьмущая и почитай что все порастрескались. Пойди дождь или подуй ветер посильней, они разом и попадают. Орех нынче уродился на славу.
Посидели мы так минут десять, от силы пятнадцать, и Жакоб поднялся и на кладбище прошел. Глянул я через плечо — вижу, он на Тессиной могиле сорную траву полет. Тесси — это сестра его. Красивая мулатка, из тех, что любят хороводиться с мужиками, с белыми, с черными — без разбору. Белые не хотели ее делить с черными, велели ей подальше от них держаться. Но она белых не больно-то слушалась. Ну они и убили ее. Прогнали через всю деревню, покамест в самую реку, в Сент-Чарльз, не загнали — на масленой, в сорок седьмом.
А дальше вот что было. Ее же сродственники из Мулатского поселка отказались забрать ее домой. Она против их воли пошла, когда поселилась здесь — среди тех, кто потемней кожей. Сам-то я не темный, я светлый не хуже их, только я не из французов, а раз так, значит, они меня не считают ровней, сортом пониже держат. Себя-то они держат за самый что ни на есть первый сорт, а вот Тессино тело домой не взяли. Похоронили ее рядом с теми, с кем она жила. Может, Жакоб потому сегодня с нами и пошел, что уж больно плохо он с сестрой обошелся лет тридцать с лишним назад и теперь загладить хотел свою вину перед ней. А как всю сорную траву с ее могилы повыдергал, стал на колени у могилы и крестным знамением себя осенил. А за ним и все мы потянулись на кладбище, разбрелись по могилам родни своей.
А тут и такие могилы есть, что к ним и не подойти — дорожки по колено заросли сорной травой. Обычно кладбище расчищали, если кого хоронят, ну и на Всех Святых. Но здесь давно уж никого не хоронили, а Всех Святых еще только через месяц, так что сорной травы там страшная сила. А уж сколько орехов, желудей в траве — идешь, так под ногами и катаются, только хруст стоит.
И каждый пошел к своим, на свой участок. А где кто лежит, точно не знаем. Кого похоронили лет двадцать — двадцать пять назад, так про того знаем точно. А кого, к примеру, схоронили лет сорок-пятьдесят назад, и не скажешь, тот ли в той могиле лежит, кого ищешь, или кто другой. Со временем почитай все могилы перепутались, и не разберешь, где чья.
Чумазый подальше, к углу ограды, отошел. Мы его родню обегали. Держали их за нестоящих людей — они ведь пальцем пошевелить и то за тяжкий труд почитали. От всего от их рода теперь один только Чумазый и остался. Может, потому он сегодня с нами и пошел, чтоб одному за всех своих постоять. А может, и все мы сюда сошлись, чтоб за всех постоять.
Опустился я на колени, помолился над могилками над своими и побрел туда, где Чумазый на отшибе стоял. Орех грыз и смотрел на могилы, сплошь сорняком заросшие. Чумазый, он и на колени не стал, и траву ни с одной могилы не выполол. А тут и такие могилы были, что вовсе осели.
— Вон там мой брат Габ лежит, — говорит Чумазый. И сызнова орех разгрыз, так что, куда он смотрит, я не понял. Колол он орехи не руками — орех об орех, а разгрызал по одному. — А вон мама моя Жюди, а вон там папа мой Франсуа, — говорит. А я все никак не пойму, куда он смотрит. — А тут где-то дядя Нед, — говорит.
А участок его чуть не весь осел, зарос сплошь сорной травой, так что, куда уж там Чумазый смотрел, и не скажешь. Я на него не глядел, потому и не видел, переводил он глаза с одной могилы на другую или нет. Я так думаю, что нет: мне ли Чумазого не знать. Перетрудиться боялся. Чумазый глазом моргнуть и то за тяжкий труд почитал.
— Эвон сколько нас тут, — говорю и оглядел кладбище. Вижу: Мэт, Сажа, Янки и все-все стоят каждый у своих могил. — Хочешь, чтоб тебя тут похоронили? — спрашиваю Чумазого.
— Почему бы и нет, пока кладбище еще не снесли, — говорит.
— Да, нынче старые-то кладбища разоряют одно за другим, — говорю. — Белые, что нынче сюда понаехали, мертвых не больно почитают.
А Чумазый сызнова орех разгрыз.
— Вкусней кладбищенских орехов не сыскать, — говорит. — Ты их пробовал?
— Соберу немного, покамест мы здесь, — говорю.
И гляжу на поле на голое по ту сторону ограды. Борозды шагах в двадцати-тридцати от кладбища начинаются. Тростник Бо успел убрать и свезти, так что аж болото видно. Гляжу я на длинные борозды сжатые, и тоска меня взяла, и стародавние времена вспомнились.
— Бо с Чарли много успели убрать, — говорю Чумазому.
— Но больше Бо убирать не придется, это точно, — говорит Чумазый.
— Ты что об этом думаешь, Чумазый? — спрашиваю.
— Я на это так смотрю, — говорит. — Сколько мне еще времени осталось?
Только всего и сказал. И не договорил даже. Чумазый, он такой, ничего до конца не доводит. Силы бережет. И Чумазый такой, и вся его родня такая, для них первое дело сил не потратить.
— А раз тебе немного времени осталось, хочешь остаток этот прожить не зря? — спрашиваю, стараюсь подбить его на разговор.
— Вроде того, — говорит. И еще орех разгрыз.
— Родня твоя будет тобой гордиться, Чумазый.
— Надо полагать, как нынешний день кончится, многим из тех, кто здесь лежит, будет чем гордиться, — говорит. — А кое-кому из нас придется и рядом с ними здесь лечь.
— Думаешь, до этого дело дойдет?
— Это уж от Фикса зависит, — говорит и глядит на меня, ухмыляется. Потом отвел глаза и говорит: — А вот и Клэту подоспел.
Они подходили с той стороны дороги, где проложены рельсы. Клэту впереди, в правой руке у него дробовик, слева под мышкой — коробка из-под ботинок. За ним, на шаг отступя, Дин и Дон Лежены с протока Двух Индейцев. Обои в защитном, на обоих соломенные шляпы, и, если вплотную к ним не подойти, нипочем не скажешь, кто из них кто есть, а если не знать, что у Дона шрам на левой щеке, так и не скажешь, с кем говоришь. Следом за ними — Простокваша Хорнби, альбинос из Жарро, один идет. Издаля у Простокваши что лицо, что волосы в один цвет — белее белого. И бог весть для чего ему дробовик. Он ведь бесперечь моргает. И не то чтоб убить кого, а и прицелиться толком не может. За Простоквашей — Жан Пьер Рикор и Гейбл Роан. Вот уж кого не чаял увидеть — это Гейбла. Он теперь из дому и не выходит никогда. Разве что в церковь, а больше никуда. А за ним и Жан Пьером — Седрик Такер и Сидни Брукс. Седриков брат Сайлас последним черным издольщиком здешним был. Он тут и похоронен. За Седриком — Сидни Брукс, его у нас Простая Душа кличут. Простая Душа шел в солдатской, еще с первой мировой войны, форме. При фуражке, через плечо портупей. Ружье — на другом плече, на солдатский манер. Мы ушли с кладбища и двинулись им навстречу. Там, под орехом, и сошлись. Кое-кто сразу на корточки сел, притулился к проволочной ограде.
— Все выстрелили? — Клэту, едва подошел, первым делом спрашивает.
— Билли кролик на ногу сел, он в него стрельнул и промазал, — говорит Чумазый. Чумазый, он на корточках у ограды сидел.
Кое-кто засмеялся шутке Чумазого.
А Билли ему и скажи:
— Кролик побежал, а ты, Чумазый, сидишь — и не забывай об этом.
И снова все засмеялись. Негромко. Спокойно. Задумались, видно. И тревоги в смехе том было больше, чем веселья.
— Чего ты развоевался, еще навоюешься, — говорит Клэту Билли Вашингтону. — Те, кто не стрелял, стреляйте, — говорит. — Она велела стреляные гильзы принести.
— А чего мы будем делать с этими гильзами — в Фикса, что ли, их кидать? — спрашиваю я Клэту.
— Это ты у нее сам спроси, как туда придешь, — говорит Клэту. — Кто еще не стрелял, стреляйте по деревьям. Пусть в усадьбе услышат.
Пятеро-шестеро вскинули ружья и выстрелили. Орехи, желуди, мох, листья посыпались с деревьев на просевшие могилы.
— Кому есть что сказать перед тем, как дальше идти, — есть такие? — спросил Клэту. — Есть такие, кто хочет обратно поворотить? Там сегодня жарко будет. Есть такие?
Обратно никто поворотить не хотел — не нашлось таких.
— Ладно, — говорит Клэту. — Пошли. Голову выше, подтянись! Чтоб как солдаты идти, не как бродяги какие! Договорились?
Сам первым зашагал — дробовик в одной руке, коробка из-под ботинок в другой. За ним Мэт и Жакоб, а за ними следом и все мы. Жан Пьер, Билли Вашингтон, Сажа изо всех сил стараются, головы вверх тянут, спины распрямили.
Сирил Робийяр, он же Клэту
Кэнди встретила нас у калитки, вернее, там, где раньше калитка была, — теперь там ни забора, ни калитки. Кэнди стояла по одну сторону канавы, мы — по другую. Кэнди, она мелкая, щуплая, невысокого росточка и ходит всегда в брюках, в рубашках. В платье ее никто не видел. Спасибо, что пришли, говорит. До того обрадовалась, как нас увидала, прямо вся сияет. То одному спасибо скажет, то другому, то третьему. Она почитай что всех по именам знает, да и как не знать, в одном округе, небось, живем, и она завсегда по округу колесит. А как каждый перекинулся с ней словечком, снова на меня поглядела. Она знала, что я овощи на продажу ращу, и смекнула, что это я всех подвез на своем грузовике. И давай мне рассказывать, что да как приключилось. Я ее выслушал, хотя сразу понял: врет она. Перво-наперво, мне было известно, как ее семья, а она пуще всех, обязана Мату. А потом, уж больно она старалась, чтобы я ей поверил. Здешние белые, когда тебя в чем хотят убедить, умеют так глянуть, что поопасешься им не поверить. И вдобавок уж больно складно она говорила, больно гладко — сразу видать, не впервой рассказывала.
Выслушал я ее и гляжу на Мату — он на корточках к стене притулился, в руках дробовик держит. На нас не глядит, глядит поверх наших голов на деревья по ту сторону дороги. И вид у него такой, словно ему без разницы — что мы пришли, что не пришли. Мату, он из сингалезских негров — черный, аж синевой отливает. И вечно похваляется, что в нем вовсе белой крови нету. А всех нас, у которых она есть, ниже себя держит. У меня кожа коричневая — дед мой белый, бабка наполовину индианка, наполовину черная, а родители, те оба черные, потому меня Мату не так низко держит, как других прочих — Жакоба, скажем, или Персика, или братьев Леженов. Простокваше и Кочету он еле кивнул. Кочет, он смуглый, с черными, курчавыми волосами; Простокваша, тот белый, как молоко, а волосы у него тоже курчавятся, только белые. Так вот Мату, хоть одному, хоть другому, кивнул головой — и только.
Мы прошли во двор, обстали Бо — он в траве лежал. Глаза и рот раскрыты, лицо грязью заляпано, в темных волосах семена запутались. Дробины ему в левую сторону груди угодили, всю рубашку разорвали. Кровь запеклась, ее обсели мухи.
Поглядел я на Бо и пошел пожать руки Руфу Сиберри, Джонни Полу и Кочету Джексону — они у огородного плетня стояли. Говорить нам было особо не о чем, они мне кивнули только, но так кивнули, что видно было, какие они гордые, что сюда пришли.
Гло Эбер, Хейзл Робинсон и Кочетова баба, здоровущая Бьюла Джексон, сидели на крылечке. Гло облепили трое внучат, мал мала меньше. Чтобы подойти пожать им руки, мне надо было миновать его преподобие Джеймсона. Джеймсон, он здешний священник, и из всех нас только он был без ружья и только он смотрел на всех на нас зверем. Я пожал руку Гло, она выпустила мою руку не сразу. Тому, я знал, были две причины. Ее беспокоило, что с нами станется, если нагрянет Фикс, — это первое. И она гордилась, что мы все здесь собрались, — это второе.
Хейзл и Бьюле тоже пожал руки, с Коринной перекинулся парой слов — она сидела на галерейке в качалке. Вытянулась, ровно палку проглотила, и не шелохнется — ну пугало пугалом. Ни с кем ни словом не перемолвится, никому не кивнет, смотрит во двор — и ничего и никого не видит. Я прошел в конец галерейки поговорить с Мату.
— Ты как, ничего? — спрашиваю.
— Ничего, — отвечает, а на меня не глядит.
Я обошел дом и спрятал коробку из-под ботинок под домом, у второй сваи. А когда обратно мимо Мэта прошел, рукой ему помахал, и он мне кивнул. Потом сел в конец галерейки, стал глядеть на Мату. Остальные по двору разбрелись. Одни отошли к плетню потолковать, другие там, где галерейка кончалась, собрались. Чумазый, а с ним и еще кое-кто, те прямо посреди дорожки расселись. Кэнди во двор вернулась и стала у крылечка, около Гло с внучатами. А на отшибе стоял Джеймсон. Глаза у него с одного на другого перебегают. Чего-то сказать хочет, а как подступиться — не знает.
— Что скажешь? — спрашиваю Мату.
— Это она всех созвала, я не звал, — говорит, а на меня и не глядит, глядит на дорогу, туда, где трактор стоит. Мотор у трактора так никто и не заглушил, но Мату на трактор и не смотрел. Глядел поверх трактора, поверх прицепов с тростником на деревья на дальнем выгоне. — Как он приедет, я сразу объявлюсь, — говорит.
— Ты хочешь сказать, это я объявлюсь? — от огородного плетня Джонни Пол подал голос. Дробовик под мышкой зажал, стволом к ноге. — Чего я сделал, ты себе не приписывай.
— Твой черед после меня, — Руф говорит. Он рядом с Джонни Полом у плетня стоял.
— Меня не обойдите, — с другого конца двора подал голос Мэт.
— Ты-то как его мог застрелить? Ты здесь и не живешь, — говорит Джонни Пол.
— А все коршун, — говорит Мэт и на небо глядит. А небо ясное, голубое, ни облачка на нем. И теплынь на дворе, хоть и октябрь. — Коршун, чтоб ему, бесперечь у меня цыплят таскает. Вот сегодня я и говорю Саже: возьму-ка я дробовик и пойду поохочусь на коршуна, чтоб ему пусто было. Бежал вслед за ним от самого Медлоу до Маршалловой деревни. А чтоб подбить влет, случая не вышло. — А сам все на небо смотрит, будто коршун вот-вот у него над головой пролетит.
— Он мне и точно на коршуна жаловался, — Сажа говорит. И тоже на небо глядит. Даже отступил чуток, чтоб разглядеть орех за домом Мату. — Потому и я ружье достал и тоже побежал вслед за коршуном за этим.
— И чего это я никого из вас не видал? — говорит Дон Лежен. Они с братом Дином стояли на дорожке против Сажи. — Я тут с Мату чуть не все утро проговорил, а не видал…
— А и я тебя не видал, — говорит Дин.
— А вот это ты видал? — Дон ему шутейно кулаком погрозился.
— А ты это вот видал? — Дин ему в ответ тоже кулаком погрозился. — Ты меня не зли. Меня разозлишь — хорошего не жди, кому-кому, а тебе это известно.
— Как же, как же, — говорит Дон. — Только тебе и в амбар из пушки не попасть. И здесь, на протоке, это каждая собака знает.
Все как сговорились. Один толкует, он убил, другой — нет, он, и так один за другим. Простокваша, Жан Пьер, Билли, Кочет, Простая Душа — один за другим. Чумазый — он на дорожке сидел — вынул самокрутку изо рта и сдул пепел. Только не сразу. Сначала подождал — может, пепел сам упадет. Увидел, не падает, тогда сдул. Но сначала скосил глаз на самокрутку, проверил. И только потом на нас посмотрел.
— Братцы, это что ж такое деется: я убил, а меня и в расчет не берут? — спрашивает.
— Слышь, Чумазый, тут в очереди настоишься, прежде чем Бо застрелить дадут, — говорит Персик Белло.
Чумазый посмотрел на самокрутку, постучал по ней пальцем, потом снова сунул в рот.
— А что, если нам со старичком Гарри пострелять чуток, чтобы эту очередь подсократить и вперед продвинуться? — говорит. — Что скажешь, старичок? — дробовику своему говорит. — Как ты насчет того, чтобы очередь подсократить?
Пока они перешучивались, я смотрел на Джеймсона и видел, что он все больше накаляется. Джеймсон, он низенький, лысый, черный, как уголь, старикашка, а усы и борода у него совсем седые. Лысина под солнцем под жарким блестит чисто зеркало.
— Еще день не кончится, а вы другую песню запоете, — говорит он. — Помяните тогда мои слова.
— Ваше преподобие, я же говорила вам, чтобы вы шли домой, — с другой стороны крылечка Кэнди голос подала. — Я вам уже битый час твержу: идите себе домой, вы же не хотите быть здесь. Мне надоело повторять вам одно и то же.
— Кэнди, я здесь живу, — говорит Джеймсон. — И если деревню спалят, мне жить будет негде. — Повернулся к нам, на лысине пот крупными каплями выступает и вниз по лицу текет. — Вы хоть понимаете, что я вам втолковываю? — спрашивает.
Никто Джеймсону не ответил. Глаза у него с одного на другого перебегают, а никто ему не отвечает. И никто почитай на него и не глядит. Он подошел поближе к галерейке.
— Мату, да объявись ты, Христа ради, — упрашивает. — Ну пожалуйста.
А Мату через голову его на деревья на дальнем лугу глядит. И ничего ему не отвечает.
Джеймсон прошел в конец галерейки, ко мне подошел. Плачет. Губы сжал, ну а слезы все равно не скроешь — так по лицу и текут.
— Клэту, — говорит. — Ты-то все понимаешь. Поговори с ним, скажи ему, чем это кончится.
Я ему ничего не сказал. И глядеть на него не стал. Глядел на трактор на дороге. Мотор у него так никто и не заглушил.
— Клэту, ну пожалуйста, — говорит Джеймсон. — Пожалуйста.
— Я пришел сюда за себя постоять, а не разговоры разговаривать, — говорю, а на него так и не гляжу.
А он все глядит на меня. Стоит около меня, плачет, губы сжал, глаз с меня не спускает.
— Зачем вы все сюда сошлись? — говорит. — Чтобы умереть? Надеетесь так все обиды свои избыть? Вот на что вы надеетесь?
Я ничего ему не сказал. И глядеть на него не стал. Видел краем глаза, что он губы опять сжал, а слезы по его лицу как катились, так и катятся.
Теперь он на Кэнди глядел.
— Вы довольны? — спрашивает. — Довольны? Думаете, для него хорошо сделаете, если эту землю зальете кровью?
И она ему тоже ничего на это не сказала. А он глаз с нее не сводит. Мне краем глаза видно. И как все его не замечают, так и она не замечает. Он от нее отвернулся и обращается к нам.
— Шли бы вы домой, глупые старики, — говорит. — Домой бы шли.
А его как никто не замечал, так никто и не замечает.
Тишина наступила, слышно только, как трактор на дороге тарахтит. Чуть спустя в болоте сова заухала, и опять все затихло. Потом с дерева на задах орех свалился, скатился с железной крыши на землю. Мы поглядели-поглядели туда, потом Кукиш сбегал, подобрал орех. Чумазый выудил из кармана горсть орехов и так, с места не сходя, протянул мальчонке.
Мальчонка вернулся на крыльцо и поделился с братом и сестрой орехами. И вся тройка давай щелкать.
Я повернулся к крыльцу.
— Что скажете? — говорю Кэнди.
Она обернулась и на меня смотрит.
— Дальше-то что? — говорю.
— Все выстрелили? — спрашивает.
— Все. И стреляные гильзы сберегли.
— И у всех гильзы из-под пятого номера?
— У всех, — говорю.
— Всем понятно, Клэту, зачем они нужны?
Я кивнул. Она еще на меня поглядела, перевела глаза на Мату, а потом стала опять на дорогу смотреть. А я думаю: "Ты ведь для него на все пойдешь? Ни перед чем не остановишься?"
Джеймсон — он тоже с нее глаз не спускал — решил, что сейчас самое время опять на нее насесть.
— Вы что, надеетесь так Мейпса обмануть? — спрашивает он Кэнди.
Она ничего ему не ответила. Тогда он снова ко мне обратился:
— Вы что, думаете, Мейпс рехнулся? Во дворе у Мату лежит мертвый Бо, перед самым перед домом его трактор с незаглушенным мотором. А из вас есть такие, что живут и в Сайло, и в Мулатском поселке, и в Байонне, за пятнадцать, за двадцать километров. Вы что, не соображаете, Мейпс мигом смекнет, что из вас и половины в то время здесь быть не могло? Совсем, что ли, рехнулись?
— Ваше преподобие, вы бы лучше помолчали, — говорит Бьюла. — Помолчали бы лучше. Вас никто не слушает, так что вы бы лучше помолчали. И послушались бы Кэнди — шли бы себе домой. Все равно сегодня никто вас слушать не будет.
— А что, если мне его застрелить? — говорит Кочет. — Ты как думаешь, Чумазый, может, мне его застрелить?
— Не стоит, сам помрет, — говорит Чумазый. — Может, он, прежде чем стрельбе начаться, сам к нам переметнется.
Кое-кто посмеялся ихним словам.
Посидели-помолчали, потом видим, пыль клубится. Машину мы и не видели — только столб пыли над деревьями, над кустами, над бурьяном к нам летел. Мы гадали, уж не Мейпс ли это припожаловал, но тут машина подкатила и остановилась. И за холостыми стеблями бобовыми, за кустами, за бурьяном по обочинам канавы я разглядел синюю спортивную машину Кэндиного дружка. Кэнди вышла ему навстречу. А мы все кто где был, там и остались.
Луи Альфред Димулен, он же Лу Даймс
Я все терялся в догадках, кто бы в Маршалловой деревне — нет, нет, не убил, а кто мог бы убить Бо Бутана. Там одни старики живут. Молодежь вся разъехалась, кто куда, а там остались одни старики, ну, и несколько ребятишек. Так вот, кто бы мог его убить? Только не Чарли. Я не раз видел, как Бо обращался с Чарли хуже, чем с собакой, а Чарли боялся на него поднять глаза, а уж голос и подавно. Кто же тогда? Джени, когда я с ней говорил по телефону, была в такой панике, что не могла толком ничего объяснить. Сказала только, чтобы я приезжал скорее, потому что Кэнди нуждается во мне. Кэнди во мне нуждается? Я с Кэнди знаком вот уже три года и не помню случая, чтобы она нуждалась в ком-то.
Чуть не шестьдесят километров от Батон-Ружа до Маршалловой деревни я проехал за полчаса. Просто чудо, что вся дорожная полиция Луизианы не села мне на хвост. Когда я поравнялся с усадьбой Маршаллов, я увидел во дворе машину майора и машину мисс Мерль. Большого "ЛТД" Кэнди на лужайке перед дверью не было, и я сообразил, что она все еще в деревне, как и говорила Джени.
Деревня растянулась на полкилометра с лишком — начиналась она у шоссе и уходила в поля. Кусты и бурьян по обе стороны дороги так разрослись, что дорога казалась не шире двуспальной простыни. Где-то тарахтели два мотора — трактора и машины. Я проехал чуть подальше, и вот тут-то мне и бросилось в глаза, что деревня совсем обезлюдела. Двери и окна в развалюхах стояли настежь, никто не сидел на галереях, не слонялся по двору, не копался в огородах. Казалось, все жители до одного куда-то сорвались. Наслышанный о былых подвигах бутановского семейства, я не мог не отдать должное их смекалке.
Только остановил машину, глядь — на дорогу выходит Кэнди. Совершенно спокойная на вид, а я-то боялся, что она потеряет голову. Но она волновалась куда меньше меня.
— Рада, что ты приехал, — говорит.
— Что случилось? — спросил я, когда уже вылез из машины.
— Посмотри туда, — говорит и мотнула головой через плечо. Я поглядел, но за бурьяном и кустарником по обочинам канавы ничего не увидел.
— Что случилось, Кэнди? — спрашиваю опять.
— Я его убила, — говорит она, глядя на меня в упор. Потом повернулась, чтобы идти во двор, но я схватил ее за руку.
— Ты что сказала?
— Я убила Бо, — говорит и выдернула руку.
Я постоял еще на дороге. Сердце у меня билось часто-часто; билось — не то слово, казалось, оно вот-вот выскочит. Я потряс головой. Нет, нет, не мог я такого слышать, это я ослышался — и пошел за ней. Но едва дошел до Кэндиной машины, как снова остановился. Будто на каменную стену налетел. Передо мной и впрямь встала стена, только не прямо передо мной, а шагов на двадцать-тридцать подальше. Но не каменная, не кирпичная и не деревянная — стена черных стариков с дробовиками. Не скажу точно, сколько их собралось, человек пятнадцать-семнадцать стояли, сидели на корточках, сидели на земле — рассыпались по всему двору. Кого-то поджидали. Явно поджидали. Но только не меня. Это было яснее ясного. Кое-кто из них меня и вовсе не заметил.
Тут я понял, что могу смело идти во двор, перешагнул канаву и подошел к Кэнди. У ее ног лежал Бо Бутан — глаза и рот раскрыты, лицо в разводах грязи, в темных волосах запутались семена. Лет тридцати, смазливый, весом эдак под восемьдесят килограмм. В брюках, в рубашке защитного цвета и в ковбойских сапогах. Его соломенная шляпа, тульей вниз, валялась в траве неподалеку от меня, слева. Дробовик валялся шагах в двух — справа. Я нагнулся, поднял волосатую, всю в разводах грязи ручищу Бо, подержал и выпустил. С его покрытой запекшейся кровью груди слетела стайка мух и тут же села обратно.
Я распрямился и снова поглядел на стариков. Ни один из них не сказал ни слова и не шелохнулся. Кое-кто смотрел на меня, но таких было мало.
Я пригляделся к ближайшему ко мне старику. Скорее всего, ему перевалило за семьдесят, но их возраст не всегда определишь. Он был примерно тех же лет, что и другие старики с дробовиками. В комбинезоне, в джинсовой рубашке, в ветхой серой шляпе, в полуботинках с кожаными шнурками, на босу ногу.
— Это я его, — говорит.
Без злобы. Без угрозы. А если и с гордостью, то без бахвальства. Не дожидаясь моего вопроса, прямо так и сказал: "Это я его".
Я перевел взгляд на другого старика. Он сидел на корточках у огородного плетня, покуривал. Приклад его дробовика упирался в землю, ствол лежал на коленях, он разглядывал трактор на дороге. Треклятый трактор занимал старика настолько больше меня, что я едва удержался, чтобы самому не обернуться на трактор.
— А как насчет тебя?
Он кивнул. У него, видно, было замечательно развито боковое зрение — и не глядя на меня, он понял, что я обращаюсь к нему.
— Я его убил, — говорит.
Я оглядел еще одного старика — повесив голову, он сидел на крыльце. Постукивал прикладом о лежавший на земле кирпич. Интересно, думаю, заряжен его треклятый дробовик или не заряжен?
— А как насчет тебя там, на крыльце?
А он все стучит прикладом о кирпич. Голову и то не поднял.
— Да, сэр. Это я его убил.
Понятно, думаю, понятно. Смельчаки все как один, вот оно что.
Перевел взгляд на священника — он стоял на отшибе. Жалкий, лысый, замотанный, тщедушный. Из них всех только у него был испуганный вид. Он обливался потом — упарился, наверное, споря с ними.
— Ваше преподобие, не могли бы вы объяснить мне, что здесь происходит?
— Вы уж лучше ее спросите, мистер Лу, — говорит и кивает на Кэнди. — Она велела мне помалкивать, а нет — идти восвояси.
Я обернулся к Кэнди — она стояла позади меня всего в двух шагах.
— Так как?
— Что — так как? — говорит, и подняла на меня глаза.
— Ты что, не слышала их?
— Слышала.
— И ты все еще будешь утверждать, что это ты его убила?
— Буду.
— Ты лжешь, Кэнди. И сама понимаешь, что я знаю, что ты лжешь.
Тут она как взовьется. Плевать ей, говорит, верю я ей или не верю. Чарли и Бо, говорит, подрались в поле, и Чарли примчался к Мату. Она как раз была во дворе, разговаривала с Мату. Чарли и двух минут здесь не пробыл, как за ним примчался Бо с дробовиком. Она ему сказала, чтобы не смел входить во двор, а он все равно вошел, и тогда она схватила дробовик Мату и застрелила его. И плевать ей, кто ей верит, а кто нет, говорит, потому что это правда.
— А эти старики зачем сюда пришли? — спрашиваю.
— Чтобы меня защитить, так я думаю.
— С каких это таких пор ты у них ищешь защиты?
На это она не нашлась что сказать. Я поглядел на Бо, на мух, обсевших его грудь.
— Может, кто принесет чем его накрыть? — говорю.
— Коринна, — крикнула Кэнди женщине, сидевшей на галерее в качалке. — Принеси из дому простыню или что-нибудь еще.
Коринна, в буром платье, вылинявшем до того, что не разберешь, какое оно раньше было, синее или лиловое, встала с качалки и прошла в дом. Чуть погодя вынесла покрывало, вылинявшее до того, что не разберешь, какое оно раньше было — зеленое, розовое, синее или лиловое. Теперь оно было такое же блекло-бурое, как и Кориннино платье. Передала покрывало одному из стариков, сидевших поближе к галерее, а уж он принес его мне. Я смотрел на него, пока он шел ко мне, но он прятал от меня глаза. Передал покрывало и вернулся на свой пост на галерее.
— Ты позвонила Мейпсу? — спрашиваю Кэнди.
— Мисс Мерль приезжала сюда, — говорит. — Я просила, чтобы она позвонила Мейпсу, как только ты проедешь мимо ее окон.
— Кэнди, Христа ради, прежде чем Мейпс приедет, скажи правду. Это Мату?
— Я тебе уже сказала, — говорит. — Это я.
— Кэнди, Фикс не успокоится, пока не прольется негритянская кровь. Ты же это понимаешь?
Она подошла ко мне поближе — она была мне по грудь, — глаза полыхают, губы трясутся: просто рвет и мечет.
— Этого подонка убила я, — говорит. — Так я заявлю Мейпсу, так заявлю и радио, и телевидению. Этого подонка убила я. А тебя я позвала, потому что мне нужна твоя поддержка. Потому что у меня, кроме тебя, никого нет. Никого. Но если ты не хочешь оставаться, возвращайся в Батон-Руж. Я тебя удерживать не стану.
Мы сверлили друг друга глазами. Она понимала, что я не верю ни одному ее слову, и чем дольше мы глядели друг на друга, тем сильнее она злилась. Губы в ниточку собрала. Ее так и подмывало меня ударить, но она сдерживалась. Понимала, что ей без меня не обойтись.
Я отвернулся от нее, посмотрел на старых дураков вокруг. Не знаю, кого мне было больше жаль. Я знал, что не она убила Бо и что ей ничего не будет. Но кому-то придется поплатиться за то, что Бо здесь лежит.
Они завидели пыль на дороге раньше меня. Я повернулся, когда Мейпс уже остановился перед домом. Он сидел рядом с водителем, черный "форд" вел один из его помощников. Еще с минуту они посидели в машине, посмотрели на нас, потом вылезли. Мейпс еле двигался — видно, устал. Он был примерно моего роста, метр девяносто или что-то около того, но килограмм на сорок с гаком потяжелее. Ему давно перевалило за шестьдесят. На нем был легкий серый костюм, серая шляпа и белая рубашка с красным галстуком. Помощник его — в бежевом костюме и при галстуке, но без шляпы — вылез с другой стороны. На вид ему можно было дать чуть больше двадцати. Росту в нем было около метра семидесяти, и весил он от силы килограмм шестьдесят. Даже издалека бросалось в глаза, как он напуган. Вылез он без пистолета, но тут же нырнул за ним назад в машину. Мейпс кинул ему пару слов через плечо, и он положил пистолет на место.
Мейпс снял шляпу, обтер ее платком изнутри, потом лоб, шею, затылок, водрузил шляпу обратно, а платок сунул в карман — и все это не сводя с нас глаз. Потом, повернув одну голову, обежал глазами трактор, у которого никто так и не удосужился заглушить мотор. С полминуты разглядывал его и снова перевел глаза на нас. Сунул пальцы в рот, извлек конфету — наверное, остатки мятного леденца. Обозрел его, потом стряхнул и прошел во двор. Открывшаяся глазам картина ничуть его не удивила. Ручаюсь, что ни с чем подобным он до сих пор не сталкивался. Но он был человек тертый, на своем веку повидал много чего странного и, вполне возможно, вообще перестал удивляться. Помощник прошел за ним во двор, ни на шаг от него не отступая, как перепуганный малыш за отцом.
Мейпс кивнул нам, но ничего не сказал. Я кивнул в ответ, Кэнди — та воздержалась. Мейпс вперил в меня тускло-серые глаза, но тут же перевел взгляд на покрывало. И снова кивнул. На этот раз не мне, своему помощнику. Но помощнику было не до него, он глазел на стариков с дробовиками.
— Гриффин, — позвал Мейпс.
Помощник не откликнулся.
— Гриффин, — снова позвал Мейпс.
Гриффин отвернулся от стариков, поглядел на Мейпса, он, видно, был не уверен, что Мейпс его звал.
— Вы что-то сказали, шериф?
Мейпс кивком головы указал на землю. Прежде чем наклониться и сдернуть покрывало, Гриффин еще раз оглянулся на стариков. Увидев окровавленную рубаху, перепачканное лицо и перепачканные темные волосы Бо Бутана, он тут же отвернулся. Мейпс, тот не отвернулся, он добрых полминуты разглядывал труп, затем приказал Гриффину снова накрыть его покрывалом. Но Гриффин не слышал. Ему было не до того, он разглядывал стариков с дробовиками.
— Гриффин, — повторил Мейпс.
Гриффин поглядел на Мейпса, но Мейпс уже отвернулся от него. Не глядя на труп, Гриффин накрыл его покрывалом.
— Иди заглуши его, — говорит Мейпс.
— Что заглушить, сэр? — спрашивает Гриффин.
— Трактор, — уже потеряв терпение, говорит Мейпс.
Гриффин двинулся к дороге.
— Гриффин, — позвал его Мейпс. Спокойным, ровным, но не терпящим возражения тоном.
— Да, сэр, — отозвался Гриффин.
Мейпс не обернулся, и Гриффину пришлось возвратиться с полпути, чтобы предстать перед Мейпсом.
— Свяжись по радио. Передай, чтобы Расс — только Рассел, и никто другой — вернулся к протоку и задержал там Фикса. Никому, кроме него, этого не поручай — пусть задержит Фикса и все его кодло, пока не получит приказ от меня. А Герману вели приехать за покойником. Но за кем — не говори.
Гриффин кивнул и снова двинулся к дороге.
— Гриффин, — окликнул его Мейпс все так же спокойно. Гриффин остановился.
— Во-первых, выключи трактор, — распорядился Мейпс. Он говорил с Гриффином как с умственно неполноценным. — Во-вторых, позвони Рассу. В-третьих, Герману. Вели ему забрать покойника. Имени не называй. В-четвертых, у тебя не вылетит из головы все, что я тебе говорил, пока ты дойдешь до машины?
— Как можно, шериф?
Пока Гриффин шел к трактору, Мейпс не спускал с него глаз. Потом переключился на стариков с дробовиками.
— Я насчитал человек семнадцать-восемнадцать, — говорит. — Не просчитался?
— Я их не пересчитывал, — говорю.
— А вы? — спрашивает он Кэнди. Но к ней не поворачивается, так, стоя боком, и разговаривает. У него, похоже, уже зароились подозрения, что она приложила руку к тому, чтобы все эти люди сошлись здесь.
— Не могу сказать вам, сколько их, — говорит она. — Но что случилось — сказать могу. Я убила его.
Мейпс чуть повернул голову влево и покосился на нее. Он еще больше укрепился в подозрении, что созвала всех сюда она, но он явно не верил, что она убила Бо Бутана.
— За что? — спрашивает.
— Бо Бутан жил в прошлом, — говорит она. — Ему все казалось, что он может так же избивать людей, как его папаша тридцать-сорок лет назад. Бо в поле накинулся на Чарли с побоями, и Чарли прибежал к Мату. Я в ту пору как раз была во дворе — разговаривала с Мату. Мы спросили Чарли, что стряслось, а он говорит, Бо отколотил его тростниковой палкой. А спустя несколько минут Бо с дробовиком примчался за ним на тракторе. Когда Бо остановил трактор, я ему сказала, чтобы он не смел переступать канаву. Не раз и не два сказала. Бо, говорю, не смей переступать канаву. Но он меня не послушал. Разве можно избивать человека тростниковой палкой и гоняться за ним, как за диким зверем? Разве можно? Не смей, говорю ему, переступать канаву, остановись. Не смей, кричу, переступать канаву. Но он не остановился, и тогда я схватила дробовик, который Мату держит у двери. И я покажу это на суде под присягой.
Мейпс прямо на нее не глядит, все косится сбоку. Раз, пока она говорила, он метнул взгляд на меня. И я понял, что он не верит ни единому ее слову. Теперь и Кэнди это поняла.
— Я и на суде под присягой покажу, что я его убила, — повторяет Кэнди. — И журналистам так же заявлю.
Мейпс крякнул, отвернулся и снова стал разглядывать стариков. Они не спускали с нас глаз, слушали, но сидели смирно. Даже дети на крыльце присмирели, но и они не спускали с нас глаз. Помощник возвратился во двор, встал рядом с Мейпсом.
— Приведи одного из них сюда, — велел ему Мейпс.
— Которого, шериф? — спрашивает Гриффин.
— Такого, который умеет разговаривать, — отвечает Мейпс, не глядя на Гриффина.
С тем Гриффин и отошел.
Кэнди стояла чуть позади Мейпса, но тут она вышла вперед, встала лицом к лицу с ним.
— Я же вам сказала, что я его убила, — говорит. — Зачем вам их допрашивать?
Мейпс не удостоил ее ответом.
— Кэнди, прошу тебя, — говорю. Потянулся к ней, но она отдернула руку.
— Потому что они черные и не могут за себя постоять — вы поэтому за них принялись?
Мейпс пропустил ее слова мимо ушей, смотрел на старика, которого вел к нему Гриффин. Старику было лет восемьдесят, не меньше. Тех, кто помоложе, Гриффин, видно, побаивался. На старике был комбинезон, защитного цвета рубаха и допотопная фетровая шляпа. Слегка наклонясь вперед, он быстро-быстро перебирал ногами, выбрит он был аж до блеска. Когда Гриффин подвел его к Мейпсу, Кэнди отступила чуть в сторону. Гриффин выпустил руку старика, и тот стащил шляпу и прижал к груди. Голова у него тоже была выбрита до блеска. Он поднял было глаза на Мейпса, но тут же опустил. От нервного тика его голая головенка дрожала, и от этого казалось, будто он все время кому-то поддакивает. Он был на две головы ниже Мейпса как минимум. Мейпс выдержал время, не сразу заговорил с ним.
— Какими судьбами тебя занесло так далеко от дома, дядя Билли? — спрашивает Мейпс.
— Я его убил, — говорит старик, не поднимая глаз от Мейпсовой груди. А его голая головенка все дрожит и дрожит.
— Вот что, дядя Билли, мне время дорого, — говорит Мейпс. — Я сегодня порыбалить собирался. Второй раз тебя спрашиваю: как тебя занесло так далеко от дома?
— Я убил…
Мейпс как размахнется и хлоп дядю Билли по лицу. Голова у того отдернулась в сторону, изо рта брызнула слюна. Мейпс оказался до того скор на расправу, что я не предвидел и никак не ожидал такого поворота событий.
У женщин на крыльце вырвался стон.
— Что же такое деется, — говорит одна, — чтобы Билли Вашингтона, старого человека, нет, что же такое деется!
— Мейпс, я этого так не оставлю, — говорит Кэнди, тыча в него пальцем. — И свидетелей у меня предостаточно. Я вам этого так не оставлю.
Мейпс пропустил ее слова мимо ушей.
— Что ж, дядя Билли, начнем по-новому. Какими судьбами тебя занесло так далеко от дома?
— Я его убил, — повторяет дядя Билли, и его голая головенка все дрожит.
Мейпс снова как развернется и — хлоп! Из дяди Биллиного рта закапала кровь, но он не стал ее вытирать.
— Отведи этого в сторону и давай сюда другого, — распорядился Мейпс.
— Вы что, решили их всех до одного избить, Мейпс? — спрашивает Кэнди.
До того разъярилась — кажется, сейчас накинется на Мейпса с кулаками, но Мейпс дал бы ей сдачи — с него станется. Мне все происходящее тоже было не по душе, но я понимал, что стоит мне вмешаться, и Мейпс вышибет из меня дух и зашвырнет в свою машину.
— Вам бы лучше увести ее отсюда, — говорит мне Мейпс.
— Так он вас и послушал, — говорит Кэнди. — А если вы забыли, напомню: я на своей земле.
— Вам бы лучше не вставать мне поперек дороги, — предупредил ее Мейпс.
— Так я вас и послушалась!
— Так или не так, а послушаться придется, — говорит Мейпс и повернулся к старику, которого подвел к нему Гриффин. — А тебя-то, Гейбл, что заставило вылезти из-за твоих ветел? — спрашивает Мейпс.
Гейбл этот был поджарый темнокожий старик со скуластым лицом и седыми волосами. Одет с иголочки — в коричневый спортивного покроя пиджак, клетчатую рубаху, галстук шнурочком, коричневые брюки и начищенные до блеска ботинки. Шляпу он снял, но руку с шляпой не прижал к груди, как дядя Билли, а опустил. И в отличие от дяди Билли, который не смел поднять глаза выше Мейпсовой груди, Гейбл глядел Мейпсу прямо в лицо.
— Я его убил, — говорит.
— Не хотелось бы, Гейбл, мне бить тебя, — говорит Мейпс. — Ты и без того хватил горя в жизни. Так вот, второй раз тебя спрашиваю: как ей удалось тебя вытащить из-за твоих ветел?
— Я его застрелил, — говорит Гейбл.
Мейпс стиснул зубы так, что на его мясистых брылах заходили желваки. Медленно занес правую руку — и хлоп! Гейбл отдернул голову, но тут же снова повернулся к Мейпсу. На глазах у него выступили слезы, но он все равно смотрел на Мейпса в упор.
У женщин на крыльце снова вырвался стон. Девчушка и мальчик поменьше закрыли глаза руками. Старики — те невозмутимо смотрели на шерифа.
— Бейте хоть весь день! — говорит Гейбл.
Тогда Мейпс во второй раз влепил ему пощечину. Гейбл отдернулся, но лишь самую малость. Поморгал и опять уставился Мейпсу в лицо.
А у Мейпса на мясистых брылах желваки так и ходят. Для него и самого небольшая радость бить стариков, но как достичь своего иначе — он не знает.
— Отведи этого в сторону и давай следующего, — говорит Гриффину.
— Зачем же нас учили подставлять другую щеку? — спрашивает Гейбл. — Зачем, если вы оба раза по одной по той же щеке бьете?
Мясистое лицо Мейпса от злости налилось кровью. Брылы так и дергаются. Но Гейблу он ничего не ответил.
Гриффин взял Гейбла за руку и отвел в сторонку к дяде Билли. Вижу, дядя Билли смотрит на Мейпса, и на губах у него ухмылочка. Спроси меня Мейпс, я бы ему сразу сказал, что побоями ему от них ничего не добиться.
— А почему бы вам не бить их палкой или шлангом? — говорит Кэнди Мейпсу. — Не ровен час, еще руку зашибете о стариков, которые и сдачи-то не могут дать.
— У них у всех дробовики, — говорит Мейпс.
— Вы же знаете, они не станут стрелять.
— Что верно, то верно, — говорит Мейпс. — Я знаю, что они не станут стрелять, и мы знаем, что они и не стреляли, верно я говорю?
— Я же вам сказала, что я его убила, — говорит Кэнди.
— Как же, как же, — говорит Мейпс. — А я Дед Мороз.
Гриффин шнырял в толпе. Он вдруг очень расхрабрился. Он больше не хватал первого попавшегося, а действовал с разбором. Норовил взять того, кого наметил. Однако, сколько он ни шнырял в толпе, люди на него не глядели. И не потому, что боялись, просто не удостаивали его вниманием. Но когда он подошел к крыльцу, перед ним вдруг вырос Кукиш, внучонок тети Гло. "А ну садись, пока я тебе не врезал", — говорит Гриффин. Старым и малым Гриффин спуску не давал. Но мальчишка его не послушал, соскочил с крыльца и двинулся к Мейпсу. Кэнди — она стояла неподалеку — загородила мальчишку от Мейпса, велела ему идти на свое место. Остановиться он остановился, но на свое место не вернулся, пока его не позвала бабка. А тогда уж пошел назад, сел на крылечко рядом с бабкой, она приобняла его за плечи, и оба уставились на Мейпса: мол, бей хоть обоих, хоть одного — на выбор. Кэнди повернулась к Мейпсу, но ничего ему не сказала, только взглядом ожгла. Промолчал и я. Но я знал, что побоями Мейпсу ничего от них не добиться.
А Гриффин уже подводил к Мейпсу здешнего священника Джеймсона. Более жалкого старика Гриффин выбрать не мог. Рубашка у Джеймсона насквозь промокла. Казалось, его вот-вот хватит инфаркт — до того он трепетал перед Мейпсом. Мейпс и сам был недоволен тем, что Гриффин привел священника. Ему нужен был один из стариков с дробовиками. Но у него не было выхода — не останавливаться же на полпути.
— Ваше преподобие, что вы здесь делаете? — спрашивает Мейпс. — Сидели бы себе дома, читали бы Библию.
Джеймсон понурился, уткнулся глазами в Мейпсовы ноги. Он и вообще-то робел поднять глаза выше Мейпсовой груди.
— Мне, шериф, нечего сказать, — говорит Джеймсон, а глаз так и не поднял.
— Вам бы лучше придумать какой-нибудь ответ, — говорит Мейпс. — Что вы здесь делаете?
Джеймсон покачал головой, но глаз так и не поднял.
— Еще раз, ваше преподобие, спрашиваю, — говорит Мейпс. — Что вы здесь делаете?
Старик промолчал. На его лысой голове выступили капли пота. Мейпс как развернется — и хлоп его по щеке. Капли пота с лысой головы Джеймсона разлетелись во все стороны. Если двое других стариков, когда Мейпс их бил, только отворачивались, то Джеймсон зашатался и рухнул навзничь. Люди глядели на него, но никто и слова не проронил. Чуть погодя Джеймсон поднял голову и посмотрел на Кэнди — так побитый щенок смотрит на хозяйку. Но Кэнди не сжалилась над ним. Да и остальные тоже. Джеймсон с трудом поднялся на ноги и снова встал перед Мейпсом.
— Ну что? — говорит Мейпс.
Джеймсон покачал головой, а сам так понурившись и стоит.
— Мне нечего сказать, шериф.
И снова был сбит с ног.
Как и раньше, с трудом приподнялся и уставился в землю. Попытался встать на ноги, и тут все и на дворе, и на галерее — и кто сидел, и кто пристроился на корточках, и кто стоял — потянулись к Мейпсу, встали в очередь. И первой в очереди стояла Кэнди.
— Я за ним, Мейпс, — говорит.
Мейпсовы жесткие тускло-серые глаза буравили ее, побагровевшие брылы затряслись еще сильней. А ведь он сейчас ее ударит, думаю, и двинулся было, чтобы встать между ними, но тут Мейпс, мотнув головой, пошел прочь, и я понял: он дал мне понять, чтобы я вышел за ним на дорогу. Мейпс прислонился к машине, ноги скрестил, руки сложил на груди. Здоровенный мужик — как минимум килограмм сто двадцать потянет — и, видно, очень устал. Прислонился к машине и я, и мы оба стали глядеть во двор. А народ там снова зашевелился. Кэнди обихаживала дядю Билли, вытирала ему рот платком. И тут я впервые заметил, что Мату — единственный из всех — не встал в очередь. Курил и глядел на нас.
— Вы же знаете, что это он убил Бо? — говорит Мейпс. Он поуспокоился.
— Кто? — спрашиваю.
— Вы знаете, кого я имею в виду.
Конечно, я знал, как не знать. Мы оба глядели на него, а он сидел на корточках у стены.
— Тогда почему вы его не арестуете? — спрашиваю.
— И какое я ему предъявлю обвинение?
— В убийстве Бо, какое же еще?
— А чем я это докажу? — говорит Мейпс. — Тем, что Бо убили в его дворе? Тоже мне улика. На суде Клинтон камня на камне от такой улики не оставит. И ей это тоже хорошо известно.
— Ну а ружье?
— Вы, видно, не очень-то приглядывались к этим старикам? — спрашивает Мейпс. — У них у всех, от первого до последнего, дробовики двенадцатого калибра. И скорее всего, гильзы тоже одного номера. Нет, так его не арестуешь. Хотя убил Бо он, а не кто другой. Кроме него, никого на это не хватило бы.
Мейпс вынул початую трубочку леденцов из кармана и протянул мне. Я покачал головой. Он сунул один леденец в рот, а трубочку — обратно в карман. Глядел на Мату, примостившегося на корточках у стены, и посасывал леденец.
— Чарли видели? — спрашивает.
— Нет, не видел.
— Должно быть, спрятался где-то в поле, — говорит Мейпс. — Его-то мы всегда успеем найти, но не он застрелил Бо. Бо застрелил Мату. А вот народ на эту гулянку, конечно, созвала она. Мату к этому непричастен. Он бы никогда на такое не пошел. Старик крепкий орешек, да вы его не хуже меня знаете. Если бы она не вмешалась, он, по всей вероятности, уже давно бы сдался правосудию, но ему не хочется идти против Кэнди. Бог знает, где только она выкопала это старичье. Поглядите на них. На их ружья поглядите.
Мы оба поглядели на стариков, на их дробовики. Кэнди кончила обихаживать дядю Билли и Гейбла и вернулась к крыльцу, встала около тети Гло и детей. Они с Гло разговаривали и поглядывали через дорогу на нас.
— Послушайте, а почему бы вам с ней не поговорить? — спрашивает Мейпс. — Мне здесь заваруха ни к чему. Это кодло, там, в Батон-Руже, уже загодя надирается — в порядке подготовки к завтрашнему матчу. Кой-кому из них неймется порезвиться нынче с удавкой.
— Я пытался. Она и слушать ничего не хочет, — говорю.
— А скрутить ее и зашвырнуть на заднее сиденье вы не пытались?
— Нет, Мейпс, не пытался, — говорю. — Закон запрещает похищать людей. Особенно если они у себя дома.
— И укрывать убийцу закон тоже запрещает, — говорит Мейпс. — О таком законе вы часом не слыхали?
Я ничего не ответил. Глядел, как Кэнди разговаривает с тетей Гло.
— Нечего сказать, славная из вас выйдет парочка, — говорит Мейпс.
— Не переходите на личности, — оборвал я его.
— А когда свадебка? — осклабился Мейпс.
— Не переходите на личности, Мейпс, договорились?
Он поглядел на меня и тяжко вздохнул. Видно, думал: что ж ты за мужик. И снова стал глядеть на Кэнди.
— Не знаю, жил или не жил Бо в прошлом, но кто точно живет в прошлом, так это она, — говорит Мейпс. — Она забрала себе в голову, что может вести себя так же, как ее папаша и вся их семейка полвека назад. Но те времена миновали. Ей не вызволить его из этой передряги.
— У вас, видно, на него зуб?
Мейпс хмыкнул.
— Попали пальцем в небо. Меня восхищает этот негр, лучше его я, пожалуй, редко кого встречал — как среди черных, так и среди белых. Но он убил человека — и из этой передряги ей его не вызволить. Будь у нее голова на плечах, она давным-давно отвезла бы его в тюрьму. Потому что, даже если не нагрянет Фикс, где гарантия, что не нагрянут другие? И они приедут не разговоры разговаривать. Но я так думаю, она этого не понимает.
И сверлит меня глазами — ожидает, что я скажу. А мне сказать нечего. Тут он перевел взгляд на дорогу и говорит:
— Ну что ж, вот и Герман подоспел.
По дороге медленно катил фургон. Миновал нас, остановился впереди Мейпсовой машины; следователь с помощником вышли не сразу — посидели в машине, поглядели на людей. А люди во дворе и на галерее в свою очередь поглядели на фургон.
Следователь вышел и, прежде чем пойти к Мейпсу, снова поглядел на народ. Он был низенький, гладковыбритый, очки в стальной оправе. Сильно за шестьдесят, если не все семьдесят. В полосатом полотняном пиджачке, соломенной шляпе, белой рубашке, при галстуке-бабочке горошком. Начищенные черные туфли запорошены пылью.
— Привет, Герман, — говорит Мейпс.
Но Герман не отозвался. Только поднял на Мейпса глаза — мне было видно, как его голубые глаза сквозь толстые линзы очков вопрошают Мейпса: объясни, мол, что тут творится. Мейпс перекатил леденец языком, кивнул помощнику Германа. И тот вслед за начальником поплелся к нам. Помощник — его звали Джордж — был куда моложе и крупнее следователя. Такой плешивый блондинистый парень.
— Привет, Джордж, — говорит Мейпс.
— Привет, Мейпс, — говорит Джордж.
Джордж посмотрел на Мейпса точно так же, как смотрел на него Герман. Они хотели, чтобы Мейпс им что-то сказал, думали: Мейпс обязан объяснить им, что здесь творится. А Мейпс отмалчивался. Глядел во двор, а оттуда все глядели на нас. Перекатил леденец языком и только тогда повернулся к Герману. А старикан Герман все не спускал с него глаз.
— Не пора ли тебе заняться делом, как по-твоему? — говорит ему Мейпс.
Герман подождал секунд десять, потом говорит:
— Правда твоя, Мейпс. — Еще секунд десять посмотрел на Мейпса, а потом и говорит Джорджу: — Неси сюда носилки и одеяло. — И пока Джордж доставал из фургона носилки и одеяло, Герман долго смотрел на Мейпса и только потом уж прошел во двор. А чуть погодя и мы с Мейпсом вернулись во двор.
— Сколько, по-твоему, часов прошло с тех пор, как его убили? — спрашивает у Германа Мейпс.
Герман, опустившись на одно колено, осматривал Бо. — Я так думаю, часа два, а то и три, — говорит Герман.
— Скорее, три, — говорит Мейпс. — Выходит, приблизительно в полдень, так?
— Я так думаю, в полдень, — говорит Герман.
— Я здесь пробыл полчаса, — говорит Мейпс. — Приехал примерно в полтретьего. Значит, они, вернее, она опередила меня на два с половиной часа.
— Что-что? — переспрашивает Герман.
— Сам с собою разговариваю, — говорит Мейпс.
Тут у Германа лопнуло терпение, и он на редкость проворно для своего возраста вскочил на ноги. Он едва доставал Мейпсу до груди. Мейпс был чуть не вдвое выше.
— Что за чертовщина, Мейпс, что тут происходит? — говорит Герман и приступается к Мейпсову животу. — Ты разговариваешь сам с собой, во дворе толкутся негры с дробовиками, а в траве лежит труп белого человека! Какого черта, я требую, чтобы ты мне объяснил, что здесь творится!
— Вам с Джорджем лучше увезти его в Байонну, — невозмутимо говорит Мейпс.
Джордж стоит, носилки с одеялом наготове держит. А Герман все таращится на Мейпса, и глаза его за толстыми линзами огромные, что твои перепелиные яйца. И грудью чуть не упирается в Мейпсов живот, так что между ними и руки не просунешь.
— Я знаю не больше твоего, — говорит Мейпс и поверх головы Германа глядит на труп.
— А не пора ли тебе перестать волынить и узнать побольше моего? — говорит Герман, а сам не спускает глаз с Мейпса.
— У тебя есть свое дело, вот ты им и занимайся, а я займусь своим, — говорит Мейпс.
— Понял, — кивнул ему следователь и повернулся к помощнику. — Джордж, приступай.
Джордж расстелил на траве одеяло, они с Гриффином взяли Бо за руки, за ноги и положили на одеяло. Потом Джордж обернул Бо одеялом, и они с Гриффином переложили Бо на носилки и понесли к фургону. Люди — и на дворе, и на галерее — следили за ними и помалкивали.
— А не пора ли тебе, Мейпс, перестать волынить? — еще раз спрашивает его Герман. — И дело не только в Фиксе, но и в дружках Бо.
Когда Герман заговорил о дружках Бо, его голубые глаза за толстыми линзами очков еще увеличились. И не так то, что он сказал, как его глаза заставляли к нему прислушаться.
— А ты поменьше болтай, — говорит Мейпс и перекатил леденец.
Следователь покачал головой.
— Как можно, Мейпс, — говорит, — от меня ни одна живая душа ничего не узнает. Я им так прямо и скажу: мол, Бо простыл — оно и немудрено в такую-то жарищу, — вот я и закутал его в одеяло.
— Я не о том, — говорит Мейпс.
— Ты о дробовиках?
— Вот-вот.
— Напрасно беспокоишься, — говорит следователь. — Мне все равно никто не поверит. Вот ты — ты бы мне поверил?
Мейпс не ответил. Следователь окинул взглядом двор и снова перевел глаза на Мейпса. Но он понимал, что Мейпсу нечего ему сказать, и, потерянно глянув на меня, пошел со двора. Джордж уже сидел в фургоне, ждал его. Когда фургон отъехал, Мейпс снял шляпу, вытер ее изнутри. Потом вытер лицо, руки, а сам тем временем все поглядывал на крыльцо.
— Ладно, — говорит и снова надел шляпу. — Те, кто здесь не живет, ступайте восвояси. А остальные ступайте назад, на галерею. Кому сказано — пошевеливайтесь!
Но никто не тронулся с места.
— Что с вами приключилось? — спрашивает Мейпс. — Вы что, еще и оглохли вдобавок? Сказано вам — пошевеливайтесь.
— Я убил его, — говорит дядя Билли.
Дядя Билли все еще стоял у огородного плетня, там, где Гриффин поставил его полчаса назад. От затрещин Мейпса губы у него распухли, и он так же гордился своим распухшим ртом, как тот юнец в крейновском "Алом знаке доблести" своей раной.
Мейпс на целую секунду задержал на нем взгляд, потом направился к нему. Все ожидали, что Мейпс снова влепит ему затрещину. Но вопреки ожиданиям Мейпс выхватил у дяди Билли ружье, вытащил из него гильзу и поднес к носу. Потом вложил гильзу обратно и сунул ружье дяде Билли — тот уже руки наготове держал.
— Кто тебе велел выстрелить из этого ружья, дядя Билли? — спрашивает Мейпс.
— Никто не велел, — говорит дядя Билли.
— Это тебе Кэнди велела, верно я говорю? — спрашивает Мейпс.
— Нет, — говорит дядя Билли.
— Ты еще ходишь в церковь, дядя Билли? — спрашивает Мейпс.
— Я староста баптистской церкви в Литл-Шадраке, — говорит дядя Билли.
— А что, если я возьму Библию, дядя Билли, ты по-прежнему будешь говорить, что ты убил Бо?
Дядя Билли провел языком по нижней губе, потупился — видно, задумался всерьез. Мейпс ждал. Все ждали. Мейпс устал ждать.
— Так как? — сказал он.
Дядя Билли поднял голову, поглядел Мейпсу в глаза, кивнул.
— Ты ведь не стрелял в Бо, верно, дядя Билли? — снова спрашивает Мейпс.
— Стрелял, сэр шериф.
— Тебя ведь Кэнди на все это подбила, верно? — спрашивает старика Мейпс. — Не бойся, я тебя ей в обиду не дам. Обещаю.
— Нет, сэр, я все сам, — говорит дядя Билли, а голова у него не переставая трясется.
— А когда ты сюда пришел, Кэнди уже была тут? — спрашивает Мейпс, меняя тактику на ходу.
— Так в точности не знаю, — говорит дядя Билли.
— Что значит — в точности не знаешь? — спрашивает Мейпс. — Вон ее машина стоит. Стояла здесь ее машина?
— Так в точности не скажу, — говорит старик.
— Вернее, ты так в точности не видишь, дядя Билли, вот как будет вернее?
— Да нет, вижу я хорошо, шериф, очень даже хорошо.
Мейпс, теряя терпение, уставился на старика. Силы его были на пределе.
— Когда ты узнал об убийстве, дядя Билли? В час дня?
— Незачем мне было узнавать про убийство, шериф. Я же был здесь. Я его и убил.
— Ты что делал, когда Кэнди тебе позвонила? Дремал? Обедал? Что ты делал, дядя Билли?
— Незачем ей было мне звонить, — говорит дядя Билли. — Я же здесь был. Я его и убил.
От гнева мясистое лицо Мейпса и вовсе побагровело. Его подмывало опять влепить старику затрещину, а то и вовсе пришибить его.
— Старик, тебе случалось видеть, как умирают на электрическом стуле? — спрашивает Мейпс.
А дядя Билли все трясет головой.
— Нет, сэр, — говорит.
— Малоприятное зрелище, дядя Билли. Особенно когда ток пропускают сквозь тебя самого. Ты так хочешь умереть?
— Нет, сэр. Но, видно, так суждено.
— Даже если так и суждено, дядя Билли, ты не хочешь так умереть, — говорит ему Мейпс. — Когда через тебя пропускают ток, стул пляшет — я это не раз видел. Понимаешь, дядя Билли, у нас в Байонне своего стула нет. Нам за ним приходится ездить в Анголу. Так что мы не привинчиваем стул к полу — для одной казни стоит ли труда? Так вот, когда через тебя пропускают ток, стул ходит ходуном, стул пляшет — я это не раз видел. Малоприятное зрелище. Ты так хочешь умереть?
— Нет, сэр.
— А если я тебя сейчас заберу и тебя осудят, что, по-твоему, тебя ждет? Или ты надеешься, что слишком стар и тебя не посадят на электрический стул?
— Нет, сэр.
— Так как?
Старик провел языком по распухшей нижней губе и снова уткнул глаза в землю. Мне показалось, Мейпс его дожал. Все — и на галерее, и во дворе — смотрели на дядю Билли, ждали, что он ответит.
— Некогда мне с тобой целый день возиться, — говорит Мейпс.
Старик поднял глаза на Мейпса, и голова у него опять затряслась.
— Я его убил, — говорит.
— За что? — спрашивает Мейпс.
— Не понял, сэр?
— За что ты убил Бо?
— За то, что они моего сынка погубили, — говорит старик и смотрит Мейпсу прямо в глаза, и голова у него трясется еще сильней. А распухшая нижняя губа дергается. — Забили его. Били, пока он не тронулся, и нам пришлось отдать его в Джэксон. Он не только меня — маму свою и то узнавать перестал. Мы ему возим конфеты, возим пироги, а он их трескает, как кабан кукурузу. Других сумасшедших нипочем не угостит. Нипочем никого не угостит — ни меня, ни маму, ни других тамошних сумасшедших. Зароется в пирог, как кабан в кукурузу, и давай трескать. Мама ему отрежет ломтик, положит в руку, а он выронит его на стол и знай трескает, как кабан кукурузу. Не пристало человеку таким быть. У мамы всякий раз, как увидит его, сердце кровью обливается.
— Кто бил твоего сына, дядя Билли? — спрашивает старика Мейпс.
— Люди говорят, Фикс с дружками.
— Но точно ты не знаешь?
— Люди так говорят, а мне откуда знать. Меня там не было.
— И когда же это случилось, дядя Билли?
— Давно уж, как он с войны вернулся.
— С какой войны?
— С Гитлером и с япошками.
— И ты с тех самых пор таишь зло на Фикса, дядя Билли?
— Я зла не таю. Библия не велит таить зло.
— И убивать Библия тоже не велит.
— Да, сэр. Правда ваша.
— Так как же?
— Порой, шериф, приходится идти против Библии, — говорит Мейпсу дядя Билли, а сам безостановочно трясет головой.
— Не ты его убил, — говорит Мейпс. — И ты, по-моему, знать не знаешь, кто убил Бо. Ты просто пешка. Пешка в их игре. Тебя тут не было, и тебе не сказали, кто его убил и как убил, верно я говорю?
— Нет, сэр, зачем им было мне говорить? Я его и убил.
Мейпс обвел глазами двор и снова перевел взгляд на старика.
— Прицелься в бобовый стебель вон там, на огороде, — говорит Мейпс.
— В который? — спрашивает старик.
— В который увидишь, — говорит Мейпс.
— Я все их вижу, — говорит старик, а голова у него трясется не переставая.
— Целься, — приказывает Мейпс, теряя последние остатки терпения.
Дядя Билли приложил ружье к плечу и прицелился в ближайший стебель метрах в трех от него. Он не сразу сообразил, какой глаз надо закрыть. А когда наконец сообразил, ружье у него так и прыгало — ни дать ни взять волшебная лоза, когда она почует воду.
— Хватит с тебя, — говорит Мейпс.
Старик скинул ружье. Его даже пот прошиб — так он уморился.
— Да, дядя Билли, Бо за тобой не угнаться — ему ведь надо было и трактор остановить, и ружье достать, и во двор войти, — говорит Мейпс. — И ты все равно будешь настаивать, что это ты его убил?
— А я стал прицеливаться, только когда он уже канаву перешагнул, — говорит дядя Билли.
— У того, кто убил Бо, дядя Билли, не тряслись руки, — говорит Мейпс. — И действовал он уверенно, уверенно и спокойно. Знал, что делает. Время, расстояние — все выбрано безошибочно. Бо убил охотник, дядя Билли. Хороший стрелок. Не тебе чета. Ты сроду ни за чем не охотился, кроме как за местом получше в баптистской церкви. Поближе к батарее — зимой, поближе к окну — летом. Сгинь с моих глаз, дядя Билли. Уйди куда подальше.
— Слушаю, сэр, — говорит старик. — А все равно его убил я.
— Сказано тебе, уйди, или не сказано? — говорит Мейпс.
— Ухожу, сэр, ухожу, — говорит дядя Билли, пятясь, а сам все трясет головой. — А только убил его я.
— Хорош бы я был, если б привез в Байонну эту развалину, — говорит сам с собой Мейпс. — Да меня бы так обсмеяли, что я потом носу не смел бы сюда показать, и это бы, считай, еще легко отделался: ведь вполне мог бы и в психушку на веки вечные угодить. — Потом не спеша повернул голову и поглядел на Мату, примостившегося у стены. — Мату, поди сюда, — говорит.
Джозеф Сиберри, он же Руф
Когда Мейпс подозвал Мату, Кэнди двинулась к Мейпсу и загородила от него крыльцо. А за ней и все мы потянулись к Мейпсу. Мейпс поглядел, как мы подступаем к нему, но и глазом не моргнул, а опять поглядел на Мату. Мату уже встал и с ружьем в руках двигался к крыльцу.
— Дальше не ходи, — говорит ему Кэнди.
— Надо же мне подойти к человеку, — говорит Мату.
— Погоди, — говорит Кэнди. — Я не шучу. — И так глянула на него, что он враз остановился, а тогда уж повернулась к Мейпсу. — Вы, Мейпс, не очень-то, — говорит, — распускайте руки. Это вам не Джеймсон. И не дядя Билли, и не Гейбл. Так что руки не распускайте.
— Да, это Мату, — говорит Мейпс. — Но я действую именем закона. А у него во дворе лежит труп. И это дает мне право допросить и самого Мату.
— Допрашивать допрашивайте, а руки не распускайте, — предупреждает его Кэнди. — Если хоть одну каплю его крови… — только и сказала. Ей и не нужно было договаривать.
— Я так думаю, он понимает, что вы не шутите. — Это Клэту с дальнего конца галерейки голос подал.
— И я так думаю, — говорит Кэнди, а сама не сводит глаз с Мейпса.
Потом протянула руку — помочь Мату с крыльца сойти. А на крыльце две из четырех ступенек провалились — они уж лет двадцать, если не двадцать пять, как провалились, и Мату завсегда с крыльца сходил без чужой помощи. Но раз уж Кэнди протянула ему руку, он на нее оперся, чтоб уважить ее.
А как сошел с крыльца, поклонился Кэнди и потом только повернулся к Мейпсу. Мату давно за восемьдесят перевалило, волосы у него сплошь белые, но он еще крепкий — что голова, что руки не трясутся. Мату встал против Мейпса — прямой, рослый, ружье к боку прижал.
— Как здоровье, Мату? — спрашивает Мейпс.
Про Мейпса много чего плохого можно сказать. Нрав у него крутой, рука тяжелая. Но настоящего мужика Мейпс уважал. А Мату был настоящий мужик, и его Мейпс уважал. А всех нас ни во что не ставил.
— Спасибо, шериф, хорошо, — говорит Мату. — А ваше как?
— Устал я, — говорит Мейпс. — Вот было надеялся порыбалить сегодня.
— Сказывают, нынче клев хороший, — говорит Мату. Голову вскинул, глядит Мейпсу в глаза. Он пониже Мейпса будет. Прямой, ну чисто жердь, да нет, не жердь, а столб. Старый столб, который в землю осел — хоть и не толстый, а крепкий: не клонится, не качается.
Мейпс глядел на Мату. Мейпс Мату любил. Они вместе охотились. На лесных кошек, на аллигаторов, на оленей. Рыбалили вместе. Мейпсу и выпивать у Мату в доме случалось. Он любил Мату. И теперь, когда с Мату приключилась беда и Мейпсу надо было Мату арестовать, он понимал, что не Мату в том повинен. Но Мейпс и то понимал, что Мату ни перед кем не пасовал. Видать, за то Мейпс его и любил. Мату, по его, был мужик что надо. Не чета всем нам.
— Вели им идти домой, Мату, — говорит Мейпс.
— Это, шериф, им решать.
— Если ты скажешь, чтоб они шли домой, они пойдут, — говорит Мейпс. — Скажи им, чтоб шли домой, не то быть беде.
— Мату, ты можешь не отвечать ни на какие вопросы, — говорит Кэнди. Как Мату с крыльца сошел, она от него ни на шаг не отходила. — Мейпс вправе забрать тебя в тюрьму, но заставить тебя говорить он не вправе, пока не приедет Клинтон.
— А я не прочь поговорить, — говорит Мату.
— Скажи им, Мату, чтоб сказали, кто убил, — говорит Мейпс. А на Кэнди и не глядит, глядит на одного Мату. И уважительно говорит с ним, как и допрежь говорил.
— Я его убил, шериф, — говорит Мату.
Мейпс кивнул.
— Я знаю, что ты его убил, — говорит. — Из всех из них у тебя одного хватило бы духу его убить. Но мне надо, чтобы хоть один из них это подтвердил. Пусть хоть один скажет, что его позвали сюда после того, как убили Бо.
— Не могу я их заставлять говорить, чего они не хотят говорить, — говорит Мату.
— Ты что, хочешь, чтобы кто-нибудь из них пострадал?
— Нет, шериф.
— Ты же знаешь, что теперь этого не миновать, знаешь, Мату? — спрашивает Мейпс. Это Мейпс на Фикса намекает, хоть Фиксова имени и не называет. И не так слова его про Фикса говорят, как глаза его.
— Мужику положено поступать, как он считает верным, — говорит Мату. — В том и отличие его от мальчишки.
— Верным, неверным — разве в этом дело, Мату? — говорит шериф. — Дело вовсе не в том. А в том, что многие пострадают. Ты ведь этого не хочешь?
— Нет, не хочу. Но им решать.
— Решать тебе, Мату, — говорит Мейпс. — Только тебе. И я тебя прошу, как мужчина мужчину, скажи им, чтобы шли по домам.
Мату обежал нас глазами. Уж не знаю, что он хотел сказать, только сказать ему ничего не дали.
— Не выйдет, шериф. — Это с дальнего конца галерейки Клэту подал голос. — На этот раз не выйдет.
Мейпс повернулся к нему.
— Кто это сказал? — говорит. Он слыхал, откуда крикнули, и знал, кто крикнул, но думал, что Клэту не сознается. — Кто это сказал, спрашиваю? — говорит.
— Я, — говорит Клэту.
Мейпс прикинулся, что никак не отыщет Клэту: вон, мол, народищу-то сколько. И хоть Клэту один в дальнем конце галерейки сидел, Мейпс все равно прикидывался, что не может его отыскать. А как отыскал, поглядел на Клэту — и долго так, зло глядел. Думал, если поглядеть на Клэту подольше, тот глаза и опустит. Только Клэту глаз не опустил. Сидел, ружье на коленях держал и глядел на Мейпса глаза в глаза.
— Какая муха тебя укусила, Клэту? — говорит Мейпс. — От кого, от кого, а от тебя не ожидал, что ты на неприятности будешь нарываться.
— В том-то самая неприятность для меня и есть, — говорит Клэту.
— В чем же это? — говорит Мейпс. И зло так глядит на Клэту, как только здешние белые умеют глядеть.
— В том, что я неприятностей не имел оттого, что закон блюл.
— И что из того? — говорит Мейпс.
— А то, что стар я стал, — говорит Клэту.
— И что из того?
— А то, что пора мне, покуда я еще не помер, перестать закон блюсть, — говорит Клэту.
— Тебе, видно, не терпится в тюрьму попасть? — говорит Мейпс.
А Клэту ему:
— Надо думать, я, когда Бо убивал, знал, куда попаду.
— Аминь. — Это Бьюла с крыльца голос подала.
Мейпс глянул на Клэту, как здешние белые на негра глядят, чтобы укорот ему дать.
— А не стар ли ты для этого? — спрашивает Мейпс. — Что-то ты больно развоевался.
— Мне всегда хотелось воевать, — говорит Клэту. — У меня аж все нутро перегорело оттого, что я воевать не давал себе воли.
— Вот как, — говорит Мейпс и поглядел на Клэту, зло поглядел.
— Вот так, — говорит Клэту. — И зря вы будете говорить с Мату. Ведь не он убил. А я.
— Вот как, — говорит Мейпс.
— Снова-здорово, — говорит Чумазый. Он на корточках у дорожки пристроился, во рту коротенькую замусленную самокрутку держал. Какую он самокрутку курил — ту же, что минуту назад, другую, — нипочем не узнать. Никто не видал, чтобы Чумазый новую самокрутку закурил. Когда ни посмотришь, у него в зубах до половины искуренная самокрутка — замусленная, грязная и до половины искуренная. У него небось карманы полным-полны таких самокруток — грязных и наполовину искуренных. — Поимейте стыд, дайте человеку…
— А тебе бы лучше помолчать, — говорит Мейпс. — И ты, и вся твоя семейка одну работу только и знаете — от работы отлынивать.
— Так было до нынешнего дня, — говорит Чумазый. А сам глядит на Мейпса и голову набок держит, чтоб дым глаза не ел. — Но нынче я…
— Ты что, прерывать меня себе позволяешь? — спрашивает Мейпс.
— Он себе еще и не то позволяет, — подал голос Джонни Пол — он по другую сторону от Мейпса стоял.
Мейпс враз к нему повернулся. Но повернул одну голову. Этакую тушу-то быстро не повернешь.
— И ты туда же, Джонни Пол, — говорит.
Джонни Пол кивнул:
— И я.
Мейпс все еще на Джонни Пола глядел, но тут Жакоб Агийяр заговорил.
— Да нет же, Чумазый, нет, Джонни Пол. И ты, Клэту. Это я убил, — говорит. — Я не забыл, как они мою сестру жизни решили.
— Теперь я все вижу, — говорит Мейпс, а сам уже на Жакоба глядит.
— Чего вы видите? — говорит Джонни Пол.
Мейпс все еще на Жакоба глядел, а тут Дин Лежен заговорил. Дин и его брат Дон стояли бок о бок, посередке между дорожкой и огородом.
— Я убил его, — говорит Дин и стукнул себя в грудь. — Я, я, а не они и не мой брат. Я сам. За то, что они племяшку мою Мишель Жижи жизни решили.
— Теперь я все вижу, — говорит Мейпс и поглядел на Дина и на Дона разом. — Все.
А Джонни Пол ему, и громко так:
— Ничего вы не видите, — а сам на Мейпса и не глядит, глядит на трактор и на прицепы с тростником на дороге. Но видеть он их не видит, это я понимал. А вот чего он думает, я не понимал, покуда не увидел, что он смотрит на нашу деревню, где допрежь папа с мамой его жили. Только от ихнего бывшего дома не осталось и следа. Да и от других домов тоже. Место, где ихний дом стоял, сплошь бурьяном заросло. — Глядите-ка, — говорит Джонни Пол. — Сюда глядите. Вы чего-нибудь видите? Чего вы видите?
— Я ничего, кроме бурьяна, не вижу, Джонни Пол, — Мейпс говорит. — Если ты об этом речь ведешь.
— Да, сэр, — говорит Джонни Пол. И на Мейпса и не глядит, все глядит на деревню. — Да, сэр, я так и думал, что вы только его и увидите. Но вот чего все остальные не видят? Чего, Руф, никто из вас не видит? — спрашивает Джонни Пол. А на меня и не глядит, все глядит на деревню. — Чего никто из вас не видит, Клэту? Чего никто из вас не видит, Гло? Чего никто не видит, Коринна, Кочет, Бьюла? Чего никто из вас не видит, ни один человек?
— Нет у меня времени слушать, чего вы там не видите и почему не видите, — говорит Мейпс. — Мне нужно…
Тут Джонни Пол пошел на Мейпса. Ростом он не ниже Мейпса будет, только тощий-претощий. И кожа у него совсем темная, цветом в жевательный табак. А глаза у него серые, такие же серые, как Мейпсовы, но той злости в них нет. И уставился на Мейпса в упор.
— У вас, шериф, только время и есть, больше, — говорит, — у вас ничего нету.
— Что такое? — говорит Мейпс.
— Я его убил, — говорит Джонни Пол.
— Я вижу, у меня другого выбора нет, — говорит Мейпс, — либо мне придется торчать здесь и слушать твои россказни о том, чего ты не видишь и чего никто не видит, либо везти тебя в тюрьму. Вижу, другого выбора у меня нет.
— Да, сэр, — говорит Джонни Пол. — А только вы все равно ничего не видите. Заросли-то вы, понятно, видите, но вы не видите, чего мы не видим.
— А ты видишь, Джонни Пол? — спрашивает Мейпс.
— Нет, и я не вижу, — говорит Джонни Пол. — Вот почему я его и убил.
— Теперь я все вижу.
— Нет, не видите, — говорит Джонни Пол. — И видеть не можете. Надо всегда жить здесь, чтобы всего этого не видеть. А не бывать здесь наездами. Чтобы всего этого не видеть, надо семьдесят семь лет здесь прожить. Нет, шериф, ничего вы не видите. И даже не знаете, чего я не вижу.
— А ты знаешь, чего ты не видишь? — спрашивает Мейпс.
— Спросите Мату, — говорит Джонни Пол.
— Я тебя спрашиваю, — говорит Мейпс. — Мату я позже займусь.
— Спросите Гло, — говорит Джонни Пол. — Спросите Такера. Гейбла. Клэту. Янки спросите. Спросите Джеймсона. Хоть кого спросите, хоть всех до одного спросите, чего они давным-давно не видят.
— Ладно, — говорит Мейпс. — Рассказывай. Только поторапливайся. Я хочу еще порыбалить сегодня.
— А все одно вы ничего не видите, — говорит Джонни Пол. — Все одно. И торопиться мне некуда. Да и не к чему: ну посадите вы меня, а больше-то вам со мной ничего и не сделать. И как вы меня ни бейте, шериф, жесточе вам меня уже не обидеть.
— Теперь я все вижу, — говорит шериф.
Тут Джонни Пол как топнет. А сам до того тощий — как только ногу не переломил, топаючи.
— Неужто? — говорит. — Неужто? Неужто вы слышите колокольный звон?
— Ты часом не спятил? — спрашивает его Мейпс. — Да мне, похоже, давно надо было тебя об этом спросить. И не только тебя, — говорит. Оглядел нас всех и снова обернулся к Джонни Полу. — Колокольный звон, говоришь, Джонни Пол?
— Я тоже его слышу, — Бьюла с крыльца голос подала. — Джонни Пол не выдумывает.
— Тогда переведи его тарабарщину на английский, — Мейпс говорит.
— Пусть он вам сам скажет, — говорит Бьюла. — Он не хуже меня говорить умеет.
— Ты что, тоже в тюрьму захотела сесть? — спрашивает Мейпс.
— Угадали, — говорит Бьюла. — И сяду, нашли чем пугать. Мне уже доводилось за решеткой сидеть. Так что ты говорил, Джонни Пол?
— Помните, как мы жили допрежь? — говорит Джонни Пол. Но не Бьюле отвечает, и говорит не с ней, и не с Мейпсом говорит. Думает себе вслух, как, скажем, человек сам с собой разговаривает, когда пашет один-одинешенек в поле или в болотах охотится, и при нем собаки и той нет, только ружье. — Помните, — говорит, — помните, когда бурьяна здесь не было и в помине? Помните, как они все на галерейке сидели — мама, папа, тетя Клара, тетя Сара, дядя Месяц, тетя Пряжа, тетя Нитка? Помните? И у всех во дворах цветы росли. Но таких ночных красавиц, как у Жака Туссена, ни у кого не было. И каждый день, аккурат в четыре, они раскрывались — красивые, глаз не оторвешь. Помните? — Он примолк, вспомнил давние времена.
И все мы тоже давние времена вспомнили. Сколько дней я просидел на Жаковой галерейке, любовался цветком этим, и не счесть. А застать, как ночная красавица открывается, так и не застал. Пока сидишь на галерейке, ночная красавица и раскроется, а вот увидать, как она раскрывается, ни разу не довелось. Все равно как часовая стрелка. Двигаться она двигается, а как двигается, нипочем не увидишь.
— Потому я его и убил, чтобы цветы эти защитить, — говорит Джонни Пол. — Только цветов-то этих больше нет. А почему нет? Потому что Жака больше нет. Он там, под деревьями, вместе со всеми нашими лежит. С мамой, с папой, с тетей Ниткой, с тетей Пряжей, с тетей Кларой, с дядей Месяцем, с дядей Джерри — со всеми нашими рядом лежит. Но вы-то все помните, верно? — повернулся он к Гло. Гло сидела на крыльце, так и не сняв фартука, внучата облепили ее. Глаза опустила, давние времена вспоминала. Она кивнула ему. — Ты помнишь, Гло, пальмы в Ниткином дворе? Пальмы во всех дворах росли, но такие пышные да сочные только у одной Нитки росли, больше ни у кого. Помнишь, Гло? — Гло опять кивнула, но на Джонни Пола не глядела. Ей виделись пальмы. И мне виделись пальмы. Когда я мальчишкой был, мы под их завсегда девчонок утаскивали. Летом прохладней места не сыскать. Льет дождь, льет ливень, а под их под листьями разлапыми никогда не намокнешь. — Помните, как, бывало, Джек и Лихач поутру на поле выезжали на мулах на своих, Алмазе и Иове? — спрашивает нас Джонни Пол. А сам на Гло и не глядит — мимо нее вдаль глядит. — Господи же ж ты боже мой! И не говорите, что не помните утра те ранние, когда солнце только-только из-за деревьев выходило! И не уверяйте, что не помните, как Джек и Лихач выезжали на поле! Джек на Алмазе, Лихач на Иове летели, земли едва касались, чтобы бороны ровно шли. Знай, мол, наших! А кто, вы мне скажите, лучше их умел борозду провести? Кто? Кто, я вас спрашиваю?
— Никто! — говорит Бьюла. — Уж точно, что никто. Лучше их никто не мог. Да уж эти двое были из мужиков мужики.
Джонни Пол кивнул, но не Бьюле. На Бьюлу он и не глядел. Он опять вдаль глядел, на поле за деревней.
— Тридцать-сорок наших выходили на поле, с мотыгами, с сохами, с мачете — кто с чем. Как на рассвете начнем, так до заката и не присядем — надсадная, постылая работа, а мы с ей управлялись. Жили одной семьей, последним делились, любили и почитали друг друга. А теперь поглядите, что вокруг деется! И где нынче все, кто здесь жил допрежь? Где розы? Где ночные красавицы? Где пальмы? Кто раньше в церкви пел да молился — где они нынче? А я вам скажу — где. Под деревьями под теми лежат — вон где. А где их дома стояли, теперь заросли стеной стоят, и того и гляди, ту землю тракторы запашут.
Тут Джонни Пол на деревню перестал глядеть. И снова на Мейпса стал глядеть. А все согласно кивали головами, что он ни скажи.
— Вам всего этого не увидать, шериф, потому что вы никогда этого не видали, — говорит Джонни Пол Мейпсу. — Вам не увидать ни Лихача с Иовом, ни Джека с Алмазом. Ни церковь, полную народу, и не услыхать, как те люди поют да молятся. Надо было о ту пору жить здесь, чтобы сейчас этого не увидать да не услыхать. А я здесь был, потому я ничего этого и не вижу сейчас и потому я и убил его. В отместку за тех, кто под деревьями лежит. В отместку за то, что трактор все ближе и ближе к кладбищу подступается; и я опасался, что, не убей я Бо, трактор, того гляди, въедет на кладбище и запашет могилы, чтобы самую память стереть, что мы здесь жили. Они теперь все делают, чтобы память стереть, что черные на земле этой хозяевали, с мулами да с сохами, хотят, чтобы думали, что землю эту спервоначала на тракторах подымали. И точно, вскорости сотрут самую память, что мы здесь жили, уж об этом они позаботятся, но, пока я еще жив, этому не бывать. Сколько мои мать с отцом поту пролили на этой вот земле! А сколько ихние мать с отцом поту здесь пролили; и не для того они здесь пот проливали, чтобы кладбище наше трактор разорил и чтобы исчезла самая память о том, что они здесь жили. Из них из всех один я остался. Вот, выходит, мне и заботиться, чтобы могилы эти не разорили, хотя бы покуда я жив еще. Но убил я его не только в отместку за своих родичей. Я убил его за всех, кто там, под деревьями, лежит, за всех до одного. За каждую ночную красавицу здешнюю. За каждую розу, каждую пальму, какие, бывалоче, здесь росли.
Джонни Пол отошел к плетню — видно, один побыть захотел. Все притихли. Мейпс и тот притих. Мату так и стоял перед Мейпсом, Кэнди поблизости от него держалась, а дружок ее, Лу, держался поблизости от нее.
Мейпс крякнул. Не громко. Спокойно. Он начинал смекать, в чем дело. И если он верно смекал, он знал, что ему лучше подождать. Он леденец и тот перестал катать, ждал. Но вот заговорил Такер. И Мейпс снова леденец стал катать.
Такер, он щуплый, и не черный, а темный. Это ж сколько я Такера не видал, дай бог памяти, года два, если не три. Последний раз на похоронах Эдны Зино, в Малом Сионе. Лет этак двадцать пять назад, а то и больше, и он и родня его жили здесь, но теперь почитай что все его родичи перемерли, и он перебрался в Жарро, километров за тринадцать отсюда, поближе к Байонне.
— Вы все помните моего брата Сайласа? — говорит Такер. — Я не с молодыми — со стариками говорю. Ты, Кэнди, его не помнишь. Тебя еще на свете не было, когда его порешили. Из черных он последний здесь в издольщиках держался. Последний с трактором тягаться пробовал.
Многие из нас стали глядеть на трактор, на два прицепа, груженные тростником. Но Мейпс не стал на них глядеть, он в землю глядел. Ему все надоело, и чем дальше, тем больше надоедало. Надоело слушать, надоело стоять на ногах, негры надоели. А чего со всем этим делать, он не знал. Он мог отвезти Мату в тюрьму, но чего делать с остальными, особливо с Кэнди? Вот он и глядел в землю, раскидывал умом. Он только один способ и знал — колотить негров почем зря, иначе он управляться с ними не умел: ну, поколотить он их поколотил, а дальше что? А когда и это не помогло, когда люди стали в хвост становиться: бей, мол, колоти, он не знал, что еще делать. И вот торчал пень пнем, эдакий краснорожий облом, и в землю глядел.
— Мы ему твердили: брось, — говорит Такер, — твердили: мы отступились, и ты отступись, все твердили одно. Втолковывали, почему ему не сдюжить. Нам спервоначала самая худая земля досталась, и, как мы ни надрывались, с теми, у кого земля лучше, сравняться не могли. Да что я говорю, старики и сами все знают. Когда у Маршаллов плантация совсем заплошала и они решили землю на участки разбить да издольщиков пустить, они лучшую землю кэдженам определили, а худшую, в низине, у самого болота, нам. Мы, черные, сто лет на этой земле работали, сто лет на Маршаллов горбатились, а как участки издольщикам определять, они лучшую землю кэдженам отдали, а кэджены здесь и всего-то без году неделя.
Он осекся. Поглядел на Кэнди. Кэнди стояла рядом с Мату, губы стиснула, аж потемнела вся, на нас не глядела, глядела на поле за деревней. Она знала, что Такер правду говорит, хоть сама — где ей, ее тогда еще на свете не было — того и не видала, но слыхать о том слыхала. Слыхала от Мату, да и не от него одного, так что она знала: Такер правду говорит.
— Я рассказываю все как было, — говорит Такер. — Как было. Настал день расплаты, и я все по правде скажу — и не побоюсь, хоть бы даже меня на всю остатнюю жизнь и запрятали в тюрьму.
Мейпс так крякнул, что враз стало понятно: и запросто запрячут.
— Валяйте крякайте сколько влезет, — говорит Такер Мейпсу. — Ну, посадите вы меня, а больше вам со мной ничего не сделать. Вы что, посадить меня хотите? — говорит он и идет на Мейпса, руки свои ему сует. — Я готов. Валяйте сажайте.
Мейпс только поглядел на него и опять перекатил леденец.
— Эх, был бы я шерифом, — встрял помощник. Он в сторонке стоял — видать, из себя выходил, но воли себе не давал. — Со мной бы вы так не поговорили.
— И что бы ты мне сделал, недомерок ты беззадый? — говорит ему Такер.
Все так и покатились. А у недомерка аж щеки заполыхали.
— Помолчи-ка, — говорит помощнику Мейпс.
А помощник ему:
— Не привык я, чтобы негры так нахально со мной говорили.
— Побудь здесь подольше — и не к тому привыкнешь, — Бьюла с крыльца голос подала.
— И сколько ж нам это еще терпеть? — спрашивает Мейпса помощник.
— Я тебя не держу, пойди погуляй, — говорит ему Мейпс. — Понадобишься — позову.
— Не хочу я гулять, — говорит помощник. — Если бы не вы, этот черномазый хрыч у меня еще час назад в тюрьму загремел. А первого, кто попробовал бы его вызволить, я бы пристрелил. — И на Кэнди поглядел.
Кэнди — она у крыльца стояла — так через весь двор его глазами и ожгла. И взгляд у нее злобный, твердый, по одному по взгляду сразу Маршаллова порода видна. Недомерок помощник поглядел-поглядел на Кэнди, но, когда понял, что Кэнди ему не переглядеть, отвернулся и опять на Такера стал глядеть. Хотел, чтобы Такер глаза опустил.
— Иди погуляй, — говорит Мейпс.
— Не хочу я гулять, — говорит помощник.
— Тогда помолчи. Дай им обиды свои высказать. А ты дальше рассказывай, — говорит Мейпс Такеру.
— Этот парень — он больше встревать не будет? — спрашивает Такер Мейпса.
— Не будет, — говорит Мейпс.
— Парень, не будешь больше встревать? — Такер уже сам помощника спрашивает.
Недомерок ничего не ответил. Только поглядел на Такера. А Такер не сробел и сам на него как глянет.
— Да вы знаете, как все вышло, — говорит Такер. А на Мейпса и не глядит, глядит на его недомерка помощника. Поглядел-поглядел, решил, что не стоит он того, чтобы на него глядеть, и обратно к нам повернулся. — Вы помните, как он детей загонял, жену загонял, с трактором тягаючись. Жену до того загонял, что она умом помешалась. Но и тут не остановился. И покуда его не поймали и не забили, он нипочем не хотел остановиться.
Такер замолчал, но на нас не глядел, глядел вдаль. Мы затихли. Ждали, что он еще скажет. И все вокруг затихло — и заросли, и поля, и болота, — все-все.
— Вы не знаете, как оно вышло: ведь вас при том не было, а я не мог никому о том рассказать, — говорит. И опять к нам повернулся. — И все эти годы оно во мне сидело, — говорит и в грудь себя бьет. — Жгло меня изнутри. И все во мне пережгло. И причиной тому страх. Он один. Страх все во мне пережег. Я и сам не пойму, почему я не помер.
И повернулся к Гло. Гло кивнула. Она знала, о чем он говорит, — ей ли не знать. Да и все мы знали.
— Как может человек машину осилить? — спрашивает. — Думаете, человеку не выдюжить? Так по-вашему? Так вы думаете? Ну а брат мой машину осилил. Он со своими двумя мулами первым до подъемного крана домчал. Брат мой надсаживался, и мулы не хуже его надсаживались. Знали: не осилят трактор — им конец. Все слыхали, как трактор за ними по пятам грохотал, и они не хуже других слыхали — и знали, что надо наддать, еще наддать, если не хотят, чтоб им конец пришел. И брат мой знал, и мулы знали. И они наддавали, наддавали и еще наддавали — все ради брата моего, оступались, падали, потом обливались, но все наддавали ради него, ради брата моего. Слюни у них вожжой текли, удила им рты раздирали, слюни с потом мешались, на землю падали, а они все наддавали и наддавали по грязи по непролазной. И осилили трактор. Да, да, осилили. Но не положено им было осилить. Позволительно ли негру на живых тварях осилить белого человека на машине?
И тогда они его забили. Похватали палки тростниковые и били, били, пока не забили. И я там был, а с места не тронулся. Тростник для Тони О'Линде грузил на пару с Джо Тейлором. И видел, как они наперегонки шли, видел, как брат мой Феликса Бутана обошел, хоть тот и на тракторе был. Я не вру, нынче я нипочем не стал бы врать. Я видел, как брат мой осилил Феликса Бутана, первым пришел. Но не положено ему было осилить Феликса Бутана, ему положено было отступиться. Мы знали, что ему положено отступиться. Да что говорить, я, брат его родной, и то знал, что ему положено отступиться. Давным-давно еще положено было отступиться, а он все не отступался, как положено негру, и за то его и забили. Били, били, пока не забили. А я за него не заступился, стоял как столб и глядел, как они моего брата били, пока до смерти не забили.
И опять замолчал, глядел на нас. Но мы на него не стали глядеть. За кем из нас такого не водилось: при ком из нас не надругались над братом ли, сестрой ли, мамой ли, папой, а мы за них не заступились?
Такер, покуда говорил, все у крыльца стоял. А тут отошел к концу галерейки и туда, где кладбище, стал глядеть. А кладбище отсюда из-за зарослей и вовсе не видать. Но мы знали, куда он глядит, знали, с кем он говорит. Кто из нас не стоял в одном из здешних дворов и не кричал так, чтоб на кладбище могли услыхать.
— Прости меня! — кричит. Руки над головой поднял — в одной дробовик держит, другую в кулак сжал. — Прости меня, тварь последнюю! — кричит. — Слышишь меня, Сайлас? Сайлас, скажи, ты меня слышишь?
Бьюла встала, подошла к нему, увела к крыльцу. Они сели, и она обняла его за плечи, обхватила, как дитя малое.
— А что тогда закон делал? — говорит Такер и на Мейпса глядит. А по лицу его слезы текут. — Что закон делал? Закон сказал, что это Сайлас наехал на трактор, что он первый в драку полез. Вон как закон к негру оборачивается. Вон как. — И сам все на Мейпса глядит. Хочет, чтобы Мейпс ему в лицо поглядел. Но Мейпс глядеть на него не стал. Знай себе леденец сосал. — Да разве может телега, мулами, живыми тварями заложенная, наехать на трактор, на машину? Не может. Никак не может. А они говорят, наехала. А я со страху, — говорит Такер и на нас глядит, — со страху, хоть и видел, как было дело, — я со страху с белыми пошел против брата. Убоялся, боли убоялся, и бил брата тростниковой палкой вровень с белыми.
И глядит на всех на нас — на одного, другого, третьего… Хотел, чтоб мы осудили его. Да разве нам его судить? Да разве мог хоть один из нас его судить? С кем хоть раз да не было такого?
Мы как затихли, так и не шелохнулись. И Мейпс затих. И его недомерок помощник. В воздухе ни ветерка, так что деревья и кусты и те затихли.
И тогда заговорил Янки. Мейпс крутанул головой — на Янки поглядеть. Он надеялся, все вдосталь наговорились. Уже начал было что-то Янки говорить — обложить его, что ли, хотел. Но передумал, только поглядел на Янки — долго так, зло поглядел. А Янки и бровью не повел.
— И правда, — говорит. — Все, кому нужно лошадь объезжать, звали Янки. Хоть из нашего округа, хоть не из нашего, а все равно звали Янки. Всегда, когда нужно выездить лошадь под женское седло, всегда звали Янки, потому что знали, я свое дело знаю. Для всех этих белых богатеев, которые на масленой красуются на гулянье на кровных лошадях, а лошади под ними так и играют, — для всех их лошадей ихних я объезжал. Я, Сильвестр Дж. Бэттли, — кто ж еще. Мату, Руф, Такер, Гейбл, Гло — все скажут, я не вру. — И повернулся к Мату. Янки был головы на две ниже Мату; Мату, он высокий, прямой, а Янки низенький, коренастый, ноги колесом. Он глядел на Мату — и мутными подслеповатыми глазами своими просил Мату подтвердить его слова. Мату кивнул. Ничего не сказал, взглядом и то Янки не удостоил, кивнул, и только. Но Янки и тем был счастлив. — Всех лошадей, всех мулов я объездил, — говорит. Но не с нами он говорил. Вспоминал давние времена, те времена, когда молодым был, когда мог лошадей объезжать. — Всех, всех я объездил. Для Кэнди я объездил Задиру и Кубика. Кубик меня на плетень скинул — сам не знаю, как жив остался. А все равно сызнова сел в седло. Тут ведь как — или он, или я. Вон он, Кубик, пасется, нынче-то уж совсем стар стал, только и может, что щипать траву. А вы сходите спросите-ка у Кубика, кто его объездил, спросите-ка!
Он опять замолчал. Кивал головой. Думал. Вспоминал давние, давно прошедшие времена.
— А нынче лошадей больше не осталось, и объезжать больше некого. Повсюду трактора, повсюду машины; и кто я нынче — последний человек. Нынче меня в расчет не берут, ни во что не ставят, а почему, потому что сижу сиднем, сижу сложа руки. И нынешние никто уж и не припомнит, когда я всех что ни на есть лошадей объезжал, всех что ни на есть мулов. Задиру, Кубика, Алмаза, Иова. Тигра, Тони, Салли, Точку, Везунчика, Кору, Джона-Зазнайку, Лотти, Хэтти, Птаху, Рыжего, Бесси, Придурка, Лину, Мистера Баскома. Для доктора Моргана я объездил Шлепанца, Комарика, Ролана. Всех их, всех до одного, я объездил. Нынешние-то, они ничего и не помнят. Но я — я помню. Все помню. И кто меня моего дела лишил — знаю.
— А что такое прогресс, ты знаешь? — спрашивает его Мейпс, а сам снова утирает лицо и шею.
— Какое мне дело до прогресса? Мое дело лошадей объезжать, — говорит Янки.
— Да тебе сейчас и под страхом смерти лошади не объездить, — говорит Мейпс. И платок обратно в карман сунул. Платок из белого сделался совсем серый, замызганный.
— Ваша правда, может, мне сейчас лошади и не объездить, — говорит Янки. — Но, может, потому я его и застрелил, что я из-за него лошадей лишился.
— Возьми его слова на заметку для протокола, — кинул Мейпс через плечо Гриффину.
— Будет сделано, — говорит Гриффин. — Янки. Я-н-к-и…
— Сильвестр Джей Бэттли, — говорит Янки. — И ты уж будь ласков, и Сильвестр и Бэттли напиши без ошибок, если, конечно, сумеешь. Пусть моим родичам там, на севере, лестно будет, когда про меня в газетах пропишут.
— И сколько мы еще, шериф, такое будем терпеть? — спрашивает Гриффин.
— Давайте скажите ему — сколько, шериф, — это Жакоб Мейпсу говорит. — Похоже, до этого недомерка еще не дошло, что к чему.
Мейпс остановил глаза на Жакобе и тут же к Гриффину повернулся.
— Поди свяжись с Расселом, — говорит, — проверь, там уже он или нет. Если там, скажи, пусть там и остается. Мы, как видно, отсюда не скоро выберемся.
Ну, недомерок и двинул к машине — штаны на заду мешком висят, зада-то у него и вовсе нет, на чем сидит только — неизвестно, а туда же, идет гоголем — берегись, мол, сейчас в тюрьму засажу. Да ему Кукиша и того не посадить, вздумай Кукиш ему отпор дать.
Поговорил по радио — и давай обратно во двор, докладывает Мейпсу: Рассел уже там, и Рассел, мол, передает, покуда все в порядке.
— Иди обратно, — Мейпс ему наказывает, — свяжись по радио с Хилли, вели ему патрулировать шоссе у въезда в Маршаллову деревню и никаких подозрительных типов сюда не пускать.
Недомерок вздохнул и пошел обратно, а сам все под нос себе бормочет.
Я на недомерка смотрел и потому не сразу заметил, когда Гейбл заговорил. Гейбл говорил так тихо, что только тот, кто рядом стоял, мог его услыхать. Поначалу я не его, а Гло услыхал. Слышу, она: "Побереги себя, Гейбл, — говорит, — у тебя больное сердце. Побереги себя".
Гейбл, он по другую сторону крыльца, рядом с Гло, стоял. Он не у Маршаллов — у Морганов в деревне жил. У Верзилина протока, в низеньком домишке — его из-за ветел и не видать. Он там жил бобылем уж лет пятнадцать, а может, и двадцать. Два раза в месяц по воскресеньям в церковь ходил. А больше его никогда и не видали. Так за ветлами своими, в Моргане, и жил. Ковырялся в огороде, цыплят держал и так из-за ветел своих и не выходил. Вот почему кого-кого, а Гейбла мы никак не ожидали увидеть нынче.
— Парню и всего-то шестнадцать годков, и не в своем уме, а его на электрический стул посадили, по одному слову девчонки этой белой, гольтепы этой. А ведь все знали ее как облупленную. Знали, что тут на реке у нее никто отказа не знал — хоть черный, хоть белый. А все одно его на стул посадили, поверили ей, что ссильничал он ее. А хоть бы и ссильничал, так ему и всего-то шестнадцать годков, и не в своем уме он к тому ж.
— Побереги себя, Гейбл, — Гло говорит. Руку протянула к нему, но не дотянулась — он далеко стоял.
— Позвонили нам и говорят: можете забирать его в одиннадцать, потому что в десять мы его убьем. Говорят, если хотите его сразу забрать, пусть гробовщик с черного хода стоит. И как только язык повернулся матери такое сказать? И как язык повернулся отцу такое сказать? Приходите, говорят, за ним к одиннадцати, потому что в десять мы его убьем, — и как только язык повернулся такое…
Голос у него пресекся, он замолчал. Я не стал на него глядеть. Вспоминал давние времена. Когда же это было — в тридцать первом или в тридцать втором, пожалуй что в тридцать втором. Тогда еще в сенате Хью Лонг[2] сидел.
Тут слышу, Гло опять говорит: "Поберег бы ты себя, Гейбл. Поберег бы".
— Рассказывали, они рубильник дерг-дерг, а ток не включается. А как отстегнули ремни и его обратно в камеру повели, он и решил, что уже помер и на небо попал. Брат Джек, монах, он там от цветных попечителем был, говорит, мальчик наш говорил: "Это я на небо попал, ей-ей? Это небо? Слышь, это небо и есть?" Говорит, мальчик наш говорил: "Здравствуйте, мистер такой-то. Здравствуйте, мистер сякой-то. Вы тоже попали на небо?" Говорит, он говорил: "Слава тебе господи, все позади. И вовсе не страшно было, только щекотно. И не больно ни чуточки". И тут, брат Джек говорит, они ему и сказали: "Нет, негр, ты еще не помер. Но дай только срок".
А потом, говорит брат Джек, кинули они нашего мальчика обратно в камеру — и ну пинать, ну лягать, ну поносить стул этот электрический последними словами, чтоб он заработал. Двое со стулом возятся, а третий вышел и говорит нам с гробовщиком: хотите, мол, езжайте домой — у нас задержка вышла. Другие двое пинают, лягают, ругают последними словами стул этот, чтоб он заработал, а он мне, отцу, такое говорит, и как только у него язык повернулся…
— Гейбл, сердце побереги, — Гло говорит и сызнова к нему потянулась. Но и тут не дотянулась — он все равно далеко стоял.
— Он слыхал, говорит монах, как они оба наперебой ругали стул этот — крик на весь суд[3] стоял, а что делать со стулом, никто не знал, пришлось им посылать в Батон-Руж, чтоб оттуда приехали стул починить. А починили — сызнова мальчика нашего из камеры выволокли, пристегнули ремнями к стулу и включили ток. А как все кончилось, говорит монах, белые из комнаты той вышли — ну чисто в карты играли. Даже не обсудили ничего. Мол, такие пустяки чего и обсуждать. А что я сделал, когда они сынка моего вот так вот убивали? Что бедному негру оставалось — только ползать перед белыми на коленях. Да где там, разве их разжалобить. А нашлись из них и такие, что сказали: мол, пусть твой сын еще спасибо скажет, что его не вздернули, а на стул посадили. Как-никак, говорят, с ним не хуже, чем с белым, обошлись. А тебе наш совет — и его, и как да что с ним было забыть. Но я не забыл. И никогда не забывал. Почитай что полвека прошло, а ни дня не было, ни ночи, чтобы я день тот страшный не вспоминал. Вот почему я убил Бо, мистер шериф, — говорит Гейбл Мейпсу. — Он был точь-в-точь как гольтепа эта, белая девчонка эта. Как те парни, которые моего мальчика на электрический стул посадили и включили ток. Ваша правда, Бо тогда еще не родился, но все они одним миром мазаны.
Гейбл замолчал, и опять все затихло. Детишки на крыльце и те сидели смирно, не двигались. Тишина стояла мертвая, даже птицы затихли. Мейпс и тот леденец перестал катать. Двигалась одна только тень от дома. Она уже накрыла весь двор.
Тут вернулся помощник и говорит Мейпсу: Хилли, говорит, будет стеречь въезд в деревню. Но Мейпс на него и не поглядел, только опять стал леденец во рту катать. Ждал, кто из нас заговорит.
— Можно я скажу? — Джеймсон Мейпса спрашивает.
Джеймсон, он на отшибе, у дальнего края галерейки стоял. Чтобы показать Мейпсу, что он к нам касательства не имеет. А Мейпс все одно на него зверем смотрел. И глаза его, серые, злые, так Джеймсона и буравили.
— Вот уж не думал, что я здесь еще распоряжаюсь, — говорит Мейпс.
А Джеймсон ему:
— Что ж вы, не шериф, что ли?
— А при чем тут это? — спрашивает Мейпс.
— Бери ружье, Джеймсон, если хочешь говорить. — Это с галерейки Клэту голос подал.
— Нет, мистер Клэту, — говорит Джеймсон. — Я ружья брать не стану.
— Тогда помолчи, нынче сперва говорят те, кто при оружии.
— Значит, это тебя она поставила верховодить? — спрашивает Мейпс Клэту.
Клэту в его сторону и не поглядел. А для здешнего белого хуже нет, когда негр с ним разговаривает и на него не глядит. Клэту на Простую Душу глядел.
— Простая Душа, сдается мне, ты хочешь слово сказать?
На Простой Душе была старая солдатская форма, он в ней с первой мировой пришел. Мятая-перемятая, вся в дырьях, но Простая Душа держался так, будто она новехонькая. В фуражке, при медали — все чин чином. В другое время Простую Душу подняли бы на смех: чего, мол, вырядился.
— Я его застрелил, — говорит Простая Душа.
— Это ты бабушке моей расскажи, — говорит Мейпс.
— Из всего нашего округа меня одного взяли в триста шестьдесят девятый, — говорит Простая Душа. А на Мейпса он и глядеть не стал. Стоял себе у плетня, глядел на поля за деревней. — В триста шестьдесят девятом полку одни цветные служили. Тогда мы и помышлять не смели, чтобы со здешними белыми вместе воевать. Нам и обучение пришлось во Франции проходить, и офицерами у нас французы были. Они нас хорошо обучали. И мы ни разу не отступили — хоть в Мон-Дядье, хоть в Шатай-Дери, хоть в Шампани. Нас награждали, жали руки, целовали — все честь по чести. И я гордый был незнамо как до тех самых пор, покуда домой не вернулся. А первый же белый, который мне на пути повстречался, самый что ни на есть первый, из тех из здешних, что и по-английски толком не разумеют, мне и скажи: и думать не моги носить ни форму свою солдатскую, ни медаль, хоть ты до ста лет проживи. Тут тебе не Франция, говорит, и нам тут ни к чему, чтобы негры медалями бахвалились, за то полученными, что белых убивали. Это еще когда, в первую мировую было. Но они какими тогда были, такими и остались — точь-в-точь такими. Вон что они с парнем Курта сделали, когда он со второй мировой пришел. Увидели у него фотографию немецкой девчонки, поймали — да вы все помните, как они над ним надругались. Корея — все сызнова повторилось. Тот цветной парень гранату своим телом накрыл, взвод свой спасаючи. А все одно в Арлингтоне, где героев хоронят, его не дали похоронить, и кто тому причинен — наши, здешние, что в сенате тогда сидели. Вьетнам — и тут все сызнова повторилось. Здесь все как было, так и осталось. Точно так.
Простая Душа, он, когда разговаривает, качается взад-вперед. Сидит он, стоит, а все одно взад-вперед, взад-вперед качается. Случается, он поговорит-поговорит и перестанет, а вот чтоб качаться перестать, такого не случалось.
— И вот надену я, бывало, форму свою солдатскую и смотрю на себя в зеркало, в шифоньерку вделанное. Я знал, что на улицу мне нельзя показаться в форме моей, так мне пусть хоть дома хотелось походить в ней. А нынче я себе сказал: надену-ка я свою форму да сяду на галерейке с дробовиком моим испытанным, а если кто надо мной вздумает надсмешки строить или велит мне мою солдатскую форму снять, пристрелю без разговоров. И вот сидел я там, сидел, и хоть бы кто мимо прошел. Посидел я, посидел и дай, думаю, кроликом на ужин разживусь, ну и двинул к болоту. Дошел до Польской дороги, и тут меня словно какая неведомая сила потянула сюда. Сам не пойму, что причиной, только ноги меня не слушаются и несут сами собой в Маршаллову деревню.
Тут Простая Душа поглядел на Мейпса, но Мейпс на него не глядел. Он глядел за огород на деревню. Насчет того, что он в солдатской форме на галерейке сидел, это, сдается мне, Простая Душа правду говорил, зато уж все прочее он присочинил, и Мейпс это знал.
А Простая Душа дальше рассказ вел:
— Вот сижу я у Мату на галерейке, а Бо через канаву перескакивает, и ружье при нем. Я ему и скажи: "Стой, — говорю, — парень. Стой-ка лучше". Да разве он послушал? Кто я такой, чтобы ему меня слушать? Старый хрыч негр. Всего-навсего старый хрыч негр. И немцы, они такие же. Они думали, негры не насмелятся в белых стрелять. А наш триста шестьдесят девятый страшную силу их положил — так и полегли в окопах с усмешками со своими дурацкими.
Простая Душа замолчал, но не сразу перестал раскачиваться. Гордый был, что все так хорошо рассказал. Всех нас оглядел — хотел узнать, как нам его рассказ пришелся. Я кивнул ему. И еще кое-кто кивнул. И уж он гордый-прегордый был, что все его слушали.
— Взгляни на нас, Иисусе! — Джеймсон говорит. — Взгляни на нас!
— А что, как он на их стороне? — говорит Мейпс.
— Как вы можете? — говорит Джеймсон Мейпсу. — Как вы можете сейчас кощунствовать? А вам, промежду прочим, пора бы долг свой выполнить.
— Что вы от меня хотите? Хотите, чтобы я Мату арестовал? — спрашивает Джеймсона Мейпс. — Вы что, думаете, мне нужно, чтобы это старичье, которому самое место в доме престарелых, всем скопом припожаловало в Байонну? При том что тамошнее кодло уже загодя надирается перед завтрашним футболом?
— А вы что, собираетесь сидеть здесь, покуда Фиксово кодло сюда не нагрянет? — спрашивает Мейпса Джеймсон.
— Как знать, а вдруг и пронесет — на мое счастье, — говорит Мейпс.
— Ваше счастье, если они не всех до одного тут поубивают, — говорит Джеймсон.
— Заткнись, холуйская твоя душа, — Бьюла Джеймсону говорит.
Бьюла, она от Джеймсона была шагах в пятнадцати, не меньше. И Джеймсон — давай к ней. Но он на полпути еще был, а Бьюла уж с крыльца прыг — Джеймсона приготовилась встретить. Кулачищи сжала — и ну махать: Джеймсону готовила встречу. Джеймсон враз остановился, только что не попятился.
— А ну подойди, холуйская ты душа, — Бьюла говорит. И знай кулачищами машет. — Я тебя так отделаю, что ты или вовсе ума решишься, или враз поумнеешь — не одно, так другое. А ну подойди, я тебе похлеще Мейпса врежу, только подойди. Одной ногой в могиле, а туда же!
— Ваше преподобие, не обращайте на нее внимания, — Мейпс говорит.
— А что, Чумазый, если мне в его стрельнуть? — спрашивает Кочет. — Или мне не встревать и пусть баба моя его оттреплет?
— Ни тебе, ни твоей бабе нечего руки марать, — говорит Чумазый. — Если он хоть раз еще пикнет, его Кукиш оттреплет. Ну что, Кукиш, возьмешься его оттрепать?
Кукиш покосился на бабку — узнать, как ей это глянется, — но Гло так на него зыркнула, что он враз присмирел.
А Мейпс к Джеймсону подошел, руку на плечо ему положил.
— Ваше преподобие, шли бы вы домой.
— Мое место здесь, — говорит Джеймсон, а сам все на Бьюлу глядит. И так он тихо это сказал, что его почитай никто и не услыхал. — Мое место здесь. — И Мейпсу прямо в глаза поглядел.
— Ну что ж, дело хозяйское, — говорит Мейпс и руку с Джеймсонова плеча скинул.
— У кого еще есть что сказать? — спрашивает Клэту.
Никто не отозвался. Мейпс подождал чуток, потом всех нас, одного за другим, оглядел.
— Это что же, значит, вам больше нечего рассказать? — спрашивает. — А я-то думал, вы только во вкус вошли.
— Уж чего-чего, а чего рассказать у нас найдется, — говорит Бьюла. А сама не на него, на Джеймсона глядит. — Хотите, чтоб я рассказывать начала? — И тут уж на Мейпса поглядела. — А не хотите, чтоб я начала, так и любая другая баба может начать. Рассказать, что здесь с бабами творили, так у вас волосы дыбом встанут. Ну что, мне начинать? Скажите только "да", и я начну. Кивните только, и я начну.
— Нет, — говорит Мейпс. — Хватит с меня. Я сыт по горло вашими небылицами. — И всех нас, одного за другим, оглядел. — Значит, настало время платить по счетам, так надо понимать? И платить Фиксу придется? Причастен Фикс, не причастен, а платить за все ваши обиды придется ему, так надо понимать?
— А что, за ним мало, что ли, паскудств числится? — Бьюла говорит.
— Не Фикс выступал в сенате, чтобы того парня в Арлингтоне не хоронить, — говорит Мейпс. — И не он электрический стул включал, — повернулся к Дину и Дону Леженам — мулаты эти, они завсегда рядышком стоят. — И ты, Дин, знаешь, — говорит, — женщина, которая племянницу твою отравила, была не кэдженка, а сицилийка. И Фикс тут ни при чем.
— Он здешний, с реки, — Дин говорит, — и она здешняя, с реки этой. Значит, одного поля ягоды.
— Ох уж мне эта река, — говорит Коринна.
Все повернулись к ней. От кого, от кого, а от нее не ожидали, что она заговорит. С тех самых пор, как Коринна сюда пришла, она и рта не раскрыла, знай сидела в качалке да во двор глядела. И с места с тех пор почитай что не вставала, разве когда за покрывалом — Бо прикрыть — сходила. Про нее чуть не все и забыли.
А она говорит:
— А все эта река, сколько уж лет мы ходили на реку на эту. И рыбу удили тут, и белье стирали, и крестили нас тут, в этой реке, в реке Сент-Чарльз. Она и питала нас, и тела и души наши очищала. Все она, река Сент-Чарльз, и вот на поди — нету ее для нас. Нету. Лишили нас реки. И больше нам туда ходу нет.
И замолчала. Даже головы не подняла. Все глядела во двор.
— На мне не меньше, чем на вас, сказывается, что той, прежней реки уже нет, — Мейпс ей говорит. Но она его не слушала. А может, и забыла, что он тут. — Разве прежде здесь такая рыбалка была? — говорит Мейпс. — А охота разве прежде такая была? И в этом вы тоже Фикса вините? Так я вам скажу: не того вините. Он от этих времен не меньше вашего пострадал. Если бы его реки не лишили, с какой бы стати он к протоку переселился?
А Коринна все во двор глядела. И сдается мне, и не слыхала, что ей Мейпс говорил.
Зато Бьюла, та его услыхала.
— Было время, — говорит, — когда он тут, на реке жил. И за ним немало паскудств числится. Тех двух ребятишек — они тут дальше по дороге жили, — к примеру, кто, как не он, утопил?
— Бьюла, да что ты все дела тридцати пяти-, сорока-, если не пятидесятилетней давности вспоминаешь, — говорит Мейпс. — И где у тебя доказательства, что Фикс к ним причастен?
— Вот-вот, у белых завсегда так, — Бьюла нам говорит, а сама все на Мейпса глядит. — Черных вешают, топят, стреляют, кишки им выпускают, а он — где, говорит, доказательства? Двое ребятишек в двух гробиках — это что, не доказательства? Ребятишки те мертвые — вот тебе и все доказательства. И разговоров этих насчет тридцатипяти-, сорока-, пятидесятилетней давности тоже не нужно. У нас здесь все почитай что как было, так и осталось. А демонстрации пошли, и после них тоже хоть одного, а недосчитываются. Потому не нужно прикидываться, что, мол, все это было и быльем поросло, а нынче у нас тишь да гладь. Нет, Фиксово место его семя заступило. Пусть он сам нынче стар стал, но и за сыновьями его немало паскудств числится.
— Ты, видно, много больше моего знаешь, — говорит Мейпс.
— Да, шериф, касательно того, какие паскудства надо мной, над бабой черной, творили, я, пожалуй, много больше вашего знаю.
— И ты, видно, на все пойдешь, лишь бы меня заставить тебя в тюрьму посадить?
— Посадите Мату, сажайте и меня, — говорит Бьюла.
— Раньше или позже, а Мату я обязательно посажу, — говорит Мейпс. — Но и для тебя место найду.
— Что ж, я готова, — говорит Бьюла. — Схожу только домой и платье хорошее надену.
— Я тебе подходящее платье сам подыщу, — говорит Мейпс. — И швабру с ведром в придачу.
— Нашли чем пугать, мне к ведру со шваброй не привыкать стать, — говорит Бьюла. — И не только к ним, а еще и к мотыгам, лопатам, топорам, мачете, косам, кольям, ну а будет надобность, я и с ружьем управлюсь. И за решеткой я уже сиживала.
— Толкуй, толкуй, — говорит Мейпс, — и дотолкуешься — опять в тюрьму сядешь. — И повернулся к Гло. — А как насчет тебя, Гло? — говорит. — А насчет внучат твоих?
— И я готова, — говорит Гло. — Вот только подыщу, кто бы за детьми присмотрел.
— Не знаю, как насчет Тодди, — говорит Кукиш, — а я готов. — И костяшками хрустнул. — Вот жалость-то, что года мои не вышли, а то и я мог бы его застрелить.
— А разве это не ты его застрелил? — говорит Мейпс. — Да нет, ты оббегал деревню, всех сюда созвал. Верно я говорю?
— Ничего я вам не скажу, — говорит Кукиш, — хоть бейте меня шлангом.
И голову пригнул. Мейпс поглядел-поглядел на него и повернулся к Кэнди. Кэнди рядом с Мату стояла — он примостился на нижней ступеньке крыльца.
— Вот, значит, как вы задумали: или всем скопом отвечать, или никому не отвечать?
— Я его застрелила, — говорит Кэнди.
— И вы допускаете, чтобы они в лицо уличали вас во лжи?
— Они выгораживают меня, — говорит Кэнди.
— Как же, как же, — говорит Мейпс. — Только не удивляйтесь, если день еще к концу не подойдет, а они вас в один с Фиксом черный список занесут.
— А вам только того и хочется? — спрашивает его Кэнди.
— Во всяком случае, мне мало чего так хочется, — говорит Мейпс и повернулся к помощнику. — Поди проверь, где Рассел.
— Опять? — говорит помощник. — Не понимаю, чего бы нам не зашвырнуть этого черного хрыча на заднее сиденье и не свалить отсюда?
Все поглядели на помощника, и злее всех поглядела Кэнди.
— Делай, что тебе велено, проверь, где Рассел, — говорит Мейпс.
Помощник поглядел на Мейпса, покачал головой и пошел к машине.
— Вам бы надо парня-то приструнить, — говорит Мейпсу Бьюла, — если хотите, чтобы он при вас и дальше состоял.
— Это ж надо, чтоб у человека вовсе без задницы — и такая пасть. — Это Янки от огорода голос подал. — Не взыщите за грубость, женщины.
— Чего там, — говорит Мейпс. — Все мы тут одна дружная семья, верно я говорю? — спрашивает он Кэнди.
Кэнди ничего ему не сказала. Только положила руку на плечо Мату, да так бережно, будто цветок тронула.
Мату обычно чувств своих не выдавал, но, когда Кэнди тронула его за плечо, он улыбнулся.
— Тебе не нужно прилечь? — спрашивает его Кэнди.
Мату покачал головой.
Кэнди поглядела на Мейпса.
— Мату последнее время неважно себя чувствует. У него голова кружится.
Мейпс кивнул.
— Это надо же, — говорит, — и со мной точно такая история: стоит мне кого застрелить, сразу голова кружится. — И глянул через плечо на дорогу. — Что там у тебя? — кинул он помощнику.
— Все тихо, — отозвался тот.
— Затишье перед бурей. — Это Мейпс к Лу обратился. — Как только всех соберет, он будет здесь.
— Но мы все тоже здесь будем, — подал голос Клэту.
Томас Винсент Салливан, он же Салли или ТВ
Мы с Жилем не успели выйти из 210-й аудитории, и тут нас догоняет Кэл и говорит, что Жиля требует к себе тренер, причем сейчас же.
— Я считал, мы уже все обсудили, — говорит Жиль.
— На этот раз, по-моему, не футбол, — Кэл отвечает.
Жиль спросил, может, я схожу с ним вместе, а Кэлу делать было нечего, и он тоже с нами пошел. Кэл — это Кэлвин Перец Гаррисон, — вполне возможно, в этом году лучший полузащитник в стране, его уже давно включили в американскую сборную. А Жиль — Жильбер, Соль Бутан, бесспорно, лучший защитник Юго-Восточной Ассоциации и многих других ассоциаций также. У нас в университете штата Луизиана — УШЛ — Кэл и Жиль известны как "Соль с Перцем". Жиль — кэджен; когда он появился в университете, рекламщики пытались изобрести ему подходящую кличку на кэдженский лад, но, увидев, как здорово они работают с Кэлом, окончательно и бесповоротно остановились на том, что быть им "Солью с Перцем".
Жиль — футболист до мозга костей и рано или поздно станет профессионалом, но сейчас, пока он еще в УШЛ, самая заветная его мечта — попасть вместе с Кэлом в американскую сборную. Если попадет, это будет впервые в истории — белый и черный играют в паре, и не где-нибудь, а в южном штате, в самых глубинах Юга. В УШЛ это известно, белым и черным во всем Батон-Руже это тоже известно, известно это всей стране. Куда ни сунься, везде разговоры о Соли с Перцем из УШЛ. Оба отлично бегают, оба блокируют классно. На краю поля Жиль работает на Кэла, на середине поля Кэл отвечает ему тем же. Нападение не знает, куда смотреть: мяч то у Жиля, то у Кэла — обалдеть можно. Плюс к тому в защите играет еще Сахар Вашингтон, и он тоже парень шустрый.
Я кто такой? Ну, прежде всего — не Сахар Вашингтон, уж это точно. Тоже защитник, только запасной. Зовут меня Томас Винсент Салливан. Волосы у меня рыжие, лицо красное, глаза зеленые, и почти все знакомые называют меня Салли. А некоторые именуют ТВ — Томас Винсент, особенно черные ребята из нашей команды. Тут виной не столько мои инициалы, сколько мое увлечение. Я на ТВ чокнутый. Телеидиот.
Пока Жиль ходил к тренеру, мы с Кэлом стояли на улице и разговаривали о завтрашней игре: наш университет против университета штата Миссисипи — Старушки Мисс. Главная игра года. Мы знали, если мы их одолеем, нас никто не остановит, и в новогодней игре на Сахарный Кубок приз определенно достанется нам. Болельщики уже заполнили все мотели и отели от Батон-Ружа до Нового Орлеана. Центральная пресса писала об этой игре. Куда ни пойдешь, всюду лишь о ней и толкуют. Те, кто болел за УШЛ — а за УШЛ только сумасшедшие не болеют, — говорили, что Соль с Перцем не знают преград. Те, кто болел против УШЛ, то есть за Старушку Мисс — а ведь из Миссисипи понаехала уйма народу поболеть за свою команду, — эти говорили, что Старушке Мисс нужно одно-единственное сделать — заблокировать кого-нибудь из этих двоих — Соль или Перца, — и победа обеспечена. Разговоры эти велись уже целый месяц, а сейчас осталось немногим больше суток — тридцать часов до игры. Если вы разбираетесь в особенностях погоды штата Луизиана, вы, конечно, знаете, что там всегда перед сильной бурей без конца сверкают молнии и грохочет гром. Так вот: редкостная, необычайной силы буря должна была разразиться завтра в восемь вечера, а молнии и гром сверкали и грохотали уже целый месяц, и все знали: утихнут они лишь в последнюю секунду.
Жиль пробыл у тренера минут десять, потом вышел и проходит мимо нас так, словно мы тут вовсе не стоим. Я подумал, он забыл, где нас оставил, и окликнул его. Никакого впечатления: идет и не глядит. Мы с Кэлом переглянулись и пошли за ним следом. Он шагает быстро так и все время потирает руки.
— Жиль, погоди, — говорю. — Эй, Жиль!
Догнали его и пошли с двух сторон.
— Что у тебя случилось? — спрашивает Кэл.
Он остановился. Дышит прерывисто, тяжело, будто вырвался с мячом из схватки. Смотрит в землю и все время потирает руки — так сильно, словно хочет с них кожу содрать.
Кэл кладет ему на плечо руку, я — на другое.
— Что случилось, Жиль? — спрашиваю.
Он только головой качает и по-прежнему смотрит в землю.
— Брат… с братом несчастье. Погиб.
— В катастрофе? — спрашивает Кэл.
Жиль по-прежнему качает головой, и кажется, он сейчас заплачет. Я взял его под руку, Кэл сочувственно похлопал по спине. И вдруг он как рванется к Кэлу. Ни с того ни с сего уставился такими злыми глазами, словно внезапно возненавидел его. Мы с Кэлом рты разинули от удивления.
— Да ведь это Кэл, — говорю. — Одурел ты, что ли, Жиль? Он отвернулся от Кэла, глядит на меня.
— Почему сегодня? — спрашивает. И плачет. — Почему сегодня?
— Ты успокойся, Жиль, — говорю. Вокруг нас тем временем уже собирается народ, и все спрашивают, что случилось. Кэлу или Жилю стоит только чихнуть, тут же целая толпа сбегается. — Ты успокойся, — говорю я ему.
— Домой надо ехать, — говорит он. — Ты не одолжишь мне машину? Моя еще в ремонте.
— Да я тебя отвезу, — говорю. — Смотаюсь с занятий по сценическому искусству.
— Почему сегодня, Салли? — спрашивает он. — Почему? Я не знаю, что ответить, и растерянно смотрю на Кэла. У Кэла обиженный вид. Он понять не может, с чего это вдруг Жиль на него бросился, и я, кстати, тоже удивляюсь.
— Пошли отсюда, — говорит Жиль.
— Жиль, тут ведь Кэл, — напоминаю.
— Давай пошли отсюда, — повторяет — и, не оглядываясь, рванул прочь.
Я иду за ним, но, честно говоря, у меня на душе какой-то осадок: мне не очень-то приятно, что он так грубо Кэла завернул.
Мы идем к моей машине — у меня "Карманн-Гиа" 68-го года, — я ее оставил у стадиона с той стороны. Пока мы едем по территории университета, мне приходится делать не больше мили в час из-за всех этих психопатов, которые сразу же узнают Жиля и желают ему удачи в завтрашней игре. Причем это не только студенты. Среди них порядком наших выпускников — заблаговременно прибыли, ничего не скажешь, матч ведь начнется только через тридцать часов. Кто-то сказал, что Норман, в Оклахоме, самый психованный город в смысле футбола, но если существует город безумней нашего, хотелось бы мне на него посмотреть, то есть, вернее, не хотелось бы — наверно, это опасно для жизни.
Жиль сидит, понурив голову. На болельщиков ни разу не взглянул. Я веду машину со скоростью километра полтора в час. Примерно дюжина машин с той же скоростью едет сзади меня. Выехали за город, я прибавил скорость, теперь делаем восемь километров в час. Психопатов-болельщиков и тут навалом. Завтра в это время их будет в два раза больше, в три раза, в четыре. Если Жиль — а он к тому же и собой хорош — станет игроком американской сборной, весь этот город его, а уж девчонки и подавно.
Жиль молчит, как будто в рот воды набрал. Я не знаю, полагается ли что-то говорить в подобном случае, и поэтому тоже молчу. Все думаю насчет Кэла. Даже какой-то осадок в душе — что это он с ним так? Когда они на поле, они как руки у игроков в бейсбол — та, что подбрасывает мяч, и та, что ударяет по нему битой. Я никогда не видел, чтобы Жиль некорректно вел себя.
Проехали по мосту через Миссисипи, выехали на автомагистраль, а теперь уж прямиком до самого дома его родителей, в округе святого Рафаила. Психопаты остались позади, во всяком случае те, что топали пешком, и я гоню со скоростью сто километров в час. А Жиль за все это время не сказал ни слова, только руки тер и смотрел на шоссе. Он молчит, и я молчу — не знаю, что ему сказать. Я вообще не знаю, что полагается говорить, когда у человека умер кто-то близкий. Да к тому же и про Кэла все никак не могу забыть.
— О господи, надеюсь, никто из них не связан с этой историей, — говорит наконец Жиль. На меня он не смотрит — по-прежнему на дорогу. — Всей душой надеюсь, что убил его не кто-нибудь из них.
— О ком ты говоришь?
— О черных из Маршалловой деревни. Его убили там, в этой деревне. Господи боже, только б не они!
Так вот почему он на Кэла окрысился! Связан Кэл с убийством или нет, все равно он виноват — он же черный! Ну и дела! Отличные дела! Когда вы на футбольном поле, вы, как сиамские близнецы, один за одного, и вдруг — на тебе, такая штука! Господи боже! Опомнись, Жиль, я не думал, что ты такой!
— Ты не знаешь мою семью, Салли. Ты очень мало знаешь обо мне.
Не так уж мало я о тебе знаю, подумал я. Не так уж мало, информации вагон. С этой стороны — что правда, то правда — я не знал тебя, но информации у меня вагон — и о тебе, и о твоем папаше, старом Фиксе. Вполне наслышан, какие расправы устраивали в старые времена Фикс Бутан и его дружки. Я только не знал, что и ты той же самой породы.
Мы могли бы и дальше ехать по магистральному шоссе и свернуть на проселок километрах в трех от его дома, но, когда мы доехали до развилки с указателем "Река Сент-Чарльз", Жиль попросил меня свернуть к реке. Это хорошая дорога — прямое, без всяких поворотов шоссе; так мы проехали километров шесть с гаком, и по обе стороны от нас тянулись плантации сахарного тростника. Тростник почти весь убран; справа от дороги, на дальнем краю тростникового поля, виднелась темная кайма деревьев — там начинаются болота. Жиль все время смотрел туда, вдаль. Все смотрел, смотрел, пока мы не свернули и не поехали по берегу, вдоль реки Сент-Чарльз. Река серо-голубая, тихая. По другому ее берегу, примерно в километре от нас, проходила еще одна дорога, и бегущие по ней автомобили казались мне совсем крошечными.
Так мы проехали примерно еще с полкилометра, потом Жиль кивком попросил меня свернуть с шоссе. И лишь теперь я понял, почему он прямо не поехал домой: ему хотелось сперва побывать в Маршалловой деревне.
Только-только мы свернули к деревушке, как я увидел на дороге полицейскую машину. Из машины вышел полицейский в серо-голубой форме и поднял руку, чтобы мы остановились. Потом подошел к моей машине, Жиля узнал тотчас.
— Жиль, привет, — говорит он.
— Привет, Хилли, — отвечает Жиль.
Хилли взглянул на меня. Примерно нашего возраста парень, немного постарше. Веснушчатый, рыжий. Ни фуражки, ни галстука, наоборот, расстегнуты две пуговицы на рубашке, так что видны рыжеватые волоски на груди. На меня смотрел недолго, снова повернулся к Жилю.
— Мейпс велел мне следить за порядком, но как я понимаю, с тобой все в порядке.
— Мейпс все еще там? — Жиль спрашивает.
— Еще там.
— Спасибо, — говорит Жиль.
— Буду завтра болеть за тебя, — говорит Хилли. Сказал и сразу язык прикусил — понял, что такие разговоры сейчас не к месту.
— Спасибо, — отвечает Жиль, и мы поехали дальше.
Маршаллова деревня тянется вдоль узкого проселка, покрытого толстым слоем белой пыли и с обеих сторон заросшего бурьяном и кустарником. Один-два дощатых домика вроде бы совсем обезлюдели — настоящий город призраков из вестерна. Для полноты картины не хватает только перекати-поля, которое бы, подпрыгивая, неслось по дороге. Посреди деревни я увидел трактор и несколько машин. Мы подъехали поближе, и я узнал нежно-голубой "порше" Лу Даймса, с белой полосой на боку. Лет десять тому назад Лу Даймс был нападающим баскетбольной команды УШЛ; он и сейчас ходит почти на все игры. Иногда пишет спортивные репортажи для газеты в Батон-Руже.
Жиль движением головы велел мне остановить машину. Мы не простояли там и полминуты, как из бурьяна возник некий субъект — тощий и малорослый, с пистолетом в руке. Обвел нас подозрительным взглядом, потом вижу: Жиля узнал и тут же заулыбался. Подошел вплотную к нашей машине и заглянул внутрь.
— Сперва не разобрал, что это ты, — говорит он. — Очень тебе сочувствую, Жиль.
Он кивнул мне, и я кивнул ему в ответ. Я подумал, что для полицейского он больно уж бледный.
— С Мейпсом, что ли, хочешь поговорить? — спрашивает он Жиля. Мы оба вышли из машины. Жиль постоял с минутку, посмотрел на трактор; затем следом за помощником шерифа мы двинулись к дому.
Но тут мы снова остановились. По всему двору, на галерее — везде стояли старики с дробовиками. Да к тому же еще шериф с охотничьим ружьем. Лу Даймс стоял рядом со своей подружкой Кэнди. Черных женщин мало — три или четыре, — они сидели кто на крыльце, кто на галерее. И детишки какие-то грязные там же на ступеньках, возле женщин. И все до одного таращились на нас. Такое чувство, будто ты заглянул в "Сумеречную зону". Помните, давно когда-то по телику пьеса шла, называлась "Сумеречная зона". Там такой заштатный городок, едешь, едешь по нему и вдруг раз! — на такую картину наткнешься, которой ну никак не может там быть… И здесь точно такое же впечатление, будто смотришь на брейгелевские картины. На настоящего Брейгеля, жуткого-жуткого.
Шериф узнал Жиля и опустил ружье. Все остальные тотчас сделали то же самое. Не успел я глазом моргнуть, все эти древние дробовики опустились на несколько сантиметров.
Жиль перешагнул через заросшую травой канаву, а я шел вплотную за ним. Примятые его ногой травинки не успевали распрямиться, как моя подошва прижимала их к земле. Мое решение было твердо: ходить за ним впритир, пока мы отсюда не уберемся.
— Здравствуй, Жиль.
Это сказал шериф. Широкоплечий, здоровенный детина, в точности такой, каким представляют на Севере и в Голливуде шерифа маленького южного городка.
Жиль молчал. Я кивнул Даймсу и Кэнди. Даймс поздоровался со мной, а Кэнди нет. Она стояла у крыльца рядом со стариканом в грязной майке и зеленых портках. Похоже, Кэнди так задумалась, что ей не до нас было. Похоже, наше с Жилем появление не вызвало у нее ни малейшего интереса; похоже, ей вообще ни до чего, кроме разве что этого старикана. Я ее видел несколько раз, когда она приезжала с Даймсом посмотреть игру, и всегда у нее такой вид, будто все ей надоело до смерти. И сейчас у нее скучающий вид. Скучающий и усталый.
— Где мой брат, Мейпс? — Жиль наконец заговорил.
Мейпс ответил:
— Его увезли в Байонну.
Жиль продолжал смотреть на Мейпса в упор. Видно, считал, шериф ответил ему слишком коротко. Ему хотелось, чтобы шериф добавил что-нибудь еще, не дожидаясь от него новых вопросов. Жиль считал, что в этой ситуации ему нет необходимости задавать вопросы.
— Ты домой едешь? — спрашивает Мейпс. Он старался выразить свое сочувствие — при таком лице и глазах — задача не из легких.
Жиль и на этот раз не ответил ему. Он следил за собой — изо всех сил старался держать себя в руках. Ему очень хотелось, чтобы шериф сказал еще что-нибудь о его брате.
— Я поставил Рассела возле протока, — сообщает Мейпс. — Велел ему не пропускать сюда твоего папашу. Ему нечего сейчас делать здесь, Жиль. И в Байонну ехать ему нет необходимости, пока я за ним не пошлю.
Шериф сказал это мягко, ласковым, сочувственным голосом, правда, все это не очень получалось у него — внешность уж больно не та. Лицо большое, красное, подбородок каменный, глаза такого цвета, как цемент. И даже когда он старается обходиться с человеком ласково, глаза у него жесткие, так и сверлят тебя насквозь.
Жиль так же жестко посмотрел ему в глаза. Он ждал, когда шериф ему расскажет еще что-нибудь о том, что тут произошло.
— Мы с этим к вечеру закончим, — сообщает Мейпс. — Я тебе ручаюсь.
— С чем закончите, Мейпс? — спрашивает Жиль. Он все время следил за собой, изо всех сил следил. — Так с чем вы закончите, Мейпс?
— Тот, кто это сделал… я посажу его в тюрьму, еще до захода солнца, я тебе это гарантирую, — говорит Мейпс.
— А вы что, еще не знаете, кто это сделал? — спрашивает Жиль.
— Думаю, что знаю, — отвечает Мейпс. — Уверен, что знаю.
— Тогда почему вы не арестуете его?
— Они тут все твердят одно и то же. Каждый уверяет, будто стрелял именно он.
— Ну а вы-то знаете, кто стрелял?
— Да, — отвечает Мейпс. — Я это знаю. Только все эти старики грозят, что они привалят в город, если я его заберу. И Кэнди то же самое говорит. А мне в Байонне вся эта компания сейчас совсем некстати. Там и без них-то перед завтрашней игрой все ходит ходуном. Если вы приехали из Батон-Ружа, вы сами знаете, что это так.
— Что же вы собираетесь предпринять, Мейпс?
— Улажу я это дело по-своему.
— По-своему? — переспрашивает его Жиль. — Сколько времени прошло с тех пор, как убили моего брата, четыре часа?
— Да, около того.
Жиль посмотрел на него, и его взгляд говорил: что же ты отмалчиваешься, Мейпс, тебе следовало бы сказать гораздо больше. Но Мейпс не стал говорить больше, а просто отвернулся. Тогда Жиль обвел взглядом стоящих вокруг стариков. Взгляд его остановился наконец на одном из них, на старикане в грязной майке и зеленых штанах, на том самом, что стоял рядом с Кэнди. Он сначала молча смотрел на этого старика. А старик смотрел на дорогу.
— Это сделал ты, Мату?
— Да, — ответил старик, не глядя на Жиля.
Правая рука Жиля медленно сжалась в кулак. Нет, он не хотел этого старика ударить. Его лицо не выражало ни ненависти, ни злобы, только удивление — он, казалось, своим ушам не поверил, что старик так резко и так прямо ответил на его вопрос. Если б он сознался понурив голову, смущенно и растерянно выговаривая слова, была бы совсем иная картина. Но так резко, так прямо, и при этом даже не взглянул в его сторону: да, это я сделал.
— Ты других спроси, — говорит Мейпс. — Спроси Кэнди.
Но Жиль по-прежнему смотрел на старика Мату; и старик не избегал его взгляда, он просто в сторону глядел, задумчиво так глядел в сторону.
Держа в одной руке ружье, Мейпс обхватил Жиля за плечи второй ручищей.
— Поезжай домой, Жиль, — говорит он ласково. Так ласково, как только способен сказать человек с таким лицом и с такими глазами. Но, конечно, не так, как надо бы говорить с человеком, у которого только что убили брата.
А Жиль все смотрит на старика Мату. И не поймешь, слышал ли он хоть слово из того, что сказал ему Мейпс.
— Жиль, — говорит Мейпс и слегка его встряхнул. — Жиль.
Жиль повернул к нему голову.
— Что здесь происходит, Мейпс? — вдруг спрашивает он. Он спросил это таким тоном, будто только что вошел во двор и понятия не имеет, в чем дело. — Что здесь происходит?
— Что здесь происходит? — Это уже Мейпс спросил.
И оглядел стариков с дробовиками. Может быть, ему все было ясно, а может, и нет. Впрочем, даже если ему и было все ясно, он не знал, как объяснить это Жилю. Слов не мог подобрать.
— Ступай домой, Жиль, — сказал он.
Жиль рывком сбросил с плеча его руку. Теперь он повернулся к Кэнди, стоявшей рядом со стариком Мату. Она по-прежнему не проявляла к нам ни малейшего интереса.
— Что здесь происходит, Кэнди? — спрашивает Жиль.
Кэнди медленно подняла голову — наконец она на него посмотрела. У нее был страшно утомленный вид. Но она не стала притворяться, что сочувствует Жилю. Она рассказала, что Бо Бутан и какой-то Чарли подрались на поле. Чарли этот бросился бежать сюда, во двор, а Бо гнался за ним с ружьем. Она, Кэнди то есть, тоже тут находилась, они о чем-то толковали со стариком Мату. Кэнди крикнула, чтобы Бо не заходил во двор. Она сказала, что несколько раз его предупредила. Но Бо вошел, и тогда, увидев, что он вот-вот выстрелит, Кэнди его опередила. А старики, что здесь стоят, тут же обо всем узнали и явились все как один — за нее постоять. Обо всем этом она уже подробно рассказала Мейпсу.
— Врешь ты, Кэнди, — говорит ей Жиль. — Бо никогда в жизни не погнался бы за Чарли с ружьем. С палкой, с тростниковой палкой, но не с ружьем. Зачем ты все это говоришь? И главное, зачем ты явилась сюда? И зачем сюда притащились эти старики? Скажи мне, Кэнди: что вы собираетесь делать?
Кэнди не ответила. Она сказала все, что хотела. О чем же еще говорить?
Тогда Жиль спросил Лу Даймса — тот стоял возле Кэнди.
— Что здесь происходит, Лу? — спрашивает Жиль. — Я знаю, вам можно верить. Скажите, что здесь происходит?
Лу было не по себе. Ему, видно, очень не хотелось сейчас быть здесь; ему, видно, все это очень не нравилось. Он покачал головой.
— Я не знаю, Жиль, — ответил он.
— Знаете вы, прекрасно вы все знаете, — говорит Жиль. Тут я подумал: да он заплачет сейчас. — Что здесь происходит, Лу? Скажите мне, что здесь происходит?
— Жиль, я правду вам говорю, — отвечает Лу. — Я знаю не больше, чем вы, — только то, что мы видим. Это правда, поверьте. — И посмотрел на меня. — Да увезите его, наконец, домой.
— Поехали, Жиль, — говорю я и тяну его за руку. Только это все равно что дерево волочить.
А Жиль снова повернулся к Кэнди.
— Ты всегда не любила Бо, — говорит он. — Ты всех нас не любишь. Ты считаешь нас людьми второго сорта. Но это неправильно, Кэнди. У нас у всех одна плоть, и кровь, и кожа. Твоим предкам повезло, моим нет, вот и вся разница.
Она смотрела мимо Жиля, словно его здесь и не было. И вид у нее был утомленный, но ничем больше она не выдавала своих чувств.
— О господи, — говорит Жиль. — О боже мой, боже! Кэнди, если бы ты только знала, какое у тебя лицо и как мне тебя жаль.
Она притворилась, будто ничего не слышит. А может быть, и в самом деле не слышала его.
— Пошли, Жиль. — И я снова потянул его за руку.
— Неужели это никогда не кончится? — спрашивает Жиль и оглядывает всех вокруг. — Неужели это никогда не прекратится? Я делаю все, что в моих силах, чтобы это прекратить. Каждый день, буквально каждый день, я делаю все, что от меня зависит. Неужели же это не прекратится никогда?
Но никто на него не смотрел. Не то чтобы глаза от него отвели — просто в сторону глядели.
— Пошли, — говорю я ему. — Ну пошли же. Пойдем отсюда.
Он еще раз оглядел их всех; потом быстро повернулся и пошел со двора. Ну а я, конечно, за ним следом.
Лу Даймс
Я заметил, что весь последний час старики один за другим ускользают на зады. Правда, они сделали перерыв, пока здесь были Жиль с приятелем, но, едва те уехали, старики снова стали по одному исчезать на зады. Один пропадет минут на пять, потом возвратится, кивнет, и тогда следом за ним скроется на зады другой. Мейпс, казалось, не обращал на них никакого внимания, Кэнди тоже.
Кэнди привалилась к галерее, поближе к крыльцу, где сидел Мату, я пристроился поближе к ней. Не пойти ли нам, спрашиваю, пройтись — надо же нам поговорить. Нет, говорит. А не лучше ли тебе, спрашиваю, отправиться домой. Ни за что, говорит, не уйду отсюда. Да я, говорю, буду держать тебя в курсе всего, что здесь происходит. Все равно, говорит, не уйду. Зачем тогда, спрашиваю, я тебе нужен? Нужен, говорит, и все тут. Мейпс по другую сторону крыльца стоял. Он не выказывал никакого интереса к нашему разговору. Видно, как и все они, чего-то ждал. Вот только чего они ждали? Нагрянет или не нагрянет Фикс? Я не разбирался в том, что происходит. Присутствовал, не более того.
Я прошел за дом на зады. И там столкнулся с одним из стариков — он как раз вышел из уборной. Старик был при дробовике, как и все они, но дорогу мне уступил. Поравнявшись, мы кивнули друг другу.
Старикан постарался соблюсти чистоту. Да и все они, видно, старались. На сиденье не видно брызг. Только обглоданные початки, обложка старого каталога, обрывки газет да два-три бумажных пакета. Мне они были ни к чему, и, сплюнув в дыру, я вышел. На полпути к дому мне встретилась Кэнди.
— Ну как, пауков там не обнаружил? — спрашивает.
— Пауков не обнаружил. Только паутину. Шла бы ты домой, Кэнди, — говорю.
— Благодарствую, — говорит и мимо прошла.
— Мне тебя подождать? — спрашиваю.
— Нет, — говорит. — Возвращайся скорее назад, пока он не наделал глупостей.
— Кэнди, — говорю, — от тебя здесь никакой пользы. Ехала бы ты домой, а?
Она ничего не ответила. Уже скрылась в уборной. Я вернулся во двор, а через несколько минут и она вернулась и заступила на свой пост около Мату. Ее место никто не занял — хранили для нее. Кэнди и Мату переглянулись. Как ты себя чувствуешь, спрашивает она Мату. Хорошо, говорит он. Мейпс покосился на них — я перехватил его взгляд, — но им он ничего не сказал.
Потом мы увидели вдали пыль, и Мейпс знак еще не успел подать Гриффину, а тот уже выскочил со двора, размахивая пистолетом. Мейпс глядел, как Гриффин, вместо того чтобы держать пистолет наизготове, едва не хлопает им себя по ноге, и ясно было, что при первой же возможности Мейпс избавится от Гриффина.
Все смотрели, как над зарослями клубится пыль, но никто не тронулся с места. Считали, наверное, что Фикс не нагрянет засветло, а если и нагрянет, они успеют разбежаться прежде, чем он толком прицелится. Мейпс тоже не сдвинулся с места, стоял себе, привалясь к углу галереи. Ружье, конечно же, было при нем, и я заметил, что он держал палец у скобы.
Гриффин затаился в канаве за густым бурьяном, правую руку с пистолетом опустил, левой раздвигал стебли желтухи, чтобы лучше следить за деревней. Чуть погодя он оглянулся на Мейпса и мотнул головой: мол, все в порядке. Мейпс положил палец на скобу, но по тому, как он глядел на Гриффина, было ясно, что Мейпс от Гриффина избавится, едва выберется отсюда, если не раньше.
Теперь я понял, почему Гриффин мотнул головой: это приехала мисс Мерль. Затормозив чуть дальше бывшей калитки, она еще некоторое время смотрела на нас из машины. Точь-в-точь как и все до нее, хоть и приехала сюда уже во второй раз. А чуть погодя с жалобными причитаниями вылезла из машины, неся корзину, прикрытую посудным полотенцем. Первым делом подошла к Гриффину, что-то сказала ему, и Гриффин сходил к ее машине, достал еще одну корзину, прикрытую полотенцем, и пошел во двор с корзиной в одной руке и с пистолетом в другой, и по тому, как Мейпс глядел на него, видно было, что он прикидывает, а не лучше ли ему и вовсе обойтись без Гриффина. Мисс Мерль не подошла ни к Мейпсу, ни к Кэнди, ни ко мне, а начала раздавать бутерброды с первого же старика, попавшегося ей на пути. Наверное, сочла, что, раз уж мы все заодно, никому не надо оказывать предпочтения, поэтому, не переставая причитать, она начала раздавать бутерброды с первого же человека, к которому подошла.
— Где ж это видано, нет, где ж это видано! — оделяла всех бутербродами и причитала. — Надеюсь, вы любите сыр с ветчиной, потому что ничего другого у меня нет. Где ж это видано! Нет, где же это видано! Несите сюда быстрее вторую корзину, — бросила она через плечо Гриффину.
Гриффин принес полную корзину, она отдала ему пустую, и Гриффин так и остался стоять с пустой корзиной в одной руке и с заряженным пистолетом в другой.
— Почему бы вам не убрать эту штуку? — спрашивает мисс Мерль. — В кого вы собираетесь стрелять, не в борова ли?
— Как можно, — говорит Гриффин.
— Где же это видано! — говорит мисс Мерль, глядя на Гриффина. — Нет, вы мне скажите, где же это видано! — И тут поглядела на нас.
И снова стала оделять всех бутербродами. Бутерброды были аккуратно завернуты в вощеную бумагу. Поверх ветчины и сыра лежали листики салата и кружочки помидоров.
— И ты тоже хороша, — говорит она Кэнди. — И ты тоже хороша. Нет, где это видано!
Кэнди, не глядя на мисс Мерль, взяла бутерброд. Мисс Мерль возмущенно покачала головой и повернулась к Мейпсу.
— Держите. Берите два. Но пива у меня нет.
Мейпс выплюнул прозрачный обсосок леденца, с контактную линзу толщиной.
— Сойдет и вода, — говорит Мейпс. — Мату, ты не возражаешь?
— Кукиш, ну-ка принеси кувшин с водой из холодильника, — говорит Мату. — И достань пару стаканов из шкафа.
Кукиш, жуя на ходу, ушел в дом. Все мы тоже жевали. Все без исключения. Мейпс, Кэнди, Мату, Гриффин, старики, старухи, ребятишки. Все до одного. Успели проголодаться.
— Видели вы что-нибудь подобное? — спрашивает сама себя мисс Мерль. — Нет, вы что-нибудь подобное видели? Господи, смилуйся над нами! Ну как? — спрашивает она Мейпса.
— Отменные, — говорит Мейпс. — Кто их готовил?
— Джени и… — Но тут же осеклась. И стала молча глядеть на Мейпса. Южанки, черные и белые равно, умеют так глядеть. Так, словно думают, что им зазорно ходить с тобой по одной земле.
— Видите, где солнце? — спрашивает она Мейпса.
Тень от дома уже переползла через дорогу и подобралась к трактору с прицепами.
— Через час стемнеет, — говорит Мейпс.
Кукиш вернулся с кувшином и стаканами, налил Мейпсу воды. И остановился перед мисс Мерль, но она его не замечала — ее внимание было приковано к Мейпсу. У нее в голове не укладывалось, как Мейпс может спокойно пить воду, когда такое творится. У нее просто в голове не укладывалось, как могло статься, что они с Мейпсом ходят по одной земле.
— Еще один не дадите? — говорит Кукиш.
Мисс Мерль обернулась к нему.
— Что? Что? — сердито спрашивает она.
— Бутиброд, — говорит он. — Кэнди мне дать ничего не дала, а посылала… — Покосился на Мейпса и осекся.
Мисс Мерль и догадываться не стала, что он хотел сказать. Только посмотрела на него так, словно они лишь по ошибке ходят по одной земле. Кукиш стоял с протянутой рукой, ждал. Мордочка, курчавые волосенки были все в пыли, ручонка замурзанная. Мисс Мерль оглядела его с головы до ног. Ей не хотелось поддаваться жалости. Всех не пережалеешь. Где тогда положить предел?
— Держи, — говорит и сунула ему бутерброд, — а теперь ступай от меня.
— Лу тоже не помешал бы еще один, — говорит Мейпс.
— Что-что? — напустилась на него мисс Мерль.
А Мейпс все жевал свой бутерброд. От напряжения левый уголок рта мисс Мерль задергался. Ей было ясно, что бог допустил недосмотр, определив ей с Мейпсом ходить по земле в одно время. Мейпс же ни о чем таком не думал. Он ел свой бутерброд.
— Держите, — говорит мне мисс Мерль. — И разнесите бутерброды.
Я положил второй бутерброд на галерею рядом со своим местом, потом обошел всех с корзиной. Почти никто не брал второй бутерброд. Хотя они и не наелись, на всех по два бутерброда не хватило бы, поэтому, пока я не обошел всех, почти никто не взял второй бутерброд. Тогда мисс Мерль отобрала у меня корзину и обнесла тех, у кого был самый голодный вид. А сама все причитала:
— Нет, где же это видано! Господи, да где же это видано! Держи. Держи. Господи ты боже мой, да где же это видано! Держи, Простокваша. Держи, Клэту. Чумазый, это тебе. Господи, да где же это видано!
И снова подошла к крыльцу, где, привалясь к галерее, стоял Мейпс. Его охотничье ружье было прислонено к крыльцу.
— Десерта не будет, — говорит она. — Пирога на всех не хватит… — И осеклась. Почему ей вдруг вздумалось оправдываться? И почему ей вообще вздумалось тратить время на то, чтобы привезти нам бутерброды? — Господи Иисусе, нет, вы видели что-нибудь подобное? — снова спрашивает она сама себя. — Ну как, теперь ты и твои воители насытились? — неожиданно напустилась она на Кэнди.
Кэнди, уткнув глаза в землю, ела бутерброд. И оставила вопрос мисс Мерль без ответа.
— Долго еще эта игра в загадки будет продолжаться? — мисс Мерль снова напустилась на Мейпса.
— Они все как один утверждают, что они убили Бо, — говорит Мейпс. — Кого же мне арестовать? Ее?
Мисс Мерль то сжимала, то разжимала свой красненький ротик клювиком. Судя по выражению ее глаз, видно было, что она вопрошает господа, как он мог допустить, чтобы мы ходили по одной с ней земле. Господь оставил ее вопрос без ответа, и она накинулась на меня:
— Еще мужчина называется! Что за муж из вас выйдет, если вы не можете с ней справиться… — И снова осеклась. Я не хотел смотреть на нее, но чувствовал, как она сверлит меня взглядом. У нее, видно, руки чесались стукнуть меня, а не меня, так кого-нибудь еще, но воспитание не позволяло. И она накинулась на Мату.
— Вели ей, чтобы убиралась домой, — говорит.
— Ей решать, — говорит он, не переставая жевать бутерброд.
— Это с каких же пор? — спрашивает его мисс Мерль.
Мату жевать не перестал. И на мисс Мерль ни разу не поглядел. А она все глядела на него. Но не так, как обычно глядит на черного белая женщина, когда хочет ему что-то приказать или посоветовать. А так, как любая женщина глядела бы на любого мужчину, с которым ее многое объединяет.
А объединяло ее с Мату то, что они вместе взращивали и воспитывали Кэнди. Когда родители Кэнди погибли в автомобильной катастрофе, мисс Мерль и Мату поняли, что те двое в усадьбе, тетка и дядя Кэнди, не способны дать ей подобающее воспитание, и сочли своим долгом выпестовать ее сами. Ее делом было привить Кэнди хорошие манеры, его — научить понимать людей, живущих в ее владениях. И ближе, чем мисс Мерль и Мату, у Кэнди за всю жизнь никого не было.
Но Мату так и не посмотрел на мисс Мерль, и она несколько раз сжала и разжала свой ротик клювиком. А потом отвернулась от него и поглядела на нас.
— Я хочу поскорее уехать отсюда, — говорит. — А где другая корзина? — Отыскала Гриффина и выдернула у него корзину. — Делайте, что вам угодно, — говорит. — Только не вздумайте являться в усадьбу, если будете истекать кровью, потому что я никого перевязывать не собираюсь. Джени с этим не справится, потому что она полностью невменяема. А Би — потому что мертвецки пьяна.
— Я провожу вас до машины, — говорит Мейпс.
— Это еще зачем? — отрезала мисс Мерль и завела за спину одну корзину.
— Погодите! — говорит Мейпс и миролюбиво поднял два пальца вверх. — Я просто хотел поблагодарить вас за бутерброды.
Мисс Мерль так и застыла с занесенной корзиной. Мейпс не посмел ни крякнуть, ни хмыкнуть. А из остальных и подавно никто не посмел. Мне казалось, стоит мисс Мерль взмахнуть корзиной, и все кинутся врассыпную.
Мисс Мерль покачала головой.
— Нет, я не стану никого бить. Я еду домой. Если я здесь останусь, я рехнусь.
Повернулась и пошла со двора. Мейпс нагнал ее, когда она перешагнула канаву. Они постояли у машины, поговорили. Потом она села в машину и проехала дальше в деревню, чтобы там развернуться. Когда она снова миновала нас, я вышел на дорогу к Мейпсу. Он стоял, прислонясь к машине, и глядел на двор. Я пристроился рядом с ним. Теперь, когда тень совсем накрыла землю, жара немного спала. Мейпс протянул мне леденец. Я помотал головой. Знал, что у него осталось их от силы один-два и они наверняка ему еще понадобятся.
— Что же теперь будет, Мейпс? — спрашиваю его.
— Не знаю, — говорит. — Жду, что мне сообщит Рассел.
— О чем сообщит?
— Сам не знаю, — говорит он.
— Вы, похоже, не торопитесь.
— Нет, — говорит Мейпс. Поглядел на Мату, на небо, откуда уже с час назад ушло солнце. — Так и так, — говорит, — на рыбалку я уже опоздал.
Салли
От Маршалловой деревни до протока Мишель километров пятнадцать, из них около восьми — по берегу реки Сент-Чарльз, а потом надо свернуть с шоссе на узкую гудронированную дорогу и по ней проехать оставшиеся восемь километров. Проток Мишель окажется тогда справа от дороги, и все дома слева выходят фасадами на проток Мишель. Река и проток петляют, вьются по-змеиному. Проедешь метров двести по дороге, и тут же тебе поворот.
Это кэдженская земля. Здесь живет несколько белых семей, не кэдженских; несколько черных семей; а в основном-то все кэджены, и фамилии у здешних жителей по большей части в таком роде: Жарро, Бонавентура, Мутон, Монтмар, Бутан, Бруссар, Гэрен, Эбер, Будро, Ландро, — кэдженские фамилии. Попадаются здесь временами люди по фамилии, скажем, Келли или Смит, но и они называют себя кэдженами — их предки женились когда-то на кэдженских женщинах, да так и пошло. И черные, живущие возле протока, разговаривают на кэдженском французском не хуже, чем по-английски.
Это родные края Жиля. Я приезжал с ним сюда несколько раз, и мне тут очень нравится. Мы ходили на охоту, на рыбалку или просто в гости. Жиль любит своих земляков, и они все его любят — и белые, и черные. Для него нет разницы, белый или черный, он со всеми здоровается за руку, и каждый черный так и сияет от гордости, когда Жиль пожимает ему руку. Но сегодня я что-то не видел ни одного черного мужчины, женщины или ребенка, после того как мы покинули Маршаллову деревню.
Жиль облокотился на окно и глядел на деревья, растущие на берегу протока. Деревья эти — все больше плакучие ивы; их длинные гибкие ветви склонились до самой земли и воды. Изредка попадется кипарис, платан или еще какое дерево, но так все больше ивы да кустарник. Иногда мелькнет между деревьями проток. Вода мелкая, коричневая, грязная, и ничего тут не живет в той воде. Ни животных тут, ни птиц, ни растений. Только плавают сухие листья и сучки, попадавшие с деревьев. Жиль смотрел на проток и упорно молчал. Он не сказал мне ни единого слова, с тех пор как мы покинули Маршаллову деревню.
И вот он перед нами наконец, дом его родителей, большой белый каркасный дом, веранда огорожена москитной сеткой, и во все двери и окна тоже вставлены сетки. Перед домом машины — и легковые, и грузовые, — их порядком собралось, пришлось нам проехать чуть ли не сто метров, разыскивая местечко, где бы поставить свою; потом мы вышли из машины и пешком прошли назад. Возле одной из легковых стоял высокий светловолосый малый, явно поджидавший нас. Когда мы поравнялись с ним, он улыбнулся.
— Привет, Жиль, — говорит.
— Привет, Расс, — говорит Жиль. И кивает в мою сторону: — Это Салли.
Расс кланяется мне, я — ему. Обмениваемся рукопожатием.
Жиль оглядывает весь этот автопарк, скопившийся перед его домом. Возле одного из грузовиков стоят несколько мужчин.
— Тебя ждут в доме, — говорит ему Расс.
— А ты не зайдешь вместе с нами? — спрашивает Жиль.
— Я тут стою на карауле, — отвечает Расс. — Поручено следить, чтобы твой папаша никуда не двигался из дому.
— Войди, пожалуйста, вместе с нами, если ты не против.
— Ладно, как скажешь, — отвечает Расс.
Он полез в свою машину и достал оттуда галстук, висевший на зеркальце. Аккуратно завязал узел, покрепче его затянул, так же аккуратно заправил белую рубашку в серые брюки и только после этого снова полез в автомобиль и взял с сиденья пиджак. Под пиджаком оказался револьвер калибра 9,6 особого образца, с деревянной рукояткой. Он в раздумье посмотрел на него; потом сунул в ящичек и захлопнул дверцу машины. Провел пятерней по длинным светлым волосам, и мы вошли во двор.
Стоявшие во дворе люди, обращаясь к Жилю, разговаривали негромко, почтительно, я бы сказал. Было видно с первого взгляда — он для всех тут герой, но сегодня его почитатели воздерживались от восторгов. Жиль каждому кивнул, пожал руку одному или двум, но прошел к веранде не останавливаясь, не вступая ни с кем в разговор. Ни мне, ни Рассу эти люди во дворе не сказали ни словечка. Я шел по-прежнему впритык за Жилем, Расс — за мной, на расстоянии не больше двух шагов. Когда мы поднялись на веранду, стали слышны голоса из дома. Жиль толкнул дверь с сеткой, потом деревянную, и мы оказались в комнате, где находилось чуть ли не сорок человек. Мужчины, женщины, дети, кто говорит на кэдженском французском, кто по-английски.
— Bonjoure[4], Медвежонок-Жиль, — сказала маленькая девочка, подбегая к Жилю.
Жиль наклонился и ее поцеловал. Пожал кому-то руку; потом спросил об отце. Грузный мужчина в защитного цвета рубашке кивнул на одну из дверей. Жиль толкнул эту дверь, вошел в смежную комнату, Расс и я вошли следом за ним. Тут народу было поменьше — человек двенадцать. Две женщины и мальчик лет пяти, остальные все мужчины. Обе женщины сидели на кровати с четырьмя медными столбиками и сеткой от москитов в изголовье. Одна из них плакала, опустив голову, вторая ее обнимала. Фикс Бутан сидел у окна в мягком кресле, а малыш — у него на руках. Фикс — небольшого роста, с большой головой и большими руками, широкоплечий и широкогрудый. Шеи у него фактически нет, и здоровенная его башка лежит прямо на плечах, как волейбольный мяч на скамейке. Он, наверно, только что пришел из парикмахерской: волосы гладко зачесаны, виски подстрижены. Видно, к завтрашнему матчу навел красоту. Когда мы вошли в комнату, он покосился на Жиля, и я заметил, он плачет.
— Приехал, — сказал он.
— Да, папа, — сказал Жиль и поцеловал его в щеку.
Жиль погладил по головке малыша, сидевшего у Фикса на коленях; потом подошел к женщинам. Одной из них было лет восемнадцать, второй — примерно двадцать пять, а может, и под тридцать — это она плакала. Жиль наклонился к ней, поцеловал ее. Сказал ей что-то, чего я не понял, наверно по-кэдженски, перебросился несколькими словами с младшей, а затем подошел к мужчинам, с двумя-тремя о чем-то коротко поговорил, пожал им руки. Все разговаривали тихо, приглушенными голосами. Потом он вернулся к Фиксу.
— Папа, я знаю, это семейное дело, но Салли привез меня из Батон-Ружа на своей машине, а Расса я попросил зайти в дом.
Фикс кивнул мне довольно кисло, но я не обиделся — его можно было понять. Рассу даже не кивнул, а только глянул в его сторону. Повернулся к Жилю.
— Почему так поздно?
— Мы заезжали в Маршаллову деревню, папа.
— Ты его видел?
— Его уже увезли в Байонну.
Женщина, которая плакала на кровати, еще ниже опустила голову. Вторая крепче прижала ее к себе. Фикс посмотрел на них, потом опять на Жиля. Малыш прижался головенкой к его груди.
Жиль присел на кровать возле той женщины, что плакала, и молчал, стиснув руки, уставившись в пол. Фикс и остальные внимательно за ним наблюдали.
— Ну? — сказал Фикс, не дождавшись, чтобы Жиль начал разговор.
— Папа, Мейпс не хочет, чтоб ты туда ездил, — говорит Жиль и поднимает глаза на отца.
Фикс тоже покосился на сына. Мужчины вполголоса переговаривались между собой. Фикс поднял вверх свою ручищу, не высоко, но все тут же примолкли.
— Куда он не хочет, чтобы я ездил? — спрашивает Фикс.
— В Маршаллову деревню или в Байонну. Пока он за тобой не пришлет.
— Мейпс с ума сошел, — сказал кто-то из мужчин.
— Тут сойдешь, — подал голос другой.
— Мой сын, мертвый, лежит в морге, его застрелили как собаку, а Мейпс не разрешает мне приехать в Байонну? — спрашивает Фикс.
— Он сошел с ума, — повторил кто-то.
Фикс сверкнул на него глазами: мол, заткнись. У Фикса маленькие, темные кабаньи глазки, и, когда ему нужно, чтобы кто-то заткнулся, ему нет необходимости пристально глядеть — сверкнет глазками, и конец делу. Потом он повернулся к Жилю.
— Мейпс еще в Маршалловой деревне?
— Да, папа, — отвечает Жиль.
— Что он там делает? — спрашивает Фикс.
— Разговаривает с людьми, — отвечает Жиль.
— О чем он разговаривает? Он что, не знает, кто убил?
— Он считает, убил Мату.
— А зачем Мату понадобилось убивать моего сына?
— Бо вошел к нему во двор с ружьем.
— Зачем?
— Гнался за Чарли. С ружьем.
— И Мату за это его убил?
— Так считает Мейпс.
— Фикс, вам не кажется, что мы зря тратим время? — спрашивает здоровенный, нахального вида детина из дальнего конца комнаты. На нем гавайка, вся в красных, синих и желтых цветах. Сзади вылезла из брюк. Рядом с ним другой такой же тип в коричневой рубахе с короткими рукавами. На обоих брюки защитного цвета.
— Льюк Уилл, — говорит Фикс. — Может, ты и был другом Бо. Но ты не член нашей семьи, так что помолчи-ка.
— Я был ему не просто друг, — говорит Льюк Уилл. — Я был самый близкий его друг. Я был хороший друг. Вчера вечером мы вместе пили пиво.
— Все равно помолчи, — отвечает Фикс. — Здесь разговариваю я. И мои сыновья. А ты выскажешься, когда я тебе позволю. Это ясно, Льюк Уилл?
— И все же я скажу: мы зря тратим драгоценное время, — стоит на своем Льюк Уилл.
— Выйди-ка ты лучше вон отсюда, Льюк Уилл, если не можешь помолчать, — говорит Фикс.
Льюк Уилл и с места не сдвинулся. Фикс посмотрел-посмотрел на него, потом перевел взгляд на второго здоровилу с такой же, как у Льюка, хулиганской рожей, предупреждая заодно и его. А потом взглянул на Жиля; тот по-прежнему сидел на кровати.
— Ну, — говорит ему Фикс.
— Папа, что я могу сказать?
— Я жду, — говорит Фикс.
— Папа, — отвечает Жиль и подался вперед, чтобы в его лицо вглядеться. — Папа, — снова повторяет он. Но больше он не говорит ни слова.
Фикс глядит на Жиля и поглаживает маленького внука по ножке. На мальчике синие шорты и белая майка. Ботинок нет.
— Ну, — опять говорит Фикс, глядя на Жиля.
— Папа, — говорит наконец Жиль. — Я ездил в Маршаллову деревню.
— Ты уже говорил об этом.
— Я там такое видел, папа… такое, чего ни ты, ни я, никто другой из тех, кто тут находится, ни разу в жизни не видали. Собрались старики, понимаешь ты, чернокожие старики со всей деревни, и у каждого из них дробовик. Старые люди, такого возраста, как ты, как крестный, как мсье Огюст, и все с дробовиками, папа. Они ждут тебя.
— Нигеры с дробовиками ждут меня? — переспрашивает Фикс. Его темные кабаньи глазки чуть расширились. Он тесней прижал внука к груди.
— Их человек пятнадцать, может, даже больше, — продолжает Жиль. — И тут же Мейпс с охотничьим ружьем… и все они ожидают тебя.
— Ну, если ждут, тогда займемся Мейпсом и его нигерами, — предлагает кто-то из присутствующих.
— Папа, — рассказывает дальше Жиль, а сам только на отца глядит, ни на кого больше. — Старики, папа, дряхлые старики. Беззубые. С катарактами. С артритом. Старые люди. Старые чернокожие люди. Когда-то их обидели. А сейчас они ждут, не тебя, папа, — того, что за тобой стоит. Если хочешь, можешь спросить Салли. Они такие усталые, но из последних сил стараются за себя постоять.
— Для чего ты все это рассказываешь мне, Медвежонок-Жиль? — спрашивает Фикс.
Жиль просительно посмотрел на меня.
— Салли, бога ради, объясни ему.
— Я сегодня не веду бесед с твоими друзьями, Медвежонок-Жиль, а разговариваю сегодня только с тобой, — говорит Фикс.
— Папа, — говорит Жиль. Он потирает костяшки пальцев — ему очень трудно выразить то, что он хочет сказать. На футбольном поле он ведет мяч как бог, но ему ужасно трудно рассказать отцу о том, что творится у него в душе. — Папа, — снова повторяет он и наклоняется вперед, стиснув руки. Фикс молчит и ждет. — Папа, — говорит Жиль. — Всю жизнь я слышал об обидах, которые кому-то нанесла моя семья. Я и сейчас об этом слышу временами… от черных, от белых. Когда мы выезжаем в другой город, мне об этом говорят игроки из команды противника. И не жми ты на меня, пожалуйста, а то уже не мне — всем остальным Бутанам придется отвечать. Мне больно слушать, как обвиняют нас. Больно, папа. У меня вот тут болит, — говорит он, ударяя себя в грудь. — Мне больно слушать это потому, что я знаю: это неправда.
— О чем ты тут лопочешь, Медвежонок-Жиль? — говорит Фикс. — Ближе к делу, пожалуйста.
— Папа, — повторяет Жиль и снова начинает тереть костяшки пальцев. — Папа, я хочу остаться в УШЛ и играть в американской сборной. У нас хорошие перспективы — у Кэла и у меня. Это в первый раз, такого раньше не было — черный и белый играют в паре в команде южного штата. Без Кэла мне не обойтись, папа. Я целиком завишу от него. Каждый раз, когда я веду мяч, я завишу от его умения обмануть противника. Папа, я завишу от него каждую секунду, которую я провожу на поле.
Фикс молчит и смотрит на него. А Жиль все время смотрит в пол и покусывает нижнюю губу. Фикс ждет. Все остальные тоже ждут. Может, в этой комнате кто-то и дышит, но он делает это бесшумно. Малыш, сидящий на коленях Фикса, прижался головенкой к его груди и сосет пальчик. Все ждут: что еще скажет Жиль. Женщина на кровати под пологом перестала плакать. Вторая, молоденькая, сидит в прежней позе, обняв ее за плечи. Даже в соседней комнате утихли разговоры.
Жиль поднял голову и посмотрел на отца.
— Папа, если я буду замешан в чем-то противозаконном, — говорит он, — в американскую сборную мне не попасть. Пусть даже не я, пусть даже просто наша семья — газеты сразу же подымут вой, и янки меня затравят. — Жиль подался к отцу. — Папа, я нескладно излагаю свои мысли. Я чувствую: я не так сказал, как хотел. Но ты ведь понимаешь, что я хочу сказать? Ты понимаешь это, папа?
— А как быть с твоим братом, Медвежонок-Жиль? — спрашивает Фикс. И его маленькие, темные кабаньи глазки беспощадно впиваются в сына. — Как быть с Бо?
— Я любил его, папа. Хоть он и старше меня, но мы очень дружили. Он научил меня охотиться, ловить рыбу. Я любил его, папа. Но Бо уже нет. И что бы мы сейчас ни сделали, назад мы его не вернем. Ты понимаешь, папа, что я хочу сказать?
Все так же беспощадно глядят на Жиля маленькие, темные кабаньи глазки Фикса.
— Высказался? — спрашивает он.
— Папа, я не буду участвовать в этом, — говорит Жиль и качает головой. — Можешь избить меня до полусмерти, но участвовать в этом я не буду.
— Я спрашиваю, ты высказался, Медвежонок-Жиль? Ты все сказал?
Жиль глубоко втянул в себя воздух и кивнул. И опустил глаза.
— Как он тебе нравится, наш великий футболист, игрок американской сборной, скажи, Альфонс? — спрашивает Фикс. — И ты тоже скажи, Огюст.
Он обращался к двум старикам, сидевшим справа от него, но по-прежнему смотрел на сына. Старики промолчали. Один из них пожал плечами, второй и этого не сделал.
— Ну а тебе, Клод? — Фикс переводит взгляд на человека, стоящего в ногах кровати.
Клод немного постарше Жиля. Он водит грузовик, работает на нефтяную компанию в Лафейетте. Высокий парень, сантиметров так примерно сто восемьдесят пять, волосы черные как смоль, курчавые. На нем рубашка защитного цвета, темные пятна пота проступают под мышками и на спине. Он чистит ногти ножичком с перламутровой рукояткой. Даже когда отец обращается к нему, он продолжает чистить ногти.
— Как скажешь, папа, — отвечает он, не глядя на Фикса. Фикс молча кивает.
— Жан?
Жан тоже брат Жиля. Он не похож ни на Жиля, ни на Клода… и на Фикса, кстати, тоже не похож. Он такой же невысокий, как Фикс, только очень бледный. Я думаю, ему лет тридцать пять. На нем полотняный костюм в черную полоску, белая рубашка, галстук-бабочка. Он беспокойно оглядывается на сидящих рядом; потом пробирается поближе к отцовскому креслу. Фикс глядит на него снизу вверх и поглаживает внука.
— Папа, нам надо поговорить.
— Говори.
— Что мы будем делать, когда приедем в Байонну, папа? И кто поедет в Байонну?
— Ты не хочешь ехать в Байонну? — спрашивает его Фикс.
— Я живу в Байонне, папа, — отвечает Жан. — В Байонне моя мясная лавка. Но кто еще поедет с нами туда? — Он оглядывает всех присутствующих в комнате, потом снова переводит взгляд на отца. — И с какой целью мы туда поедем, папа?
— Я — посмотреть на сына, — отвечает Фикс. — На моего сына, твоего брата.
— А остальные, папа? — спрашивает Жан и кивает на группу мужчин, стоящих поодаль. — Что понадобилось этим людям в Байонне?
— Сегодня зверски убит твой брат, — отвечает Фикс. — У тебя такая короткая память, Жан?
— Нет, папа, память у меня совсем не короткая, — говорит Жан. — Я никогда не забуду сегодняшний день, никогда. Но Жиль прав. Предоставим все закону и не будем заниматься делами, в которые эти люди хотят нас втравить. Некоторые из них сейчас тут, в этой комнате.
— Эти люди наши друзья. Мои друзья и друзья Бо.
— Если они друзья нашей семьи, пусть проявят к нашей семье уважение. Им незачем ездить в Байонну до тех пор, пока Мейпс не разберется, что к чему.
— Мейпс никогда не разберется, что к чему, — подал из своего угла голос Льюк Уилл. — Бо убили несколько часов назад, застрелили, как паршивую собаку, а Мейпс еще и пальцем не пошевелил.
— Не слушайте Льюка Уилла, — говорит Расс. Он стоял рядом со мной и молчал все это время. — Не слушайте его. Льюк Уилл и его банда просто нарываются на неприятности.
— Это какая же у меня банда, Рассел? — спрашивает Льюк Уилл.
— Сам знаешь — какая, — отвечает Расс и глядит не на него, а на Фикса.
— Что, боишься имена назвать? — спрашивает Льюк Уилл. И ухмыляется скверной ухмылкой — знаете, бывает такая кривая ухмылочка, только углом рта.
— Все, кто здесь сейчас находится, в этой комнате, знают, про кого я говорю, — отвечает Расс. И по-прежнему не смотрит на Льюка Уилла. — Не надо слушать Льюка Уилла, Фикс. Он вам не друг.
— Он друг, — говорит Фикс.
— Только слово скажите, Фикс, — говорит Льюк Уилл.
— Это какое же слово, Льюк Уилл? — спрашивает Фикс и оглядывается на него.
— Мы сейчас же поедем в Маршаллову деревню.
— Это уж мое дело решать… мое и моих сыновей. А не твое, Льюк Уилл.
Льюк Уилл кивнул:
— Ладно, Фикс. Я подожду, как вы решите. А потом поеду в Маршаллову деревню.
— Не вздумай, — сказал Расс и впервые посмотрел на него.
Льюк Уилл ухмыльнулся. Здоровенный, дюжий, этакая деревенщина. Волосы у него темные, длинные, а когда он ухмыляется своей кривой ухмылкой, видно, что у него не хватает нескольких зубов. Тот детина, что с ним рядом, на вид ничуть не лучше, но хотя бы не разевает рот.
— В моем доме чтобы ничего такого, — говорит Фикс. — И ты тоже, Рассел, потише тут.
— Мое дело — любой ценой удержать вас на месте, Фикс, — говорит Расс. — И всех, кто тут есть, — добавляет он, окинув взглядом остальных. Потом снова поворачивается к Фиксу. — Я говорю вполне серьезно, Фикс. Я выполняю приказ.
— Рассел, — говорит Фикс, протягивает руку и тычет в его сторону пальцем. — Ты не можешь не выпустить меня отсюда. Удержать меня дома могут только мои сыновья. Запомни это.
— Жан и Жиль правы, — говорит Расс. — А Льюк Уилл не прав. Льюк Уилл вас втягивает в неприятности.
— В своем доме я решаю, кто прав, а кто не прав, — говорит Фикс; он громко это говорит. Левой рукой обхватил малыша, правой на Расса показывает. — Я решаю здесь. Я, Уильям Фикс Бутан, решаю все дела в этом доме.
Он в упор смотрит на Расса: будет ли тот возражать? Расс тоже смотрит на него в упор, но не говорит ни слова.
Фикс поворачивается к старику, который сидит справа от него. Оба старика сидят в креслах прямые, как столбы, слушают с большим вниманием, но не вступают в разговор. На том старце, что поближе к Фиксу, чистая, наглаженная белая рубаха и брюки защитного цвета. Шляпу он держит на колене. На втором гавайка, очень пестрая — чуть не всех цветов радуги. Брюки на нем белые, а шляпу он повесил на спинку кресла.
— Как ты посоветуешь мне поступить, Альфонс? — спрашивает Фикс того, что сидит к нему поближе. Его голос вновь звучит спокойно.
— Ты уж сам решай, Фикс, а я на все согласен, — говорит старик.
— Огюст? — обращается Фикс ко второму.
— Я старый человек, Фикс, — отвечает Огюст. — Я уже не могу разобраться, кто прав, кто виноват.
— Я тоже старый человек, — говорит Фикс. — Двадцать лет назад я не стал бы задавать вопросов. Я давно уже был бы в той деревне, а не рассиживался тут.
— Двадцать лет назад я поехал бы вместе с тобой в ту деревню, Фикс.
— Они такие же старые, как мы, — говорит Фикс. — Они ждут меня… во всяком случае, так сообщил нам этот игрок американской сборной.
— Старики с ружьями сидят и ждут, когда приедут другие старики с ружьями… Смехота, — говорит Огюст.
— Бо лежит в морге на холодном столе, в байоннском морге, слышишь ты, Огюст? Это тоже, по-твоему, смехота?
— Я крестил его, — говорит Огюст. — Я его крестный. Неужели ты не понимаешь, как горько мне сейчас?
— Вам не кажется, что мы попусту тратим время, Фикс? — подал голос Льюк Уилл из своего угла.
— Жан и Медвежонок-Жиль сказали "нет", Льюк Уилл. Даже мой добрый друг Огюст сказал "нет".
— Огюст старик, головка у него слаба, — отвечает Льюк Уилл. — Жиль и Жан дрожат за свой авторитет у нигеров. Жиль хочет играть с нигерами в футбол, хочет лапать вонючих черномазых девок. Выиграть завтра матч у Старушки Мисс — вот чего он хочет. А что касаемо мистера Жана, ему надо продавать нигерам свинячьи шкварки и потроха. Ни один уважающий себя белый их не купит.
— Это так, Медвежонок-Жиль? — спрашивает Фикс. — Честь брата — плата за то, чтобы поиграть в футбол бок о бок с черномазыми… это так?
— Теперь другие времена, папа, — говорит Жиль. — Времена Льюка Уилла прошли. Прошли навсегда.
— А мои времена? — спрашивает Фикс. — А мои, Медвежонок-Жиль?
— Папа, пойми, они прошли, эти времена, — говорит Жиль. — Времена, когда можно было собственноручно вершить суд и расправу… Прошли, их больше нет. Сейчас семидесятые годы, приближаются восьмидесятые. Это уже не двадцатые тебе, не тридцатые и не сороковые. Люди умирали — мы знаем этих людей, — люди умирали за то, чтобы такие вещи не повторялись. И времена эти прошли, надеюсь, навсегда.
— А какие же времена настали, Медвежонок-Жиль? — спрашивает Фикс. — Времена, когда открещиваются от семейной чести, чтобы поиграть в футбол? Этим временам ты радуешься, Медвежонок-Жиль?
— Я ничего не говорю о семейной чести, отец, — отвечает Жиль. — Я говорю о времени линчевателей. Я говорю о том, как понимает правосудие Льюк Уилл.
— Так я, выходит, линчеватель, так, что ли, Медвежонок-Жиль? — спрашивает его Фикс.
— Это Льюк Уилл хочет сделать из нас линчевателей, — отвечает Жиль. — Он и его банда все еще считают, что в этом мире без них никак не обойтись. Но мир переменился, папа. Льюк Уилл и его банда — вымирающая порода. И они ищут случая впрыснуть свежую кровь в полумертвые свои тела.
— А что ты скажешь насчет Бо? — спрашивает Жиля Льюк Уилл. Жиль не считает нужным оглянуться, и Льюку приходится обращаться к его спине. — Твой брат Бо, — говорит Льюк Уилл, — он что, более живой, чем я сейчас?
— Ну, отвечай-ка, Медвежонок-Жиль, — говорит Фикс.
— Бо убит, это страшное горе, отец, — отвечает Жиль. — Но я хотел бы, чтоб люди узнали: мы не такие, какими они считают нас. Ведь все ждут, что к вечеру мы нагрянем туда, в эту деревню. Все этого ждут. Ну и пусть ждут, говорю я. Пусть себе ждут, и ждут, и ждут.
— А что скажет наш почтеннейший мистер Свинячий Потрох? — спрашивает Фикс и бросает взгляд на Жана.
— Они ждут нас и готовы на все, — говорит Жан и вытирает носовым платком лицо. Потом он вытирает мокрые ладони и прячет носовой платок в карман. — Я согласен с Жилем.
Фикс смотрит на него, кивает; потом обводит взглядом остальных.
— Ну а вы все — вы-то как настроены? — спрашивает. — Считаете, что мясник и это украшение американской сборной дело говорят?
— Зря время тратим, — бурчит Льюк Уилл.
Остальные молчат. Переговариваются между собой, но ни слова не разобрать. Расс молчит, и Клод, и я молчу. Ни малейшего у меня намерения рот открывать.
— Ну, Медвежонок-Жиль, — говорит Фикс.
— Тебя они послушаются, отец, — говорит Жиль. — Растолкуй им: если мы туда поедем, наша семья опозорит себя. Мы опозорим свое доброе имя.
— И особенно твое, так, что ли?.. Ваша милость американская сборная?
— Да, папа. Это меня опозорит.
Фикс перевел взгляд на женщину, которая, опустив голову, сидела на кровати. Она давно уже не плакала, но так и не подняла головы, ни разу ни на кого не взглянула. Потом Фикс посмотрел на малыша, которого держал на коленях, и погладил его по ножке.
— Знаешь ты этого мальчика? — спрашивает он и поворачивается так, чтобы видеть Жиля. — Это наш маленький Бо. Нет у него больше папы. — Фикс глядит на Жиля пристально, он ждет: Жиль как следует должен это прочувствовать, а потом кивает на сидящую на кровати женщину. — А эту женщину, что тут сидит, ты знаешь? Это Дусетта. У нее нет больше мужа.
— Мне очень жаль, папа, — говорит Жиль. — Я сделаю все, что в моих силах, для маленького Бо и для Дусетты.
— Конечно, ты все сделаешь, — говорит Фикс. — Мы все не пожалеем сил и сделаем для них все. Но вот сейчас, прямо сейчас, ее муж, его отец, твой брат лежит мертвый на холодном столе в морге, а мы сидим тут и не делаем ни черта, а только языками треплем. Что ты на это скажешь, Медвежонок-Жиль?
Жиль опустил голову и не ответил.
— Я сидел здесь и ждал, долго ждал. Я ждал всех своих сыновей, но тебя особенно. Мы тебя послали в УШЛ. В нашей семье еще ни разу никто, кроме тебя, не входил в футбольную команду УШЛ. В нашей семье никто, кроме тебя, не получил высшего образования. Он образованный у нас, вы это знаете, Альфонс, Огюст? Мы ждали его с таким нетерпением, мистера Образованного из американской сборной. И что он говорит? Он говорит, что никуда не поедет. Он говорит, надо сидеть на месте и плакать вместе с женщинами. Потому что он хочет играть в американской сборной. Того, второго, я могу понять. Ему надо продавать свинячьи потроха. Способностями он у нас не отличался. Начальную школу окончил, и хватит с него. Но этот… сколько он учился еще до университета.
— Ничего мы тут не делаем, только время тратим зря, — снова встревает Льюк Уилл. — Мейпсу давно уже надо помочь.
— Без сыновей я не поеду, — отвечает Фикс. — Со мной должны быть все мои сыновья. Раскола в семье не потерплю. Это семья. Семья. Поедут все или никто.
— А черномазые пусть стоят себе с дробовиками и мы их даже к порядку не призовем? Им нужна война, так будет им война, — говорит на это Льюк Уилл.
Еще какие-то двое его поддержали.
— Мне нет дела до твоей войны, Льюк Уилл, — сказал, как отрезал, Фикс. — Меня интересует лишь моя семья. Если двое моих сыновей полагают, что брат их не стоит того, что ж, семья сказала свое слово. А меня интересует только моя семья.
Жиль поднял голову и посмотрел на отца. Жиль плакал.
— Мне очень жаль, папа, — сказал он.
— Жаль, Медвежонок-Жиль? Чего? О чем ты сожалеешь?
— Обо всем.
— Это не ответ. Объясни — о чем.
— О том, что случилось, папа. О нашем Бо. Мне жаль всех нас. Мне жаль, что ты считаешь, будто я против тебя. Мне жалко этих стариков в деревне. Да, папа, их мне тоже жаль.
— Ну вылитый Иисус Христос, — говорит Фикс. И осеняет себя крестным знамением. — Вылитый Иисус Христос посетил нас грешных, слышите, Альфонс, Огюст? Скорбит душевно обо всем на свете.
Двое стариков, оба тощие, сидят прямые как столбы и ни слова не говорят.
Фикс все смотрит и смотрит на Жиля. Потом его голова начинает слегка покачиваться: назад-вперед, назад-вперед, но чуть-чуть, заметить это почти невозможно. Чем дольше смотрит он на Жиля, тем сильнее покачивается его голова — назад-вперед. Черные кабаньи глазки сузились, почти закрылись. Он все смотрит на Жиля, смотрит на него так, словно ни доверия, ни веры, ни надежды — ничего на свете не осталось. Потом резко дернул головой.
— Покинь мой дом, Медвежонок-Жиль, — говорит. — Уйди. Ты на кровати своей матери сидишь. Здесь ты родился, здесь родился Бо, здесь все вы родились. Твое прикосновение оскверняет эту кровать. Иди на поле. Гоняй мяч. Пусть это будет тебе вместо семьи. Может быть, оно возложит цветы в День Всех Святых на кладбище. А тебя я больше не хочу видеть в этом доме и на этом кладбище. Уходи. Иди гоняй мяч.
Жиль ушам своим не верит. И все, кто там сидит, тоже не могут поверить своим ушам. Жиль глядит отцу в лицо, что-то хочет сказать, но язык его не слушается. Маленькие, темные глазки Фикса на широком загорелом лице говорят яснее ясного, что старик не шутит.
— Фикс. — Худой старик, сидевший к нему ближе всех, наклоняется и трогает его за плечо. — Фикс, — повторяет он.
— Я мертв, Альфонс, — говорит Фикс. — Мой мальчик, тот самый, на которого мы все надеялись, для которого вкалывали, не жалея сил, для которого всё приносили в жертву… Я умер, лучше б мне лежать сейчас в земле, рядом с моей Матильдой.
— Нет, Фикс, ты не умер, — говорит старик.
— Это они сказали, что я умер… мясник и украшение американской сборной. Я весь в прошлом, так они говорят. Любить семью, оберегать семейную честь — это тоже прошлое, так они сказали. Что же остается? Вся моя жизнь… ну, в общем, то, ради чего, считал я, стоит жить. Моя семья. Семья. Нет, для меня одно убежище осталось — кладбище в Байонне… Бо и я, мы оба ляжем там рядом с Матильдой.
— Я поеду с тобой в Маршаллову деревню, Фикс, — сказал старик. На лице его почти не замечалось особых проблесков чувства, и длинный костлявый палец, которым он тронул Фикса за плечо, был словно у покойника. — Я возьму ружье и поеду с тобой, если ты этого хочешь.
— Двое стариков, Альфонс? Огюст верно сказал. Смехота.
— К нам присоединятся остальные, я уверен. Гудо поедет с нами, в нем еще есть огонек. Монтмар, Феликс Ришар… Анатоль вылезет из кресла.
— Это семья, Альфонс, — сказал Фикс. — Единственное, за что я еще могу бороться. Стар я стал, чтобы бороться за то, за се… за справедливость. За справедливость пусть Льюк Уилл сражается. А это семья. Один из членов нашей семьи погиб от рук убийцы, и семья, только семья, должна вершить тут суд. Но эти вот не согласны. Говорят, что жизнь ради семьи — это прошлое. Ну и что мне теперь остается, как не отправиться на кладбище и не улечься там в могилу рядом с Матильдой и Бо? — Старик глядит на Жиля, а тот по-прежнему сидит на кровати. — Сказано тебе: покинь мой дом. И братца прихвати, пусть мистер Свинячий Потрох убирается вместе с тобой! Оба на глаза мне не показывайтесь. Шагай, шагай, можешь фамилию изменить, если это тебе поможет пролезть в сборную. Вон отсюда. Ступай к своему другу Мейпсу и доложи ему, что старый кэджен приедет в Байонну, когда его вызовет суд. Вот и все, говорить мне больше с тобой не о чем.
Он вытащил из заднего кармана большой красный носовой платок и высморкался. Потом снова положил его в карман, прижал к себе покрепче внука и умолк, понуро глядя в пол.
Жиль встал и повернулся к среднему брату, Клоду. Клод усердно чистил ноготь на большом пальце крохотным ножичком с перламутровой рукояткой.
— Клод! — чуть не плача, говорит ему Жиль. — Клод!
Клод продолжает чистить ноготь и молчит. Даже голову поднять не соизволил. Жиль обращается к одному из стариков, к Альфонсу.
— Крестный, — говорит он. — Я ведь всегда был хорошим, верно? Всегда слушался отца и вас, ведь так? Когда я приезжаю к отцу в гости, я всегда навещаю и вас, и всех наших соседей, что живут здесь у протока, верно? И к мессе я хожу исправно, мы ходим всей семьей. И билеты на все интересные игры я постоянно достаю для каждого из вас. Разве все это не правда, крестный?
Но старик смотрит на Фикса, а на Жиля не смотрит.
— Мсье Огюст, — Жиль обращается теперь к другому старцу, — скажите, я ведь в самом деле хороший, верно, мсье Огюст? — Но старик Огюст глядит куда-то мимо. — Дусетта, — говорит Жиль женщине, которая все так же сидит на кровати. — Похоже, ты меня больше не любишь, Дусетта? Ты уже не хочешь, чтобы маленький Бо стал таким, как я, когда вырастет? Что, Дусетта, правду я говорю? — Женщина не поднимает головы и ничего не отвечает. Жиль обводит глазами комнату. С ним встречается взглядом только Льюк Уилл и его приятель с такой же хамской рожей, и взгляд у них отнюдь не дружественный, чего нет, того нет.
Тогда Жиль снова поворачивается к Фиксу. Фикс сидит в кресле, понурив голову, слегка наклонившись вперед; он похож на высеченного из камня медведя.
— Избей меня, если хочешь, — говорит Жиль. — Выпори, и конец делу. Бей, колоти, если хочешь, только не прогоняй. Ты не выгонишь меня из дому, папа?
Фикс сидит как каменный. Он больше ничего не слышит.
Расс выводит Жиля из комнаты, обняв его за плечи, я следую за ними, так же как раньше, впритир. В смежной комнате, конечно, все уже слыхали, как все повернулось, и снова все смотрят на Жиля, только смотрят теперь совсем не так. Ему поспешно уступают дорогу, прямо шарахаются прочь; маленькая девочка, которая к нему подбегала, хочет снова подойти, но какая-то женщина, наверно мать, ее удерживает. Девчушка вырывается, мать ее не пускает и крепко прижимает ее головенку к себе.
Мы выходим на веранду. Я вижу сквозь сетку, как садится солнце за деревьями, которые растут по ту сторону протока. Полупрозрачное багровое облачко наползло на солнце, и небо как на картине — такое оно красивое и дышит миром и покоем.
— Ты не мог поступить иначе, — говорит Расс.
— Очень даже мог, — Жиль отвечает.
— Думаешь, лучше было бы? — спрашивает Расс.
— Уж хуже-то, во всяком случае, не бывает.
Мы стоим на веранде, и в скором времени туда выходят Льюк Уилл и хамло номер два, его приятель.
— Если ты вообразил себе, что это конец, ты просто чокнутый, — говорит Льюк Уилл Жилю.
— Да катись ты отсюда подальше, Льюк Уилл, — говорит Расс. — Это дело семейное, чего ты в него суешься?
— Кто-то должен ведь заняться этим делом, — отвечает Льюк Уилл.
— Тебя вроде бы никто не уполномочил.
— А может, я из принципа, может, я считаю, это мой долг, — говорит Льюк Уилл.
— Веди-ка ты себя потише, Льюк Уилл, — отвечает ему Расс. — Не суйся, будь любезен, ни в Маршаллову деревню, ни в Байонну. Предупреждаю.
— Больно сильно напугал ты меня, Рассел, — усмехается Льюк Уилл. — Да чихать мне что на тебя, что на шефа твоего толстопузого.
— Веди себя потише, — повторяет Расс. — Я предупредил тебя.
— Тихо уже не выйдет, — отвечает ему Льюк Уилл. — Когда нигеры пуляют в белых на глазах у всех, тихо уже никак не выйдет.
— Сами наведем порядок, без таких, как ты.
— Не скажи — уж если что-то началось, с этим надо побыстрей кончать, а то поздно будет, — говорит Льюк Уилл. — Им дашь разок потачку, они женщин наших насиловать начнут.
— Ну, так и знал, — Расс обращается ко мне. — Когда не действуют их доводы, они тут же приплетут женщин.
— А тебе, наверное, чихать, если чернорожие твою жену изнасилуют или дочку, — продолжает Льюк Уилл. — Может быть, они уже давно с ними живут, а тебе хоть бы хны.
И ухмыляется нагло. Явно провоцирует Расса, чтобы тот ему врезал. Но Расс держится спокойно.
— Обрати внимание на их приемчики, — говорит Расс.
Но я молчу. Пока эти лбы тут стоят, я не скажу ни слова. И рта не раскрою.
— Прошло время таких, как ты, Льюк Уилл, — говорит Расс.
— Не беспокойся ты про мое время, — отвечает Льюк. — Таких, как ты, давно уже не будет, а я останусь. Отца ты, может, и загонишь в гроб, — добавляет он, повернувшись к Жилю, — а я всегда буду жив-здоров. Пошли, Жук.
И удалились, хлопнув дверью. Здоровенные оба, крепкие деревенские мужики. Бык Коннор — он был у нас шерифом в шестидесятых годах — обычно брал себе таких в помощники. Перешли через дорогу к белому пикапу, в кузове которого стояла пирамида для ружей, а в ней два ружья. В грузовике этом имелся также передатчик, Льюк Уилл взял микрофон и начал что-то говорить. Жук, его приятель, сел за руль, и грузовик тронулся с места. Мы глядели ему вслед.
— Что ты теперь будешь делать? — спрашивает Жиля Расс.
— Сам не знаю, — отвечает тот.
— Хочешь знать мое мнение? — Расс говорит. — Возвращайся в Батон-Руж, отдохни хоть немного, а завтра выходи на поле. И играй так, как в жизни не играл.
Жиль смотрит на него растерянно — кажется, он не верит тому, что слышит.
— Как то есть? — спрашивает он. — У меня убили брата. Отец меня возненавидел, и Клод, и Дусетта, даже маленький Бо теперь ненавидит меня, а ты мне говоришь: иди играй в футбол. Ты что, спятил?
— Здесь сегодня тебе делать нечего, — отвечает Расс, — а вот завтра ты смог бы кое-что сделать для себя и для всех нас — так сыграть, чтоб на всю жизнь запомнилось. Льюк Уилл и компания не хотят, чтобы ты вышел завтра вместе с Перцем на поле. Они вообще хотят, чтобы вы с Перцем никогда больше друг к дружке близко не подходили.
— А мой убитый брат? — говорит Жиль. — Клод? Отец? Дусетта и маленький Бо? Как они на это посмотрят?
Расс пожал плечами и тряхнул головой.
— Большинство не поймет. Очень многие тебя просто возненавидят. Но игру эту покажут по телику, ее увидят миллионы, и среди них будет больше таких, кто станет болеть за вас с Перцем, а не против.
— Да плевать мне на публику! — сердится Жиль. — Я о близких своих говорю. Не о публике этой дурацкой. О моей семье.
— А я, между прочим, — отвечает Расс, — тоже думаю о твоей семье. И о маленьком Бо особенно.
— А о моем отце ты тоже думаешь? — не унимается Жиль.
— О маленьком Бо, — говорит Расс. — О маленьком Бо и его будущем — вот о чем я думаю. Ты хочешь что-то сделать для убитого брата? Сделай это для его сына, для его малыша — выйди завтра на футбольное поле. Обыграете вы Старушку Мисс или нет, в любом случае ты победишь Льюка Уилла. Потому что, если ты не будешь играть, он станет победителем завтра, а после этого, вполне возможно, и дальше будет побеждать. Не такое уж завидное будущее для маленького Бо, как ты считаешь?
— А отец? — чуть не плачет Жиль. — Я ведь убил его сейчас. Что мне делать завтра — похоронить его?
Расс кладет на плечо Жилю руку.
— Жиль, — говорит он. — Иногда приходится сделать больно одному, чтобы помочь другому. Одно растение приходится запахать, чтобы на этом месте выросло новое. Завтра у тебя есть возможность помочь маленькому Бо. И стране этой ты можешь помочь завтра. И самому себе.
Жиль отвернулся.
— Ну хорошо, — говорит Расс. — Речей было достаточно. Мне надо доложить обо всем Мейпсу. Я там, в машине, если ты захочешь со мной поговорить.
Он сошел с галереи, развязывая галстук. На полдороге к машине снял его и пиджак тоже. Повесил и то и другое на вешалку над задним сиденьем; а потом перебрался вперед и взял рацию.
— Он верно сказал, Жиль, — говорю. — Нам надо возвращаться в город.
Жиль не ответил. Стоял и смотрел на дорогу, на темневшие на берегу деревья. Пылающий круг солнца уходил за горизонт, а чуть выше багровело полупрозрачное легкое облако.
— Что ты скажешь, Жиль?
— Не наседай ты на меня, — говорит он в сердцах. — Мне надо подумать. Можешь ты, черт побери, понять, что человеку надо подумать!
Жак Тибо, он же Кроха Джек
Он приходит в мое заведение каждый день, перед самым заходом солнца, и заказывает две порции кукурузного виски со льдом. Иногда разговаривает, чаще хмуро молчит. Остальные клиенты, даже те, кто давно его знает, не вступают первыми с ним в разговор. У него постоянное место — в углу, возле сигаретного автомата. Из этого его угла видна дверь комнатушки, которая когда-то называлась негритянской. Он застолбил за собой это место еще много лет назад — из своего угла он видел, когда кто-нибудь из его негров заходил в комнатушку, и кивал мне: мол, пойди обслужи, вина принеси, пива, ну, в общем, чего спросит. Так вот, комнатушку негритянскую закрыли лет пятнадцать, а то и семнадцать назад. Когда колбасня эта началась — десегрегация; нигеры не захотели подвергаться сегрегации и перестали туда ходить. Теперь зайдут в лавку, возьмут бутылку — и на улицу, там у стенки присядут на корточки и дуют из горлышка, а в комнатушку, специально отведенную для них, не ходят. И уж, само собой, не суются туда, где выпивают мои белые клиенты. Впрочем, было как-то: раза два вперлись в бар двое нахалов, но мои белые клиенты так смотрели на них, а я их так обслуживал, так шваркал бутылки и стаканы, что они в момент смекнули: здесь они незваные гости. На том и кончилась ихняя десегрегация, и сейчас они как миленькие покупают в лавке бутылку, а угощаются на улице или в своих машинах или везут бутылку домой и дома пьют. У меня тут, понимаете ли, не "Мариотт" и не "Холидей-инн"… слава богу, пока что нет, и надеюсь, не дойдет до такого. У меня, к вашему сведению, лавочка на развилке шоссе, между рекой и протоком; тут тебе и бакалея, тут и спиртное, есть тут бар для белых клиентов, есть комнатушка для черных, и все дела. Когда лет пятнадцать-семнадцать назад нигеры отказались ходить в свою комнатушку, мне-то что — я стал им отпускать товар прямо в бакалее, через прилавок, и пусть катятся себе на улицу или куда хотят, не мое это дело, лишь бы не терлись в зале для белых клиентов. Обзывайте меня как хотите, только город у нас небольшой, а во всех маленьких городах такой обычай. Это вам не Батон-Руж и не Новый Орлеан, здесь вам не "Мариотт" и не "Холидей-инн", слава богу, пока что нет, и надеюсь, не дойдет до такого. А говорить можете что угодно, мне плевать.
Но он по-прежнему смотрит туда, в сторону негритянской комнаты, каждый день, когда приходит выпить свои две порции кукурузного виски со льдом. Комнатенка эта — я уж говорил — закрыта лет пятнадцать, а то и семнадцать, я из нее сделал кладовую, а он все смотрит, пьет и смотрит. Чтобы ни показывали по телику: футбол, бейсбол, баскетбол, японский волейбол, китайский пинг-понг, черномазые и белые снуют по экрану, черномазые и белые педики подбрасывают белых потаскушек вверх… словом, такое творится. А он сидит и смотрит на дверь. Может быть, он слышит, как там ходят призраки. Может быть, он слышит, как они поют. Иногда, если нет посетителей, я и сам прислушиваюсь, но ни разу ничего не слыхал. Бывает, крыса скребется — у меня ведь там полно мешков и пакетов с разным товаром… а так, пожалуй, больше ничего не слышно.
Скажу честно, я ему сочувствую. Он ведь, понимаете ли, ничего этого не хотел. Семейная честь, ответственность за землю — даром ему этого не нужно. А на него свалили все это, подсунули ему. Вот он и пьет по-черному, а заправляет всем его племянница. Заправляет, и ладно, ему наплевать. Пусть эта земля хоть провалится. Он даже рад будет, если провалится. К чертовой бабушке. Фамилию он носит — она ему с рождения досталась, фамилия, и на земле этой живет — он ведь ее унаследовал, но в гробу он все это видал. Потому он так и надирается. Проснулся — выпил. Поклевал маленько носом, опять проснулся — выпил опять. Снова носом поклевал, проснулся — сюда двинулся. Как часы. И все ему до лампочки. Женщины до лампочки. Шлюхи до лампочки. И политика ему до лампочки. И нигеры. Платит за их выпивку, потому что дедушка Нат или Дэн или братец его, в общем кто-то там из них, указал в завещании, чтобы он за выпивку платил. Но чихать ему на всех. Я его не сужу. Жизнь у него сложная — у таких, как он, жизнь всегда была сложная, плантация, семейная честь. Кто это выдержит? Всем ты должен, во всем виноват. Он-то, собственно, при чем? Приехал домой, а они себе поумирали и оставили все на него. Да, вот знаете, мне что в голову сейчас пришло? Может, когда он на эту дверь таращится, он их всех последними словами костерит. Не нигеров, которые здесь выпивали и пели песенки, а тех, что приволокли их сюда, тех, что эту комнату построили. Да, да, вот сейчас буквально в голову пришло — он клянет их на чем свет, когда пялится на эту дверь. Случается, иногда даже стакан мимо рта пронесет — так он на нее смотрит, на дверь эту.
Когда он вошел, у меня уже сидело двое клиентов, и с одним из них мы толковали насчет убийства. Джек только в дверь, я клиенту подал знак: мол, потише разговаривай. Нам ведь еще не полагалось знать про это. Но в таком городке, как наш, слухи разносятся быстро. Когда этот нигер Чарли не привез на завод два прицепа с тростником, как положено, к половине второго, Робер Жарро, он у Моргана на заводе десятником работает, подождал до двух пятнадцати и давай звонить да выяснять, в чем там у них дело.
Постойте-ка… я вам вот что расскажу: как у них эта механика поставлена. Когда убирают тростник, Бо доставляет на завод каждый день по шесть прицепов, шесть дней в неделю. Верней сказать, их доставляет его нигер Чарли. Первая партия — а каждый раз привозят два прицепа — часов в девять, девять тридцать. Следующая готова к двенадцати часам, но прибывает позже — Бо разрешает Чарли пообедать перед рейсом; когда Чарли поест, он привозит на завод вторую партию, в полвторого или в четверть третьего, это, конечно, от движения зависит, по шоссе ведь и другие прицепы и тягачи идут. Доставит эту партию и возвращается за третьей — ее привозит к четырем, иногда к половине пятого, это опять же от того зависит, какое движение на шоссе. Ну так вот, когда Робер увидел, что нет средней партии, той, что с полвторого до двух пятнадцати, он подождал до двух пятнадцати, а может, и до двух тридцати и потом уж позвонил Фиксу домой и спросил, в чем дело. Тогда-то ему и сказали, что случилось. Около трех Робер зашел в лавку, ну и конечно, мне рассказал. Выпил пару кружек пива и вернулся к себе на завод. Он ушел, а я сижу и жду, когда заваруха начнется. С одним клиентом потолковали про это — он мне сказал, откуда он приехал, он, оказывается, с Миссисипи. Он сказал, в их краях хорошо известно, как урегулировать такого рода дельце. А я ему говорю, тут у нас, в округе святого Рафаила, тоже люди есть, которые сумеют сделать все, что полагается. В баре в это время еще один клиент сидел, лицо бледное, задумчивый такой, сидел себе помалкивал. Даже отодвинулся от нас — от меня и от того, с Миссисипи. Мне от его присутствия ни холодно ни жарко, и этого, что с Миссисипи, он тоже вроде бы не беспокоил, сидим себе и разговариваем, словно его тут нет. А когда я увидел, что входит Джек, я сделал знак клиенту с Миссисипи: мол, потише говори.
— Приветствую, Джек, — говорю.
Он кивает. Не сказал ничего. Прошел в свой угол и сел лицом к двери бывшей негритянской комнаты. Я принес ему первую порцию — кукурузное виски со льдом. В момент усек: Джек не настроен разговаривать, я и вернулся к тому клиенту с Миссисипи.
— Пора двигаться, — сказал он. — Договорился встретиться, поужинать тут кое с кем из ваших ребят. Есть предложение: мы, может, как болельщики, небольшое пари заключим?
— Не в моих обычаях вводить в расход новых клиентов, — отвечаю я.
Он засмеялся. Хороший мужик.
— Молитесь богу, чтобы не случилось какой беды с Солью или с Перцем, — говорит он. — Наша Старушка Мисс им даст жизни.
Допил свой стакан и оставил мне пятьдесят центов.
— Спасибо, — говорю. — К сожалению, не могу пожелать вам удачи — сами знаете, за кого я болею.
Он опять засмеялся и вышел. Такой свойский, симпатичный мужик, ей-богу, симпатичный.
Он ушел, и наступила у нас тишина. Джеку нечего сказать, а тому, бледному, и вовсе уж не о чем разговаривать. Он из этих, образованных — точно говорю, — сидит и все думает, думает. Делает заказ — просто кивает на стакан. Нет того, чтобы сказать: "Эй, бармен" — или в этом роде… так, кивнет слегка на свой пустой стакан, и все дела. Я его обслужу — кивнет снова. И ни словечка. Не поймешь, черт бы его драл, в бар он пришел или в морг. Проходит таким манером пятнадцать минут, проходит двадцать, и снова Робер возвращается. Я ему так обрадовался, чуть не предложил угостить за счет заведения пивом.
— Насчет Бо слыхал? — спрашивает.
Ясное дело, Робер знал, что Джек у меня. Во-первых, у дверей его машина, ну а потом, он вообще знает, что каждый божий день Джек наведывается ко мне в лавку. Только дает мне понять, что я, мол, ничего еще не знаю, не успел узнать, что случилось.
Я и спрашиваю:
— Что такое стряслось с Бо?
— Убили его, вот что с ним стряслось, — отвечает. — А, Джек, привет! — Это он Маршаллу говорит.
Джек Маршалл ему кивает. Молча.
— Бо убили? — спрашиваю. — Как же это? Где? Когда? Уж я умею подыграть, если нужно.
— Да на плантации на этой, — отвечает Робер, а сам смотрит на Джека. — Принеси-ка бутылочку пива, — говорит он мне.
— Джек, это правда? — спрашиваю я Маршалла.
Он кивает.
Я приношу Роберу его пиво. И мы глядим друг дружке в глаза, Робер, он тоже актер неплохой, это уж точно.
— Настоящее убийство? — спрашиваю.
— Там сейчас Мейпс, допрашивает нигеров, — говорит Робер. — Мне Хилли рассказал.
— О-хо-хо, давненько же в наших местах никого не вздергивали, — говорю я. — Но сейчас уж этого не избежать, с Фиксом шутки плохие.
— С такими делами теперь покончено, — внезапно изрекает мой тихонький клиент.
Я чуть не подпрыгнул. Будто покойник вдруг заговорил! Ни словечка не обронил с тех пор, как заказал себе первую выпивку. Мы с Робером оба на него глядим, но ничего не отвечаем. А Джек, тот даже глазом не повел — сидит выпивает.
— И когда это случилось? — спрашиваю я Робера.
— В обед, — отвечает Робер.
— И Фикс до сих пор туда не заявился?
— Пока нет, — отвечает Робер.
— Заявится, — говорю я. — Прозакладываю что угодно — старик Фикс сегодня вечером будет там.
— Такое в наше время невозможно, — снова выступает этот тихонький. Говорит, а на нас не глядит. Глядит на зеркало, которое за стойкой. Потом вдруг поворачивается к Джеку. — Вы согласны со мной, мистер? Такое ведь невозможно сейчас?
Джек сперва и глазом на него не повел. Потом поглядел, помолчал. Он не любит, чтобы с ним заговаривали без приглашения.
— Не думаю, что мы достигли такой степени прогресса, — сказал он, глядя не на посетителя, а на дверь комнатушки. Чего он прислушивался — призраки, что ли, там пели?
— А я все-таки надеялся, что мы продвинулись вперед, — тихо сказал мой тихонький клиент.
И посмотрел на Джека долгим взглядом. Джек в своем безупречном сером костюме, белой рубашке, при галстуке выглядит интеллигентно. Выглядит как человек, с которым вполне можно завести интеллигентный разговор. Но Джеку все на свете безразлично. Он, когда тому клиенту отвечал, и то на него не глядел, а потом и подавно. Он в стакан свой глядел.
Робер тянул тем временем пиво, сидя неподалеку от Джека Маршалла, но не впритирку, а так, что между ними мог поместиться здоровенный толстяк. Как бы тесно ни было у меня в баре, это расстояние соблюдают все; кроме Феликса Моргана, никто и никогда не садился к Джеку ближе. Хотя приходит он сюда пить и, случается, даже других угощает, он очень здорово умеет дать понять, что он не нам чета. Феликс Морган, тот другое дело. Семье Морганов принадлежит соседняя плантация и сахарный завод, на котором перерабатывают почти весь сахарный тростник, что растет в нашем округе.
Только принялся я наливать Джеку второй стакан, входят Льюк Уилл, Жук Томпсон, Генри Тобайас, Олси Будро и парнишка этот, Лерой Холл. Раз или два в неделю эта шарага наведывается ко мне. В этот вечер я их вообще-то ожидал, но, с другой стороны, все же не думал, что они так скоро нагрянут: накануне вечером я видел всех троих — Бо, Льюка Уилла и Жука Томпсона. Само собой, я малость удивился, но, пожалуй, не очень сильно, все же такие случились дела.
— Привет компании, — говорит Льюк Уилл, а голосина у него хрипатый, басовитый.
Льюк Уилл и Жук Томпсон работают шоферами грузовиков в байоннской компании "Гравий, цемент и песок". Трое остальных, что с ними пришли, тоже работают в этой компании. А попутно поддерживают у нас в округе порядок. Ну, к примеру, скажем, школьный автобус с черномазыми опрокинуть, или в церковь к нигерам несколько змей подбросить как раз во время службы, или вытолкать нигера в шею из ресторана или мотеля, какие искони числились только для белых. Люди говорят, им за эту их общественную работу платят не меньше, чем они получают на своем цементном заводе. А вот кто им платит, этого никто не знает, а если знает кто, то не такой он дурак, чтоб ляпать лишнее.
— Ребята, — говорю, — вот денек-то выдался, а?
Они прутся к стойке. Сгрудились в одной стороне бара, а в другой сидит Джек Маршалл. Робер и тот второй клиент оказались посередке, между этой компанией и Джеком. Джек сидит и смотрит в свой стакан. Подними он голову, он бы не увидел дверь в бывшую негритянскую комнату; он увидел бы Льюка Уилла. По размерам Льюк Уилл точь-в-точь как та дверь.
— Принеси нам бутылочку, Кроха Джек, — говорит Льюк Уилл. — И еще захвати кока-колы.
— Пива, мальчики, не пьем сегодня? — спрашиваю.
— Тебе сказано: неси бутылку, — говорит Льюк Уилл и смотрит туда, где сидит Джек Маршалл. — Добрый вечер, мистер Маршалл, — говорит.
Джек глянул в его сторону и кивнул.
— Я слышал, у вас неприятности? — спрашивает Льюк Уилл.
— Лично у меня неприятностей нет, — отвечает Джек и смотрит не на него, а просто в его сторону.
— Вам разве не рассказали насчет Бо? — спрашивает Льюк Уилл.
— Я слышал, что его убили, — отвечает Джек так равнодушно, будто ему рассказали про крысу.
— Это сделал один из ваших нигеров, мистер Маршалл, — говорит Льюк Уилл.
Вот теперь Джек Маршалл посмотрел на него. Не просто в его сторону, а на него.
— У меня нет нигеров, — сказал он. — Никогда их не было. Никогда не хотел их иметь. И никогда иметь не буду. Все нигеры принадлежат ей.
— Где Кэнди? — спрашивает Льюк Уилл.
— В деревне, я полагаю.
— Защищает своих черномазых?
— Не имею ни малейшего понятия, чем она сейчас занята.
— А Мейпс торчит там до сих пор. Тоже мне сыщик.
— Да, насколько мне известно, — отвечает Джек. — А теперь, если не возражаете, я допью свое виски.
— Я вас буквально еще на секунду задержу, мистер Маршалл, — говорит Льюк Уилл.
Джек Маршалл уже на него не глядел. Поскольку двери все равно не видно, рассудил он, то лучше уж смотреть в стакан. Услышав просьбу, он не поднял головы. Мне лично кажется, с такими, как Льюк Уилл, он отродясь так долго не разговаривал. Я хотел было сказать Льюку Уиллу: отстань от человека, мол, а потом вдруг подумал: "А ну их всех к чертовой бабушке. Джек Маршалл вроде бы здесь не хозяин, хозяин — я. А ходит он сюда по той единственной причине, что мой салун расположен ближе всех остальных к его шикарной усадьбе". Джек поднял голову.
— Я считаю, Мейпсу надо помочь, — говорит Льюк Уилл.
Джек взглянул на него с таким безразличием, словно перед ним дерево или столб. Дверь комнаты для нигеров, видно, была для него куда интереснее, чем Льюк Уилл.
— Я надеюсь, вы не против, — говорит Льюк Уилл.
— Вы имеете в виду, — осведомился Джек, — что мне следует отправиться в деревню и помочь ему?
— Не совсем так, — отвечает Льюк Уилл.
— Тогда что же вы имеете в виду? — спрашивает Джек. Льюк Уилл и его парни, все пятеро, смотрели на Джека в упор. Все мы знали, что имеет в виду Льюк. И Джек знал. Льюк ни словечка больше не сказал. Никто не сказал ни словечка. Я продолжал свои дела: поставил на стойку бутылку "Олд Кроу", стаканы, кока-колу и вазочку со льдом. Льюк Уилл и его дружки стали сами себе наливать и полезли в вазу прямо лапами. Я покосился и увидел на дне вазочки песок и грязь. Кое-кто из этих ребят не вымыл рук после работы.
— Закон не сразу начинает действовать, — тихо сказал мой задумчивый клиент. — Но он лучшее, что у нас есть. Кажется, слова Черчилля? — Он вынул трубку. — У вас нет возражений, джентльмены?
Никто ему не ответил. Он раскурил свою трубку.
Льюк Уилл приложился к стакану и выдул залпом половину. Потом еще раз приложился, и на донышке остался только лед, а Льюк велел мне повторить.
— Старик участвовать в этом деле не будет, — сказал он.
— Как то есть? — спрашиваю я.
— А его сынок отговорил, игрок американской сборной, — отвечает Льюк Уилл.
— Врешь, — говорю я.
Льюк Уилл и его дружки все разом на меня посмотрели.
— Ты чего это сейчас сказал, Кроха Джек? — спрашивает Льюк Уилл.
— Я просто так, — отвечаю. — Господь свидетель, просто так. Ну сорвалось с языка, сорвалось вдруг с языка нечаянно, когда ты сказал, что Фикс туда не собирается. Ну бывает же, сорвется что-то с языка.
— А ты поосторожнее со мной, Кроха Джек, я мужик горячий, — говорит Льюк Уилл.
— Все понимаю, — отвечаю я. — Как же мне не понимать? Послушайте, ребята, вы не против, если я вас угощу? Чтобы было ясно, за кого я болею душой. С вас за эту бутылку ни пенса не причитается. Никто не возражает?
Никто не возражал, и мне стало поспокойней. А то в голову уже полезло, например, что под стойкой у меня бейсбольная бита. Дело ясное, куда мне против пятерых, но, уж если б до того дошло, я схватился бы и за биту.
— Я считаю, что он сделал правильно, — сказал тот с трубкой.
Ну чего ему вздумалось рот разевать, когда я только-только их утихомирил? Он ведь даже их не знает, этих парней. Сам же видел: еще чуть-чуть, и они бы через стойку на меня полезли, а я все-таки их знакомый. Да они его линчуют, как последнего нигера, и все дела.
— Что такое вы сказали, мистер? — спрашивает Льюк Уилл.
— Пусть всем этим занимается закон, — отвечает чудик с трубочкой и даже не глядит на Льюка Уилла.
— Послушайте-ка, мистер, а откуда вы взялись? — спрашивает Лерой. — Может, вы из этих, из нью-йоркских янки, еврей из… как его там? Общества помощи черномазым? Я случайно не угадал?
Чудик вынимает изо рта свою трубочку и смотрит на Лероя. Лерою лет семнадцать, восемнадцати, думаю, нет. Вообще-то не положено ему спиртное отпускать, но он с такой компанией явился — одурел я, что ли, лезть на рожон.
— Техас, — отвечает ему трубокур. — Лафейетт. Преподаю в университете.
— Ты там их про черномазых учишь, что ли? — Лерой спрашивает.
— Среди прочего, — отвечает этот тип, — я преподаю и негритянскую литературу. — Сдвинул трубку в угол рта и глядит на Лероя в упор. Так глядит, словно хочет понять — что это перед ним такое? С вами бывало так — зайдешь к мяснику, увидишь тушу, ободранную, выпотрошенную, с отрубленной головой, и сразу не разберешь, что же это такое было. Вот так он, учителишка этот, на Лероя смотрел.
— Вы на уроки не опоздаете? — спрашивает Лерой.
— В пятницу вечером нет уроков, — говорит учитель.
— Ну хоть один какой-нибудь есть. Поднатужьтесь-ка, напрягите память.
Трубокур задумался на несколько секунд; потом покачал головой.
— Ни единого. Ни одного не могу вспомнить.
— Тогда, может быть, ты просто двинешь к себе в Лафейетт и устроишь там урок сверх расписания, — говорит Лерой и подступает к нему.
— Эй, Лерой, ты что? — говорю я. — Уйми свои нервы.
— Не надо волноваться, — отвечает Лерой и смотрит на учителя. — Не надо волноваться.
Он допил свой стакан, подошел ко мне и попросил еще один. Я взглянул на этого, с трубочкой. Не люблю я выгонять из своего салуна белых, мне это претит, но до чего же мне хотелось, чтобы этот тип поскорей отправился восвояси.
— Значит, Фикс предоставил действовать Мейпсу, так, что ли, Льюк? — спрашивает Робер. И поднимает пустую бутылку — мол, пора тащить еще одно пиво.
— Это не он, — отвечает ему Льюк Уилл. — Это его недоносок из американской сборной и Свинячий Потрох, торгаш из Байонны. Это они, паразиты, заморочили ему башку. Он хотел туда поехать, но без них не хочет. Когда я уезжал, он плакал.
— Господи боже мой, — говорю. Обслужил Робера, получил с него деньги. — И куда мы только катимся? — говорю. — Это же уму непостижимо, куда мы только катимся.
Джек закруглился и поставил стакан на стойку.
— Доброй ночи, — говорит, — и стал выбираться из своего угла.
— Уходите, Джек?
— Ухожу.
Джеку надо было пройти мимо Робера и этого чудика, и тут вдруг чудик этот поворачивается к нему.
— Сэр, — говорит он. — Разве это не ваша плантация?
Джек остановился, смотрит на него. Джек не любит разговаривать с незнакомыми, разве только сам с кем заговорит.
— Какая плантация? — спрашивает.
— А та самая, где убили Бо.
— Мне принадлежит ее третья часть, — говорит Джек.
— А вам не кажется, что вы обязаны вмешаться?
— Там находятся представители закона, — отвечает Джек. — Им за это деньги платят.
— Я имел в виду другое, — говорит этот университетский деятель.
— Что именно?
Чудик смотрит на него и молчит. И Джек на него смотрит, с непроницаемым таким лицом.
— Сэр, вы производите впечатление интеллигентного человека, — говорит чудик.
— Надеюсь, — отвечает Джек. — И что из этого следует?
— По-моему, у вас должно быть чувство ответственности за ту деревню, за людей, которые в ней живут.
— Живут они совсем неплохо, — отвечает Джек. — Не платят ренты и вообще ничего не платят.
— Ну а то, что происходит здесь сейчас, — вас это нисколько не тревожит?
— Не вижу ничего особенного, — отвечает Джек. — По-вашему, что-то происходит?
Этот глядит на Джека — совсем оторопел. Он просто Джека не знает.
— Но ведь в конечном счете за все это будут расплачиваться такие люди, как вы и я.
— Разумеется, — отвечает Джек. — Я лично расплачиваюсь уже семьдесят лет. А вы сколько?
— Нам этот долг никогда не оплатить — ведь мы за все это в ответе, — говорит учитель.
Джек хмыкнул. А лицо все такое же непроницаемое.
— Если вам у нас так тягостно, возвращайтесь в Техас, — сказал и вышел из лавки.
Сел в машину, дал задний ход и двинулся вдоль реки. Тени от деревьев на берегу теперь уже все закрыли. Скоро стемнеет, Льюк Уилл и его дружки торопливо накачивались спиртным.
— Культурненько он тебя приложил, — сказал Лерой учителю.
Тот на него даже не глянул. Смотрит в зеркало за стойкой, а на Лероя — ни-ни. Лерой здорово набрался. Мальчишка, морда детская и красная, как свекла. Глаза его, голубенькие, еще голубее стали. Губки бантиком, алые, прямо пылают, такие губки бы девчонке, а не парню.
— Тащи еще одну бутылку, Кроха Джек, — говорит Льюк Уилл.
— Конечно, мальчики, конечно, — говорю я. — Вы не забывайте: первая — за мой счет.
Я с нажимом сказал "первая", чтоб знали: эта новая уже не за мой счет. Я так подсчитал: оскорбление, что я ему нанес, когда обозвал вруном, не тянет на две бутылки.
Выставил я на стойку бутылку и лед, и они все враз на нее навалились. Покосился я еще раз на вазочку. Да, уже все донышко покрыто грязью да песком. Кое-кто из этих ребят, видать, вообще к умывальнику не подходят.
— Эй, ты там! — кричит учителю Льюк. — Тебе не кажется, что пора бы уж собираться?
— Я как раз об этом думал, — отвечает тот.
— А ты не думай, — говорит Льюк Уилл. — Ты мотай отсюда.
Техасец выколотил из трубки золу на ладонь, потом высыпал в жестяную пепельничку — я всегда ее держу на стойке.
— Вы думаете, ребята, вы правильно поступаете, когда сами вершите суд?
— Ты уйдешь — или тебя проводить? — спрашивает Льюк Уилл.
— Я ухожу, — отвечает учитель. — Но на прощание я скажу вам несколько слов. Не делайте того, что вы задумали. Не надо. Ради нашего Юга. Ради Соли и Перца, не надо этого делать.
— Жук и Генри, проводите джентльмена к машине, — говорит Льюк Уилл. — А если у него нет машины, пусть топает в свой Лафейетт пешком.
— Льюк, я тебя прошу, — говорю я. — Это же белый человек. Неприятности будут.
— Если белый, пусть ведет себя как белый, — отвечает Льюк Уилл. — Жук, прихвати с собой Генри; валяйте.
Жук Томпсон и Генри Тобайас двинулись к учителю. Тот — руки вверх.
— Ухожу, — говорит.
— И пока ты не придешь в свой Лафейетт, не останавливайся, — сказал Льюк Уилл. — Я твой университет мигом найду. Каждый день мимо вашего озера езжу.
Учитель бросил взгляд на Робера, но Робер сидел опустив глаза и рассматривал свою бутылку пива. Тогда учитель взглянул на меня, но было ясней ясного — я тоже не на его стороне. Не то чтоб я желал ему зла, но в нашем городе он чужой человек, а это мои постоянные клиенты… и я, в конце концов, не идиот. Мне вовсе ни к чему прийти в один прекрасный день к себе в лавку и обнаружить, что она кишмя кишит гремучими и мокасиновыми змеями.
Увидев, что никто ему не сочувствует, бедняжка сам себе кивнул и вышел. Видик у него был тот еще: будто он один взвалил весь мир себе на плечи.
— А тебе, Кроха Джек, надо все же соображать, кого ты пускаешь в свое заведение, — отчитал меня Льюк Уилл.
— Разве книгу угадаешь по обложке? — отвечаю. — Зашел в лавку — человек как человек. Ну, болезненный, немножко нервный с виду, а вообще-то вполне нормальный.
— В дальнейшем будь поосторожней, — говорит Льюк Уилл.
— Само собой, — отвечаю. — Ты же меня знаешь. Я в лепешку расшибиться готов для своих постоянных клиентов.
— Еще глоток, и я кому-нибудь дам прикурить, — говорит Лерой и наливает себе виски. — Просто руки чешутся. Пошли, что ли. Дадим там этой сволочи прикурить.
— Спокойно, твое от тебя не уйдет, — отвечает Льюк Уилл. — Ты все успеешь, детка.
— Ребята, я по пятницам закрываю в десять, — говорю я. — Сами знаете, старуха ждет.
— Сегодня у тебя будет открыто ровно столько, сколько нам захочется.
— Конечно, ребята, конечно, — отвечаю. Я себе сразу представил всех этих гремучих и мокасиновых змей, которые ползают по моей лавке. — Я на все готов для постоянных клиентов. — Говорю, а сам гляжу на Робера. Он как раз пиво допивает. И уже поглядывает через плечо в сторону двери. — Повторить не хочешь? — спрашиваю я его. Мне главное, чтоб он со мной в лавке остался. Господи ты боже, мне ведь позарез надо, чтобы он со мною тут остался. — Теперь за счет заведения, — говорю я. — За счет заведения, я угощаю.
— Нет, я домой пошел, — отвечает Робер. — Я дома не был целый день. Спокойной ночи.
— За счет заведения, — повторяю я. — Заказывай что хочешь. Две бутылки любой марки.
Он вышел. Было слышно, как он сел в машину и уехал. В ту сторону, где пили Льюк Уилл с дружками, я не глядел. Я стоял и, не отводя глаз, смотрел на другую, опустевшую часть стойки, и мне было страшно и одиноко. Все молчали. Но я шкурой чувствовал: они наслаждаются моим страхом.
— Ты только глянь на него, глянь, — заговорил Лерой. — Во трясется-то, как старый нигер. Эй ты, будешь теперь знать, как старый нигер трясется. Ты только глянь на него, ты только глянь.
Я не повернулся, и тогда он стал подвигаться ко мне вдоль стойки. Заглянул мне прямо в лицо и, тыкая в меня пальцем, заржал во всю глотку. Он упился в стельку, забалдел так, что дальше некуда, — личико круглое, на девчонку смахивает, и губки бантиком, — как тот идиот, что у нас как-то выставляли на ярмарке.
— Допьем эту бутылку — и ходу, — сказал Льюк Уилл.
Элберт Джексон, он же Кочет
Мисс Мерль уехала и корзины увезла, а Лу пошел на дорогу, к Мейпсу. Прислонились к Мейпсовой машине и глядят оттуда на нас. Я в это время возле самого краешка галерейки пристроился, а мимо меня все ходят за угол дома в сортир. Как раз Сажа вышел из сортира, и я примечаю: нагинается он и берет патроны из коробки, что под домом стоит. Он две штуки взял. Одним зарядил ружье, другой в карман положил. Мы все так делали. По нужде-то, конечно, тоже заодно ходили, но не только по нужде. Клэту нам сказал, где она стоит, эта коробка. И каждый раз, как кто из нас идет в сортир и белые на него не глядят, он нырнет под дом да и вытащит из коробки пару патронов. Никому и невдомек, чем мы занимаемся. Ни Бьюле, моей жене, ни другим бабам, ни даже этому чокнутому Джеймсону. Мы больше всего боялись, чтобы он не проболтался, Джеймсон, за других мы не боялись.
Вскорости после того, как воротился Сажа, в машине радио заговорило. Мейпс открыл дверцу и давай в трубку бубнить. Сперва затрещало, потом чей-то голос услыхали, потом снова затрещало, потом высказался Мейпс. Так оно и шло минутки три: треск, голос, обратно треск, Мейпс. Потом Мейпс повесил трубку на место и вернулся с Лу во двор. Ухмыляется. Да только как-то по-чудному, вроде как втихую, сам себе. Только по одним по глазам видать.
— Добро, — говорит. — Всем собраться здесь.
Стал народ сходиться не спеша. День этот был очень длинный. Солнце садилось. Из бурьяна москиты налетают. Все мы уморились за день, но пока еще не собирались расходиться по домам. Пусть сперва все решится, тогда пойдем.
— Похоже, братцы, поздновато вы расхрабрились, — Мейпс говорит. — Фикс не приедет сюда.
Усмехается. Брылы его так и раздулись. Усмехается и оглядывает нас. Но никто не улыбается ему в ответ — потому никто ему не верит. Не хотим верить — уж больно тяжело дался нам этот день, чтобы все так закончилось.
Джонни Пол заговорил первым.
— Вранье, — говорит.
Джонни Пол стоял от Мейпса совсем близко. Только Мейпсу не хотелось пускать в ход кулаки. Он решил, что будет просто скалить зубы и молчать. Арестовать Джонни Пола и излупить его он ведь мог когда угодно. А сейчас с него вполне хватало ухмыляться Джонни Полу в лицо.
— Говорю вам, все это вранье, — повторяет Джонни Пол, а сам в нашу сторону повернулся. — Ему надо, чтобы мы разошлись по домам. Фикса вы не знаете, что ли? Как это он может не заявиться сюда?
Тут все мы стали говорить, что знаем Фикса и что Фикс как пить дать заявится сюда.
— Как же! — говорит Мейпс и обратно ухмыляется.
— Это он нарочно — хочет сплавить нас отсюда, — говорит Джонни Пол. — Белые нам вечно голову морочат. Поглядите — вон кровь на траве. Это кровь его сына. И вы думаете, Фикс не заявится, когда на траве его родная кровь!
— Как пить дать заявится. — Это Мэт говорит.
— Сдохнуть мне, если не заявится, — говорит Джонни Пол. — Вы поглядите только на то место, где его сын на траву упал.
Поглядели все мы на то место. Трава примятая, и кровь еще видна.
— Сказано вам: не приедет, — Мейпс свое твердит. — Так что валите по домам.
— Брешет он, — Джонни Пол снова к нам повернулся. Потом к Мейпсу: — Слышишь ты, шериф, как я перед всеми этими нигерами вруном тебя обзываю? Может, хочешь засадить меня за решетку?
Мейпс качает головой. Потом говорит и при этом тыкает в Джонни Пола пальцем:
— Тебе хочется героем нынче стать, Джонни Пол… с моей помощью. Но я тебе не помощник.
Мы стоим все и на Мейпса таращим глаза. Что нам делать, как нам быть? Верить-то ему не хочется, даже если и не врет. Накрутили мы себя и без боя теперь не уйдем.
— Не похоже больно все это на Фикса, — с галерейки Клэту говорит. — Никакая сила его нынче не удержит.
— Вот тут-то ты и ошибся, Клэту, — говорит Мейпс, подходит к галерейке и глядит снизу вверх на Клэту. — Я ведь тоже сперва так думал. Потому как, видишь ли, и ты, и я, и остальные, что тут собрались, все мы представляем себе Фикса, каким он был лет тридцать назад. Тридцать лет назад Фикс непременно бы сюда примчался, на ближайшем дереве повесил бы Мату, а остальные храбрецы, что сейчас тут собрались, по домам своим сидели бы, запрятавшись под кровать. Но за последние десять-пятнадцать лет кое-что случилось. Соль и Перец стали играть вместе. И это дело ваших рук, больше ничьих, — говорит Мейпс и оглядывает всех нас. — Только ваших рук это дело. Вы его сварганили. Не нравилось вам, что в одном районе города Соль играет в УШЛ, а в другом районе Перец добивается победы для "Южанина"… нет, как же можно?.. им надо вместе играть. Вы ведь богу молились, чтоб они играли вместе. И вот они играют вместе, и глядите теперь, что получается. Соль едет домой, потолковать с папашей. Жиль — тот белый парень, что заходил во двор, это его ведь называют Соль. Да вы все знаете его, сто раз видели по телику. Съездил он домой и объявил папаше, что он без Перца шагу не может ступить, так же как Перец без него. Он сказал папаше твердо, что не поедет учинять суд Линча над Мату. Он сказал своему папаше, что, если фамилия Бутан хоть один раз просочится в газеты, в американскую сборную ему не попасть. Так-то вот. А кто все это сделал? Да вы это и сделали, — говорит Мейпс и ходит по двору. Ходит, ходит и каждому из нас в лицо засматривает. Постоит, посмотрит на одного, потом дальше двинется и снова встанет и на другого глядит. — Вы все это сделали — сами себе испортили всю музыку. Все просили у бога, чтобы не разлучались Соль и Перец, вот бог и сделал это для вас. И в то же время вы хотели, чтобы бог сохранил вам Фикса в точности таким, каким Фикс был тридцать лет назад, так чтобы в один прекрасный день вы смогли при удобном случае всадить в него пулю. Да только сам бог не может сделать и то и другое вместе. Не скажу, чтобы ему был так уж симпатичен Фикс, просто ему больше приглянулась другая идея — Соль с Перцем заодно. Ну? Чего хотите? Чтобы Соль и Перец играли вместе; или вы хотите, чтоб господь сохранил Фикса в точности таким, как тридцать лет назад, и предоставил вам возможность всадить в него пулю? Валяйте, решайте. Лично я не сомневаюсь, что господь сейчас сидит и ждет, чего вы там решите.
Мы все подумали, что Мейпс с ума сошел. Потом глядим: он просто светится — так доволен. Я за всю свою жизнь не видал, чтобы белый так радовался. Такой вид у него, будто он готов расцеловать первого встречного.
— Так и будем молчать? Может, кто-то скажет что-нибудь? — говорит он и оглядывает нас.
А мы не знаем, что ему сказать. Как нам быть теперь, не знаем. И тихо стало. Тишина кругом. Во все уши слушай, все равно ничего не услышишь. Никто не шелохнется. Ни звука. Тишина.
Мейпс повернулся к Мату — тот на краешке ступеньки сидел.
— Готов ты, старик?
— Готов, — говорит Мату.
А Кэнди с самого начала стояла возле Мату — и ни на шаг от него. Даже когда Мейпс мимо проходил, она и бровью не вела. Кто ее знает, может, она даже не слыхала ни единого его слова. Пока Мейпс с Мату не заговорил, она на него ноль внимания, ну а тут сразу вышла на дорожку. Спокойненько так вышла на дорожку и стоит, сложивши руки.
— Вы что это затеяли? — спрашивает Мейпс. — Представление окончено, неужели не ясно?
Кэнди ни слова в ответ. Тут женушка моя сходит со ступеньки и становится рядом с Кэнди. Ну а я рядом с женой. А потом уж и все прочие к нам привалили. Гло с тремя внучатами. Даже Коринна и та с галерейки сползла и приковыляла во двор.
Мейпс стоит, глядит на нас во все глаза. Одну руку положил Мату на плечо, в другой держит ружье.
— Я сказал: представление окончено, — говорит. — Не вынуждайте меня применять силу.
Все как стояли, так стоят.
— Очисти мне дорогу, Гриффин, — Мейпс говорит. — Я не собираюсь каждого тут обходить. Если надо, примени оружие.
Гриффин в сторонке, возле огорода, стоял, а пистолет его за пояс был заткнутый. Он его вытащил и — к нам. Тогда Мэт, Персик Белло и один из братьев Леженов подняли свои дробовики. Не так чтоб очень высоко. На уровень пояса.
Гриффин приостановился.
— Стойте, — с галерейки Клэту кричит. — Стойте, погодите. Шериф, можно нам потолковать? Можно мне и остальным мужикам в доме с Мату поговорить?
Мейпс ничего не отвечает, только смотрит на нас. И Гриффин тоже смотрит. Он ведь не знает, заряжены наши дробовики или нет, рисковать ему неохота.
Мейпс оглянулся на Клэту.
— Поговорить? — спрашивает. — О чем говорить? Я тут весь день ваши разговоры слушаю.
— Ну дай нам несколько минут, — просит Клэту. — Неужели тебе несколько минуток жаль?
Мейпс опять на нас глядит, на тех, кто поперек дорожки стал. Вслед за теми тремя еще кое-кто подняли дробовики.
— Ладно, — отвечает Мейпс Клэту. — Получай свои минутки. Только не тяни. Я устал.
— Все взойдите в дом, — говорит нам Клэту. — Нет, Кэнди, тебе туда нельзя, — это он Кэнди говорит.
— Как это нельзя? Какой может быть разговор без меня? — вскинулась Кэнди и идет со всеми вместе к галерейке.
— В этот раз, Кэнди, придется все же без тебя, — стоит на своем Клэту. — Одни мужчины с ружьями будут держать совет.
— Черта с два, — говорит Кэнди. — Здесь я хозяйка.
— Я это знаю, Кэнди, — говорит Клэту. — Но сейчас ты нам не нужна.
Тут она остановилась: никто отродясь с Кэнди так не говорил — ни белые, ни черные, уж от черных-то она никак не ожидала таких слов.
— Что ты плетешь? — говорит она. — Да ты знаешь, где находишься? Да ты соображаешь, с кем говоришь? Чтобы духу твоего на моей земле не было.
— Я никуда не уйду, Кэнди, — Клэту говорит.
— Что?!
— Не уйду, покуда дело это не уладим, — отвечает ей Клэту. — Я уже шерифу говорил: я готов и за решетку сесть, я готов сегодня даже умереть. Уж в такой день я приказов слушаться не стану.
Ох и рассерчала же она. Прямо трясется вся. Смотрит в упор на Клэту, чтоб он глаза опустил, а Клэту, наоборот — прямо в глаза ей глядит. Тут она к Мейпсу поворачивается. Чудеса — случись такое, ей бы и поворачиваться к Мейпсу не надо: Мейпс и так бы мигом согнал с галерейки Клэту, пусть бы даже пулей пришлось его снять. Только на этот раз Мейпс улыбнулся ей, и все дела. Ему, видать, понравился такой поворот: один из нас, из нигеров, с Кэнди в спор вступил. Тогда Кэнди повернулась к Лу. Лу протянул ей руку и зовет: "Иди сюда". Тут-то она на нас и накинулась.
— Ладно, слушайте себе на здоровье Клэту, если вам охота, — говорит. — Одно только запомните: у Клэту своя земля есть. А у вас ничего нет, живете на моей. Сделайте, как он вам говорит, и жить вам будет негде.
Тут Мейпс как захохочет. Теперь уж громко, не про себя.
— Ну-ка, ну-ка, — говорит он нам. — Ишь как ваша спасительница заговорила! Не перечьте ей, не то останетесь без крыши над головой. Все слышали?
Тут Кэнди на него накинулась:
— Вы нас весь день стараетесь поссорить!
— А вам угодно, чтобы они до конца своих дней оставались вашими рабами? — Мейпс отвечает ей.
— Нет тут никаких рабов, — говорит Кэнди. — Я их просто защищаю, как защищала всегда. И родители мои, и деды тоже их защищали. Спросите у них.
— Ваши деды по крайней мере позволяли им друг с другом разговаривать, — говорит Мейпс. — Вот почему они здесь возвели церковь. А теперь вы вздумали и это право у них отобрать.
Кэнди не знала, что ему ответить, Мейпсу. И напустилась на Мату.
— Ты этого хочешь? — спрашивает она его. — Хочешь, чтобы вы там в доме собрались… без меня?
Мату качает головой.
— Кэнди, я просто устал, — говорит. — Если они так хотят, пусть будет так, я не против. Я хочу, чтобы все это кончилось поскорей.
Кэнди ни словечка не сказала. Вспрыгнула на галерейку, ровно кошка, шмыг мимо Клэту и — руки в боки — стала в дверях.
— Ну, входите, кто пройдет! — говорит.
— Слушайте, отойдите от двери! — кричит ей Мейпс. — Люди хотят поговорить, пусть поговорят. А вы кончайте это, спускайтесь.
Кэнди ничего не слушает, подбоченилась, стоит и глядит на всех — мол, попробуй подойди.
— Гриффин, — Мейпс помощнику говорит. — Поднимись туда и оттащи ее от двери.
Недомерок этот Гриффин, как был с пистолетом в руке, сделал два шага к галерейке, потом остановился.
— Ты чего это? — Мейпс спрашивает.
— А он знает, что я ему в зубы дам, — Кэнди с порога кричит.
— Поднимайся на галерею, Гриффин, — говорит Мейпс и наступает на него.
Гриффин же на галерейку не идет, а от Мейпса увильнул. Мейпс-то больно толстый, где уж ему Гриффина ловить. Мы хохочем все. Мейпс осерчал на нас — велел заткнуться. А потом опять к галерейке повернулся.
— Спускайтесь, Кэнди, — говорит. — Уж если я на крыльцо поднимусь, можете не сомневаться, упеку вас в тюрьму.
Кэнди стоит и бровью не ведет.
— Иди сюда, Кэнди, — говорит ей Лу. — Ну чего ты цирк устроила?
— А у нее цирк с самого утра, — Мейпс говорит. — Вы скажите ей, пусть немного подумает головой.
А Кэнди — руки в боки — стоит себе в дверях. Старуха моя, Бьюла, засмеялась:
— Не уступай им, золотко, — кричит. — Никому не поддавайся.
— А ты заткнись, зараза старая, — Мейпс Бьюле говорит. — Очень я устал от вас. Устал. Понятно?
— Разрешите, я с ней потолкую, шериф, — говорит Мату и поднимается на галерейку.
Кэнди смотрит, как подходит к ней Мату. Сама сперва стоит, как стояла, — руки в боки; потом выставила вперед кулаки — вроде бы ударить собралась Мату, если он чего-то не так скажет. Но вот Мату к ней совсем близко подошел, и мы все увидели: совсем другое стало у нее лицо, и кулаки разжались.
— Я хочу, чтоб ты пошла домой, — сказал Мату. Не громко. Ласково так, спокойно. Он, бывало, так разговаривал с ней, когда она была еще маленькой.
Кэнди покачала головой.
— Так надо, — говорит Мату.
Она снова головой качает.
Много лет назад, когда ей было годочков пять или шесть, она каждый день, бывало, приходила к Мату и играла у него во дворе и по огороду всюду за ним ходила по пятам. Перед тем, как солнышку зайти, он, бывало, ей велит отправляться домой. "Нет", — говорит она. "Тебе сказано, иди домой". А она обратно: "Нет". Он тогда берет ее за ручку или сажает себе на плечо или на закорки и несет в усадьбу. А на другой день, перед тем, как солнышку садиться, все то же: "Ну, пора тебе отправляться домой". "Нет", — отвечает она.
Вот и сейчас глядят они друг на друга. Вижу я, Кэнди покусывает губу. Вот-вот заплачет. Но не может она этого себе позволить — перед нами слезу пускать.
— Мне придется поехать с ними, — Мату говорит. — Расплатиться я должен.
— Нет, — говорит она. — Нет. Папа и дедушка мне говорили, ты уже расплатился за все. Ты всегда за них расплачивался. Не хватало еще, чтобы ты расплачивался за меня!
Он прикоснулся своей морщинистой рукой к ее щеке, и она прижала ее покрепче.
Лу, он тоже следом за Мату поднялся на галерейку, но, покамест они разговаривали, в сторонке стоял. А как замолкли, подошел малость поближе.
— Пойдем, Кэнди, — Лу говорит.
А она его и не слышит. Мату отвел руку от ее щеки, но она руку его не отпускает — обеими своими держится за нее.
— Без тебя это уже не Маршаллова деревня, — говорит.
— Я всегда здесь буду, Кэнди, — отвечает он.
— Несколько квадратных километров пыли, — говорит она. — Бурьян, деревья, пыль… Маршалловой деревни без тебя нет.
— Я здесь буду, — говорит он.
— Кэнди, — окликает ее Лу.
— Ты ведь знал самого первого из Маршаллов, — говорит она Мату. Лу она вообще не замечает. — Ты знал дедушку Ната. Самого первого из Маршаллов. Помнишь, как он вернулся с войны… с Гражданской войны?
— Помню полковника.
— Ты всех их знал, — говорит Кэнди. — Ты вместе с моим дедом рос. Ты вырастил моего папу. Ты вырастил меня. Я хочу, чтоб ты помог мне и мое дитя растить, когда придет время.
— Я буду здесь, — говорит он.
— Да нет, не так, — отвечает она. — Не так, чтоб здесь под теми деревьями дух твой витал. Я хочу, чтобы ты сына моего за ручку водил. Рассказывал ему о дедушке. О плантации нашей рассказывал. Рассказал ему, какой была наша река, пока не настроили тут пристаней и домишек. Кто ему расскажет про все это — только ты.
— Я расскажу ему, — Мату говорит.
— Нет, — говорит Кэнди. — Что ты можешь из могилы рассказать? Ты умрешь, если тебя посадят в тюрьму. А с тобой вместе и деревня эта пропадет. Без тебя ей не быть. Мой папа — я же помню — на каждом слове все: ты, ты, ты.
— Я здесь останусь, — говорит Мату.
— Кэнди, — окликает ее Лу.
— Иди с ним, — Мату говорит. — Тебе уже давно пора идти. А за меня не беспокойся.
Лу еще поближе подошел.
— Ну пойдем же, Кэнди, — говорит.
А она все не идет, держит за руку Мату.
— Мой отец и остальные все… помню, на каждом слове всё ты, ты, ты, — повторяет. Лу старается ее оттащить, а она по-прежнему цепляется за Мату. — Все только и говорили: Мату… Все так говорили: Мату. Мол, на тебе все держится. Мол, что мы без тебя?
— Пойдем, Кэнди, пойдем, — упрашивает Лу и тянет ее за руку.
— Все говорили, без тебя все пропадет, без тебя мы не справимся… да просто ничего… не будет без тебя, Мату.
Мату накрыл ее руки большой, серо-черной, как зола, рукой и оторвал от себя наконец. Лу подхватил ее и снес вниз по ступенькам. Чего она только ни вытворяла: и обзывала его, и кулаками дубасила, и лягалась, и Мейпса всякими словами оскорбляла, — Лу ноль внимания. Отнес ее к дороге, затолкал в ее же собственную машину и захлопнул дверцу. Потом встал возле машины, прислонился спиной к дверце, а лицом к нам.
— Даю вам пятнадцать минут, — заявляет Мейпс, — а потом я его заберу. Хотите с ним ехать — дело ваше. Но предупреждаю: если вы потащитесь за мной в Байонну, я вас привлеку к ответственности за то, что вы мешаете сотрудникам полиции при исполнении служебных обязанностей. Все. У вас ровно пятнадцать минут.
Вошли мы в дом. А там уж темно; Клэту дернул за шнурок, и зажегся свет. С первого взгляда видно, что Мату живет здесь один. Обои, которыми его жена Лотти оклеила стены еще в незапамятные времена, изорвались и выцвели. На стенах, на рамках картин осиные гнездышки. С потолка паутина висит. В одном углу — старый шифоньер; старый умывальник с фаянсовым тазиком и кувшином — в другом углу, старая железная кровать у стены стоит, возле окна; а возле очага — кресло-качалка и скамья. На доске над очагом керосиновая лампа, на случай если электричество погаснет. Там же, рядышком с лампой, — его старая оловянная кружка, он ее завсегда с собой в поле брал. Уж до того она старая, эта кружка, что потемнела дочерна. Мату по одну сторону от очага стоит, Клэту — по другую. Билли Вашингтон у дверей, Руф — перед окном. Жарища в комнате невыносимая и духота, потому как закрыты и дверь, и окно.
— Ну, — говорит Клэту. — Что будем делать-то? Сами видите, кончается у шерифа терпеж.
— Мы разве раздумали делать, чего с самого начала надумали? — говорит Джонни Пол. Джонни Пол и еще несколько мужчин в дальнем конце комнаты столпились. — Если Мату посадят в каталажку, и мы все туда сядем… так ведь вроде договаривались?
— Вы теперь меня послушайте, — просит Клэту.
— Так, что ли, договаривались или нет? — не унимается Джонни Пол.
Я росточком-то не вышел, вот мне и пришлось протолкаться поближе к очагу. Янки со мною рядышком стоит, по одну сторону, Такер — по другую, а Чумазый впритык сзади, в затылок мне дышит. Клэту стал возле очага и ни на кого не глядит, а глядит поверх наших голов на Джонни Пола, в дальний конец комнаты.
— Дайте мне одну минуточку, — просит Клэту. — Одну только минутку. Слушайте. Все вы знаете, как я его люблю, — говорит он и кивает на Мату. — Все вы знаете, я что угодно для него сделаю. Все вы знаете, как я его уважаю, мало кого я уважаю так. И почему такое — вам известно. Потому что он не пасует никогда. Перед Фиксом он не пасовал; и перед другими, кто хотел его обидеть, отродясь не пасовал. Даже перед Маршаллами, из усадьбы, он и то не пасовал. Потому-то Джек Маршалл не любит Мату. Он и перед Джеком Маршаллом не пасовал. По этой вот причине я сегодня и пришел сюда — такого человека поддержать. Помереть с ним вместе, рядом с ним, если придется. Потому мы все пришли сюда — из уважения. Сражаться рядом с ним. Сражаться. Но с кем сражаться-то? Нет здесь никого. Не с кем нам сражаться. — Тут Клэту оглядел всех нас. А мы все с ружьями стоим. Все наготове. — Давайте посчитаем так, — говорит Клэту, — что дело наше сделано, и по домам разойдемся.
И тут я вдруг чуть в очаг не сверзился. Это Джонни Пол так сильно проталкивался вперед. Он толкнул Чумазого, Чумазый на меня повалился, ну а я чуть не влетел в очаг.
— Ты что такую чушь плетешь, Клэту? — спрашивает его Джонни Пол. Джонни Пол и Клэту, они одного примерно роста. Если оба стоят, могут глядеть друг дружке прямо в глаза. — Чего, спрашиваю, мы сюда приперлись, если не собираемся стоять до конца?
Все мы тут же с Джонни Полом согласились. Все как один сказали: пришли, мол, стоять до конца. Тогда Клэту хватает с полки оловянную кружку и кружкой этой по полке как застучит!
— Дайте мне еще одну минуту, одну минуту, а потом, если вам так уж хочется, я замолчу, — говорит.
Ну, мы все притихли.
— Значит, так: шерифа все слышали, — говорит нам Клэту. — Слышали и знаете: он хочет засадить Мату в тюрьму.
— Если так, мы с ним вместе пойдем, — Джонни Пол говорит.
— С какой целью, Джонни Пол? — спрашивает Клэту. — Чего делать будем в городе?
— А то самое, что собирались, — отвечает Джонни Пол.
Клэту вздохнул поглубже и качает головой.
— Джонни Пол, шериф теперь даже не хочет никого из нас арестовать. А знаешь — почему? А вот почему: он уверен, ровно через сутки он сумеет доказать, что утром никого из нас и близко не было от этого двора. Он из-за Фикса с нами возился. Не хотел, чтоб мы в Байонну с ружьями явились: не ровен час туда же и Фикс заявится. А теперь он знает, Фикс дома сидит, и теперь он за нас не тревожится. Он всерьез нас не принимал. Он про Фикса думал, не про нас. Про Фикса, слышишь, Джонни Пол!
— Мне плевать, про чего думает Мейпс и про чего вы все думаете. А сам я вот что думаю. Если Мату сегодня заберут, я поеду вместе с ним. У каждого из нас была причина убить Бо.
— Но никто из нас его не убивал, — говорит Клэту.
— А кто докажет, что я его не убил? — отвечает ему Джонни Пол. — У меня ружье в точности такое же.
— Но ты ведь знаешь, что не убивал его, Джонни Пол, — говорит Клэту. — Сам, в душе, ты знаешь, что никого не убил. — Он обвел всех нас глазами. — Остальные-то хоть понимают, про что я толкую ему? Жакоб? Мэт? Все поняли — про что я ему толкую?
— Я понимаю, конечно, о чем ты речь ведешь, — откликается от двери Мэт. — Но мы пришли сюда, Клэту, стоять насмерть. И я не желаю возвращаться домой несолоно хлебавши. В другой раз мы уж не соберемся так.
— Но мы же сделали все, что хотели, Мэт, — говорит Клэту. — Неужели ты не понимаешь — мы уже все сделали? И никто из нас отсюда не уйдет несолоно хлебавши. Мы уже показали себя. Ехать сейчас в Байонну — а зачем? Чего мы там, в Байонне, будем делать? Ходить вокруг суда и петь… с заряженными ружьями? Ружья для того сделаны, чтоб из них стреляли, но в кого нам стрелять, когда нету врага?
— Я сказал, что сделаю, и точка, — Джонни Пол говорит. — Если Мату отправляют в Байонну, я отправлюсь туда вместе с ним.
Сказал и пошел на прежнее место, распихивая тех, кто на дороге стоял.
Тихо стало. Я вдруг вспомнил, как собирал орехи за деревней и как за мной прислала жена. Я вспомнил, как мне было страшно, когда Бьюла мне сказала, что надо где-то раздобыть ружье, и как мне страшно было, когда я пришел к тете Лине и попросил ее одолжить мне дробовик. А еще я вспомнил, сколько натерпелся и как на моих глазах измывались над моей женой. А потом подумал: еще до меня сколько всего натерпелись мои деды, прадеды. Я думал: вот он настал наконец — день, когда мы с ними за все рассчитаемся. И вдруг на тебе, Клэту говорит, нам всем надо возвращаться домой. Ну, вернемся мы, а дальше что? Я ведь даже ни разу не выстрелил. Пальнул, правда, в дерево разок, чтобы пустая гильза была. Только маловато это. Маловато, если посчитать, сколько я натерпелся за всю свою жизнь. Нет уж, я без боя не уйду, Даже если в этом бою меня убьют.
— И доказывать больше нечего, — слышу я, Мату говорит. — Доказали вы все, что хотели, и баста.
Я, пока раздумывал, все вниз смотрел. А сейчас я поднял голову и поглядел на Мату. Он стоял у очага, усталый такой и голос слабый — трудно ему говорить. Поднял я голову, а он глядит мне прямо в глаза и улыбается. Раньше он меня не шибко уважал. "Кочеток ты рыжий" — так он мне, бывало, говорил. Люди даже сказывали, они с моей Бьюлой шуры-муры крутили у меня за спиной. Я ни его, ни Бьюлу никогда про это не спрашивал — очень уж боялся. Но сейчас его бояться перестал. И он видит: я сейчас ничего не боюсь. Потому он мне и улыбается. И стало у меня на сердце хорошо.
— Не надеялся я до этакого дня дожить, — говорит он. — Нет, никак я не надеялся дождаться этакого дня. Кочет с ружьем, Чумазый с ружьем… Билли, Сажа. Нет, не чаял я такого дня дождаться.
Я глядел ему в глаза, прижимал к себе ружье, и гордость так меня и распирала.
— Еще ведь совсем недавно я не выше вас ценил, чем шериф, — мол, кишка у вас тонка. Выходит, ошибался я. А шериф он по сю пору ошибается. Откуда ему вас знать? А вот я узнал. Спасибо вам всем. Уважение мое вам. Каждому, кто здесь стоит. Я горжусь, я еще в жизни не гордился так.
Он замолчал. У него голос отказал. Шевельнул губами раз, другой… ни словечка не может сказать. Мы стоим. Мы ждем. Сердце сильно этак, часто бьется у меня в груди. Я крепко сжимаю ружье, я гляжу на Мату. Нет, не он в этом доме самый гордый. Нынче самый гордый я.
— Я ведь просто въедливый, злобный старик, — опять заговорил Мату. — Не герой. Ей-богу, не герой. Въедливый, злобный старик. Ненавидел я и тех, кто по берегу живет, и вас всех, деревенских. Я считал себя всех выше… очень я гордился, что во мне африканская кровь. Африканской кровью знаете гордился почему? Потому как в этой стране меня полноправным гражданином не считали. Их возненавидел, тех, кто гражданином меня не считал, вас — за то, что прав своих не добивались. Вот такой я был зловредный. Всю жизнь был такой, вот до этого самого часа.
Замолчал он тут и снова глядит на меня, долго так глядит и головой кивает.
— А теперь я переменился, — говорит. — Переменился, да. И переменил меня не ихний бог, белого человека бог. Я не верую в него, в этого их бога. Вы меня переменили. Кочет, Простокваша, Чумазый, Простая Душа… Это вы переменили злобного старика.
Снова замолчал и всех нас, кто в комнате был, оглядел.
— Клэту верно говорит, и я тоже хочу, чтобы вы по домам отправились. — Голос у него снова осип, губы шевелятся, а слов не слышно. Пришлось ему переждать, прокашляться. — Иди домой, Джонни Пол, — сказал он. И посмотрел на Джонни Пола долгим таким взглядом, потом на другого кого-то глаза перевел. Это так у него выходило: сперва он имя называл, потом смотрел на этого человека, потом к другому поворачивался. — Иди домой, Чумазый. Тетя Жюди и дядя Франсуа будут нынче вечером тобой гордиться. — Потом снова поворачивается к кому-то еще и долго смотрит. — Иди домой, Руф. Иди домой, Янки… Жакоб, Мэт, Простокваша… все идите по домам. А вы, Дин и Дон, к своему протоку отправляйтесь.
Так перебрав всю компанию, он снова повернулся к Клэту — тот всех ближе к нему стоял, по другую сторону очага.
— Барахлом моим распорядись, как сумеешь, — говорит Мату. — Если чего здесь у меня нужно людям, пусть забирают. Не нужно — выброси вон. Я устал, наверно, все вы устали. Да и шериф долгонько уже ждет.
Мы смотрели на него во все глаза, но никто не двигался с места.
И тут сзади, из кухни, раздался голос Чарли:
— Никуда тебе отсюдова, крестный, не надо идти!
Мы все разом обернулись. Не заметили, как он в темноте там стоял. Потом Чарли в комнату вошел. Здоровенный мужик и высокий такой, что пришлось ему в дверях пригнуться, чтобы притолоку головой не зацепить. Он был самый рослый в комнате, такой дюжий, плечистый — мы все головы задрали, глядим на него. Он в рабочей своей одеже был — в джинсовой рубахе и штанах; рубашка из-под них выбилась. Он, видать, очень долго бежал и лежал на земле, отдыхал. От одежи его пахло потом, болотом, травой.
Чарли сел на кровать.
— Делать вам, видно, нечего, — говорит он. — Вон вас сколько набилось сюда. Пусть уж сходит хоть один за полицией.
Лу Даймс
Сумерки уже совсем сгустились. Я сидел на водительском месте, она рядом. Я не раз пытался заговорить с ней, она не отвечала. Со двора вышел Мейпс, прошел мимо нас, ничего нам не сказал. Он шел все дальше по деревне, я провожал его взглядом, пока он не пересек рельсы; потом он скрылся из виду.
Я посмотрел на Кэнди — она сидела вполоборота ко мне.
— Ты, возможно, и не подозреваешь, — говорю, — но уже завтра в твоей жизни наступят серьезные перемены. Старик освободился от тебя. Когда он выдернул у тебя руку и ушел в дом, он освободил разом и тебя, и себя. Ты понимаешь, о чем я говорю? Он больше не нуждается в твоей защите, Кэнди. Он стар и, сколько ему там осталось жить, хочет прожить по своему разумению.
Она все молчала, сжав губы, вперив взгляд в темноту.
— Прежде чем я сегодня уеду отсюда, я хочу получить от тебя определенный ответ относительно нашего будущего. Если же ответа не последует, я сюда больше не приеду.
Она посмотрела на меня.
— Ублюдок, — говорит. — Ну ты и ублюдок.
— Тебе видней, — говорю. — Кто ж такое про себя знает. Но уже завтра…
Тут она как влепит мне пощечину. Вот так, ни с того ни с сего. Я заметил, что у нее передернулось лицо, но что она меня ударит, этого я никак не ожидал. Рука моя взлетела, но на полпути остановилась, и, вместо того чтобы влепить ей пощечину в ответ, я потер собственную щеку.
— Благодарствую, — говорю. — И все равно я останусь здесь до тех пор, пока Мейпс не увезет его в Байонну. Чтобы закончить репортаж, этого с лихвой хватит.
Тут один из стариков вышел из комнаты на галерею и сказал, что хочет поговорить с шерифом. Слышу, тетя Гло ему говорит: он в деревню пошел. Из дверей комнаты на старика падал сноп света. Он протянулся через галерею во двор. Все остальное поглотила тьма.
— У вас есть в запасе пара-тройка минут на случай, если захотите помолиться или чего еще, — слышу, говорит Гриффин.
А старик ему:
— Мы уже готовы. — Это говорил Гейбл. Я узнал его тихий, ровный голос.
— И все равно вам придется подождать, — говорит Гриффин. — Но не беспокойтесь, ждать придется недолго.
Гейбл спустился с крыльца. Ружье с собой прихватил.
— Ты куда собрался? — спрашивает его Гриффин.
Гейбл ему не ответил. Подошел к машине, где сидели мы с Кэнди.
— Видали, куда пошел шериф? — спрашивает.
— Туда, — мотнул я головой в сторону поля. — Погодите, я его вызову.
И мигнул раз-другой фарами. Кэнди тем временем пыталась выведать у Гейбла, что творится в доме. А Гейбл покачал головой и отвечает: мне, мол, поручено только с шерифом говорить. Я опять помигал фарами и тут вижу — Мейпс идет назад. Гейбл подошел к нему, они постояли, поговорили и возвратились вместе.
— Пошли в дом, — говорит мне Мейпс. — Приглашение и на вас распространяется, — говорит он Кэнди. — Похоже, ваши труды пропали понапрасну.
— Что случилось? — спрашиваю, а сам тем временем вылезаю из машины.
— Пусть она вам скажет, — говорит Мейпс и на Кэнди кивает.
— Это я его убила, — говорит Кэнди. Открыла дверцу со своей стороны, вылезла из машины. — Подтвержу на суде под присягой.
— А не Чарли? — спрашивает ее Мейпс.
— Какой Чарли? — говорю. — Большой Чарли?
— Он самый, — говорит Мейпс. — Большой Чарли.
Мы прошли во двор.
— И вы, — говорит Мейпс женщинам с ребятишками, — входите.
Сам первым прошел, за ним Кэнди, за ней я, а за нами и остальные. Комната была душная, захламленная. Все говорило о том, что здесь живет одинокий, неухоженный старик.
Когда мы вошли, Чарли сидел на кровати. И хотя он сидел, кое-кто из стариков был чуть ли не одного с ним роста. При виде нас Чарли встал, вправил рубаху в брюки. Ростом он был метра два без малого, весом килограммов сто двадцать с гаком, угольно-черный, с круглой, как пушечное ядро, наголо остриженной головой; даже белки его глаз и те отливали коричневым, а губы походили на ломти сырой печенки. Бицепсы распирали рукава джинсовой рубахи, грудь колесом. Весу в нем примерно столько же, сколько в Мейпсе, но тот был куда пузатей. Словом, лучшего экземпляра негра-самца во всем его великолепии днем с огнем не сыскать.
— Я вам не мальчишка, шериф. А мужик, — говорит Чарли. — Мужик.
— Вот и хорошо, — говорит Мейпс. — Я тебе верю. А пока попрошу тех, кто вошли последними, выйти на кухню или на галерею, чтобы нам не тесниться.
Однако, пока Мейпс не стал выкликать их по именам, никто не сдвинулся с места. Потом они все-таки чуть попятились, но тут же снова стали напирать на нас.
— Эй, удалец, — говорит Мейпс Кукишу, — как насчет того, чтобы принести воды из холодильника?
— Ты не начинай, пока я не вернусь, слышь, Чарли? — говорит Кукиш.
— Я мужик, шериф, — говорит Чарли. — И пусть все это знают. Я мужик, мисс Кэнди. Я мужик, мистер Лу. И вы, уж я вас попрошу, пропишите про это в вашей газете.
— Обязательно напишу, Чарли, — говорю и поднял на него глаза. Он меня чуть не на полголовы выше и как минимум на пол центнера тяжелее.
— Я мужик, — говорит. — И пусть все об этом знают. Я уже не Большой Чарли, негритянский мальчишка, а мужик. Слышите? Назад вернулся мужик. А не какой-то там негритянский мальчишка. Негритянский мальчишка убежал и бежал без оглядки. А назад вернулся мужик. Мужик.
Кукиш принес кувшин и стакан. Мейпс выпил два стакана воды и отдал Кукишу стакан.
— Благодарю, удалец, — говорит.
— Теперь дай мне, — велит Кукишу Чарли.
Взял кувшин, поднес ко рту, осушил разом. И отдал пустой кувшин Кукишу.
— Я мужик, шериф, — говорит. — Потому я и вернулся. Я мужик, крестный. Я мужик, крестный.
Мату — он стоял у очага — кивнул седой головой.
— Хочешь рассказать нам, как было дело, Чарли? — спрашивает Мейпс.
— Я вам все расскажу, шериф, — говорит Чарли. Начал было рассказывать и тут же запнулся — видно, его осенила новая мысль. — Я мужик, шериф, — говорит Мейпсу. — И раз уж я величаю вас шерифом, я так думаю, что и вам не грех величать меня мистером. Мистером Биггсом.
— И правда, — кивает головой Мейпс. — Раз такое дело, как вам будет угодно… мистер Биггс. На всех прочих это тоже распространяется, — говорит он нам. Серьезно говорит, не шутит. — А как насчет Кэнди?
— Я ее называю мисс Кэнди, — говорит Чарли, — так что и она может называть меня мистер Биггс.
Мейпс снова поглядел на Кэнди — она стояла рядом с Мату. Войдя в комнату, она чуть помедлила в нерешительности, но все же отыскала его глазами и протолкалась к нему. Я был слишком далеко от Кэнди и не слышал ее вопроса, если она его задала; и ответа Мату — если он ей ответил — я тоже не слышал. Видел только, что он слегка наклонил голову.
— Ну как? — спрашивает ее Мейпс.
Кэнди кивнула. По-моему, она не очень понимала, почему Мейпс обратился к ней. Впрочем, ее это мало интересовало. Мату больше не угрожала тюрьма — вот единственное, что ее интересовало. До всего остального ей не было дела.
Мейпс снова повернулся к Чарли.
— Расскажите мне, как было дело, мистер Биггс, — говорит. — Начните с самого начала, с того, что у вас там вышло на поле.
— Что бы у нас там на поле ни вышло, только начало было положено не тогда, а пятьдесят лет назад, — говорит Чарли. — Ну, пятьдесят не пятьдесят, а лет сорок пять уж точно. Потому что в аккурат о ту пору я убежал в первый раз. Мне пятьдесят стукнуло, а как сейчас помню, что я убежал, когда мне было годков пять, не больше, потому что, когда мне минуло шесть, крестный поколотил меня, чтоб не смел убегать. Я ведь помню, когда он в первый раз меня за это поколотил. Помнишь, крестный, когда ты в первый раз меня поколотил? Мне тогда еще дали с собой в школу картошку, а Эдди у меня ее отобрал. — Мату глядел на Чарли так, словно не верил своим глазам, что тот вернулся. Мату кивнул.
— Всю мою жизнь, — говорит Чарли. И не Мейпсу говорит, не нам, а сам себе. — Всю как есть мою жизнь я только и знал, что убегал. От кого только я не убегал — и от черных, и от белых, и от негров, и от кэдженов — и от тех, и от других. Всю как есть мою жизнь. Все для них делал, и хорошо ли, плохо ли сделаю, они меня поносили — всю как есть мою жизнь. А я терпел. И вот мне уж пятьдесят стукнуло. И вот уже пятьдесят лет меня поносят. Как родился на свет черным, так с тех самых пор я поношения терпел, а сдачи никогда не давал. Ты ведь, крестный, старался из меня мужика сделать? Верно я говорю?
Мату опять кивнул.
— А все без толку, — говорит Чарли. — Пятьдесят лет кряду старался. Целых полвека; и тут я себе сказал: хватит с меня поношений. А Бо поносил меня. Хоть я и за двоих работал, он меня все равно поносил. Ни одному мужику тяжелее меня груза не поднять. Накорми меня досыта, и дольше меня никто работать не сумеет. Пилить, колоть, тянуть проволоку, канавы копать, столбы ставить никто лучше меня не может. А он меня все честил. Без всякой без причины честил. Нигер ты такой, нигер ты сякой, без причины без всякой честил. Просто чтобы обругать. И покамест я был Большим Чарли, негритянским мальчишкой, я его поношения терпел.
Голос Чарли набирал силу. Чарли расхаживал по комнате, люди расступались перед ним, и куда б он ни пошел: к окну, к двери, — он занимал чуть ли не четверть комнаты. Черный как смоль, круглая голова и лицо мокрые от пота. Черное потное лицо его сначала дрогнуло, затем задергалось, он перестал расхаживать, воздел свои ручищи, ну бревна и бревна, над головой и как грянет — ни дать ни взять расходившийся проповедник:
— Но наступает день! Но наступает день, когда мужику пора стать мужиком. Наступает день! — И этими бревнами, а кулаки на них что твои пушечные ядра, потряс под самым потолком; мы с замиранием сердца следили: что, если он, не ровен час, крутанется, а то и упадет? Но бог миловал. Тяжело дыша, Чарли неспешно опустил руки, а сам уставился поверх наших голов в стену. — Наступает день, — не нам, самому себе говорит. — Наступает день.
— И что тогда, мистер Биггс? — уважительно помолчав, спрашивает его Мейпс.
Чарли поглядел на него, словно очнулся от транса.
— Вы что-то сказали, шериф?
— Что у вас там с Бо вышло на поле? — спрашивает Мейпс.
— Он меня на чем свет ругал, — говорит Чарли. — Я работаю исправно. А он все одно меня ругает. Не за что, говорю ему, вам меня ругать. Я, говорю, работаю исправно. Подумаешь, Бо мне говорит, я тебя мало того что изругаю, я тебя еще и побью. Не бывать, говорю, тому — мне уже пятьдесят стукнуло, на шестой десяток перевалило. Одно еще слово, Бо говорит, и ты на своей шкуре узнаешь, как я обхожусь с нигерами по шестому десятку. — Чарли остановился, покачал головой, поглядел на Мейпса. На его голове крупными каплями выступал пот и ручейками сбегал по лицу. — Не дело, шериф, так с мужиком говорить, особливо когда ему шестой десяток пошел.
Мейпс кивнул, соглашаясь с Чарли. Потом велел нам не напирать на Чарли. Народ самую малость попятился, но тут же снова подался вперед.
— Давайте рассказывайте, — говорит Мейпс. — Дальше-то что было?
— Я, говорю ему, ухожу, — продолжает Чарли. — Спрыгнул с погрузчика. И домой пошел. А он соскочил с трактора и с тростниковой палкой на меня. Тогда и я подобрал палку. Почему — сам не знаю. За всю мою жизнь я на такое не решался. А сегодня решился. Нагнулся и тоже поднял палку. Бо остановился было, потом поглядел на меня и ухмыльнулся. Глядит и знай себе ухмыляется. Понимает, что мне не насмелиться ударить его. Только зря он так думал. Ну и пошел на меня. И как заедет — раз по плечу, другой по боку. Тогда и я палку занес. Заехал ему по голове, он и свалился. Из головы кровь текет — все, убил, думаю — и давай чесу в деревню. Прибег к крестному, рассказываю ему, так, мол, и так. Пока мы с крестным говорили, слышу, к деревне трактор едет, тут я и понял, что Бо жив остался. Крестный, говорю, я все одно убегу, потому что, если он меня сейчас поймает, он меня уж точно изобьет до полусмерти. Если ты от Бо Бутана убежишь, говорит крестный, я тебя своими руками изобью. Мне, говорит, восемьдесят третий год пошел, а я мужик не чета тебе, и если ты от Бо убежишь, я тебя своими руками изобью. — Тут Чарли поглядел на Мату. Мату кивнул. Но, видно, по-прежнему не мог поверить, что это Чарли говорит. Да и остальные, видно, не верили. И это Чарли? И это Чарли дал Бо отпор? Да я и сам не верил. Но ведь что они все здесь сойдутся, я тоже никак не ожидал. — Остановил трактор, соскочил, в руке у него дробовик, — говорит Чарли Мейпсу. — Он завсегда при себе дробовик держит — не на тракторе, так на пикапе. Крестный мне и говорит, у меня тоже ружье есть, и, по мне, лучше видеть тебя мертвым, чем глядеть, как ты по шестому десятку задаешь чесу. А Бо уже во двор вошел, патрон в дробовик вставляет. Тут крестный протянул руку, достал свой дробовик и сунул его мне. Не хотелось мне его брать, но крестный так на меня глянул, что я понял: не возьму, он сам Бо остановит, а после и за меня примется. Взял я дробовик, повернулся и говорю Бо: стой, говорю. Не раз, не два говорю. А он все к галерейке идет. Я в жизни ничего такого не только не делал, а и помыслить ни о чем таком не смел. Но наступает день, шериф, наступает день, когда человеку приходится за себя постоять. Сам не понимаю, как я решился. Но дробовик держал твердо. И рука у меня не колыхнулась, не качнулась, не дрогнула, твердо дробовик держала. А Бо все к галерейке идет. И знай себе ухмыляется. Нигер, говорит, я ведь с тобой позабавиться хотел. Хотел тебя, как зайца, погонять, а надоест — пристрелить. Но теперь, пожалуй что, и не стану тратить на тебя время. Вскинул ружье, ну, тут я и спустил курок.
Чарли остановился, нагнул голову. Мы были потрясены, никто не проронил ни звука. В душной комнате было слышно, как бьются сердца.
— А потом что? — уважительно, выждав время, спрашивает Мейпс.
Чарли поднял голову, поглядел на Мейпса. Он устал. Коричневатые белки его глаз налились кровью. Он глубоко вздохнул и продолжил свой рассказ:
— Крестный, говорю, я боюсь. Я, говорю, убегу, подамся на Север. Ведь они меня, говорю, как пить дать на электрический стул посадят. Скажи, говорю, что ты его убил, тебе-то ничего не будет — такого старика на электрический стул не посадят. Тебе, говорю, так и так скоро помирать, и какая тебе разница, где помирать — в тюрьме или в твоей развалюхе. Ты, говорю, мой крестный, и кому, как не тебе, взять мою вину на себя. А тебя, говорю, Кэнди всенепременно вызволит. И пока я его упрашивал, вижу, над деревней пыль летит. Как увидел я, что это Кэнди едет, сунул крестному дробовик — и шасть через дом на зады. Слышу, Кэнди крик подняла. А я уже на задах за кустами залег. Слышу, она крестного спрашивает, чего он натворил, а ответил ей крестный, нет ли — не слыхал. И вот лежу я, прижался к земле и все молюсь, чтоб он меня не выдал. Христом богом тебя прошу, слышу, Кэнди говорит, скажи, что случилось-то. А он ни слова, то есть я ни слова не слыхал, ну, я вскочил — и бежать. Бежал, бежал — долго, нет ли, не знаю сам. Но куда я ни побегу, куда ни поверну, с Маршалловой земли не могу убежать. Побегу к Пишо, а добежать не добегу, что-то меня дальше не пускает. Поверну и к Моргановой деревне побегу, так и тут меня что-то дальше не пускает. А обратно к шоссе побегу, так и тут меня что-то дальше не пускает. Ну чисто стена, и хоть мне ее и не видать, а всякий раз стена эта меня дальше не пускает. Грохнулся я на землю и давай кричать. Землю грызу. Пригоршней грязь зачерпнул, в рот затолкал — убить хотел себя так. Потом просто лежал себе и лежал. А как солнце зашло, да нет, пожалуй, чуток пораньше, слышу, зовут меня. Слушал, слушал, а больше того голоса не услыхал. Но я знал, это меня обратно зовут.
Чарли тяжело дышал, его наголо стриженная голова была вся в поту. Силы его иссякли. Но чем-то его лицо напоминало мне лица людей, обретших веру. Выражением отрешенности от мира — вот чем. Он вытер пот с лица, с головы, потом поглядел на Мату.
— Ну как, крестный, все путем?
Мату кивнул. Он был горд за Чарли. Но мы — мы были потрясены. Меня не переставало преследовать ощущение, что все это мне примерещилось.
— Я готов, шериф, — говорит Мейпсу Чарли. — Готов за все заплатить. Я свалил с себя тяжкий груз. Теперь я знаю: я мужик.
— Проходите первым, мистер Биггс, — говорит Мейпс и кивает на дверь.
— Как, как вы меня назвали, шериф? — спрашивает Чарли.
— Мистер Биггс, — говорит Мейпс на полном серьезе.
Чарли улыбнулся, да так широко — рот до ушей, зубищи сверкают. Улыбнулся искренне, неподдельно, от души — видно, ему нелегко далось проходить пятьдесят лет в мальчишках.
— Слыхали, — говорит. — Слыхали? Мистер Биггс! Все слыхали? Вот оно как! А теперь расходитесь по домам. Вы свое дело сделали, и неплохо для такого старичья. А теперь расходитесь по домам. Дорогу мужику.
И двинулся из комнаты первым, Мейпс за ним.
Но не успели они выйти на галерею, как из темноты донесся голос:
— Отдай его нам, Мейпс.
Это был голос Льюка Уилла.
Сидни Брукс, он же Простая Душа
Мы хотели проводить его к машине, мы хотели все пожать ему руку, хотели поглядеть, как он уедет, а потом уж разойтись по домам.
Но тут — новые дела — Льюка Уилла принесло.
Чарли — он самым первым шел. Мейпс — сразу за ним. Следом Мату, за ним Кэнди, Лу, Клэту и я. Когда Льюк Уилл заорал на дороге, из дому успели выйти только Чарли и Мейпс. Мейпс встал в дверях, загородил проход, чтоб остальных не выпустить, и как гаркнет на Чарли: "Падай!"
Чарли говорит:
— Чего это мне вдруг падать? Не стану я падать перед таким дерьмом, как Льюк Уилл. Не боюсь я его.
Отодвигает Мейпса в сторону и обратно входит в дом. Прямиком идет к Мату и протягивает руку.
— Он снова мне понадобится, крестный.
Мату отдает ему дробовик, сам усмехается. Доволен, что Чарли стал такой, гордится. Чарли ходу к дверям, дробовик на изготовку взял.
— Позволь уж, я этим займусь, — говорит Мейпс.
— Нет уж, нынче я воюю, — Чарли говорит. — Линчевать он собрался меня, а не вас.
— Воюют нынче все, каждый из нас воюет, — вступает в разговор Клэту. — А вот с линчем-то как раз ничего у них сегодня не получится.
— Да не вылезайте вы, Христа ради, из дверей, — говорит Мейпс. — От незаряженных ваших дробовиков какая польза, разве только их вместо дубинок в ход пустить?
— Были незаряженные, — Клэту говорит. — Если вы считаете, они и сейчас незаряженные, — оглянитесь.
Мейпс — я говорил уже — в дверях стоял, весь проход собой закрыл. Но тут обернулся.
А Клэту уже переломил ствол. И мы за ним.
— Так-то вот, — Клэту говорит. — Здесь у каждого заряженное ружье и в кармане запас имеется. За дом мы ходили не орехи собирать.
— Вы за это еще заплатите, — Мейпс говорит.
— Нет, это он заплатит, который на дороге, — говорит Клэту и кивает в ту сторону. — Он за много чего нынче заплатит.
Мейпс взглянул на Клэту; потом на нас, на остальных. Никто перед ним глаз не опустил, так что повернулся он обратно, к дороге лицом, и кричит Льюку Уиллу:
— Убирайся домой, Льюк Уилл!
— Ты мне нигера этого выдай, и я сразу домой поеду, — Льюк Уилл с дороги кричит.
— Вот он и ответил вам, шериф, — говорит Чарли. — Может, уйдете теперь?
Мейпс глянул через плечо и стал помощника своего звать. Негромко так, вполголоса зовет, даже губ не разлепил. А помощник этот, недомерок, в комнате все время был, в дальнем углу. Пистолет свой вытащил, смотрит на него, к шерифу же ни шагу не делает. Мейпс опять его позвал.
— Не собираюсь я ради какого-то нигера на белого человека руку подымать, — Гриффин говорит ему.
— Ну, шериф? — Это Чарли сказал.
Мейпс на Чарли не глядит и ничего не отвечает. На дорогу глядит.
— Что случилось с Хилли, Льюк Уилл? — спрашивает Мейпс.
— Ничего с ним не случилось, я пока его спать уложил, — Льюк Уилл кричит. — Так выдаешь ты мне этого нигера?
Тут Мейпс двинулся по галерейке.
— Не валяй дурака, Мейпс, — Льюк Уилл ему кричит. — Я тебя вижу, каждый шаг твой вижу. Так что не валяй ты лучше дурака!
Мейпс, еще когда шел в дом, ружье свое прислонил к крыльцу, а сейчас идет по галерейке, а сам в ту сторону, на ружье глядит.
Льюк Уилл опять как заорет:
— Не выходи, Мейпс, в одиночку. Я тебя предупредил! Мейпс — хвать свое ружье и спрыгнул с галерейки. Я как раз на пороге стоял, между Чарли и Клэту, так что Мейпса видел хорошо. Видел, как он взвел курок, как левую руку согнул и ружье на нее положил. Не успел он сделать двух шагов, грохнул выстрел, и Мейпс упал. Не убили, просто ранили его — видел я, как он схватился за плечо, как пытался встать. Но уж больно грузный он, Мейпс, не получилось это у него.
Сразу после выстрела Чарли и Клэту как кинутся со всех ног из дверей, да и я не очень-то от них отстал. Чарли вправо, к деревне подался, Клэту налево побежал, в огород, да только не остановился там. Пробежал весь огород и повернул в бурьян, а я туда, следом за ним.
А в доме крик. Потом стрельба началась, а уж орут… еще пуще орут. Кто-то ставни отворил — свет из окна на огород упал, мы с Клэту тут же на землю шмяк и поползли сквозь заросли бурьяна. Стебли у сорняков повысохли, ломкие, мы ползем, а они громко так, с треском ломаются, и вот уж те, что на дороге, начали по нам стрелять, а мы знай дальше ползем. Доползли до колючей проволоки рядом с развалюхой Руфа, залегли и молчим. Клэту запыхался, я слышу, дышит тяжело, да и я сильно устал. Пока полз по этим колючкам, лицо себе поцарапал.
А из дома палят. Видно, не все оттуда вышли — в окне нет-нет и промелькнет чья-нибудь тень. И каждый раз, как промелькнет в окошке тень, с дороги тотчас же стреляют в дом.
— Я этого сукина сына сам хочу пришить, — говорит Клэту.
— Я не меньше твоего хочу, — говорю. — Когда в Бо стреляли, все мы были далеко, а сейчас у каждого есть шанс.
Подползли мы к самой канаве, чтобы лучше трактор разглядеть. Но темнотища такая стоит и до того густые эти сорняки, что, покуда кто не стрельнет, ни зги не видно. Но и тогда только всего и разглядишь что от выстрела вспышку.
Слышу, трещит сзади нас бурьян, оглянулся: подползают к нам Мэт, Жакоб и братья Лежены.
— Никого не ранило? — спрашивает Клэту.
— Вроде нет, — Мэт отвечает. — Немного поцарапались, а больше ничего.
— Кто это там в доме так палит? — спрашивает Клэту.
Жакоб смеется:
— Билли Вашингтон и Жан Пьер. Вот я и решил, здесь поспокойней будет.
— Никого не покалечили? — спрашивает Клэту.
— Только потолок, — отвечает Жакоб.
— Слава богу, — говорит Клэту.
Полежали, помолчали малость.
— Что делать будем? — спрашивает Мэт. Мы с ним лицом к лицу лежали, и он здорово пыхтел, все никак отдышаться не мог.
— Врассыпную надобно расположиться, — говорит Клэту. Перекатился на бок и оглядел всех нас. — Мэт, вы с Жакобом забирайтесь к Руфу во двор и схоронитесь за тутовым деревом. Дин и Дон, проберитесь дальше по деревне, а потом дорогу перейдите. А там сразу орите что есть мочи и стреляйте. Мэт и Жакоб, стреляйте сразу же после них, после вас стреляем мы с Простой Душой, ну а остальные нас поддержат.
Мэт и Жакоб двинулись первыми, потом Дин и Дон Лежены. Затрещал бурьян — это они заползали к Руфу во двор. Братья Лежены подбирались уже к дому Коринны, а мы все еще слышали, как потрескивают сорняки. И каждый раз, как раздавался треск, те, что прятались за трактором, стреляли.
Мы с Клэту лежали смирно, дожидались, когда братья Лежены переползут через дорогу, и я слышал в тишине, как в доме молится преподобный Джеймсон, как просит он господа смилостивиться над нами. Только Джеймсон переставал призывать господа, тетя Гло начинала призывать своего внучонка Кукиша. То Джеймсон молится, то Гло кричит; то Гло, то Джеймсон. Потом Чумазый крикнул Кочету: пристрели, мол, его преподобие, а то не заткнется никак. Джеймсон, видно, тоже это услыхал. Замолчал, и ни единого словечка.
Братья Лежены перебрались через дорогу. Потом один из них ухнул совой, и оба выстрелили. Сразу же по ним стали стрелять от трактора. Мэт и Жакоб ухнули и выстрелили. Те, что прятались за трактором, стали по ним палить. Клэту посмотрел на меня и кивнул. Мы оба разом стали на колени, крикнули совой, дали по выстрелу и распластались на земле. Кого-то там мы зацепили — я слышал, как он вскрикнул. Переглянулись мы с Клэту, усмехнулись и снова перезарядили дробовики.
Со всех сторон теперь палили, вся деревня. Можно было на слух различить тонкий голос Кочета, хрипловатый — Чумазого, голос Янки. Янки не ухал, как все. У него был свой особый крик — на родео вроде этого кричат, когда кто-то объезжает норовистую лошадь. "О-го-го"… и выстрел. Рассредоточились наши старики и по всей деревне ухают и стреляют. Я уж и не помню, когда мне было так хорошо. В последний раз, наверно, на войне, когда я был молодым. Господи Иисусе, смилуйся над нами!
— Остались у тебя патроны? — спрашивает Клэту.
— Еще два, — говорю.
— Что ж, стрельни разочек, а последний оставь.
Он стал на колени, оперся на локоть, а другую руку к губам приложил, чтобы было слышней:
— Мэт, Жакоб, Дин, Дон, по трактору стреляйте.
Они ухнули и выстрелили. Можно было подумать, это налет индейцев… Господи, спаси нас! Клэту глянул на меня. Мы привстали быстренько, дали по выстрелу и хлопнулись на землю. Клэту повернулся боком, приложил руку ко рту: "Эй там, в деревне, — огонь!" Он не договорил еще, а в деревне уж открыли огонь.
Кукиш
Ух как стреляли, откуда только не стреляли! Шериф упал, и тут же все давай палить. Из передней двери, из окошка, в потолок палили… уж не знаю куда. Стреляют и орут во все горло. Я говорю себе: эй, парень, сматывайся-ка отсюда. Бабушка схватить меня не может — держит за руки Тодди и Минни, — а мне только кричит, чтобы не смел уходить, но я подумал: нет уж, лучше я, пока можно, смоюсь, прошмыгнул через кухню — и под дом. Там я сразу пополз вперед. Полз без остановки, пока до крыльца не добрался.
Устроился под крыльцом и вижу: Мейпс, шериф, на дорожке сидит и не может встать. Уж так старается подняться: качается из стороны в сторону, то туда, то сюда. Но без помощи ему не встать, очень он большущий, а я вовсе не собирался ему помогать.
Старики эти все орут и стреляют. Слышно хорошо — шумят-то прямо у меня над головой. Еще я слышу: бабушка меня зовет; его преподобие Джеймсон зовет бога, а все остальные стреляют и орут.
Потом я увидал, как за домом пробирается куда-то Лу. Ползет на четвереньках, быстро так ползет. Остановился вдруг и заглянул под дом. Там темно, он не сразу меня увидел.
— Кукиш, это ты под крыльцом сидишь?
— Да, сэр.
— Тебя бабушка зовет, разве не слышишь?
— Слышу, сэр.
— Иди в дом, — говорит.
Я не ответил. Вовсе я не собирался возвращаться. Бабушка, конечно, потом поколотит, только это ведь не в первый будет раз.
— Ладно, сиди тут, — говорит Лу и ползет на четвереньках дальше. Вижу, в руке у него пистолет. Подполз туда, где Мейпс сидит, раскачивается на дорожке.
— У вас все в порядке? — спрашивает Лу.
— Конечно, — отвечает Мейпс. — Я просто так присел, полюбоваться видом.
— Ваш помощник подал в отставку, — говорит Лу и показывает Мейпсу пистолет.
— Оставьте у себя, — говорит Мейпс. — Еще кто-нибудь ранен?
— По-моему, нет.
Мейпс снова попробовал встать, но очень уж он большой.
— Вам нужна помощь? — спрашивает Лу.
— Больше, чем вы в силах оказать, — говорит Мейпс. — Будете сегодня заменять меня. Правую руку поднимите. Поклянитесь…
— Черта с два, — говорит Лу.
— Все равно я передал вам полномочия, — Мейпс говорит. — И сегодня меня больше не беспокойте.
— Интересно, что я должен делать?
— Сами разберетесь, — отвечает Мейпс. — А меня больше не тревожьте.
Хорас Томпсон, он же Жук
Лероя ранило. Несильно, царапина просто, но он развел скулеж, как пес с распоротым брюхом. Льюк велел ему заткнуться, все мы велели ему заткнуться, а он скулит, скулит, скулит, как издыхающий пес.
— Помираю, — говорит. — Помираю. А вам наплевать.
— Если не заткнешься, в самом деле помрешь, — говорит ему Генри. — Вояка из тебя вышел тот еще.
— А чего вы не сказали, что у этих у всех ружья, — скулит он.
— Не сказали, и все, говнюк, — говорит Генри.
Этот снова за свое:
— Помираю…
— Пусть он заткнется, — шепчет Льюк. — Пусть он затнется, говорю.
— Заткнись, — прошипел Генри. Потом слышу, по роже ему съездил. — Заткнись, падло.
Ну, уж тут он и вовсе сопли распустил.
— Я хочу сдаться, — скулит, — хочу сдаться.
— Попробуй отойди отсюда хоть на шаг, я тебе в спину пальну, — говорит Генри. — Влез в дело по уши, сопляк, теперь сиди не рыпайся.
— Мейпс! — кричит Лерой. — Мейпс!
— Заткнись, — говорит Генри и с размаху бьет его по зубам.
— Не надо! — всхлипывает Лерой. И снова: — Мейпс!
— Что? — отвечает Мейпс со двора. Нам его не видно, только слышно. Судя по голосу, он ослаб. Льюк, когда стрелял, не хотел убивать его насмерть, только остановить. — Чего тебе надо? — спрашивает Мейпс.
— Это Лерой говорит. Лерой Холл. Мейпс, я ведь почти ребенок.
— Это печально, — отвечает Мейпс.
— Я совсем еще ребенок, Мейпс, и белый вдобавок, — кричит Лерой.
— И это печально, — отвечает Мейпс.
— Доволен, засранец? — спрашивает Генри.
А тот совсем уж чокнулся от страха. Прямо корчит его всего. Кашляет, слюной брызжет. Если черномазые не знали до сих пор, где мы прячемся, теперь наверняка узнали.
Льюк высунулся из-за заднего колеса и осторожно вылез на дорогу. Поглядел направо, поглядел налево и снова за трактор заполз.
— Кого-нибудь увидел? — спрашиваю.
— Как можно ночью увидеть нигера? — спрашивает он меня. Потом кричит: — Эй, Мейпс!
— Что тебе нужно, Льюк Уилл? — отзывается Мейпс.
— Тут у нас парнишку ранило, довольно сильно. Я хочу его переправить к вам.
— Тащи его сюда, — говорит Мейпс.
— Нас пристрелят эти нигеры.
— А ты отстреливайся, — отвечает Мейпс. — Стреляй в них, как в меня стрелял.
— Вас подстрелил какой-то черномазый. Мы в вас не стреляли.
— Вы стреляли, у меня свидетели есть, — отвечает Мейпс. Передохнул минутку, потом продолжает: — И вы заплатите за это. Все как один. — Опять передохнул. — Если выберетесь живыми.
— Он хочет, чтобы эти черномазые поубивали нас, — снова заскулил Лерой. — Он хочет, чтобы эти черномазые нас поубивали.
— Тебе сказано: заткнись, — говорит Льюк Уилл, а потом как даст ему ногой. И еще раз, и еще. — Тебе сказано: заткнись, заткнись, заткнись, — повторяет он и с размаху бьет ногой Лероя.
Генри, Олси и я схватили Льюка и попридержали, пока Лерой не отполз на безопасную дистанцию.
— Не психуй, Льюк, — говорю ему. Я держал его за плечи. — Не психуй, Льюк. Спокойно.
Он ничего не отвечает, только дышит тяжело. Уморился, когда Лероя пинал. Но силенка кой-какая осталась — размахнулся да как врежет мне кулаком. В другой раз мы бы подрались, но сейчас я понимал, отчего он сам не свой. Он привел нас сюда, а здесь вдруг вон как обернулось, и он не знал теперь, как эту кашу расхлебать.
Лерой съежился в канаве, в землю вжался. Внимания на него никто не обращал.
Льюк снова вперед вышел, встал перед колесами.
— Мейпс! — кричит. — У меня патроны кончились. Неужели вы позволите этим черномазым перестрелять нас как собак?
Мейпс ему не ответил. Ответил — со стороны деревни — Чарли. Слышать-то мы его хорошо слышали, да только разве эту черную гориллу в темноте углядишь.
— У меня есть лишние патроны, — кричит Чарли Льюку. — Сколько тебе надо, Льюк Уилл? Пришли кого-нибудь из своих парней ко мне за патронами.
— Интересно, чего эти черномазые нахлебались, что стали вдруг такие храбрые? — я Льюку говорю.
Льюк немного отошел от колес и стал вглядываться в темноту, в деревню; потом опять прижался к колесу.
— Они по всей деревне, Льюк, — говорю я. — Не выбраться нам отсюда.
— Ты что, тоже на попятный? — спрашивает он.
— Нет, — отвечаю.
Я его знаю как облупленного. Он такой иногда злобной сволочью бывает. Самого близкого друга не пощадит. Он сперва поглядел на меня, внимательно так поглядел; потом на Генри и на Олси, даже нагнулся — они лежали под первым прицепом.
— Ну что, мальчики, хорошенького понемножку? — спрашивает. — Как вы считаете, пора кончать?
Мы все считали, что пора кончать, но никто не смел сказать это прямо.
— Надеюсь, вы догадываетесь, как на это посмотрит Клайд, — говорит Льюк и снова вперед вышел. — Знаете что, Мейпс? — кричит он в сторону дома. — Отзывайте своих нигеров, мы сдаемся вам.
Мейпс не ответил.
— Мейпс, вы меня слышите? — снова крикнул Льюк Уилл.
— Я тебя слышу, — отозвался Мейпс. Голос у него совсем стал слабый. — Разговаривай с Даймсом. Он сегодня за меня.
— Эй, Даймс! — крикнул Льюк.
— Я вас слышу, Льюк Уилл, — отозвался Даймс. А через секунду мы услышали, как он зовет: — Эй, Чарли… Мистер Биггс.
— Да чего уж там, называйте меня Чарли, — подал голос тот. — Мы все повязаны — какие уж тут "мистеры" и "мисс". Только переговоров никаких не будет. Меня за одного посадят на электрический стул, пусть уж сразу за двоих сажают. И никаких тебе переговоров.
— Этот черномазый, похоже, решился на все, — говорю я Льюку.
Сзади нас, в канаве, хлюпает Лерой. Генри и Олси высунули головы из-под прицепа и ждут, что Льюк надумает. Он тоже поглядел на них, а потом на меня — таким я его никогда не видел. Льюк — он больше, он сильнее всех, он никогда ни перед кем не пасует. Но сейчас он волновался… очень.
— Если вы отсюда выберетесь, а я нет, позаботься о Верне с детишками, — говорит он мне.
— Чего? — спрашиваю. Никак не ожидал такое от него услышать.
— Сколько у тебя осталось патронов? — спрашивает.
— Два, — отвечаю. — Может, смоемся? Кроха Джек поклянется, что мы просидели у него всю ночь.
— А как с этим быть? — Льюк кивнул на Лероя.
— Чтоб он сдох, — говорю. — Кто его просил под пулю лезть?
А сам слышу все время, как он скулит.
— Дай мне свои патроны, — сказал Льюк.
— Тогда у меня не останется.
— А ты возьми у него. Ему-то они без толку.
Я отдал ему свои два патрона, и он зарядил ружье.
— Льюк, — сказал я. — Все еще, может быть, хорошо кончится. Не делай глупостей, ладно?
— Если я отсюда не выберусь, — сказал он, — не забудь о Верне и детишках, Жук.
— Мейпс не позволит этим черномазым перестрелять нас как собак.
Он усмехнулся. Долго на меня глядел и покачал головой.
— Мейпс теперь уже тут не главный, — сказал он. — Главный Чарли. Теперь придется нам иметь дело с Чарли. Жук, ты готов иметь дело с Чарли?
Ни с каким Чарли иметь дело я не был готов, и Льюк знал это. Он прислонился к колесу и стал глядеть на деревню, где нас ожидал Чарли.
Антуан Кристоф, он же Чумазый
Чарли засел в канаве всех ближе к трактору, я за ним. Янки, Такер и Сажа — справа. Где-то позади нас Простокваша. Я прополз немного и пристроился рядом с Чарли. Он залег там, как большой медведь.
— Раскури мне чинарик, Чумазый, — говорит.
В кармане у меня лежало два бычка, я вытащил один и раскурил. Потом протянул его Чарли, он два-три раза затянулся и отдал его мне назад.
— Чарли! — кричит Лу — он во дворе остался.
— Что вам нужно? — спрашивает Чарли.
— Пропусти их, Чарли, пусть сдадутся.
— Нет, сэр, — отвечает он.
— Теперь это посчитают убийством, Чарли, — говорит Лу.
— А раньше это чем было? — Чарли говорит.
— Нет, Чарли, — кричит Лу. — Когда ты стрелял в Бо, то была самозащита. Кэнди может присягнуть.
Чарли ему не ответил. Протянул за окурком руку, и я сунул ему бычок. Он, затягиваясь, пригнул голову, чтобы нигде в деревне не увидели, как вспыхнул огонек.
— Чарли! — снова кричит Лу.
— Не пойду я никуда, — говорит ему Чарли.
— Здесь твой крестный, Чарли, — кричит Лу. — Он хочет к тебе выйти и с тобой поговорить.
— Не надо крестному никуда выходить, — отвечает Чарли. — Крестный велел мне никого не бояться. И я не побоюсь Льюка Уилла.
После этого настала тишина. Тьма кромешная и тишина. Чарли залег у края канавы, как большой старый медведь. И я тут же, возле него.
— Боишься, Чумазый? — спрашивает.
— Рядом с тобой, Чарли, не боюсь.
— Ты никогда больше не бойся, Чумазый, — говорит мне Чарли. — До чего же хорошо жить, когда поймешь, что ты уже больше не трус.
Я киваю. Но мне хочется еще кое-что узнать.
— Чарли, — говорю.
Он смотрит в ту сторону, где трактор.
— Чарли, — говорю я снова.
— Чего тебе, Чумазый? — спрашивает он, а головы не поворачивает.
— Что ты там видел, Чарли?
Не отвечает. Лежит молчит, медведь медведем, и двустволка в руке.
— Чарли, что ты видел там, в болотах? — снова спрашиваю я.
— Ты сам тоже это видел, Чумазый, — отвечает он, не глядя на меня.
— Ничегошеньки я не видел, Чарли. Скажи мне, что ты видел?
— Вы все, все до единого, видели это, — говорит он.
— Да нет, не видел я ничего, — говорю. — Я цельный день все только здесь, в деревне. Вместе со всеми. И не видал я ничего.
Тут он повернул ко мне голову.
— А у тебя все в порядке, Чумазый, — говорит он. — Есть оно теперь у тебя, друг.
— Что есть, Чарли?
Он улыбнулся.
— Раскури-ка мне еще один чинарик.
Я вынул из кармана второй бычок. Пока я его раскуривал, услышал, Лу опять кричит со двора:
— Я сейчас выхожу за калитку, Чарли!
— Не получите вы мое ружье! — отвечает Чарли. — Заберите лучше ружье Льюка Уилла.
— Льюк Уилл, я сейчас выхожу! — Лу кричит.
— Не отдам я вам ружье! — кричит Льюк Уилл.
А потом все замолчали, тихо стало. Чарли курит свой чинарик, торопливо втягивает дым, словно очень спешит поскорей докурить. А потом, гляжу, встает. Я шепчу ему: ложись, куда ты, но он не слушает меня и встает во весь рост. Лу как бешеный орет: лежи на месте, только Чарли не слушает никого. Встал — и прямо к трактору. И прошел он никак не больше двух, трех, ну, может, четырех шагов, как услышал я первый выстрел. Вижу: зашатался он, но не упал; вижу: он стреляет, но не целится. А потом вижу, выбежал Лу, руками машет и кричит: прекратите, прекратите, прекратите. А Чарли все идет к этому трактору, но уже не стреляет, а просто медленно так падает на ходу, падает, падает… и свалился. А уж дальше одна стрельба пошла. Я стрелял; похоже, вся деревня стреляла. И так, наверное, с минуту. Потом тихо сделалось, так тихо, как никогда и не бывает.
Собрались мы все потом на дороге. Возле трактора увидел я Лу, он стоял над кем-то — тот лежал, привалившись к колесу. Я услышал, кто-то сказал: порешили мы гада.
А мы все возле Чарли собрались. Мату стал рядом с ним на колени и приподнял ему голову, чтоб не лежала в пыли. Застрелили они его, это точно. Угодила пуля прямо в живот. Он лежал, похожий на большого старого медведя, и смотрел на нас с земли. Что-то пытался сказать, да не смог. Все смотрел, смотрел на нас, но немного погодя стало ясно: он нас больше не видит. Я наклонился и дотронулся до него в надежде — может, хоть частица малая ко мне перейдет того самого, что он нашел, когда бродил по болотам. После меня остальные мужчины до него дотронулись. Потом женщины, даже Кэнди. Потом Гло велела своим внучатам тоже дотронуться до него.
Лу Даймс
Всех троих похоронили два дня спустя. Бо и Льюка Уилла — в Байонне, Чарли — в Маршалловой деревне. Суд состоялся на следующей неделе и длился три дня. Черных защищал адвокат Кэнди Клинтон. Дружков Льюка Уилла защищал ку-клукс-клан. Жалче вояк мир не видывал — с той и с другой стороны равно. Ни один не уцелел: кто не поцарапался, тот ушибся, а не ушибся, так порезался. Колючая проволока, консервные банки, разбитые бутылки — обо что только они не изувечились. Одни вывихнули ноги, когда перепрыгивали через канавы, другие вывихнули руки, когда падали на землю. Третьи, те просто налетели друг на друга. Кто мало что охромел, так еще и руку сломал; у кого была забинтована голова, а не голова, так что-нибудь другое. Пулей из всех них ранило лишь одного Лероя.
Все они намылись, надели все свое самое лучшее. И целых три дня тем, кто сидел в первых рядах, шибало в нос исключительно хвойным мылом и нафталином.
Все дни зал суда был переполнен, черных и белых набиралось примерно поровну, и чуть не половину зала занимали корреспонденты. Они съехались со всего Юга. Даже самые крупные газеты и журналы и те были представлены. Фикс и его дружки явились в полном составе, не исключая Жиля, который сидел вместе с семьей (кстати, УШЛ побил Миссисипский университет со счетом 21:13. Жиль и Кэл, каждый, сделали за игру по сотне метров с мячом). Куклуксклановцы и нацисты явились для оказания моральной поддержки друзьям Льюка Уилла. Явились и представители Национальной ассоциации содействия равноправию цветного населения, и черные активисты, не преминула явиться и полиция штата — она присматривала за происходящим и обыскивала чуть не каждого, кто входил в зал. Председательствовал судья Форд Рейнольдс. Судье Рейнольдсу семьдесят, у него белоснежная шевелюра, багровое лицо выпивохи, и выглядит он если и не как образцовый дед, то как такой, о котором мечтал бы каждый внук. Благодушный богач, с большим чувством юмора, он очень гордится своей наружностью. Судья сразу же предварил нас, что ему не только никогда не случалось председательствовать на подобном процессе, но за все его тридцать пять лет на судейском поприще не случалось и слышать ни о чем подобном. И предупредил, что никакого беспорядка не потерпит. Предупредил также, что не советует надеяться на мягкосердечие седовласого старика судьи: он может быть строгим не хуже любого другого, а при случае и построже.
— Вот так вот, — говорит. — Приведите к присяге первого свидетеля. Начали.
Как я уже говорил, процесс тянулся три дня, и по большей части в суде царил порядок. Однако порой, когда кое-кто из черных стариков — с рукой в повязке или с забинтованной головой — описывал события, он, работая на публику, несколько увлекался. Вдобавок своих земляков он именовал не иначе как кличками — Простокваша, Чумазый, Простая Душа, Сажа, Кочет. Зал разражался хохотом, особенно веселились корреспонденты: случай, конечно, из ряда вон выходящий, но всерьез они его не принимали. Зал не разделял их веселья, однако лишь до тех пор, пока Мейпса не вызвали для дачи свидетельских показаний во второй раз и не предложили описать, где именно он находился во время перестрелки. Прежде Мейпс, особо не уточняя, объяснил, что был во дворе. Но теперь окружному прокурору потребовалось узнать, где именно во дворе. Мейпс отказался отвечать. За отказ отдачи показаний, предупредил судья Рейнольдс, его могут обвинить в преступной халатности: ведь в перестрелке погибли двое. Мейпс ответил, но так тихо, что его услышал лишь прокурор. "Говорите громче, — потребовал прокурор, — чтобы вас слышал весь зал." Злые серые глаза Мейпса так полоснули прокурора, что казалось, Мейпс сейчас сорвется со свидетельского места и врежет прокурору, но вместо этого шериф только сказал: "Всю перестрелку я просидел на заду посреди дорожки. Льюк Уилл подстрелил меня, и я сидел на заду посреди дорожки. Ну как, теперь хорошо слышно?" И с тем вернулся в зал. Вот тут-то зал и грохнул, даже судья Рейнольдс не удержался от смеха. Люди, проходившие по улице, должно быть, подумали, что тут показывают чаплинскую комедию. Случилось это утром третьего дня, и до самого вечера, пока процесс не закончился, публика каталась от смеха. У Мейпса — рука его была в повязке — весь день горели щеки, и, наверное, будут гореть еще долго-долго.
Присяжные после трехчасового совещания вынесли приговор. Судья прочел его, на минуту задумался, а потом велел всем обвиняемым — и черным, и белым — встать. Так как двое виновных в убийстве, сказал он, погибли и при этом надо добавить, что убили Бо и ранили Мейпса они же, он не станет выносить приговор, а будет молиться об упокоении их душ. Что же касается остальных, сказал судья, он приговаривает всех их условно сроком на пять лет или до конца жизни, в зависимости от того, что наступит раньше. А это означает, сказал судья, что он лишает их права пользоваться огнестрельным оружием любого вида, как-то: дробовиками, винтовками, пистолетами, а также запрещает подходить ближе чем на три метра к тем, кто носит оружие (что для жителя Луизианы так же немыслимо, как никогда не упоминать о масленице или Хью Лонге). Если он узнает, сказал судья, что кто-либо из обвиняемых взялся за оружие или подошел к вооруженному человеку ближе чем на три метра, он, судья, посадит нарушителя в тюрьму на остаток жизни, сколько бы тому ни суждено прожить. Вопросы есть? — спрашивает судья. Вопросов не последовало, и судья бухнул молотком и объявил заседание закрытым.
Мы с Кэнди вышли из зала суда, остановились на крыльце и стали смотреть, как расходится народ. Кэнди предложила Мату подвезти его. Но он отказался. Клэту, говорит, ждет их в грузовике, и он вернется вместе со всеми. Видавший виды грузовичок Клэту стоял перед зданием суда; мы посмотрели, как старики забираются в кузов. Кэнди помахала им рукой. Я почувствовал, как другой рукой она нашла мою руку и ее пальцы стиснули мои.
Автобиография мисс Джейн Питтман The Autobiography Of Miss Jane Pittman 1971
Эта книга посвящается памяти моей бабушки миссис Джулии Маквей, моего отчима мистера Рафаэля Норберта Коллара и памяти моей любимой тетки мисс Агустины Джефферсон, которая не могла ходить, но своим примером показала мне, как это важно — выстоять.
Вступление
Несколько лет я пытался уговорить мисс Джейн Питтман поведать мне историю ее жизни, но всякий раз она отвечала, что рассказывать ей не о чем. Но ведь ей более ста лет, настаивал я, когда-то она была рабыней, ей есть о чем порассказать. В 1962 году, когда школа закрылась на летние каникулы, я снова поехал на плантацию, где жила мисс Питтман, и повторил, что намерен услышать ее историю до начала занятий в сентябре и теперь уже от нее не отстану.
— Не отстанете? — сказала она.
— Нет, мэм.
— Ну, тогда, пожалуй, лучше что-нибудь рассказать, — сказала она.
— Это еще почему? — спросила Мэри.
Мэри Ходж, шестидесятилетняя крупная женщина с коричневой кожей, жила в одном доме с мисс Джейн и приглядывала за ней.
— Так он же меня до смерти замучает, — сказала мисс Джейн.
— А зачем вам это нужно? — спросила Мэри.
— Я преподаю историю, — объяснил я, — и, конечно, рассказ о ее жизни поможет мне многое объяснить моим ученикам.
— Ну а ваши книжки чем плохи?
— О мисс Джейн Питтман в них ничего нет, — сказал я.
— Ладно уж, Мэри, — сказала мисс Джейн.
— Ничего ему не рассказывайте, если не хотите, — сказала Мэри.
— А он будет ко мне приставать.
— Не будет, коли скажете, чтоб его ноги здесь не было! Не то я попрошу, чтоб Этьен дал мне свой дробовик.
— Когда вы хотите начать? — спросила мисс Джейн.
— Значит, вы согласны? — сказал я.
Они обе только посмотрели на меня. Понять, о чем думает мисс Джейн Питтман, я не мог. Когда женщине более ста лет, угадать ее мысли не так-то просто. Но Мэри было всего шестьдесят, и я знал, о чем думает она: ей все еще хотелось взять у Этьена дробовик.
— Можно в понедельник? — спросил я.
— Можно и в понедельник, — ответила мисс Джейн.
Я рассчитывал, что успею записать рассказ мисс Джейн на магнитофонную ленту еще до сентября. И первые две недели все шло хорошо. Однако на третьей неделе работа вдруг застопорилась. Мисс Джейн начала все забывать. Не знаю, было ли это намеренно, но почему-то она больше ничего не могла вспомнить. Меня спасло, что послушать наши разговоры всегда приходили другие люди, и они охотно помогали мне, чем могли. Мисс Джейн все время справлялась у них то об одном, то о другом. Главным ее консультантом был старик, которого звали Пэп. Ему перевалило за восемьдесят, он всю жизнь прожил на этой плантации и помнил все, что происходило в округе с начала нашего века. Но даже Пэп не помог мне уложиться в намеченный срок. Начались занятия в школе, и теперь я мог беседовать с мисс Джейн только по субботам и воскресеньям. Я разговаривал с ней и с другими несколько часов, а потом уезжал до конца следующей недели. Следует заметить, что, хотя рассказ ведет только мисс Джейн, к нему многое добавляли другие. Если она уставала, забывала или просто не хотела больше говорить, за нее продолжал кто-нибудь еще. А мисс Джейн сидела и слушала, пока снова не была готова рассказывать. Если она соглашалась с говорившим, то не прерывала его довольно долго, если же нет, качала головой и повторяла: "Нет, нет, нет, нет, нет". И рассказчик не спорил — это была ее история, а не кого-нибудь еще.
Иногда мне казалось, что повествование безнадежно запуталось. Сегодня мисс Джейн рассказывала об одном, а на следующий день начинала говорить совершенно о другом. Если я осмеливался спросить ее: "Ну а то как же?" — она подозрительно взглядывала на меня и отвечала:
— А что?
И тут же вступала Мэри:
— О чем это вы? Вам что, не нравится?
— Да, но…
— А дальше что?
— Мне просто хотелось бы, — говорил я, — связать все в одно целое.
Но Мэри отвечала:
— Сразу всего не скажешь. Если вам так не нравится, рассказывайте сами. А то, может, с вас уже хватит?
И обе смотрели на меня так, будто я вошел в комнату, не постучав.
— Слушайте, что она рассказывает, и довольно с вас, — говорила в заключение Мэри.
Записать на бумаге все, что за эти восемь-девять месяцев наговорили на магнитофонную ленту мисс Джейн и другие, попросту невозможно. Единой канвы не было, зачастую повторялось уже сказанное раньше. И в книге я попытался передать суть этих рассказов, их квинтэссенцию. Я старался сохранить своеобразие и ритм речи мисс Джейн. Она не пускалась в описание, но иногда вновь и вновь повторяла какое-то слово или фразу, стараясь оттенить комизм или драматизм происходившего.
Мисс Джейн Питтман умерла месяцев через восемь после нашей последней встречи. На ее похоронах я увидел многих из тех, о ком она упоминала. Я рассказал им о своих записях и попросил разрешения встретиться с ними и поговорить. Почти все, и черные и белые, согласились. Некоторые захотели прежде прослушать запись или хотя бы отдельные куски. Но, прослушав, отказывались говорить. Другие посмеивались и замечали, что не всему записанному следует верить. Однако третьи были готовы разговаривать со мной, не слушая записи, и в большинстве случаев многое в их рассказах сходилось с тем, что говорила мисс Джейн.
В заключение мне хотелось бы поблагодарить всех замечательных людей, которые бывали в доме мисс Джейн в те долгие месяцы, пока я записывал ее рассказы, ибо это повесть не только о жизни мисс Джейн, но и об их жизни. Именно это имели в виду Мэри и мисс Джейн, когда утверждали, что связать все в одно целое невозможно. Рассказы, история мисс Джейн — это история каждого из них, и наоборот.
От издателяКнига первая Годы войны
Солдаты
День был такой, как сегодня: сухой, жаркий и пыльный-пыльный. Вроде был июль, только я точно не скажу. Может, июль, а может, и август. Пекло — до конца своих дней не забуду. Сперва пришли конфедераты. Офицеры — на лошадях, солдаты — пешком, и даже ружья по земле волочили, до того устали. Офицеры въехали во двор, и хозяйка сказала, чтоб они слезли с лошадей и вошли в дом. Полковник сказал, что не может, спешит куда-то, но с коня сойдет поразмять ноги, если любезная хозяйка будет столь милостива и разрешит. Хозяйка сказала, что будет столь милостива. Полковник сошел с коня, а потом велел остальным сделать то же. Он был маленький, с ружьем и саблей. А сабля очень длинная и чуть не волочилась по земле. Прямо будто маленький мальчик взял чью-то саблю поиграть. Хозяйка сказала, чтоб я не стояла разинув рот, а шла на дорогу, дать солдатам напиться. Бочка с водой стояла под китайской вишней. Мы ведь знали, что солдаты придут по этой дороге — накануне пушки стреляли, а потом кто-то проезжал мимо и сказал, что, наверно, придут солдаты, так мы должны им помочь, чем можем. Вот мне и велели натаскать воды. Все утро таскала. А теперь надо было таскать воду из бочки солдатам. Ведро за ведром, уж и не упомню, сколько я этих ведер перетаскала. А солдаты были совсем оборванные и до того усталые, что будто и не видели меня вовсе. Возьмет у меня ковшик, напьется и стоит, а ковшик держит, пока я не дотянусь и не отниму другого напоить. Меня, черную малявку, они и не видели даже. Спросить, так не сказали бы, белая или черная, мальчик или девочка. Им это было все равно. Один солдат все бормотал. Сам чуть повыше меня, а лицо грязное-прегрязное. И все бормочет:
— Будь моя воля, я этих черномазых отпустил бы. Спроси меня, я бы всех их отпустил.
Когда я подала ему ковшик, он его долго в руке держал, потом все-таки выпил воду, а ковшик не отдал, сидит и таращится в землю.
А ведь дома-то они сказали, что к ужину вернутся. Раньше еще, когда война только началась. Они тогда думали, воевать — это дело простое, раз-два — и готово.
"Мой ужин не убирайте, — говорили. — Не убирайте и никому другому не отдавайте, съезжу, перебью с десяток янки и тут же вернусь. Кто они такие, что вздумали решать, как нам жить? У нас кровь благородная, а не у них. Бог поселил нас здесь, чтоб мы жили, как мы хотим. Так даже в Библии сказано. — (Я просила отыскать мне в Библии это место, но до сих пор его так никто и не нашел). — И он поселил здесь черномазых, пускай видят, как мы живем, — это тоже в Библии написано. От Иоанна, глава такая-то. Стих… стих что-то не вспомню. Ну а янки вздумали явиться сюда и отнять то, что нам дал господь. Поставь мой ужин в духовку, мама, я возвращусь домой еще до завтрака". Вот они-то самые сейчас и бормотали на дороге.
Еще все не напились, а вижу — по дороге к нам скачет на лошади еще один. Нахлестывает лошадь, шпорит и кричит во весь голос:
— Полковник, полковник, они идут! Полковник, полковник, они идут!
Он проскакал совсем рядом, только солдаты до того устали, что даже не посмотрели на него. А другие так просто взяли и легли на землю, едва он проехал.
— Далеко они? — спросил его полковник.
— Точно не знаю, — говорит. — Милях в трех-четырех. Я только облако пыли видел.
Хозяйка дала ему два сухаря и воды. Он смотрел на хлеб и воду так, будто не видел их очень давно, и все кланялся и повторял:
— Спасибо, сударыня, спасибо, сударыня, спасибо, сударыня.
Полковник щелкнул каблуками, поцеловал хозяйке руку и приказал, чтоб все садились на коней. А солдатам на дороге крикнул, чтоб они встали. Одни послушались, а многие как сидели, так и сидят, глаза в землю. Одному офицеру пришлось подъехать к ним и скомандовать "смирно". Но они все равно не очень-то заторопились. Потом они пошли по дороге, и я услышала, что тот опять бормочет:
— Будь моя воля, я отпустил бы этих черномазых на все четыре стороны.
А другой цыкнул на него, чтоб он замолчал, а не то их обоих пристрелят. Того за нытье, а его — за то, что он ему двоюродный брат. А потом пригрозил, что сам его пристрелит, хоть он ему и брат. Но все равно тот свое повторял: "Если они янки нужны, так пусть янки их и забирают. Будь моя воля…" А потом его не стало слышно.
Когда они все ушли, я вернулась во двор с ведром и ковшиком. Хозяйка стояла на веранде, смотрела в поле на клубы пыли и плакала:
— Благородная, бесценная кровь Юга, благородная, бесценная кровь Юга.
Просто глядела на пыль, заламывала руки и плакала. Потом вдруг увидела, что я стою и смотрю на нее.
— Что ты стоишь сложа руки? — кричит. — Иди натаскай в бочку воды.
— Зачем, хозяйка? Они же ушли.
— А ты думаешь, янки не пьют? Иди за водой.
— Янки воду носить? — спрашиваю.
А она говорит:
— Да, носить. Ты же не хочешь, чтобы они сварили тебя в масле и съели?
— Нет, хозяйка.
— Вот и ступай за водой, — говорит. — Для янки первое удовольствие поджарить черномазую девчонку и съесть. А куда остальные черные бездельники подевались?
— Они пошли с хозяином прятаться в болоте, — отвечаю и показываю на дом.
— Не тычь пальцем в ту сторону, — говорит хозяйка. — Может, какой-нибудь янки уже тут. И придержи язык, когда они явятся. Только скажи что-нибудь про хозяина и про серебро, шкуру с тебя спущу.
— Хорошо, хозяйка, — отвечаю.
Тут из-за дома выбегает один из наших рабов и говорит:
— Хозяин велел узнать, все прошли или нет?
— А где сам хозяин? — спрашивает хозяйка.
— Да вон у края болота, — отвечает. — Из-за дерева выглядывает.
— Беги назад, скажи хозяину, что пока и половины не прошло, — говорит хозяйка.
Он кинулся за дом и припустил быстрее прежнего. А мне хозяйка сказала, чтоб я начинала таскать воду.
Янки пришли только поздно вечером. Видно, у того солдатика, который увидел облако пыли, не то глаза были острые, не то он не умел верно определять расстояние. Их офицеры въехали во двор точно так же, как раньше офицеры конфедератов, а их солдаты тоже сели прямо у дороги. Я взяла ведро, ковшик и пошла поить их водой.
— Много мятежников здесь прошло? — спросил один солдат.
— Я никаких мятежников не видела, хозяин, — отвечаю я.
— Не ври, — говорит. — Кто же оставил столько следов?
— А это мы, черные, — говорю я.
— Вы, значит, в башмаках ходите? — спрашивает. — Так где же твои башмаки.
— Я их сняла. Они мне ноги натерли.
— Девочка, разве ты не знаешь, что врать нехорошо?
— Я не вру, хозяин.
— Как тебя зовут?
— Тиси, хозяин.
— Они тебя бьют, Тиси?
— Нет, хозяин, — говорю.
А он говорит:
— Я не хозяин, Тиси, и ты мне скажи правду. Они тебя бьют?
Я оглянулась на дом. Гляжу, хозяйка разговаривает с офицерами на веранде. Значит, не услышит ни меня, ни солдата. Я опять посмотрела на него. Ждала, чтобы он еще раз меня про это спросил.
— Они ведь бьют тебя, Тиси, правда? — говорит он.
Я кивнула.
— А чем они тебя бьют?
— Девятихвосткой, хозяин.
— Мы им отплатим, — говорит он. — За каждую порку десятеро умрут.
— Десять домов сгорят, — сказал другой.
— И десять плантаций, — добавил еще один.
— Ну-ка! — сказал ему первый солдат. — Бери ведро и принеси воды!
— Лучше я сама, хозяин. Меня отстегают плеткой, если я не сделаю свою работу.
— Отдохни, — сказал он. — Эй, Льюис, встань!
Льюис этот поднимался медленно-медленно: устал ведь не меньше, чем они все. Он был щуплый такой, и мне его стало жалко: такими всегда помыкают все кому не лень. Он взял у меня ведро, пошел во двор, что-то бормоча себе под нос. А другие солдаты как закричат, чтоб он пошевеливался.
— За что тебя бьют, Тиси? — спрашивает тот, первый.
— А я засыпаю, когда смотрю за детьми молодой хозяйки, — отвечаю.
— Да ты же сама еще ребенок. Сколько тебе лет?
— Не знаю, хозяин.
— Десять? Или одиннадцать?
— Да, хозяин.
— Я не хозяин, Тиси, — сказал он. — Я простой солдат-янки и пришел сюда, чтобы проучить мятежников, а вас всех освободить. Ты хочешь стать свободной, правда, Тиси?
— Да, хозяин.
— А что ты будешь делать, когда станешь свободной?
— Только спать, хозяин, — говорю.
— Вот и другие, Тиси, будут только спать, — говорит он. — И брось звать меня хозяином. Я капрал Браун. Ну-ка, можешь сказать "капрал"?
— Нет, хозяин.
— А ты попробуй.
Я заулыбалась.
— Ну, ну, попробуй, — говорит.
— Не могу выговорить, хозяин.
— А "Браун" выговорить можешь?
— Да, хозяин.
— Ладно, зови меня просто мистер Браун, — сказал он. — А я буду звать тебя не Тиси, а как-нибудь по-другому. Тиси — рабское имя, а я не люблю рабства. Я буду звать тебя Джейн. Вот-вот, Джейн! Это имя моей дочери, она в Огайо. Хочешь, чтобы я тебя так называл?
Я стояла и улыбалась как дурочка и почесывала ногу большим пальцем другой ноги. Просто стояла и улыбалась. А другие солдаты глядели на меня и тоже улыбались.
— Ага! — сказал он. — Вижу, тебе нравится такое имя. Значит, теперь тебя зовут Джейн. А не Тиси. Джейн. Джейн Браун. Мисс Джейн Браун. Когда подрастешь, можешь поменять это имя, на какое захочешь. А до тех пор будешь зваться Джейн Браун.
Я все стояла и улыбалась, почесывая ногу большим пальцем другой ноги. Такого красивого имени я еще никогда не слышала.
— И если они еще хоть раз тебя ударят, догони меня и скажи. А я вернусь и сожгу их дом.
Офицеры-янки сели на лошадей, выехали на дорогу и велели солдатам идти дальше. Солдаты встали, построились и пошли. Хозяйка решила, что они ее уже не услышат, и стала меня звать. А я стою и смотрю, как солдаты уходят по дороге. Один оглянулся и помахал мне рукой. Только не Льюис, а другой. Льюис, наверно, еще злился на меня. Я улыбнулась и тоже помахала. Их уже не стало видно за поворотом, а я все стояла и смотрела, как над полем поднимается пыль. Мне так хорошо было, что у меня теперь новое имя. И вдруг хозяйка как схватит меня за плечи.
— Ах ты, дрянь, ты разве не слышала, что я тебя зову?
А я подняла голову и посмотрела ей прямо в лицо:
— Вы Тиси звали. А меня больше так не зовут. Меня зовут мисс Джейн Браун. И мистер Браун велел отыскать его и сказать, если вам это имя не понравится.
Лицо у хозяйки стало совсем красное, глаза выпучились, и она с полминуты просто стояла и глядела на меня. Потом подобрала юбки — и бегом к дому. Когда вечером хозяин и все они вернулись с болота, она сказала, что я ей нагрубила прямо перед янки. Хозяин велел двум рабам бросить меня на землю. Один прижал мне руки, другой — ноги. Хозяин задрал мне юбку, дал хозяйке хлыст и велел проучить меня. Она ударит и спрашивает, как меня зовут. А я отвечаю: "Джейн Браун". Опять ударит и опять спрашивает, как меня зовут. "Джейн Браун", — отвечаю.
Хозяйка устала бить и попросила, чтоб хозяин мне добавил. Но он сказал, что хватит — вон на хлысте уже кровь.
— Продай ее, — говорит хозяйка.
— Да кто же ее купит, когда по всей округе шныряют янки?
— Ну так уведи ее в болото и убей, — говорит хозяйка. — Видеть ее не могу.
— Убить? — говорит хозяин. — А если вернется Браун и спросит про нее, что тогда? Я ее в поле отошлю, а за детьми смотреть приведу другую.
Вот они меня в поле и отослали, а мне было лет десять-одиннадцать. Через год пришла Свобода.
Свобода
Мы хлопок прореживали и вдруг слышим: зазвонил колокол. Работу бросить мы побоялись: солнце еще стояло высоко и уходить было рано. А колокол все звонит и звонит… Звонит и звонит. Черный надсмотрщик, дюжий такой, толстый, а лицо лоснится, то и дело оглядывался на дом. Чуть колокол ударит, все оглядывается. Потом велел, чтоб мы продолжали работать, а он пойдет узнает, почему звонят. Я глядела, как он идет к дому, потом вижу — вышел и рукой машет. Мы вскинули мотыги на плечо и пошли через поле. Надсмотрщик сказал, что хозяин велит нам всем собраться возле дома. Мы не стали спрашивать зачем, а просто пошли туда. Хозяин стоял на веранде с листом бумаги в руках.
— Все пришли? — спрашивает. — И дети из поселка тоже? Все до единого, кто может стоять на ногах?
Ну, ему ответили, что мы все тут.
— Ладно, — говорит хозяин. — У меня для вас новость. Вы теперь свободны. Мне сейчас привезли Декларацию, и в ней написано, что вы все теперь такие же свободные, как я. Можете оставаться и работать издольщиками, потому что платить мне вам нечем — после того как здесь в последний раз прошли янки, я последнего лишился. Хотите — оставайтесь, хотите — уходите. Если останетесь, я обещаю быть с вами справедливым, каким всегда был.
Старая и молодая хозяйки стояли в дверях и плакали, а позади них столпились домашние негры и тоже плакали. Хозяин прочитал Декларацию, но все молчали и только смотрели на него, будто ждали, что он еще что-то скажет.
— Ну, вот и все, — сказал хозяин.
Тут вдруг кто-то как закричит! И все запели. Просто пели, танцевали, били в ладоши. Старики, которые вроде бы и ходить-то давно разучились, принялись от радости прыгать, как бойцовые петухи. А пели все вот что:
Мы свободны, мы свободны, мы свободны, Мы свободны, мы свободны, мы свободны, Мы свободны, мы свободны, мы свободны, О господи, мы свободны!Просто пели и били в ладоши, пели и били в ладоши. Просто что-то говорили друг другу и хлопали друг друга по спине. Один только надсмотрщик стоял и молчал. Все пели и били в ладоши, а он стоял и смотрел на хозяина. Потом подошел поближе к веранде и спросил:
— Если нам теперь можно уходить, хозяин, то куда же нам идти?
Хозяин рта раскрыть не успел, как я сказала:
— Где север? Покажите мне, и я скажу всем, куда идти.
— Прикуси язык, — говорит надсмотрщик. — От тебя одна морока. Как ты пришла на поле, ничего от тебя, кроме одной мороки, не было!
— От меня хоть морока была, а ты вовсе всего ничего, — говорю.
Я и опомниться не успела: лежу на земле, а губы у меня как онемели. Хозяин посмотрел на меня с веранды и сказал:
— Я тут ничего поделать не могу. Теперь вы свободны и больше мне не принадлежите. Разбирайтесь сами, как умеете.
Я вскочила и впилась зубами в руку надсмотрщика. А она твердая, как крокодилья кожа. Он выдернул руку и ударил меня в скулу. Я вскочила и схватила мотыгу, которую принесла с поля. Старик — мы его все звали дядюшка Айсом — встал передо мной.
— Обожди, — сказал он.
— Нечего мне ждать! — кричу я. — А ты читай молитву. Господи, ты с нами во все дни.
— Я ведь сказал "обожди", — говорит дядюшка Айсом. — А когда "обожди", это и значит — обожди.
Я опустила мотыгу, но не отводила глаз от надсмотрщика. Потом провела ладонью по губам, а они ничего не чувствуют. И кровь не течет, только они совсем онемели.
Когда дядюшка Айсом увидел, что я мотыгу опустила и надсмотрщика не трону, он повернулся к хозяину.
— В бумаге написано, что мы можем уйти, а можем остаться. Так, хозяин? — спросил он.
— Нет, здесь только говорится, что вы свободны, — ответил хозяин. — Им нет дела, что вы будете делать и куда пойдете. Это я говорю, что вы можете остаться, если захотите. Останетесь, я возьму вас издольщиками, и вы будете работать, когда захотите. А по воскресеньям можете не работать, если сами не пожелаете. Идите в церковь, сидите там и пойте целый день, если хотите. Вы свободны, как я.
Дядюшка Айсом спросил:
— Хозяин, а можно мы соберемся в поселке и потолкуем между собой?
— И о чем же вы будете толковать, Айсом?
— А о том, уходить нам или лучше остаться, хозяин, — говорит дядюшка Айсом.
— Вы ведь теперь свободны, как я, — говорит хозяин. — Можете толковать сколько душе влезет. Только смотрите не столкуйтесь сжечь тут все дотла.
Дядюшка Айсом так даже улыбнулся.
— Нет, хозяин, про это мы толковать не будем.
— Дайте пока детям яблок, — сказала хозяйка.
— А мужчинам и женщинам сидра, — сказал хозяин. — Празднуйте свою свободу.
— Обождите, — говорит дядюшка Айсом. — Яблоки и сидр потом. Сначала пойдем к себе и потолкуем.
К дядюшке Айсому в поселке все ходили за советом. Говорили, будто раньше он был знахарем. И он правда разбирался в корешках и травах. Люди всегда у него просили чего-нибудь от живота или там от болячек. Вот почему все сразу пошли за ним. Ребятишки хныкали — им хотелось яблок, но взрослые пошли за ним и слова не сказали. Мы подошли к его хижине, и он велел всем опуститься на колени, чтобы возблагодарить бога за свободу. Мне не хотелось вставать на колени, я тогда еще мало что знала о господе нашем, но я все-таки встала, потому что уважала дядюшку Айсома. А он кончил молиться, поднялся с колен, снова всех нас оглядел. Он был очень старый, черный-черный, с длинными белыми волосами. Может, ему перевалило за восемьдесят, а может, и за девяносто. Не знаю, сколько ему было лет.
— А теперь я спрошу у вас, — сказал он, — что нам делать?
— Рабства больше нет, давайте уйдем, — сказал один.
— Нет, лучше останемся, — сказал другой. — Может, хозяин переменится, раз теперь свобода.
— Вы делайте как знаете, — сказала я, — а я пойду на север. — Я повернулась и хотела уйти, но потом остановилась: — А где север?
— Пойти-то недолго, а что вы будете есть? — сказал Айсом. — И где будете спать? И кто защитит вас от патрульных?
— Янки защитят, — ответила я.
— Янки защитят, янки защитят, — передразнил дядюшка Айсом, и я увидела, что во рту у него нет ни одного зуба. — Янки наболтал, что тебя зовут Джейн. А когда хозяйка стегала тебя, куда делся твой янки?
— Больше они меня бить не будут, — сказала я. — В бумаге сказано, что я свободна, свободна, как все люди.
— Верно! Если они тебя схватят, так бить не будут, а просто убьют, — сказал дядюшка Айсом. — Раньше они бы тебя не убили, потому что ты была чьей-то, как скотина. А теперь у тебя одна хозяйка — судьба. И защитить тебя некому, Тиси.
— Меня зовут Джейн, дядюшка Айсом, а не Тиси, — сказала я. — И я пойду в Огайо. Только вы покажите мне, куда идти.
— Про Огайо я мало что знаю, — сказал он и пошел к дороге. — И где это, толком не разберу. — Тут он повернулся к болоту, показал рукой: — Север вон там. Утром солнце от тебя справа, а вечером слева. Ночью путь указывает Полярная звезда. Если заплутаешь в болотах, помни, что мох растет на корнях дерева с северной стороны.
— Я ухожу, — сказала я. — Вот возьму этих яблок и мое другое платье. Кто еще пойдет?
Молодые пошли к дороге, а старшие заплакали и стали их удерживать. У меня не было ни отца, ни матери — некому было плакать и не пускать меня. Маму убили, когда я была совсем маленькой, а своего отца я никогда не видела. Он был рабом на другой плантации, и я даже его имени не знала.
— Обождите! — сказал дядюшка Айсом. Он поднял обе руки, будто собирался звать нас назад. — Сейчас время радоваться, а не плакать. Разве мало слез мы видели? Разве мало разлук пережили? Обождите же!
— Ты говоришь, чтоб мы остались? — спросил молодой парень.
— Кто хочет остаться, останется, а кто хочет уйти, уйдет. Но сейчас не время горевать. Радуйтесь все, — сказал дядюшка Айсом.
— Мы уходим, — сказал молодой. — Если старики хотят оставаться, пусть остаются. Мы свободны. Ну так идем!
— Аминь, — сказала я.
— А от чего вы свободны? — спросил дядюшка Айсом. — И для чего вы свободны? Чтобы разбить еще больше сердец?
— Сердца черным разбивали с тех пор, как они живут на свете, — сказал молодой. — Я видел, как младенцев отрывали от материнской груди. Тоже ведь сердца разбивались.
— Что было, тому не поможешь, — сказал дядюшка Айсом. — А теперь помочь можно.
— Нет, тоже нельзя, — сказал молодой. — Это место все в крови, и я стою в ней. Я стою по пояс в крови. Разбитое сердце можно склеить, а смыть с тела кровь нельзя.
— Обожди! — сказал дядюшка Айсом и снова поднял руки. — Когда говоришь о сердце матери и сердце отца, обожди!
— Сердце матери и сердце отца так изболелись, что больнее не будет, — сказал молодой.
— Пошли! — сказал другой. — От разговоров до Севера ближе не станет.
— Обождите, — сказал дядюшка Айсом. — Прислушайтесь к слову мудрости. Обождите.
— Пусть к твоей мудрости прислушиваются те, кто остается с тобой тут, — сказал молодой. — А мы уходим.
Парень, который отвечал дядюшке Айсому, пошел по поселку к господскому дому. Дядюшка Айсом дал ему отойти, а потом закричал, чтоб он остановился. Но парень не остановился. Дядюшка Айсом крикнул еще раз. Тогда он оглянулся через плечо, но дядюшка Айсом молчал и только указывал на него пальцем.
Я с другими пошла к господскому дому за яблоками. Одна женщина сказала, что дядюшка Айсом наслал на парня порчу. А другая сказала, что дядюшка Айсом больше порчу насылать не может, стар стал. Я не знала, какая у дядюшки Айсома сила, а потому слушала и помалкивала.
Хозяин поставил рядом с бочкой яблок бочку картошки, а сам сидел на веранде и смотрел, как люди входят во двор. Он спросил, на чем мы порешили в поселке. Мы сказали, что некоторые уходят, а другие остаются, и спросили, можно ли тем, кто уходит, взять с собой чего-нибудь на дорогу. Он хотел сказать "нет", но кивнул в сторону бочек и сказал, чтоб мы взяли, сколько нам нужно, и убирались. Мы набрали картошки и яблок, сколько могли унести, и пошли в поселок за своей одеждой. В рабстве женщине полагалось два платья, башмаки и кофта, а мужчине — запасные брюки, рубашка, башмаки и куртка. Мы завязали яблоки и картошку в запасную одежду и пошли по дороге.
Путь на Север
Мы не знали ровно ничего. Не знали, куда идем, не знали, что будем есть, когда кончатся яблоки и картошка, не знали, где переночуем, когда настанет ночь. И не знали, будем ли мы держаться вместе, добравшись до Севера, или разойдемся в разные стороны. Мы ни о чем таком никогда не задумывались, потому что никогда не думали, что станем свободными. Да, мы слышали про свободу, мы даже говорили про свободу, но представить себе не могли, что такой день наступит. Даже когда узнали, что янки вошли в наш штат, даже когда увидели, как они маршируют мимо наших ворот, мы все-таки не думали, что будем свободны. Вот почему мы не были к этому готовы. И когда нам сказали, что мы свободны, мы бросили все и ушли.
Было жарко. Не то май был, не то июнь. Пожалуй, июнь, что-то не припомню. Мы пошли через хлопковое поле к болоту. Молодые парни принялись ломать хлопок, чтоб показать хозяину, что они ему больше не рабы, но тут кто-то посоветовал им поберечь силы, а лучше набрать на дорогу кукурузы, и все мы бросились к кукурузному полю.
Ну а когда мы подошли к болоту, никто не захотел идти первым. Никому не хотелось оказаться потом виноватым, что вот завел всех неизвестно куда на погибель. Мы стояли, переминались с ноги на ногу и ждали, чтоб кто-нибудь другой повел нас вперед.
Вдруг кто-то сзади сказал:
— Ну-ка, пропустите.
Я оглянулась — а это Большая Лора. Она правда была большой и посильнее иного мужчины. Она и пахала, и дрова колола, а сахарный тростник рубила и таскала наравне с мужчинами. У нее было двое детей. Маленькую девочку она несла, а Неда вела за руку. Погодите, про Неда еще расскажу. О господи, про него я еще расскажу! Но и с двумя детьми она несла на голове узел тяжелее, чем у других.
Большая Лора пошла вперед, а мы за ней. Шли мы быстро, но молчали. Потом кто-то сказал, что надо бы взять палки, а то тут змеи, и мы начали искать хорошие гибкие палки. Теперь у всех, кроме Большой Лоры, были палки, а она шла впереди, несла на руках дочку и вела за руку Неда. Она отыскала хорошую ровную тропку, под деревьями было прохладно, и все радовались. Мы шли, шли, шли. Солнце уже почти село, когда мы в первый раз остановились.
— Мы идем в сторону Огайо? — спросила я.
— А тебя там кто-нибудь ждет?
— Мистер Браун сказал, что ждет меня в гости.
Никто не поверил, что мистер Браун это сказал, но спорить они не стали.
— Я хочу идти в Огайо, — сказала я.
— Ну так иди в Огайо, — сказал кто-то. — Тебя никто не держит.
— А я дороги не знаю.
— Тогда не болтай зря.
— Вам просто завидно, вас-то никто нигде не ждет, — сказала я.
Никто ничего не сказал. Я была еще маленькой, и они считали, что со мной не стоит спорить.
Кругом густо росли платаны, а на поляне было тихо и просторно, наверно, дул легкий ветер, потому что верхушки деревьев чуть покачивались. Все очень устали после долгого пути, и мы просто сидели и молчали. Потом кто-то сказал:
— Меня теперь зовут Эйб Вашингтон. Больше меня Баком не называйте.
Нас там было человек двадцать пять, и все принялись менять имена, будто шляпы. Никто не хотел остаться с именем, которое ему дал хозяин. Один говорит:
— Мое новое имя Кэм Линкольн.
Другой говорит:
— Мое новое имя Эйс Фримэн.
И еще один:
— А мое новое имя Шерман С. Шерман.
— А что значит "С"?
— Это такой титул.
И еще один говорит:
— Мое новое имя Джоб.
— Джоб, а дальше как?
— А никак, просто Джоб.
— Так рабства же больше нет. Значит, тебе нужна еще и фамилия.
— Тогда Джоб Линкольн.
— Эй, ты мне не родня. Это я Линкольн.
— Ну и пусть. А я все равно буду Джоб Линкольн. Хочешь на кулаки?
Еще один говорит:
— А мое имя Неремия Кинг.
Еще один стоит под деревом и говорит:
— А мое новое имя — Билл Мозес. И хватит с меня Руфуса.
И так без конца. С нами был один придурковатый парень. Только он откроет рот, чтобы сказать свое новое имя, как кто-нибудь раньше скажет. Так он и сидел: то откроет рот, то закроет, точно маленький, когда его от груди отнимут. Потом все замолчали, а он и говорит, что он — Браун. Других имен ему не хватило, вот он и выбрал себе имя Браун. Я сидела на конце бревна и слушала, как они спорят из-за новых имен, а сама не вмешивалась: у меня-то новое имя давно было. Больше года. И я много перенесла, чтобы его отстоять. А тут этот дурачок говорит, что он Браун. Я, конечно, не стерпела. Вскочила и кинулась на него.
— Не будешь ты Брауном, — говорю.
А он отвечает:
— Я… я… я бу-бу-буду Брауном, если хочу бы-бы-быть Брауном.
Он взял мое имя, потому что я была маленькой, а заступиться за меня было некому.
— Ты ту-ту-тут не од-од-одна, кому можно бы-бы-быть Брауном. А бу-бу-дешь лезть, опять ста-ста-станешь Ти-Ти-Тиси.
— Умру, а не стану, — говорю.
— Во-во-вот и у-у-умирай, — говорит. — А мое имя Б-Б-Браун.
Я хотела раскроить ему голову палкой, но по этому дураку было бить, что по столбу на веранде. Тут он кинулся на меня, а я стукнула его палкой и попятилась. Он все кидался, а я била его и пятилась. Била и пятилась. Потом он вырвал у меня палку и бросил ее в сторону. Я хотела схватить палку и упала. Посмотрела вверх, а он ко мне нагибается. И лицо не человеческое и даже не полоумное, а точно морда дикого зверя. Совсем звериное. Он меня схватил и потащил в кусты. Только он не успел сделать и трех, а может, четырех шагов, как слышу совсем рядом какое-то "блям-блям-блям". Только мне не до этого было: я старалась вырваться от этого полоумного. Где уж разбираться, какой это шум и почему. Потом опять слышу: блям, блям, блям. И всякий раз гляжу, лицо у него от боли морщится. Он все еще тащил меня к кустам, но, чуть услышу это "блям", он морщится. Потом вижу — по плечу его хлопает палка, и уж тут он обернулся. А Большая Лора снова палкой замахнулась.
— Оставь ее, кобель, — кричит. — Оставь, не то я тебе шею сверну.
Он выпустил меня, а сам стоит и смотрит на Большую Лору, будто не понимает, чего это она его бьет. Я хотела было вырвать у Большой Лоры палку и стукнуть его как следует, но она меня оттолкнула.
— Иди назад на плантацию! — кричит. — Иди назад на плантацию. Там тебе самое место, кобель!
— Не пойду, — говорит он.
— А я говорю, пойдешь! — говорит и снова палкой замахивается.
— Не пойду, — говорит он. (Ведь он был придурковатый и сам назад дороги не нашел бы).
Большая Лора хлопнула его палкой по боку. Потом еще два раза, а он только голову руками закрывал и охал. Он же придурковатый был, сам о себе заботиться не умел. Делал, что ему говорили, и все.
— Попробуй еще раз схватить девчонку, — сказала Большая Лора. — Еще один раз, и я тебя убью. — Она посмотрела на всех вокруг. — Это и вас касается. Вы свободны, так и ведите себя, как свободные люди. А хотите вести себя как на плантации, так и идите на плантацию.
Никто ничего не сказал. Все только в землю уставились. Большая Лора пошла к своим детям, а я опять села на бревно. Дурачок стоял у кустов, плакал и пускал слюни.
Солнце село, и мы отыскали на небе Полярную звезду. Большая Лора положила узел на голову, подхватила дочку, взяла Неда за руку, и мы опять пошли. Мы шли, и шли, и шли, и шли. Господи, как же долго мы шли! Я до того устала, что ноги подгибались. Некоторые ворчали и начали понемногу отставать. Но они не знали, куда им идти, и опять догоняли остальных. Большая Лора шла не останавливаясь и не оглядываясь, идут за ней или нет. Она крепко прижимала к себе девочку. Неда держала за руку и шла через лес так, будто точно знала, куда идет, и ничто не могло ей помешать.
Остановились мы совсем поздней ночью. Большая Лора бросила узел на землю, а детей усадила рядом. Потом вытащила из узла все, что в нем было, и расстелила для детей, как тюфяк. Потом она выкопала ямку и уложила в нее листьев и сухого мха. Под низ сунула кусочек ветоши и начала бить кремнем о железку над ветошью. Скоро она разожгла огонь и прикрыла его сырым мхом, чтобы пошел дым. Потом села рядом с детьми и стала махать над ними рукой, на случай, если москиты пролетят сквозь дым. Остальные подсели поближе, но все молчали. И слышны были только звуки на болоте — цикад, лягушек. А где-то на дереве ухала сова.
— Вы бы поспали, — сказала я Большой Лоре. — Я буду москитов отгонять.
— Ложись-ка сама, — сказала она. — Чтобы добраться до Огайо, тебе много сил понадобится.
Я только этого и дожидалась. Через минуту я уже спала.
Резня
Когда я открыла глаза, солнце уже поднялось высоко и кто-то кричал:
— Патрульные!
Все вскочили и бросились в кусты. Большая Лора крикнула, чтоб я взяла Неда и поскорей убегала. Я уже успела пробежать мимо, но вернулась, нагнулась, подхватила его и рывком подняла. Я то тащила его на руках, то волокла за собой. Мы залезли под куст, я прижала его лицо к земле и велела лежать тихо-тихо. Сквозь кусты мне была видна поляна, где мы ночевали. Дурачок так там и остался. Не мог понять, куда ему бежать и что делать. И чуть не во все стороны сразу кидался. Я было хотела его окликнуть, но побоялась, как бы патрульные не увидели, куда он побежит. А патрульные тут и появились, верхом на лошадях и мулах. Те самые белые голодранцы, которых нанимали ловить беглых рабов. Это они потом вместе с солдатами-конфедератами пошли в ку-клукс-клан. И тогда с ними были и солдаты. Их сразу можно было различить по одежде. Солдаты были в серых мундирах, а патрульные в отрепьях, не лучше, чем у рабов. Они подъехали на лошадях и мулах и, как увидели дурачка, сразу окружили его и стали бить палками. У некоторых были ружья, но им было жалко потратить на него пулю. А потом им больше нравилось бить его палками. Они его били, а он только закрывался. И они его били, пока он не упал. Тогда один патрульный соскользнул с мула, прямо через хвост, и ударил дурачка по голове. Я слышала, как она треснула, словно сухая жердь сломалась.
Мне хотелось вскочить и бежать. Но как же Нед? Я не могла его бросить — ведь Большая Лора только вчера так меня выручила. А с собой его не возьмешь — патрульные увидят. И я осталась, а сердце у меня так и прыгало, так и прыгало.
Патрульные начали шарить по кустам. Они сразу увидели, что на поляне ночевало много людей, а далеко уйти мы не могли. Они взяли палки и стали нас искать. Я слышала, как они бьют палками по кустам и разговаривают между собой. Если находили кого-нибудь, то становились вокруг и били, пока он не обмирал, а то и вовсе убивали. А потом переходили на другое место. По кустам они били легонько, а когда начинали сильно бить, это значило, что нашли там кого-то и тогда он кричал и упрашивал их, кричал и упрашивал, кричал и упрашивал. А потом опять становилось тихо.
Одной рукой я придерживала свой узел, а другой прижимала Неда к земле. Я решила выждать: увижу, что они меня заметили, тогда пущусь со всех ног. Я шепнула Неду, чтоб он был готов бежать, но только когда я подам ему знак. Я так сильно жала на его голову, что, наверно, он меня и не слышал, но он терпел и лежал совсем тихо. Он хоть и был совсем маленький, а понимал, что смерть от нас в двух шагах.
Немного погодя патрульные уехали. Они проехали совсем близко от нас, и я услышала, как один сказал:
— Ну и стерва! Ты ее видел? Нет, ты ее видел? Дралась как бешеная.
Другой сплюнул и сказал:
— Они ж не люди. Обезьяны, одно слово.
А первый сказал:
— Черт, а ты видел, что у Гета с головой? Меня чуть наизнанку не выворотило.
Тут еще один спрашивает:
— А как Гет? Оклемается?
А тот ему отвечает:
— Навряд ли, помрет, не иначе.
Они проехали совсем рядом, и сердце у меня так и запрыгало, так и запрыгало. Одной рукой прижимаю узел, а другой Неда держу. Но как последний патрульный проехал, мне полегче стало. Перевела дух и посмотрела на небо. А кругом тихо-тихо, ни единого звука. Даже птиц не слышно. Ничего, только солнце и пыль, которую патрульные подняли, когда палками по кустам били. И солнечные лучи сквозь деревья падают на землю широкой полосой. Говорят, солнце только однажды не стало светить — когда Спасителя распинали на кресте.
Я встала, велела Неду вылезать, и мы пошли назад на поляну. Дурачок лежал мертвый, голова у него лопнула, как кокосовый орех. И рукав рубашки у него начисто оторвали. Я обернулась к Неду, а он стоит спокойно, будто ничего не видит.
Я пошла дальше — искать Большую Лору, чтобы отдать ей Неда. Вижу, кто-то лежит в кустах. Подошла поближе, а это один из мужчин. Тоже мертвый, как дурачок на поляне. И я пошла дальше искать Большую Лору. Надо было отдать ей Неда, а кроме того, она должна была показать мне дорогу в Огайо.
Я ее всюду искала. Ставила Неда к дереву, а сама лазила по кустам и искала. Везде лежали люди — мертвые, умирающие или до того искалеченные, что не могли не только встать, а и приподняться. Я постою, посмотрю, а что делать — не знаю. Потом я пошла обратно.
И тут увидела Большую Лору. Она лежала на земле и все еще прижимала к груди дочку. Я велела Неду отойти в сторонку, а сама подошла поближе и встала рядом на колени. Только я сразу поняла: они обе мертвые.
Я вынула девочку из ее рук. Пришлось изо всех сил тянуть. Я понимала, что Большую Лору похоронить не смогу — копать было нечем, так, может, хоть маленькую похороню. Но тут оглянулась на Большую Лору, а руки у нее пустые-пустые, ну я и положила девочку обратно. Я не плакала, я не могла плакать. За одиннадцать-двенадцать лет своей жизни я столько побоев и горя видела, о таких жестокостях наслышалась, что и не знала, как плачут. Я вернулась к Неду и спросила, хочет ли он идти со мной в Огайо. Он кивнул.
Я повернулась и увидела на земле шапку патрульного. Она была вся в крови. Я подумала, может, это шапка Гета. А подальше еще шапка валяется, совсем изодранная. Значит, Большая Лора успела разбить двоим из них голову, прежде чем они убили ее и маленькую.
Тут я подумала, что надо бы захватить еды, какая осталась. И набрала кукурузы с картошкой, чтобы нам хватило на неделю. А за неделю, думаю, мы доберемся до Огайо или совсем рядом будем. Кроме еды, я взяла кое-какую одежду, чтобы нам с Недом было на чем спать ночью. Потом нашла кремень и железку — те, которыми Большая Лора выбила огонь для костра. Они были похожи на два простых камушка, и, если кто меня про них спрашивал, я так и говорила — это камушки. Я дала их Неду и сказала, чтобы он сберег их до Огайо. Я прикрыла Большую Лору и девочку чьим-то платьем, положила узел себе на голову, и мы пошли дальше. Я иногда спрашивала Неда, не устал ли он. Если он отвечал "нет", мы дальше шли, а если "да", то выбирали удобное место и садились отдыхать. Я доставала из узла еду, а Нед клал камушки на землю, но чуть кончал есть, сразу их подбирал.
Мы все время держались поближе к кустам. Нед устанет — мы сядем, погрызем чего-нибудь, а чуть он отдохнет, встаем и идем дальше. Когда солнце зашло и высыпали звезды, пошли по Полярной звезде. Остановились мы, только когда вышли к реке. Я сразу поняла, что нам через нее не перебраться: слишком она была широкая и глубокая. А потому мы вернулись переночевать на болото. Я вырыла ямку и развела костер, как накануне Большая Лора. Мы с Недом стали грызть сырую картошку, по две картофелины и два початка кукурузы я положила в костер. Нед поел и лег спать — я ему постелила на земле.
Я сидела, смотрела на Неда и думала, что теперь делать. "Мне надо заботиться об этом ребенке. И надо переправиться через реку. А через сколько еще рек надо будет переправляться, пока мы дойдем до Огайо?" — думала я.
Я смотрела на Неда. Он тихонько посапывал, словно у себя дома на тюфячке. Москитов я не слышала, но все равно махала над ним рукой, как вчера Большая Лора. Немного погодя я прилегла рядом и проснулась, только когда солнце уже било в глаза.
Такого красивого голубого неба я никогда раньше не видела. Никогда еще мне не было так хорошо. На всех деревьях пели птицы. Я разбудила Неда и велела ему смотреть на небо и слушать птиц.
Только Неду это все было ни к чему. Наверно, он думал о своей маме и сестричке. И я тоже о них думала, и обо всех других, и о дурачке, о том, как его убивали. Да только идти-то нам все равно было нужно. Вчера — это вчера, а сегодня — сегодня.
Я вытащила кукурузу и картошку из ямки. Они хорошо испеклись. Картошку мы съели сразу, а кукурузу я решила приберечь на обед.
На Юг
Я завязала узел, Нед взял камушки, и мы пошли к реке. Но и при свете солнца она казалась слишком глубокой и слишком широкой, чтобы мы могли через нее переправиться, а потому я спросила Неда, как он думает, идти нам вверх по течению реки или вниз. Он посмотрел вверх по реке, потом вниз по реке, потом опять вверх. И мы пошли. Солнце теперь светило нам в спину.
Мы шли все утро. Иногда мы останавливались что-нибудь съесть. Шли мы по лесу, но так, чтобы все время видеть реку. Идем, идем, а потом я подойду к реке, погляжу, может, она стала помельче. Но река была все такая же глубокая и широкая.
Вечером мы услышали голоса. Река поворачивала, и вдруг мы слышим человеческие голоса. Я остановилась и подняла руку, чтоб Нед молчал. Он, правда, все время вел себя тихо-тихо, да только сейчас уж никак шуметь было нельзя. Мы долго прислушивались. Вроде бы разговаривали негры, но наверняка я не знала, вот и прислушивалась. А потом все-таки слышу — да, негры, и кивнула Неду: идем, мол.
За излучиной вижу — всюду разлеглись негры, едят себе и разговаривают. Никогда еще за всю мою жизнь я не видела столько счастливых черных лиц. Значит, мы дошли, значит, мы дошли до Огайо, думаю. Но если это Огайо, то почему мы так быстро сюда добрались? Зачем же я тащила на голове всю эту еду? И я перестала радоваться, словно меня обманули.
Они нас увидели, сразу перестали разговаривать и глядят на меня с Недом. А в стороне, гляжу, стоят невдалеке от того места, где они расположились, два фургона с мебелью и узлами. Теперь я уж не знала, что и думать. Откуда бы у черных такие вещи?
Я положила узел на землю и спросила, Огайо это или нет.
А они как расхохочутся! То молчали, а тут так со смеху и покатились. Один даже миску в воздух подбросил. И даже ловить не стал. Все из миски и разлетелось в разные стороны.
Потом они вдруг затихли. Почему бы, думаю. И тут вижу — по берегу идет белая дама. А с ней две девочки, примерно мои одногодки.
— Что вам нужно? — спрашивает.
— Мы идем в Огайо. Это Огайо?
— Это Луизиана.
— Луизиана? — говорю я. — Мы же столько прошли, а это все Луизиана? Вы не путаете, миссис?
— Нет, не путаю, — говорит она. — И будь я на вашем месте, так поскорее вернулась бы туда, откуда пришла.
— Нет, мэм, назад мы не вернемся, — говорю.
А тут подходит какой-то негр и кричит:
— Как ты смеешь перечить моей госпоже! Раз она сказала — поворачивай назад, так живо у меня.
Нед загородил меня и примерился было ударить его в живот, только я не дала.
— А зачем вы идете в Огайо? — спросила белая дама.
— За свободой.
— Вы и здесь свободны, — говорит. — Разве ты не слышала про то, что объявили свободу?
— Слышала, — говорю. — Да только я не верю.
И опять смотрю на негра. А он так на меня глаза пучит, будто вот-вот ударит. Лицо у него было круглое, лоснящееся, а глаза совсем белые: ну точь-в-точь надсмотрщик с нашей плантации. Таким первое удовольствие было бить беззащитных черных бедняг, которые не могли дать сдачи.
— Это твой ребенок? — спросила белая дама.
— Нет, миссис, мне же только одиннадцать, а может, двенадцать, — сказала я. — А его маму вчера убили конфедераты.
— Конфедератов больше нет.
— Вчера были, — говорю. — И убили его маму и маленькую сестричку.
Чуть я это сказала, гляжу, негры вокруг как будто перепугались.
— Вы идете на Север? — спросила я белую даму.
— Мы возвращаемся из Техаса, — сказала она. — На Юг.
— На Юг? А разве негры не знают, что им теперь можно и не идти на Юг?
— Мы идем, куда госпожа велит, дура ты этакая, — говорит надсмотрщик. — Она знает, что нам делать. А тебя никто не спрашивает.
Только она велела ему замолчать.
— Тише, Никодемус, — говорит. — Мы возвращаемся на нашу плантацию. Мы ее покинули, когда услышали о приближении северян.
— А мой прежний хозяин никуда не уходил, — говорю. — Прятался на болоте со своим добром и людьми, пока янки не ушли.
— Янки много у вас разграбили? — спрашивает.
— Да нет. В первый раз вообще ничего не взяли. Торопились догнать конфедератов. А в другой раз взяли припасов на дорогу, только и всего.
— Страшно подумать, что они сделали с Роджерс-Грув, — говорит она. — Целых пять лет прошло, так страшно подумать, что я увижу дома.
— А может, они ничего и не тронули, — сказала я.
— Ну, если судить по тому, что я знаю о янки, что-нибудь они да тронули, — говорит. — Хорошо, если хоть дом не сожгли. А вы, дети, голодны?
— Нет, у нас есть еда, миссис, — говорю я.
— Какая?
— Картошка и кукуруза, миссис.
— А мяса с лепешками не хотите?
У меня совсем живот подвело, но я сделала вид, будто должна спросить Неда. Он сказал, что хочет, и белая дама велела, чтоб нам дали поесть. А сама с девочками села на землю напротив нас.
— Господи, я только одно видела: грабежи и насилия, — сказала она. — Куда ни посмотришь — грабежи, грабежи, грабежи. Я плакала, а теперь и слез не осталось. Ни слезинки.
— От слез толку мало, — говорю. — Надо жить, и все тут.
— Хозяйка, только слово скажите! — говорит надсмотрщик.
Но она на него даже не посмотрела. А я гляжу, он стоит и кулаки сжимает. Ей бы кивнуть ему, так я бы мигом без головы осталась.
— У тебя мама в Огайо? — спросила она.
— Моя мама умерла, — отвечаю. — Наш управляющий пригрозил отстегать маму плеткой. Надсмотрщик нажаловался, будто она плохо землю рыхлит. А мама говорит ему: "Ну отстегайте, только ничего вы не добьетесь". Управляющий как заорет: "Добьюсь не добьюсь, а выпорю. Ну-ка задирай юбку". Мама отвечает: "Вы стегать будете, вы и задирайте". А он ее палкой ударил. Она кинулась на него, и он опять ее ударил. Она упала, а он все бил ее, и бил, и бил. Его прогнали, только когда он еще двоих убил. Меня взяли в дом приглядывать за детьми, потому что мне не с кем было жить. Только меня все время за всякие пустяки били.
— Я никогда не бью своих людей, — сказала белая дама.
— Некоторые, конечно, своих рабов не бьют, но нас били, так били, — говорю. — Хозяин стегал плеткой-девятихвосткой, а хозяйка колотила чем попало. А когда объявили о свободе, у нее совести хватило расплакаться. Да ну ее!
— Ты как о белых господах говоришь! — кричит надсмотрщик.
— Тише, Никодемус, — говорит она, а меня спрашивает: — Ты идешь в Огайо к отцу?
— Нет, мэм, я своего отца и не видела никогда. Он не с нашей плантации.
— Тогда кто же у тебя в Огайо?
— Только мистер Браун.
— Мистер Браун? А кто это, мистер Браун?
— Солдат-янки. Он сказал, чтоб я к нему пришла, когда стану свободной.
— О господи, деточка! — говорит она. — Солдат-янки? Значит, ты идешь в Огайо разыскивать солдата-янки по фамилии Браун? Солдата-янки, которого, возможно, убили на другой день после того, как он с тобой разговаривал?
— Конфедератской пулей мистера Брауна не убить, — говорю.
Когда я это сказала, надсмотрщик костяшками пальцев захрустел. Я на него не смотрела, но услышала, как они хрустят, будто сухие ветки.
А белая дама говорит:
— Деточка, деточка!
— Эта река далеко тянется? — спросила я у нее. — Нам с ним надо переправиться через нее и идти дальше.
— Деточка, деточка, — говорит она. — Нет никакого Огайо. А если и есть, то совсем там не так, как ты воображаешь. Пойдемте со мной. Пойдемте обратно. Вам со мной будет хорошо.
— Мы с ним шли в Огайо и пойдем в Огайо, — говорю.
Когда мы кончили есть, я ее поблагодарила за ласку, положила узел на голову и встала. Нед подобрал кремень и железку и тоже встал.
— А там мост через реку есть? — говорю.
— Есть паром.
— Какой такой паром? — спрашиваю.
А она говорит:
— Деточка, деточка, идемте со мной. Никакого Огайо нет.
— Какой такой паром? — я опять спрашиваю.
— Большая лодка, — говорит. — На ней перевозят людей и фургоны. Только за это надо платить.
— Денег у нас нет, — говорю я. — Откуда они у нас?
— Идемте со мной, — говорит белая дама.
— Спасибо за угощение, миссис, но мы пойдем своей дорогой, — сказала я.
Когда мы уходили, одна из девочек тихо погладила мать по плечу. Потому что она плакала.
Приют на ночь
Мы шли и шли, а тени становились все длиннее и длиннее. Я не спросила у белой дамы, далеко ли до парома, и нам надо было идти, пока мы его не увидим. На этом берегу янки дрались с конфедератами. Я видела сучья, сбитые ядрами больших пушек, а деревья поменьше они вовсе с корнями выворотили. Я видела лохмотья, пуговицы, а иногда и шапки, полузасыпанные сухими листьями и землей. Но мы все шли. Только все время держались леса, но так, чтобы видеть реку.
Поздно вечером я увидела, что по реке вроде бы плывет большой дом. А на другом берегу его ждали люди и фургоны. Я сказала Неду, что мы тоже на нем поплывем. А Нед ничего не сказал, а так и шел позади меня с кремнем и железкой в руках.
Когда мы подошли к пристани, паром уже возвращался. Я вдруг вся ослабла. У меня даже ноги подкосились. Даже когда мы всю ночь шли по болоту, я и то так не боялась. А тут гляжу, как эта громадина надвигается прямо на меня, и вся трясусь. Я спросила Неда, страшно ему, он только головой мотнул. Он все больше молчал. Паром причалил, люди сошли на берег, за ними съехали фургоны. Потом на паром взошли те, кто ждал его на этом берегу, а с ними и мы.
— Эй, а вы куда? — спросил капитан парома. Я сразу увидела, что он из самых подлых белых.
— Мы с ним едем в Огайо, — говорю.
— В Огайо?
Про Огайо он знал не больше меня. Я ему сказала, что Огайо на Севере.
— А вы чьи? — спрашивает.
— Ничьи, — говорю. — Мы свободные, не хуже вас.
— Ну ладно, свободная, деньги у тебя есть? За переправу платят пять центов. У вас на двоих десять центов есть?
— Нет, сэр.
— Ну так убирайтесь отсюда.
— У нас есть картошка и кукуруза, — говорю.
— Картошки и кукурузы у меня дома хватает, — говорит. — А вот чтоб меня бюро обвинило, будто я свободных негров ворую, это мне ни к чему.
— А мы скажем, что вы нас не крали, — говорю.
— Ничего ты не скажешь, потому что никуда не поедешь, — говорит. — А ну, убирайтесь отсюда, не то вас мои негры вышвырнут. Эй, Льюкес!
Откуда-то вылез дюжий негр. Мы с Недом сошли с парома и сели на берегу. Когда все погрузились, паром отчалил, я смотрела, как он плывет через реку, точно большой дом. Похоже, дальше-то нам идти некуда, думаю.
Я посмотрела на Неда. Он сидел с кремнем и железкой в руках. Смотрел на паром и молчал. Может, вспоминал свою маму и сестричку. А я старалась ни о чем не думать, кроме того, как нам добраться до Огайо.
— Как ты, ничего? — спросила я Неда.
Он чуть-чуть кивнул.
Паром вернулся, когда солнце уже заходило. Капитан крикнул нам с Недом, чтоб мы убирались. Мы отошли на два-три шага и снова сели. А капитан и негр, которого он назвал Льюкесом, все смотрели на нас. Я подумала, что он пошлет Льюкеса избить нас, но Льюкес к нам и близко не подошел.
Паром простоял у этого берега до самой темноты. Тут на нем развесили фонари. Паром уже отчаливал, но тут слышу — кто-то кричит: "Подождите! Подождите!" К пристани подъехал на черной лошади какой-то человек, весь в черном. Соскочил с лошади, а поводья бросил какому-то негру. Потом посмотрел по сторонам и увидел нас.
— Э-эй! — говорит, словно толком нас не разглядел. Я встала, и он увидел, что я не взрослая, а еще девочка.
— Вы это мне, сэр?
— Что вы тут делаете?
— Нам нужно на тот берег.
— Ну так идите скорей, — говорит он. — Поживей, поживей.
Я подхватила узел, и Нед пошел за мной с кремнем и железкой. Когда я поднялась на паром, мне опять стало нехорошо от страха. Ноги прямо не держат. Вот-вот, думаю, упаду.
Паром отошел от пристани и поплыл, а у меня такое чувство, будто это мне только мерещится, будто я сплю. И хотя усталость меня одолевала, и не по себе мне было, и голова кружилась, я чуть не засмеялась.
— Куда это вы собрались? — спросил меня человек в черном.
Говорил он совсем не как конфедераты. Я еще никогда не слышала, чтобы люди так говорили.
— В Огайо, — сказала я.
Он курил трубку. А тут вдруг выдернул ее изо рта. Слышно было, как она стукнулась о зубы.
— В Огайо? — говорит. — У вас там родня? Не далековато ли для таких малышей? А это твой братишка?
— Нет. Просто знакомый, — говорю. — У нас никого нет. Моя мама умерла. Ее управляющий убил. А его маму вчера убили конфедераты.
— А, эта шайка, — сказал он.
— Вы их знаете? — спросила я.
— Не их, а о них, — говорит. — Так вот, вам незачем идти в Огайо. Я вас пристрою, пока не найдется, кому о вас позаботиться. Вы откуда?
Я сказала. И рассказала ему, как хозяин объявил нам о свободе и как мы ушли. Рассказала о солдатах и патрульных, которые всех поубивали. Даже про мистера Брауна рассказала.
— Вам сейчас идти в Огайо незачем, — говорит он. — Да и ваш друг Браун может и не там вовсе оказаться. Я вас пристрою, чтобы вам было где жить, пока не найдете чего-нибудь получше. Но все-таки лучше бы вам вернуться назад.
— Назад мы не вернемся, хозяин, — сказала я.
— Ну, на эту ночь я вас пристрою, — сказал он, посмотрел на Неда, увидел кремень и железку и спрашивает: — Послушай-ка, малец, а эти камни зачем?
— Для огня, — говорит Нед.
— Вот как, — сказал он и опять сунул трубку в рот.
На реке было совсем темно, но на другом берегу я видела огоньки. Вроде бы и взойти на паром не успели, а он уже причаливает. Человек в черном взял мой узел, сел на лошадь и сказал, чтоб мы с Недом шли за ним. Я опять была на земле и вроде будто никогда на пароме и не плыла.
— Огайо отсюда далеко, сэр? — спросила я.
— Боюсь, что да, — сказал он. — Это же Луизиана.
— Как так? — Я даже остановилась и посмотрела на него, хоть было темно. Он натянул поводья, и лошадь остановилась. — Мы с ним столько прошли, переплыли через реку на пароме, а по-вашему выходит, мы все еще в Луизиане?
— Боюсь, что да, — сказал он.
— Это что же, на свете одна только Луизиана и есть? — говорю.
— Ну, не совсем.
— А почему же мы тогда все еще в ней?
— Закон природы.
Я слышала, как он сосет трубку. Мы опять пошли.
— Я хочу в Огайо, — говорю.
— Боюсь, придется тебе передумать, — говорит он. — Ты слышала про бюро свободы?
— Нет, хозяин.
— Ну, федеральное правительство посылает сюда янки, чтобы помочь вам для начала. Присмотреть, чтобы у вас было что поесть, что надеть, где учиться. Все, что обещал тебе Браун, ты получишь прямо тут, в Луизиане.
— А вы янки? — спрашиваю.
— Боюсь, что да, — говорит. — Называй меня правительственным инспектором. Привет из Нью-Йорка.
— Это дальше Огайо?
— А это смотря где ты стоишь, когда спрашиваешь, — говорит. — Если в Мэне, не дальше, а в Луизиане, так дальше.
— Я стою здесь, — говорю я. — Здесь, в Луизиане, и похоже, что так я в ней и останусь.
Он посасывал трубку, это я и в темноте слышала.
— Боюсь, что да, — сказал он.
Мы подошли к большому дому. Во дворе играли дети. Инспектор слез с лошади и велел нам идти за ним. У дверей нас встретил еще один белый. Они о чем-то поговорили, потом второй белый позвал какую-то Сару. Пришла Сара, высокая, толстая негритянка, которая у них присматривала за детьми. Белый кивнул на нас, и она сказала, чтоб мы с Недом шли за ней. Она повела нас вверх по лестнице, в большую комнату. На полу всюду лежали тюфяки. Сара сказала, что здесь спят девочки и вот это будет мой тюфяк.
Потом мы пошли в другую комнату, где спали мальчики, и она показала Неду его тюфяк. Потом она спросила, может, мы хотим есть. Я ответила, хотим, но у нас есть своя еда. Она сказала, что нам больше этого есть не нужно: пусть я оставлю узел возле своего тюфяка или, еще лучше, выброшу его в мусорное ведро. А Неду она сказала, чтобы он оставил кремень и железку возле тюфяка или тоже выбросил в ведро. На кухне у нее есть хорошая еда для нас обоих, а Неду она поищет игрушку получше. Ладно, сказала я, мы поедим то, что она нам даст, но ничего своего выбрасывать не будем. Что с собой принесли, то и унесем. Она на меня так посмотрела, будто я снахальничала, но потом сказала: "Ну, как хотите" и чтоб мы шли за ней. Мы спустились в кухню и поели. Потом она сказала, что нам нужно вымыться. Я сказала, что мне не нужно, а она сказала, что меня не спрашивают, посадила меня в лохань с мыльной водой и давай тереть, чуть всю кожу не содрала. И раза два даже окунула меня с головой. Наверно, потому, что думала, будто наверху я снахальничала. Потом вытерла меня, сунула в белую рубашонку вроде мешка — ну самый настоящий мешок! — и велела идти наверх ложиться спать. Потом наверх пришел Нед в такой же рубашонке. А в руках он держал кремень и железку.
— Ну как? Ничего? — спросила я.
Он кивнул.
— Засыпай скорее, — говорю. — Завтра утром встанем пораньше и, пока никто не видит, уйдем.
Разные люди
Только я легла, пришли остальные девочки и такой шум подняли, — куда до них сойкам на китайской вишне! Но тут пришел тот белый, и все сразу затихли.
— Ну хорошо, станьте на колени, — сказал он.
Все встали на колени рядом с тюфяками. Только я лежу.
— И ты тоже, — говорит он.
Я встала на колени, а он прочитал молитву, потушил лампу и пошел в другую комнату.
— Станьте на колени, — говорит там. А потом слышу: — И ты, с камушками, тоже.
Опять помолился, потушил лампу и ушел вниз.
У меня глаза слипались, но мне было так хорошо, что я не хотела засыпать. До чего приятно было просто лежать и чувствовать себя свободной. "Значит, это и есть свобода? — думала я. — Вот это и есть свобода? Ну, если меня только мыться заставлять будут, ладно — потерплю несколько дней".
Лежу я так и думаю, до чего все тихо и мирно, а тут за стеной кто-то как заплачет! Мне показалось, что это Нед. Я вскочила и бегом к двери. А в нее как раз вошел белый и зажег лампу. Плакал не Нед, а мальчик рядом с ним. Нед лежал на своем тюфяке и держал в руках кремень и железку.
— Что случилось? — спрашивает белый у мальчика, который плакал.
А он все плачет и ничего сказать не может. Даже и не попробовал. Нед лежит с кремнем и железкой в руках. Другие мальчики сидят на тюфяках и смотрят.
— Что случилось? — опять спрашивает белый. — Ты что, немой?
Мальчик открыл рот пошире, но ничего не сказал, а только заплакал еще громче.
— Что случилось? — спрашивает белый у Неда.
Нед молчит и сжимает в руках кремень и железку.
— Тогда ты скажи, — говорит белый еще одному мальчику. Ну, он и рассказал.
— Клейборн, — говорит, — попросил у этого мальчика камушек, а этот мальчик не дал, и Клейборн сказал, давай, а то я сам возьму. И Клейборн протянул руки и стал отнимать камушек, а тот мальчик стукнул Клейборна по лбу. Вон у Клейборна на лбу какая шишка!
— Ну-ка, выброси эти камни, — говорит белый Неду. А Нед ничего не ответил. Лежит себе и держит в руках кремень и железку. — Ты слышишь, что я сказал?
— Ничего он выбрасывать не будет, — говорю я с порога. — Он пришел с ними сюда и дальше с ними пойдет. Это камни его мамы. Его маму убили конфедераты, и пусть они у него остаются, если он так хочет.
— Командуешь так, будто ты сама его мама, — говорит белый.
— Я его мамой быть не могу, мне только одиннадцать или, может, двенадцать, — говорю. — Но в обиду его все равно никому не дам.
— Если ты еще кого-нибудь ударишь своим камнем, я у тебя их оба заберу, — сказал белый Неду.
— А вы скажите Клейборну, чтоб он нашел себе другие камни, так Нед его больше и не ударит, — сказала я.
— Клейборн, оставь его в покое, — сказал белый, потушил лампу и подошел к дверям. — А ты попридержи язык, девочка. И отправляйся на свое место.
Я пошла, но слышу, что он бормочет:
— Говорили же мне, оставайся дома, говорили, не езди на Юг. Так нет, желаю помогать людям! А теперь я с ними с ума сойду.
Я легла, но спать не могла, все прислушивалась, не собираются ли они что-нибудь сделать с Недом. Но все было тихо.
Утром я проснулась, потому что они все подняли страшный шум. Мы оделись и пошли вниз завтракать. Сара прежде всего заставила нас вымыть лицо и руки. Девочки умывались в одной лохани, мальчики в другой. Потом Сара дала нам завтрак — жареного хлеба с молоком.
Мы еще не доели, как зазвонил колокол. Я спросила девочку рядом, зачем звонят, а она ответила, что старшие дети пойдут работать, а младшие — учить азбуку. Старшие учат азбуку и счет вечером. Пока не выучат, их не пускают играть во двор.
Я было решила остаться тут на один-два дня, но теперь сразу передумала. Азбуку и счет я учить не хотела, а уж звона таких колоколов я за свои одиннадцать-двенадцать лет вдоволь наслушалась, бог мне свидетель. Я велела Неду взять кремень и железку и подождать, пока я поднимусь наверх за узлом. Белый меня поймал, когда я выходила из комнаты, и спросил, куда это я собралась.
— В Огайо, — говорю.
— Куда, куда? — спрашивает он.
Он пошел за мной вниз и все говорил, говорил. Но как увидел Неда с кремнем и железкой в руках, так вспомнил про Клейборна и отстал от меня. Он с Сарой, все дети смотрели с веранды, как мы уходили. Думали, наверно, что мы отойдем немного и вернемся.
Мы пошли к реке. Теперь, когда было светло, я увидела, что мы переночевали в небольшом городке. Здесь тоже янки дрались с конфедератами, потому что некоторые дома сгорели. Дом, где мы с Недом ночевали, был большой и, наверное, раньше принадлежал белым богачам. Когда в город вошли янки, они его отобрали и устроили в нем приют для черных детей. Тогда очень много детей осталось без крова. И идти им было некуда.
Мы полдороги до реки прошли, вдруг — чудеса, да и только! — двое негров в мундирах янки. Я еще никогда не видела черных солдат и решила, что они просто балуются.
— Вы вправду солдаты? — спрашиваю.
— А что тебе надо?
— Может, вы знаете такого солдата, мистера Брауна?
— Ты что, про полковника спрашиваешь? — говорит один. — Только вроде бы ты не доросла, чтобы с ним знакомиться. Ты же еще пигалица, верно?
— Хоть и пигалица, а не глупей тебя, — говорю.
— Потише, потише! — говорит.
— А он из Огайо? — спрашиваю.
— Может, и оттуда, — отвечает этот негр. — Когда мы по вечерам в покер играем, то ведь не о штатах говорим, а больше о ставках.
Да как хлопнет второго солдата по спине и давай хохотать.
— Оно и видно, что ты ни о чем говорить толком не умеешь, — сказала я. — Мне нужно видеть мистера Брауна.
— Ах, нужно? Ну ладно. Видишь вон тот большой дом? Иди туда и скажи белому солдату, что хочешь поговорить с полковником. Если он ответит, что полковник говорит с генералом Грантом, скажи, что тебе очень жаль, но Гранту придется подождать.
Мы с Недом пошли к дому, и они как захохочут! Я оглянулась, а они от смеха еле на ногах держатся, даже друг за друга ухватились, чтобы не упасть.
— Не все негры дрянь черномазая, — сказала я Неду. — А на этих хоть и мундиры янки, все равно они дрянь.
Тут я вошла в дом, а белый солдат говорит:
— Вон по той улице! Спроси кого-нибудь из солдат-негров, они покажут тебе, куда идти.
— Я там была, — говорю я. — Оттуда и иду. Мне надо видеть мистера Брауна.
— Полковника Брауна, говоришь? А могу я взять на себя смелость спросить, зачем он тебе?
— Он меня знает, — говорю.
— А ну пошла отсюда, — говорит солдат.
Я сняла с головы узел и положила его на пол. Солдат посмотрел на меня и вышел из комнаты. А вернулся через час. Нед сидел возле узла, а я стояла.
— Вы все еще здесь?
— Мне нужно видеть мистера Брауна.
— Полковник занят, — сказал солдат. — Приходите в другой раз.
— Мы идем в Огайо, — сказала я.
— Так на обратном пути зайдете. К тому времени полковник, наверно, освободится.
Он повернулся к двери на улицу, а я кинулась к двери комнаты, из которой он перед этим вышел. Он обернулся и крикнул, чтоб я остановилась, но я уже успела открыть дверь. И тут мне стало жалко, что мы столько времени зря потеряли. Потому что там никого не было, кроме седого старика с седой бородой. Он сидел за столом, а на столе полно бумаг.
— Да, капрал? — сказал он, поднимая голову, увидел меня и прямо подпрыгнул на стуле. — Это что еще такое? Кто тебя впустил?
Тут в комнату вошел солдат и сказал:
— Я сейчас ее уведу, господин полковник. А ну, убирайся! — это он мне.
— Нет, пусть говорит, — сказал полковник.
— Я думала, вы мистер Браун, — говорю.
— Я полковник Браун, — говорит он.
— Вы другой. Тот был молодой и гнался за конфедератами. Он дал мне мое имя.
— А ты откуда, девочка? — спрашивает полковник.
— С плантации хозяина Брайента.
Полковник повернулся вместе со стулом и поглядел на большую карту на стене. И пока глядел, все время повторял:
— Хм-м… хм-м… хм-м…
Я тихонько открыла дверь и выскочила из комнаты. Взяла свой узелок и позвала Неда.
Мы дошли до реки и повернули в сторону солнца. Я решила, что нам надо пойти назад, а потом уж повернуть на север. Знай я тогда побольше, так мы повернули бы на север прямо от городка, где мы ночевали, но я же была еще несмышленой девчонкой и думала, что идти надо с того места, где мы вчера вышли к реке.
Как только мы отошли от городка, мы сразу свернули в лес. Неизвестно, кого встретишь на дороге, а городок уже далеко и на помощь не позовешь. Мы шли, и шли, и шли. Янки и здесь дрались с конфедератами, сожгли все вокруг. Даже земля была черной, и деревья торчали как столбы: ни листьев, ни мха, ни веток. Когда солнце поднялось совсем высоко, мы отыскали тенистое местечко в канаве и присели отдохнуть. Я до того устала, что могла бы просидеть там весь день, но я знала, что нам надо идти дальше. Стоит мне остановиться, нам с Недом придет конец. Я посмотрела на него и спросила, как он, ничего? А он кивнул.
— Ну так пойдем дальше, — сказала я.
Вечером я увидела за полем дом. Он стоял не там, куда мы шли, а на западе, но я все равно решила свернуть туда и спросить, верно ли мы идем. И мы пошли к дому. Я еще издали увидела, что там живут белые голодранцы. Сбоку от дома был огородик, на бельевой веревке висело старое платье, а на заднем дворе — кучка дров вместо настоящей поленницы. Мы подошли к калитке, а цепная собака давай лаять. Из двери выглянула женщина в халате. Она была тощая-претощая, и видно, что злая.
— Вы не скажете, это дорога в Огайо? — спросила я.
Она посмотрела на меня, но ничего не сказала.
— Будьте так добры, мэм.
— Убирайся от моих ворот, не то собаку спущу, чтоб она показала тебе дорогу в Огайо. Убирайтесь отсюда!
— Я же просто спросила, верно ли мы идем, — говорю я.
— Никакого Огайо я не знаю, — говорит. — А если будешь стоять здесь, так я спущу собаку с цепи, сказано тебе!
— Мы уходим, — говорю. — А вы не скажете, нет тут поблизости родника? Нам с ним очень пить хочется.
— А ты сама не видишь, где родник?
— Нет, мэм.
Она больше ничего не сказала, а только стояла и глядела на нас. Мы пошли, а как дошли до конца забора, она как крикнет, чтоб мы остановились. Я посмотрела, ее не видно. Потом выходит, и в руке кружка с водой. И мы пошли назад к калитке, ей навстречу. Я протянула руку за кружкой, но она мне ее не дала.
— Ты что думаешь, я позволю тебе поганить кружку черным ртом? — говорит. — Подставляй руки.
Я сложила ладони ковшиком. Вода была теплая. Наверно, нарочно зачерпнула из ведра или из бочки на солнцепеке. Нед не умел складывать руки ковшиком, и мне опять пришлось подставить свои, чтобы он напился. И все время, пока мы стояли там, она бормотала и бормотала:
— Не подумайте, будто мне черномазые по душе, раз дала вам напиться. Я вас ненавижу. Всем сердцем ненавижу. А воду дала, потому что христианка. Я черномазых всем сердцем ненавижу. Это из-за вас все напасти и грабежи. Янки и черномазая солдатня по всему дому рылись, всех свиней и кур забрали. И все из-за вас. Чтоб вас настоящие белые обоих прикончили. Чтоб еще до утра прикончили! Я покажу, по какой дороге вы пошли, и скажу, чтоб они вас прикончили. А теперь убирайтесь отсюда. Убирайтесь, пока я сама вас не прикончила. Да не будь я богобоязненной христианкой, так сама бы вас прикончила!
Я поблагодарила ее за воду и сказала Неду, что нам пора идти. Мы шли на восток до захода солнца, а потом свернули на север.
Охотник
Ночь наступила, а мы все шли — смотрели на Полярную звезду и шли. Наверно, мы шли в темноте часа три, когда из сосняка вдруг потянуло запахом жареного мяса. Я остановилась и сделала Неду знак, чтобы не шумел. Я вертела и вертела головой, но нигде не видела ни огня, ни дыма. И никак не могла решить, что нам делать — идти вперед, повернуть назад или обойти это место стороной. И вдруг кто-то сказал:
— Да что же это такое!
Я так быстро обернулась, что узел слетел на землю. Но тут же у меня отлегло от сердца, потому что это был негр. Стоит и глядит на нас сверху вниз, а в руках у него длинная толстая палка. Ну прямо шест с фасолевого поля. Он подошел к нам так тихо, что успел бы пришибить нас обоих и мы бы охнуть не успели.
— Чего это вы здесь делаете? — говорит. — Вы одни пришли?
— Одни. Я да вот он.
— Господи помилуй! — заохал он и засуетился. Таких суетливых людей я больше и не встречала. — Идите-ка, идите сюда.
Я подняла узел, и мы с Недом пошли за ним к его костру. На огне жарился кролик. Мы с Недом сели — он нам рукой показал. Гляжу, к дереву прислонены лук и стрелы. А он сел на корточки у костра и смотрит на нас.
— Так. Куда же вы все-таки идете? — спрашивает.
— В Огайо, — говорю.
— Господи, господи! — говорит. — Я в последние дни всякого навидался, но такого мне и не снилось. Идут то туда, то сюда, то туда, то сюда, а что делают, знают не больше вот этого кролика на костре. Небось есть хотите.
— У нас есть еда, — говорю.
— Картошки и кукурузы накрали? И помолчи, я наперед сам все знаю. Что, вы первые, что ли.
Он снял кролика с огня, положил на разостланные по земле листья, потом снял нож с пояса и разделил кролика на три части. Когда мясо остыло, он дал мне и Неду по куску. Мясо было вкусное, потому что он его жарил с диким луком, который набрал на болоте.
— Вы идете на Север? — спросила я.
— Нет, я уже тут, куда пришел, — говорит. — На Юге.
Я даже есть перестала.
— Ополоумели вы, что ли? — говорю.
— Ты-то, конечно, первая умница, раз додумалась таскать мальчонку ночами по болоту, — говорит. — Хорошо еще, что я вам друг, а не враг. Я же вас давно услышал — куда раньше, чем вы встали, чтоб прислушаться. Я на эту палку так долго опирался, чуть не уснул.
— Мы тихо шли, — говорю.
— Тихо для вас, а не для меня. Слышу-то я получше иной собаки. Как по-твоему, чем я силы поддерживаю? Картошкой и кукурузой?
Я ничего не ответила. Мясо было вкусное. Только я-то не хотела ему это показывать: откушу тут, откушу там, будто мне и не нравится.
— А кто у тебя в Огайо? — спросил он.
— Мистер Браун.
— Какой мистер Браун?
— Мистер Браун, солдат-янки.
— Господи помилуй! — говорит охотник и головой качает. — Чего только я не наслышался, но это все бьет!
— А чего вы идете на Юг? — спрашиваю.
— Что-что? — Он не ел, а думал о том, как я пошла искать Брауна. — Я ищу своего отца, — говорит. Но все равно видно, что думает он о том, как я пошла искать Брауна.
— А мама у вас умерла? — спрашиваю.
— Что-что? — И опять на меня смотрит. — Нет, моя мама не умерла. — А сам смотрит на меня, будто думает о том, как я пошла искать Брауна. — Где она, я знаю. Теперь вот надо найти отца.
— Вы все жили здесь, в Луизиане?
— Что-что?
— Ваш папа и вы все?
— Когда его продали, он жил в Миссисипи, — говорит охотник. — А где он сейчас, не знаю.
— Тогда откуда же вы знаете, где его искать?
Тут он на меня озлился.
— Буду делать то же, что и ты и этот малец. Искать везде. Только у меня ума немножко побольше.
— Били бы вас все время, так вы бы тоже убежали, — говорю.
— Ну, били меня, — говорит. — И брось похваляться, будто никого, кроме тебя, и пальцем не трогали.
Я ела кролика и обсасывала косточки. Мне больше не хотелось с ним спорить.
— А кого вы еще встречали? — спросила я. — Кто-нибудь шел в Огайо?
— Они в разные стороны шли. Кто в Огайо, кто в Канзас, кто в Канаду. А некоторые так даже в Луизиану и Миссисипи.
— Луизиана и Миссисипи — они же не на Севере.
— Верно, не на Севере, — говорит он. — Но они уходили, прямо как ты — в узелке картошка да одежа, и все. Ни карт, ни проводника — ничего. Будто свобода их на полпути ждет. Только не ждет она на полпути. А когда и до места дойдешь, может, ее и там не окажется.
— А мы все равно пойдем, — говорю. — Мы вон уже сколько прошли!
— Ну и сколько? — спрашивает. — Сколько дней вы идете?
— Три дня.
— И ты думаешь, за три дня далеко ты ушла? Да ты еще от своей плантации не отошла. Уж я-то знаю! Я ведь ходил, ходил, а никуда и не пришел. Все ищу да ищу.
Вид у него был такой, будто он вот-вот заплачет, и я не стала смотреть на него, посмотрела на Неда. А Нед лежит себе на земле и спит, в руках держит кремень и железку.
Я рассказала охотнику про патрульных и солдат, которые убили маму Неда и других, кто с нами шел. А он говорит, что сам видел, чего они вытворяют. Вот утром снял с дерева и похоронил человека, которого они повесили. И не просто повесили, а живот распороли, выпустили кишки.
— Зачем они это делают? — спросила я.
— А чтоб другие негры боялись, — сказал он.
Мы сидели и разговаривали, и разговаривали. Оба были рады, что нашлось, с кем поговорить. Я спросила про лук и стрелы. Он сказал, что сделал их, чтобы стрелять кроликов и птиц. А иногда ему даже удается поймать рыбу. Тут я сказала, что тоже смогла бы стрелять из лука. А он ответил, что у меня на это силенки не хватило бы. Такой лук согнуть только мужчине по плечу. Тут я его спросила, что он про мою силу знает, только он ничего не ответил, а потом сказал:
— Хочешь, чтоб я вас проводил обратно?
— Мы же не из Огайо идем! — говорю.
— Ты просто упрямая дура, — говорит он.
— Я у вас вашего кролика не просила! — говорю. Я наелась и стала нахальничать. — Очень он мне был нужен!
— А что же ты все косточки обсосала?
— Ничего я не обсасывала.
— Надо бы стукнуть вас обоих так, чтобы вы обмерли, да и отнести обратно.
— А я бы так заорала, что патрульные услышали бы и всех нас поубивали.
— Как же бы ты заорала, если бы лежала без памяти, дура ты, дура?!
Но я не растерялась:
— А я бы заорала, когда очухалась.
— Да пропади ты пропадом! А вот малыша жалко, — сказал охотник. — Ты только погляди, совсем покойник.
— Вовсе он не покойник, а просто он спит, — говорю. — И я сама могу о нем позаботиться.
— Ты о себе-то позаботиться не можешь, так где же тебе о других заботиться. Кролика ты не поймаешь, птицу не подстрелишь. А рыбу ты ловить умеешь?
— На свете и другой еды хватает, — сказала я.
Он опять поглядел на Неда.
— Если бы не отец, я бы вас насильно назад отвел. Или туда, где кто-нибудь взялся бы за вами присматривать. Двое ребятишек бродят по болотам, одни! Отродясь такого не видывал.
— Раз мы сюда дошли, значит, и дальше справимся, — сказала я.
— Ни с чем ты не справишься, — говорит. — Неужто тебе, дура, невдомек, что ни с чем ты не справишься?
— Сами бы и ели своего кролика, — говорю. — Да я их, кроликов, и в рот не беру!
Ну, он больше не захотел со мной спорить.
— Ложись-ка спать, — сказал он. — Я вас постерегу.
— Как бы не так! — говорю. — Вы хотите нас назад увести.
— Ложись спать, пигалица, — говорит.
Я потрясла Неда за плечо. Он проснулся и заплакал. Я сказала, чтоб он замолчал, а не то патрульные схватят. Я подождала, чтобы он протер глаза и совсем проснулся, потом мы встали и ушли. Все это время охотник молчал. Мы отошли совсем немного и повернули обратно. Я решила, что лучше не буду спать всю ночь.
— Ну и как там, в Огайо? — спросил охотник.
Нед лег на прежнее место и тут же заснул. Я сидела рядом и не спускала глаз с охотника. Глаза у меня слипались, но я изо всех сил старалась не уснуть: ковыряла пяткой землю, напевала, ворошила палкой угли в костре. Но с природой не поспоришь. Когда я проснулась, солнце уже взошло. Рядом со мной лежала поджаренная на костре птица — не то ворона, не то ястреб, не то сова, я не разобрала. Лежала рядом, поджаренная и уже холодная, а охотник ушел.
Старик
Мы поели и снова пошли, все время лицом к северу. Я заметила, что земля становится все более черной и сырой. Значит, впереди была протока. Но когда мы добрались до нее, солнце стояло уже высоко. Теперь мне пришлось нести не только узел, а еще и Неда: узел на голове, а Неда на бедре. Вода доходила мне до колен, а потом стало даже по пояс. Как я добрела до того берега, одному богу известно. Но я добрела и нашла удобное место, чтобы передохнуть. Пока мы сидели там, мое платье высохло, и мы опять пошли. В этом лесу тоже был бой. Пушечные ядра содрали с деревьев кору, обломали сучья. Мы наткнулись на земляную насыпь высотой в половину веранды — тут схоронили вместе много солдат. У одного конца могилы стоял крест с солдатской фуражкой наверху. Она до того выцвела и запачкалась, что уже нельзя было разобрать, носил ли ее янки или конфедерат. Мы сели там отдохнуть, и я сказала Неду, чтоб он не боялся. Он вроде и не боялся, так что, наверно, это я себя подбадривала. Потом мы пошли дальше. Болото кончилось, и впереди тянулись заросли сарсапарели. Стоять и раздумывать, в какую сторону идти, было некогда — слишком уж жгло солнце, и я сказала Неду, что мы повернем налево. Нигде ни единого дерева. Чтобы посидеть в тени, надо было вернуться в болото либо заползти в заросли. Одно хуже другого, и мы пошли вперед.
Выбрались мы из сарсапарели, наверно, через час и повернули вправо. Тут за полем я увидела серый домишко. Поле было заброшенное — только бурьян да высохшие стебли кукурузы, может еще до войны посеянной. Мы пошли к дому. Мы вовсе не передумали, вовсе нет, но я понимала, что одной осторожностью не обойдешься. Нам нужно было напиться и узнать, правильно ли мы идем. Я еще издали увидала, что из трубы поднимается дым. Мы вошли во двор. На веранде стоял седой старик с собакой. Старик был маленький, толстый, с белыми как снег волосами по бокам головы и на затылке. Лицо у него было красное-красное, не доброе и не злое.
— Как пройти в Огайо? — спросила я.
— Вон туда, — сказал он и махнул рукой на восток.
— Мы идем не туда, а вон туда, — сказала я и показала на север.
— Огайо на востоке, — сказал он.
— Мы идем на север, и никаких востоков нам не нужно, — говорю.
— Так вы никогда в Огайо не попадете. Может, в Айову, но не в Огайо. Огайо от Луизианы к востоку.
— Мы что же, всё в Луизиане? — говорю.
— Ага, в Луизиане, — говорит он. — И долго еще в ней будете. А ты и твой мальчик есть хотите?
— Да, сэр, — говорю.
— Тогда заходите, — говорит старик. — У меня для вас кое-что найдется.
Мы вошли в дом, и он усадил нас на скамью у очага. Это даже не дом был, а так, хижина в одну комнату. У него был стол, скамья, которую он сам сделал, и еще стул. Его он тоже сам сделал. Кровать у него у окна стояла. А на стене много чего было — кастрюли, кувшины, сковородки и всякое такое. А в изголовье кровати карта висит. Он дал нам овощей с кукурузными лепешками и велел есть. Ложек он нам не дал, так что мы руками ели.
— Огайо на востоке, — сказал он еще раз.
— Значит, мы все время неправильно шли? — спрашиваю.
— Не то чтобы неправильно, но и не совсем правильно. Он взял очки с полки над очагом и подошел к карте. Мне было видно, как он водит по ней пальцем и шевелит губами.
— Верно-верно, — сказал он. — Огайо. Лежит между тридцать восьмым и сорок первым градусом северной широты и между восьмидесятым и восемьдесят четвертым градусом западной долготы. Айова… Айова… где же ты, Айова? Ага, вот и ты, негодница. Прячешься от меня, хоть я тебе ничего плохого не сделал. Айова лежит между сороковым и сорок четвертым градусом северной широты и между девяностым и девяносто шестым градусом западной долготы. Вот она, Айова, все правильно. Ну, раз уж я встал, так заодно навещу и Иллинойс. Где же ты, дружище? Ага, как я и думал, между тридцать шестым и сорок третьим градусом северной широты и восемьдесят восьмым и девяносто вторым градусом западной долготы. Да-да-да, совершенно верно. А куда же вы шли? А вы шли прямо к сорок второй широте. — Он повернулся и посмотрел на меня поверх очков. — Ведь ты не хочешь идти к сорок второй широте, а?
Нед уже кончал есть, а я даже не начала толком. Я вдруг уразумела, какая была глупая, что никого не хотела слушать. Все, начиная от дядюшки Айсома до охотника, говорили мне, что я глупость делаю. А я никого слушать не хотела.
Я чуть не разревелась. Но спросила себя: а что будет с Недом? Он держится, пока я держусь. Если я раскисну, за кого ему держаться? Нет, я плакать не буду, я буду сильной. Я посмотрела на старика у карты. Откуда мне знать, правду он говорит или нет? Может, он конфедерат и хочет меня совсем запутать? Какую такую широту он поминает? И еще какую-то долготу. Как Огайо может быть на востоке, раз янки пришли с севера?
Я начала есть, а сама не спускала глаз со старика. Я поем, и мы с Недом тут же уйдем и пойдем прямо на север, как с самого начала.
— Иди-ка сюда, — сказал старик, и я подошла к карте вместе с миской. — Смотри, — он ткнул пальцем в карту, — сейчас вы вот здесь находитесь.
Я ничего не увидела. Только разноцветные пятна, всякие черточки и еще буквы.
— Вот Луизиана, — сказал он. — А вот тут, где эта линия, течет река Миссисипи. Конечно, по бумаге она не течет, но так уж принято говорить. А течет она с севера и на юг.
— Я на юг не пойду, — говорю.
Рот у меня был набит кукурузной лепешкой, крошка вылетела и прилипла к карте. Старик замолчал и уставился на крошку, точно это был клоп, который мог уползти, если отвести глаза. Только крошка никуда не ползла, и он смахнул ее на пол.
— Здесь вот Ред-Ривер, — сказал он. — А все это реки и дороги. Здесь Ар… Ар… — ох, эти буквы — Арканзас. А вот Миссури. Пишется почти как Миссисипи, но не совсем. Тут — Айова. Между сороковой и сорок четвертой широтой, девяностой и девяносто шестой долготой. Вот туда ты и попадешь, если будешь идти все время на север. А теперь вернемся сюда. Река Миссисипи, река Ред-Ривер и все другие реки и дороги. Добавь еще пару-другую протоков, которые побольше. Ну хорошо. Сейчас ты вот здесь и идешь на восток в Огайо. Значит, сначала тебе придется пройти через Миссисипи.
Я быстро прожевала лепешку.
— Ни через какую Миссисипи проходить я не буду.
— Не будешь?
Глядит на меня поверх очков, а я гляжу на него. Он не разозлился. Он был не из тех, кто сразу на стенку лезет чуть что, а думал себе спокойно, не торопился.
— Ну хорошо, через Миссисипи ты идти не хочешь, — сказал он и опять на карту смотрит. — Значит, хочешь, чтоб тебе было потруднее, и собираешься идти через Арканзас. — И уж теперь на меня смотрит поверх очков: может, я и через Арканзас идти не захочу? — Ведь другого-то пути нет, если, конечно, ты не собираешься прыгнуть через Миссисипи. А это, пожалуй, трудновато даже для таких прытких, как ты.
Он помолчал. Думал, я что-нибудь скажу. А я тоже молчу, и он опять повернулся к карте.
— Ну хорошо. Теперь мы в Арканзасе. Так как Арканзас севернее Луизианы, то, как пройдешь его, тебе надо будет повернуть прямо на восток, вот так, и ты попадешь в Теннесси. Вот сюда. Ну хорошо, ты в Теннесси. Идешь дальше, пока не упрешься в Нашвилл. Мемфис ты прошла уже давно, это недалеко от Арканзаса. Из Нашвилла снова поворачиваешь на север. Поищи только хорошую дорогу в Луисвилл, это в Кентукки. Из Луисвилла идешь в Цинциннати — и ты в Огайо. Вот тут, — сказал он, постукивая по карте. — Ну а кто тебе нужен в Огайо?
— Мистер Браун. Солдат-янки.
— Мистер Браун, солдат-янки, — говорит он. — Но в Цинциннати может оказаться несколько Браунов, фамилия-то не из редких. А если он не в Цинциннати живет, то может жить в Кливленде. Вот здесь.
Он все смотрел на карту, ну и я начала на нее смотреть.
— Мне надо пройти через все эти места, а я все еще в Луизиане?
— Совершенно верно.
— А откуда мне знать, что вы правду говорите? Что вы не конфедерат?
Старик долго смотрел на меня. Лицо у него было не доброе и не злое.
— Может быть, я конфедерат, — говорит. — А может быть, друг твоего народа. Или просто старик, и больше ничего. Или же очень мудрый старик. Может быть, старик, который плачет по ночам. Или старик, который завтра наложит на себя руки. А может быть, старик, который должен продолжать жить, чтобы дать двум детям миску вареных овощей без мяса и кукурузную лепешку. Может быть, старик, которому дано обогреть у своего очага другого человека, неважно, черного или белого. Я могу же быть кем угодно, правда?
— А долго мне туда идти? — спросила я.
— Куда?
— В Огайо.
— Все-таки в Огайо?
— Так ведь я же туда с самого начала шла.
— Ну хорошо, дай подумать.
Он потер подбородок и посмотрел на меня. Такой маленький, чуть не одного роста со мной, а вы сами видите, я ведь не великанша.
— Сколько ты примерно весишь? — говорит. — Семьдесят фунтов? Семьдесят пять? Ну, допустим, семьдесят пять, накинем тебе пару фунтов. Узел твой весит фунтов десять. Предположим, в день ты будешь проходить пять миль. В хорошую погоду и по сносной дороге. Но погода не всегда будет ясной. Польет дождь и зарядит на несколько дней. В плохую погоду ты пройдешь вдвое меньше. То есть две с половиной мили вместо пяти. Но считаться тебе надо не только с погодой. Нужно подумать и о гремучих змеях, водяных щитомордниках и мокасиновых змеях. Значит, тебе придется обходить все протоки и сырые заросли, другими словами, возвращаться на юг или сворачивать на запад, так как на востоке ты упрешься в Миссисипи. Значит, вычтем еще полмили, и останется две мили в день. Ладно, змей и плохую погоду мы учли. Но надо помнить, что хотя бы раз в два дня вам встретится по меньшей мере одна злая собака. И поскольку тебе и малышу придется влезть на дерево и сидеть там, пока кто-нибудь не отзовет собаку или ей самой не надоест и она не убежит, надо сбросить еще полмили. Сбрасываем злую собаку. Теперь подумаем о ветеранах армии конфедератов. Они по-прежнему ненавидят негров за то, что произошло, а так как у них нет возможности выместить свою злобу на янки, они с превеликим удовольствием привяжут двух черных ребятишек к пню, кишащему рыжими муравьями. Значит, их тоже надо обходить стороной, что обойдется тебе еще в полмили. Остается одна миля в день. Этот малыш раньше или позже наестся незрелых ягод или хурмы, у него разболится живот, на чем ты потеряешь полмили. Итак, полмили в день. Ну хорошо, ты добралась до Арканзаса. Но там еще не знают об окончании войны и, значит, вас сразу схватят и продадут куда-нибудь в горы. Придется прервать путешествие на несколько лет — ну скажем, лет на пять-шесть, пока они не поверят, что генерал Ли действительно капитулировал и обучает в Уэст-Пойнте новых вояк. Но вернемся к тебе и малышу. Вы снова свободны, подросли, набрались сил и можете теперь проходить в день по десять миль вместо пяти. Но у тебя появится другая забота — мужчины. Все равно — черные или белые. Белый обойдется с тобой так же, как обходился с твоими соплеменницами с тех самых пор, когда вас привезли сюда в цепях, да и от черного тебе ничего хорошего ждать не приходится. Итак, ты выбираешь черного. Нет, не для того, чтобы он защитил тебя от белого. Если белому вздумается, он отберет тебя у черного, а его в случае необходимости и убьет. Ты выберешь одного черного, чтобы он защитил тебя от другого черного, который, возможно, будет обращаться с тобой еще хуже. Но и этот, первый, тоже не бог весть что и бьет тебя с утра до ночи. Причем не потому, что ему так уж этого хочется, а потому, что иначе он не может. Слишком уж он привык к зверскому обращению и ничего другого просто не знает. Затем в один прекрасный день этот мальчик не выдержит твоих страданий, подкрадется к нему, когда он заснет, и размозжит ему голову. И вы снова пускаетесь в путь, но теперь уже как беглецы. Вы пробираетесь в Теннесси, и тут вас снова хватают. Нет, не полиция, от которой вы бежите, а добропорядочные граждане Теннесси. Эти добропорядочные граждане дремуче невежественны — даже еще больше невежественны, чем добропорядочные граждане покинутого вами Арканзаса, и все еще изъясняются на гаэльском языке. А поскольку у нас в стране не выходят газеты на гаэльском, им понадобится еще лет десять, прежде чем они уяснят, что генерал Ли сложил оружие и, возможно даже, скончался. Каким-то образом вам удается вырваться от них, и вы снова начинаете наводить справки об Огайо. Но поскольку теперь вы привыкли говорить по-гаэльски, никто не понимает, чего вам надо, и вас посылают в Мемфис, лишь бы от вас избавиться. В Мемфисе вы спрашиваете дорогу у какого-то черного. Он тоже не понимает гаэльского языка, но он из тех хитрецов, которые считают, что коли негр говорит по-гаэльски, то с ним церемониться нечего. Он просит вас обождать минутку, и он проводит вас куда надо. Вы ждете минутку, час, день, год, пять лет — до тех пор, пока этот мальчик не покончит с ним, как с его предшественником. Вы крадете лошадь с бричкой и едете в Нашвилл, а из Нашвилла до Огайо уже рукой подать. Но в Нашвилле случается новая беда. Кто-то проламывает голову этому мальчику. А раз вы старые друзья, то из уважения к его памяти ты считаешь своим долгом года два пробыть возле его могилы. Наконец ты добираешься до Кентукки, нанимаешься кухаркой к белым, кормишь их, ухаживаешь за их детьми, пока не скопишь денег на дорогу или пока не уговоришь еще одного негра увезти тебя в Огайо. Теперь ты умеешь выбирать мужчин и выбираешь того, кто поглупее. Едва ты добираешься до места, как бросаешь его, хватит с тебя мужчин, и уже до конца жизни. Итак, ты в Цинциннати и начинаешь искать Брауна. Но в Цинциннати Браунов сотня. Есть белые Брауны, черные Брауны и даже коричневые Брауны. Ты ходишь от одного Брауна к другому, но это все не те Брауны. Года через два ты соображаешь, что твоего Брауна тут нет, и отправляешься в Кливленд. В Кливленде Браунов в два раза больше. И один-единственный белый Браун, который, как здесь помнят, воевал в Луизиане, умер десять лет назад, перепив виски. Но вряд ли это был тот Браун, которого ты разыскиваешь, говорят тебе. Он в жизни никому добра не делал. Грубиян был отъявленный и по сто раз на дню проклинал людей и все сущее.
— Ну а сколько все-таки нам туда идти? — спросила я.
— Значит, ты все-таки идешь? — говорит он.
— Мы же туда с самого начала шли.
Старик поглядел на меня и покачал головой.
— Малыш не дойдет. А ты? Лет через тридцать доберешься. Годом больше, годом меньше.
— Ну так мы пойдем, — говорю. — Спасибо вам большое. А лишней бутылки у вас не найдется?
Нед крепко спал, и мне пришлось потрясти его за плечи, чтобы разбудить. Я велела ему взять кремень и железку. Старик дал мне кувшин с водой, и мы ушли. А он стоял на веранде и смотрел нам вслед.
Я могла бы подробно рассказать обо всем, что с нами было в ту неделю, но только это не важно. Потому что ничего нового по сравнению с первыми днями не случилось. Мы старались все время идти лесом. Если видели людей, то прятались, пока они не проходили мимо. Один раз нам пришлось отгонять собаку: она увязалась за нами, а мы боялись, что ее начнут искать. А еще я целый час выжидала возле одного дома, а потом все-таки вошла и попросила воды. Нас обругали, но все-таки сжалились и дали воды.
Как-то в полдень мы увидели человека в фургоне. Я вышла на дорогу и помахала ему, а когда он остановился, спросила, где мы. Он говорит, в таком-то вот приходе.
— Это что же, мы все еще в Луизиане? — спрашиваю.
— Да в самой ее середке, если только я в расчете не ошибся, — говорит.
Тут я его спросила, не подвезет ли он нас. А он говорит, что и подвез бы, коли нам было бы с ним по дороге. Но коли нет, так нет. Я уже закинула узел в фургон и подсаживала Неда.
— Никак вы порядком устали, — сказал возчик.
Звали его Джэб. Это мы потом узнали.
— Мы идем в Огайо, — ответила я. — И мой малыш очень устал.
— Оно и видно, — сказал Джэб.
Фермеры-бедняки и республиканцы
Джэб привез нас к себе домой. Его жена, как увидела нас в фургоне, принялась браниться. Высокая, тощая — кожа да кости, — поглядеть, рта от слабости открыть не может, но как она принялась браниться, едва мы въехали во двор, так и не кончила, пока мы не уехали на следующий день.
— Откуда у тебя черномазые? — спрашивает. — Денег у тебя негров покупать нету, а украсть духу не хватит. Если ты притащил их сюда накормить, можешь поворачивать обратно. Мне самой есть нечего.
— Пусть переночуют, — говорит Джэб.
— В моем доме? — кричит она. — Чтоб все насквозь провоняло?
Хижина это была, а никакой не дом. И старая, покосившаяся. Джэб ее даже кольями подпер, чтоб вовсе не рухнула.
— Лягут в сарае.
— Вот-вот, — говорит она. — Ничего другого-то там нет: ни кукурузы, ни тыквы, ни картошки — ничего. Нет, вы посмотрите на эту землю! — И топает ногой. — Посмотрите на этот огород. Разве это огород? Где репа? Где горчица? Посмотрите на этих дохлых мулов! Посмотрите на эту землю! — И опять топает.
Джэб сказал, чтоб мы остались в фургоне, а сам слез и начал распрягать мулов.
— Никудышный ты человек, — сказала его жена. — Вот потому и не пошел на войну, как настоящий мужчина. Дескать, это не твоя война, дескать, это их война. Потому у меня и детей нет. Никудышный человек. — И тут она начала смеяться.
Джэб сказал, чтоб мы с Недом сидели в фургоне, пока он не вернется. Мы просидели там не то два, не то три часа. И все время слышали, как она в доме бранится. За хижиной была протока, и там квакали лягушки и трещали цикады, но она так бранилась, что их почти не слышно было. Когда Джэб вернулся, уже совсем стемнело — даже и не разберешь, он это или не он. Мы пошли за ним в сарай. Только я прежде Неда разбудила. В сарае было темно, и еще там было жарко и сухо. Чувствую, под ногами сено шуршит, и запах от него — по всему сараю. Джэб велел нам сесть у стены. Я вытянула руку, нашарила стену, села и усадила Неда рядом с собой. Джэб вошел следом за нами. Я его почти не видела, но чувствовала его запах — такой же сильный, как запах сена.
— Бери-ка, — сказал Джэб.
В темноте я нащупала его руку, а потом кусок кукурузной лепешки. С одного края кусок был мокрый.
— Это ему, — сказал Джэб.
Я отдала кусок Неду и взяла у Джэба другой. Джэб сказал, что мы переночуем здесь, а завтра он нас отвезет дальше.
Мы сидели в темноте и ели размокшую лепешку. Ее обмакнули в подливку, а подливка два дня стояла, не меньше.
Нед поел, лег и тут же уснул. А я прислонилась к стене и до поздней ночи слышала, как бранится эта полоумная. Из-за войны многие вот так в уме помешались. Мне несколько раз хотелось разбудить Неда и сказать, что нам лучше уйти. Я даже положила руку ему на плечо. Но мне стало его жалко, он ведь так устал. Я тоже устала, но сказала себе, что спать не буду и лучше посторожу.
Утром, когда Джэб пришел нас будить, я так и сидела, прислонившись к стене.
— Куда мы поедем? — спросила я.
— К вашему другу Боуну.
— Я никакого Боуна не знаю.
Джэб ничего не сказал. Мы забрались в фургон. Женщина стояла на пороге и бранилась. И вид у нее был такой же, как вечером. Будто она вовсе спать не ложилась, будто на минуту не закрыла ни глаз, ни рта. Мы поехали, а она все твердила свое: "никудышный", "черномазые". Когда она уже не могла нас видеть, Джэб полез в карман и достал горсть орехов. Этим мы в тот день и позавтракали, и пообедали — орехами.
Видывала я неторопливых мулов, но два, которые тянули фургон Джэба, наверно, были самые неторопливые. Маленькие, бурые, не больше шотландских пони. Изнутри фургона их и не видно было, словно фургон тащился и поскрипывал сам по себе. Я хотела сесть спереди, рядом с Джэбом, но он велел мне сесть сзади. И хорошо сделал, потому что попозже нам навстречу попались два конфедерата на лошадях. Джэб приказал нам сидеть тихо и помалкивать, а что нужно, так он сам скажет. Когда они подъехали ближе, он натянул вожжи и остановил мулов. Особенно тянуть ему не пришлось.
— Черномазых прихватил? — говорит один.
— Да, — отвечает Джэб. — Не так чтоб очень уж стоящие, но для начала сгодятся, особенно такому бедняку, как я.
— Подкорми их, они и подрастут.
— Само собой.
— А вы смотрите не балуйте, — сказал нам конфедерат.
— Пусть попробуют! — говорит Джэб.
Они ускакали, а Джэб дернул вожжи. Потом еще раз дернул, и только тут мулы тронулись с места. Он не сказал нам, кто были всадники, но я с самого начала знала — конфедераты.
Джэб грыз орехи, а скорлупу бросал в фургон. Словно у него сил не хватало выбрасывать ее на землю. А может, ему было все равно из-за того, что дома у него эта полоумная только и знала, что браниться. И мулам тоже было все равно: фургон скрипел, скрипел, скрипел, но почти совсем не двигался.
На закате Джэб остановил фургон на перекрестке, велел нам слезть и идти дальше пешком. Через полмили мы увидим большой дом. Там мы должны постучать в дверь, все равно в какую — с парадного или с черного хода, и сказать тому, кто откроет, что ищем приюта.
— Только не говорите, кто вас привез, — сказал Джэб.
Мы пошли по дороге, и фургон тронулся. Поле было скошено, и я все время оглядывалась на Джэба. Я слышала, как скрипит фургон, но двигался он медленно, будто на месте стоял. И тут я вспомнила, что даже спасибо Джэбу не сказала. Я уж хотела побежать за фургоном, чтобы поблагодарить Джэба за все, что он для нас сделал, но ноги меня не послушались. Уж очень они устали. Я подумала, может, крикнуть, руками замахать, да только Джэб навряд ли услышал бы меня или увидел. Он сидел, уставившись на своих маленьких бурых мулов, и, может, даже не видел толком, куда едет.
Дом мы увидели только за поворотом дороги. Большой господский дом с верандами спереди и сбоку. Справа был фруктовый сад, может, акра в два-три, а может, и побольше. Слева на выгоне паслись лошади и коровы. А дальше виднелся поселок.
Как велел Джэб, я подошла к парадной двери и постучала. Вышел негр и посмотрел на меня сверху вниз. Я сразу поняла, что допустила оплошность.
— Вас Джэб привез?
— Кто?
— Видишь ступеньки? — сказал негр и ткнул пальцем мне за спину. — Так вот, спустись, обойди дом и постучись с черного хода. А не то догоняй Джэба.
Я обошла дом, но стучать не стала. Зачем стучать, раз он и так знает, что я здесь? Я стояла, стояла, стояла, а его нет и нет. Но, чуть я постучала, он открыл дверь и сказал, чтоб я вошла.
— Что тебе надо? — говорит.
— Здесь живет мистер Боун? — спрашиваю я.
Он ушел внутрь дома, а через минуту в кухню вошел белый. Он был высокий, широкоплечий, с рыжей бородой и голубыми глазами. А таких больших ручищ я в жизни не видывала.
— Уж очень ты тощая, — сказал он, поглядев на меня, и покачал головой. Потом посмотрел на Неда позади меня. — А это что за сосунок? У меня здесь не приют, а плантация. Можете переночевать тут, а завтра вас кто-нибудь отвезет в город. А мне вы не подходите.
— Чтоб работать? — спрашиваю.
— Да, чтоб работать, — говорит он.
— Может, я и маленькая и тощая, — говорю, — а могу работать наравне со всеми.
— Мои работницы за завтраком съедают больше, чем вы с этим мальцом вместе весите, — говорит. — Вы возьмете да помрете, а я отвечай за вас перед бюро.
— Я, конечно, со всем уважением, — сказала я. — Да только, если б так, мы бы уж давно померли.
— Ты же еще на поле не бывала, — говорит.
— Только на поле я и бывала, — говорю.
— Да неужто? — говорит.
— Правда, сэр, — говорю. — Мы с ним как услышали про свободу, так все шли, шли и шли. Пусть-ка кто-нибудь из ваших с вашего поля прошел бы столько, а я бы поглядела.
— Да в поле-то не только ходить надо, — говорит Боун.
— Я всегда свою долю выполняла.
— Ну-ка, расскажи.
Я рассказала.
— И о том, как вы шли.
Я рассказала.
— Ладно, я тебя попробую, — сказал он. — Но ты все-таки очень тощая, и я тебе больше шести в месяц платить не буду. Хочешь — соглашайся, не хочешь — уходи.
— Я, конечно, со всем уважением, — говорю. — А сколько вы платите другим женщинам?
Боун даже рот раскрыл, будто уже собирался ответить, но вспомнил, что перед ним девчонка, да к тому же черная. Но раз он берет меня, так, значит, со мной и разговор другой.
— Десять, — сказал он. — Но они все взрослые.
— И я взрослая, — говорю.
— Доказывай это на поле, а не здесь, — говорит Боун. — Пятьдесят центов я буду вычитать за учение этого мальца. Если, конечно, он не будет спать на ходу. А зачем эти камни?
— Конфедераты убили его маму. Это у него память о ней.
— Значит, пятьдесят центов за учение.
— А если я буду работать наравне с остальными, получать я буду столько же? — спросила я.
— Само собой.
Он пошел в комнаты и вернулся с гусиным пером и бумагой. Перо дал мне, а бумагу положил на стол.
— Поставь вот здесь крестик, — говорит и тычет пальцем в бумагу. — Проведи палочку так, а другую вот так.
— Я знаю, что такое крестик, — говорю. — А зачем это?
Боун все смотрел на бумагу, но я знала, что он ее не читает: глаза-то у него были неподвижные. Может, он думал, взять бы меня за шиворот да вышвырнуть на улицу. Потом он перевел глаза с бумаги на меня, но все равно словно бы думал о чем-то другом.
— Затем, чтоб я знал, что ты работаешь у меня в поле, даже если не смогу тебя сыскать, — ответил он. — Чтоб ты знала, что я тебе должен пять долларов пятьдесят центов.
— Шесть долларов, мистер Боун, — говорю. — А пятьдесят центов я вам сама отдам.
— Ну, подписывай, — говорит он.
Я сунула кончик пера в рот и наклонилась над столом поставить крестик. Он получился очень красивый, и я долго его разглядывала. Я хотела было добавить закорючку, точку или хвостик, но Боун отобрал у меня перо и бумагу.
— Я сказал, поставь крестик, а не пиши книгу.
Боун позвал негра, который впустил нас с черного хода, и велел послать кого-нибудь показать нам нашу хижину. В хижине ничего не было, кроме двух кроватей и очага. Кровати были — две широкие доски, прибитые к стене, точно полки. Тюфяки из тика набиты сеном. Ни стола, ни стула, ни скамейки — сиди на кровати или на полу. Потом уж я попросила плотника сколотить мне скамью. И еще стол. Лет десять-двенадцать у меня никакой другой мебели не было.
Мы расчищали поля. Их с начала войны не вспахивали, и все заросло бурьяном и кустами. Женщины орудовали топорами и мотыгами, а мужчины корчевали и пахали. Примерно через месяц на поле пришел Боун и сказал, что будет платить мне десять долларов в месяц, как всем женщинам, потому что не хочет, чтоб я совсем уж надорвалась.
Мне тогда было одиннадцать-двенадцать лет, но я работала наравне со всеми. А тем, кто меня обгонял, приходилось немало попотеть.
Книга вторая Реконструкция
Проблеск света — и снова тьма
Некоторое время все вроде бы у нас шло хорошо. В поселке была небольшая школа — первая хижина слева. Все младшие дети ходили в школу днем, а дети постарше и взрослые — вечером, когда кончали работать. Учитель был цветной с Севера — красивый молодой человек с коричневой кожей и очень воспитанный. Все взрослые и дети любили его. Раз в неделю у нас был особый день учителя. Когда он приходил к кому-нибудь обедать. Тут уж каждый старался перещеголять всех остальных! У нас не было стула, а не сажать же такого гостя на скамью! И я послала Неда попросить стул. Только он вернулся со стулом, я его отправила за вилкой с тарелкой. Вилку и тарелку дала женщина, которая работала в большом доме. Так она сказала Неду, чтоб я не удивлялась, если учитель их узнает: эту вилку и тарелку у нее уже брали в поселке все. Ну, может, он и узнал их, но только, как воспитанный человек, ничего об этом не сказал. Сесть за стол с учителем и Недом я не села. Стыдно было. Я притворялась, будто занята работой, но все время, пока учитель ел, поглядывала на него — нравится ему еда или нет. Потом учитель спросил Неда, не хочет ли он почитать для меня, и вытащил из кармана книгу — одну-единственную на всю школу, а Неду пришлось встать рядом с ним. Учитель указывал слова, и Нед громко их читал. Я стояла возле, слушала и улыбалась. Прежде я, пожалуй, не смотрела на Неда как на родного, а был он для меня мальчиком, о котором, кроме меня, позаботиться некому. А теперь я слушала, как он читает, и понимала — не будь меня, не было бы здесь и Неда. Будто я не только спасла Неда от гибели — будто я сама его родила. Потом Нед лег спать, а мы с учителем сидели у очага и разговаривали. Он спросил, почему я не хожу в школу, как все. Я ответила, что прихожу с поля очень усталая. Нед учится, мне и довольно. Мы говорили и говорили. Учитель был очень воспитанный и всем нравился, особенно женщинам. Мне он тоже нравился, и я раза два сходила в школу, чтоб только посмотреть на него. Но потом сказала себе, что мне о таком, как он, думать не годится, и уже больше в школу не ходила.
А в большой дом часто приезжали цветные политики — совещались с Боуном. Приезжали раза два в неделю, посидят час-другой и уедут. Когда они хотели сообщить нам что-нибудь важное, мы собирались в школе. Она же была и церковью. Школа и церковь в одной хижине. Говорили они нам про федеральное правительство, а особенно про республиканскую партию. Ведь нас освободили республиканцы, и они же учредили бюро свободы, чтобы оно о нас заботилось. И они хотели, чтоб мы интересовались тем, что происходит вокруг. Они хотели, чтоб мы голосовали — и голосовали за республиканцев. Демократическая партия, говорили они, стоит за рабство и в ней — хотите верьте, хотите нет — есть негры. Такого негра сразу можно узнать по белому рту и по хвосту. Они говорили, что свозят нас в Александрию, чтоб мы посмотрели негра-демократа за работой.
Этот день пришел. На плантацию за нами прислали солдат-негров, и они проводили нас в город. Городская площадь была полна черных и белых. День был жаркий, все люди обливались потом и без конца обмахивались. На помост друг за другом выходили люди, черные и белые, и говорили речи. То и дело кто-нибудь вопил во весь голос и обзывал кого-нибудь лжецом. Тут уж вмешивались солдаты и разнимали их. Когда на помост поднялся негр, член демократической партии, кто-то крикнул:
— Стащите с него штаны, посмотрим на его хвост. Что губы у него белые, мы и так видим.
А негр-демократ говорит:
— Уж лучше быть демократом с хвостом, чем республиканцем без мозгов.
Те, кто стояли за демократов, захохотали и захлопали в ладоши. Этот демократ поговорил немного, а потом говорил республиканец. Демократы хотели, чтоб янки ушли и мы бы все делали сами, а республиканцы хотели, чтоб янки остались. Демократы говорили, что мира не будет, пока янки не уйдут, а республиканцы говорили, что у нас никакого мира не было, пока они не пришли. И еще республиканцы говорили, что каждый свободный человек должен иметь сорок акров земли и мула. А демократы сказали, что странно слышать от республиканцев такое, когда их прихвостень завладел самой большой плантацией в приходе. Республиканцы ответили, что Боун дает работу людям, которые не смогли уйти и сами найти себе работу.
Жара была несусветная. На площади яблоку упасть негде. А они все спорят и спорят. Потом вдруг кто-то стащил с помоста и ударил кого-то. Непонятно почему. А все словно только этого и ждали. Я схватила Неда и потащила под помост. Еле туда пробилась. Потому что все, кто не дрался на помосте или около, старались, как и я, спрятаться под него.
Казалось, драке конца не будет. Под помостом было нестерпимо жарко, но никто не вылезал. Только через час солдаты наконец всех утихомирили. Зачинщиков они увели в тюрьму, а нас проводили до дому.
Позже мы узнали, что беспорядки устроили тайные группы, такие, как ку-клукс-клан, "Белое братство", "Камелии Луизианы". Они разъезжали по всему штату, истязали и убивали людей. Убивали всякого негра, который не хотел покориться, и всякого белого, кто ему помогал. Сразу после войны многие цветные уходили со старых мест и пытались завести небольшие фермы. А тайные группы налетали и избивали их только за то, что у них на полях было меньше сорняков, чем у белых. А то изобьют за то, что на поле есть сорняки.
— Что у тебя здесь посеяно, Хок? — спрашивают.
— Кукуруза, хозяин, — отвечал Хок.
— А вон это, по-моему, трава.
— Может, быть, кое-где есть и трава. Но утром я все прополю с божьей помощью.
— Нет, начинай-ка сейчас.
И они заставляли стать на четвереньки и есть траву, пока человека не выворачивало наизнанку. А если хотелось еще потешиться, то привязывали его к столбу или к дереву и избивали.
— Завтра вечером мы снова наведаемся, Хок, — говорят. — И чтоб ни одной травинки не было, слышишь? — Или: — Завтра вечером вернемся, и чтоб на этом поле была трава, слышишь, Чарли?
Просто решили разделаться с каждым цветным, который попытается завести свое хозяйство. А уж к чему придраться, им было все равно.
Но нас тайные группы почти не трогали. Боун был важным человеком в республиканской партии, и его плантацию охраняли солдаты. И цветные политики приезжали под охраной — оставляли ее у ворот и на дороге. Иногда мы слышали, что в одной-двух милях от нас кого-то избили, а то и убили, но мы знали, что у нас этого случиться не может. Бывало, люди спрашивают:
— Откуда вы?
А мы голову задерем и отвечаем:
— С плантации мистера Боуна.
— Говорят, хорошее место. А еще работники там не нужны?
Иногда мы отвечали "да", иногда "нет".
Как-то вечером, сразу, как мы вернулись с поля, Боун созвал нас к большому дому. Когда мы вошли во двор, было уже темно. И по обе стороны от Боуна на веранде стояли люди с фонарями. Он сказал, что хозяин плантации больше не он, а конфедераты. Мы слышали про конфедератов. Мы слышали, что конфедераты требуют назад свои земли, и даже слышали, будто там-то и там-то плантации вернули бывшим владельцам, но нам и в голову не приходило, что такое случится и у нас. Тут же все время были солдаты и цветные политики, так как же конфедераты могли заполучить плантацию? Для чего же тогда солдаты? Для чего же тогда политики? Для чего же они войну вели, как не за то, чтоб освободить нас?
Боун отвечал, да, они вели войну, чтобы освободить нас, но теперь они хотят снова объединить страну. Хотят ее объединить во что бы то ни стало. Иначе, сказал он, конфедераты будут без конца избивать и убивать людей. Мы спросили: почему же они не могут прислать еще солдат? А он сказал, что янки уже устали воевать за нас. А некоторые так просто жалеют, что вообще ввязались в эту войну. Кроме того, янки увидели, что на Юге теперь можно нажить хорошие деньги. Югу нужны деньги, чтобы подняться на ноги, а янки могут эти деньги ссудить. На этом они и сошлись: конфедераты получают назад свои земли, а деньгами для этого им ссужают янки.
Он с нами расплатился, и мы пошли в школу советоваться. Одни считали, нужно уходить, другие уговаривали остаться.
— Куда идти-то? — спрашивали мы. — Раньше все было ясно. Мы уходили оттуда, где были рабами. А куда идти теперь, раз Боун сказал, что янки про нас и думать забыли?
А некоторые добавляли:
— Останемся и поглядим. Мы больше не рабы. Если не понравится, тогда и уйдем.
Мы отправились по домам уже за полночь. Половина людей все же ушла. На этот раз я была среди тех, кто остался.
Через два дня явился владелец. Боун уехал, уехал учитель, цветные солдаты, цветные политики. Те, кто остался в поселке, собрались у большого дома послушать нового хозяина. Он стоял на веранде, там же, где два дня назад стоял Боун. Высокий, худой, узколицый. И в своем конфедератском мундире, даже с саблей на боку. Он сказал, что он полковник Юджин Дей. "Надеюсь, я здесь больше не увижу ни черномазых солдат, ни черномазых политиков, — говорит и смотрит на горстку тех, кто остался в поселке. — Школа закрывается, пока я не найду вам хорошего учителя. — Он опять оглядел нас, не скажет ли кто чего-нибудь. — Плата остается прежней, пятнадцать долларов мужчинам, десять женщинам. Но до конца года я наличными платить не смогу. Можете брать в счет этого еду и одежду в лавке. Если это вам подходит, оставайтесь, не подходит — отправляйтесь догонять вашего труса республиканца и черномазых бездельников, которые сбежали отсюда два дня назад".
Если бы полковник Дей сказал мне это на неделю раньше, я бы тут же повернулась и ушла. Но после того, что нам сказал Боун, мне уж было все равно, что идти на Север, что оставаться на Юге. Ладно, останусь здесь и буду стараться для себя и для Неда. Если узнаю про место, где жизнь полегче и ученье для Неда получше, уйду туда. А до тех пор останусь тут.
Это опять было рабство, самое настоящее. Ни цветных солдат, ни цветных политиков, ни цветного учителя. Учитель теперь был белый. Но приезжал он только зимой, когда погода была такой плохой, что выгонять детей в поле не было никакой возможности. Пропуска, как в годы рабства, тому, кто хотел уйти с плантации, больше не требовалось. Но тебя могла остановить тайная группа, и приходилось говорить, что ты с плантации полковника Дея. Хотя янки ушли и бюро свободы больше не было, они продолжали истязать и убивать, даже больше прежнего. Цветные писали жалобы в Вашингтон, иногда несколько человек договаривались, набирались храбрости и сами отправлялись туда, но солдат оттуда так и не прислали. Дельцы-янки, деньги янки, чтоб Юг снова встал на ноги, — это пожалуйста, но только не солдаты. Нас бросили на произвол судьбы — работать до изнеможения или умирать.
Исход
И тогда люди начали уходить. Они и раньше уходили. Пока было рабство, люди пытались выбраться с Юга. Хозяева и патрульные гнались за ними с собаками. Хорошего раба, сильного работника, приводили назад на плантацию и избивали. Некоторые хозяева клеймили своих рабов. А смутьяна, который пытался бежать не первый раз, продавали торговцу в Новый Орлеан. Если беглец сопротивлялся, его там же на болоте и приканчивали. Один человек, которого я знала, ни за что не хотел идти назад, и его пристрелили. Он сказал, что пусть уж лучше его убьют как собаку, а назад он не пойдет, и разорвал рубашку на груди, чтоб стреляли прямо в сердце. Они его убили и бросили на растерзание стервятникам.
Милях в пяти от места, где я тогда жила, была речка, которую называли Грязная. Люди бежали к ней, чтобы сбить собак со следа, а патрульные приспособились ловить их там. Речка широкая, берега болотистые, а рабы плавать не умели и шли вброд. Тут патрульные их и подстерегали. Прицелятся и кричат, чтоб назад шли. Кто не шел, в того стреляли прямо в воду или ждали, пока он не утонет. Но многим все-таки удавалось бежать. Они знали, что вброд не перейдут — речка широкая, а дно вязкое, — и строили плоты. Каждую ночь или при каждом удобном случае они уходили на болото и понемножку строили плот. А когда он был готов, сталкивали в воду и уплывали. Те, кто поумнее. А дураки шли вброд, и их тут же ловили. В той речке больше покойников, чем на кладбище.
Теперь, когда солдаты-янки ушли, а с ними и бюро свободы, люди опять стали уходить. Не сразу. Потому что мистер Фредерик Дуглас[5] уговаривал дать Югу возможность доказать, что все будет по-другому. Но когда люди убедились, что с ними обращаются не лучше, чем до войны, они послали мистера Фредерика Дугласа к черту и начали уходить. Сначала хозяев это не очень встревожило. Они даже радовались: уйдут смутьяны — а который негр уходит, тот и смутьян, — уйдут все смутьяны, и беспокоиться будет не о чем. Да только уходили не только смутьяны, а и смирные. Прямо толпами уходили, и смутьяны и смирные. Поедешь в город и видишь на дорогах целые семьи. Впереди мужчины с узлами на спине, за ними женщины — одного ребенка несет, другого ведет за руку. И вот тут хозяева забеспокоились. Кто же будет собирать хлопок? Кто будет рубить сахарный тростник? Они поехали в Вашингтон. Это, мол, Север заманивает негров, чтобы использовать их голоса. Янки просто делают вид, будто хотят помочь Югу встать на ноги, а на самом деле хотят подчинить его себе. В Вашингтоне тогда созвали цветных и спросили, правда ли, что Север покупает их голоса. Цветные ответили, что нет, а уходят они потому, что на Юге с ними обращаются не по-человечески. Тогда хозяева вернулись домой и начали задерживать людей насильно. Они натравили на них ку-клукс-клан, и "Камелий", и "Белое братство". А люди все равно уходили. Убегали ночью, прятались в болотах. И все равно уходили.
Нед уходит из дома
Цветные солдаты, вернувшиеся с войны, устроили комитет, чтобы ездить и узнавать, как обходятся с цветными. Они ездили по всему штату и проверяли, как живут цветные. Нед узнал про этот комитет и вступил в него. Он сообщил про наш приход. Рассказывал комитету, какую работу мы делаем, сколько часов работаем, сколько нам платят, сколько берут за еду и одежду, как управляющий ведет себя в поле. А убедившись, что с цветными обращаются не лучше, чем при рабстве, комитет велел всем уходить на Север. Неду было поручено объяснить людям, как попасть в Новый Орлеан. Какую дорогу выбрать, где они могут найти приют, а где еду и помощь.
Неду было тогда лет семнадцать-восемнадцать. Во всяком случае, двадцати ему еще не было. Высокий, худой, одни руки и ноги. Очень молчаливый и всегда серьезный. Чересчур серьезный. Мне не нравилась такая его серьезность. Я часто его спрашивала:
— Нед, о чем ты думаешь?
— Ни о чем, — отвечает.
Но я знала, что он думает о своей маме. Он никогда не говорил о ней (мамой он звал меня), но я знала, что он все время о ней думает. Я все делала, чтоб отвлечь его от этих мыслей. Про школу расспрашивала. Он очень любил своего первого учителя, того молодого цветного, который учил здесь ребят, когда мы только обосновались в поселке, и мы вспоминали его еще долго после того, как он уехал. Я расспрашивала Неда про других ребятишек, да о чем угодно — лишь бы говорил, лишь бы думал поменьше. Но он был очень тихий, серьезный мальчик. Да и не погибни его мама и сестренка такой страшной смертью, он бы все равно вырос серьезным.
Зато улыбка у него была редкостная. Кожа по-настоящему черная, на щеках ямочки, а зубы — белей не бывает. Настоящий красавец, будь только он повеселее. Высокий, стройный, красивый черный паренек. С годами он раздался вширь и весил фунтов двести, а может, и больше. Но пока рос, казалось, был одни руки и ноги.
Фамилию он сменил и стал Недом Дугласом. Раньше был Брауном — как я. Фамилии его отца мы не знали, вот он и был Нед Браун. Потом он взял фамилию Дуглас в честь мистера Фредерика Дугласа. Он собирался вести за собой людей, как мистер Дуглас, и некоторое время был Недом Дугласом. Потом стал Недом Стивеном Дугласом, а потом — Эдвардом Стивеном Дугласом. Все молодые люди вокруг брали себе такие фамилии. Кто Дуглас, а кто, Браун (конечно, в честь Джона Брауна, а не Джейн Браун), а кто — фамилию Тернер, в честь Ната Тернера, или Самнер, либо Шерман[6]. Спросишь кого-нибудь, как тебя зовут, а он отвечает: "Джон Браун". Спросишь, а как звали его отца, он говорит: "Эд Вашингтон". Старики только смеялись и головами покачивали, но эти ребята не смеялись. Я все время твердила Неду, что он слишком серьезный. Он научился читать, умел писать, и в доме у нас всегда были книжки.
Когда хозяева вернулись из Вашингтона, порешив не давать цветным переселяться на Север, они начали следить за такими людьми, как Нед. Они знали про комитет и знали, что Нед в нем состоит, а потому следили за ним. Полковник Дей как-то позвал меня в дом и сказал, чтоб я уняла Неда. Я сказала, что поговорю с ним. А полковник сказал, что поговорить мало, а надо его унять, а не то для него это плохо кончится. Я все рассказала Неду, а он ответил, что и дальше будет делать то же.
Как-то ночью, когда Неда не было дома — ушел куда-то по поручению своего комитета, — прискакали они. Моя хижина стояла на краю поселка, и они прежде проехали мимо всех хижин. Было это зимой, в полнолуние. В небе сверкали звезды. И тут они прискакали, человек восемь-девять. А я ничего не слышала, пока они не вышибли дверь. Все были в своих белых балахонах. Трое вошли внутрь, а остальные даже с лошадей не спрыгнули. Я их в окно видела.
— Где он? — спрашивает один.
— Кто? — говорю.
Он ударил меня по лицу наотмашь так, что я упала. А они все в комнате перевернули вверх дном. Стол опрокинули, скамью бросили в очаг. Край у нее затлел, и, когда они уехали, мне пришлось заливать ее водой.
— Все еще не знаешь, где он? — спрашивает тот же.
— Нет, — ответила я, поднимаясь.
Он подождал, чтобы я встала, и снова сбил меня с ног.
— И теперь не знаешь?
— Да не знает она, Бо, — сказал другой.
— Знает! — сказал Бо.
— Оставь ее, Бо, — сказал второй. — Изловим его в другой раз. Пошли.
Они вскочили на лошадей и поехали назад через поселок, а потом мимо большого дома. Там наверняка было слышно, как они скачут. Только я бы не удивилась, если бы узнала, что их полковник Дей и прислал.
Нед вернулся домой поздно ночью. Лицо у меня распухло, и он спросил, что случилось. Я ему все рассказала. Он велел, чтобы я собиралась — мы сейчас уйдем. Выберемся через болота, а потом выйдем на дорогу в Новый Орлеан. Из Нового Орлеана уедем на пароходе в Канзас.
— Я не могу с тобой пойти, — сказала я.
— Надо идти, — сказал Нед. — На этот раз они тебя избили. Когда они опять придут, будет хуже.
— Они ничего мне не сделают.
— Если брошу делать то, что делаю? — говорит он. — Ты тоже этого хочешь?
— Я хочу, чтоб ты поступал, как считаешь правильным.
— Я так и поступаю.
— Тогда тебе надо уйти, иначе тебя убьют, — говорю.
— Ты должна уйти со мной.
— Нет.
— Ты что, обвенчана с этим местом? — спросил Нед.
— Как сказать.
— Я не могу оставить свое дело, мама, — говорит он.
— Тогда уходи.
Я села на скамью перед очагом и притянула Неда к себе. Поглядела на его лицо, а он плачет.
— Мне еще время не пришло, — говорю.
— Тогда, после войны, мне тоже время не пришло, но я шел с тобой, куда ты хотела.
— Люди не могут без конца идти и идти куда-то, Нед.
— Когда рабы — идут.
— Ты это о чем? — спрашиваю.
— Все уходят.
— Многие уходят, но не все, — говорю. — И тебе надо уйти. Но не мне.
— Оставить тебя, чтобы ты жила как собака?
— Собакой я не буду, — говорю.
— Будешь, — сказал он. — Будешь подбирать крохи с их стола.
— Я крох не ем, Нед, — говорю. — И с пола подбирать их не собираюсь. Ты ведь меня знаешь.
— Я не про то, — сказал он. — Просто они заставляют нас разлучиться. А я хочу, чтоб мы были вместе.
— К этому все равно шло. Я тебя предупреждала, когда ты только начал.
— Ты хочешь, чтобы я бросил?
— Нет, если только ты сам этого не захочешь. Решать тебе.
Он сжимал мои руки и плакал. Я притянула его поближе и обняла.
— Тебе пора уходить, — сказала я. — Они могут вернуться.
— Мне надо бы все бросить. Как ты будешь одна?
— Не пропаду, — сказала я.
— Но я не могу. Лучше останусь, и пусть убивают.
— Уходи, — сказала я. — Они убьют тебя, если ты останешься.
Ужин для него был у меня уже готов, и, пока он ел, я собирала его в дорогу — собирала и старалась не смотреть на него. Я же знала, стоит мне взглянуть на него, и он поймет, что у меня на душе, и не сможет уйти. Я не хотела, чтобы он уходил, видит бог, не хотела, но я знала: рано или поздно он все равно ушел бы, такая минута должна наступить, лучше уж это будет теперь. Я все сложила и поставила мешок с едой и одеждой у двери.
Нед никак не кончал есть. Я изо всех сил старалась не смотреть на него. Когда он встал и пошел к двери, у меня сердце сжалось. Но я собрала все силы и подошла к нему.
— Мы поступаем так, как оба считаем правильным, — сказала я.
Он крепко меня обнял. Такой высокий и такой худой! Я чувствовала, что он плачет, но сама держалась. Я стояла на пороге и смотрела, как он уходит. А потом вернулась в хижину и легла. Всю ночь я плакала.
Два письма из Канзаса
Я долго жила в хижине одна, а потом стала встречаться с Джо Питтманом. Джо раньше был женат, но его жена умерла, и у него на руках остались дети — две девочки. Мы были знакомы еще прежде, чем Нед уехал в Канзас, но никогда особо друг о друге не думали. У меня на то были две причины. У Неда на всем белом свете никого, кроме меня, не было, и я ни за что не позволила бы, чтоб какой-то мужчина и его дети помыкали Недом, потому что он сирота. А еще я никогда не думала о мужчинах из-за того, что была бесплодна. Мне одна старуха сказала. Я как-то пришла к ней посоветоваться, почему у меня одно не так, другое не так. Мы сели, порасспросила она меня, а потом только два слова сказала: "Ты, — говорит, — бесплодная". Я к доктору сходила, и он тоже сказал: "Ты бесплодная". Объяснил, что сделалось это со мной, когда я была еще совсем маленькой. Сказал, что либо ударили меня, либо отстегали так, что повредили внутри. Оттого, говорит, я, наверно, и ростом не вышла. Потом спрашивает, какой у меня аппетит.
— Аппетит? — отвечаю. — Да как у всех.
— Ну, тогда ничего, — говорит. — Иди домой.
Когда Джо Питтман сказал, что хочет на мне жениться, я сказала, что подумаю. Мне не хотелось говорить ему, что я не могу рожать детей. Он мне по душе пришелся, и я боялась, что расскажу, а он себе другую найдет. Он опять про это заговорил, а я отвечаю, что еще подумать хочу. А он все не отставал, ну я и рассказала ему все. Мы сидели дома, ужинали, и я сказала ему. А потом сказала, что если теперь он на мне жениться не хочет, так я не в обиде. Я ведь понимаю. Но он сказал только:
— А кого из нас рабство не покалечило? Если ты обещаешь о моих дочках заботиться, с меня и двух моих девочек будет довольно.
Джо Питтман, он был настоящим мужчиной.
Венчаться мы не стали. Я тогда еще в церковь не верила, а Джо вообще никогда не верил. Мы просто решили жить вместе, как было во времена рабства. Рабы никогда не венчались, а просто прыгали через палку от метлы. Старая и молодая хозяйки держали палку за концы над полом, а старый хозяин говорил рабам, чтоб они взялись за руки и прыгнули через нее. Если женились немолодые люди, хозяйки опускали палку пониже, и те через нее перешагивали, а старый хозяин говорил: "Бойчее, бойчее, Джубал! Бойчее, бойчее, Минни!" И рабы бойко переступали через палку, после чего их объявляли мужем и женой. Мы с Джо Питтманом решили, что без палки от метлы мы обойдемся, мы ведь больше не рабы. Просто будем жить вместе, пока не надоедим друг другу. И все.
Вскоре после того, как мы сошлись, Джо сказал, что хочет уйти с плантации полковника Дея. Джо хорошо умел управляться с лошадьми и думал, что легко отыщет место, где и заработок будет больше, и обращение лучше. Я сказала, что пойду вместе с ним, но только не хочу уходить, пока не дождусь весточки от Неда. Уже почти год миновал, а от него я еще ничего не получила. Вдруг он приедет, а меня тут нет, или напишет, а я его письма не получу. Джо сказал, что подождет, а тем временем будет искать новое место. И чуть была такая возможность, он отправлялся на поиски. Прослышит про какое-нибудь место и обязательно постарается сходить туда и все узнать — пусть далеко, лишь бы успеть обернуться и вовремя выйти в поле.
Нед написал мне спустя месяц после той ночи, но письмо дошло только через год. Он послал его какому-то человеку, с которым познакомился в Новом Орлеане, когда садился на пароход в Канзас. Прямо мне отправить письмо Нед побоялся, чтобы никто ничего тут не заподозрил. Письмо из Канзаса или с Севера могли сразу разорвать и выбросить. Он послал письмо этому своему знакомому, а тот должен был переслать его проповеднику на нашей плантации, чтобы проповедник прочел его мне. А знакомый вместо того, чтобы послать письмо проповеднику, сунул его куда-то и забыл. А когда наткнулся на него, адрес уже почти стерся, и он послал письмо не туда. Письмо вернулось, а этому человеку пришлось написать Неду в Канзас. А Нед уже успел перебраться из Ливенворта, откуда написал это письмо, в Атчисон. Прошел год, пока все наконец уладилось.
Нед писал, что люди приезжают в Канзас целыми пароходами, и белые в Канзасе сначала помогали им, собирали для них деньги, выбирали комитеты, чтобы ездить в Вашингтон и другие большие города за деньгами, одеждой и едой. Деньги и одежду присылали даже из-за океана. Сначала с переселенцами обходились как нельзя приветливее. Но это было первое письмо. А когда я получила второе, все уже изменилось. Помогать всем белые не могли, а работы не хватало. Теперь белые уже не хотели пускать их в свои города. Нед состоял в комитете, который подыскивал места, где люди могли бы поселиться. Он ездил на пароходе вверх и вниз по реке, но везде было полным-полно негров. Его комитет посылал письма на Юг, чтобы люди не ехали все в одно место. Есть же и другие штаты, не хуже. Но Канзас был первым, о котором узнали люди, и теперь они, точно овцы, следовали за другими. И начались беспорядки. Когда письма и предупреждения не подействовали, белые пустили в ход дубинки и ружья. Нед отправился по штату узнать, как живется переселенцам. Многие умерли от холода, писал он, другие голодают, а некоторые говорят, что лучше бы вернуться на Юг. Но большинство собиралось отправиться дальше на запад или на север. Только одно меня обрадовало в этом письме: Нед нашел работу у хороших белых людей. Они видели, как его заботит судьба других черных, и считали, он сможет сделать для них гораздо больше, если будет учиться. Он объяснил им, что и сам так думает, но его долг — помогать мне. С самого начала он присылал мне в каждом письме три-четыре доллара. Когда я получила первые деньги, то я тут же написала, что они мне не нужны, у меня все хорошо. Если сейчас не нужны, то откладывай их на черный день, ответил он. А о том, что он хочет учиться, Нед написал мне, только когда получил от меня письмо, что мы с Джо Питтманом поженились. На самом-то деле мы не поженились, а просто жили вместе. Неду это бы не понравилось. Ну а как я написала ему про себя и Джо, он и написал, что хочет учиться.
В Канзасе Нед днем работал на ферме, а вечером садился на лошадь и ехал в школу. И так не то пять, не то шесть лет. А когда кончил школу, ему там дали место учителя. Нед жил в Канзасе, пока не началась война на Кубе, и тогда он пошел в армию. После войны он вернулся сюда. Хотел быть учителем у себя дома.
Новый дом
Джо Питтман нашел место объездчика лошадей неподалеку от границы Луизианы и Техаса. Джо хорошо умел объезжать лошадей и клеймить скот — выучился он этому на плантации полковника Дея, но теперь решил уехать оттуда куда-нибудь, где жизнь будет лучше. Мы с ним все обсудили, и он пошел к полковнику Дею сказать, что хочет уехать. Полковник Дей был уже совсем старый, весь в морщинах, но нрав сохранил крутой, а в уме начал мешаться. Раз в год он надевал свой конфедератский мундир и отправлялся верхом в Александрию. Возвращался через два-три дня и словно бы еще больше повредившись в уме. Иногда он приказывал созвать всех к большому дому, только чтоб поглядеть на нас. Посмотрит-посмотрит, да и скажет, чтобы мы шли назад. А то как-то он потребовал нас к себе, а пока мы собирались, позабыл, зачем звал.
— Что вы тут торчите? — спрашивает.
— Вы, папа, сами велели их позвать, — говорит один из его сыновей.
— Ну а теперь пусть идут назад, — говорит. — Убирайтесь отсюда. Идите работайте.
Когда Джо пришел к нему и сказал, что хочет уехать, полковник Дей спросил:
— А почему? Я с тобой плохо обращаюсь?
Джо ответил, что дело не в этом, с ним здесь обращались очень хорошо, но он хочет уехать и стать издольщиком. (Он побоялся сказать старику, что хочет по-прежнему объезжать лошадей, да только за более высокую плату, а потому выдумал, будто собирается стать издольщиком). Полковник Дей пообещал прибавить пять долларов на семью, если он останется. Джо покачал головой: нет, он хочет уехать и стать издольщиком.
— Послушай, Джо, — сказал полковник, — я выделю тебе участок хорошей земли у речки, работай, как тебе вздумается.
Полковник Дей в первый раз предложил кому-то кусок своей земли. До этого он клялся, что никогда этого не будет. Потому-то Джо и заговорил об издольщине. Потом Джо рассказывал, что старый полковник глядел на него так, будто теряет лучшего друга.
— Ты хороший работник, Джо, и я никому, кроме тебя, свой скот поручить не могу. Мои сыновья совсем обленились и ничего делать не желают, а среди здешних негров ни один корову от свиньи не отличит.
Джо покачал головой — нет, он хочет перебраться куда-нибудь и стать издольщиком.
Тогда полковник разъярился. То вел себя так, будто лучшего друга теряет, а то просто кипел от злости.
— Ну хорошо, хочешь стать издольщиком, уходи и становись издольщиком, — говорит.
Джо поблагодарил и уже повернулся, чтобы уйти, а полковник и говорит:
— Постой-ка, не торопись.
Джо остановился и посмотрел на него.
— А ты ничего не забыл? — спрашивает.
— О чем, сэр? — говорит Джо.
— О ста пятидесяти долларах?
— Какие сто пятьдесят долларов? — удивился Джо.
— А те сто пятьдесят долларов, которые тебя выручили, когда ты попался куклуксклановцам, — говорит полковник. — Ты что, уже забыл?
Джо Питтман после войны и правда немножко занимался политикой. В округе все про это знали. Ну и ку-клукс-клан точил на него зубы. Полковник тогда за него заступился, но ни про какие деньги разговора не было.
— Я не знал, что вы им заплатили, — говорит Джо.
— Куклуксклановцы негра не отпустят только потому, что их об этом попросили, — говорит полковник. — Так вот, ты вернешь мне сто пятьдесят долларов и не торчи тут больше.
Джо пошел домой и рассказал мне, что произошло. Мы просидели всю ночь, раздумывали, как быть дальше. Джо стоял на своем, что он отсюда уйдет, но прежде надо было отдать полковнику деньги. Он знал, что ничего полковнику не должен, но как это доказать? Бюро-то свободы давно уж не было.
Мы не ложились всю ночь. Наконец решили, что Джо попробует занять денег у нового хозяина, к которому собирается перейти. Утром, еще до восхода солнца, Джо взял сверток с едой и ушел. А пройти ему надо было сто миль. Полковнику Дею сказали, что Джо нигде нет. Полковник сам явился в поле и спрашивает у меня, где Джо.
— Ушел искать деньги для вас, — отвечаю.
Полковник сперва разбушевался и все говорил, как он с Джо разделается, дайте только ему вернуться. А потом вдруг давай хохотать. Откуда негру взять полторы сотни долларов? Поехал назад, а сам все смеется.
Недели через две Джо вернулся. Туда шел пешком почти до самого Техаса, а назад верхом приехал. Лошадь он оставил в болоте, опасался, как бы полковник Дей не обвинил его в краже. Потом он пошел к большому дому и постучал. Полковник Дей вышел к задней двери, что-то дожевывая. Он как раз из-за стола встал.
— Где ты был? — спрашивает. — Ты что, не знаешь, мулы стоят голодные? Может, мне выйти во двор с палкой?
Джо протянул ему деньги. Полковник Дей вначале не хотел их брать, будто это были конфедератские деньги. Потом взял и поглядел на них. Потом поглядел на Джо и опять на деньги. А потом утер рот ладонью и пересчитал деньги.
— Все сполна. Кроме процентов, — говорит. — За время между взятием в долг и возвращением это составит еще тридцать долларов. Понятно?
Джо вернулся домой и сказал мне, что должен полковнику Дею еще деньги. Деньги, которые присылал Нед, я не тратила и еще откладывала понемножку из заработка, так что у меня было двадцать пять долларов. Не хватало пяти долларов. А потому мы пошли в поселок продать ту мебель, какая у нас была. За все мы выручили, помнится, полтора доллара. У Джо был старый дробовик, и он его продал за доллар. Мы и одежду хотели продать, да только на нее покупателей не нашлось. У нас был поросенок. Мы собирались взять его с собой. Но нам нужны были два доллара. Джо сунул поросенка в мешок и опять пошел по поселку. Поросенка он продал и отнес деньги полковнику Дею. Полковник стоял на заднем крыльце и считал деньги. А когда проверил, что все верно, вошел в дом и хотел было закрыть дверь, но увидел, что Джо все еще стоит во дворе.
— Ну? — спрашивает.
— Мистер Клайд велел обязательно принести расписку, — говорит Джо. — Сказал, что не хочет тащиться на Юг за клочком бумаги.
Полковник Дей ушел в дом и написал, что получил сто пятьдесят долларов. А о лишних тридцати и словом не упомянул. Вышел на заднее крыльцо и бросил бумагу на землю.
— И чтоб к закату духу твоего здесь не было! — говорит.
Джо пришел домой и велел мне с девочками собираться. Девочек звали Элла и Клара. Элла — старшая, а Клара — младшая и похожа на Джо как две капли воды. Мы сложили все, что собирались взять с собой, и Джо повел нас в болото. Элла и Клара сели на лошадь, взяли узел с вещами, а мы с Джо пошли впереди. Я спросила Джо, как это он так легко раздобыл деньги, а он отвечает, что совсем не легко. Сначала знакомые негры за него поручились, а потом он должен был показать мистеру Клайду, какой он объездчик. Клайд выбрал самую дикую из своих лошадей. Джо с ней справиться сумел, но до того измучился, что в лежку лежал, прежде чем собрался с силами для обратного пути.
До нового места мы добирались почти десять дней. Шли все время болотами — боялись, как бы тайные группы не выследили нас и не разделались с нами за то, что мы ушли от полковника Дея. Еда у нас кончилась через четыре дня, а потом мы ели, что случалось найти. Кукурузу, картошку. Иногда Джо удавалось подбить опоссума или поймать рыбу, если мы шли вблизи речки. Мы ели все, что могли найти. Мы встречали людей — и черных и белых, — они видели, что мы куда-то переселяемся, но не хотели нам помочь.
К Клайду мы пришли под вечер, часов в пять. Он с работниками забивал свиней, и, когда мы подошли, они стояли во дворе и разговаривали. Клайд велел Джо идти с нами на кухню и сказать там женщинам, чтобы нас накормили как следует. Я почувствовала запах жареной свинины, едва вошла во двор. Женщины делали студень из свиных голов и кровяную колбасу. Нам дали полную кастрюлю, и мы выбрали чистое местечко и устроились прямо на земле. Наелись так, что встать было трудно, а потом пошли назад вокруг дома. Мистер Клайд сказал Джо, что до понедельника он ему не понадобится, а потому Джо пошел с нами в отведенную нам хижину. Она была немногим больше прежней, но ведь мы начинали новую жизнь, и нам все казалось лучше. Девочки легли спать, а мы с Джо еще долго сидели у очага и разговаривали. От гордости, что мы все-таки переселились, и от радости, что нас так хорошо накормили, едва мы добрались сюда, мы все время улыбались — чуть поглядим друг на друга и заулыбаемся. Ноги болели, спина ныла, а мы улыбались, точно молодые влюбленные. И старались даже не смотреть друг на друга. Я гляжу на очаг, а Джо на дверь. Потом Джо на очаг, а я на дверь. А когда не находили, на что больше смотреть, опять взглянем друг на друга и улыбнемся. Нет, мы не обнимались, не похлопывали друг дружку по колену, а просто сидели и улыбались.
Молли
Мы пришли туда в пятницу, а в субботу мне сказали, что я буду работать в большом доме. В господском доме я прислуживала, только когда еще было рабство, но я работаю, где меня поставят. Одного я не могла понять: почему меня взяли сразу же, едва я туда попала? А раньше как же? Неужели никого не нашлось? Многим ведь нравится быть прислугой. Они чувствуют себя очень важными. Домашние негры всегда считали себя выше тех, кто работал в полях. Я спросила Джо, не знает ли он, почему меня берут в дом. Он сказал, что сам этого не понимает.
В понедельник я встала вместе с Джо еще до рассвета. Джо поел и ушел, а я пошла к большому дому. Было еще совсем темно, но я не знала, какую работу мне дадут, и вышла пораньше. В то время кухни часто строили в стороне от дома. Ну, я и пошла к кухне и села на бочку у двери.
Сижу я, сижу — наверное, больше часа я там сидела. Когда солнце уже вставало, я увидела, что через двор ко мне идет женщина — высокая, грузная, с коричневой кожей. Ночью выпала сильная роса, и ноги у нее были мокрые и блестели. Она подошла к кухне и поглядела на меня.
— Ну? — говорит.
— Меня зовут Джейн Питтман.
— Я тебя про это не спрашиваю. Чего тебе тут надо?
— Я тут работаю, — говорю.
— Нет уж! — говорит. — Я не желаю, чтоб за мной подглядывали.
— Подглядывали? — говорю.
— Убирайся с дороги, пока я не огрела тебя как следует, — кричит.
И даже встать мне не дала, а так ударила по голове, что я упала. Но я отряхнула платье и вошла на кухню следом за ней. Она растапливала плиту. А потом обернулась и поглядела на меня.
— Ты что, глухая?
Я собиралась ей сказать, что вовсе не хотела тут работать, что мне лучше в поле, но она схватила меня и вышвырнула за дверь. Я упала плашмя на землю и вымазала руки в птичьем помете. Я их обтерла о траву и опять вошла в кухню. Молли что-то пела. Она даже не замолчала, а просто ухватила меня и опять выбросила за дверь. Пока я летела по воздуху, то надеялась: вдруг упаду на чистое место. Куда там! Могла бы так же надеяться, что вообще на землю не упаду.
Я вытерла руки, отряхнула платье и вернулась обратно. На этот раз Молли только посмотрела на меня и отошла к плите. А я схватила метлу и начала подметать. Она вырвала у меня метлу и швырнула ее в угол. После этого я держалась в стороне, но запоминала все, что она делала. Кончив готовить, она понесла завтрак в дом. Я стала ждать, когда она вернется. Но ее все не было, и я тоже пошла в дом. Белые сидели за столом и завтракали. Тут в столовую вошла еще одна белая дама. Это была мисс Клэр, дочь мистера Клайда.
— Ты, должно быть, Джейн? — спросила она.
— Да, мэм.
— Ты будешь присматривать за детьми, Джейн.
— И совсем это не для чего! — говорит Молли. — Я могу и стряпать, и за детьми смотреть.
Мисс Клэр ничего не ответила. Она смотрела на мое лицо и лоб.
— Ты ударилась? — спросила она.
Я потрогала лоб и нащупала большую шишку. Мисс Клэр все смотрела на мое лицо. Она была настоящая леди и не хотела мне говорить, что у меня к щеке прилип куриный помет. Я заметила, что у нее губы шевельнулись, но только она ничего не сказала. Потом она сморщила нос, будто почувствовала какой-то запах. И все время глядела мне в глаза, чтобы я сама догадалась.
Но тут один из малышей за столом поглядел на меня и показал пальцем.
— Какашка, — сказал он.
Тут все посмотрели на меня и давай смеяться. Я потрогала щеку, на которую они глядели. Да, правда прилипло.
Молли не хотела, чтобы в доме была другая прислуга, кроме нее, — боялась, вдруг ее место займут. Она жила в семье Клайдов с молодых лет. Была и кухаркой и нянькой. Но теперь ей перевалило за шестьдесят, и хозяева решили, что она стареет и одной ей справляться трудно. А Молли не хотела, чтобы ей взяли помощницу — взять-то возьмут, да на ее место! Она всегда все делала по-своему и никому не собиралась уступать свое место. Хозяева пытались втолковать ей, что ее место так при ней и останется.
— Мы тебя любим, вот почему и хотим, чтобы тебе было легче, — уговаривали они ее.
Но Молли все понимала по-своему, и всех, кого брали в дом, она заставляла за это расплачиваться. Она высыплет золу на пол и клянется, что это ты чуть было весь дом не сожгла. Заплачет ребенок — она клянется, что ты ему больно сделала. Если надо было растопить плиту или постелить постель, она обязательно к чему-нибудь да придерется. На все шла, лишь бы от тебя избавиться. А добьется своего, и никак одна с работой справиться не может.
Молли и от меня попыталась отделаться, как от всех остальных. Она так наговаривала на новую прислугу, что хозяевам волей-неволей приходилось ее прогонять. А если они убеждались, что Молли все придумала, и оставляли служанку, Молли так ее изводила, что она сама уходила. Когда со мной у нее ничего не получилось, она пошла к хозяевам и расплакалась. Она уходит, потому что ее здесь больше не любят. Она выкормила мисс Клэр, а теперь мисс Клэр первая готова выгнать ее на улицу. Они говорили Молли, что это неправда, что они хотят, чтобы она осталась, чтобы жила у них до конца своих дней. Но Молли сказала, что она им не нужна — им нужна я.
Потом она объявила, что уходит. Они сказали, что и думать об этом не хотят — как же она уйдет, если прожила в семье почти всю жизнь. Но она сказала: "Она или я, кто-то из нас должен уйти". Мисс Клэр сказала, что не отпустит меня, но не хочет, чтобы и Молли уходила. Она сказала мне, что очень любит Молли и хочет, чтобы Молли доживала свои дни в их семье. Но Молли говорила одно: "Она или я, одна из нас должна уйти". Я попросила отпустить меня работать в поле, но хозяева не согласились.
Молли уехала в Дериттер и нанялась там ухаживать за какой-то старой дамой. После того как Молли уехала, мисс Клэр, по-моему, целых полгода каждый день из-за нее плакала. Каждую неделю она ездила в Дериттер повидаться с Молли. А если мисс Клэр не поедет, так Молли приедет. Они сидели в гостиной и без конца разговаривали. Иногда Молли оставалась на ночь и уезжала только на другой день. Я пошла к мисс Клэр и сказала, что ухожу. А она говорит, что тогда ей придется подыскать кого-нибудь другого. Я говорю: мне все равно, что она сделает, а я уйду. Я пошла домой и рассказала Джо, а он сказал, что погонит меня туда палкой, если я не вернусь сама.
Молли умерла лет через пять после этого. Доктор сказал, что от старости, но умерла-то она от горя. Они привезли ее тело и похоронили на семейном участке. Об одном я всегда жалею: что мы с Молли не подружились. Может, в том мире мы опять встретимся, и тогда я скажу ей, что никогда не замышляла против нее зла. Я думаю, там она меня поймет лучше, чем здесь, на земле.
Доллар на двоих
Я прожила в том месте лет десять. Все это время я была прислугой, а Джо объезжал лошадей. Обычно лошадей пригоняли из Техаса. Граница между Луизианой и Техасом была совсем рядом, и они покупали лошадей в Техасе, объезжали их, а потом продавали и отправляли на пароходе вниз по реке Сабин. Джо был главным объездчиком. Его так и называли — "главный объездчик Питтман". Он объезжал таких лошадей, на которых никто другой сесть не решался. Со всей округи собирались люди посмотреть. Бились об заклад, как на родео. Клайд зарабатывал на этих родео не меньше, чем на продаже лошадей.
А я до смерти боялась тех дней, когда они уезжали в Техас за лошадьми. Так и чудилось, что вот кто-то придет и скажет, что Джо погиб. Или привезут его домой всего искалеченного. Я уже видела такое. Одного парня лошадь сбросила на изгородь. Так он неделю криком кричал, а потом умер. И всякий раз, когда Джо уезжал, я вспоминала про этого парня. Но, когда я рассказала Джо, как я мучусь, он ответил только:
— А что я еще умею делать? Надо же зарабатывать на жизнь. Может, мне господь назначил объезжать лошадей.
— А может, и не назначил, — говорю.
— Ну, пока он сюда не сошел и не назначил мне чего другого, я так и буду, видно, лошадей объезжать.
Мы вдвоем зарабатывали доллар в день. За жилье и еду мы не платили, а потому почти весь заработок откладывали. За три года вернули хозяину долг — сто пятьдесят долларов. Еще года через два столько накопили, что я подумала, а не уйти ли нам и не обзавестись ли своим домом. Но Джо сказал, что это не так просто. Он тут человек нужный и не может просто взять и уйти. Да и что он будет делать? Землю пахать? Это ему ни к чему. Нет, он хочет объезжать лошадей. Тут с ним никто не потягается, и он это дело любит.
Когда я поняла, что Джо никуда уходить не хочет, мне начала сниться его смерть. То одна, то другая, то еще какая-нибудь. То лошадь его на изгородь сбросит, то о дерево ударит, то протащит по болоту. Мне все смерти снились, какими только может умереть ковбой. А потом начал повторяться один и тот же сон — как лошадь сбрасывает его на изгородь. Когда я рассказала ему про это, он сказал:
— Вот что, мамочка, человек рождается, чтобы умереть, верно? Родился — значит подписал такой вот контракт: "Настоящим обязуюсь помереть, когда мне выйдет срок". А пока он на этом свете только одно может: делать что-нибудь, и делать это хорошо. Я вот лучше всего умею объезжать лошадей. Может, фермер я был бы еще лучше, да только ты сама знаешь, черный не может вот так просто завести свою ферму. Уж какой-нибудь белый да обязательно будет над ним командовать. А когда я лошадь объезжаю, надо мной никого нет. Потому меня главным и называют. Может, однажды найдется такая, что меня прикончит, может, я состарюсь и сам должен буду бросить это дело. А может, явится какой-нибудь ловкий паренек и станет главным, и уж не я буду объезжать самых норовистых коней. Но до тех пор я буду делать свое дело. Для того мы и живем, чтобы делать свое дело как можно лучше. Когда придет час лечь в черную яму, пусть люди скажут: "Он делал свое дело так хорошо, как только мог". Лучше про человека не скажешь. Лошадей он объезжал или двор мел, люди пусть скажут, что бедняга делал свое дело так хорошо, как только мог.
Всякий раз, когда Джо уезжал, мне казалось, будто я вижу его в последний раз. А через месяц-другой они возвращались с новым табуном. Самые это были хорошие дни, когда объездчики возвращались. Все радовались — и белые, и черные. Лошадей на несколько дней запирали в загоне. А объезжать их начинали уже потом, когда люди отдохнут и вся округа узнает, что пригнали новых лошадей. Загон был между большим домом и поселком, и я со двора или из окна видела, как они скачут.
Случилось это спустя семь или восемь лет. День, когда пригнали табун, был очень холодный. Это было в понедельник в феврале, и даже вода замерзла. Когда они возвращались, а особенно если с хорошим табуном, на кухне у большого дома устраивали праздничный обед. В тот день мы с Джо пошли туда позже других. Когда мы поравнялись с загоном, гляжу, вдоль изгороди бежит черный жеребец, ржет и головой мотает. У меня ноги подкосились. Тот самый жеребец, которого я все во сне вижу! Я сказала об этом Джо, а он только посмеялся.
Когда мы пришли, все уже были в сборе. Джо сел за стол, а я стала подавать ему еду. Женщины в такие дни не садились за стол вместе с мужчинами, а только прислуживали мужьям. На кухню пришел Клайд, выпил со всеми, но за стол не сел. Джо рассказал ему, что я сказала про черного жеребца, и все давай хохотать.
— Ну, если Джо на него не сядет, придется мне, — говорит Клайд.
А они еще пуще хохочут. У Джо даже слезы из глаз потекли. Он ведь был главный. Кто же сядет на лошадь, если от нее сам главный отказался?
Когда мы возвращались домой, жеребец услышал нас или почуял запах Джо и опять пробежал у изгороди. Другие лошади на нас и внимания не обратили. Только он. Высокий, гладкий, черный, бегает и бегает у изгороди. Мы остановились и долго смотрели на него. Мне он хуже дьявола показался, а Джо стоял и улыбался. А потом сказал, что этот жеребец доставил им больше хлопот, чем все остальные лошади вместе. Он таких сильных и быстрых еще не видел. Гнали его целые дни, а он не уставал. Перемахнул через ручей, от которого любая другая лошадь шарахнулась бы. Они за ним неделю гнались, и кое-кто уже поговаривал, что это не лошадь, а призрак. А то и оборотень. Но Клайд сказал: ни то, ни другое, это конь и им придется поймать его и пригнать домой. Целую неделю они день и ночь шли по его следу. То они его там увидят, то тут, иногда совсем близко, а иногда очень далеко.
Но в горах они его заарканили. Джо сказал, что потом на них всех напала тоска, потому что погоня кончилась, потому что теперь его надо было объезжать, как всякую другую лошадь.
Все время, пока мы стояли там и смотрели, жеребец метался вдоль изгороди. Потом мы ушли, но я оглянулась, а он стоит там — высокий, гладкий, весь черный.
Я сказала, что меня от него дрожь берет. А Джо ответил, что я просто замерзла.
Мужской характер
В ту ночь я спать не могла, все думала про этого жеребца. Закрою глаза и вижу, как он стоял тогда в загоне. А если сразу их не открою, то вижу, как он сбрасывает Джо на изгородь. Ковбою упасть не позор, но мне-то этот жеребец снился еще до того, как я его увидела наяву, вот я и мучилась.
На другой день я притворилась, будто заболела, и попросила отпустить меня к доктору. Джо хотел сам отвезти меня в город, но я ответила, что мне не настолько уж плохо. Ну так возьми с собой Эллу, говорит, но я сказала, что поеду одна. Ведь ехала-то я не к доктору, а к ворожее. Вообще-то я в ворожбу и колдовство не верила, но мне не с кем было посоветоваться, а надо было узнать, вижу я этот же сон потому, что хочу, чтобы Джо перестал объезжать лошадей, или потому, что это должно случиться?
Ворожея жила в узком переулке, который назывался Детти-стрит, а городок назывался Грейди. Во дворе у нее было полно розовых и других кустов, только они не цвели, потому что время было зимнее. Вокруг каждого куста торчали бутылки, воткнутые в землю горлышком, и по обеим сторонам дорожки от ворот к дому тоже бутылки — двумя рядами. И всех цветов, какие бывают. В то утро она вымыла веранду и посыпала пол и ступеньки толченым кирпичом. Должно быть, она слышала, как я остановила фургон у ворот, потому что открыла дверь, едва я постучала. Высокая такая мулатка из Нового Орлеана. Так она говорила. А из Нового Орлеана уехала потому, что не выстояла против Мари Лаво. Тогда ведь Мари Лаво была первой ворожеей, и никто не смел с ней соперничать. Ни с матерью Мари Лаво, ни с дочерью Мари Лаво. Поговаривали даже, будто эти две Мари на самом деле одна и та же женщина. Чего только люди не придумают! Говорили, будто первая Мари вовсе не умерла, а под старость снова стала молодой. Ну, хотя я наслышалась, что в Мари Лаво большая была сила и она многим помогла, а другим повредила, да только на такое, по-моему, и ее силы не хватило бы.
А эту ворожею звали мадам Готье. Имя ее было Элоиза Готье, но только все ее называли мадам Готье. На ней было лиловое атласное платье, голова повязана золотым шарфом, а в ушах — серьги, какие носят креолки. Она сказала, чтоб я вошла. А когда услышала, что я приехала по особому делу, провела меня в другую комнату. Была зима, очень холодно было, и там топился камин, и по всем углам горели свечи, и еще семь — на камине. И перед маленькой статуей на столике у окна тоже горела свечка. На стенах висели изображения святых, обклеенные цветной бумагой. Она кивнула, чтоб я села. Потом подложила в камин еще одно полено и села напротив меня. Я было оробела перед ней, но тут у меня всякий страх прошел, потому что я сказала себе: "Значит, и она мерзнет, как и все обыкновенные люди".
Я рассказала, зачем приехала, она спросила, почему я во сне не помешала Джо сесть на этого жеребца. А я говорю:
— Если уж наяву я ничего сделать не могу, так во сне-то как же!
— А ты пробовала?
Я ответила, что пробовала, но только он меня не слышал. Всегда то пыль столбом стоит, то темно, то шум, то он где-то очень далеко, то еще что-нибудь.
— Погоди! — говорит. — Прежде ответь мне на один вопрос: сколько детей ты родила Джо Питтману?
— Я бесплодная, — говорю.
И рассказала ей, что доктор сказал.
— Ага! — говорит. — Рабство сделало тебя бесплодной. Но в том-то все и дело.
— Потому он и объезжает лошадей?
— Поэтому ты не можешь его остановить. А объезжает лошадей он, наверное, по многим причинам. Такой уж мужской характер. Им обязательно надо что-то доказывать. Изо дня в день доказывать, что они — мужчины. Дурачье.
— Джо мне хороший муж.
— Конечно, хороший, дорогая моя. Но всякий мужчина глуп. И все время доказывает, как он глуп. Одни охотятся на львов, другие бегают за женщинами, третьи объезжают диких лошадей.
— Этот жеребец убьет его? — спросила я.
— Mon sha[7], — говорит она.
Я смотрю на нее и жду.
— Тебе нужен ответ? — спрашивает.
— Только хороший.
— Ответ только один, — говорит.
Я долго смотрела ей в лицо, чтобы угадать, какой это ответ, но так ничего и не поняла. В комнате было тихо-тихо. Так тихо, что было почти слышно, как горят свечи. Не совсем, почти слышно. Вдруг в камине рассыпалось полено, и я даже подскочила. Теперь я боялась ответа и пожалела, что приехала к ней.
— Если хочешь — уходи, — сказала она.
— Я хочу знать.
— А ты храбрая, дорогая моя?
— Значит, он его убьет?
— Я этого не сказала.
— Но ведь ответ должен быть таким?
— Oui[8], — ответила она.
— И ошибки быть не может?
— Я никогда не ошибаюсь. Ведь я мадам Элоиза Готье из Нового Орлеана. Потому она меня оттуда и выгнала.
— И ничем нельзя помешать?
— Смерти помешать нельзя, mon sha. Смерть неизбежна. Черная лошадь. Молния. Выстрел. И еще грипп.
— Грипп? — спросила я. — Какой такой грипп?
— Грипп — это грипп, — сказала она. — Он сам по себе.
— Я могу убить эту лошадь?
— Можешь ты убить смерть? — сказала мадам Готье. — Твой Питтман встанет между тобой и смертью.
— А когда это случится? — спросила я.
— Mon sha, ты ведь и так знаешь слишком много.
— Нет, — ответила я.
— Когда он упадет три раза, — сказала она.
— Он упадет три раза? Откуда вы это знаете?
— Я — мадам Элоиза Готье из Нового Орлеана.
— А если он не встанет после первого раза?
— Он встанет. Чтобы главный — и не встал? Он встанет. Даже если ему суждено упасть девяносто раз. Он же главный? Значит, должен встать.
— А вы мне ничего не дадите, чтоб подмешать ему в еду? — спросила я. У стены стоял стеклянный шкафчик со всякими банками и склянками. — Порошок или еще что-нибудь, чтоб он приболел, — говорю. — Больной-то он дома останется.
— И долго ты его будешь держать больным?
— Пока кто-нибудь другой не укротит этого жеребца, — говорю.
— Mon sha, mon sha, mon sha, mon sha, — говорит она. — Я же сказала тебе, что не в жеребце дело. Если не жеребец, так лев, если не лев, так женщина, не женщина, так война, политика, виски. Мужчина всегда ищет случая доказать, что он — мужчина. Он не знает, что все уже внутри его.
— Значит, он хочет умереть? — спросила я. — Потому что я не могу родить ему сына?
— Нет, он хочет жить, — сказала она. — И дело не только в том, что ты бесплодна. Причин много. Много. Много. Но все это здесь, mon sha. — И она дотронулась до своей груди.
— Но разве он не знает, что эта лошадь может его убить?
— Нет, этого он не знает. И не поверил бы, кто бы ему это ни сказал. Он верит, что лошади созданы для того, чтоб их объезжать. Все лошади созданы для того, чтобы их объезжали, это верно, но не каждому человеку дано справиться с каждой лошадью. И эту лошадь твой Питтман не одолеет. Твой Питтман постарел и растолстел. И он уже не тот человек, каким себя считает.
— Он здоров, — говорю.
— Ах, mon sha, — говорит она.
— Я это знаю. И можете любого спросить.
— Мы говорим о лошадях и о том, как их объезжают, mon sha, — сказала она. — С этой лошадью твой Питтман не справится. Это придется сделать другому. И если тот останется верен себе, найдется и на него лошадь. А нет, так его погубит что-то еще. Может быть, грипп.
— Опять грипп, — говорю.
— И грипп тоже. Mon sha, человек рожден для смерти. С минуты рождения он бежит наперегонки со смертью. Но человек никогда не побеждает и даже вровень добежать не может. А потому остается одно: как можно лучше использовать короткий срок, данный нам богом. Почти все мужчины стремятся эти краткие годы потратить на то, чтобы доказывать, что они — мужчины. И выбирают самые глупые способы.
— Джо говорил, что был бы рад стать фермером, если бы белые оставили его в покое.
— Знаю, mon sha, знаю, — сказала она. — С тебя доллар, если не возражаешь.
— Мне бы еще какой-нибудь порошок, — сказала я. — Не очень сильный, только чтоб не допустить его к этой лошади.
— Тогда доллар с четвертью, — сказала она.
Пока я разворачивала носовой платок с деньгами, она подошла к шкафчику. Я увидел, что она достала склянку и отсыпала порошку на бумажку. Посмотрела, сколько насыпалось, и добавила еще.
— Когда объезжают лошадей? — спросила она.
— По субботам.
— Рано или поздно?
— Поздно. Когда все собираются.
— Утром в субботу, как только пропоет петух, встань и рассыпь немного порошка по полу, чтобы Питтман прошел по нему, — говорит. — Лучше с его стороны кровати, где он спит. Пока петух еще не кончил петь, пойди к загону и еще немножко рассыпь у ворот.
— И тогда он не сядет на этого коня?
— Нет, дорогая моя, не сядет.
Я заплатила деньги и ушла. В платке у меня был порошок, и мне стало легче на душе. Весь день мне было хорошо. Ночь я не спала, но тоже потому, что мне было хорошо. Но на следующий день меня одолели сомнения. Откуда я знаю, что порошок подействует? Может, она дала его мне, только бы отвязаться? Она не выбирала склянку, а взяла первую попавшуюся. По правде говоря, мне хотелось, чтобы она насыпала из зеленого пузырька, а не из красного. Мне становилось все хуже. Джо спросил, здорова ли я.
— Конечно, здорова, — говорю. — Чего ты спрашиваешь?
— Просто так.
В большом доме мисс Клэр меня тоже об этом спросила:
— Что-нибудь случилось, Джейн?
— Устала немножко, — говорю.
— Иди-ка домой. Придешь завтра, — сказала мисс Клэр.
Это было в четверг. В ночь на пятницу я вовсе не сомкнула глаз. И утром мне было совсем скверно.
— Иди домой, Джейн, — сказала мисс Клэр.
Джо в тот день ушел на охоту, и я была дома одна. Стоило мне прилечь и закрыть глаза, как передо мной вставал этот черный дьявол в загоне. Спать мы легли рано, потому что завтра была суббота — день, когда объезжают лошадей. Джо устал на охоте и сразу заснул. Спали в своей кровати девочки. Только я лежала без сна. Наверно, одна во всем поселке.
Я знала, что в эту ночь мне все равно не заснуть, а потому встала и оделась. Я хотела посидеть у очага, но вдруг оказалась на улице. Холодно было очень и светло, как днем. Я не знала, зачем вышла на улицу. У меня ведь и в мыслях не было выходить. Но теперь, на улице, я поняла, что иду к загону.
Все остальные лошади жались друг к другу для тепла — все, кроме него. А он обходил загон, точно хозяин. Почуяв меня, он остановился и поднял голову. Я стояла и смотрела на него, прижимая руки к груди, потому что было холодно. Не помню, как я открыла ворота, — помню только, что я вошла в загон и хотела выгнать его оттуда.
Я махала руками, кричала: "Пошел, пошел!", а он никак не шел к воротам, пока не прибежал Джо. И тут они оба бросились к воротам. Жеребец на шаг опередил Джо и помчался через поле. Земля подмерзла, и стук его копыт был слышен за милю. Джо вбежал в загон, сшиб меня с ног, потом поднял и перекинул через изгородь. Я не сразу опомнилась, а когда поднялась на ноги, Джо уже вскочил на свою лошадь и погнался за жеребцом. Я закричала и побежала за ним.
— Оставь его! Оставь его, Джо! — кричу.
Из домиков выходили люди посмотреть, что случилось. А когда узнали, что жеребец вырвался из загона, они оседлали лошадей и поскакали следом. Я бежала за Джо до самого болота, а потом пошла домой и всю ночь сидела у очага, ждала, когда они вернутся.
Рано утром они вернулись с жеребцом и с Джо. Он был привязан к своей лошади. Они сказали, он нагнал жеребца и заарканил. Но лошадь у него была не оседлана, привязать лассо было не к чему, и жеребец сдернул Джо с лошади, а потом протащил по болоту. Когда Джо нашли, он лежал мертвый, запутавшись в веревке. А жеребец, все еще с веревкой на шее, пощипывал листья с куста.
Поминки по Джо Питтману справили в ту же ночь, а в воскресенье его похоронили. Объезжали лошадей в следующую субботу. Перед началом целую минуту звонил колокол по Джону Питтману. Мужчины сняли шляпы. Женщины склонили головы. А когда колокол перестал звонить, молодой парень, которого звали Гейбл, вскочил на жеребца. Жеребец тут же сбросил его, он опять вскочил ему на спину. Жеребец раз за разом сбрасывал Гейбла, но он опять на него вскакивал. И под конец жеребец уже не сумел его сбросить. Вскоре Гейбл и Элла поженились и уехали в Техас. Они взяли с собой Клару.
Вместе с Джо Питтманом схоронили и частицу меня самой. Ни один мужчина не мог его заменить. Вот почему я до сих пор ношу его имя. В моей жизни было еще двое-трое мужчин, но ни один не мог заменить Джо Питтмана. Я им это сразу говорила.
Года через два после гибели Джо Питтмана я познакомилась с Фелтоном Берксом. Он был рыбаком, и, когда их судно отправилось на реку Сент-Чарльз, я уехала с Фелтоном. Так я перебралась в эту часть Луизианы. С Фелтоном мы прожили около трех лет, а потом он взял да ушел. И ни слова мне не сказал. Я только тогда поняла, что он ушел насовсем, когда месяц миновал, а он так и не вернулся. Но это мне было все равно, потому что как раз тогда приехал Нед со своей семьей.
Учитель Дуглас
Нед мне писал и деньги присылал, но о том, что собирается вернуться, даже не упоминал. Да он и сам не знал, что приедет, пока не вернулся с войны на Кубе. Эта война закончилась в 1898 году. И на следующее лето он приехал. А через год, почти день в день, его застрелил Альбер Клюво. Альбер Клюво со своей шайкой патрулировал берег реки от Джонсвилла до Байонны, а Гюстав Морио и его компания — от Джонсвилла до Креол-Плейса. Они подряжались убивать людей, как другие подряжаются рубить лес.
В тот день я удила рыбу, и тут прибежал мальчонка и говорит, что у меня в доме какие-то люди. Я спросила, кто они такие. Он сказал, не знает, а приехали они в фургоне. Я смотала леску и поднялась на берег.
Я не видела Неда двадцать лет, но как увидела его на веранде, так сразу узнала. И вовсе не потому, что он был похож на себя прежнего. Как раз он стал совсем не таким, каким уехал тогда в Канзас. Теперь он был рослый, широкоплечий, с крепкой шеей. А я его узнала потому, что почувствовала — это он.
Нед с женой стояли на веранде и разговаривали. Обо мне — потому что все время смотрели на меня. Нед все еще был в своем военном мундире. Он и потом всегда его надевал, куда бы ни шел. И когда его убили, он тоже был в мундире. Его жена была в красном платье и желтой соломенной шляпе, а трое детей играли во дворе.
Уж не знаю, как я вошла во двор, потому что не помню, чтоб я открывала калитку. Помню только, что иду по дорожке и говорю:
— Это ты, Нед, это ты. Меня не обманешь. Это ты, Нед. Я знаю, это ты.
Я все время повторяла это и никак не могла остановиться. Твержу и твержу:
— Это ты, Нед, я знаю, это ты.
Он спустился мне навстречу, подхватил меня на руки и закружил. А в руках у меня удочка и ведро! Вот уж дети смеялись!
— Отпусти меня! — говорю. А сама смеюсь вместе с ними. — Да отпусти же!
Он тихонько опустил меня на землю, и, только голова у меня перестала кружиться, я попятилась чуть-чуть назад и опять поглядела на него. Он все равно был не похож на Неда, которого я знала. Даже когда улыбался, все равно он был другим. Но я знала, что это он, потому что всей душой чувствовала: это он! Мы поднялись на веранду, и я познакомилась с его женой. Ее звали Вивьен. Маленькая, очень спокойная женщина с коричневой кожей. Потом — с детьми: Джейн, Лорой и Ти-Мэном. Девочек назвали в честь меня и матери Неда. Мальчик, Ти-Мэн, был младший.
Мы вошли в дом. Нед протянул мне сверток и сказал, чтоб я сейчас же посмотрела. Я развязала ленточку, развернула бумагу и… вы уж точно никогда не видели такой красивой материи. Пестрая-препестрая. Полоски, квадратики, цветы, листья. А пока я любовалась материей, Нед открыл деревянный ящик и стал вынимать оттуда посуду, а сам рассказывал Вивьен, как он бегал занимать тарелку для учителя, потому что я не хотела, чтобы учитель ел из миски.
— Ты еще помнишь это? — спросила я.
— Так ведь мне же пришлось бегать по всему поселку за тарелкой. Неужели бы я забыл?
Я приготовила ужин, но с ними не села, а отошла в сторонку и опять смотрю на Неда. Нет, все-таки совсем не похож. Ушел мальчик, вернулся взрослый мужчина. У него даже волосы начали седеть. Но потом я поглядела на Ти-Мэна и вот тут увидела сходство. Такой же черный, как Нед, и зубы Неда, и улыбка, и волосы тоже все в крутых завитках. Смотрю на него и словно вижу Неда, когда он был такой же маленький.
Нед пил кофе и рассказывал, почему он вернулся на Юг. Он вернулся учить детей. У нас там, на реке, тогда еще не было школы. Ближайшая школа была в Байонне, но и в ту дети ходили не больше трех месяцев в году. Нед спросил меня, о чем тут говорят люди. Чему их учат проповедники в церквах. Учат ли они тому, чему учил мистер Букер Вашингтон, или тому, чему учил мистер Фредерик Дуглас? Будто я могла знать! Я только знала, что Букер Вашингтон и Фредерик Дуглас были великими людьми и вели за собой очень многих. А чему они учили, я понятия не имела. Мистер Букер Вашингтон, объяснил Нед, учит, что все цветные должны держаться друг друга и работать вместе, чтобы изменить к лучшему свою долю, и уж потом искать единения с белыми. А мистер Фредерик Дуглас учит, что работать вместе должны все люди. Нед всегда верил в учение мистера Дугласа, а после того, как повоевал на Кубе, поверил в него еще больше. Эта земля принадлежит ему, Неду, не меньше, чем белым. И сюда он приехал учить этому.
Я посмотрела на Неда, посмотрела на его жену, которая сидела опустив голову, на детей, которые ловили каждое его слово. Я была так счастлива, что вижу их всех! Они были мне родными, потому что Нед был мне как сын. Но его разговоры меня испугали.
На другой день рано утром Нед сел на лошадь и отправился объезжать наш приход. В первый день он побывал в Байонне, а на следующий — в Креол-Плейсе. Но люди его не слушали. И не потому, что не верили в то, о чем он говорил, а потому, что слишком много на их глазах убивали. И они знали, что за такие разговоры его убьют, а заодно и их, если они пойдут за ним. Проповедники тоже не захотели ему помочь. И сказали "нет", когда он попросил разрешения собирать учеников в церкви, пока не построит школу.
Нед купил дом у дороги и начал там по вечерам учить детей. И еще купил участок на берегу реки для постройки школы. Может быть, когда люди увидят, сколько он готов сделать сам, они присоединятся к нему.
Но белые уже начали следить за Недом. Они знали все о том, куда он ходит и что он делает.
Альбер Клюво
Альбер Клюво уже убил больше десятка людей — и черных и белых. Об этом знали все, да он и сам ничего не скрывал. Всем встречным-поперечным говорил:
— Да, да! Я убивал. Я их порядком поубивал на своем веку.
Он и мне это говорил. И не один раз!
Я теперь брала стирку, а в кухарках больше не служила. Завела лошадку по кличке Голубь и ездила на ней собирать белье. Привозила его домой и стирала во дворе. А воду брала из реки. Сколько угодно хорошей воды, только дорогу перейти. Выстираю, выглажу и снова на своего Голубя — развозить белье. Обстирывала я весь берег до самой Байонны. А вечером, как станет прохладнее, шла на берег удить рыбу. Летом и в теплые зимние дни я удила почти каждый день. Лишнюю рыбу раздавала другим. Но сама ее ела вдоволь. Она полезная — рыба. Рыба и работа. Тяжелая работа может убить, а простая, спокойная работа еще никого не убивала. От такой работы и хорошей рыбы еще никто не умер. Овощи тоже полезны. Рыба, овощи и спокойная, размеренная работа. Много ходить тоже полезно. Теперь люди больше не ходят пешком. А коли не ходишь, так и воды пьешь мало. Хорошая чистая вода и овощи всю тебя очищают.
Когда позволяла погода, я ходила удить рыбу почти каждый день. Переверну ведро кверху дном и сижу себе, пока не наступает пора возвращаться домой. Тогда я складывала улов в ведро и поднималась на берег. Альбер Клюво обычно закидывал свою удочку рядом со мной. Когда река мелела, он закатывал штанины и входил в воду поглубже в реку. Но чаще сидел на берегу и удил рядом со мной. Маленький такой, кривоногий кэджен. Лицо такое, будто его все шилом искололи. А слева на голове проплешина, и кожа там, где волосы были, совсем белая. Сидит рядом со мной и рассказывает о людях, которых убил. Я тогда еще не была христианкой, я приобщилась к церкви, только когда переехала в Семсон, но все-таки повторяла про себя: "Господи, господи, неужто ты его не поразишь? Ты же слышишь, как он говорит, что людей убивал, точно это змеи!"
И все-таки я сидела и слушала. Иногда он увязывался за мной, садился у меня на веранде и все рассказывал, все рассказывал. А то обойдет вокруг дома и сидит на заднем крыльце, пока рыбу на ужин жарю. Иной раз скажешь ему: "Мистер Альбер, наколите-ка мне дров!", он пойдет и наколет на целую неделю. А нужно мне что-нибудь из лавки, тут же сядет на мула и все привезет — мешок риса, муки, ну все, что надо. Когда поспевал ужин, он садился на заднем крыльце и ел. Потом мы пили кофе. Он любил кофе покрепче, сладкий-пресладкий и черный.
Иногда собьешь его с разговора об убийствах, и он немного поговорит о рыбной ловле или о видах на урожай. Ему бы только поговорить, а в этих местах все либо рыбной ловлей жили, либо в поле работали. Но потом все равно он на убийства переходил. Он не хвастался, но и не сожалел. Просто рассказывал, разговору ради. Вот если человек на лесопильне работает, так он и будет говорить о бревнах и досках, а не о сахарном тростнике. Ну а кто сахарный тростник грузит, тот, конечно, больше говорит о сахарном тростнике, чем о деревьях. Альбер Клюво столько людей поубивал, что ни о чем другом и говорить не мог.
Как-то сидели мы на берегу, и он вдруг сказал:
— О твоем парне разговоры идут, Джейн. Так я и подумал, что надо тебя предупредить.
В тот день мы удили на мелководье, и оба стояли в воде. Было жарко, и вода была очень теплая. Когда Альбер Клюво сказал это про Неда, у меня так заколотилось сердце, что я чуть не упала. Но крепко сжала удилище и постояла так, пока не пришла в себя. Потом смотала леску и пошла домой. Только в дом не вошла, а села на веранде. И минуты не просидела, а он уже идет. Прислонил удочку к перилам, а сам сел на ступеньки.
— Кофе-то будет, Джейн?
Я ничего Альберу Клюво не ответила — что можно сказать дураку? Я сидела и смотрела на реку. Скоро он позабыл про кофе и опять стал рассказывать о людях, которых убил. Он все говорил, говорил и ушел, когда солнце уже заходило. Вечером я села на Голубя и поехала к Неду. Нед жил на дороге ближе к Байонне. Как раз напротив места, где его похоронили. Подъезжаю и вижу, что во дворе полно лошадей и мулов. Дети со всей округи съехались учиться. Нед отвел одну комнату у себя под школу. Я сидела в гостиной с Вивьен и детьми, и мы слышали, как за стеной Нед разговаривает со своими учениками. Потом Вивьен уложила детей спать, и мы остались с ней вдвоем. Она была неразговорчивой, и мы просто сидели с ней, слушали Неда. В одиннадцать часов он кончил урок, но кое-кто из учеников остался до полуночи. Я просидела с Вивьен, пока последний из них не уехал, а тогда встала и пошла к Неду. Он сидел за столом, опустив голову на руки. Услышал меня и поднял голову — думал, что это Вивьен.
— Я не знал, что ты здесь, мама.
— Вот заехала.
Я приехала рассказать ему про то, что говорил Альбер Клюво, но я увидела, как он устал. И не смогла взвалить на него еще и эту ношу.
— Что-нибудь случилось? — спросил он.
— Да нет. Ничего. Я давно приехала, только не хотела тебе мешать.
— Я тебя провожу, — говорит он.
— Голубь дорогу знает, — говорю.
Он провел рукой по лицу. Я стояла и смотрела на него. Я все еще хотела рассказать ему про Альбера Клюво.
— День сегодня был длинный, — говорит Нед.
— Ну, я поеду, — говорю.
— Ты бы осталась у нас на ночь, — говорит.
— Нет, я поеду, — говорю.
Он вышел со мной и подвел Голубя к веранде, чтоб мне было удобнее влезть на него.
На следующее воскресенье Альбер Клюво пришел к моему дому и сел на ступеньках. Я дала ему кофе. Крепкого, сладкого-пресладкого черного кофе. Он долго его пил, а потом сказал:
— Там про твоего парня разговор был, Джейн. Они не хотят, чтоб он школу строил. Говорят, что он из тех, кто баламутит негров. Пусть, говорят, едет обратно. Туда, откуда приехал. Они не знают, что Альбер сказал тебе про это.
Через неделю грею я во дворе воду и вдруг вижу: Альбер Клюво слезает с мула. Он подошел ко мне, поговорил, а потом уставился в чан на кипящую воду.
— Они хотят, чтоб я его унял, Джейн, — говорит.
— То есть чтоб вы убили моего сына? — спрашиваю.
— Если прикажут, так я должен, Джейн.
— Поднимите голову, мистер Альбер, — говорю.
А он совсем ее опустил.
— Мистер Альбер! — говорю.
Он медленно поднял голову и поглядел на меня. Убийца он был и боялся меня. Я ничего не сказала. Я только глядела на Альбера Клюво. Лицо все в морщинах, заросло седой бородой. Водянистые, старческие голубые глаза. Пропахшая потом рваная фетровая шляпа. Такому старику сидеть бы да греться на солнышке, а он тут говорит про то, как убьет Неда.
— Говорите, мистер Альбер, — сказала я.
— Я им толковал, что мы с тобой рядом рыбу ловим. Толковал, что я ем в твоем доме. Толковал, какой ты варишь для Альбера хороший кофе по-креольски. Я говорю: "Джейн — хорошая негритянка, провалиться мне на этом месте". Я говорю: "Пусть его уймет Морио. А не Альбер. Альбер и Джейн вместе удят рыбу". А они говорят: "Альбер Клюво, тут ты патрулируешь. Морио патрулирует ниже по реке. Если мы говорим: Альбер, уйми этого черномазого, значит, Альбер, ты его уймешь. А если нет, Альбер…"
— Вы сможете убить моего сына? — спрашиваю.
— Я должен делать то, что они мне говорят.
— Вы сможете убить моего сына? — спрашиваю.
— Да, — сказал он.
Я посмотрела на Альбера Клюво, и вдруг голова у меня кругом пошла. Я шагнула к крыльцу, а потом чувствую, что лежу на земле. А издали кто-то говорит:
— Джейн, Джейн, что с тобой, Джейн?
Открыла я глаза и вижу прямо над собой мерзкую рожу Альбера Клюво. И мне почудилось, будто я в аду, а он — дьявол. Я закричала:
— Отойди от меня, дьявол! Отойди от меня, дьявол!
Но кричать-то я кричу, а ни звука не слышно. А издалека кто-то спрашивает:
— Ты что, заболела, Джейн? Ты заболела?
Я кричу-кричу, и опять ни звука. Хочу встать — и не могу.
— Уйди! — кричу. — Уйди от меня!
Тут я услышала свой голос. Значит, и он его услышал. Вижу, он выпрямился, и лицо у него странное, будто он не понимает, почему я на него кричу. Словно вот-вот спросит: "Джейн, чего это ты? Что я такого сказал?"
Я кое-как встала и пошла к дому.
— Может, за доктором сходить, Джейн? — сказал он. — А, Джейн?
Я вошла в дом и легла. А вечером я поехала к Неду. Про то, как я упала, говорить не стала, но остерегла, чтобы он опасался Альбера Клюво. А он сказал только:
— Я буду строить школу. И буду учить детей, пока меня не убьют.
Я пошла к Вивьен.
— Они же его убьют, если он здесь останется. Забрала бы ты детей назад в Канзас. Если ты уедешь, так и он за тобой уедет.
— Когда мы сюда ехали, он сказал мне, что его могут убить, — ответила она. — Но я все равно поехала с ним. И должна остаться здесь.
Проповедь у реки
За две недели до того, как Неда убили, он собрал нас всех у реки. Было воскресенье, небо чистое и синее-синее. Или нет: в вышине были облака, только совсем тонкие, как бумага. Иногда задувал легкий ветерок и шевелил листву ив над водой.
Когда я пришла на берег, народу там было уже много, но Нед еще не начал говорить. Он сидел на траве с Вивьен и детьми. Он увидел меня и позвал, чтобы я с ними села. Один из его учеников подал мне руку и помог спуститься. Там было не очень круто — я и не по таким откосам спускалась, но уж очень ему хотелось мне помочь, как тут откажешь? Под соломенной шляпой у меня был шарф. Я сняла его, расстелила на земле и села, а шляпой стала обмахиваться вместо веера. Нед был в мундире и очень серьезный. Я спросила, что случилось. Но он мне ничего не ответил. А Джейн, старшая дочь, сказала, что как они пришли к реке, так все время неподалеку белые околачиваются. И показал на двух человек, удивших с лодки. Они были так близко, что я их узнала. Братья Лекокс из Байонны. Они были рыбаками и плавали на своих лодках по Сент-Чарльз.
— Может, сегодня тебе не надо говорить? — спрашиваю я Неда.
— Они этого и добиваются, — отвечает он.
Когда все собрались, Нед встал и повернулся спиной к реке и к тем в лодке и велел нам опуститься на колени для молитвы. После молитвы он сказал, чтобы мы сели. Я поглядела вокруг. Почти все это были дети. А взрослые остались дома.
Всего, что говорил в тот день Нед, я не помню. Может, даже и половины не помню, но что-то я не забыла. Потому не забыла, что Нед в это всей душой верил, и еще из-за того, что эта его речь у реки приблизила его смерть.
— Это ваша земля, — сказал он. — Не позволяйте вон тем людям отнять ее у вас. Она ваша, ибо в ней покоится прах ваших предков. Она ваша, потому что пропитана их потом, их кровью. Белые пойдут на любой обман, чтобы отнять ее у вас. Будут пытаться любым путем одурачить вас. Будут натравливать вас друг на друга. Но запомните одно: в этой земле лежит прах ваших предков, и потому она ваша. Я не хочу сказать, будто вы владеете этой землей, — говорил он. — Человек лишь крохотная частица земли. Умирая, он возвращается в землю, как дерево, которое упало, как железо, которое заржавело. Вы не владеете этой землей, вы лишь недолго живете на ней, но, покуда вы здесь, не позволяйте никому утверждать, что лучшее принадлежит ему, а вам годятся остатки. Нет, это ваши отцы, ваши деды пахали эту землю, корчевали деревья, строили дороги и плотины. Они теперь покоятся в этой земле, их костями она удобрена.
Я слушала Неда, но смотрела на братьев Лекокс в лодке. Они делали вид, будто не слушают, но сами слушали. Как забросят удочку, так и поглядят в нашу сторону.
— Есть черные, — говорил Нед, — которые скажут вам, что нет ничего хуже белого человека, что он способен на любое преступление. Я хочу вам сказать, что, не будь некоторых белых, никого из нас, возможно, сегодня не было бы в живых. Меня, наверное, убьет белый. Я знаю, белые следят за мной.
Когда он сказал это, все посмотрели на людей в лодке.
— Смотрите на меня, а не на них, — сказал Нед и продолжил, только когда все повернулись к нему. — Но даже когда белый поднимает против меня ружье, топор или другое оружие, я не виню всех белых. Я виню невежество. Ибо именно невежество в первую очередь привело нас сюда. Невежество и черных, и белых. Ведь белые плавали за нами в Африку не с оружием. Они везли туда ром и бусы. А почему? Да потому, что мы уже ждали их, когда они приплывали туда на своих кораблях. Наши собственные, черные соплеменники запирали нас в загонах, как скот, чтобы продать в рабство. Они не объясняли белым, как обращаться с нами на корабле, это придумали сами белые. А наши соплеменники думали только о том, как нас продать. И продавали. Да, продавали. Мне очень хотелось бы сказать вам, что африканцы сражались и сражались с белыми, что между ними была война, война, война. Наши соплеменники воевали друг с другом, а белые покупали пленных за бочку рома и нитку бус. Я рассказываю вам об этом, чтобы вы поняли, что только единство сделает вас сильными. Белые никогда бы не привезли нас сюда, будь мы едины. Им не удалось бы расколоть сплоченный народ. Но небольшие разрозненные племена дрались друг с другом, а белым оставалось только выжидать.
Нед стоял на солнце, и по его лицу катился пот. Вивьен встала, чтобы утереть ему лицо, но он сказал, чтобы она села, чтобы не подходила к нему близко. Если из лодки будут стрелять, он не хочет, чтобы попали в нее.
— Я не знаю, сколько мне лет, — продолжал Нед. — Может, тридцать девять, а может сорок или сорок один. Но мне многое пришлось повидать, и я знаю, что я такой же американец, как другие, и даже больше американец, чем многие. А что такое американец? Я вам расскажу. Никаких американцев не было, пока здесь не появились мы. Первыми тут жили индейцы, но они себя никогда не называли американцами. Собственно, они и индейцами себя не называли, пока сюда не приплыл Колумб. А потом сюда приплыл Веспуччи и придумал все это.
Когда Нед сказал "Веспуччи", дети переглянулись и захихикали, а глядя на них, Нед тоже улыбнулся. Уж очень это было смешное имя — Веспуччи.
Когда дети стихли, Нед опять заговорил:
— С Колумбом на корабле был один черный, а краснокожих он назвал индейцами. К тому времени, когда сюда приплыл Веспуччи и назвал эту страну Америкой, здесь уже было много черных. Америка — это страна краснокожих, белых и черных. Краснокожие кочевали по этой земле задолго до нашего появления здесь. Черные обработали ее своими руками от одного океана до другого. Белые привезли сюда орудия труда и ружья. Америка существует для всех нас, вся Америка для всех нас. Я покинул эти места совсем молодым. В то время люди считали, что лучше всего отсюда уйти. Но теперь я говорю вам: не бегите, а боритесь. Боритесь и с белыми, и с черными за эту землю. Есть черные, которые зовут вернуться в Африку, другие зовут ехать в Канаду или во Францию. А теперь скажите мне, кому из вас хочется стать французом и говорить, как говорят они? Поднимите руку.
Дети рассмеялись. Нед для того и заговорил про французов.
— Будьте американцами, — сказал он детям. — Но прежде всего будьте людьми. Взгляните себе в душу и спросите: кто я такой? О чем еще, кроме этой черной кожи, думают белые, когда говорят "черномазый"? А вы знаете, что такое черномазый? — спросил он у нас. — Во-первых, черномазый чувствует себя ниже всех на свете. Белые так долго его били, что ему уже безразличен и он сам, и все другие. Он много болтает, но его слова ничего не значат. Он никогда не станет ни американцем, ни гражданином другой страны. Но между черномазым и черным американцем разница очень велика. У черного американца есть чувство ответственности, и он всегда будет бороться. Каждое утро, проснувшись, он надеется, что этот день будет лучше вчерашнего. А черномазый уверен в обратном. Это еще одно свойство черномазого: он думает, будто знает все. Да, все на свете. Но это только до поры, пока ему не встретится по-настоящему умный человек. Я говорю вам все это, так как хочу, чтобы мои дети стали людьми, — говорил нам Нед. — Я хочу, чтобы мои дети боролись. Боролись за все, а не за какой-то укромный уголок. Тот черный или белый, который учит вас прозябать в этом уголке, хочет, чтобы и ваш разум прозябал в уголке. Я строю школу, чтобы вы получили возможность вырваться из этого уголка.
Один мальчик поднял руку, и Нед велел ему встать. Мальчик сидел сзади, его почти не было слышно, и Нед сказал, чтобы он говорил громче и не оглядывался на лодку. Ведь если бы нам было что скрывать, мы бы не пришли сюда.
Мальчик спустился ближе к воде.
— Учитель Дуглас, вот вы все время говорите, чтобы мы не слушали мистера Вашингтона, но ведь мистер Вашингтон дает такие советы, чтобы спасти наш народ от истребления. Мистер Вашингтон вырос среди здешних белых, и он знает, что черного могут убить только за то, что он стоит на двух ногах. Может, на Севере этого еще не знают? И еще учитель Дуглас. Ведь мистер Вашингтон советует учиться ремеслу, потому что это поможет нашей стране идти вперед.
Мальчик стоял, опустив руки, пока Нед не сказал, чтобы он сел. Мальчик быстро сел на землю, но по-прежнему не спускал глаз с Неда. Меня охватила гордость. Как хорошо Нед их выучил! Нед улыбнулся и кивнул. Он тоже был горд, что его ученик задал такой вопрос. Он все время находил, что сказать о мистере Вашингтоне, и теперь ему представился случай еще кое-что добавить.
— Я согласен с мистером Вашингтоном в том, что он говорит о ремесле, — начал Нед. — Но ремесло — это еще не все. Мне хотелось бы, чтобы кто-то из моих детей стал адвокатом. Другие — священниками, третьи научились писать книги или представляли бы свой народ в законодательных собраниях. Да, ремесло — это еще не все. Если вы будете работать только руками, а белые — писать законы, ваша жизнь не станет лучше. И второе, о чем он говорил: не навязывайте себя белым, и они вас не тронут. Так вот, я хотел бы рассказать вам небольшую историю. Мою мать убили белые не потому, что она хотела жить с ними рядом. Нет, она решила покинуть Юг, как только узнала об освобождении. Ей и моей сестренке раскроили голову дубинками. В тот день они убили и других, — продолжал Нед, — а потом было еще несметное множество убитых. Согласен, что многих из них убили за то, что они стояли на двух ногах. Но если вы должны умереть, что лучше — умереть, говоря себе: "Я человек", или умереть, говоря: "Я всем довольный раб"? Возможно, мистер Вашингтон искал средство спасти нас от истребления, но с тех пор, как он дал этот совет, а дал он его пять с лишним лет назад, было линчевано более тысячи человек. И только за то, что у них черная кожа.
Нед вытащил платок, вытер лицо, тщательно сложил платок и убрал в карман.
— Может быть, придет день, когда белые потребуют, чтобы вы покинули эту страну под страхом смерти, — продолжал он. — Говорят, это может случиться. Так вот что, воины: белые не знают, сколько нас здесь. Ведь мы для них все на одно лицо. Насчитают десяток, устанут и еще пятерых не заметят. В этом наше преимущество. А сделать нужно будет вот что. Возможно, меня с вами не будет. И я надеюсь, что этого не произойдет. Но если такой день настанет, вот что вам нужно будет делать. Пусть все уезжают, кроме одного молодого человека из каждой семьи. А он пусть спрячется на болоте, в поле, в любом месте, где только возможно. А когда остальные окажутся в безопасности, пусть он начинает жечь — жечь поля, леса, дома, амбары и сараи. Пусть он бежит, бежит, бежит, пока его черные ноги не откажутся двигаться, а черные руки не повиснут без сил. Воины, покажите белым разницу между черными и черномазыми.
Нед замолчал и долго смотрел на нас. Его глаза опять стали печальными. Позади него река была голубой и тихой. Ничто не нарушало ее покоя — кроме лодки справа от нас.
— Давайте помолимся, воины, чтобы такой день никогда не настал, — сказал Нед. — Если же он все-таки настанет, это будет самый тяжкий день в вашей жизни.
Когда Нед кончил говорить, его рубашка была насквозь мокрой. Он вернулся к нам и лег на землю рядом с женой. Все молчали и думали о том, что он сказал нам. Я почувствовала, что Нед смотрит на меня. Какое-то время я не смотрела на него, а следила за людьми в лодке. Но чем дольше я смотрела на лодку, тем сильнее чувствовала на себе взгляд Неда. Тогда я посмотрела прямо ему в лицо. И его глаза сказали мне: "Я умру, мама". Но я знала, что он не боится смерти.
Убийство
Прошел месяц — а Альбера Клюво нет и нет. Я не думала, что он мучается из-за порученного ему дела: чтоб мучиться, у него соображения не хватило бы. Я думала, он заболел и лежит дома. Я начала спрашивать про него. Не то чтоб я за него тревожилась. Мне нужно было знать, что он делает. Почему вдруг он затаился? Не совесть же в нем проснулась! Она никогда его не допекала. Но кого ни спрошу, никто Альбера Клюво не видел. Когда я ездила в Байонну на Голубе, то проезжала неподалеку от его дома, но всегда находила причину не заглянуть к нему. На обратном пути — то же самое: загляну в проулок, где его дом, а Голубя туда не поверну. Я могла бы за пять минут до его дома добраться, но нет, ни за что.
А к Неду я все время ездила. Он жил как раз через дорогу от того места, где теперь его могила. Его похоронили рядом со школой, которую он строил. После его смерти люди достроили школу, но она рухнула во время второго большого наводнения. Это случилось в двадцать седьмом году, когда вода поднялась очень высоко. Первое было в двенадцатом году, но наводнение двадцать седьмого года много страшнее оказалось. Нед жил рядом с дорогой. А школу строил по другую сторону дороги на берегу реки. На том месте, где раньше стоял его дом, теперь построили новый, но мы сохранили место, где была школа и где его могила. Это место никогда не будет продано. Мы собираем у людей деньги для взноса налога, и земля остается нашей. Мы делаем это ради всех детей нашего прихода и всего штата, неважно, черных или белых. Пусть они знают, что много-много лет тому назад здесь ради их будущего отдал свою жизнь один черный. Он погиб, когда кончался прошлый век и начинался этот. Он пролил свою бесценную кровь за них. Я помню, как моя хозяйка, увидев молодых солдат-конфедератов, сказала: "Бесценная кровь Юга, бесценная кровь Юга!"
Так вот, там, на берегу реки, покоится бесценный прах Юга. И все это видят. Мы поставили там надгробный камень, и кто хочет, может остановиться и посмотреть. Нет, это не высокий богатый памятник, а простая бетонная плита, но ее могут увидеть все, кто захочет выйти из машины и посмотреть.
Я часто проезжала мимо этого места, когда Нед был еще жив. Он уже расчистил акр земли и складывал фундамент школы. По вечерам и в свободные от работы дни ему помогали дети. А то иной раз остановлюсь, а они не работают, а купаются в реке. Я так боялась за Неда, думала, как бы белые не подкупили мальчишек постарше утопить его. Стоило Неду увидеть меня на Голубе, как он сразу выходил из воды.
— По-твоему, это называется строить школу? — говорила я. — А по-моему, это называется баловством.
— Мне приходится учить их всему. А уметь плавать необходимо.
Тут особенно хорошо было видно, каким широкоплечим, каким сильным стал Нед. Если он стоял близко, я клала руку ему на плечо.
— Ты напрасно так тревожишься, мама, — говорил он.
— Разве? — спрашивала я.
Мы ведь оба знали, что этот день близится. Мы только не знали, когда и где это случится.
За два дня до того, как Неда убили, я видела сон: шайка кэдженов линчевала его в болоте. На другое утро я села на лошадь и поехала к Неду. Когда я рассказала ему про свой сон, он только отмахнулся, как от чепухи, и стал говорить, что едет в Байонну за лесом для школы. Возьмет с собой двух учеников и переночует там у своего друга. Он сказал, чтобы я не тревожилась, не то Вивьен тоже испугается, а она и так уже беспокоится.
Я пробыла у них до вечера, пока он не уехал. Потом села на Голубя и отправилась домой. А на следующий вечер, когда Нед возвращался домой со вторым грузом леса, Альбер Клюво застрелил его. Олси Прайс и Бэм Франклин, мальчики, которых Нед взял с собой, рассказали нам, как это было. Они ночевали в Байонне у друга Неда и с разговорами о школе засиделись чуть не до полуночи, хотя всем надо было встать очень рано. Поднялись они около пяти утра, потому что хотели забрать лес и вернуться домой, до наступления жары. Они подъехали к школе в половине девятого. А потом, едва спала жара, снова отправились в Байонну. Грузить лес они кончили около пяти. Ехать надо было недалеко — три-четыре мили, — но двигались они медленно из-за плохой дороги. Она была немощеная и вся в рытвинах, а груз тяжелый. Бэм сказал, что через каждые полмили они останавливались, чтобы мулы отдохнули. Но останавливались только на открытом месте. В то время по одну сторону дороги были дома и поля сахарного тростника, а по другую сторону берег реки порос деревьями. Они останавливались только напротив какого-нибудь дома или двора. Дадут мулам отдохнуть несколько минут и снова едут. И вот, сказал Бэм, после второй или третьей такой остановки они вдруг увидели Альбера Клюво. Он сидел верхом на своем муле у края полосы сахарного тростника и уже прицелился в Неда. Он крикнул, чтобы Нед слез. Нед придержал мулов, но остался в фургоне.
— Что тебе надо? — спросил Нед.
— Слезай! — говорит Клюво.
— Тебе меня не запугать, Клюво.
— Слезай!
— Сначала я кое-что скажу ребятам, — говорит Нед.
— Слезай сейчас же! — кричит Клюво.
Нед протянул вожжи Бэму, но Бэм оттолкнул его руку.
— Я пойду вместо вас, — сказал Бэм. — Мне все равно, что со мной будет. Я не боюсь за себя.
— Да мне-то не все равно, Бэм, — говорит Нед. — Ведь этому я вас все время учил: не все равно, что будет с тобой. Когда наконец ты будешь слушать, что я говорю, Бэм?
— Я не дам вам умереть, — сказал Бэм. — У него только двустволка. А меня меньше, чем с двух выстрелов, ему не уложить.
— Сиди! — говорит Нед. — Отвези лес домой. Заканчивайте постройку школы. Расскажи моей жене. Расскажи маме.
— Нет, — сказал Бэм.
— Я тебе приказываю, — говорит Нед. — Хоть теперь-то ты должен меня услышать, Бэм.
И Бэм и Олси, оба рассказывали, что Нед сперва посмотрел на них, а потом посмотрел вокруг и даже на небо взглянул, будто хотел сразу увидеть все. Потом соскочил на землю и побежал к Клюво. Клюво кричит, чтоб он остановился и встал на колени, но он продолжал бежать к Клюво, хотя у него никакого оружия не было, только кулаки. Клюво выстрелил ему в ногу — белые приказали ему заставить Неда ползать на коленях прежде, чем он умрет. Когда Клюво выстрелил, Нед упал на одно колено, но тут же снова поднялся. Клюво выстрелил еще раз и разворотил ему всю грудь.
Альбер Клюво повернул мула и уехал. Бэм и Олси не кинулись за ним. Они подняли Неда и положили его поверх досок. И доски все были красные от крови, когда они добрались до дому. И сквозь доски кровь капала на землю — кровавая дорожка от того места, где Нед упал, и до самого его дома. И еще много лет даже после того, как дорогу засыпали гравием, на ней были видны темные пятнышки там, куда капала кровь Неда.
Люди
Когда люди узнавали об этом, они плакали. Те, кто жил у дороги, шли за фургоном до самого дома. А когда вернулись с полей остальные и услышали, что случилось, они опустились на колени и заплакали. Они боялись близко к нему подойти, пока он был жив, но, услышав про его смерть, плакали как дети. Они подбежали к фургону, едва он остановился у ворот. Они хотели прикоснуться к его телу, хотели помочь внести его в дом. Собралась толпа во всю дорогу — люди сходились отовсюду. Они хотели прикоснуться к его телу, а кому это не удалось, брали доски с повозки, чтобы сохранить кусок дерева с его кровью.
А я знала, что он умер, еще до того, как прибежал сын Фрэнка Нельсона и рассказал, что произошло. Я лежала, и вдруг по дому словно пронесся какой-то шорох.
— Что это? — спрашиваю.
Я села на кровати и огляделась. А это не шорох, а свет на полу. Словно от фонарика. Только он не прыгал, как свет фонарика, а ровно скользил по полу от двери к стене.
— Они его убили, — говорю я.
Потом я села на Голубя, чтобы поехать к его дому. И вот тут прибежал сын Нельсона. Он увидел, что я все знаю, повернулся и побежал назад рядом с лошадью. Когда я добралась туда, Неда уже внесли в дом и положили на кровать. Вивьен сидела рядом и смотрела на него. Люди вокруг плакали, но она ничего не слышала. Она только смотрела на него. Я обняла ее за плечи и почувствовала, как она вся дрожит. Было очень жарко, а она дрожала, словно в лихорадке. Я что-то ей сказала, но она меня не слышала. Наверно, она даже не поняла, что это я. Она только смотрела на него. Я сказала, чтобы все вышли. Только шум, а толку никакого. Две женщины остались, чтобы помочь мне с Недом и Вивьен, а остальных я выдворила. Когда мы увели Вивьен в другую комнату и уложили, я вернулась и сказала, чтобы они оставили меня с Недом одну. Они сначала не хотели, но я сказала, что беспокоиться не надо, и они ушли. Я села рядом с Недом, обняла его и заговорила с ним, точно с живым. Уж не помню, что я говорила — так что-то. И не помню, как упала на него. А помню только, как меня подняли, а у меня вся одежда пропиталась его кровью. Они отвели меня в детскую и уложили. Кто-то остался со мной, но кто, не помню.
Приехал шериф, осмотрел тело и задал Бэму и Олси несколько вопросов. Они сказали ему, что Неда убил Альбер Клюво. Будто ему нужно было об этом говорить, будто он и сам не знал, что его убил Альбер Клюво. Будто все вокруг не знали, что его убил Альбер Клюво. Тут шериф сказал Бэму и Олси, чтобы они утром явились в Байонну и дали полные показания, а то сейчас все так возбуждены, что никакого толку от них не добьешься. На другой день Бэм и Олси пришли к шерифу. Они еще "здравствуйте" сказать не успели, а шериф уже спрашивает, сидели ли они эту ночь с покойным. Они отвечают, что да, сидели. Шериф спрашивает, а не пили они там чего-нибудь — кофе или там немного вина. Они говорят, да, домашнего вина чуть-чуть выпили — ежевичного. А он говорит:
— A-а! Ну рассказывайте, что произошло.
Они рассказали только то, что видели: учителя Дугласа убил мистер Клюво, когда учитель Дуглас не захотел ползти на коленях. А он спрашивает, уверены они, что это был мистер Клюво. Они говорят, да, уверены. Он спрашивает, а какое это было поле — кукурузное или с сахарным тростником. Они ему уже накануне сказали, что на поле был сахарный тростник. Ну и теперь еще раз то же сказали. А шериф спрашивает, как же им удалось увидеть, кто стрелял? Ведь теперь июль и тростник уже высокий. Они сказали, что мистер Клюво выехал из тростника. Но они вроде бы говорили, что мистер Клюво стрелял из сахарного тростника? А теперь говорят, что он выехал на открытое место, так, может, это вовсе на кукурузном поле было? Или они скажут, что это и не кукуруза вовсе, а ореховое дерево? Если он правильно помнит, то там, где убили Неда, и верно растет ореховое дерево. Так или не так? Они ответили, что так. А он и говорит:
— Может, стреляли из-за орехового дерева, как по-вашему?
Они отвечают, что мистер Клюво стрелял с края поля, где сахарный тростник. Тогда он спрашивает, пили ли они в тот вечер в Байонне. Они говорят, что ничего не пили. Это почему же? Они ответили, что им еще рано пить и учителю Дугласу это бы не понравилось. Как так рано? — спрашивает шериф. Они сейчас только ему говорили, что на следующую же ночь пили, когда сидели с покойником. Может, черномазые за один день взрослыми становятся? Или у них от вида покойника волосы поседели?
Бэм и Олси отвечали, что им пришлось выпить, потому что у старших была бутылка и один человек сказал: "Пейте! Если кто покидает грешный мир, радуйтесь! А не плачьте".
— Значит, радуйтесь? — говорит шериф. — Не плачьте, значит? Так, может, вы все начали радоваться еще накануне, в Байонне? Может, все еще радовались, когда возвращались домой? И на радостях приняли одного человека за другого?
Он сказал, что это частенько случается, когда черномазые вот так радуются. Порадуются, порадуются, и мерещится им неведомо что. И вообще, откуда он знает: может, они сговорились да и убили учителя? Ведь давно уж поговаривали, что учитель своими уговорами голосовать и учиться многих совсем допек. Вот их двоих и подкупили пристрелить пьяного учителя, чтобы избавиться от него. А говорит он все это потому, что мистер Клюво стрелять никак не мог. Он разговаривал с мистером Клюво вчера вечером, и мистер Клюво сказал — сам ему сказал, вот так-то! — что накануне весь день и всю ночь ловил лягушек на протоке Грос-Тет. А в доказательство мистер Клюво показал, как его искусали москиты — все тело у бедняги сплошь искусано. И он уверен, что Бэм и Олси не захотят назвать лгуном почтенного старика вроде мистера Клюво, так или не так? Они ответили, что рассказывают только о том, что своими глазами видели. А он говорит, что спрашивает их не об этом, а о том, хотят ли они назвать лжецом такого богобоязненного человека, как мистер Клюво. Мальчики ответили: нет, не хотят. Тогда шериф велел им отправляться домой и сказал, чтобы он больше от них таких разговоров не слышал.
Вивьен жила с нами, пока мы не достроили школу, а потом уехала в Канзас. Она хотела остаться у нас и учить вместо Неда, но мы боялись, что ее тоже убьют. Мы уговорили ее уехать и нашли другого учителя. Фамилия его была Джонс, и выглядел он совсем не как Нед — маленький, щуплый, а кожа совсем светлая. И учил он не тому, чему хотел учить Нед, а только тому, чему велели в Байонне: читать, писать и считать. Либо так, либо мы вовсе остались бы без учителя. Он пробыл там, пока наводнение двадцать седьмого года не снесло школу.
Адская колесница
Я подождала, пока мы схоронили Неда, а тогда отправилась искать Альбера Клюво. Но когда бы я ни приезжала к его дому, Аделина, его старшая дочь, всякий раз говорила, что он только-только уехал.
— Что вам надо? — спрашивает она.
— Поговорить с ним, — отвечаю.
— Папа только что ушел.
Я поворачивала Голубя и возвращалась домой, однако в тот же вечер или на другой день опять ехала к его дому. Чуть подумаю про Неда и сразу еду к этому дому. А Аделина уже стоит на веранде и ждет меня.
— Мне надо поговорить с твоим отцом.
— Папа только-только уехал.
— Опять только-только уехал, а?
— Да, Джейн.
Один раз я сделала вид, будто возвращаюсь домой, а сама отъехала немного и вернулась. Вижу, а он во дворе, слезает со своего мула. Но тут он поднял голову, увидел меня, сразу повернул мула и погнал его через двор к болоту. В другой раз, когда я подъехала, он не успел вскочить на мула. И сбежал в болото без него.
— Где отец? — спрашиваю я у Аделины.
— Нет его.
— А где он?
— В Байонне.
— А что Джордж во дворе делает? — говорю. — Ведь всем известно, что Альбер Клюво и в отхожее место на Джордже ездит.
— А сегодня пошел пешком.
— Ну ничего, я его догоню, — сказала я и уехала.
Но я поняла, что Альбера Клюво никогда дома не застану. Ведь он или кто-нибудь из его детей успевали увидеть меня, когда я только сворачивала к их дому. Значит, надо перехватить его где-то еще.
Не для того, чтобы убить, нет. Не мне было его убивать. Пусть его бог убьет, пусть заберет дьявол. А я хотела только поговорить с ним. Но он от меня прятался. Дома у него кто-нибудь из детей все время высматривал — не еду ли я. Если я удила или носила из реки воду, он сворачивал с дороги и объезжал берег стороной. А когда я сидела на веранде, он спускался к самой воде и проезжал мимо моего дома, прячась под откосом. Иногда он прямо-таки ложился мулу на спину, лишь бы я его не увидела. А я хоть и видела, а сделать ничего не могла — пока я добежала бы до дома или успела бы сесть на Голубя, его бы и след простыл. А потому я ждала, ждала своего часа.
И однажды дьявол надул Альбера Клюво. Ги Колье удила возле моего дома. А у нас с тетушкой Ги Колье и рост, и цвет кожи были почти одинаковы. Вот Клюво и принял ее за меня. Он тут же повернул на боковую дорогу. А я как раз ехала на Голубе по той же дороге к Дьюн Уайт на протоку Грос-Тет. Кукуруза стояла высокая, и мы увидели друг друга только на повороте дороги. Голубь чуть не столкнулся с Джорджем ноздря в ноздрю. Альбер Клюво собрался было повернуть и удрать, но я уже его увидела, и деваться ему было некуда. Тогда он отвернулся. Но я все равно сказала ему то, что давно собиралась сказать:
— Мистер Альбер Клюво, когда адская колесница с грохотом прикатит за вами, вся округа услышит, как вы будете вопить. А теперь поезжайте своей дорогой.
Люди говорили, будто я ходила к ворожее наложить заклятие на Альбера Клюво. Я-то ни к какой ворожее не ходила, потому что ни в какие заклятия не верила. И у ворожеи была раз в жизни — вот тогда, из-за Джо Питтмана и того жеребца, — но не потому, что верила в колдовство, а просто потому, что больше никто меня слушать не хотел. И хоть я у нее и побывала, но того, что она велела, делать не стала. Ну, как бы то ни было, до Альбера Клюво дошел слух, будто я ездила к ворожее, и он по глупости поверил.
Примерно через год он заболел, подумал, будто умирает, и он прыгнул прямо в кровать к своим двум дочерям — Аделине и Кристине. Жена у него давно умерла, а сыновья ему столько раз во всяких черных делах помогали, что он боялся спать в одной с ними комнате. Аделина и Кристина просили и просили, чтобы он слез с их кровати. Так нельзя. Что люди подумают? Но Альбер Клюво сказал, пусть их думают, что хотят, а в той комнате, где спят сыновья, грохочет адская колесница. Аделина стала его уговаривать, что никакой колесницы нет. Но Альбер Клюво стоял на своем: ему лучше знать, он ее сам слышал. И пусть-ка только попробуют уйти и лечь на полу! Он заставил их лечь справа и слева от него, чтобы быть ему защитой от адской колесницы.
Но потом он начал слышать грохот колесницы даже в комнате дочерей. Но только в одном ухе — со стороны Аделины. Тогда он решил, что Аделина ненавидит его. Она всегда стыдилась отца, а теперь, значит, и возненавидела. Да и, наверно, когда его нет дома, она ластится то к одному парню, то к другому. А он не желал, чтобы его дочери погрязли во зле, как он сам и его сыновья. Он хотел, чтоб они оставались чистыми. Потому всегда и заставлял их ходить в церковь — чтоб они оставались чистыми. А теперь выходило, что Аделина либо шлюха, либо ненавидит его.
— Аделина, ты ненавидишь своего отца? — спрашивает он.
— Нет, папа, — отвечала Аделина.
— Аделина, ты не согрешила?
— Клянусь пресвятой девой, я чиста, папа.
Альбер Клюво поворачивался на другой бок, но все равно адская колесница грохотала со стороны Аделины. И он говорил:
— Аделина, если ты чиста, если в твоем сердце нет ненависти к отцу, который никогда не делал тебе ничего плохого, то почему же, Аделина, адская колесница катается только там?
— Папа, здесь нет никакой адской колесницы, — отвечала Аделина.
Клюво кричал, что она лгунья, вскакивал с кровати и принимался хлестать ее ремнем. Прибегали сыновья, оттаскивали его. Клюво ложился, но колесница опять начинала грохотать. Бедная Аделина лежала на своей стороне кровати и плакала в подушку.
Так продолжалось много дней, много недель. Потом Аделина пришла ко мне. Она сказала, что все сделает, лишь бы я сняла с ее отца заклятие. Я ответила, что заклятия на нем не больше, чем на мне. А просто наступает расплата за все его грехи.
Аделина спустила платье с плеч и показала мне рубцы от ремня Альбера Клюво. Она стала просить, чтобы я помогла ей, молоденькой девушке, которая за всю свою жизнь никому не сделала зла. Я сказала, что ничем не могу помочь, потому что никакого заклятия на Альбера Клюво не накладывала. А потом спросила, не хочет ли она кофе с кексом. Она ответила, что хочет. Высокая такая, красивая девушка, с длинными красивыми ногами. Ей уже было пора замуж, но они держали ее дома, чтоб она им стряпала. Я дала ей кофе с кексом, и мы сели на веранде.
— Я ни в чем не виновата, — сказала она. — Я себя соблюдаю. Я девственница и хорошая католичка. А вот Кристина — не девственница. Нет, она еще в одиннадцать лет сбилась с пути. Но она самая младшая, и они ее любят. А бедная Аделина никому не нужна. И колеснице, даже колеснице надо грохотать только с моей стороны. Каждую ночь она грохочет, и каждую ночь отец вскакивает и бьет меня ремнем. Я хочу уйти, но идти бедной Аделине некуда. Я поменялась местом с Кристиной. Я попросила: "Кристина, миленькая, ляг тут. Дай своей бедной сестре Аделине поспать хоть одну ночь спокойно". А у Кристины душа чистая, у бедняжки. Она и сказала: "Хорошо, миленькая". Мы поменялись местами, но колесницу это не остановило. Кристина сбилась с пути в одиннадцать лет, а колесница грохочет только с той стороны, где сплю я. Это заклятие мучит меня больше, чем отца. Снимите его, Джейн!
— Я на твоего отца никакого заклятия не накладывала, — говорю. — А только сказала, что мы во всей округе услышим, когда за ним приедет адская колесница, — так он будет вопить. И услышим! Я услышу, если господь бог не призовет меня раньше. Другие, кто делал столько зла, как твой отец, вопили в последнюю минуту. И он будет вопить. Да, Аделина, будет. Но заклятие тут ни при чем. Это ад его призывает.
— Он бедный и глупый человек, Джейн.
— Не надо было ему поднимать руку на моего сына.
— Вы ненавидите меня, Джейн?
— Да нет, — говорю. — Даже к твоему отцу я не питаю ненависти. Но день расплаты придет.
— Расплачиваюсь-то я. Страдаю я, — сказала Аделина.
— Ты еще не знаешь, что такое настоящее страдание, Аделина.
— Я же показывала вам рубцы на спине.
— Но я не могу показать тебе рубцы на моем сердце, — говорю.
— Бедняжка Джейн, — сказала Аделина.
Клюво прожил еще десять лет. Умер он как раз перед наводнением двенадцатого года. Кристина уже сбежала из дома. Она путалась со всеми мужчинами на нашей реке, белыми и черными. И получала столько инжира, орехов и мускатного винограда от своих ухажеров, что и не сосчитать. А потом уехала с коммивояжером из Сент-Франсис-вилла в его фургоне. Он торговал сковородками и кастрюлями и еще точил ножи и ножницы. Вот Кристина и уехала с ним как-то вечером в воскресенье. А бедная Аделина так и осталась дома. Теперь Альбер Клюво уже не спал с дочерью в одной кровати — когда Кристина сбежала с коммивояжером, Аделина сказала, чтобы он перебрался в другую комнату. Не то она тоже сбежит. Он вернулся в свою прежнюю комнату, и Аделина осталась ухаживать за ним. Они вдвоем остались — сыновья сбежали, как и Кристина.
Альбер Клюво умирал два дня, и бедная Аделина чуть с ума не сошла. За полмили было слышно, как вопил Клюво. Умер он в воскресенье. Джулс Пэтин заглянул ко мне и сказал, что Клюво совсем плох. Я спросила, откуда он это знает. А он ответил, что слышал, как Клюво вопит, и спросил у одного кэджена, что случилось, и кэджен сказал, что Клюво при смерти.
Я всегда думала, что хочу услышать, как вопит Клюво. Я твердила это себе с тех самых пор, как он убил Неда. Но с тех пор прошло много времени, и мне вдруг стало жалко Клюво, а особенно Аделину. Но все остальные слышали его вопли. Люди и днем и ночью проходили мимо его дома, чтобы послушать, как он кричит. Доктор приехал и уехал, а он все вопил. Аделина сидела возле него и вытирала ему лицо мокрым полотенцем, а он все вопил. Перед самой смертью он оттолкнул Аделину и соскочил с кровати. Никто и подумать не мог, что у него хватит на это сил. Он поднял руки так, будто держит ружье, и закричал:
— Я убью его, я убью его, я убью его.
Потом сделал два шага и упал. Закрыл голову руками, и вопил, и вопил, чтобы Аделина остановила коней. Аделина встала на колени около него. У нее на руках он и умер.
Книга третья Плантация
Семсон
Я была знакома с тетушкой Хэтти Джорден задолго до того, как переехала в Семсон. Она была тогда там кухаркой, стряпала у Семсонов еще до войны между конфедератами и Севером. Когда она состарилась — ей уж было за семьдесят, когда мы познакомились, — они дали ей лошадь и бричку, чтоб не ходить пешком. Когда я жила у реки, она раза два в неделю проезжала мимо моего дома. После смерти Альбера Клюво я как-то сказала ей, что хотела бы уехать из этих мест. А она спросила, почему бы мне не переехать в Семсон. Я сказала, что семь-восемь миль — это не переезд. А мне хотелось бы уехать подальше, чтобы легче было не вспоминать. Но она ответила, что я хоть за сто миль уеду, а вспоминать все равно буду, ведь воспоминания — это не место, воспоминания-то, они в нас самих, и еще сказала, что я же хочу жить поближе к могиле Неда, чтоб убирать ее цветами. Я подумала, подумала и сказала, что она верно говорит.
Так я и поселилась в Семсоне. Я приехала туда под вечер и попросила Поля Семсона, чтобы он выделил мне дом. Поль Семсон был отцом Роберта, который теперь там хозяин.
— Да уж очень ты тощая, — сказал он. — Откуда мне знать, как ты справишься с работой.
Я говорю, что уже пятьдесят лет работаю, и ничего.
— Так ты, наверное, уже приустала?
— Меня еще на пятьдесят хватит, — говорю.
— Можешь поселиться рядом с дядюшкой Джиллом и тетушкой Сарой, — говорит он. — Но перебираться будешь сама.
— Переберусь, — ответила я.
Я попросила фургон в поселке у реки и переехала без посторонней помощи. Два раза съездила, но управилась сама. Было это весной, потому что люди пахали и рыхлили землю мотыгами. Баз Джонсон был водовозом. Его мула звали Алмаз. Он возил воду в огромной бочке с затычкой. Раз как-то затычку выбило, и вся вода вытекла. Работники в поле чуть его не убили, когда он подъехал с пустой бочкой. Каждый день он ездил в поля три раза: утром, около половины десятого, в обед и вечером. В двенадцать, во вторую поездку, он привозил обед в ведерках. Почти у всех были маленькие ведерки. Баз Джонсон ехал в поле, а его повозка была вся уставлена блестящими ведерками — ну точь-в-точь старьевщик, который старое на новое меняет. Если он опаздывал, то пускал Алмаза рысью, а ведерки бились, и такой звон стоял, что с другого конца поля слышно. На повозке стояло тридцать-сорок, а остальные он складывал в седельную сумку и вешал ее на Алмаза. Люди метили свои ведерки цветными лоскутками — красные, желтые, голубые. А то писали на крышке свои буквы. А Тоби Льюис надел на ручку своего котелка кольцо, которое вдевают в нос хрякам. Его так и прозвали — Тоби Свиное Кольцо. Когда я перебралась в Семсон, его только так и называли. Но работника лучше его на плантации не было. Никто там не мог нарубить и погрузить столько сахарного тростника. Каждый год находился сумасшедший, который пытался обойти его, и каждый раз Тоби совсем его загонял. Как-то решил потягаться с ним в рубке тростника Хок Браун, так Тоби чуть не доконал Хока. А Джо Саймон попробовал состязаться с ним в погрузке, и когда Тоби с ним разделался, так Джо разве что мог травинку поднять, чтоб пожевать. И теперь ему приходилось работать с женщинами, весной не плугом землю пахать, а ковырять мотыгой.
Но самое страшное в поле случилось с Черной Хэриет. Фамилия у нее была такая, а кожа черная-пречерная (она от сенегальцев происходила), так что ее и прозвали Черная Хэриет. Была она, пожалуй, придурковата, но в поле работала лучше всех. Высокая такая, стройная, крепкая и черная до синевы. Никто не окучивал и не собирал столько хлопка, как она, и тростника рубила больше всех — и не только больше женщин, а и мужчин, кроме Тоби Льюиса. Она считалась первой задолго до моего приезда и, наверное, еще долго оставалась бы первой, не объявись на плантации Кэти Нельсон. Кэти Нельсон была маленькая, но плотная. Приехала она из Байонны и родней Нельсонам на реке Сент-Чарльз не приходилась. Так они и говорили. А зачем она со своим коричневым коротышкой, которого называла мужем, решила перебраться в Семсон, одному богу известно. Такой же муж, как пень при дороге. Едва она вышла в поле, тут же начала хвастать:
— А я ее обгоню. Первая? Ну и что? Не долго ей первой быть. Скоро поотстанет.
Черная Хэриет ничего не отвечала и вообще не разговаривала — она ведь была придурковата. Работала, напевала какую-нибудь свою сенегальскую песенку и никого не трогала.
А Кэти Нельсон каждое утро говорила:
— Я ее обгоню. Вот увидите, обгоню.
Как-то утром приходит она в поле и говорит:
— Вот сегодня ей и конец. Меня ночью муж так любил, так любил, что мне удержу не будет. Видали, как дикая лошадь рвется вперед? То ли еще увидите! Ну, держись, первая!
А мы все только рады были. Что теперь-то скрывать: мы только рады были. Так уж в полях заведено. Если кто состязается, для всех день проходил быстрее. А то работа да работа — вот и хочется чего-нибудь такого, чтоб день быстрей прошел. Ну и мы ждали, как это у них получится. Хотя знали, что Кэти не обогнать Хэриет, но интересно было посмотреть. А потому, как только Кэти свое сказала, мы тут же и подхватили:
— Давай, Кэти, давай! Покажи ей!
А Кэти говорит:
— Ну, держись, первая! Я тебя ждать не буду!
Кэти состязаться с Хэриет было то же, что мне — драться с Листоном. Кэти все утро ей покоя не давала. Она знала, что Хэриет ей не обогнать, вот и старалась допечь ее, чтобы у нее руки опустились. Подошел полдень, все разобрали ведерки и сели в тени. Хэриет сидела под тонким деревцем в сторонке и ела свою рыбу с рисом. Доела, наточила мотыгу и стала ждать, когда в час дня снова начнут работать. Я иногда посматривала, как она сидит там и напевает свои сенегальские песенки, но она меня и не замечала вовсе. Кэти схоронилась где-то со своим коричневым коротышкой, которого называла мужем. Такой же муж, как сухой бурьян. К концу обеда она вернулась и опять принялась за свое:
— Ладно, первая! Утром я тебя не обошла, так сейчас обойду. Сгоню с тебя черноту, и будешь ты вечером беленькой, как снеговик.
Странно мир устроен. Почему вдруг объявилась такая Кэти Нельсон? Кому от нее польза? И почему ей с этим коричневым коротышкой, которого она называла мужем, понадобилось приехать сюда? Почему не в Батон-Руж? Не в Новый Орлеан? Почему не на Север? А? Ну-ка, объясните!
К вечеру приехал Том Джо на своей рыжей лошади. И конечно, в ковбойской шляпе и в ковбойских сапогах. Когда-то он был ковбоем в Техасе — во всяком случае, так он говорил. Но здесь он служил надсмотрщиком и такие состязания любил не меньше, чем мы. Тут уж все работали быстрее.
Первые ряды прошли спокойно. Но как начали вторые, у Хэриет пошли колючие сорняки. Их мотыгой обрубить нетрудно, но нужно еще и корни выдернуть, не то через день-два они опять полезут. Из-за них Хэриет так задержалась, что Кэти почти ее нагнала. И теперь, чтобы держаться впереди, Хэриет стала пропускать сорняки. В соседнем ряду работала Грейс Тернер и сперва выдергивала корни за Хэриет. Но чем дальше, тем больше сорняков оставляла Хэриет. Теперь это уже все увидели. Том Джо крикнул ей с другого конца поля, чтобы она чище работала, но она будто и не услышала. Он крикнул еще раз, а она опять будто не слышит. Только быстрее мотыгой машет и бормочет что-то на своем сенегальском языке. Тут уж она и хлопок начала срубать наравне с сорняками, а то и вовсе один хлопок.
Мы все остановились и смотрели на нее. А у нее мотыга так и ходит: вверх-вниз, вверх-вниз — и срубает столько же хлопка, сколько сорняков. А мы стоим, смотрим и молчим. Словно к месту приросли. Но тут Том Джо давай хлестать Хэриет по спине. Он не пытался вырвать у нее мотыгу, а просто подъехал к ней и начал хлестать по спине поводьями. Но чем больше он ее бил, тем больше хлопка она срубала. Грейс Тернер первая туда бросилась. Повалила Хэриет на землю, прикрыла своим телом. Теперь Том Джо стал хлестать Грейс, чтоб не заступалась. А Бесси Хеберт подбежала с мотыгой и пригрозила отрубить Тому Джо голову. Грейс вскочила и уцепилась за Бесси. Теперь уж мы все столпились вокруг. Одни просят Тома Джо остановиться, другие стараются поднять Хэриет. А Хэриет лежит и бормочет что-то на своем языке. Уставилась на нас вытаращенными глазами. Забормотала что-то на своем языке и вдруг как захохочет!
Когда наконец ее успокоили, мы с Грейс отвели ее на край поля и отряхнули ей одежду, а вечером ее увезли в Джексон. Тому Джо Семсоны ничего не сделали, а Кэти прогнали. И Бесси тоже. Дом у нее был полон ребятни, но все равно ей пришлось уехать. Не будь у нее детей, сказали они, так ее бы отправили в тюрьму за угрозы Тому Джо.
Видения мисс Джейн Питтман
Вскоре после того, как Хэриет увезли в Джексон, я обрела веру. Ее увезли весной, а летом я приобщилась к церкви.
С тех пор как Неда убили, я все время была в борениях совести. Всю свою жизнь я прожила возле набожных людей, еще со времени рабства, но о вере как-то забывала. То думаю: да, надо обрести веру, послужить богу, то никакого смысла в этом не вижу. Но когда Неда убили, я поняла, что, кроме бога, у меня не осталось ничего. Только до переезда в Семсон я еще не открыла богу все свое сердце. А это случилось лет через тринадцать после смерти Неда.
В Семсоне я сначала поселилась рядом с дядюшкой Джиллом и тетушкой Сарой, через дорогу от Грейс Тернер. Она тогда была замужем за Лоренсом Хебертом и жила с его стариками. Каждый вечер мы с Грейс сидели на веранде и слушали песнопения в поселке. В то время у нас еще не было церкви, ее построили много позже. И люди устраивали моления через дорогу от того места, где теперь церковь. Мы с Грейс каждый вечер сидели и слушали пение и молитвы. Иногда Грейс приходила ко мне, но чаще мы просто переговаривались с ней через дорогу. Иногда было так темно, что мы не видели друг друга, но это не мешало нашим долгим разговорам. Как-то Грейс приходит ко мне и говорит:
— Джейн, я собираюсь приобщиться к церкви.
— Рада за тебя, Грейс, — говорю.
— Джейн, а почему бы и тебе не приобщиться вместе со мной? Ты женщина добрая, хорошая, это все знают. Так кому, как не тебе?
— Ты и не представляешь, Грейс, сколько раз я про это думала, — говорю. — Дай мне недельку-другую поразмыслить.
Нэнси Уильямс тоже молилась об обретении веры. Я, Нэнси, Грейс, Питер Джулай. Кто же еще? Ах да, Лобо. Как это я забыла про него? Лобо привиделось, что Мэнни Холл загоняет на дерево Лиззи Эйрон. Ну уж и видение! Все хохотали, кашляли, утирали глаза. Все, кроме Лиззи. Лиззи рассвирепела. И прямо в церкви обозвала Лобо лживым псом.
— Ты лживый пес, вот ты кто! И вовсе ты не видел, чтоб кто-нибудь загонял меня на дерево. Я даже лазить-то не умею!
А Лобо стоит весь мокрый от пота.
— Я знаю, что показал мне господь. Мэнни швыряла в тебя комья земли, а дети говорили: "Глядите, вон она, там, на суку". А ты прыгала с сука на сук, как кошка.
Все так хохотали над Лобо, что священнику пришлось прервать службу. И пока он старался утихомирить людей, Лобо стоял, прислонясь к перилам кафедры, и потел, точно на солнцепеке.
— Да он пьян! — говорит Лиззи.
Ну и все опять захохотали. Когда мы разошлись из церкви, чуть не полночь была.
На Нэнси Уильямс озарение снизошло, когда она собирала в поле хлопок. Она работала одна в дальнем конце поля, и, когда закричала, мы сразу поняли, что на нее снизошло. И все побежали к ней.
— Снизошло! — говорит она. — Снизошло! Наконец на меня снизошло. Он поднял меня из трясины.
Мы сказали ей, чтоб она шла домой и готовилась свидетельствовать вечером. Нэнси бросила мешок с хлопком и побежала к поселку, крича и радуясь. Том Джо приехал взвешивать хлопок и спросил, где Нэнси. Мы ему сказали, что она ушла домой, потому что обрела веру. А он говорит:
— Что еще выдумали — веру тут обретать. Веру пусть вечером обретает, а днем собирает хлопок. И вы все, кто тут веру ищет, зарубите это себе на носу.
Грейс вдруг повернулась и пошла в поле, а Том говорит:
— Вон еще одна пошла веру обретать.
Я побежала за Грейс и вижу — она стоит на коленях в междурядье.
— На тебя тоже снизошло, Грейс? — спрашиваю.
— Ничего на меня не снизошло. Я молюсь богу, чтоб он не дал мне убить Тома Джо. Этого пса паршивого.
— Грейс, — говорю. — Ты же теперь молишься об обретении веры и не должна думать о злом.
— Знаю, — говорит, — но в такие минуты мне жалко, что Бесси не отрубила ему голову мотыгой. Ее бы просто повесили, вот и все.
— Грейс! — говорю. — А что подумает господь, услышав такие твои речи? Разве ты не знаешь, что Том Джо послан сюда дьяволом?
Мы пошли назад на край поля, где Том Джо взвешивал хлопок. А он и спрашивает:
— Ну как, нашли там бога?
— Грейс! — сказала я, потому что увидела, что она опять свирепеет.
А через неделю или чуть позже на Грейс тоже снизошло озарение. На всех оно снисходило, кроме меня. Я сказала об этом Грейс. А она говорит:
— Усерднее молись, Джейн.
— Я молюсь усердно, как только могу, — говорю. — Может, я просто недостойна?
— Не выдумывай, Джейн, — говорит. — Молись, и все.
Я молилась весь день и полночи. Если не сплю, так молюсь. Иной раз шла на поле такая усталая и сонная, что глаза слипались. А потом как-то утром в четверг — я тот день не забуду, пока жива, — шла я в поле, и тут меня озарило. Будто с моих плеч спала огромная тяжесть.
— Грейс! — сказала я. Она шла чуть впереди меня. — Грейс, на меня снизошло.
— Наконец-то! — говорит. — Наконец-то! Джейн, а что ты чувствуешь? Легкость чувствуешь?
— Чувствую. Такую легкость, будто я летать могу.
— Вот-вот, — говорит Грейс. — Если чувствуешь легкость, значит, это оно. От этого всегда чувствуешь легкость. Иди-ка домой, а в поле сегодня вовсе не выходи. Иди домой и приготовься к вечеру.
В тот вечер я свидетельствовала о своем видении.
Я несла на плечах мешок камней и хотела его сбросить, но никак не могла. Он все больше и больше пригибал меня к земле, сбросить его я не могла. И тут Белый Человек с длинными желтыми волосами — они блестели, как солнце, — приблизился ко мне. (На нем еще были длинные белые одежды). Он приблизился ко мне и сказал:
— Джейн, хочешь избавиться от своей ноши?
— Воистину, воистину! — отвечаю. — Но откуда вы меня знаете? Уж не Господь ли вы?
— Чтоб избавиться от этого груза, и избавиться навсегда, ты должна перенести его вон через ту реку.
Я посмотрела в сторону, куда он показывал, и верно, там была река. Я обернулась к нему, но он уже исчез. Я пошла к реке с мешком камней на спине. И передо мной выросли колючки, где колючек прежде не было, у моих босых ног вились змеи, где змей прежде не было, широкие канавы и протоки зеленой воды преграждали мне путь там, где прежде их не было. Какой-то человек, черный как уголь, блестящий, с репейниками вместо волос, предстал передо мной и сказал, что возьмет мой мешок. Но я не отдала. Я сказала, что Белый Человек повелел мне перейти реку с мешком, и я перейду ее с мешком. И вдруг этот человек превратился в Неда.
— Отдай мне мешок, мама, — сказал он.
— Нед, это ты? Это ты, Нед? — спросила я.
— Отдай мне мешок, мама, — сказал он опять.
— Я не верю, что это ты, Нед, — сказала я. — Я знаю, ты дьявол и хочешь обмануть бедную Джейн. А если ты и правда Нед, то скажи мне, что ты нес все время после того, как убили твою маму.
Я смотрела на лицо дьявола, который прикинулся Недом, и видела, что он изо всех сил старается догадаться, что же такое Нед тогда нес, да никак не догадается. И я убедилась, что это не Нед, ведь Нед вовек бы этого не забыл, и я пошла дальше. Идти дальше было трудно, потому что сердце мое тянулось к нему, но я знала, что должна идти. Я подошла к реке и увидела там Джо Питтмана. Он был не старый, как я, а по-прежнему молодой.
— Отдай мне мешок, Джейн, — сказал он.
— Я должна перейти через реку, Джо, — сказала я.
— Отдай мне мешок, Джейн, — сказал он.
— Нет, Джо, я должна перейти через реку, — сказала я.
И когда он в третий раз попросил мешок, а я не отдала, он вдруг исчез. Я вошла в реку, и вокруг моих ног щелкали зубами аллигаторы. Я взглянула — змеи, сотни и сотни их плыли ко мне. Но я продолжала идти с мешком на спине. С каждым шагом река становилась все глубже. Когда вода дошла мне до горла, я вскинула голову посмотреть, далеко ли еще идти, и увидела Альбера Клюво. Он сидел на жеребце, который убил Джо Питтмана, а в руках держал ружье, которое убило Неда. Я оглянулась. На берегу стояли Джо и Нед и манили меня назад. Но я не вернулась. Я пошла вперед, ибо ноша у меня на спине была тяжелее ноши смерти. Когда я подошла к берегу, Альбер Клюво поднял ружье, чтоб застрелить меня. Но когда увидел, что я все равно иду вперед к берегу, он тоже пропал. А едва я ступила на твердую землю, как мне явился Спаситель. Он улыбнулся и снял мешок с моих плеч. Я хотела склониться к его ногам, но он повелел мне подняться, ибо я родилась заново. Я поднялась и почувствовала себя легкой, чистой и безгрешной.
Вот какое было у меня видение. Вот так я приобщилась церкви. И вот что пели в тот вечер в церкви:
Звоните в колокол, Озаренье снизошло. Звоните в колокол, Озаренье снизошло. Звоните в колокол, Озаренье снизошло. Наконец озаренье снизошло. Вырвали душу мою из врат ада, Свершилось. Из врат ада, Свершилось. Из врат ада, Свершилось. Наконец свершилось. Иисус радуется. Сатана гневается. Свершилось. Сатана гневается. Свершилось. Сатана гневается. Свершилось. Наконец свершилось.Два брата
Тимми и Ти-Боб были братья — единокровные братья; Тимми был негр, а Ти-Боб белый. Все на плантации, все, кто жил у реки, все в большом доме, в том числе и Ти-Боб и мисс Амма Дин, знали, что Тимми — сын Роберта Семсона. Роберт и сам никогда этого не скрывал, да и не мог бы скрыть, если бы захотел, так как Тимми был похож на него куда больше, чем бедняга Ти-Боб. Тимми еще малышом любил кататься верхом и охотиться, совсем как Роберт. И все повадки у него были совсем как у Роберта. С ними обоими надо было держать ухо востро. Роберт вытворял что хотел, имел ли он дело с белыми или черными. Тимми вытворял что хотел, если имел дело с черными. Сложен он был как Роберт, такой же высокий и худой. Но Роберт был белый и румяный, а Тимми — коричневый. У Роберта были каштановые волосы и серые глаза, а у Тимми рыжевато-каштановые волосы и карие глаза. А носы у обоих с горбинкой. А Ти-Боб всю жизнь был слабого сложения и хрупкий. И свое имя Ти-Боб — младший Роберт — он получил, когда доктор сказал, что у мисс Аммы Дин детей больше не будет. Но любое другое имя подошло бы Ти-Бобу куда лучше.
Когда Ти-Боб подрос и уже мог держаться в седле, Роберт приехал в поселок к Верде и сказал, чтобы Тимми ездил с Ти-Бобом. Он подозвал Верду к калитке, будто сроду не заходил к ней в дом. Будто и не привязывал лошадь у этой самой калитки и не оставался у нее дома, пока сам не решал уйти.
— Я не хочу его туда пускать, — сказала Верда.
— Все будет как надо, — сказал Роберт.
— Я не хочу, чтобы он прислуживал за столом, — сказала Верда.
— Он будет только ездить верхом с Ти-Бобом, — сказал Роберт.
— Будет дворецким у Ти-Боба? — говорит Верда. — Дворецким своего брата?
— Пусть приходит завтра, — говорит Роберт.
— Прислуживать за столом он не придет, — говорит Верда.
— Значит, завтра, — сказал Роберт и ускакал.
Тимми пришел. Было ему тогда лет двенадцать — он был лет на шесть-семь старше Ти-Боба. Когда Ти-Боб уезжал в школу, Тимми ухаживал за лошадьми. Когда Ти-Боб возвращался домой, Тимми седлал лошадей, и они вместе отправлялись в поле. Ти-Боб на маленьком шотландском пони по кличке Джонни, а Тимми на Урагане, полуобъезженном и норовистом. А в поле Ти-Боб тут же подъезжал ко мне. Чем бы я ни занималась — хлопок собирала или сахарный тростник рубила, — он всегда подъезжал ко мне. Если мешок с хлопком был полон, он за меня относил его к весам. Если мы рубили сахарный тростник и было холодно, он отсылал меня погреться у костра. Он привязался ко мне очень скоро после того, как я туда переехала. И когда тетушка Хэтти умерла, а за ней и дядюшка Бадди, Ти-Боб упросил взять в большой дом меня. Я этого не хотела, мне больше нравилось на воздухе. Мне даже холод был нипочем. Что жара, что холод — мне все равно. Но хозяева решили, что в поле я работаю не так чтоб быстро и в доме от меня будет больше прока. Поль Семсон сам приехал в поле узнать, умею ли я готовить. (Мы рубили сахарный тростник. Декабрь. Вода, того и гляди, замерзнет).
Я сказала, что шестьдесят с лишним лет готовлю. Ему не понравилось, что я ответила не сразу, и он с лошади уставился на меня. И говорит, что он не про то спрашивал. А вот для белых я готовила или нет?
А я отвечаю, что пока еще никого не отравила.
Он опять долго смотрел на меня с лошади, а потом сказал:
— Завтра в шесть утра придешь в большой дом. Покажешь, так ли ты ловко лепешки печешь, как языком болтаешь.
Я говорю:
— Мне тут нравится, и я бы осталась, если позволите. А он опять смотрит на меня с лошади. А потом и говорит:
— Да неужто? — (День был на редкость холодный. Джо Эмброуз далеко впереди рубил тростник и пел). — Может, ты не слыхала, что в Семсоне всем нравится то, что нравится Полю Семсону? А может, слыхала и не прочь опять попросить фургон? Ну так как?
Вот так я и пошла работать в большой дом. Но как попривыкла, так жалеть не стала. У меня были помощники и хватало времени и рыбу поудить, и свой огород вскопать. Иногда я уговаривала Тимми привести мне с пастбища Регса и отправлялась верхом в поле. А как-то раз от большого ума поехала туда с Тимми и Ти-Бобом.
Мне бы, как я в первый раз села на эту лошадь, надо было догадаться, что Тимми задумал какое-то баловство. Уж слишком все шло хорошо. Седло словно нарочно для меня сделано, и стремена Тимми подтянул точно мне по ноге. И уздечка хорошая, и поводья. Подпруга затянута как положено — ну словом, все лучше некуда. "Ну, — думаю, — ему чего-то от меня надо. Не стал бы он делать всего этого просто так".
По дороге в поле я только и гадала, чего от меня хочет Тимми. Наверно, денег, думаю. И опять гадаю: а деньги-то ему зачем? Спрашивать я его не стала, а только поглядывала краешком глаза. А на Тимми смотришь — и видишь Роберта Семсона. Плечи подняты, локти прижаты — вылитый Роберт. И соломенная шляпа чуть на глаза надвинута — ну Роберт и Роберт! Только в глазах пусто: смотрят вперед, будто все так и надо. Я поглядела на Ти-Боба. Он тоже молчал. Но они с Тимми все это задумали вместе.
На поле мы поехали туда, где Грейс и остальные рубили сахарный тростник. Грейс посмотрела на меня и говорит:
— Фу-ты ну-ты, барышня приехала!
— Небольшая вечерняя прогулка, — говорю.
— Вам, барышня, только и дела, что гулять, — говорит Грейс. — А я человек простой, без работы не проживу.
Вот так мы разговариваем, и я еду за Грейс по полю. А Ти-Боб и Тимми где-то сзади. А потом мне холодно стало, и я говорю Грейс, что, пожалуй, домой поеду. Только я это сказала, как Ти-Боб перемахнул через несколько рядов тростника и помчался к дороге. Маленький Джонни бежал так быстро, что мордой почти земли касался.
— Что это с ним? — говорю. — Взбесился, что ли, ни с того ни с сего?
А тут Грейс как закричит:
— Джейн, держись!
Но Тимми уже стегнул Регса тростниковым стеблем, и он чуть из-под меня не выскочил.
Теперь уже были только поле, Регс и я. Я вцепилась в гриву и в уздечку. А люди по всему полю кричали мне вслед:
— Держитесь, мисс Джейн, держитесь! Держитесь, мисс Джейн, держитесь!
Регс выскочил с поля и наклонился вправо, будто вот-вот упадет, но все же устоял на ногах. Тут он выбрался на боковую дорогу и наклонился влево, но опять устоял на ногах. Теперь были только я, Регс и дорога. Ти-Боба я уже давно обогнала, и помощи ждать неоткуда, пока Регс не упрется в ворота большого дома и не остановится сам. Конечно, Тимми на своем Урагане мог бы перехватить меня. В то время Ураган мог обогнать любую лошадь в нашей округе, а то и во всем штате. Но Тимми было запрещено обгонять Ти-Боба. Что бы ни случилось, Ти-Боб всегда должен был скакать впереди, пусть самую чуточку, но впереди. А потому мне оставалось только ждать, пока Регс не упрется в ворота. Я бы спрыгнула, да некуда было. Дорога вымощенная, и земля тверже камня, а мне за шестьдесят, и хлопнулась бы я наземь при скорости сто миль в час, так в куски разлетелась бы, что твой арбуз. А потому я не прыгала, а держалась что было силы.
Дядюшка Джилл и тетушка Сара сидели на крылечке, и тетушка Сара услышала, что лошадь понесла. Она это сразу поняла: когда лошадь бежит спокойно, копыта совсем не так стучат. Куда громче и не так ровно, как если бы ее пустили галопом. Она рассказывала, что окликнула дядюшку Джилла, может, три, а может, четыре раза — он все не слышит.
— Лошадь понесла! — кричит. — Лошадь Джейн. Джилл, слышишь? Лошадь Джейн!
Она сразу сообразила, что это я. Тимми-то со своим Ураганом легко справлялся, а Джонни, пони Ти-Боба, не мог так скакать.
— Лошадь Джейн! — кричала тетушка Сара. — Джилл! Джилл, ты слышишь?
Он наконец сообразил, в чем дело, и вышел на дорогу со своей палкой. Я еще с края поселка увидела, что он размахивает палкой вверх-вниз. Не вправо и влево, как надо, а вверх-вниз, вверх-вниз. И все быстрее, все быстрее. Потом схватил ее обеими руками, машет, а сам пятится. Машет и пятится, машет и пятится. А потом я перестала его видеть. Когда и как Регс пронесся мимо дядюшки Джилла или над ним, я не разобрала. Только что он махал палкой — и уже церковь позади осталась. У ворот большого дома Регс встал как вкопанный, и я чуть не слетела на землю через его голову. Мисс Амма Дин стояла на заднем крыльце со своим биноклем. Она все в него видела. Когда тростник убирают, открывается и дорога, и поля на две мили вглубь. Потом она рассказывала, что видела, как Регс выскочил с поля на дорогу и понесся к большому дому прямо на нее, точно поезд по рельсам. Она говорила, что видела, как Ти-Боб скакал на Джонни, расставив локти, бил Джонни каблуками, чтоб он бежал еще быстрее, будто пони, если его как следует погонять, может потягаться с ветром. Она видела и Тимми — чуть позади Ти-Боба. Оба они хохотали. Нет, она, конечно, не могла разглядеть в бинокль их лица или разглядеть в бинокль мои глаза. Но она видела, как я крепко вцепилась в Регса, и догадалась, что я перепугана до смерти. А Тимми и Ти-Боб сидели в седле небрежно, и она поняла, что они смеются, хотя и не слышала их смеха. Когда Регс встал перед воротами, она свинтила бинокль и побежала через двор.
— Это Тимми? — спрашивает.
— Не знаю, — говорю. — Может, оса его ужалила.
Регс тяжело дышал, и я тяжело дышала. И оба мы были мокрые от пота. Холод страшный, а мы оба мокрые от пота.
— Оса? — говорит мисс Амма Дин и смотрит на меня.
Она знала, что это Тимми подстроил: ведь Тимми был сыном Роберта, а уж Роберт такого случая не упустил бы. Да и не упустил: как-то он посадил ее двоюродного брата на почти необъезженную лошадь. Ну, он и полетел через изгородь.
Тут подъехали Тимми и Ти-Боб. Они все еще не кончили смеяться, а Джонни до того устал, что нижней губой чуть за землю не задевал.
— Оса? — говорит мисс Амма Дин и смотрит на меня, а бинокль у нее в руке.
Потом она посмотрела на Тимми. Сначала она чуть было со зла не ударила его этим самым биноклем, но чем дольше она смотрела на него, тем больше видела Роберта. Уж Роберт-то такого случая не упустил бы. Да и не упустил. Но Тимми был не Роберт, хотя и его сын. И должен был помнить, что он все равно черномазый.
— Роберт, от тебя я этого не ожидала, — говорит она Ти-Бобу.
— Но Джейн ведь хорошо ездит верхом, — отвечает Ти-Боб.
— Лучше всех, — говорит Тимми.
— А ты молчи, — говорит мисс Амма Дин. — Тебя не спрашивают. — И ждет, не ответит ли Тимми чего-нибудь. Он же был сыном Роберта, а Роберт наверняка не смолчал бы. — Ну, я скажу мистеру Роберту, — говорит она.
А Тимми смотрит через двор на большой дом. И сидит в седле прямо, а не сгорбившись, как положено негру; плечи расправил, соломенную шляпу чуть сдвинул на глаза и без слов говорит нам, что Роберт ему ничего не сделает. Мне-то это говорить не нужно было — я и так знала, что Роберт ему ничего не сделает. Но мисс Амма Дин этого не знала. Она была женой Роберта уже лет десять-двенадцать, но все еще не знала, чего от него ждать.
— Сними шляпу, Тимми, — сказала она.
Он снял, но смотрел в сторону.
— Ну? — говорит она.
— Хорошо, слушаюсь, мэм, — говорит Тимми, но так тихо, что я-то еле расслышала, а я стояла совсем рядом.
Когда вечером Роберт вернулся домой, мисс Амма Дин рассказала ему, что случилось. Роберт давай хохотать. Жаль, говорит, что ему самому этого увидать не пришлось. И кто знал, что Регс сохранил такую резвость! Он спросил, сильно ли я глаза выпучила. И не слышала ли мисс Амма Дин в свой бинокль, как у меня зубы стучали. Вот ведь всегда все интересное случается, когда его нет дома!
— Ну а Тимми? — спрашивает мисс Амма Дин.
— Джейн ведь жива-здорова, — говорит Роберт.
— А могла бы и разбиться.
— Но ведь не разбилась.
— Но он мог бы снять шляпу, — говорит мисс Амма Дин.
— Я с ним поговорю, — сказал Роберт. — А жаль, что я не видел! Когда снова поедешь покататься, Джейн?
— Уж с ними никогда не поеду.
— Жаль-жаль, — говорит.
Тимми он ничего не сказал. Он знал, что Тимми уважает мисс Амму Дин. Он знал, что Тимми мисс Амму Дин уважает, как всех белых мужчин или женщин. Ну а что он с черными вытворяет, его не заботило.
А скоро после этого случая Тимми схлестнулся с Томом Джо, и пришлось Тимми уехать. Ти-Боб и Тимми ехали по полю, и вдруг лошадь сбросила Ти-Боба, и он сломал руку. Том Джо как раз шел по двору, когда Тимми привез Ти-Боба домой. Том Джо сам отнес Ти-Боба в дом, а потом вышел и спросил у Тимми, что случилось. Тимми сказал, а он сшиб его с ног.
Том Джо ненавидел его люто. Слишком уж много ему сходило с рук. Том Джо знал, что Тимми — сын Роберта Семсона, и Семсона в нем ненавидел не меньше, чем черномазого. Или даже сильнее: ведь это кровь Семсона делала Тимми таким дерзким. Нет, он ударил Тимми не за Ти-Боба. Ти-Боба он ненавидел, как ненавидел всех Семсонов. Он сшиб Тимми с ног, потому что знал: ни один белый в здравом уме виноватым его не признал бы.
Альберт Уокер и Клеон Саймон обдирали во дворе мох. Они повернулись и стали смотреть. Потом они рассказывали, что Тимми поднялся и сказал:
— Хватит, Том Джо.
— Называй меня мистером, черномазый, — говорит Том Джо.
— Белого голодранца я мистером называть не буду, хоть убей меня, — говорит Тимми.
Том Джо замахнулся на него, но Тимми отступил в сторону. Том опять замахнулся, но Тимми опять отступил — и ухмыляется, что Том Джо никак не может его достать. Том бросился на него, но Тимми его оттолкнул, и Том Джо хлопнулся наземь. Потом вскочил и выхватил из рук Альберта шест. Ну, не то чтобы выхватил — Альберт Уокер сам его протянул, до того он боялся Тома Джо. Мох срывали с деревьев шестами, которыми сбивают орехи. Шест ткнут туда, где мох погуще, покрутят, покрутят, да и дернут так, чтобы все содрать. Том Джо выхватил шест у Альберта и ударил Тимми. А Альберт и Клеон, чтобы помочь Тимми, стали звать мисс Амму Дин, чтоб она спустилась во двор унять Тома Джо. Мисс Амма Дин оставила меня с Ти-Бобом, а сама побежала во двор. Я услышала, как она начала кричать на Тома Джо, едва вышла на заднее крыльцо. Она грозилась выгнать его, отправить в полицию, посадить в тюрьму. От ее крика и угроз толку никакого не было. Слишком уж Том Джо ненавидел Тимми, чтоб остановиться. Да и какой белый отправил бы его в тюрьму или хотя бы в полицию, раз Тимми не уберег Ти-Боба. Когда мисс Амма Дин прибежала во двор, Тимми лежал без сознания, весь в крови. Том Джо отшвырнул шест и ушел. Мисс Амма Дин велела Альберту внести Тимми в дом. И когда к Ти-Бобу приехал доктор, ему пришлось лечить двоих.
Когда Роберт вернулся вечером домой, мисс Амма Дин рассказала ему про то, что случилось. Тома Джо надо выгнать или даже посадить в тюрьму. Роберт сказал ей, что не будет ни того, ни другого. Когда белый хорошенько отделает черномазого, который его за руку схватит, за это медаль дают.
— Даже если он черномазый только наполовину? — спрашивает мисс Амма Дин.
— Черномазый всегда целиком черномазый, — ответил Роберт.
Через несколько дней Роберт позвал Тимми в дом, дал ему денег и отослал его. Тимми хотел попрощаться с Ти-Бобом. Роберт сказал, что Ти-Боб спит. Тимми спросил, можно ли прийти, когда Ти-Боб проснется, но Роберт сказал — нет.
Когда Ти-Боб снова начал ездить верхом, к нему приставили Клоди Фердинанда. Но это было совсем не то. Ти-Боб хотел ездить с Тимми. Тимми — его брат, и он хочет, чтобы брат был с ним. Он каждый день ходил ко мне на кухню и все вспоминал о Тимми. Он понимал, почему Тимми седлал ему лошадь, понимал, почему Тимми ехал всегда чуть сзади. Но он не мог понять, почему Тимми должен был уехать, если белый избил его шестом. Я сказала, что Тимми должен был уехать ради своей безопасности. Но он не мог этого понять. Я попросила мисс Амму Дин растолковать ему. Потом попробовал ему растолковать его дядя Кларенс. Потом его крестный отец Жюль Ренар из Байонны. Все мы пытались объяснить ему, все, кроме Роберта. Роберт считал, что ему с Ти-Бобом говорить о таких вещах незачем. Это все входит в нашу жизнь, как солнце или дождь, и Ти-Боб сам все поймет, когда вырастет. Но Ти-Боб так и не понял. Он наложил на себя руки прежде, чем понял, как ему жить на свете.
О людях и реках
Когда же Тимми уехал? Дайте-ка вспомнить, дайте-ка вспомнить. Не то в тысяча девятьсот двадцать пятом году, не то в двадцать шестом: он ведь уехал еще до большого наводнения, а оно было в двадцать седьмом.
А Лонга когда выбрали? Когда выбрали Лонга? После наводнения, да, после. До наводнения здесь, в Семсоне, не было школы. Дети ходили в Боттом или в школу Неда, дальше по большой дороге. Лонга выбрали после наводнения, и в первый раз нам стали давать бесплатные учебники. Вот тогда и начали учить детей здесь, в церкви. Церковь только-только построили, ее даже покрасить не успели.
А в бедах от наводнения повинны сами люди, потому что они вздумали укрощать реки, а воду укротить нельзя. Древний народ, индейцы, поклонялись рекам, а потом пришли белые, индейцев покорили и решили покорить реки. Когда я говорю, что индейцы поклонялись рекам, это вовсе не значит, будто они почитали реку богом. Бог только один, и он надо всеми нами. Но они думали, что реки обладают особой силой, и тут я спорить не буду. Я и сама замечала, что такая сила есть. В поселке растет старый дуб, там, где жила тетушка Лу Болин со своей семьей. Дуб куда старше и поселка, и всего вокруг. Видел этот дуб много-много разного, и знает он многое-многое. И мне не стыдно сознаться, что я с ним разговаривала, а я ведь еще не сошла с ума. Вовсе не обязательно человек сумасшедший, коли он разговаривает с деревьями или реками. Другое дело, если говоришь с канавами или протоками. Канава — это вообще ничто, да и протока немногим лучше. Реки и деревья — совсем другое дело, только, конечно, не китайская вишня. Если уж кто разговаривает с китайской вишней или с терновником, тот наверняка сумасшедший. Но если говорить с дубом, который стоит здесь спокон веку и знает куда больше, чем ты, то это не безумие вовсе, а просто знак уважения.
Вот и индейцы так же уважали реки. Скажем, поймают рыбу, съедят, а кости назад в реку бросят и скажут: "Вернись в воду, стань снова рыбой". Еще рыбу поймают и думают, что это та самая. А белые пришли, покорили индейцев и сказали, что кости рыбой снова стать не могут. Но индейцы не поверили, и их убили. Потом, когда белые убили индейцев, они попробовали покорить ту реку, в которую индейцы верили, — вот тут-то и начались всякие беды.
Я не знаю, когда построили первую плотину — наверно, еще во время рабства. Но старые люди рассказывали, что вода разрушила эту плотину, едва ее построили. И если бы белые поняли тогда, что говорит им река, так потом горя было бы меньше. А они взяли да и построили новую плотину. Река ее тоже снесла. Строят еще одну, а река и ее сносит. Река-то текла здесь сотни и сотни лет. Ну, смоет иногда немного земли и несколько деревьев или в наводнение — хижину-другую, корову там или лошадь, но чтоб река всю округу опустошила — нет, не бывало этого, пока не пришел белый и не попытался ее покорить. Говорят, он был француз. Вот почему до сих пор я не очень-то доверяю французам. Ну чего он приехал из-за моря мешать нашим рекам? Говорят, он сказал: "Эту воду надо держать в границах!" Но сказал он это, конечно, по-французски, ведь он был француз. "Нельзя, чтобы реки текли, как им вздумается, и уносили наши деревья". Вот, заметьте — "наши деревья", будто он посадил здесь хоть одно дерево. Он не знал, что река то здесь дерево прихватит, то там. И так спокон веку.
"Надо держать воду в границах, там, где ей положено течь, — говорил он. — Раз ей положено течь по этому руслу, значит, там мы ее и удержим". Будто можно указать реке, где ей течь. "Насыплем в мешки песку и уложим их вдоль реки, где может произойти наводнение. Так мы ее усмирим".
Они все укладывали и укладывали мешки, и всякий раз, когда река поднималась, она смывала плотины этого француза, словно спички.
Я хорошо помню наводнение двенадцатого года, а уж наводнение в двадцать седьмом году никогда не забуду. Потому что в двадцать шестом дождь все лил, и лил, и лил. И зима выдалась на редкость холодная. А ранней весной опять полили дожди, и вода не уходила в землю, потому что земля уже разбухла от прошлогодней воды, а вся стекала в Миссисипи, в Ред-Ривер, в Ачафалайю. Но после таких дождей даже эти реки не могли вместить в себя всю воду. И ей пришлось искать себе выход.
Когда плотину прорвало, рассказывали люди — а случилось это около Мак-Кри, — шум воды был слышен за несколько миль. Вода грохотала, как ураган, как поезд, как гром, как пушечная пальба. Она смывала все на своем пути, показывала этому французику, которого давно и в живых-то нет, кто тут по-прежнему хозяин. Вырывала с корнями огромные деревья, уносила дома с людьми. А сколько утонувших мулов, коров, собак и свиней она тащила! А сколько людей сидело на деревьях и на крышах — ждали, когда их подберут лодки! И так день за днем. Не знаю уж, сколько их прошло, пока все не стихло. А конец еще не настал. Сила из нее ушла, но сама она осталась. Только текла ровно, бесшумно. Как змея в траве, как тень, как облако. Солнце светит, небо синее-синее, ну и скажешь про себя: "Слава богу, вот и кончилось!"
Это если не оглядываться. А оглянешься — что это? Море. Целое море подбирается к тебе.
Здесь, в Семсоне, вода залила болота и поля, но до поселка не дошла. Потому что Роберт Семсон собрал людей, и они построили дамбу вдоль железнодорожного пути от одного конца Семсона до другого. Люди работали днем и ночью, чтоб остановить воду, и женщины все время готовили для них что-нибудь горячее и варили им кофе. Старики и дети, которым не под силу было копать землю, палками и выстрелами отгоняли диких животных, которые старались спастись от воды на пригорке, где стоял большой дом. Те животные, которые не умели плавать и лазать, искали место повыше, а другого высокого места тут не было. Роберт Семсон сказал, что ни одно дикое животное, будь то хоть головастик, не должно перебраться через насыпь. Он велел всем мужчинам — всем старикам — взять ружья, а пули давал им свои. Он сказал, чтобы они стреляли в любую четвероногую тварь, которая попробует проскочить мимо них. И все время, ночью и днем, мы в поселке слышали стрельбу.
Птицы, как и все остальные животные, покинули болото. Вода, хоть и спокойная, колыхала листву и вспугивала птиц. Мы сначала слышали их крики, а потом видели их, и, когда они пролетали над нами, казалось, черная туча закрыла солнце. День изо дня и даже по ночам мы слышали их пронзительный крик. Олив Джерро сказала, что наступил день Страшного суда. Но это не был Судный день. Просто люди позволили себе зайти далеко.
Теперь люди понастроили бетонные водосливы, чтобы справиться с водой. Но придет день, вода сметет их, как смела плотину. Французик давно умер, когда в двадцать седьмом году вода снесла его плотину. И те, кто построил эти водосливы, тоже умрут, а вода будет жить вечно. Та самая вода, в которую верили индейцы, опять вырвется на свободу. Вот увидите сами.
Хью Лонг
Хью Лонг стал губернатором через год после наводнения. Как бы там ни говорили, а лучше ни для черных, ни для белых бедняков случиться не могло.
Да, теперь о нем много всякого рассказывают. Он был такой, он был сякой. Прямо-таки диктатор — чего только он с народом не проделывал. Когда я слышу такие разговоры, я думаю: "Жили бы вы здесь лет двадцать пять — тридцать назад. Жили бы вы в те времена, когда у бедняков вообще ничего не было. Вы бы тогда меньше зря болтали!"
Даже дети и то спрашивают: а с какой стати надо уважать Лонга? Ну конечно, он ведь называл нас невежественными нигерами. Он всех цветных так называл. Но ведь к этому он добавлял: "Вот тебе книжка, нигер. Научись читать свое имя". А другие говорят: "Вот тебе мешок. Иди собирай хлопок".
Они не знают, что пережили бедняки. Им кажется, будто всегда был школьный автобус, всегда была школа. А я могу рассказать о тех временах, когда бедняки и двух месяцев в году не учились в школе. И чтоб хоть столько проучиться, каждый день отмахивали по пять-шесть миль.
За что же богатые убили Лонга, как эти болтуны думают? Неужто за то, что называл цветных нигерами? Нет, его убили за то, что он помогал беднякам, черным и белым, а помогать беднякам не полагается. Пускай бедняки работают, пускай бедняки сражаются в ваших войнах, пускай умирают. Но помогать им не полагается.
Они теперь говорят, будто Лонга убил доктор Вайс. Но никто не заставит меня поверить в это. Говорят, он убил Лонга за то, что тот сказал, будто в жилах деда жены Вайса текла негритянская кровь. Конечно, здесь найдутся белые, которые убьют вас и за меньшее. И все-таки меня никто не заставит поверить, что Лонга убили за это. Я знаю, богачи подкупили охранников, чтобы те убили Лонга. Все бедняки знают об этом. А им говорят, будто Лонга убили за то, что он сказал про старого судью, будто у него в жилах негритянская кровь. Боялись, как бы бедняки не поднялись, вот и придумали такое. Они знали, как бедняки любили Лонга, и придумали это, чтобы бедняки не поднялись. Ну, обмануть бедняков им не удалось, пускай и не надеются.
Я помню ночь, когда его застрелили, хорошо помню. Я была в поселке у Грейс Тернер. Она хворала, и мы с Олив Джерро и Лин Вашингтон сидели у нее. Сидели и разговаривали, а тут вдруг в дверь постучал Этьен Буайе. Я пошла узнать, чего ему надо, а он рассказал мне, что случилось.
— Знаешь, Джейн, — говорит, — они застрелили Лонга.
— Что ты такое сказал, Этьен? — говорю я. — Этого не может быть! Нет!
А он говорит:
— Его застрелили. Он еще не помер, но его жизнь в опасности.
И рассказал, что сейчас встретил Мануэля Раффина, а тот сам слышал об этом по радио в Байонне. Мануэль тут же сел в машину и вернулся домой, побоялся, как бы белые не начали из-за этого войну. Мануэль и Этьен прошли по всему поселку и всем рассказали, что случилось. Они уговаривали причетника Джаста Томаса ударить в церковный колокол, но Джаст сказал, что не хочет впутываться в дела белых. Грейс позвала Этьена в дом выпить чашку кофе, и скоро в комнату набилось полно народу. Дядюшка Джил опустился на колени и сказал, чтобы мы все помолились за Лонга. Ну да разве ему дали оправиться от раны? После всего, что он сделал для бедняков? Нет, конечно.
Или вы хотите, чтоб я поверила, будто ни один из докторов — а их ведь сколько в больнице-то! — не знает своего дела, не знает, с какой стороны подступиться к раненому, чтобы он не истек кровью? Вы хотите, чтоб я этому поверила? Для чего же тогда все эти врачи, если они не умеют лечить? Нет, они и не пробовали остановить кровь. Они подкупили охрану убить Лонга и, конечно, не стали спасать его жизнь в больнице. Я совсем не удивлюсь, если станет известно, что эти врачи помогли его убить у себя в больнице. Видно, всякий, кто взвалил на себя крест — решился постоять за бедняков, обречен на такую смерть.
Мисс Лили
После того как Лонг стал губернатором и начал раздавать нам бесплатно учебники, приехала первая учительница — мисс Лили. И пока мисс Лили учила тут, она жила в поселке у меня. Когда я стала кухаркой, то перебралась поближе к большому дому — так хозяевам было удобнее. Целый дом мне одной был не нужен, и половину я отдала учительнице. Пока я была кухаркой, все учителя по очереди жили в моем домике.
Мисс Лили была маленькая кривоногая мулатка из Опелусаса. Свои густые черные волосы она стягивали пучком на макушке. Люди часто приходили к церкви и смотрели в окно, как она учит детей. Из них мало кто в свое время ходил в школу — никак не больше половины, и на первых порах всем было любопытно узнать, какая она — то есть мисс Лили. Иной раз глядишь — к каждому окну прилип кто-нибудь и смотрит. Ну, потом попривыкли к ней и перестали ходить туда. Да и дети тоже рады были бы перестать туда ходить. Уж очень мисс Лили была строга. Она не просто требовала, чтоб они уроки учили, а и чтоб девочки приходили в школу в выглаженных платьях и с бантами в волосах. А мальчики чтоб были в галстуках и башмаки начищали до блеска. Самые что ни на есть грубые башмаки, но чтоб начищали.
Месяца два дети терпели, а потом перестали ходить в школу. Все вдруг разболелись. Не простуда, так голова болит, не голова болит, так живот. Мисс Лили стала приносить в школу лекарства — темный пузырек с асафетидой и светлый пузырек с касторкой. Проверит по списку, все ли тут, и, если кого-то нет, идет его искать. Тех, кто пришел, она не учила, а обязательно шла искать заблудшую овечку. Дети чуть завидят ее, бегут в поле, а иногда — в другую сторону, к реке. Я их видела из большого дома. Пробежит мальчишка, а потом мисс Лили. Она быстро бегала, хоть и была кривоногой, бедняжка.
А потом потребовала, чтобы у каждого была зубная щетка. У людей на хлеб нет денег, а мисс Лили подавай зубные щетки. Она назначила недельный срок. Неделя проходит, а никаких щеток нет. Одни трут зубы содой, другие древесным углем, но этого мисс Лили было мало. Она хотела, чтоб они чистили зубы щеткой. Пошла в лавку и попросила две дюжины зубных щеток. Она заплатит из своего кармана, а дети вернут ей деньги потом. Кларенс Семсон, брат Роберта, владелец лавки, сказал, что никаких щеток у него нет и заказывать их он не собирается. Да если кто прослышит, что он заказывает зубные щетки для черномазых, его вымажут в смоле, вываляют в перьях и прокатят на шесте. Так пусть он скажет, что заказывает щетки для белых, говорит Лили. Тогда его так засмеют, говорит Кларенс, что ему останется только самому убраться подобру-поздорову. Мисс Лили не стала спорить и ушла, а в конце недели съездила в Байонну и привезла щетки для всех учеников. Бедная мисс Лили!
Как-то вечером мисс Лили шла по поселку и услышала, как сыновья Оскара Хейнса Ти-Бо и Ти-Ло плачут на дереве. Уже темнело, и мисс Лили разглядеть их не могла, но плач слышала явственно. Один поплачет-поплачет и затихнет, а тут другой начнет. То один, то другой. Мисс Лили остановилась у калитки и заглянула во двор. Оскар жег под деревом сырой мох. Такие дымокуры люди устраивают летом против москитов. Но тут москиты были ни при чем. Мисс Лили постояла-постояла у калитки, да и вошла во двор. Оскар, Вини и остальные сидят на веранде. И молчат. Сидят себе в темноте и молчат. А на дереве плачут Ти-Бо и Ти-Ло. То один, то другой. То один, то другой. Мисс Лили подошла поближе к дереву и увидела на нем два мешка.
— Что тут происходит? — спрашивает она.
— Это вы, мисс Лили? — говорит Ти-Бо.
Мисс Лили еле разобрала его слова: говорил-то он сквозь мешковину.
— Да, это я, — говорит мисс Лили. — Что тут происходит?
— Папа нас коптит, — говорит Ти-Бо.
— Сейчас же слезайте оттуда, — говорит мисс Лили.
— Мешки завязаны, — говорит Ти-Бо.
— Не морочь мне голову, — говорит мисс Лили. — Немедленно слезайте с дерева.
А на веранде все молчат. Сидят себе в темноте и молчат. И даже не смотрят на мисс Лили во дворе.
— Мне что, самой туда влезть? — говорит мисс Лили. — Слезайте!
— Мешки завязаны, мисс Лили, — говорит Ти-Бо.
Мисс Лили подпрыгнула, хотела достать до мешков, но куда там. Тогда она подошла к веранде и посмотрела на Оскара и на всех, кто сидел там в темноте. Она молчала, и они тоже молчали. Будто ее здесь и не было вовсе.
— Вы в своем уме? — спрашивает она.
А они молчат.
— Я спрашиваю, вы в своем уме?
— Пускай не дерзят старшим, — говорит тетушка Джули, мама Оскара.
— Пускай не дерзят старшим? — говорит мисс Лили. — Если дети дерзят старшим, их стегают розгами, а не коптят на костре. Сейчас же снимите их с дерева.
А они молчат.
— Вы слышали, что я сказала? — спрашивает она Оскара.
— Я каждое ваше слово слышу, — говорит Оскар.
— Ну так как же?
— Идите вы домой, к мисс Джейн, — говорит Оскар. — Я ведь не посмотрю, что вы учительница.
— Я уйду, когда вы снимете детей с дерева, — говорит мисс Лили.
Оскар больше ни слова не сказал. Когда он поднялся на ноги, Вини сказала:
— Поберегись, Оскар! Закон на ее стороне.
А он и ей ничего не сказал. Сошел с крыльца, обхватил мисс Лили одной рукой и понес ее к калитке. Мисс Лили кричит и брыкается.
— Что вы делаете? Отпустите меня! Зверь, зверь! Отпустите меня! Помогите! Помогите!
Оскар толчком распахнул калитку, поставил мисс Лили на землю, шлепнул ее по заду и пошел назад через двор. Перед тем как подняться на крыльцо, он бросил в костер еще пучок мха, чтоб дым поднялся повыше.
Мисс Лили ходила от одного дома к другому, пыталась уговорить кого-нибудь пойти с ней и заставить Оскара снять детей с дерева. Но никто не согласился, и она прибежала домой попросить меня пойти вместе с ней к Роберту Семсону. Я сказала ей то же самое, что сказал бы Роберт Семсон: не суйтесь не в свое дело. Она спросила, понимаю ли я, что говорю. Я сказала, что понимаю, — не суйтесь не в свое дело. Но она все равно хотела поговорить с Робертом. Я проводила ее туда. Роберт сказал, чтоб она учила детей, как ей положено, и не вмешивалась в то, как их воспитывают отцы и матери. Мы пошли домой. Мисс Лили учила в школе до конца года, а потом поехала к себе в Опелусас и не вернулась.
После мисс Лили появился Харди. Джо Харди был один из самых плохих людей, каких только я встречала в жизни. Черный коротышка с лоснящимся лицом и золотым передним зубом. Жаловался беднякам, что правительство ему мало платит, а потому будет им благодарен за всякую помощь. Бедняки продавали овощи со своих огородов, чтобы дать деньги Джо Харди. Продавали яйца, продавали цыплят, забивали свиней и продавали мясо, чтобы дать деньги Джо Харди. Но и этого ему было мало; он принуждал людей выращивать на его участке лук и картошку для него. Вечером он уводил учеников в поле, и они рыхлили землю на его участке. Детям он говорил, что так учил наш великий руководитель мистер Букер Вашингтон — что дети должны учиться добросовестно и честно работать.
Но и этого Харди было мало. Скоро он начал заводить шашни со старшими школьницами. Все оставлял в школе после занятий то одну, то другую ученицу помогать проверять тетрадки. Как-то раз он оставил в школе Фрэнсин, дочку Маршалла Буайе. Маршалл с двумя сыновьями пошли искать Харди. А Харди с Фрэнсин сидят у стола и разговаривают. На дворе почти ночь. Горит лампа. Тетрадки сдвинуты в сторону, а они сидят у стола и разговаривают. Маршалл велел Фрэнсин идти домой — он с ней там поговорит. А Харди велел погасить лампу и запереть школу, потому что ему и сыновьям придется кое-куда с ним пойти. Харди подпер дверь колом, и Маршалл повел его через поселок на кладбище. Там сыновья привязали Харди к дереву, а Маршалл взял здоровый прут, и каждый раз, как он хлестнет Харди, тот вопит так, что его из конца в конец поля слышно. За полночь Мануэль Раффин отвязал Харди. Ему надоело слушать, сказал он, как Харди охает. Понял, что заснуть он ему не даст, взял на кухне нож, пошел на кладбище и разрезал веревки. А Харди, вместо того чтобы убраться восвояси, взял да и поехал в Байонну жаловаться на Маршалла. Шериф Сэм Гайдри спал, но Харди его разбудил.
— Один человек хотел избить меня до смерти, — говорит он.
— Похоже, только хотел, — говорит Гайдри.
А потом он сказал Харди, что все про него знает и уже сам собирался с ним потолковать. Он сказал, что арестовывать Маршалла не намерен, а вот Харди дает одну минуту, чтобы тот убрался из здешних мест. Он вернется в дом, умоется, чтобы прогнать сон, наденет пояс с пистолетом, возьмет свой фонарь с четырьмя батарейками и пойдет его искать.
Никому не известно, нашел ли Гайдри в ту ночь Харди или нет. Может, он его просто пугнул. Но только с этой ночи о Харди не было больше ни слуху ни духу.
Полтора года мы были без школы, а потом приехала девушка по фамилии Лефабр.
Семья Лефабр
Мэри Агнес Лефабр происходила из старинного креольского рода. Жили они в Новом Орлеане. Ее бабушка была почти совсем белая. Такие, как ее бабушка, нравятся белым мужчинам. До войны устраивались большие балы, и белые мужчины ходили на них подыскивать себе цветных подруг. Они на них не женились, но иной раз жили с ними до самой смерти. Фамилия того, кто жил с бабушкой этой Мэри Агнес, была Лефабр
Его фамилию она дала своим детям. Некоторые белые не хотели, чтоб такие дети носили их фамилию, но старик Лефабр не спорил. А когда умер, так оставил им деньги, землю и всякое имущество — даже рабов. Мэри Агнес всю жизнь старалась искупить это — искупить то, что те, от кого она происходила, сделали с теми, от кого она тоже происходила. Старалась искупить прошлое, а это невозможно. Особенно такой хорошенькой девушке, как Мэри Агнес. Была она среднего роста, но немного худощава. И чем-то напоминала здешних итальяшек, которые называли себя сицилийцами. Но только они скоро толстеют, а она оставалась тоненькой. Волосы у нее были очень длинные и такие черные, каких я не видывала. Бывало, садится расчесывать их на ночь, а я спрашиваю, не помочь ли ей. И она тогда садилась на пол передо мной, эта самая Мэри Агнес Лефабр.
После войны ее семья переехала из Нового Орлеана в Креол-Плейс. Уж почему, я не знаю. Может, у них были там родственники. Там всегда жили мулаты, еще задолго до войны. А теперь их и вовсе много стало.
Люди в Креол-Плейсе все для себя делали сами: сами пахали землю, сами выращивали свиней и скот, сами их забивали. У них была своя церковь — католическая. Сами построили школу, и сами находили для нее учителей. И учитель и священник у них всегда были из местных. Устраивали свои праздники, свои танцы и приглашали только своих. Пусть кожа у вас была совсем белая, но, раз вы не из местных, они с вами дела иметь не хотели. А если кто уезжал оттуда, там на него уже смотрели как на чужого. Некоторые уехали на Север и начали выдавать себя за белых, другие остались цветными. Но как бы там ни было, тот, кто уехал от них, вернуться обратно уже не мог.
Я расскажу вам одну небольшую историю, чтобы вы поняли, как эти люди смотрели на жизнь. Все это чистая правда. В Семсоне еще живы люди, которые вам подтвердят, что так это и было. Вот спросите Этьена или Пэпа — оба подтвердят.
Сэфо Браун ехал как-то через Креол-Плейс и увидел, что мулаты там развешивают на деревьях фонарики и гирлянды из цветной бумаги. Была пятница. Ну он и решил, что в субботу вечером у них будут танцы, а потому сказал Клоди — Клоди Фердинанду, — давай поедем туда. Сэфо и Клоди были белей белых и знали, что не дело им лезть к креолам. Отцы и у Сэфо, и у Клоди были белые, но другие белые, чем креолы. Просто белые бедняки. Все стали уговаривать их не ездить туда.
— Не суйтесь вы к ним, — говорят. — Вы же знаете, что вытворяют эти креольские мулаты.
Но Сэфо и Клоди уперлись и слушать ничего не желают.
— Мы такие же белые, как и они, — говорят. — И даже побелее многих из них. И все равно там будет столько народу, что нас не заметят.
Они взяли лошадь Джо Сиппа и поехали. До Креол-Плейса от Семсона лишь пять-шесть миль в сторону Батон-Ружа. Немножко не доехав, они привязали лошадь к дереву и дальше пошли пешком. А как пришли на танцы, так давай заговаривать с тамошними девушками. Сами по-креольски и двух слов не знают, но девушки немножко знали английский, вот они и начали с ними любезничать. А тем временем мулаты их потихоньку окружили. Говорил только высокий худой в белой ковбойской шляпе.
— Кого вы здесь знаете?
Сэфо рассказывал, он только собрался ответить, что они здесь никого не знают, а просто случайно сюда заехали и сейчас уйдут, как Клоди и говорит.
— Жака. Мы знаем Жака.
Уж на танцах у креолов всегда найдется хоть один Жак. Высокий мулат в белой ковбойской шляпе говорит:
— Отыщите-ка Жака.
Подошел Жак. Белая рубашка, солдатские штаны.
— Жак, ты знаешь этих нигеров? — спрашивает высокий мулат в белой ковбойской шляпе.
— Нет, — говорит Жак. — Вроде бы не знаю, Рафаэль.
А Клод говорит:
— Я хотел сказать не Жак, а Жан.
Сэфо рассказывал, он только хотел попросить Клоди заткнуться и уносить ноги, пока не поздно, так нет: теперь Клоди Жан понадобился. Высокий мулат в белой ковбойской шляпе спрашивает:
— Это какой Жан?
— Жан? А… этот… ну… Жан Лефабр, — говорит Клоди. — Жан Лефабр. Да, этот Жан, Жан Лефабр. Но может, он не пришел. Когда он мне говорил про праздник, так сказал, что плохо себя чувствует. У него голова болела.
Высокий мулат в белой ковбойской шляпе говорит:
— Да нет. Голова у него прошла. Отыщите-ка Жана.
Пришел Жан. Маленького роста, кривоногий мулат. В очках с толстыми стеклами.
— Чего тебе, Рафаэль?
А высокий мулат в белой ковбойской шляпе спрашивает:
— Как насчет этих двух нигеров?
— Кого-кого? — говорит Жан.
— Ты их знаешь?
Жан подошел к Сэфо и посмотрел на него, а потом подошел к Клоди. На Клоди он глядел дольше, и все, даже Сэфо, уже начали думать, что, может, он и правда знает Клоди. Но тут он отступил и покачал головой:
— Нет, не знаю.
— Да ты что, Жан? — говорит Клоди. — Как же так, ты меня не знаешь? Брось дурачиться. Ты же мне в Байонне рассказывал про эти танцы.
— Байон? Байон? — говорит Жан. — Олси Байон. Он что, еще жив? Ну, как они поживают — Олси Байон и Аделина?
— Кто? Что? — спрашивает Клоди. — Что ты несешь, Жан? Это город, это не человек, Жан. Город. Город! Выше по реке. Там покупают мясо, рис. Там живет много людей.
— Байон? Город? Мясо? Не понимаю, — говорит Жан.
— Ну хватит, — говорит высокий мулат в белой ковбойской шляпе. — Ланглуа, принеси-ка мне вожжи из того фургона.
Сэфо рассказывал, что побежал еще раньше, чем высокий мулат сказал про вожжи, а тогда только прибавил шагу. У калитки он сшиб с ног толстую даму — она была мягкая-мягкая, пахло от нее сладко-сладко, и, когда он с ней столкнулся, лицо ему обсыпало пудрой. Потом он сшиб с ног мужчину маленького роста, но крепкого: он ткнул Сэфо в живот очень больно. Клоди не стал ждать, когда калитка освободится, и прыгнул через забор. Колючая проволока вырвала у него из ноги лоскут мяса величиной с большой палец. Они припустили во весь дух по дороге в Семсон. Сэфо рассказывал, что он проскочил мимо лошади Джо Сиппа, а Клоди кричит сзади, чтоб он отвязал лошадь.
Ну, он только подумал: "Сам и отвязывай. Это ты выдумал танцевать тут".
Позади них мулаты уже вскочили на лошадей: Сэфо и Клоди слышали, как они вопят и стреляют в воздух. Сэфо рассказывал, что Клоди еще не успел крикнуть ему: "Сворачивай в поле", а он уже туда свернул и припустил во весь дух, потому что Клоди бежал следом за ним. Он рассказывал, что слышал, как Клоди стонет:
— Господи, кровь так и хлещет! Так и хлещет!
Ну а Сэфо думал только: "Наддай, наддай, братец, нам тут прохлаждаться некогда".
Сахарный тростник был высокий, и только это их спасло. Они спрятались в тростнике и часа два-три слушали, как мулаты разъезжали на лошадях по рядам. В полночь мулатам это надоело, и они уехали. Лошадь, которую оставили Сэфо и Клоди, они отвязали, повернули в сторону Семсона и хлестнули кнутом. Лошадь прибежала домой раньше Сэфо и Клоди. Рано утром Клоди отвезли к доктору, и доктор сказал, что он остался жив только потому, что в рану набилась грязь. Не то он истек бы кровью.
Когда это случилось, Мэри Агнес еще ходила в школу в Новом Орлеане. Она рассказывала мне, что в этом участвовали ее родственники, они линчевали бы Сэфо и Клоди, если бы отыскали их. И полиция не помогла бы. Креол-Плейс принадлежал мулатам, другие туда не совались.
Когда Мэри Агнес приехала к нам учить детей, жители Креол-Плейса сказали ей, чтоб теперь она не вздумала возвращаться домой. Но это было после того, как они пытались вернуть ее, а она не соглашалась. Когда они в первый раз за ней приехали, старик прихватил с собой всех сыновей. Они грозились избить ее, а старик даже дал ей пощечину. Но она сказала, что домой не поедет. Потом как-то вечером отец приехал один. Я слышала, как за стеной он просил ее вернуться домой. Ее простят, если она вернется сейчас же. Она сказала ему, что не может вернуться, и он заплакал и уехал.
Цветок зимой
В первый раз Ти-Боб увидел Мэри Агнес в тот день, когда она привела своих учеников попрощаться с его дядей. В старину все были обязаны являться в дом для прощания с умершим хозяином. Если хозяин был добрый, вы шли, если он был злой, вы все равно шли. Когда Кларенс Семсон умер, Роберт сказал, что все здесь должны прийти отдать последний долг его брату. Чтоб все вымылись и надели что получше. Дети — утром, взрослые — вечером. Тихо пройдут мимо покойника и уйдут. И чтоб никаких воплей и причитаний. Если кто хочет его оплакивать, пусть оплакивает во дворе. Когда Мэри Агнес пришла с детьми, Ти-Боб был не в доме, а стоял у дверей сарая с Этьеном Буайе. Этьен в то время заведовал инструментами и следил, чтобы они всегда были наточены и блестели. Он и чинил все, что ломалось. Они с мистером Исайей Ганном привели в порядок все очаги и дымоходы в поселке. Такого плотника, как мистер Исайя, пожалуй, никогда еще во всем штате не бывало. Как в доме что ветшало, он сразу подновлял это. Когда веранда осела, он ее перестроил, и ступеньки тоже. Только он давно умер. Так вот, Этьен и Ти-Боб стояли возле сарая, когда Мэри Агнес вошла во двор с детьми.
Этьен рассказывал, что Ти-Боб сказал:
— Не нравится мне это. Дети дядю Кларенса вовсе не любили. Они его боялись и ненавидели.
Я стояла на заднем крыльце и смотрела на них, потому что должна была впустить детей в дом. Дети прошли через двор, будто солдатики. Малыши, взявшись за руки, шли впереди, старшие за ними, а позади всех — Мэри Агнес. Был не то октябрь, не то ноябрь, и на детях были пальтишки или свитера. Мэри Агнес была вся в черном. А лицо — под черной вуалью. Поэтому я уверена: в тот день Ти-Боб не разглядел ее. Она была католичкой, как я уже сказала, и держала в руках четки. Я открыла заднюю дверь, подождала, чтобы дети и Мэри Агнес вошли в дом, и проводила их в зал. В зале стоял только гроб да десяток стульев, но не для черных, а для белых, которых ждали вечером. Дети прошли вокруг гроба, посмотрели на покойника и вышли в кухню — подождать учительницу. Несколько старших девочек тихо плакали, и я увидела, что и Мэри Агнес утирает глаза. Я стояла в дверях и глядела, как они идут через двор. Я видела, что Ти-Боб и Этьен смотрят на Мэри Агнес, но Ти-Боб так и не увидел ее лица. Дети шли по поселку так же тихо, как подходили к дому. Уроков у них в тот день не было — школу закрыли до похорон. Их даже во двор не выпускали играть — вдруг не ровен час Роберт мимо проедет, а они веселятся.
Ти-Боб увидел лицо Мэри Агнес, только когда она пришла в большой дом несколько дней спустя. Она хотела попросить у Роберта дрова для школы, но Роберта дома не было. Ти-Боб сидел у меня на кухне и пил кофе. Он спросил, с кем это я разговариваю у двери, и я ответила, что пришла учительница из поселка просить дров. Ти-Боб сказал, чтоб я ей сказала, что дрова она получит, а сам уже подошел к двери. Он держал чашку с кофе, но ко рту ее так и не поднес. И даже чуть не уронил, едва поглядел на Мэри Агнес. До того покраснел, что я уж думала, он прямо тут упадет в обморок. Он стоит, смотрит на нее и словно окаменел. Ну, она кивнула и сошла с крыльца. А он все стоял у двери и смотрел, как она идет через двор.
Ти-Боб просидел до вечера. Иногда я просила его подвинуться, потому что он мешал мне работать. А вечером, когда я собралась домой, он сказал:
— А эта девушка ведь почти белая, верно?
— Какая еще девушка, Ти-Боб?
— Учительница.
— Почти белая, да не совсем.
— Давно она здесь?
— Около двух лет, — говорю я. — Что это вы меня вдруг расспрашивать начали?
Ти-Боб учился в Луизианском университете в Батон-Руже. В воскресенье вечером он уехал, но дня через два вернулся домой. Роберт и мисс Амма Дин никак не могли понять, что случилось. Но я-то все понимала. Я только не знала, как далеко это зайдет. А хоть бы и знала, так не Джейн Питтман указывать Роберту Семсону-младшему, что ему делать и чего не делать, если он в любую минуту мог сказать, чтоб я закрыла свою черную пасть. Рассказать Роберту? А что рассказать-то? И разве Роберт сам того же не делал? Пойти к мисс Амме Дин? И что ей сказать? "Мисс Амма, а Ти-Боб, того гляди, свяжется с учительницей"? А она вдруг скажет, чтоб я не совала нос в чужие дела? Уж Роберт-то наверняка так и сказал бы.
Ти-Боб весь день болтался на кухне. Но до позднего вечера ничего у меня не спрашивал. А потом захотел узнать, живет ли Мэри Агнес здесь или каждый день уезжает. Я сказала, что она живет у меня на другой половине дома. Он уехал. И опять вернулся в конце недели. Все были рады ему, но не могли понять, почему он вдруг зачастил домой. Раньше по две-три недели не приезжал. У богатого молодого человека всегда есть приятели, которые его наперебой приглашают к себе.
Он ходил по поселку, чтоб увидеть Мэри Агнес. Было это в пятницу. И в субботу. В воскресенье он опять ходил там. Потом спросил у меня, где она. Я сказала, что она учит тут по будним дням, а вечером в пятницу уезжает. У нее друзья в Новом Орлеане, и она гостит у них, а утром в понедельник возвращается сюда. Сказала я ему это и спрашиваю:
— А чего это вы меня расспрашиваете, Ти-Боб? Так вы мне и не ответили.
В воскресенье вечером он уехал в Батон-Руж, а во вторник вернулся. Притворился, будто заболел. Проболел он около часа, а потом сел на лошадь и поехал через поселок. У церкви не остановился, а проехал до самого поля, где рубили сахарный тростник. Побыл там недолго, а потом подъехал к лебедке и поговорил с Билли Редом. Когда он вернулся в поселок, дети уже играли во дворах.
Дочка Страта Хокинса Этель рассказывала, что мисс Лефабр оставила ее после уроков решать задачки. И они стояли у доски, когда вошел Ти-Боб. Этель рассказывала, что сначала испугалась — ведь она белых в школе не видела. Она спросила мисс Лефабр, можно ли ей уйти. Но спросила так тихо, что мисс Лефабр не расслышала. А может, расслышала, да не поняла, а может, и поняла, но просто не хотела оставаться с Ти-Бобом одна.
Мисс Лефабр и говорит:
— Чем могу быть вам полезной, мистер Семсон?
Но слово "мистер" она сказала так, как говорят белые при неграх. А не так, словно считала себя обязанной называть человека вроде Ти-Боба мистером. Однако при таких, как Этель, белые всегда говорят друг другу "мистер" или "мисс".
Ти-Боб ответил, что проезжал по поселку и решил зайти узнать, получила ли она дрова. Потом, рассказывала Этель, Ти-Боб взял учебник и стал листать. Долистал до вырванной страницы и спросил у мисс Агнес, много ли учебников уже так истрепано. Мисс Агнес ответила, что много, но она в таких случаях велит детям читать по книжке соседа. Ти-Боб положил учебник и взглянул на шапки и пальто на вешалке у стены.
— А у вас тут тепло и уютно, — сказал он.
— Печка хорошо греет, — ответила Мэри Агнес.
Она спросила, не хочет ли Ти-Боб послушать, как дети читают стихотворения. Они уже готовят к рождеству маленькое представление, и некоторые уже выучили свои роли. Он ответил, нет, не сегодня, а как-нибудь в другой раз. А потом стоял и смотрел на Мэри Агнес, точно маленький мальчик, рассказывала Этель. Сначала она испугалась Ти-Боба, а теперь ей стало смешно. Будь он взрослым мужчиной, она бы знала, что ей там не место, и попросила бы у мисс Лефабр разрешения уйти. Но Ти-Боб не был взрослым. Губы у него были слишком яркие и нежные, глаза слишком большие и печальные. И кожа на лице недостаточно огрубела. И усы еще не росли. Он еще ни разу не брился. И так ни разу и не побрился.
На другой день Ти-Боб уехал в Батон-Руж, но вернулся в Семсон в пятницу вечером до того, как Мэри Агнес уехала в Новый Орлеан. Он уже изучил расписание автобусов. В два тридцать она уехать не может, потому что уроки кончаются в три, и, значит, она ездит в Новый Орлеан семичасовым автобусом. Значит, на дорогу она выходит между половиной седьмого и без четверти семь. В половине седьмого Ти-Боб проехал по дороге на машине. Там был Клэмп Браун и видел его. Клэмп тогда ухаживал за Луизой Ричард и собирался к ней в Батон-Руж. Браун сказал, что Ти-Боб доехал до клуба "Три звезды", развернулся и поехал обратно. Но Мэри Агнес еще не пришла, и Ти-Боб проехал дальше по дороге. Только недалеко — встретиться с этим автобусом он не хотел. Через несколько минут он уже вернулся. Мэри Агнес стояла там и разговаривала с Клэмпом. Когда машина остановилась и Клэмп увидел, кто в ней, он отошел в сторонку.
Ти-Боб не стал выходить из машины, а только открыл дверцу. Кпэмп сказал, что всего разговора не слышал, но все-таки понял, что Ти-Боб говорил не о том, как ему нравится Мэри Агнес, а о рождественском представлении, о дровах, о печке, но не о том, как она ему нравится.
Когда подошел автобус, Клэмпу пришлось пройти мимо Ти-Боба. И он говорил, что хоть он и не совсем уверен, но вроде бы перед тем, как водитель закрыл дверь, Ти-Боб сказал: "Мэри Агнес!"
Признание
Ти-Боб молчал сколько мог, но ему нужно было кому-нибудь рассказать, и он рассказал рыжему Джимми, сыну Кларенса Кейя. У Кларенса Кейя с братьями была плантация за Байонной, недалеко от Тейнвилла. Так, небольшая ферма, но они называли ее плантацией, чтоб люди считали их аристократами. Ти-Боб познакомился с Джимми Кейя в университете в Батон-Руже, и в конце недели они обычно возвращались домой вместе. Джимми Кейя высаживал Ти-Боба в Семсоне, а сам ехал дальше, за Байонну. Ти-Боб рассказал Джимми о Мэри Агнес недели через две после того, как Клэмп видел, как они разговаривали на дороге. Только с тех пор он с ней виделся еще много раз. Ти-Боб приезжал домой почти каждый день и каждый раз отправлялся верхом через весь поселок до поля, а потом обратно, так, чтобы попасть к школе, когда дети расходились. Если Мэри Агнес оставалась там и после ухода детей, Ти-Боб разговаривал с кем-нибудь в поселке, пока она не выходила. Если он ехал с поля, а она уже шла по поселку, он догонял ее и ехал рядом, а она шла с книжками и тетрадками в руках.
Теперь про них знали все. И в поселке, и в большом доме, и на реке. От Байонны до Батон-Ружа только об этом и говорили.
— Вот почему он и не смотрит на Джуди, дочку Фрэнка Мейджера. Еще не перебесился. Говорят, нашел какую-то на отцовской плантации. Из этих почти белых полукровок, из Нового Орлеана.
Такие вот пересуды шли от Байонны до Батон-Ружа, по обоим берегам реки.
Раз я увидела их у самой калитки. Ти-Боб сидел на лошади, а Мэри Агнес стояла рядом с книжками и тетрадками в руках.
— Как ты себя чувствуешь, Джейн? — спросил Ти-Боб.
— А так же, как час назад, Ти-Боб, — говорю.
Сидит себе на лошади и сердится, что вот я тут и гляжу на него.
— Вроде бы вы в поле поехали, — говорю я.
— А я был там, — говорит.
— Джуди приехала, — говорю.
Приехать-то она не приехала, да только я подумала, что ему лучше у себя дома быть, чем торчать у моей калитки. Он повернул лошадь и ускакал. А Мэри Агнес ни слова не сказал. При мне ему не полагалось прощаться с ней, как не полагалось нести ее книжки и тетрадки по поселку.
— Что тут промеж вас происходит, Мэри Агнес? — спрашиваю. — Конечно, можешь сказать мне, что это не мое дело, если захочешь.
— Ничего.
— Верно? — спрашиваю. — Хоть, конечно, это и не мое дело.
— Да ничего не происходит, мисс Джейн, — говорит.
— Я-то верю, — говорю. — Только лучше от тебя самой это услышать.
— Он еще совсем мальчик, — говорит. — И совсем одинокий.
— Он мужчина, Мэри Агнес, — говорю. — И он Семсон.
— Что же я могу сделать, если он хочет ехать по поселку рядом со мной? — говорит она. — Не могу же я его гнать, когда он тут у себя дома.
— А о чем вы разговариваете?
— Да ни о чем. Школа. Дети. Дрова. Рождественское представление.
— А о вас самих не разговариваете? — спрашиваю.
— Нет, мэм.
— Разве ты не понимаешь, что ему об этом говорить хочется? — спрашиваю.
— Меня этот мальчик не интересует.
— Я тебе верю, да только ты его интересуешь.
— Это уж не моя вина, — говорит. — Меня мужчины не интересуют, ни черные, ни белые. Я здесь ради детей. Из-за них я из дома ушла.
— Придет время, он тебе скажет, что его интересует.
— Я знаю, как держаться с Робертом.
— Так ты его и называешь? Робертом?
— Да, мэм.
— И он терпит?
— Он сам попросил, чтоб я называла его Робертом, — говорит она. — Да и как его иначе называть?
— А мистером?
— Только при детях, а наедине никогда. Нет, мэм, никогда. Я бы, наверно, сначала задохнулась от смеха.
— И ты думаешь, что умеешь держаться с ним? — спрашиваю.
— Да, конечно, — говорит. — Роберт очень порядочный.
— Он-то — да, ну а все тут вокруг, Мэри Агнес? — говорю.
— Роберт — человек, а не просто белый, мисс Джейн, — говорит она.
— И как долго, по-твоему, ему позволят оставаться таким?
— Роберт хороший, — говорит она. — Вот почему я и не боюсь с ним идти по поселку. В тот день, когда он переступит границу, я скажу ему, что он слишком порядочный человек для этого.
— И ты думаешь, он послушается?
— Да, мэм, потому что он по-настоящему порядочный. Есть такие люди, мисс Джейн.
— Есть-то есть, — говорю. — Да только они сильные. А Ти-Боб не из них.
Как-то раз мисс Амма Дин спрашивает:
— Джейн, что у Роберта с этой девушкой?
— Ничего, мисс Амма Дин, — говорю.
— Я их видела в бинокль.
— Я с ней говорила, — отвечаю. — Между ними ничего нет.
— Мне не хотелось бы, чтобы он думал, будто имеет такое право, — сказала мисс Амма Дин.
Роберт услышал наш разговор и пришел на кухню.
— Какое право? — спрашивает.
Мисс Амма Дин посмотрела ему прямо в глаза и сказала:
— Причинять людям боль.
— А может, она его подманивает? — говорит Роберт. — Ты об этом не подумала?
— Она не ездит каждый день в Батон-Руж встречаться с ним, — говорит мисс Амма Дин. — Она не приходит сюда седлать его лошадь.
— Ей это и не нужно, — говорит Роберт.
— Ты-то, конечно, знаешь! — говорит мисс Амма Дин.
— Кое-что знаю.
— Я с ним поговорю еще раз.
— Оставь его в покое, — говорит Роберт.
— Я не хочу, — говорит мисс Амма Дин.
— Чего ты не хочешь?
— Новых Тимми Гендерсонов.
— Э-эй, Ева! Не трогай этого яблочка! — говорит Роберт.
— Ева или не Ева, но он мой единственный сын, — говорит мисс Амма Дин.
— Мой — нет? — говорит Роберт.
— Нет, — говорит мисс Амма Дин и смотрит ему прямо в глаза.
На другой день она вышла на заднее крыльцо и начала следить за Ти-Бобом в бинокль. Посмотрела-посмотрела и дала бинокль мне. Я увидела, что Ти-Боб повернул с поля обратно. Тут она взяла бинокль и стала смотреть сама, а потом опять дала мне. Я увидела, что Ти-Боб скачет обратно, нахлестывая лошадь. Мисс Амма Дин взяла у меня бинокль и что-то подкрутила. Ти-Боб был уже в поселке, и надо было настроить бинокль, потому что поселок намного ближе поля. Когда она дала бинокль мне, я увидела Ти-Боба и Мэри Агнес. Ти-Боб ехал на лошади, а Мэри Агнес шла рядом, со своими книжками и тетрадками. Я то видела их, то нет, потому что их заслоняли дома, и я видела их только между домами. Мисс Амма Дин взяла у меня бинокль и велела пойти сказать Ти-Бобу, что приехала Джуди Мейджер. Когда я пришла в поселок, они стояли возле моей калитки.
— Приехала Джуди, — говорю я.
— А мне-то какое дело? — говорит Ти-Боб.
— Как? — говорю. — Мне что — вернуться и сказать вашей маме, что вы мне нагрубили, Ти-Боб?
— Да, — говорит.
— Это что же такое, Ти-Боб?
Он ничего не ответил, а отвернулся и стал смотреть на Мэри Агнес. Она попрощалась с ним и вошла в калитку. А я смотрела на него и видела, как ему хотелось, чтобы она осталась тут. Он смотрел на нее, пока она не вошла в дом, но не так, как белые смотрят на негритянку. Он смотрел на нее с любовью — с такой любовью, которая у человека в самом сердце. Не часто я видела, чтоб мужчина, белый или черный, смотрел на женщину таким взглядом. Когда она закрыла за собой дверь, Ти-Боб посмотрел на меня. И я испугалась. Его лицо сказало мне, что ради Мэри Агнес он готов пойти против семьи, против всего на свете.
Когда на другой день мисс Амма Дин опять спросила меня о них, я сказала, что Ти-Боб, по-моему, любит ее, но она его не любит и не пытается завлечь. И я сказала, что лучше всего отослать ее отсюда, и поскорее. А мисс Амма Дин стоит и смотрит на меня. Потом прижала руку к груди. Потом глубоко вздохнула. А потом спросила, как я могу говорить такое. Мне должно быть стыдно даже думать, будто Ти-Боб может полюбить подобную женщину, ведь я же знаю, что весной будет его свадьба с Джуди Мейджер. И чтобы показать, как я ошибаюсь, она в эту же пятницу устроит для Ти-Боба и Джуди вечеринку и пригласит всех друзей.
Вот в тот день, когда она устраивала вечеринку, Ти-Боб и рассказал Джимми Кейя про Мэри Агнес. Они возвращались на машине Джимми — на машине его отца. Джимми потом рассказывал, что гнал быстро, потому что ему надо было еще доехать до дома и успеть на вечеринку. Шел дождь. Он уже третий день шел. Такой как зарядит, так уж не перестанет. Он рассказывал, что минут пятнадцать-двадцать Ти-Боб сидел и молчал. А он тоже молчал — решил, что Ти-Боб думает о вечеринке. Потом Ти-Боб вдруг попросил, чтоб он остановил машину — он хочет что-то сказать.
Джимми спросил: а на ходу этого сказать нельзя? А Ти-Боб ответил, что нет. Тогда Джимми спросил: что, разве он не торопится домой переодеться к вечеринке, не для себя, так для матери?
Ну, Джимми нашел удобное место и остановил машину. Тут Ти-Боб и сказал ему про Мэри Агнес. Сидя рядом с ним в его машине, под дождем, Ти-Боб сказал ему, что любит цветную девушку больше собственной жизни. Джимми рассказывал, что сначала подумал, будто ослышался. Он знал, что Ти-Боб встречается с этой девушкой всякий раз, как приезжает домой, но думал то же, что и все остальные, — что Ти-Боб просто решил перебеситься до женитьбы. Ему и в голову не приходило, что дело куда серьезнее, и он попросил Ти-Боба повторить все сначала и помедленнее.
Ти-Боб сказал:
— Я никогда никому об этом не говорил. Даже ей. А тебе рассказываю, потому что ты мой друг.
— Друг-то друг, да не настолько, — говорит Джимми.
— Но к кому же мне еще обратиться? — спрашивает Ти-Боб. — Кто еще меня поймет?
— Никто, — говорит Джимми Кейя, — и я не понимаю.
— Тогда кто же? — спросил Ти-Боб.
Джимми Кейя рассказывал, что тут уж он не сдержался, а схватил Ти-Боба за лацканы и давай трясти.
— Роберт, Роберт, Роберт! — говорил он. — Разве ты не знаешь, кто ты такой? Разве ты не знаешь, что такое она? Разве ты до сих пор этого не знаешь? Учишься в университете и еще не знаешь? Она черная, Роберт! Черная! Она только кажется белой. Но в ней африканская кровь, а потому она черномазая, Роберт!
Он тряс его и кричал, но, рассказывал Джимми, Ти-Боб словно ничего не слышал.
— Роберт, — говорил Джимми, — ты же ходишь на лекции. Разве ты не слышал, как он объяснял? (Не помню уже, как он назвал учителя, кажется Гэмби). Ты думаешь, с тех пор она стала другой? Она все та же, Роберт. Она знает свое место и ждет только, что вот ты приедешь. Ничего другого она не ожидает. Она знает свое место, Роберт. Она его знает. Он (да-да, фамилия его была Гэмби) говорил нам, что так было в те времена, но так осталось и теперь.
Но Джимми видел, что Ти-Боб его не слышит.
— Роберт, ты мой друг, и я этого не допущу, — сказал он. — Я добьюсь, чтобы ее отсюда выгнали. Я добьюсь, чтобы ее выселили из нашего штата.
А Ти-Боб сидел, словно ничего не слышал или думал о чем-то другом.
— Послушай, Роберт, — сказал Джимми Кейя и повторил то, что ему всю жизнь говорили все, начиная от отца и кончая учителем: — Если ты ее хочешь, пойди к ней и возьми ее. Или пойди в школу и выгони детей — пусть подождут во дворе. Возьми ее в канаве, если не терпится. Она же для этого предназначена. Только для этого.
Джимми Кейя рассказывал, что никак не ждал этого удара. Он не ждал его, потому что Ти-Боб даже в лице не изменился. Он рассказывал, что и разозлился Ти-Боб всего на секунду — он смотрит, а Ти-Боб уставился на свою руку. Так человек смотрит на пистолет, из которого убил кого-то, словно спрашивает: "Откуда он взялся? Кто вложил мне его в руку? Как я мог?" Ти-Боб уставился на свою руку, словно она была не его. Словно ударил не он.
Когда они приехали, я была в большом доме. Мисс Амма Дин позвала Этель разносить напитки и сандвичи, а меня попросила остаться и сварить кофе. Я была на кухне, когда приехали Ти-Боб и Джимми Кейя. Они поговорили с теми гостями, которые уже собрались, и прошли в библиотеку. Там у Роберта хранилась бутылка виски. Ти-Боб и Джимми налили себе и выпили. Джимми Кейя пробыл еще с полчаса и уехал в Байонну переодеться. Он рассказывал, что уже хотел уйти, но Ти-Боб поднял рюмку за его здоровье. Он рассказывал, что решил, будто Ти-Боб извиняется за этот удар в машине. Он не знал, что Ти-Боб прощается с ним навсегда.
Роберт и Мэри
Ти-Боб услышал, что приехала Джуди Мейджер со своими родителями, он вышел из библиотеки и пошел к двери. Мисс Амма Дин спросила, куда это он собрался, разве не видит, что Джуди снимает пальто. Но он вышел, прежде чем она успела договорить.
Когда Мэри Агнес услышала стук в дверь, она складывала вещи в чемодан. Она не знала, кто стучит, даже подумала, что ей послышалось. Потом опять постучали. Она решила, что это Клэмп, и пошла к двери сказать, что сейчас будет готова. Но за дверью стоял Ти-Боб. Лицо у него было красное, опухшее, а глаза странные-странные, прямо безумные. Она рассказывала, что сначала испугалась. Нет, не за себя. Она решила, что он заболел или что-нибудь натворил и пришел искать у нее помощи.
Она спросила, что случилось. Он сказал, что ему нужно с ней поговорить. Она спросила, не заболел ли он. Он сказал, что нет, но ему нужно с ней поговорить, и прошел мимо нее в комнату. Тут она заметила, что он пил.
Она отошла от двери, но не стала ее закрывать. Если кто пройдет мимо и увидит около дома машину, пусть увидит и что дверь открыта. Ти-Боб подошел к кровати и сел. Мэри Агнес все еще думала, что у него какая-то беда и ему нужна ее помощь.
— Скажите мне, что случилось, — сказала она. — А то мне пора уезжать.
Он сидел и смотрел на нее. Лицо у него было красное и опухшее. Она поняла, что он хочет что-то сказать, но не знает, какого ждать ответа.
— Что-нибудь случилось? — опять спросила она.
Она разговаривала с ним, как с братом или с близким родственником. Она всегда к нему так относилась — словно он был таким же, как она, а не белым. Она думала, что он к ней так же относится. Поэтому она и не беспокоилась, что он взял привычку ездить по поселку рядом с ней. Ей в голову не приходило, что он может себе что-нибудь позволить. А если бы даже это и случилось, она была уверена, что сумеет объяснить так, чтобы он понял.
И тут он ей сказал, почему пришел. Он говорил быстро, глядя ей прямо в лицо. Говорил не переводя дыхания и не давал ей вставить ни слова.
Сказать-то она ничего не сказала, но все время качала головой, пока он говорил. Но он не остановился. Он клялся богом сделать то, что говорит. Сегодня же вечером его фамилия станет ее фамилией. Они поедут в Новый Орлеан и там поженятся. Там никто не догадается, что она цветная.
— Вы не можете дать мне того, чем не владеете сами, Роберт, — сказала она.
— Моя фамилия принадлежит мне, — сказал он.
— Нет, — ответила она. — Они дали ее вам, они могут ее и отобрать.
— Пойдите сюда и сядьте, — сказал он.
— Я прошу вас уйти, и сейчас же, — сказала она.
— Пойдите сюда, сядьте, Мэри Агнес, — сказал он.
Дверь по-прежнему была открыта настежь. Мэри Агнес подошла к кровати, где он сидел. Он взял ее за руки и посадил рядом с собой. Лицо у него было красное и опухшее, руки горели. Она видела, что он выпил лишнего. Она знала, что ведет он себя так из-за этого. Он рассказал, что говорил про нее с Джимми Кейя и признался ему, как сильно ее любит. Она опять покачала головой.
— Я должен был рассказать кому-то, — сказал он.
Она покачала головой.
— Он сказал, что вы черная и мне надо смотреть на вас как на черную. И поступить с вами, как поступают с черными. Но вы ведь не черная, правда, Мэри Агнес?
Она рассказывала, что уже не думала о том, как много он выпил, а испугалась, не сошел ли он с ума.
— Джимми прав, — сказала она. Но сказала это спокойно, как говорят с детьми.
— Не говорите так, — крикнул он, но тут же стал спокойным, даже слишком спокойным. — Не говорите так. Не говорите так.
— Поезжайте домой, Роберт, — сказала она ему. И сказала это спокойно, как говорят с детьми.
— Я сяду в машину, только если вы сядете в нее со мной.
— Я не могу сесть в вашу машину, Роберт, — сказала она. — Неужели вы этого не знаете? — Она говорила с ним, как говорят с ребенком. — Вот почему вы ни разу не предлагали мне этого раньше, Роберт. Вот почему вы ни разу не приглашали меня сесть на вашу лошадь.
— Я хочу, чтобы вы сели со мной в машину.
— А я хочу, чтобы вы уехали, Роберт, — сказала она спокойно. Ну так, как говорят с ребенком.
— Вы не понимаете, — сказал он. — Мне некуда ехать. Вот почему я его ударил. Вот почему я ушел из дома. Мне некуда идти — только к вам одной. Я все время стараюсь вам это объяснить.
— Между нами не может быть ничего, Роберт, — сказала она.
— Скажите "да". И больше вам ничего не надо говорить.
— Этого я сказать не могу, — сказала она.
Она встала и принялась укладывать вещи в чемодан. А он все сидел и смотрел на нее, но его мысли, рассказывала она, были где-то далеко-далеко. Вдруг он очнулся.
— Куда вы собираетесь, Мэри Агнес? — спросил он.
— В Новый Орлеан, — сказала она.
— Вы никуда не поедете, Мэри Агнес, — сказал он. — Если вы уедете, у меня никого и ничего не останется.
Она продолжала укладываться. Потом закрыла чемодан и повернулась к двери. Но он встал на пороге. Она пошла к двери. Она не думала, что он что-нибудь себе позволит — для этого он слишком порядочен.
Клэмп Браун в черном плаще и резиновых сапогах шел через поселок. Он собирался ехать в Батон-Руж к своей девушке, Луизе Ричард. Но думал он не о ней, он думал о мисс Лефабр. Он был рад побыть с мисс Лефабр, хотя чувствовал себя при этом неловко. Такая спокойная, красивая девушка. Милая, спокойная улыбка; что же ей еще оставалось делать, когда вокруг такое творилось, — только вот так спокойно улыбаться. Она разговаривала со всеми приветливо и спокойно. Ему нравилось ехать с ней в автобусе до Батон-Ружа. Правда, ему было неловко сидеть рядом с ней, но все-таки не так неловко, как если бы вместо нее рядом сидела другая учительница, — она умела смягчать эту неловкость. Он рассказал ей про Луизу Ричард, и она даже написала ей несколько писем под его диктовку. Вот почему он заходил за ней каждую пятницу.
Клэмп рассказывал, что видел, как Ти-Боб пробежал через мой двор. Он бежал и спотыкался. Клэмп заметил автомобиль еще издалека, но подумал, что ко мне приехали гости. Вот почему он не сразу узнал Ти-Боба. Вот почему он подумал, что это Лестер — сын Джо Скотта. Он знал, что Лестер пытался ухаживать за Мэри Агнес и я уже не раз его выгоняла.
— Лестер! Эй, куда ты? За тобой мисс Джейн гонится?
Но Ти-Боб все бежал, хоть и спотыкался. Потом он перелез через забор и побежал через двор Семсонов. Тут Клэмп понял, что это не Лестер. Он узнал автомобиль и понял, что это Ти-Боб. Но почему Ти-Боб убегал? Даже убей он кого-нибудь в Семсоне, ему и тогда не было бы нужды бежать. Клэмп прошел мимо машины, чтобы разглядеть получше. Ему хотелось удостовериться, что это в самом деле Ти-Боб. Не то чтобы он собирался об этом рассказывать. Нет, он просто хотел удостовериться, что это именно Ти-Боб, потому что Ти-Бобу ведь здесь не от чего было убегать. Когда Ти-Боб скрылся за деревьями во дворе Семсонов, Клэмп снова посмотрел на мой дом. Дверь Мэри Агнес все еще была распахнута настежь.
Клэмп позвал Мэри Агнес прямо с дороги. Негромко. Если бы она даже стояла у двери, но не смотрела на него, то не расслышала бы ни слова. Он стоял на дороге и звал ее, как вы зовете человека в темной комнате, когда вам страшно.
Она не откликнулась, и он вошел во двор. Он говорил себе, что, конечно, ему нечего делать здесь, во дворе, когда у ворот стоит машина Семсонов, а Ти-Боб убегает. Да и вообще ему нечего делать в этом конце поселка в это время. Если он хочет увидеться с Луизой Ричард, то должен был бы пойти по боковой тропке или вдоль железной дороги, до Моргановой деревни, а там проголосовать и сесть на автобус.
Он поднялся на веранду, все время глядя на дверь Мэри Агнес. Но постучался он ко мне и окликнул меня. Нужна ему была она, ее дверь была открыта, а моя захлопнута, но постучал он ко мне и позвал не ее, а меня.
— Мисс Джейн! Мисс Джейн! Вы дома? Мисс Джейн! — Он звал меня так, как зовут в темной комнате, когда боятся.
Когда я не откликнулась, он посмотрел на ее дверь, но опять постучал ко мне. Только на этот раз он позвал ее. Не громче, чем звал с дороги, не громче, чем звал меня. Но теперь он позвал Мэри Агнес, хотя стучал в дверь ко мне. Она не откликнулась. Тогда он пошел к ее двери, а на ходу постукивал по стене и звал Мэри Агнес. Когда он подошел к двери, в комнате было так темно, что он еще дважды окликнул Мэри Агнес, прежде чем увидел, что она лежит на полу.
Он повернулся и закричал:
— Ида! Ида! Ида!
Он спрыгнул с веранды и упал. Поднялся и побежал к дому Джо Саймона и все звал и звал Иду. Джо рассказывал, что слышал, как Клэмп зовет его жену, еще когда он был на улице, и успел выйти на веранду, когда Клэмп вбежал во двор. Он рассказывал, что Клэмп поскользнулся и чуть было не упал перед крыльцом, и он подумал: "Этот дуралей сломает шею и не успеет даже сказать мне, от кого он так удирает".
— Скорее позови Иду! — крикнул Клэмп.
— Зачем? — спросил Джо Саймон.
— Эту девушку изнасиловали.
— Би уже дома, — ответил Джо. — Какую еще девушку?
— Не Би. Учительницу. По-моему, это…
Джо Саймон рассказывал, что увидел машину возле моего дома, еще когда Клэмп бежал через двор, а потому не дал ему договорить.
— Иду в это не впутывай! — сказал он. — И уходи отсюда. Я ничего не слышал. И на твоем месте я бы сейчас же уехал в Батон-Руж, будто бы ничего такого и не сказал.
— Я иду, — сказала за его спиной Ида.
— Никуда ты не пойдешь, — сказал Джо. — В этом доме хозяин — я. Не он, так другой бы это сделал. Все корчила из себя принцессу.
— Идем, Клэмп, — говорит Ида.
— Ты что, глухая? — говорит Джо Саймон. — Сказано тебе, сидеть дома!
— Пойди расскажи им, в большом доме, — говорит Ида.
— Нет уж, — говорит Клэмп. — Вам сказал, и хватит!
— Скажи мисс Джейн, — говорит Ида. — Постучись с черного хода, она на кухне. Пускай она им скажет.
— Пошли лучше кого-нибудь из ребят, — говорит Клэмп, — надень плащ на Джоко. А то пусть берет мой. На, Джоко. Беги.
— Сам иди, — говорит Ида. — Она не Джоко помогала писать любовные письма.
— Я с него шкуру спущу, пусть только попробует! — говорит Джо Саймон.
— Да иди же, Клэмп! — сказала Ида.
Ида рассказывала, что должна была постоять у дверей, пока ее глаза не привыкли к темноте. Тут она увидела, что Мэри Агнес лежит на полу. Она не двигалась, не стонала, и Ида подумала, уж не умерла ли она. Но когда она вошла и встала рядом с ней на колени, то увидела, что Мэри Агнес плачет. Ида окликнула ее, но Мэри Агнес не ответила. Ида рассказывала, что снова ее окликнула, но она опять ничего не ответила. А лежала на полу и тихо плакала, отвернувшись к стене. Ида обняла ее, подняла и уложила на кровать. Она рассказывала, что только укрыла ее одеялом, как что-то заставило ее оглянуться на дверь. Там стоял Клэмп. Вода с плаща стекала в комнату.
— Ты уже сходил? — спрашивает Ида.
— Пускай со мной пойдет Джоко.
Вот тогда-то Ида и закричала. Она рассказывала, что, конечно, понимала, что кричать рядом с бедной девушкой никак не следует. Но что ей еще оставалось — она делала что могла, и все-таки ей не удавалось заставить мужчин, вроде Клэмпа и ее мужа, понять, понять, понять.
— Ну хоть раз! — закричала она. А потом повторила тихо, упрашивая его: — Ну хоть раз. Господи, хоть раз, пока я жива.
Он попятился, потому что она его напугала. Но никуда не пошел. Только вышел за дверь, чтобы она его не видела. Только она все равно знала, что он там. Стоит под дождем на ветру и высматривает, кто бы еще пошел вместе с ним к Семсонам.
Дом Семсонов
Когда Ти-Боб вернулся домой, я пила на кухне кофе с Жюлем Ренаром. Я уже говорила, что Жюль Ренар был крестный отец Ти-Боба. Крупный мужчина с белыми как снег волосами и красным-красным лицом. И всегда тяжело дышал. Еще с тех пор, как я в первый раз его увидела, а это было много лет назад, он всегда дышал с трудом. Всякий раз, как он приезжал, мы с ним разговаривали. Иногда совсем одни в целом доме: сидим себе на кухне, пьем кофе и разговариваем. Нет, вместе мы за столом не сидели. Он всегда усаживал меня за стол, а сам садился на стул у двери. А когда бывало холодно, я сидела на стуле возле плиты, а он за столом. В тот день я сидела за столом и пила кофе, а он пристроился около холодильника.
Вошла Этель и сказала, что Ти-Боб прибежал домой весь мокрый и заперся в библиотеке. Этель ушла, а я чувствовала, что Жюль Ренар на меня смотрит. Всего минуту назад он говорил про Ти-Боба и эту девушку. Он сказал, что с неделю назад говорил с Ти-Бобом про Мэри Агнес. Как все в здешних местах, он знал, что Ти-Боб постоянно с ней видится, и спросил его, о чем он думает. Ти-Боб ничего не ответил. А он тогда сказал, что девушка с виду совсем белая. Она очень красивая, и любой мужчина может в нее влюбиться. Возможно, многие и влюблялись. Но она не белая, сказал он Ти-Бобу, и любить ее, во всяком случае открыто, никак нельзя. Вот что рассказывал мне Жюль Ренар перед тем, как вошла Этель. И когда она ушла, я почувствовала, что он смотрит на меня.
— Он на машине вернулся? — спрашивает.
— Не знаю, — говорю.
Может, он и встал бы, чтобы выглянуть за дверь, да только ему было трудно двигаться. Ну, он и остался сидеть, прихлебывая кофе.
Немного погодя Этель опять пришла на кухню.
— Он все еще там, — сказала она. — Стучат, стучат, а он не открывает.
— А что остальные делают? — спросил Жюль.
— Делают вид, будто все хорошо.
— А что нехорошо? — спросил Жюль.
— Не мое дело, — говорит Этель. — Я же просто сказала, что он пришел весь мокрый и заперся.
Она наполнила бокалы и понесла их гостям. Жюль подождал, чтоб она ушла, и опять посмотрел на меня. Только сказать нам было нечего.
Вернулась Этель. Посмотрела на меня и покачала головой. Она смотрела на меня, а не на Жюля, и получалось, будто его тут вовсе нет.
— Не откликается, — прошептала она.
Взяла поднос с сандвичами, обнесла гостей и вернулась.
— Не нравится мне все это, — сказала она. Да только не мне, а самой себе.
— Ну так иди домой, — говорит Жюль.
— Дождь-то уж очень сильный, — говорит она.
— Тогда молчи, — говорит он.
Этель ушла. Но я знала, что в комнаты она не вернулась, а стоит в прихожей между кухней и гостиной.
Жюль посмотрел на дверь черного хода и поднял голову, будто прислушивался. Потом поглядел в сторону прихожей и позвал:
— Эй, голубушка!
Этель вернулась на кухню.
— Что угодно, сэр?
— Взгляни-ка, кто там за дверью.
Этель подошла к двери и приоткрыла ее, и сразу потянуло холодом.
— Там Клэмп чего-то кричит, — сказала она и крикнула ему: — Чего тебе?
Когда дверь открылась, я тоже его услышала:
— Эй, мисс Джейн! Мисс Джейн!
— Чего тебе надо, Клэмп? — кричит Этель.
— Эй, мисс Джейн! — кричит Клэмп. — Мисс Джейн!
— Говорить с этим очумелым, что со стенкой, — сказала Этель. — Чего тебе надо, Клэмп?
— Скажи мисс Джейн, пускай выйдет.
— Позови его сюда, — говорит Жюль.
— Мисс Джейн говорит, она еще не рехнулась выходить в такой дождь. Говорит, чтоб ты зашел на кухню.
Я слышала, как он поднимается по ступенькам и соскребает грязь с башмаков. Он постучал.
— Ну чего ты стучишь, очумелый? — говорит Этель. — Не видишь, я держу дверь открытой?
— Мисс Джейн здесь? — спрашивает.
— Сидит за столом.
— Скажи, чтоб она вышла.
— А ну, входи! — говорит Этель.
Он вошел, держа резиновый капюшон в руке. Плащ и башмаки у него блестели от воды. Он посмотрел на Жюля — тот стоял возле холодильника, — и я увидела, что он насмерть перепуган. Повернулся ко мне лицом, спиной — к Жюлю, но все молчит.
— Говори! — велит ему Жюль.
— Эту девушку… — говорит Клэмп мне, — изнасиловали.
— Какую девушку? — спрашивает Жюль. — Говори толком!
Но мы все и так знали, какая девушка, еще до того, как Клэмп ответил. Этель вскрикнула. Жюль велел ей замолчать. Я встала, чтоб пойти домой помочь ей, но Жюль велел мне найти мисс Амму Дин и сказать ей, только осторожнее.
Я пошла в комнаты. Они все стояли с бокалами и сандвичами и делали вид, будто ничего не происходит. Только у них ничего не получалось. Мисс Амма Дин стояла у двери в библиотеку. Может, она как раз постучала, а может, собиралась постучать еще. Когда я заговорила, она разом обернулась, будто ждала чего-то страшного.
Я говорю:
— На кухне.
В другой раз она бы спросила, а что на кухне, но тут ни слова не сказала и пошла так быстро, что я за ней не поспела.
Слышу, Жюль говорит:
— Дверь все еще заперта?
Кажется, она не ответила. Когда я вошла, она смотрела на Клэмпа. Клэмп стоял, и вода стекала с его плаща на пол. Он старался загородить лужи, но, куда бы он ни ступал, натекали новые. Она не спросила, зачем он пришел: она знала, о чем он пришел сказать. Она хотела вернуться в комнаты, но ей навстречу шел Роберт. Они посмотрели друг на друга, а потом он подошел к двери и посмотрел на Клэмпа. А Клэмп все старается загородить лужи.
— Заставь его выйти, — говорит Жюль Роберту.
Роберт не посмотрел на него, он все смотрел на Клэмпа. Но ничего не говорил. Будто хотел сам во всем разобраться. Потом он кинулся в комнаты. И мисс Амма Дин за ним. Еще в прихожей она начала звать:
— Роберт! Роберт! Роберт!
Я пошла было за своим пальто, но Жюль меня опять остановил:
— Ты там ничем помочь не можешь. А кто-нибудь увидит, что ты ушла, сообразят, что случилось, и уж тогда всему конец.
— С ней там кто-нибудь есть? — спросила я у Клэмпа.
— Ида.
— Кто еще знает?
— Джо и их дети, — говорит.
— Больше никто?
— Никто, мэм.
Мы слышали, как Роберт колотит в дверь библиотеки и зовет Ти-Боба. Потом мы услышали, что он колотит все сильнее и ругается. Потом на секунду все стихало — он слушал. И тут мы слышали, как мисс Амма Дин зовет Роберта.
— Сходи за топором, — говорит Жюль Клэмпу. — А ты сиди здесь, — говорит он Этель. — Начнешь кричать, и уж тогда всему конец. И ты тоже, — говорит он мне. — Сходи за топором, — говорит он Клэмпу. — Сядь где-нибудь в углу, — говорит он Этель. — Только не выходи отсюда.
Он вышел из кухни, тяжело дыша. Не успел он дойти до прихожей, как Этель и Клэмп выскочили во двор и бросились домой. Я собралась было за ними, чтоб присмотреть за Мэри Агнес. Но Клэмп сказал, что там Ида, и я решила, что она сделает все, что я бы сделала, может, лучше меня.
Я пошла во двор за топором. Дождь все еще лил, и, когда я вернулась, мое платье и платок насквозь промокли. В прихожей я услышала, что Роберт бьет в дверь плечом. Когда Жюль увидел у меня топор, он уж, видно, сообразил, что случилось, взял его у меня и передал Роберту. Роберт взмахнул топором, и все попятились. Он замахнулся не обухом, чтоб вышибить дверь, а острием и начал ее рубить. Чуть ударит, а вода с топора брызгами летит на тех, кто стоит сзади, и они пятились все дальше и дальше. От этих ударов гром стоял по всему старому дому. На всех стенах подпрыгивали портреты старых хозяев. Одно зеркало сорвалось, и осколки разлетелись по всему полу. Женщины вскрикивали. Джуди Мейджер чуть не свалила отца, кинувшись к нему на грудь. Но Роберт все рубил. А мисс Амма Дин чуть в стороне стучала в стену и звала Ти-Боба, но так тихо, что и сама навряд ли слышала. А Роберт все рубил топором. А лицо как каменное — ни печали, ни страха, ни беспокойства. А я думала: "Господи, господи, господи! Чего же ждать, чтоб этот человек переменился? Разве он не понимает, что там за дверью его сын? Разве не знает, что увидит, когда дверь откроется?"
Роберт прорубил дыру, чтобы просунуть руку, и отпер дверь изнутри. Потом навалился плечом, чтобы сдвинуть вещи, которыми Ти-Боб подпер дверь. Ти-Боб сидел в кресле с высокой спинкой лицом к окну. Он сидел так, будто просто смотрел в окно. И тут кто-то закричал. Я посмотрела на пол и увидела кинжал. Нет, не кинжал, а нож для разрезания писем. Тот, которым Поль Семсон пользовался в Батон-Руже.
Роберт крикнул, чтоб женщины ушли, но никто не ушел, а все вошли в библиотеку — и я тоже. Потому-то я и увидела, что Жюль Ренар схватил со стола письмо и сунул в карман. И уж потом я не спускала с него глаз. Если в письме что-то плохое, думала я, он его сразу разорвет. Но Жюль не порвал его, а дождался, пока люди почти разошлись. Тогда он позвал мисс Амму Дин в другую комнату. Она прочла письмо и послала за Робертом. Теперь уже все посторонние ушли. Они уходили тихо, молча. А свои пальто и зонтики спрашивали шепотом. Даже машины выезжали со двора бесшумно. Через полчаса после того, как Роберт взломал дверь библиотеки, в доме остались только он сам, мисс Амма Дин, я и Жюль Ренар. Они были в другой комнате, а я в библиотеке — с Ти-Бобом. Мы накрыли его простыней. Посередине простыни было красное пятно величиной с блюдце. В комнате все так и было, как в ту минуту, когда мы его увидели. Даже кинжал — нож для разрезания писем — все еще лежал на полу.
Жюль Ренар вышел из соседней комнаты, и я услышала, как он стал звонить шерифу. Потом он вошел в библиотеку.
— Что было в письме, мистер Ренар? — спросила я.
— В каком письме? — говорит он.
— Которое вы взяли вон там со стола.
— Значит, ты видела? — говорит.
— Видела.
— Он написал матери, — сказал Жюль Ренар, глядя на простыню. — Он искал покоя. И не мог его найти.
— А девушка? — спрашиваю.
— Ни в чем не виновата, — говорит Жюль Ренар, а сам глядит на простыню, не на меня.
— Но кто этому поверит? — спрашиваю.
— Я, — говорит он, а сам смотрит на простыню.
Вошли Роберт и мисс Амма Дин. Мисс Амма Дин откинула простыню с лица Ти-Боба и стала смотреть на него. Она смотрела так долго, что Жюлю Ренару пришлось оттащить ее и усадить в кресло у стены. Я закрыла лицо Ти-Боба. А Роберт как окаменел. Он не знал, что делать и что говорить. Он не смотрел ни на мисс Амму Дин, ни на Ти-Боба. Просто стоял, будто все еще пытался что-то понять.
Мы с Жюлем Ренаром стояли в гостиной и услышали, что во двор въехала машина. Она въехала быстро и остановилась сразу, а потому мы поняли, что это не шериф. Кто-то взбежал на крыльцо и постучал — громко и быстро. Пока Жюль шел к двери, он еще два-три раза постучал.
— Что вам нужно? — спросил Жюль, когда открыл дверь. Джимми Кейя ничего не ответил. Он проскочил мимо него. А меня он словно бы и не заметил. Он остановился только у дверей библиотеки, когда увидел там Роберта и мисс Амму Дин. А потом тихо вошел.
Жюль Ренар подошел к двери в библиотеку. По его лицу я поняла, что лучше было бы Джимми Кейя не приезжать. Он вообще не любил их семью. Простые фермеры, напустившие на себя важность. Жюль даже предостерегал Ти-Боба против Джимми. По лицу Жюля было видно, как он недоволен.
— Это мой друг? — сказал Джимми в библиотеке. — Это Роберт?
Мисс Амма Дин сидела в кресле, а Роберт стоял рядом, но они ничего не ответили Джимми Кейя. Может быть, вначале они даже не слышали его. Мисс Амма Дин неотрывно смотрела на простыню, будто ни на что другое смотреть не могла. Роберт стоял рядом с ней и словно ждал чего-то.
— Я предупреждал его, — сказал Джимми Кейя. — Я его предупреждал о ней.
Жюль Ренар стоял в дверях библиотеки и смотрел на Джимми Кейя. По его лицу я видела, как сильно он его ненавидит.
— Он говорил мне, что не может от нее отвязаться, — сказал Джимми Кейя. — Он говорил мне сегодня! Бедный Роберт. Что он с собой сделал!
Жюль Ренар в дверях стал совсем красным. Но он ничего не сказал, пока Роберт не взглянул на Джимми. И тут он понял, что ему надо вмешаться. Но Роберт уже повернулся. Жюль снова встал в дверях.
— С дороги! — сказал Роберт.
— Нет! — сказал Жюль.
— Мне что, придется перешагнуть через тебя? — спросил Роберт.
— Да, — сказал Жюль. — И как только приедет Гайдри, я обвиню тебя в убийстве. Дрянь всегда и везде дрянь, но в отличие от таких мы с тобой что-то понимаем.
— Я понимаю одно, — сказал Роберт, — мне бы давно следовало это сделать.
— Я не шучу, — говорит Жюль. — Я скажу шерифу.
— Ты знаешь, кто в этом кресле? — спрашивает Роберт.
— Я знаю, кто в этом кресле, — говорит Жюль. — И я также знаю, что сделал это он сам. И знаю, почему он это сделал.
— Она, она сделала это, — говорит Джимми Кейя. — Эта черная девка!
— Молчать! — сказал ему Жюль.
— Что? — говорит Джимми.
— Это ты убил его, — говорит Жюль.
— Что? — сказал Джимми Кейя. — Роберт был мой лучший друг.
— Но он оставил письмо, — говорит Жюль и глядит на Роберта, а не на Джимми Кейя.
— Какое письмо? — спрашивает Джимми. — Вы на что это намекаете?
— И мы знаем, что в письме написана правда, так, Роберт? — сказал Жюль Ренар. — Ведь мы знаем то, что знают здесь все, — что он любил ее. Но потому, что она не могла ответить на его любовь, потому что не смела, он наложил на себя руки. Мы это знаем, не так ли, Роберт?
— Что здесь происходит? — говорит Джимми Кейя.
— То, чего таким, как ты, никогда не понять, — говорит Жюль Ренар.
Джимми Кейя повернулся к Роберту.
— Мистер Роберт! Мистер Роберт! Роберт был моим другом, моим лучшим другом. Я любил его.
— Ну и что же? — говорит Жюль Ренар.
— И никто не поплатится? — говорит Роберт.
— Ты и Амма Дин, — говорит Жюль Ренар. — И все, кто его любил.
— А эта девка? — говорит Роберт.
— Убить ее за то, что она отказалась бежать с ним? — говорит Жюль Ренар. — Ты за это хочешь ее убить? Ты за это хочешь бросить ее в тюрьму?
— Я про тюрьму не говорил.
— Ну так перешагни через меня и сделай это, Роберт, — говорит Жюль Ренар. — А я обвиню тебя в убийстве, и это так же точно, как то, что я родился на этот свет, чтобы умереть. Да, я стоял рядом с тобой, когда ты венчался с Аммой Дин. Да, я крестил Роберта. Да, я нес гроб мистера Поля и гроб Кларенса. Но не думай, я не промолчу! Я прямо скажу Гайдри, что это рассчитанное, хладнокровное убийство. А если Гайдри ничего не предпримет, я обращусь куда-нибудь еще. И я расскажу о письме, Роберт.
Роберт знал, что Жюль так и сделает. Он стоял и смотрел на него. Нет, он не думал выгнать его вон. Роберт не посмел бы выгнать Жюля Ренара. Жюль Ренар не был в родстве с ними, но он был тут как второй отец. Он приезжал в этот дом всю свою жизнь, и Роберт знал это. И даже когда он чувствовал, что должен отплатить за смерть Ти-Боба, он понимал, что не перешагнет через Жюля Ренара. Он поглядел на мисс Амму Дин. Он сделает то, что скажет она. Но она сидела, низко опустив голову. Словно она даже не слышала их. Роберт быстро повернулся и отошел к окну. Он стоял там и глядел на дождь.
Жюль Ренар поглядел на Джимми Кейя.
— Уходи, — сказал он. — Ты оскверняешь здесь воздух.
Джимми поглядел на Роберта.
— Мистер Роберт! — сказал он.
Роберт смотрел в окно.
— Мисс Амма Дин! — сказал он. Но она продолжала сидеть, низко опустив голову. — Мисс Амма Дин, я любил Роберта. Бог свидетель, я любил Роберта.
Но она не подняла головы. Он снова поглядел на Роберта, но Роберт все еще смотрел в окно. Он поглядел на простыню, накрывавшую Ти-Боба. Он положил руку на плечо Ти-Боба и потом пошел к двери. Жюль Ренар схватил его за шиворот и вытолкнул в прихожую.
— Ты расскажешь мне, что произошло сегодня. Или расскажешь это Гайдри, — сказал он.
Он держал его одной рукой, а другой ударил по лицу и подтолкнул к стулу. Джимми Кейя сел, закрыл лицо руками и заплакал.
— Принеси стул, — сказал Жюль мне.
Я принесла ему стул. Он сел напротив Джимми Кейя.
— Ну? — сказал он.
— Я ничего ему не говорил, — сказал Джимми Кейя плача.
— Ничего? — сказал Жюль.
Джимми Кейя плакал, но больше ничего не говорил. Жюль снова схватил его за шиворот.
— Только о правилах, — сказал Джимми и отпрянул от поднятой руки Жюля.
Жюль отпустил его.
— Объясни эти правила мне, — сказал он.
— Что она предназначена для его удовольствия, но и только.
— Ты сказал ему больше. Много больше. И ты все это скажешь мне или же Гайдри. Итак?
— Не я его убил, — сказал Джимми Кейя. — Мы все его убили.
— Это уже ближе к истине, — сказал Жюль.
— Роберт был мой друг, — сказал Джимми Кейя. — Я любил его. Я любил Роберта. — Он смотрел на Жюля и плакал. — Я любил Роберта. Неужели вы ничего не понимаете? Я любил его.
— Мне или Гайдри? — сказал Жюль.
— Я сказал ему только то, что мой отец говорил мне. Что отец моего отца говорил ему. Что мистер Поль говорил мистеру Роберту. Что говорил мистеру Полю его отец. Что и вам говорил ваш отец. Только о тех правилах, которым мы следовали с тех пор, как живем здесь.
— Все это так, — сказал Жюль. — Но что ты сказал Роберту сегодня? Или ты ждешь Гайдри? Не забывай, Гайдри не шутит. И сейчас он у меня в долгу, в большом, большом долгу.
— Роберт был мой лучший, мой единственный друг, — сказал Джимми Кейя.
— Что ж, значит, ты хочешь говорить с Гайдри, — сказал Жюль. — Но имей в виду, в письме твое имя упоминается часто.
Роберт вышел из библиотеки и кивнул мне, чтобы я пошла туда. Когда я вошла, мисс Амма Дин встала и подошла к Ти-Бобу. Потом она опустилась на колени рядом с его креслом. Я встала на колени рядом и молилась про себя.
Скоро после этого приехал Сэм Гайдри — высокий, худой, в костюме из синей саржи и в плаще. Плащ был мокрый и поблескивал на свету. Гайдри вошел тихо, со шляпой в руке. Мисс Амма Дин уже опять сидела в кресле, а я — напротив нее. Гайдри поговорил с мисс Аммой Дин, а потом откинул простыню и посмотрел на Ти-Боба. Две-три секунды смотрел и снова закрыл лицо простыней. Когда он увидел на полу нож для разрезания писем, то посмотрел на меня. Лицо у него было суровое, даже жестокое. Он не спрашивал, он требовал, чтобы вы отвечали. Я просто стала смотреть на пол. Гайдри взял листок бумаги и поднял нож, а потом завернул его в носовой платок, спрятал в карман и вышел. Я слышала, как он говорил с Жюлем. Потом он сказал: "Ну?"
Сэм Гайдри на белых и на черных глядел по-разному, но на Джимми Кейя он, должно быть, поглядел, точно тот был черным, потому что Джимми как начал говорить, так и не мог остановиться. Когда они его дослушали, то сказали, чтоб он ехал домой. А потом Жюль и Сэм Гайдри пошли в поселок, чтобы поговорить с Мэри Агнес. С ней все еще сидела Ида. Они велели Иде уйти в мою комнату, пока они будут задавать девушке вопросы. Ида говорила потом, что могла бы и не уходить — в стенах такие щели, что она и так все слышала. Она говорила, что когда услышала про Ти-Боба, то рот себе зажала, чтоб не закричать. Но Мэри Агнес молчала. Во всяком случае, Ида ничего не услышала. Ида говорила: когда Сэм Гайдри предупредил, что ее жизнь зависит от ее ответов, она все равно молчала. Он сказал, что он не собирается ее упрашивать: у него есть способы развязать ей язык. А она опять молчит. Ида говорила, что тут все стихло и она не могла понять, что они делают. Она не слышала никакой возни — значит, Мэри Агнес они не тронули. Может, они просто ждали, когда она заговорит. Ну, Ида тоже ждала. Потом она услышала звук пощечины и услышала, как Жюль Ренар сказал:
— Это не поможет.
— Раньше помогало, — сказал Сэм Гайдри.
И опять все стихло. Потом заговорил Жюль Ренар — ласково, будто отец со своим ребенком. Он сказал девушке про письмо и что ее ни в чем не обвиняют. Ти-Боб много раз повторил — она ни в чем не виновна. И только это, только это заставило ее рассказать им о том, что произошло. Ида за стеной все слышала. Она присела на корточки, приложила ухо к щели и слышала каждое слово Мэри Агнес. Когда она кончила, Гайдри спросил:
— Я хочу знать одно — смотри, чтоб это была правда! — он тебя изнасиловал?
— Нет, сэр, — ответила Мэри Агнес. — Когда я с чемоданом проходила мимо него, он схватил меня и толкнул назад, я пролетела через всю комнату, стукнулась о стену и упала. Почти потеряла сознание, а потом увидела, как он стоит надо мной. Лицо у него было испуганное. Потом он повернулся и выбежал из комнаты. Я слышала, как меня звал Клэмп, хотела ответить, но не смогла. А когда опять пришла в себя, Ида уже укладывала меня в кровать. Но нет, сэр, этого он не сделал. Роберт был порядочным.
— Тогда почему же он взял да и сглупил так? — спросил Гайдри.
Ида рассказывала, что тут стало совсем тихо, а потом Жюль Ренар сказал Мэри Агнес, чтобы она никогда ни словом не обмолвилась про все это. И они хотят, чтобы она сейчас же отсюда уехала. Он спросил, есть ли у нее деньги. Она ответила, что немного есть. Он сказал, что хочет, чтоб она сейчас же уехала в Новый Орлеан, а потом постаралась как можно скорее уехать и оттуда. Он сказал, чтоб она никому, даже ему самому, не говорила, куда уедет потом. Потом он позвал Иду и велел ей найти кого-нибудь с машиной — все равно кого, ему безразлично, — отвезти девушку в Новый Орлеан, и отвезти сейчас же.
Жюль Ренар и Сэм Гайдри вернулись в большой дом и переговорили с Робертом и мисс Аммой Дин. Я не слышала, о чем они говорили, но на другой день газеты напечатали, что никто не может понять, почему молодой Роберт Семсон из Семсона, штат Луизиана, наложил на себя руки. Газеты писали, что, по всеобщему мнению, он был совершенно счастлив — через несколько недель была назначена его свадьба с красивой и образованной Джуди Мейджер из Байонны, штат Луизиана. Шериф Сэм Гайдри выясняет обстоятельства этого дела, писали газеты.
Приехал следователь и забрал тело Ти-Боба, когда я еще не ушла. Потом Жюль Ренар подвез меня домой. Когда он остановил машину возле моих ворот, я хотела было вылезти, но посмотрела на него еще раз.
— Вы хороший человек, мистер Ренар, — говорю.
— Потому что не дал им ее убить? — говорит он через плечо.
— Да, сэр.
— Мы уже были сегодня причиной одной смерти, — сказал он. Я сидела сзади и глядела на него, а он глядел на дождь. — Джимми прав, — сказал он. — Его убили мы все. Мы пытались заставить его жить по тем правилам, которые уготовили нам наши предки. Но только эти правила, Джейн, недостаточно стары.
— Я не понимаю, мистер Ренар.
— Когда-то в прошлом, Джейн, — говорит он, — давно, очень давно, мужчины, такие, как Роберт, могли любить таких женщин, как Мэри Агнес. Но затем каким-то образом возник свод правил, запрещающий это. По этим правилам пришлось жить мне, и Роберт жил по ним, и Кларенс Кейя. Кларенс Кейя велел жить по ним Джимми. И Джимми послушался. А Ти-Боб послушаться не мог. Вот почему мы избавились от него. Мы все — я, ты, эта девушка. Мы все.
— Погодите, — говорю, — и я?
А он глядит на меня через плечо.
— И ты, Джейн, — сказал он.
— Ну хорошо, пусть и я, — говорю. — Хоть и не понимаю этого, но пусть и я. Но она-то? По-вашему, значит, она его заманивала, а под конец отступила?
— Нет, это не так было, — говорит он. — Если и заманивала, то секунду. А может, и меньше. И даже в эту секунду она была не властна над собой.
— Кто вам про это сказал?
— Никто, — говорит он. — Скажи она это, и Гайдри упрятал бы ее за решетку до конца ее дней. Если бы Ти-Боб хотя бы намекнул на это в письме, Роберт не стал бы ждать, пока Гайдри посадит ее в тюрьму, и своими руками свернул бы ей шею. Никто мне ничего не говорил, но это было так. Можешь мне поверить: это было так… Он пришел к ней и открыл ей душу. Он хотел сесть с ней в машину, увезти ее отсюда и больше никогда не видеть никого из нас. Во всем мире ему была нужна только она. Но вместо того чтобы броситься к нему в объятия, она сказала то же, что перед этим говорил Джимми Кейя: она черная, а он белый и между ними не может быть ничего. Этого он понять не мог. Он думал, что любовь сильнее капли африканской крови. Но она-то знала, она знала эти правила. Она была старше его лишь на несколько лет, но на сотни лет мудрее. Но что бы она ни говорила, он повторял, что главное — это любовь. Она замолчала, взяла чемодан и пошла к двери. Вот тогда-то он схватил ее и отшвырнул. Из-за тяжелого чемодана она потеряла равновесие и ударилась о стену. И увидела, что он наклоняется над ней. Чтобы отнести в машину? Чтобы задушить? Чтобы изнасиловать? Этого я не знаю. Но, наклонившись, он увидел в ее лице что-то новое. (Нет, об этом он не написал, не то Роберт кинулся бы сюда и убил ее. А если бы про это сказала она, Гайдри навсегда упрятал бы ее за решетку). Когда он наклонился, она позвала его к себе. Потому что…
— Но это ведь только догадки? — сказала я.
— Это были бы только догадки, если бы здесь сидели и разговаривали двое белых, — сказал Жюль Ренар и хотел посмотреть по сторонам, но не сумел — слишком уж он был грузный.
— А раз это мы? — говорю я.
— Значит, так оно и было, — говорит он.
— И что случилось дальше? — спрашиваю я с заднего сиденья машины.
— В тот миг, когда она головой и спиной ударилась о стену, с ней что-то произошло, — сказал он. — Прошлое и настоящее смешались. Непобедимая гордость исчезла. Стремление искупить прошлое исчезло. Теперь она сама была это прошлое. Теперь она была своей бабушкой, а он — тем богатым креолом. Она была Вердой, а он Робертом. И это отразилось на ее лице. Это отразилось в том, как она лежала на полу. Лежала беспомощная и ждала. Она знала, какой он ее видит сейчас, но ничего изменить не могла. Но когда он увидел все это, он убежал. Потому что подумал, что, может быть, белый и в самом деле бог, как сказал Джимми Кейя. Может быть, у белого действительно есть власть, о которой сам он прежде не знал. Он бежал и спотыкался, бежал и спотыкался, как раненый зверь. И вот он дома. Дома. Дома. Дома. Он старался забыть то, что увидел там, на полу. Но библиотека не давала ему забыть. Слишком много книг о рабстве, слишком много книг по истории. И от всех стен словно отражалось то, что его дед говорил его отцу и дяде. Их голоса звучали теперь со всех сторон. А в его ушах еще отдавался голос Джимми Кейя. Он увидел нож, которым его дед разрезал письма, и взял его. Потом положил рядом, чтобы сразу взять, если потребуется. Он достал бумагу и начал писать. Ему хотелось убежать отсюда. Такой была его первая мысль — убежать. "Мама, я не знаю, что мне делать. Я должен уехать куда-то, где найду покой. Может быть, когда-нибудь позже…" И тут он услышал, что в дверь Роберт стучит и зовет его."…Когда ты придешь ко мне, мама, меня уже не будет в живых. Прости меня. Я тебя люблю".
Жюль Ренар вытащил из кармана платок и вытер лицо и шею.
— То, что он увидел ее на полу такой, только все ускорило, — сказал он.
— Он бы все равно рано или поздно покончил с собой?
— Да, он не мог иначе. За наши грехи.
— Бедный Ти-Боб.
— Нет, это мы бедные, — сказал Жюль Ренар.
Я открыла дверцу и вышла.
— Спокойной ночи, мистер Ренар, — сказала я.
— Спокойной ночи, Джейн.
Книга четвертая Поселок
Люди всегда ждут кого-то, кто поведет их за собой. Хоть в Ветхий завет загляните, хоть в Новый. Так было при рабстве, так было после войны. Так было и в тяжелые времена, которые теперь называют Реконструкцией. Так было в годы депрессии, когда тоже было трудное время. И теперь то же самое. Так было всегда, и всегда господь так или иначе посылал им по упованию их.
Всякий раз, как родится ребенок, старики глядят ему в лицо и спрашивают его, не он ли Избранник. Нет, они не говорят этого вслух, как сейчас я вам. Может, они даже так и не думают, а только чувствуют. Но уж чувствуют они это обязательно.
И я знаю, Лина, в первый раз взяв на руки Джимми, спросила:
— Не ты ли Избранник, Джимми? Не ты ли?
Он родился тут, в поселке, чуть подальше по улице. Его мать звали Шерли Эйрон, но про его отца можно не говорить. Это ведь неважно — хотя нет, пожалуй, важно. Ведь, будь его отец здесь, так крест не был бы так тяжел. А он был тяжек, ох, как тяжек — ведь на Джимми мы переложили и часть нашей ноши, и, будь его отец здесь, он бы ему помог. Но не было у него отца, и помочь ему никто не мог. Его отец поступил так, как завещали его предки сотни лет назад, и забыл об этом так, как сотни лет назад завещали ему забыть. А потому неважно, кто был его отцом, и найдется немало людей, которые теперь скажут вам, что его отцом был кто-то другой. На самом деле все, конечно, знают, кто он, но все равно спорят и говорят, что это был кто-то другой.
Лина Вашингтон приходилась Джимми теткой, вернее, его двоюродной бабушкой, она была сестрой отца его матери. И Лина послала Сэфо за мной, потому что уже не было времени посылать в Морнову деревню за Селиной. Была зима, тяжелое время, и это я, Джейн Питтман, помогла ему появиться на свет. Я унесла его в другую комнату и отдала — а она сидела у очага и плакала. Вот почему я знаю, что она спросила его, не Избранник ли он. Отца у него не было, а скоро он должен был остаться без матери, потому что его мама собиралась уехать в город, как все молодые. Вот почему я знаю, что Лина спросила, не Избранник ли он.
Лина спросила его, а потом и мы все стали задавать себе этот вопрос. А было это задолго до того, как он мог понять, чего мы от него ждем. Видите ли, мы начали думать о нем как об Избраннике, когда ему было только пять-шесть лет. То есть все мы, кроме Лины, потому что она подумала это, едва увидела его в то утро. Может, и я бы так подумала, да мне хватало хлопот с его мамой. Но позже я спросила себя об этом. Все мы спросили себя об этом, когда ему было пять-шесть лет. Почему мы решили, что это он? А почему вообще ищут Избранника? Потому что нам был нужен кто-то. Мы могли бы решить, что это кто-то из сыновей Страта Хокинса или Джо Саймона.
Или кто-то из сыновей тетушки Лу Болин. Но мы решили, что это он. Кончались тридцатые годы. Как раз Джо Луис нокаутировал немца Шмелинга, а мы все знали, что Джо из Алабамы. Ну и решили, что раз Алабама могла дать Избранника, так и Семсон в Луизиане тоже может. О нет, нет, нет, вслух мы так не говорили. Мы это чувствовали. Вот тут, вот тут. Люди о таких вещах не говорят, они их сердцем чувствуют.
В сороковых годах, во время войны, мы начали присматриваться к нему. Я тогда уже перебралась в поселок. Я хотела уйти из большого дома сразу, как Ти-Боб наложил на себя руки, но Роберт удержал меня, чтоб я была с мисс Аммой Дин. Я осталась еще на пять лет, а потом сказала, что ухожу. Роберт сказал, что я уйду, когда он позволит. А я сказала, что в мои годы я вольна поступать, как хочу. Мисс Амма Дин уговаривала меня остаться, потому что, сказала она, я в присмотре нуждаюсь больше ее, но, сказала она, если я хочу уйти, то удерживать меня она не станет. Я сказала, что хочу уйти, хочу перебраться в поселок. Они спросили, зачем мне перебираться в поселок, когда у меня хороший домик совсем близко от большого дома.
— У тебя же здесь водопровод.
— Да, мэм, — сказала я.
— И электричество.
— Да, сэр, — сказала я.
— Так зачем же тебе перебираться туда? Там нет ни водопровода, ни электричества. И даже насосы есть не во всяком дворе. А только колодец у шоссе. Тебе разве ни свет, ни хорошая вода не нужны?
— Нужны, — сказала я. — Но домик, где я сейчас живу, был кухаркиным, когда я еще сюда только приехала, а может, и с тех пор, как построили Семсон. Раз я больше не кухарка, то жить в нем не имею права.
— Может, ты не заметила, — говорит Роберт, — но за последние десять-одиннадцать лет ты не так уж чтоб много готовила. Но ела наравне со всеми.
— Надеюсь, вы из-за меня ни разу голодными не остались, мистер Роберт.
— Так ведь тебе за мной не поспеть, — говорит.
— Вот потому я и хочу перебраться в поселок, завести огород да кур. Очень уж неприятно смотреть, как взрослый человек хватает кусок с собственного стола.
— Перебирайся, если уж хочешь, — говорит мисс Амма Дин. — Но как ты думаешь перевезти вещи и где будешь жить? Дом — чистый? А вода близко? Право же, я не понимаю, зачем тебе переезжать.
— Иначе я не могу, — говорю. — Мистер Роберт, вы не против, если я переберусь в дом рядом с Мэри?
— Ты меня спрашиваешь? — говорит он. — Я и не знал, что еще хозяин в Семсоне. Мне казалось, тут управляешь ты. И это ты мне скажешь, куда хочешь ехать и когда. А моя обязанность — пойти в поселок и вычистить для тебя дом. И проложить отдельную трубу, чтобы ты пила водопроводную воду. И протянуть особый электрический провод, чтобы тебе каждый день не бегать в лавку за керосином. Вот какие у меня обязанности в Семсоне, так мне казалось. Не пропустил ли я чего-нибудь? Ну конечно, я должен еще скосить весь бурьян и всех ящерок выгнать со двора к Хоку, чтобы по ночам они не лезли на веранду к тебе в гости. Если мне не изменяет память, ты боялась змей. Или со вчерашнего дня ты изменилась?
— Если хочешь, переезжай, — сказала мисс Амма Дин. — Скажи Би и Ми, чтобы они там все помыли и почистили. А я распоряжусь, чтобы Этьен перевез твои вещи.
В поселок я перебралась во время войны. Джимми тогда было пять-шесть лет. А может, только четыре, потому что он еще не ходил в школу. Он начал учиться, когда к нам приехала учительница по фамилии Ричард. Это было уже после Лилиан. А Лилиан была между Мэри Агнес и Вивьен Ричард.
Шерли уехала в Новый Орлеан, едва отняла Джимми от груди, и в доме остались только он и Лина. После того как я перебралась в поселок, я целыми днями просиживала у Лины на веранде или у очага. Да и не я одна. Там чуть ли не весь поселок собирался. У Лины во дворе росла ива, и в самые жаркие дни от нее на веранде всегда была тень. Кто-нибудь да сидел там и разговаривал с Линой, а Джимми сидел рядом и слушал наши разговоры. Вот потому-то, наверно, мы и начали присматриваться к нему. Все время видели его там, вот и начали думать, не Избранник ли он. Нет, ему мы об этом не говорили, и друг другу тоже, но все чувствовали это. Когда мы узнали, что он умеет считать до сотни по одному, по два, по пяти, по десятку и узнали, что он выучил весь букварь, то начали задавать ему всякие вопросы, а он отвечал.
— Нет, слышите? — спрашивала Лина и улыбалась до ушей. — Всего-то шесть годков. Нет, слышите?
И ей становилось и радостно, и грустно. Радостно потому, что он мог все это, а грустно потому, что если он поистине Избранник, то должен был рано или поздно покинуть нас.
Мы поглядывали на него, когда он шел в школу, и, если было холодно, а джемпер на нем не застегнут, мы говорили:
— Застегнись как следует, Джимми.
Если мы видели, что он носком башмака старается проломить лед в канаве, мы тут же говорили, чтоб он этого не делал, не то простудится. Летом мы ему говорили:
— Не залезай в бурьян, малыш, не то змея укусит.
Если мы видели, что он дерется, то тут же принимались выговаривать ему, неважно, кто прав, кто виноват. Ему не положено было драться со своими в поселке, он должен был вступаться за них. Видите ли, мы уже сделали его Избранником.
Когда он научился читать, то читал для всего поселка. К девяти годам он читал лучше всех, кроме учительницы. Он нам читал и писал нам письма. И читал нам газеты. Мисс Амма Дин каждый вечер присылала мне газеты, и он читал спортивные новости. В газетах меня интересовали только спорт и всякие шутки. Я пекла пышки и угощала его пышками с простоквашей, а он сидел вот тут и читал мне разные шутки из газеты — с выражением, как настоящий комик.
— Ну-ка, погляди, что они сегодня затеяли, — бывало, говорю я, а он сидит вот тут и читает все от начала до конца. Потом читал про спорт и про то, что сделал Джекки. Джекки и команда "Доджеры" были для цветных, а "Янки" — для белых. Вот как во время депрессии Джо Луис был для цветных. В тяжелые, суровые времена бог всегда посылает людям кого-нибудь. Во время депрессии всем было трудно, но уж цветным доставалось хуже всех. И тогда бог послал нам Джо. Джо должен был поднять дух цветных. Конечно, в первый раз Шмелинг его побил. Но это было нам в назидание — чтоб показать нам, что и Джо просто человек, а не какой-то супермен и что мы можем перетерпеть больше невзгод, чем думали сначала. Зато второй бой прошел по-другому. Мы молились, молились, молились, и бог услышал наши молитвы, а кроме того, он хотел покарать их за то, что они считали себя выше всех. Я слышала по радио каждый удар в этом бою, а в тот вечер Джо бил Шмелинга куда только можно бить. Целую неделю негры улыбались, вспоминая этот бой. А дядюшка Джил приходил ко мне, ложился на пол на спину и дрыгал ногами, чтобы показать мне, как упал Шмелинг. До самой своей смерти дядюшка Джил показывал всем, как упал Шмелинг от удара Джо.
А после войны бог послал нам Джекки. Цветные солдаты, вернувшись с войны, говорили: "Раз мы вместе воевали, значит, можем и в бейсбол играть вместе". Прежде-то Джекки не брали в команду. А уж тут он им показал, как надо играть. Господи! Да я могла целыми днями слушать, как играет Джекки. Мисс Амма Дин отсылала мне газеты, когда их прочитывали в большом доме, и я сразу же звала Джимми почитать про спорт и шутки. Если "Доджеры" выиграли, если Джекки отличился, то весь день у меня было хорошее настроение. А если они проиграли или Джекки не показал себя, я маялась до следующей игры.
Потом я узнала, что Джимми мне врет. Он знал, как я люблю Джекки и "Доджеров", и, когда мне нездоровилось, он читал, будто Джекки набрал много очков, хотя этого не было. Или еще что-нибудь привирал. А в дни, когда Джекки на самом деле играл хорошо, Джимми мне не все читал, чтобы уравнять с прежним. (Он ведь тогда был просто ребенком и еще не знал, что мы видим в нем Избранника, но все-таки уже поступал так, как подобает Избраннику). Кроме газет, он читал нам Библию, а еще читал и писал за нас письма. Он умел сказать как раз то, что хотелось сказать вам. Только объяснишь ему суть дела, а он тут же испишет две страницы, да так, что лучше и не придумать. Он напишет и про огород, и про церковь, и про соседей, и про погоду. И прямо все напишет, что вы чувствуете. Я, бывало, гляжу, как он примостился на ступеньке и пишет, а у самой слезы на глазах. Ведь мы уже считали его Избранником, и я уже боялась, как бы с ним чего не случилось или его не отняли у нас.
Одно лето он прожил в Новом Орлеане у матери, и вместо него нам читал и писал письма сын Куни, некрасивый, как обезьяна, а вел себя вдвое хуже обезьяны. У него была безобразная рыжая собачонка — она всюду ходила за ним по пятам. Дети в поселке так и прозвали ее — Мартышкина собака. Вообще-то ее кличка была Грязнуля, но все звали ее Мартышкиной собакой.
Но этот мальчишка был пакостник. Что написано в газете, то и читает. Ему и дела нет, что, может, у вас плохо на душе. Он приходил читать газету, а не подбодрить вас. Если Джекки хвалили, он так и читал, а если тот играл плохо, он и это читал. Ему втолковывали, что стариков вроде меня нужно иной раз и подбодрить.
— Неужто тебе трудно приврать чего-нибудь? — спрашивали его.
— А я не проповедник, чтоб привирать, — отвечал он.
Нет, он был злой, этот мальчишка. Вот и с письмами так же: писал только то, что ему говоришь, — и все. Замолчишь, а он больше не пишет.
— Если вы не знаете, об чем писать, так я и подавно, — говорил он. — Я пришел писать письмо, а не придумывать неизвестно что.
Один раз я попросила его:
— Может, напишешь что-нибудь про мой огород?
— А что про него писать? Что он никуда не делся? Если хотите, я напишу. Так хотите, чтоб я написал: "Мой огород никуда не делся"?
— А написать, что фасоль поспела, ты можешь? Ну и еще что-нибудь, — говорю. — Я ведь люблю, чтоб в письме были исписаны обе стороны листочка.
— Если вам хочется чтоб в Новом Орлеане знали про вашу фасоль, пожалуйста, я напишу: "Фасоль поспела". Мне-то какая разница.
Вот уж его в поселке никто не считал Избранником.
Джимми родился после того, как Ти-Боб себя убил. И значит, Роберт тогда уже роздал землю издольщикам. Ти-Боб умер, а другого сына, чтоб наследовать землю, у них не было, а потому Роберт разделил ее на небольшие участки и начал раздавать их людям. Сперва он позвал кэдженов с реки, и они выбрали себе участки получше. А то, что осталось, раздал цветным из поселка. Некоторым, правда, досталась хорошая земля, но остальные получили участки у болота, а там только бурьян рос, а то и вовсе ничего. И тогда цветные стали уходить с плантации. Из-за этого да из-за войны в здешних местах совсем не осталось молодежи. Старики и дети старались хоть как-нибудь обрабатывать землю, но она почти ничего не рожала. А кэджены, наоборот, все богатели и богатели. Снял хороший урожай — можно купить плуги и трактор получше, а лучше плуги и тракторы — урожай еще богаче. И тут уж им понадобилась новая земля. Вот тогда Роберт начал акр за акром отбирать землю у цветных и отдавать ее кэдженам. Он отбирал и отбирал, пока человек уж и вовсе не мог прокормить семью и либо должен был вовсе бросить все и уходить, либо наниматься к кэдженам. Если они уходили, а дом был ветхий, Роберт заколачивал двери и окна досками, а потом и вовсе его сносил и отдавал кэдженам под поле землю, где совсем недавно стоял дом. Вот почему теперь вы едете сюда мимо полей сахарного тростника и кукурузы, а лет двенадцать-пятнадцать назад там стояли дома. Ведь тут у нас родилось много детей и умерло много стариков, про кого я вам рассказывала. Сэфо и его семья жили вон там, Клоди и его семья — чуть подальше. Потом Грейс, Эльвира и ее семья. А по эту сторону — Летти со своей оравой. (Коринна утопила одного из детей Летти в колодце на краю поселка — в двадцатых годах это случилось). По другую сторону от Летти жили Джаст Томас и Элси, а рядом с ними Куна и ее орава. Хок Браун, Джерри и их дети жили вон там. А немного подальше — Филипп, дядюшка Октав и тетушка Нэн. Страт Хокинс с семьей. И с того конца поселка, где я прежде жила, — Джо Саймон и Ида Хэриет. Еще подальше — Оскар, Роза, их дети. Мануэль с семьей. Тоби с детьми. Бесси и ее семья. Тетушка Фина Джексон и ее семья. Тетушка Лу Болин и ее голодная орава. Билли Ред, его мать и отец. (Он уехал в Новый Орлеан и стал называть себя по-французски: Ред Бийе). Еще подальше — дядюшка Джилл и тетушка Сара. Тимми и Верда. И еще многие-многие, только сейчас всех сразу и не припомню. Теперь-то нас осталось совсем мало. Сейчас здесь только поля, да поля, да поля. У них не хватает духу просто вышвырнуть тех, кто остался и они выжидают, чтоб мы уехали или перемерли. Ну, я бы им сказала: эти старые кости, конечно, устали, но упокоиться навеки им еще рано. Я прожила сто десять лет, а может, и того больше, но готова бы пожить еще немного. Господь призовет меня, когда настанет мой срок. А до тех пор ребятишки будут читать мне Библию и газеты. И я буду ходить насколько силы станет. И буду есть ванильное мороженое. Очень я его люблю.
Джимми видел, как менялся наш поселок, как менялось все вокруг, и видел, как уезжают отсюда люди и приезжают новые. Он видел, как уходили на войну молодые парни и уезжали в город молодые женщины. Его мать тоже уехала. Он видел, как трактора сносили старые дома и перепахивали землю, и видел, как мы стоим и глядим на это. Он видел все это. И еще многое слышал. Слышал, как мы на веранде толковали о рабстве, о наводнении, о Лонге. Слышал, как я рассказывала о Клюво и Неде, слышал, как мы все говорим о Черной Хэриет и Кэти, о Томе Джо и Тимми. А молодые люди приезжали навещать стариков, он слышал, как они говорили о войне — что японцы вовсе не такие, как говорили белые, они цветные вроде нас, и убивать они хотели не нас, а белых солдат. Если цветные шли в первых шеренгах, то японцы стреляли через их головы, чтобы попасть в белых. А когда случалось, что цветные шли сзади, японцы кидали бомбы в передние ряды. Вот поэтому они и решились отменить сегрегацию в армии — только поэтому.
Джимми слышал все это, еще когда ему и двенадцати не исполнилось, а уж в двенадцать лет он точно стал Избранником. Мы следили за каждым его поступком и старались, чтоб он все делал правильно. Если он хотел сделать что-нибудь не так — а это иногда бывало, — мы напоминали ему обо всем, что он слышал и видел. Нет, нет, нет, мы никогда не говорили ему того, что я сейчас говорю, мы просто смотрели на него. Так смотрели, что он все понимал. Иной раз взглядом можно сказать больше, чем словами.
Сперва он было связался с Евой, дочкой Страта, а может, начала она, потому что оба были уже в таком возрасте, а люди говорили, будто она и с другими крутила. Вот он и решил тоже попробовать, или она решила. Дело было весной, в тот год, когда ему сравнялось двенадцать, в апреле — как раз дождь прошел и начинало смеркаться. Лина послала его в лавку купить галлон керосина. У нас в то время уже было электричество, но старики по-прежнему держали в запасе керосин для ламп, если с проводами что случится. Кроме того, керосином разжигали печки. И вот вечером посылает его Лина в лавку за керосином. Неизвестно, кто кому что сказал, но только тетушка Фина вышла к себе на веранду и видит: бидон висит на калитке, а он на веранде у Страта старается повалить Еву. Да, рассказывала тетушка Фина, она еще в комнате этот грохот услышала, а потом услышала — на веранде Страта что-то бухает. Все бух да бух. Вдруг затихнет, а потом опять — бух! Ну, она и вышла посмотреть, что там такое. Уже совсем стемнело, но она разглядела, что кто-то кого-то пытается повалить. Вместо того чтобы повалить девчонку на спину, как она того хотела, он все старался бросить ее на пол. Схватит и перекинет через плечо, а бросить не может, потому что ноги-то у нее сразу в пол и упрутся. Если бы он повалил ее тихонько, как ей хотелось, тетушка Фина ничего бы не услышала и его бы не выпороли, так нет, обязательно ему надо было схватить ее и шмякнуть на пол. А она каждый раз ногами-то и упиралась. (Дразнила его). Тетушка Фина рассказывала, что узнала-то она не его, а бидон на калитке у Страта. То есть она не разглядела, чей это бидон, потому что было уже совсем темно, а вспомнила, как Лина ей раньше говорила, что, как только Джимми придет домой, она его пошлет за керосином. Ну а мальчишка на веранде у Страта был с Джимми ростом и по возрасту такой же — о возрасте она догадалась по тому, что он затеял, — а потому она взяла да крикнула:
— Ну-ка, убирайся оттуда, Джимми!
А он, вместо того чтобы дать деру, снова поднял девчонку и опять с размаху поставил ее на ноги.
— Слышишь, что тебе говорят? — кричит тетушка Фина, а он опять поднял девчонку и бросил. — Вот я тебя! — говорит тетушка Фина.
Поставила на ступеньку свою кастрюльку и спустилась во двор. А там опять все бух да бух. Но когда она подошла к калитке Страта, бидона там уже не было — только черное пятно мелькнуло дальше по улице. Ну, она пошла к Лине, и, едва Джимми вернулся, Лина отправила его во двор, найти и принести ей прут покрепче. Так это было в первый раз.
Тогда он попробовал то же на чердаке. Хоть на веранде у него ничего не получилось, но он понял, чего ему ждать, вот и решил попробовать на чердаке. В тот день ребята играли в прятки. Двадцать, не то тридцать человек бегали по поселку и прятались. Всех нашли, кроме него с Евой. А они залезли на чердак к Страту. Остальным ребятам прятки надоели, и они затеяли другую игру, а он с Евой все еще на чердаке. Я тот день никогда не забуду, такой он был жаркий-прежаркий. Самая середина лета. А мы сидим на веранде у Лины и стегаем одеяло. Тут вбегает во двор какой-то мальчишка и говорит Лине, что они нашли Джимми и Еву. Где? На чердаке. А скоро он и сам явился.
— Ну, получил, чего хотел? — говорит Лина. — А теперь получишь еще кое-что.
Он и спрашивать не стал что. Все сам знал, пошел и принес прут.
— Ты будешь меня стегать перед ними? — спрашивает он.
Во дворе было полно ребят, а на веранде собрались старики. И Этьен тоже был тут — сидел, прислонясь спиной к столбу.
— Ты будешь меня стегать перед ними?
— Ты же о них на чердаке не думал, — говорит Лина.
— И Еву ты тоже отстегаешь? — спрашивает он.
— Нет, — говорит Лина. — У Евы скоро вырастет пузо. Мы все смотрели, как он стоял с прутом в руке. Было жарко, и у него по лицу стекал пот. Мы все хотели, чтобы он был наказан. А получит свое Ева или нет, нам было все равно. Мы о Еве и не думали. И какой она станет, знали заранее. И мы знали, чего ждем от него. Ему мы этого не говорили, мы и друг другу этого не говорили, может, даже и себе не говорили, но мы это чувствовали.
— Это же природа! — сказал Этьен Лине по-креольски. Этьен всегда заступался за мальчишек, и особенно за Джимми.
— Вот я ему и покажу природу! — говорит Лина тоже по-креольски.
— И я так делал, — говорит Этьен. — И все мальчишки.
— Ну и куда тебя это привело? — говорит Лина по-креольски. — Хочешь, чтоб и с ним то же было?
— Нет, — говорит Этьен.
— Думаешь, мне это нравится? — говорит Лина по-креольски.
— Знаю, что не нравится, — сказал Этьен.
Все это время они смотрели на него, а не друг на друга. Он знал, что они говорят о нем, знал, что Этьен за него заступается но по-креольски он не понимал и не знал, о чем они говорят.
— Хочешь получить порку сейчас или вечером, перед сном? — спросила Лина.
— А можно на кухне? — сказал он.
— Да. Ну идем, — сказала Лина.
Они ушли в дом. Мы слышали свист прута, слышали, как Лина выговаривала ему, а он плакал. Мы хотели, чтоб он был наказан, но потом мы все рады были бы его обнять, я так думаю. Ведь потом до конца недели мы все время давали ему поручения, только чтобы дать ему что-то — пять центов, десять центов, домашнего печенья или орехов в сахаре.
Мы хотели, чтобы он приобщился к вере в том же году, — когда ему сравнялось двенадцать. Господь ведь, как вы, наверное, помните, начал в двенадцать лет. Мы знали, что если он будет Избранником — нет, теперь уже без "если", — мы знали: раз он Избранник, то должен обрести веру. Черным пришлось тяжело страдать в этом мире, но мы знаем, что бог был к нам милостив. Возьмите хотя бы меня: мне уже больше ста десяти лет. И если не бог, то кто же сохраняет мне жизнь? Я могу на солнышке посидеть, могу и погулять — конечно, не так, как прежде, но все-таки. В те дни, когда я чувствую себя по-настоящему хорошо, так могу дойти до дороги и поглядеть на реку. Но обычно я просто пройду немного по поселку и сажусь под своим старым деревом. Люди поставили там для меня чистенькую скамейку, и я иду посидеть там, поговорить с моим деревом, поговорить с самой собой, поговорить с богом, пока не устану. Иногда я сижу там целый час и благодарю Создателя за его милости, а потом возвращаюсь домой.
Мы хотели, чтобы Джимми приобщился вере в то лето, когда ему исполнилось двенадцать. Лина каждый вечер посылала его на молитвенные собрания. Каждый вечер он шел туда, садился вместе с другими детьми на скамью кающихся, и каждый вечер все молились за него. Пресвитер Бэнкс молился за него больше, чем за других, потому что к тому времени все уже знали, что он — Избранник. Но в тот год молитвы ничего не дали. Лина полагала, что он все еще думает о дочке Страта и лучшее средство от этого — крепкий прут, но я говорила ей, что это не так. Я говорила, что он обретет благодать. И тут она начинала плакать и спрашивала "когда?".
Понимаете, все дети его возраста уже обретали веру, а он никак. А ведь он был Избранником, а Избранник должен во всем быть первым.
— Когда? — спрашивала Лина.
— Господь знает наши упования, — отвечала я. — Он нас не покинет.
Но лето, когда ему сравнялось двенадцать, прошло, а он оставался грешником.
На следующий год мы принялись за него пораньше. Молитвенные собрания начинаются летом, а мы взялись за него весной. Теперь ему было уже тринадцать, и мы хотели, чтобы он вступил на путь праведный. Поэтому всякий раз, когда он теперь писал для нас письма, мы говорили, чтобы он написал что-нибудь про церковь и про детей, которые приобщились вере прошлым летом.
Мы не позволяли ему играть в карты ни для забавы, ни на орехи. Мы не хотели, чтобы он играл в шарики или в мячик, как остальные дети. Если мы видели, что он старается улизнуть, чтобы поиграть с ребятами, мы звали его и посылали в лавку. А может быть, к соседу занять табаку или сахару. Или попросить мотыгу либо топор. Нужно нам это было или не нужно — пускай сходит возьмет. Мы старались не отпускать его по субботним вечерам на праздники — ведь музыка и танцы греховны. Нам не нравилось, если он слушал радио — кроме духовной музыки по воскресеньям.
Когда наступило лето и люди стали сходиться на молитвенные собрания, мы спросили у него, молится ли он о вере. Он сказал, что да, молится. Мы сказали ему, что все за него молимся. Теперь, когда в церкви мы молились о грешниках, мы думали о нем. Вслух его имени мы не произносили — это было бы несправедливо по отношению к другим грешникам, — но взывали обиняком за него. Говорили что-нибудь вроде: "Господи, не оставь тех, у кого нет отца, а мать уехала в город. Не оставь стариков, кто остался присматривать за детьми. Господи, вложи в них послушание, и да спасут они души свои, взыскуя царствия Твоего".
Так и он и господь знали, за кого мы молимся, а мы даже имени его не называли.
Он обрел веру в первую неделю августа. В тысяча девятьсот пятьдесят первом году. В тот день он подошел ко мне — я сидела у себя на веранде — и сказал:
— Я обрел веру, мисс Джейн.
Мы с Этьеном сидели на веранде, и я сказала:
— Ты уверен?
А он сказал:
— Кажется, да.
Я сказала:
— Никаких "кажется". Ты должен быть уверен.
А он сказал:
— Я уверен.
И тогда я сказала:
— Как ты свидетельствуешь, я послушаю нынче вечером.
В тот же день он обошел всех стариков и сказал им, что обрел веру. Так тогда все делали. Обходили стариков и говорили им, что обрели веру. Если кто-нибудь не мог прийти в церковь и послушать, как ты свидетельствуешь, полагалось тут же рассказать им о своем видении — прямо на веранде или в комнате, где не так шумно.
(Когда веру обрел Мэк Дженкинс, он пришел сюда и сказал, что обрел веру, и хотел встать на колени, чтоб поцеловать мне ногу, потому что я знавала рабство и он бы так выразил свое смирение, но я сказала: "Дженкинс, если ты сейчас же не уберешься отсюда, я ударю тебя ногой по губам. Вера возвышает сердце, облагораживает человека, а не превращает его в полоумного". И еще я сказала ему: "На твоем месте я бы проверила, что такое ты обрел на самом деле". Господи, этот Дженкинс такой был дурак!)
— Не слишком ли вы на него нажимали? — сказал Этьен, когда Джимми ушел.
— Тринадцать лет — это не рано, — говорю.
— Не рано, если человек готов к этому, — говорит Этьен. — А я не знаю, все ли у него кончено с дочкой Страта. В эту пору года под кусточками за церковью прохладно, а говорят, что это самое ее любимое местечко.
— Слушай, Этьен! — говорю. — Если ты не перестанешь болтать эту мерзость, я схожу в дом за палкой и выбью из тебя дурь.
В тот вечер Джимми рассказал нам про свое видение. Лина сидела и плакала. Я тоже плакала. Но когда я вернулась, я чувствовала себя так хорошо, как давно уже не чувствовала.
Он принял крещение, и мы хотели, чтобы он начал проповедовать. Слушая, как он рассказывал о своем видении, мы поняли, что он близок к богу, и теперь мы хотели, чтобы он толковал нам слово божье.
Но он сказал, что не может быть проповедником. Он будет служить церкви, но он не проповедник. Тут все стали смотреть друг на друга и спрашивать: "Он так хорошо говорил, а теперь не хочет проповедовать? Как же так?"
Некоторые даже усомнились, а обрел ли он веру. Но не я. Я-то знала, что если кто и обрел веру, так, уж конечно, он. Я только одного не знала — когда он ее обрел. Может, уже давно, хотя ни он про это не знал, ни мы не знали.
— Если он не хочет проповедовать, — сказала я, — пусть служит как-нибудь по-другому.
Я в церкви была самая старшая, и меня называли церковной матушкой. Но мне так нравился бейсбол, что они передумали, и церковной матушкой стала Эмма. Но это было после, а тогда я сказала:
— Пусть найдет что-нибудь другое.
А они говорят:
— Избранник должен быть первым из первых во всем. (Они не так сказали, но лица их говорили это).
— Дадим ему время, — говорю я. — Не надо его торопить. Не все посылаются сюда, чтоб проповедовать. Одни посылаются, чтоб молиться, другие — чтоб петь. Одни посылаются звонить в колокола, другие — чтоб возводить алтари, а третьи — чтоб подстригать траву в церковных дворах. Если мы сделали его Избранником, это еще не значит, что мы должны делать из него проповедника.
Когда люди увидели, что он не хочет быть проповедником, они решили сделать его помощником пресвитера. Но он и этого не хотел. Он хотел сидеть со всеми нами. Если женщина начинала выкликать, он помогал служкам держать ее. А если ее нужно было вывести на свежий воздух, он помогал служкам довести ее до двери. Иногда, если не было Джаста, он звонил в колокол. А иногда читал Библию перед началом службы.
Один раз он показал в церкви маленькое представление — не поучительное, а смешное. Люди в поселке хорошо это помнят. Он взял черный гуталин и белый гуталин, намазал ребятишкам лица, пустил их на кафедру, и они очень смешно говорили оттуда. Господи, как все смеялись! Ну, просто хохотали до слез. Ребятишки на кафедре говорили точно как взрослые.
— Слушаюсь, сэр.
— Никак нет, сэр.
— Ухожу, ухожу, хозяин.
— Эй ты, не трожь ее, кому говорят! Не трожь мою жену, кому говорят!
Господи, как все смеялись!
Но люди хотели, чтобы он проповедовал, а он не хотел проповедовать. Иногда мы с Джимми сидим вот здесь, на веранде, и разговариваем, и вдруг он перестает меня слушать и глядит на дорогу, будто к чему-то прислушивается. Один раз он сидел со мной на кухне, пока я стряпала. Никогда этого дня не забуду — готовила я картошку с капустой по-ирландски. И вот он мне говорит:
— Мисс Джейн, у меня в груди сидит кто-то вроде тигра и все грызет, грызет, хочет наружу вырваться. Я прямо готов грудь себе разорвать, чтоб его выпустить. Я молю бога, чтобы он вытащил его из меня, но господь меня вроде бы не слышит. А этот все грызет и грызет, хоть кричи. Я прямо готов убежать в лес и биться головой о дерево или нырнуть на самое дно реки и остаться там. Что-то внутри меня хочет вырваться наружу, мисс Джейн, но я не знаю, как это выпустить. Никто мне не помогает, даже бог.
Джимми сказал мне это как раз за год до того, как в Вашингтоне приняли закон о десегрегации. Может, сначала мы не знали, почему сделали его Избранником, но причина-то — вот она.
А люди не только в Семсоне хотели, чтобы Джимми стал Избранником, — цветные во всем приходе этого хотели. К тому времени, как ему сравнялось двенадцать, он успел всю округу объездить с Оливией Антуан. Оливия живет в поселке и торгует садовыми семенами, духами и кремами. А кроме того, она получает деньги по чекам наших стариков и покупает для них что нужно. Когда нам присылают чеки на пособие, мы расписываемся на них и отдаем ей, а она получает за нас деньги и покупает, что мы просим. Обычно Джимми записывал в блокнот, что нам нужно. А бывало, человек шесть-семь надают Оливии поручений, что купить. Они с Джимми так и ходили из одного дома в другой, она — впереди, а Джимми — за ней, с карандашом и блокнотом.
Составят список и едут в Байонну. Но у Оливии были заказчики и по всему шоссе, так что она все время останавливалась и заходила узнать, не нужно ли им чего. Она продавала садовые семена, всякие духи и кремы очень много лет и знала всех. Знала и мулатов, и всех креолов. Креольские девушки очень любят душиться, когда идут на танцы. А вдоль шоссе, вокруг Байонны и на Острове их много живет. Джимми слушал да слушал, как Оливия с ними разговаривает. А уж так поговорить, как старые креолки, никто на свете не умеет. Они целыми часами все говорят, все говорят. Оливия рассказывала, что даже они поглядывали на Джимми и хвалили его: "Вот уж умница!", "Повезет его невесте", "Такой будет гордостью своей семьи", "Такой будет гордостью своего народа", "Только пусть поостережется, не то белые убьют его, это уж вернее верного".
Оливия всегда говорила, что была бы рада назвать его сыном. Когда она ездила без него, люди ее спрашивали:
— А где же мальчик, Оливия?
— В следующий раз приедет со мной, — отвечала она.
Оливия чувствовала себя одинокой, когда его не было рядом.
Оливия рассказывала, что пробовала приучить его торговать, но ему было неинтересно. Он больше присматривался к людям, к которым они заезжали. Даже если говорили по-креольски и он ничего не понимал, ему было интересно, как звучат слова. Оливия рассказывала, что иногда, когда они оставались вдвоем, он спрашивал:
— Мисс Оливия, а что такое "такалапала"?
— Маленьким мальчикам этого знать не положено, — отвечала она.
Но если он спрашивал что-нибудь попроще, она ему все объясняла.
Вот эти-то разговоры разных людей, у которых он бывал с Оливией, и наши разговоры здесь — они-то и томили его душу. И от них ему и хотелось освободиться. Нет, не то. Освободиться значило бы закрыть глаза, ослепнуть и оглохнуть. Нет, его томило желание помочь людям. Только он не знал, как это сделать.
Джимми уехал из поселка в год, когда в Вашингтоне приняли этот закон. Он уехал в Новый Орлеан к матери, чтобы учиться в школе. Закон приняли весной, а он уехал летом. Мы все пошли проводить его к остановке автобуса — Лина, Оливия, я и другие. Было воскресенье. И уже вечер. Накануне мы устроили проводы, а потом нагрузили его едой на дорогу. Пирог, жареный цыпленок, апельсины. Он ехал в Новый Орлеан, и еды у него с собой было на целую неделю. Мы оставались с ним, пока он не сел в автобус, а потом пошли назад в поселок.
Сперва он приезжал к нам каждые две недели, потом стал приезжать раз в месяц. А потом — только на праздники. На пасху и на рождество, и уж до лета мы его не видели. Но как он ни приедет, его сразу усаживали писать письма. Конечно, нам писали и другие, но из них никто не умел писать так, как он. Они не могли придумать, о чем писать, а и придумав, не умели написать так складно. Мы давали ему по двадцать пять центов за письмо, по пятьдесят — за два письма. Хотя мы могли бы ему ничего не платить. Когда кого-нибудь делают Избранником, ему не платят деньги. Ему помогают, если нужно. Покупают ему книги, когда он сам не может их купить. Дают деньги, если ему нужно куда-нибудь поехать. А если у вас нет денег, то вы идете в церковь, идете к белым — все делаете, чтобы ему помочь. Это ваш долг перед тем, кого вы сделали Избранником. После того как он пожил в Новом Орлеане, люди начали замечать, что он стал равнодушен к церкви. Нет, в церковь он ходил и ничего против этого не говорил. Против он никогда ничего не говорил, а первое время, приезжая в поселок, ходил в церковь вместе с Линой. Но интерес к ней он потерял. Если он молился, то без прежнего жара, а как-то сухо, заученно. Старики в церкви не чувствовали в нем истинного духа. И они не присоединялись к нему, а тихо сидели и ждали, чтобы он побыстрее кончил и его сменил кто-нибудь другой. Иногда я пробовала поддержать его, но ведь если нет горения, его нет. Наверное, он и не отдавался молитве со всей истовостью, а молился просто потому, что этого хотела Лина. Кончит, а потом сидит и думает о чем-то другом.
Один раз, когда он встал, чтоб прочесть символ веры, он стал говорить про новый закон о школах. Но людям было неинтересно то, что он говорил. Они кивали, но даже не понимали, о чем он говорит. Когда он вернулся на свое место и сел, я увидела, что он смотрит в окно, будто был тут совсем один.
Первые три-четыре года после того, как он уехал, были как раз началом всех этих беспорядков из-за гражданских прав. Белые жили по-своему сотни и сотни лет и не собирались отказываться от прежних порядков без борьбы. Вспомните, что они сделали с учительницей в Алабаме. Вспомните, что они сделали с детьми в Теннесси и Арканзасе. А с католической церковью в Новом Орлеане? Куда там, такие уж герои, но только кто был всех храбрее? Скажите мне, кто? Собаки бросаются стаей в драку — но кто был всех храбрее? Ответьте мне, кто? Кто-нибудь из них был храбрее мисс Люси? Какая красавица! Какое прекрасное лицо! Какие чудесные глаза! А эти детишки? Я до сих пор помню, как их личики смотрят из окна машины на двуногих собак, которые рычат на них. О господи, мне никогда не забыть девочку с ленточкой в волосах. Какое милое личико. Разве вы не помните? Это воспоминание я унесу с собой в могилу, как шрам у меня на спине. Они осыпали проклятьями маленьких детей, а те продолжали свой путь. Бросали в них булыжники и кирпичи, а они не отступали.
А вспомните, как они травили преподобного Лютера Кинга — бросали бомбы в его дом, посадили его в тюрьму. Называют себя политическими руководителями, а вы только взгляните на них! Руководители! Стая бешеных собак — вот они кто. Вспомните, как они бросали бомбы в дом мистера Шаттлуорта, да еще в день рождества. Я сидела у очага, когда услышала про это по радио. И тогда я сказала про всех белых самое скверное, но потом упала на колени и просила бога простить меня. Что бы ни происходило, он не спит. Он видит, что мы делаем, и все это записано в его книгах.
Хозяева в большом доме никак не ждали, что протесты начнутся и в наших местах. Все, что происходило, происходило где-то далеко — в Алабаме, в Миссисипи, в Новом Орлеане, но только не в Семсоне. Негры тут всем довольны. Я собственными ушами слышала, как это сказал Роберт. Мисс Амма Дин уговорила его свозить меня в Байонну к доктору. Тогда как раз разбили автобус участников похода за свободу, так Роберт разговаривал об этом с каким-то полицейским у машины, а я сидела в машине и слушала.
— Вот что получаешь, по заслугам получаешь, если суешь нос в чужие дела, — говорит полицейский.
— Ну, мои негры поостерегутся, — говорит Роберт.
— Слышишь, бабушка? — говорит полицейский.
Я даже не посмотрела в его сторону.
— Ей уж за сто, — говорит Роберт. — Она-то хорошо знает, что будет, если они себе что-нибудь позволят.
Но скоро после этого Роберт созвал нас всех к большому дому. Жарко было, ну как сегодня. Брэди спросил, не подвезти ли меня, но я сказала, что пойду со всеми. Я шла с Йоко (бедняжка Йоко!). На мне были темные очки, потому что у меня глаза болят от пыли. Чуть я их надену, как все начинают величать меня мисс Кинозвезда. И особенно Йоко.
— Послушайте-ка, мисс Кинозвезда. Как вы себя чувствуете?
Мы проходили мимо моего дерева, и я сказала:
— Ну, братец Дуб, вроде бы не миновать нам новых дурацких разговоров.
— Вот дождетесь, — говорит Йоко, — что это дерево возьмет да и ответит вам, и вы шею себе сломите, как побежите от него по поселку.
Ну, я Йоко ответила. Я ей сказала:
— Если хочешь знать, Йоко, он мне всегда отвечает.
А Йоко, теперь ее уже нет в живых, и говорит мне:
— Вот теперь я вижу, что вы совсем уж из ума выжили. И мы с Йоко чуть не померли со смеху.
Когда мы собрались во дворе, на заднее крыльцо вышла мисс Амма Дин и сказала, что Роберт еще не вернулся, но ему нужно сказать нам что-то важное и он велел подождать. Она позвала меня посидеть на кухне, но я сказала ей, что останусь с Йоко и другими во дворе. Под деревьями было прохладно, и сначала нам было не так уж плохо, но потом стало невмоготу ждать. Дети начали хныкать, а кое-кто из взрослых — ворчать. А Роберта все не было. Он вернулся почти на закате. Мы пришли туда в три часа, а Роберт вышел к нам почти на закате.
— Что тут такое? — спросил он.
— Вы же велели нам прийти, мистер Роберт, — говорит Этьен.
— Разве? Ах да. Я совсем забыл.
Потом он крикнул Берте, чтобы она принесла ему выпить чего-нибудь холодного. И больше ни слова не сказал, пока Берта не принесла стакан и не ушла.
— Так о чем бы это? — говорит он. — А, да! Я просто хотел напомнить всем и каждому, что вы живете тут бесплатно. За дома вы мне не платите, за воду тоже. Со своих огородов вы мне ни одной брюквы не даете и ни единого яйца от ваших кур. Вы собираете здесь все орехи, а я за это прошу только половину, но ни разу ее не получил. Я прошу половину ягод, которые вы собираете, а вы приносите мне горсть, да таких грязных, что я их не дам и свинье, которую невзлюблю. Ну ладно, пусть так. Но одно я не потерплю — у себя здесь я никаких протестов не допущу. Если кому-нибудь тут мало свободы, так он свободен сию минуту убраться отсюда. Это касается как самых старых, так и самых молодых. От Джейн до… У кого здесь самый маленький ребенок?
Кто-то ответил, что у Евы. Мальчик Питер, еще младенец.
— Так вот, это касается всех, от Джейн и до ребенка Евы, Питера, — сказал Роберт.
Он вошел в дом, а мы повернулись и пошли назад в поселок.
Не прошло и месяца, как Бэтло принял участие в какой-то демонстрации протеста в Батон-Руже, и каким-то образом слух дошел до Семсона. Роберт пришел в поселок и сказал Йоко, чтобы через двадцать четыре часа ее духу тут не было. Йоко заплакала. Она сказала, ей не под силу справиться с Бэтло — с нынешними детьми разве справишься? Она сказала, что работала здесь, когда еще был жив отец Роберта, мистер Поль, и мистер Поль сам говорил, что она у него одна из лучших работниц. Роберт сказал, что у нее осталось двадцать три часа пятьдесят девять минут, и ни секунды больше, чтоб убраться отсюда.
Когда он ушел, Йоко послала ко мне сынишку Страта, сказать, чтоб я поговорила с мисс Аммой Дин. Когда я пришла туда, Берта мне сказала, что у мисс Аммы Дин болит голова и она прилегла.
— А давно у нее голова заболела?
— Как она увидела в бинокль, что вы сюда идете, так у нее голова и заболела, — говорит Берта.
— Может, мне подождать? — спрашиваю.
— Без толку, — говорит Берта. — Не пройдет у нее голова, пока Йоко не уедет.
— А с Робертом она говорила?
— Говорила. Но он стоит на своем: чтоб Йоко отсюда убиралась.
Я пошла назад в поселок. Меня нагнал Брэди на машине и подвез к дому Йоко. Она уже начала укладываться. Она заранее знала, какой будет ответ. Вечером все пришли ей помочь. А как кончили укладываться, так сели и проговорили до поздней ночи.
На другой день Йоко уехала. Брэди собирался взять грузовик у кого-нибудь на реке, но Бэтло сказал, что фургоны будут лучше. Он хотел ехать через поселок медленно, чтобы все видели, как обошелся с ними Роберт Семсон. Он даже написал плакаты, чтобы повесить на фургонах. ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ МЫ РАБОТАЛИ ЗДЕСЬ НА РОБЕРТА СЕМСОНА, А ТЕПЕРЬ ОН ВЫШВЫРНУЛ НАС ОТСЮДА. ВОТ УЧАСТЬ ЧЕРНЫХ.
В первый фургон погрузили мебель: кровать, стулья, печку, комод и еще шифоньер. Йоко не завесила зеркало на шифоньере, и оно ярко сверкало. Как только его поставили в фургон и пока они не выехали из поселка, оно так и сверкало — на все пустыри, где раньше были дома, а теперь тянулись поля кэдженов, на старые дома и старые заборы. И на людей сверкало. Фургон остановился перед моими воротами, и это зеркало пустило мне на веранду целый сноп света.
Йоко ехала в последнем фургоне. Она сидела на самом верху. Бэтло велел ей сесть повыше, чтобы все видели, как поступил с ней Роберт Семсон. Мы боялись, что Йоко свалится, но Бэтло хотел, чтобы она сидела там.
Этот день я тоже никогда не забуду, слышите? Йоко сидит наверху и плачет, мы стоим внизу и плачем. Йоко машет рукой с фургона, а мы машем у ворот и на веранде. Машем так, будто провожаем покойника. Ведь если вы не едете за гробом до кладбища, то стоите и машете на прощание рукой. Лучше махать белой тряпочкой или носовым платком. Мужчины, конечно, снимают шляпы и почтительно прижимают к груди. А женщины машут. Вот и мы все махали.
— Прощай, Йоко, прощай!
А Йоко сверху:
— Прощай, Этьен. Прощай, Лина. Прощай, Джейн!
А мы снизу:
— Прощай, Йоко, прощай!
И года не прошло, как бедняжка Йоко умерла. Она поселилась у дочери в Порт-Аллене, но не прошло и года, как она умерла. Дети хотели похоронить ее в Сан-Райзе, где у нее были родные, но мы знали, что она хотела покоиться рядом с Уолтером, и уговорили их. Роберт сказал, что ему все равно, если они на кладбище никаких демонстраций устраивать не будут. Дети привезли Йоко назад в Семсон, и она лежит тут рядом с Уолтером. Вот дойдите до последнего дуба у ограды, там они и лежат рядышком.
Скоро после отъезда Йоко в церковь пришел Джимми. Я его больше двух лет не видела. Он приезжал повидаться с Линой, но я его не видела. Я даже удивилась, как он вытянулся. Высокий, худой, а глаза серьезные-серьезные. Он подошел ко мне и заговорил. Сказал, что был у Лины, но она в церковь не придет, потому что прихворнула. Я сказала, что знаю — я вчера с ней разговаривала. Я взяла его за руку, посмотрела на него и увидела, какие у него серьезные глаза. Он стоял рядом со мной, но мысли его были далеко-далеко.
Это было то воскресенье, когда выходишь вперед и свидетельствуешь, что несешь свой крест, и хочешь встретиться с ними за рекой Иордан, когда умрешь. Потом поешь свою песнь. Начнешь петь, может, до припева дойдешь, как все остальные подхватывают и поют вместе с тобой. Можешь петь сколько захочется, если это хорошая духовная песнь, и все с тобой поют. Йоко, бывало, пела долго-долго. "Отче, простираю я руки к тебе, один лишь ты мне опора". А закончишь петь и опять говоришь, что все еще идешь, а потом пожимаешь им руки, а кто сидит сзади, тем можно просто помахать, если не можешь пойти туда. Потом садишься на свое место, а кто-то другой встает и свидетельствует. Но поет он уже другую песнь. У каждого есть своя песнь, и чужую песнь нельзя петь прежде того, кто ее поет. И даже после нельзя, если ты поешь лучше, потому что это может плохо кончиться. Иногда, если мне нездоровится и в церковь идти я не могу или если мне просто хочется остаться дома и послушать по радио передачу о бейсболе, я сижу у себя на веранде и знаю, кто сейчас свидетельствует. Как услышу песнь, так уже знаю. А за долгие годы, которые я здесь прожила, я этих песней много слышала, можете мне поверить.
В тот день Джимми вышел вперед последним. Он так долго медлил, что я уж думала, он вовсе не встанет. Но когда он убедился, что все уже говорили, то встал и вышел вперед. Он не пел, а просто пошел туда. Сначала он заговорил с пресвитером Бэнксом, потом с его помощниками и с нами на боковой скамье, а потом повернулся и заговорил со всеми, кто был в церкви. Он сказал, что пришел к нам за помощью. Мы ведь знаем, сказал он, что происходит сейчас повсюду на Юге, и мы тоже должны принять в этом участие. Нам ведь живется не лучше, чем нашим соплеменникам в Алабаме и в Миссисипи. Он побывал и в Алабаме, и в Миссисипи, и даже в Джорджии. Он познакомился с преподобным Лютером Кингом, бывал у него дома, бывал в его церкви и даже попал с ним в тюрьму. Лютер Кинг и участники похода за Свободу побеждают в Алабаме и в Миссисипи, а мы здесь, в Луизиане, даже не начали борьбы.
— Чтобы кончить так, как Йоко? — сказал Джаст Томас.
— Вот потому-то я и приехал сюда, — сказал Джимми. — Из-за того, что они сделали с тетушкой Йоко. Я много раз говорил себе, что нам здесь еще не время начинать. Снова и снова я говорил себе это. Но когда я узнал, что случилось с мисс Йоко, я понял — время настало.
— Время для чего? — сказал Джаст. — Чтоб то же случилось и с нами?
— Я вовсе не хочу, чтобы с вами что-нибудь случилось, — сказал Джимми. — Я хочу, чтобы место, где вы живете, стало вашим.
— Это место никуда не денется, — сказал Джаст Томас. — А вот куда денемся мы, когда нас отсюда выгонят?
— Разве у вас нет детей? — спросил Джимми.
— Все вы такие! — сказал Джаст Томас. — Приезжают сюда, призывают следовать за ними, а потом спрашивают, есть ли у людей дети, чтобы приютить их.
— Джаст Томас тут в церкви не один, — сказала я. — О чем ты нас просишь, Джимми?
— Я главный помощник пресвитера, — говорит Джаст Томас.
— Тогда сам и спроси то, о чем спросила я, — говорю.
Пресвитер Бэнкс встал позади алтаря и велел нам с Джастом перестать спорить.
— Когда приходит дьявол, — говорит Джаст, — добрые христиане начинают ссориться.
— Он страшен только слабым духом, — говорю.
Пресвитер Бэнкс уставился на меня, чтоб я замолчала, а потом сказал Джимми:
— Ты больше не ходишь в нашу церковь, Джимми. И вот ты пришел, потому что тебе нужна наша помощь. Во имя того, чего мы даже не понимаем.
— Я больше не хожу в церковь, — сказал Джимми, — потому что потерял веру в бога. И сейчас я не чувствую себя достойным стоять здесь перед вами. Я не чувствую себя достойным, потому что я слишком слаб. А сюда я пришел, потому что вы сильны. Вы нужны мне, потому что я слишком слаб, чтобы стоять одному. Некоторые люди выходят с флагами, но у нас нет флага. Некоторые выходят с ружьями, но мы знаем, что даже думать об этом бессмысленно. У некоторых есть деньги, но у нас нет ни цента. У нас есть только сила нашего народа, сила христиан. Вот почему я здесь. Я оставил церковь, но это не значит, что я оставил вас. Я люблю вас всех даже больше, чем прежде, и вы все здесь знаете меня. Неужели вы думаете, что я причиню вам зло? Моя тетушка лежит больная — неужели вы думаете, что я хочу причинить ей зло? Но мы должны бороться. Мы должны бороться. Не я один призываю вас к этому. Такие призывы раздаются везде. Меня послали сюда, потому что здесь мой дом и лучше меня никто воззвать к вам не может. И не бойтесь, что Семсоны вышвырнут вас отсюда. Будь это только здесь — да, конечно, но то же происходит сейчас повсюду. Выгнать всех — значит остановить жизнь во всем штате. И чтобы не допустить этого, они пойдут на то, чтобы изменить положение вещей.
— Это по-твоему так, — сказал Джаст. — А откуда ты знаешь, что люди везде согласятся с этим безумием?
— Потому что они слушали Мартина Лютера Кинга в Алабаме и согласились с ним, — сказал Джимми.
— Ты себе много позволять стал, — говорит Джаст. — Слышали? Является сюда раз в год и позволяет себе такое!
— Да замолчи ты, Джаст, — говорю я.
— Что? — говорит Джаст. — Кто это сказал? Ну, уж конечно, ты! — Он всегда носил с собой носовой платок вытирать лысину, чтоб она не так блестела. Вот он и давай махать на меня этим мокрым, грязным платком. — Вот потому-то, — говорит, — ты теперь больше не матушка. Все время споришь о том, чего не понимаешь, либо сидишь дома и слушаешь передачи про греховный бейсбол.
— Чтоб служить господу, мне матушкой быть не нужно, — говорю.
— Будь моя воля, ты ею больше уж не станешь, — говорит.
— А мне и не надо, — говорю. — Чтобы на колени стать, не обязательно сидеть там, где сидит Эмма.
— А когда ты в последний раз на колени становилась? — спрашивает Джаст.
— Ну, нездоровится мне сейчас, — говорю.
— Это тут ни при чем, — говорит Джаст. — Ты только о бейсболе думаешь. Небось, когда надо включать радио, ты себя хорошо чувствуешь.
Пресвитер Бэнкс подождал, чтобы мы с Джастом замолчали, а потом повернулся к Джимми.
— Я тебя понимаю, Джимми, — сказал он. — Я тоже был молодым и знаю, что чувствуют молодые люди. Но мы-то уже состарились, Джимми. Все мы здесь старики, и церковь наша старая. Погляди на нас. Где дети? Где молодежь, Джимми? Пересчитай, сколько нас здесь. Сегодня нас здесь тридцать семь, но где молодежь? А у нас теперь одно желание: мирно дожить до конца своих дней, если мы сумеем, и спокойно умереть, если господу будет угодно. Нам бы хотелось умереть у себя дома, чтобы заупокойную по нас служили в нашей церкви и чтобы нас похоронили на здешнем кладбище рядом с нашими родными и близкими. Но это кладбище принадлежит хозяину, Джимми. Ему же принадлежат наши дома, в которых мы живем, и клочки земли, которые нас кормят. И церковь, где мы сейчас собрались, тоже принадлежит ему. И даже колокол, созывающий нас на молитву. И в тот день, когда он скажет, чтобы мы уезжали, нам придется уехать, придется оставить и колокол, и церковь. Преподобный Кинг и те, кто с ним, владели чем-то в Джорджии и в Алабаме. А у нас нет ничего. Многим из нас не принадлежит даже мебель в доме. Она — собственность хозяина магазина в Байонне, и он завтра же может забрать у нас и кровать, и печку.
Пресвитер Бэнкс замолчал, посмотрел на Джимми, а потом продолжил:
— Я верю, Джимми, помыслы у тебя добрые. Но я не могу призвать мою паству пойти за тобой. Это им решать. И я не стану их призывать — им некуда будет вернуться. Тебе негде их приютить, Джимми, а у них нет денег, и купить себе они ничего не могут. То, что произошло в Бирмингеме, то, что произошло в Атланте, здесь произойти не может. Что-нибудь другое — что-нибудь, когда нас не будет в живых, но не сейчас, Джимми, сейчас здесь ничего произойти не может.
— Я ничего вам не обещаю, — сказал Джимми. — Но мы должны продолжать борьбу — те, кто уже борется, будут продолжать борьбу. Кого-то из нас убьют, кого-то наверняка бросят в тюрьму, а некоторые останутся калеками до конца своих дней. Но смерть и тюрьма нас не страшат, мы искалечены давным-давно, и каждый день, когда мы терпим оскорбления белых, калечит нас все больше. Вот вы сказали, что ваша церковь старая, — продолжал Джимми. — Вы хотели, чтоб я понял вашу жизнь. А я рассказал вам про нас, чтоб вы поняли нашу жизнь. Жизнь молодежи. Так, как жили вы, мы жить не будем. Но нам нужна ваша сила, нам нужны ваши молитвы, нам нужно, чтобы вы были с нами, потому что других корней у нас нет. Я не ждал, что вы поймете меня сразу. Но я вернусь. Я знаю, без вас мы ничего не добьемся, и я вернусь.
Он попросил прощения за то, что нарушил службу, и ушел.
— Еще один покойник, — сказал Джаст.
— Нет, если кое-кто попридержит язык, — сказала я.
— Сестра Питтман, встань и попроси прощения у собравшихся тут, — сказал пресвитер Бэнкс.
Я встала, попросила прощения и опять села. И до конца службы не сводила глаз с Джаста Томаса, но у него не хватило смелости взглянуть на меня. И я не жалела о том, что сказала ему.
Вечером я сидела у себя на веранде, и тут во двор вошел Джимми с каким-то парнем. У меня есть скверная привычка с первого взгляда решать, что человек мне не нравится. Уж я молила, молила бога, чтоб он очистил мое сердце, но все так и осталось. Это одна из самых скверных моих привычек, а может, и самая скверная, но освободиться от нее мне никак не удается. Может, господь ждет моего последнего часа и тогда очистит мое сердце. Но тот парень мне сразу не понравился. Маленький такой, с большим ртом, сплюснутой длинной головой и с клочкастой бородкой. Очки в стальной оправе, как у старика. И зачем-то напялил на себя комбинезон и старый свитер, а на ногах башмаки, в каких в поле работают. Ну к чему, скажите на милость? Уж красивее от этого он не стал. А если хотел одеться, как у нас в поселке одеваются, то и вовсе дал маху. У нас так по воскресеньям не одеваются, а если бы кто вышел в таком виде, его засмеяли бы. Дети, которые проходили мимо, пока он сидел у меня на крыльце, так со смеху и покатывались.
Джимми пришел поблагодарить меня за то, что я говорила в церкви. Я сказала ему, что понимаю, к чему он стремится, ведь мой Нед того же самого добивался много-много лет назад, когда и мать-то Джимми еще не родилась. Я спросила, не выпьет ли он лимонаду. Мэри приготовила большой кувшин лимонаду, а сама ушла в поселок. Только я про лимонад сказала, а длинноголовый парень говорит:
— Что может быть лучше доброго деревенского лимонада!
Джимми пошел на кухню и налил нам всем по стакану. Длинноголовый парень сидел на ступеньках в своем комбинезоне и причмокивал губами.
— Джимми, Джимми, Джимми, — сказала я.
Он сидел на стуле у стены, где раньше сидела Мэри. Полотенце, которым Мэри обмахивалась от мух, все еще висело на спинке.
— Люди тут ни к чему не готовы, Джимми, — сказала я. — Сначала что-то должно повеять в воздухе. Что-то должно повеять так, чтобы они это ощутили. Войти в их плоть, пронизать их до самых костей. А пока этого нет. Ничего, кроме ненависти белых и страха черных. Этот страх в них сильнее всего. Придет день, и они поймут, что страх хуже смерти. Вот тогда они будут готовы пойти за тобой.
— Этого мы и добиваемся, — говорит длинноголовый парень.
— Руководителей создают люди и время, Джимми, — сказала я и даже не поглядела на длинноголового. Я с Джимми говорила. — Руководителей создают народ и время, — сказала я. — А не руководители создают людей. Люди и время создали Кинга, а не он их. То, что сделала мисс Роза Паркс, хотели сделать все. Просто кто-то должен был сделать это первым, потому что все сразу сделать этого не могут. А потом им понадобился Кинг, чтобы объяснить, что делать дальше. Но Кинг ничего не мог, пока мисс Роза Паркс не отказалась уступить место белому.
— У нас есть своя мисс Роза Паркс, — сказал длинноголовый и отхлебнул лимонаду.
— Они здесь еще спят, Джимми, — говорю я.
— Так как мне быть? — говорит он. — У меня горит вот здесь, мисс Джейн, — говорит он и показывает себе на грудь. — Я должен что-то делать.
— Растолковывай, Джимми, — говорю я. — Растолковывай им.
— То есть действовать медленно? — говорит длинноголовый парень в комбинезоне.
— Джимми, — говорю я, — у меня на спине шрам, оставшийся от времен рабства, и я сойду с ним в могилу. А у людей тут такой же шрам остался в мозгу — и останется до могилы. Клеймо страха, Джимми, стереть нелегко. Растолковывай им, Джимми. Говори с ними и не сердись, если они не будут тебя слушать. Некоторые не будут слушать, а многие даже не услышат тебя.
— У нас нет столько времени, мисс Джейн, — сказал он.
— А что тебе остается, Джимми?
Он не знал, что ответить.
— Сначала их нужно разбудить, Джимми, — сказала я. — Они спят. Погляди вокруг, Джимми. Погляди на поселок. Поезди по нашему округу. Ты слышишь ропот недовольства? Нет. А ведь прежде, чем люди поднимутся, должно назреть недовольство. Негр должен проснуться, Джимми, и сбросить с себя черный покров. Он должен сказать себе сам — довольно! Боюсь только, что я-то этого не увижу.
— Но вы можете нам помочь теперь, мисс Джейн.
Не успела я спросить как, а длинноголовый парень в комбинезоне уже говорит:
— Одно только ваше присутствие приведет к нам массы.
Я его слушала, а смотрела на Джимми.
— Я? — спрашиваю. — Как же я вам помогу?
— Если пойдете с нами.
— Пойти с вами? Куда? Когда?
— Когда мы будем готовы выступить, — говорит он.
— Мне же не то сто восемь, не то сто девять лет, — говорю я. — Чем же я могу вам помочь? Я только помехой буду.
— Вы можете воодушевить других, — сказал Джимми.
— Старуха не то ста восьми, не то ста девяти лет может кого-то воодушевить?
— Да, мисс Джейн, — сказал он.
— В первый раз слышу, — говорю. — Но если ты так думаешь и если у меня хватит сил передвигать ноги…
— Ну, теперь массы всколыхнутся, — сказал длинноголовый парень.
Тут уж мое терпение кончилось.
— Послушай-ка, парень, — спрашиваю. — Чей ты?
— Джо и Лины Батчер, — ответил он.
— Это ты у них научился так разговаривать?
— Как?
Но я только посмотрела на него.
— Это называется красноречие, — говорит он.
— Я без твоего красноречия обойдусь, — говорю. — Если не можешь сказать ничего путного, так лучше помолчи.
Он уставился на меня — наверно, обиделся, а потом отхлебнул лимонаду. Снова поглядел на меня — все еще с обидой — и посмотрел на Джимми. Хотел, чтобы Джимми его поддержал. Но Джимми ничего не сказал.
Джимми рассказал мне, что они задумали. Он сказал, что про это знают только шестеро, а я седьмая. Он просил, чтобы я никому ничего не говорила, даже Лине. Нет, она, конечно, не выдаст их, но будет тревожиться и захочет его удержать.
Вы в Байонне бывали? Пили из фонтанчика в суде? Заходили там в уборную? Так вот, еще год назад для цветных — никакого фонтанчика. И никакой уборной. Только для белых, но не для цветных. А цветные должны были выходить во двор и в дождь и в зной, а там спускаться в подвал. А там почти всегда такая грязища, что не войти. Жижа на полу чуть не до щиколоток, а запах еще на лестнице чувствуешь. Женщины туда редко спускались из-за этой грязи. Шли в какое-нибудь кафе на окраине и там заходили в уборную. Либо шли к мадам Орсини. Мадам Орсини с мужем держали бакалейную лавку в Байонне. Очень были хорошие люди и, кажется, называли себя сицилийцами. Итальяшки как итальяшки, но говорили, что они сицилийцы, и всегда обходились с цветными очень вежливо. Мадам Орсини никогда не отказывала женщине — мужчин она не впускала — и позволяла ей привести с собой ребенка. А в центре города, кроме подвала в суде, другого места для цветных не было. Что бензоколонки, что магазины — в уборную вас нигде не пустят. Если уж в магазине вам не позволяют примерить покупку, так что про уборные говорить. Назовешь размер, бери платье. Хорошо сидит, ну, значит, повезло, плохо сидит — очень жаль, но все равно носишь. Господи боже, смилуйся над нами! Бедные негры столько натерпелись, слышишь ли ты меня?
Дядюшка Джилл попросил как-то Брэди купить ему в Байонне комбинезон. Брэди привез комбинезон, в который уместились бы два дядюшки Джилла. Дядюшка Джилл разозлился на Брэди и сказал: раз Брэди назад его не повезет, так пусть деньги отдаст, а комбинезон себе возьмет. Ну и смеялись тогда над дядюшкой Джиллом! Да и Роберт Семсон от цветных не отставал. Как увидит дядюшку Джилла в этом комбинезоне, так начинает хохотать. А когда дядюшка Джилл умер, Мэт Джефферсон вспомнил об этом комбинезоне на поминках. Представляете, дядюшка Джилл лежит в гробу, а люди глупости вспоминают. Наверно, после моей смерти про меня тоже много глупостей наговорят. Бог свидетель, я за свою жизнь немало всякого натворила.
Они собирались протестовать не только из-за уборных, но и из-за крана. Для белых был фонтанчик с питьевой водой, самый обычный — блестящая трубочка, из которой бьет вода, блестящая кнопка, на которую надо нажимать. А за углом — кран и кружка на гвозде для цветных. И все из одной кружки пьют, разве что свою принесешь. Многие так и носили с собой алюминиевые складные стаканчики. А если у тебя нет с собой такого стаканчика или чашки, пей из общей кружки на гвозде.
Под краном стояло ведро, потому что из него все время капала вода. И туда приставили полоумного сторожа следить, чтобы ведро не переполнялось. Он был нездешний, полоумный-то этот, Эдгар. Его назначили сторожем, когда в Вашингтоне приняли закон о десегрегации, чтоб он не пускал в суд черных — пусть не лезут туда со своими правами, не мешают занятым людям. И чуть он замечал цветного, как тут же его останавливал и спрашивал, чего ему нужно. Сразу не ответишь — тут же вытолкнет. Один раз он на меня набросился и давай на меня орать. А я говорю, пусть орет и слюни пускает, но, если он меня хоть пальцем тронет, я ему моей палкой голову разобью. Он поглядел на меня так, будто полоумная — это я, и давай орать на кого-то другого. Так вот, он должен был следить, чтоб ведро не переполнялось. Дважды в день он выводил из камеры негра-арестанта, чтобы он выливал воду. А выливать воду нужно было в уборной для белых, совсем в другой стороне. Потом он снова отводил арестанта в камеру. Обычно он стоял у входных дверей, чтоб отпугивать черных, которые приходили добиваться своих прав. А сам все резинку жует и слюни пускает. Одно слово — полоумный, и место ему было в сумасшедшем доме, это все знали, но его держали там сторожем отпугивать черных. Как-то раз туда с мисс Аммой Дин приехала Берта, так этот дурень гонялся за ней по всему суду — и через приемную, и по коридорам. Берта рассказывала, что она, как добралась до машины, сразу заперлась изнутри и легла на сиденье. Даже головы не поднимала, пока не пришла мисс Амма Дин и не постучала по стеклу.
А Джимми и остальные пятеро придумали вот что — подговорить одну девушку, чтобы она напилась из фонтанчика для белых. (Вот она-то и была их мисс Розой Паркс). Одна из дочек Герберта, католичка и жила в Байонне. Католики и мулаты обычно в такие дела не ввязываются, но она сама вызвалась. Родные ее ничего не знали, пока все не случилось. Джимми сказал, что назначено это у них как раз через неделю — на пятницу, когда все кончают работать. Пятницу он выбрал, чтобы за субботу и воскресенье успеть оповестить об этом как можно больше людей. В церквах рассказывать и в барах тоже. В суд придут две девушки. И как увидят людей, одна начнет пить из фонтанчика. Кто-нибудь наверняка накинется на нее с руганью и начнет отталкивать, а она будет отбиваться. Ее арестуют — ничего другого и ждать нельзя, — другая все увидит и расскажет. Парню они этого поручить не могли, потому что опасались, как бы полоумный Эдгар его просто не избил вместо того, чтобы арестовать. А они хотели, чтобы у них кто-нибудь сидел бы в тюрьме, потому что собирались прийти туда в понедельник протестовать. Пусть весь мир узнает, что на Юге сделали с черной девушкой — да и не такой уж и черной, только наполовину, — всего лишь за то, что она хотела напиться воды.
В тот день, когда это произошло, я сидела у себя на веранде. Со мной там были Этьен и Мэри. И еще Страт. А может, и еще кто-то. Только не Лина — она осталась дома. Кто же еще? Да-да, Фафа. Верно, еще Фафа. Она удила рыбу на реке и принесла мне окуней. Было уже поздновато, ей не хотелось возвращаться пешком в Чайни, и она послала мальчишку Страта спросить, когда вернется Брэди. Только он успел прибежать назад из поселка и сказать, что Джесси не знает, когда Брэди вернется, как кто-то взглянул на дорогу и увидел клубы пыли.
— А это он едет, — говорит Этьен.
Фафа послала мальчишку на дорогу остановить Брэди. Но машина остановилась у ворот, когда он еще не добежал туда. Во двор вошли Джимми и парень в комбинезоне. Было уже темно, и я узнала их, только когда они подошли к крыльцу. Джимми заговорил, и я узнала его по голосу. И сразу подумала, что с той девушкой что-то случилось.
Джимми поздоровался со всеми, поднялся на веранду и поцеловал меня.
— Как вы себя чувствуете? — спросил он.
— Хорошо, — говорю. — Ну а ты?
— Я здоров, мисс Джейн, — говорит он.
Я всматривалась в него в темноте, а сердце колотилось так, словно вот-вот выпрыгнет из груди.
Тут он сам и сказал:
— Сегодня посадили в тюрьму девушку за то, что она напилась воды из фонтанчика в суде. В понедельник в девять утра мы соберемся там. И мы хотим, чтобы все черные — мужчины, женщины, дети — были там.
— Ну, вы своего добились! — говорит Фафа. — Пойду-ка я к себе в Чайни.
— А ждать не будешь? — спрашивает Мэри.
— К тому времени, когда Брэди сюда заявится, кэджены успеют спалить весь поселок, — говорит Фафа. — Нет уж, я пойду.
Вот только что Фафа сидела в углу веранды, а две ее удочки прислонены рядом, и ведерко с рыбой стоит. И вот она уже за калиткой — торопится в Чайни.
— Я заехал, только чтоб рассказать вам обо всем, мисс Джейн, — сказал Джимми. — А потом поеду дальше. До утра понедельника нам еще много надо сделать. — И он поглядел на меня в темноте. У нас была своя тайна, но теперь она стала известна всем. — Вы приедете? — спросил он.
— С божьего соизволения.
— Никуда она не поедет, — говорит Мэри.
— Поеду, Мэри, — говорю я.
— Мое дело приглядывать за вами, — говорит Мэри. — Так я и буду стоять в сторонке, пока вы себя губите.
— Я поеду, Мэри, — говорю.
— А кто вас поднимет, когда вас собьют с ног и растопчут?
— Господь меня поднимет, — говорю.
— Видишь, до чего ты ее довел? — говорит Мэри и смотрит на Джимми.
— Не я, — говорит Джимми.
— Когда нас поведет она, за нами пойдут массы!
Это сказал длинноголовый парень в комбинезоне.
Я не взглянула в его сторону, я смотрела на Джимми. "Джимми, Джимми, Джимми, — думала я. — Люди, Джимми? Слушаешь ты этого парня — красноречие, видите ли, так он это называет, — и рассчитываешь на людей?"
— Хочешь есть, Джимми? — спросила я.
— Я пойду домой, — говорит он. — Надо рассказать тетушке Лине.
— Будь поосторожней с Линой, Джимми, — говорю. — Она ведь нездорова, сам знаешь.
— Я буду осторожен. Увидимся в понедельник, мисс Джейн. В понедельник в девять утра. Как вы туда доберетесь?
— Как-нибудь доберусь с божьего соизволения.
— А мисс Дет все еще устраивает по субботам благотворительные вечера? — спрашивает Джимми.
— Да, каждую субботу с божьего соизволения.
— Завтра вечером я приеду, — говорит он. — А в воскресенье приду в церковь.
Я поглядела на него в темноте. "Джимми, Джимми, Джимми! — думала я. — Не слушай ты этого красноречия, того, что длинноголовый говорит тебе о людях. Где тут люди, Джимми?"
Он поцеловал меня на прощанье и уехал. За машиной через поселок протянулась полоса пыли. Она долетала до веранды, и кожа на лице становилась шершавой от нее.
— Вот и Лине придется уехать, — сказал Страт. — И вам, мисс Джейн. Вы же поедете в Байонну в понедельник?
— Поеду, если господь позволит.
— Зачем? — говорит Мэри. — Чтобы умереть в Байонне?
— Я умру в Байонне, только если на то будет господня воля, — говорю. — А не будет, так я умру у себя в постели. Если бог пошлет.
— Ведь ей же больше ста восьми лет! — говорит Мэри. — Почему они восемнадцатилетнюю не выбрали?
— Той девушке всего пятнадцать лет.
— Вот значит что! — говорит Мэри. — Вы все, выходит, знали. Вместе и готовили это дело. А где же была я-то?
— В поселке, — говорю.
— А вот мне утром в понедельник надо докопать канаву, — говорит Страт. — До вечера не управлюсь.
— И сколько же это канав будут копать в понедельник утром! — говорит Этьен.
— А тебе канаву копать не надо? — спрашивает Страт.
— Вроде бы нет, — говорит Этьен.
"Джимми, Джимми, Джимми! — думала я в темноте. — Вот они — люди, Джимми!"
Брэди был у Дет в субботу вечером, когда к ней пришли Джимми и длинноголовый парень. Но люди там больше интересовались густой похлебкой и пивом, чем Джимми и его рассказами. После того как длинноголовый показал всем лист с фотографией арестованной девушки, они поехали в Чайни на другую вечеринку. Там был Генри, младший сын Фафы. Он рассказывал, что люди там выслушали Джимми и длинноголового и некоторые даже пообещали быть в Байонне в понедельник утром, но, едва Джимми с тем парнем ушли, они тут же передумали.
К тому времени, когда в воскресенье Джимми пришел в церковь, все уже знали, что случилось. Джаст Томас говорил даже, что Джимми не надо пускать в церковь, но пресвитер Бэнкс сказал ему, что ни перед одним человеком, который приходит в церковь с миром, нельзя закрыть дверь. Когда Джимми встал, чтобы говорить, некоторые ушли. Многие из тех, кто остался, слушали без внимания и уважения. Я сидела, смотрела на Джимми и думала: "Джимми, Джимми, Джимми, Джимми, Джимми. Это не потому, что они тебя не любят, Джимми, это не потому, что они не хотят тебе верить. Но они не понимают, о чем ты говоришь. Ты говоришь о свободе, Джимми. Но свобода здесь — это чтоб сводить концы с концами и чтоб белые сказали, что ты неплох. Черные занавески висят на окнах, Джимми. Черные покрывала укрывают их ночью, черная пелена закрывает им глаза, Джимми. А шум, шум, шум у них в ушах мешает им разобрать, о чем ты говоришь. Ох, Джимми, разве они не молили о тебе и разве господь не послал им тебя? А когда они увидели тебя, разве они не возрадовались тебе? Они ждали тебя, Джимми, а теперь, когда ты с ними, они не могут понять тебя. Видишь ли, Джимми, они хотят, чтобы ты исцелил их боль, но они хотят, чтобы ты сделал это, не причинив им страданий. Ты не можешь причинить им больше страданий, чем когда убеждаешь их, что они не хуже других людей. Видишь ли, Джимми, им с самой колыбели внушали, что они хуже — что они не слишком отличаются от мулов. Когда людям внушают одно и то же сотни лет, они начинают и думать, как им внушают. Занавеска, Джимми, покрывало, пелена перед глазами, шум, шум, шум в ушах — за два дня, за несколько часов, Джимми, от всего этого избавиться нельзя. Сколько для этого нужно времени? Откуда мне знать? Пути господни неисповедимы, но бог творит чудеса.
Но посмотри, как я возгордилась. Разве и на моем окне не висит черная занавеска, разве и мои глаза не закрывает пелена? Так, может, потому, что руки мои слишком слабы, чтобы снять покрывало с постели, я говорю себе, что у меня хватит храбрости поехать в Байонну. Но что мне делать в Байонне, если меня может свалить самый слабый порыв ветерка?"
В тот вечер, сразу же после программы Эда Салливана, я сказала Мэри, что иду спать. Они с Элбертом сидели на веранде и разговаривали. Я сказала ей, что иду спать, а на самом деле собиралась не спать, а подождать, когда вернется Брэди. Я ушла к себе и стала на колени у кровати, чтобы помолиться. Молилась я очень долго. И почти все за Джимми, чтобы бог охранял его. И я просила бога вдохнуть в нас всех мужество пойти за Джимми. Потому что это мы сделали его Избранником задолго до того, как он начал что-то понимать.
Я кончила молиться, опустила полог и легла. Я и зимой и летом сплю под пологом — летом оберегаюсь от москитов, зимой — от сквозняка. Я лежала и смотрела на старую мебель. Свет был потушен, и я еле ее различала. Я смотрела на свое старое кресло-качалку в углу.
— Вот стоишь ты там и не знаешь, что творится, но завтра в это время тебя, может быть, уже повезут куда-то.
Я вспомнила Йоко, ее зеркало, и посмотрела на зеркало на умывальнике.
— И тебя тоже, — сказала я. — Тебя-то можно уложить в фургон запросто.
Потом я посмотрела на мою старую швейную машинку, на мой шкаф. И мне показалось, будто они такие же живые, как мы с вами. Когда живешь с вещами долгие годы, становишься похожей на них, а может, они становятся похожими на тебя. Кто на кого — в этом я еще не разобралась, да, наверное, никогда и не разберусь.
Я лежала в своей комнате и ждала, когда вернется Брэди. Потом я услышала, как Элберт сказал:
— Вон фары свернули в поселок.
Он пошел к калитке махнуть Брэди. Минуту спустя Брэди уже стучался в дверь. Когда он вошел, я по запаху поняла, что он выпил. Я сказала, чтобы он зажег свет.
— Нет, мэм, — говорит он.
— Я люблю видеть людей, когда с ними разговариваю, — говорю.
— Понятно, мэм.
— Ну?
— Не могу, мэм.
— Ты пил, Брэди, а? — говорю я.
— Да, мэм, — говорит. — И вот что, мисс Джейн, я не смогу отвезти вас туда завтра.
— Куда отвезти меня завтра, Брэди? — спрашиваю.
— Я знаю, вы ему обещали, мисс Джейн, — говорит он.
— Поэтому ты уехал и напился, Брэди?
Он ничего не ответил. Я смотрела на него в темноте.
— Зажги свет, Брэди, — сказала я.
— Нет, мэм, — сказал он и заплакал. — Я не повезу вас туда, мисс Джейн.
— Он ведь много для тебя делал, Брэди, — говорю я. — Писал письма за твоих отца и мать. Разве ты забыл?
— Я боюсь, мисс Джейн, — говорит он и плачет. — Меня вышвырнут отсюда, я знаю. Я же вижу, как Ти-Шо и все они поглядывают на мой дом, когда проходят мимо. Они хоть сейчас готовы его снести, хоть я еще живу там. Мистер Роберт только случая ждет, чтоб отдать его Ти-Шо и им всем.
— Брэди, Брэди, Брэди, — говорю я.
— Простите меня, мисс Джейн, — говорит он. — Вы же знаете, как я всегда с радостью все для вас делаю. Все, ну, когда вам надо к доктору поехать или что другое…
— Брэди, Брэди, Брэди, — говорю я.
— Я знаю, я не мужчина, мисс Джейн, — говорит он.
— Брэди, Брэди, Брэди, — говорю я.
— Я знаю, знаю это, — сказал он. — Я знаю, вместо него там должен быть я. Я все понимаю.
— Иди домой, Брэди, — сказала я. — Иди к своей жене и детям.
Но он все так же стоял в темноте и глядел на меня.
— Мисс Джейн! — сказал он, но я не ответила. — Мисс Джейн!
— Что, Брэди? — сказала я.
— Клянусь богом, мисс Джейн, я вам возмещу. Клянусь, что возмещу. Клянусь богом.
— Не надо клясться, Брэди. Я понимаю.
Он все стоял и плакал, плакал и взывал к богу.
— Иди домой, Брэди, — сказала я.
Он ушел плача.
Не успел уйти Брэди, как пришла Лина. Я все еще не спала. Лежала и думала, кого бы мне еще попросить. Кроме Брэди, в наших местах машина на ходу была только у Оливии Антуан. Я все думала, может, послать к ней Элберта и попросить, чтобы она свезла меня туда. И тут я услышала, что Лина спрашивает Мэри обо мне. Мэри сказала, что я уже легла.
— Я не сплю, — сказала я.
Но Лина меня не услышала, потому что постучала в дверь:
— Джейн, ты не спишь?
— Входи, Лина, — сказала я.
Лина распахнула дверь, и я сказала, чтобы она зажгла свет. Лина была крупная женщина, но здоровьем не могла похвастать. Года четыре, а может, и больше она чувствовала себя плохо. Я смотрела, как она придвигает кресло-качалку поближе к кровати. Я понимала, что она пришла поговорить о Джимми, но не знала, как ее подбодрить.
— Ты тоже говорила с Брэди? — спросила она.
— Да.
— И тебя он тоже не хочет везти?
— А ты едешь? — спрашиваю.
— Я должна поехать, — говорила она. — Я не хочу ехать. Не хочу видеть, как его убьют у меня на глазах, но я должна.
— Ничего не случится, Лина, — сказала я.
— Они его убьют, — говорит она. — Я держала его у груди дольше, чем его родная мать, и я знаю, когда случится беда.
Она сидела, сложив руки и опустив голову, точно молилась.
— Я обойдусь без этой их уборной, — говорит она. — И их вода мне не нужна. Я пью воду, как еду в Байонну и потом, когда возвращаюсь. Всю жизнь так делаю.
Я смотрела на нее и не знала, что ей сказать.
— Почему это должен быть он? — говорит она. — Все другие хотят того же, так почему он?
— Он для всех нас писал письма, Лина, — говорю я. — Он читал нам газеты и Библию. И ни с кем мы не были так строги, как с ним.
— Не для этого же! — говорит она.
— Разве мы знали, ради чего это делаем? — говорю я.
— Я знала, ради чего, — говорит она. — Я хотела, чтоб он стал учителем.
— Он учитель.
— Учить из могилы нельзя.
— Джимми не умер, Лина, — говорю.
— Пока еще не умер, вот что, — говорит она. — Меня так и тянет пойти к Роберту, чтоб он их остановил.
— Джимми остановить нельзя.
— Но хоть завтра-то не убьют? — говорит она.
— Посмотри на остальных, — говорю. — Их же не убили.
— Не всех убили, вот про что ты думаешь, — говорит она. — И они же в Байонне не были. Такие, как Альбер Клюво, тут еще не перевелись.
Мы долго молчали. Она сидела, сложив руки и опустив голову. Я знала, она уже выплакала все свои слезы.
— Как ты туда доберешься? — спросила я.
— Пойду к Оливии. Если она откажет, поеду на автобусе.
— Я поеду с тобой, — сказала я.
— Ты пока спи, — сказала Лина. — Я передам тебе, что она скажет.
Элберт тоже собирался ехать, и Лина попросила его пойти с ней в поселок. Вернулась она через час и сказала, что Оливия согласна отвезти нас в своей машине.
— А она не боится, что ее выселят? — спросила я.
— У нее есть сбережения, — сказала Лина.
Утром Мэри встала на рассвете и сказала, что если я собираюсь в Байонну вместе с ней, то чтоб я поскорее встала. Я спросила, когда это она решила ехать. Так ведь меня собьют с ног. На то есть господь, говорю. А она отвечает, что господь, может, за кем другим будет присматривать, так не подобает, чтоб он того бросил и начал помогать мне. Я встала, помолилась. Потом подняла полог, постелила постель и вышла на кухню выпить кофе.
— Съешьте-ка чего-нибудь посытнее, — говорит Мэри. — Может, вам придется побегать.
— Ну так дай мне лепешку к кофе, — говорю я.
— Каша с яйцом будет повернее, — говорит Мэри. — Надо же мне знать, что вы не от голода упали, а от дубинки.
— Только поменьше клади, — сказала я.
Мэри открыла заднюю дверь, и в кухню полился прохладный воздух. Я посмотрела на солнце, на траву, совсем оранжевую в его свете. Я люблю раннее утро и прохладу, но сегодня все было каким-то странным. Сердце у меня колотилось сильно-сильно. Я не боялась, что меня ранят или убьют, — когда тебе сто восемь или сто девять лет, ты забываешь про страх. Но только все было каким-то странным, и я не понимала почему. И я просто сидела и смотрела на траву. Прежде я любила нагнуться и провести рукой по росе. Только давно это было, очень давно. А теперь я могу только иногда пройтись по росе, да и то мне надо быть осторожной.
— Какое-то все странное сегодня, — сказала я.
— Почему странное? — спрашивает Мэри.
— Не знаю, просто странное, — говорю.
Мэри принесла завтрак, поставила на стол и села напротив меня.
— Я знаю, сколько у тебя из-за меня хлопот, — говорю я.
— Хватит! — говорит Мэри. — Какие еще хлопоты?
— Тебе-то туда ехать незачем, Мэри, — говорю я.
— Нужен мне этот дом! — говорит она.
— А куда ты поедешь, если тебя выселят? — спрашиваю.
— Не знаю, — говорит она. — Поселюсь где-нибудь рядом с вами.
— Все, что у меня есть, — твое, когда я умру, — говорю.
— И не думайте мне платить, мисс Джейн, — говорит она. — Не так я воспитана.
— Я и не думаю тебе платить, — говорю. — Просто я люблю тебя так же, как и ты меня, а ничего другого у меня нет. Вот я и хочу, чтобы мои вещи перешли к тебе.
— Мне хватает вашей любви и уважения.
— Я хочу, чтобы кресло-качалка и швейная машинка были твоими, — говорю.
— Ладно, — говорит Мэри. — Только прежде-то они меня убьют. Ну, и кто-нибудь другой все это возьмет.
— Да я не про сегодня говорю.
— Верно, верно, сегодня нам опасаться нечего, — говорит Мэри. — Только вот как мы заставим их отступить? Запоем?
— И в ладоши похлопаем, — говорю.
— У меня такое предчувствие, что сегодня в Байонне нужны будут не только песнопения, — говорит Мэри. — А еще много чего другого.
— Ты тоже чувствуешь смерть в воздухе, Мэри? — сказала я.
Мэри чувствовала смерть, как и я, но ответить мне не захотела. Она встала из-за стола, вымыла посуду, а потом подмела кухню.
Лина зашла за нами около половины девятого. Мэри помогла мне надеть свитер, я взяла палку, и мы вышли на веранду. В поселке было тихо, точно в воскресный вечер, когда в церкви нет службы. Я оперлась на Мэри и сошла со ступенек. Когда мы вышли на дорогу, там стоял Этьен в лучшем своем костюме.
— Ну, Этьен? — сказала я.
— Мисс Джейн! — сказал он и притронулся к шляпе.
Я поглядела на него и кивнула. Я была очень горда за Этьена.
Так вчетвером мы и пошли через поселок к дому Оливии. Было еще прохладно, и пыль под ногами была холодной и мягкой. Солнце пока не поднялось над деревьями, и их тени лежали на дороге. Я видела, где в пыль упала роса с бурьяна у дороги.
Мы все время молчали, но, когда мы подходили к дому Страта, Этьен оглянулся и сказал, что вроде бы кто-то идет в эту же сторону, но издали я не могла рассмотреть, кто это. Я видела только темную фигуру на светлой пыли. Мы прошли еще немного, и Этьен сказал, что как будто еще два или три человека в эту же сторону идут. Я опять оглянулась, но опять не смогла узнать их — только темные фигуры на светлой пыли. У дома Джо Саймона я оглянулась еще раз. И тут я остановилась, опершись на свою палку. Теперь их было уже не двое и не трое, теперь их было много. Они шли не вместе, не торопились и вроде бы не разговаривали друг с другом. Они шли словно бы каждый сам по себе, словно готовые повернуть обратно при малейшем шуме. Но чем дольше я стояла и смотрела, тем больше их было — тех, кто приближался ко мне. Мужчины, женщины и дети. Я еще не различала лиц, но уже видела, кто в платье, а кто в брюках, кто взрослый, а кто маленький. Нет, не все жители поселка шли сюда. Машина Брэди по-прежнему стояла возле его дома. Наверное, половина их осталась дома. Но я никак не ожидала, что выйдет так много народу. Я никогда не поверила бы, что такое может случиться. Я стояла, смотрела на них и думала: "Джимми, Джимми, Джимми, Джимми. Посмотри, что ты сделал. Посмотри, что ты сделал. Посмотри, что ты сделал, Джимми".
Они подошли, окружили нас и остановились. Многие боялись и не прятали своего страха. Но все же они стояли здесь, и это было главное. А мне хотелось каждому сказать: спасибо, спасибо, спасибо. И я решила, что там, в Байонне, подойду к Джимми и скажу ему: "Джимми, посмотри на свою армию из Семсона. Думал ли ты, что они придут сюда?" А он посмотрит на меня своим печально-ласковым взглядом и скажет: "Ну конечно, я знал, что они меня не подведут".
Я смотрела на них и чувствовала себя такой счастливой, что заплакала. Мэри и все они видели, как я плачу, но никто ничего не сказал, потому что они знали — я плачу от радости, а не от горя.
Оливия вышла из дома, увидела нас и сказала, что ей очень жалко, но подвезти-то она может только несколько человек. Они сказали, что поедут на автобусе, и просили передать Джимми, чтобы он без них не начинал. Оливия спросила, у всех ли есть деньги. Оказалось, что о деньгах они совсем забыли. Оливия сказала, чтобы они обождали — она сейчас сходит за сумочкой. Но едва она повернулась, чтобы войти в дом, как на своей машине подъехал Роберт Семсон.
Я услышала, как закричала Лина, увидела, как она бежит тяжело-тяжело — навстречу машине. Мэри, Оливия и Мерл Энн бросились за ней и оттащили в сторону. А она все кричала и пыталась вырваться от них. Роберт Семсон вышел из машины и посмотрел на нас.
— Идите все домой, — сказал он.
— Что с моим мальчиком? — спросила у него Лина. — Что с моим мальчиком?
— Идите все домой, — сказал Роберт.
— Что случилось, мистер Роберт? — спросил Этьен.
Роберт глядел на Лину, и я поняла, что случилось самое плохое.
— Нет! — воскликнула Лина. — Нет. Господи, нет!
— Уведите ее домой, — сказал Роберт.
— Мы имеем право узнать, что случилось, мистер Роберт, — сказал Этьен.
— Где мой мальчик? — спросила Лина у Роберта. — Я хочу его видеть.
— Увидишь завтра, — сказал Роберт. — Завтра я сам тебя туда отвезу.
— Он убит? — спросил Этьен.
— Его застрелили сегодня в восемь утра, — сказал Роберт.
Лина упала. Хотя Мэри и другие держали ее, она упала. Они подняли ее и увели в дом.
— Кто его застрелил? — спросил Этьен.
— Кто знает! — сказал Роберт.
— Кто-то да знает, — сказал Этьен. — Кто-то да знает, мистер Роберт.
— Ну, я его не убивал, — сказал Роберт. — Я узнал об этом, только когда мне позвонили по телефону.
Он стоял возле машины и смотрел на нас.
— Идите домой, — сказал он.
— Вы говорите, чтобы мы убирались из поселка, ведь так? — сказала я.
— Я говорю, чтобы вы шли домой, — сказал Роберт.
— Я поеду в Байонну, — сказал сын Страта.
— И я с Алексом, — сказала я.
— Те, кто хочет ехать в Байонну, едем, — сказал Алекс. — Едем в Байонну, даже если нам некуда будет вернуться.
— Что ты думаешь найти в Байонне? — спросил Роберт.
— Джимми, — сказал Алекс.
— Джимми убит. Разве ты не слышал, как я сказал, что Джимми застрелили сегодня в восемь утра?
— Вовсе он не убит, — сказал Алекс.
— Ты-то ведь знаешь, — сказал Роберт мне.
— Убили только малую его часть, — сказала я. — А он ждет нас в Байонне. И я еду туда с Алексом.
Некоторые попятились, когда я это сказала, но те, кто был посмелее, вышли на дорогу. Они снова забыли про деньги. У меня не хватило бы денег расплатиться в автобусе, и я послала мальчишку в дом к Оливии. Он вернулся с десятидолларовой бумажкой и сказал, что Оливия приедет туда попозже. Я сунула деньги в кошелек. Мы с Робертом посмотрели друга на друга долгим взглядом, а потом я прошла мимо него.
День правды в Луизиане
Эрнест Дж. Гейнс рано вышел на авансцену американской прозы: еще в пору дебютов он получил признание как рассказчик. В 1967 году Ленгстон Хьюз выпустил известную антологию лучших негритянских рассказов, включив туда недавно появившуюся вещь Гейнса — "Долгий ноябрьский день". И другие новеллы Гейнса о Юге в брожении, о крае старых плантаций в XX веке вскоре после журнальной публикации попадали в представительные антологии. В 1968 году автор собрал их в книгу новел "Кровная связь", получившую широкий резонанс в Америке.
Критика часто возвращается к этой книге, говоря о последующих вещах писателя. Ибо в емкой малой прозе Гейнса виден и весь его мир, и устойчивые черты его художественной манеры, сохраняющиеся в поздних романах, во многом несхожих.
Сразу замечаешь, какой это виртуоз сказа. Историю ноябрьского дня, полную и грусти и юмора, излагает шестилетний малыш — все тут преломлено в детском слове. А долгий день вместил многое: от распри между родителями до их примирения после всех перипетий; стылому дому возвращено тепло. Рассказ приводит на плантацию и в школу, дает услышать и священника и предсказательницу — сама жизнь негритянского сообщества стала фоном трагикомического ноябрьского дня.
Это сообщество иначе освещено изнутри в другой новелле, "Вросла корнями", где действующие лица пестрой вереницей один за другим берут слово. И тут немало комических штрихов, однако целое куда ближе к трагедии. Поселок пришел проститься со старой тетушкой Фе: борьба за гражданские права достигла глуши, на жилые дома полиция бросает бомбы — и тетушку хотят увезти подальше от бомб. Но неожиданность новеллы в том, что стойкая старуха никуда не поедет: она может жить и умереть только на родной земле. Из кратких монологов складывается портрет негритянского сообщества, исполненный поэтического достоинства и силы.
В этой и других новеллах Гейнса происходит встреча времен. От прошлого здесь нравственные ценности, пронесенные афроамериканцами через трагические века. А от настоящего — мятежный дух и жажда действия. Есть на вечере у тетушки Фе и посланец 60-х годов, Эмманюэль. Когда-то он узнал от нее, как линчевали его прадеда. И запомнил ее слова, что убийств не должно быть. Борясь за права негров здесь и теперь, он близок по духу Мартину Лютеру Кингу. В патриархальном сообществе этот "смутьян" — свой, тетушка Фе успевает благословить его.
В других случаях перед нами столкновение, даже "сшибка" времен. Подобное столкновение может произойти и в самом сознании героя, как в "тюремной" новелле "Трое мужчин". Ее девятнадцатилетний герой, попав за решетку, поначалу рассчитывает на "своего" хозяина плантации: стоит тому заступиться, и он выйдет на волю. Но потом окажется, что для юноши с прямой, "хемингуэевской" натурой такой выбор не подходит. Ведь тогда его уделом будет вечное подобострастие, выйти на волю он сможет только "дядей Томом".
А в заглавной новелле сборника, "Кровная связь", перед нами небывалый мятежник на глубоком Юге. Сын плантатора-насильника и одной из многих его черных наложниц, он явился в родные места после скитаний по Северу, чтобы предъявить свои права. Право первородства: он старший сын своего дикого, ныне сгинувшего отца. И во всяком случае, он такой же Лоран, как его дядя-плантатор, совсем не злой по натуре, но ревностный охранитель южных устоев.
В центре этой новеллы — по-театральному яркий и драматичный поединок дяди и племянника. И слово племянника куда сильнее. Он защищает попираемые права не только черных — всех униженных. Мечтатель с Севера, он объявляет себя генералом еще не собравшейся армии и пророчит жаркое лето в этом тихом краю. А начинает он с того, что восстает против векового символа южного неравенства: неграм позволено входить в господский дом лишь с черного входа.
В сборнике Гейнса радикальные настроения 60-х годов нашли поэтическое воплощение. Естественно, что автор обостренно воспринимал перемены в своем краю, одном из глухих углов Юга, где расизм давно и прочно стал бытом. И в то же время этот сборник, так полно выразивший свой исторический момент, привлекал не только остротой проблематики. В нем увидели подлинное искусство, всегда неожиданное, именно поэтому он встретил такой горячий прием. Достаточно привести энергичные слова, которыми закончил свой отзыв на книгу в журнале "Сатердей ревью" известный критик Гренвилл Хикс. Может статься, что Гейнс, читаем мы, — один из тех молодых прозаиков, "которые будут создавать американскую литературу завтрашнего дня"[9]. Хикс, правда, оговаривался, что не читал ранних романов Гейнса и сказанное им верно в том случае, если большая проза автора сопоставима с малой.
Что ж, один из этих романов Гейнса, "Любовь и прах" (1967), по достоинству оценил Джеймс Болдуин, найдя там и поэзию, и жестокую правду. Сам автор был уверен, что лучше всего ему удались рассказы. Однако его очевидные удачи после 1968 года и все его развитие как писателя связаны с большой прозой, к которой Гейнс неизменно обращался. Хотя она нередко членится у него на эпизоды и включает законченные фрагменты, и для Гейнса и для его широкой аудитории это внутренне организованные современные романы. Так читается его "Автобиография мисс Джейн Питтман" (1971), уже публиковавшаяся у нас. Так воспринята многими критиками его новая, необычная по форме книга — "И сошлись старики" (1983).
Давно замечено, что во всех названных вещах Гейнс изображает один округ глубокого Юга со старыми плантациями сахарного тростника и ветшающими негритянскими деревнями; в центре округа — вымышленный город Байонна. Его прообразом, мы знаем, был город Нью-Роудс, недалеко от которого родился писатель. Естественно, что многих его читателей интересуют вопросы: в какой мере то, что описано в его романах, наблюдал и пережил он сам? Каково его место в сегодняшней американской прозе? И какие традиции продолжают питать его искусство — гибкое, меняющееся?
Ранние жизненные впечатления отозвались во всем, что Гейнс написал. Его нынешние герои окружали его в детстве.
Родился Эрнест Гейнс в 1933 году на одной из старых плантаций Луизианы. Эрни был старшим ребенком в многодетной негритянской семье, он рано начал работать в поле. По его воспоминаниям, тогдашняя жизнь на плантации не слишком далеко ушла от времен рабства. А рядом были те, у кого была еще свежа память о годах неволи, Гражданской войны, Реконструкции. Это старики, с которыми Эрни ходил на рыбалку. И друзья его любимой тетки Огастин Джефферсон, навещавшие ее дома: сама она была калекой и ходить не могла.
Памяти тети Огастин (собственно, она была ему двоюродной бабкой) Гейнс посвятил свой роман о Джейн Питтман. Долгие часы, проведенные с ней, около нее, были всего важнее для воспитания будущего писателя. Она не жаловалась на судьбу, и другим не приходило в голову ее жалеть. А делала она все, что могла: стирала, шила, готовила, даже ухитрялась работать на огороде. Она помогла сложиться представлению Гейнса о негритянском народном характере. В интервью, которое писатель дал журналу "Саузерн ревью", выходящему в Луизиане, об этом сказано так: "Многие мои герои наделены поразительной отвагой, и этим, я думаю, они обязаны в основном ей"[10].
В том же интервью Гейнс вспоминал, что на плантации процветало искусство рассказа. Изобретательных выдумщиков, если не вралей, он наслушался вдоволь. Совсем иным было слово тети Огастин, летописца по натуре: ее истории погружали в прошлое. Для будущего автора и то и другое было важной школой, но не могло заменить школы литературной. Он сам это остро ощутил, переехав пятнадцати лет в Калифорнию — к матери и отчиму. Там его скоро потянуло читать, в первую очередь о сельском Юге, и писать — о людях плантации.
О своем "чудовищно неумелом" романе, написанном одним духом за лето и бесславно вернувшемся от издателя, Гейнс говорит с улыбкой. Чтобы рассказать о людях плантации, ему надо было основательно овладеть современной литературной культурой; на это ушли годы. Но зато в итоге посланец черного меньшинства из экзотического региона страны стал писателем всеамериканским. И тем важнее для нас дорога Гейнса к мастерству, тем более живой интерес вызывают его литературные отношения с Хемингуэем и Фолкнером.
По словам Гейнса, каждый, кто начинал писать в 50-е годы, испытал влияние их обоих. Возможно. Но часто ли творческий контакт с ними был глубок и "рассчитан" на десятилетия? А вот в случае с Гейнсом это именно так. Он даже сказал, что не знает, возможно ли для него "вырваться" из-под их влияния, как и "вырваться" из-под влияния джаза, или блюзов, или спиричуэлс. Оба классика помогли ему создать свой литературный мир.
В одной беседе Гейнс с увлечением говорил о лаконизме Хемингуэя, о характерном для него герое, и под гнетом сохраняющем достоинство. Он заметил тогда: "…на большинство моих персонажей я взваливаю тяжелое бремя и ожидаю, что они пронесут его с достоинством. Вот почему я восхищаюсь Хемингуэем: он показал мне, как писать об этом".
А в приводившемся уже интервью журналу "Саузерн ревью" Гейнс говорит о влиянии Фолкнера, которое многие улавливают в его творчестве. И при этом касается творческой проблемы, общей для негритянских писателей: "Фолкнер определенно повлиял на меня. Я прочел многие его вещи. Он заставил меня снова прислушаться к диалекту. Мне кажется, что многие мои современники, черные прозаики, недостаточно вслушиваются в живые разговоры на диалекте".
Чуть раньше в том же интервью приводится список книг, оказавших на автора большое воздействие. Он открывается романом Фолкнера "Шум и ярость", за которым следует другая его вещь —"Когда я умираю". Заметим здесь, кстати, что идеальной моделью для края с центром в Байонне послужила, конечно же, знаменитая Йокнапатофа.
В том же весьма любопытном интервью Гейнс коснулся и работ двух всемирно известных писателей "черной" Америки: Ральфа Эллисона и Джеймса Болдуина. Он знает обоих как романистов, отдает должное их лучшей прозе — "Невидимке" Эллисона и первому роману Болдуина, "Поведай с горы". Но особенно увлечен он их блестящими эссе. Тут сказывается духовное родство: эти эссе принадлежат страстным борцам за гражданские права и отстаивают позиции, дорогие и Гейнсу. И в то же время он чувствует, что у него другой путь: свои заветные мысли он может выразить только в романе, где его герои говорят, как говорят негры в Луизиане, лишь там он в своей стихии. Что ж, этот путь считал наиболее перспективным и Фолкнер, когда написал в 1945 году Ричарду Райту: именно произведение, подобное его роману "Сын Америки", подлинно художественное, может дойти до самого широкого круга читателей, а не только заведомых противников расизма.
Как бы то ни было, при такой установке Гейнса — выражать свои устремления в романе, проникая во внутренний мир земляков, прислушиваясь к их голосам, — не удивляют его возвращения почти в каждом интервью к русской классике.
Довольно рано в Калифорнии он открыл для себя "Записки охотника": его интересовало, как писатели других стран изображали жизнь крестьян. Оказалось, что герои этой книги — настоящие люди, а не клоуны, как в расхожей американской беллетристике, особенно в беллетристике южан. Проза Тургенева оставила сильное впечатление, Гейнс говорил о "прозрачности и красоте его письма, ощутимых даже в переводе". Позднее он стал читать все, что ему попадалось из наших классиков, интересуясь стилем каждого. И узнал их, может, в несколько необычном, но не столь уж редком на Западе порядке: "Я прочел рассказы, пьесы и письма Чехова, потом перешел к Толстому, Пушкину и Гоголю. Нахожу, что русские — величайшие писатели XIX века. Таких имен, как Гоголь, Толстой, Тургенев, Достоевский и Чехов, не выдвинула ни одна другая страна"[11]. Что ж, и мы чувствуем: это уже давние спутники писателя из Луизианы. На традиции русской прозы он опирается и в последней своей книге — "И сошлись старики".
И само представление Гейнса о жанре романа, в котором он работает не одно десятилетие, складывалось при участии наших классиков. Объемистые тома, он давно знал, не его дело, а вот "Отцы и дети", с их емкостью, стали для него в пору дебютов литературной Библией. По его словам, "в этой книге было почти все, что может вместить небольшая книга". Гейнс размышлял и о других вещах Тургенева, у которого особенно ценил "структуру его небольших романов". Конечно, книги Гейнса достаточно далеки и от русских образцов, и одна от другой. Но тут сказалось вполне устойчивое понимание им своего жанра. Для Гейнса это небольшой роман, вмещающий весь драматический мир Байонны в прошлом и настоящем. И роман, богатый действием, сразу вовлекающий в него читателя. В одной беседе 1978 года Гейнс заметил: "Посмотрите, как Пушкин начинает свои романы, так романы и должны начинаться".
"Автобиография мисс Джейн Питтман" — тоже сжатый роман обычного для писателя размера. В эту книгу вошел век жизни — и героини, и ее края, и всего черного меньшинства в Америке. Мисс Джейн, не уставшая жить и в свои сто с лишним лет, близко к сердцу принимает борьбу Мартина Лютера Кинга. Идут 60-е годы XX века. А ее воспоминания переносят нас в другие 60-е, на старую плантацию, где вместе с нею, маленькой рабыней, мы встречаем измотанных солдат мятежников, не замечающих ее. Совсем иная встреча у нее с северянами. Участливый капрал Браун вглядится в ее лицо — и даст ей новое имя вместо прежнего, рабского. Через год Джейн уйдет с плантации, и начнется путь бывшей рабыни по жизни.
Гейнс не раз говорил, каким был первоначальный замысел этой книги, в чем-то сильно измененный в ходе работы, в чем-то стойко сохранявшийся. Он хотел ввести голоса негритянского сообщества: когда мисс Джейн не стало, собрались ее друзья — поговорить о ней и вспомнить то, что пережили вместе. И он не представлял себе книги с одним характером в центре — его больше интересовали события, затронувшие героиню, и ее понимание этих событий; Гейнс хотел написать "автобиографию народа".
Автобиографией народа книга и стала, хотя о пережитом рассказывает в ней сама героиня. При этом, в соответствии с первоначальной установкой, далеко не всюду мисс Джейн на первом плане, но во все десятилетия важно ее понимание событий, ее народный взгляд на вещи. Это видно, например, по главам, где описана жестокая драма в плантаторском доме уже в XX веке. Тут героиня вместе с другими глубоко переживает беду, типичную для Юга, — а предчувствовала она эту беду раньше других: ей слишком хорошо знакомы "правила" расистского Юга. Однако в начале и конце романа перед нами не прежняя, а новая установка: автор выдвигает героиню как народный характер на первый план и ставит ее в центр книги. И именно в эти разделенные столетием времена, когда исторический свет достигает южного захолустья, за движением героини видна приходящая в движение масса.
Двое черных детей идут через Луизиану. Старшая, Джейн, по-матерински заботлива с малышом, только что, во время резни, потерявшим мать. Он идет молча, сжимая кремень — высекать огонь для костра. В Огайо! Это их мечта, страна-миф, свободный край. Их не остановит ни террор, который они видели вблизи, ни доводы здравого смысла: напрасно им показывали на карте, как далеко их Огайо. Мечта сильнее резонов, и трогательная пара, бредущая по американской земле от рабства к свободе, чем-то напоминает твеновских Гека и Джима, плывущих на плоту. В Огайо! Они не забудут этого порыва к свободе, пусть и не выйдут из своего штата, где о войне еще напоминают многочисленные пожарища.
И вот уже 60-е годы нашего века. Последний выбор мисс Джейн. Она с теми, кто решает ослушаться "патриархального" хозяина, по-прежнему всесильного здесь, и поехать в Байонну на демонстрацию, хотя за это могут выселить из поселка. Что ж, дерзкие старики верны не хозяину, а молодому активисту, выросшему здесь и только что убитому в городе. И вместе с тем — верны себе. Таков их выстраданный выбор, иначе нельзя, — Гейнс дает это ощутить с помощью скупого диалога и выразительной детали. Недаром он восхищался недосказанностью у Хемингуэя. В конце книги мисс Джейн и хозяин молча смотрят друг на друга — ведь она, подобно фолкнеровской Дилси, "своя" в доме. За этим последний штрих: "Я прошла мимо него". И вместе с другими — в Байонну.
Если книга о Джейн Питтман охватывает век, то почти все действие новой книги Гейнса примерно того же размера укладывается в один день. В этот день с небывалой свободой звучат голоса негритянского сообщества — оно само словно получает голос. "И сошлись старики", оригинальный по замыслу роман-трагикомедия, раскрывает до самых глубин жизнь округа в прошлом и настоящем.
И тут Гейнс начинает с действия, причем за детективной завязкой есть и другая, куда более озадачивающая. Белый фермер Бо Бутан, сама жестокость и рвачество, давно ненавистный неграм, застрелен во дворе Мату, уважаемого человека в деревне. Как будто нечего и расследовать, все ясно. Но двор Мату наполняется старыми неграми, и каждый утверждает, что именно он убил Бо. Когда приезжает шериф, допросы оборачиваются фарсом: не арестовывать же всех, кто взял вину на себя! Стена черных стариков с дробовиками — это, однако, завязка того необычного театрального действия, в котором солоно придется шерифу, тертому представителю ''закона'' на расистском Юге. Застывшая группа на крыльце и у дома поразит всех либерально настроенных белых, которым доведется ее увидеть. Конечно, это мирное воинство не лишено комизма: не только шериф может усомниться, что дряхлые старики — все подряд снайперы. Но собравшиеся вместе негры с дробовиками — тут и соседи, и старые знакомые, приехавшие сюда издалека, — производят нешуточное, даже фантасмагорическое впечатление: что-то сдвинулось на Юге, еще вчера это было немыслимо. То-то добрая мисс Мерль твердит, что никогда в жизни не видела ничего подобного. И сейчас не верит своим глазам. А мы узнаем, что сошлись немощные старики, достойные высокой трагедии. Кому за семьдесят, кому за восемьдесят, но каждый свободен распорядиться своим последним часом. Они готовы здесь умереть, встретив не только "закон", но и привычное южное беззаконие: у отца убитого Бо Бутана черная слава линчевателя.
Скульптурная группа, на которую здесь падает свет, — основной образ романа, его эмблема. Такие группы по ходу действия своих книг любил выделять и описывать Фолкнер, сравнивая их с фигурами на греческом фризе. Это сравнение мы находим и в романе "Когда я умираю", давшем очевидный творческий импульс новой книге Гейнса. Там история бедных фермеров, чьи несхожие характеры представляют все разнообразие человеческой природы, раскрывалась в сюите кратких монологов, это был роман со многими рассказчиками. И у Гейнса история косноязычных стариков, представляющих достоинство и полноту жизни в краю страха, выясняется из серии небольших монологов, и тут масса рассказчиков. А поэтически выделенная, наподобие фолкнеровских "фризов", группа, которая приковывает наше внимание в романе, — уже из другой эпохи, после Фолкнера: это образ сегодняшнего Юга.
Перед нами пейзаж запустения: заросшая сорняками дорога у двора Мату. И вся деревня может даже напомнить заброшенный город на Западе, так сказать, киноштамп запустения — не хватает только перекати-поля на дороге. Но это не единственный ландшафт романа. Есть негритянское кладбище, где хоронили еще во времена рабства; старики останавливаются здесь, у заброшенных могил, — под ногами хрустят желуди и орехи, — и их обступают общие щемящие воспоминания. Это место еще принадлежит им, а вот реку Сент-Чарльз, у которой они росли, у них отняли. За нынешним местом действия открывается то, что было прежде, когда они тяжко работали на земле, но в их жизнь входила красота сада, леса, реки.
В начале романа время действия бытовое: шериф спешит на рыбалку, у него считанные часы. Скоро, однако, оно сменяется историческим: ему приходится выслушивать рассказы о прошлом, неизменно переходящие в твердое и невероятное признание: "Я убил Бо". Да, у многих тут давние основания посчитаться с семьей линчевателей. Начиная с дядюшки Билли Вашингтона, чей сын, солдат антифашистской войны, был избит "дома", на Юге, до полной потери рассудка. И до Такера, чей брат, последний здесь черный издольщик, с упряжкой мулов вздумал тягаться с белым на тракторе, да еще опередил его, за что и был забит до смерти. День расследования в Маршалловой деревне становится днем исторического расчета, и шериф на глубоком Юге оказывается ответчиком.
Он пытается отстранить эту вырвавшуюся наружу правду: что говорить о минувших десятилетиях, все это уже быльем поросло. И получает колкий ответ от языкастой старухи из той же группы: не такая уж здесь тишь да гладь, не так уж все изменилось. Ведь на демонстрациях-то всегда погибали люди. Конечно, расистское прошлое цепко. Но описанная Гейнсом удивительная сходка стариков — под стать тем памятным демонстрациям 60-х годов и тоже представляет Юг необратимых перемен. Ведь герои писателя идут на свое опасное дело как на праздник, освобождаясь от векового страха и вековой пассивности. Во всей сегодняшней жизни черного меньшинства Гейнс остро ощущает прилив нравственных сил, повышенное чувство независимости и достоинства. Этим ощущением проникнута и эта его вещь, где действуют герои, издавна и досконально известные автору.
Роман посвящен памяти реального лица, носившего не одно забавное прозвище. Прозвища сразу встретят и не отпустят нас в книге: тут и Сажа, и Простокваша, и Кочет, а до них — юркий мальчонка Кукиш. В этих метких прозвищах, на которые сообщество неистощимо, виден теплый юмор, помогающий пережить тяжелые времена. Есть в книге и комически окрашенные имена персонажей. Весьма "нелитературные" по языку монологи могут принадлежать тем, кто назван в честь литературных знаменитостей. Кукиш — он же Джордж Элиот Младший, а подлинное имя Сажи — Роберт Луис Стивенсон. За этими диковинными прозвищами и именами открывается поэтическая перспектива всей книги.
По части гладкой и правильной речи герои Гейнса совсем не доки, какое там! Но рассказчиками старики оказываются превосходными. У каждого из них свой ритм и склад речи, у каждого — свой рассказ, вобравший суть пережитого. В одних монологах ушедшая поэзия их жизни на земле, время неутомимых пахарей и искусных объездчиков лошадей. В других — жестокая повседневность расистского Юга, то, что лично ранило почти всех здесь. И о чем с такой силой смогли рассказать Такер, вспоминая брата, и Гейбл, вспоминая сына, отправленного на электрический стул. Артистически воссозданные голоса сообщества сливаются в этой книге воедино. И его правда — неизмеримо сильнее резонов шерифа, с которым у стариков завязывается во дворе Мату драматически напряженный поединок.
Этот поединок может напомнить по своему накалу рассказ "Кровная связь". И подобно тому прогремевшему сборнику, новый роман Гейнса вызвал очень широкий резонанс. Его жгучая общественная тема, выраженная в достаточно условной и смелой художественной форме, обсуждалась во многих рецензиях. "Дом, который построило рабство" — так называлась большая статья о романе в журнале "Нейшн". «Трагикомедия "нового Юга"» — это отклик на художественную правду и острую форму книги в журнале левой негритянской интеллигенции "Фридомуэйс".
Резонанс книги ощутим и за пределами США. "Гейнс, вероятно, самый сильный и самый яркий по индивидуальности из черных романистов американского Юга…"[12] Этот отзыв мы находим в «Литературном приложении к "Таймс"», где дается внимательный разбор романа.
Да, новая книга подтвердила уже сложившуюся репутацию автора. Это мастер, и у него свой художественный мир. В прозу Э. Дж. Гейнса о Байонне входит Юг во всей своей реальности — с историческими бедами и противоречиями, которые будут ощущаться еще долго, и с переменами, начавшимися и возможными, к которым всегда чуток писатель.
М. Пандор1
Французы, выходцы из Канады, переселившиеся в XVIII в. в Луизиану. — Здесь и далее примечания переводчиков.
(обратно)2
Лонг, Хью Пирс (1893–1935) — политический деятель, привлекавший народ на свою сторону умелой демагогией.
(обратно)3
В Америке суд и тюрьма часто помещаются в одном здании.
(обратно)4
Здравствуй (франц.).
(обратно)5
Дуглас, Фредерик (1817–1895) — негритянский общественный деятель, выступал за вооруженную борьбу против рабства.
(обратно)6
Имена известных деятелей, борцов за освобождение негров.
(обратно)7
Mon sha — искаж. франц. "mon chou" — милочка, голубушка.
(обратно)8
Да (франц.).
(обратно)9
Saturday Review, 1968, Aug. 17, р. 20.
(обратно)10
The Southern Review, 1974, v. 10, N 1, р. 2.
(обратно)11
Interviews with Black Writers. Ed. by John O'Brien. N.Y., 1973, p. 83.
(обратно)12
The Times Literary Supplement, April 1984, N 6, p. 368.
(обратно)
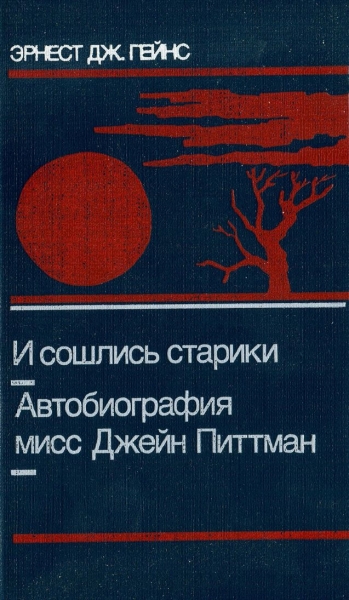





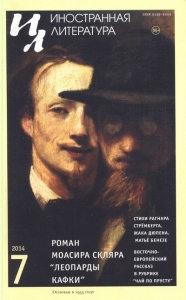




Комментарии к книге «И сошлись старики. Автобиография мисс Джейн Питтман», Эрнест Дж. Гейнс
Всего 0 комментариев