Полночь у Достоевского
Дон Делилло
Перевод Александры Самариной
Мы, двое хмурых мальчишек, кутались в теплые куртки; начиналась беспощадная зима. Колледж находился на самой окраине провинциального городка, не городка даже, а скорее деревушки, как мы говорили, или даже полустанка; и мы постоянно гуляли, шли куда глаза глядят, бродили среди голых деревьев под низким серым небом и иной раз не встречали ни души. Так мы называли местных жителей: для нас они были душами, призраками — лицо за окошком машины в бликах фонарных огней, а то и совершенно пустая улица: сугроб, воткнутая в него лопата и никого поблизости.
Мы шли вдоль железной дороги, когда на путях возник старый товарный поезд; мы замерли и уставились на него. Он походил на саму историю, которая почти всегда остается незамеченной, дизельный локомотив и сотня вагонов, неспешно движущихся по затерянным просторам, и мы с Тоддом застыли в немом уважении к прошлому, к исчезнувшим фронтирам, а потом продолжили путь, беседуя о пустяках с непустячной серьезностью. Поезд прогудел, медленно растворяясь в сумерках.
В этот-то день мы и увидели старика в капюшоне. Мы заспорили, что на нем — тренчкот, анорак, парка? Обычное дело — мы вечно искали повод к соперничеству. Вот зачем родился этот человек — чтобы на склоне лет оказаться в этом городе; в этой одежде. Он неспешно шел далеко впереди, заложив руки за спину, потом его маленькая фигурка дошла до угла и исчезла из виду.
— У тренчкота не бывает капюшонов. Капюшон не вписывается в контекст, — сказал Тодд. — Это или парка, или анорак.
— Есть еще варианты. Всегда есть.
— Назови хоть один.
— Это может быть дафлкот. Такое короткое пальто из шерсти.
— Из шерсти вяжут носки.
— И делают пальто.
— А оно подразумевает капюшон?
— Оно подразумевает деревянные пуговицы.
— У него точно был капюшон. Про пуговицы мы ничего не знаем.
— Ну и пусть, это не важно. Все равно на нем была парка.
— «Анорак» — инуитское слово.
— Ну и что?
— Говорю тебе, это анорак.
Я попытался изобрести этимологию для слова «парка», но сразу в голову ничего не пришло. А Тодд уже переключился на другие темы: грузовой поезд, законы движения, приложение силы, изловчился даже поднять вопрос о числе вагонов, которые тянул локомотив. Мы не договаривались соревноваться, но каждый знал, что другой в уме считает эти самые вагоны, даже когда мы говорим совсем о другом. Когда я назвал Тодду свое число, он не ответил, и я понял, почему. Это значило, что он насчитал столько же. Невозможный итог озадачил нас, погрузил в раздосадованное молчание, лишил мир красок. Даже соприкасаясь с сугубо физической реальности, мы с Тоддом нуждались в конфликте между моим и его восприятием, и теперь нам стало понятно, что остаток дня мы посвятим поиску и подсчету разногласий.
Мы возвращались на послеобеденные занятия.
— Анорак плотный. А на нем, судя по виду, что-то совсем тоненькое, — заметил я. — А еще, у анораков капюшоны с мехом. Вспомни происхождение слова. Ты же сам упомянул инуитов. Разве инуиты не отделывают капюшоны мехом? Они шьют одежду из шкур моржей. И белых медведей. Им нужно, чтобы она не пропускала холод и ветер.
— Мы видели его со спины. Со спины и издалека. Как ты ухитрился разглядеть капюшон?
Вспомни происхождение слова. Я использовал инуитский аргумент Тодда против него же, вынуждая его порассуждать, в кои-то веки признать свою неправоту. Тодд обдумывал все глубоко и основательно и при толковании предпочитал выстраивать максимально длинную логическую цепочку. Он и сам был длинный, нескладный, костлявый, руки и ноги будто на шарнирах. Кто-то в шутку окрестил его «дитя любви аистов», на что ему возразили: нет, скорее, страусов. Казалось, он ел, не чувствуя вкуса; потреблял, поглощал пищу, съедобное вещество растительного или животного происхождения. Расстояние он мерил не в милях, а в километрах, и я не сразу понял, что им руководит не столько желание произвести впечатление, сколько потребность мгновенно конвертировать одни единицы измерения в другие. Он любил проверять себя. Он любил останавливаться, чтобы подчеркнуть свой тезис — а я шел дальше, это был мой антитезис — и Тодду приходилось доказывать свою точку зрения дереву. Аргументы наши слабели — непримиримость усиливалась.
Мне хотелось продолжать, не идти на попятную, посильнее прижать Тодда. Так ли важно, что именно я говорил?
— Даже издалека видно, что капюшон без меха. Слишком маленький, — сказал я. — У настоящего анорака большой капюшон — чтобы поместилась голова в меховой шапке. Разве инуиты не так одеваются?
За деревьями по ту сторону дороги кусочками проглядывало наше общежитие. Мы жили в энергосберегающих постройках с солнечными батареями, газоном на крышах и красноватыми деревянными стенами. Занятия проходили не здесь, а в необычных корпусах, которые мы называли «тюремными» — цементных, соединенных воедино, от общежития до них нужно было добираться на велосипеде или довольно долго идти пешком, и кочующие туда-обратно стайки студентов казались частью архитектурного ансамбля. Тогда я был первокурсником и еще пытался как-то интерпретировать знаки и подстраиваться под модели.
— У них там карибу, — сказал я. — А еще тюленье мясо и дрейфующие айсберги.
Временами нужно жертвовать значением ради импульса. Нужно не мешать словам становиться фактами. Таковы были наши прогулки — мы ловили тихий нечеткий ритм обстоятельств и событий и воспроизводили его человеческим звучанием.
Семинар был по логике. Шел он в тюремном корпусе номер два; тринадцать студентов сидели по обе стороны длинного стола, в торце которого стоял Илгаускас, коренастый мужчина лет пятидесяти; сегодня на него время от времени нападал кашель. Он вещал стоя, чуть наклонившись вперед и опершись руками на стол, и часто впивался взглядом в пустую стену в глубине класса.
— Причинная связь, — сказал он и уставился на стену.
Он смотрел неотрывно, наши глаза бегали. Мы часто переглядывались — одна сторона стола с другой. Илгаускас завораживал нас. Казалось, он был в трансе. Он не просто произносил слова, казавшиеся чужими, он будто говорил чужим голосом, который гулким эхом отдавался в туннеле многолетнего преподавательского опыта. Мы — некоторые из нас — решили, что он страдает от какого-то неврологического заболевания. Он не скучал, скорее, давал себе полную волю, говорил свободно и бессвязно, будто делился с нами внезапно вспыхивающими в его сознании идеями. Здесь действовала нейрохимия. Мы решили, что его болезнь еще недостаточно изучена и поэтому у нее нет названия. А если у болезни нет названия, значит, ее нельзя победить, заключили мы на манер логического закона.
— Атомарный факт, — сказал Илгаускас.
И минут десять говорил без остановки, а мы слушали, переглядывались, записывали, листали учебники в надежде обрести в печатном тексте убежище, отыскать видимость смысла, примерный эквивалент тому, о чем он говорил. У нас с собой не было ни ноутбуков, ни другой техники. Илгаускас не запрещал их — мы их сами себе запретили, точно сговорившись. Многим из нас было сложно даже додумать свою мысль до конца без тачпада или кнопки прокрутки, но мы понимали, что всяким навороченным гаджетам здесь не место. Они нарушили бы неприкосновенность пространства, определяемого длиной, шириной, глубиной, длительностью времени, исчисляемой ударами сердца. Мы сидели и слушали или сидели и ждали. Мы писали ручками и карандашами. У нас были самые обычные тетради из самой обычной бумаги.
Я пытался поймать взгляд девушки напротив. Мы впервые сидели лицом к лицу, но она сосредоточенно смотрела вниз, на свои записи, на руки, может быть, на выщерблину на ребре стола. Я сказал себе, что она прячет глаза не от меня, а от Илгаускаса.
— Утверждение ложное и не ложное, — произнес он.
Он смущал ее, смущали его мужское присутствие, коренастая фигура, мощь голоса, стаккато кашля, даже его старый темный костюм, неизменно неглаженный, даже волоски, курчавившиеся из-под рубашки на его груди. Он сыпал немецкими и латинскими терминами безо всяких пояснений. Я ерзал и вытягивался, пытаясь попасть в поле зрения девушки. Мы — все поголовно — сосредоточенно слушали, надеясь понять, превзойти необходимость понимания.
Иногда он кашлял в ладонь, иногда прямо в стол, и мы представляли, как микроорганизмы вылетают из его рта, ударяются о столешницу и рикошетом отскакивают в воздух, которым мы дышим. Те, кто сидел рядом с ним, спешили отпрянуть, брезгливо морщась и виновато полуулыбаясь. Плечи смущенной девушки вздрагивали, хотя она сидела на приличном расстоянии от преподавателя. Мы не ждали от Илгаускаса извинений. Ведь это Илгаускас. Виновен был не он, а мы — в том, что оказались поблизости, когда на него напал кашель, или в том, что не выдержали сейсмической мощи этого кашля, или еще в каких-нибудь пока неизвестных нам грехах.
— Правомерен ли этот вопрос? — произнес он.
Мы ожидали вопроса. Мы гадали, а не ждем ли того самого вопроса, который уже прозвучал. Иными словами, не спрашивал ли Илгаускас сам себя о том, имеет ли он право спрашивать? Это не было ни уловкой, ни игрой, ни логическим парадоксом. Таким Илгаускас не увлекался. Мы сидели и ждали. Он не сводил глаз со стены в глубине аудитории.
В такую погоду на улице было хорошо, жжение в морозном воздухе намекало на близость снегопада. Я шел мимо старых домов, некоторые из которых годами не знали ремонта, красивых и печальных, то с эркерными окнами, то с круглым крыльцом, как вдруг из-за угла возник он и пошел мне навстречу, чуть сгорбившись, снова в капюшоне; лица почти не видно. Как и тогда, незнакомец двигался медленно, как и тогда, он заложил руки за спину и, по-моему, на мгновение остановился, заметив меня, а потом опустил голову и нетвердо продолжил свой путь.
На улице больше никого не было. Когда мы поравнялись, он словно отшатнулся от меня, и я тоже посторонился — едва-едва, чтобы его не смущать, — но украдкой посмотрел на него. Я заметил на лице под капюшоном щетину — и мне показалось, что мой взгляд не укрылся от этого седого большеносого старика, хоть он и не поднимал глаз. Мы разминулись, я чуть выждал и обернулся. У него не было перчаток, и почему-то ему это шло, почему — не знаю, никаких перчаток, несмотря на лютый мороз.
Примерно через час я уже влился в студенческий поток из двух тесных колонн, под шквалами ветра со снегом движущихся навстречу друг другу — от старого корпуса к новому и наоборот; на головах были шерстяные лыжные маски, ветер дул в лица, ветер дул в спины. Среди студентов широко шагал Тодд, я заметил его и указал на него пальцем. Это был наш стандартный знак приветствия или одобрения. Пока Тодд шел ко мне, я выкрикнул в морозный воздух:
— Опять его видел. Та же одежда, тот же капюшон, но другая улица.
Он кивнул и указал на меня в ответ, через пару дней мы забрели на окраину городка. Я обратил внимание на два мощных дерева, нижние ветки которых расходились в стороны на высоте метров двадцать от земли.
— Канадский клен, — сказал я.
Тодд не ответил. Его не интересовали ни птицы, ни деревья, ни бейсбольные команды. Он разбирался в музыке — как в классической, так и в серийной, в истории математики и еще много в чем. Виды деревьев я выучил в летнем лагере, когда мне было двенадцать, и точно знал, что перед нами клен. Канадский ли — это другой вопрос. Можно было бы назвать его сахарным, но слово «канадский» звучало солиднее, осведомленнее.
Мы оба играли в шахматы. Мы оба верили в Бога.
В этом месте дома стиснули улицу; и мы увидели, как женщина средних лет выбралась из машины, достала с заднего сиденья сложенную детскую коляску, раскрыла и загрузила в нее по очереди четыре пакета с продуктами. Мы разговаривали и наблюдали. Мы говорили об эпидемиях, пандемиях, чуме, но не спускали глаз с этой женщины. Она закрыла машину, откатила коляску чуть назад, на утоптанный снег тротуара, и стала толкать ее вверх по длинной лестнице на свое крыльцо.
— Как ее зовут?
— Изабелла, — сказал я.
— Будь серьезнее. Мы же серьезные люди. Так как ее зовут?
— Ну и как же ее зовут?
— Ее зовут Мэри Фрэнсис. Послушай, — зашептал он. — Мэ-ри Фрэн-сис. Не просто «Мэри».
— Ну, может быть.
— Откуда ты вообще взял Изабеллу?
В шутку он со встревоженным видом положил руку мне на плечо.
— Не знаю. Изабелла — это ее сестра. Они однояйцовые близнецы. Изабелла — близнец-алкоголик. Но ты упускаешь главный вопрос.
— Нет, не упускаю. Где ребенок из этой коляски? Чей это ребенок? — сказал он. — Как его имя?
Мы пошли по улице, ведущей из города, и услышали шум самолетов со стороны военной базы. Я обернулся, взглянул на небо и увидел три истребителя, несущихся к востоку — они мелькнули и пропали, а потом я заметил человека в капюшоне метрах в ста от нас, он приближался к нам, спускаясь вниз по улице.
— Не оборачивайся, — шепнул я Тодду.
Но он обернулся и посмотрел. Я убедил его перейти на другую сторону улицы, чтобы оказаться чуть поодаль от старика. Теперь нас разделяла проезжая часть. Мы встали под баскетбольную корзину с щитом, прибитую над дверью гаража и изрядно пострадавшую от непогоды, и смотрели на незнакомца. Мимо проехал пикап, человек в капюшоне на мгновение остановился, затем пошел дальше.
— Взгляни на него. Никаких пуговиц, — заметил я.
— Потому что это анорак.
— Это парка — сразу было ясно. Отсюда плохо видно, но, кажется, он побрился. Или его побрили. Кто-то, кто с ним живет. Сын там, дочь или внуки.
Незнакомец оказался прямо напротив нас, шел он осторожно, обходя полосы неубранного снега.
— Он нездешний, — заметил Тодд. — Откуда-то из Европы. Его сюда привезли, потому что он уже не мог сам о себе заботиться. Жена умерла. Двое стариков не хотели никуда переезжать, но потом жена умерла.
Он — Тодд — говорил отстраненно, будто бы поверх незнакомца, он смотрел на него, но словно прозревал его тень где-то на другом конце света. Старик нас не замечал, я был в этом уверен. Он дошел до угла, заложив одну руку за спину, а другой жестикулируя так, словно с кем-то разговаривал, потом повернул на соседнюю улицу и исчез.
— Ты видел его обувь?
— Это не сапоги.
— Ботинки до щиколотки.
— Высокие ботинки.
— Старый Свет.
— Без перчаток.
— Куртка ниже колен.
— Может, даже и не его.
— Донашивает за праотцами или за потомками.
— Подумай, какую шапку он носил бы.
— Но у него нет шапки.
— Если бы была, то какая?
— У него есть капюшон.
— Ну а если бы вместо капюшона была шапка?
— У него есть капюшон, — сказал Тодд.
Теперь и мы добрались до угла и пересекли улицу. Тодд заговорил, опередив меня на мгновенье.
— У него на голове могла бы оказаться только одна шапка. Шапка с ушами, завязанными на затылке. Старая и поношенная. Высокая шапка-ушанка.
Я промолчал. Мне нечего было на это сказать.
Улица, на которую свернул старик, была пуста. На пару мгновений место действия окутала атмосфера тайны. Но исчезновение означало попросту, что незнакомец жил на этой улице. Важно ли, в каком именно доме? По мне — так нет, но Тодд не соглашался. Он хотел, чтобы дом был незнакомцу под стать.
Мы прошли вдоль улицы еще метра два, ступая по колеям от грузовика — так идти было легче. Тодд снял перчатку и вытянул руку, сжимая и разжимая пальцы.
— Морозит. Думаю, минус девять по Цельсию.
— У нас тут не Цельсий.
— А там, на его родине — Цельсий.
— И где же его родина? Не слишком-то он светлый. Не скандинав.
— Не голландец и не ирландец.
Может, он из Андалузии, подумал я. Но где находится Андалузия? Я точно не знал. А может, он вообще узбек или казах. Но это уж как-то совсем безответственно.
— Центральная Европа, — сказал Тодд. — Восточная Европа.
Он указал на серый каркасный дом, самый обыкновенный двухэтажный дом с черепичной крышей и без следов былой роскоши, в отличие от некоторых городских построек.
— Возможно, он живет здесь. Временами семья отпускает его на прогулку при условии, что он не будет заходить далеко.
— И он спокойно переносит холод.
— На его родине бывало и похолоднее.
— Плюс ко всему, он уже почти не чувствует своих конечностей, — добавил я.
На входной двери не было ни рождественских гирлянд, ни праздничных фонариков. Глядя на дом, я не мог предположить, кто его жители, откуда они и на каком языке говорят. Мы дошли до того места, где улица упиралась в небольшой лесок, развернулись и побрели обратно.
Занятие начиналось через полчаса, и я хотел прибавить скорость. А Тодд все разглядывал дома. Я подумал о Балтийских государствах, о Балканских государствах и на миг устыдился того, что путаю их и не помню, где что.
Я заговорил первым.
— По-моему, он из тех, кто сбежал от войны в девяностые. Хорватия, Сербия, Босния. Или из тех, кто оставался на родине до последнего.
— А мне так совсем не кажется, — отозвался Тодд. — Не та модель.
— Или он грек по имени Спирос.
— Желаю тебе умереть без мучений, — сказал он, не глядя в мою сторону.
— Немецкие имена. Имена с умляутами.
Последняя гипотеза была хороша только тем, что раздражала. Я это знал. Я хотел было пойти быстрее, но Тодд застыл в своей причудливой манере, уставившись на серый дом.
— Через несколько часов, вот представь, ужин закончится, семья устроится перед телевизором, а он в одних кальсонах будет сидеть в своей комнатке на краешке узкой кровати и глядеть в пустоту.
Неужто Тодд хотел, чтобы эту пустоту заполнили мы?
Мы ждали конца очередного затянувшегося молчания и встречали новый приступ кашля единодушным одобрительным кивком. Сегодня кивать приходилось лишь дважды. На скуле у Илгаускаса белел сморщенный кусочек пластыря. Мы представили, как он бреется. Как режется и чертыхается. Как отрывает кусочек туалетной бумаги и прикладывает к порезу. Как подходит к зеркалу и впервые за много лет внимательно всматривается в свое отражение. Вот Илгаускас, думает он.
На его семинарах у нас не было постоянных мест. Почему — никто точно не знал. Может, кто-то из нас, будучи в озорном настроении, шепнул остальным, будто Илгаускасу так нравится. Вообще-то, это не лишено смысла. Он не хотел нас знать. Для него мы были прохожие с размытыми лицами, мертвые звери на обочине шоссе. Нам казалось, что считать людей перемещаемыми — одно из следствий его неврологического заболевания, и эта перемещаемость манила, вписывалась в курс, будто была одной из тех функций истинности, на которые он периодически ссылался.
Но мы — смущенная девушка и я — нарушили закон, снова сев друг напротив друга. А все потому, что я вошел в аудиторию после нее и попросту рухнул на единственный свободный стул. Она поняла, что это я, тот самый нагловатый любитель поиграть в гляделки.
— Представьте себе абсолютно бесцветную поверхность, — велел Илгаускас.
Мы сидели и представляли. Он запустил руку в растрепанную темную массу своих волос. Он никогда не приносил на занятия книг, мы никогда не видели у него ни учебников, ни вороха бумажек с конспектами; и, слушая его медленную, спотыкающуюся речь, мы ощущали, как она превращает нас в то, что он видит перед собой — в некую единую сущность, бесформенную, бесправную. Прав у нас и в самом деле не было. Илгаускас будто читал лекцию политзаключенным в оранжевых робах. Нам это ужасно нравилось. В конце концов, мы находились в «тюремном» корпусе. Мы с девушкой нерешительно переглянулись. Илгаускас склонился над столом, в его глазах бурлила нейрохимическая жизнь. Он смотрел на стену, он рассказывал стене.
— Весь мир принадлежит логике.
Да, мир. Но Илгаускас говорил, повернувшись к миру спиной. И говорил не об истории или географии. Он вещал нам о принципах чистого разума. Мы внимательно слушали. Каждое новое замечание растворяло в себе предыдущее. Он был словно художник, художник-абстракционист. Он задавал все новые и новые вопросы, мы усердно записывали. Ответить на них было невозможно, по крайней мере, для нас, да он и не ждал наших ответов. На этих занятиях студенты молчали, все, поголовно. Мы никогда ни о чем не спрашивали своего профессора. Эта бессмертная традиция умирала на время семинаров Илгаускаса. Он сказал:
— Факты, изображения, вещи.
Что именно он подразумевал под «вещами»? Вероятно, мы этого так и не узнаем. Были ли мы слишком покладисты, слишком ли охотно соглашались с ним? Видели ли дисфункцию и считали ее вдохновенной формой интеллекта? Мы не хотели ему симпатизировать, мы лишь хотели ему верить. Мы питали к непоколебимой основе его методологии абсолютное доверие. Конечно, никакой методологии не было. Был только Илгаускас. Он испытывал смысл нашего существования, то, что мы думаем, то, как мы живем, степень истинности и ложности того, что мы считаем истинным или ложным. Разве не то же самое делали все великие наставники, мастера дзэна и ученые брахманы?
Он навис над столом, рассказывая о предзаданных значениях. Мы сосредоточенно слушали и пытались понять. Но если бы мы что-нибудь поняли теперь, после нескольких месяцев занятий, мы бы почувствовали себя неловко, даже разочаровались бы. Он сказал что-то на латыни, упираясь ладонями в столешницу, а потом произошло неожиданное. Он посмотрел на нас; он медленно обвел взглядом всех сидящих за столом. Мы все были тут, наши застланные туманом «я» всегда были тут. Наконец он поднял руку и взглянул на часы. Показания стрелок не играли никакой роли. Сам этот жест означал конец семинара.
Предзаданное значение, подумали мы.
Пока остальные собирали книги и бумажки и снимали со спинок стульев верхнюю одежду, мы со смущенной девушкой не двигались с места. Она была бледная и худенькая, волосы закалывала сзади — я подумал, что она специально пытается выглядеть самой обыкновенной и тем самым вызвать внимание к себе. Она положила учебник поверх тетради и подровняла края, дожидаясь, пока я заговорю.
— Ну и… как тебя зовут?
— Дженна. А тебя?
— Если я скажу «Ларс-Магнус», ты поверишь?
— Нет.
— Ну тогда Робби, — представился я.
— Я видела, как ты занимался в спортзале.
— Да, на орбитреке. А ты где была?
— Мимо проходила, ясное дело.
— Этим ты обычно и занята?
— Да, почти всегда.
Последние студенты неторопливо уходили. Она встала и бросила книги в рюкзак, висевший на стуле. Я смотрел, не трогаясь с места.
— Любопытно, что бы ты сказала об этом человеке.
— О профессоре?
— Да. Есть какие-нибудь гениальные идеи?
— Я как-то с ним разговаривала, — призналась она. — Один на один.
— Шутишь? Где?
— В городе.
— Ты с ним разговаривала?
— Я не могла больше торчать в общежитии. Нужно было куда-то себя деть.
— Знакомое чувство.
— Кроме нашей столовой в городе можно поесть еще в одном кафе, туда я и пошла. Села за столик, и вдруг вижу: он сидит напротив, через проход от меня.
— Невероятно.
— Сижу и думаю: «Это же он».
— Он.
— Я спряталась за меню и все смотрела за ним. Он ел огромную порцию чего-то непонятного с подливкой, похожей на магму. И еще пил колу из баночки через соломинку.
— Ты с ним разговаривала.
— Сказала что-то не особо оригинальное, мы то молчали, то перекидывались парой слов. Его пальто лежало на свободном месте напротив него, я ела салат, на пальто лежала книга, и я спросила, что он читает.
— Ты с ним разговаривала. С человеком, в присутствии которого не можешь и глаз поднять от первобытного страха и ужаса.
— Это же было в кафе. Он пил колу через соломинку.
— Фантастика. Что же он читал?
— Достоевского. Сейчас точно тебе повторю. Он сказал: «Достоевского, днем и ночью».
— Фантастика.
— Я рассказала ему о совпадении, о том, что очень люблю поэзию и буквально пару дней назад прочла стихотворение, в котором были слова — я запомнила — «как полночь у Достоевского».
— А он что?
— Ничего.
— Он читает Достоевского в оригинале?
— Я не спросила.
— А это очень интересно. Мне кажется, да.
Повисла пауза, а потом Дженна сказала, что уходит из колледжа. Но я все думал об Илгаускасе в городском кафе. Она пожаловалась, что здесь она несчастна, сказала, что мама всегда отмечала в ней это умение быть несчастной. Сообщила, что поедет на запад, в Айдахо. Я молчал. Я сидел, сложив руки на животе. Она ушла без пальто. Наверное, оно висело в раздевалке на первом этаже.
На зимние каникулы я из общежития не уехал — и нас таких было немного. Мы назвались «Оставленными» и принялись говорить на ломаном английском. Предполагалось, что мы будем двигаться, как зомби и смотреть мутным взглядом, но через полдня нам надоело.
На орбитреке за скучными, однообразными движениями я поддался чарам потерянной было мысли. Айдахо, подумал я. Айдахо — какое звучное и неясное слово. Ей что, здесь неясности мало?
Библиотека на каникулах опустела. Я зашел, приложив к двери ключ-карту, и взял с полки роман Достоевского. Положил книгу на стол, раскрыл ее и склонился над старыми разбухшими страницами; я читал и дышал. Мы с персонажами точно слились друг с другом, и когда я поднял голову, мне пришлось напомнить себе, где я.
Я знал, где находится мой отец: уехал в Пекин в надежде навязать процветающему Китаю услуги своей охранной фирмы. Мать пустилась в свободное плавание; вероятно, сейчас она была на Флоридских островах со своим экс-бойфрендом по имени Игорь. Отец произносил это имя не иначе как «Угорь» и неизменно корчил рожу, словно только что съел этого самого угря.
В снегопад город выглядел призрачным; порой он надолго затихал, как мертвец. Я гулял почти каждый день, и человек в капюшоне все не шел у меня из головы. Я ходил взад-вперед по улице, где он жил; сам он не появлялся, но казалось, что так и должно быть. Его отсутствие словно было неотъемлемым свойством этого места. Я сроднился с этими улицами. Здесь я был самим собой и воспринимал все, что видел, ясно и обособленно, отстранившись от единственной известной мне жизни, от города, плотного и многослойного, тысяча значений в минуту.
На небольшой торговой улочке работало только три заведения; одним из них было кафе, где я однажды обедал и куда дважды или трижды заглядывал, чтобы осмотреться. Тротуар был серо-голубого цвета, старый и щербатый. Я зашел в продуктовый магазин, купил шоколадный батончик и поболтал с продавщицей о почечной инфекции ее невестки.
В библиотеке я за один присест проглотил около ста страниц мелким шрифтом. Уходя, я оставил книгу на столе. Вернувшись на следующий день, я обнаружил ее на том же месте, раскрытую на той же странице, где я вчера остановился.
Почему это казалось волшебством? Почему порой за мгновения до сна я думал о книге, что лежит в пустой комнате, раскрытая там, где я закончил читать?
Однажды ночью, незадолго до начала нового семестра, я встал с постели, пошел по коридору на застекленную террасу и распахнул одно из окон. Моя пижама словно испарилась. Мороз пробрался мне в поры, в рот: казалось, зубы — и те звенят от холода. Я стоял и, по своей извечной привычке, смотрел. Я чувствовал себя ребенком, которого взяли на слабо. Сколько я так продержусь? Я всматривался в северное небо, в живое небо, мое дыхание превращалось в маленькие клубы пара, казалось, душа покидает тело. Мне даже стал нравиться холод, но это уже было совсем по-идиотски; я закрыл окно и пошел к себе. Шел я быстро, размахивая руками, чтобы разогнать кровь и согреться, и спустя двадцать минут, когда я лежал в постели безо всякой надежды уснуть, меня вдруг посетила идея. Она явилась из ниоткуда, из самой ночи, завершенная, простирающаяся, и наутро, когда я открыл глаза, она была повсюду вокруг меня, она заполнила всю комнату.
В те дни темнело очень быстро, мы говорили почти безостановочно и с непоколебимым упорством шли против ветра. Каждая тема обрастала множеством связей: разговор о наследственных болезнях печени, начатый Тоддом, отразился в моем упоминании о том, как мне хочется поучаствовать в марафоне, отсюда мы перешли к обсуждению теории простых чисел, которое привело к разглядыванию деревенских почтовых ящиков, стоящих вдоль заснеженной дороги; они изрядно проржавели и покосились, и их было одиннадцать, а одиннадцать — это простое число, как объявил Тодд, фотографируя ящики на телефон.
Однажды мы подошли к улице, на которой жил человек в капюшоне. Тогда-то я и поделился с Тоддом своей идеей, откровением, посетившим меня в ту морозную ночь. Я сказал, что знаю, кто этот человек. Все сошлось, все детали: страна его рождения, семейные связи, его появление в городе.
— Ну-ка, — сказал Тодд.
— Во-первых, он русский.
— Русский.
— Он здесь из-за сына.
— Держится он как-то не по-русски.
— Что значит «держится не по-русски»? Вполне возможно, что его зовут Павел.
— Нет, невозможно.
— Вариантов уйма. Павел, Михаил, Алексей, Виктор с ударением на «и». А его умершую жену звали Татьяной.
Мы остановились и всмотрелись в глубь улицы, туда, где стоял серый дом, куда мы «поселили» незнакомца.
— Послушай меня, — сказал я. — Его сын живет здесь, потому что преподает в колледже. Его фамилия — Илгаускас.
Я ожидал, что он опешит.
— Илгаускас — сын человека в капюшоне, — провозгласил я. — Наш Илгаускас. Они оба русские, и отец, и сын.
Я указал на Тодда пальцем в расчете на то, что он ответит тем же.
— Илгаускас не может быть сыном человека в капюшоне — слишком старый, — сказал Тодд.
— Ему и пятидесяти нет. А человеку в капюшоне на вид вполне себе восьмой десяток. Где-то около семидесяти пяти, скорее всего. Все сходится, все совпадает!
— «Илгаускас» разве русская фамилия?
— Разве нет?
— Она из какой-то соседней страны, но совсем не обязательно из России, — заявил он.
Мы стояли и смотрели в сторону дома. Я мог бы предвидеть это сопротивление, но ночное открытие захватило меня всего, притупив инстинктивную предусмотрительность.
— Ты кое-чего не знаешь об Илгаускасе.
— Ну-ка, — сказал он.
— Он читает Достоевского днем и ночью.
Я знал, что он не спросит, откуда мне известна эта деталь. Деталь была потрясающая, и она была моя, а не его, а это значило, что он пропустит ее, не откликаясь. Но тишина оказалась краткой.
— А что, Достоевского только русские читают?
— Дело не в этом. Дело в том, что все сходится. В единое целое, гармоничное, четко структурированное.
— Илгаускас — американец, точно такой же, как мы с тобой.
— Русский — он русский и есть. Он даже разговаривает немного с акцентом.
— Не слышу у него никакого акцента.
— А ты слушай внимательнее, он есть, — заверил его я.
Я не знал, был у него акцент или не было. Канадский клен растет не только в Канаде. Мы выдавали спонтанные вариации на основе того материала, что давала окружающая действительность.
— Ты сказал, что старик живет в этом доме. Я тебе поверил, — продолжил я. — А теперь добавляю, что живет он вместе с сыном и невесткой. Ее зовут Ирина.
— Вместе с сыном. С так называемым Илгаускасом. А имя у него какое?
— Незачем нам знать его имя. Он Илгаускас. И достаточно, — ответил я.
Его волосы растрепались, запыленный и заляпанный чем-то пиджак на плечах почти расходился по швам. Он склонился над столом — квадратная челюсть, сонный вид.
— Если мы вычленим случайную мысль, мысль мимолетную, — говорил он, — мысль, истоки которой необнаружимы, мы начнем осознавать свое повседневное безумие, будничное сумасшествие.
Идея о повседневном безумии пришлась нам по душе. Очень правдоподобно.
— В нашем наиприватнейшем сознании все хаос и муть. Мы изобрели логику, чтобы отвоевать нашу первозданную сущность. Мы доказываем или опровергаем. Мы считаем, что за «м» следует «н».
В нашем наиприватнейшем сознании, подумали мы. Он и в самом деле так сказал?
— Единственные значимые законы — это законы мысли.
Он уперся в стол кулаками, костяшки пальцев побелели.
— Все остальное — от лукавого, — добавил он.
Мы снова гуляли по улицам, но незнакомец в капюшоне все не появлялся. Праздничные гирлянды исчезли почти со всех входных дверей, и лишь изредка можно было заметить фигуры людей в теплой одежде, счищающих снег с лобовых стекол. Со временем мы стали понимать, что эти прогулки — совсем не то, что обычные шатания за пределами общежития. Мы не разглядывали деревья и вагоны, как обычно, не именовали их, не считали и не классифицировали. Все было иначе. Все сводилось к незнакомцу в загадочной одежде, к сгорбившемуся старику, по-монашески прятавшему лицо под капюшоном — история, туманная драма. Нам хотелось еще раз встретить его.
Мы с Тоддом решили совместно описать день из жизни старика.
Он пьет черный кофе из маленькой чашечки и зачерпывает ложкой хлопья из детской мисочки. Когда ест, почти касается мисочки лицом. Он никогда не заглядывает в газеты. После завтрака возвращается в комнату, садится и думает. Его невестка, Ирина, приходит заправить постель.
Тодд не признавал примиряющую суть имени.
Иногда нам приходилось плотно закутываться в шарфы и разговаривать сквозь них приглушенными голосами, не пряча от улицы и непогоды только глаза.
Там есть двое детей школьного возраста и одна совсем маленькая девочка, племянница Ирины — непонятно, как она там оказалась; и нередко утренние часы старик проводит перед телевизором вдвоем с малышкой — урывками смотрит с ней мультики, сидя поодаль. Его кресло стоит довольно далеко от телевизора и время от времени он дремлет. Его рот открывается, решили мы. Голова клонится набок, и челюсть отвисает.
Мы сами точно не знали, зачем нам это. Но мы были дотошны, каждый день мы добавляли новые детали, уточняли и поправляли старые и, внимательно оглядывая улицы, силой мысли пытались вызвать на них незнакомца.
На обед — суп, домашний суп, и так каждый день; старик держит над суповой тарелкой, привезенной им с родины, большую ложку, как ребенок держит лопаточку за секунду до того, как вонзить ее в песок.
Тодд заявил, что Россия — слишком большая страна для нашего старика. На ее просторах можно затеряться. Стоит подумать о Румынии, Болгарии. А еще лучше, Албании. Христианин он или мусульманин? Если мы остановимся на Албании, сказал Тодд, то углубим культурный контекст. Это было его любимое слово, которое он всегда держал наготове.
Перед прогулкой Ирина хочет помочь ему застегнуть парку, анорак, но он прогоняет ее парой резких слов. Она пожимает плечами и отвечает ему в том же духе.
Я понял, что забыл рассказать Тодду, что Илгаускас читает Достоевского в оригинале. Это была подходящая, действенная правда. В данном контексте она превращала Илгаускаса в русского.
Он носит штаны с подтяжками.
Потом мы решили, что все-таки без — а то выходит совсем уж стереотип. Кто его бреет? Или он бреется сам? Нам бы этого не хотелось. Но кто же тогда его бреет и как часто?
Логическая цепочка «старик-Илгаускас-Достоевский-Россия» была для меня очевидной. Я все время о ней думал. Тодд сказал, что я мог бы посвятить этому всю жизнь. Замкнуться в своих мыслях и до смерти полировать эту цепочку.
У него нет собственного туалета. Он ходит в детский, но так редко, что никто этого не замечает. Он почти невидим — настолько, насколько это возможно в семье из шести человек. Он вечно сидит, думает или исчезает, уходя на прогулку.
Мы одинаково представляли, как он лежит ночью в постели, а память возвращает его назад — к деревне, холмам, умершей родне. Изо дня в день мы ходили по одним и тем же улицам, как одержимые, и говорили приглушенно даже во время споров. Требование диалектики, выражение вдумчивого несогласия.
Возможно, от него плохо пахнет, но никто этого не замечает, кроме старшего ребенка, тринадцатилетней девочки. Когда она, пробираясь к своему месту за обеденным столом, проходит мимо стула, на котором он сидит, она вечно морщится.
Шел примерно десятый бессолнечный день. Настроение наше портилось не из-за ветра и холода, а потому, что нам не хватало света, нам не хватало незнакомца. В наших голосах зазвучало беспокойство. Мы вдруг подумали, что старик мог умереть.
Всю дорогу до общежития мы говорили об этом.
А для нас он умер? Продолжим ли мы вопреки его смерти собирать по кусочкам его жизнь? Или лучше закончить все сейчас, завтра, послезавтра, не ходить больше в город, не искать его взглядом? Одно я знал точно: албанцем он не умрет.
На другой день мы стояли на углу улицы, где находился дом, в который мы «поселили» старика. Мы стояли там уже целый час и почти не разговаривали. Ждали ли мы его появления? Мы сами не знали, чего ждем. Что, если он выйдет не из того дома? Что это будет значить? Что, если из «его» дома появится кто-нибудь другой — например, молодая парочка вынесет лыжи, чтобы положить их в багажник припаркованной рядом машины? Может, мы тихо стояли на месте из уважения к мертвецу?
Никто не вышел и не вошел, и мы двинулись назад, полные сомнений.
Мы увидели его через несколько минут на подходе к железной дороге. Мы остановились и указали друг на друга, замерев на мгновение. Огромное удовольствие, восторг — вот что мы чувствовали, глядя, как происходящее обретает объем. Незнакомец свернул на улицу, поперечную нашей. Тодд ударил меня по руке, повернулся и побежал. Я тоже. Мы бежали туда, откуда только что пришли. Мы завернули за угол, пронеслись по улице, обогнули еще один угол и стали ждать. Вскоре он появился, он шел нам навстречу.
Именно этого Тодд и хотел — столкнуться с ним нос к носу. Мы направились к нему. Он задумчиво брел по тротуару, явно во власти своих мыслей. Я придвинул Тодда к себе и мы продолжили движение плечом к плечу, чтобы старик не прошел между нами. Мы ждали, пока он нас увидит. До того момента, когда он поднимет голову, оставались считанные шаги. Этот временной промежуток изобиловал деталями. Мы приблизились настолько, что уже могли рассмотреть его осунувшееся, изрядно обросшее лицо с морщинками вокруг рта, слегка отвисшую челюсть. Он наконец увидел нас и остановился, его рука схватилась за пуговицу. Из потрепанного капюшона на нас смотрел изнуренный человек. Человек замкнувшийся, оторванный от дома — такой, каким мы его себе и представляли.
Мы прошли мимо, сделали восемь или девять шагов, повернулись и посмотрели ему вслед.
— Отлично, — оценил Тодд. — Прекрасный результат. Теперь можно переходить к следующему этапу.
— Нет никакого следующего этапа. Мы посмотрели на него вблизи. Мы знаем, кто он, — сказал я.
— Ничего мы не знаем.
— Мы же хотели встретить его еще раз — и все.
— Всего-то на пару секунд.
— Ты что, сфотографировать его хочешь?
— Телефон нужно подзарядить, — серьезно сказал он. — Кстати, на нем анорак, вблизи это точно видно.
— На нем парка.
Два с половиной дома отделяли старика от поворота налево, на ту улицу, где он жил.
— Надо переходить к следующему этапу.
— Не дури.
— Надо с ним поговорить.
Я взглянул на Тодда. На его губах застыла неестественная, будто с чужого лица, улыбка.
— Ты с ума сошел.
— Совершенно разумный шаг.
— Но ведь тогда погибнет вся наша затея, все сделанное. Нельзя с ним разговаривать.
— Мы зададим ему несколько вопросов, только и всего. Спокойно, ненавязчиво. Кое-что выясним.
— Нам с тобой никогда не были нужны точные ответы.
— Я насчитал восемьдесят семь вагонов. Ты насчитал восемьдесят семь вагонов. Не забывай.
— Это совсем другое, сам знаешь.
— Поверить не могу, что тебе не любопытно. Мы же исследуем параллельную жизнь. Этот разговор никак не повлияет на то, что мы с тобой обсуждали.
— Он повлияет на все. Так нельзя. Это безумие.
Я посмотрел вперед, на человека, из-за которого мы спорили. Он по-прежнему шел медленно и нетвердо, по обыкновению заложив руки за спину.
— Если ты такой ранимый, я сделаю все сам, — заявил Тодд.
— Не сделаешь!
— Почему это?
— Потому что он старый и слабый. Потому что он не поймет, чего ты хочешь.
— Чего я хочу? Немного пообщаться. Если он откажется, я сразу же уйду.
— Потому что он совсем не говорит по-английски.
— Ты не знаешь этого. Ты ничего не знаешь.
Он пошел было к старику, но я схватил его за руку и развернул к себе.
— А еще потому, что ты его испугаешь, — сказал я. — Видок твой его испугает. Урод.
Он посмотрел мне прямо в глаза. Долго не отводил взгляда. Потом вырвал свою руку, а я толкнул его с тротуара. Он отвернулся и двинулся к старику, я догнал его, развернул к себе и ударил в грудь. Это был пробный удар, вступление. К нам подъехала и унеслась прочь машина, в окнах промелькнули лица. Мы с Тоддом сцепились. Его трудно было ухватить — слишком он был нескладный, угловатый, острые локти, острые колени, неожиданная сила. В попытках его обездвижить я потерял перчатку. Я хотел ударить его по печени, но не знал, где она находится. Он замахнулся, как в замедленной съемке. Я уклонился и голым кулаком стукнул его по голове. Боль от этого удара ощутили мы оба, Тодд замычал и скрючился, как эмбрион. Я сорвал с него шапку и бросил в сторону. Мне хотелось повалить его и приложить головой об асфальт, но он слишком крепко стоял на ногах, продолжая гудеть, низко, непреклонно — как сломанный робот в фантастическом фильме. Потом он выпрямился, побагровевший, с бешенным взглядом, и пошел на меня, слепо размахивая кулаками. Я отступил вполоборота, ожидая атаки, но Тодд упал до моего удара, тут же поднялся и побежал.
Человек в капюшоне поворачивал на свою улицу, он уже почти исчез из виду. Я смотрел, как бежит Тодд — медленно, вязко, пружинисто. Ему надо было бы поднажать, чтобы догнать старика до того, как тот скроется в сером каркасном доме, куда мы его «поселили».
Я посмотрел на свою перчатку, лежащую посреди улицы. На Тодда, который бежал без шапки, огибая островки обледенелого снега. На всю окрестную пустоту. И не мог осмыслить происходящее. Я ощущал абсолютную непричастность. Дыхание Тодда виднелось шлейфом белого пара. Я пытался понять, почему все так вышло. Он хотел поговорить с незнакомцем, только и всего.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg





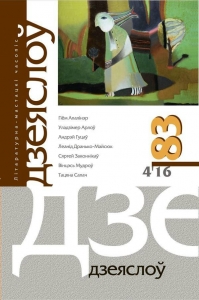
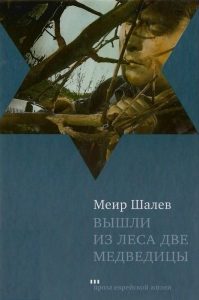


Комментарии к книге «Полночь у Достоевского», Дон Делилло
Всего 0 комментариев