Владислав АРТЁМОВ
ИМПЕРАТОР
Роман
...Народ может и должен соделаться орудием гения из гениев, который наконец осуществит мысль о всемирной монархии...
Свт. Игнатий Брянчанинов
Часть первая
Голоса логоса
Глава 1
Пригласительный билет
1
Долг Бубенцовых к Новому году перевалил за полмиллиона. Так подло и хитро было устроено, что проценты рождались сами из себя, множились, прибавлялись к долгу, и на этот непрерывно распухающий от процентов долг набегали новые сложные проценты, от которых долг распухал ещё безнадёжнее. Вырваться из круга не было никакой возможности.
Голоса, которые теперь донимали супругов, несомненно, знали про это. Но обсуждать доводы и резоны, вникать в обстоятельства не желали. Наглые и беспощадные, с каждым звонком голоса становились злее, настырнее. В последнее время стали являться уже и по ночам, пакостить в подъезде. Писали ругательства на стенах, оставляли у двери похоронные венки.
В жизнь семьи ворвалась иная реальность. Неожиданно выяснилось, что тёмная вселенная существует не где-то там, в безопасном далеке, а совсем рядом, за дверью, по соседству. Приоткрылось пространство иного мира, населённого существами невидимыми и немилосердными. Нельзя было отказать паскудникам в своеобразном мрачном остроумии. Однажды утром у дверей появилась кукла, у которой из проколотого глаза торчал гвоздь.
— Чтоб ты сдох, паскуда! — сказал Бубенцов, вертя в руках искалеченную куклу.
Детей пришлось отправить к тётке в Калугу.
Ерофей Бубенцов, а попросту Ерошка, весёлый и неунывающий гуляка, не находил себе места. Подвижный, взъерошенный сновал по квартире, начинал что-то напевать, замолкал, прислушивался. Хватал себя за волосы всеми десятью пальцами, пытаясь пригладить вихры. Спокойная, рассудительная Вера в эти дни тоже замолчала, притихла, поглядывала на мужа с тревогой. Обладая светлым, ровным характером, она обыкновенно вносила мир в мятежную душу Ерофея. Теперь всё чаще нахмуривалась, закусывала губы, темнела лицом. Ерошка ловил озабоченные взгляды жены, приосанивался, силился выглядеть спокойным. Но долго не выдерживал, снова вскакивал, бродил по квартире, ломая руки, нервно трещал пальцами. Вздрагивал на всякий стук, на лай собак во дворе, прислушивался к шуму подъезжающих к подъезду машин. Лишний раз старался из квартиры не выходить. Направляясь в булочную, обязательно глядел вверх. И отступал от стены, держался ближе к середине тротуара. Опасения, конечно, совершенно излишние. Никому не выгодна смерть должника, пока долг не отдан. По мере возрастания долга в прямой пропорции возрастала и ценность его жизни.
Неудивительно, что у Ерошки в эти дни чрезвычайно обострился мечтательный дар. Все его помыслы вились вокруг денег. То есть вокруг того, чего у него никогда и не было. Вокруг пустоты. Но это была пустота, обладающая чудовищной силой гравитации. Сгусток пустоты. Вроде чёрной дыры, которая втягивает в свою орбиту всё, что пролетает мимо, искривляя даже и луч света. Точно так же мысли Бубенцова, куда бы они ни направлялись, в конце концов попадали в чёрную дыру. Бубенцов провожал взглядом инкассаторский броневик. Косился на коробки из-под телевизоров, сложенные у магазина. Прикидывал, сколько уместилось бы там денег. Даже полосатая сума ковыляющего бомжа казалась ему набитой банкнотами.
Избавление пришло, откуда никто не ждал. Недаром говорят, что добрых людей больше, чем злых. Нашлись добрые люди! Проведали про беду, приняли близко к сердцу. Рассмотрев ситуацию с разных сторон, предложили простой, разумный выход. Ерошка ещё и сам не вполне верил в своё счастье. Все проблемы семьи, кажется, решались одним росчерком пера. Всё оказалось ясным, как таблица умножения. Нужно было только подписать кое-какие документы. Но рассказывать Вере обо всех тонкостях и выгодах предстоящей сделки он медлил. Боялся сглазить.
Тем более что накануне появился в их жизни тот самый Пригласительный билет.
2
Пригласительный билет был доставлен рано утром специальным курьером. Никто не запомнил ни лица этого курьера, ни его национальности, ни даже возраста. Вера уверяла, что курьером была рыжая баба с косою, в зелёном сарафане. Бубенцов с женою не спорил, хотя твёрдо помнил бакенбарды и оранжевую безрукавку, а значит, это был дворник Абдуллох. Ничего удивительного. Это объяснимо даже и с точки зрения естественных законов оптики. Если поглядеть на оранжевый цвет, а затем закрыть глаза, то оранжевый цвет за закрытыми веками превращается в зелёный. Кроме того, все знают, что между мужем и женой часто возникают разногласия. Одни и те же вещи они видят по-своему, иногда с противоположных сторон. Это не значит, что кто-то из двоих обманывается. Обманываются, разумеется, оба. Однако именно такой двойственный взгляд на события, несмотря на противоречия, придаёт прошедшему объём и живую достоверность.
Пригласительный билет прекрасно сохранился. Каким-то необъяснимым чудом уцелел он после череды трагических и страшных событий. Вероятно, это произошло в соответствии с законом сохранения всякого ненужного сора. Любой из людей, выдвинув ящик стола, или сунув руку в старую шкатулку, или даже просто обернувшись, много подобного хлама увидит вокруг себя. Как будто некий бережливый демон сохраняет неведомо для каких целей все эти бумажки, пуговицы, сломанные часы, фантики, значки, открытки, квитанции, черновики стихотворений и прочий никчёмный прах.
Билет тёмно-серый, с золотым тиснением. Бархатистый на ощупь, как будто обросший нежным мхом. Золотое тиснение уже немного потускнело, осыпалось, подобно тому как стираются и зарастают буквы на старом надгробии. Но можно хоть сейчас прочесть затейливую вязь:
«Уважаемый Ерофей Тимофеевич Бубенцов!
Глава администрации Ордынского района Ордынцев Семён Семёнович имеет честь пригласить Вас на Новогодний вечер по случаю инаугурации и награждения “Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени (без мечей)”. Смотрины состоятся первого января в Колонном зале Дома Союзов. Начало в 17 часов. В конце вечера торжественный банкет».
Имеет честь! Сам собою напрашивался вывод о том, что предстоящее мероприятие задумывалось как дело серьёзное, ответственное. Следовало отнестись к нему с такой же точно ответной серьёзностью. И всё же, всё же... Ерошку Бубенцова сразу насторожило то, что... Нет-нет, вовсе не слово «смотрины», хотя... Да уж, к чему скрывать — насторожил сам невероятный факт этого приглашения.
На такие мероприятия, а уж тем более на торжественные банкеты в Дома Союзов, приглашаются солидные, хорошо одетые господа или же люди из близкого круга. Ни к какому кругу Бубенцов не принадлежал. Он едва помнил Ордынцева по школе, причём в воспоминании ничего отрадного не было. Вот он пинает под зад жирного Сёму и тот скатывается по широкой парадной лестнице. А уже в самом низу ступенек Поросюк и Бермудес, хохоча, подхватывают Ордынцева и тоже, каждый со своей стороны, отвешивают ему по пендалю. Все последующие годы таился юбиляр под спудом, не подавал никаких знаков. Правда, лет десять назад появился Ордынцев на встрече выпускников, но там рассадили их в разные углы.
Конечно же Бубенцов не мог быть официально приглашён ни по каким причинам. Это было абсурдно. Ордынцев прекрасно знал характер Бубенцова. Характер живой, опасный, беспокойный. Где бы ни появился Ерошка Бубенцов, в том месте очень скоро начинала сама собою образовываться и витать скандальная тревога. Все невольно настораживались, прислушивались, озирались, чего-то ожидая.
Бубенцова, даже если бы его и впустили по ошибке на официальный банкет, следовало незамедлительно, ещё до начала торжеств, вежливо, но решительно вывести из зала. Если в обычное время с ним ещё можно было кое-как сладить, то после нескольких выпитых рюмок Ерошка преображался. Его, по народному выражению, «чёрт нёс по кочкам». Таких людей сколько угодно вокруг нас. Они есть в любом коллективе. Именно они затевают безобразные скандалы, режут правду-матку прямо в глаза начальству на корпоративных вечеринках. И всё это якобы «во имя правды и справедливости»! Бьют дорогую посуду, прут на рожон, затевают драки на свадьбах. Приличные люди стараются держаться от них поодаль. Потому что с ними обязательно влипнешь в историю. Каждый, кому довелось бывать свидетелем их безобразных скандалов, делает логичный, приятный для себя вывод: «Как хорошо, что я не таков, как этот негодяй!..»
Одним словом, не могли! Никак не могли разумные организаторы пригласить на торжественный банкет столь непутёвого человека! Горячего, импульсивного, неуравновешенного. И всё-таки вот же он — Пригласительный билет.
Вера бегло ознакомилась с текстом, пожала плечами и, ничего не сказав, ушла досыпать. Её трудно было чем-то удивить, работала она медсестрою в психиатрическом отделении Лефортовской больницы. Повседневный опыт научил её здраво относиться ко всякому неожиданному обстоятельству. Ерошка же долго ещё стоял в прихожей, вертя в руках проклятый билет. Всё-таки следовало удостовериться. Нужно было звонить другу, Игорю Борисовичу Бермудесу, человеку бывалому, опытному. Артисту того же театра, где служил пожарным и Бубенцов.
Надо заметить, что хотя все окружающие считали Бермудеса «бывалым и опытным», советы тот чаще всего давал самые бестолковые, а порой даже глупые и вредные. Но обаяние, импозантность, уверенность тона, басовитый голос заставляли прислушиваться к его мнениям.
Бермудес раннему звонку ничуть не удивился. Тотчас вспомнил, что — да, ведь и ему же кто-то утром доставил пакет. Назвав себя головой садовой, прибавив ещё пару-тройку добродушных ругательств, Игорь Борисович попросил немного погодить. Бубенцов терпеливо ожидал, не отнимая трубку от уха. Вслушивался в невидимый ему далёкий мир. Вот затихли удаляющиеся шаги Бермудеса, а затем кто-то явственно задышал в самое его ухо. Даже вроде подхихикнул, сдерживаясь. Скоро, однако, Бермудес объявился снова и после короткой посторонней возни, сопения, отрывистых вздохов подтвердил, что у него на подзеркальнике лежит точно такой же Пригласительный билет.
— Имя твоё как набрано? — спросил Бубенцов. — Шрифт типографский?
Бермудес опять положил трубку, отправился на поиски очков. И снова почудилось Бубенцову чьё-то издевательское дыхание. Снова как будто послышались смешок, сопение, возня. А потом Бермудес вернулся и подтвердил, что да, и у него имя-отчество и фамилия написаны не секретаршей, а набраны типографским способом. Денег, стало быть, на мероприятие не пожалели.
— Орден получил, гадёныш, — не удержался Бубенцов. — Что бы это значило — «без мечей»?
— Это значит, милочка, по случаю дали. Не за заслуги, а по общему списку. Кто ж там вчитывался, наверху-то? Подмахнули кипой. Да ты не вникай. Нам ведь главное банкет, а не торжественная часть.
Бермудес был большой обжора и пьяница. В трубку между тем залетали отрывистые посторонние голоса, в том числе и женские. Бубенцов наконец догадался, что там пьют.
— Второй степени, заметь, — вставил он. — Не первой.
— Хех! Кто ж ему первую-то даст? Марго, отвяжись!.. Это не тебе, Бубен. Извини.
— Значит, и у тебя типографский набор? Ты послюни, потри.
— Ну, потёр. Марго!.. Несомненно, мамочка. Литеры типографские.
— Странно всё это, — сказал Бубенцов. — Зачем мы ему вдруг понадобились? Последний раз виделись на встрече выпускников. Я тогда ещё червонец у него взял. Лет уж десять прошло.
— Массовка, — тотчас объяснил Бермудес. — А с другой стороны, для контраста: вот, мол, друзья детства, а вот я, сравните, мол.
— Понятно. Для контраста. Я тоже сразу так подумал, — соврал Бубенцов.
— Ты ему ещё морду рвался набить, — напомнил Бермудес. — После того как червонец занял. Карман на рубашке оторвал. Если б не я...
Это ненужное напоминание было неприятно.
— Поросюк у тебя? По логике вещей и у него должен быть билет. Он с Ордой за одной партой сидел. Спроси у него.
— Тарас в порядке. Уже раздели и уложили на диван.
Ерошка прошёл в спальню, поместил Пригласительный билет в стеклянную салатницу рядом с телевизором. Туда складывалось всё важное: документы, квитанции о штрафах, неоплаченные счета, обручальное колечко Веры, золотые запонки самого Ерошки Бубенцова, доставшиеся ему ещё от покойного отчима, приготовленные к залогу в ломбард, ну и деньги. Если они, конечно, откуда-нибудь появлялись, эти деньги.
3
Жизнь Бубенцовых в последующие дни как будто не изменилась. По крайней мере, вплоть до пятницы никаких заметных перемен не произошло. Тем не менее оба чувствовали — что-то в их жизни было не так! Вернее, что-то стало не так, как было. Что-то нарушилось в привычном укладе, но нельзя было понять что. И оба не догадывались, с чем связать свою тревогу. Бродя по квартире, бессознательно тулились друг к дружке, старались коснуться плечом, задеть ладонью, пожать пальцы. Бубенцов напевал, хмурился, бил кулаком в открытую ладонь, часто выглядывал в окно. Неясная опасность сгущалась, подступала со всех сторон. Как будто в обычный их мир вселилось нечто постороннее. Реальность смешалась с неизвестным.
Вечером Ерошка, собираясь на ту самую деловую встречу, полез в салатницу за паспортом. В очередной раз попался ему под руку Пригласительный билет. Потёр золотые буквы.
— Я поняла!
Бубенцов вздрогнул, хотя слова произнесены были самым обычным тоном.
— Ну? — спросил Ерошка, оглядываясь.
— Они не звонят! — сказала Вера и опустилась на стул. — Как только принесли Пригласительный билет, чёртовы коллекторы замолчали.
Это было правдой.
— Пусть тебя это не пугает. — Бубенцов склонился, приобнял жену за плечи. — Сегодня всё решится. Деньги будут, Вера!
Нельзя было не верить ему при таком открытом, честном лице и ясных глазах. Но Вера слишком хорошо знала своего мужа. Бубенцов обошёл стул, уткнулся носом в её макушку, в густые русые волосы. Глубоко-глубоко вдохнул. Давным-давно, когда они в первый раз поцеловались, была гроза. С тех пор ему казалось, что волосы Веры пахнут дождём.
— Где встреча? — спросила Вера.
— В «Кабачке на Таганке».
Глава 2
Подлинное происшествие в «Кабачке на Таганке»
1
Излагая события так, как впоследствии толковал их сам Бубенцов, мы обнаруживаем множество нестыковок и несуразиц. И всё-таки приходится довольствоваться именно этой версией произошедшего, поскольку иных источников нет. Конечно, в глазах каждого человека мир отражается по-своему. Никто из людей, оглядываясь в прошлое, не может точно и правильно определить причину произошедших событий. И вовсе не потому только, что у каждого свой, особый взгляд на мир. Беда в том, что всякое событие, когда оно произошло, неизбежно искажает причину, его породившую. Так камень, упавший в гладь пруда, безнадёжно коверкает отражение берега, неба, но самое главное — до неузнаваемости уродует фигуру того, кто бросил камень.
Около шести часов вечера в недорогом шумном ресторане, известном под именем «Кабачок на Таганке», неожиданно вспыхнул спор о влиянии богатства на характер и душу человека.
Спорили три старых товарища — Ерофей Бубенцов, Игорь Бермудес и ещё один их собутыльник, по фамилии Тарас Поросюк. Все трое служили через дорогу, в театре. Это были люди обыкновенные, ничем не выдающиеся, не облечённые никакой властью. И уж конечно ни один из них не скопил за всю свою жизнь сколько-нибудь значимого капитала. Более того, ни у кого из них не было даже хотя бы смутной, туманной, отдалённой надежды разбогатеть. Мечты были, а надежды не было. И вот эти люди, у которых в лучшие-то их дни едва доставало средств расплатиться с официантами, ни с того ни с сего затеяли спор о богатстве, о его влиянии на душу и личность человека.
Поначалу ничего не предвещало, что тема богатства вообще будет затронута. Мелькнуло слово о деньгах, но вскользь и походя. Это произошло ещё в самом начале, когда Ерошка Бубенцов и Тарас Поросюк охорашивались у большого зеркала в фойе.
— Тарас, раз уж такое дело, — как можно небрежнее сказал Бубенцов. — Пару тысячонок не подзаймёшь?
Упитанное лицо Поросюка в зеркале опечалилось, как будто Бубенцов сказал бестактность.
— До пятого, — принялся оправдываться Ерошка, и голос его немного дрогнул. — С мая за квартиру не плочено.
— Отчего ж до пятого? — сказал Тарас Поросюк. — Да хотя бы, будем говорить, и до десятого! Только ты сперва прежний должок верни. У Бермудеса вон попроси.
— Дрянь же ты, порося! — сказал Бубенцов.
Поросюк засопел, поджал губы и отошёл от зеркала.
У Игоря Бермудеса никто конечно же ни о каких деньгах спрашивать не стал. Шумный, рокочущий Бермудес умел только делать вид обеспеченного человека. Тем более что Бермудес, по своему обыкновению, пришёл не один. Тёрся рядом с ним, выглядывал из-за спины хмырь с обветренным, волчьим лицом и в сером макинтоше. Ерошка привычно обратил внимание на большую полосатую суму, в каких бомжи носят постель и прочий необходимый скарб. Ошмыга сутулился, опираясь на палку, и, кажется, очень стеснялся своего присутствия здесь, в чистом, культурном месте. Перетаптывался в сырых, разбитых башмаках, оставляя грязные разводы на светлом мраморе вестибюля.
Метрдотель Семён Михайлович Шпак стоял всё это время в отдалении и, нахмурив седые брови, с большим неодобрением следил за голодной компанией.
Подозрения Бубенцова относительно незнакомца скоро подтвердились. Тот как присел с краешка стола, так и ютился там всё время. Сидел смирно, ни на что не претендуя, никого не беспокоя. Лицо длинное, губастое, несколько вытянутое вперёд, со сбитым набок носом.
Сразу же извлёк из кармана газету с рекламой, читал различные объявления. Чуть пошевеливались его синеватые, как будто замёрзшие, толстые губы. Деликатно отворачивался, отодвигался в тень, пока официант принимал заказ. Иногда доставал большой, в красную клетку платок, сдержанно сморкался, промакивал слезящиеся веки. Словом, производил впечатление очень несчастливого человека.
Даже когда принесли наконец-то графинчик с водкой, он не реагировал никак. Кушал бутербродик со шпротой. Прикрывался при этом ладошкой, как будто стесняясь своих больших, выставленных вперёд зубов. По-прежнему скромно клонил лоб над газетой. Впрочем, кажется, он и не читал её вовсе, тем более что газета лежала перед ним вверх ногами. Ерошке же Бубенцову, который сидел напротив, прямо в глаза бил заголовок, набранный чёрным, жгучим кеглем: «Ограбление инкассаторов в Сокольниках». Чуть ниже было припечатано пояснение: «Преступность не имеет национальности». Это означало, что грабителями были, скорее всего, уроженцы Кавказа.
Поначалу присутствие этого непьющего, поминутно шмыгающего носом алкоголика немного стесняло Бубенцова. Но произнесены были первые тосты, и чувства его успокоились. Раздражение окончательно рассосалось, когда полностью выпит был начальный графин. Дородный, представительный Игорь Борисович Бермудес привстал и, озирая светлое пространство зала, выискивал официанта. Ерошка же Бубенцов поднёс к лицу опустевший графинчик и, поглядев сквозь сияющие грани на окружающий мир, воскликнул восторженно:
— Чего ещё можно желать от этой жизни? Чего?
В этот миг был он похож на блаженного дурачка из волшебной русской сказки.
— Это да! — охотно поддержал Тарас Поросюк, но прибавил: — Ещё бы денег немного, и вот тогда уж, будем говорить, ничего больше не надо.
Полное лицо его после выпитого нежно розовело.
— Денег? — Ерошка повернулся, поглядел сквозь графин на Поросюка. — Тебе бы только «денег немного»?
— А тебе нет? — вскинулся Поросюк, чутко уловив интонацию. — Кого с квартиры гонят за долги? Га?
— Всех сгонят, — сказал Ерошка с каким-то злорадным удовольствием. — Но раз уж ты заговорил о деньгах, тогда ответь мне на один вопрос. Вопрос, заранее предупреждаю, философский.
С этими словами Бубенцов со стуком установил хрустальный графинчик на середину стола. Если бы собеседники были повнимательнее, они бы заметили, как глаза незнакомца тускло сверкнули из-за газетного листа, но сразу же погасли. Но и Поросюк, и Бермудес в тот момент глядели на графин, а затем подняли глаза на Ерофея. По тому, как на лицах обоих показалась снисходительная усмешка, ясно было, что оба относятся к приятелю покровительственно и немного свысока.
— Итак, предположим, вот я, Ерофей Тимофеевич Бубенцов, — представился Ерошка, указывая вилкой на пустой графин. — А что бы вы сказали, если бы я вдруг разбогател? Вот, к примеру, на меня свалилось богатство. Переменюсь ли я? Изменится ли характер? Моя душа! Станет ли иной моя самость? Вот в чём вопрос!
— Всё переменится! — ни на секунду не задумавшись, сказал Бермудес. — В том числе, милочка, и строй твоих мыслей. То есть твоя натура.
Словно в подтверждение этих слов, рука официанта, высунувшись из-за спин, ловко убрала пустой графин, а на освободившееся место поставила полный.
— Деньги не делают человека ни хуже, ни лучше, — возразил Бубенцов. — Они проявляют, что есть в человеке. Был бедным, стал богатым. Дальше что? Характер-то у меня прежний останется.
— И характер переменится. Причём в худшую сторону, — заверил Тарас Поросюк. — Ты и так-то вздорный, а дай тебе миллион... Недавно передача была. Какой-то дед помер в Баварии и оставил племяннику, будем говорить, миллиард евро. Племянник от неожиданности в дурдом попал!
— Будем реалистами. — Бермудес потянулся за газетой, что давно уже раздражала его внимание. — Дай-ка сюда, милочка.
Незнакомец как будто давно ожидал этого, тотчас двинул газету через стол. Глаза его сверкнули по-волчьи исподлобья.
— Вот, не угодно ли, — даже не взглянув на него, продолжил Бермудес, стукнул указательным пальцем по газетному заголовку. — Инкассаторов в Сокольниках. Вчера. По всем каналам трубили. Отсюда надо плясать.
— Эти не поделятся, — сказал Поросюк. — Пляши не пляши.
— Да неважно, в конце концов, откуда взялись деньги! — Бубенцов отпихнул газету. — Душа от них не переменится. И богатство прискучит.
Не то чтобы Ерошка был так уж убеждён в том, что богатство может как-нибудь «прискучить», но ему в данный миг нравился образ мудрого нестяжателя.
— Деньги правят миром, — сказал Поросюк и положил мягкую ладошку на плечо Бубенцова. — Подумай, прежде чем отказываться.
— А смысл? Внутренне я тот же, — возразил Ерошка. — Я весело привык жить. Что с деньгами, что без.
— Скажут, дурак же ваш Бубенцов! Отрёкся от денег! Нищим был и умрёт под забором.
— Я подмечаю, что кое-кто здесь готов душу заложить за деньги! Другу копейку пожалеет. Взаймы. А вот продать душу дьяволу — пожалуйста, и с большим даже удовольствием!
Дискуссия принимала опасное направление. Игорь Борисович Бермудес перестал жевать, а только переводил взгляд с одного на другого, готовый в любой момент встать между соперниками.
— Но вот, допустим, подписал ты контракт с дьяволом, — продолжал Ерошка. — Получил миллионы! Купил дворец с фонтаном, красивых баб, хлебную должность, власть... Ничего более оригинального и свежего ты придумать не сможешь. С твоими-то мозгами! Дальше что?
— Уж мы знаем что, — усмехнулся Тарас. — А вот тебе с твоими мозгами дурдома не миновать!
— Да хоть так! Самость внутри меня не изменится. Я и в дурдоме останусь самим собой. В отличие от кое-кого. Продажная душа!
— Вот ты как заговорил? А на коньяк? — Тарас озлобился. — Самость какую-то выдумал. Не изменится он! Спорим?
— Дай руку!
Поросюк взвился, выбросил ладошку свою навстречу руке Бубенцова. Встрепенулся и Бермудес, привстал как будто бы в стременах. И вознёс десницу свою над спорящими, точно Юрий Долгорукий на площади у Моссовета.
— Вали! — приказал Бубенцов.
Вот тут-то и вылез на авансцену тихий незнакомец.
— Позвольте, — негромко, но властно сказал он, вставая с места. — Я сам разобью.
И Ерофей Бубенцов, и Тарас Поросюк, и даже флегматичный Игорь Борисович Бермудес удивлённо повернули к нему свои лбы. Этот неприметный, молчаливый тип почти целый час находился рядом с ними, но никто до сей поры его как будто толком и не замечал. Как будто бы он был не человек вовсе, а, к примеру, чей-либо пиджак или плащ, накинутый на спинку стула. Или казённый фикус в кадке, который иногда для домашнего уюта ставят в ресторанах подле стола. И только лишь теперь, когда этот фикус неожиданно подал голос, друзья наконец-то обратили на него внимание. До сих пор он находился как будто на втором плане, на обочине бытия, не в фокусе зрения. Тем более что странный этот тип вёл себя крайне деликатно, можно сказать, благочестиво. Водку не пил, хотя и не пропустил ни одного тоста. Исправно подливал в свою рюмку минеральную воду нарзан, церемонно чокался. Извивался, шмыгал простуженным носом. Ни Бермудес, ни Бубенцов, ни даже Тарас Поросюк с расспросами к нему в душу не лезли. Видно было без всяких расспросов, что человек бывалый, всякого в этой жизни натерпелся. А отчего в данную минуту не пьёт, так тому может быть множество уважительных причин. Если человек «в завязке», значит, есть для того веские основания.
— У меня имеется некоторый положительный опыт в делах подобного рода, — старомодным слогом пояснил незнакомец, уставясь своими тёмными неподвижными зрачками в глаза Бубенцову. — Итак, вы стоите на том, что никакие богатства не смогут сломить ваш характер. Не в силах исковеркать вашу душу. Правильно ли я понял ваш постулат, многоуважаемый Ерофей Тимофеевич? Так ли это?
— Вали! — повторил Бубенцов угрюмо.
Незнакомец усмехнулся и, склонив плешивую, поросшую редкой шерстью голову, разбил руки. Ладонь его была холодной, почти ледяной.
— А теперь, господа, — учтиво продолжил незнакомец, обращаясь к Бермудесу и Поросюку, — мне бы хотелось кое о чём переговорить с уважаемым Ерофеем Тимофеевичем приватно. Буквально два слова. Будьте любезны!
И вот что поразительно! Бермудес с Поросюком послушно поднялись и, словно загипнотизированные, пошли к выходу. Едва приятели скрылись за дверью, Бубенцов перевёл взгляд на незнакомца. Незнакомец как будто ожидал этого момента, тяжёлые глаза его тускло озарились.
— Одну секунду, уважаемый, — сказал он фамильярно, но вместе с тем многозначительно. — Одну краткую секунду.
Немного отодвинувшись, низко нагнулся, завозился со своей брезентовой сумой. Та застряла между ножками стула, никак не хотела вытаскиваться. Наконец, сопя и пыхтя, незнакомец высвободил её. С трудом поднял, угнездил на коленях. В суме находился какой-то беспокойный живой товар, который расползался внутри, перекатывался, разваливался, рыхло свешивался с колен, как будто там была навалена свёкла или что-либо подобное.
— Вот. К нашему разговору о богатстве, — бормотал незнакомец, подбивая коленкой провисающее дно и возясь с молнией. — Хотелось бы, так сказать, из области отвлечённой теории перейти... перейти...
Матово блестел лоб с налипшими потными прядками. Волосы, как сейчас же приметил Ерошка, были серыми, с отливом в рыжину, какие бывают у дьявола. Бубенцов молча, в некотором оцепенении наблюдал за дальнейшими действиями противника. Тот наконец отдёрнул молнию замка, склонился над сумкою, сунул руку вовнутрь. Ерошка конечно же уже обо всём догадался и с полнейшей определённостью знал, что сейчас произойдёт. Но мозг его не хотел верить очевидному!
— Вот. — дьявол выдернул на свет несколько зелёных...
И тут у Бубенцова почти отлегло от сердца. То зелёное, что извлеклось из чрева сумки, оказалось не банковскими упаковками, а всего лишь свёрнутыми старыми штанами с генеральскими лампасами. Незнакомец с видимой досадой отложил штаны в сторону, снова залез в сумку, выдернул на свет несколько... Да! Несколько новёхоньких пачек! Ровно столько, сколько сумели ухватить его пальцы.
— Не мильярд, конечно, — усмехнулся он. — Но, как говорится, чем богат.
Подержал пачки в воздухе, а затем небрежно зашвырнул обратно, склонился над сумой, застегнул молнию.
— Нате! Берите! — сказал нечестивец, откинулся спиной и резким движением кирзового ботинка пододвинул сумку прямо к коленям окоченевшего Бубенцова.
2
«Ограбление в Сокольниках!» — гремело в голове у Бубенцова. Искал глазами давешнюю газету с заголовком, покосился даже под стол, но газеты нигде уже не было. И показалось вдруг, что внезапно, резко, толчком, как будто ударив в последний миг по тормозам, остановилось время. Инерцией этого толчка Бубенцова сорвало с места, брызнули и засверкали в воздухе осколки лобового стекла, и он полетел в сторону этого проклятого нечёсаного рыжеватого чёрта, воздевая и топыря руки.
Мёртвая оглушительная тишина накатила, навалилась, накрыла всё. Бубенцов судорожно сглатывал, как пассажир самолёта, надеясь прочистить уши от ватной пробки. Тщетно! Он видел, что вокруг кипела дымная и, вероятно, очень шумная, визгливая ресторанная жизнь — гремела посудой, беззвучно кричала, сталкивалась, клокотала, закатывала глаза, волновалась, пропадала, взывала, заламывала руки...
Один только незнакомец сидел как ни в чём не бывало, откинувшись к спинке стула, хитро поглядывал на Ерошку Бубенцова и беззвучно посмеивался, весьма довольный произведённым эффектом.
Глава 3
Тот, кого нет
1
Бубенцов сидел, оцепенев, с приоткрытым ртом, застывшим взором. К его обыденным ощущениям внезапно прибавилось нечто новое. Новизна заключалась в том, что Бубенцов понял: он многое уже знает наперёд. Он узрел то, что произойдёт с ним и с миром в самом ближайшем будущем. Словно упала пелена, очистились мутные бельма, открылись глаза. Было нечто слишком знакомое во всём происходящем, как будто он это уже пережил или прочитал в сокровенной книге. А теперь лишь оглядывается из будущего, с интересом проверяя — точно ли и в том ли порядке, как должно, реальность воспроизводит давно уже состоявшиеся действия.
Беззвучно посмеивался искуситель над его замешательством и мукою. Бубенцову стало очень одиноко и очень страшно. От страха ему стало ещё более одиноко, а одиночество ещё более усугубило страх. Всё происходило именно так и именно в том порядке, как предначертано. Он знал, что произойдёт дальше. Знал во всех мельчайших подробностях и трагических деталях. Однако, при полнейшей определённости этого знания, Бубенцов, если бы его сейчас попросили, не смог бы сказать ничего конкретного. Даже и под пыткой только мычал бы, разводил руками.
Вспышка озарения в один миг высветила подлинную картину мира, открыла настоящую суть вещей. Но обнажившаяся правда нестерпимым своим сиянием ослепила душу. Так бывает, когда человек поглядит на солнце или на что-нибудь ещё более яркое. Человек, надо признать, мало приспособлен для разглядывания истины. Свет её тотчас превращается в тёмный круг мрака! Всё было почти такое же, как прежде, только не было уже в этом мире игры, гармонии, красоты. Игры-то уже не было!
Будто бы много раз видел Бубенцов, как повторялась на репетициях в театре эта сцена, знал её назубок. Но то было понарошку, а теперь вот случилось наяву. Ужас заключался именно в том, что на этот раз не было никакой игры. Всё стало абсолютно реальным. Репетиция превратилась в подлинную жизнь. Всё происходило по-настоящему. Вместо блестящей, остроумной фальсификации на сцену вылез грубый, необработанный, корявый подлинник. Именно в подлинности происходящего заключался главный ужас.
Обнажилась косматая драматургия жизни, не признающая стройной поэтики Аристотеля, разбрасывающая эпилоги и кульминации как попало, не в лад и не в такт. Здесь наказание настигало героев прежде, чем они успевали задумать преступление. Кровавые развязки совершались там, где не было даже и намёка ни на какие завязки.
Всякое искусство и лицедейство окончилось. Как будто, представим себе, актёр Марат Чарыков, играющий Гамлета, сошёл вдруг с ума и в приступе белой горячки стал налево-направо, взад и вперёд протыкать железной шпагой коллег-актёров. Вот заколол одного, другого, третьего — короля, Лаэрта, Полония. По-настоящему. С хрустом входит шпага в живые трепещущие тела. Люди корчатся, вопят, воют, ползая на карачках, схватившись за животы. Артистка Полынская вскрикнула в последний раз и затихла. С обнажённым окровавленным клинком, смутно улыбаясь, облизывая белые губы, Чарыков приблизился наконец к самому режиссёру-постановщику Эдуарду Арсеньевичу Ценципперу. Тот, перебирая и отталкиваясь ногами, отъехал со своим креслом к самому краю оркестровой ямы. Опасно колеблясь, кресло зависло над бездной. Зубочистка застряла во рту режиссёра, он весь оцепенел, отвалился к спинке, не в силах пошевелиться, не в силах отвести глаз от кончика клинка. Зрачки забавно сошлись к переносице, лицо бледно, зубы оскалены. Но никто не улыбается. Никому не смешно. Всё замерло вокруг, парализованное ужасом происходящего. Приостановился проходивший мимо пожарный. В подлинность совершающегося ещё никто не может поверить. Разум протестует. Но глаза-то видели, видят. Кровь настоящая. Вон уже затих Полоний, вернее, заслуженный артист Игорь Борисович Бермудес. Отдал душу. Всхрапывает последним всхлипом заколотый безумцем Лаэрт, он же Тарас Поросюк, с которым Марат Чарыков перед репетицией пил пиво в гримёрной.
2
И вот какой любопытный выверт сознания произошёл у Бубенцова. Психологам нелишне взять это на заметку! Случайно оголившаяся перед Ерофеем подлинная суть бытия оказалась так страшна, что ум его в панике выскочил за свои пределы. Инстинкт самосохранения принудил считать всё, что с ним в данную минуту происходит, вымыслом.
Было совершенно очевидно, что он столкнулся с нечистой силой. Слишком многое совпадало! Во-первых, когда смертному человеку является бесплотный дух, человека неизбежно охватывает страх. Кое-какие характерные повадки нечистой силы Ерофей помнил из книг. Читал описания демона-искусителя и в знаменитом весёлом романе Михаила Булгакова, и в скучнейшем сочинении «Доктор Фаустус» Томаса Манна, и в «Звезде Соломона» Куприна, и в «Фаусте» Гёте. Но, читая эти описания, Ерошка всегда знал, что дьявол — не более чем литературный вымысел, на самом деле никакого дьявола не существует. Значит, и теперь всё это не более чем вымысел. Значит, всё происходящее сейчас вокруг него, происходит не в реальности, а понарошку. А он-то перепугался! Принял за подлинник. Ум понемногу и с оглядкою возвращался в свои пределы. Прибирал раскиданное при бегстве, поднимал опрокинутое, расставлял по привычным местам... Не надо паники, всё понарошку!
Успокаивая себя рассуждением, что «всё понарошку», Бубенцов теперь уже с этой безопасной позиции приглядывался к искусителю. Толстые губы, сбитый набок надменный нос, тусклые, наглые глаза, залысины. Если не вглядываться пристально, то можно принять за обычного человека. Но что-то всё-таки было в нём и не вполне человеческое. Что-то выпирало из-под оболочки. Да ещё и запашок этот. Но ведь не чёрт же он, на самом-то деле! А если это не чёрт, то кто же? Сумасшедший, вот кто!
Ерофей догадался вдруг, что кривая усмешечка на лице незнакомца на самом деле никакая не улыбка. Это гримаса безумия. Всё стало стремительно проясняться! И понятна теперь эта смертная тоска в глазах незнакомца! Понятен и объясним стал теперь сумасбродный жест. Сумасшедшие люди поступают соответственно. Слабоумному ничего не стоит пырнуть вилкой официанта или помочиться посреди зала. Это для него норма. Или вывалить вот так на стол миллион, а то и два-три миллиона долларов. Запросто. Так что всё нормально. В той системе координат всё ненормальное — нормально.
3
Мир, пришедший в норму, снова ожил, задвигался вокруг. Время опомнилось, пошагало, а затем и побежало вперёд. Все привычные вещи вернулись. Всё прибежало обратно, расставилось на свои обычные места, рассчиталось на первый-второй. Бубенцов с некоторым облегчением выдохнул и, не сводя настороженных глаз с полоумного незнакомца, стал опускаться на сиденье. Всё в пределах нор...
Но позвольте, позвольте, позвольте, позвольте!.. Позвольте.
Ерофей Бубенцов снова вскочил. Даже если и так, то ведь ничего не объясняется. Пусть этот тип сумасшедший. Главная-то загвоздка остаётся! Снова качнулась, покосилась, опасно стала потрескивать хрупкая конструкция мира. Бубенцов поневоле расставил локти, пытаясь сохранить равновесие. Не расплескать помутившийся рассудок.
Позвольте, откуда?
Позвольте, откуда у нищего алкаша...
Позвольте, да откуда вообще взялась эта набитая валютой сума?!
«Ограбление в Сокольниках»? Нет, не похож он на грабителя! Не может того быть! Но вот же реальность. Вот она, тычется в самые ноги! Всякий подтвердит... Тот, кому доводилось участвовать в теневом обороте наличных капиталов, с готовностью засвидетельствует, что миллион долларов в банковских упаковках новенькими сотенными банкнотами весит примерно десять килограммов и вмещается в кейс типа «дипломат».
В сумке незнакомца, что лежала теперь у ног Бубенцова, без труда поместилось бы содержимое трёх таких дипломатов.
4
Незнакомец сидел, отвалившись к спинке стула, по-наполеоновски сложив на груди руки, и с высокомерной наглостью разглядывал Бубенцова, оттопырив при этом довольно презрительно толстую и мокрую нижнюю губу.
Бубенцов ясно понимал, что только что он был втянут в опаснейшую провокацию. Что провокация всё ещё продолжается, что последствия этой провокации могут быть самые скорые, серьёзные и страшные.
Тут незнакомец, как будто подслушав мысли, подался к нему, быстро, интимно проговорил:
— Да что ж вы всё глядите на меня как на городского сумасшедшего? Поймите же, наконец! Я в полном здравии, в трезвом рассудке и в ясном уме.
В доказательство верности своих слов склонил плешивую голову, нахмурился и постучал пальцем по середине лба. И Бубенцов сразу поверил его словам. Да-да. Чистая правда. Так оно и есть. Всё верно. А стало быть, здесь ничего не произошло понарошку, а всё подлинное. Это не забавная выходка пьяного полудурка, о которой назавтра можно вспомнить с юмором и смехом. История настоящая. А настоящая история всегда серьёзна.
Бубенцов молча потянулся к чарке.
— Я уж тогда тоже. Если позволите. Налью себе, — сломался наконец незнакомец.
Ерофей вежливо и холодно кивнул. Он знавал случаи, когда и после семи лет воздержания алкоголик неожиданно прекращал внутреннюю борьбу и без всяких видимых причин срывался в штопор. Незнакомец налил полный фужер:
— Ну, вздрогнем!
Рука Бубенцова от этих слов и в самом деле дрогнула, он немного расплескал из рюмки.
5
«Хоть бы поскорее уже вернулись Бермудес и Поросюк! Где их носит чёрт? Тс-с... Зачем я чёрта упомянул? Зачем? Нельзя же...»
Ресторанные столики, которые до этих пор жили автономной жизнью в безопасном отдалении, потихоньку стали подвигаться, подкрадываться поближе, окружать, замыкать кольцо, перегораживать пути отхода. Бубенцов быстрыми косыми взглядами пронизывал пространство, склонясь над столом. Хмурил недовольно брови, как будто рассматривая пятнышко на скатерти.
Иллюзии, в которых так покойно и удобно живётся человеку, растаяли в одно мгновение. Уютный зал с накрытым столиком в уголке внезапно перестал быть уютным. Превратился в западню.
«Как только у тебя появились миллионы, ты стал жертвой. Вся нечисть мира будет расставлять на твоём пути сети, капканы, петли. Вся нечисть мира будет забрасывать свои блёсны, караулить миг, когда ты погонишься за наживкой. За двумя блёснами погонишься... На обе и попадёшься. Это не зайцы, нет».
Примерно такой сумбур трепетал теперь в голове Бубенцова. Он не выдержал терзаний.
— Откуда? — прикрыв ладонью рот и не поворачивая лица к наглому негодяю, хрипло спросил Бубенцов.
— Долго рассказывать, — беспечно сказал тот, роясь вилкой в блюде с овощами. — Да вы и не поверите. История в своём роде уникальная.
— В двух словах, — попросил Бубенцов, клонясь ухом, томимый сутолокой догадок. — Как же ты с этим в ресторан впёрся? Опасно же.
— Все мы смертны, — уклончиво ответил гадёныш и тоскливо усмехнулся. — Сами намедни остроумно заметили, что всех когда-либо сгонят с квартиры. Вперёд ногами. Когда долг накопится, а платить-то будет нечем.
— Ты мне дешёвой философией мозги не отвлекай! Гад!.. — строго прикрикнул Бубенцов. — От тебя ждут ответа по существу.
— Теперь вы можете заплатить за вашу квартиру. Лет на триста вперёд, — как будто не слыша его, гнул своё негодяй. — Вплоть до скончания ваших земных сроков.
Ерошка почуял сердцем, что находится совсем рядышком с коварным, хитрым духом. Противник тоже как будто почувствовал неладное, метнул из-под насупленных бровей острый взгляд.
Вероятно, найдутся люди, которые попытаются объяснить странность поведения Бубенцова действием выпитого алкоголя. Все эти перепады настроения, озарения и прочее. Это не так. Забавный психологический феномен, который всё это время наблюдал сам Бубенцов, видя себя как бы несколько со стороны, состоял в том, что Ерофей отдавал себе полнейший отчёт в том, что разговаривает он теперь не с человеком. Что перед ним сидит в материальном виде, в человеческом образе — инфернальная сила. Проще говоря — чёрт. «Если это не сумасшедший, то кто же? Чёрт, вот кто! Всё-таки это чёрт. Те, кто с ними не встречался, говорят, что их нет, а они есть!..»
Бубенцов мог всякую секунду пощупать своего чёрта пальцами. При всём этом Ерофей, как уже говорилось, в реальность духовного мира не верил, а если прежде допускал существование чёрта, то только лишь в народной мифологии, в произведениях классической литературы или в воспалённом сознании алкоголика Марата Чарыкова. И вот сейчас, напрямую беседуя с чёртом, видя его перед собою, ощущая его зловонное дыхание, но при этом ни капельки не веря в его объективное существование, Бубенцов из какого-то природного, совершенно нелепого в данной ситуации чувства деликатности старался сделать вид, чтобы этот чёрт ни за что не догадался, что Ерофей в чертей не верит. Ерофей понимал, что визави его чрезвычайно чуток и догадлив. Он боялся, что если его неверие обнаружится, то это может оскорбить, обидеть собеседника. Поэтому надо из приличия притвориться, показать, что он верит в его существование. И не только в этого конкретного чёрта с толстым носом, чёрными зубами, но вообще в чертей и в ад. Ерофей тактично делал вид, что черти — это нормально, в порядке вещей. Ведь на том же Западе чёрт давно уже вполне обыденное явление, наравне с венчанием педерастов или кормлением голубей у фонтана, на которое порядочный человек и внимания-то не обратит.
— А ну-ка, колись, нечистый! — грозно сказал Бубенцов и привстал с места, сжимая в кулаке вилку. — Откуда ты взял это? Извращенец!..
— После, после, — отмахнулся захмелевший шут. — После, я сказал! Всё под контролем.
Склонил голову, громко икнул, пьяно подмигнул Бубенцову. Бубенцов вдруг утратил всю свою решимость, безвольно опустился на место. Сидел, оглушённый, наблюдая за тем, как паскудник хозяйничал за столом. Тот накладывал на хлеб колбасу, стелил сверху лист салата. Оглянулся по сторонам, извлёк из внутреннего кармана плоскую фляжку коньяка. Снова подмигнул Бубенцову, запрокинул голову и жадно, мощно, так, что втягивались щёки, высосал содержимое. Быстро-быстро стал жевать, постукивая лошадиными зубами.
— Нет, ты объясни, подлюка! — потребовал Бубенцов. — Что за фигня такая? Что за подстава?
— Всё под контролем, — упрямо повторил наглец.
Было совершенно очевидно, что ничего у него не под контролем. Что этот хмельной, безответственный тип...
— Нельзя же вот так! — просвистел Бубенцов. — Светиться. Убить могут! Это же всё равно что бомба под столом. Я глядеть туда боюсь. Она же тикает там!
— Понимаю, — тихо сказал негодяй, кивая в сторону соседских столиков. Вздёрнул верхнюю губу, и крупные, выставленные вперёд зубы его оскалились до самых дёсен. У Бубенцова снова оборвалось сердце, мороз пронял до ногтей, сами собой пошевелились волосы на голове от этой невозможной, невыносимой улыбки.
— Понимаю ваши тревоги, — повторил гадёныш, пододвигая свой стул вплотную к Бубенцову. Приплёвывая в самое ухо, горячо зашептал: — Тридцать килограмм денег. Два пуда наличных!
Проговорив это, отодвинулся, сел ровно. Снова превратился в совершенно нормального, серьёзного собеседника.
— Я понимаю, что вас несколько смущает будничность происходящего. Обычно всякие великие богатства и сокровища связываются с заповедными кладами, хозяйками Медной горы, сюжетами Монте-Кристо. Для человека небогатого получение нескольких миллионов является делом неординарным. В нашей же среде это обыкновеннейшая, скучная рутина. Ежесекундно в мире большого капитала перемещаются гигантские суммы нажатием одной клавиши. Ваши миллионы, уважаемый Ерофей Тимофеевич, это даже не вес мухи и даже не вес крыла её. Пар! Пар от дыхания, который был и рассеялся, простите за сравнения.
— Пар от дыхания мухи?
Раскатистый женский смех донёсся из дальнего угла ресторана. Смех этот живо напомнил Бубенцову лай ведьмы, если её, к примеру, неожиданно сбрызнуть святой водою. Чёрт же, ни на что не обращая внимания, вытащил засаленную записную книжку, открыл её наугад, нашёл свободный от записей угол, ткнул пальцем:
— Вот здесь поставить вашу подпись. Мне формально, для отчёта.
— Нет! — отшатнулся Бубенцов, выставляя вперёд длань, как алкоголик, отказывающийся от рюмки на известном советском плакате.
— Я же не кровью из вены прошу расписаться.
— Нет! — ещё твёрже промычал Ерофей, не разжимая губ.
— От подписи отказался, — добродушно проворчал искуситель, захлопывая книжку. — В прежние времена охотнее расписывались. А теперь унесите это от греха. Смелее, прошу вас! Деньги любят крепкую, уверенную лапу! В этом они, к сожалению, подобны ветреным женщинам. У них капризный, переменчивый нрав.
Ногой подпихнул сумку в направлении Бубенцова.
— Нет! — закричал Бубенцов, вскакивая. — На них... Кровь!
— А-а! Вот оно в чём дело! Как это я сразу не сообразил! «Ограбление сбербанка в Сокольниках»! То была шутка. Психологический этюд. Не мог себе отказать. Называется «направить лоха по ложному следу»... Успокойтесь же, наконец! Я, кажется, в пылу спора не представился.
Поднялся, приложил руку к груди, церемонно поклонился. Бубенцов так же медленно опустился на сиденье. Со стороны могло показаться, что они качаются на незримых качелях.
— Моя фамилия Шлягер, — нависая над Ерошкой, застя белый свет, раздельно и веско сказал дьявол. — Адольф Шлягер!
Бубенцов молчал. Задрав голову, с ненавистью и страхом смотрел в близкое, наклонившееся к нему лицо. Собеседник выждал паузу, но, не видя никакой реакции, сел. Вздохнул, вытащил платок, высморкался неторопливо и с достоинством.
— Адольф Шлягер, — повторил он печально. — Это про меня не так давно писали во всех газетах. Умер дядя мой. Вильгельм Бельфегор, остзейский барон. Но оставил не три миллиарда, тут журналисты прилгнули. О чём бишь я? Да... Деньги не приносят счастья. А уж тем паче бессмертия. Увы... Впрочем, вы сами скоро убедитесь.
Бубенцов молчал.
— Ничто так не облегчает душу покойного, — продолжал Адольф Шлягер, — как поданная за него милостыня. Так что не отказывайтесь. Это вам, как человеку нищему, остро нуждающемуся, милостыня от покойного богача. А вы тут нафантазировали. Стыдно!
Всё это произносилось самым скорбным тоном, но таилась под спудом такая явная насмешка, что Бубенцова всего аж передёрнуло.
— Да-да, стыдно и зазорно! — строго повторил демон, заметив это передёргивание. — Но чтобы уж окончательно развеять ваши сомнения...
Тут Шлягер проворно слазил во внутренний карман, вытащил свёрнутую в трубочку бумагу с зелёными разводами, с какой-то даже приклеенной разноцветной канителью и красной кисточкой. Ловко развернул, сунул в безвольную ладонь Бубенцова свиток с золотыми гербовыми печатями:
— Вот. Читайте. Вслух читайте. Прошу вас.
Ерошка дрожащей рукой развернул бумагу.
— «Я, Бубенцов Ерофей Тимофеевич, — тихо и обречённо читал он, точно произносил собственный приговор, — получил в безвозмездный дар... от Шлягера Адольфа...»
Шлягер снова пнул сумку.
«Откуда он? В первый раз меня видит! А фамилию-то знал заранее! Истинный чёрт!..»
Тоскливый стон вырвался из горла Бубенцова.
— Благодарю за соболезнования. Дядя мой, Вильгельм Готтсрейх Сигизмунд Бельфегор, был бы тронут до глубины души, — кривлялся Шлягер. — Забирайте. На добрые дела. Впрочем, на ваше усмотрение. Можете использовать и во зло. Тут я не вправе ограничивать вашей свободы. Но умоляю, не забывайте ваш сегодняшний спор с достопочтенным Тарасом Поросюком!
Снова налил водки в большой фужер, выпил залпом, запрокинув голову и громко глыкая. Веки его почти сомкнулись, но в тёмном прищуре сверкнули внимательные, умные искры.
Ах, кабы не нужны были Ерошке Бубенцову эти проклятые деньги! Совсем иной разговор был бы у него! Стал бы он так унижаться! Стал бы он позволять ставить над собою такие эксперименты! Но ведь деньги нужны были ему позарез! И именно большие деньги.
6
Бесы всегда стремятся искусить человека тем грехом, который естественно и логично следует из его жизненной ситуации. Сложно описать те несколько десятков самых разноречивых чувств, что кипели, бурлили, перемешивались сейчас в голове и в сердце Бубенцова. Но, несомненно, две из них были сильнейшими — страх смерти и ликующее, лязгающее торжество. Ужас и восторг! Великая радость обладания богатствами, пусть низменная, поганая, болезненная, придавала ему сил и энергии. Древняя страсть, именуемая страстью сребролюбия, глушила все доводы рассудка, отражала резоны логики. Все житейские проблемы, которые терзали его и Веру, разрешались в один миг. Смолкнут навеки наглые голоса, уберут из-под дверей похоронные венки, извлекут наконец-то гвоздь из глаза бедной куклы. А самое-то важное — этих денег с лихвою хватит на то, чтобы приглушить сухой кашель, который весь последний год мучает Веру, избавиться от тлеющего в ней невидимого огня.
Страшный собеседник, сделав своё пакостное дело, уже посвистывал и поминутно всхрапывал, откинувшись на стуле, вытянув ноги в грубых кирзовых башмаках. Тускло мерцали его незрячие, жабьи глаза сквозь полуприкрытые веки. Бубенцов в своей жизни повидал немало алкоголиков. Потому достоверно знал, что этот, который дрыхнет теперь напротив, ничего не будет помнить, когда очнётся. На крайний случай бумага есть для отмазки, гербовая. Ерошка сунул бумагу в сумку. Рука сама собою задержалась внутри. Он поглаживал и осязал подушечками пальцев приятную плотность денежных пачек. А бумага-то очень может пригодиться! Есть чем оправдаться, если предъяву кинут серьёзные люди, начнут разбирать дело по понятиям. «Дар безвозмездный, господа, так и написано, а я чё?.. Ничё!»
Ерошка принял окончательное решение. Впрочем, окончательное решение было принято им ещё в самый первый миг. Но до поры скрывалось под спудом, пряталось на бессознательном уровне. Ясно понимая, что опасный груз следует как можно скорее унести, понадёжнее упрятать, Ерофей Бубенцов подхватил суму, набросил лямки на плечо и поспешил к выходу. У выхода оглянулся на свой столик. Демон бесчувственно, мёртво дрыхнул на сиденье.
Как только Бубенцов выбрался из ресторанного гомона и огляделся в фойе, он разумно рассудил, что выходить через парадный вход ему сейчас не след. Ни к чему. Там стоял суровый швейцар Семён Михайлович Шпак. Как раз в эту минуту швейцар, подперев башмаком приоткрытую дверь, препирался через узкую щель с двумя обритыми наголо забулдыгами.
Клонясь на левый бок, чувствуя, как больно врезается в правое плечо лямка, Ерошка поковылял к заветному запасному выходу, толкнул железную дверь. Оказался в узком переулочке, на тыльной стороне Таганки. Переулочек удобно скользил вниз, утыкался прямо в заднюю стену театра, в широкие служебные врата. К радости Бубенцова, врата были распахнуты настежь, рабочие сновали у крытого КамАЗа, выгружая из кузова громоздкий театральный реквизит.
Ерошка устремился вниз по пустому переулку, покатился с горы. Не задерживаясь в дверях, влетел в полумрак закулисья, под гулкие своды, едва освещённые тусклым фонарём. Он знал, где можно упрятать опаснейший груз. Схоронить быстро, надёжно. Только там. Никто не найдёт, не догадается. Вот в этот укромный угол, в мрачную подсобку. Во время ночных обходов дежурные старались сюда не заглядывать. Там сваливался и хранился страшный, пугающий реквизит, предназначенный для спектакля-сказки о семи страстях. Три года назад, устроившись в театр пожарным, Бубенцов забрёл сюда, совершая свой первый обход. Была полночь, он робел в тишине огромного пустого здания, гулко обступающего со всех сторон. В ночном театре царила та особенная грусть запустения, которая всегда бывает в покинутых зданиях, многолюдных и шумных днём. Казалось ему, что стерегут за каждым углом недобрые призраки, духи отыгранных спектаклей. Он ждал каждую минуту какой-нибудь мистической пакости, насильно улыбался, бодрил себя. Слышался вдруг за тёмной сценою дальний осторожный стук. Затем треск паркета на втором этаже, осторожные чьи-то шаги, приглушённый стон... Ерошка не знал тогда, что актёр Марат Чарыков иногда остаётся, ночует в своей гримёрке.
Спустившись в подвал, Бубенцов разглядел в глухом углу кощеев ларь, перетянутый коваными полосами медно-зелёного цвета. Откинул крышку, свалил с плеч ношу, захлопнул. Обтряхнул руки, выпрямился. Теперь, когда деньги были упрятаны в надёжное место, он чуть успокоился. Можно было потихоньку, небольшими дозами, запускать в сердце ликующую радость.
Обратный путь к «Кабачку на Таганке» занял всего ничего, поскольку возвращался он налегке, порожняком, подгоняемый лёгкими, приятными мыслями.
Глава 4
Шапка на вырост
1
Бубенцов распахнул стеклянную дверь. И обнаружилось, что ни в ресторанном зале, ни вообще во всём окружающем пространстве, а вполне возможно, что и во всём мире за эти прошедшие минуты его отсутствия ничего не изменилось. Всё тот же ровный гомон стоял в дымном воздухе. Никто о нём не вспомнил, не хватился. Точно он, вкупе со всем своим огромным достоянием, ничего не значил.
Ерошка некоторое время помедлил в проёме. Две пальмы росли справа и слева от прохода, соединяясь ветвями, образуя арку над его головой. Поток тропического тепла выкатывался навстречу из шумного зала, едва не сносил с ног. От этого тепла покалывало замёрзшие щёки и лоб. Пещерным, первобытным духом веяло из глубины, где шевелилось, галдело многорукое растревоженное племя. Ерошка топтался в дверях, вглядываясь в укромные углы, не решаясь вступить в опасные заросли. Из-за мохнатых стволов там и тут показывались свирепые, красные лица. Иногда над столами, чертя воздух чёрными крыльями, проносились официанты во фраках. Они пикировали сверху, уклонялись в последний миг от смертельного столкновения с землёй, расхаживали вокруг на пружинистых ногах, раскладывали по столам принесённые куски добычи.
Бубенцов вышел наконец из-за пальмы, направился к своему столику. Встрепенулись музыканты на маленькой эстраде. Ударили смычки, тихо заголосили скрипки. Одна из скрипок, когда Бубенцов проходил мимо, не удержалась, зарыдала мужским трагическим баритоном.
Бубенцов ещё не вполне понимал истинный масштаб события, участником которого он оказался, но знал твёрдо: надо остерегаться. Инстинкт подсказывал, что ситуация хотя и благоприятна, но крайне опасна. Тут, быть может, сама его жизнь поставлена на карту. И неизвестно ещё, какого достоинства та карта, на которую поставлена его бесценная, единственная жизнь. Вполне возможно, что вовсе не козырный туз и не король бубен, а самая мелкая шестёрка треф.
Психологически Ерофей уже вполне освоился с произошедшим, сознание его приняло свершившийся факт, примирилось с ним. Чего ищет человек, внезапно обретший сокровище? Он ищет уединения. Бубенцову не терпелось поскорее отделаться от друзей, распрощаться, уйти домой, запереться в отдельной комнате и всё не торопясь обдумать.
2
Друзья его, Бермудес и Поросюк, разливали водку в большие хрустальные рюмки. Официант, доброжелательно поглядывая на них, хлопотал за соседним столиком, позвякивал, прибирал посуду. Шлягер пропал.
— В туалете, — объяснил Бермудес. — Я думаю, милочка, простатит у него. Так и шмыгает туда-сюда.
— Странный тип, — сказал Бубенцов, присаживаясь. — Приятель твой. Где ты его выкопал?
— Да, со странностью, — согласился Бермудес. — Только он не мой приятель. Я его второй раз вижу.
— Откуда взялся?
— Пристал случайно. — Бермудес на секунду задумался. — Да. На съёмочной площадке в Красногорске. По-моему, простой директор.
— Нажрался, пока тебя не было, — сказал Поросюк. — Хвастал, что человечиной питался. Целую неделю. На Севере в буран попали. Друг ногу сломал. Выставит на мороз, а потом отпилят. Оба, говорит, ногой этой питались, пока спасатели их искали...
— Любит дешёвые эффекты, — сказал Бермудес.
— Роднее братьев, говорит, стали. Примёрзли друг к другу. Ломом отковыривали.
За спиной послышался звон упавших ножей, женский взвизг. Приятели обернулись. Нынешнее появление Шлягера составляло решительный контраст с его первоначальным образом, когда он был подчёркнуто робок, стеснителен. Шлягер небрежно отстранил вскочившего Поросюка. Плюхнулся на стул, закинул ногу за ногу.
— Наливай! — приказал кратко, ни к кому не обращаясь. — Штрафную!
Все молчали, никто не пошевелился. Глядели на Шлягера.
— «Ведь мы ж не пр-росто так! Мы штр-раф-ники!..» — речитативом пропел Шлягер, нарочно подпустив хрипа в козлиный свой голос. — Гитары, жаль, нет.
Порыскал глазами вокруг, как будто ища гитару. Подхватил графинчик, наполнил фужер по самые края. Влажные его руки дрожали. Всё происходило в полнейшей тишине.
— Ну, вздрогнем!..
— Вздрагивали уже, — сказал Бубенцов, следя за тем, как ходит кадык у запрокинувшегося Шлягера.
Шлягер в три больших глотка опустошил фужер. Выдохнул жарко, с шумом. Потрепетал ладошкой вокруг огнедышащего рта. Бубенцов во все глаза глядел на непонятного человека, который так неожиданно ворвался в его жизнь, всё в ней расшвырял, перевернул, перепутал. Шлягер же сидел жевал салат, не обращая никакого внимания на Бубенцова. Бубенцов покашлял. Шлягер поглядел на него с таким выражением, как будто видел впервые. Гримаса отвращения исказила его черты.
— Сумочку-то верните, — сказал Шлягер. — Вам она ни к чему, а с меня спрос.
— Какую... сумочку?
— Казённую. Я директор фильма, — почужев лицом, хмуро и трезво сказал Шлягер. — Вы сумку упёрли. Там реквизит. Для кино.
Бубенцов приподнялся. Шлягер поспешно отодвинулся вместе со стулом. Взвизгнули ножки, проехав по полу.
— Э-э-э, Ерошка, Ерошка! — Бермудес встал между ним и Шлягером.
— Психология понятная. — Шлягер криво усмехался, выглядывая из-за плеча Бермудеса. — В театр, скорее всего, унёс. Припрятал в укромном месте. Рефлексы просчитываются на раз-два. Всё ж написано на лице. Уровень примата.
— Не надо хамить, — сказал Поросюк. — Верни сумку, Ерошка.
Ерофей опустил глаза, чтобы скрыть выступившие слёзы. Глубоко вдохнул, выдохнул. Не помогло.
— Уровень примата? — глухо переспросил Бубенцов, исподлобья глядя на Шлягера. Хотел добавить ещё кое-что, но голос его пресёкся.
3
Выйдя из железной двери, некоторое время постоял на крылечке, глотая морозный воздух. Большими лохматыми хлопьями падал снег. Бездомный человек, склонившись над мусорным контейнером, копался в отбросах. Вот то-то же. Не унывай, брат! Ты не самый несчастный человек на этой земле.
— Не унывать! — вслух повторил Ерошка и, оскальзываясь на снегу, пошагал вниз, к театру.
Когда-то всё это уже случалось с ним. И стояла в горле такая же злая, бессильная обида, что и теперь. Это было в детстве, когда у него отняли деньги. Он вспомнил сейчас звонкий зимний день, солнечный и морозный. А может быть, день был обычный, тусклый. И так ярко сияет он только в его памяти. Десятилетний светловолосый мальчик, шмыгая носом, стоял возле сапожного киоска у входа в Казанский вокзал. Минуту назад его перехватили двое подростков в спортивных штанах и одинаковых куртках. Один коротконогий, сутулый, в кепке. Другой плотный, рослый.
— Гони деньги, шпак, — сказал плюгавый.
Ерошка безропотно отдал плюгавому деньги. Отчим в тот момент был далеко, на платформе, возле электрички. Ждал, что Ерошка принесёт хлеб: две буханки по четырнадцать и батон за двадцать две.
Слёзы готовы были пролиться из глаз, но мальчик застыдился старика, что глядел на него из сапожного киоска. Сапожник, мелкий, ловкий, как чёрт, клонился над ботинками старика, полировал их, работал локтями с бешеной скоростью, как боксёр в ближнем бою. Оторвался от работы, ловким движением слепил обе щётки щетиной. Поднял тёмное лицо, поглядел на Ерофея. Пронзительные, насмешливые глаза ассирийца заглянули прямо в душу, в самый мозжечок. Мальчик понял, что чистильщик обуви тоже видел его позор. Ерошка глубоко вдохнул, выдохнул. Никогда ещё в жизни он не попадал в такое безвыходное положение. Осознав это, заплакал. Старик поднялся с низенькой скамеечки, кинул деньги в фартук чистильщику. Постукивая тростью, направился к мальчику. Положил руку на плечо.
— Я видел, — сказал он.
— Их двое было, — сказал мальчик.
Ему было стыдно за то, что старик видел, как покорно он отдал деньги.
— Не унывай, — сказал старик. — Вот тебе рубль.
Мальчик так же безропотно, как давеча расстался с деньгами, принял дар. В булочной у входа в вокзал купил два чёрных и батон. Принимая сдачу, вспомнил, что не поблагодарил старика. Но тот, оказывается, ждал его у выхода. Это было неприятно. Ерошка успел привыкнуть к тому, что сдача от рубля принадлежат ему. Успел уже распределить, распланировать, выделить на мороженое. Но старик отстранил протянутую руку со сдачей.
— Оставь. Ты почему на морозе без шапки? — проговорил старик, наклонил голову, горько усмехнулся. — Нельзя так. Воспаление мозга будет. Вот, возьми.
С этими словами, такими простыми и такими необыкновенными, старик снял со своей головы великолепную пыжиковую шапку, надел на голову мальчика. Ветер тотчас разворошил длинные седые волосы старика. Руки старика в жёлтых перчатках сложены были на набалдашнике трости. Мальчик догадался, что старик этот, вероятно, какой-нибудь начальник или профессор.
Старик улыбнулся и сказал:
— Мне тут два шага. Вон тот дом с аркой.
Повернулся и пошёл прочь, постукивая тростью в обледенелый асфальт.
— Не унывай, — крикнул старик, обернувшись на прощание. — Никогда не унывай, мальчик!
День тогда был всё-таки ярким, солнечным и морозным. И навек таким остался.
Ерошка, запыхавшись, прибежал к электричке. Отчим постучал по крышке карманных часов.
— Молодец! Дай сюда. — отчим, озираючись, снял с головы Ерошки пыжиковую шапку, сунул добычу за пазуху. — Сохраним до совершеннолетия.
Потом курил в тамбуре, делая вид, что верит торопливому, сбивчивому рассказу Ерофея. Про чудного старичка профессора.
— Седой старичок, говоришь? — сказал отчим через некоторое время, глядя из окна на пролетающие пространства. — Теперь уж не догонит!
Глава 5
Лихо одноглазое
Где-то совсем рядом толклась, гомонила неусыпающая жизнь города. Сюда докатывались только невнятные лязги, скрежеты, сигналы, вскрики. Все эти звуки доносились как будто из другого мира, сама же узенькая улица, застроенная старинными купеческими домами, была тиха и пустынна.
Из-за угла трёхэтажного кирпичного дома осторожно выглянул человек, оглядел безлюдное пространство, спрятался. Затем ещё раз выглянул и только после этого выступил из укрытия. Побрёл, мягко постукивая палкой. Опущенное лицо его было в тени. Редкими хлопьями падал пушистый новогодний снег. Цеплялся, вис на ресницах, таял на носу и, скатываясь по щекам, щекотал ноздри. Человек чихнул, снял с головы лыжную шапочку, протёр ею мокрое лицо и поднял голову. Тут, в свете фонаря, обнаружилось, что на лице прохожего темнеет вовсе не синяк. Глаз закрывал пиратский чёрный кружок на резинке, что наискосок пересекала лицо.
Бродягу звали Жорж Жебрак. Выглядел он неуклюжим толстяком, однако под плащом, надетым поверх бушлата, скрывался костистый, сутулый человек, сухой и жилистый.
Жебрак, прихрамывая, побродил по задворкам «Кабачка на Таганке». Отогнал палкой двух сытых крыс, не торопясь обследовал мусорные баки. Ни в одном из трёх баков не оказалось ничего достойного внимания. Жебрак огляделся. Можно было пойти вон на то место под колоннами у метро «Таганская». Этот пятачок напротив театра был ещё не вполне освоен им. Бродяга только издалека присматривался к нему. Так бездомный кот, попав в незнакомый чужой двор, сперва долго изучает окрестности, примостившись в укромном уголке, у вентиляционной трубы над крышею чёрного хода, и только в сумерках осторожно, с оглядкою отправляется на поиски поживы.
Место у метро было доходным, добычливым, но и опасным. Жебрак не спешил, медленно брёл по тротуару, внимательно приглядываясь к намеченному пятачку. Две красивые проститутки стояли, прислонясь к колонне. Рядом с ними прохаживался полицейский. Жебрак помешкал возле приоткрытой железной двери. Изнутри, из кухни ресторана веяло тёплыми, сытными запахами. Послышался глухой грохот, дверь распахнулась настежь, как будто от удара. Выбежал на улицу человек в пиджаке нараспашку, с шарфом на шее. Поскользнулся на снегу, едва удержался на ногах, дико глянул по сторонам.
Жебрак благоразумно отступил в тень за мусорным баком. Забулдыга был в том счастливом состоянии, когда хмель ещё не отяжеляет ноги, не угнетает мозг, а только придаёт задора сердцу да твёрдости кулакам. От человека исходила опасность. Был он взъерошен, что-то горячо бормотал, размахивал кулаками. Не взглянув на отпрянувшего Жебрака, бросился вниз по переулку, оставляя чёрные следы на свежем снегу. Вскоре фигура исчезла за снежной пеленой. Жебрак побрёл к колоннаде у метро.
Проститутки не обратили на него никакого внимания, точно он был просто фонарный столб или же тумба, обклеенная старыми театральными афишами. Одна из проституток, статная и красивая, со сросшимися у переносицы бровями, не вызвала у Жебрака никакого интереса. Зато другая, белобрысая, ела шоколад, откусывая прямо от плитки. Жебрак сглотнул слюну и укрылся за квадратной колонной. Однако укрылся не сразу, а чуть помедлил, чтобы полицейский глаз запечатлел его образ. Наука приживания на новых местах довольно сложна, требует постепенности. Для того чтобы прижиться здесь, Жебраку следовало сперва примелькаться.
Постояв минут пять за колонной, решил, что на первый раз довольно, и отступил к переходу. Дождался зелёного света, поковылял через дорогу. Нарядная толпа валила мимо театра, обтекая его, устремляясь вниз по Земляному валу. Там места были бесплодные, скудные на добычу. Жебрак это знал, а потому повернул налево, снова оказался в том самом переулочке, откуда вышел несколько минут назад. Жебрак постоял, опершись на палку. Позади послышалось пыхтение. Горбатая, нагруженная тень выступила из снежной пелены. Жебрак привычно склонился, голос его зазвучал сам собою, почти без его участия:
— Если не трудно, одолжи сколь-нибудь денег. До Омска доехать.
— Прочь! Лихо одноглазое! — хрипло, с усилием выдохнула горбатая тень и, пошатываясь, проковыляла мимо. Следом проплыло в холодном воздухе приятное, свежее облачко алкоголя. Когда-то Жебрак любил перед семейным праздничным обедом выпить рюмку-другую.
Тень внезапно приостановилась в двух шагах от него, сбросила горб с плеч. Жебрак переместил вес тела на опорную ногу и на посох. Приготовился вмиг оттолкнуться, сорваться с места. Только теперь разглядел он в прохожем того самого весёлого, озорного гуляку, который намедни выскочил из-за железной двери.
— Глаз где потерял? — с весёлой злостью произнёс забулдыга. — За долги выкололи? Гвоздём?
— Можно и так сказать. — Жебрак чуть перебрал ногами, отодвигаясь на безопасное расстояние.
«Тип нервный, беспокойный, противоречивый. Драчливый холерик. Вспыльчивый, обидчивый, агрессивный, импульсивный, возбудимый, резкий».
— Да ты не трусь, брат, — заметил его движение вихрастый молодец. — Не трусь. Деньги, они как бабы. Боязливых не любят.
Он склонился над своей огромной сумой, передёрнул молнию, запустил внутрь руку.
— Я бедных не бью, — заверил молодец и выпрямился. — Я бью только подлецов. Запомни это, брат. Русские лежачих не бьют. Тем более одноглазых.
Жебрак на собственном горьком опыте не раз убеждался, что поговорка эта врёт, что бьют и лежачих, и одноглазых. Но сейчас верно чуял, что бить не будут. Вихрастый ногтем подковыривал упаковку, пытаясь сорвать банковскую ленту. Палец его соскользнул, пачка упала в снег.
— Пр-роклятый чёрт! И здесь подвох учинил, мерзавец!
Жебрак с вяло трепыхающимся сердцем наблюдал за действиями незнакомца. Тот поднял деньги, сунул в ладонь Жебрака. Вложил деньги в помертвелую руку. Всю эту плотную пачку с налипшим на неё свежим снежком. Жебраку стало так страшно, что ладонь не пожелала сжиматься. Незнакомец помог, стиснул обеими руками растопыренные пальцы Жебрака, заставил их сомкнуться вокруг денег. Подмигнул.
— Держи, горемыка. Как раз до Омска хватит. — незнакомец весело рассмеялся неведомо чему. — А вот до Казани, я думаю, не хватит!
«Если теперь бежать, то догонят и загрызут, — застучали в голове у Жебрака мёрзлые комья мыслей. — От собак бежать нельзя, иначе набросятся сзади и опрокинут...»
Жебрак стоял как соляной столб, не чуя под собою мёртвых своих ног, сжимал мёртвою же пятернёю страшную, немыслимую сумму. Его поташнивало от страха. Он с большим-большим трудом воспринимал всё то, что стало происходить дальше. А происходило нечто диковинное, невероятное, невообразимое. Всунув в ладонь Жебрака деньги и близко-близко заглянув ему в лицо, незнакомец вдруг снова расхохотался. Рассмеялся весело, от всей души. Вероятно, смятенный вид бомжа доставил ему немалое удовольствие. Он склонился над сумой, застегнул молнию. Переступил, повёл плечом, приноровляясь, готовясь поднять тяжёлую ношу. Однако вдруг передумал, пнул сумку ногою.
— Вот, — сказал он, и голос его теперь зазвучал трезво, серьёзно. — Бери всё. Два пуда! Но оставайся человеком. Это главное моё условие. Я об заклад бился, руку дал на отсечение. Вот эту самую руку.
Жебрак покосился на выставленную перед его лицом растопыренную пятерню.
— Всё бери, бедняк, — сверкая глазами, бормотал вихрастый. — А проклятому скомороху я сейчас скулы перемножу. Прямо вот сейчас.
Безумец повернулся, продолжая бормотать и высоко поднимая сжатую в кулак руку, которую он «отдал на отсечение», в три шага оказался у кирпичной стены, повернул за угол, исчез из виду, точно его и не было на этом свете.
Снег повалил теперь такой сплошной густой массою, что и сам угол дома, за которым скрылся неведомый благодетель, едва просматривался сквозь пелену.
Топот и отрывистые восклицания послышались за спиной у Жебрака. Жебрак рухнул, присел на сумку, распахнув полы плаща, что надет был у него поверх бушлата. Так наседка приседает, раскрывает крылья, прячет под собою выводок, почуяв приближение голодного соседского кота, или вороны, или иного хищника.
Две фигуры, облепленные снегом, выскочили откуда-то сбоку, где и переулка-то никакого не было, а была только глухая стена. Один маленький, плюгавый, в кепке.
— Рыжего! — задыхаясь от бега, отрывисто выкрикнул набежавший. — Не видал?
Плюгавый ощерился прямо в лицо Жебраку. Стало видно, что передний зуб у него выбит.
— С сумой, — добавил басом подоспевший верзила. — Вихрастый!
Оба вглядывались в оцепеневшего от ужаса Жебрака. Кажется, только кинжалов за поясом недоставало обоим. Впрочем... Верзила вдруг задрал голову, потянул воздух вывернутыми ноздрями, точно степной волк, а затем сорвался, пошёл ныряющим намётом по следам, что вели за угол дома.
— Ув-ва-а! — гортанно выкрикнул Жебрак.
Плюгавый размахнулся на него кулаком, но призвал голос из-за угла:
— Рома! За мной!
Рома цвыркнул слюной сквозь дыру в зубах, припустил вслед за товарищем.
Несмотря на невероятность произошедшего, на полную его невозможность, то, что случилось — случилось! Жебрак подхватил нежданное богатство, вскинул тяжкий груз на плечо, поспешно поковылял прочь. Во всём произошедшем слишком явственно пахло тюрьмою, криминалом. Без сомнения, где-то недалеко ещё дымилась чья-то кровь, не успевшая свернуться. Жорж Жебрак, содрогаясь от ужаса, прибавил прыти, унося ноги подальше от места преступления. Пробежав трусцой десяток шагов, свернул, протиснулся в щель между строительным забором и стеною. Снова поворотил за угол, юркнул в подворотню, спустился по ледяным ступенькам в глухой проулок. Он уже почти обогнул мусорные баки...
— Стой, гад! — раздался звонкий голос. — Полиция!
Было всего лишь около десяти часов вечера.
Глава 6
Есть ли жизнь за гробом
1
Было около десяти часов вечера. Человек дремал в кресле у погасшего камина. Угли уже не источали никакого света, но из-под тёмного пепла несло сильным сухим жаром. Говорят, таково свойство адского огня.
Полная луна сияла в высоких стрельчатых окнах, заливая мёртвым светом огромную залу. Светлые сумерки наполняли пространство. Внезапно из дальнего угла послышался угрожающий змеиный шип. Человек вздрогнул, пошевелился. И едва он обозначил своё присутствие здесь, как тотчас всё пришло в движение. Жёсткие складки парчового халата сдвинулись со своих мест, пролегли по-новому, точно горные цепи и хребты. Бокал в руке вспыхнул живой рубиновой искрой. Пространство мгновенно выстроилось, сосредоточилось вокруг человека. Одухотворилась, наполнилась смыслом окружающая бесконечная вселенная, как будто обрела координаты и точку опоры, отыскав центр.
И сам очнувшийся от сладкой дрёмы Рудольф Меджидович Джива в уютном стёганом халате, и вся обстановка вокруг вызывали впечатления самые отрадные. Вот оно, драгоценное счастие земное! Плод разумной, расчётливой жизни. Угасающее тепло камина, ясный зимний вечер, стакан терпкого портвейна. Взгляд, конечно, исключительно мещанский, но ведь и мещанские взгляды не лишены поэтического очарования. Небольшая примесь пошлости иногда необходима для того, чтобы яснее проявились черты истинно прекрасного.
Змеиный шип прекратился, в углу щёлкнуло, проскворчало, а затем напольные старинные часы торжественно ударили сдвоенным звоном — динн-донн... Звон был негромкий, но проникал всюду, слышался во всех закоулках особняка. Как будто где-то неподалёку в тихой лесной обители звонили ко всенощной службе. Иногда Рудольфу Меджидовичу казалось, что звон выплывает из картины Левитана «Над вечным покоем». Картина висела рядом с часами.
Джива вскочил. Пружинисто прошёлся по скрипучему паркету, подрагивая коленками, постукивая бронзовыми подковками. Стремительный, худой, в ковбойских сапожках из тиснёной козловой кожи, в длинном халате, узко перетянутом в талии, он выглядел весьма и весьма экзотично.
Остановился у зеркала в золотой раме, поставил бокал на мраморную полку. Поднял голову и серьёзно, с уважением поглядел на своё отражение. Мигнули красные, воспалённые веки, напрочь лишённые ресниц. Узколицый, костистый, горбоносый, со смуглой кожей, туго обтягивающей залысины, с сетью тончайших морщинок вокруг чуть выпуклых, умных глаз, он был похож на индейца. Злой, умный, беспощадный. Да, именно так. Внешность Дживы была не обманчива.
Звуки мягко отражались от стен, накладывались друг на друга, мрели в дрожащем хрустале гигантской люстры, уплывали сквозь анфиладу дверей в глубину комнат. Джива Рудольф Меджидович проводил уплывающий звук, указал пальцем направление, прошёл по оглушительно заскрипевшему паркету к высоким двустворчатым дверям. Щёлкнул выключателем, и вся просторная зала озарилась, заблистала янтарным электрическим огнём. Луна немедленно стушевалась, погасла, стёкла в стрельчатых окнах сделались непроницаемо чёрными.
Теперь надлежало заняться остывшим очагом. Джива пододвинул к камину два кресла, подкатил овальный столик, уставленный бутылками, рюмками, фужерами. Отступил на два шага, оглядел диспозицию прищуренным глазом. Чуть-чуть отодвинул одно из кресел, чуть изменил угол. Как будто это имело какое-то значение!
Затем опустился на корточки у очага, соорудил шалашик из щепок над еле тлеющими углями. Живая искра засветилась на чёрном изломе, стала разрастаться, перекинулась на сухую щепу. Вспыхнул и ожил огонёк, сперва робкий, слабый, беспомощный, но с каждым мгновением всё цепче впивающийся в смолистую сосновую стружку, перепрыгивающий на следующую. И вот уже заплясал, затрещал рыжий, уверенный, жаркий, пожирающий всё, что попадалось на его пути. Джива принялся обкладывать поленьями гудящее пламя.
Все звери с ужасом глядят на огонь. Все звери, кроме человека. Человек же хуже скота, гораздо хуже, гаже. Пока Рудольф Меджидович, размышляя таким образом, усаживался в своё кресло, дверь отворилась. Кто-то с клёкотом и сопением попытался пролезть вовнутрь. Джива повернул голову, на лице его изобразилась презрительная усмешка.
2
Входящий оказался человеком совсем ещё нестарым, лет около тридцати. Холёное лицо с розовыми брылами тщательно выбрито, маленькие глазки глядели настороженно. Короткий нос с вывернутыми наружу ноздрями напоминал пятачок. Кончик пятачка подвигался, когда посетитель просунул его в дверь, тревожно понюхал воздух.
Человек пролезал в узкую створку трудно, по частям уминая себя. Узкие плечи прошли сразу, без затруднения. Затем ему при помощи рук удалось в два-три приёма пропихнуть колыхающийся, мягкий живот. После этого, совершив некоторую замедленную ламбаду, он высвободил из дверного проёма толстый зад и оказался весь по эту сторону пространства.
«Поистине хуже скота», — ещё раз с удовольствием подумал поджарый Джива. Вежливо приподнялся, взмахом ладони приветствовал гостя. Гостем был Ордынцев Семён Семёнович, глава района.
Войдя в залу, Ордынцев беспокойно огляделся. Джива указал на камин. Затрещал паркет под ногами Ордынцева. Тяжко дыша, отпыхиваясь, отфукиваясь и отдуваясь, гость добрался до кресла. Повернулся толстым задом, взялся обеими руками за дубовые подлокотники, опустил распухнувшее тело на сиденье. Отвалился и шумно, с облегчением выдохнул, точно свалил с плеч куль муки.
Джива же нарочно подскочил, прошёлся туда-обратно, энергично цокая каблучками, пружиня на своих эластичных ногах. Ему приятно было лишний раз убедиться в своём полном превосходстве над всем прочим одряхлевшим, дебелым человечеством.
— Это что же творится на свете, а? Пых-пхы... Парадокс! Ф-фух... — заклокотал Ордынцев, присюсюкивая, округляя небольшие свои глазки. — Я когда узнал, чуть с кресел не слетел.
— Ничего не поделаешь, Семён, — весело сказал Джива. — У меня первая реакция была такая же. Надо подчиниться. У них всё построено на парадоксе.
— Чем я им плох-то был? — Ордынцев принялся промакивать платком вспотевшее лицо. — Зачем они этого дурака выбрали? Смотрины какие-то устраивают.
— В Доме Союзов будут не смотрины. Готовый показ. Приглашены наблюдатели из сорока посольств.
— То есть решение окончательное?
— Несомненно! В этом человеке есть что-то, чего нет у нас, — сказал Джива. — Что-то нужное им. Что-то подлинное. Настоящее. Возможно, он им необходим для некоего дьявольского ритуала.
— Мистический обряд? — Ордынцев колыхнулся животом. — Вроде чёрного петуха? Зарезать в полночь на перекрёстке?
— Иных объяснений нет, — сказал Джива и принялся расхаживать взад-вперёд. Колени его подрагивали, паркет поскрипывал.
— Средневековье! — сказал Ордынцев после долгого молчания. — Серьёзные люди, а занимаются мистикой! Неспроста это! А вдруг и вправду есть жизнь за гробом? Что тогда, Рудольф?
— И думать забудь, Семён! Сама эта мысль деморализует человека. Нет его! Прощай!
Ордынцев тяжело поднялся, стал перетаптываться, как рассидевшаяся курица, клуха, когда её сгоняют с места и она глумная, ошеломлённая начинает ходить по двору.
3
Проводив Ордынцева, Джива пошёл через гостиную, мимо бронзового зеркала, мимо часов, мимо «Вечного покоя» к дверям своего кабинета. Стрелял и трещал паркет под его ногами. Другой хозяин, пожалуй, перестелил бы. Но не Джива. Ведь если, предположим, сюда явятся среди ночи недруги и захотят зарезать сонного, то не выйдет.
Рудольф Меджидович спустился в подполье, щёлкнул выключателем. Яркий свет затопил помещение. Джива отпер стенной шкаф. Полосатая сумка, набитая деньгами, была на месте. Но что-то «кольнуло» его при взгляде на суму. Так потом напишет он в объяснительной записке. Это неправда. Конечно же никакая тень тревоги не омрачала его сердца, когда он сунул в суму руку. Ему захотелось просто погладить деньги. Ведь так приятно даже и обеспеченному всем необходимым человеку осязать пальцами шершавость новеньких банкнот. Джива коснулся пачки денег подушечками пальцев и... шершавости не ощутил! И верхняя, и нижняя банкноты в тугой пачке были абсолютно гладкими. Это были — фальшивые деньги. Значит, Шлягер унёс — настоящие!
С самого начала всё пошло-покатилось не так! Джива скорым шагом поднимался по лестнице, спотыкался, спешил. Набирал на ходу номер Шлягера.
Глава 7
Всё под контролем
1
Когда Бубенцов, продрогший, протрезвевший после прогулки по морозной улице, снова показался в дверях — никто и на этот раз не повернулся, не взглянул в его сторону. Как будто и теперь ничего выдающегося не произошло! Никому не было никакого дела до того, что он вернулся налегке, сбросил с плеч докучливый груз.
Место Шлягера пустовало. Бермудес же и Поросюк только что выпили по рюмке, жизнерадостно жевали, чавкали, умащивали губы жирным тамбовским окороком. Подойдя вплотную к столу, Бубенцов обнаружил врага. Адольф Шлягер, похожий на окоченевший труп, полулежал на сиденье. Голова запрокинута, длинные руки свешивались почти до полу. Голая шея, вся в куриных пупырышках, выглядела совсем беззащитной. Труп внезапно всхрапнул, дёрнул острым кадыком, посучил ногами. Бубенцов отметил, что из-под шутовского макинтоша теперь выглядывают тёмно-зелёные штанины с красными генеральскими лампасами и стоптанными грязноватыми штрипками.
— Друг-то твой, — кивнул Бермудес, — совсем с копыт скоровился.
Ерошка перешагнул через нагло вытянутые ботинки Шлягера, опустился на стул.
— Сволочь. Подозреваю, что он ещё и наркоман. Как бы не вляпаться с ним в историю.
— Сумка-то, будем говорить, где? — спросил Поросюк.
— И это есть, по утверждению древних, царь природы! — горько сказал Бубенцов, разглядывая ступни Шлягера, обутые в кирзовые копыта. — Штаны генеральские напялил! Лампасы! На волчьи свои лапы. Подлец!
Ерошка Бубенцов налил рюмку и, запрокинув голову, выпил.
— Я как-то с двумя наркоманами сцепился в подъезде, — сказал он, продышавшись. — Хуже нет, чем пьяный наркоман.
— Закодированные хуже. Злобнее, — возразил Тарас Поросюк. — Я однажды схватился в метро с одним, будем говорить, закодированным. Злой был, что бес. Первый на меня накинулся. Молча дрался, как штрафник.
— Ты бы закусывал, Ерошка, — озабоченно сказал Бермудес. — Сто выпил, сто закуси. Народная мудрость.
— Всё под контролем, — заверил Бубенцов.
— Гляди, брат, — с сомнением покачал головою Бермудес. — Ты и на свадьбе у Понышева так же говорил. Этими же точно словами. А потом посуды набил на полторы тысячи.
— На свадьбах принято драться, — сказал Бубенцов. — А во-вторых, я за шафера вступился. Когда на того семеро навалились. Несправедливо!
— Ну и дурак! — сказал Тарас. — Справедливо, несправедливо — твоё какое дело?
— Моё какое дело? — приподнялся Бубенцов. — Семь на одного! Ты-то не полез, умник!
— Их же семь было! — огрызнулся Поросюк. — Вам с шафером двоим и наваляли. Я потому и не лез, чтобы третьим дураком не быть.
— Главное, милочка, предварительный настрой, — поспешил перебить назревающую ссору Бермудес. — Скандал и драка возникают от предварительного настроя.
Бермудес чувствовал лёгкие угрызения совести. Он, как и Поросюк, тоже не поддержал тогда Бубенцова.
— В каком направлении начнёшь пьянку, в таком же и закончишь, — согласился Поросюк. — Не надо переть на рожон. Справедливо, несправедливо...
— Настрой, — внушительно повторил Бермудес. — Алкоголь только усугубляет предварительный настрой. Поэтому я, например, всегда с самого начала настраиваю себя на мирный лад. Вот и ты, Бубен, старайся настроить себя на мирный лад. И не будет никакой драки, поверь мне.
Некоторое время сидели в молчании, прислушиваясь к трагическому рыданию скрипок.
— Я, кажется, начинаю понимать, — сказал Бубенцов и кивнул на спящего Шлягера. — Газетку гадёныш не зря принёс, на виду положил. Про ограбление-то. Похоже на то, что нас разыгрывают.
— Может, шоу? — предположил Бермудес. — Обрати внимание, вон там, в углу, поблескивает? Не исключено, у них везде тут телекамеры расставлены.
Поросюк прищурился и завертел головой.
— Не нравится мне всё это! — Бубенцов со злобою покосился на Шлягера. — Эта сволочь сразу не глянулась.
— Ты бы сумку вернул ему, — сказал Поросюк. — С него же спросят, куда дел реквизит. Хоть, будем говорить, и алкоголик, а жалко его.
— Сумки больше нет! Я бомжа встретил у входа. «Дай, — говорит, — взаймы сколько-нибудь до Омска!» Я и не удержался. «На, — говорю. — Бери!» Эффектно получилось. Как он стрекача-то дал с миллионами бутафорскими!..
Ухо Шлягера навострилось, тонко затрепетало. Во сне он всхрапнул, дрыгнул длинной ногой в кирзовом ботинке.
— Сволочь, — отреагировал Бубенцов. — Ненавижу пьяных скотов. Давил бы.
Далёкая флейта тоненько просвистела начало «Марша лейб-гвардии Преображенского полка». То у мёртвого Шлягера ожил мобильный телефон. Шлягер пробудился, встряхнулся. Поглядел острым глазком на Бубенцова, потянул одним пальцем за колечко телефон из нагрудного кармана, прижал ухом к плечу.
— Алё? — пьяно кривляясь, крикнул он. — Говорите! Кто на проводе?
И тотчас осёкся, услышав ответ. Видно, страшен был голос далёкого собеседника.
2
Лицо Шлягера стало быстро застывать. Впалые щёки втянулись ещё больше, приобрели мертвенный оттенок, точно на них легла серая мраморная пыль. Шлягера, казалось, разбил внезапный паралич. Телефон вырвался из ослабевших пальцев, прыгнул на грудь, скатился на пол, завертелся юлой. Что-то всхлипнуло, лопнуло внутри Шлягера, он сорвался со стула, заламывая руки, подлетел к Бубенцову.
— А-де-сэ-той-бом-с? — проверещал Шлягер.
— Где той бомж? — Ерошка подхватился с места, схватил Шлягера за лацканы макинтоша, встряхнул. — Где бомж? Я тебе покажу. Гнида!
— Ого-дите-зе-вы-ы! — Шлягер выл, бился в руках Ерофея, пытаясь освободить пережатое горло. — О-ого-зиде-зе... Юде-зе-ругом!
— Людей застыдился, чёрт драный! — крикнул Бубенцов, волоча извивающегося врага в фойе. — Где той бомж? Я тебе покажу, где той бомж!
В вестибюле настигли их Поросюк и Бермудес, встали между противниками.
— Это были настоящие деньги! — взвизгнул Шлягер, высвободив наконец воротник из пальцев Бубенцова. — Подлинные! Дурак!..
— Подлинные! — оскалился Ерошка. — Получи, гад!
Бермудес, знающий характер Бубенцова, был начеку. Перехватил кулак на лету. Другой рукою стал отталкивать, оттеснять Шлягера. Ерошка вывернулся, лягнул врага под коленку. Поросюк не смог удержаться от искушения и тоже врезал Шлягеру по уху. Белая мраморная пыль посыпалась со щёк Шлягера. Шлягер оцепенел, застыл на месте, глядя куда-то вдаль через плечо Поросюка.
— Ва-ва! — крикнул он, указывая пальцем на входную дверь. — Ва-ва-вак!..
Все обернулись. За стеклом в свете уличного фонаря медленно плыла заветная полосатая сума, набитая хрустящими купюрами. Приостановилась, как бы дразня, а затем стала удаляться. Светлое серое пятно всё дальше уходило в глубины.
Шлягер бежал к дверям по мрамору вестибюля, тяжко гремя ботинками, повизгивая от ужаса. Бежал, не догадываясь опустить руку, указывая по-прежнему направление. И трое друзей, увлекаемые порывом, бежали вслед за ним. Сердца их колотились в древнем азарте погони.
Семён Михайлович Шпак расставил руки, встал у них на пути, думая, что это мошенники, которые не хотят платить за ужин. Но только охнул, отвалился к стене. Слетела с головы, покатилась форменная фуражка с алым околышем.
Бегущие, потолкавшись в дверях, вывалились на улицу. Заветная сума уплывала по переходу, белела метрах в тридцати. Заслышав хлопок двери и топот, бомж, даже не оглянувшись, рванул, поскакал прочь крупной рысью. Преследователи настигли сумку только на той стороне улицы.
— Отдай деньги! — прокричал Шлягер, накидываясь сзади, заваливая бродягу на асфальт. — Ворюга!
Поросюк рвал сумку из клешней бомжа. Беда в том, что точно с такою же силой тащил на себя сумку и Бермудес, но с противоположной стороны. Бубенцов топтался рядом в нерешительности, потому что ясно видел — бомж не тот! Этот был двуглазый. И оба глаза выпучивались от ужаса и напряжения. Сумки, конечно, были весьма схожи. Да что ж за невидаль, таких полосатых объёмистых сумок много есть на белом свете. Пойди хоть на Павелецкий вокзал, хоть на Таганский рынок — везде в глазах рябит от этих сумок.
Бомж, ошеломлённый нападением, очень скоро пришёл в себя. Жизнь в хищном мегаполисе, полная опасностей и скорбей, вырабатывает у людей соответствующие реакции. Он ухватился за вырванную уже из его рук суму, вцепился смертной хваткой. Клацал зубами, рычал, плевался, брыкался. В сумке находилось всё его последнее, насущное, жизненно необходимое. Тёплое одеяло, без которого холодная смерть на ночном морозе. Два надкушенных чебурека, без которых голодная смерть. Недопитая чекушка, без которой — смерть психологическая.
Схватка продолжалась, бестолковая, гадкая, зазорная. Несколько зевак залюбовались скандалом. Обступили дерущихся полукругом, поощряя, подавая реплики. Полицейский свисток прорезал пыхтение схватки. Дерущихся разняли, надавав болезненных тумаков, сбив дыхание. А затем повели гуськом, друг за дружкой, заломив руки за спину, низко пригнув к земле.
На тротуаре успела уже скопиться довольно большая толпа зевак. Стояли тут же две молодые проститутки, выделяясь из толпы резкой своей красотою. Семён Михайлович Шпак, криво поплёвывая на снег кровавой липкой слюной, озабоченно щупая распухающую щёку, стоял у входной двери ресторана. Когда проводили мимо Бубенцова, Семён Михайлович попытался пнуть его, но не дотянулся.
— Ноги коротки, — пошутил кто-то в толпе, но никто не засмеялся.
Задержанных погрузили в чёрный «воронок», стали закрывать железную дверцу с решёткою на окне. Но выскочил в последний миг из «воронка» Поросюк. Вырвался на свободу сквозь тесную щель. Спотыкаясь, похрюкивая от страха, успел отбежать на несколько шагов.
— Рыбоедов, держи его!..
Беглец споткнулся, охнул. Огромный сержант Рыбоедов в три шага настиг Поросюка, огрел дубинкой по спине. Маленького, упавшего на четвереньки.
— Стоять, ёпт!
Поросюк завизжал пронзительно, жалобно, отчаянно...
— Ты что же творишь, бык?! — вскинулся хмельной забулдыга.
Вырвался из «воронка», буйный, светловолосый, вихрастый. На глазах у десятков свидетелей совершил страшный поступок — подпрыгнул и врезал рослому полицейскому Рыбоедову кулаком по скуле.
Глава 8
Абсолютное алиби
1
Время близилось к полуночи.
Отворились железные двери, ударил в лицо казённый дух полицейского помещения. Задержанных втолкнули, провели и усадили на длинную деревянную скамью. Бомж поместился на дальнем конце. Покосился, отодвинулся ещё дальше, на самый край, крепко прижал суму к груди.
Насупротив, за стеклом, внутри освещённого отделения, точно в гигантском аквариуме, шевелилась жизнь. Посередине посверкивала шарами, переливалась фиолетовым дождём большая ёлка, конфискованная накануне у метро. В соседстве с ёлкою даже обыкновенные лампочки, помигивающие на служебном пульте дежурного, выглядели новогодними украшениями.
Рыбоедов нагнулся к полукруглому окошку.
— Оформи клиентов, Муха, — сказал он.
Рыбоедов был человек спокойный, рассудительный и вовсе не злой. Занимал положенную ему нишу, исправно служил в полиции, выполняя несложные правила. Человек второго плана, самый массовый, самый распространённый и необходимый в общежитии тип. Точно так же служил бы он и на железной дороге, и в лесничестве, и в банде, подчиняясь установленным правилам, не претендуя на первые роли. Дежурный, разглядывавший в ту минуту чёрно-белый снимок с фигурным обрезом, отложил его в сторону. Дознаватель Муха, в отличие от Рыбоедова, был злой, желчный и умный.
— Что там? — спросил он, поднимая узкое лицо и щуря глаза. — Фингал откуда?
— А вон тот меня. — Рыбоедов указал дубинкой на Бубенцова. — Плюс попытка ограбления. Интеллигенты, ёпт. Сумку пытались выдрать у бомжа.
— Это хорошо. Организованная, судя по всему, группа. Что в сумке?
— Миллионы в сумке, ёпт! — озлился Рыбоедов. — Оформляй. Я в травмпункт пока сгоняю.
Рыбоедов, щупая заплывающий глаз, пошёл к выходу.
— Готовься, ёпт, — приостановился против Бубенцова. — Три года минимум. В Америке вообще бы пристрелили. Как собаку.
Дознаватель Муха оглядывал из-за стекла новоприбывших. Лицо Бубенцова показалось ему знакомым. Впрочем, после двадцати лет службы в полиции всякое лицо кажется знакомым. Промокнул платком лоб, склонился над столом и снова принялся через лупу разглядывать старинную фотографию с фигурным обрезом. Лицо его приняло то тупое, отчасти даже идиотическое выражение, которое бывает у всякого глубоко задумавшегося человека. Через пару минут Муха оторвался от дела, вышел к задержанным. Позвякивая ключами, провёл всех троих в «обезьянник».
2
Расследование, которым занимался Виталий Петрович Муха, требовало особой сосредоточенности мыслей. Дознаватель, как и полагается, вёл несколько разрозненных, не связанных между собою дел. Совершенно случайно заметил вдруг, что в делах этих совпадают некоторые детали. Ничего конкретного ещё не нащупал. Но сквозь хаос и гул разобщённых фактов стал пробиваться временами как будто некий ритм, зарождаться робкая мелодия. Муха наткнулся на следы, в которых можно было усмотреть признаки существования неведомой тоталитарной секты. Секта, судя по косвенным признакам, окопалась в самом ближнем Подмосковье, а именно в Ордынском районе. Финансово связана со съёмочными павильонами в Красногорске. Бардак царил там страшенный! Подозревалось, что средства отмываются немалые, однако добыть доказательства никак не удавалось. Именно из-за необыкновенного беспорядка, в котором всё тонуло, всё увязало, проваливалось, путалось, пропадало! Троекратно захватывали курьера с наличными, но в сумке всякий раз оказывалась киношная бутафория. Виталий Петрович лично допрашивал подозреваемого, в сердцах даже немного повредил ему пальцы на руке, но добиться признания не смог.
Сумка, сумка... Не зря ему чудились миллионы в каждой сумке. Дознаватель бросил взгляд на разомлевшего в казённом тепле, дремавшего на лавке бомжа с сумкой. Тот как раз чесал бок под бушлатом. Муха поднялся, прихватил дубинку. Подойдя к скамейке, потыкал бомжа:
— Вон пошёл!
Дрёма мгновенно сменилась суетливой бодростью. Бомж снялся с насиженного места, подхватил полосатую суму и пропал за дверью. Следователь Муха пошёл вслед за ним, чтобы прикрыть дверь поплотнее. Не успел протянуть руку, как дверь перед его носом широко распахнулась. Снова показалась в проёме полосатая сума. Трое молодых, совсем ещё неопытных курсантов, мешая друг другу, вталкивали задержанного. Но теперь это был совсем другой бомж, с чёрной повязкой на бледном как смерть лице.
— Куд-да-а?! Вон его! — приказал следователь. — В шею!
Курсанты немедленно принялись выпихивать бомжа обратно. Они проходили в отделении свою первую производственную практику, поэтому в их действиях не было ещё необходимой слаженности. Тащили за рукава в разные стороны, дёргали за ворот плаща. Сумка вывалилась из рук одноглазого. Он рычал, скалил зубы, упирался изо всех сил. Муха брезгливо пнул суму ногой. Клешни Жебрака крепко сомкнулись вокруг лямок.
— Стоять! — крикнул Бубенцов из-за решётки. — Это он! Не дай уйти!
— Мой! Он мой!.. — извиваясь, протягивая меж прутьями руки, пронзительно вторил Шлягер.
Никто не обернулся на заливистый лай Бубенцова, на тоскливый вой Шлягера. Борьба у входа продолжалась. Наконец копошащаяся масса стала вываливаться наружу, в тёмный проём входной двери. Метался по клетке Адольф Шлягер, стеная от бессилия и отчаяния. Вопль Шлягера отдавался во всех закоулках. Возбудилось, застучало, заголосило отделение на разные лады. Так бывает, говорят, и в психиатрических больницах, когда буйство одного пациента, вызывает целую лавину всеобщего мятежа.
Вытолкав бродягу за дверь, вернулись полицейские. Бунт гасили беспощадно. Шлягеру и Бубенцову перебили дыхание.
— Не знаю их! — предательски отрекался Поросюк, прыгал по камере, хватая карателей за руки. — Ведать не ведаю!
И за каждый свой выкрик получал дубинкой по рёбрам. Бермудес же благоразумно сидел в самом углу, даже как будто бы дремал. Один из курсантов сунулся к нему, но не смог пересилить себя. Невозможно было ударить столь импозантного человека. Молча отступил.
Усмирив мятеж, полицейские покинули отделение. Муха принялся избавляться от балласта. Выволок из клетки Поросюка, выпустил Бермудеса. Крепко взяв за шиворот извивающегося Шлягера, вытолкал за дверь. Вернулся, тяжело дыша. Зачем-то понюхал ладони, поморщился, тщательно вытер их платком.
— А ты сиди пока, — сказал беззлобно Бубенцову. — Думай, где деньги добыть. Большие деньги!
Дознаватель угнездился в дежурном кресле, уткнулся в бумаги. Тишина и покой установились в опустевшем отделении. Уютно светились огоньки ёлки, переливались праздничные гирлянды.
Бубенцов прилёг на жёсткие доски, попытался задремать. Но задремать не удавалось. Хмель уже потерял весёлую силу, выветрился, угас, улетучился из крови. Поползли в голову унылые размышления. Душою стала овладевать тревога, с каждой минутой усиливаясь. Ерошка наконец-то стал осознавать, в какую малоприятную историю вляпался. И неизвестно, которая из историй была страшнее. Дело, вероятно, уголовное, догадывался Ерошка. Нападение на полицейского. При исполнении. Но почему-то росло в нём убеждение, что вторая-то история, история с пропавшей сумкой, для него гораздо опаснее. При всей её глупости, несуразности, в ней заключалась пугающая тайна.
Внезапно меж запахов табака, пота и алкоголя просочился весенний запах ландыша. Дознаватель Муха поднял лицо от бумаг. В служебное окошко заглядывали две девицы. Одну из них знал очень хорошо. Это была известная проститутка Настя Жеребцова из Полоцка, работавшая в его владениях на Таганке. Настя была весёлая, неунывающая девушка с маленькой, гибкой фигуркой, яркими глазами под русой чёлкой. Славное лицо золотело от веснушек. Напарница её, чернявая и пышногрудая, со сросшимися у переносицы бровями, приехала совсем недавно из Львова. Звали её, судя по документам, Горпина Габун.
— Привет, Виталий! — запросто сказала Настя.
Муха весело кивнул в ответ.
— О! Шершень ля фам! — отозвался он, поднимаясь с места. — Обидел кто?
— Кто ж нас обидит? Мы по делу. У тебя человек сидит, — сказала Настя. — Вон тот, скорее всего. Вихрастый. Просили отпустить. Настоятельно.
Муха, прищурившись, недоверчиво изучал лицо Насти, затем перевёл взгляд на лицо Горпины.
— Убедительно настаивали, — со значением повторила Настя.
Улыбка сошла с губ дознавателя. Он догадливо встал с кресла, вышел из дежурного помещения.
— Он один тут... Вихрастый, — придвинувшись вплотную к девицам, тихо произнёс Муха. — Ну?
Жеребцова сунула в нагрудный карман Мухи сложенные купюры. Движение её руки продолжалось всего лишь полсекунды. Но опытный дознаватель безошибочно определил, что в перегнутой пополам пачечке ровно десять сотенных.
— За него люди подписались, — пояснила Настя. — Штука здесь.
— За придурка? — удивился Муха. — Кусок отвалили? Знатно! Проблемка, правда, имеется. Герой ваш Саню Рыбоедова ударил. При исполнении. В травмпункте фиксирует.
— На вот тебе шоколадку, — сказала Настя. — Можешь придумать что-нибудь?
— А голова на что?! — сказал Муха и ударил себя ладонью по загривку. — Будем думать.
Девицы удалились. Муха развернул шуршащую обёртку, большими кусками стал есть шоколад, не чувствуя вкуса. Надо было правильно, тонко решить сложную дилемму. И отпустить преступника, и придумать отмазку для Рыбоедова. Между тем что-то отвлекало, сбивало с мысли, не давало сосредоточиться. То звонил и звонил дежурный телефон.
Мысль дознавателя двоилась. Конечно, Бубенцова он отпустит. Тут без вариантов. За тысячу-то. Серьёзные, видать, люди. Взял — сделай. Но как отпустить? «Рыбоедову, если что, три сотни».
Телефон звонил и звонил.
«Да кто ж это назойливый такой?!»
Снял трубку.
«Или две? Начать с одной, а потом торговаться. Но три сотни максимум. За синяк-то. Сам виноват: зачем подставился? Вообще, Рыбоедову хорошо бы ни копейки не давать. Дурак. Да пропади он...»
— Слушаю. Отделение. Дежурный.
Муха не тотчас вник в смысл слов, которые посыпались из трубки. Несколько раз пытался переспросить, уточнить, но никак невозможно было вклиниться в бурный поток. Дослушав взволнованную, сбивчивую речь, Виталий Петрович некоторое время держал трубку на весу. Брови его высоко поднялись и довольно долго оставались в таком положении. Трубка издавала короткие гудки. Муха попытался её положить, но дрожащая рука плохо слушалась, не сразу удалось попасть на рычажки.
Муха постепенно осваивался с новостью. Новость состояла в том, что сержанта Рыбоедова больше нет. Новость трагичная, но вместе с тем было в ней что-то и весьма приятное для дознавателя. Не в том общем психологическом смысле, что всех нас тешит весть о чужой смерти, а в более приземлённом. Деньги! Деньги теперь полностью, без всяких оговорок принадлежали единолично дознавателю Мухе. Не надо было вести споры с собственной совестью. Теперь можно было думать так: «Я бы, конечно, поделился, но... В том-то и дело!» И вздохнуть честно, облегчённо.
Дознаватель сидел, выстукивая пальцами бодрый маршик. В голове его сам собою зародился, зазвучал, стал многократно повторяться припев из позабытой старой песни: «Это нужно не мёртвым, это нужно живым...» Дознаватель думал о роке, который любит поиграть с человеком, как кот с мышью. А затем, когда прискучит игра, просто убить. Убить без всяких объяснений.
Рыбоедова зарезали при входе в травмпункт. На ступеньках у входной двери. Подозреваемых задержать не удалось. Один был длинноволосый, в кепке. Другой похож на заводского рабочего. Рабочий и зарезал. Споро, умело, как жертвенного барана. Скрылись на чёрном джипе без номеров.
Но самый главный, самый тёмный юмор ситуации заключался в том, что трупа Рыбоедова не было. Тело злоумышленники зачем-то прихватили с собой, запихали в багажник. Увезли вместе со следами побоев и сотрясением мозга.
Кому выгодно? Тот, кому выгодно, сидел напротив дознавателя в железной клетке. Абсолютное, стопроцентное алиби.
Муха вытащил из пачечки одну зелёную бумажку, разглядел её на свет, понюхал, перетёр подушечками пальцев. Бумажка пахла замечательно и была на ощупь самой натуральной. Он разволновался. Вытащил из сейфа початую бутылку, хлебнул коньяку прямо из горлышка. Закашлялся и пошёл отпирать камеру.
— Бубенцов! — сказал дознаватель. — Выходи. Свободен.
Ерошка встрепенулся, пошарил руками возле себя, не забыл ли чего.
— Ступай прочь, — сказал Виталий Петрович. — Чтоб духу твоего не было. Помни мою доброту!
Настроение его улучшилось. Сердце разгулялось. Муха подумал, походил, потрещал костяшками пальцев. Хлебнул ещё коньяку. Отпер камеру, в которой томились два таджика:
— Эй, золотая орда! На выход!
Затем, позванивая связкой ключей, двинулся в самый угол. Поколебавшись с минуту, всё-таки решился, выпустил последнего заключённого. Самого нервного и злого из всех. И этому наказал помнить свою доброту. В ответ тот зашипел и пропал за дверью.
Едва захлопнулась входная дверь, дознаватель вспомнил, где же он прежде встречал Бубенцова! Это был тот, кого некоторое время, пока рассматривалось уголовное дело, называли в отделении Стрелок. Года три или четыре назад дознаватель сам выезжал с нарядом на задержание. Бубенцов этот стрелял из охотничьего ружья по окнам четвёртого этажа. Там, кажется, кто-то из соседей оскорбил во дворе его жену. При задержании сопротивления не оказывал, отбросил ружьё в сторону. Варю? Иру? Варвару? Веру? Да, Веру... «Что значит профессиональная память, — весело подумал Муха. — Точно, Веру!»
Глава 9
Бубновый король
1
Снегопад к ночи утих, над городом открылось пустое чёрное небо. Холод как будто изливался теперь из самого космоса, перетекая через край звёздного ковша. Луна висела низко над крышами, сияла ярко, освещая опустевшие улицы. Морозная алмазная пыль переливалась в воздухе.
В большом сталинском доме близ Трёх вокзалов уютно желтело окно на третьем этаже. Дело происходило на обширной кухне квартиры профессора Афанасия Ивановича Покровского. Того самого профессора Покровского, что впоследствии совершенно тронулся умом. Одну из комнат снимали девицы — Настя Жеребцова из Полоцка и совсем недавно приставшая к ней Горпина Габун из Львова. Профессор Афанасий Иванович ещё в девяностых совершенно обнищал и потому вынужден был сдавать постояльцам часть своей семикомнатной квартиры.
В то самое время, когда девицы пропускали Бубенцова в сумрачную прихожую, из дальней комнаты послышался бой часов. И сейчас же Бубенцов ударился коленом об угол сундука. Угол этот, несмотря на предупреждение хозяек, не разглядел в полумраке. Боль от ушиба и звон часов, хотя и разные субстанции, каким-то таинственным образом смешались и переплелись. А когда отзвенел в ночи последний, третий удар часов, острая боль точно так же стала затухать, таять в унисон с затухающим, тающим, улетающим неведомо куда звоном. «Куда уходит боль? — успел подумать Ерошка. — И где хранятся отзвеневшие звуки?» Мысль была праздной, ненужной. Да ведь он с самого детства больше всего любил ненужные мысли и созерцания. Пока Бубенцов ёжился и оглаживал ушиб, какая-то из девиц щёлкнула выключателем. Высоко под потолком зажглась слабая лампочка, осветила громоздкий ларь, окованный медными полосами. Между ларём и стеною устроена была узенькая лежанка, которую Бубенцов впотьмах не сразу-то и разглядел. Там что-то заворчало, зашевелилось внутри неопрятной горы тряпья. Жалобно застонали басы пружин. Вслед за тем гора рассыпалась, выставился горбатый нос, с шумом потянул воздух. Бубенцов был почти уверен, что сейчас последуют обычные в таких случаях слова: «Фу-фу, русским духом пахнет!»
На самом же деле в квартире пахло больницей — эфиром, карболкой, корвалолом.
— Это Зора. Профессорская тёща. Давно ничего не понимает, — не стесняясь присутствия старухи, сказала Настя. — Сама не помнит, кто она.
Старуха покачивалась на пружинах, мерно кивала седой головой и молчала. Она и в самом деле находилась далеко отсюда. Высохшая до пергаментного совершенства, давно потерявшая память, свободно блуждала по живописным развалинам времени. Привычные натоптанные тропы уводили её в прошлое. На узких дорожках раскланивалась она с призраками минувшего. Забредала иногда, если уж быть до конца откровенным, даже и в далёкое, не сбывшееся ещё будущее, пугая тамошних обитателей.
Спустя десять минут Бубенцов хлопотал на кухне, нарезая закуску. На подоконнике мерцала фосфорным глазком радиола «Эстония». Невнятно бормотала, потрескивала, струилась под сурдинку далёкая музыка. На столе в круге света от свисающего с потолка абажура стояли две тёмные бутылки вина массандра. Початая бутылка коньяка высилась в окружении рюмок и стаканчиков, прибавляя к обстановке ещё больше тепла и уюта.
Девицы, наскоро накрыв стол, теснились у раковины. Принагнувшись к небольшому зеркалу в кафельной стене, докрашивали губы.
— Так, говорите, одноглазый был? — в который раз переспросил Бубенцов.
— Как камбала! — весело сказала Настя, тряхнув гривкой на лбу.
— А на вид бомж?
— Бомж, пан Ярош, — подтвердила Горпина. — Одного вока немае.
— Как камбала! — повторила Настя понравившееся ей сравнение.
— Да-а, — сказал Ерошка. — Загадка! Всё сотенные, значит? И при этом одноглазый. Парадокс! А кстати, покажите купюры, глянуть...
— Нормальные купюры, — сказала Настя.
Ерошка понял, что не покажут. Взял с этажерки растрёпанную колоду карт, рассеянно стал тасовать их.
— Значит, купюры нормальные?
— Вполне.
— Удивительно!
Разговор снова иссяк. Они ещё не успели толком познакомиться, не было общих тем. Тему же его чудесного выкупа и освобождения из плена исчерпали, обсудив по дороге несколько раз.
— Горпина. Редкое имя, — сказал Ерошка. — Агриппина по-нашему?
— Гарпия по-нашему, — низким, грудным голосом отвечала девушка. — У нас много таких.
— Не сомневаюсь. Но здесь больше бы подошло к ситуации Маргарита. Настя и Маргарита.
Девушки промолчали, по-видимому не поняв аллюзии.
— Я имел в виду, что Маргарита — ведьма. Говорят, брови срастаются у ведьм. Гоголь, кажется, писал. Я имею в виду не то, что у тебя тоже брови срослись, — поспешил поправиться Ерошка. — Имеется в виду у красивых. А Настя и Маргарита — это я Булгакова имел в виду. Роман есть такой. Звукопись...
Мысль о том, что деньги были настоящие, не давала покоя. Ныла занозой, мучила, томила, и никакой болтовнёй нельзя было заговорить тревогу. Налил чарку коньяку, махом выпил. Вытер губы, закусил ломтиком ветчины. Ветчина была розовая и мокрая. Это натолкнуло на кое-какие ассоциации. Бермудес учил, что при первом знакомстве с девушкой следует поразить её воображение чем-нибудь неординарным.
— А доводилось ли вам, девушки, — спросил Ерошка, — пробовать человечье мясо?
— А то тебе доводилось? — усмехнулась Настя.
— Мне не доводилось, но друг ел. Другого своего друга.
— Не диво! Все друг дружку едят, — тотчас нашлась Настя.
— Я в натуральном смысле. Вы, я вижу, не верите. На Севере дело было. Один ногу сломал, а тут буран. Зарылись в снег, сидят обнявшись. Мороз лютый. Неделя проходит. Еды нет. Что делать? На ноге гангрена. Этот думает, всё равно ноге пропадать. Выставит вот так вот из норы на мороз. На улице минус шестьдесят. Анестезия. Кусок заморозят, отпилят, сварят. Оба питались, а потом вертолёт. Вот так и выжили. Один, правда, частично. А друг на шесть кило разжирел. Движения-то нет.
— С трудом верится, — усомнилась Настя. — А пилили чем?
— Этот опыт о чём говорит? — сказал Бубенцов, пропуская неудобный вопрос. — От человека не убывает, сколько ни отрезай. Личность остаётся. А вот если прибавить, то тут не знаю. У нас спор был сегодня. Станет человек скотиной или не станет, если ему, предположим, дать много денег?
— Ну и что? Станет? — спросила Настя.
— Не знаю, — сказал Бубенцов. — Как проверишь? Денег-то нет. Тут только гадать можно. А ну-ка... — Ерошка бросил три карты на стол. — Дама, семёрка, туз. Двадцать одно!
— Давай-ка я. — Горпина Габун отняла колоду. — Снимай!
Ерошка снял. Руки у Горпины оказались крестьянскими, с ладонями широкими, как лопата. Кожа огрубела, как будто она ежедневно полола крапиву и осот. Пальцы гадалки мелькали в воздухе, осыпались на стол чёрные и алые масти. Почему-то с одного боку густо ложились тузы, дамы, короли. Гарпия, сдвинув ещё суровее свои сросшиеся брови, пошевеливала ладонями над рядами карт. Бубенцов глядел то на карты, то на нежные усики над её верхней губой.
— Круль бубен! — воскликнула Горпина, тыкая широким тупым ногтем в грудь бубнового короля. — Слава и богатство.
— Меня с детства Бубен зовут, — вставил Ерошка.
— Вот видишь! Станешь богачом! — улыбнулась Настя. — Сбудутся мечты!
— А ну, ещё раз! — Горпина перетасовала колоду.
Ерошка, снисходительно усмехаясь, но уже и с некоторым волнением сдвинул карты. Настя привалилась грудью к плечу Бубенцова. Ерошка чувствовал на щеке её горячее, частое дыхание.
— Круль бубен! — звонко объявила Гарпия и подняла прекрасные персидские очи на Ерошку.
— Вот видишь! — воскликнула Настя, сияя рыжим от веснушек лицом.
— Чушь собачья! — ещё сильнее волнуясь, сказал Ерошка. — Ну-ка, ещё!
Гарпия перетасовала колоду. Снимая, он видел, что пальцы его дрожат. Встал, прошёл к окну и обратно, напевая внезапно осипшим голосом:
— Не ищите тыщи в тщете, тыщи не оты-ще-те...
И в третий раз настырным, злым голосом провозгласила Гарпия:
— Круль бубен!
Дрогнули стены дома.
— Воркутинский прибывает, — сказала Настя.
Тоненько звякнули и задребезжали стаканы на столе. Бубенцов налил девушкам портвейна массандра, себе коньяку.
— Ну, вздрогнем! Как говорил один мой знакомый. Будь он проклят! С наступающим Новым годом!
Со стороны Ярославского вокзала, куда вкатывался скорый из Воркуты, донеслась музыка. Но то был не «Встречный марш» и не «Прощание славянки». То была Пятая симфония! И рождалась она, как сейчас же выяснилось, вовсе не на Ярославском вокзале, а прямо вот здесь, на пыльном подоконнике. Рядом с засохшей старой геранью подмигивала из-за шторы фосфорным глазком радиола «Эстония».
— Ах, как кстати! — крикнул Бубенцов. — Прибавь, Анастасия! Громче! На полную... Ра-татата!..
С Пятой симфонией связаны были у него кое-какие воспоминания детства.
2
Однажды в парке, наблюдая из-за чугунного заборчика за тем, как дети катаются на карусели, он почувствовал под стопой какое-то неудобство. Бубенцов взбрыкнул сандалем, отпихивая это неудобство. Брякнуло о металл забора. Ерошка опустил глаза и увидел скомканный картонный стаканчик от мороженого. А рядом лежали круглые жёлтые часы с жёлтой цепью. Бубенцов, оглядевшись, поднял их, прижал к уху. Часы были тяжёлые и тикали. Ерошка возликовал и побежал прочь, зажимая в кулаке драгоценную находку. Он знал, как нужно поступать в таких случаях. В милицию! Но ещё больше возрадовался часам встреченный им на выходе из парка постовой милиционер.
— Ай, молодца! — восхитился милиционер, бережно заворачивая часы в носовой платок и пряча их в карман. — Мы обязательно найдём хозяина. Спасибо тебе! Ступай, мальчик...
— Моя фамилия Бубенцов, — сообщил Ерошка. — Я из 123-й школы-интерната. Один-два-три. Запишите.
Постовой записывать не стал. Заверил, что запомнить номер и фамилию ему не составит никакого труда. Потому что профессиональную память специально тренируют в милицейской школе. Бубенцов всё же для надёжности ещё раз повторил свою фамилию:
— Бубенцов! От слова «бубен». Меня так дразнят.
Он знал, что фамилия в таких случаях необходима. Когда на доске объявлений повесят благодарность из милиции, там будет написана его фамилия. «Честный поступок пионера Ерофея Бубенцова». И многое простят Бубенцову строгий завуч и злая химичка. На утренней линейке, поставив Бубенцова перед строем, директор зачитает вслух заметку из газеты «Пионерская зорька».
Всю следующую неделю радость предстоящего праздника переполняла Ерофея. Самое трудное было теперь — дождаться. Ерошка нетерпеливо подгонял время. Но дни шли за днями. И дни эти проходили напрасно. В конце концов Ерошка не утерпел, решил посоветоваться. в субботу, отпросившись у воспитателя, поехал к отчиму, рассказал про золотые часы.
Отчим внимательно выслушал, потемнел лицом. Спросил, в каком точно месте стоял милиционер. Надел пиджак с галстуком, плащ, шляпу и молча ушёл куда-то. Вернулся к вечеру ещё более хмурый. Походил по дому, включил радиолу. Как раз передавали классическую музыку. Отчим не любил классику, но в этот раз включил звук на полную громкость. А затем молча и без всяких объяснений больно высек Бубенцова ремнём.
Пятая симфония Бетховена заглушила Ерошкины вопли.
3
— Ра-а-а-тата-та-а!.. Громче, Настя! — повторил Бубенцов. — На полную!
Настя пошла к подоконнику. И именно в этот миг, когда все иные звуки мира покрыл водопад бравурного гимна, в дверь внезапно позвонили. Ни Бубенцов, ни его красивые девушки ничего не услышали.
Звонков было три. Два коротких, третий длинный. Седовласая Зора, глухо ворча, пошла отпирать. Сняла цепочку. В прихожую осторожно вступили трое азиатов. Два невысоких, третий длинный. Как будто материализовались звонки. Длинный абрек с маленькой бритой головой отстранил старуху. Зора попятилась, рухнула на диванчик. Взыграли рыдающими басами пружины. Бельмы старухи сверкнули из темноты молодо, ярко. Так с треском вдруг вспыхивает напоследок почти уже угасшая свеча. Вспыхивает на одно мгновение, выстрелив копотью, освещает на миг пространство вокруг, а после гаснет и смыкается вокруг кромешная темень.
Трое вошедших замерли, прислушались. Один из них, низкорослый, сутулый, с руками ниже колен, походил немного на орангутанга. Со стороны кухни из-за бархатной шторы, похожей на театральную кулису, пробивалась бравурная музыка. Орангутанг смерил глазами расстояние, перебрал ногами, затем коротко разбежался, подсел и ударил пяткой в дверь. Музыка вырвалась наружу, обрушилась, точно водопад с гор, взревела дико, страшно. Азиаты нырнули в поток, пропали в нём. Музыка оборвалась. Вместо музыки из кухни послышался грохот падающей посуды, звон стекла. Вслед за тем по квартире разнеслись женские визги.
Старуха Зора кивала седой головой. И не такое видала и слыхала она на долгом своём веку. Поковыляла к двери, чтобы набросить цепочку на крючок. Но было уже поздно. Обнаружилось, что в прихожую проникли ещё трое. На этот раз белобрысые, хотя и той же хищной породы. Самым опасным показался старухе плюгавый в кепке. Глядел остро, зло, исподлобья. Длинными сальными волосами походил он на батьку Махно. Тройкой командовал коренастый мужик, одетый в бурый бушлат нараспашку. Хромовые сапоги на кривых ногах смяты в гармошку.
— Рома, заходишь слева, — тихо приказал коренастый.
Рома тряхнул длинными волосами, стволом револьвера сдвинул кепку на затылок. Приложил ухо к шторе, прислушался. Страшно темнела в сумерках чёрная дыра его приоткрытого рта. Третий, высоченный как жердь, всё это время стоял посреди прихожей. Он так и не проронил ни единого слова. В баскетболе таких называют «столб».
— Кому отдал? — допытывался между тем кто-то из-за бархатной шторы.
Рома усмехнулся, крутанул барабан.
— Не греми! — вполголоса сказал коренастый. Мягко передёрнул затвор ТТ и поднял руку.
— Там люди Дживы, — тихо добавил он. — Я их ещё в кабаке приметил. Шакальё.
Махнул рукой, и все трое нырнули за кулису.
Старуха сидела неподвижно, мерно кивала головой. То ли осуждала, то ли одобряла. Звуки, которые доносились из кухни, приобрели теперь совсем иной тон. Все кричали, гомонили, восклицали, гоготали одновременно. Радостно, взволнованно, как будто в разгар свадьбы прибыли опоздавшие гости со стороны жениха.
Старуха снова взялась за дверную цепочку, намереваясь набросить колечко на крючок, закрыть ящик Пандоры. Выглянула на всякий случай на лестницу, нет ли ещё гостей. Гости были. Они как раз гуськом поднимались по лестнице. В касках, бронежилетах и камуфляже.
— За мной! — тихо сказал один из них и отстранил старуху дулом автомата. Как будто отодвинул грязную занавеску. Поднял руку, и тотчас выдвинулась за ним опергруппа. Все как один сутулые, настороженные. В масках, с короткими автоматами. Двое остались караулить у дверей, перекрывая выход. Остальные побежали по коридору. Бежали гуськом, грохоча ботинками, как кованые волки. Разлетелись в стороны бархатные шторы.
— Все на пол!
Свадебное веселье оборвалось. Опытные, битые азиаты полегли лицами в пол, руки сцепили на затылках. Точно так же упали белобрысые, отшвырнув подальше оружие.
— Браво! — сказал Бубенцов.
Он стоял в разорванной на груди рубахе. Потное лицо багрово пылало. Тонкий ручеёк крови струился из рассечённой брови. Пшеничные волосы живописно растрепались, падали на лоб. Поджарый, вихрастый.
— Где деньги, гад? — деловито спросил дознаватель Муха, не повышая голоса.
— Бомжу отдал.
— Привет, Виталий! — сказала Настя.
— Бомжу? Три миллиона? — иронически спросил Муха и перевёл дуло автомата на Жеребцову.
— Он людей ел! — крикнула Настя. — На шесть кило разжирел!
У Бубенцова от такой неслыханной подлости перехватило дыхание.
— Ногу другу резали-резали, пока не осталось ничего. Друга зарезал, — закладывала Жеребцова.
— Это образ! — крикнул Бубенцов. — Символ!
— Что за символ? — Муха направил автомат на Ерофея.
— Анастасия! — Ерошка стукнул себя в грудь сухим, крепким кулаком. — У меня сердце горит! Какая подлость!
И, обернувшись к дознавателю, заговорил скоро, беспрестанно размахивая руками:
— Никакого друга не было! Я придумал историю. Для знакомства. Чтоб поразить девушек. А символ в том, что человека не убывает! Сколько ни отрежь от него.
— Как так? — не понял Муха. — Режь человека, а от него не убывает?
— А вот так, — сказал Бубенцов, понимая заранее, что слова его пропадут всуе. — Очень просто. Я как-то задумался. Когда стригли в парикмахерской. Отрежь, предположим, от человека ногу, от него не убудет. Вы же вот ногти себе стрижёте.
— Ну? То ноготь, а то нога!
— Всё равно. От вас же не убывает. Суть останется. И руки отрежь, и ещё кое-что по мелочи. Уши, нос...
— Так-так-так... — Было видно, что Муха понял и заинтересовался.
— В том-то и дело. От уменьшения тела величина человека не меняется. Закон такой. Цельность сохраняется в полном объёме. Самость человека. Ну как вам ещё растолковать?
Присутствующие молчали, прислушивались.
— Согласен. Самость остаётся. — Муха оглянулся на лежащих и чиркнул себя указательным пальцем по шее. — А если вот так, предположим?
Все головы повернулись к Ерошке, ожидая ответа.
— Да, — подтвердил Ерошка. — Там мозг и сердце. Ум и чувства. Без этого никак.
— Верно мыслишь, — одобрил Муха. — Я так полагаю, ты под самостью подразумеваешь дар индивидуального бытия? Иными словами, если даже воссоздать твою точную копию, то она будет лишена самости? Так?
— Да, именно так! — ободрился Ерошка. — Самость существует в одном-единственном экземпляре. Во всей бесконечной вселенной другой такой нет. Это как шедевр. Она единственна и неповторима. В этом её бесценность.
Нежно дрынькнул телефон в кармане у плюгавого, распластанного на полу.
— Ответь, Роман! — приказал Муха. — И чтобы комар носу... Тих-ха! А с тобой после договорим.
Рома завозился, перевернулся на бок, извлёк телефон. Мёртвая тишина воцарилась в комнате. И в этой тишине отчётливо проговорил металлический голос:
— Бомж. Обитает под платформой на Электрозаводской. Промышляет у Таганки. Зовут Жора. Одноглазый. Деньги у него!
Как только голос смолк, в следующую же секунду всё перемешалось в комнате. Как будто объявили внезапно воздушную тревогу или гаркнули: «Рота, подъём!» Люди повскакивали, поднялась необыкновенная суета. Напрасно Муха бегал от одного к другому, напрасно тыкал дулом в бока, кричал:
— Всем лежать! Руки на затылок!
— Лежать, ёпт! — кричали и люди с автоматами.
Куда там, ёпт!.. Все отмахивались от Мухи, как от назойливого овода. Муха понял, что понапрасну теряет время, упускает инициативу. Махнул рукой и первым бросился вон из квартиры. Все три банды, перемешавшись, отпихивая друг друга локтями, поскакали по лестнице вниз, к выходу. Муха подвернул ногу, тяжко врезался плечом в ребристую батарею. Воя и прихрамывая, гремя стволом автомата по прутьям перил, валился вслед, стараясь не отстать. Выскочив из подъезда, разделились наконец, разбежались в разные стороны по своим машинам. Азиаты отдельно, славяне отдельно, менты отдельно.
Скоро всё успокоилось, снежная пыль осела.
4
Бубенцов, стоя у окна, наблюдал за разъездом ночных гостей. Гнетущая тишина расползалась по всей поруганной, опозоренной квартире.
— Прости, — жалобно попросила Жеребцова, двумя пальчиками трогая его за локоть. — Мы без прописки тут.
— Эх ты!.. — Бубенцов отбрыкнулся локтем. — А я ещё красотой твоей восхищался! Покажи вам миллион, так вы готовы... готовы... за миллион... И-эх...
Он так и не придумал, на что готовы красивые девушки за миллион. Ничего пристойного не приходило в голову. Да и лень было думать. Вышел в прихожую. Набросил на плечи куртку. Кивнул старухе, которая, нахохлившись, дремала на венском стуле в коридоре, у телефонной полочки.
За дверью на лестнице гудел ледяной сквозняк. Бубенцов, поёживаясь, натянул на лоб капюшон и, затягивая на ходу пояс, сбежал вниз. Железная дверь из подъезда стояла нараспашку. Бубенцов иссяк. Кажется, что и сама долгая эта ночь выдохлась, подошла к концу. Всё как будто оставалось по-прежнему, так же горели фонари в тесном переулке, так же висела между двумя соседними высотками белая луна. Но уже произошёл перелом, время исчерпалось, назревал новый день. Тишина стояла уже совсем иная — чуткая, трезвая, предрассветная.
Бубенцов вышел из арки, постоял некоторое время, глядел то вправо, то влево, соображая. Улица была совершенно пуста, безлюдна. Жёлтым, тревожным глазом мигал светофор. Ага, туда!..
Вера, как обычно, откроет дверь. Встретит молча, ласково. Поглядит с любовью и сочувствием. Покачает головою. И, не спрашивая, где он был-пропадал, размахнётся и... Рука у Веры была лёгкая. Все больные удивлялись после её уколов: «Уже? А я и не почувствовал! Как будто комарик...» И один только Ерошка знал, как тяжела бывает та же рука при оплеухе.
— Не унывать! — приказал себе Бубенцов.
Это была его любимая присказка.
5
Вот наконец показался из-за поворота Путевой дворец императрицы Елизаветы Петровны, тыльной своей стеною примыкающий вплотную к железной дороге. Как всегда, горел свет в нескольких окнах на втором этаже. Кажется, никогда не бывало так, чтобы все окна были темны во дворце. Как будто шла там неусыпающая, незримая, тайная деятельность.
Дом Бубенцова находился через дорогу, напротив дворца. В какой бы смутный час ни выглядывал из своей квартиры Бубенцов, обязательно видел эти бессонные жёлтые окна. Неделю назад, когда вышел ночью на балкон и взглянул на дворец, померещились ему даже тени в тёмных треуголках. Сблизив головы, тени совещались в освещённом окне ротонды. Или то была игра тьмы и света? Уже таяла, рассеивалась над городом последняя тьма, когда Бубенцов нырнул под арку родного дома. Обернулся в последний раз на реку Яузу, и вдруг просветлели, опечалились его глаза. Он разглядел летучую колесницу в небе над Электрозаводским мостом, запряжённую двумя белыми конями. Розовоперстая Эос, богиня утренней зари, правила колесницей, возвещая скорое появление своего брата Гелиоса.
Двор был пуст. Дворник Абдуллох подкатывал к подъезду громыхающую тележку с пустыми ящиками. Ерошка прошмыгнул мимо, вошёл в тёплый полумрак, нащупал кнопку лифта. Поднялся на пятый этаж. С нескольких попыток вставил наконец-то ключ, осторожно провернул. Стараясь не шуметь, проник в квартиру. Скинул в прихожей сырые ботинки и, не зажигая света, двинулся по коридору. Как было заведено в таких случаях, когда он возвращался слишком поздно, Вера стелила ему постель отдельно, раздвинув на кухне кресло-кровать. Качнувшись, ударился плечом в стену. Отозвался тихим звоном сувенир в виде красной коровы с подвешенными на шее жестяными колокольчиками. Изделие чешских мастеров. Отшатнулся, задел в полумраке полку. Загремела, запрыгала по кафельному полу кухни медная турка, лязгая, покатилась под стол.
Следовало немедленно придушить скандальный грохот, иначе ему конец! Кинувшись ловить турку, споткнулся, потерял равновесие, рухнул с белой колесницы прямо на старое кресло-кровать. Бубенцов понял, что вовсе он не трезв, как думалось, а очень даже навеселе. Но даже и в пьяном виде он помнил, что у римлян та же Эос носит звучное имя — Аврора.
Глава 10
Иллюзорный мир
1
Бубенцов убегал от погони, сучил ногами. Слышал сквозь сон, как Вера вставала среди ночи, подходила к нему. Поднимала свалившийся плед, укрывала. Касания ласковых, заботливых рук успокаивали. Вера, несмотря на то что выросла в детском доме, обладала от природы удивительной домовитостью, способностью создавать вокруг себя тихий и светлый уют. Призраки разбегались, прятались, но ненадолго. Вера уходила к себе, тревога возвращалась снова. Беспокойно постукивало сердце. Иногда в сон врывался далёкий ноющий звук, похожий на визг электрической дисковой пилы. То дворники скребли лопатами выпавший за ночь снежок.
Ещё не успев проснуться, Ерошка сразу же вспомнил про сумку с пропавшими миллионами. Вспомнил, потому что и не забывал. Мысль всё это время бродила впотьмах и везде спотыкалась о проклятую сумку, набитую деньгами. Он не знал, что ему нужно теперь делать. Но и не лежать же вот так, не лежать же!.. Тем более что сна никакого уже не было. Бубенцов поднялся со стоном. Полез под стол, вытащил турку, водворил на полку.
Никак не удавалось унять панику, которая снова и снова сама собою поднималась, вскипала в груди, заставляя сердце постукивать учащённо. Гладил кулаком левую грудину, щупал вспотевшие влажные рёбра и думал боковой ветвью мысли — почему? Почему человек потеет в минуту смертельной опасности? Почему? Тут должен быть смысл. Ведь не просто же так организм сбрасывает, исторгает влагу. Почему? Зачем они выбрали его? И кто эти таинственные «они»? Бубенцов понимал, что кто-то или что-то затеяло с ним непонятную игру. Эта игра предельно серьёзна, опасна. Смертельно опасна. Убить могут. Но за что? За что могут убить его, Бубенцова Ерофея Тимофеевича? Ни в чём не повинного человека! За что? А за то! За то, за что убивают всех людей... За деньги!
Бубенцов накануне, находясь ещё в пьяном кураже, уже всё продумал, рассмотрел с разных сторон. Придраться не к чему! И всё-таки волнение не проходило, а, напротив, нарастало. Чем больше аргументов в свою пользу он находил, тем сильнее одолевала тревога. Ну что с того, что невиновен? Убивают и невиновных! Что с того, что прав? Деньги брал? Брал. Профукал? То-то же. Значит, по понятиям — виноват.
А то, что деньги всучил ему шут гороховый в генеральских штанах с лампасами, ничего не меняет. Потому что, как уже сто раз подумалось — деньги всё-таки настоящие! Стало быть, силы, которые стоят за этими миллионами, грозные и серьёзные. Недаром прошедшей ночью произошли тёмные события в профессорской квартире. Охотились за проклятой сумкой. За фальшивкой никто не будет бегать по ночам. Но почему они, серьёзные силы, выбрали его?
На ум приходили старые истории о том, как некие уголовники, играя в карты, ставили на кон жизнь случайных людей: «зарезать того, кто первым выйдет из трамвая». И проигравший резал невиновного торопыгу. Может, и здесь такое: затеяли игру, поставили на него, сделали крупные ставки?
Была у Ерофея, конечно, самая неприятная догадка, которая проще всего объясняла сумку с миллионами. Мошенники подбрасывают кошелёк на дороге. Лоха, который поднимает, ловят. Брал кошелёк? Брал! Ба, а где же половина денег? Утащил, гадёныш? Плати! Вот это, скорее всего, и произошло.
— Квартиру могут отнять! — выговорил наконец вслух Бубенцов.
Вот это было самое реальное. Коллекторы ведь с самых первых своих звонков грозились отнять квартиру. А теперь поймали на крючок.
Ерошка кружил по квартире, глядя на всё обновлённым острым зрением, как будто готовясь проститься с прежней жизнью, с её тёплым привычным укладом. Душа находилась в большой тревоге.
2
Впрочем, надо откровенно признаться, это было привычное состояние. Всякий раз после большой попойки Ерошка Бубенцов вскакивал на рассвете с постели, точно ему крикнули в самое ухо: «Рота, подъём!..» — и начинал кружить по квартире.
— Не унывать! Не унывать! Не унывать... — доносилось из разных углов разными голосами. — Не ун-ны-ва-ать! Не ун-ны-вать! Хо-хо-хо-хо-о! Не ун-нывать!..
Услышав это хриплое пение, этот звенящий трагический тенор, домашние уже совершенно точно знали: накануне с Ерошкой Бубенцовым опять приключилась какая-то невзгода. Опять наскандалил, насвинячил, разбил витрину в Елисеевском, совершил непоправимое, дал в морду охраннику в магазине, а то и ещё что-нибудь совсем уж... словом, разбил свою жизнь в мелкие осколки.
Вот и сейчас — чай кой-как налил дрожащей рукой, хлебнул горькое варево, обжигаясь, шипя. Поставил стыть, да ненароком смахнул чашку с края стола рукавом халата. Чашка тонкая, фарфоровая. Любимая у Верки. Была. Последняя из старого китайского сервиза оставалась. Ну что ты будешь делать! Притих Бубенцов на секунду, а затем не вытерпел, прикрыл поплотнее дверь кухни и грянул привычно, на мотив Пятой симфонии Бетховена:
— Ра-пата-та-а!.. Не ун-ныва-ать!..
Через полминуты с ещё большим отчаянием:
— Не ун-ныва-ать!.. Ра-тата-та-а!..
«Вот же заладил, Бубен чёртов!» — ругалась в спальне Вера, накрывала голову подушкой. Знала, что бороться с этим бесполезно. Если даже крикнуть ему злым голосом, чтоб заткнулся, то оборвётся пение, наступит тревожная тишина, но только на краткий срок. Затаится Бубенцов, прислушается чутко. А скоро опять простучат мимо дверей приплясывающие каблуки. Щёлкнут с хрустом нервные пальцы, и вырвется либо из кухни, либо из ванной, или же откуда-то из самого дальнего угла, из-за вешалки в прихожей, отчаянное заклинание:
— Не ун-нывать!..
Прокричав это, Бубенцов затаился, прислушался. Прошёл на цыпочках по коридору, стараясь не стучать каблуками, заглянул в спальню. Он знал, что Вера будет нарочно лежать с закрытыми глазами, делая вид, что крепко спит. Что ей нет никакого дела до Ерошкиных угрызений совести. Что она давно уже привыкла, смирилась с тем, что жизнь её отягощена присутствием непутёвого мужа. Что она, как пушкинская Татьяна, будет до самой смерти кротко терпеть эту муку. Но и он тоже будет мучиться, чувствуя её муку...
Веры в спальне не было.
Постель была не тронута. Никто не ругался, не закрывал голову подушкой. Бубенцов огляделся и затих. Песня его сама собою оборвалась. Вдохновение иссякло. Именно теперь, когда можно было свободно, не стесняясь никого, петь, орать во всю глотку, греметь медной посудой, прыгать по квартире... Ерошка понял, что всё это время жил в иллюзорном мире. Что это только в его воображении Вера вздрагивала от грохота турки, которую уронил он, вернувшись на рассвете домой. В придуманном мире жена вставала среди ночи, чтобы поправить свалившийся плед. Не было никаких ласковых касаний. На самом деле всё это время Бубенцов находился в квартире совсем-совсем один.
Бубенцов опечалился и стал собираться на службу.
3
В половине десятого утра вышел, как обычно, из метро «Таганская». Постоял у колонн, щуря глаза, привыкая к солнечному свету. Нынешний день после вчерашнего снегопада был ясный, яркий, морозный. Свежий снег сверкал, искрился на крышах старинных купеческих домов, что убегали вниз по переулку, в сторону Яузы.
Переходя через дорогу, Бубенцов покосился на знакомый кабак в конце улицы. Ничего не изменилось в мире. Всё оставалось на своих местах, всё стояло так, как надо. И кабак выступал углом из череды домов, и синие церковные купола в золотых звёздах сверкали над крышей кабака. Это забавное совмещение перспектив заметил когда-то Бермудес и даже сказал при этом забавный афоризм. Ерошка забыл уже точное его звучание, но смысл ему понравился. Что-то такое прозвучало парадоксальное. Дескать, самая прямая дорога к храму ведёт через кабак.
Ерошка прошёл вниз по Земляному валу, завернул за угол и оказался у служебного входа в театр. Вахтёрша баба Зина, суровая, неулыбчивая старуха с толстой грудью, строго кивнула из-за стеклянной перегородки, отвечая на его приветствие. Лучше бы дежурил Борис Сергеич, от которого всегда немного отдавало водкою. Бориса Сергеича в театре любили, да и он был равно и хмельно доброжелателен ко всем без всякого исключения.
Баба Зина не любила Бубенцова. Не было никакой личной причины для вражды, но преодолеть себя она не могла. Так кошка не любит собаку. Да, да, находились и такие люди, которые без видимой причины с первого знакомства проникались к Ерошке неприязнью. Как будто сразу различали в нём шевеление хаоса, стихии, что постоянно и отдалённо погромыхивали в глубине его сердца. Сам Бубенцов и не подозревал, вернее, не хотел подозревать, что есть в мире враждебно настроенные к нему люди. В отличие от своей жены Веры, которая сразу, с порога, с первого взгляда, с первого слова, чуяла таких людей, природных врагов, антагонистов Ерофея. И мгновенно проникалась к ним сильнейшей ответной неприязнью.
Баба Зина протянула ключи. При этом из-за стекла своей будки внимательно и бесцеремонно разглядывала его лицо. Он же, затаив на всякий случай дыхание, расписывался в книге дежурств. К его удивлению, на этот раз баба Зина сама заговорила с ним. И что было ещё более удивительным — заговорила первой:
— Ну что, голова удалая? Допрыгался?
«Знает!» — грянуло в голове. Нужно было что-то ответить, но никакого ответа у Бубенцова сразу не нашлось, и он только неопределённо передёрнул плечами. «Если знает, значит, как-то связана с ними...» Позвякивая ключами, стал подниматься на второй этаж, в служебную комнату. Оглянулся с лестницы. Баба Зина, высунувшись из окошечка, глядела вслед. Что «знает»? Что? С кем связана? На эти вопросы Бубенцов пока не мог ответить. Он не знал ничего.
4
Ерошка заварил чай, снял с полки серебряный старинный подстаканник, отыскал в столе серебряную ложечку. Он чрезвычайно дорожил этими вещами. Во-первых, подарок Веры, а во-вторых, потому, что они были добротными, настоящими. И подстаканник, и ложечку Вера нашла в антикварной лавке на Старом Арбате. Подарила на годовщину их свадьбы.
Напившись чаю, Ерошка отправился проверять датчики в тёмных коридорах. Работа пожарного была самой простой. Полагалось каждые два часа совершать обход помещений театра. Этот пункт никем не соблюдался. Единственное правило, которое выполнялось неукоснительно, — перед спектаклем отпирались запасные выходы. Одна дверь в случае пожара выводила людей из фойе на Земляной вал, а другая, гигантская, высотою метров шесть и такой же ширины, должна была широко распахнуться из чёрного хода в укромный, тихий переулок. И тогда обезумевшая толпа, спасаясь от огня и дыма, могла без помех вырваться туда, откуда уже виден был угол знаменитого «Кабачка на Таганке». Именно в эту широко отверстую дверь вносил Бубенцов накануне вечером неверный дьявольский клад. Вчерашние события казались теперь такими нереальными, такими далёкими! Не верилось, что прошла всего лишь одна ночь.
Бубенцов, как и полагалось по инструкции, начал день с обхода коридоров и помещений. С потаённых уголков, закоулков, где шла себе потихоньку, теплилась уютная закулисная жизнь. Невидимая миру жизнь театра. За первым же поворотом поджидала нехорошая примета. Уборщица Ольга, выплеснув во внутренний дворик помои, шла навстречу с пустым ведром. В театре все звали её меж собой «И Ольга, и Ольга...». Эта рыхлая, некрасивая женщина, изгнанная дочкой и её любовником-молдаванином из квартиры, проживала временно в пустующей артистической уборной. «И ходят, и ходят, — говорила обыкновенно всем встречным Ольга, не поднимая глаз, глядя на их ноги. — И сорят, и сорят. И гадят, и гадят...» Вытиралась рукою, оставляя мокрые полосы грязи на щеке.
Теперь же ничего не сказала, а, издалека завидев Ерофея, открыла рот, схватилась ладонью за лицо и уронила на пол швабру.
Что-то странное разлито было в воздухе театра. Непонятно, почему так глядела на него баба Зина, необычны были реакции уборщицы. Всё это следовало немедленно прояснить. Он двинулся было к Ольге, но в дальнем конце коридора мелькнула вдруг упитанная фигура Поросюка.
— Тарас! — крикнул Бубенцов, кидаясь к другу. — Постой!..
Ерошка совершенно отчётливо видел, что Поросюк его заметил, обернулся на зов. Но бросился почему-то прочь, резво скользнул в боковой проход, пропал на чёрной лестнице. Ерошка, подвывая от тревоги, бежал за ним, но Поросюка уже и след простыл. Луч фонарика освещал пустоту. «Да что ж это такое творится? — всполошился Ерошка. — Что ж они все отворачиваются, бегут от меня?»
Вышел на маленький служебный балкон, откуда во время спектакля наблюдал за зрительным залом. Нынче вечером по графику шла пьеса о семи страстях человеческих. Рабочие сцены монтировали ад, развешивали на чугунной решётке крючья, вилы, железные клещи. Двое выносили кованый медный сундук, устанавливали в углу. Бубенцов глядел на сундук, видел медную проволоку в петлях, которую вчера сам же закручивал, а потом разматывал. Но не мог теперь поверить в реальность произошедшего.
Нервы его были натянуты, зубы сжаты. И тут... Кто-то тихонько тронул его за локоть. От этого осторожного касания в столь напряжённый миг точно током пронзило Бубенцова. Ерошка обернулся. Перед ним стоял Бермудес.
— А-а! — выдохнул Бубенцов. — Ты? Ну? Наконец-то хоть кто-то! Ну? Что ты думаешь обо всём этом?
— О чём «этом», Ерофей? — с какой-то особенной заботой вглядываясь в лицо Бубенцова, осторожно спросил Бермудес.
Бубенцову очень не понравилось то, что Бермудес лукавит. Делает вид, что не понимает вопроса. И официальное обращение «Ерофей» вместо обычного «Бубен» тоже не понравилось.
— Ты дурака-то не валяй, — оборвал Ерошка. — Я вчера на тебя поначалу грешил. Думал, ты устроил розыгрыш с сумкой. Пока нас не повязали.
— Заметь, милочка, нас с Поросюком в тот момент не было, — сказал Бермудес.
— В какой момент?
— В момент передачи. Нас, как ты помнишь, он попросил удалиться. Мы из деликатности отошли. Но и тебе не нужно волноваться. Относись к этому философски. Как будто всё это просто шоу.
— Слишком реальное шоу. Вчера на меня бандиты наехали. Откуда адрес узнали? Били без всяких шуток. А следом полиция нагрянула. Сумку искали.
— На то и реалити-шоу. Реалити! Максимально близко к реальности, — пояснил Бермудес. — Всё снято скрытыми камерами. Мы с Поросюком, честно тебе сказать, прямо из полиции пошли в армянский шалман на Яузе. И всё подробно разобрали по косточкам. Вариантов нет.
— Ты думаешь? Реалити-шоу?
Бубенцову очень, очень понравились объяснения Бермудеса. Тревога отпускала душу. Всё становилось на место.
— Похоже, ты прав. Ведь это он спровоцировал спор о богатстве. Шлягер этот. Тонко подвёл, втёмную. Помнишь, он газету держал про ограбление? Просчитал, гадёныш, наши реакции!
— Вот-вот, — поддержал Бермудес. — И мы с Поросюком на эту деталь обратили внимание. У Поросюка ум обостряется, когда дело касается денег.
— Знаешь, Игорь, из всех предположений самое близкое к истине твоё. Это действительно похоже на реалити-шоу. Но почему мы? Почему они выбрали нас?
— А почему нет? Срез общества. Мы, во-первых, многонациональные. Русский, еврей и хохол, так? Уже сама собою завязка готова. Но вполне возможно, тут просто случай. Крутанули барабан, мы и выпали. Ну а далее пошла обычная режиссура. Сериал с погонями, драками. Кстати, говорят, новый режиссёр уже здесь. Ты не заходил ещё?
Всю последнюю неделю театр полнился тревожными слухами. Артисты с нетерпением ожидали появления режиссёра Ценциппера из Пензы.
— Меня не касается, — рассеянно сказал Бубенцов. — Не видел. Кабинеты обходим в последнюю очередь.
5
После разговора с Бермудесом Бубенцов почувствовал себя гораздо уверенней.
«Реалити-шоу. Вариант правдоподобный. Бермудес посвящён в кое-какие детали. Также и Поросюк. Оба на подтанцовке. В чём смысл розыгрыша? Как поведёт себя обычный человек, если ему дать миллион! В таком раскладе Шлягер — нанятый актёр, играющий демона-соблазнителя. Внезапные театральные опьянения, наряд шутовской. Игра грубая, топорная. Одноглазый бомж, который встретился в переулке, — разумеется, ряженый. Миллионы бутафорские. Сомнений нет. Все вчерашние сцены фиксировались на телекамеры».
Бубенцов поморщился. Вспомнил, насколько нелеп и смешон был он в целом ряде эпизодов.
«Ясно, что завязка сюжета снята была в “Кабачке на Таганке”. Сцена дьявольского искушения богатством — лучшей завязки не придумать! Далее драма строилась у них точно по Аристотелю, по нарастающей. Неожиданные повороты сюжета. Одноглазый с миллионами явился в отделение. Проститутки выручают героя. Нарочно подсунули покрасивей. Соблазнительные женщины обязательный элемент всякого шоу!»
Тут Ерошка с большим облегчением вспомнил, что постельных сцен им снять не удалось.
«Так, король бубен! Что ж мне сулила гадалка? Будущей славой искушала. Искушений должно быть три! Богатство, слава, власть! Именно в такой последовательности». Так думал Бубенцов.
Проходя по тесному, заставленному реквизитом закулисью, Ерошка украдкой, не поднимая головы, покосился в верхний угол. Под самым потолком вились белые провода. В сумраке светился глазок датчика дыма. Ерошка подтянул живот и немножко надул мышцы груди, как будто шёл он в плавках по людному пляжу у всех на виду. Ощущая на себе внимательный взгляд оператора, пересёк по диагонали пустую сцену. Ловко и красиво спрыгнул в зрительный зал. Ему оставалось пройтись по кабинетам и гримёрным, проверить исправность датчиков.
6
Рядом с дверью главного режиссёра стояли новенькие калоши с выстилкою из красного сукна. «Ценциппер из Пензы!» — догадался Бубенцов и стукнул в дверь. Никто не ответил. Ерошка ещё раз стукнул и вошёл. Перемены, произошедшие в знакомом кабинете, поразили его. От добротной и спокойной обстановки, которая была здесь ещё вчера при режиссёре Дыбенко, большом матерщиннике и грубияне, не осталось следа. Теперь всё было по-новому. Во-первых, на стене кабинета прямо напротив входной двери висел «Чёрный квадрат». Это была в несколько раз увеличенная копия. Полтора метра на полтора. Копия заключена была в массивную бронзовую раму, и вся эта громада, наклонившись, тяжко нависала над человеком, что сидел за столом.
Чёрный бархатный пиджак, розовая рубаха, голубой капроновый шарфик, повязанный на горле пышным узлом. В первый миг Ерошке показалось, что человек вышел из тьмы инфернального полотна. Склонив голову, новый режиссёр очень внимательно, даже подчёркнуто строго глядел на Бубенцова поверх тёмных солнцезащитных очков. По обеим сторонам лба, на крутых залысинах, там, где очень уместно смотрелись бы небольшие рожки, сияли лаковые блики. Вот уж кого никак не ожидал Бубенцов здесь уви... Да ладно! Ждал, конечно. Именно его и ждал! Потому совсем не удивился. На Бубенцова глядело лицо длинное, несколько вытянутое вперёд, со сбитым набок носом.
— Шлягер! — подтвердил хозяин кабинета, с большим достоинством наклоняя голову. — Меня зовут Шлягер.
Помолчал, пожевал толстыми своими губами и повторил веско:
— Адольф Шлягер.
Глава 11
Долг неугасимый
1
Адольф Шлягер, по-видимому, приложил максимум стараний для того, чтобы стать неузнаваемым. От прежнего, от вчерашнего Шлягера оставалось только странное впечатление гнусной извилистости, свойственной существу беспозвоночному. Он сидел, откинувшись в кресле, опасно покачивался на двух ножках. Руки переплетены на груди, как будто завязаны кренделем. Ладони прятались под мышками.
Трёхдневная, а может быть, даже и четырёхдневная щетина по-прежнему выступала на серых скулах. Отдельными кустиками там и сям росла она и на кадыке. Но если вчера щетина эта казалась печальной приметою бомжа, то сегодня её можно было классифицировать как артистическую изысканность.
Бубенцов молчал.
— Позвольте представиться. Режиссёр-постановщик Адольф Шлягер, — снова объявил Шлягер, прерывая затянувшуюся паузу.
— Знакомились уже, — устало и мрачно сказал Бубенцов.
— Ах, простите! — Шлягер картинно шлёпнул себя ладонью по лбу. — Простите великодушно! Допрежь как-то не удалось. Проклятая рассеянность. Знаете, мыслями-то своими я далеко отсюдова. Очень-очень далеко. За пределами.
Повёл широко ладонью, отвалился затылком к высокой спинке, устремил взгляд в дальний угол, под самый потолок, в запределье. Глаза затуманились.
— Гения корчим? — усмехнулся Бубенцов, следя за ужимками. — Ну и что ты собираешься поставить у нас, режиссёр-постановщик Адольф Шлягер?
Шлягер ещё более затуманил взор. Притворился, будто ещё дальше скитается его творческая мысль. Пальцы рассеянно набивали трубку. Злоба и отвращение всё более овладевали сердцем Бубенцова.
— От твоей игры на версту разит халтурой, — сказал Бубенцов. — Я ещё вчера отметил. Бездарный человек во всём бездарен.
— Шутка плоская, — огрызнулся Шлягер, чиркая спичкой по коробку. — Каламбуры не ваш конёк.
Видно было, что он нервничает, спички ломались в дрожащих пальцах.
— Да брось ты! — не выдержал Бубенцов и указал на сувенирную зажигалку в виде старинного замка с зубчатыми стенами и с башнями, оставшуюся от Дыбенко.
— Нет, нет, — отмахнулся Шлягер. — Только живой огонь! Только живой. Так уж заведено. Испокон.
Лицедей пытался изобразить из себя человека мира искусства, человека, всю свою жизнь посвятившего театру. Будто бы у него сложилась целая система оригинальных, неповторимых привычек.
Шлягер, очевидно, тут не главный (спичка наконец вспыхнула и озарила...). Шлягер всего лишь злой шут, исполняющий чью-то волю. Серой пахнуло прямо в ноздри от сгоревшей спички. Волю, волю... Сквозь человеческие черты лица Адольфа Шлягера, смутно и овально белеющие на периферии зрения, — Бубенцов это не увидел, а скорее почувствовал — вдруг стало проступать, вылезать, прорастать что-то нечеловечески жуткое, инфернальное... Пламя спички наконец-то угасло, лёгкий дымок ещё некоторое время вился над чёрной обугленной головкой, а потом всё пропало.
— Мне кажется, мы напрасно теряем время. Толчём воду в супе!
Шлягер замолчал, пытливо всматриваясь в Бубенцова.
— В супе, — повторил с нажимом. — Воду в супе.
Но и теперь каламбур его не произвёл никакого впечатления. Шлягер закончил с некоторым раздражением:
— Вы сейчас немного побледнели. Допрежь тоже с вами такое же было.
— Пожалуйста, не... — тут Бубенцов споткнулся мыслью, задумался. Не знал, как продолжить. Вылетело, рассеялось, развеялось как дым.
— Что? — Шлягер стал подниматься с кресла.
— Пожалуйста, не употребляй слова «допрежь», — продолжил фразу Бубенцов, понимая, что вовсе не это он поначалу хотел сказать, а нечто гораздо более важное.
— Ах, вот отчего мы побледнели! — Шлягер, озабоченно вглядевшись в лицо Бубенцова, неожиданно сменил тему, произнёс тоном задушевным, мягким: — Вот что, уважаемый Ерофей Тимофеевич. Вам совершенно необходимо выпить. Лечебно. Да и мне тоже.
Зазвонил в серебряный колоколец. Перезвяк посуды отозвался из-за двери, ведущей в комнату отдыха. Вслед за тем выкатилась оттуда двухэтажная никелированная тележка, очень похожая на медицинскую. Внизу уставлена она была баночками, биксами, лотками с марлей, бинтами. Зато на верхнем столике тележки стояли мензурки с прозрачным алкоголем. На этот раз постановочная сцена весьма понравилась Ерошке. Артистка Изотова, с выпуклыми глазами и причёской барашком, исполнявшая роль медсестры, молча поглядывала на собеседников, добросердечно улыбалась.
— Пожалуй, да, — кивнул Бубенцов, немного смягчаясь сердцем. — Можно и надо выпить. Выпить именно «лечебно».
И вот тут-то всё змеиное очарование Адольфа Шлягера развеялось в один миг. Тело на самом деле плохо его слушалось. Он с большим трудом поднялся, двинулся, перебирая ладонями по краю стола. Вихляющееся тело его вдруг обрело хребет, окостенело. Лицо Шлягера при этом страдальчески морщилось, как будто он терпел острую боль, подобную той, какую испытывают люди при обострении радикулита, когда им приходится вставать с места. Бубенцов решил подыграть, снял с вешалки чёрную с серебром эбонитовую трость, подал Шлягеру.
— Благодарю вас, — произнёс Шлягер, крепко хватаясь за литую ручку. Постоял некоторое время, чуть согнувшись, опираясь всем корпусом на трость, прислушиваясь к затихающей боли в пояснице.
— Это у тебя хорошо получилось, — искренне похвалил Бубенцов. — Браво!
Игра Шлягера в этом эпизоде получилась действительно очень выразительной. Настолько натуральной, что Бубенцов почувствовал в своей спине болезненное неудобство, как бы от защемления позвонков. Шлягер поглядел на него кисло.
— Радикулит, — сказал он. — Тело досталось мне незавидное. Это печальная реальность. И никакой игры.
Он с трудом поднял свою мензурку и стал пить. Медленно, основательно, с передыхом, как пьют лечебные капли, разведённые в воде.
— Жаль. Твоё здоровье! — сказал Бубенцов и молодецки махнул с ходу.
Изотова, плавно покачивая бёдрами, покатила тележку... «Если взять это крупным планом, — кося глазом, рассуждал Бубенцов. — Да, положим, план снизу. О, это они молодцы! Толика мистики и эротики украшает всякое шоу!..»
2
Под воздействием выпитого спирта мысль заработала смелее и яснее. Всё-таки шоу. Несомненно! Прав догадливый Бермудес. Бубенцов чувствовал, что поведение Шлягера тоже рассчитано на постороннего зрителя. Приметив в дальнем углу мерцание красного огонька противопожарного датчика, Бубенцов ещё более успокоился и развеселился. Логичнее всего замаскировать объектив телекамеры именно под такой датчик. Которых натыкано великое множество по всему театру. Снимай с разных планов да только успевай монтировать сцены!
— Что вы скажете теперь по поводу вчерашнего? — неожиданно в лоб спросил Шлягер.
Но для Бубенцова, который внутренне подготовился ко всякой хитрой каверзе, здесь не было ничего неожиданного.
— Повлияет ли богатство на душу человека? — Бубенцов заговорил громко и отчётливо. — Поживём — увидим.
— Если, дорогой друг! Вы забыли волшебное слово «если»! — Шлягер поднял вверх узловатый указательный палец, повторил с нажимом: — Если поживём, то, может быть, и увидим. Может быть!
— Ну, всё! — оборвал Бубенцов. — Зря стараешься сбить меня с панталыку! Я встречал людей, подобных тебе. Людей, которые иронией прикрывают отсутствие сущности.
— А с вами никто и не шутит, — возразил Шлягер. — Всё тут серьёзно, и нет никакой иронии. Разве можно шутки шутить с такими суммами? Вы просто рехнулись!
— Шутят. Ты же ведь шутил, — резонно заметил Бубенцов. — Покойного дядю-миллионера приплёл из Веймара.
— Шутки были до той поры, пока деньги считались нарисованными. А когда выяснилось, что они настоящие, все шутки кончились. Долг ваш стал неугасимым. И это вовсе не каламбур, а суровая реальность. Вот почему я здесь.
— А Ценциппера куда?
— Форс-мажор! Решение переменилось. Назначили меня. Приглядывать за вами, — сухо сказал Шлягер. — В оба глаза. Чтобы вы ненароком с кукана не сорвались. — Изображая кукан, согнул указательный палец крючком.
— Ты сам сказал, что это не деньги, а реквизит.
— Вот что, уважаемый. Люди там очень простые. Они в тонкости вникать не будут. Деньги потеряли вы, вам и ответ держать.
— Я отдал бомжу пустой реквизит, — неуверенно начал Бубенцов. — Бомж одноглазый, в ватнике и плаще.
— Вот-вот-вот-вот... — Шлягер оживился. — Уже теплее. Ну и куда утёк от вас этот бомж? Мой вам добрый совет. Как можно скорее напишите подробную бумагу.
— Ты сам его видел. В полиции. И он именно от тебя и утёк. Обитает на Электрозаводской. В телефоне вчера сказали. Не буду я писать никаких бумаг!
— Повторяю, это серьёзные люди.
— А зачем же они тебя прислали? Шута горохового! Серьёзные люди. Какой смысл сторожить меня? Серьёзные люди в таких случаях утюг раскалённый приставляют к животу. Или паяльник тычут.
— Приставят и утюг в своё время, — тихо и значительно пообещал Шлягер. — А про паяльник вы зря. Пошлостью отдаёт. Забыли, куда его тычут? Ваше счастье, коли найдут того бомжа. Я, к слову, совершенно уверен, что для них это труда не составит. Тем более одноглазый! Выроют из-под асфальта.
— Я понимаю, что вляпался, — сказал Бубенцов. — Признаю некоторую вину. Отчасти! Не надо было вообще с тобой связываться. Но, во-первых, всё произошло в хмельном состоянии.
— Отягчающее, — вставил Шлягер.
— Во-вторых, всё тут у вас нелепое. У людей этих, как ты выражаешься, «серьёзных». Путаница с деньгами. То они настоящие. То вдруг оказываются фальшивые. Бардак.
— Не без этого, — вздохнул Шлягер. — Вы правы. Но опять-таки только отчасти.
— Пригласительный билет зачем прислали? — небрежным тоном и как бы походя спросил Бубенцов.
— Ерофей Тимофеевич, я сейчас не могу вам сказать ничего определённого!..
Уловка удалась! Это было признание, пусть косвенное. Шлягер проговорился. Поняв свою оплошность, ударил себя кулаком в грудь. Закусил костяшки, точно затыкая готовое вырваться дальнейшее признание. Сильно припадая на одну ногу, забыв про эбонитовую, чёрную с золотом трость, хотя и держал её под мышкой, прошёл в угол кабинета. Уткнулся лицом в пыльную штору, глухо сказал:
— Не торопитесь с осуждениями. Поверьте мне.
— Вот уж кому менее всего могу я поверить, — проговорил в спину ему Бубенцов. — Может быть, вообще никакого Шлягера нет? Единственное, что мне кажется в тебе настоящим и подлинным, — это твоя хромота. И радикулит. Но подозреваю, что и тут ты прикидываешься. Но предупреждаю, я готов к любой пакости с твоей стороны!
Однако, несмотря на уверения в готовности ко всякой пакости, Ерошка тотчас вздрогнул от неожиданности. Потому что грохнула дверь, широко распахнулась, и в кабинет с шумом ворвался Бермудес.
— Ни на кого нельзя положиться! — проревел он. — Что ни актёр, то стервец и алкоголик! Каин очнулся!
Подбежал к столу, схватил графин с водой, жадно стал пить прямо из горла. Шлягер шагнул было к нему, всплеснул руками. Трость с треском обрушилась на паркет. Как будто молния озарила пространство, высветила всё. До всякого рассуждения, по двум только этим фразам, по тону их, по взаимному расположению фигур, по чёрной трости, что всё ещё нервно скакала по паркету... и по неведомо каким ещё признакам — Бубенцов понял, что люди эти давно знакомы между собой. А значит, Бермудес участник и действующее лицо. Что существует некий сговор. Но что из этого следовало и что это меняло? Времени на размышления не оставалось. Бубенцов, не раздумывая ни секунды, бросился вон из кабинета. Потому что выражение «Каин очнулся» на местном театральном наречии означало: «Чарыков — в запое!» Бубенцов знал, насколько это опасно. В прошлый раз народный артист Марат Чарыков едва не спалил театр.
Глава 12
Заинька, выйди в круг
1
В самом начале прошлого сезона, ранней осенью, Марат Чарыков уснул в гримёрке с непогашенной сигаретой и прожёг диван. Едва сам не сгорел, да, пожалуй, и сгорел бы... Пока сигарета тлела и жгла его пальцы, он даже не пошевелился. Баба Зина учуяла запах горящего поролона, разбудила Ерофея. Бубенцов выбил дверь, за ноги вытащил в коридор мертвецким сном спящего Чарыкова.
Матрас же, как его после ни ворочали, ни затаптывали, сколько чайников ни заливали в чёрную дыру, тлел и тлел едким, каким-то поистине неугасимым адским тлением. Это продолжалось с перерывами ещё двое суток. На третьи сутки изувеченный матрас вынесли, бросили под дождь у мусорных баков. Но и подле мусорных баков дымился он до конца недели.
Ерошка взбежал на второй этаж, промчался в конец коридора, толкнул дверь в гримёрную Чарыкова. За накрытым столиком в клубах табачного дыма разглядел двоих — то были они. Марат Чарыков и друг его Ваня Смирнов. Тоже актер, но рангом пониже, играющий массовку и голоса за сценой. Смирнов держал стакан левой рукой, правая кисть, толсто перемотанная бинтами, висела на перевязи.
Бывают лица настолько простые, открытые, что на них невозможно изобразить никакого злого чувства. Такое лицо было у артиста Вани Смирнова, выказывающее сразу весь характер человека. Глянешь на этот добродушный, толстый нос, что прилеплен, подобно небольшой круглой картофелине, к мягкому блину лица, черты плывут, маслятся, податливые щёки сияют от улыбки. И как в зеркале отразятся все эмоции на лице того, кто загляделся на русского человека. Ответная улыбка готова уже была показаться на устах Бубенцова, но тотчас погасла, замерла, едва перевёл он взгляд на Чарыкова.
Чарыков в нынешнем состоянии был полная противоположность Ване Смирнову. Злой, жестокий, болезненно подозрительный. Артист Марат Чарыков сидел, уперев кулаки в колени, исподлобья в упор разглядывал Бубенцова. Коричневое костистое лицо его было неприветливо и враждебно. Бубенцов закашлялся от синего табачного дыма, замешкался на пороге. На тонких губах Марата Чарыкова обозначилась горькая усмешка узнавания.
— Ну, здравствуй, Каин! — сказал Чарыков. — Что на этот раз скажешь?
Бубенцов стоял в дверном проёме, схватившись за косяк. После пробежки по лестнице он часто дышал.
— Это не Каин, — подсказал Смирнов. — Это Ерошка наш!
Чарыков, прищурившись, отмахнул от лица табачный дым:
— Бубен? Ты, что ли? Жаль. Я караулил другого.
Голос его смягчился, исчез металлический звон, но как будто прозвучала в нём теперь и нотка разочарования. В театре все знали, что внутри Чарыкова живут двое. Один рассудительный Авель, дельный, умный. Другой же, злой, жестокий, которого сам Чарыков называл Каином, большею частью спал, как кощей в цепях. Каина пробуждала к жизни обыкновенная чарка водки. Выпив её, он отряхивался ото сна, поднимался, решительно теснил Авеля и с каждой рюмкой всё более уверенно располагался в душе Чарыкова.
— Первую рюмку ты наливал себе трезвым! — строго сказал Ерошка, присаживаясь к застолью. — Когда ещё Авелем был. Зачем наливал?
Этот простой вопрос он задавал Чарыкову уже много раз, тщетно надеясь получить вразумительный ответ. Но, судя по всему, рационального объяснения не знал и сам Чарыков.
— «Авель! Где брат твой Каин?..» — продекламировал Чарыков.
— Ну ладно. Пожалел брата. А вторую зачем?
— Вторую чарку, Ерошка, Каин наливает себе уже сам, — сказал Чарыков и стал делить оставшиеся полбутылки по трём стаканам.
Присутствие третьего стакана на столе насторожило Бубенцова. «Как будто ждали, готовились к моему приходу...»
— Ты, Ерошка, полный кретин! — сказал Чарыков и добавил со злорадным удовольствием: — Я употребляю это слово не просто так, а как медицинский термин.
— Мягче надо, Маратушка. Ерошка просто доверчивый, — незлобиво поправил Смирнов, беря стакан левой, здоровой рукой. — Отелло не ревнив... А уж когда выпьет, у него вообще башку сносит. Что ни пьянка у тебя, Ерошка, то драма! Эх, бедолага...
Ерошка понял, что вчера во время пьянки в «Кабачке на Таганке» с ним опять произошло нечто, о чём он напрочь забыл. Такие провалы в памяти случались и прежде. Прямо спросить было совестно, следовало разведать обстановку окольными путями.
— Что с рукой?
— На репетиции. «Семь страстей». — Смирнов двинул обвязанной рукой, кисло поморщился. — Расскажи ему, Чара. А то я опять плакать начну.
— Новый режиссёр, новые методы. Остзейский немец! — принялся объяснять Чарыков. — Подлинность ему подавай, гаду! Ваня голоса за сценой играет. Вопль грешников из ада. Шлягер послушал, придираться стал. «Натуральность» подавай. А ну, возопи, Ваня.
Смирнов поёрзал, набрал полную грудь воздуху и завизжал. Завизжал так пронзительно, что Бубенцов вынужден был заткнуть пальцами уши. Крик прекратился. Смирнов, красный, как варёная свёкла, тяжко дышал, усаживаясь поудобнее.
— Ну? Натурально? — спросил Чарыков. — Риторический вопрос. А Шлягер этот ему говорит: «Ты концовку сглатываешь, а надо, наоборот, усиливать...»
— Подлинности требует, — грустно подтвердил Ваня Смирнов. — Я и усиливаю. Концовку-то. А он мне говорит, не громкость нужна, а подлинность. «Только в боли есть подлинность!» Пальцы мне дверью зажал. Я думал, в шутку. А помощник его, обезьяна такая, мне и вправду пальцы дверью прищемил. Крик записали. Теперь фонограмма будет.
— Пр-роклятый чёр-рт!.. — выругался Чарыков. — «Подлинность в боли». Ага!
Выпил залпом, забормотал невнятно, горячо, время от времени ударяя себя в тощую грудь.
— Ясно, — сказал Бубенцов, хотя никакой ясности не было, а, наоборот, прибавилось невнятицы.
Наступила тишина, нарушаемая бормотанием Чарыкова. Язык Марата стал уже мешаться.
— Заколдованный круг. В четыре утра я просыпаюсь от тоски. В подвздошье, вот здесь вот, — Чарыков ткнул себя пальцем в солнечное сплетение, — поселяется холодная гадина. И сосёт, сосёт, сосёт.
— И тогда тебе надо похмелиться, — участливо обернулся к Чарыкову Ваня Смирнов.
— Ну да. Я выпиваю сто пятьдесят водки. Отваливается сосущая гадина. Сплю часик, а потом снова ужас. Снова душа воет, снова сосущая гадина!
— Понятно. Но как же ты, в конце концов, избавляешься от Каина?
— О, тут долгое и хитрое дело. Уложить обратно этого скота тяжело. Он страшен, безобразен. Водки требуется всё больше и больше. Чтобы забыться, забыть о нём и его бесчинствах. Но наступает миг, когда водка уже не помогает, не приносит успокоения. От неё только пылают, плавятся мозги. И вот тут нужно перетерпеть!.. Время становится безразмерным. Иногда является мне маленький, сутулый человек. Вижу его вот как тебя. Лицо серое, треугольное, печальное. Глаза злые. Пахнет он угольной кочегаркой. Я знаю, кто это, но боюсь сказать... Минуты тянутся как часы. Но об этих часах нельзя ничего достоверно рассказать. Потому что переживания эти память впоследствии вышвыривает, стирает, аннигилирует. Ради собственной безопасности.
— И, перетерпев, ты завязываешь и больше не пьёшь? — сказал Бубенцов.
— Я алкоголик! — с достоинством возразил Чарыков. — Мне нельзя без этилового спирта! Но я не пью долгое время. И не хочется. Я удивляюсь, зачем это нужно человеку — пить водку? Отвратительную, с горелым запахом. Чуждую организму! — Чарыков демонстративно понюхал пустой стакан и гневно покривился худым своим лицом.
— Допустим, перетерпел. — круглощёкий Смирнов тоже понюхал свой стакан, и ничего не отразилось на его лице, кроме удовлетворения. — И Каин опять спит?
— Спит.
— Пока голос не позовёт и не спросит?
— Да. — Чарыков тоскливо огляделся. — Голос рано или поздно снова спросит: «Авель! Где брат твой Каин?» Не словами, конечно, а как-то так... внятно.
Некоторое время все трое молчали, осмысливая сказанное.
— Я тебе вот что посоветую, — нарушил молчание Бубенцов. — Я где-то читал, что святые люди заставляют себя умереть для греха. Многие монахи даже в гробах спят нарочно. Грех пришёл, а монаха как будто нет на этом свете. В гробу лежит, не реагирует.
— Ты советуешь гроб купить?
— Почему бы нет? Пусть тебе наши столяры изготовят. Или из «Вия» реквизит возьми, поставь у себя. Каин придёт, а ты в гробу. Он поглядит-поглядит да и уйдёт восвояси. Несолоно хлебавши.
Чарыков тяжко задумался.
— А то и купи. В любом случае деньги не зря выбросишь, — поддержал Ваня Смирнов. — Всё равно же гроб этот когда-нибудь тебе пригодится.
— Уйдёт восвояси? Несолоно хлебавши? — с сомнением покачал головой Чарыков. — Нет, Ерошка. Каин, пожалуй, из гроба поднимет.
— А ты попробуй, — настаивал Бубенцов. — Монахи зря не скажут. Вот так ты избавишься от алкогольной зависимости. Водки нет больше?
Смирнов заглянул в стакан. Перегнулся, погремел пустыми бутылками под столом, пошарил за диваном. Снова поглядел в пустой стакан... Лицо его стало принимать недоумевающее и немного обиженное выражение.
— Надо бежать.
2
То, что произошло немного погодя, когда Бубенцов возвращался, требует отдельного рассмотрения. Это пустяковое происшествие на первый взгляд кажется совершенно случайным. Но ведь и появление в жизни Бубенцова таких персонажей, как Адольф Шлягер, Настя Жеребцова и Горпина Габун, многим тоже поначалу казалось случайным. С другой стороны, и в продуманную операцию тоже как-то не очень верится. Не могла же уборщица Ольга всё подстроить специально. Это ведь надо было стоять наготове с ведром, подкарауливать Ерофея, когда тот будет возвращаться из магазина с водкой и консервами. Да ещё совершить все свои действия так расчётливо и точно. Нет, это бывает только в кино, да и то после нескольких репетиций. А как она могла знать, что Ерошка пойдёт не через главный вход, а сделает петлю, побежит мимо запасного? Разум и логика говорят, что всё-таки то была случайность. Сердце же и подсознание сомневаются — уж больно неслучайная случилась случайность.
Чем больше размышлял впоследствии над этим ничтожным эпизодом Бубенцов, тем очевиднее чувствовал здесь злой, расчётливый умысел. Слишком органично вписывался эпизод в общую канву событий. Без этого звена сюжет развивался бы совсем в иную сторону. Так что, вероятнее всего, были здесь элементы режиссуры! Но режиссуры самой тонкой, неосязаемой, неочевидной.
Бубенцов, напевая под нос, прошёл по заднему театральному дворику, стал подниматься по ступенькам запасного выхода. Внезапно отворилась створка дверей, послышался знакомый ворчливый возглас:
— И ходят, и ходят...
Ерошка, который стоял уже перед дверью в распахнутой куртке, не успел среагировать и отскочить. Прямо в грудь ему хлынул поток грязной воды. Дверь захлопнулась. Этот тамбур Ольга всегда убирала в самом конце. И затем выплёскивала грязную воду из ведра прямо во двор, в сугроб.
Вода была тёплая. Бубенцов даже и не произнёс ничего. Ждал, пока стечёт с него грязь. Затем поставил сумку с бутылками на ступеньки, ладонью отряхнул куртку, джинсы. В кино, несмотря на то что на экране трюк этот с самого нарождения синематографа повторился уже тысячу раз, зрителям положено смеяться. Вот и теперь издевательский, звонкий, развесёлый смех послышался за его спиной со стороны Земляного вала. Губы Ерошки горестно поджались. Тяжкая обида на тупость человеческую пронзила его. Два тысячелетия прошли со времён варварства, а пошлость и тупость людская на земле неистребима.
Бубенцов снял куртку, встряхнул её, как прачка встряхивает наволочку после стирки. Затем вошёл вовнутрь, поднялся на второй этаж. Куртку нёс на вытянутой руке, шагал по коридору, широко расставляя ноги в мокрых штанах. Появление его на пороге гримёрки в таком потешном виде улыбок не вызвало.
— Дождь? — спросил Смирнов.
— Машина окатила, — соврал почему-то Бубенцов, отлепляя двумя пальцами штанину. Передёрнул плечами, мокрая футболка противно липла к груди.
— Ты вот что... — Смирнов засуетился, вскочил из-за столика. — Дай ему свой халат, Чара.
— Халат Изотова унесла, — сказал Чарыков. — Из реквизита надо выбрать. Да вот хоть шута королевского.
Вот оно!.. Смирнов кинулся к диванчику, на котором лежала куча пёстрого тряпья. Звякнули бубенцы на двурогой шутовской тиаре. Ерошка снял с себя мокрую одежду. Натянул тесноватые клетчатые рейтузы с огромным гульфиком, накинул на плечи кофту с пуговицами в виде разноцветных матерчатых мячиков. Нелепо, но зато сухо! Высоко поднимая ноги, прошёлся по гримёрной, чтобы костюм распределился по телу. Развесил на батарее джинсы, футболку.
Вот каким образом в самую решительную минуту оказался он в костюме шута. Можно ли это рассчитать и подстроить? Вряд ли. Тем более нельзя было предусмотреть всё то, что произошло спустя час, когда спектакль приближался к финалу.
— Выпей, Ерошка. — Ваня Смирнов протянул полстакана. — Сними стресс.
3
Если бы нашёлся терпеливый человек, способный наблюдать за дальнейшим ходом застолья, то ничего необычного, из ряда выходящего он бы не обнаружил. По крайней мере, заранее вывести из разговоров ход будущих событий никакой аналитик, будь он семи пядей во лбу, ни за что бы не смог. Всё шло как обычно. А между тем именно здесь и завязывались главные узлы той драмы, что разразилась впоследствии. Драмы, которая развивалась и продолжалась во всё дальнейшее время, определяя жизнь Бубенцова и всех его близких.
Через полчаса разговор, хотя немного переменился по содержанию, но и теперь не предвещал ничего особенного. Галдели уже все вместе, перебивая друг друга. Спрашивали не к месту, отвечали не в такт. На сердце Бубенцова становилось всё легче, всё веселее. Марат же Чарыков, напротив, хмурился, сдвигал брови, едва удерживая потяжелевшие веки. Движения его постепенно замедлялись, язык цеплялся, слова теряли внятность. Наконец упал головою на кучу тряпья, застыл, окаменел совершенно.
— Я переговорю кое с кем в Министерстве культуры, — обещал Бубенцов, облокачиваясь на бесчувственное тело Чарыкова. — Будет у тебя роль, Ваня. Не всё же массовку играть.
— Спасибо, Бубен! Вот за это спасибо! По гроб жизни! Если устроишь... коньяк с меня! Вот тебе моя рука. Нет, не эта. Вот эта... Я бы Гамлета сыграл.
— Будешь! Толщина не помеха. Живот подожмёшь и сыграешь. Главное, образ!
— Да какая помеха, Ерошка! Только Шлягер говорит, что у меня слуха нет.
— Есть у тебя слух. Внутренний. Чуть-чуть подправить, и пой в своё удовольствие. На радость людям, Ваня. А ну, повторяй за мной:
Заинька, попляши!
Серенький, попляши!
Ерошка встал и, хлопая в ладоши, пошёл вокруг стола. Следом за ним, неловко приседая, поковылял Ваня Смирнов.
Вот как, вот как попляши,
Вот как, вот как попляши!
Присев два или три раза, Ваня с грохотом повалил стул и сам упал на пол. Попытался тут же заснуть, но Бубенцов не унимался, рвал за ворот обмякшее тело:
Заинька, выйди в круг!
Серенький, выйди в круг!..
Глава 13
Краковяк и бравобес
1
Спектакль про семь страстей человеческих приближался к финалу. Действие разворачивалось в декорациях постоялого двора, построенного на развилке дорог. Метафора ясная, испытанная. Человек на земле лишь гость и прохожий. Закат догорал на заднике, как отсвет адского пламени.
Ставил спектакль модный режиссёр из Прибалтики. Зрители тихо ёрзали в креслах, тоскливо оглядывались, ждали благословенного финала. Серая скука и досада владели зрительным залом. Люди незаметно поглядывали на часы. И вдруг зашевелился занавес, послышались звуки борьбы, кто-то стал вываливаться оттуда, из закулисья.
— Пр-р-роклятый чёр-р-рт! Пр-р-равды и справедливости!
Закачалась, пошла волнами каменная стена на заднике сцены. Раздвинув декорации, прямо из адского пламени показалась рогатая фигура. То выступил на освещённую сцену Ерошка Бубенцов с шутовской тиарой на голове. Пошатываясь, позвякивая серебряными колокольцами, раза два споткнувшись, выступил на самую середину. Жмурился, вглядываясь в темень зала.
Луч юпитера ударил сверху.
— Приветствую вас, двуногие!
Весёлое оживление пробежало по рядам. Многие впоследствии объясняли случившееся тем, что москвичей почти не было в зале. Что все приняли происходящее как нечто полагающееся, нормальное, специально так задуманное. Перфоманс такой, что ли... Публика в основном вербовалась из провинциальной интеллигенции, приехавшей за культурными развлечениями. Из людей терпеливых, добрых и невзыскательных.
— Дряни вы!
Стон изумления вырвался из первых рядов. Что за таинственная властная сила исходила в тот миг от Бубенцова? Почему она в одно мгновение овладела залом? Почему так произошло, что уже в первое же мгновение, едва только Бубенцов выступил из-за кулисы, настроение зала переменилось тотчас как бы по волшебству? А ведь он не успел ещё произнести ни одного матерного слова. Вид героя, который стоял посередине сцены, был необычен. Чего стоил один уже этот выпирающий из разноцветных штанов гигантский гульфик! А эти развесистые, увешанные бубенцами рога тиары! Впрочем, Бубенцов, кажется, и сам находился в ещё большем изумлении от необыкновенности происходящего.
Ерошка стоял посреди сцены в ослепительном круге света. Озирался, щурил глаза. Сухим жаром несло от софитов и юпитеров, празднично сияло всё вокруг. Не то чтобы он смутился, утратил решимость... Хмельной порыв, который вынес его на публику, немного отступил. Но всего лишь на секунду, как отступает волна, чтобы накатить и ударить с новой силой.
Зал всколыхнулся, насторожился. Там и сям поднялись и выросли над рядами взволнованные головы. Бубенцов же почувствовал необыкновенную лёгкость и свободу. Обтягивающее трико ничуть не сковывало движений. Даже огромного своего, торчащего, выставленного на всеобщее обозрение гульфика он уже не стеснялся! Наоборот!..
— Правды и справедливости?! — прогремел Бубенцов. — Нет правды на земле! Но нет её и выше!..
Только и всего. Здесь он ненадолго замолчал, не зная, как продолжить. Не оговорился ни единым словом больше. Это-то и удивительно! Неужели одно только выспреннее упоминание о правде и о справедливости произвело столь сокрушительное воздействие? Пусть вещали о ней уста нелепые, крамольные, шутовские. Пусть упоминались эти святые понятия всего лишь в связи с личными обидами Вани Смирнова. Так почему из этого невинного, отчасти даже водевильного положения развилась впоследствии тяжёлая драма? Ничего выдающегося здесь не усматривается! В нелепой выходке нет ничего смешного, оригинального! Не шевелится здесь никакой зародыш, не видно никакого семени, обещающего обильные всходы! Даже и намёка нельзя сыскать в этих словах и в этом глупом положении на то, что грядут вслед за всем этим великие потрясения.
Почему? Нет разумного ответа. И не надо его искать. Дело, вероятно, заключалось вовсе не в Бубенцове. И даже не в пьяном скандале, который он учинил. Дело тут совсем в ином. Отчего просыпается вулкан? Дремал-дремал тысячу лет, а тут взял и проснулся. Ни от чего. Накопились силы и энергии. Пришло время, и гибнет Помпея. Отчего умирает старик? Пришло время. Отчего рождается младенец? Время приспело. Отчего рушится мир? Пришло время. Никаких иных, более внятных объяснений нет. Тут ты совершенно прав, достопочтенный Георг Вильгельм Фридрих Гегель! Недаром портрет твой в золотом овале висит у профессора Покровского в самом видном углу! Едва ли не под иконами. Образно говоря, понадобился всего лишь малый камушек, и тронулась с места дремавшая до сих пор лавина. Пришло время. Ерофей Тимофеевич Бубенцов случайно оказался в роковом месте и всего лишь неловко пошевелился.
Зал безмолвствовал, но в тёмной глубине его слышно стало, как змеились, потрескивали накопившиеся напряжения. То была особая, очень краткая тишина, которая наступает иногда в грозу, перед первым ударом грома. Ерошка, покачиваясь, подступил к самому краю сцены. Заглянул в тёмную бездну оркестровой ямы. Глухо ахнул большой барабан, тревожно протрубил гобой, ужаснулась нервная виолончель, взвизгнула, но тотчас же смолкла. Как будто придушили и её.
— Но правды нет и ниже! — горестно провозгласил Бубенцов, топчась у края гулкой бездны.
Пронзительный, отчаянный, мучительный крик Вани Смирнова, усиленный динамиками, ударил в уши. Даже не верилось, что можно кричать так натурально, так подлинно! И всего лишь оттого, что на репетиции дверью зажимают пальцы.
— Где боль, там подлинность! — вспомнил Бубенцов, заранее сожалея о том, что всуе пропадёт великая истина.
Но нет, не всуе оказалось и не на попрание! Ропотом одобрения отозвалась тёмная пропасть зала. Ерошка поднял голову, распрямил плечи, приободрённый реакцией публики. Великие силы встрепенулись в груди... Ну а дальше всё пошло как по маслу, покатилось как шар по жёлобу. Впоследствии даже и в театральном мире, искажённом, извращённом, растленном, который невозможно ничем пронять, событие это вызвало горячие толки. Причём обсуждались даже и не безобразные детали происшедшего. Тут уже давно привыкли к любой новизне, и трудно кого-то чем-то удивить. Ибо, кажется, нет такой пакости, которая, придя на ум человеку, не была бы реализована на подмостках.
Сорванные одежды и визгливая толкотня голых дам на сцене не обсуждалась. Видали в этих стенах и не то ещё! Горностаевая белоснежная шуба, которую Бубенцов походя снял с царя природы и набросил себе на плечо, никого не удивила. Драка с двумя рабочими сцены, которые выскочили, чтобы скрутить Ерофея, вообще не упоминалась. Даже когда рабочие, шумя, полетели в ад оркестровой ямы, тоже мало кого смутило. Обсуждали совсем-совсем иной феномен.
— Справедливости ищу! — повторял и повторял гороховый шут, громя сцену. Заглядывал в кощеев ларь, отшвыривал отломанную крышку.
— Правды и справедливости! — и валились на пол жестяные идолы, раскатывались закопчённые адские котлы. Выскакивали освобождённые грешники и голые грешницы, убегали прочь, прикрывая срам ладонями. Перья и пух метелью кружили в лучах прожекторов. Всё теперь было по-настоящему. Никакой игры.
— Крови и справедливости! — ревело, отзывалось из тёмной бездны зрительного зала. — Боли и подлинности!
Бубенцов гонялся за визжащими артистками, сдирал с них остатки призрачных одежд. Зал реагировал живо, азартно, весело. Это придавало силы, невероятно бодрило Бубенцова. Он раскидывал страсти по всей сцене. Пинал под тощий зад страсть Сребролюбия. Лапал обеими пятернями Блудную страсть. Срывал покровы с демона Измены. Многие, спасаясь, успели убежать в зрительный зал. Их встречали там с восторгом, тискали, щипали, щупали в полумраке. Держался до последнего Игорь Бермудес, изо всех сил сохраняя невозмутимый вид, надеясь тем самым заговорить и унять хаос.
— О, чёртов бубен! Демон тщеславия! — воздев руки, заломя голову, декламировал Бермудес, хотя слов таких и не полагалось произносить по сюжету. Теснил обширным животом, наступал на Ерошку, пытаясь вытолкнуть за кулисы. — Заклинаю тебя, уймись! Зачем ты ищешь крови и справедливости?
— Правды и справедливости! — возражал вёрткий Бубенцов, выскакивая опять на авансцену. — Правды и справедливости, Игорёк! Не крови! Всего лишь правды и справедливости!
— Крови и справедливости! — выл тонкий голос из зрительного зала.
Бермудес выкатывал из-под наклеенных бровей страшные белые буркалы, скалился, двигал губами. Пытался спасти положение, мимикой повлиять на расходившегося Ерошку. Но нельзя было уже перекричать шум, вернуть действию стройность и порядок. Поздно! Рухнули все построения прибалтийского режиссёра. На сцене творила уже сама стихия, бессмысленная, беспощадная.
Подскочил к Бубенцову Поросюк в образе Мазепы — «демон предательства и измены». Выскочил из ада упитанный, с полосами сажи на животе, с искажённым от ярости лицом, зашипел, вцепился в плечо когтями. Но тотчас получил от Ерошки виолончелью по морде, схватился за щеку и, подвывая, пропал за кулисами. Растерялся на миг Ерошка, недоумённо разглядывал оставшийся в руке гриф. Рассыпалась виолончель, нежный инструмент, склеенный особым клеем из самых тоненьких дощечек. А подвернись под руку Бубенцову в ту минуту, положим, гобой? Гобои делаются из клёна, древесина плотная. Ударить по голове что кием бильярдным...
Добро торжествовало! В какой-то момент стало ясно, что натиском и вдохновенным напором Ерофей Бубенцов окончательно проломил сюжет, разрушил предначертанный распорядок действий.
И вот тут-то внезапно прекратилось сопротивление. Кто-то очень-очень умный догадался, спохватился, подал знак дирижёру. Дирижёр пожал плечами, но возражать не отважился, взмахнул палочкой. Ударили смычки, грянули литавры. Взорвался фейерверк, рассыпалось по всей сцене конфетти. Танцоры заплясали в разноцветных одеждах, маски задвигались, замелькали в толпе пёстрые ленты. Золото, блеск, гром, звон, хмель...
Ах, какой же догадливый! Как вовремя подал сигнал! Кто же он был, тот демиург, кто музыкой обуздал хаос, придал ритм бедламу? Кто, в конце концов, весь этот случайный безобразный скандал так ловко встроил в сюжет скучнейшей пьесы, сковал расхристанное безумие железной цепью гармонии? Уж не Скокс ли Вольфганг Амадей? Его как будто манера, нет?.. Увы, за шумом, гамом и суетой этого никто не мог разглядеть. И уж тем более не нашлось тогда человека, который мог бы по достоинству оценить блестящую импровизацию. Зал был полон, топотал, всё плыло, оплывало и полыхало, но вот плавно опало на пол... Занавес!
Всё, что происходило дальше, Бубенцов помнил лишь яркими урывками. Его тормошили, жали руки, поздравляли неизвестно с чем. Всё мелькало перед глазами, скалило зубы, хлопало по плечу. А за колыхающимся занавесом неистово ревел, выл и бушевал зрительный зал. Как будто разбудили дремавшую, застоявшуюся энергию масс.
Снова взметнулся вверх занавес. Снова грянула весёлая, торжествующая музыка. Ликовали трубы и флейты, гремели золотые литавры. И не было только среди этих ликующих голосов голоса нежной виолончели.
Блики света метались по всей сцене. Жёлтые, красные, лазоревые.
2
Бубенцов стоял за кулисами, озирался. Откуда же она появилась? Из какого кощеева сундука? Кто и когда вложил её в бесчувственную и безвольную руку? Бубенцов не мог ничего понять. Держал в руке брезентовую полосатую суму. Выпотрошенную и пустую. И только на дне её болтались скомканные генеральские штаны с лампасами. Выгоревшие, гадкие, старые. Поднял глаза, увидел за кулисами на противоположном конце сцены ухмыляющуюся, довольную рожу Адольфа Шлягера.
И нем был шут, и недвижен. Вид бледный был у Ерофея Бубенцова в ту минуту. Проступила бледнота смертная сквозь хмельные румяна. Удручало Ерошку Бубенцова не то, что жизнь его сошла с привычных рельс. Сколько раз уже такое бывало! Сколько раз пьяными скандалами своими разбивал он жизнь свою вдребезги, а затем собирал с великим терпением, склеивал по кусочкам!
А удручало Бубенцова то, что он видел, знал, чувствовал всею своей душою, всем сердцем безошибочно и верно, что привязалась к нему, приклеилась, присосалась — цепкая гадина. И никак от неё не оторвёшься, не открестишься, не убежишь.
Но даже и не это более всего напугало Бубенцова! Не оттого так тосковала прозорливая душа его, вмиг протрезвевшая, когда вытащил он из сумы генеральские лампасы. Он понимал, что устроитель этой сцены немало повеселился, готовя реквизит. Как радовался своей выдумке, мелко посмеивался, вкладывая в неё все запасы скудного своего остроумия. И вот это-то и было самое страшное! Это-то и было самое страшное! То, что попал он в лапы сил таинственных, всемогущих, но, увы, нетворческих, бесталанных, ограниченных. Убогих, бездарных, художественно неполноценных.
Гремели аплодисменты, звенели восторженные детские крики, взмывали женские визги, рокотали тенора и басы. Снова объявили общий выход. Бубенцова толкали, а он упирался, но его ещё сильнее толкали, а он ещё сильнее упирался, но не смог противостоять выталкивающей силе. На тело, погружённое в славу, действует выталкивающая сила, равная... Чему? Чему равная? Нет ничего на свете, что было бы равное этой силе!
Пинком вытолкали его на свет, на люди, на сцену, на публику. Вынесла, подняла могучая волна. Успех был неожиданным, оглушительным, невероятным. И необъяснимым. Такого давно никто уже не переживал, не помнил. Ни молодые актёры, ни пожилая артистка Могилевская, страдающая одышкой, сменившая дюжину театров, ни даже сам Игорь Бермудес.
Девять или десять раз поднимали занавес. После шестого «биса» кто-то принялся запоздало считать вызовы, а потом сбился со счёта. Артисты, взявшись за руки, выходили на авансцену, ослепшие, ослабевшие в коленях, пьяные, блаженные от успеха. В самой середине этой цепочки кланялся зрительному залу триумфатор — Бубенцов Ерофей Тимофеевич. Отстранив прочие страсти, стоял в центре, веселил сердца самым ярким изо всех, самым весёлым костюмом, похожим на оперение редкостного попугая. Гигантских размеров гульфик придавал ему ещё больше веса и достоинства.
— Браво, бис! Браво, бис! — высовываясь из ложи, выкрикивал какой-то иностранец из Лемберга.
Громко переводила приставленная к иностранцу синхронная переводчица, красивая, распутная, как ведьма, перетолмачивала на русский, вторила, кричала пронзительно и восторженно:
— Бравобес! Бравобес!
И снова под трагический вздох и вопль зала уходил Бубенцов за кулисы. Стелилась за ним, едва поспевая, накидка горностаевая, взмывая иногда шёлковой подкладкой, где по синему фону раскиданы были золотые звёзды. А сумка-то! Куда она девалась? Кто успел вытащить её из бесчувственных пальцев?
За кулисами встречал Шлягер, весь сияющий, замасленный, шальной, с пьяными, бессмысленными глазами. Оскаленные зубы, крупные капли пота на висках. Вложил в ладонь Бубенцова плотный, влажный конверт, шепнул:
— Гонорар ваш.
Адольф, весь расслабленный, дрожащей от счастья рукою поворачивал Бубенцова вокруг оси, легонько подталкивал, снова направлял туда, на сцену. Сваливалась тиара с бубенцами под ноги, но всякий раз Шлягер подхватывал её, нахлобучивал поглубже на пылающие уши Бубенцова.
Поток успеха и славы вырывался из зала, бушевал вокруг, ревел, буквально сносил Ерошку с ног. «Браво, бес!» И никогда, слышите ли вы, никогда в театр не приносили столько цветов! Это тоже было необъяснимо, непонятно. Впрочем, не было времени задумываться! К ногам Бубенцова сыпались розы, астры, гвоздики, георгины. А то, что отскакивало от него и разлеталось по сторонам, торопливо подбирали все прочие артисты, которых Ерошка уже едва различал, ослепший от неожиданной славы.
Выходя к авансцене, Бубенцов уже не так открыто выставлял своё лицо, а предусмотрительно приподнимал локоть, немного загораживаясь, как будто ему мешал свет. Он уже понял, что именно в его пылающую рожу целились метатели букетов. Среди этих озорников два-три лица в толпе показались знакомыми. Как будто даже различил он среди этих лиц совсем свежие. Уж не ночные ли собеседницы Настя и Горпина привиделись ему? Но тяжело было разобрать и вполне удостовериться. Всё мелькало, вспыхивало, гасло, гудело, махало руками, топало, визжало от восторга. Всё сливалось в пёструю карусель, в праздничный калейдоскоп, в развесёлый пляс и хаос, в краковяк и бравобес.
Вот вновь высунулась из хаоса чья-то рука, размахнулась и метнула на сцену тяжёлый букет роз. Да ловко как метнула! Опаснее, чем заточенные карандаши, оказались стебли цветов. Ударил букет острым комлем в лоб, сшибая жестяную корону. Искры брызнули из глаз Бубенцова, прибавляя празднику огней и света. Он бросился подбирать слетевшую свою тиару, а та покатилась к самому краю сцены. И тут другая рука высунулась из развесёлого хаоса. Подхватила тиару, швырнула в Бубенцова. Да так умело, что едва-едва успел он подставить локоть, защитить лицо своё ватным рукавом кафтана.
Глава 14
Общий анализ крови
1
Тот, кто уходил последним, оставил дверь приоткрытой. Узкая полоска света из коридора делила комнату дежурных на две части. Бубенцов ворочался на жёстком диване, вздрагивал, просыпался. Видел этот свет, но боялся открыть глаза. Сквозь сомкнутые веки проступало что-то бесформенное. Торчало, выпирало всеми углами, громоздилось, пугало. Даже и во сне Бубенцов ясно осознавал, что жизнь его искажена. Ибо только в искажённой, кривой жизни всё то, что произошло накануне, можно было счесть нормальным. В триумфальном успехе, который обрушился на него накануне вечером, было нечто неправильное, устрашающее, несуразное.
Вдобавок ещё одну странность обнаружил и осознал он, но пока не умел объяснить, ибо половина мозга дремала. Мёртвая тишина обступала его со всех сторон. Но ведь так не бывает! Ночной мир театра всегда полон таинственного движения. Никогда, ни на одну секунду не прекращается здесь шевеление звуков, шорохов, потрескиваний, вздохов, тихих шагов, невнятных бормотаний, покашливаний. Теперь же ни малейшего шелестения не доносилось ниоткуда. Не шелохнётся штора, не скрипнет половица. Не выдержав тишины, Бубенцов вскочил. Сразу же очнулась, включилась в работу дремавшая часть мозга.
Утренний сумрак наполнял дежурное помещение. Шутовской наряд, кое-как сброшенный им накануне в кресло, лежал в самой живой, издевательской позе. Кренилась тиара, поглядывая исподлобья. Шут сидел в кресле, зацепив ногу за ногу, свесив почти до полу рукав. Другим рукавом упирался в подбородок, злобно посверкивал изумрудным кошачьим глазом.
Бубенцов скомкал шута, зашвырнул в шкаф. Звякнула бубенцами тиара и смолкла. Следовало поскорее покинуть проклятое место. И уже оттуда, из безопасного далека, обернуться, оглядеться. Рассмотреть мысленно всё, что произошло, оценить трезво и здраво.
Он твёрдо знал, что в успехе, в триумфе его...
— Да-да-да! Есть что-то неправильное, устрашающее, несуразное!
Он произнёс вслух это разумное заклинание. Специально отчётливо и громко, чтобы развеять вражьи чары. Но ещё громче зазвучал хмельной голос внутри, ещё настойчивее застучалась в сердце совсем иная, дерзкая и весёлая мысль: «А почему бы нет? Нельзя же настолько уж не доверять себе. Талант может дремать, но он пробьётся, рано или поздно...»
Дрожащей рукой налил чаю, бросил в стакан два куска сахара. Размешивал с отрешённой задумчивостью, со странной улыбкой на устах. Забылся, машинально добавил в стакан ещё два куска сахару. Отхлёбывал и даже не чувствовал, как пересластил. Ибо ядовитая сладость успеха уже растворилась в его крови.
Кое-как прибравшись, Ерошка поспешил выскользнуть из театра, не дожидаясь сменщика. Чуя внутри себя разлад, раздвоение чувств и мыслей, Ерошка знал, куда ему следует немедленно стремиться. Знал, где и в чём его спасение. Он спешил к жене. Обычно от женщины в семье исходят тревоги, истерики, смятения, крики, всякое беспокойство. В жизнь Ерофея Бубенцова Вера вносила тишину.
2
Из кухни доносились милые домашние звуки, позвякивания. Губы Бубенцова, едва он вступил в прихожую, тронула улыбка. Он знал, что сейчас станет ясно, легко. Вера как-то очень естественно уравновешивала его расхристанную, неуверенную в себе натуру. Вера руководствовалась двумя-тремя простыми принципами, которые взялись неведомо откуда, но были приняты ею без всяких обоснований и доказательств. Главное же убеждение состояло вот в чём: «Если оттого, что ты есть на свете, людям жить легче, значит, жизнь твоя правильная».
Ерошка скинул куртку, направился было в кухню, но по пути не удержался, завернул налево, в гостиную. Там в эти дни формировался внешний образ Бубенцова. Та оболочка, в которой Ерошка должен был отправиться на торжества в Колонный зал Дома Союзов.
Двойник был на месте, лежал, раскинувши ноги, на софе. Ерошка, едва взглянув на разложенную одежду, вдруг почувствовал, что каким-то образом двойник этот связан со вчерашним его бенефисом на сцене. Но ещё более связан он с будущими событиями, о которых Ерошка пока, как и всякий человек, ничего не знал. Знал только, что события эти непременно наступят, и будут они грозные.
Серый пиджак, белая рубаха, галстук в синюю и серую полоску, чёрные брюки. Начищенные ботинки с вымытыми жёлтыми подошвами уложены были на светлом покрывале чуть пониже штанин, носками врозь. Будто бы безголовый, плоский человек упал навзничь. Зарезанный, с высосанной кровью. В позапрошлую ночь Вера даже вскрикнула, когда, попив воды, возвращалась из кухни в спальню. Она ненароком заглянула в сумрачную гостиную, и ей привиделось, что человек на софе пошевелил рукой. Хотя и был он, повторяем, безголовый.
Три дня назад появился этот человек в квартире Бубенцовых. Он не имел объёма, был плоский, как будто явился сюда из некоего двухмерного мира. Он лежал на софе, меняя то пиджак, то галстук, то носки, то уголочек платка в нагрудном кармане пиджака. К нынешнему утру общий образ был сформирован окончательно. Бубенцов с удовольствием разглядывал двойника. Этот франт, небрежно развалившийся на покрывале, ему был чрезвычайно симпатичен. Высокий, стройный, уверенно расставивший ноги в остроносых туфлях. Умеющий многое взять от жизни. Остроумный, лёгкий на подъём, раскованный, особенно в общении с красивыми женщинами. Светский лев, опытный щёголь, много повидавший в жизни, знающий хорошие манеры.
Вдоволь налюбовавшись своим будущим образом, Ерошка вложил конверт с деньгами в пиджак. В нагрудный карман. Так, чтобы уголок торчал, подобно крахмальному платку.
Хлопнула дверь, с кухни потянуло палёным. Упала крышка на кафельный пол. Вера вышла, вытирая полотенцем руки.
— Гляди, что пиджак тебе подарил, — сказал Ерошка, предвкушая реакцию жены.
Вера, однако, ничуть не удивилась, вытащив конверт с деньгами. Она вообще никогда не удивлялась. Пересчитала.
— Много! У кого занял?
— Ни у кого. Это наши. Без всяких процентов. Я сыграл роль шута. Скажу кратко: успех и овации!..
— Шута? А Чарыков что?
— А Чарыков в запое!
Слова эти произнёс с большим удовлетворением, радуясь тому, что сам-то стоит перед Верой трезвый, рассудительный, успешный. Что есть на свете отрицательный человек по фамилии Марат Чарыков, который в это время похмеляется, пьёт горькую с Каином, грешит тяжко, болезненно. Что Вера имеет прекрасную возможность сравнить, сопоставить и сделать правильный вывод.
Через минуту, сидя на кухне, он рассказывал Вере историю своего неожиданного триумфа. Обогащал произошедшее новыми деталями, которые, как ему казалось, очень украшали рассказ, придавали словам большую достоверность. Ерошка чувствовал себя не только актёром, но и режиссёром. Но, к его удивлению, история эта, несмотря на обилие ярких метафор и преувеличений, по мере изложения выглядела всё бледнее, запутаннее и неинтереснее, чем была на самом деле. Вера слушала внимательно, кивала головою, но всё грустнее, задумчивее глядели её глаза.
— Царя бы ещё сыграть, — закончил Ерошка. — Это серьёзная роль. Я совсем бы по-другому сыграл.
— Какой из тебя царь? — возразила Вера, напуганная новыми интонациями в голосе непутёвого мужа. — Успех этот твой неспроста. Так не бывает.
— Почему не бывает?
— Почему? Потому... — Вера помолчала. — Не бывает. И как-то это всё, чего не бывает, связано с Колонным залом! Я чувствую. Давай-ка ещё раз примерим.
Вера помогла Ерофею надеть приготовленные вещи. Ерошка влез на табуретку, жена оглядела его со всех сторон.
— Ну вот. Теперь более-менее, — говорила Вера, отступая на два шага и суживая глаза. — Слезай. А может, не ходить?
— Я тебе вина украду.
— Не кради! Вдруг и в самом деле вас снимают на камеры? Смотри не напейся там. Ты скандальный. Помни про это.
— Не программируй. Главное, предварительный мирный настрой.
Сказать по правде, он здорово волновался. Ожидание чего-то необыкновенного всё более овладевало им, не давало сосредоточиться. Мысли скакали, путались.
3
Как ни уговаривал себя Бубенцов, как ни успокаивал стучащее в горле сердце, по дороге с ним произошли события, которые здорово его расстроили. События, если оценивать их теперь, по прошествии времени, были не драматического, а скорее забавного свойства. Впрочем, чужое несчастье часто вызывает у посторонних наблюдателей улыбку. Толстяк, забавно падающий на гололёде, или пьяный на велосипеде... Ерошку же, как человека эмоционально неустойчивого, мелкое и пакостное происшествие надолго вывело из себя.
Поначалу всё складывалось как нельзя лучше. Едва он подошёл к остановке, как перед ним остановилась маршрутка. И хоть половина мест пустовала, Бубенцов не стал садиться, чтобы не мять брюки. Стоя доехал до Сокольников. Теперь ему оставалось только перейти улицу и спуститься в метро.
Бубенцов стоял уже на переходе, когда перед его взором возникла дивной красоты женщина. Она появилась в его жизни неожиданно и ниоткуда, как будто выскочила из-под земли. Распущенные волосы тёмного огненно-медного цвета вскидывались под порывами ветра, как языки пламени. Снежинки светились кое-где в пышных вьющихся локонах. А взглянув сбоку, увидел он, что и ресницы у неё ярко-рыжие. И что на ресницах лежат редкие пушистые снежинки. Ни малейшего подозрения не шевельнулось в душе Бубенцова.
Зажёгся зелёный свет, люди двинулись через переход. Навстречу катился такой же плотный поток. Ерошка пошёл за женщиной, чуть сбоку и сзади. Шёл, ни о чём пока не рассуждая, бездумно подчиняясь дремучему зову. Могучий инстинкт продолжения рода влёк его, руководил его движениями... И тут случилось вот что. Обогнал его слева некто мелкий, щуплый, востроносый. Потеснил нагло плечом. Бубенцов покосился. Такого щелчком перешибёшь.
— На баб зыришь, развратный козёл? — хриплым альтом прокричал ему в ухо щуплый. — Доколе, блябу? Отвечай, в натуре, петух!..
Ощерился, цвыркнул слюной сквозь щель в зубах. Слюна негодяя попала на новые брюки, на колено. В другой ситуации Бубенцова должна была сразу насторожить кепка негодяя. Точнее, надорванный козырёк, который свидетельствовал об агрессивном нраве врага. Но Бубенцов и сам умел вспыхивать мгновенно. Двинул кулаком, но попал в пустоту. Враг ловко увернулся, кинулся прочь, лавируя меж машинами. Бубенцов бросился вслед. И вот тут-то произошло нечто совсем уж неожиданное. Женщина зацепила его сзади за ногу, толкнула кулаком меж лопаток. Даже в футболе такое карается карточкой. Умышленный срыв атаки... Бубенцов споткнулся, взмахнул руками, ударился грудью о деревянное ограждение. А когда поднял глаза... Как и полагалось по сценарию, выступил вперёд верзила, всё это время прятавшийся за деревянным ограждением. Как будто вырос из-под земли или, предположим, вылез из канализационного люка. Оба бандита, и мелкий с оторванным козырьком, и верзила в бушлате, шагнули навстречу Ерофею. Но страха-то не было в сердце Бубенцова, не было! Наоборот, всем существом его овладела весёлая отвага. Придавала стройность и отчётливость мыслям. Он вспомнил! Это было — реалити-шоу! Стало быть, он находился под защитой скрытых телевизионных камер. Не дадут пропасть люди из телевизионной службы безопасности.
Подскочил слева гадёныш в кепке, врезал кулаком в нос. Успел разглядеть Ерошка на кулаке синюю наколку «Рома». Верзила с другого боку ударил под ребро, в печень. Перехватило дыхание. Напрасно пытался поднять Бубенцов к лицу страшно потяжелевшие, обессилевшие ладони. Видел только, что они растопырились, как ласты. Пьяно стало в голове Бубенцова. Замедлило свой бег время, погустело. Неожиданно увидел он на грязном асфальте свою шапку, которая неведомо как оказалась лежащею перед самым его носом. Дальним углом сознания отметил, что стоит, оказывается, уже на четвереньках. Получил ещё один удар чугунным ботинком, схватился пятернёю за бок. Стал заваливаться, скользя щекой по сырому, шершавому асфальту.
Противники двинулись прочь. Пешеходы замедляли шаг, вертели головами, обтекали Бубенцова, приостанавливались, но не подходили близко. Высовывались из-за чужих спин любопытные лица. Бубенцов стал подниматься с колен, обтряхнул налипший снег. В голове звенело. Но возникло чудное видение! Прекрасная дама стояла перед ним, протягивала белый батистовый платок. Распущенные волосы огненно-медного цвета...
— Кровь! — сухо сказала красавица.
Бубенцов принял платок, поклонился с достоинством, приложил руку к груди. Промокнул разбитый нос. Следовало найти подходящие слова для тонкого комплимента. Но красавица вырвала из рук окровавленный платок. Раздражённо скомкала, упаковала в целлофановый пакетик, запихала в сумочку. Ерошка двинулся за нею, но женщина, мелькнув в толпе два-три раза, скрылась за серыми спинами, как будто провалилась сквозь землю. Бубенцов тянул шею, но нигде уже не было яркой дивы.
«Да уж не вправду ли под землю?» — встревожился Ерошка и направился к деревянному ограждению. Зачерпнул с досок горсть свежего снега, приложил к носу. Перегнулся через доски, пытаясь заглянуть в открытый канализационный люк. Но только звякнуло во тьме колодца железо и два голоса заматерились на дне. Луч фонарика ударил ему в глаза.
— Чё надо, придурок? — крикнул из темноты блатной альт.
— В дурдом захотел? — сказал бас.
Женщины нигде не было, простыл и след. Но теперь, оглядевшись вокруг, Бубенцов легко нашёл то, чему надлежало быть. Камеры! Камеры наблюдения висели везде, на всех столбах.
«Сцена драки снята с разных ракурсов. Так что же это было? — размышлял Бубенцов, подходя к метро. — К чему монтируется этот эпизод?»
Но никакого ответа у него пока не находилось. Цельной картины не складывалось. Для того чтобы разбираться в деталях и предугадывать дальнейшие события, нужно было знать хотя бы самый общий план подлого сценария.
У самого входа в метро отлепил снежок от носа, отшвырнул прочь. Жаль, что входил уже в стеклянную дверь и не оглянулся. Иначе заметил бы, как со всех сторон метнулись к окровавленному снежку тёмные стремительные тени.
Глава 15
Музыка сфер
1
У парадного входа в Колонный зал образовалась толчея. Хлопьями валил сырой снег. Самое милое дело — лепить снежную бабу! А что, брат, если и в самом деле, забыв все условности... Но приглашённые стремились поскорее пробиться в празднично освещённый вестибюль. Бубенцов внедрился в толпу и мелкими шажками в страшной тесноте стал продвигаться к заветному входу. На лице старался сохранять приличное выражение, поскольку приметил, что и здесь как будто глядели сверху камеры наблюдения.
То и дело подъезжали посольские машины с флажками на радиаторах. И тогда охранники оттесняли толпу, пропуская вперёд иностранных гостей.
Понемногу толчея рассосалась. Ерошка поднялся наконец по заветным ступеням. И между прочим, странный феномен обнаружил он, едва оказался в ярко освещённом пространстве. Странность заключалась в том, что тёмные, губастые, звериные морды, которые только что теснили его у входа, отдавливали ноги, рычали и больно упирались в бока, все до единого превратились в прекрасные, одухотворённые лица. Некогда, впрочем, было задумываться и делать выводы. Оказавшись внутри и предъявляя охраннику Пригласительный билет, Бубенцов разглядел в глубине холла Бермудеса и Поросюка. Оба независимо стояли у стены, несколько в стороне от всех. Породистый Бермудес со своей густой гривой и артистической эспаньолкой возвышался над малорослым Поросюком. На сердце потеплело. Всё-таки, несмотря на то что он всячески бодрил себя, было тревожно.
Камеры, как выяснилось, были и внутри здания. Три или четыре успел насчитать Бубенцов. Они стояли на высоких треногах, рядом суетились операторы, путаясь в кабелях и проводах.
2
Наверху, где шла скучная и церемонная торжественная часть, делать было совершенно нечего. Некоторое время приятели прохаживались по холлу, стараясь от банкетного зала далеко не отходить. Сквозь полупрозрачные двери было видно, как внутри хлопочут официанты, накрывая столы. Сделав несколько кругов, друзья направились в буфет. Ну а то, что случилось немного погодя, требует некоторого предварительного пояснения.
Все люди без исключения живут жизнью двойной. Реальной и воображаемой. Мечтательность вообще свойственна человеку. Но особенно она развивается у тех, кто с самого детства был не очень-то избалован лаской, вниманием, заботой. Сказать, что жизнь не баловала Ерошку Бубенцова, значит заведомо приукрасить суровую суть дела. Подумаешь, не баловала. Многие любящие матери не балуют своих детей, так что же? Правильно и разумно поступают. В этом усматривается всего лишь похвальная житейская мудрость, унаследованная от старших поколений. «Не баловать» вовсе не означает «не любить».
У Бубенцова же счёты с жизнью сложились совсем иные. Жизнь его — не щадила. Вот то горькое выражение, что наиболее точно и кратко выражает истинные взаимоотношения Бубенцова с миром. И повелось это уже с самых ранних лет. С тех пор, когда его детская память научилась фиксировать впечатления, отбирать наиболее ценные и складывать их в свою хрупкую копилку. Возможно, неприятности жизни начались гораздо раньше — сразу же после его рождения. Судить о них нельзя, ибо память их не сохранила. Но и без младенческих воспоминаний впечатлений злых и обидных накопилось в его памяти предостаточно.
Вот он навернулся с чужого велосипеда и сломал руку. Вот физрук отвешивает ему звенящую оплеуху, хотя козла гимнастического порезал вовсе не он, а второгодник Малютин. Вот обломилась сухая ветвь вербы, и он, раскорябав на лету голый бок, рушится в заросли жгучей крапивы. Вот колхозный бык, выкатив бешеный, налитый кровью глаз, прижал его рогатым лбом к стене сарая. Вот второгодник Скуратов, у которого оба старших брата уже сидят в тюрьме, отчего-то невзлюбил Ерошку и не даёт проходу. Кстати, именно на Скуратове испытал он правило первого удара. Удара, после которого исчезает страх. Вот две оскаленные собаки свалили его в пыльную траву и некого позвать на помощь. Вот он напорол босую ногу на ржавый гвоздь. Заражение крови, больница, прощай половина лета.
Это первое, что сразу приходит на ум. Но важнее совсем другое. Все эти частности тоже, конечно, важны, но гораздо досаднее было то, что по отношению к Ерофею Бубенцову соблюдался общий принцип неотвратимости наказания. Всегда и неукоснительно. Наказание следовало незамедлительно. Не откладывалось в долгий ящик. Всякий грех маленького Ерошки мгновенно наказывался. Бывало даже и так, что сперва шло наказание, удар судьбы. А уж потом, спустя некоторое время, Бубенцов совершал соответствующее преступление. Задним уже числом. Более того, Ерофею собственной шкурой приходилось порою расплачиваться не только за собственные преступления, но и за грехи ближних своих. Бывало так, что иной нахулиганит — окно разобьёт, порвёт рубаху, напакостит учительнице. И тому всё благополучно сходит с рук. Но именно Ерошку Бубенцова драла за ухо учительница по химии. Как будто это он, а не хитрый и увёртливый Подлепенец налил серной кислоты на её стул.
Отчим, крякая от скупости, оплачивал счёт за школьный портрет Белинского, которому выколол единственный глаз вовсе не Ерошка, а Гриша Кукушкин. Бубенцов готов побожиться самой страшной клятвой, какая только существует на белом свете и произносить которую можно только лишь перед расстрелом, стоя уже на краю могилы: «Не я! Честное пионерское, под салютом Ленина!» — кричит он отчаянно, вскидывая ладонь к виску. Но нет, даже и этой клятве не верит завуч.
Расплачивался не только за свои проделки, но и за грехи товарищей — в этом была безобразная несправедливость. И Бубенцов стал поступать так, чтобы было справедливо. Если уж всё равно ждёт наказание, то он должен наказание заслужить! И уже сам бил мячом стёкла. Сам подкладывал кнопки на стул Верки Репьёвой. Сам готовил бомбу, смешивая красный фосфор и бертолетову соль. Раз уж всё равно наказывают, так вот же вам! Теперь наказания были справедливы.
Верка Репьёва, его любовь, задумчиво садилась на кнопки... и тут же, с кошачьей грацией и шипением подскочив со стула, отвешивала ему яростную оплеуху. Ах, Верка-краса, длинная коса!..
Тотчас после взрыва фосфорной бомбы оглушённого грохотом Бубенцова ловили в туалете, где он пытался спрятаться от мира, пересидеть грозу и дым. Завуч в сопровождении пионервожатой водил его по коридорам и этажам школы, по всем классам, начиная от самых младших и вплоть до десятого. Глаза Ерошки слезились. Он мигал красными, опалёнными веками, хохлился, как филин из зооуголка. Понурая фигурка Бубенцова была прекрасным материалом для наглядной агитации, и завуч удачно использовал его для назидания и устрашения. Морда Бубенцова, обожжённая красным фосфором, присыпанная бертолетовой солью, вызывала уважительную, испуганную тишину в младших классах. В среде же старшеклассников его встречал весёлый, очень обидный хохот.
Сколько себя помнил Бубенцов, он жил, готовясь к неизбежному наказанию. Это постоянное ожидание беды отчасти закалило его характер. Тревожное детство незаметно переросло в такую же тревожную юность. При внешней бойкости, неустрашимости, даже вызывающей наглости — Бубенцов был в глубине души застенчив и робок. Он только играл роль заводилы и скандалиста. Жил внешней жизнью того, кем он не был, но хотел быть.
3
Наверху отзвучали аплодисменты, торжественная часть заканчивалась. Послышался гомон и нарастающий топот тысяч ног. Как будто большое стадо шло к водопою.
Друзья, подогретые выпивкой в буфете, первыми устремились в пиршественный зал. Зал был ещё пустой, холодный, гулкий. Однако, войдя вовнутрь, они, несмотря на выпитое в буфете, вынуждены были застыть в потрясении. Две-три минуты стояли, вертя головами во все стороны. Зал устроен был удивительно, так, чтобы всякий человек совершенно терялся и умалялся здесь! Слепнул глаз от блеска хрустальных люстр, сверкания фужеров, сияния серебряных приборов. Но главный сюрприз заключался в гигантских зеркалах, размещённых на супротивных стенах. Две сияющие бесконечности в бронзовых рамах гляделись друг в друга. Взаимно отразившись, разбегались в противоположные стороны, множились, дробились и уменьшались, согласно законам перспективы. Между этими бездонными бесконечностями, в самом центре зала топтались теперь, барахтались, жались друг к другу три жалкие, беззащитные фигурки.
Но вот в дверях показались почётные иностранные гости. Дряхлый, нарумяненный старик в белых буклях важно вёл под руку даму с обнажёнными плечами, одетую в дорогой заграничный панбархат. Рядом вышагивал длинный, худой щёголь в синем камзоле. Высокомерное лицо его выражало презрение, он кривился щекою, удерживая в глазу монокль. Следом шёл плотный человек с обезьяньим ртом, с выдающимися, мрачными надбровьями, озирался зло, затравленно. Тяжко ступали туфли с квадратными носами и серебряными пряжками. Мелкими шажочками семенил лысый человек с мёртвым лицом. Мелькали чёрные фраки, крахмальные манишки, брабантские манжеты и кружева. Всего почётных посольских гостей насчитал Бубенцов чуть больше дюжины. Ах, если бы он мог оторвать свой взгляд от этих фраков, кружев и манжет, если бы захотел он хорошенько оглядеться по сторонам! Тотчас убедился бы, что благодаря фокусу с зеркальными бесконечностями, их здесь на самом-то деле — целый легион!
Иностранцы, как показалось Бубенцову, с особенным вниманием разглядывали именно его в монокли и лорнеты. Впрочем, в людных местах всякий чувствует себя в центре всеобщего внимания. Распорядитель, как нарочно, подвёл посольских к столу, по соседству с которым расположились друзья. Конечно, так быть не могло, чтобы весь иностранный легион глядел на Ерошку, приветствовал его, кланялся ему. Возможно, они видели кого-то за его спиной. На всякий случай, отвечая на эти знаки внимания, Ерошка вынужден был неопределённо наклонять голову вбок.
Прошёл на пружинистых ногах, цокая подковками, небольшого роста, черноволосый человек с залысинами, похожий на индейца. Скользнул быстрым, но внимательным взглядом. Моргнули красные, лишённые ресниц веки.
Но вот появился наконец в дверях и сам Ордынцев, оживлённый, пылающий румянцем, в окружении свиты. Дважды уронил пышный букет, и тотчас, сталкиваясь, отпихивая друг друга, кидались поднять этот букет услужливые прихлебалы. Кавалькада чиновников, теснясь, забегая друг перед дружкой, проследовала к столу посольских. Ордынцев метнул взгляд на Бубенцова, омрачился.
В зале между тем на некоторое время воцарился хаос. По всему пространству меж столами двигались люди с тарелками в руках. В некоторых местах, особенно вокруг столиков с рыбой и чёрной икрою, образовывались сгущения и заторы. Слышались сдержанный шип, злые извинения. Сердитый маленький старичок в белом костюме с медалями, оскалясь, выставляя локоть, выбирался из толчеи. Охнул вдруг, зашипел, но пока оглядывался, чтобы определить, кто же его лягнул в толпе, с тарелки смахнули почти всю осетрину.
Те, кто был знаком меж собою, сбивались подобно атомам, соединялись, образовывали молекулы. К молекулам подтягивались уже знакомые знакомых, пожимали руки, знакомились меж собою, образуя новые органические соединения, с новыми свойствами.
Из-за сгрудившихся спин вытягивалась вдруг чужая рука, выхватывала куски полакомее из-под носа у зазевавшихся, тащила их в свою тарелку. Опытный банкетный хмырь с довольной ухмылкой на бритом лице пронёс мимо приятелей блюдо с омарами. В другой руке нёс он четыре бутылки красного вина, зажав горлышки меж пальцами. На нём были чёрный костюм и оранжевая рубашка, и в этой расцветке напоминал он хищного шершня.
Постепенно всё успокоилось, движение прекратилось. Несколько телевизионных камер снимали происходящее. Друзья степенно пили, с достоинством закусывали. Играли свои роли свободно и естественно. Реалити-шоу продолжалось.
Хмель между тем совершал своё благословенное дело, наступила желанная раскованность. Бубенцова наконец-то перестали смущать назойливые лорнеты и монокли. Он понимал, что выпил уже довольно много, но радовался тому, что ведёт себя разумно, полностью контролирует ситуацию.
Средних лет дамочка притулилась к нему тёплым боком, потеснила. Небольшого роста, плотного сложения. На щеках тонкие багровые прожилки. Ерошка ещё накануне её приметил, она начинала пить ещё в буфете.
— Подбавь мне, красавчик. Водочки. И себе. Жеранём?
Ерошка налил даме рюмку, себе половину фужера. Чокнулись, выпили. Дамочка поискала свободное место на столике. Найдя, прищурила глаз, нацелилась, воткнулась локтем. Звякнула и опрокинулась тарелка с салатом. Несколько человек, вздрогнув, обернулись. Высунулось из-за плеча Благового озабоченное лицо Ордынцева.
«Напрасно беспокоишься, — со злобой подумал Бубенцов. — Всё под контролем».
— Главное, без паники, — поддержала дамочка. — Сохраняем полное спокойствие. Давай-ка ещё, молодчик! Дубль два!
Зал гудел ровно, точно самолёт, набравший необходимую высоту. Бубенцов то и дело подливал себе и соседке, соблюдал полное спокойствие. Его совсем не тревожили озабоченные взгляды Бермудеса. Чувствовал он себя превосходно. Хмель расставлял вещи по своим истинным местам, менял их взаимное расположение. Хмель чудесным образом срывал пелену с глаз Бубенцова, открывал перед ним подлинную картину мира. Показывал, как оно всё есть на самом деле! В каком же плену заблуждений находится всякий трезвый человек! Бубенцов понял вдруг, насколько глубоко и сам он заблуждался ещё какой-нибудь час назад!
«Шлягер-то ведь ни при чём! — думал Ерошка, чувствуя, как накатывается на него необыкновенное умиление. — Ей-богу, ни при чём! Адольф человек на самом-то деле хороший, славный человек. Сложный, конечно. С внешностью не повезло, ну так тем более! При такой мерзкой внешности мудрено сохранить хоть какое-то благородство! Надо сейчас же извиниться перед ним...»
Он принялся оглядывать зал, выискивая Шлягера.
— Нет правды на земле! — напомнила дама. — Как прекрасно вы сыграли вчера!
— Но нет её и выше! — с удовольствием откликнулся Ерошка, мгновенно и навсегда позабыв про Шлягера. — Вы находите?
— Но правды нет и ниже! — продолжила дамочка. — И жест этот. Да. Умеете. На тоненького. На слезе ребёнка. Там, где боль, там и подлинность! Я была в полном восторге!
«Как прекрасны люди! — подумалось Бубенцову. — А я... Я-то... Э-эх!..»
Дамочка вынула носовой платок, принялась промакивать красные глаза. Высморкалась, содрогаясь толстыми плечами.
— Кто-нибудь обидел? — галантно поинтересовался Ерошка. Ему немедленно захотелось вступиться, наказать обидчика, восстановить справедливость.
— Тэ-э... Недруги... — толстушка неопределённо повела рукой. Смахнула со стола фужер, тот разлетелся со звоном.
Обернулось несколько лиц, кое-кто поспешил отступить подальше. Между столами образовалось отчуждённое пустое пространство.
Бубенцов вдруг понял, чего же от него хотят. Это было так просто, так элементарно! Справедливости! Правды и справедливости! Ощущение правоты переполняло его! И Ерошка нарочно, сознательно, для того только, чтобы поддержать милую неловкую соседку, сбросил на пол и свой фужер. Но эффекта, на который рассчитывал Бубенцов, не получилось. Фужер глухо ударился о ковёр и даже не разбился. Нужного звона не получилось. Послышался чей-то короткий смешок. Кто-то из свиты Ордынцева, а скорее всего, сам Ордынцев произнёс нечто язвительное. Ерошка слов не расслышал, но напоминание о том, что он должен Ордынцеву червонец, глубоко его оскорбило. В три шага преодолел мешающее пространство, схватил Ордынцева за лацкан.
— Всё для блага человека? Для удобре... удовре... удо-вле-творения потребностей! — грозно прошумел Ерошка. — Это как так? На тоненького берём? На слезе ребёнка? Холуй!
— Кто? Кто допустил? — отпихиваясь от рук Бубенцова, завизжал струсивший Ордынцев.
Несколько охранников кинулись к Ерошке. Он усмехнулся и встал в боевую стойку. С этими пингвинами никаких проблем у него быть сейчас не могло. Проснувшаяся духовная мощь уже не могла уместиться в тесноте груди, она всё прибывала и прибывала. Он верил в то, что способен свалить всех одним ударом. Знал даже, как надо бить, чтобы они все попадали как домино. Нужно было подпрыгнуть, выбросить в стороны руки и ноги одновременно. Он видел такой приём по телевизору, в китайском боевике.
Но не успел глазом моргнуть, как получил такой силы удар в скулу, что посыпались искры. И ведь что обидно — он видел, как приготовлялся этот удар, но слишком запоздало начал уклоняться. Уклоняться, честно сказать, он начал только через две или три секунды после удара. Реакция почему-то замедлилась. Бубенцов размахнулся, ударил в ответ. Но удар его полетел в пустоту, поскольку он уже падал на пол. Повалился как мешок к ножкам стола. Да ещё при этом так стукнулся лбом, что всё потемнело и внутри его, и снаружи. Близкие отреклись и отступились от Бубенцова, одна только верная дама с прожилками лила на голову его розовый морс из графина.
— Главное, без паники.
Бубенцов соображал, сохраняя полнейшее спокойствие и рассудительность. Он, конечно, был немало удивлён тем, что самым парадоксальным образом оказался вдруг на полу. Не успел применить навыки рукопашного боя, которыми, по его собственному ощущению, обладал от природы. Надо было подниматься. Если подняться, то сразу среагируют, собьют с ног, навалятся сверху. Поэтому Ерошка пока не шевелился, а только дышал глубоко, готовился к действиям. Мозг его, несмотря на выпитое, работал как часы. Ясно, чётко, слаженно. Так, по крайней мере, ему в тот момент казалось.
Ерошка приоткрыл глаза, определил положение врагов. Их была целая толпа. Несметная сила. Кулаком не достанешь, а вот если метнуть чем-нибудь, то... Схватить вон ту бутылку из-под шампанского. Если удачно попасть в середину, в гущу, то мир их разрушится и все эти черти посыплются как кегли. Хорошо, что лежал он ничком. Тут удача сопутствовала ему. Во внезапности нападения всегда заключена половина успеха. А у него как раз была такая возможность — разом оттолкнуться руками и ногами. Пока эти тюлени среагируют, рука его успеет дотянуться до заветной бутылки. И он сделал это! Рванулся, вскочил на ноги, дотянулся... Тяжёлый снаряд полетел в гущу врагов.
Взвыли страсти человеческие!.. И не семь их было, не семь, а гораздо, гораздо... Но, увы, ему не удалось разрушить бюргерский мир. И даже ни единой кегли не смог он повалить. Хотя и попал очень удачно, в самую серёдку. Потому что весь этот чуждый, враждебный мир, в который он целился и в который метнул сокрушительный снаряд, был всего лишь отражением в гигантском настенном зеркале.
С великолепным громом, замедленно, плавно, отваливаясь большими кусками, падало зеркало, высвобождаясь из бронзовых оков. Ударившись о светлый мрамор пола, развесёлыми брызгами плеснуло по щиколоткам. Радуга вспыхнула в облачке мельчайших осколков, зависших в воздухе. Оператор телевидения с вывалившимся от наслаждения языком снимал бесценные кадры. Радуясь величайшей творческой удаче, запечатлевал то, что больше уже никогда и нигде не повторится в мире.
4
Драгоценное зеркало разлетелось вдребезги, со звоном и восторгом. Великолепно брызнуло во все стороны под крики ужаса и протяжные вопли всех случившихся в тот момент здесь женщин и мужчин.
Кричали Настя и Горпина, гудел басом толстяк из посольства Скандинавии, альтами перекрикивалась охрана, выла Полынская, ахнула Изотова, а из дальнего конца что-то ревел Бермудес. Расслышался даже в сонме голосов и редчайший голос — мужское сопрано, этот вился уже под самым куполом. Возопили все. И произошло чудо! Как-то так удачно сложилось, что голоса этих женщин и мужчин совершенно случайно слились в необыкновенной музыкальной гармонии. Это длилось всего только несколько секунд, несколько тактов, а потом ангельская гармония рассыпалась. Но были эти несколько секунд поистине бесценны! Не всякому руководителю хора удалось бы и за три года прослушиваний, муштры и репетиций подобрать и с такой точностью скомпоновать голоса по высоте, по тембру, по тону.
Как только брызнуло зеркало, зазвенели осколки по мраморному полу, тотчас же, словно по взмаху дирижёрской палочки грянули эти сопрано, альты, басы и баритоны. Необычайной красоты и силы аккорд возник, подержался в воздухе, а затем пропал навеки во времени и пространстве. Потому что не может земля удержать всё истинно прекрасное.
Но она состоялась! Она всё-таки случилась на земле — эта небесная гармония! Пусть и жила она всего-то в течение нескольких мгновений. Вспыхнула подобно молнии, озарила самые дальние уголки мироздания. Отозвалось эхо из самой бездны. Может быть, даже и в преисподней приостановилась на миг работа. Обернулись на дивный этот звук чёрные черти, отставили в сторону ржавые крючья, клещи, вилы. Перестали на секунду стенать и выть мучимые ими жертвы, очарованные долетевшими до них звуками райской гармонии. И долго ещё после того, как затих аккорд, мёртвая, оглушительная тишина висела в адской котельной, в этих мрачных подземельях. Не нарушаемая ни одним посторонним звуком, ни единым движением. Как будто ждали повторения. Только тихо тлели угли, едва-едва освещая выступы и сколы пещер, колебля вечную серую мглу.
Откатилась далеко в сторону бутылка, которая, к изумлению всех, осталась цела. Все взоры как зачарованные на миг задержались на этой бутылке. Ещё одна творческая удача! Камера стремительно переместилась вниз, успевая запечатлеть и эти кадры. Замедляющееся вращение рулетки, игру фортуны. Бутылочное горлышко уставилось точно на Бубенцова, нацелилось чёрным отверстием ствола.
— Ах, дерзкий! — пропела какая-то восхищённая красавица.
Злобно улыбался в углу Ордынцев, потирал руки удовлетворённо.
— Ды свяжите же вы его! — заревели басы.
— А вот же вам шиш на кокуй! — огрызнулся Ерошка. Затем наклонился, чтобы поднять чудесную бутылку.
Налетела охрана, принялась вязать его полотенцами. Бубенцов оскалил верхний ряд прекрасных своих зубов, которые так любила Вера, целовала и любовалась ими. Опасливо покашиваясь, сопя одышливо и тяжко, проколыхался мимо Ордынцев на толстых, коротких ногах.
Бубенцова трижды вытаскивали из зала, но всякий раз он каким-то необъяснимым способом вырывался. Метался меж столов, раздирая на себе огненные тесные одежды, требуя правды, справедливости, обличая, выкрикивая хулу!
В конце концов одолели враги. Дёрнулся раз, два... Силы покинули его. Мало не тридцать человек повисли на руках. Уходил, опустив голову, поглядывал по сторонам. Справа сияло уцелевшее зеркало в бронзовой раме, слева темнела пустая, глухая стена. Крошево разбитой стеклянной бесконечности хрустело под ногами.
Красивый этот символизм нравился Ерошке.
В дверях, однако, произошла заминка.
— Я заплачу! — крикнул Бубенцов, как будто опомнившись и придя в себя. — С зарплаты отдам.
Оступился, рухнул в тёмный провал.
Глава 16
Дуракам дары даются даром
1
Весёлое оживление катилось по залу, сыпались выкрики со всех сторон. Люди перелетали с места на место, вставали на цыпочки, тянулись вверх. К лежащему Ерошке гуськом подошли иноземцы, выстроились полукругом. Мужчины в чёрных дирижёрских фраках, крахмальных жабо и в серебряных пенсне, дамы с веерами, вуалями, лорнетами. Бубенцов лежал на спине, скрестив на груди руки, боялся пошевелиться.
— Этот и есть? — скрипуче проговорил маленький человечек с треугольным лицом и мёртвыми глазами. Одна бровь его была нахмурена, под нею холодно посверкивал монокль.
— Он! Он! Накануне ещё прогремел. Спектакль сорвал, — громко пожаловался Адольф Шлягер. — В газетах писали. С детства такой. Взбудораживает людей! И вот таких-то у нас выдвигают!
Все лорнеты, все монокли уставились на Ерофея.
«Врёт! — подумал Бубенцов. — Про газеты врёт. Когда бы успели?.. На камеры-то, конечно, засняли...»
— Плебей! За квартиру не платит, — докладывал Шлягер. — Болезненное пристрастие к недорогому алкоголю. На встречных женщин оборачивается. Зеркала бьёт... Много можно перечислять.
Ордынцев колыхнулся, надеждой загорелись маленькие его глазки.
— И всё же огнь, мерцающий в сосуде! — вставил загадочную реплику старичок в буклях. — В презренной оболочке хранится бесценное содержание!
Надежда стала угасать.
— Когда брали кровь на анализ?
— Намедни, ваша серость! — это уже дама в панбархате выступила вперёд, вытащила из сумочки батистовый платок в бурых пятнах. — Подлинность подтверждена!
Маленький человечек кивнул и, выронив монокль из глаза, двинулся прочь. Следом, гулко стуча копытами, устремилась вся кавалькада комедиантов. Надежда угасла совсем.
— Неужели нет иного выхода? — обернувшись, крикнула дама в панбархате. — А если бы, положим, переместить содержание в более приемлемую оболочку?
— Получится двоедушие. Двоедушие уничтожает самость человека, — растолмачил старичок в буклях, беря её под локоть. — Подлинность умаляется.
Разговор, как видим, вёлся на иностранном языке, но Ерошка прекрасно понимал каждую реплику. Более всего оскорбило слово «плебей», обида ударила в самое сердце. Следовало немедленно, пока ещё была такая возможность, устранить психологическую занозу. Подсознание тотчас включилось в привычную работу, принялось сглаживать углы, преобразовывать хулу в похвалу. И всего-то секунды не хватило для превращения «плебея» в «плейбоя».
2
Бубенцов очнулся сразу, рывком, как и всегда это бывало с ним после буйного застолья. Будто и не спал вовсе. Открыл и тотчас закрыл глаза. Но понял, что спрятаться, ускользнуть в сон не получится. Застонал тихо, пошевелился, прислушиваясь. Не побито ли где, нет ли повреждений, вывихов?
Бубенцов, разумеется, не помнил, как вчера оказался дома. Но, кажется, на пути своём никого не зашиб. Нужно было восстановить последовательность вчерашних событий, пройти по всей цепочке. От устья к истоку. От следствий к причинам. Мысль Бубенцова с большой неохотою тронулась вспять. Двинулась с опаской, осторожно и на ощупь, как сапёр перемещается по минному полю.
Кажется, Бермудес бил вчера зеркала.
Раздражённо, сухо постукивали в коридоре каблучки Веры. Уходила. На дежурство. Стук прекратился. Вера стояла в дверях. На ней были маленькая меховая шляпка, короткая шубка. В пышном воротнике тонул тяжёлый узел светлых волос. Капризно закушенная губка, трепещущие ноздри. Пронзительная чистота и невинность её пугали Ерофея. Глядя на жену, он почувствовал себя ещё более мерзким негодяем и ничтожеством. Вера сказала тихо и страшно:
— Скотина.
Без всякого живого чувства. Никогда, никогда прежде весёлая его Вера не говорила таким тоном. Уж лучше бы орала, упрекала, замахивалась тряпкой. Отвесила бы, в конце концов, затрещину... Но... Хлопнула дверь, проворчал ключ в замке.
Через минуту, не выдержав тишины, Бубенцов безвольно прошептал в ответ:
— Не наг... не... тай.
И ужаснулся тщетности, бессилию слов. Скрючился ещё больше, чтоб забыться, хотя бы ненадолго. Но уже нельзя было отмахнуться от агрессивного мира, не приходило желанное забытьё. Нагло налетал со всех сторон мир, точно голодный орёл — клевал, язвил, драл когтями, рвал печёнку, выматывал кишки.
— Не ун-нывать-вать-вать! Не ун-нывать!.. — сипло огрызнулся Ерофей.
Сегодня это не действовало. Утратило силу привычное, верное заклинание. Оно и прежде не очень-то помогало, а уж нынче и подавно. Сразу же после ухода жены нахлынуло, мучило душу ощущение непоправимой катастрофы, которая произошла вчера. Что-то стряслось по его вине! Но что же, что, что?.. Ничего конкретного, внятного не мог вспомнить. Но от этого ещё тяжелей томил и угнетал груз вины.
Человек верующий ищет утешения в вере и находит его. Атеист прячется за физической бесконечностью. Тут Ерошка, редко интересовавшийся вопросами веры, а потому считавший себя атеистом, попытался представить себе бесконечность мира. Рядом с которой не только он, нашкодивший Бубенцов, но и вся планета Земля со всем её населением, всей кровавой историей показалась бы совершенной песчинкой. А его скандалы — вообще тьфу, ноль. Бесконечно малая величина. Где там эта ничтожная Земля? Пылинка!.. Прах, взметаемый ветром.
Но всё было тщетно. И эта громада не прикрывала. Вселенная со всеми её бесконечностями свободно умещалась в его подвывающей бездонной душе. Ещё и много пустого места оставалось.
— Не ун-ны-ва-ать, не ун-ны-вать!.. Хохо-хохо-о... Не ун-нывать!..
Вскинулся Бубенцов в бессильной тоске, в злом беспокойстве. Что-то надо было предпринимать, действовать. Не лежать же, в конце концов, сложа руки, ожидая неведомо чего.
— Не ун-нывать-вать-вать! Не ун-нывать!..
Вскинулся, стал набирать номер Поросюка. Два раза дрожащий его палец соскальзывал, срывался, и приходилось начинать заново. Наконец добился гудков, замер. Ответила сонным голосом незнакомая баба, не дав слова молвить:
— Вам кохо?.. Йохо нет. Он не может. Отстаньте все. И вообще.
Положила трубку. Голос хрипловатый, сипловатый, как будто прокуренный. То ли не туда попал. То ли «йохо» действительно нет. Мог ли Поросюк по пьяни спутаться с сонной эстонкой? Запросто. Перезвонить ещё раз? Могут ведь и послать грубо. Лишний удар по психике теперь ни к чему. Следовало бы позвонить Бермудесу, выяснить подробности. В том числе и насчёт этой сонной бабы.
Бубенцов схватился ладонями за голову и стал с силою тереть виски. Включить мысль, запустить логический аппарат. Да, прежде всего восстановить систему координат, нащупать точки опоры. Проговорив мысленно эти правильные банальности, Бубенцов почувствовал, что логический аппарат запустился в обоих полушариях его головного мозга. Мозг завёлся и хотя с перебоями, но уже работал, тарахтел, как гусеничный трактор ДТ-54.
3
«Всё равно все умрём!» Мысль эта принесла некоторое относительное утешение. Это была правильная, отрадная мысль. Нет ничего безысходного. Так устроен мир, что всё проходит.
Бубенцов колебался, не мог решить, стоит ли прибегать к помощи Бермудеса. «Игорь тоже был пьян вчера не менее меня, — думал Ерошка, — и вряд ли помнит ситуацию детально. Во-вторых, он любит драматизировать. Наверняка добавит трагической отсебятины. Припишет ради красного словца то, чего и не было. Нет, Бермудесу теперь звонить нельзя! Тем более что Бермудес разбил вчера зеркало...»
Приняв такое решение, набрал номер Бермудеса. Ждал долго, считая гудки. Бермудес сразу не возьмёт никогда. Сангвиник. Такого и по боевой тревоге не тотчас поднимешь. После десятого гудка трубка ожила:
— Вам кохо?.. Йохо нет.
Бубенцов быстренько нажал кнопку на аппарате. Сердце колотилось в горле. Может, машинально снова Поросюка набрал? Какие ещё иные объяснения? Кроме, конечно, мистических.
Проходя мимо зеркала в коридоре, взглянул на себя и оцепенел. Он прекрасно помнил все подробности начала и середины банкета. Даже концовка виделась ему в относительно ясном, хотя и дымном виде. Когда всё уже шумело, кружилось вокруг, жужжа, звякая, роняя время от времени фужеры на пол. Даже шальной женский выкрик запомнился ему, врезался в память. Выкрик этот хрустально прозвенел в случайной паузе, во внезапно наступившей мёртвой тишине, длившейся, впрочем, не более двух-трёх мгновений: «Уберите же свои мерзкие щупальца, проклятый старикашка!» И тотчас вслед за этими словами разнёсся по залу звонкий треск пощечины. И всё полетело кубарем. Но помнил Бубенцов свою радость от того, что публичный скандал произведён не им. Что не он этот постылый, похотливый «старикашка». И мысль свою помнил. Мысль о том, что пьянка вышла с драматургией, но он не главный актёр в этой увлекательной скандальной постановке. А всего лишь посторонний зритель, наблюдающий издалека, с безопасной галёрки. Всё-то он помнил!
Откуда же на лице эти страшные, эти свежие следы побоев? Почему заплыл, налился лиловой кровью левый глаз? Откуда же? Этого нельзя объяснить. Распухший нос был понятен — это те вчера ударили, на подходе к метро. Мерзавец в рваной кепке. Но глаз-то, глаз!..
Ерошка потрогал пальцем синяк, судорожно вздохнул и тотчас схватился за бок. Тупая боль всколыхнулась под правым подрёберьем. Как будто на оглоблю налетел вчера. Или с этажа упал на что-нибудь выступающее. Но он не налетал на оглоблю, не падал с этажа. И вообще не дрался. Откуда же?
Зазвонил телефон. Кинулся, схватил. Вероятно, Бермудес...
— Ну что, — сказала Вера, — прославился на всю страну!
Нельзя понять по голосу, осуждает или хвалит.
— Телевизор включи. По «Лайф ньюз» каждый час повторяют. И по «Вестям» два раза уже сюжет прокрутили. А сейчас по ТВЦ идёт.
Ерошка бросился в спальню, схватил пульт. На экране телевизора показался фасад Дома Союзов. «Большой скандал произошёл вчера вечером во время церемонии награждения Семёна Ордынцева, чиновника из Подмосковья». Голос диктора был взволнованный, праздничный, ликующий. А затем голос умолк и в полнейшей тишине, вероятно чтобы не отвлекать зрителя, а дать ему в полной мере насладиться великолепным зрелищем, пошла картинка. Это была специальная замедленная съёмка. Плавно, очень-очень красиво, большими сияющими кусками, как белые льдины, или как сколы хрустального айсберга, или даже как фрагменты небесного свода — опадали вниз обломки зеркала.
А на переднем плане, в разорванной на груди белой рубахе, широко расставив ноги в дорогих ботинках, стоял он, Ерофей Тимофеевич Бубенцов собственною персоной. Живописный образ этот, как ни удивительно, с первого же взгляда понравился Ерошке. Он даже на один миг заподозрил — а не постановочные ли это кадры? Слишком ярок, чересчур колоритен был разбойничий образ. Слишком ясно горели синие глаза на бледном, вдохновенном лице. Слишком вольно падала растрепавшаяся пшеничная прядь на высокий лоб. Никакого синяка ещё не было на лице героя. А на заднем плане бегали бестолковые толпы. Мельтешили суетные, мелкие людишки. Толклись, размахивали ручонками, жалко кривили рты, подскакивали, спотыкались. Испуганный Адольф Шлягер выглядывал из-за лестничного поворота, прятался за беломраморными балясинами. Всё это происходило в мёртвой тишине, как бы подчёркивая тщетность, призрачность всего земного.
Резко ударила музыка, всё завизжало вокруг. Но то оказалось не в телевизоре. То гремел звонок в прихожей. И ещё раз, и ещё. Требовательно, уверенно, страшно. Не терпящий отлагательств.
Бубенцов вскочил и замер, не смея до конца выпрямить спину. Стоял в напряжении на полусогнутых ногах. Снова грянули три звонка подряд. Очередями. Крест-накрест. Стараясь не скрипнуть, не захрустеть позвонками, подбежал, согнулся, припал к дверному глазку. Тени в чёрных треуголках смутно высились во мгле. «Йохо нет...» — простучало в голове у Бубенцова.
Опять звонили. Нагло. Но он не реагировал. «Йохо нет...» Как-то окостенел, обездвижел, подобно тропическому насекомому. «И вообще...» Хотя нервы его рыдали, рвались. «Добить пришли!» Затем наступила долгая тишина. Тревожное затишье. Покоя не было. Но и чёрных теней уже не было на лестнице. Уф-ф...
Бубенцов постоял ещё некоторое время у входной двери, карауля звонки и поглядывая в глазок. Но на лестнице было пусто. Нападавшие удалились. Ерошка отправился на кухню.
На кухонном столе лежали разорванные куски картона зелёного цвета с розоватым исподом. Он, издалека ещё, от самых дверей увидев эти обрывки, знал, что это такое. Это было уничтоженное Верой «Свидетельство о браке». Пять лет назад, когда Вера в первый раз рванула дерматиновую картонку, та не сразу поддалась. Но ярость придала сил её пальцам, документ с треском разодрался. Сперва пополам, а потом и на четыре части. Мельче уже не получилось, сил не хватило. Да и ярость уже улеглась, насытившись.
Бубенцов тотчас же, в тот же вечер аккуратно склеил свидетельство. С тех пор рвалось оно точно по старым линиям разрыва, на четыре части. А Ерошка снова и снова дрожащими пальцами нарезал тонкими полосками бумагу, терпеливо восстанавливал документ.
Да, невзгоды и скорби, с самого детства выпадавшие на его долю, казались незаслуженными. Это всё так. Но справедливости ради нужно сказать и о том, что не только наказания, но и награды свои получал Ерофей Бубенцов без всякой видимой логики. Если кто-то задумывался о смысле жизни, посвящал этому раздумью хотя бы десять минут, тот может подтвердить, что самые главные ценности достаются человеку абсолютно бесплатно.
Дары раздаются даром. Каждому, даже самому ничтожному из людей, даром даётся жизнь. А чего стоит любовь? Ничего она не стоит, потому что нет такой цены, которой не отдал бы влюблённый за свою любовь. Всякий переживший хотя бы мимолётную первую любовь запомнил на всю жизнь дивное состояние. Даже самая неудачная, самая безнадёжная первая влюблённость переворачивает не только самого человека, но и весь привычный мир. И нет такой цены, которой можно было измерить поистине бесценное сокровище первой любви. Что деньги, что успех, что благополучие! Сама смерть пасует перед влюблёнными! С отрадой пьёт Джульетта смертельный яд, ибо не нужна ей жизнь, если отнята любовь. Потому что умереть с любовью — веселей, чем жить, но без любви!
Счастлив и удачлив был на этой земле Ерошка Бубенцов, поскольку относился к тем редчайшим людям, для которых первая любовь стала и последней. Вера Репьёва, или, как её дразнили, «Вера-краса, длинная коса», училась в параллельном классе. Все стадии отношений произошли у них естественным путём. В первом и втором классе они дружили. Никакие дразнилки «жених и невеста» их не смущали. Но в третьем-четвёртом отношения переросли почти в ненависть. Ерошка вдруг застыдился. При всяком случае старался выказать своё презрение, равнодушие к «девчонке». Однажды Вера расцарапала ему щёку острыми своими ноготочками. А в девятом классе он уже не мог дня выжить без неё. Это проявилось как-то сразу, внезапно, обрушилось на него... Вера заболела ангиной, классная наставница послала Ерошку проведать. И с этого дня он так и пропадал у неё дома, сбегал из школы. Заразился от неё тяжеленной ангиной, так что не мог глотать, сводило горло, слёзы брызгали из глаз. Бубенцов несколько дней ходил пьяный, пылающий от температуры, плачущий от счастья. Эту ангину они с Верой отмечали с тех пор ежегодно семнадцатого марта как главный свой праздник. В этот день прощались все взаимные грехи и обиды.
Бубенцов снял с полочки клей ПВА, стал отвинчивать присохшую крышечку. Острая кромка впилась в подушечку большого пальца. Ерошка приложил палец к губам, почувствовал солоноватый привкус... Зазвонил телефон.
— Ну, Бубен, дал ты вчера! Уж на что я привык к твоим выходкам, но вчера от души повеселился, — говорил Бермудес. — Умора. Шоу не шоу, но скандал громкий. А зеркало-то, зеркало!.. Блеск! Колонный зал этот по новостям культуры уже показывали с утра. Видать, под Ордынцева кто-то глубоко копает...
Бубенцов не выдержал и бросил трубку. Приходилось бежать за опохмелкой. Иначе нервной системе — каюк.
Глава 17
Уходя, гасите свет
1
На лестнице-то его и подловили. Коротким ударом под рёбра перебили дыхание. Ерошка разевал рот, корячился, подобно караморе, пытаясь схватить воздуха. Но не дали опомниться, набросили на голову пыльную холщовую торбу, скрутили руки за спиной. Всё это проделали сноровисто, без единого звука, только посапывали сдержанно. Чувствовалась профессиональная хватка. Сволокли вниз по лестнице, помешкали немного у дверей подъезда. Согнули пополам, запихали на заднее сиденье автомобиля. Сели тесно, прижав с двух боков.
Дыхание постепенно восстановилось. Бубенцов приоткрыл веки. Ничего нельзя было разглядеть сквозь мешковину. Мрак то редел, то сгущался, проходили по нему неясные, смутные светы. Куда его везли, он и представить себе не мог. Вернее, конечно, представлял, но картины были настолько страшны, что мысли коченели. Он понимал, что добром это не может кончиться, никак не может. Добрые дела так не начинаются. Следовало ожидать худшего. Воображение услужливо возводило мрачные декорации, расставляло соответствующий реквизит.
Первым делом возникла, конечно, тема дачная. Поскольку, вероятнее всего, ехали подальше от глаз людских, за город, на природу. В места глухие, болотистые. Густой колючий кустарник подступает к самому забору. Пахнет дымом, подгорелым мясом. Позвякивают острые шампуры, жарко тлеют угли. Топор в колоде. Вилы у стены, острые тяпки. Лопата. Вместительный контейнер, наполовину заполненный нечистотами. Есть куда запрятать все концы. «И почему это происходит со мной? Столько людей вокруг! Но они зачем-то выбрали именно меня...» — горько думал Ерошка, отгоняя от себя мрачные видения. Отчаяние лишало его сил и воли к сопротивлению. Да и как тут будешь сопротивляться? Бубенцов, нахохлившись, сидел с пыльной торбой на голове и ничего вокруг не видел. Чему же, собственно говоря, сопротивляться? Глядеть он мог только вовнутрь себя. Там мерцала тьма.
Звук немного переменился. Как будто стал отражаться, возвращаться гулким эхом. Тотчас в воображении возник длинный бетонный забор. Крыши приземистых пакгаузов. Слесарная мастерская. Ехали быстро, не снижая скорости. Окна мастерской, вероятно, так и мелькали. Вжив-вжив-вжив-вжив... Но и того, что воображение успевало разглядеть сквозь стёкла, было достаточно. Ухало, ревело, стучало, гремело... Вертелась дрель с победитовым сверлом. Визжала дисковая пила, которой так удобно распиливать привязанное тело вдоль. В кино видел. Тонко выла электропилка для мелких отделочных работ. Свистела алмазная фреза, удобная для резьбы по кости.
Не замедляя движения, благополучно миновали слесарку. Однако не успел Ерошка перевести дух, как слева возникла новая напасть. Показался столярный цех! Кипела работа и здесь, гремели вдохновенные ритмы. Гвозди забивали и тут! Инструмент простой, но безотказный. Большие тиски. Деревянная киянка. Деревянной киянкой удобно бить по пальцам, зажав тисками руку: и боль адская, и пальцы целы. Только ногти потом слезают. Можно повторять бесконечно. Электрический рубанок. Лезвия регулируются так, чтобы глубина прохода была минимальной. Для постепенного состругивания тела. В самом торце цеха, как и полагается, ритмично ухает пилорама!.. Тут уже окончательно разделывают на доски. Но оборвался ритм, спуталась мысль, началась эклектика. Въехали на территорию мясокомбината. Мелькнул отбойный молоток для первичного дробления костей. Чтобы добавить потом эту костную муку в котлетный фарш или в пельмени. Разделка туш на категории, как на плакатах в мясном отделе. Но вырвались и из этого ада. Строительный участок проскочили в момент, остался за спиной грохот отбойных молотков. Успел увидеть, как из бетономешалки под фундамент заливают жидкий раствор. Мелькает в этом потоке то безвольная кисть, то выглядывает локоть, то как будто высовывается и пропадает длинный серый нос...
И тут въехали в тишину. Но не было в ней никакой отрады. В тишине тихо позвякивал медицинский инструмент. Потянуло эфиром, валерьянкой. Обступил душу белый больничный покой. Ерошка сломался. Дёрнулся всем телом. «Уж лучше бы сразу, на том дачном участке. Лопатой по голове и в контейнер. Это всё-таки легче, чем...» Но поздно жалеть, поздно дёргаться!.. Уже подкатывается страшное гинекологическое кресло. Крепят руки и ноги сыромятными ремнями. Лопоухий лысый врач с внимательными и безумными глазами склоняется над его лицом. В руках врача шприц с фиолетовой дрянью. Старуха медсестра держит наготове огромные ножницы, нетерпеливо щёлкает лезвиями. На белом столике поблескивает никель специальных приспособлений для последующей трепанации черепа. Длинный кривой скальпель. Там, в мозгу, таятся не только зоны удовольствия, но и те зоны, прикосновение к которым вызывает сокрушительный взрыв и расходящиеся круги боли. Бубенцов чихнул. И от ужаса, и от набившейся в ноздри пыли.
2
Бубенцов с отчётливой прощальной ясностью осознал, как был счастлив в прежней жизни! В той жизни, к которой нет возврата! Счастлив, сыт, обласкан, обеспечен всем необходимым и даже сверх необходимого. Как он мог сетовать на нужду, на нехватку, на недостаток? В прежней жизни всего было в избытке! У них с Верой было всё. Дом, дача, машина, импортный телевизор, видео. Сервант и хрусталь в нём. Ковры на полу. Библиотека из тысячи книг. В хлебнице хлеб, в солонке соль, на полке гречка и пшено, пузатый холодильник полон еды. Даже бутылка коньяка хранилась в глубине серванта. Всё, всё было для счастья! Как он смел сетовать на что-то и не ощущать себя счастливым?
— Куда меня везут? — решился спросить Ерошка.
— Не дёргайся, шнырь! — проворчал низкий баритон слева.
— От шныря слышу, — отважно огрызнулся Бубенцов из мешка.
— Хе. Ты слышал, Рома? — удивился баритон. — Фраерок-то с гонором.
— Все они хорохорятся, — отозвался равнодушно Рома. — Поначалу.
Звуки переменились. Ехали уже не по шоссе, а по чахлым перелескам. Бубенцову воображалась местность низменная, болотистая, унылая. Неприметные бугорки, кочки.
— Куда вы меня везёте? — снова подал голос Бубенцов, но никакого ответа не последовало.
Сколько же безвестного народу закопано в этой глинистой земле, убелённой снегом! Ни креста, ни камня. Одни буераки.
— Пока им фаберже меж дверей не зажмут, — закончил свою долгую мысль Рома.
Видимо, близок был уже конец пути, да и вообще — конец всему. Потому как тот, кто сидел слева, завозился, натянул на голову Бубенцова поверх торбы ещё и нечто вроде лыжной шапочки. Мир погрузился в полный, окончательный мрак. Однако Бубенцов тотчас почувствовал некоторое душевное облегчение. Ох, умён был и догадлив, как собака. Забрезжил во глубине мрака шанс. Если столь тщательно скрывают маршрут, стало быть, боятся живого свидетеля. Живого, но не мёртвого!
Ему показалось, что над головою послышался глухой грюк и гул, как бы от прокатывающегося поезда. По всей видимости, машина въехала в тоннель под железнодорожными путями. «Где бы мог быть такой тоннель? — соображал Бубенцов. — Итак, вот тоннель...» Это могло пригодиться после, когда, каким-нибудь чудом вырвавшись отсюда, можно будет спокойно исследовать карту железных дорог Подмосковья. Несколько крутых поворотов — и машина остановилась. Щёлкнул замок двери, повеяло в оголённую шею свежим ветерком. Бубенцова потащили из салона. Басисто залаяли из темноты псы.
— Кого чёрт несёт? — зачертыхался недовольный голос.
— Шпака взяли, — пояснил Рома. — Можем отдать тебе его. Делай с ним что хочешь.
— Мы отвернёмся, чтобы не видеть, — добавил фальцет слева.
Бубенцова вытащили из машины и, согнув пополам, повлекли. Он едва успевал перебирать ногами, почти бежал. Наткнулся с разбега на ступеньку. Невидимые руки подхватили под мышки и под колени, подняли, понесли, как инвалида. Визжал паркет под сапогами злодеев. Поставили на ноги. Надавили на плечи, усаживая. Жёсткая пятерня шкрябнула по темени, сдёрнула лыжную шапочку, сорвала торбу, прихватив заодно ещё и клок волос. Бубенцов зашипел и разлепил здоровый глаз.
Тяжкая дрожь стала сотрясать стены и пол.
3
Человек, сидевший перед ним в кресле, лицом был тёмен, телом сух и жилист. Но более всего поразили Бубенцова его круглые, внимательные глаза. Он уже видел эти неподвижные, стоячие зрачки, эти красные, воспалённые веки, напрочь лишённые ресниц. Он видел их намедни в зрительном зале театра, он определённо видел их и на вчерашнем банкете.
— Хорош, — то ли с осуждением, то ли с одобрением произнёс темнолицый, разглядывая синяки Бубенцова. — Типичный Шариков!..
— Где я? — без особенной надежды на честный ответ спросил Бубенцов.
— Моё имя знать ни к чему, — невпопад сказал незнакомец.
— Меньше знаешь — дольше живёшь, — облизнув сухие губы, хрипло произнёс Бубенцов. — Так, кажется, в ваших кругах?
— Я вижу, ты человек умный и сообразительный. — собеседник поглядел в глаза Бубенцова и повторил, вставая с кресла: — Меня зовут Рудольф Меджидович Джива.
Руки, однако, не подал. «Сволочь, — подумал Ерошка, — вот же сволочь! То не надо знать имя, то... Путает мозги. Но и мы знаем, чем кончаются такие подходцы. Сейчас предложит какую-нибудь пакость».
— Я хочу сделать тебе небольшое предложение, — подтвердил его догадку Джива, вставая, подходя к окну и зачем-то выглядывая на улицу сквозь щель в шторах.
В это время дрожь снова стала сотрясать стены и пол, как будто в подвалах кто-то прокатывал гружёные вагонетки.
— Тебе дали шанс...
Повернулся к Бубенцову, скорбно склонил набок голову и опять значительно замолчал, задумчиво постукивая ногтем указательного пальца по золотому перстню и так выпятив губы, точно вдруг засомневался, стоит ли давать этот последний шанс несчастному, жалкому Ерошке.
— Ты совершил вчера злостное преступление. В государственном учреждении. Нанёс ущерб казённому имуществу. Разбил зеркало стоимостью... Не буду пока пугать.
Прошёлся туда-сюда на пружинистых ногах. Затем уселся в кресло против Бубенцова, заговорил внушительно:
— За тобой наблюдали серьёзные люди. Им, я полагаю, понадобился массовик-затейник. Из народных, так сказать, низов. Они думают, что это свежо и оригинально. Я так не считаю, но вынужден подчиниться. Тебе предлагают контракт.
Джива вытащил белый конверт из бокового кармана, бросил на журнальный столик:
— От тебя требуется устроить похожий скандал. Желательно при этом не так сильно нажираться.
— Что? И зеркала? — Бубенцов косился на конверт.
— Зеркала бить не обязательно. Но и не возбраняется.
— И ничего мне за это не будет? — не поверил Бубенцов.
Говоря это, Ерошка не отводил взгляда от белого конверта. «Интересно, сколько там? Шлёпнулся не так чтобы очень весомо. Теперь главное — не суетиться. Не показывать виду и заинтересованности. Иначе можно продешевить».
— Там сто тысяч, — как будто прочитал его мысли хозяин. — Если работа понравится, получишь ещё столько же.
Он снова поглядел на синяк под глазом Бубенцова и добавил:
— Предусмотрен социальный пакет. Есть теоретическая возможность получения производственной травмы. Так что лечение, в случае чего, мы берём на себя. Вплоть до реанимации.
— То есть меня могут побить?
— Не успеют, потому что охрана будет начеку. Вчера, к слову, моя охрана тебя и вытащила. Так что если побьют, то не до смерти.
— А моральный ущерб?
— Ущерб невелик. Ты можешь потерять то, что в старину называли честью.
— Честь порядочного человека дорого стоит, — с ходу принялся торговаться Бубенцов.
— Честь — это химера, — опроверг собеседник. — Вещь неосязаемая. Самое дорогое у человека — это жизнь. Впрочем, и сама твоя жизнь — товар сомнительный.
— Как это сомнительный товар?
— Очень просто. — Джива улыбнулся криво и язвительно. — Оптом тебя не продашь. Придётся разбирать на запчасти. Печень, судя по нездоровой красноте лица, никуда не годится. На помойку. Почки. Хорошо, если из двух одна в порядке. Пять тысяч. Сердце ослаблено похмельными неврозами. Глаза? Сомнительно, но тысячи по полторы, может быть, и пойдут. Пять литров крови на плазму. Мелочёвка. Сто долларей максимум. Селезень в лучшем случае пять-шесть тысяч. Костный мозг — на помойку.
— Что это у вас всё на помойку? — возмутился Бубенцов, более всего почему-то задетый словом «селезень».
— Тринадцать сто, — сухо сказал Джива. — Отнимаем стоимость хирургической операции, хранения органов, транспортировки. Конфиденциальность тоже требует значительных затрат. И я оказываюсь в минусах. Нерентабельно. Один убыток. Не стоит овчинка выделки, — подытожил он.
— Оставьте ваши мерзкие сравнения, — сказал осмелевший Бубенцов. — Я вам не собака для опытов.
— Вот именно! Моя собака дороже стоит.
Тяжкая дрожь снова стала сотрясать стены и пол.
— Где гарантии, что меня сразу же после скандала не укокошат в ближайших кустах?
— Честное слово джентльмена, — опровергая свою же концепцию относительно понятия «честь», веско произнёс Джива.
Нервы всё ещё находились в напряжении, но после такого удивительного предложения Бубенцов повеселел. Опасность, кажется, миновала. «Всё-таки реалити-шоу!» Игра ему начала нравиться. С этого самого мига разговор их превратился в сценический диалог. А в таком диалоге главное правило: «В камеру не смотреть!» Бубенцов и здесь как будто приметил блеск потайных камер наблюдения. И теперь вполне сознательно, усилием воли не позволял себе поглядеть в ту сторону, откуда померещился ему блик. Чем естественнее и талантливее игра, тем выше гонорар.
— Есть одно условие, — сказал Бубенцов. — На киносъёмках это называется «группа окружения». В мою группу окружения прошу ввести Игоря Бермудеса и Тараса Поросюка.
— Это вчерашние балбесы?
— Вчерашние. Но уверяю, это достойнейшие люди.
— Не сомневаюсь, — усмехнувшись, кивнул заказчик. — С ними или без них, но ты должен устроить полноценный скандал. Имеешь право хамить, буянить, драться, сквернословить. В критический момент охрана придёт на помощь.
Такая развязка весьма понравилась Ерофею Бубенцову. Возможность наскандалить и насвинячить, зная, что никакого наказания не последует. Наоборот, гору денег отвалят. Кто ж откажется? Бубенцов ещё более утвердился в прежней мысли. Происходящее — часть грандиозного телевизионного шоу. Выбрали его. Он ещё не вполне понимал те критерии, по которым совершался выбор, да это в данную минуту не имело особенного значения. Теперь следовало просто подчиниться замыслу неведомых сценаристов и режиссёров, сыграть роль достойно и правдиво.
Хозяин, прищурившись, поглядел на лицо Бубенцова, покачал головой.
— Сейчас глаз обработают бодягой. Бодяга рассосёт, — сказал Джива и крикнул в приоткрытую дверь:
— Застава!
4
Обладателем экзотической фамилии «Застава» оказался плюгавый человек с кобурой на ремне. Бубенцова поразило феноменальное его сходство со вчерашним мерзавцем в кепке. Тщедушным сложением, длинными немытыми волосами, а в особенности злым блеском маленьких мутных глаз Застава напоминал Нестора Махно. Застава повёл его по длинным коридорам и переходам, следуя на шаг позади.
Ерошка по дороге анализировал ситуацию. Конечно, замысел этот полностью укладывается в логику и в рамки развлекательного телевизионного проекта реалити-шоу, своеобразной комедии положений. Деньги, приключения, опасности, стремительный и непредсказуемый сюжет. Постоянная перемена декораций. Ну и конечно, в спектаклях такого рода совершенно естественно должна наличествовать бездна юмора. Игра должна быть весёлой, лёгкой, раскованной. Возможно, впереди ждут его испытания более изощрённые. Но и там он не ударит в грязь лицом. Он полностью уверен в себе. Да хоть расстреливай его у тюремной стены, он не дрогнет, не опустит глаз, а, наоборот, будет стоять, презрительно отставив ногу. Игра есть игра! Он согласен сыграть героя. Он встретит смерть хотя и с побледневшим лицом, но с надменной усмешкой, ироничным прищуром глаз. Устроители комедии, без всякого сомнения, подстрахуют в самый драматический миг.
Но глубоко в душе всё-таки ныла заноза сомнения. Конечно, авторы этой комедии подстрахуют в случае чего, но ведь и они не застрахованы. А если иметь в виду человечью безответственность и тот бардак, что творится кругом? В конце концов, синяк под глазом. Не слишком ли сурово для игры? Его втянули в развлекательное шоу. В этом шоу, судя по всему, пресыщенным зрителям требуется подлинность. Там, где подлинное, там бывает страдание! Что болит, то и подлинно.
Охранник Застава замешкался в дверях, приотстал. Бубенцов же в задумчивости шёл дальше по длинному узкому коридору. Левая стена, украшенная гравюрами и офортами, была глухая и, по всей видимости, выходила во внутренний двор. А вот правая, как догадался Ерошка, окнами своими глядела в ночное поле. В ночное зимнее поле, озарённое лунным светом.
Ерошка шёл, скрипя паркетом, задевая рукою бордовые шторы, что ниспадали от потолка до самого пола. В одном месте, где шторы немного раздвинулись, щекою уловил слабую ледяную струйку, исходящую от окна. Бубенцов оглянулся и быстро шагнул туда. Принялся раздвигать тяжёлые бархатные портьеры, добрался до белых шёлковых гардин. Летучая, невесомая кисея липла к векам и губам. Он тыкался пятернёй, нащупывал сквозь ткань переплёт рамы, фигурную ручку, а когда прорвался наконец к заветному окну и поднял глаза...
5
Ещё до того как Бубенцов осознал увиденное, понял он причину тишины, что царила внутри дома, — тройное остекление и вакуумные рамы глушили всякий звук. Но всего более потрясло его то, что не было снаружи, за окнами, никакого белого безмолвия. Прямо под окнами, против ожидания, не оказалось никакого загородного сада, никакой полоски леса не темнело на горизонте, никакая луна не освещала заснеженные холмы и просторы. Все эти великолепные картины жили, оказывается, только в его воображении.
А в реальности — он увидел знакомую улицу, по которой двигался плотный поток машин к Электрозаводскому мосту. Красные огни отражались в чёрном глянце асфальта. А прямо насупротив того места, откуда смотрел Бубенцов, на другой стороне улицы, стоял его дом. Дом возвышался, близился к нему, как громадный корабль, наплывал всеми своими празднично пылающими окнами. Великолепный сталинский дом, с высокими арками, с неоновой вывеской ресторана, с троллейбусной остановкой у выхода из магазина, с милыми мирными людьми, что стояли на остановке.
Сомнений никаких быть не могло — всё это время он был заперт в Елизаветинском Путевом дворце. В том самом царском дворце, на который частенько любовался вон оттуда, со своего балкона... раз, два, три... да-да, вон с того балкона, что на пятом этаже. До сих пор полагал, что во дворце этом размещён какой-нибудь музей, и всё собирался как-нибудь заглянуть сюда, разведать. Вот и заглянул, разведал.
Тяжкая дрожь снова стала сотрясать стены и пол, но теперь-то Бубенцов знал причину этого землетрясения: за глухой левой стеной дворца пролегала железная дорога, и по ней двигался сейчас в сторону трёх вокзалов пассажирский поезд.
Рука охранника Заставы тащила его от подоконника, а он всё цеплялся пальцами за батарею. Обернувшись, в последний раз взглянул он на дом свой, на свой балкон, на уютное окно спальни. Окно это ярко светилось, горели все восемь плафонов старинной бронзовой люстры. Вера ещё не вернулась с дежурства. Стало быть, эти негодяи, что скрутили ему руки, что возили его по всей округе, по просекам парка в Сокольниках, по неведомым дорожкам.... Стало быть, негодяи эти, уходя, не погасили свет.
Свет пылал, тень прошла по занавескам. Странное двойственное чувство овладело Бубенцовым. Он как будто находился... Страшная догадка, невозможное сомнение шевельнулось под сердцем. Кто-то же есть в доме! Не он ли сам? Не его ли неприкаянная тень бродит сейчас по квартире? Может быть, он не здесь, а там, дома? А кто же здесь? Кто же тогда здесь?! Кто?
Глава 18
Секретный агент
1
Около шести часов вечера в «Кабачке на Таганке» сидели два старых товарища — Игорь Бермудес и Тарас Поросюк. Третий, Ерофей Бубенцов, должен был появиться здесь с минуты на минуту. Бубенцов имел сообщить нечто важное. На все предварительные вопросы загадочно отвечал, что разговор не телефонный и разглашению не подлежит.
Хотя зал был пуст, друзья сидели, близко сдвинув головы. Говорили вполголоса, совещались. Они нарочно выбрали дальний угол, укромное место у самого окна. Романтический полусвет царил вокруг. Уличный фонарь сиял в высоком окне, и луч его падал сквозь щель в шторах, широкой полосою пересекал стол. Таинственные искры мерцали в гранях графина.
— Бубен, конечно, агент. Это ясно как трижды три. Но я думаю, тут ещё Верка мутит воду, — говорил Поросюк. — Шерше ля фам! Она меня всегда, примерно сказать, недолюбливала. Она-то, скорее всего, всё и устроила. Верка Бубенцова.
По природным свойствам своей натуры Тарас Поросюк был подозрителен до чрезвычайности. Он полагал, что жизнь и вообще все взаимоотношения людей строятся на принципе «кто кого обдурит». При этом Тарас был человек здравый, умеющий подать разумный совет. Трудно было найти специалиста, который бы так верно разбирался в стоимости всего. К нему ходили советоваться о покупке квартиры, машины, о котировках акций Газпрома, о дачном участке с домом и без дома, о недвижимости в Болгарии. Тарас давал трезвые, взвешенные, дельные советы.
Игорь Бермудес, услышав утверждение, что «всё устроила Верка Бубенцова», возразил:
— Ты неправ, милочка! Как могла Вера устроить такой сложный спектакль?
— Ты плохо знаешь психологию женщины! Она всегда комплексовала, что муж у неё, будем говорить, неудачник.
— Какой же он неудачник?
— А кто ж он? Во все скандалы встревает. Это раз. Нищий, без гроша денег.
— Ну и ты, душа моя, не особо-то богатый, — заметил Бермудес.
Тарас никак не реагировал на обидные слова Бермудеса. Он, как это свойственно многим малороссам, пребывал в состоянии собственной непроницаемости. В том состоянии, которое не может прошибить никакая логика, никакие факты, никакие доводы.
— Я так думаю, она режиссёру заплатила, — продолжал Тарас. — Два фактора сошлись. Во-первых, агент, во-вторых, деньги! Как иначе объяснишь его триумф на сцене? Якобы случайный. Знаем мы эти случайности. А теперь Шлягер ставит Бубна, будем так говорить, на первую роль. В реалити-то шоу. А мы с тобой просто ассистенты.
Бермудес ни за что не согласился бы с шаткой аргументацией Поросюка, когда бы не выпита ими была уже в ожидании Бубенцова четвёртая или пятая рюмка.
— Конструкция логичная, — признал Бермудес. — Всё сходится, душа моя. Но есть одно «но». Ты сам напомнил, что он скандалист. Ерошка всегда режет правду. Какой же он агент?
— А как же его из полиции выпустили? Он полицейскому фингал поставил! Это же, примерно сказать, реальный срок. А его выпускают. Это как тебе?
Аргумент был убийственный, и Бермудес засомневался:
— Думаешь, агент?
— А ты логику включи. Зеркало бил? — Поросюк, сощурив глаз, умно и тонко поглядел на Бермудеса. — Бил. А где? В Колонном зале. Это тебе, будем говорить, не у тёщи на кухне. И с рук сошло. Просто так?
— Чш-ш...
Бубенцов показался в дверях кабака. Серый пиджак, белая рубаха, красно-синий галстук. Тёмные большие очки, маскирующие фингал. Шарф повязан небрежно, артистически. Дорогой светлый плащ мехом наружу нёс на сгибе локтя.
Теперь уже и Бермудес, глянув на Бубенцова, был почти уверен: агент.
— Салют! — издалека крикнул Ерошка. — Йохо нет?
Сбросил плащ на пустой стул, уселся, закинул ногу за ногу. Был бодр, щёки пылали от ветра и мороза. От него разило уверенностью моряка, вернувшегося с большой путины с большими деньгами.
Поросюк недоверчиво двумя пальцами ощупал меховую подкладку плаща.
— Лама! — сказал Бубенцов. — Не секонд-хенд. Новьё!
Поросюк выразительно поглядел на Бермудеса.
— Налей-ка, братец! — приказал Бубенцов официанту, что возился за соседним столом. — Всем.
Тот мигом отставил свои хлопоты, подбежал, склонился:
— Айн момент, Ерофей Тимофеич!
Поросюк и Бермудес снова переглянулись. Бубенцов махом выпил рюмку, закусывать не стал. Подцепил кусок холодца, но отложил вилку.
— Всё разъяснилось! — сообщил он. — В Колонном зале была проверка. Кастинг! Кинопроба. По всем каналам сегодня показали. Я там везде на первом плане!
— Ты? На первом плане? — ревниво переспросил Поросюк.
— Да, я! На первом плане! Во всех новостях! Не это главное. А главное то, что теперь начинается настоящее дело. Мне заказали скандал. Шоу продолжается.
Вытащил конверт из внутреннего кармана пиджака и бросил на столик. О, как взыграло его сердце! Как мечтал он всю свою жизнь сделать вот такой вот жест!
— Здесь пятьдесят штук, — сказал Бубенцов небрежно. — Аванс. На вас двоих. Через два часа в «Парадизе» презентация вице-премьера «Бета-банка» Толубеева. Я должен устроить пьяный дебош. Как в Колонном зале.
— Опасно, — сказал Поросюк. — С Толубеевым, будем говорить, шутки плохи. Пристрелят и закопают. А то и закапывать не будут, собакам скормят.
— Всё под контролем, — сказал Бубенцов. — Заказчики люди серьёзные.
— Как серьёзные, будем говорить, люди могут заказывать скандал?
— Как-как? Так. Революции же затевают. Майданы. Революция или война, по существу, тоже скандал. Но с привлечением больших людских масс. Разница только в масштабах.
— Аванс взят! — поддержал Бермудес, беря конверт в руки и заглядывая вовнутрь. — От денег, милочка, грех отказываться.
— Охрана будет неподалёку, — сказал Ерошка. — В случае членовредительства ущерб компенсируют. Это особо оговорено. Физиотерапия, санаторий, отдельная палата, две медсестры... Может, и хорошо бы пострадать.
Ерошка взял графин за высокое горлышко, налил сперва себе, затем наполнил до краёв рюмки Поросюка и Бермудеса.
— Ну что ж, друзья мои! — Бубенцов поднялся над столом. — Я давно уже придумал этот тост. Самое время его произнести. Позвольте перейти на высокий слог. Хмель уже отчасти облагородил нашу кровь. Да здравствует хмель! Хмель придаёт интригу, вносит искромётную драматургию в нашу серую жизнь. Хмель подавляет в человеке осторожность, трусость, сомнения, присущие плебеям. Запомни это, Поросюк! Хмель раскрывает в нас всё возвышенное, рыцарское: склонность к подвигу, к единоборству со злом. Хмель многократно усиливает тягу к прекрасному полу! Пусть это обман, мираж! И пусть наутро схватимся мы за голову. Но, находясь в хмелю, мы жили настоящей жизнью! Да, это иллюзия. Но лучше жить в яркой иллюзии, чем в серой обыденности. — Тут Ерофей сделал паузу, а затем закончил торжественно: — Неси нас, хмель, на крыльях своих!
На секунду показалось, что с улицы, расплющив по стеклу носы, заглядывают бледные, взволнованные тени, машут руками, беззвучно и отчаянно кричат... Нет, то были не ангелы-хранители. Всего лишь обыкновенная игра света и тени. Уличный фонарь по-прежнему сиял в верхнем углу, и свет его мерцал в гранях графина.
2
Спустя полчаса компания, галдя и толкаясь, вывалила на улицу. В кой-как повязанных шарфах, в плащах нараспашку, в косо надетых шапках. Все трое краснощёкие, размашистые, уверенные в себе.
И тут выяснилось совершенно неожиданно, что фонарь, который всё это время честно сиял сквозь щель в шторах, оказался и не фонарём вовсе! Луна! Полная луна стояла высоко над городом. Ерошка понял это в самый последний миг, когда, прежде чем сесть в машину, обернулся в последний раз и прощальным взглядом окинул привычные места.
Затем все трое стали усаживаться в серебристый, никогда прежде не виданный в этих местах лимузин. Издалека могло показаться, что это вынесли и установили перед дверьми «Кабачка на Таганке» большой праздничный самовар. Столько сверкания и блеска разлилось по асфальту. Все переулки с горящими витринами, неоновые буквы рекламы, все дома, все люди, даже ковыляющая мимо бродячая собака — всё это тотчас сбежалось отовсюду. И всё это живое великолепие мира в значительно уменьшенном, искажённом и шутовском виде успело отразиться в никелированных выгибах, прогибах и изгибах.
Давно уже пропали во тьме красные огни, а представительный Шпак, пробежавший несколько шагов вдогон экипажу, вернулся, и всё ещё стоял с высоко поднятыми бровями у подъезда «Кабачка на Таганке». Снял фуражку с малиновым околышем, вытирал платочком изнутри. Затем вытащил пятитысячную купюру, подаренную ему Бубенцовым, помял в пальцах, понюхал и принялся разглядывать её на просвет.
Неведомая сила уносила друзей на мягких рессорах. Их везли бережно, покойно, как каких-нибудь членов правительства. Напротив Бубенцова, через широкий проход, устланный ковром, лицом к нему сидели на бархатных подушках Бермудес и Поросюк.
Роскошь салона подавляла. Несмотря на то что выпили они изрядно. Даже у Бубенцова, к собственному его удивлению, сердце время от времени тревожно трепыхалось под горлом. На небольшом столике в специальных креплениях плавно покачивалась початая бутылка виски, мелко позвякивали, сталкиваясь, две бутылки иностранной минеральной воды. Все трое поглядывали на этот столик, но трогать напитки не решались. Даже заводить разговор на эту тему никто не осмелился.
Серебряный экипаж птицей летел вдоль набережной по-над рекою. «Нула!» — вспыхнуло и отразилось в тёмных водах Яузы. Кренились, мелькали за окном столбы, горбатые мостики, вставали чёрные, мёртвые деревья, помавали ветвями вслед. Снова сверкнуло посередине реки. «Луна!» — переотразилось наконец-то...
Глава 19
Кочегар с кочергой и прочие
1
Любое, даже единичное и случайное событие — есть проявление всеобщей закономерности. То, что мы не видим системы, говорит лишь об узости нашего кругозора.
К ночи утих ветер, улеглась метель. Очистилось звёздное небо над головою, взошла, засияла в небе полная луна. Открылся взору бескрайний, совершенно пустой мир. Посередине сверкающей ледяной равнины показался замок с зубчатыми башнями, висячими переходами, подъёмными мостиками, колоннами с фризами, уступами и выступами. Сооружённый из мраморных блоков белого света и чёрной мглы, замок этот казался совершенно мёртвым. Но только издалека, дорогие мои, только издалека. Замок конечно же был обитаем, одухотворён живым человечьим дыханием.
Хозяин замка, Полубес Савёл Прокопович, шаркая тяжёлыми плоскими подошвами, задевая плечом известковую стену, поднимался по ступеням винтовой чугунной лестницы. Лестница гудела под его весом. Внутри башни было так темно, так тесно, что тучный Савёл Прокопович поневоле сдерживал дыхание. Он не в первый раз совершал подобное восхождение и при этом всегда дышал коротко, часто. Нахождение внутри этой тесноты действовало так, что он не мог, не решался вдохнуть полной грудью. Полубес подозревал, что, вероятно, вот так же трудно сделать глубокий вдох, когда тебя заколотят в тесном гробу. Когда нельзя даже поворотиться с боку на бок, чтобы улечься поудобнее. Тем более человеку раскормленному, дородному. Смирительная теснота гроба.
Постепенно, по мере продвижения к вершине, дышать становилось вольнее и легче. Тьма, которая поначалу казалась кромешной, чуть подтаяла, откуда-то сверху, точно сквозь ледяную глыбу, стало просачиваться слабое свечение. Это лунный свет, затопивший весь мир, переливался вовнутрь через узкие бойницы.
В точном соответствии с числом сторон света в замке было устроено шесть сторожевых башен, которые, как и положено, упирались в небо остроконечными шпилями. Но эта, северная башня, с железным флюгером в виде трубящего ангела, была самой отвесной и самой высокою.
Полубес выбрался наконец на припорошенную сыпучим снежком круглую смотровую площадку, вылез на свет. Стало видно, что мощным сложением и толстой грудью походил он на неандертальца. Неандерталец просунул голову меж кирпичными зубцами. Теперь, когда высветилось всё лицо его, сходство с неандертальцем проявилось яснее, ещё угрюмей выступили вперёд тяжкие надбровные дуги.
Полубес затих, наблюдая за тем, как серебристые звёздные облака разбиваются о стены замка. Большая луна, печально темнея своими вмятинами, висела в небе прямо перед самым носом. Она казалась даже ближе, чем седые кроны деревьев, что клубились далеко внизу, у самой земли. Сияла вокруг необозримая заснеженная равнина, холодный свет перетекал с холма на холм, и только далеко-далеко узкой полосою чернел на горизонте лес.
Прямо над головой Полубеса чёрное небо посверкивало искорками инея — то тянулся через бездну скованный звонким морозом Млечный путь. На страшной этой высоте всё было неподвижно и тихо. Не верилось, что всего лишь за двумя-тремя пологими холмами вьётся во поле дорога, и ведёт она туда, где живёт неугомонная, беспокойная, бойкая цивилизация — бессонная Москва. Где не бывает покоя, где нет тишины, где обязательно в каком-нибудь месте смеются, аплодируют, радуются удачам, изменяют жёнам с загульными красавицами, устраивают драки в ресторанах, плачут и рыдают, ночуют под платформами, замерзают в снегу.
Полубес знал, что вон та желтоватая дымка, мреющая на востоке, у самого горизонта, — это и есть та самая цивилизация. Хрупкая, призрачная. Он ещё раз оглядел земные пределы, а затем повернулся спиною к Москве, перевёл взгляд в глубь двора, вовнутрь каменных стен. В дальнем углу темнело приземистое строение с высокой стальной трубой, из которой вертикально вверх поднимались тёмные клубы дыма. То чадила, точно какая-нибудь старинная канонерка на рейде, угольная кочегарка.
Полубес Савёл Прокопович щёлкнул крышкой золотого хронометра, поднёс циферблат к лицу. В близоруком глазу его отразились пульсирующие зелёные огонёчки. Следовало поторопиться. Аудиенция была назначена на двадцать три часа семь минут по Гринвичу. Скокс Вольфганг Амадей, числившийся на службе у Полубеса в штатной должности кочегара, более всего ценил в подчинённых исполнительность и пунктуальность. Савёл Прокопович Полубес шагнул к отверстому люку...
Спустя полчаса, переодевшись в доме в соответствующую одежду, Савёл Прокопович ступил на дорожку и, поскрипывая снежком, двинулся по направлению к кочегарке. Там на высоком столбе у входа горела одинокая электрическая лампочка, как в старину над сельсоветом.
Полубес был уже в десяти шагах от места назначения, когда тяжёлая дверь кочегарки отворилась. В освещённом проёме появился колченогий кочегар Скокс, чёрный, как кочерга. Цепкий, горбатый, проворный паук. Клонясь вперёд, покатил по настеленным доскам большую лагерную тачку. В пустом кузове тачки звякала совковая лопата, колесо ритмично поскрипывало, чиркая о днище железным ободом.
Полубес деликатно приостановился в тени, пережидая, пока Скокс наполнит тачку углём и увезёт её обратно в помещение. Савёл Прокопович давно усвоил себе, что никогда не следует удивляться капризам, прихотям и странностям сильных мира сего.
2
Амадей Вольфганг Готфрид Скокс слишком заметно отличался от всей прочей челяди, гнездившейся в здешних стенах и поддерживавшей жизнедеятельность в замке. Отличался и внутренне, и внешне. Но вовсе не потому, что тёмное лицо его постоянно было покрыто тонким слоем угольной пыли. И даже когда он вынужден был выходить на люди, в свет, то и тогда веки его казались подкрашены чёрной тушью, как у шахтёра или у печального пожилого педераста.
Сама профессия, связанная с огнём, котлами, безмолвным ночным одиночеством, требовала особого характера. Скокс поддерживал пламя. Пламя под кипящими, клокочущими котлами горело днём и ночью. Не угасало даже жарким летом, поскольку нужно было всегда подсушивать глубокие сырые подвалы, а также поддерживать тропический климат в дальних теплицах и оранжереях.
Скокс любил печное дело, хотя кочегарить, следить за огнём было не основной его профессией. Это было хобби. Впрочем, случается так, что некоторые профессионалы ценят хобби больше основного своего дела. Именно к таким профессионалам принадлежал Скокс. Ещё при начале возведения котельной Скокс лично проследил за сооружением самой печи. Устроена печь была по-особенному, труба её всегда гудела с подвывом, меняя тон, жадно втягивая воздух в поддувало, независимо от того, открыта была топка или закрыта. Какая-то заключалась здесь хитрая профессиональная тайна, из рода тех, что хранятся веками, передаются только по наследству, шёпотом, в ухо, изустно.
Топка была открыта постоянно, в глубине беспокойно ворочались, гудели раскалённые добела угли. Прочее пространство котельной, освещаемое керосиновой лампой, напоминало пещеру. Слабосильный свет от лампы и от раскалённых углей не доходил до потолка, колеблющийся мрак круглился, укутывал углы.
У Полубеса оставалось в запасе ещё полторы минуты времени, а поскольку нарушать регламент строжайше возбранялось, он приостановился у приоткрытой двери. Наклонил голову, осторожно, исподлобья заглянул вовнутрь. Неприхотливая обстановка пещеры умиротворяла душу, в спокойных сумерках царил самобытный дикарский уют, от которого веяло тёплым жилым духом. Безусловно, никто бы не смог отказать обитателю этого помещения в своеобразном художественном вкусе. В самом подборе предметов обстановки, трудно сопрягаемых друг с другом, заключалась странная, но несомненная внутренняя гармония.
Помятый медный чайник, подвешенный около двери на цепочке. Керосиновая лампа над столом. Напротив стола узкий топчан, покрытый засаленной кошмой. Выстроившись в ряд, стояли вдоль стены профессиональные инструменты кочегара. Длинная чёрная кочерга с крюком на конце, кувалда, лопата, металлическая метёлка. Инструмент — и это сразу было видно — не раз побывал в деле: им пошевеливали угли, расшибали спёкшуюся породу, выгребали скопившуюся золу.
Это всё понятно. Но даже сам Полубес не мог объяснить, для чего прислонилась к дверному косяку стрелецкая секира? Для чего предназначены выглядывающие из-под топчана клещи, кованые, кузнецкие. Из какого великана жилы тянуть? Для чего устроена под потолком закопчённая балка с крючьями и ременными петлями? Спросить боязно. Да и не скажет кочегар Скокс. Молчит как демон. Лишнего слова из него не вытянешь никакими клещами.
3
Кочегар Скокс отодвинул занавеску, блеснул глазом из своего укромного уголка. Еле заметно кивнул склонившемуся в приветствии Полубесу. Затем снова пропал. Через минуту, выйдя в сумрачное помещение, первым делом приложился к висящему медному чайнику. Долго с наслаждением пил тёплую воду. Кадык ходил как поршень. Вытер узкие губы. Затем, поплевав на пальцы, проворно отворил чугунную дверцу, подбросил угля. Не скупясь, лопат не менее дюжины загрузил.
Присел у распахнутой топки на низенький табуретик, ссутулился весь, сунул к самому жару морду, поросшую короткой серой щетиной. Загляделся в адское пламя и стал скрести щетину всей пятернёй, всеми своими короткими ногтями. Так ему, вероятно, лучше думалось. Лицо его, очень широкое в скулах, суживалось книзу, оканчиваясь острым детским подбородком. Отсветы пламени плясали на тёмном лице кочегара, оживляя его подобием эмоций, которых на самом деле не было.
Пауза затягивалась. Савёл Прокопович Полубес тихонько прокашлялся, деликатно притопнул, пришаркнул. Скокс, не поворачиваясь, коротко дёрнул и мелко потрепетал острым ухом, поросшим редкой серой шерстью. Мол, не забыл, знаю, знаю. Не вставая с места, поворошил кочергой гудящие угли, немного прикрыл поддувало. Затем заговорил, отворотив морду в угол.
— Не понимаю, как люди могут радоваться Новому году? — произнёс скрипучим голосом, отчасти напоминающим протяжное куриное сокотание. — Им ведь печалиться надо по этому поводу. Ещё год жизни прошёл, сгорел без следа. Ещё один шаг к смерти. А они фейерверки запускают. Шутихи разноцветные. Эх, люди, люди...
Полубес с трудом подавил в себе порыв обернуться по сторонам. Даже ему, человеку привычному, тяжело было поверить в то, что этот дребезжащий, сиплый звук исходил не от дверных ржавых петель, а доносился изнутри столь тщедушного тельца. Да и словесные обороты Скокса всегда были немного странными, как будто он не относил себя к породе людей. Вся прочая челядь не любила Скокса, сторонилась, пряталась при виде его.
Полубес в ответ на реплику Скокса изобразил неопределённое пожатие плечами. Жест абсолютно нейтральный. Его толковать можно как заблагорассудится. Трояко. И согласие в нём, и понимание, и маленькое всё же несогласие. Савёл Прокопович прекрасно понимал, что не ради таких пустяков вызвал его Скокс. Тот же опять повернулся носом к пламени, заговорил скрипучим своим голосом:
— Пассионарий. — тут Скокс возвысил сиплый голос. — Недаром к огню льнёт. Пожарный. Огнеборец. Вроде меня, только антипод.
Полубес оживился. Разговор коснулся существа предмета. Нужно было проявлять профессионализм. Всё-таки Полубесу платили за советы. Должность у него так и называлась — потайной советник. Простота, народная смётка и мудрость.
— Есть всё-таки сомнение, Вольган Амадеич, — раздумчиво сказал Савёл Прокопович, чутко следя за реакциями Скокса. — Точно ли подходит? Присмыкнём его к делу, а он провалит всё! Уж больно фигура курьёзная. Положительных свойств не имеет.
— Разве стремление к справедливости и прямота не считается у людей положительным свойством?
— Оно, положим, так. Но не с кулаками же на всех кидаться! Пьёт опять-таки.
— Что значит пьёт? Чрезмерно?
— Ну как тут определить? Не то чтобы сильно чрезмерно, Вольган Амадеич. Но есть одно «но». В состоянии опьянения ведёт себя... как бы помягче... Прёт из него! В драку лезет, хамит всем. Вышестоящих оскорбляет. Скотина, одним словом. Зеркала бьёт. Натуральный шаромыга!
— Да, мы убедились на смотринах в Колонном зале. Под воздействием алкоголя в нём просыпается воинственный предок. Который в трезвом виде дремлет в его психике. И предок этот, тут вы правы, субъект довольно беспокойный. Но ведь и чрезвычайно благородный! По вашим человеческим понятиям!
— В том-то и опасность, Вольган Амадеич. Даже в таком месте не удержался! В Колонном зале Дома Союзов! Личность буйная, неуравновешенная. Поставишь на него, деньги вложишь, а он нажрётся и испоганит опыт. Наблюёт в публичном месте.
— Нет слабости человеческой, которую мы не сумели бы обратить в достоинство. Следует развить патологические особенности, превратить их в художественный стиль. Художественный стиль, нашими попечениями, давно уже поставлен вне сферы морали. Почему бы не дать ему роль шпрехклоуна? Пусть господин Шлягер озаботится этим. И дайте славы! Не скупясь. Побольше славы человечьей. Устройте публичный успех, проверьте, падок ли?
— Уже! В театре проверили на страсть тщеславия. Падок! — доложил Полубес. — Нагнали публики полный зал. Овации, букеты, «браво» — всё как положено. Падок до славы!
— Ну так в чём сомнения?
— Как-то мне представлялось всё-таки, что тут должна быть, знаете... Этакая врождённая солидность, импозантность, авантажность. Опять-таки. Ведь если проехаться по Европе да посравнивать с монументами королей, то мало как-то общего. Я вот в Веймаре был. Уж если, как говорится, вынимать из грязи, то не такого же скота.
— Вы имеете в виду его аморальность?
— Именно что! Сволочь редкая! — Полубес оживился, принялся загибать пальцы. — Жене изменяет — раз. Долги не платит. На замечания коллекторов дерзит, грубо матерится. Скандалит, зеркала бьёт — три. Соседей чуть не каждый месяц водой заливает. Да что там! Я вот опять о жене. Ладно бы женщина невзрачная, постная, тогда простительно. А то ведь... Кровь ведь с молоком! И-эх!.. А коса, коса!.. Что ж ты, сволочь такая, вожделеешь других баб?
— Так изменяет жене или вожделеет?
— Определённо сказать нельзя. Не замечен. Но что касается вожделения — не сомневаюсь! В сердце своём.
— Сдаётся мне, что вы просто ревнуете, — сухо перебил Скокс. — У вас есть иные варианты? Дас ист?
— Ну, я не знаю, Вольган Амадеич. Можно бы, как говорится, ещё покопаться в генофонде. Было бы надлежащее финансирование. — Полубес мельком зыркнул на Скокса, мгновенно поправился: — Хотя, с другой стороны, а какая разница? Для русского быдла! Пипл схавает. Что нашли, то и нашли. Жрите!
— Всё должно быть натурально. Минимум субститута. Какие ещё вопросы?
Савёл Прокопович выхватил из-за пазухи пергамент, насупил бровь. Удерживая бровью монокль, ткнул толстым пальцем в текст:
— Вопросов нет! Тут вот первым пунктом особо обозначено: «Кровь должна быть подлинной». Перепроверено. Кровь подходящая! Он, кстати, и не догадался ни о чём. Мы ведь как рассуждали? Если, положим, силком в лабораторию затащить, так заподозрит неладное. Адреналину лишнего напустит в кровь от волнения. А когда естественным образом, то и не сообразит. Врезали в харю как бы в потасовке и платочек к носу приложили.
— Вы избивали его? Это опасно?
— Да нет, Вольган Амадеич, не опасно. Сунули слегка в рожу на перекрёстке. У метро «Сокольники» подловили на живца. Когда он за Розой увлёкся. Ну а Роза кровь-то платочком ему и промокнула. Изящно сработали. Главное, жизненно! Да вот же! — Полубес вытащил запятнанный кровью Бубенцова батистовый платочек, показал Скоксу. — Врезали пару раз. Оно и для воспитательных целей хорошо. Чтоб не возносился. А во-вторых, двойная выгода. И кровь взята для анализа, и взбудоражили его перед смотринами, чтобы психологически проявился. Правда, это потребовало дополнительных финансовых...
Говоря последние слова, Савёл Прокопович снова метнул быстрый взгляд на Скокса.
— Вы упомянули о его жене, — озабоченно произнёс Скокс. — Потрудитесь исследовать и её кровь. Только прошу вас действовать щадяще.
— Так мы же замену изготовили уже! Зору... простите, Розу Чмель! В его вкусе получилась женщина. Ладная, осанистая. Он и рад будет, сволочь такая!
— Не торопитесь с заменой, — сухо сказал Скокс. — Минимум внешнего воздействия. Максимум естественного. Всё должно быть натурально.
Судя по тону Скокса, всё уже окончательно решено на самом верху. И принято к безусловному исполнению.
— Дело серьёзное, Вольган Амадеич, — озабоченным тоном произнёс Полубес, выказывая служебное тщание. — Ведь тут нужен же какой-никакой опыт руководящей, как говорится, работы.
— Да, — согласился Скокс. — Абсолютный политический ноль. Над ним, конечно, будет установлена опека, но тут вы, безусловно, правы. Тем более что вы сами тяжело поднимались по лестнице. Вы ведь, если досье не ошибается, выходец из самых сокровенных простонародных низов?
— Внук кулака, — с достоинством сказал Полубес. — Сын власовца. Героям слава!
Произнося эти слова, он внутренне приободрился, шаркнул ногой. При этом выпрямился, надулся грудью и одновременно ссутулился скромно.
— Вот-вот, — кивнул Скокс. — И этот обтешется. Человек существо податливое. Наш же подопечный, как выявил опыт, человек без твёрдых оснований. Но натура весьма артистическая, обладающая своеобразной харизмой. Это, я вам скажу, идеальный материал.
— А демократию, значит, что? — не удержался обрадованный Полубес. — Сворачиваем?
— Савёл Прокопович! — Скокс укоризненно нахмурился. — Что за спешка?
— Я так думаю, надо его немного пообтесать, — спохватился Полубес, окончательно нащупав границы той колеи, за которые выходить не следует. — Навык дать. Да вот в нашем же Ордынском районе очень удобно. Как говорится, на глазах всё время, под рукой. Продвинем, будем наблюдать.
Полубес выговаривал это так, словно мысль об Ордынском районе только сейчас пришла ему в голову. На самом деле этот вариант уже был разработан им давно, детально и дотошно.
— Там ведь этот... толстяк...
— Толстяка побоку. — Полубес подчеркнул своё прямодушие и решительность. — Это Сёма Ордынцев. А если надо, то и под суд. Вороват больно.
— Все они вороваты. Оставьте. Человек слабое существо. А идея мне нравится. Проведите досрочные выборы, пусть на практике почувствует вкус власти.
— Будет исполнено!
Полубес потоптался, деликатно покхекал, прокашлялся в ладошку.
— Да... Ещё... Вольган Амадеич... Такие, так сказать, пироги, мать его за душу... гкхм... — лукавый Полубес нарочно огрубил, снизил стиль речи, поскольку собирался перейти к особо тонкой, деликатной теме, разрешить мучивший его денежный вопрос. — Я знаю, там докладная на меня, дескать, я... Семь миллионов... Клевета сущая. Ядовитый укус. Это Шлягера происки. По факту вроде бы так, но есть ведь и логика жизни. Есть, положим, геометрия Евклида, тут не поспоришь. Не пересекаются. Хоть лопни. А вот, к примеру, у Лобачевского доказано, что там, в вечности, параллельные линии пересекаются. Вышняя, так сказать, математика.
— Я читал докладную. Вы все, поддавшись алчным своим похотям, подвергли кандидата чрезвычайной опасности.
— Да Шлягер этот... Действуя в сговоре с Дживой, я полагаю. Подменили деньги на фальшивые. Из корыстных соображений. Едва не нарушили принцип подлинности! Пришлось срочно вмешиваться, устраивать обратную подмену. Этот Шлягер, должен вам доложить, везде пытается подменить подлинник подделкой! — Полубес рад был настучать на соперника. — Дживе всучил картину Левитана, якобы подлинник. А я знаю, что это копия. Причём копия не с подлинника, а с другой копии. Копия копии.
— Шлягер ваш мало того что сребролюбив, так ещё и склонен к дешёвым мелодраматическим эффектам. Не понимаю, для чего нужно было играть демона при искушении деньгами. Впрочем, допускаю, что это его стиль.
— Стиль, стиль, его стиль, истинно так! Умеете же вы словцо подобрать! Удивительный дар!.. Осмелюсь доложить вам, — Полубес понизил голос, — Адольф с этим своим стилем едва не погубил подопечного. Заигрался, скотина! Генеральские мои штаны выпросил у меня, напялил, тьфу!.. Всех в итоге загребли в полицию. А нашему-то серьёзный срок грозил. Уголовное дело! Ударил полицейского по фамилии Рыбоедов.
— Как так?! — встревожился Скокс.
— Ликвидировали, — успокоил Полубес. — Пришлось вмешаться службе оберега. Завалили Рыбоедова на пороге травмпункта. Шёл оформить побои. Тело изъяли из оборота. Вместе со следами побоев. Как у нас говорится: «Несть человека — несть проблем».
— «Несть человека»... Хе-хе... Ну что ж... — Скокс поднялся с табуретки. — Кажется, пришло время приступать к дальнейшему искушению славой.
— Уже! Я, Вольган Амадеич, уже отдал распоряжение Рудольфу Дживе. Господин Джива провёл с подопечным нужную работу. Герой наш подписал контракт без сопротивления. Даже уже и скандал произвёл по тем же лекалам, как и в Колонном зале. Успех неимоверный!
Говоря это, Савёл Прокопович сильно рисковал. Здесь не любили самовольства. Однако, судя по усмешке, тронувшей тонкие губы Скокса, тот был доволен сообразительностью Полубеса.
— Осваивайте бюджет. Ну и отчёты. Как обычно. Прошу вас соблюдать меру в сфере личного обогащения. Как там заметил ваш классик? Каждая золотая монета — это слеза вдовицы. Или бедной сироты? Я, впрочем, не силён в ваших цитатах.
— Да и я, честно сказать, не могу похвастаться. Но мысль ваша понятна. — Полубес блеснул умным, острым глазком, строй его речи переменился. — Другой наш классик сказал: «Нельзя построить счастья на слезе ребёнка». В школах учат наизусть. Учили, вернее, в мою бытность. При Советах. Теперь не знаю.
— «Нельзя построить счастья на слезе ребёнка»... — Скокс задумчиво покивал головой. — Забавный афоризм. Звонкий. И, разумеется, абсолютно неверен, как и всякий афоризм. На мой взгляд, только так и можно построить счастье. И никак иначе. Эх, люди, люди... Прощайте!
Савёл Прокопович Полубес низко поклонился, так что разошлись сзади тяжёлые фалды камзола. Прижав ладонь к золотому шитью на груди, мелко кланяясь, попятился к выходу. Вокруг его узловатых колен свободно болтались просторные серые подштанники, вышитые по краю зелёными ветками и красными птицами. Полубес приложил козыряющую ладонь к треуголке и, звонко звякнув шпорами, развернулся через правое плечо. Все необходимые ритуалы, надо это подчеркнуть, здесь соблюдались пунктуально, неукоснительно. Не приведи дьявол упустить что-либо!
— Зайт берайт! — махнул ладошкой Скокс.
— Иммер берайт! — дежурно отозвался Полубес и, посверкивая-позвякивая серебряными пряжками на туфлях, вышел вон.
Скокс Вольфганг Амадей усмехнулся ему вслед. Он прекрасно знал Савёла Прокоповича. Савёл Прокопович, хоть и был похож на человека необразованного, ленивого, нелюбопытного, вовсе не являлся таковым. Про геометрию Лобачевского-то, прохиндей, вон как ловко ввернул. Эх, люди, люди... Люди-человеки...
Савёл Прокопович, выходя от Скокса, тоже усмехался, и тому были свои причины. «Иммер, иммер берайт...» «Будь готов! Всегда готов!» Как же. Разумеется, давно уже выкопал он в учёной энциклопедии подробнейшие и самые достоверные сведения о том, что же означает экзотическое, очень неприятное для русского слуха имя «Скокс». Скокс есть демон, способный находить клады и похищать сокровища. Такова основная его специализация. Мелкая, в сущности, должность, пресмыкающаяся в самом низу пирамиды. Самый уже подонок, отброс иерархии. Ничтожный атом в коловращении «spiritibus mortuorum» — мёртвых духов. И гляди ж ты, на сколь великое дело его определили! Эге.
Часть вторая
Мёртвые духи
Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя.
Иез. 28, 12–19
Глава 1
Подлая правда
1
Стали сбываться вещие прорицания Гарпии Габун. Стали сбываться! К вящему посрамлению тех, кто не верит в духовное и свышеестественное. Как и было обещано, Бубенцов понемногу начал овладевать миром.
Прорицания исполнялись не вдруг, а постепенно, шаг за шагом. Завоёванное пространство было поначалу не столь обширно, как мечталось. Но кое-какая слава уже бойко летела впереди Бубенцова. Перепархивала лёгкой бабочкой с уст на уста. В двух-трёх свежих анекдотах мелькнуло его имя. А через какой-то месяц уже вовсю зашелестела о нём соблазнительная молва. Например, будто бы видели Бубенцова или похожего на него человека в банкетном зале ресторана «Кабачок на Таганке». В добротном костюме, лаковых туфлях, в шёлковом жилете, с золотою цепочкой карманных часов на животе. Будто бы, выходя из зала после обильного ужина с шампанским, ананасами и рябчиками, перекатывая зуботычку во рту, человек этот приостановился в вестибюле возле усатого швейцара Семёна Михайловича Шпака. Поглядел и усмехнулся, вспомнив, по-видимому, нечто давнее, забавное. А затем извлёк из внутреннего кармана толстенькую пачку денег, перевязанную аптечной резинкой. Вытащил несколько зелёных купюр, небрежно бросил на пол и, сделав козыряющее движение ладошкой, отчеканил на прощанье:
— Чек имею!
И ушёл, немного покачиваясь.
Веером разлетелись заветные бумажки по полу. И Шпак, импозантный, важный, не удержался на ногах. Не устоял — подломился в коленях, бросился подбирать ускользающие купюры. Шевельнулся было охранник от входных дверей, чтобы пособить толстому, неповоротливому Шпаку, ползающему на четвереньках. Но остановлен был грозным рыком: «Сам!»
Вот такой вот жест.
Слава человечья, раз уж зашёл о том разговор, требует особого внимания, ухода и подпитки. Если воспользоваться аналогиями из растительного мира, то это пышное, но крайне привередливое растение, которое в любой миг может вдруг захиреть и высохнуть. Для взращивания славы требуется великое множество квалифицированных специалистов.
Слава же Ерошки Бубенцова росла сама собою, как сорняк. Так, по крайней мере, полагал он сам, удивляясь происходящим в его жизни переменам. Слава его разрасталась подобно неприхотливому хрену или осоту. Она пёрла сама собою, как придорожный борщевик, заполоняя обширные территории. Без всяких удобрений и без малейшего ухода со стороны хозяина.
Именно эту естественность всячески поощрял Адольф Шлягер. Шлягер настолько сблизился с Бубенцовым, что во всех скандальных репортажах, на всех газетных снимках обязательно где-нибудь на заднем плане, в тени, в укромном сумраке мелькала знакомая плешь, выглядывала длинная настороженная физиономия, что-то зорко высматривали тёмные зрачки.
Жизнь Бубенцова полна была непрестанного движения. Уже после первых громких и удачных скандалов стали широко расходиться круги. Ерошку стали показывать по телевизору. Поначалу робко, с оглядкой, малыми порциями, как бы не совсем всерьёз. В самом конце ленты новостей мелькали вдруг два или три коротких эпизода, как лёгкая экзотическая добавка к пресным обыденным событиям.
Но настал день, когда главный канал посвятил Бубенцову отдельную передачу. Показан был сюжет о банкете, устроенном руководством уважаемой государственной корпорации. Страшный, соблазнительный скандал с битьём посуды, хватанием за грудки, опрокидыванием столов. Скандал несколько раз крутили потом даже по заграницам на тамошнем телевидении. Правда, показана была только сама драка. Сцену же, где ворвавшийся на трибуну скандалист требует «пересмотра результатов приватизации и возврата народу недр», цензура вырезала.
Уже на следующее утро Бубенцову стало затруднительно передвигаться по улицам, спускаться в метро, покупать рыбу или картофель в магазине. На него стали озираться, указывать пальцем, останавливать, заговаривать, фотографироваться, просить автограф.
Все пересуды теперь были о нём! Любительские съёмки скандалов выкладывались в сеть, собирали тысячи просмотров. Десятки тысяч. Сотни тысяч. Вот драка Бубенцова с упитанными, хорошо выбритыми интеллигентами на банкете в английском посольстве. Рвётся с треском рубаха врага, смачно чвакает кулак по жирному загривку, падает на пол блюдо с холодным осетром. Судя по откликам и лайкам, народ ему сочувствовал и поддерживал. Всё ему сходило с рук. И даже то, что, ни капли не стесняясь, ударил по уху женщину, да не просто женщину, а пожилую, заслуженную правозащитницу, не вызвало у народа отторжения! Вот удивительно! Восемьдесят семь процентов было за него!
Много, много подобных сюжетов бродило по интернету. Да, и вот ещё что любопытно! В разных городах стали происходить события с похожими сюжетами. Появилось вдруг множество подражателей. Кто-то бил посуду на свадьбе заместителя губернатора, другой подпалил машину местного богача, третий нахамил начальнику полиции, а кто-то обокрал загородный дом депутата местной думы.
2
Вошедшего в моду Бубенцова нарасхват зазывали на корпоративные вечеринки, на юбилеи чиновников, на бенефисы знаменитых артистов, на дни рождения олигархов.
По мере того как росла популярность Бубенцова, повышались и ставки гонораров. Сам собою стал меняться уклад семейной жизни. Вера забрала детей от калужской тётки, устроила их сперва в дорогой платный лицей на Ордынке. А вскоре и вовсе, по совету и при энергичном содействии того же Шлягера, отправила в престижный английский колледж при тамошнем университете.
В начале триумфального взлёта Бубенцова перемены и улучшения в жизни супругов совершались ещё робко, с оглядкою. Однажды грузчики внесли в дом новую стиральную машину, а прежнюю вынесли, поставили у подъезда. Хотели унести на помойку, но Ерошка не позволил:
— Рабочая же. Не сломанная. Люди возьмут.
Но люди не взяли. Не взяли люди и вполне исправный телевизор. И тумбочку из-под него. Из натурального дуба. И прекрасный советский холодильник «ЗИЛ», на выпуклой двери которого Ерошка специально написал фломастером «Годен!», — не взяли. Напрасно стоял этот совершенно исправный холодильник у подъезда, мешая проходу. Не было больше нуждающихся!
Пришёл черёд и для более значительных перемен. Как повелось с самых древних времён, искушение пришло через женщину. В ответ на осторожное предложение Веры сделать наконец-то в квартире капитальный ремонт Ерошка поначалу решительно отмахнулся. Вера, подойдя сбоку, потёрлась щекой о его плечо.
— Ну, хоть дверь-то железную надо вставить как у людей. Ну, Ерошка...
— Хорошо, — помягчел, сдаваясь, Ерошка. — Дверь. А про капремонт и не думай! Забудь!
На следующий же день, пока Бубенцов выступал в клубе электролампового завода, пришли белорусы и вставили стальную дверь. Ещё через день явились молдаване, облепили белой керамической плиткой стену в кухне, над плитою.
— Ну, что скажешь? — спросила Вера. — Хуже стало? Хуже?
Нет, хуже не стало. Вера подловила его как раз в тот момент, когда он, обернувшись после душа полотенцем, с мокрыми растрёпанными волосами стоял босиком посреди ванной. Голый человек гораздо менее способен к сопротивлению, нежели человек одетый, обутый, застёгнутый на все пуговицы.
— В ванной сделают в выходные! Плитку я уже купила. Хуже не будет!
Ерошка понял, что море не успокоится, что так и будет оно накатывать волна за волной, отступать и снова мягко обрушиваться. Полотенце ослабло на его животе, свалилось на пол. Ерошка махнул рукою, сдался без сопротивления.
Вера обещала ограничиться самыми общими, поверхностными переменами. Но стоило только сделать первый шаг, всё само собою завертелась, сорвалось с привычных мест, и невозможно было остановить лавину. К понедельнику ванная сверкала новой плиткою, блистала никелем смесителей. Полыхали хрустальные светильники по бокам зеркала.
А во вторник две молчаливые татарки наклеили в гостиной белые обои взамен облупившихся. После их ухода всё волшебно преобразилось. Комната светло засияла! Но зато резко потемнел паркет, покрытый древней, советских времён ещё, мастикой. Из-под мастики проступили бурые пятна.
— Как будто резали поросёнка, — сказал Ерошка. — А тушку рубили прямо на полу.
Нельзя было теперь жить спокойно среди новеньких белых обоев, глядя на тёмные следы и шрамы давно ушедшей чужой жизни. Вызвали мастера со шлифовальной машиной. Пришёл мрачный дагестанец, окинул взглядом пространство, потребовал доплату за сложность работы. Паркет был старинный, тяжёлый, буковый. Вытащил в коридор шкафы, кресла и диван, загудел строгальной машиной. Через два дня озарилась комната янтарным лаком, веселя глаз, но печаля сердце — ибо теперь навис серой плитою потолок. Как же раньше-то не замечали? Как вообще можно было жить с такими безобразными швами на потолке?
Хочешь не хочешь, а надо было теперь делать потолки натяжные, немецкие. Много ли надо человеку для суетной земной радости? Нет, совсем немного. Ну а дальше пошло-поехало уже само собою, почти без участия хозяев. Привезена была новая ванна, лёгкая, гулкая, как будто сделанная из жести. Таджики, краснея лицами, вытащили на лестничную площадку старую, чугунную, тяжёлую и добротную, чуть только пожелтевшую на дне, изготовленную ещё в сталинские времена. Затем явились новые рабочие, смонтировали кухню со шкафчиками, полочками на стенах, с подсветкой и вытяжкой. И не успевали ещё хозяева привыкнуть к новизне, определиться с чувствами, передохнуть, как жизнь снова тормошила, заставляла вставать, бегать, суетиться.
В этом был странный, почти необъяснимый парадокс. Чем больше средств поступало со всех сторон на счета Бубенцова, тем больше чувствовался их недостаток. Денег катастрофически не хватало. То там, то здесь в растущем хозяйстве образовывались зияющие прорехи. Жизнь для сохранения набранного темпа требовала участия всех умственных, физических и духовных сил. Круг попечений стремительно расширялся, и уже самого времени не хватало для исполнения всех тех мелких, докучных, неотложных дел, которые Бубенцов обязан был теперь исполнять.
— Помнишь, у нас на даче завелись дрозды-рябинники? — спросил как-то Ерошка, присев на секунду в кресло и вытирая лоб.
Но Вера, оказывается, забыла. А может, и вид сделала. Зато Ерошка отлично помнил, как дрозды беспрерывно носились в воздухе, не имея ни минуты покоя и передышки. Иногда кто-то из них садился, обессилев, на мокрые провода, сидел, свесив крылья, открыв клюв. Но, не высидев и одной минуты, срывался, камнем падал вниз, снова стрекотал, летел на раздобытки. Потому что страшно зияли из гнезда отверстые зевы прожорливых птенцов, растущих, орущих, теснящих и выпихивающих друг друга. Весь день от зари до заката носились, трещали в воздухе серые птицы, едва успевая справляться с голодной прорвой. Сколько бы ни добывали и сколько бы ни приносили червяков, жуков и прочей живности, растущие птенцы становились от этого только толще, голоднее и прожорливей.
3
Дело спорилось! Шлягер арендовал в психиатрическом корпусе Лефортовской клинической больницы часть коридора на первом этаже и несколько пустующих палат. Когда-то в советские времена в палатах нельзя было протолкнуться от пёстрого и оголтелого народа. На каждой койке лежало по пациенту. Кого тут только не лечили! Каких неврозов, неврастений, психических извращений, каких только навязчивых состояний и прочих курьёзов здесь не наблюдалось! Сколько защищено было докторских диссертаций! Сколько, в конце концов, самих докторов, заразившихся чужим безумием, успокоили эти палаты! Но в последние времена жизнь психиатрического отделения замерла, коридоры опустели. Толпы бесноватых, освободившись из смирительных рубах, хлынули в мир. Теперь пространства больницы редко оглашались воплями несчастных. Долетали изредка из-за стен невнятные шорохи, вздохи, бормотания, стоны, тихие шаги, перезвяк посуды, и только.
Нынешнее население было немногочисленно. Бродил по длинным коридорам горбун в сером армяке, подозрительно глядевший на всякого встречного. Прятался по тёмным углам маленький молчаливый человечек с огромными задумчивыми глазами на треугольном детском личике. Иногда показывалась откуда-то иссохшая горбоносая старуха, местная достопримечательность. Но пропадала, не дав себя разглядеть. Был даже интеллигентный, очень приятный на вид старичок. Этот непрерывно что-то бормотал, как будто молился. Венчик белых волос пушился вокруг лысины. Приглядывала за ним тихая старушка, по-видимому жена. Когда Бубенцов, засидевшись допоздна, ночевал на свободной постели, ему приходилось засыпать под уютное бормотание старичка. Заведовал отделением импозантный, аристократичный сангвиник с большими, влажными глазами и с толстым носом, постоянно забитым мокротами. Он был приверженцем новых веяний в психиатрии, использовал смесь различных методик, но кое-что добавлял и от себя. Ассистировали доктору две красивые девки, что подлечивались тут от наркомании.
За порядком надзирал охранник с покатыми, толстыми плечами и угрюмым, бровастым лицом. Говорили, что в девяностых в звании полковника уволился из комитета госбезопасности. Дарвинист разглядел бы в нём боковую ветвь человеков, произошедших не от обыкновенной мелкой макаки или шимпанзе, как большинство народа, а от солидной гориллы. На самом деле добрейший, хотя, к сожалению, весьма недалёкий, туповатый человек. Через какое-то, очень небольшое, время Бубенцов узнавал лица насельников дурдома, с некоторыми даже здоровался кивком головы.
4
Место для офиса выбрано было исключительно удачно! Тихое убежище, огороженное высокой чугунной решёткой, заросшее деревьями и кустами сирени. Между больничными корпусами располагался небольшой искусственный пруд. Такой, какой и полагалось бы иметь при каждом психиатрическом отделении. Вода успокаивает больных и здоровых. На закате Адольф Шлягер любил приходить сюда, чтобы швырнуть камень-другой в тихую гладь пруда. Глядя на затухающие волны, он умиротворял своё собственное волнение.
Когда Адольф впервые привёз сюда Бубенцова, чтобы показать поле их будущей деятельности, Ерошка, едва войдя на территорию клиники, почувствовал необычайное волнение. И было отчего прийти душе его в радостное смятение. Он узнавал эти места! В больнице много лет назад провёл он две счастливейшие недели. По забавной прихоти случая офис располагался напротив терапевтического отделения, где прошли самые лучшие дни его юности. Бубенцов указал Шлягеру на четырёхэтажное здание старинной постройки. Здание из красного кирпича теперь стояло с запылёнными окнами, было пусто, безжизненно. Ерошка обошёл каменную беседку с колоннами, потрогал чугунные скамейки, погладил скульптуру Лаокоона с отбитой рукой.
— Ты представляешь, Адольф, — радостно озираясь, говорил Бубенцов Шлягеру, — здесь я от армии косил! Лежал на обследовании. Моя койка стояла вон у того окна на третьем этаже. Да-да, у водосточной трубы. Угловое. А в этой беседке мы пили вино. По трубе спускались. Видишь, кусты сирени сохранились до сих пор. Нас тут было человек десять, призывников. А какие песни пели нам девушки из музыкального училища! Верка меня к ним ревновала. И не зря... Эх, Адольф!..
— А вас не смущало соседство психов?
В ответ на пренебрежительное и братское «тыканье» Шлягер упрямо и даже с некоторым вызовом обращался к Бубенцову исключительно на «вы». Подчёркивая тем самым своё духовное превосходство.
— Да ты что? Даже забавно было, — сказал Ерошка. — Там один параноик влюбился в мою Веру. Подходил неприметно, становился за кустом сирени и мычал: «Вера, забери меня отсюда!» — Бубенцов вздохнул и покачал головой. — Вера жалела его. А мне смешно было. «Веня, забеди бедя...» Молодой был, дурной.
Уже давно вступили они в вестибюль, прошли коридором.
— Здесь повесим картины, — говорил Шлягер. — Нехорошо, когда слишком голые стены.
Кабинет, в котором компаньонам предстояло принимать посетителей и оформлять заказы, был наскоро переоборудован из обыкновенной больничной палаты. Шлягер поскупился на обстановку, натаскал что попалось под руку из других помещений и кладовок. Мебель подобралась хотя и списанная, но вполне крепкая, пригодная. Казённые стулья, два письменных стола, табурет, клеёнчатая кушетка для клиентов. У входной двери умывальник, медицинский шкап со стеклянными полками, хромая капельница. Из-под них убегал мозаичный пол из белых и черных плиток, похожий на шахматную доску.
Осмотрели рабочие места, полюбовались видами из окна. Рассеянная улыбка от нечаянной встречи с собственным прошлым всё это время играла на лице Ерофея.
5
Последующая деятельность компаньонов по устроению разгрузочных скандалов была самая простая. За день или за два перед публичным представлением Бубенцов принимал от Адольфа Шлягера сафьяновую папку, которая содержала сведения о виновнике торжества.
— Вот вам хартии и скрижали, — говорил Шлягер. — Здесь вся подноготная. Физическая деятельность, душевные помыслы.
— Удивительно, — повторял всякий раз Бубенцов, перелистав компромат. — Тут вся подноготная. Как будто её сам дьявол тебе подсовывает.
Шлягер усмехался, молчал.
Поначалу Бубенцов потирал руки и с нетерпением набрасывался на документы, вчитывался в чужие соблазнительные тайны. Но очень скоро перестал удивляться. Общая психология человека, поражающая дилетанта цветущим многообразием, оказалась несложной. Пучина человечьих прегрешений только на первый взгляд выглядела загадочной. На самом деле здесь царили сплошные повторы. Устройство человека оказалось не сложнее устройства старинного ночника, что много лет стоял в спальне у Бубенцовых. Ночник почти уже не использовали, но когда нажимали кнопку, лампа зажигалась зеленовато-синим светом. Срабатывал электромоторчик, и в таинственном подводном царстве всё приходило в движение, оживало. Проплывали по кругу экзотические рыбы, медузы, осьминоги, покачивались морские коньки, шевелились водоросли, поднимались пузырьки. Однако стоило приглядеться повнимательнее — и видно было, что там движутся одни и те же коньки, медузы, осьминоги. В одних и тех же сочетаниях, в одной и той же последовательности. Что рыб на самом деле нарисовано всего только семь.
Люди самых разных сословий, возрастов, характеров оказались по сути одинаковыми. У всех внутри копошились всё те же семь гадов. Подноготное знание не радовало Бубенцова. Документы, которые он изучал, готовясь к очередному выступлению, были подлинные, цифры реальные, факты ужасающие, фотографии страшные. Но вот что поразительно! Вот во что невозможно даже поверить! Публичные разоблачения, производимые Ерофеем Бубенцовым, основанные на достоверных сведениях, не имели ни малейших последствий. Кроме разве что совсем незначительных. В ответ на страшные факты, в ответ на самую жгучую сатиру — слышался дружный весёлый смех.
Бубенцов прилюдно и во всеуслышание вора называл вором. Махал квитанциями, счетами, где документально подтверждались похищенные суммы, указывались фамилии сообщников, адреса офшоров. Он выставлял перед зрителями увеличенные снимки со спутников с панорамами украденных латифундий, парков, дворцов, отстроенных на ворованные деньги. Все хохотали в ответ.
— Он украл у народа миллиарды денег! Ловко обманул рабочий коллектив, сумел увести из-под носа государства обогатительный комбинат! О изощрённый и лукавый ум!
Рвалась охрана заткнуть рот зарвавшемуся Бубенцову, но юбиляр останавливал. Было видно по лоснящейся, самодовольной морде, что горькая эта правда звучит для него как самая лучшая поэма. Особенно нравилось про «изощрённый и лукавый ум». Бубенцов, к слову, очень тонко видел ту грань, где правда о самых злых, подлых деяниях клиента не приносила никому вреда. Так умелый массажист, схватившись пальцами за больную мышцу и причиняя клиенту боль, тем не менее в итоге достигает отличного расслабляющего эффекта.
Самая разоблачительная правда вызывала смех.
Тоскливо становилось порою Бубенцову от такого отношения людей к правде. Разумеется, все видели, что гнусную, соблазнительную правду эту произносят уста хмельные. Так ведь по-иному нельзя! Потому что страшна была эта правда, и только захмелевший человек приобретал ту необходимую степень дерзости, которая позволяла её высказать в лицо негодяю. Правильнее даже сказать, не дерзости, а того высшего дерзновения, каким в древности обладали русские юродивые, когда обличали царей. Ведь только юродивый да пьяный человек приобретают законное право говорить на этой земле правду.
Канон, по которому выстраивались моноспектакли Ерофея Бубенцова, сложился с самого начала и как бы сам собою. Тот первый импровизированный скандал, произошедший в Колонном зале Дома Союзов, был взят за образец для всех последующих. Сюжет оказался наиболее жизнестоек по форме и по содержанию. Ощущалась в том первом публичном выступлении корявая рука дилетанта, но именно эта корявость и простодушие придавала действию живое дыхание, искренность, достоверность. Все последующие скандалы Бубенцова, в сущности, были копиями, повторениями. Уточнять приходилось только мелочи, детали, оттенки.
Финал каждого выступления был примерно одинаков. Обыкновенно дело заканчивалось криком и потасовкой. Мерк свет, Бубенцов, спотыкаясь на опрокинутых блюдах, хрустя битыми рюмками, выскальзывал из хаоса, им устроенного. Получал расчёт в подсобке, прислушиваясь, как за стеною, в банкетном зале, всё ещё бурлит заведённая им публика, ревёт взбаламученное море, постепенно затухая, успокаиваясь.
Казалось бы, в мире существует огромное многообразие скандалов. Увы, разновидностей их, как показала практика, чрезвычайно мало. Сюжеты повторяются. Бубенцов постиг это эмпирически, то есть опытным путём. Он прилюдно резал правду-матку. Это поначалу было неприятно ему, как будто резал трепещущего карпа. Кидал кровавые куски прямо в лицо сильным мира сего. Поначалу делал это съёживаясь и замирая сердцем, трезвея от страха, ожидая неминуемого возмездия. Говорил горькую правду. Такую тяжкую правду, от которой должен был рухнуть потолок, обвалиться стены. Но, к его удивлению, правда не обладала никакой реальной силой.
Что-то в этой правде было не настоящее. Это была земная, глупая, завистливая «правда». Богатые крадут. Власть врёт народу. На выборах подтасовки. Нарушаются права человеков. Чиновники берут взятки. Бедным жить плохо.
Из такой правды можно было извлекать доход, она неплохо продавалась. Потому что это была не святая правда, а вздорная, подлая правда плебеев.
Глава 2
«Гибель Содома»
1
Пёстрая бабочка зигзагами поднималась в небо. Откуда они только берутся здесь, эти майские яркие бабочки? Отчего не выцветают их нежные крылья среди ада, грохота и чада города? Вот она мелькнула раз, два, три и пропала, как будто растворилась в солнечном сиянии. Ерошка приостановился посередине мостика, щурясь, смаргивая выступившие слёзы. Отнял ладонь от глаз, огляделся. Весь воздух вокруг был резко разделён, расчерчен на свет и тени. Стальная Яуза сверкала, сверкал сквер влажными листьями, облака над Яузой, витрины, окна жёлтых домов, стёкла автомобилей — всё двигалось, всё трепетало, всё тонуло в сверкании.
Впереди жарко вспыхнул купол больничной церкви. На душе Бубенцова стало весело, словно краешек будущей жизни на миг приоткрылся перед ним! Бубенцов крепче зажал целлофановый пакет с деньгами и продолжил путь. Деньги приятно тяготили руку.
Радужные планы и дерзновенные проекты роились в голове. Что-то хмельно толкалось, мешалось, набухало, росло внутри, заставляя то и дело срываться с тихого прогулочного шага на размашистую иноходь. Ерошка так увлёкся сладостными мечтаниями, что даже не приметил того момента, когда, оставив далеко за спиною и реку, и мостик, и сквер, и городские витрины, оказался внутри чугунной ограды. Прошёл по тихим больничным дорожкам мимо пруда, беседки, Лаокоона, поднялся по ступеням и открыл железную дверь. Смешанный запах эфира, валерьянки, хлорки, нашатыря ударил в самые ноздри. Бубенцов очнулся. Он был уже в офисе. Несмотря на то что под потолком горели светильники, Бубенцову после яркого солнца и ещё более ярких мечтаний показалось здесь тускло, скверно и сумрачно. По коридорам передвигались серые, молчаливые фигуры. Вахтёр Матвей Филиппович зашуршал газетой, привстал, приветствуя Бубенцова.
2
Надо заметить, что с первого же дня по настоянию Адольфа Шлягера в офисе соблюдался порядок, какой бывает в адвокатской конторе или, ещё лучше сказать, свойствен духу врачебного кабинета. Клиент должен был отставить здесь всякое смущение и всецело предаться в руки специалистов. Очень кстати пришлись найденные Шлягером в подсобке белые халаты. Теперь оба принимали посетителей, обрядившись в докторские одежды.
Несмотря на позднее утро, Шлягер ещё не явился. Ерошка плотно закрыл за собою дверь, выложил на стол пакет с неучтённой, «серой» наличностью. Накануне вечером побывал он в укромном пансионате «Липки», на банкете школьных директоров. Отработал небольшой левый скандальчик. Чувство скверно сделанной работы точило его. И хотя выступление Бубенцова изначально планировалось не как творческий акт, а как способ заработать денег, обстоятельство это никак не утешало. Увы, Бубенцов понимал, что докатился до грубой халтуры. Иррациональное вдохновение подменил расчёт. Расчёт делался на публику интеллигентную, с ранимой психикой. Такую пугать слишком яркими эффектами не следовало. Однако ощущение, что они «недополучили», гложет и таких вот вполне обеспеченных людей. Они жаждут справедливости, пожалуй, горячее, чем нищие, хромые, убогие и больные. Мечтают о перераспределении благ, а потому с величайшей отзывчивостью впитывают всякое ругательное слово против властей.
Ерошка выпил законные свои три рюмочки в первые минуты банкета, в остальное же время добросовестно воздерживался. Наливал из водочной бутылки припасённую минеральную воду, пил, кривился лицом, крякал, утирался обшлагом рукава. Слушал очередного оратора, порывался встать, выкрикнуть что-то, махал рукою, ронял вилки. Соседи поглядывали на него с опаской и с весёлой надеждой. Было видно, что скандала не избежать.
Приобретя необходимый опыт, Ерошка умел теперь достоверно изображать пьяного скандалиста, будучи при этом трезвым, как хрусталь. Чутко следил за тем, чтобы публика была на высшем градусе к той главной кульминации празднества, когда следовало решительно выступать на авансцену и начинать обличительные монологи.
Так и теперь, определив по гулу голосов, что общество пришло в нужное состояние, Бубенцов, покачиваясь, отправился к столику руководства с рюмкой в руке. Начав с поздравлений, привычно своротил на стезю обличительную. Выступал в образе скромного интеллигента из Зарайска. Близорукий учитель труда в больших очках, хвативший лишку. Реквизит самый простой: поношенный синий костюм в полоску, залоснившийся на локтях, старомодный галстук с заворачивающимся кончиком, ботинки с круглыми носами и сбитыми каблуками, полурасстёгнутая ширинка — образ, вызывающий доверие и симпатию. В советских фильмах времён «оттепели» такие требовали возвращения к ленинским нормам жизни. Захмелевший учитель труда выкрикивал в микрофон свою косноязыкую горькую правду. Правда эта была тривиальна, всем понятна, поскольку состояла из бытового набора банальностей.
— Где справедливость? — сетовал Бубенцов. — Где учебник геометрии Киселёва?
Качнулся, подхватил со стола кремовый торт, широко размахнулся... Как и было прописано в договоре, мощность скандала составила три балла «по шкале Шлягера». Массовая же драка полагалась с четвёртого балла и выше. Через десять минут в укромной боковой комнатёнке за сценой произошёл расчёт. Кое-как, наскоро отерев руки салфетками, Бубенцов принял гонорар. Длинный, востроносый кассир в очках, то и дело поплёвывая на пальцы, отсчитывал по десять бумажек, передавал стопку толстяку. Тот пересчитывал купюры, перетягивал их аптечной резинкой, передавал Бубенцову. Скрепив очередную пачку, разводил липкие пальцы, совал язык меж фалангами, облизывал перепонки.
— Пару купюрок позвольте, — попросил Бубенцов. — Да-да, вытащите из пачки. В гастроном забежать по пути.
— А то у нас? — предложил толстяк. — Коньячок заготовлен специально. Или вот... Личная моя. — Вытащил из внутреннего кармана пиджака коричневую плоскую бутылку, встряхнул перед лицом Бубенцова. — Желудёвая.
Несмотря на закрытую пробку, в каморке отчётливо и сильно запахло самогоном.
— Народное средство, — на миг отвлёкшись от денег, порекомендовал носатый. — Пузырь лечит.
— Нет, — сказал Бубенцов. — До дому не пью. Принцип такой.
Был уже случай в самом начале карьеры, когда, возвращаясь с гастролей, заснул в машине и таксист обобрал его пьяного. Двести тысяч взял. И вытолкнул возле парка в Сокольниках на обочину.
3
Вывалив вчерашнюю добычу на стол, Бубенцов распотрошил липучие пачки, пересчитал деньги. Затем отправился в угол, к умывальнику. Размышляя о низости человеческой природы, умывал руки. На губах играла горькая усмешка. Разговорчивый толстяк всё-таки при пересчёте утащил пятитысячную купюру.
Послышались невнятные голоса из коридора. Бубенцов бросился к столу, стал сметать бумаги в ящик. Голоса приближались. Вот уже прорезался, задрожал ужасный, козлиный тенор:
Пе-е-сня безу-у-мная ро-оз...
Бубенцов шарил руками по столу, косясь на дверь. Смутная тень, далёкая и бесформенная, приближалась, наливалась темнотою, густела. Загремело уже под самой дверью: «миллион, миллион, миллион...» И вот уже совсем чётко обрисовалась на белом экране стекла знакомая голова шишом, торчащие по бокам волчьи уши. Тень повернулась в профиль, склонилась долгим носом. Песня прервалась. Шлягер снимал перед дверью калоши.
Часть бумаг защемилась, высовывалась наружу. Купюры рассыпались по полу.
— Так-так, — стоя на пороге, грозя указательным пальцем, сказал Шлягер. — Наконец-то взял вас с поличным!
Голос Шлягера при этом был благодушным, даже весёлым.
— Это между делом, — смутившись, объяснил Бубенцов. — Для поддержания формы. Таланту вредно бездействовать.
— Вы обучились врать и выкручиваться. Это хорошо. Перемены произошли. Но должен вам откровенно сказать, вы деградируете. Я ведь помню ваш феноменальный взлёт, первоначальный успех.
— Что ж, — самодовольно усмехнулся Ерошка. — И я не забыл.
— В начале своего поприща вы были искренни. Вот в чём секрет. Вы ненавидели богатых, когда клеймили их. Зависть к чужому богатству снедала вас изнутри, придавала энергии. Теперь вы сами разбогатели и огонь угас.
— Я и теперь ненавижу. Богатых-то.
— А кто жирует в «Парадизе»? На казённые, между прочим, шиши. Чаевые швыряете как подгулявший купчик.
— Это пиар. Поддержание образа.
— Прекратите этот наглый чёс! Мало вам официального дохода, чёрт вас дери? Вот уж поистине нет предела человечьей алчности!
— Дело не в алчности, Адольф, — примирительно сказал Бубенцов. — Не хватает денег. Катастрофически!
— Не хватает денег? Общая жалоба и нищего, и миллиардера. — Шлягер ухмыльнулся, полез в карман, вытащил пятитысячную купюру. — Вот вам, кстати, недостающая сумма.
— Так и это, выходит, твоя работа? — изумился Ерошка. — Ты, гад, всё подстроил?
— Пора заканчивать шпрехклоунады! — сухо сказал Шлягер, снимая с руки часы, кладя их перед собою на стол. — Помните наши беседы? Так вот, рад вам сообщить. Освобождается должность главы Ордынского района...
— Отвянь!
Надо признать, что подобные размолвки в последнее время случались между компаньонами довольно часто. Шлягер всё настойчивее заводил разговоры именно на эту тему, расписывая всяческие выгоды обладания властью.
— Если грамотно провести пиар-кампанию... При вашей-то популярности среди плебса... — Шлягер прищурился, разглядывая лицо Бубенцова. — Избить бы вас хорошенько. Эх, надо было всё-таки напустить на вас учителей. Нужен образ жертвы! Народ любит пострадавших.
— Ты мне, сукин сын, про эту власть уши прозудел. От добра добра не ищут.
Бубенцов отбивался, но не совсем уверенно. В глубине сердца чувствовал, что Шлягер прав. Слава, которая обрушилась на него в начале года, как будто не умалилась. Но всё чаще мучительно ощущал он, как потихонечку слабеет напор всенародного обожания. Это была ещё незаметная постороннему взгляду, но верная убыль. Эту убыль славы чутко подмечают все знаменитости, потому что она чрезвычайно больно ранит их самолюбие.
— Вы анекдот, — тотчас подтвердил его опасения Шлягер. — Но даже самый блестящий анекдот, увы, недолговечен.
— Я презираю политику, — высокомерно заявил Бубенцов. — Недаром сказано: «Власть отвратительна, как зубы брадобрея».
— Вы ещё скажите мне, что «власть должна быть сменяемой», — усмехнулся Шлягер. — Сто лет назад мы бросили эту фразочку, и с тех пор бараны не устают повторять её как самый веский аргумент. В то время как даже идиоту понятно, что настоящая власть должна быть незыблемой!
Адольф говорил и при этом нетерпеливо поглядывал на часы, прислушивался, как будто с минуты на минуту ждал кого-то. И действительно — в дверь постучали. Шлягер сорвался с места.
— Точны, как поезда при Лазаре Кагановиче! — весело произнёс он, впуская посетителя. — Приветствую, уважаемый Пал Нилыч! Давно поджидаем. Милости прошу!
Посетитель вступил в помещение. Вид его показался Бубенцову странным, подозрительным, немного даже потусторонним. Всё в нём было белое, распухшее, как у утопленника. Водянистые глаза выкатывались из-под набрякших век. Синеватые губы шевелились, влажно блестели.
Искал глазами, куда бы присесть...
— Сюда, сюда, сюда... — продолжал суетиться Шлягер, подпихивая гостя к кушетке. — Знакомьтесь, Ерофей Тимофеевич!
— Новое направление для нас, — шепнул он, проходя мимо Ерошки к своему столу. — Перспектива!
Пал Нилыч присел на кушетку, поёрзал. Портфель установил на коленях, как бы прикрываясь. Толстые пальцы перебирали края портфеля. Бледно-розовая краска смущения заливала его лицо. Покашлял, не решаясь начать.
— Не стесняйтесь, — поощрил Шлягер, вставая, застёгивая белый халат. — Вы попали в самые надёжные руки.
Пухлый человек вскочил, пересел на другой край кушетки.
— Мы мальчишник планируем устроить, — начал он и поперхнулся. Вытащил платок, прокашлялся, продолжил: — Ну и не мешало бы, так сказать, добавить немного перчику.
Оглянулся на дверь, поставил на пол портфель. Краска смущения ещё гуще залила его лоб и щёки.
— Кто заказчик скандала? — Бубенцов открыл реестр, занёс перо над расчерченной бумагой. — Частная корпорация? Банк? Госструктура?
— Состав смешанный, — уже спокойнее и увереннее сказал Пал Нилыч. — Нам нужно великое потрясение. До девяти баллов.
— Вы уверены? Вправду хотите девять баллов? — Шлягер вскинул голову. — «Девятый вал» Айвазовского видели?
Тут следует напомнить, что в коридоре перед входом в офис висел целый ряд картин, поясняющих своими сюжетами мощь скандалов. Размещены и сгруппированы они были Шлягером очень продуманно, по возрастающей. Галерея начиналась картиной Левитана «Над вечным покоем». Ноль баллов. За нею следовало полотно Угрюмова «Испытание силы Яна Усмаря». В середине галереи «Кулачный бой при Иоанне Васильевиче Грозном». «Девятый вал» размещался на девятом месте. Картина Семирадского «Гибель Содома» замыкала галерею, символизируя скандал в двенадцать баллов «по шкале Шлягера».
— Всё видел, — кивнул Пал Нилыч. — Нужны великие потрясения. Они хотят привлечь внимание к проблеме. Круг избранный. Затрудняюсь подобрать выражение. В некотором роде... Ну, словом...
Пал Нилыч замолчал, растопырил пальцы, вильнул неопределённо ладонью. Тяжко вздохнул, опуская глаза.
— Своеобразно относится к существам противоположного пола? — догадливо подсказал со своего места Шлягер и подмигнул Бубенцову. — Можете говорить без всякого стеснения. Тайны наши сохраняются более сокровенно, нежели врачебные.
— Да я-то что? — посетитель обернулся на Бубенцова. — Я существо подневольное. У нас ведь как? Допустим, решают, кого послать. А вот Пал Нилыча! И Пал Нилыч поехал. Пал Нилыч не ропщет. Они-то, избранные, почему в Москве предпочли вечеринку устроить? Здесь вольнее. У нас в провинции к делам этим отношение пока ещё патриархальное. Народ серый.
— Понятно, — сказал Ерошка. — Со столичными, откровенно вам доложу, и мне работать сподручнее.
— Здесь публика юмор тоньше понимает, — поддержал Шлягер. — В плане пассионарности народ более отчаянный.
— У нас народ тоже отчаянный есть, — похвастал проситель.
— И всё же патриархальность, — снова вздохнул Шлягер. — Чуть что — в морду бьют. А между тем коллектив ваш, может быть, весьма достойный.
— Да как сказать... Не то чтоб очень уж и достойный, — признался Пал Нилыч.
— Что так?
— Да так уж. Много я перевидал швали, но чтоб до такой степени...
— Ясно. Где мероприятие планируете?
— Ресторан «Парадиз». Завтра, в шесть вечера, начало.
— Отлично! Сейчас мы с вами договорок оформим! Но! С учётом, что Ерофей Тимофеевич будет работать в деликатной сфере... Сами понимаете. Помада, румяна, бусы, каблуки. Прочие причиндалы.
— Унизительно в некотором смысле для самолюбия, — вставил Ерошка.
— Добавим, — с вежливой уступчивостью кивнул сообразительный посетитель. — В разумных пределах. Вы только уж оденьтесь соответственно. Не подведите. Что-то такое воздушное, кружевное... Они любят.
— Понимаем-с. — Адольф оживился, снова подмигнул Бубенцову. — Начнём с лёгкого юмора. Двусмысленности, шуточки, цветочки. А ягодки уже ближе к концу.
Приняв заказ, уточнив напоследок кое-какие мелочи, Шлягер вызвался проводить Павла Нилыча. Ушёл с ним под руку, клонясь к плечу, что-то доброжелательно нашёптывая. Клиент заслуживал самого уважительного обращения, поскольку оплатил будущий скандал наличными, и оплатил щедро.
— Новое поприще, — сказал Шлягер, возвратившись через минуту.
Склонился над столом, занялся сценарием. Шевелил толстыми губами, морщил лоб, причмокивал, приборматывал. Иногда хлопал себя по бокам, сдержанно посмеивался. Вероятно, придумав колкую репризу. Бубенцов поднял голову.
— Чем плоха теперешняя жизнь? Чем? — вырвалось у Ерошки. — И неизвестно, что там будет, в будущей-то. Не хочу никакого нового поприща!
— Вас, кажется, особо не спрашивают.
— А я не хочу!
— Или вы делаете необходимое нам дело свободно и добровольно, — мрачно сказал Шлягер, — или сделать то, что необходимо, принудят вас обстоятельства.
Шлягер, сощурив внимательный глаз, вглядывался в лицо Бубенцова. Продолжал гримасничать, прищёлкивал пальцами. Напевал вихляющимся голосом, но при этом глядел злобно и тоскливо. Дуэль их продолжалась всего лишь одно мгновение. Оба, как будто устыдясь, отвели глаза.
Всю вторую половину рабочего дня спорили над сценарием. Бубенцову не понравилось начало, придуманное Шлягером.
— Нельзя, мне кажется, вот так вот, с ходу, прямо в лоб: «Петухи!» — горячился Ерошка. — За такое знаешь что полагается на зоне?
— То на зоне, друг мой! Здесь же весёлая европейская вечеринка. Кукушка хвалит петуха! Я бывал в том же Веймаре. Поверьте моему опыту, — мягко возражал Шлягер. Слова живо и весело сбегали с его языка. — Пирушка дружеская. Контингент особый, любит погрубее, пооткровеннее. Маскарад, пестрота, все цвета радуги. Именно, именно с «петухов» и начать! Пал Нилыч недаром просил «перчику». Галльский петух, в конце концов! Знаменитый боксёр Джек Рандаль имел кличку Боевой петух, и ничего.
— Ну, не знаю... — сомневался Ерошка.
— Полная, полная толерантность, — успокаивал Шлягер. — Ну, хорошо, давайте смягчим. Вписываем «уважаемые». Вспомните ставку гонорара! Вы тут жаловались, что вам денег недостаёт!
— Ладно, — вздыхал Бубенцов. — Но вот ты дальше написал: «Здравствуйте, геи и гейцогини». Тебе кажется это остроумным. А на мой взгляд, звучит пошло.
— А на мой взгляд, кое-кому явно недостаёт чувства юмора, — огрызался Шлягер.
В спорах и исправлениях день постепенно и незаметно угас, склонился к вечеру. Ужинали здесь же, в офисе. Это было удобно. Предприимчивый Шлягер в первые же дни договорился с больничной кухней. Кормили недорого, скромно, но зато пищей здоровой, диетической. Пластмассовый столик без скатерти. Дежурная рыбная котлетка, пшённая каша, кусочек серого хлеба, тёплый чай. Бубенцов ел рассеянно, без аппетита. Слова Шлягера о том, что «перемены произошли», не шли из головы.
Глава 3
Сила слова
1
Давно, давно уже подмечал чуткий ко всяким переменам Бермудес, что новыми интонациями оснащена была теперь речь Бубенцова. Всё чаще оглядывался в изумлении Тарас Поросюк, поражённый некоторыми невиданными прежде нюансами, которые стали проскальзывать иногда в словах и поступках Ерошки Бубенцова. Ладно бы, то происходило во хмелю, когда всякий человек становится немного храбрее, благороднее и заносчивее, чем есть. Но Бубенцов был трезв. Вернее сказать, был как бы постоянно слегка навеселе от того хмеля, что таинственно вырабатывался сам собою в его голове. Бубенцов не нуждался в искусственных стимуляторах. Увы, но характер его под действием славы и богатства, кажется, всё-таки переменивался! Тарас Поросюк ждал только момента, чтобы публично подловить Бубенцова.
Бубенцов стал как-то чуть более занят собой. Ему нравилось казаться оригинальным. Он теперь очень любил поразить собеседника парадоксальными суждениями, сыпал остротами направо и налево. Обладая умом живым, острым и поверхностным, умел блеснуть, привлечь к себе внимание. Две артистки из новеньких, Таня и Аня, большие подружки, крепко поругались из-за него. Бубенцов, когда ему рассказали, как рабочие сцены разнимали ссору за кулисами, очень развеселился, прищёлкнул пальцами, засмеялся. И весь день после этого ходил, что-то напевая, посвистывая. Настроение его в этот период жизни было большей частью превосходным! Чужая похвала, на которую он прежде едва обращал внимание, теперь буквально окрыляла его.
Все эти черты были присущи Ерофею и прежде. Да и кому из смертных они не свойственны? Все тщеславны! Но от продолжительного восхваления, от постоянного успеха, от нахлынувших гонораров, от постоянного совершенствования в неожиданном таланте, от всего этого приятного раздражения — в нём начала стремительно развиваться та внутренняя болезнь гордости, которая живёт в каждом человеке. Гордость! Он охотно давал советы. Перебивал чужую речь: «А вот послушайте, что я вам скажу...» По-дружески вмешиваясь в чужие дела, начинал свои монологи так: «а вот я придерживаюсь правила...» или: «если вы спросите меня, то я...» и тому подобных слов, ясно показывающих, что человек более говорит о себе, чем занят проблемами ближнего.
Два-три раза довольно грубо прикрикнув на совершенно незнакомых людей, Бубенцов обнаружил вдруг, что люди ничуть не обижаются. По-видимому, здесь важнее всего было ощущение того законного превосходства, которое приходит к человеку, наделённому славой и деньгами. И, чувствуя это, Ерофей Тимофеевич уже нарочно педалировал, играл тембром, добавлял ещё больше властности и презрения в звуки своего голоса.
Как-то без всякой надобности приостановившись у стройки, опустил стекло, поманил пальцем рабочего:
— Слышь, мужик! Принеси-ка мне... вон ту вон доску.
Рабочий, ни слова не говоря, пошёл к трактору, вытащил из-под колеса толстую доску в потёках засохшего бетона. Принёс, держал на весу. Ерошка, прищурившись, оглядывал.
— Поверни той стороной. А так? Нет, не годится. Обратно неси.
И тот, тяжело переступая кирзовыми сапогами, унёс, швырнул обратно в грязь.
Поначалу готовность людей подчиняться приказам удивляла и забавляла, но очень скоро Бубенцов стал принимать это как должное. Может быть, именно в те первые минуты удивления, когда посторонние люди бросались исполнять его распоряжение, Бубенцов впервые опытным путём познал силу и власть человеческого слова. По крайней мере, с тех пор мысль об этом не раз приходила в его голову. И было слишком очевидно, что чем выше человек в людской иерархии, чем большей властью обладает он, тем твёрже звучит его голос и тем больше значит его слово.
2
Двое старых друзей сидели в «Кабачке на Таганке», на привычном своём месте, ожидали третьего. Через час всем троим надлежало быть в ресторане «Парадиз».
— Прежде он не позволял себе опаздывать, — проворчал Бермудес. — Слаб оказался в коленках. Подломила слава.
— Известно, хам.
Напоминание про чужую славу расстроило и озлобило Поросюка.
— Почему на него сыпется? Га? Сыпется и сыпется! Как из рога изобилия! Уж не душу ли свою он продал, будем говорить, дьяволу?
— Я и то думаю, милочка. Такая слава даром не даётся! — поддержал Бермудес. — Да ещё и на пустом месте. Именно как из рога! Изрыгается! Из рога дьявола!
Приятели, кажется, завидовали ему. Оба нынешним утром вернулись из Киева, не выспались в поезде и были сердиты. Поросюк время от времени вытягивал шею, сглатывал слюну, его тошнило.
Поросюк пытался повторить успех Бубенцова. Конечно, размах его деятельности далеко уступал бубенцовскому. Заводя собственный небольшой бизнес по устроению скандалов, Тарас руководствовался теми же ложными соображениями, которые Адольф Шлягер хотя и с трудом, но решительно развенчал в Бубенцове. Тарас перед выступлением напивался как следует. Даже и теперь, перед предстоящим скандалом в «Парадизе», дожидаясь опаздывающего Бубенцова, он выпил уже три или четыре большие рюмки.
Творческая сила его таланта была невелика, потому он целиком полагался не на трезвую и тонкую игру, а на грубую «правду жизни». На натуральность. Если скандалы Бубенцова носили яркий театральный характер, то у Поросюка всё было серым, приземлённым. Иначе говоря — подлинным. Некоторые представления заканчивались бедой. Бывало, Поросюк приходил в театр в бинтах, иногда при этом сильно прихрамывая. Кровь, что проливалась на его скандалах, была кровь настоящая. В подлинности этой заключалась горькая насмешка, ведь кровь дураков ничем не отличается от крови разумных людей. Такая же древняя, живая, бесценная.
Драматическое произведение вызывает катарсис, радость очищения от страстей. Драма же подлинная, житейская только угнетает дух. Бермудес поучаствовал в двух-трёх скандалах, устроенных Поросюком, и больше не ходил туда. Он не любил опасностей, всеми способами избегал их. На последнем концерте, по случаю юбилея предприятия «Фрезер», не сумел уберечься, получил унизительную оплеуху. Оба они — и дородный, чисто выбритый Бермудес, и холёный, упитанный Поросюк со своим брюшком — вызывали раздражение у простолюдинов.
— Натуральность бывает нужна и хороша, — выговаривал Поросюку Бермудес. — Но только не в художественном творчестве. Сравни, как у Бубна бывает. У него всё звенит, сверкает, подносы гремят, хрусталь вдрызг, шторы в лоскуты. А особенный конёк его — зеркала!.. Любо-дорого взглянуть. Люди потом долго вспоминают, смакуют, пытаются повторить. А почему? Потому что искусство, игра!
— Да какая там игра? Коммерция, будем говорить. Шлягер на каскадёров денег не жалеет.
— Не жалеет, это да. Одного клюквенного морса сколько уходит! Но и натуральности хватает. У меня вот что всегда под рукой. — Игорь Бермудес зачерпнул ладонью из бокового кармана пиджака горсть белых костяшек и показал Поросюку. — Зубы! Это выбитые человечьи зубы. С корнями, Тарас. Мне их из платной стоматологии, что на Матросской Тишине, санитарка поставляет, недорого. А кто придумал? Бубен придумал! Я нарочно в пылу драки их подбрасываю на место происшествия. Уборщицы выметают после банкета, ужасаются. Пересказывают близким и соседям. Вот слух-то и пошёл, слава-то и нарастает, гонорары взлетают.
— Халтура. У меня жизненно.
— Когда «жизненно», милочка, — это и есть халтура.
— Ты не прав. А насчёт Бубна могу тебе поклясться хоть могилой Мазепы...
— Коллегам наше с кисточкой! — весело перебил, прокричал издалека Бубенцов, появившись на пороге заведения.
Бермудес и Поросюк кивнули холодно. Они по-прежнему относились к Ерошке немного свысока, считая его приятелем, собутыльником, но никак не «коллегой». Не помогала даже и всенародная слава. Бубенцов по-прежнему числился в театре обыкновенным пожарным.
Ерошка играл в единственном спектакле «Семь страстей». Не играл даже, а валял дурака. Но ходили теперь только на него. Всякий интеллектуал, приехавший в Москву, считал своим долгом посетить знаменитый театр, пробиться на спектакль. Платили несуразные деньги, заискивали, унижались перед администратором ради входного билета. Удачей считалось посидеть «на приступочке», на откидном стуле, а то и просто постоять у стены. Вытягивая голову, толкаясь локтем, шёпотом переругиваясь с соседями. Почему-то особенное почитание вызывало то, что играет не актёр, а пожарный. Успех дилетанта больно ранил сердца других артистов, профессионалов.
Поросюк пересел, уступая стул Бубенцову. Старательно отворачивал лицо от Ерофея. Бубенцов почувствовал, что говорили про него, окинул быстрым, беспокойным взглядом приятелей. Разглядел на лице Поросюка синяк, замазанный тональным кремом.
— Где это тебя угораздило? Шлягер врезал на репетиции? Подлинность требовал? То-то ты угрюмый какой-то стал. Давно хочу тебе сказать... Ты, Тарас, как-то поменялся в последнее время.
— На себя обернись, — огрызнулся Поросюк. — Коньяк мне проспорил. Это сейчас любой тебе подтвердит.
Поросюк отпил полрюмки, сгибом пальца провёл по усам налево и направо.
— Правда? — Ерошка оборотился к Бермудесу.
— Есть! Есть перемены, душа моя! — кивнул Бермудес. — Коньяк ты определённо проспорил!
— Определённо проспорил? Оба так считаете?
Ерошка переводил взгляд с Поросюка на Бермудеса. Пристально, с какой-то даже надеждой вглядывался в лица друзей. А потом вдруг ни с того ни с сего сорвался с места, пошёл вокруг стола. Теперь уже и Поросюк, и Бермудес с удивлением глядели на Бубенцова. Маленького, взъерошенного, нервного.
— Но это же победа! — Ерошка остановился, притопнул ногой.
— В чём же, будем говорить, твоя победа? Га? — спросил Поросюк, с опаской следя за Бубенцовым.
— Слово! Говорю: «принеси». Идут и приносят! — Бубенцов размахивал руками. — Говорю: «унеси», — уносят. Такое ощущение, что скоро скажу: «Убей!» — и убьют. Но самое удивительное заключается в том, что человек может приказать и самому себе! Сам себе, Тарас! И ведь подчиняется. Беспрекословно! Я испытал. Человек может собою управлять!.. Одним только словом. Вот гляди. Говорю себе: «Тело, подпрыгни!»
С этими словами Бубенцов остановился напротив Поросюка и подпрыгнул.
— Сила слова велика и необорима! — заявил он.
Бермудес и Поросюк беспокойно переглянулись.
— Тело, — приказал Бубенцов, — отними бутылку у Поросюка.
Шагнул к столу...
— Тело, — приказал Тарас, отодвигаясь, пряча руку за спину, — воспрепятствуй!
— Вот видишь, — сказал Бубенцов. — Человек всего лишь механизм. Человеческое тело — это животное. Важно научиться им управлять. Прикажи что-нибудь своему телу.
— Тело... — Поросюк задумался, оглядел стол. — Выпей воды.
Протянул руку, налил из пластиковой бутылки полстакана воды, выпил.
— Тело, иди к дверям, пошатай пальму. — Бубенцов пошёл к двери, но, пройдя несколько шагов, вернулся. — Ясно и так. Идёт и делает. Подчиняется.
— Тело... — Поросюк оглядывал зал, не зная, что бы приказать. — Нарежь лимон.
— Тело... — Бубенцов помедлил.
— Пни Поросюка, — подсказал Бермудес. Он наблюдал со своего места, покойно развалясь, не принимал участия в эксперименте.
— Это не шутки, Игорь! Нужно понять и поверить, что ты хозяин самому себе! — продолжал Ерошка. — Погоди, не мешай...
Он остановил ладонью Бермудеса. Видно было, что Ерошка давно и долго думал об этих предметах и теперь спешил высказаться. Не слушая собеседника, потому что давно уже перебрал в уме все возможные возражения.
— Ты скажешь, характер. Но уверяю тебя, даже характер можно подчинить, переделать. Правда, есть в человеке и что-то вечное, неизменное. Что-то выше его. Выше его собственного ума. Я называю это «самость».
Тарас резал лимон, глядел со скептической улыбкой. Глаза его посверкивали иронично.
— Стоит только приказать себе: «Делай то и не делай этого!» — продолжал Ерошка по-прежнему вдохновенно. — Только и всего. И постепенно тело привыкнет.
Тарас между тем уже разлил коньяк в рюмки.
— Тело, не пей! — сказал Бермудес.
Немного помешкал, как будто прислушиваясь к себе, затем усмехнулся и выпил.
— Скот он и есть скот, — вытирая губы, сказал Бермудес.
— Человек хотя и скот, но скот переменчивый! — возразил Бубенцов. — Человек может управлять собой! Я вот даже нарочно культивирую перемены, взращиваю, подыгрываю. Я и коньяк-то рад что проспорил.
— Врёшь, мамочка! — возразил Бермудес. — Чарыков не меняется. Уж, казалось бы, гроб себе изготовил. По твоему совету. В столярке сколотили из старого шкафа. От Каина надумал прятаться. Каин придёт, а он как бы мёртвый. Лежит, руки по швам...
— Помогло?
— Разве спрячешься, милочка? Тело, допустим, упрячешь. А мысль рвётся из-под спуда. Выпить жаждет! Мысли не прикажешь, Ерошка! Мысль свободна! Она не подчиняется твоему слову. Мысль хочет выпить, и точка! Ну и тело тянется вслед. Восстаёт из гроба.
Бермудес размашисто, не уронив ни капли, налил себе и Поросюку:
— Так что пей, Ерошка! Что такое человек, бросивший пить? Это всё равно что иметь семикомнатную квартиру, а ютиться в угловой кладовке. Человек должен использовать всю широту своей натуры! Не надо суживать! Достоевский неправ.
Все трое, включая и Бубенцова, потянулись к своим чаркам. В окна ресторана, расплющив по стеклу носы, заглянули бледные, взволнованные тени, замахали руками, что-то беззвучно и отчаянно крича. Но, кажется, это была всего лишь обыкновенная игра света и тени.
— Пора! — Бубенцов щёлкнул крышечкой золотых часов. — Ещё раз предупреждаю, публика особая. Люди со сложно устроенным внутренним миром.
Глава 4
Смерть Ивана Кузьмича
1
Шлягер после случившегося истолковал Бубенцову свою оплошку так:
— Чёрт попутал!
Отводил при этом глаза, супился. Оно и понятно. В залах ресторана «Парадиз», куда направлялись наши шутники, находились в тот день люди и в самом деле необычные. Но они были необычны совсем в ином смысле. Вовсе не в том, какой имел в виду Бубенцов, обозначив их легкомысленным словом «педики». То был бандитский съезд, сходняк, сбор преступных авторитетов со всех уголков страны. Решались накопившиеся вопросы, уточнялись положения «понятий» — законов преступного мира. Даже официантов привезли своих, особенных. Если рассматривать синие наколки на пальцах, то у каждого официанта за спиной считай по две-три ходки — какое уж тут «чёрт попутал»...
Съезд проходил в знаменитом дубовом зале заведения, специально арендованном. Ради конспирации нижнее кафе, буфеты, стойки, а также так называемый пёстрый зал продолжали работать в обыденном режиме. С утра утвердили нескольких членов сообщества в звании воров. Был удостоен почётного членства и Джива, который давно этого добивался. Всё шло своим чередом. Произошло, впрочем, одно небольшое происшествие, вовсе не запланированное. В перерыве, пока накрывались столы, люди Дживы в отдельном кабинете, бывшем парткоме, зарезали человека. Случайного, как оказалось, посетителя. Джива не был вспыльчив, но иного выхода не нашлось. У только что зарезанного им человека никакой вины не было. Бедолага случайно оказался вблизи, ошибся дверью. Поднялся из нижнего буфета, спросил у какой-то рыжей, косоглазой бабы, где уборная. Та молча указала. Бедолага толкнул дверь и вошёл в комнату. А там за столом сидел Джива, и груда денег лежала перед ним. И какой-то белый порошок на столе... Словом, пропал бедный человек.
Кроме Дживы, в помещении находились ещё три человека. Два горских азиата — люди нездешние, черномазые, усатые. Горцы сунули руки в карманы и повернули к вошедшему большие, внимательные носы. Третий вполне себе русский. Похожий на заводского работягу из старого советского фильма. Рубаха в клетку, засученные рукава. Крепкая шея, короткая причёска. Белобрысое, толстое лицо глядело весело, добродушно, с ласковым прищуром. Лучики морщинок расходились от уголков глаз. Постаревший, но не утративший обаяния «парень в футболке и кепке»... На него-то больше всего понадеялся бедолага.
— Завальнюк, — произнёс Джива.
Один из азиатов вытащил нож, передал белобрысому.
— Как звать? — поинтересовался работяга, заступая за спину жертве и пробуя пальцем остроту клинка.
— И-и-ай... Кс-и-зь...
Слова прошелестели, как сухая листва. Хотел было добавить Иван Кузьмич: «банковский работник», — но уже нечем было, кончился воздух в груди. Кинулся к выходу на ватных ногах, но выхода, как уже было сказано, не нашлось. Ещё и ещё раз дёрнулся. Забыл, что из кошмара невозможно выбежать. Смерть подступала просто, буднично. И самый-то ужас заключался именно в обыденности происходящего. Совсем рядышком, за серыми шторами, глухо шумела улица. Было слышно, как разговаривают на повышенных тонах два человека, по-видимому муж и жена.
Туда-то, к спасительному окну, попытался пробиться Иван Кузьмич, но тщетно. Пальцы царапнули по серой занавеске, скользнула ладонь по холодному стеклу. Взглянул в последний раз на мир сквозь открывшийся прогал. Увидел человека, что стоял на той, на солнечной стороне, подле столба с уличными часами. Успел поразиться Иван Кузьмич тому, что стоит человек под уличными часами, а смотрит на карманные. Где логика? Длинные руки влекли Ивана Кузьмича, оттаскивали от окна, от мира, от бытия. Как будто тащила за шиворот смерть, вытаскивала из водоворота жизни. Человек на солнечной стороне улицы захлопнул крышечку карманных часов. Блеснул золотой лучик. Узнал наконец-то Иван Кузьмич Ерошку Бубенцова, знаменитого московского шпрехклоуна, забияку и скандалиста. А толку-то? Какая польза? Мысль не успела ничего осознать, а всё уже было ясно. Обмякли ноги у Ивана Кузьмича, белее снега стало рыхлое лицо. Обомлели внутренности. Маленький человечек.
Прошли те древние времена, когда Муций Сцевола сжигал руку над огнём, показывая презрение к боли и смерти. Прошли давние времена, когда кощунствовал и матерился на весь мир с высокого помоста дерзкий тать, стоя уже с петлёй на шее, рисуясь перед толпой. Прошли даже и те совсем ещё недавние времена, когда, отставив ногу в обмотках и разбитом башмаке, дерзко плевался во врага коммунист, стоя на допросе.
Но те-то гибли за дело, за великую идею, за преступное злодейство. Гибли там, где и сама смерть красна, — на миру, перед скоплением народа или же в присутствии достойных врагов. Но не в тесном же закутке отдельного кабинета, обитого пыльным бархатом, среди равнодушных, недалёких людишек. Здесь не могло быть смерти геройской, красивой, возвышенной, достойной.
Да и внешне не похож был на стойкого героя Иван Кузьмич. Добрый, незлобивый, в сущности, человек. Это был (о, какое страшное, но и единственно уместное здесь слово — «был»! Он ещё дышал, волновался, оглядываясь в тесном сумраке, но уже смело, смело можно говорить про него — «был»)... Да, это был раскормленный, дородный мужчина сорока с небольшим лет, только начавший жить в полную силу. Содержатель частного банка. Дававший всем нуждающимся людям срочные кредиты. Но и требовавший неукоснительного возврата. Иван Кузьмич некогда остроумно придумал проколоть глаз пластмассовой кукле и подбросить её к дверям квартиры Бубенцова. Про него-то сказал тогда Ерошка, вертя в руках искалеченную куклу: «Чтоб ты сдох, паскуда!» Вряд ли догадывался в тот миг Ерофей Тимофеевич Бубенцов, что слово его обладает столь могущественной, разящей силой.
— Сдохни, паскуда! — жёстко приказал Джива, тоже вряд ли догадываясь, что всего лишь повторяет чужие слова, что он всего лишь инструмент, послушный исполнитель давнишнего проклятия.
Спустя десять минут выехал со двора грузовой пикап с нарисованными по борту розанами, надписью по диагонали: «Ресторан “Парадиз”». Куда поехал, куда повёз мёртвый груз — неведомо.
Ванька не был, Ванька был, был, был,
Рукавички на поличке позабыл...
Вся эта возня вокруг живого Ивана Кузьмича, а чуть погодя уже и вокруг его трупа отняла у Дживы не так много времени. Он опоздал совсем ненамного, но эти две-три минуты опоздания едва не стоили жизни Бубенцову и его друзьям.
2
Бубенцов пришёл слишком рано. Против ожидания, стены «Парадиза» выглядели совершенно обычно, не наблюдалось никаких примет весёлого карнавала. Он-то рассчитывал увидеть что-нибудь радужное, разноцветные шары, ленты, бубны. Возможно, двух-трёх протестующих пенсионеров с самодельными плакатиками. Но никакой пестроты не наблюдалось. Наоборот, все подъезды к зданию заставлены были угрюмыми лимузинами самых серых и тёмных тонов. Стало быть, организаторы пока ещё не отваживались на слишком откровенную публичность и парад их носил характер закрытый. Настроение Ерошки сразу улучшилось. Он ведь и сам желал, чтобы скандал прошёл на этот раз как можно укромнее и незаметнее.
Бубенцов, насвистывая, перешёл на солнечную сторону улицы. Стал прохаживаться, покашиваясь на входную дверь ресторана. Дойдя до угла, поглядел на уличные часы, что висели на столбе. Извлёк карманные, сверился. Время и там, и здесь тянулось одинаково медленно, как это всегда бывает, когда приходится ждать.
Внутри ресторана между тем шли какие-то приготовления. Раздвинулась занавеска в окне служебного помещения. Вильнула за стеклом ладошка, помахала приветственно. Ерошка успел разглядеть как будто бы белое женское лицо. Вероятно, дивной красоты. Хотел было помахать в ответ прекрасной незнакомке, но поздно! Один только миг длилось мимолётное видение, а затем пропало лицо в тёмной глубине помещения, задёрнулась занавеска.
Спустя десять минут Бубенцов двинулся к воротам, что вели во внутренний дворик ресторана. Железные створки ворот как раз отворялись. Пришлось отступить, пропуская грузовой пикап с надписью «Ресторан “Парадиз”». Охранник говорил с водителем, что-то сердито объясняя. Бубенцов протиснулся с другого боку, нырнул в чёрный ход. Прошёл по узким коридорам. Уловил запахи кухни, повернул туда. Двигался, не рассуждая, подчиняясь интуиции и опыту. Едва ли не половина его скандалов совершалась в таких вот ресторанах. Все их закоулки Ерошка в общих чертах изучил и без затруднения умел ориентироваться. Так случилось и на этот раз — запах вывел в ярко освещённую кухню. Что-то скворчало, позвякивало, шипело, плевалось паром, хлестало струёй воды в большой раковине. Два мордоворота в чёрных пиджаках, склонив над большим чаном бритые затылки, пробовали содержимое. Бубенцов немного опаздывал, шёл быстрым шагом, надевая на ходу реквизит. По трём ступенькам поднялся в небольшой тамбур, свернул в коридорчик, ну а там уже всё было ясно. Впереди открытые двери, отгороженные от банкетного зала только бархатными портьерами. Слышался сдержанный гомон публики.
Бубенцов почувствовал приятное творческое возбуждение. Сдвинул кокошник на темя, чтоб не мешал обозрению, приник к узкой щели между портьерами. Виден был неярко освещённый зал, но не весь, а самая его середина. Длинный стол тянулся через весь зал. Зрители с серьёзными, мрачноватыми лицами сидели по обеим сторонам стола. Терпеливо ожидали начала представления. Тяжёлые, бульдожьи челюсти, неподвижные глаза, чёрные костюмы. Типичные извращенцы. Ерошка слишком спешил, чтобы остановиться, подумать, вглядеться пристальнее. На дальнем конце стола тамада поднял серебряный колоколец, позвонил, требуя тишины.
Бубенцов вытащил круглое зеркальце из нагрудного кармана. Взбил лёгким движением пальцев прядь волос на виске, кончиком мизинца стёр лишнюю помаду с нижней губы. Поправил на шее пышный розово-голубой узел. Вытащил листок, поднёс к полоске света, что проникал из зала, в последний раз сверился с текстом. Ага: «Ну, здравствуйте, уважаемые... (произнести акцентированно, раскинув руки, бодро, зычно)».
Ерошка вынырнул, как выскакивает из ящика Петрушка на детском утреннике. Широко раскинул руки, осклабился, выкрикнул весёлое приветствие звонко, зычно. Далее, как и предписано было по сценарию, следовали несколько фраз чрезвычайно скабрёзного содержания, понятные только людям нетрадиционной ориентации. Каждую новую фразу, придуманную и вписанную в сценарий рукою Шлягера, Ерошка произносил ещё бодрее, ещё зычнее.
Тишина стояла ошеломительная, идеальная.
«Хороший зал!» — отметил Бубенцов, радуясь отличной акустике. Каждое слово, каждый слог получался чётким, округлым, полновесным. Звякнуло что-то, затрепетало, оборвалось. Врезался в колонну бежавший на кухню официант да так и застыл, забыв даже потереть ушибленный лоб. Другой официант, постарше и поопытнее, проворно отступил в угол, пригнулся. Прикрыл грудь железным подносом. Во всём пространстве воцарилась ещё лучшая, совсем уж гробовая тишина. Пожалуй, даже и — загробная.
Запнулся на полуслове, сбился Бубенцов. Ещё не догадывался ни о чём рациональный, косный разум, но костным мозгом, что ведает животными инстинктами, Ерошка понял, что нет здесь игры, а всё жизненно, всё по-настоящему. Что разорвут его ревущие звери. Будут кромсать тёплое, такое родное, уютное тело. Разберут на отдельные куски. Оторвут руку, затем вторую. Отломают ногу. Из кошмара невозможно выбежать. Смыкалось рычащее кольцо. Коло ока его вокруг да недалёко!
Ерошка пятился, озирался. Тело оступалось, перетаптывалось, теснилось на малом пятачке. Сердце летело вниз, в самые пятки, душа же рвалась наружу, карабкалась, цеплялась за рёбра. И вдруг как будто перещёлкнуло что-то в сознании. Как будто ум, не выдержав ужаса, выскочил в иное измерение, туда, где открывалось пространство, не ограниченное никакими горизонтами. Где растворились в бесконечности границы времени. Где можно не спеша перебирать множество самых разных мыслей. Вот те, что когда-то уже посещали его голову, а вот и те, что были совсем новыми, свежими. Наплывали, как облака, рождались, неведомо откуда. Он ясно видел их!.. Какой-то частью сознания Ерошка удивлялся способности человека в предсмертную минуту размышлять о столь отстранённых предметах. Всплыл давний разговор с дознавателем Мухой о том, что от потери частей тела человек не утрачивает целостности. О, как же кстати, как вовремя пришла эта мысль!
«А что, — думал Бубенцов, — что, если и душа так же устроена? Если, допустим, изъять из неё чувство зависти, страха, злобы... Обеднеет ли она после этих утрат, опустеет ли? Или, к примеру, убрать из памяти всё лютое, тёмное. Стереть все подлости, злые мысли, паскудные дела. Что останется? В том-то и дело! Ничего от человека не убудет! Самость-то остаётся! Если что-то в человеке от такой редактуры переменится, то только к лучшему. Кто же откажется от перемен, если они к лучшему? Кто против того, чтобы вместо жирного живота образовались у него тугие мышцы, кривые ноги стали стройными, лысина обросла шевелюрой? Кто откажется облагородить черты своего характера — сменить жадность на великодушие, трусость на отвагу? Всё это можно изменить в человеке без всякого ущерба для личности. Человек легко согласится на перемены, если совершенно твёрдо будет знать, что останется самим собою. Нельзя трогать только сердцевину, самость. У каждого она своя, отдельная, особая. Неизменная, личная, неповторимая, любимая, дорогая. Вот за эту самость и цепляется всякий человек».
Вряд ли кто-нибудь сумел бы прочесть, понять, а уж тем более связно пересказать сумбурные мысли, которые целой стаей сверкнули в голове у обречённого Ерофея. Ерошка точно знал только одно: что если бы, положим, исхитрились как-то сделать точную копию его, точнейшее повторение Ерофея Тимофеевича Бубенцова, ни в микроне, ни в едином атоме не отличающееся от него, вплоть до отпечатков пальцев, клонировали бы, что ли... со всеми мыслями, привычками, слабостями, со всей историей жизни, со всей родословной, до последнего колена, со всей его единственной, неповторимой личностью и даже, страшно представить, со всей будущностью — то и тогда это создание было бы чуждо, неприятно ему, а скорее даже и — враждебно. Во всяком случае, Бубенцов ни одним движением сердца не пожалел бы, когда бы точную копию его тотчас же и уничтожили. Прихлопнули, как обыкновенного таракана. Не жаль. Потому что не бывает даже в совершенной, идеальной копии главного — самости. Самость — подлинник человека. Единственный, уникальный во всей вселенной. Неповторимый божественный шедевр!..
Отворилась дверь, всунулась какая-то рыжая баба, стала высматривать, привстав на цыпочки. Увидела наконец Ерошку, бледные губы её приоткрылись, чтобы окликнуть по имени, позвать... Но Джива уже вбегал в помещение. Шумно дыша, ворвались следом три азиата. Гремели сапогами, как кованые волки.
— Атас! Стоять!
Отбросили, отстранили рыжую. Та отступила с большой неохотой и досадой. Приказ есть приказ. Оказывается, демонская иерархия устроена примерно так же, как и бандитская. В основе — та же пирамида. Сильные бесы усмиряют, командуют злыднями помельче.
Глава 5
Верила, верила, верю...
1
Было позднее утро, когда в конце больничного коридора показалась скособоченная фигура Шлягера. Адольф вышел из сумрака, вступил в резкий свет люминесцентных ламп. Хромал, подволакивал ногу, приближался, постепенно увеличиваясь в размерах, согласно законам перспективы.
Под мышкою зажимал шуршащий куль с цветами. Церемонно раскланялся, поравнявшись с уборщицей. Шлягера здесь все знали, хотя никто не спешил знакомиться с ним близко. Ежедневно сталкивались в общем вестибюле первого этажа, где размещался офис. Лошадиная физиономия за прошедшие полгода примелькалась, стала привычной глазу. Уборщица, пропустив его, упёрла руки в круглые бока, некоторое время смотрела в спину, а затем молча плюнула вслед.
Бубенцов лежал, прислушиваясь к звукам, что доносились из коридора. Звякнуло ведро. Мягко постукивала эбонитовая трость по линолеуму. Шлягер вошёл в палату. Дверь закрылась с маслянистым щелчком. Адольф сбросил калоши, вскинул правую руку:
— Гей-роям слава!
Пытался шутовством сгладить вчерашнюю оплошность. Бубенцов промолчал.
— Гей... роям... — упавшим голосом повторил Шлягер, но и на этот раз не дождался нужной реакции. Приготовленная усмешка погасла на губах.
Отставляя в сторону негнущуюся правую ногу, Шлягер направился к окну.
— Что Вера? — спросил Бубенцов.
— Успокоили. Сказали, день-два, и вы на ногах! — как будто обрадовавшись, бойко заговорил Шлягер. — Но сами знаете, женщина. Утлое создание. Восклицания, нервы, слёзы!
Щурясь от солнечного света, занялся принесённым букетом, шуршал целлофаном. Обернулся быстро, воровски. Но Ерошка караулил его взгляд. Шлягер смутился, насупился, отвёл глаза.
— Это ты подстроил, гад! — сказал Бубенцов. — Не смей отнекиваться! «Гей-роям». Шутки он шутит.
— Бес попутал! — пробормотал Адольф. — Чёрт.
— Какой ещё чёрт?
— Асмодей! Кто же ещё? Всё-то вы стараетесь вызнать! Вопросцы эти ваши... С подоплёкой. А мне ведь тоже досталось! Вот, вот и вот. — Шлягер тыкал пальцем в синие подглазья. — Это что же, по-вашему, я сам себе синяков наставил? А это? — Адольф задрал штанину. — По больной-то ноге. Палками. О-хо-хо. Кто же, если не чёрт?
— Ты подстроил, — упрямо повторил Бубенцов. — Никакой не чёрт!
— Эва загнули! Сам себя? По больной ноге?
— С тебя станется. Лицемер! Кто проговорился про Пал Нилыча? «Точны, как Каганович... Давно вас поджидаем...» Кто?
— Ну, во-первых, что могу сказать... А во-вторых, что обо мне-то говорить? Видели бы вы Дживу, попечителя вашего! — воскликнул Шлягер. — Вот уж кому не позавидуешь. Ребра целого нет! А и поделом! Его вина.
— Твоя вина!
Шлягер отступил, прищурив глаз, присмотрелся к букету. Вернулся, подправил, оборвал лепесток.
— В-третьих... Поросюка зашибли. В реанимации лежит. Бермудес же Игорь Борисович как всегда. Без единой царапины. Уважаю за ум. Я предупреждал вас, что пора заканчивать со скандалами. Сходить со сцены нужно на пике славы. Особенно после таких падений!
— Меня подстрелили на взлёте, — сказал Бубенцов. — Не дали обрасти перьями.
Бубенцов, обмотанный бинтами, чувствовал за собой духовный перевес. Вероятно, такое же чувство превосходства по отношению к штатскому человеку испытывает раненный на поле боя солдат.
Адольф поглядел в окно на больничный двор, сказал тихо, значительно:
— Пора, мой друг! В-четвёртых... Со вчерашнего дня градус ваш... Простите, статус ваш повышен!
Шлягер повернулся, лицо его стало серьёзным.
— Впрочем, что мы тут вокруг да около? Коло его ока... Я вообще-то, уважаемый Ерофей Тимофеевич, пришёл поздравить вас. Вы достойно прошли все предварительные испытания. Кандидатура утверждена.
— Куда утверждена? Какие испытания? И главное, кем? Чёртом, который всех попутал? Асмодеем?
— О, не сомневайтесь, Ерофей Тимофеевич. Это, как вы уже сами не раз убеждались, дружелюбные и мудрые силы. Даже из конфликта, в который вы влипли вчера по собственной своей природной дурости, вас вынесли невредимым. Ну, почти невредимым. В отличие от самонадеянного друга вашего Тараса.
— Что «мудрым силам» нужно от меня?
— Довольно пресмыкаться! Они желали бы видеть вас на первой ступени власти. Вы должны получить опыт управления людьми.
— А если я откажусь? — спросил Бубенцов.
— Вы не откажетесь. — Шлягер положил ладонь на его забинтованный локоть. — Вы не откажетесь, Ерофей Тимофеевич. Слава и богатство, конечно, хорошо. Но власть лучше! Знаете, в чём отличие?
— В чём же?
— Вы не покупаете услуги, а отдаёте приказы. Власть — это инструмент прямого влияния на мироздание.
Шлягер посмотрел на часы, нахмурил брови, что-то высчитывая.
— Начало в девять часов шесть минут. По ассирийскому исчислению. Стало быть... Гринвич... Тэк-тэк... Позвольте, однако, откланяться. Лежите здесь, отъедайтесь. Будьте покойны. Привыкайте к новой роли. Больше уверенности в себе!
Шлягер остановился в дверях, обернулся:
— Да-да, вот как сейчас! Именно такое лицо! Блаженное! Которое нам и нужно!
Бубенцов широко улыбался.
— Вы бы видели, какое глупое у вас теперь лицо! — ещё раз похвалил Шлягер. — Глупейшее!.. Но сколько в нём выражения радости, счастья, оптимизма! Сколько веры в будущее! То, что надо! Зафиксируйте про себя ваше состояние, запомните расположение лицевых мышц. Блестящая актёрская игра!
Никакой, однако, игрой тут и не пахло. Просто Ерошка каким-то образом посреди разговора со Шлягером почувствовал приближение Веры. Это было как дуновение. И чутьё не подвело. Едва Шлягер пропал за дверью, как послышался знакомый стук каблучков. Донеслись из коридора невнятные восклицания Адольфа. Ерошка лежал, глядел в высокий потолок, блаженно улыбался. Уже совсем близко. Он любил эти её лёгкие босоножки.
Вера вошла в палату. В руках сухо шуршали, горели жарким сухим золотом кленовые листья. Огляделась и, стуча каблучками новых жёлтых сапог, направилась к подоконнику.
— Розы я, пожалуй, заберу, — говорила Вера, вытаскивая букет из графина. — А листья поставим на их место.
Поглядела за окно.
— Ненавижу ту беседку!..
Ерошка спустил ноги с кровати. Кривясь от боли в коленке, наморщив нос, похромал к Вере. Вера обернулась на его стон. На её лице немедленно повторилась вся страдальческая гамма Ерошкиной мимики. Нос её точно так же болезненно наморщился, точно так же закусила она нижнюю губу. Обнимая её, Бубенцов покосился за окно. Узорчатая беседка с античными колоннами стояла на своём месте и была теперь пуста. Лаокоон с отломанной рукой.
— Я помню, — сказал Бубенцов. — Ты меня ревновала к девкам из музучилища.
2
В том корпусе Бубенцов лежал пятнадцать лет назад. В четырёхэтажном здании из старинного красного кирпича располагалось терапевтическое отделение. И белая античная беседка на берегу больничного пруда относилась к терапии. Кусты сирени, чугунные скамейки, скульптура Лаокоона.
Когда-то Бубенцов провёл здесь две недели самой счастливой и беспечной больничной жизни. Он лежал здесь на обследовании от военкомата.
Многие люди любят болеть и лежать в больнице. Болеть, разумеется, не так, чтобы корчиться от спазмов. Или мучиться с подвешенными к ногам гирями. А болеть легко, когда вокруг приличное общество, весёлые медсёстры, равнодушные и невнимательные врачи.
Пятнадцать лет назад Бубенцова выперли из университета за скандал, учинённый им в общежитии. Замаячила перед ним армейская перспектива. Не то чтобы он боялся тягот солдатской жизни. Он и самой тюрьмы не боялся, зная, что выживет в любых условиях, станет своим в любом коллективе. Но два года провести без Веры где-нибудь в Заполярье — это было слишком.
В начале мая Ерофей Бубенцов проходил врачебную комиссию. Мерили рост, взвешивали, заставляли дуть в цилиндр, выявляя объём лёгких. Ерошка притворялся, лгал хирургу про ломоту, боль в суставах. Хирург кивал головой, писал твёрдым почерком: «Годен».
Спустя два дня Бубенцов явился в кабинет невропатолога. На этот раз подготовился к визиту. Вера специально принесла учебник по психиатрии. Ерошка подробно рассказал невропатологу про первичные симптомы эпилепсии. Каменный, нечувствительный старик глядел на него неподвижными, стеклянными глазами, никак не реагировал. Было видно, что опытность и цинизм почти полностью заглушили в нём человечьи чувства. Холодными пальцами помял Ерошкин живот, постучал молоточком по коленям, начертил крест на груди. Не говоря ни слова, написал в карточке: «Годен».
Оставалась последняя надежда — терапевт. Терапевтом оказалась молодая, привлекательная женщина лет тридцати. «Надежда Сергеевна Щасная». Сердце Бубенцова дрогнуло. Терапевт внушала симпатию. Где симпатия, там и надежда. Сидя перед нею в трусах, красиво напрягая грудные мышцы, поджимая живот, Бубенцов всё более укреплялся в своей надежде.
— Всё у вас в полном порядке! — бегло посмотрев анализы, симпатичная женщина подняла глаза на Ерофея.
— Спина! Иногда глухо так покалывает. У отца похоже было. Почки. Постоянно кровь в моче. Умер. Я вот опасаюсь тоже. Что анализы?
— В норме. — женщина склонилась над картой. — Анализы идеальные.
Острейшее чувство обиды пронзило Бубенцова.
— Странно, — глухо сказал он, сглотнув слюну. — Не может такого быть! Повнимательнее посмотрите.
Ерошка был абсолютно уверен, что белок в анализах зашкаливает. Ведь накануне, после того как у него взяли кровь из пальца, он, пользуясь случаем, надавил крови в пузырёк с собственной мочой. Пока та не побурела.
— Белок как?
— Сахар, белок, всё в норме, — весело сказала врачиха. — А болезнь почек по наследству хоть и передаётся, но далеко не всегда.
«Вот же сволочь! — бессильно ругался Бубенцов, представляя ту халатную медсестру, которая схалтурила и, скорее всего, никаких анализов не делала. — Безответственная дрянь».
Надежда Сергеевна поднесла перо к графе, где отмечается «годен». Бубенцов вскинул руку, останавливая:
— И живот! Болит! Спазмами.
— Хорошо, — сказала добрая женщина, усмехнувшись. — Мы вот что сделаем. Тут целая группа призывников направляется в стационар. На дополнительное обследование. Это две-три недели полежать. Сможете? Не возражаете?
Ещё бы! Ещё бы он возражал!
Так Ерошке Бубенцову подарен был весенний месяц май. И это, как оказалось, был самый счастливый, самый безмятежный, самый светлый месяц во всей его жизни. Цвела сирень. Осыпались белые лепестки яблонь. Даже лежачие больные вставали в эти дни со своих одров, бродили по дорожкам, постукивая палками. Головы их проплывали, как воздушные шарики, поверх постриженных кустов акации.
После шести вечера никого не оставалось из начальства. Едва врачи расходились по домам, призывная молодёжь собиралась в античной беседке. Из соседнего музыкального училища приходили девушки. Все пили вино, девушки начинали петь! На ангельские голоса распахивались окна психиатрического отделения.
Вот кто-то с горочки спустился.
Наверно, милый мой идёт...
Одна из певиц, широкоплечая, большегрудая, с короткой шеей, была влюблена в Ерофея. Она особенно нежно выводила это «милый мой», выразительно смотрела выпуклыми глазами в глаза Ерошке. Чувства её были настолько искренни и непосредственны, что казались Ерофею грубой, неумелой халтурой.
Оканчивалась одна песня, и большегрудая запевала:
Верила, верила, верю,
Верила, верила я,
Но никогда не поверю,
Что ты разлюбишь меня...
Медсёстры и сиделки слушали, горестно облокотившись на подоконники. Неизменно каждый вечер повторялась одна сцена. К увлечённой пением молодёжи подкрадывался человек. Это был пожилой, безобидный сумасшедший, постоялец психиатрического отделения. Он прятался за спинами, начинал звать тягучим, бычьим голосом из куста сирени:
— Сестра Вера, забери меня отсюда!..
Песня прерывалась. Все почему-то покатывались со смеху. Приходила Вера, забирала и уводила беднягу. Вера уже тогда работала медсестрой в психиатрии.
Через полчаса Вера, сняв халат, переодевшись в цивильное, возвращалась к скамейке, присаживалась рядом с Ерошкой. Большегрудая отодвигалась. Вокруг Ерошки образовывалась отчуждённая пустота. Все понимали, что состязаться с Верой бессмысленно.
Глава 6
Художественный совет
1
Потайной советник Савёл Прокопович Полубес кряхтел, чертыхался, пропихивая локти в узкие рукава камзола. Он ненавидел и всем сердцем презирал эту одежду. Стресс-код. Хитроумные бронзовые застёжки, удушающие корсеты, жёсткие воротнички, тугие резинки для удержания чулок. Пудра парика вызывала приступ сухого кашля. Проходя на высоких шатких каблуках мимо зеркал, Полубес старался не заглядывать туда, чтобы не расстроиться окончательно. Но не смог удержаться, покосился. Увидел туго обтянутые ляжки с бантами под коленками, кривые икры в белых чулках. Собственные ноги показались ему чужими, нестерпимо уродливыми. Под чулками бугрились вены. Ныли плоские ступни, всунутые в башмаки с квадратными носами и серебряными пряжками.
Угрюмая усмешка искажала его тёмное лицо. Но Савёл Прокопович честно исполнял все условности нелепой комедии. Конечно, он многого не понимал в происходящем, не находил никакого практического смысла в несуразных процедурах. Но — деньги! Немыслимые, гигантские деньги. Если бы не триллионы денег, то можно было бы подумать, что нелепый карнавал устраивают насельники сумасшедшего дома. Деньги же неопровержимо свидетельствовали, что всё здесь серьёзно.
Полубес вышел во двор. Полная луна сияла над башнями. Ужасна полная луна, под ней мир становится голым, уродливым трупом.
Через минуту Полубес дохромал по скользким булыгам до заднего двора. Приятно потянуло угольным дымком. Полубес отворил дверь, обитую изнутри войлоком. Всё здесь было по-прежнему. Уклад жизни, несмотря на всю свою нелепость, ничуть не менялся. Топка была открыта. В печной глубине гудели раскалённые угли. Кто-то сунул в руку Савёлу Прокоповичу канделябр с чадящими свечами. Полубес покорно склонился и встал при входе.
Было ровно девять часов шесть минут по ассирийскому исчислению.
Очередной худсовет начался.
По всем углам бродили, рассаживались, тихо переговаривались небольшие группы людей. Прошла мимо Полубеса несравненная Роза Чмель, в которую Савёл Прокопович, несмотря на свой возраст, был влюблён давно и безнадёжно.
Роза Чмель отбросила лорнет в сторону, скинула с плеч битый молью лисий мех, пахнущий нафталином и мандариновыми корками. С сугубым наслаждением сдёрнула колтун парика. Прекрасные натуральные волосы, чёрные с рыжим отливом, рассыпались по плечам. Роза упала на топчан, стала подсовывать под широкий зад круглую меховую подушку. Подушка очнулась от дрёмы, заворчала, обернувшись таксой.
Старик в буклях, по прозвищу Огнь, кряхтя, мостился обочь. Рот его страдальчески кривился. Изношенное тельце хрустело, скрипело, плохо слушалось команд. Кости внутри его, все в известковых шишках и наростах, давно уже не взаимодействовали в удобной и согласной гармонии, а торчали как попало, подобно вязанке хвороста.
С другой стороны топчана на самом краешке уселся пугливый на вид человек с хохолком на темени.
— Прекрасно выглядите, Роза! — похвалил старик в буклях, поглаживая чёрную таксу. — В ваши-то лета.
— Лета не помеха! — задорно откликнулась Роза. — Лета изощряют страсти, придают опытность в телесной любви.
— Это так, это так... — согласно закивал господин Огнь. — Опытность, да. Лета эросу не помеха.
Приосанился, упёр руку в бок. Серое, поношенное лицо чуть порозовело.
— Замуж невтерпёж! — призналась ему Роза, ёрзая на топчане.
— Потерпите, Розалинда! — вмешался подошедший Шлягер. — А не то брому выпейте. Не забывайте, что вы супруга господина Дживы.
— Не желаю! — капризно взвизгнула Роза. — Убейте мерзкого Дживу! Раздавите гадину!..
— Нельзя, заинька! — Шлягер взял её за руку. — Неможно. Без приказа сами знаете кого. Тем более что господин Джива аккумулятор материальных средств.
— Отставить праздные разговоры! — проскрипел тонкий, скверный голос из-за засаленной шторки. — Работаем!
— Потеснее сядем, Роза, — отозвался Адольф Шлягер, усаживаясь за стол, придвигая к себе целую гору канцелярских папок. — Пробил твой час, Роза! Эй, хлоп! Поди-ка поближе, посвети!
Савёл Прокопович Полубес, названный хлопом, скрипнул зубами. Душевно содрогнувшись, покорно подошёл, встал слева от Шлягера, поднял пылающий канделябр над столом.
— Полагаю, следует начать вот с чего... — Шлягер распустил завязочки серой картонной папки с надписью карандашом: «Бубенцов. Детские годы».
— Нужны ли такие давности? — засомневалась Роза.
— Нужны, золотце! Первая встреча с профессором, будь имя его проклято, произошла в детстве героя. Четверть века назад мы свели их возле булочной, согласно сценарию. Полгода назад пасомого заманили в профессорскую квартиру, где Гарпия посредством карт заронила в сердце его смуту. Мы уже, как вам известно, дали ему хлебнуть ядовитой сладости земной славы, вложили в персты липкие деньги.
— А теперь, стало быть, искушение властью?
— Да, теперь предстоит искушение властью. Дабы уберечь рассудок от окончательного хаоса, решено власть временно ограничить пределами Ордынского района. Пусть пообвыкнется. А затем уже... Умолкаю благоговейно!
Человек с хохолком приложил палец к устам:
— Работаем-работаем! Изучаем подноготную героя!
Роза молча кивнула, поддёрнула рукава, склонилась над рукописанием. Работа предстояла немалая. На столе возвышалась целая гора папок. Некоторые, впрочем, дела касались вовсе не Ерофея Бубенцова, а совершенно посторонних людей. Например, внимательно изученная «История прелюбодеяний» раскрывала подноготную Курицына Владимира из Подольска. А «Страсти и пристрастия» принадлежали дознавателю полиции Виталию Петровичу Мухе. Романтический компромат «Блуд или любовницы юности» касался Семёна Ордынцева. Путаница в делах была большая.
Шуршали бумаги, сотрудники переходили с места на место, передавали из рук в руки дела, переговаривались вполголоса. Атмосфера воцарилась самая будничная. Но вскоре случился небольшой скандал. Господин Огнь, прочтя несколько абзацев из папки «Малая антология блудных извращений», не удержался, незаметно прополз на четвереньках под столом. Проникнул под пышные юбки несравненной Розы Чмель. Кто бы ожидал? Коснулся уже ледяными пальцами нежнейшей, атласной кожи, беззащитной обнажённой полоски, что белела меж кружевными трусиками и чулками. Пылая, высунув лиловый язык...
— Ах ты, старый ёлупень! — взвизгнула Роза, и Огнь получил сильнейший удар каблуком в середину лба.
Плакал в углу безутешно. Молча глотал слёзы, роняя длинную слюну, вздыхая об ушедшей юности. О развратном и невозвратном.
К плачущему старику придвинулась дама в капюшоне. Поигрывала пальцами с рыжеватой косой. Склонилась над ним по-матерински, стала гладить по редким седым шерстям на голове, по-видимому утешая. Господин Огнь, однако, едва коснулась его рука дамы, взвыл, лязгнул зубами, исступленно замотал головой. Не вставая с четверенек, проворно побежал, застучал коленками, забился в самый дальний угол. Закрыл лицо ладонями, и только поблёскивал меж пальцами испуганный, расширенный от ужаса зрачок.
2
Рука Полубеса одеревенела, затекла от тяжести канделябра, он поддерживал её под локоть другою рукой, а канцелярская работа всё шла и шла. Трижды меняли восковые свечи, окоченел мозг Полубеса от однообразия происходящего. Наконец последняя папка была осмотрена, выписки из неё сделаны в блокнотик Розы Чмель.
Закончив труды, Шлягер потянулся с хрустом, широко, по-собачьи зевнул. Глядя на него, сладко зевнула Роза. Как будто маленькая радуга осветила угрюмые своды кочегарки. То сверкнули вставленные в каждый её зуб драгоценные бриллианты. Глядя на Розу, раззевался и Огнь, показав мерзкое нёбо. Не удержался и человек с хохолком, и господин Шпрух. Зевота быстро стала распространяться по всему помещению...
— Да почему бы вам, господин Шлягер, не дать мне информацию о будущем? — потягиваясь, спросила Роза. — И мне работать проще, когда будущее известно наперёд. Не надо мозги ломать.
— Понимаю, Роза. Так было бы проще. Но увы! К сожалению, среди нашей вездесущей агентуры нет специалистов, способных ясно и точно провидеть будущее. Мы можем делать прогнозы, опираясь исключительно на факты, уже свершившиеся. О будущих поступках человека мы можем судить только по уже произведённым поступкам, строя аналогии. Но и тут есть один момент, очень огорчительный для нас. Иногда человек отрекается от совершённых им действий. И тогда эти действия соделываются как бы и не бывшими вовсе. Прошлое стирается со скрижалей. Это называется у них — покаянием.
— То есть человек грешит, а ему потом за это... ничего?
— Жизнь человечья прихотлива, — вздохнул Адольф Шлягер. — Бывает, вор всё наворованное раздаёт сиротскому детскому дому. Уже совсем иная статья. Но, к счастью, человек всегда уповает на будущее, в котором он обязательно возьмётся за добрые дела.
— Будущее принадлежит дьяволу, — заметила Роза.
— Вот именно, — серьёзно подтвердил Шлягер. Изловчившись, приложился толстыми своими, мокрыми и холодными, как старые подберёзовики, губами к нежной ручке красавицы.
— А где сейчас подопечный? — Роза брезгливо отдёрнула руку.
— «Где, где»... В сумасшедшем доме! — ляпнул Шлягер.
Прекрасные соболиные брови Розы изумлённо взметнулись вверх.
— В доме скорби?
Шлягер несколько мгновений наслаждался растерянным видом неприступной красавицы.
— Офис у нас там, — успокоил он. — Контора. Арендуем площадь. У администрации психиатрической клиники.
Глава 7
Пара гнедых
1
В администрации меняли таблички на дверях кабинетов. Рудольф Меджидович Джива, как и при Семёне Ордынцеве, продолжал оставаться на должности советника. Сокрушительное поражение Ордынцева он принял спокойно. Дживу, правда, насторожила лёгкость, с какой гороховый шут выиграл выборы. Бубенцов набрал восемьдесят семь процентов голосов. Выехал на славе скандалиста, борца за справедливость. Но Джива понимал, что цель у людей, которые за ним стояли, всё-таки была несколько иная, чем власть в подмосковном районе, ведь не ради пустяков в Бубенцова вкладывали такие неимоверные деньги. Гороховый шут по неведомым своим качествам был необходим большим людям. Для чего, ещё не вполне понятно. Воровать можно было и при Ордынцеве, и при всяком ином руководителе. Однако им понадобился этот лицедей. Для каких махинаций? То, что махинации задумывались грандиозные, Джива догадался давно. Ещё до появления Бубенцова в районе обосновались сосредоточенные, молчаливые люди. Мелькал пару раз какой-то сутулый, малокровный, серый. Перед ним заискивал даже Шлягер, трепетал многоопытный Полубес. И ничего, ровным счётом ничего не смогли сказать про этих людей многочисленные шестёрки Дживы. Потому слишком глубоко вникать в их дела не следовало. Хотя бы из чувства самосохранения. Но пока большие люди заняты высокой политикой, человек умный может этим попользоваться.
Рудольф Меджидович знал, что частенько бывает так: чем сложнее, непонятнее и запутаннее дело, тем проще оно объясняется. Даже и большие люди руководятся теми же основными человеческими инстинктами, что и самый последний голодранец. Рудольф Меджидович имел краткую беседу со Шлягером, из которой выяснил, что задачи у него прежние — оставаться смотрящим по округу.
2
Бубенцова совсем не радовала свалившаяся на него власть. Очень скоро выявилось, что он не был человеком деловым. Даже Шлягер с досадой признал, что никакие житейские перемены не смогли ничего сделать с натурой Ерошки Бубенцова. Художественной, плохо организованной, склонной к анархии. Все те возможности, которыми воспользовался бы всякий другой человек, Ерошку пугали и томили. Там, где другой развернулся бы во всю ширь, Бубенцов, наоборот, сжался, сузился, примолкнул.
Больше всего жалел он о прежней воле. Скованный условностями, помещённый в тесную клетку, запертый в четырёх стенах, хандрил и скучал. Он, оказывается, привык к своим скандалам. Прежде даже мысль о предстоящем дебоше бодрила, как утренний душ. Ныне же, лишённый возможности разгуляться, чувствовал себя вялым, никому не нужным.
О, слава человечья! Сколько горьких и справедливых слов сказано о тебе. Обманчивый огонь, призрачный дым. Даже и не дым, а летучая «тень от дыма», по образному выражению поэта Тютчева.
Разумеется, в глубине души он совершенно ясно понимал, что слава его, если приглядеться, была славой глупой, поддельной, товаром второго сорта. Если слава Гомера, Льва Толстого или Шекспира полноценна, содержательна, полновесна, то его слава была самого низшего качества. Хотя, конечно, ярче, шумнее. Но расставаться, даже с такой, второсортной славой было жаль. Однако запрет на скандалы был прямой, недвусмысленный. Никакого больше лицедейства, никаких скандалов. Ибо власть и смех, власть и юмор — не уживаются.
«Тигра и трепетную лань нельзя запрячь в одну повозку». Так говорил Шлягер. «Лебедь, рак и щука вполне возможны и даже желательны. Но не лань, любезный друг мой, не лань...»
Уходя, даже и пропел очень кстати на мотив Есенина:
Ах, не лань ты, не лань, не лань...
3
Что делать?! Ерофей Тимофеевич Бубенцов с головою погрузился в текущие административные хлопоты. С первых же шагов отметил он одно удивительное свойство новой жизни. Всякая неотложная проблема, как только её удавалось решить, немедленно порождала целую плеяду других, ещё более неотложных. Пока он жил вне властной пирамиды, пока наблюдал за деятельностью чиновников со стороны, все ошибки властей были очевидны. Он видел и то, как легко и просто можно исправить допущенные промахи. Всё лежало на поверхности, и казалось, только идиот мог не замечать.
Но на деле выяснилось, что проблемы плодились как будто сами из себя, множились и питались собою. Избавиться от напасти не было никакой возможности. Лопались водопроводные трубы, горела подстанция, прорывалась теплосеть, трескался асфальт, ветшал жилой фонд, люди травились боярышником, бастовал персонал психиатрической больницы, прокурора ловили на взятках, пенсионеры перекрывали трассу, беременели школьницы, коллекторы калечили должников... Вал нарастал. Читая ежедневную сводку о состоянии дел в районе, Бубенцов понимал — катастрофа неизбежна.
— Руки виснут, — горько признался он Матвею Филипповичу. — Мучаюсь я с этой властью, как пьяный с велосипедом!
— А ты не вникай, Ерофей Тимофеевич, — посоветовал ему охранник. — Не гляди! Иначе хандра заест.
Это был разумный и здравый совет. Бубенцов вспомнил, что такой же доброжелательный голос советовал Хоме Бруту не глядеть на нечисть.
— Пусть всё идёт своим чередом. Не надо мешать течению жизни.
И всё шло своим чередом. Хотя полицейские сводки, инженерные расчёты, цифры, письма и жалобы населения неопровержимо свидетельствовали о надвигающемся апокалипсисе.
«Что же творится в других районах? — со страхом думал Бубенцов. — Что вообще ожидает Россию? И куда, в конце концов, катится весь этот мир?!»
Бубенцов, особенно поначалу, жил в предощущении катастрофы. В уверенности, что катастрофа должна произойти со дня на день, не сегодня завтра... Но прошли первые труды и дни, тревоги понемногу улеглись, успокоились. То, что будоражило, скоро совсем перестало волновать, обернулось скучной ежедневной рутиной. Живут ведь люди и на вулкане. Живут же вообще все люди, твёрдо зная, что умрут. Умрут в самом буквальном, в самом что ни на есть арифметически точном смысле — со дня на день, не сегодня завтра...
А если так, то стоит ли хлопотать об устройстве временной земной жизни? Тратить душевные силы на приведение в порядок убитого хозяйства района? И Бубенцов почти смирился с тем, что не в его силах сделать здесь хоть что-нибудь ради спасения и улучшения жизни.
«Руки виснут...»
Не то Шлягер! Ерофею иной раз казалось, что они со Шлягером сообщающиеся сосуды. Адольф жил вдохновенно, сновал как летучая мышь, разрывался между театром и администрацией. Везде поспевал, во всё вникал, записывал, всюду вмешивался, отдавал приказания. И на всё хватало у него энергии! Как будто высасывал эту энергию из Бубенцова. А и вправду, чем веселее становился Шлягер, тем заметнее хирел Бубенцов. Иногда странная тревога ни с того ни с сего овладевала душою. Случалось это в тот тихий час, когда в коридорах за стенами его кабинета замирало движение, наступала пауза. Долетали извне невнятные шорохи, вздохи, бормотания, стоны, тихие шаги, перезвяк посуды. Грустные думы овладевали Ерошкой.
Как-то под вечер в такую вот вялую минуту явился Шлягер. Энергичный, пахнущий одеколоном «Шипр», припудренный дорожной пылью, с глазами мечтательными, устремлёнными в будущее.
— Ну, уважаемый Ерофей Тимофеевич, — присев к столу, бодро произнёс Адольф. — Как вам здесь? Довольны властью?
Ерошка ковырялся в железной миске, постукивая вилкой, пытался наколоть остывшую макаронину.
— Не человек владеет властью, а власть владеет человеком! — философски ответил Бубенцов, не поднимая головы. Этот афоризм давно уже приготовился в его голове. Но слова, не успев прозвучать, остыли, расползлись, осклизли, увяли. Ерошке стало неприятно, как будто он сказал какую-нибудь пошлость. Всё, всё валилось из рук! Бубенцов крепче обхватил вилку, зажал её в кулаке вверх остриями. Опустил кулак на стол, вздохнул с тихим, сокрушённым стоном: — Скучно мне, бес!
— Бес бесу глаз не выколет, — отозвался Шлягер, на всякий случай немного отклоняясь назад. — Не так ли, дорогой друг?
Тут, как это бывало довольно часто, когда очередная двусмысленная недомолвка срывалась с толстых губ Шлягера, взгляды их схлестнулись. Но только на одно мгновение. Ибо столько холодной ненависти было в зрачках Шлягера, что нельзя было долго туда засматриваться. Установилась напряжённая тишина. Слышно было только, как нервно барабанят пальцы Шлягера по столешнице. Как мерно постукивает черенок Ерошкиной вилки. Каждый выстукивал свою мелодию. Губы Шлягера шевелились, что-то беззвучно выпевая.
Бубенцову порой казалось, что Адольф Шлягер нарочно старается вывести из равновесия, пародируя некоторые его ухватки. Во всяком случае, привычку напевать Ерошка считал своею, присущей ему с детства. Со времён Пятой симфонии. Но проклятый пересмешник перехватил его манеру и нагло присвоил. Случалось даже так, что они оба, сидя за соседними столами и задумавшись каждый о своём, вдруг одновременно громко запевали. Обычно это бывало после того, как извне подавался какой-нибудь сигнал. Санитарка ли роняла в коридоре бикс с инструментом, отчаянный ли чей-то крик долетал с верхних этажей, захлопывалась ли от ветра форточка в кабинете...
Артиллеристы-ы, Сталин дал приказ!.. —
бодро начинал Бубенцов, отбивая такт стопой, и тотчас отзывалось испуганное дребезжание:
Возьмёмся за руки, ей-богу-у...
Дежурящий на вахте Матвей Филиппович откладывал газету, прислушивался, чтобы узнать, чья возьмёт, но продолжения не следовало. Тексты аннигилировали друг друга, певцы надолго замолкали.
Бубенцов усмехнулся. Несмотря на микроскопические размеры коллектива, в нём, как и полагается, с самого первого дня возникли напряжения. Возникли они по единственной причине — никак не складывалась ясная иерархия. Матвей Филиппыч, привыкший во всём к чёткости и порядку, не имел твёрдой точки опоры. Он не мог определить, кто главнее — Бубенцов или Шлягер. Понятно было только, что Филиппыч в коллективе лицо подчинённое, а Шлягер и Бубенцов рангом выше. Старик симпатизировал Ерофею Тимофеевичу. Шлягера же Адольфа невзлюбил и, когда разговаривал с ним, отворачивал лицо, делал большие паузы, прежде чем ответить.
И хотя ни словечка не было произнесено сейчас про Матвея Филиппыча, Шлягер как будто подслушал мысли Бубенцова.
— А вам не кажется, что Филиппыч не совсем нам подходит? — сказал Шлягер. — Пора, пора менять атрибуты! Нет ли у вас, Ерофей Тимофеевич, на примете парочки красивых девушек? Пары, так сказать, гнедых!
— Как не быть! — тотчас вспомнил Бубенцов, потому что и не забывал. — Как же не быть?
Весёлая, неунывающая Настя с маленькой, гибкой фигуркой, яркими глазами, веснушками и с русой чёлкой. Чернявая Гарпия со сросшимися у переносицы бровями, пышногрудая, с колодой карт в грубых крестьянских руках.
— Настя и Агриппина! — провозгласил Бубенцов. — Завтра же съезжу.
Разумеется, он не забыл странную историю своего освобождения, когда прекрасные, но чужие, совершенно незнакомые девушки выкупили его из неволи. Вспоминал заодно и дознавателя Муху, и дикую старуху Зору, и, главное, то самое гадание на картах, которое, как он всё более ясно сознавал, сбывалось. Да, сбывалось!
— Настя и Агриппина! — повторил он, улыбаясь. — Завтра же!
На душе стало не то чтобы веселее, но вялое состояние сменилось тревожно-взвинченным. Как будто хлопнуло, растворившись, окно и повеяло свежестью. Почему-то пришла уверенность, что наступают большие перемены в жизни.
Ерофей Бубенцов шёл по длинному коридору, напевал вполголоса:
Взойду я, взойду я на гой-гой-гой,
Ударю, ударю в цывиль-виль-виль...
из каких глубин родовой памяти всплыли древние слова, бог весть.
Походка его была легка, стремительна, ноги чуть приплясывали. Как раз в размер и ритм пения.
И пока уходил по длинному коридору в сторону своего будущего, уместно будет напомнить... Впрочем, по остроумному замечанию одного мудрого, тёртого жизнью человека, куда бы мы ни шли, мы всегда идём в сторону своего будущего. Так вот, пока он шёл по длинному коридору, уходя от своего прошлого... Ах же ты!.. Короче говоря, то, что Бубенцов по наивности своей никак не заподозрил ни Настю, ни Агриппину в том, что и они часть таинственной могучей силы, две ячейки грандиозной сети, расставленной на путях его земной жизни, — это свидетельствует о том, что никакой паранойей он не страдал. Ни в ту пору, ни в последующее время. А значит, всё, что происходило с ним, происходило по-настоящему, по-серьёзному.
Адольф Шлягер уходил по тому же длинному коридору совсем в иную сторону. И тянулся за плечом его, вился, как папиросный дымок, затухающий припев: «Пара гнеды-ых... ой да па-ра гнеды-ых...» Этот ковыляющий, колченогий, спотыкающийся размер, это хроническое непопадание в ноты — всё это удивительно совпадало с собственной природной хромотою Адольфа Шлягера.
Глава 8
Профессор богословия
1
Часы на башне Казанского вокзала показывали десять утра. На другой стороне площади, рядом с восьмиэтажным сталинским домом, мягко прошелестев шинами, остановился длинный лимузин марки «линкольн» белого цвета. На таких машинах, украсив капот кольцами, цветными лентами и выпуклыми куклами, катаются по пятницам женихи и невесты.
Сидевшие у края тротуара нищие обернулись и примолкли на некоторое время. Так разом умолкают птицы, завидев приближение грозного хищника.
Шофёр, с достоинством склонившись, поддержал под локоть вышедшего щёголя. Что, впрочем, было совершенно излишним. Человек был ловок, ладен и молод. Торчащие вихры ничуть не портили его облика. Молодец огляделся, поднял глаза ввысь и вынул изо рта едва початую дымящуюся сигару с золотым ободком в виде короны. Поискал глазами урну, куда бы её выкинуть. Тотчас подлетел, подхватил сигару расторопный бродяга, коренастый, крепкий, с седыми власами и сизым, пористым носом. Похожий на старого, обветренного лоцмана.
— Как звать? — мимоходом поинтересовался вихрастый.
— Как звать? «Разорвать»! А фамилия «Лопнуть»!.. — весело и находчиво крикнул кто-то из толпы нищих.
— «Боцман» моё погоняло, — сказал лоцман хрипловатым баском и подкинул ладонь к виску.
Примолкнувшие было бабы-побирушки, одна постарше, другая помоложе, необычайно оживились, заслышав издалека, за пять шагов, благородное благоухание мужских духов. Что-то озорное прошептала одна другой, обе вспыхнули, озарились изнутри. Но богач даже не заметил ни их волнения, ни вспыхнувшего блеска глаз.
Закашлялся седовласый нищий по кличке Боцман, глотнув крепчайшего дыма кубинской сигары. Отвык горемыка от настоящего табака, забыл, что сигару полагается посасывать маленькими глоточками. Лучше всего — сидя у камина с рюмкой старинного арманьяка...
Две школьницы выбежали навстречу из двора, остановились, округлив глаза. Дёргали друг дружку за рукава, шептались, щебетали, спорили:
— Он? По телику вчера... Нет?
— Не может быть! Вау! Да!
— Нет, не он...
Но это конечно же был он.
Бубенцов Ерофей Тимофеевич уверенной поступью хозяина жизни направился по дорожке, ограждённой кованой решёткой. Сквозь арку виден был тенистый двор с детской площадкой, с качелями и горками. И тут одна странная вещь произошла на глазах потрясённых школьниц, на глазах всех тех, кто в ту минуту мог наблюдать за происходящим. Из-за угла показалась согбенная фигура иссохшей до неимоверной худобы старухи со смуглым лицом и выдающимся вперёд крючковатым носом. Старуха эта еле плелась вослед Бубенцову, шаркая подошвами калош, опираясь на клюку. В другой руке несла она авоську, нагруженную самым странным на вид товаром. Сквозь ячейки сетки видны были две стеклянные бутылки с кефиром, с крышечками из мягкой фольги, несколько пачек грузинского чая, коробка папирос «Прибой» за двенадцать копеек. Что-то ещё, чего разглядеть не удалось, поскольку эта едва передвигающая ногами страшная старуха со свистом пронеслась мимо девиц и в мгновение ока оказалась у дверей подъезда.
Бубенцов посторонился, пропуская старуху. Он сразу узнал её, ту самую старую-престарую Зору, что некогда поразила его огненными своими очами, сверкнувшими из глубины ночи. Ерошка тотчас вспомнил и ступу её, о которую ударился впотьмах коленом. Тут же, кстати, припомнился и каменный пест, что с грохотом покатился по паркетному полу, будя и пугая соседей с нижнего этажа. Вспомнилось попутно множество иных забавных мелочей, случившихся и не случившихся в ту далёкую предновогоднюю ночь.
Тихо запел печальный голос: «Пара гнедых, ой да пара гнеды-ых...» Грустя о быстротечности времени, вошёл Ерошка в подъезд вслед за старухой. Постоял, привыкая к сумраку. Разглядел отколотую ступеньку, череп с костьми, нарисованный на стене. Приятное чувство узнавания тронуло сердце. Пока разглядывал стены, старуха закрылась в лифте и пропала. Ерошка стал подниматься пешком. Между этажами на подоконниках и на полу грудами валялись книги.
Зора, повозившись с цепочкой, открыла дверь. Выставила нос, потянула воздух. Отступила в сторону, пропуская гостя в просторную полутёмную прихожую. Влача за собою сломанную швабру, подалась куда-то вбок, снова пропала.
Ерошка огляделся. Ничего здесь не переменилось с тех самых пор, даже запах стоял тот же самый, что и прошлой зимой. Тот же самый. Эфир, карболка, корвалол. Навстречу ему, стуча копытами... Сгинь, умолкни, наваждение!.. Вышла из кухни навстречу ему Настя Жеребцова из Полоцка, а вслед за нею Горпина Габун из Львова. Впрочем, за прошедшие полгода девушка пришла в себя, обтесалась в столице, стала наконец-то нормальной, обыкновенной Агриппиной! Высокая грудь Агриппины мягко волновалась. В руках у Насти, как полагается в таких случаях, полотенце, у Агриппины — горбушка хлеба с солью. Но поразился Ерошка не трогательному соблюдению древнего обычая, а тому, что в женщинах снова, как и тогда, почуял он нечто безмерно родное, милое, домашнее, привычное. Он не знал, что же это, как это выразить словами, но через секунду пришло озарение. В чертах этих женщин рассыпаны были черты его Веры.
— Как будто только вчера я был с вами! — воскликнул он, переводя взгляд с груди Агриппины на лицо Насти, а затем снова оглядывая статную фигуру Агриппины.
Та покорно поворачивалась то левым боком, то правым. Дышала часто, раскрыв алые, сахарные уста, высоко вздымая белоснежную грудь свою. Настя улыбалась и жевала. Звякнуло что-то за ширмой, сильнее запахло аптекой, эфиром. Бубенцов залюбовался белизной медицинских халатов девушек, растерянно улыбался. То же самое очарование овладело им, как и полгода назад, когда он впервые был с ними в ту новогоднюю ночь.
— Не пробежали мимо нас! — смеялась Агриппина. — А Настя не верила.
Настя протянула ему кусочек шоколадки:
— Верила! Сердцу вопреки. Ждали, ждали. Нам Афанасий Иванович сказал, что ты обязательно сюда вернёшься. «Кто хоть единожды здесь побывал...» И просил тебя сразу же к нему проводить. Вот в эту дверь.
Настя отодвинула ширму, приоткрыла половинку дверей, громко доложила:
— Афанасий Иванович! К вам Ерошка! Припёрся!
— Как вы и обещали, пан профессор! — добавила Агриппина.
Не успел Бубенцов отреагировать на это странное «припёрся», как усталый голос позвал изнутри:
— Пусть войдёт.
2
Бубенцов, недоумевая, шагнул в комнату. И вынужден был зажмуриться от хлынувшего в глаза света — на широком окне не было ни занавесок, ни штор. Затем, когда глаза немного привыкли к свету, разглядел стоящий против окна стол, заваленный книгами. За столом в кресле-каталке сидел старик, одарённый высокой учёной лысиной. Венчик седых волос, распушённых и позлащённых солнечными лучами, окружал эту замечательную лысину наподобие нимба. Кресло-качалка, обогнув стол, выкатилось из солнечного столпа навстречу Бубенцову. Старичок, сидевший в кресле, изумительно был похож на... Бубенцов не успел. Беззвучно лопнуло узнавание, как мыльный шар.
— Профессор Покровский. Афанасий Иванович. Преподаватель богословия Киевской духовной академии, — церемонно склонив голову, представился старичок и с любопытством стал разглядывать Бубенцова.
Живое лицо профессора озарялось радостью, точно у отца, к которому воротился блудный сын. Ответное чувство родственности росло в груди Бубенцова. Ерофею показалось, что он сто лет знает этого человека. Память мучилась, искала исчезнувшее впечатление, растерянно оглядывалась, тыкалась в пыльные углы и закоулки, бестолково перебирала предметы... Нужного не находилось. Профессор окончательно почужел, отдалился.
Коротко прозвонил трамвай с улицы. И, словно подчиняясь сигналу, стало вдруг смеркаться. Мягко потускнел свет, как бывает в театре перед началом действия. Солнце укрылось за налетевшими облачками, широкое окно погасло. Комната сразу поблекла, сузилась, приобрела казённый вид. Бубенцов приметил диван, застеленный серым одеялом, стоящую рядом тумбочку. Два яблока, недопитый стакан кефира. Над постелью на стене большой образ святителя Николая.
— Профессор богословия? — переспросил Ерошка. — Вот уж не ожидал. С человеком столь редкой... Когда ещё представится.
— Я ждал вас, — сухо оборвал Афанасий Иванович. — Знал, что непременно придёте. Сказано в Писании: «Яко пёс возвращается на блевотину свою...» На что жалуетесь? Впрочем, вопрос излишний.
— Но простите... — смутился Бубенцов.
— Явился тут один, — продолжал профессор, пристально вглядываясь в лицо Бубенцова. — Да. Очень похожий. Очень. Поразительное, знаете ли...
— Я тут был, — признался Бубенцов. — Перед Новым годом.
— Молчите, молчите! — перебил старик зло и раздражённо. — Не думайте, что это вы! То был самозванец и негодяй. Поверьте моему опыту, молодой человек. Я кое-что понимаю в метафизике!
— В чём же метафизика? — растерянно спросил Ерошка.
— Как в чём? — удивился профессор. — Он, вероятно, у них на особом счету. Двойник-то ваш. Едва вошёл, как тотчас заклубилась, заскакала вокруг него нечисть.
Бубенцов пригляделся, но никакого лихорадочного блеска, никакого болезненного огонька не приметил в глазах у Афанасия Ивановича. Наоборот, глаза глядели ясно и прямо, спокойный ум светился в этих глазах. Да и невозможные слова произносились совершенно нормальным, деловым даже тоном.
— Слетаются на его кровь. Три бесовских нападения насчитал я в ту ночь, — говорил профессор. — У одного, представьте себе, человечье имя — Рома. На Махно похож.
Бубенцов сообразил, что, по всей вероятности, в мозгу старика произошли печальные изменения, свойственные пожилому возрасту. Впечатления произвольно перемешивались в сознании старика. Реальность уживалась с воображаемым миром.
— Рома этот и мне в память въелся, — сказал Ерошка. — У него наколка и череп на руке.
Говоря это, Бубенцов услышал как бы приглушённый звон колокольцев и заметил тихое мерцание в углу. Пригляделся и обнаружил там сидящую на деревянном стульчике маленькую, сухую старушку, в руках которой мелькали серебряные спицы.
— Варвара Михайловна, — представил профессор старушку, и голос его при этом потеплел.
Старушка поглядела на Ерошку поверх очков, кивнула, ни на миг не прекращая работы. Дорожка, которую успела сплести Варвара Михайловна, тянулась по диагонали через всю комнату и уползала в щель под дверью. «Интересно, до каких же пор...» — подумал Ерошка, и под напором его взгляда обе створки дверей послушно распахнулись. Агриппина, пятясь, вкатывала в комнату никелированный столик на колёсиках. Ерошка успел заметить, что конец дорожки терялся в сумраке коридора.
Агриппина подкатила столик, установила его между профессором и гостем. Столик, как и ожидалось, оказался медицинским, с двумя стеклянными полками. На нижней полке позвякивали хромированные инструменты, перекатывались ампулы, теснились мензурки, на марлевых салфетках лежали использованные шприцы. Верхняя же поверхность накрыта была хотя и на скорую руку, но с изысканной заботливостью. Две мензурки из толстого зелёного стекла с вертикальной осью, расчерченной горизонтальными делениями.
— Михаил, сынок мой, любил это дело, — сказал профессор, острыми глазами следя за реакцией Бубенцова. — Не откажите.
— С удовольствием, — согласился Бубенцов, деликатно опуская лицо, чтобы скрыть своё удивление. — Не откажу.
Бубенцов был голоден и выпил бы сейчас залпом большую чарку. Но пока решил довольствоваться малым, соблюдать меру и этикет. Агриппина умело наполнила мензурки ровно до середины, до черты.
— У меня, когда я вошёл, было такое чувство, что я давным-давно вас знаю, — задумчиво говорил Бубенцов, нечувствительно выпив свою микроскопическую горькую дозу и вкусив немного хлеба.
— Ещё бы! Именно по этой причине вас и послали ко мне, — сказал Афанасий Иванович.
— Меня никто не посылал. Я по своей воле.
— По своей воле? — усмехнулся профессор. — А откуда у вас возникла эта самая «своя воля»? Не задумывались?
— Вы полагаете... Что всё-таки... Есть силы?
— Вы в Бога верите? В церковь ходите?
— Нет, — сказал Ерошка. — Вера ходит. Допускаю, что есть некий высший разум. Евангелие пробовал. Не идёт.
Отчитавшись таким образом, умолк. Молчал и Покровский, насупившись неодобрительно.
— Никаких научных доказательств существования Бога нет. И быть не может, — сказал наконец Афанасий Иванович. — Иначе не нужно и употреблять слово «вера». Есть, впрочем, житейский эксперимент. Он совершался на земле миллионы раз и миллионы раз завершался положительным результатом. Это происходило, когда человек решался жить по заповедям, по совести. Не совершал зла, молился и сокрушался о грехах. Вот тогда через некоторое, весьма небольшое, время человеку открывалось, что всё, о чём говорили в Евангелии апостолы, — истинная, совершенная, абсолютная правда. Вот и все доказательства! Когда слепой прозревает, нужны ли ему научные доказательства того, что он стал видеть?
Бубенцов выслушал эту небольшую лекцию как будто с большим вниманием, но слова скользнули по поверхности души как по твёрдому стеклу, не задевая, не проникая вглубь.
— Вы полагаете, что я попал в руки... Ну, если не к самому дьяволу, то к неким сатанистам. Так ли?
— Я не знаю, почему они выбрали вас, — задумчиво произнёс Афанасий Иванович. — Меня-то понятно почему. Я им здорово насолил, считаюсь злейшим врагом. В отместку пытаются исковеркать мне жизнь. Между прочим, отняли сына.
— Убили?
— Хуже! Перевербовали. И сын мой не устоял. Сыграл на их стороне! На стороне дьявола. Это случилось почти век назад.
Теперь Бубенцов окончательно убедился, что старик, конечно, сумасшедший. Но сумасшедший особого рода. С «пунктиком». Такой человек представляется совершенно обычным, здоровым. С ним можно беседовать часами и не догадываться, что перед тобой безумец. Пока разговор не коснётся «пунктика». Тогда в одно мгновение здравый человек превращается в психа.
— Я знаю их манеру, — продолжал профессор. — Они устраивают так, чтобы удар исходил от близкого человека. Вам не предлагали поселиться здесь, на моей жилплощади, потеснить меня?
— Нет, не предлагали, — улыбнулся Ерошка. — Я вам не близкий. Меня вы можете не опасаться. А вас что, с квартиры гонят? За неуплату? У меня больше года не плочено, и ничего пока.
— Увы, — покачал головою Афанасий Иванович. — У меня всё сложнее, безнадёжнее.
Бубенцов наконец-то разглядел старую фланелевую пижаму профессора, кое-где подшитую. Заметил также небольшую дырку в матерчатом тапочке, из которой выглядывал большой палец.
— Долги заели? — спросил Бубенцов. — Ссудный процент?
Едва он произнёс эти слова, как лицо профессора страшно переменилось.
— Он! Он! — воскликнул Афанасий Иванович. — Ссудный процент, будь он проклят! Именно поэтому вас направили сюда. Общий кров, общая судьба, общая доля. Мы товарищи по несчастью.
Профессор задумался, шевелил губами, как будто подбирая слова. Что-то очень-очень знакомое снова стало проклёвываться, выбиваться из-под спуда...
— Общая еда и общая беда! — Профессор наклонил голову, горько усмехнулся, и тут...
Бубенцовская память была уже начеку. Она разом подловила этот наклон головы!
— Я узнал вас! — вскричал Бубенцов. — Сейчас прямо осенило. Это же вы меня тогда пожалели! У булочной. У меня мелочь отняли, а вы рубль мне вручили. И отдали пыжиковую шапку. Я её, между прочим, до сих пор храню.
Бывает трудно вспомнить нечто ускользающее, но если уж оно вспомнилось... Впечатление ещё раз попыталось вырваться, но теперь уже окончательно и навек запуталось в силках памяти.
Афанасий Иванович вгляделся в лицо Ерофея, но, по-видимому, не узнал.
— Кажется, припоминаю. Кроличью, — мягко улыбаясь, поправил Афанасий Иванович. — Я отдал мальчику всего лишь кроличью шапку. У меня никогда не бывало пыжиковой, бог с вами.
— Нет, пыжиковую! Дорогую, — сказал Бубенцов. — Я храню и часто вспоминаю.
— Да, — сказал Афанасий Иванович, как будто что-то наконец сообразив. — Именно так. Это приблизительно так и должно было быть! — И добавил уверенным голосом: — Вот почему они направили вас ко мне. Проклятые пересмешники!.. Их манера, их метод.
— Вы имеете в виду... потусторонние силы? Как-то, знаете, всё это слишком далеко от реальности.
— Это настолько близко, что не надо и руки протягивать! — Афанасий Иванович опустил голову, прикрыл ладонью веки. — Вот она! Один шаг — и вы там! И всё знакомое, как в родной квартире, сто раз виденное. Всё почти такое же, идентичное, но перевёрнутое. Право и лево поменялись местами. Только и всего. Вот вам и весь потусторонний мир!
— То есть они как бы пародируют наш мир?
— Они пародируют, высмеивают и принижают всё. Ибо лишены дара самостоятельного творчества! И вот в чём я совершенно уверен! Раз уж они выбрали вас и послали ко мне... — профессор сделал паузу, а затем продолжил торжественно, привстав в кресле: — Нынче же вечером вы меня предадите!
— Это невозможно! — привстал и Бубенцов.
— Им важно соблюсти древнейший обряд, и вы будете главным участником этого обряда.
— Но я никогда на это не... — начал было Бубенцов.
— О, не продолжайте! — мягко перебил профессор Покровский. — Беда не в том, мой юный друг, что злые люди творят злые дела. Главная трагедия мира в том, что подавляющую массу скверных поступков на этой земле совершают — добрые люди!
Глава 9
Обряд предательства
1
Слова профессора про «древнейший обряд предательства», в котором ему уготована роль иуды, немало озадачили Ерофея. Тем более что и срок был назван определённый — «нынче же вечером». Вернувшись домой, скидывая обувь в прихожей, Бубенцов обнаружил на коврике знакомые калоши с выстилкою из красного сукна. Оранжевый шарф на вешалке. Со стороны кухни слышался перебор гитары и дребезжащий козлиный тенор. Как многие люди с деревянным слухом, Адольф любил мучить близких пением. Слышно было, что сегодня Шлягер особенно фальшивит. Расстроенная гитара звенела сама по себе, голос страдал отдельно.
При появлении Ерошки Вера вскочила, обрадованная тем, что появилась легальная возможность прервать пение Шлягера. Адольф отставил гитару, украшенную красным бантом на грифе, но отставил таким образом, чтобы её можно было в любой миг выхватить из угла. Подавляя в себе раздражение от присутствия Шлягера, Бубенцов встал к раковине, принялся мыть руки. Не то чтобы его снедала ревность или мучило подозрение... Но всё-таки.
Шлягер запел опять, задребезжал задушевно, встряхивая головою, играя лицом и бровями в страстных местах. Пытался попасть в колею народной песни «Верила, верила, верю...». Вязкая пошлость пропитывала слова, но что-то настоящее, подлинное, хватающее за сердце пробивалось сквозь корявую форму:
Вы-спомню я дни золоты-ы-я
Нашей без-зумнай любви!
Больше всего ты любила
Белые зубы мои.
Как любовалась ты ими!
Как целовала, любя...
Но и зубами своими
Не удержал я тебя!
Вера искала тарелку и чашку для Ерофея, рылась в кухонных ящиках, нарочито громко гремела вилками и ножами.
Но и зубами своими
Не удержал я тебя!
Шлягер воспроизвёл последние слова и замолк. Видно было, что он всеми своими чувствами там, в песне, что именно он и есть тот драматический герой, обладатель прекрасных белых зубов, потерявший любимую. Покосился на Бубенцова и, по-видимому, заметив сочувствие, в третий раз, уже лишний, прорыдал ударный припев: «но и зубами своими...» — оскалил страшные свои зубы. И мгновенно всё погубил, проклятый комедиант!
Адольф Шлягер нечувствительно сумел втереться в семью Бубенцовых. Вера вынуждена была деликатно терпеть некоторые его тщеславные слабости. Он не скупился на комплименты и похвалы, иногда даже приносил цветы. Она, конечно, не подозревала, что цветы Шлягер крадёт в театре, из женских гримёрок.
Шлягер как-то скоро, легко и умело овладел симпатией Веры. Без совещания с ним она и шагу не хотела ступить. Как-то так получалось, что он поддерживал её, помогал преодолеть колебания. Например, ей нравился антикварный сервиз, она мысленно примеривала его к своей кухне, но смущала непомерная цена. Бубенцов противился. Вот тут-то приходил на выручку Шлягер. Уверял, что цена тут не самое важное, а важнее вкус Веры. В другой раз речь заходила о платье или новой шубе. Ерошка Бубенцов настолько мало интересовался таким вещами, что ей делалось досадно.
— Погляди, как капюшон ловко укладывается! — звала Вера, поворачиваясь перед большим зеркалом.
— Ух ты, вот это да, — равнодушно хвалил Ерошка, мельком глянув на капюшон.
— Да ты не поглядел же! — злилась Вера.
— Да как же не поглядел? Я раньше видел.
— Как ты мог раньше видеть, если я только сейчас шубу эту купила?!
— Да видел я! — не сдавался Ерошка.
— Да то ты совсем другую шубу видел! — сердилась Вера.
И тут опять вступал Шлягер со своими чрезвычайно льстивыми советами. Не то чтобы соглашался с каждым её словом, но даже и в споре, когда брался перечить, делал это не напористо, а, наоборот, как-то очень извилисто, отступчиво. Зато насмерть стоял на своём, когда принимался защищать заведомо нелепые и уязвимые позиции. Например, когда речь шла о том, как должна быть устроена кухня, он упорствовал:
— Голые стены, Верочка Егоровна. Абсолютно голые стены! Серый пористый бетон. Пеноблоки! И никаких занавесок! Даже и намёка на занавески не должно быть!
— А уют? — возражала Вера. — Занавески создают атмосферу, тепло.
— Не соглашусь! Знаете, я бывал за границей. Так вот, скажу вам, в том же Веймаре ни одного зашторенного окна! Открытость, ясность, простота. Вени, веди, вики!
Он оставался как будто при своём мнении, не уступал, не признавал поражения. Но всем вокруг, и конечно же самой Вере, было совершенно очевидно, что она победила в споре. Когда Шлягер являлся в следующий раз и видел вместо рекомендованных им «голых стен» уютные шторы, в цветочках и с бахромой, то очень ненатурально ахал, всплескивал руками, хватался за сердце и выразительно открывал рот. Такой молчаливый театр мимики и жеста мог продолжаться до полуминуты. Даже Бубенцова, давно уже привыкшего к выходкам Адольфа Шлягера, коробила наглая халтура.
— Берите ещё пирога, Адольф! — угощала Вера. — Не стесняйтесь. Всё забываю спросить вас, вы женаты?
Шлягер немного помолчал, ответил уклончиво:
— Сказано, Верочка Егоровна, в премудростях Иисуса, сына Сирахова: «Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели со злою женою»!
— Развелись? — простодушно переспросила Вера.
И ещё более уклончиво отвечал Шлягер:
— «Горе жена блудливая и необузданная. Ноги её не живут в доме ея...» А вам бы, Верочка Егоровна, при вашем вкусе, красоте, хозяйственных способностях, жить в восемнадцатом веке, — переменил тему Шлягер, клонясь и отхватывая по-собачьи от края пирога. — Где-нибудь среди тенистой дубравы в Калужской губернии. В доме с колоннами на высоком берегу реки Угры. Так и представляю себе!
— Да это же с детства моя заветная мечта! — засмеялась Вера в ответ. — Мы с Ерофеем на речку ходили как раз мимо такого имения. Развалины, правда. Там бы я окончательно растолстела.
— А вам и к лицу, Верочка Егоровна! Вам и к лицу!
2
«Как же называется та болезнь, когда пальцы кажутся липкими? — думал Бубенцов. — Надо бы спросить у Шлягера. Или справиться в Википедии, что за фобия. Хотя нет, не нужно! Зачем вспоминать имя болезни? Нельзя! Вспомнишь — и окончательно заболеешь. Слово-то и прилипнет. Таков, кажется, закон психиатрии. Наоборот, надо относиться ко всему с юмором. Юмор и самоирония — лучшие лекарства от гордости и тщеславия. И всё-таки что имел в виду профессор? «Нынче же вечером...»
Ерошка выключил кран. Поток сознания тотчас иссяк, прекратился. Ерошка постоял некоторое время, раздумывая, включить снова или не стоит. Шлягер между тем успел расправиться с пирогом, взялся за струны. Мычал на разные лады, перебирал мелодии.
— А я еду за туманом, за туманом... — запел чувствительно, качая в такт ногой, глядя на Веру мечтательными глазами. Переметнул взгляд на Бубенцова, находчиво поправился: — А мы едем, а мы едем за туманом... Вот вы говорите, голос, вы говорите, слух, — отложив гитару, взвился неожиданно Шлягер, и в тоне его послышалась застарелая обида. — Чушь всё это! Знаете, что я ставлю выше всех этих «природных данных»? Что, по-вашему, самое главное в песне?
— Сюжет? — попробовал угадать Бубенцов. — Литературная основа?
Шлягер оживился, пересел к Вере.
— Мимо! — сказал он весело.
— Драматизм? — продолжил Ерошка, вспомнив любимую тюремную балладу Шлягера «А наутро мать лежала в белом гробе...».
— Близко. Но не горячо, — смешливо сказал Шлягер, подталкивая Веру плечом, как бы призывая её в единомышленники.
— Мысль?
— Мимо! Ладно, не буду мучить. Я ставлю на задушевность. Без задушевности нет песни!
— Мне кажется, без слуха и голоса тоже нет песни, — осторожно заметил Бубенцов, которому именно «задушевность» была особенно невыносима.
— Ваша фраза звучит красиво. И как будто убедительно, — усмехнулся Шлягер, оглаживая выгнутый бок гитары, и ещё раз повторил с нажимом: — Как будто бы! Верно? Но поверьте мне, вы глубоко ошибаетесь. Вы попали пальцем в небо! — И тотчас, пощипывая струны, стал повторять, припевать на разные лады:
Вы попали, вы попали пальцем в небо.
В небо пальцем вы попали пополам...
Вытерев руки двумя полотенцами, Ерошка прошёл к столу. Выставил бутылку водки, вытащил из портфеля пакет с деньгами.
— Взятка, — пояснил он. — Джива передал. Не помню уж, за что и от кого. Адольф!..
Адольф услужливо спохватился, отложил гитару, с величайшим трепетом и почтением принял деньги, благоговейно передал Вере.
— Это от дорожников, — пояснил он. — По графику их черёд. Не взятка, Вера Егоровна, а лоббирование интересов.
Вера поискала свободное место и, не найдя, сунула деньги под стол. Задвинула пакет ногой в самый угол, чтоб не мешал. Шлягер покривился, потемнел лицом.
Бубенцов окинул взглядом стол. Судя по всему, Адольф находился в гостях около получаса. Отпил не более двух рюмок коньяка, отъел половинку бутерброда, треть пирога. Банка шпрот была почти пустая. Шпроты Шлягер хоть и не любил, но поедал из остзейского принципа.
Вера после недолгой возни с деньгами протирала руки влажными салфетками.
— По какому случаю праздник? — спросил Бубенцов, наливая рюмку.
— У нас новость. Адольф, расскажи ему!
— А сейчас и расскажу. Вы пейте, пейте, — кивал Шлягер, суетился, пододвигая тарелки с закуской. — Пейте. А я скажу. Новость рюмке не помеха.
— Штрафная, — объявил Ерошка. — Будьте здоровы!
— А вот. Огурчиком!.. — подсказал Шлягер, засуетился ещё больше, протягивая вилку с заботливо наколотым груздем.
— Ну-у... Адольф!
— Скажу, Верочка Егоровна! Скажу, скажу, — бормотал Адольф. — Как не сказать? Пусть человек закусит сперва. А то ведь поперхнуться может.
Вера тихо поднялась из-за стола, пошла мимо Шлягера к холодильнику. Как бы ненароком прихватила по пути гитару с красным бантом. Сунула её подальше в щель между холодильником и стеной.
— С чего бы мне поперхнуться?
— Нет-нет, пережуйте сперва, — томил Шлягер. — Нельзя сразу. От так, от так... Да. А вот я хотел вам показать...
Он провёл рукою возле себя, но гитары не было. Лицо его стало принимать растерянное, немного обиженное выражение...
— Адольф нам квартиру нашёл! — не выдержала Вера. — Семь комнат! Ты не представляешь...
— Да ну? Ещё как представляю! Я только что видел семикомнатную, — сказал Бубенцов. — У одного профессора нынче был в гостях! Вот уж роскошная квартира! Миллионов, я думаю, пятьдесят стоит. Мебель старинная.
На середине фразы Ерошка поперхнулся, закашлялся. Всё понял. «Нынче же вечером...» Вот оно! Но тотчас вступился, зазвучал в голове адвокатский голос: «В чём же? В чём? Какое же тут предательство?»
Вера стучала его по спине.
Через минуту, когда Бубенцов прокашлялся, всё прояснилось окончательно. Адвокатский голос оказался совершенно прав. Никакой изменой тут, кажется, и не пахло. Шлягер всё расставил по местам. Выхватил записную книжку в чёрном переплёте, стал перелистывать страницы, смачивая языком подушечку пальца, торопясь, сбиваясь. Выходило, что Бубенцов просто обязан был выкупить профессорскую квартиру. Хотя бы ради Веры! Ради будущего!
— У жены вашей, как и у всякой мудрой женщины, может быть совсем иной взгляд на эти вещи. Сколько же можно ютиться... Терпеть нужду. Кухня эта...
Конечно, объяснения и доводы, которые использовал Шлягер, были расплывчатыми, громоздкими и, что греха таить, совсем не убедительными. Но как всегда бывает, когда в дело вступает личный интерес, логика и доказательства не играют решающей роли. Самый сомнительный аргумент кажется бесспорным, если он совпадает с тайным желанием человека.
— У профессора серьёзные проблемы. Не стану вдаваться. Жильё продаётся за четверть цены. Что тут предательского? Вас смущает эта «четверть цены»?
— Да, это главный предательский пункт.
— Но ведь вы-то ни при чём! Вы-то ни при чём! — горячился Шлягер. — А не вы, так всякий иной воспользуется! Подписывайте купчую и не сомневайтесь. Иначе всякий иной! А вы останетесь в дураках!..
Он был, кажется, по-настоящему возмущён упрямой тупостью Бубенцова.
— Вот пусть всякие иные и подписывают, — сопротивлялся Ерошка. — А мне совестно. Афанасий Иванович мне в детстве шапку отдал. С собственной седой головы снял. А я чем отвечаю? Совестно мне, вот что! Тем более он предупреждал про предательство. Нынче же вечером. И вот оно!
Шлягер рассмеялся деланым, злобным смехом.
— Ах-ха-ха! Предупреждал? «Нынче же вечером»! Ай да профессор! Он лжец!
— Именно что предупреждал!
— Ещё раз ха-ха! Ей-богу, смешно! Но это смех сквозь слёзы, Ерофей Тимофеевич! Это смех сквозь вот её слёзы. — Шлягер указал на жену Бубенцова. — Это ваш смех сквозь слёзы Веры Егоровны! Запомните это до конца своей жизни.
— Совестно ему! Да мы-то при чём? — не выдержала Вера. — Прав Адольф. Не мы, так другие!
— Вы какой-то мягкий, нерешительный, — покачал головой Шлягер. — Жёстче надо с людьми! Всё-то вы повторяете рабское: «Люби врага своего...» А я говорю: «возненавидь и ближнего своего!» Думайте, Ерофей Тимофеевич! А теперь проводите меня, пожалуйста.
И, отведя Ерошку в прихожую, зашептал:
— За вами, между прочим, кое-что числится. Кое-какой реквизит. Если вы не забыли. Должен вам заметить, что серьёзные люди готовы отступиться. В случае, если вы... Обещаю вам. Знаете, когда делаешь человеку добро, то как-то особенно привязываешься к нему. Всем сердцем липнешь. А уж от меня-то вы, кроме добра...
— Где расписаться? — спросил Бубенцов.
— Здесь. Где галочка, — указал пальцем Шлягер. — Бюрократическая формальность. Мне для отчета. С давних времён повелось. Надо выполнить набор определённых ритуалов.
— Вешаться потом не придётся на осине? Для отчёта.
— Догадливы, Ерофей Тимофеевич! — Шлягер захлопнул книжку, блеснул весёлым зрачком. — Придётся и вешаться! Но вы лично не тревожьтесь. Не обязательно ваше тело. Найдём кого... Дживу повесим на шарфике, хе-хе!
Сунул ноги в калоши, снял с крючка трость и бесшумно пропал за дверью.
3
Опыт жизни учит тому, что, совершив глупость, сделав неверный шаг, следует как можно скорее остановиться. Одуматься, оглядеться. Если вовремя не исправить положение, то неизбежные следствия дурного поступка начинают цепляться друг за друга и всё в конце концов усложняется до безвыходной степени. Один неверный шаг меняет направление всего дальнейшего движения. Нужно возвратиться, иначе с каждым новым шагом человек ещё глубже запутывается, всё дальше уходит в дебри.
Но бывают минуты, когда в жизни людей ничего явным образом, кажется, и не произошло, ничего не поменялось, всё продолжается как обычно, и всё же человек ясно чувствует: только что с жизнью его случилось что-то такое, от чего она уже не останется такою же, как прежде.
После ухода Адольфа Шлягера как будто ничего не произошло. Но в доме установилось молчание. Вера убирала со стола, звякала в раковине посудой, шумела водой. Ерошка выпил ещё одну рюмку, пожевал, налил ещё.
— Ты понимаешь, какая сила вмешалась в нашу жизнь? — сказал Бубенцов. — Квартиру подсунули! Они моего предательства добивались. Пусть формального. И добились. Ты сознаёшь хотя бы, что мы часть какого-то проекта?
— Все люди часть большого проекта, — спокойно отвечала Вера. — Не вникай. Пользуйся моментом.
«Знает!»
— Могут потребовать плату.
— Ты ничего не обещал, — сказала Вера, споласкивая руки. — Души не продавал, кровью не подписывался.
— Ты-то вот руки умыла! Предъявят счёт, придётся платить.
— Каждый человек расплачивается в конце. Смерть.
— Вера, я же не в философском смысле! Я говорю о нашей жизни. И я только что расписался в его богомерзкой книге.
— В нашей жизни всё просто. Шлягер не из крупных деятелей, — сказала Вера. — Так, мелкая сошка. На посылках. Надо пользоваться моментом. Ничего с нами за эти полгода не произошло. Наоборот. У тебя вон какая слава. Пусть дурная. Зато появились деньги, а теперь вот ещё и прекрасная квартира! Что ж тут думать о какой-то расплате? Так что в данном случае твоя подпись ничего не значит.
— В данном случае моя подпись значит то, — язвительным голосом сказал Бубенцов, — что я предал. Так-то, Верочка Егоровна! И расписался в этом.
— Ну, предал и предал. — Вера рассмеялась. — Ерофеюшка Тимофеевич!
— Это похоже на ловушку. Заманивают.
— Да тебе-то что? Пусть себе заманивают.
— А если потребуют?!
— А что они могут потребовать? А коли и потребуют, то в любой миг можно от всего отречься.
— Ну, хорошо, Вера. Давай-ка выпьем с тобой. За улучшение жизни!
Глава 10
Кладбище тщеславий
1
Давно известно, что пока существуют нищие, до тех пор будут благоденствовать богатые. Ибо богатство богатых проистекает из нищеты нищих, питается этой нищетою. В паучьи лапы к банкирам попадают только те люди, которые оказались в нужде. Немногим счастливцам и редким государствам удаётся вырваться из кабалы процентов.
Профессор Афанасий Иванович Покровский знал, какая сила ополчилась против него. А потому с самого начала даже и не помышлял о самозащите. Кто-кто, а он уж точно представлял истинную расстановку сил на этой земле. Покровский известен был именно как специалист, знаток тайных пружин, всей той несложной механики, лежащей в основе устройства мира. Не только нашего, видимого всем, но и невидимого, инфернального.
И вот этот учёный, этот умнейший человек, профессор, преподававший некогда богословие в Киевской духовной академии, Афанасий Иванович Покровский разорён был по классической схеме, столь же древней, сколь древен мир. Именно по такой простенькой схеме разорялись и прекращались династии, рушились цветущие царства, приходили в запустение целые цивилизации.
Ссудный процент сгубил Афанасия Ивановича!
Ссуда потребовалась год назад, когда Афанасий Иванович тяжело заболел нефритом и стал слепнуть. Неведомо как узнали об этом совершенно посторонние, но доброжелательные люди. Бритые, вежливые, принялись они виться вокруг, ласково увещевать. Подсказали даже банк, где всё устроено не по законам наживы, а основано на принципах «чести и совести». Никаких иных выходов не оставалось, профессор связался с банком. Что-то там в контракте оговаривалось мелким шрифтом, какие-то обязательства, которые выполнить нельзя было никак. Но именно эти малозаметные буковки, которые и здоровыми-то глазами рассмотреть трудно, привели к тому, что долг за год вырос с нескольких тысяч до миллионов. Так подло и хитро было всё устроено, что проценты рождались уже сами из себя, множились и питались собою.
Явились в известное время те же доброжелательные люди. На этот раз были немногословны и выбриты не столь чисто. Деловито осмотрели квартиру. Их сопровождали представители власти, а за спинами представителей маячили мутные «понятые». Командовал массовкой длинный хромой тип в круглых очках на волчьем носу, со стетоскопом на груди. Профессор, едва взглянув на хромого, понял, что перед ним никакой не доктор, а генерал. Который зачем-то маскировался под обыкновенного медработника, причём делал это неумело. Выглядывали из-под белого халата полинялые брюки с красными лампасами, заправленные в хромовые сапоги.
Судя по выражению длинного лица, по ухмылке на толстых губах «доктора», по блеску маленьких, близко посаженных глаз, он был весьма доволен происходящей реквизицией. Именно он вытащил из саквояжа гербовую бумагу, в которой профессор механически расписался против галочек. Дело совершилось. Два нотариуса поставили внизу лиловые штемпели. После этого генерал в штатском немедленно удалился. Толпа же осталась и с полчаса ещё бродила по квартире, разглядывая имущество, дивясь обилию книг, трогая статуэтки и обмениваясь неодобрительными репликами.
2
Когда Бубенцов показался на лестничной площадке, понятые уже выходили из дверей, негромко переговариваясь. Бубенцов пропустил комиссию, вошёл в прихожую. Ему показалось, что в сумрачном углу двумя точками вспыхнули и тихо угасли огненные зрачки старухи Зоры. Ерошка, стараясь не заглядываться в ту сторону, прошёл по коридору. Высокая двустворчатая дверь в комнату профессора была чуть приоткрыта. Электрический свет пробивался сквозь щель, узкой полосой лежал на паркете. Ерошка осторожно потянул дверь, просунул голову вовнутрь. В нос ударил резкий запах эфира и валерьянки.
Посередине комнаты, подле кресла-каталки профессора стояла крепкая белобрысая девица. Казённый белый халат тесно облегал её фигуру, подчёркивал толщину плеч. Девица, наморщив светлые брови, накапывала успокоительное лекарство в мензурку из пузырька. Она повернула к Бубенцову круглое лицо, равнодушно оглядела, снова занялась профессором.
— Книги ваши мы не выбросили на помойку. Наоборот, увязали в красивые пачки, — терпеливым, басовитым голосом поясняла девица. — И когда вы успели столько накупить? Вы чем вообще по жизни занимались?
— Я преподавал греческий язык, — сказал Покровский. — Ну и по мелочи... Перевёл с латинского языка на русский труды блаженного Августина.
— Понятно. У вас психология совка. — девица сунула в руку профессора мензурку. — Вот, выпейте. От этих книг вам вред один. Надо избавляться.
Девица пошла к выходу, оттеснила тугим плечом Бубенцова и, протискиваясь мимо, неожиданно пожала его руку влажной своей лапой. Бубенцов в немалом смущении отступил, застыдившись интимного прикосновения.
— Ну, здравствуйте! — послышался из кресла ласковый голос. — Я же говорил, что мы обязательно увидимся в самом скором времени.
Кресло легко развернулось на своих колёсах и, сверкая спицами, выкатилось на середину комнаты.
— Здравствуйте, Афанасий Иванович! — Ерошка наступил на домотканый половичок, приложил руку к груди. — Вы не подумайте, что я всё это устраивал. Плёл интриги.
— Нет-нет, — сказал профессор. — Не говорите об этом. Я знаю, знаю. Тут иная история.
Бубенцов невольно поразился тому, как стойко вёл себя этот старичок профессор, с какой терпеливой покорностью принимал удар судьбы. Ведь знал же он, что навсегда теряет своё гнездо, в котором прошла вся его земная жизнь. И эта невозможная, эта открытая, эта благожелательная улыбка. Если и есть тут доля притворства, то надо признать в этом поистине гениальный актёрский дар!
— Иная история, — твёрдо повторил Афанасий Иванович. — Иная. В прошлый раз они подослали ко мне одного негодяя. Отвратительнейший, двуличный тип, я вам доложу. К сожалению, похож на вас как две капли воды. Это случается в природе.
— Мне сдаётся, я знаю, о ком вы говорите.
— Пришлось разделить с ним трапезу, — продолжал профессор, не слушая Бубенцова. — Представьте себе, весь хлеб мой съел. До последней крошки! Сперва свой кусок, а потом и мой прихватил. Да подло так, с хитрецой. Как будто задумавшись, как будто ненароком. Меж разговорами сжевал. Вот что значит отсутствие воспитания.
Кровь бросилась Ерофею в лицо, он почувствовал себя глубоко уязвлённым, слушая несправедливые слова. Понятно, что здесь бред, но даже и для бреда это уже чересчур. Чужого хлеба он не ел. Он и свой-то едва надкусил тогда. Бубенцов приподнял руку, пытаясь остановить профессора, но тщетно.
— Думаю, что вы когда-нибудь встретитесь с ним. Остерегайтесь негодяя.
Бубенцов вежливо покашлял.
— А то ещё накануне Нового года случай был, — продолжал профессор, оживляясь ещё больше. — Заглянул я к девочкам, ангелам нашим. К Насте да Агриппине. А там уж он сидит! С неделю потом, представьте себе, запах не могли выветрить из помещения. Духовную вонь, я имею в виду. Эфиром брызгали, да вот валерьяной и пустырником перебивали. Надо бы, конечно, по-хорошему дьяка с кадилом пригласить, ладаном обработать. — И тут же, без всякой паузы и передышки, профессор взглянул в лицо Ерошки, спросил с ласковой улыбкою: — Как самочувствие супруги вашей?
— Мы с Верой в Вильнюс собираемся, на её родину, — сказал Ерошка, испытывая большое облегчение от перемены разговора.
— Надо полагать, на её историческую родину, — нашёл нужным поправить Афанасий Иванович и добавил с интонацией отчасти полувопросительной, но скорее утвердительной: — Она, стало быть, у вас из Гедиминовичей? Так-так.
— Стало быть. Так точно, — поперхнулся Ерошка. — Вернее, не так точно, а предположительно. Нужно поискать подтверждения в родословных документах. Мы едем в вильнюсских архивах справиться. Это один мой хороший знакомый где-то раскопал.
— Шлягер? Адольф?
— Он самый. Но вы-то откуда...
— Ну что ж, — провозгласил Афанасий Иванович, — всё сходится! Только зря вы назвали его хорошим.
В голосе его прозвучало торжество человека, гипотеза которого только что подтвердилась практикой жизни. Но было здесь и сожаление, печаль о том, что она, эта страшная гипотеза, оказалась верной.
— А что, собственно, у вас сходится?
— Им нужно было, чтобы вы совершили формальное предательство, — пояснил Афанасий Иванович. — Они неукоснительно соблюдают все условности. Всё у них должно быть по-настоящему.
— Слышал я про подлинность эту!
— И вот что ещё. Когда им надо овладеть душой человека, они устраивают ему, как вы удачно выразились, «улучшение жизни».
«Откуда он знает про “улучшение жизни”? — ударило в голове. — Это же только между мной и Верой...»
— Но пока что ничего такого не было, — сказал Бубенцов. — Никаких таких признаков. В смысле продажи души.
— Ну да, ну да. — профессор остро глянул на Ерофея. — Вы представляете «продажу души» как некий юридический акт. Торги, договор, составление купчей, подпись кровью. Нет, дорогой друг! Это происходит постепенно, исподволь. По частям.
— Как это — по частям?
— Зло вначале общается с человеком как с господином, заискивает, льстит. Потом разговаривает как с равным. Но в конце зло неизбежно становится господином.
— И как же человек не замечает этих перемен?
— Не замечает. Ибо меняется сам. Постепенно. Да тут лучше объяснить примером. Между прочим, пока я перебирал книжные шкафы, забавная притча у меня сложилась в голове. Целая, можно сказать, пьеса. Вы ведь на театре служите?
— Да. Эпизодами. Режиссёр настаивает, а то бы бросил. На меня ведь народ валом прёт. Из-за славы моей. А о чём ваша пьеса?
3
Несмотря на завязавшийся отвлекающий разговор, беспокойство всё более овладевало Бубенцовым. Он с подозрением косился на профессора. «Хотя, с другой стороны, — соображал он, — я же мог произнести этот тост, когда пил на кухне с Настей и Агриппиной. “За улучшение жизни”. Почему нет? А профессор как-нибудь подслушал. Вот и вся “теория заговора”! Всё в реальности может быть гораздо проще. Мистика тем и опасна, что, столкнувшись однажды, везде начинаешь её подозревать».
— Да вы присядьте, — сказал профессор, как будто заметив волнение Ерофея. — Хотя бы вот туда.
Подождав, пока Бубенцов угнездится на кушетке, Афанасий Иванович очертил широкий полукруг рукою:
— Вы видите эти благородные книжные шкафы, что со всех сторон обступают нас? С дубовых полок глядит на вас тусклое золото старинных корешков. Великое множество книг! Сокровищница человеческой мудрости.
Бубенцов никаких шкафов не видел, только голые стены с отодранными кое-где обоями. Правда, большие светлые прямоугольники на обоях свидетельствовали о том, что здесь стояли шкафы, заслоняя стены от солнечного света.
— Не обращайте внимания на отсутствие материальных артефактов, — сказал профессор. — Всякая библиотека — это кладбище тщеславий. Так что не жалейте. Станем рассуждать умозрительно. Вот представьте себе, живёт бывший профессор. В большой нужде. Жена стервенеет, дочка где-то по ночам валандается. Прижало, не вздохнуть. И тут, в самую безнадёжную минуту, подкатывается к нему некий вежливый джентльмен. С тростью старинной, набалдашник в виде серебряного льва. Известный всем персонаж. Вник в обстоятельства и предлагает:
«Боборыкина продайте. Хорошую цену дам».
Начинает издалека, как видите. С Боборыкина. Потому что труднее всего распродажу начать. Психологически. А Боборыкина продать можно. Скучный, деревянный писатель.
«Сколько дадите? — говорит профессор. — У меня двенадцать томов, издание Маркса. В переплёте родном. Нечитаный...»
Цену набивает, — пояснил Афанасий Иванович. — Это, скажу вам, в прежние времена особо ценилось на книжном рынке. Чтобы именно «нечитаный».
«Сто долларей за каждый том, — отвечает искуситель. — Всего, стало быть, за двенадцать томов — тысячу двести».
Интеллигент наш от радости едва удержался на стуле. А искуситель продолжает:
«Знаете что? Давайте вы мне Боборыкина уступите полностью, а?»
«Как это, простите, полностью? У меня, кроме этих томов, никаких иных сочинений не имеется».
«Вы не совсем поняли моё предложение, — говорит искуситель профессору и поясняет: — Тут в высшем смысле. Речь идёт о духовном багаже. Я хочу купить у вас всё то, что дало вам чтение его скучнейших романов. То есть то, если можно так выразиться, духовное богатство, те изменения в самом строе ваших мыслей и ваших вкусов, которые вы приобрели от чтения Боборыкина. Хотя вполне возможен и духовный ущерб. Ведь, согласитесь, от чтения иных писателей только досада берёт. Какой уж там духовный прибыток? Не так ли?»
«Это, к сожалению, сплошь и рядом».
«Ну вот видите! Я хочу избавить вашу душу от духовного шлака, которым засорил её Боборыкин. Оптом. Не разбирая ни плохого, ни хорошего. Кота, так сказать, покупаю в мешке. Покупаю неосязаемую фикцию, а плачу реальными деньгами».
«Я согласен, — кивает профессор. — Забирайте его из моего духовного мира полностью. Но, конечно, не по сто долларов за том. Это ведь уже не бумажное издание продать, а нечто иное. Гораздо более ценное. Расстаться навсегда...»
«Вы правы, — говорит демон. — Я заплачу гораздо больше, нежели за бумажное издание. Итак, я хочу приобрести у вас всё то, что сочинил и привнёс в вашу душу писатель Боборыкин. Но таким образом приобрести, что и сама память о Боборыкине из вашего интеллекта изгладится. Как будто вы никогда не читали его, не слыхали такого имени. Согласны?»
«Попробовать можно. Сколько такая операция, буде она состоится, может стоить с вашей стороны?»
А сам соображает. «Да я этого Боборыкина едва и читал-то, — думает он. — Десять, может, страниц. Много ли от меня убудет, если продам?»
«Десять тысяч долларов! — громогласно произносит искуситель. — Это вдобавок к тем тысяче двумстам».
«Десять ты-ы... Согласен».
«Итого — одиннадцать двести. Получите, распишитесь. Прощайте».
Профессор приносит жене одиннадцать тысяч двести. Достоинство его восстановлено в семье. Праздник, примирение, радость. Однако, как вы догадываетесь, проходит некоторое весьма недолгое время. Кое-какие дыры семья залатала. Часть долгов раздала. Но прорехи всё ещё ужасные в бюджете. И тут снова в нужный момент является тот.
«Пожалуй, взял бы у вас из духовного обихода ещё что-нибудь. Вы в этом смысле человек обеспеченный».
«Что, например?»
«Ну, хотя бы... Из Толстых кого-нибудь. Их ведь несколько. Допустим, Льва...»
«Э, нет. Не допустим! Хватили через край. Никогда и ни за что!»
«Ясно. Хотя подумайте. Этот Лев большой путаник. Вредный старик. Сколько народу сбил с пути. Нет? Ну, что же... Чехов, полагаю, тоже не продаётся?»
«Разумеется, не продаётся! Давайте чего-нибудь попроще...»
Опять в семье праздник и лад. Во внутреннем духовном богатстве никаких прорех незаметно. Проходит время. Снова является искуситель. И снова, заметьте, в самый трудный момент. Скупает всякую литературную мелочёвку, недорого. Но кое-что профессор отдаёт и с колебанием.
И пошло-поехало. Визит раз в месяц. Всё второстепенное уступает без долгого торга, не сожалея. Турсун-заде, Франко, Дангулов, Лацис. Оставляет в шкафах самое дорогое, золотое, бесценное. Из двадцатого века только сокровища остались. Бунин, Куприн, Толстой, Шолохов, Булгаков, Набоков. Шукшина оставил. Последний русский классик. Бесспорный. Остальное в топку.
Вот такая жизнь пошла. Профессор заранее из библиотеки выбирал, что бы продать. Тот приходил, осматривал. Спорили, торговались. Советские уходили совсем легко — Тендряков, Сартаков, Шуртаков, Рыбаков, Кабаков... Как будто порожний товарняк прогремел.
Шкафы постепенно пустеют. Всё шире прорехи там, где стояли некогда собрания сочинений. Профессор иногда подходит, оглядывает, прислушивается к себе. Внутри никаких изменений не чувствует. Как будто не убыло ничего из духовного багажа. И вместе с тем с каждым разом всё легче и легче становится разлучаться с очередным автором.
Жена как-то упомянула Марселя Пруста, а он глядит бараном, моргает только. С тех пор она остерегаться стала, избегает разговоров на литературные темы. Всё больше теперь про акции, евроремонт, расходы. Темы актуальные. Купили новую квартиру, машину, дачу, квартиру дочери. Запросы растут, деньги тают. Кредиты душат.
— Вот тут у вас дальше натяжка будет, — перебил Бубенцов. — И знаете, в чём?
— Знаю, — сказал Покровский. — Знаю, что вы хотите сказать. Вершины мировой культуры... Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Чехов, Толстой... Всё настоящее и великое нельзя отдать ни за какие деньги.
— Вы верно отгадали. Не отдаст главного своего духовного скарба.
— А вот погодите, — усмехнулся профессор. — Дочка любимая — вдруг занемогла. Болезнь редкая, лечение за границей. Миллион срочно требуется! Стоит жизнь любимого человека всей великой литературы?
— Всё отдаст! — сказал Бубенцов, вспомнив о Вере.
— Вот видите! Есть только одна книга, которую нельзя отдать! — сказал профессор. — Мы ошиблись в самом начале. Когда назвали духовным багажом то, что на самом деле является всего лишь душевным.
— В чём разница?
— В том, что духовное — свято! А художественная литература живёт страстями. Образно говоря, питается плодами с древа познания добра и зла. Падалицей.
— Это вы хорошо сказали, — усмехнулся Бубенцов.
— Благодарю вас, — усмехнулся и профессор. — Добавлю только одно: хорошая книга должна проветривать душу. Литература должна как-то помогать совести. Ну а совесть — это то, что точнее всего человеку подсказывает: правильно — ложно, лучше — хуже, красиво — уродливо. Хочу подчеркнуть, что слишком многие книги написаны в соавторстве с дьяволом. Заигрывание с тёмной силой ничего хорошего не сулит. На этом споткнулся мой сын. А ведь писатель был поистине с проблесками гениальности...
Опять «мой сын»! Бубенцов тотчас вспомнил о том, что имеет дело с человеком вполне сумасшедшим, опять соскочившим на свой «пунктик». А потому постарался придать своему лицу самый естественный, простодушный вид. Ведь в подобных ситуациях, как справедливо он полагал, главное — не раздражать больного.
— Есть у них там... — Афанасий Иванович указал пальцем в пол. — Там ведь тоже принцип иерархии. Самые мелкие твари терзают людей обычными страстями. Пьянства, лени, курения. Воровства, обжорства и так далее. Наркомании. Но бывает, приходит оттуда некто, который имеет силу освободить человека от всех этих мелких страстей.
— Вы уверены, что приходил? И предлагал освобождение?
— Да. Мой сын получил избавление от морфия. Написал роман. Но, увы, сыграл в нём на стороне дьявола.
— Вы и в прошлый раз об этом... Вы полагаете, что всё-таки на той стороне? На тёмной? Но ведь многие даже к вере пришли, прочитав...
— Обаяние таланта. Но недаром слетаются на этот роман сатанисты, расстриги, старухи на мётлах. Отогреваются от духовного колотуна. Около, коло...
— Страшные же вещи вы...
— А перечитайте концовку великого романа! А следом, для сравнения, вот этот листок. И вы поймёте, как правильно!
Афанасий Иванович подкатился к столу, взял с его края книгу и, распахнув на закладке, протянул Бубенцову.
— Читайте от карандашной отметки, — приказал Покровский. — Вслух, пожалуйста. Хотя... Дайте. Дайте, я сам! «Тогда чёрный Воланд, — начал торопливо читать Покровский, — не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита...»
— Это «шумя» великолепно! — похвалил Бубенцов.
— Дальше, дальше! — досадливо отмахнулся Афанасий Иванович. — «Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет...» Рассвет, ха-ха!.. А ведь я подсказывал ему, как надо закончить роман! Да разве ж он послушает? Кто в наше время слушает отцов? Увидели рассвет. как бы не так!.. Мой-то эпилог вернее, ибо вытекает из метафизической логики зла.
Бубенцов молчал и смотрел на профессора очень внимательно. По всей видимости, в мозгу Афанасия Ивановича снова что-то перещёлкнуло, замкнуло.
— Я говорил ему! — профессор Покровский сверкнул безумным взором. — Спорил, доказывал. Приводил цитаты апостолов, святых отцов. Но бесполезен был этот спор, бессмысленны цитаты, потому что он и сам знал! Прекрасно знал, что происходит со всяким, кто вступает в общение с дьяволом. Заканчивается это не дачным домиком под цветущей вишней! И никаким конечно же не рассветом! А ждёт вот что... Вот я зачитаю вам.
— Вы что же, написали свой эпилог к «Мастеру и Маргарите»? — не удержался Бубенцов.
— Ну... тезисно, конечно... Слог бы ещё немного отполировать. Но суть, суть! Обращайте внимание на суть!
И Афанасий Иванович Покровский принялся читать медленно, торжественно:
— «Эпилог. Всё ниже опускалось солнце к горизонту, всё стремительнее двигались к западу наши путники. Длинные, косые тени густели, скрывая земные пространства, и уже неспокойным сумраком наливался воздух. Блаженство летящих постепенно сменилось сладкой, щемящей тревогой. Плывущие впереди ангелы остановились у края земли, над которым всё шире разгорался, полыхая в низких тучах, огненный закат. И уже, сопротивляясь неодолимой тяге, упираясь изо всех сил, влеклись любовники к открывшемуся перед ними обрыву, к страшному провалу, отчетливо сознавая, что никакой это не закат, а рвутся навстречу им из бездонных глубин ада жадные чадные языки. Ангелы света стали медленно поворачивать к ним истинные свои лица, но любовники закрыли глаза руками, чувствуя, как коченеют их существа от ледяного ужаса совершающегося».
Покровский уронил бессильные руки.
— Эти «жадные-чадные» я бы убрал, — после некоторого молчания пробормотал Бубенцов. — Словесная игра тут не к месту. Ситуация-то трагическая.
— А ведь я учил, — думая о своём, продолжал старик. — Нельзя человеку связываться с демоном! Никакого покоя он не дарит и не может подарить. Зато отнимает всё! Ни проблеска света нет в нём, а только непроницаемая, абсолютная, сплошная тьма!
— Но то, что написано, уже, к сожалению, непоправимо. Писатель этот... ваш сын, как вы утверждаете... давно умер. А значит, ничего уже нельзя исправить, переделать, загладить, вычеркнуть!
— Да, все завязки здесь. На земле, — сказал Афанасий Иванович, нахмурившись, скользя глазами по своей записке, по-видимому перечитывая. — А там только логическое продолжение... Да! Вычеркнем, пожалуй, «чадные». То, что не начнётся в этой жизни, на земле, там — уже не начнётся никогда. Никогда.
— Странно, что мало кто об этом пишет.
— Литература, друг мой, редко заглядывает в небо. Впрочем, я уверен, что последний роман века как раз окажется попыткой заглянуть туда. Но вряд ли автор найдёт слова для выражения увиденного. Дело в том, что если человеку открывается истинная картина устройства мира, значит, он уже там, на той стороне. За горизонтом. На той стороне, откуда слова не доносятся. Человек этот — мёртв.
Профессор стал тихо отъезжать к окну в своей коляске. Всё дальше, дальше, дальше...
— А я вот думаю, как же человеки отваживаются? Против неба действовать. Шлягер тот же. Стойте! — крикнул Бубенцов, опомнившись. — Не уходите! Стойте же! Умоляю вас!
Он кинулся следом за отъезжающей колесницей, схватился за обод инвалидной коляски, кричал в самое ухо профессора. Призыв его — Ерошка это осознавал очень ясно — звучал чрезвычайно странно. Профессор Покровский Афанасий Иванович сидел смирно, прикрыв усталые веки, и не только не думал никуда укатываться, но даже не двинул ни единым мизинцем. Сухие руки свои сложил на груди. В маленьком закутке между столом и книжным шкафом не хватило бы ему физического пространства не то чтобы укатиться куда-то, а даже для того, чтобы инвалидная коляска могла просто развернуться. Но всё дело в том, что профессор Покровский, как совершенно верно угадал и почувствовал Бубенцов, собирался уходить. Только не из этой комнаты. Он намеревался уходить из жизни.
Умоляющий крик Ерошки Бубенцова остановил его. Афанасий Иванович вздрогнул, обернулся на крик, а когда снова попытался уйти — выход уже был заперт наглухо. Хватило мгновения. Лёгкая тень прошла, пролетела по занавескам.
— Стойте! — не отпуская колеса, сказал Ерошка. — Как это возможно? Михаил Афанасьевич, ваш сын, умер полвека назад. Даже больше. Перед войной ещё! Как вы могли ему говорить? Неужели можно общаться с прошлым?
— Можно, — просто сказал Покровский. — Я же общаюсь.
Глава 11
Семь страстей
1
Луна озаряет русскую равнину. С холма на холм перетекает тихий свет. Молчат берёзовые рощи, спит ветер в недвижных листьях. Спит в таинственных сумерках почти весь православный мир. Не спят сейчас, пожалуй, только монахи в Тихоновой пустыни. Да ещё вон там, южнее, под городом Козельском, в Оптиной. И на севере, в Псково-Печерской лавре, не спят. И на Соловках, и на Валааме-острове. Десять монахов стоят перед иконами в Кирилло-Белозерском монастыре. Не бойся, малое стадо!.. Не спят в монастыре преподобного Александра Свирского, единственного святого на всей земле, к которому пять веков назад явилась, как к ветхозаветному Аврааму, Святая Троица. Не спят, конечно, в этот час в Троице-Сергиевой лавре, звучит там неусыпающая Псалтирь. И вон там свечи горят, под Рязанью, в Иоанно-Богословском монастыре, и в Крыму, и за Байкалом, и в Киеве. Эге, не так уж и мало нас, оказывается!..
Разбегаются глаза, рассеивается взгляд от множества света. Горят лампады и свечи в древних монастырях. А сколько же безвестных скитов, келий, избушек, укромных уголков, где не спят сейчас? Сколько их на всей Русской земле! Если окинуть мысленным взором пространство, то целое море огней начинает колыхаться в глазах! Ну что ж...
Пока способна земля рожать святых, до тех пор не померкнет над нею свет.
Стелется по чахлым осиновым опушкам дым тлеющих болот, тянутся над травою седые космы, ползут к воде. Плывёт над холодными реками белый туман, поднимается на отлогий берег. Перемешивается белый туман с сизой гарью, пахнет гнилой тиной, сырыми грибами. Ох, какая тоска! Какая смертная тоска, дорогие мои! Подымается в клубящемся мареве серебристый замок с зубчатыми башнями. Никогда не смыкает глаз, никогда не спит нечистая сила! Никогда! Если б можно было теперь, преодолевая отвращение и смрад, ухватить беса за хвост, закрестить, оседлать, как случалось иногда в прежние суровые времена, да, ударив пятками в жёсткие бока, взвиться к небу, то ясно можно было бы разглядеть сверху — стоит замок в самом центре подлунного мира, посередине эпического простора. И главные наши события развёртываются именно здесь, в проклятом заколдованном замке.
Несмотря на тихое предутреннее время, царит под глухими каменными сводами необычайная суета. Завершается обряд приготовления к очередному совещанию, или, как у них принято называть, заседанию клуба, или, ещё короче — к «худсовету». Бесчисленное число раз повторяется это на земле. Дубль два, три, четыре, пять...
Ну что ж, попробуем и мы внити внутрь. Дерзнём, трижды перекрестившись, поплевав за левое плечо.
«Кто там?»
«Это мы, скорбные профаны! Со знанием своим и суемудрием своим приходим к вратам храма сего и требуем впущения быть в оный!..»
«Братья, оставьте за порогом все металлические предметы. Ключи, монеты, цепочки, нательные кресты... Ибо всякий входит сюда нищим и безоружным».
2
Ничего в этих местах не пропадает даром, всё копится для неведомых целей. Хранится, сберегается под спудом в необъятных подземных хранилищах, подвалах, штольнях, горизонтах. И возникает в оный день неожиданно, выходит на свет Божий, всплывает подобно тому, как мысль всплывает, извлекается из таинственных бездн подсознания.
Декораций в подвалах набрали достаточно, две дюжины клетей подняли наверх. Но трудники всё ещё бродят по складу, не могут остановиться. Реквизита всякого накопилось здесь так много, что не видно конца штабелям, полкам, сундукам, корзинам, грудам, ворохам, нагромождениям, россыпям. Все вещи мира. Рассортировано кое-как, на глазок. Без всякой системы рассовано по углам, расставлено как придётся вдоль стен. Как будто ось времени была вынута из бытия и вольно разбрелись, перемешались века, периоды, эпохи, стили.
Бронзовый подсвечник тобольского митрополита Евлогия высовывается из кучи пластмассовых китайских игрушек. Серебряный сервиз графа Орлова погребён под грудой солдатских сапог, списанных со склада 2-го батальона 33-й пехотной Кольской дивизии. Древнегреческая амфора, расписанная подвигами Геракла, прислонилась к помятому самовару мещанина Фёдора Авдеева из Пензы. Круглые очки с выбитыми стёклышками, примятые... Чьи бы это? А-а, точно-точно!.. Это же очки учителя самарской гимназии Глеба Димитриевича Дудакова. Того самого, что за год до революции послал письмо в газету «Искра». Призывал в письме своём «сбросить ярмо, разбить вековые цепи, повесить царя с супругой и чадами их»... Сохранилось письмо. Да-да-да-да... А в восемнадцатом отрезали Глебу Димитриевичу нос и уши в самарской ЧК. Вот очки-то и слетели, разбились. Не на чем стало им держаться... Забавно всё устроено в мире. Империи рушатся, а очочки вот они. Сбереглись в память об учителе гимназии из Самары. Как трогательно!
Попадаются здесь бесценные находки, уникальные, редкостные. Да вот хотя бы — связанные в толстенную пачку большие листы бумаги с подгорелыми краями, с надписью лиловыми чернилами на верхнем листе: «Ник. Гог. “Мёртв. Д.”, т. 2-й и т. 3-й». Лежит пачка косо, кое-как брошенная на сломанное колесо от брички. След сапога кощунственно отпечатался на титульной странице. А вот ещё (сердце волнуется от узнавания!) — старинный гранатовый браслет, дымящаяся козацкая люлька, пропавшая грамота, чёрная шаль, мушкетёрская шпага, гиперболоид, обрывок шагреневой шкурки, сундук мертвеца и бутылка ямайского рома...
А вот и он! Ну, наконец-то! Маленький собачий ошейник! Из простой верёвочки. О, как трогательно, как жалко. Слёз не удержать! Уберите поскорее эту верёвку и этот кирпич! Уберите, уберите с глаз подальше!.. Прогоните и его прочь! Человека, который мучительно мычит, водит руками, пытается что-то объяснить. Что может сказать мне немой? Какими словами оправдаться?
Вперемешку с ценнейшими артефактами попадается всякий мелкий сор: обёртки от шоколадных конфет, синенькие билеты в кинотеатр с оторванным «контролем», плоские палочки от мороженого, латунные пуговицы... Пригласительный билет! Да-да, и он тоже здесь. Билет тёмно-серый, с золотым тиснением. Бархатистый на ощупь, как будто обросший нежным мхом. Золотое тиснение уже немного потускнело и осыпалось, подобно тому как стираются, зарастают буквы на старом надгробии.
Хох! А вот и самое свежее — кукла с выколотым глазом! Недавнее поступление. Надо же, и она уже навеки хранится здесь, среди бесценных сокровищ мира. Это всё вещи никому теперь не нужные, бесполезные, отданные людьми без всякого сопротивления и сожаления при последнем переходе, в конце долгого жизненного поприща.
Кажется, могучие природные силы и напряжения сошлись некогда в этом месте, раздвинули земные пласты, образовали тёмное, гулкое пространство, пределов которого никто никогда не видел, не знал. Никто и никогда не мог дойти до конца этого склада. Хотя бывало, отходили стадий на пятнадцать вглубь от выхода. Забредали, зачарованные, в самые глухие углы. За которыми, впрочем, открывались всё новые и новые ходы, новые кривые тоннели, уже совсем мёртвые, безжизненные. Такие дикие, что не только нога человека, но даже и нечистое копыто редко туда ступало.
Когда угасал фонарь, истратив аккумуляторы, можно было видеть, что не совсем уж и полная стоит тут темнота. Как будто бы видится вдали тёмное свечение, чуть колеблющееся багровое зарево. Сочится свечение это изнутри, из-за дальнего поворота, из-за невидимых горизонтов, полого уходящих всё ниже и ниже. Говорили, что это свет Пандемония, древней столицы сатаны в аду. Иногда доносились оттуда как будто бы звуки работы неусыпающей молотилки. Слышались сдавленные, глухие стенания, ропот, невнятные выкрики как будто огромной толпы, целого океана людей. Но стоило остановиться, прислушаться, и всё мгновенно стихало, слышался только стук собственного сердца в ушах.
Говорили, что давным-давно, ещё при Советах, выбрели оттуда на свет косматые, обросшие бровями, бородами и шерстью люди, заблудившиеся некогда в этих пещерах. Но что они там видели, никому узнать так и не удалось. Во-первых, все были седые, ослепшие, как кроты, а во-вторых, никакого толку добиться от них не удалось. Несмотря на то что следователи использовали методы перекрёстного допроса и вообще применили весь страшный арсенал тогдашних средств дознания. Что-то непонятное науке произошло со спасёнными людьми. Впрочем, назвать их спасёнными можно только условно. Из путаных отчётов судебных экспертов следует, что они внезапно «прекратили биологическое существование». Можно предположить, что эти люди, каким-то образом убежавшие, выскользнувшие из ада, полопались во время следствия, подобно глубоководным рыбам, если их вытащить из океанской бездны...
3
Святые люди предсказывали. Перед самым концом ватаги бесов выйдут из преисподней, примут вид человеков, наденут приличную обувь и смешаются с обыкновенными людьми. Пришла пора попристальнее всмотреться нам в потусторонние тайны.
Участники совещания прибывают, прут отовсюду, осаждают регистратуру, ругаются вполголоса. Это всё законченные и совершенные в своём роде человеческие особи, рождённые из чёрной пены жизни. Показывается из-за угольной горы очередной гость. Хромает на кривых птичьих лапах. Далеко вперёд выдаётся нос. Выбрит чисто, да так густо надушился, что, когда подходит к дверям, у всех резь в глазах. У иных и слёзы брызжут. Объявляет глашатай торжественно:
— Господин Шпрух!
— Шпрух, объелся мух! — эхом вторит, комментирует дежурный рифмач, стоящий при входе.
Приосанился полуслепой, полуразрушенный Шпрух. Слюна поблескивает на бритом подбородке. Радуется, что столь тонко отмечена его сноровка. Коль способен ещё словить муху на лету. Шутка ли! Лету на муху. Семь человечьих сердец сменил он в груди за время долгого земного поприща. Три души износил. Но не успевает мысль установиться, как трубный голос перебивает, возвещая:
— Герр Черноболь с супругой!
— Супругой с грудью упругой! — вворачивает рифмач.
Победительная ухмылка озаряет лицо рябой женщины с жирным зобом. Ещё выше пытается воздеть рыхлую грудь, чтобы соответствовать комплименту.
Расступилась толпа, раздалась, шарахнулась в стороны. Как ледокол сквозь кипящее, шипящее крошево, прошёл сам Жиж, уставя страшные очи в землю. Никому не кивнул, ни с кем не поздоровался. А все-то и радёшеньки. Даже рифмач примолк, сделал вид, что смотрит в сторону. Известное дело. Драпежник! Все знают поговорку: «С кем Жиж поздоровается, тому не поздоровится».
Гости прибывают и прибывают. Чем ближе роковая минута, тем гуще напор. Едва успевает реагировать рифмач, да и рифм уже недостаёт. А где ж возьмёшь их, этих проклятых рифм? Почти все растрачены уже, иссякли. Может, пяток небывалых рифм только и остался что где-нибудь в Венесуэле.
— Пахом!
— На козле верхом!
— Асмодей!
— Причёска из гвоздей!
— Господин Огнь!
— Ы... ы-ы-ы-ы...
Без рифмы остаётся господин Огнь, дряхлый, нарумяненный, в белых буклях! Да и на что ему эти рифмы? Успокоился наконец, угомонился, не воздыхает более об ушедшей юности. Не жалеет о развратном невозвратном, не зовёт, не плачет. Пролетела пёстрая жизнь! Входит, мостится скромно у входа, на узкую дощечку, на шесток свой. Соблюдает иерархию.
— Вильгельм Готтсрейх Сигизмунд фон Ормштейн!
— Ы... ы-ы-ы-ы... — снова терзается рифмач, хватаясь за кадык.
Закрываются двери. Из глубины подземелья доносится знакомый сигнал: «Коло ока его вокруг да около, да не далёко!»
Тихими, тяжёлыми шагами выступает из стены небольшого роста, лысый человек с мёртвым лицом. Подходит к фанерной трибуне, что установлена в глубине кочегарки. Кашляет в кулак, раскрывает папку и начинает ровным, бесстрастным голосом, визгливо возвышая тон на концах фраз:
— Тема моего сообщения — стъясти чело-эческие. Это занимает нас в связи с судьбою нашего изб-ганника. Ведь, если изволите сог-яситься, все юди уст-ё-ены одинаково. Гуки-ноги-чгево-гойова...
Мёртвая тишина в зале. Дефект произношения заставляет вслушиваться с особым напряжением. По обилию картавых лакун можно судить, сколь часто в русской речи рассеян рокочущий звук «р». Густо растёт, прёт, как трава-сорняк борщевик.
— Ст-гасти у всех одни и те же. И всё газличие юдей меж собой зак-ючается йишь в том, что у одних пгеобгадает айчность. У дгугих гойдость. У тъетьих тщес-явие и зависть. Всех стгастей, как вам известно, семь. И от этих семи стволов, съёвно ветви, гас-пгост-ганяются во все стогоны многочис-енные и много-газ-ичные гостки и от-гасли.
— Восемь! — не выдержал некто, квакнул из угла хрипло.
Все обернулись, желая рассмотреть нарушителя регламента. Им оказался круглолицый, гладко выбритый толстячок с небольшой плешью. Всё в нём рыхлое, распухшее, как у утопленника. Белые, бескровные губы шевелятся, влажно блестят. Толстячок откашлялся и, ещё более выпячивая свои базедовые глаза, повторил твёрдо, просипел:
— Восемь страстей, господин Асмодей!
Задремавший рифмач оглядывается встревоженно.
— Богос-ёвы официально насчитывают семь ст-гастей, — всё тем же ровным голосом возразил докладчик.
— Я насчитываю восемь, — тихо, но твёрдо произнёс плешивый.
«Ударить бы тебя оземь...» — бормочет Рифмач.
Вытягивает шею, чтобы получше разглядеть отважного выскочку. Сам Вольфганг Амадей Скокс приподнялся на цыпочки, с одобрением усмехнулся. Шлягер подстерёг, нетерпеливо дёрнулся, привстал, вскинул и опустил руку.
— У вас тоже свой счёт? — Скокс по-доброму, с мягким прищуром всматривается в Шлягера.
— Иногда насчитываю внутри себя и гораздо больше страстей, нежели восемь! — похвастался Шлягер. — До дюжины, ваша серость!
Плешивый выскочка поперхнулся слюной, закашлялся, побагровел.
— Что ж, похвально. Это в высшей степени похвально, — проговорил Скокс, ласково глядя на Шлягера. Так школьный педагог хвалит отличника, который наперёд заглянул в учебник и самостоятельно освоил интегралы.
Посрамлённый же толстячок ссутулился, обвис ватными плечами и с пылающими от пережитого позора щеками опал в своё кресло.
4
«Крови и справедливости! Да здравствует революция!» — эти страшные слова грохочут в голове маленького лысого человечка с мёртвым, серым лицом. Именно их хочется выкрикнуть. Но не дал бог жабе рогов. «Къёви и спьяведливости! Да здъяствует евоюцья!..» И всё, всё, всё насмарку! Всё.
Заложив большие пальцы в проймы жилета, вышагивал он мелкими шажками мимо трибуны. Ходил от стены к стене, механически разворачивался, обращался к публике то левой щекой, то правой. Снова встал за трибуну, продолжил тем же ёвным гъёмким... о, простите, ровным и громким голосом, каким и начинал свой доклад. Как будто не было никаких выкриков.
— Изб-ганник совег-шенно обычный чело-эк. Тщес-явен, йюбит деньги. Мо-гальные п-гинципы гасшатаны. Этого чело-эка не следует пе-геделывать. Он будет исполнять то, что ему п-гедначегтано, опи-гаясь на ог-ганичные че-гты собственного ха-гакте-га.
Докладчик сделал паузу, чтобы передохнуть после трудного места. Вытащил из кармана скомканный платок, стал промакивать блестящую лысину.
— Вольно, — объявил в наступившей тишине Скокс из своего угла.
— Благодар-р-рю вас, — раскатисто, без всякого дефекта, произнёс докладчик и поклонился. — А то уж совсем упарился. Гаканье это, грассирование... Чёр-р-рт р-раздер-ри!
Поскрёб кожу на лбу, нащупывая краешек. Подцепил ногтями, содрал розовую резиновую лысину с головы. Скомкал, бросил в урну под трибуной. Самое удивительное, что под искусственной лысиной оказалась у него в точности такая же, но только своя, натуральная.
Сорвал с подбородка рыжую паклю, отклеил усы. Под паклею обнаружились точно такие же рыжие усы и бородка, свои, природные. Докладчик снова промокнул платочком вспотевшую лысину, на этот раз свою, родную. Оглядел помещение кочегарки, произнёс, снова с особым удовольствием раскатываясь на звуке «р»:
— Нужно всемер-р-но поддер-р-рживать избр-р-ранника в том убеждении, что все его успехи связаны исключительно с его личными заслугами.
— Поздно! — крикнул Шлягер. — Он кое о чём уже догадывается. Смекалист, сволочь! Следовало бы оградить его от общения с профессором Покровским. Опасно в духовном смысле! Как бы стержень в нём не окреп.
— О, да-да! Это къяйне опасно! — оратор от волнения снова сбился на роль. — Стейжень в юсском чеоэке — самое смейтейное для нас!
— Именно. Смертельное! — кричит человек с хохолком на голове. — Надо раздёргать его! Не дать сосредоточиться!
— А если... того... Чрезвычайку? — Старичок в буклях, угаснувший Огнь, чиркнул ладонью по шее. — Сократить поголовье. Устроить демографическую яму. Опыт есть. Миру — мор!
— К сожалению, время не то! Вот она и нарастает, русская биомасса. Скоро уж совсем продыху нам не будет.
— Если народ нельзя вырезать, то самое верное — раскормить его, оскотинить! — подсказал мудрый. — Дать максимум материальных благ. Построить рай на земле! В отдельно взятой стране. Пусть все будут богаты и сыты. Пусть у всех будет много различных вещей!
— Уже! Раскармливаем, ваша серость! — торопливо проговорил Шлягер. — И благами оскотиниваем. В Калужской губернии, ваша серость, есть старинное поместье. В детстве они там гуляли. Юные, так сказать, влюблённые. Дафнис и Хлоя. Представьте себе такую идиллию. Взявшись за руки. Вера и Ерошка! Там у них, к слову, случилось первое грехопадение. Место памятное. Мне без труда удалось внушить супруге Бубенцова, что владеть имением — её «заветная мечта».
— Там, кажется, есть законный хозяин, — напомнил оратор. — Прокурор Шпонька.
— Прокурора устраним, — пообещал господин Огнь. — Несть хозяина — несть проблем!
— Хе-хе! Как вы это ловко! «Несть хозяина...» Браво!
— А его подсадим на иглу кредита, — продолжал старый Огнь. — Ещё ниже пригнём. В сущности, по нашим меркам поместье это — нищая избёнка.
Встрепенулся спросонья, откликнулся петухом звонкий голос:
У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избёнку лесу попросила...
Это ввернул дремавший в дальнем углу рифмач, отреагировал на слово «избёнка». Стишок пришёлся, кажется, к месту, потому как от всей души рассмеялся Скокс. Непонятно, что нашёл он тут весёлого, но грянул угодливый хохот со всех сторон. И ещё веселее стало Скоксу, и ещё задорнее захохотало всё собрание.
— Власа! Власа-а, — сквозь слёзы передразнивал тот, с жабьими глазами. — Так и представляю себе... Влас такой идёт, раскорякой такой... О-о-о...
— Власа и Ненила! Ненила, главное! — напоминал с нажимом его оппонент. — Не Нина, а Ненила какая-то! А-а-а... Ох-ха-ха... Избёнку, главное...
— Не могу, держите меня семеро! — вставлял свою реплику Шлягер, кривя рот в ухмылке, глядя вокруг тоскливыми глазами.
— Восьмеро! — квакал жаба. — Держите меня восьмеро!
— Двенадцатеро! — перебивал в свою очередь Шлягер.
— И главное-то, у бурмистра! — почти падая с кресла, гнулся от смеха Огнь. — У бурми-и-стра.
— Власа... Раскорякой такой... — Жаба встал на карачки, наглядно продемонстрировал «раскоряку».
Грохнулось собрание. Хохотали, хлопали себя по ляжкам.
— Не Дафнис и Хлоя, а Влас и Ненила!
— Филимон и Бавкида!
— Вера и Ерошка!
— Что значит чувство юмора! Умора!
— Ненила, ух-хо-ха-а...
И только один старый Жиж молчал. Сидел, ссутулившись, сгорбившись, не поднимая очей от земли. Скрипел зубами. Молчала, впрочем, и древнегреческая мраморная скульптура, что всё это время белела в углу. Двое из всех!
Становилось страшно. Даже самим хохочущим. Это видно было — самим хохочущим становилось страшно. С каждым взрывом нервного смеха делалось вокруг как будто темнее, мрачнее, невзрачнее.
Задыхался, давился кашлем желтолицый старик, никак не мог остановить агонию смеха. Слёзы и слюни стекали по его лицу, он помавал руками беспомощно, обречённо, ибо не имел уже в себе никаких сил остановиться. Подскочил к нему раскоряка с жабьими глазами, размахнулся и с большим-большим наслаждением влепил оплеуху. И помертвел тот, слёзы застыли на щеке. Только долго дёргалась щека, трепетало красное веко, норовил съехать на сторону кривой рот, и долго ещё давил в себе подступающую икоту старик.
— Всё, — объявил Скокс. — Шабаш!
Вмиг воцарилась абсолютная тишина. Скокс, указав пальцем в угол, тихо произнёс:
— Наступает звёздный час сластолюбивой Розы Чмель. Отныне пусть смолкнет смех. Не могут пребывать вместе демон Юмор и зверь Эрос.
Древнегреческая мраморная скульптура, что всё это время белела в углу, встрепенулась, ожила. Роза Чмель блеснула бриллиантовыми зубами, скинула с плеч покрывало, с удовольствием прошлась по ковру, разминая застоявшееся тело. Целое облако талька поднялось над нею.
Подойдя к Скоксу, Роза изогнулась в тонкой талии, глубоко поклонилась, коснулась пальцами пола. О, она знала свою истинную силу! Померк пред этой силой древний Арль, что славился на весь мир необыкновенной красотою своих женщин!
Старый Шпрух и Полубес, оказавшиеся позади неё, деликатно отвернули взоры свои. То же самое сделал и Шлягер, но всё-таки не устоял. Всё-таки, отведя глаза свои, раза два метнул быстрый, как разящая рапира, взгляд на тугой, обращённый к нему зад сластолюбивой Розы Чмель. Дрожь прошла по её кобыльему крупу, от самого крестца вплоть до золочёной гривы. Свалился с перекладины, пополз на четвереньках господин Огнь, старичок в буклях. Длинная слюна... Ох, страсти человеческие...
На самом-то деле их три всего — сластолюбие, славолюбие, сребролюбие. Три! Три корневые, главные. Остальные семь — только отпрыски, отростки. Семь нот, на которых можно сыграть любую музыку. Всё дело в сочетаниях и взаимодействии.
— Семья! — объявил господин Огнь. — Вот крепость, которую надо рушить! Подтачивать изнутри, через жену.
— Особо не подточишь, — пожаловался Шлягер. — Вера верующая.
— Тавтология, — заметил жаба.
— Желательно брак его разрушить! — провозгласил оратор. — Не к лицу царской особе венчаться с простолюдинкой.
— Уж и замуж невтерпёж! — поддержала Роза.
— А лета ваши? — напомнил старый Огнь.
— А лета наши мне не помеха! — парировала Роза. — Лета изощряют страсти, придают опытность в телесной любви. Баба ягодка опять! Не терпится испытать на деле! Немедленно хочу замуж!
— К сожалению, никак нельзя! — возразил Адольф Шлягер, склоняясь над Розой. — Генетическая экспертиза подтвердила, что Вера Репьёва принадлежит к роду весьма древнему. Боярин Козьма Репьёв командовал батареей единорогов в казанском походе Ивана Грозного. По другой ветви кровь её соединяется с родом Гедиминовичей.
— Мне было обещано! — заявила Роза Чмель. — По древним пророчествам, антихриста должна родить блудница! Из этого следует, что и предтече естественнее обвенчаться с блудницей. Вы же клялись брак этот уничтожить!
— Упёрся, — развёл руками Шлягер. — Не желает.
— Что значит «не желает»? — обернулся господин Огнь. — Надо организовать супружескую измену и предоставить ей факты.
— Не поверит! — сказал Шлягер.
— Как так? Не любит, выходит.
— Не выходит! Любит. Иной раз бьёт его по щекам. Когда он набедокурит. Но сама же плачет при этом. Жалеет!.. Русская женщина.
— Бьёт и плачет?
— Истинно так! Русский характер. Она не бросит его!
— А пусть они состязаются! — выкрикнул жаба. — Роза-то наша взрачнее! Несмотря на лета свои. Перемен!
— Вот именно! Мы жаждем перемен! Говорят же: «Власть должна быть переменяемой». Значит, и жена! — поддержал старый Огнь. — Пусть достойнейшая выявится в свободном состязательном процессе.
— Состязание! Состязание! — закричали голоса со всех сторон. — Перемен жаждут сердца!
Кое-какие перемены тотчас же произошли в окружающей обстановке. Загремело в углу. Мешковатый Полубес задел фалдами бронзовую скульптуру. Та рухнула, покатилась с дребезжащим звуком по полу, выдавая своё полое, пустое нутро.
— Ну, что ж. Пусть будет состязание. Как ваши сети, господин Асмодей? — негромко поинтересовался Скокс. — Велика ли добыча? Вы, кажется, новый ресторан открыли?
Слово «добыча» произнёс профессионально, с ударением на первом слоге.
— Добыча скудеет, — так же ударяя на первом слоге, пожаловался лысый оратор, владелец всемирной сети пивных и ресторанов «Асмодей». — Ловим, конечно. Мелкую в основном рыбёшку. Сети ветхие.
— Будет вам настоящая добыча! — провозгласил Скокс и поднял ладошку.
Всё опять смолкло, остановилось, скукожилось, заглохло. Казалось бы, всего-то... ладошка.
— Господин Шлягер! — скрипуче проговорил Скокс в мёртвой тишине. — Заканчивайте репетиции. Пусть примерит корону! А мы придём на смотрины, поглядим. С галёрки. После окончания банкет. А затем... Все поедут в «Асмодей»!
И как будто открылись запоры, распахнулись шлюзы по мановению волшебного слова. Заплясало всё, закружилось, взвыло, запело на мотив «Ах, мой милый Августин»:
— Все поедут в «Асмодей»-«Асмодей»-«Асмодей»...
И почудилось, представилось, привиделось, примерещилось кое-кому, что ладошка-то... того... шестипалая. В сумраке. Так-то...
Глава 12
Черти на галёрке
1
До начала оставалось двадцать минут. Артисты понемногу выглядывали из гримёрных. Человек пять, сгрудившись у зеркала в холле, пудрились, поправляли парики, осматривали костюмы. Все они, ничуть не стесняясь друг друга, двигали губами, зверски скалили зубы, разминая мышцы лица, перекидывались репликами.
Загремела на лестнице жесть алебарды. Все обернулись, замолчали. Сверху спускался неуклюжий пожилой человек, накануне поступивший в труппу. Сутулился, бычился, враждебно поглядывал вокруг маленькими глазками, глубоко упрятанными под массивными выступами надбровий. Был он похож на неандертальца, оказавшегося во враждебном окружении кроманьонцев.
Артиста этого Шлягер накануне пригласил на роль душегуба. Мощное тело выпирало из камзола, стянутого бронзовыми застёжками. Тугие резинки для удержания чулок пережимали вены под коленками. Проходя мимо сияющего зеркала, душегуб яростно прокашлялся, клокоча горлом. Осыпалась на плечи пудра с парика.
Актёр этот, надо заметить, сразу же вызвал вражду и большое раздражение у труппы, а особенно же у Бермудеса. Игорь Борисович объяснил своё неприятие новичка тем, что, дескать, от того нестерпимо «пахнет лошадью». На самом же деле причина была в ином. От Несвядомской тоже временами пахло лошадью, и ничего... Причина лежала гораздо глубже — фамилия дебютанта уж очень была похожа на фамилию Игоря Борисовича. Что для артистической славы весьма пагубно. Фамилия новенького была так же звучна, басиста, так же привлекала внимание на афишах, как и фамилия Бермудеса. Новичка звали — Савёл Полубес.
Презрительная гримаса играла на обезьяньих губах Савёла Прокоповича. Ещё раз прошёл мимо зеркала, с отвращением косясь на свои обтянутые ляжки с бантами под коленками, кривые, толстые икры в белых шёлковых чулках.
Из дальнего угла, где на лестничной площадке устроена была курилка, несло дымом. Там сейчас дружно смеялись, по-видимому над анекдотом.
Чуть в стороне от всех прохаживался взад-вперёд Бубенцов. Вскидывал голову, оборачиваясь на каждый взрыв хохота. Недовольно и неодобрительно дребезжали колокольцы на тиаре. Невинный смех сослуживцев Ерошка принимал на свой счёт. С некоторых пор, а именно с тех самых, как имя его стало нарицательным, популярным и зазвучало на всю страну, Ерошка в своём родном коллективе всё более отдалялся от прочих. Вот и теперь оказался в некотором, уже привычном ему, отчуждении и одиночестве. Только три или четыре самых близких друга — Бермудес, Поросюк, Смирнов да Чарыков — оставались в прежних тёплых отношениях с ним, умело хороня в глубине сердца профессиональную зависть.
Бубенцов одиночества не терпел, а потому это вынужденное положение, когда он не может, как бывало прежде, запросто присоединиться к смеющимся над анекдотом, по-дружески ущипнуть Полынскую, перебить чужой разговор или пошутить с чопорной Адой Брониславовной, — положение это его тяготило. Не с кем было поговорить, блеснуть острым умом. Некого было поразить оригинальностью мыслей, которые сегодня то и дело залетали в голову Ерофея. Невысказанные чувства клубились внутри сердца, теснились в груди, требовали выхода. А выхода не было. Ценнейшее духовное достояние пропадало втуне. Это было очень досадно.
Как известно, самое высокое наслаждение испытывает человек, когда делится радостью с ближними. Когда хвастается удачей, талантом, богатством. Тяжело не иметь возможности рассказать о своих успехах. Бубенцов прохаживался, поглядывая поверх голов. О, бремя избранничества! Даже и в спектакле свою роль обыкновенного шута он с некоторых пор стал считать центральной, главной.
Раздражённо звякнули бубенцы. Тревожное движение произошло на лестнице среди курящих. Взволнованной толпой вывалились оттуда в коридор актёры, рабочие сцены, осветители. Выступил из их среды Игорь Борисович Бермудес.
— С дороги, милочка! — загремел его оперный бас.
Отодвинул суфлёра Рыжикова, тщедушного, кроткого человека, страдающего базедовой болезнью. Игорь Борисович пошёл, возвышаясь над всеми на целую голову. Проследовал мимо Бубенцова в развевающемся чёрном плаще, шурша наклеенной бородой.
— Каин очнулся! — объявил громовым голосом, подходя к зеркалу, переминая и оглаживая бороду. Оскалился, тряхнул гривой, стал коротко рыкать, мощно двигая губами. — Чер-р-ти! Ни на кого нельзя положиться!
— Чарыков в запое! — горестным сопрано откликнулась Полынская. — И Смирнов с ним вместе. Только роль получил, а не бросил товарища. Парой запили. Теперь недели на две...
— На три! — рыкнул Бермудес.
Подобное объявление, сделанное в каком-либо ином учреждении или коллективе, могло бы вызвать огромный скандал. Предположим, перед началом испытаний крылатых ракет в кают-компанию явился бы мичман и объявил: «Начальник штаба в запое!» Нельзя обычному человеку даже и представить такое. Здесь же сообщение не произвело особенного впечатления ни на кого. Наоборот! Послышался надтреснутый, но очень бодрый голос Шлягера:
— Горе не беда! Возблагодарим судьбу за счастливый случай!.. Спасибо тебе, Господи, за то, что мы не такие, как Чарыков и Смирнов!
Все взгляды обернулись к Шлягеру. И Шлягер, отвечая на молчаливый вопрос, произнёс громко, торжественно, с напором:
— Есть на кого положиться! Государя сыграет Ерофей Бубенцов!
Ерошка с подозрением прищурился на Адольфа: не подстроено ли специально? В последнее время он не всегда точно мог определить, какие события в его жизни произошли сами по себе, а какие режиссированы циничной и умелой рукой.
— Созрел! Давно созрел талант! — Шлягер повёл рукою, как будто призывая в свидетели всех окружающих.
Истинную правду говорил Шлягер. Выражался банально, но верно. Хотя и обмасливал лестью всякое слово. Бубенцов и сам не раз думал о том же, почти такими же словами.
— Роль шута при царской особе я беру на себя! — предупредил его вопрос Шлягер. — Давайте же, дорогой бесценный друг, обменяемся личинами.
— Ну, что ж, — сказал Бубенцов, принимая горностаевую шубу. — Попытка не пытка. А Блудная Страсть кто вместо Смирнова?
От радости и волнения сердце его сбивалось с ритма, стучало с перебоями.
— Блудную Страсть сыграет Роза Чмель! Вы ещё не знакомы? Завидую! — Шлягер пакостно улыбнулся, все свои зубы выставив вперёд. — Царица соблазна!
2
Невнятно ропотала тёмная бездна зрительного зала.
Кому он нужен, добродетельный, разумный, справедливый царь? Кому интересен? Никому! Бубенцову, привыкшему валять дурака, кривляться шутом, было скучно. Публика реагировала так же вяло, а раза два из задних рядов слышался тихий, протестующий свист Варакина.
Но выступила наконец царица — Роза Чмель. Бубенцов не видел момента её появления, поскольку лицом обращён был к залу. Но всё понял по реакции публики. По вздоху и стону, что пронёсся над креслами. По тому, как отвалились челюсти у сидящих в первых рядах. Коротко ахнул кто-то в заднем углу, уронил бинокль. А из уст Варакина вместо свиста зашелестело шипение.
Бубенцов обернулся и увидел царицу Розу. Царица, победительно, властно усмехаясь, приблизилась к нему на расстояние дыхания. Она знала сокрушительную силу своего блудного соблазна. Алые, сахарные уста раскрылись, сверкнули бриллианты во глубине рта. Роза заиграла всем тем совокупным набором телесных средств, которыми щедро снабдила её натура. Удивительно, как неравномерно, как несправедливо распределяются дары! Прилежной, честной труженице, ответственной, трезвой, скромной, тело даётся постное, плоское, костистое. А ветреная, безалаберная шаболда получает такое великолепие!.. О, как несправедливо!
Роза вилась вокруг Ерофея, манила, высовывала раздвоенный кончик языка, ускользала, приближалась. Касалась его, задевала горячим бедром, проводила тугой грудью по его спине. Он хватал воздух пересохшим ртом, забывал реплики, тянул ненужные, нелепые паузы. Но, к его счастью, зрительный зал не замечал оплошностей. Зрительный зал точно так же мучился, не мог отвести глаз от соблазнительных прелестей полуобнажённой блудницы.
Адольф скакал рядом, звенел бубенцами, вертелся чёртом, скалил зубы. Надевал козлиную голову на плечи, блеял, мекал, тыкался рогами в грудь Бубенцову. Ему, пожилому, не очень здоровому человеку, тоже доставалось от избытка Розы Чмель, и на него изливались обильные жаркие дары. Шлягер, давно растративший пыл юности, всё же не мог утерпеть. Раза два или три посередине действия бросался прочь. Не докончив реплики, срывался, бежал за кулисы, где тесной стайкой толпились балеринки из группы подтанцовки. Ломал первую же, которая подворачивалась под руку. Валил с рычанием на войлочные мешки...
Актёрам, что растерянно озирались, топтались на подмостках, приходилось изо всех сил спасать положение, заделывать брешь, образовавшуюся выпадением из действия Шлягера. На ходу экспромтом придумывались мизансцены. Бубенцов томился, невпопад отвечал, краем глаза косился в пыльную темноту закулисья. Там энергично сотрясался волосатый хребет сатира, привставшего на задние лапы, терзающего свою зазевавшуюся жертву, урчащего. Впрочем, Шлягер управлялся споро и через пару минут возвращался на сцену. Снова скакал, гремел бубном, вывалив набок язык, по-собачьи часто дыша.
Надо отдать должное, Адольф Шлягер блистал в роли шута. Кривляться умел не хуже Ерошки, но добавил и кой-какой оригинальной отсебятины. Например, время от времени в самом неподходящем месте высоко подпрыгивал и ударял себя бубном по тощему заду. Эта остзейская шутка очень развлекала публику.
Бубенцов с удивлением обнаружил в себе новое, незнакомое прежде чувство: зависть жгла его сердце.
3
Ерошка не помнил, как покинул сцену, откланявшись вместе со всеми. Отгремели аплодисменты, отзвенели крики, утихли восторженные женские визги. Ерошка сидел в пустой гримёрке, погружённый в светлое бездумье. Образ Розы Чмель вставал перед ним, вызывая, как в отрочестве, безысходное томление, тупое нытьё в паху, телесную маету.
Постепенно затихал, успокаивался театр. Но долго ещё отрывистые отголоски, всплески жили в окружающем пространстве, долетая до слуха Бубенцова. Он сидел в голубых сумерках, не включая настольной лампы. Только луч от уличного фонаря проникал сюда, делая воздух комнаты зыбким, колеблющимся. Посидев таким образом в созерцательном бездействии минут сорок, Бубенцов наконец опомнился. Пора было совершать дежурный обход, запирать запасные выходы. Почти никаких звуков уже не доносилось снаружи. Зрители давно покинули театр.
Ерошка с большой неохотою стал подниматься. Мешала внезапная усталость, навалившаяся на плечи. Пусто, тревожно было на сердце. Слабость разливалась по всем членам. Он всё-таки поднялся, пересилив желание снова опуститься в большое, уютное кресло, в котором так хорошо было грезить ни о чём.
Одинокий таинственный всплеск донёсся издалека. И ещё расслышал Ерошка некий посторонний приглушённый звук, похожий на звон упавшей тарелки. Он вдруг понял, что ведь всё это время, пока сидел в гримёрной, где-то в таинственных глубинах, в далёких извивах и переходах происходило какое-то мягкое движение, что-то позвякивало, постукивало, сооружалось. Это совсем-совсем не было похоже на обычные звуки. Не было связано с хаосом разрушения, какой происходит, когда рабочие сцены разнимают сцепленные театральные конструкции, выносят отслужившие декорации.
Это, как выяснилось очень скоро, был — хаос созидания.
Бубенцов постоял, перемогая покалывание в затёкшей, онемевшей ноге. Опираясь на посох, прихрамывая, выбрался из гримёрной, преодолел длинный, узкий коридор. Прошёл мимо пустой сцены с погашенными огнями рампы. Тускло светилась за его спиной электрическая лампочка над запасным выходом, освещая сцену таинственно и косо. Когда он ступил в полосу света, длинная тень, увенчанная рогатой короной, пала на пол и пропала в чёрном провале зрительного зала.
Ерошка поправил съехавшую на лоб жестяную корону, распрямил плечи и направился в холл. Вступил в гулкое пространство. Смутно темнели дальние выходы, едва подсвеченные красными фонарями. Несколько шагов прошёл, постукивая посохом.
И тут нечто новое поразило его. Бубенцов приостановился, с силою топнул ногою. Эхо не ответило. Топнул ещё раз! Эхо не отозвалось.
Что-то произошло с окружающим миром. Гулкое прежде пространство гигантского вестибюля отчего-то утратило обычные свойства. Оно перестало быть гулким. Прежде, когда в ночной тишине он проходил здесь, всегда отдавались шаги его во всех углах обширного пустого помещения. Дежурное эхо чутко сторожило здесь каждый его шаг, каждый вздох. Теперь же куда-то пропало, заглохло, затаилось. Бубенцов не знал, как это объяснить. Он поднял посох, с силой ударил железным наконечником в пол.
И тотчас с треском и звоном взорвался сумрак ночи! Вспыхнули радуги, ударил в глаза свет ослепительных люстр! Бубенцов, никак не ожидавший подобного сюрприза, стоял оглушённый, втягивал голову в плечи, потерянно озирался. Успел заметить в самый первый миг, прежде чем ослеп от вспышек яркого света, что из-за квадратной колоннады в центре зала выступили накрытые столы, вокруг которых теснились целые толпы народу. Так в блеске молнии успевает разглядеть человек вокруг себя живописный мир. На сетчатке глаз запечатлевается яркая, исполненная драматизма, неподвижная картина. Гибель Помпеи, изнемогающая от собственного совершенства.
Взмыли в слепящей тьме ликующие, восторженные клики. Упала со звяком тарелка. Так вот, оказывается, откуда долетали в гримёрную отрывистые отголоски и всплески. Именно здесь находился источник того невнятного движения, которое таинственно совершалось всё это время вокруг него. Движение, которое Бубенцов ошибочно принимал за шевеление своих мыслей, колыхание призрачных образов и грёз. Вот почему на шаги его не отзывалось эхо. Оказывается, холл был вовсе и не пустой.
Кто-то бережно взял его под локоть, повёл мимо колоннады сквозь сияющую тьму. Принял из безвольной руки царский посох, усадил на тот самый дубовый, грубо позлащённый трон, нарочно перенесённый сюда со сцены и установленный в возглавии стола.
Постепенно глаза Ерошки привыкали к свету. Он обрёл способность различать детали. Вот приблизилась к нему фигура с красным носом-бульбой, облачённая в полосатый банный халат с позументами. Клоун держал в руках небольшой похоронный венок.
— Браво, Ерофей Тимофеевич! — крякнула фигура, поднимая венок, кланяясь во все стороны. — Примите скромные лавры эти! Ваше-ство... В знак величайшего...
Концы чёрных траурных лент заколыхались в воздухе. Бубенцов не выдержал, схватился за красный клоунский нос, что крепился у клоуна на резинке. Сорвал с лица. Вместе с носом в кулаке у него оказались и усы из пакли. Перед ним стоял Адольф Шлягер, накрашенный, нарумяненный, напомаженный, как сам дьявол.
— Нет-нет-нет, Ерофей Тимофеевич! — Шлягер схватился свободной ладошкой за оголённое лицо, как будто прикрывая срам. Протестующе взмахнул рукою с венком. — Так не честно! Ваше-ство... Мы готовились-готовились...
— А венок похоронный зачем?
— Лавровый! — крикнул Варакин.
— Лавровый? — озлился Ерошка. — Из елового лапника?! С лентами чёрными?! Задолбали вы меня венками этими!
Зашумело застолье, загомонило, кинулось объяснять со всех сторон.
— Ну как будто! Ваше-ство... Считайте, что венец лавровый.
— Художественный образ!
— Это же метафора! Ваше-ство...
Бубенцов не успевал поворачивать голову. Каркала хрипло Гарпия Габун, а Настя Жеребцова звонко подхватывала, перебивала:
— Важно не что есть, а как считать.
— Постмодерн!
Оказывается, действительно... Так вот оно что! Метонимия! Непщевахом, блябу, текел-такел! Амфибрахий! Метаметафора! Движениями рук останавливала крики Полынская, а ту в свою очередь оттесняла Изотова, а Изотову отталкивал уже Шлягер. В отдалении толкались у стола Игорь Бермудес с Поросюком, за ними едва виднелся маленький, лысый Трактатов. Помреж взмывал над головами, выставлял вверх большой палец. Всё кружилось, беспокоилось, хлопотало вокруг. В обширном помещении стало вдруг тесно, дымно, душно, толкотливо.
Постепенно смысл происходящего уяснялся. Оказывается, для него, именно и исключительно для него, приготовлялся всё это время сюрприз. Идея этого, честно сказать — весьма громоздкого сюрприза возникла сама собою, спонтанно. Никто уже не мог вспомнить, от кого она исходила. Но почти вся труппа принимала в нём живейшее участие. И даже десятка два зрителей каким-то образом оказалось здесь, в числе их Агриппина и Настя. Толкался меж людей близорукий старичок Глеб Львович, заведующий кафедрой общей патологии. Седенький, как престарелый ворон, каркал пронзительно, наступая на ноги: «Прощения прошу!» Ворочал головою в огромных роговых очках, напрасно искал дочерей своих — Таню и Аню. Народу набилось так густо, что трудно было уже вдохнуть полной грудью, а всё ещё прибывали новые и новые. Суета стояла страшная, все пихались, стискивали друг друга, пытаясь выбраться из заторов и водоворотов. Уронили вешалку, выдавили стекло в шкафу, разбили графин. Бубенцов вертел головою, вставал на цыпочки, выискивал — где же ты, где?.. Но иная, более крупная женщина то и дело вываливалась из толпы, пятилась, надвигалась на него голой спиной. Ерошка отступал, чуя исходящий от этой спины влажный тропический жар, задерживал дыхание. Отпихивал обеими руками липнущую толстую спину. С другого боку продрался Глеб Львович, строго сунул ладошку лодочкой, и Бубенцов вынужден был её пожать.
«Где же Роза? Роза Чмель...»
Адольф Шлягер поднялся, постучал вилкой о тарелку, требуя тишины. Степень застольного шума снизилась до приемлемой степени. Шлягер, зная, что тишина эта продлится слишком недолго, поспешно заговорил:
— Друзья мои! Братья! — оглядел присутствующих влажными глазами, остановил взгляд свой на Полынской, поправился: — Братья и сестры!
Слово «сестры» произнёс по-старинному, по-церковному, без точек над «е».
— Зачитаю телеграммы. От зрителей. Кои не аплодируют, — с большим пафосом продолжил Шлягер, вытаскивая из-за пазухи целый ворох почтовых бланков. — Кои не аплодируют, дорогие мои коллеги! Аристократы духа сдержанны в эмоциях. Вот! Самые последние. «Великолепен тчк». Это, кажется, от посла Великобритании. Да. Виндзоры. «Попадание десятку вскл». Каролинги. Дюпон, Варбург, Баффет. Вот так вот. «Поздравляю удачей вскл». Гогенцоллерны. «Бесценный вклад мировую культуру тчк». Меровинги. «Превосх всяк ожид тчк». Габсбурги. Экономят... Доротея София Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургская. И протчая, протчая... Ольденбурги. Морган, Оппенгеймер.
Руки Шлягера заметно дрожали.
— Поелику! — сбивался Адольф, подхватывая выпадающие листки. — Зане! Братья и сестры!
Дрожал влажный голос.
— Ну? — Шлягер закончил чтение, весело поглядел на Бубенцова. — Что вы на это скажете, Ерофей Тимофеевич?
— Браво! — крикнула Полынская и страстно расширила на Ерошку глаза.
— Виват! — громогласно отозвался Бермудес.
Загремела вдруг музыка из репродукторов, странная музыка: кадриль не кадриль, но что-то весёлое, пёстрое. «Ах, Семёновна, ядрит твою мать!..» И сорвалось с мест застолье. Бубенцов высунул было вперёд нос, но по самому носу дёрнул его целый ряд локтей, обшлагов, рукавов, концов лент, душистых шемизеток и платьев. Галопад летел во всю пропалую: Настя Жеребцова с голубым пером, Ирина Шацкая с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзе, чиновник из Петербурга, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский, чиновник из Москвы, Горпина в обнимку с Маргаритой, Варакин, Трактатов и Полынская — всё поднялось и понеслось... Привиделась на миг даже ковыляющая за спинами гостей старая Зора. «Зора есть, а Розы нету...» — сложился тоскливый каламбур в голове Бубенцова. А и в самом-то деле! Не было здесь только Розы. Розы Чмель.
Ерошка вспомнил свою Веру, и жестокий стыд обжёг, окатил его изнутри. Музыка стихла так же неожиданно, как и началась. С шумом задвигались стулья, зазвенели ножи, вилки. Все с красными, пылающими рожами рассаживались по местам. Еле уловимый аромат лаванды, сандалового дерева перемешивался с острым запахом лошадиного пота. Савёл Прокопович Полубес, наплясавшийся, натопавшийся, распаренный, упал в кресло, привалился к стене. Вытирал красное лицо, толстую шею бумажными салфетками.
— Триумф! — всё повторял и повторял подвижный человек во фраке, никогда прежде не виденный Бубенцовым. — Подлинный триумф!
— Нобеля! — вдруг отчаянно выкрикнул Трактатов, восторженно сверкнув выпуклыми, бараньими глазами. И сам испуганно замер, весь сжался, притих, сражённый собственной наглостью.
И всё кругом затихло, опало. Молча смотрела на смельчака бледная Ирма Замш. А выскочка, уже понимая, что хватил, переборщил, отчаялся ещё больше и в этом отчаянии крикнул упрямо:
— Нобеля дать!
— Э-э, милейший, — мягко возразил заведующий литературной частью Венедикт Арнольдович Нечистый. — Насколько я знаю, нет в области театра нобелевской премии.
— Есть! — стоял на своём отчаянный. — Должна быть! Не может не быть.
— Боюсь, что может и не быть, — влез компетентный фрак, объявивший о триумфе.
— Я уверен, есть, — скисшим голосом проблеял Трактатов. — Из всех искусств для нас важнейшим... В сфере театра. Законом не запрещено!
— Пусть Ада Брониславна справится в энциклопедии, — нашёлся Шлягер, разряжая ситуацию. — А мы тем временем... Не теряя, как говорится, времени... Объявляется тост за героя. За нас! И все за одного!
Поднялся после этих слов великий гвалт. Пирующие, как будто дождавшись наконец условного сигнала, вскочили со своих мест. Все потянулись к оторопевшему Бубенцову — с бокалами, фужерами, чарками, стаканами, рюмками, чашками, кружками, ковшами, братинами, красовулями.
Бубенцову сунули в руку окованный серебром рог. Поддержали, подсобили поднять. Подпихнули к губам. Скосив глаза к переносице, пил из рога Ерошка. И вот случилось то, чего он больше всего ждал и чего больше всего боялся. Пропала куда-то старая Зора. Зато взамен ей выступила из-за спин гостей соблазнительная Роза Чмель. «Роза есть, а Зоры нету...» — тотчас сложился волнующий каламбур в голове Бубенцова. А и в самом-то деле! Не было здесь только Зоры. Старой Зоры. А Роза подходила прямо к нему, была уже в шаговой доступности. Уже жаром духов окатывало, окутывало Бубенцова.
Веселие продолжалось. Пока Ада Брониславовна ходила в библиотеку, пока листала тома, искала информацию про премии, прошло более получаса. К её возвращению все давно уже забыли о предмете спора. Заявление о том, что никаких указаний на театр в регламенте Нобелевской премии не имеется, не вызвало никакой реакции. Никто даже не расслышал.
Не расслышал ничего и сам виновник торжества. Он в это время был далеко отсюда, разговаривал разговоры с несравненной, остроумной Розой Чмель. Именно такие ему всегда нравились — весёлые, лёгкие, бесшабашные. Вот только голос... Голос был у неё хрипловатый, сипловатый, как будто прокуренный.
— В «Асмодей»! — кричал человек во фраке с другого конца стола, махал руками, еле видный на краю горизонта. — Все едут в «Асмодей»! А там хоть трава не расти!..
Заплясало всё, закружилось, запело.
— Все поедут в «Асмодей»-«Асмодей»-«Асмодей»...
Появились откуда-то Таня и Аня. Нашлись наконец-то!.. То-то радость престарелому Глебу Львовичу, заведующему кафедрой общей патологии.
— В «Асмодей»! — дохнула Роза в самое ухо, жарко, распутно.
Глава 13
Женщина в трёх зеркалах
1
Закричала собака. Бубенцов очнулся в смертной тоске. Ещё не открывая глаз, сквозь сомкнутые веки определил, что в комнате горит искусственный электрический свет. Было ясно, что адский свет и не выключался, а горит так всю ночь.
«Не унывать, — привычно пробормотали губы. — Что бы ни случилось. Не унывать...» Немного подумал и добавил беззвучно: «Всё пройдёт. Все когда-нибудь умрём. Это неизбежно...»
Подбадривая себя такими словами, открыл глаза. Не унывать было никак невозможно. Ибо первое, что увидел он перед самым своим носом, был незнакомый живописный гобелен. Значит, вчера он заснул в чужом алькове.
Картина изображала закатный пруд. На переднем плане лебедь надменно глядел на своё отражение в воде. Старинный замок с башнями белел на дальнем берегу.
Что-то живое пошевелилось, вздохнуло за спиной. Тесно, тёмно, томно стало в груди от этого шевеления. Бубенцов почувствовал нехватку воздуха. Облизнул пересохшие губы, протянул руку и уткнулся в глухую стену. Близка вода, чист, прозрачен и глубок лесной пруд, а не утопишься. И зачем тогда привязали к груди его камень? Не спрячешься в гобеленовом лесу, хотя бы вон за тем кусточком ракитовым. Пространство лукавое, плоское, двухмерное.
Горячая, мягкая рука погладила плечо. Ужас ударил Бубенцова под самый корень, дух его содрогнулся. Дрожь прошла снизу вверх — от ствола спинного мозга по всем ветвям, ответвлениям и отросточкам нервной системы, вплоть до кончиков ногтей. Рука, погладившая его, несомненно, принадлежала женщине. Ерошка проснулся в чужом доме, в чужой постели. И очевидно, с чужой женщиной за спиной.
2
Только смерть избавит от всех ужасов и тягот здешней жизни, только смерть! Подкрепившись немного этой мыслью, Ерошка взялся припоминать события вчерашнего дня. Предстояла сложная, кропотливая работа по реконструкции прошлого. Сознание сохранило только некий общий, размытый образ произошедшего. Гармоническая последовательность событий успела разрушиться. Всплывали вдруг из хаоса некоторые мало связанные между собой эпизоды и артефакты.
Начиналось всё в театре, и так славно начиналось! Затем как будто веселье продолжилось в «Кабачке на Таганке». Потом, кажется, был скандал в ресторане «Асмодей». Как прибыли они, пешком ли или на такси, это совершенно изгладилось из памяти. Всё было весело, здорово, пёстро. Ерошке все искренне радовались, улыбались. Он с кем-то здоровался, обнимался. То и дело окликали. Ходил от столика к столику, пил там. За одним из столов завязался спор с долговязым стилягой в шарфе. Шарф запомнился отчётливо, поскольку с помощью его незнакомец был повергнут на пол. Были затем крики, был Бермудес, который появился неведомо откуда, оттаскивал Ерофея. А незнакомец куда-то делся вместе со своим шарфом, оставив в руке Бубенцова горсть серых волос.
И всё это рыцарство совершалось в честь прекрасной дамы — Розы Чмель. Бубенцов вернулся к столику, отряхивая ладони, но никак не мог избавиться от серых волос. Они наэлектризовались, липли к пальцам. Роза была в красном платье, с алой розой в чёрных с золотом волосах. От неё исходила огнедышащая сила, как жар исходит от раскалённой сковородки. Бубенцов, стоя на колене, декламировал:
А вино уж мутит мои взоры
И по жилам огнём разлилось.
Что мне спеть в этот вечер, синьора?
Что мне спеть, чтобы вам не спалось?
Теперь Ерошка Бубенцов напряжённо вслушивался в чужое дыхание за спиной. Та ли? Или какая-нибудь иная? Если иная, думал он, то измена двойная. И жене, и Розе. Абсурдно, но получается именно так.
3
Бубенцов затаил дыхание. Довольно долго лежал не шевелясь, напрягая слух. В какой-то момент показалось, что за спиною дышит не человек. Определённо не человек. Какое-то иное существо, но только не голая женщина. Лучше бы это дышал там кот или даже собака. Городским собакам ведь часто позволяют хозяева забираться в человечью постель и там дрыхнуть. Большая такая рыжая собака, старая, упитанная.
Опираясь на локоть, осторожно стал переваливаться на спину, приподниматься. Она лежала на груди. Бубенцов видел затылок и вытянутую, как у пловчихи, руку женщины. Да, это была, кажется, та. Скорее всего, та, поскольку брюнетка с отливом в рыжину. Плыла она кролем.
Надо было как-то выкарабкиваться. Выбираться из бездны, восстанавливать себя, склеивать разбившуюся в мелкие осколки жизнь.
«Почему не позвонил вчера?»
«Почему? Пьяный был, вот почему».
«Бабы пили с вами?»
«Какие там бабы, Вер? Сама подумай. Чисто мужская пьянка».
Не поверит, пожалуй. Лучше так:
«Была там одна. Или две, я уж не помню. Ну, ты её знаешь. Алкоголичка из отдела кадров. Она всегда подсядет на халяву...»
Про «одну или две, не помню» — это хорошо, важно только произнести естественным голосом. «Ты же знаешь, мне неинтересны эти бабы, всё равно, сколько их...»
Вера наверняка звонила ночью Бермудесу. Затем Поросюку. Эти не выдадут, скажут, что потерялись ещё с вечера. Надо уточнить, согласовать.
Мозг работал, пусть с перебоями, провалами, но эта работа мозга отозвалась благотворно на психике. Прошёл первый, парализующий волю, ужас. Теперь им владели тяжкое смятение, запоздалое раскаяние.
Тихо двигая локтями, Ерошка попятился в изножье кровати, стараясь не коснуться, не потревожить спящее существо, которое он всё ещё не разглядел толком. Несколько раз малодушно замирал, сторожа перемены в её сонном дыхании. Соскользнул, тихонечко тенькнул кончиками ногтей по паркету. Выждал, мелко перебрал локтями, пресмыкаясь тихо, как игуана. Тяжко же и неловко игуане пятиться, ползти назад. Послышался короткий всхрап, и замерла чуткая игуана. Наконец Бубенцов сполз с края постели, которая, к его счастью, ни разу не скрипнула за эти несколько минут напряжённого передвижения.
Она не проснулась, а только пошевелилась в сонной неге. Перевернулась на спину. Да, это была та самая женщина, увидеть которую сейчас он и опасался, и надеялся. Та самая весёлая, остроумная, распутная Роза Чмель, которая появилась вчера и, разбив все запоры, ворвалась в его жизнь.
Измена была не двойная. Но легче не стало.
Теперь, без алой розы в волосах, с закинутой рукою, Роза показалась ему ещё привлекательней. Она лежала на спине, нагие раздвоивши груди. И тихо, как вода в сосуде, стояла жизнь её во сне. Карминные, жаркие губы сухо пылали на бледном, страстном лице. Чёрные волосы с бронзовым отливом, которые он вчера трогал своей пьяной лапой, доказывая ей, что это театральный парик из конской вороной гривы, раскиданы были по белой наволочке. Эту кобылицу звали Роза. «Ты красива, как роза!» — такой комплимент он повторил вчера много-много раз. Да ещё много-много-много раз...
4
Кобылица повернулась на бок, не открывая глаз. Сонная дрожь прошла по крупу, от самого крестца вплоть до золочёной гривы. Тотчас стала подниматься внутри Ерофея тёмная муть. Бубенцов почуял, как снова наливается, вскипает силой... и поспешил поскорее вырваться из западни, полной уже света наступающего дня. Свет страшил его. Недаром он чувствовал себя мерзкой игуаной. Босиком, на цыпочках, опираясь на хвост, пробежала бесшумная игуана до приоткрытой створки двери, прошмыгнула в щель.
Далее Бубенцов, пошатываясь, не совсем твёрдо держась на лапах и стараясь не стучать когтями по паркету, пошёл незнакомым коридором. Едва не задел торчащий из стены сувенир в виде рогатой коровьей головы с подвешенными на шее жестяными колокольчиками. Изделие чешских мастеров, ширпотреб. Точно такое же висело и у него дома. Только не слева, а на правом простенке.
На кухне было то, ради чего он, собственно, и предпринял это трудное, долгое, полное невероятных опасностей и приключений путешествие по чужой квартире. На подоконнике стояла большая бутылка красного вина, отпитая не более чем на четверть. По своему детдомовскому опыту он знал, что некоторые вещи следует делать сразу. Получил шоколадную конфету — не откладывай, ешь немедленно. Иногда верная казалось бы добыча, если промешкать, зазеваться, может исчезнуть в один краткий миг. Бубенцов не стал тратить время на поиски стакана, схватил заветную бутылку, поднёс к губам, как пионерский горн, запрокинул голову и принялся трубить... вливать терпкую жидкость в пересохшее горло. Заливая тревогу, заминая маету, беспокойство... словом, всё то, что зовётся у порядочных, благочестивых людей словом «совесть».
И тут его озарило! Бубенцов пил, скосив глаза, и вдруг понял, что находится-то не где-нибудь, а на собственной своей кухне. Да, на своей собственной кухне! Поперхнулся, закашлялся. Умолкла пионерская труба. «Но пулей вражеской сражённый...» Сквозь выступившие слёзы озирал озарившееся озорное пространство. Кухня была его! Правда, с несколько иным набором мебели. С немного иной расстановкой предметов, с иным рисунком обоев. Какой-то шутник, вероятно, всю ночь... И ещё он понял, что и спальня, где ночевал, и коридор, по которому прошмыгнул, и расположение сортира с ванной — словом, всё-всё-всё устроено здесь точно так же, как в собственной его квартире. Только вместо родной жены злой шутник этой ночью незаметно подложил ему чужую женщину. И поэтому всё в его жизни перевернулось, поменялось местами! Бубенцов проснулся в зазеркалье! Всё, что в родном доме было у него справа, в этой квартире располагалось слева.
Ерошка рывком откинул штору, выглянул во двор. Да, всё правильно. Он был в соседнем подъезде. За окном зеленел привычный двор, но видный с иной точки, искажённый высотою. Он-то жил на пятом этаже, а здесь был, кажется, десятый или одиннадцатый. Если выпасть отсюда, то убьёшься насмерть.
Ерошка ещё раз приложился к бутылке, допил остатки. Открытие перестало пугать, а отчасти уже и забавляло. Хмель постепенно заглушал неврастению. Осмелев, окрепнув душевно, Ерошка двинулся в обратный путь. Задел колокольцы на шее у деревянной коровы.
Роза Чмель уже не спала. Сидела на краю постели, набросив на плечи шёлковый синий халат, расшитый золотыми звёздами. Раскладывала карточный пасьянс на прикроватном столике. Алой атласной лентой перехвачены были пышные волосы. Кажется, вчера тоже были какие-то карты.
— Привет, Розалинда! — проговорил он по возможности естественно.
— Привет, суженый мой! — так же естественно ответила она.
Дружелюбно поглядела на него. Странное и неуместное слово — «суженый» — неприятно кольнуло Ерофея.
— Я там вино твоё выпил, — признался Бубенцов. — Открытое стояло.
— Сам покупал вчера в буфете, — сказала Роза равнодушно. — На Курском вокзале. Забыл уже?
— Ну да, — сказал Бубенцов, оглядывая комнату, выискивая свою одежду.
На кресле. За креслом. И под торшером.
Как можно забыть такое? Про Курский вокзал он не помнил ничего.
Роза не обращала внимания на его осторожные передвижения по комнате. Клонилась над столиком, внимательно что-то высматривая. Всплеснула руками. Бубенцову послышалось, как приглушённый страстный стон вырвался из её груди. Он повернулся, застёгивая пуговицы на белой рубахе. Эту рубашку он любил: подарок Веры на его юбилей, на тридцать пять лет. Пуговица никак не лезла в петельку. Бубенцов глядел на бледное, мраморное лицо Розы, не в силах оторвать глаз от столь совершенной, страшной красоты. Роза вдруг ожила, подняла на него персидские очи свои, нахмурилась, раздражённо смешала карты. Что-то её не устраивало в раскладе. Понадобилось ещё раз перемешать, перетасовать.
— Ты не поверишь! — воскликнула Роза, тыкая алым острым ногтем в грудь карточного короля и удивлённо поднимая соболиные брови. — Снова всё совпало!
Что за женщина! Невозможно не влюбиться, не вспыхнуть хотя бы на краткий миг, не полыхнуть и не сгореть, даже если глубоко, кротко и верно любишь другую, милую...
— Что совпало? — встревожился Ерошка, приметивший с краю пасьянса туза пик. Его-то он опасался, этого чёрного туза.
— Ты когда-нибудь интересовался своим генеалогическим древом? — спросила Роза.
— Знаю, знаю ваши цыганские уловки, — перебил Ерошка. — Это я тебе сам вчера наболтал.
— Так говорят карты. Великое будущее ждёт тебя, Ерофей Бубенцов! Отчего же ты бледен, мой повелитель? Выплюнь проклятую горечь, оставь в устах медовую сладость измены. Ты должен быть выше совести и морали.
Ерошку передёрнуло.
— Скажи мне, — вглядываясь в лицо гадалки, спросил Бубенцов. — Ты это всё выведала у Горпины Габун? Та ведьма со сросшимися бровями тоже плела что-то подобное.
— Нет, — проговорила Роза равнодушно. — Никто не говорил. Карты показывают.
— Ну и что они показывают?
И тут, перебирая масти, Роза Чмель принялась ровным голосом выкладывать такие подробности из прошлой жизни Бубенцова, о которых он сам давным-давно даже и думать забыл.
— Когда умер твой прадед, тебя отдали в детский дом. Но очень скоро ты опять встретил прадеда...
5
Это было правдой. Однажды их привезли в Третьяковскую галерею. На картине Васнецова «Баян» в старце с длинными седыми космами, развевающимися на ветру, Ерошка узнал своего прадеда. Ничего особенно не связывало Ерошку с прадедом, который не сказал ему за всё детство ни одного слова. То ли прадед забыл уже все человечьи слова. То ли давно уже сказал людям всё и больше не нуждался ни в каком общении. Целые долгие летние дни маленький Ерошка проводил с ним на Угре, сидя в рыбачьей лодке. Они кружили в тихих затонах, где у прадеда были расставлены сети.
Солнце пылало в самом зените, стрекоза неподвижно висела над струящейся водой. Звенящая тишина стояла в мире. Прадед, положив на колени весло, сидел на корме и сквозь Ерошку глядел в какую-то свою даль. Прадед был далеко-далеко, на том берегу, за горизонтом. Ему, как говорили люди, было сто два года.
Ерошка опускал руку в прохладную прозрачную воду, пытаясь поймать водяного жука. Но вода преломляла пространство, жук оказывался не там, где казался. Ерошка ладонью тревожил отражение стоячих облаков. Весь этот долгий-предолгий день они проводили в полнейшем молчании.
Когда на закате солнца возвращались домой, ветерок с реки шевелил невесомые пряди, отводил в сторону длинную белую бороду прадеда. Ничего с тех пор не видел Ерошка белее этой бороды, белее и легче этих развевающихся на ветру невесомых прядей.
Никто уже не помнил настоящее имя прадеда, а уж тем более отчество. Они как будто потерялись во времени, стёрлись, как стираются покрываясь мхом, буквы на камне. Все люди в деревне называли прадеда странным для этих мест прозвищем — Рур. Громом рокотала даль за горизонтом, за рекою Угрою. В суровых древних варяжских горах и отрогах трубили трубы, сработанные из рогов тура. Струны славу ему рокотаху. На самом деле Рур был маленькому Ерошке прапрадедом.
Но откуда, откуда знала всё это проклятая гадалка? Как будто сам чёрт делился с нею своими сведениями. Выкрикивала она, горя глазами, страстно, глухо:
— Потомок Рюрика Новгородского, он же — Ререк, или Рорег, или Рюрик Ютландский, маркграф Рустрингена, наследник ободритского княжества по линии своей матери из династии Гогенцоллернов!
Тут Роза приостановилась, вгляделась внимательно, поднеся карту к самым глазам, а затем торжествующе прокричала:
— Дан! Дан, а вовсе не швед, из династии Скьолдунгов. О, какое великолепное будущее! Слухай, слухай...
Теперь они как будто мечтали вместе. Вернее, Роза озвучивала и рисовала перед его мысленным взором волшебные живые картины. Картины эти, от одной карточной сдачи до следующей, становились всё ярче, всё живее, всё красочнее и соблазнительней! Это был своего рода сеанс психотерапии, основанный на карточных гаданиях, который совершенно бескорыстно провела с ним прекрасная Роза Чмель. Она удивительно точно, в деталях рассказывала ему о его бедном прошлом. Но ещё точнее, ещё убедительнее рассказывала она о блестящем будущем. О будущем, в котором наконец-то воплотятся в жизнь все его самые смелые заветные мечты. И в которое они войдут вместе, взявшись за руки.
— Вчера у нас состоялась официальная помолвка, — сказала Роза. — Это, конечно, формальность. Но мы обязаны соблюсти все пункты.
— Наша помолвка?
Бубенцов не любил затяжных отношений даже и с красивыми женщинами. Справедливо опасаясь тех тягот, что неизбежно при этом возникают.
— Так. Свадьба через полгода, — напомнила Роза. — Не забывай об этом, дорогой.
— Это обычай здесь у вас такой? — стараясь быть ироничным, произнёс Ерошка.
Он надеялся отшутиться.
— Свадьба назначена, — сказала Роза Чмель строго. — Стала бы я отдавать свою чистоту и невинность первому встречному? Как ты думаешь, дорогой?
— Думаю, не стала бы.
— А чему ты усмехаешься?
— Отпадает, — сухо сказал Бубенцов. — Женат уже. И даже, страшно тебе признаться, — венчан! В церкви в Сокольниках!
Роза прикрыла глаза, заговорила:
— Твоя нынешняя жена уверена в себе, спокойна, насмешлива. Тактична, снисходительна к твоим слабостям. Что говорит об её уме. Экстраверт. Ей свойственна погруженность в собственные мысли и чувства, отсюда некоторая милая рассеянность. Но притягательная замкнутость её души заставляет тебя нервничать и переживать.
Бубенцов чувствовал, что чертовка говорит как по писаному, выражается чужими, казёнными словами. Но поразительно верны были эти слова. Все попадали в точку.
— Венчание действует только на верующих, дорогой.
— Пусть так. Это неважно. Хотя в определённой степени я верующий человек. А важно вот что. — Бубенцов похлопал себя ладонью по левой груди. — Место занято.
— Ты любишь её! Зачем же ты спал со мною, дорогой?
«Зачем-зачем?.. А и вправду, зачем?.. А — ни за чем!..»
«Пьяный был!» — намеревался сказать он, но не сказал. Ибо это могло быть воспринято как тяжкая обида. Дурацкий, тяжёлый разговор становился всё более неприятным для Бубенцова. Роза Чмель при всей своей красоте, кажется, была порядочной дурой. К тому же навязчивой, назойливой дурой. Но напрасно она оплетает его своей золотой паутиной. Нужно поскорее покинуть место преступления. Пока паутина эта легко рвётся, пока не превратилась в крепкие узы.
6
Бубенцов накинул на плечи куртку, подхватил сумку. Роза Чмель провожала. Он слышал за спиной лёгкое постукивание каблучков. В прихожей Бубенцов сунул ноги в ботинки, повернул ключ в замке и, отворив наконец входную дверь, в последний раз обернулся с порога.
Тьфу ты!.. Кровь кинулась ему в виски, перехватило дыхание в горле. Роза стояла в прихожей перед тремя зеркалами трюмо совершенно голая и, подняв руки, возилась с волосами, подвязывая их белой лентой. Шёлковый синий халат упал к стройным ногам. Ажурный пояс, чёрные чулки, алые остроносые туфельки. Банально и пошло, да. Но ведь и бьёт наповал, не правда ли, Ерошка? Ну что ты будешь делать?! Сшибает с катушек. Бубенцов потянулся к ней, но, к его счастью, Роза повернулась лицом и оскалила зубы. Ледяной свет брызнул в глаза. И это отрезвило его. В каждом зубе сверкало по бриллианту. Мода эта на вставные зубные алмазы только-только зародилась на одном из показов, на подиуме в Лихтенштейне, и была не совсем привычной, ещё не вполне овладела...
— Это устранимо, — спокойно сказала Роза Чмель. — Тебя, как я вижу, не известили. Решение принято. Твой старый брак считается недействительным, подлежит аннуляции. На нашу свадьбу будут приглашены особы всех династий Европы.
— Всех династий?
— Всех.
Эти слова настольно ошеломили Ерофея Бубенцова, что он, выйдя уже на лестничную площадку, ещё около минуты успокаивался, прислонясь спиной к железной двери квартиры Розы Чмель.
Бубенцов долго спускался на лифте. Перед тем как выйти из подъезда, ощупал пальцами потайной карманчик, что устроен был у него под ремнём на поясе. Что-то там оставалось. Вчера он получил от Шлягера аванс в пятьдесят тысяч. За роль царя. Десять новёхоньких бумажек. Бубенцов просунул два пальца в тесноту загашника, вызволил остаток денег. Это были сложенные в четверть две купюры. Значит, восемь таких купюр он вчера расшвырял, распылил.
Бубенцов выглянул во двор. Душою владело странное ощущение, будто выглядывает он не из соседнего подъезда, а с того света. Реальность самым решительным образом поменялась. Всё было привычное и в то же время почужевшее. Знакомый мир глядел на него как будто настороженно, исподлобья, насупясь. Всего лишь потому, что двор повернулся к нему немножко другим ракурсом.
Много, слишком даже много событий происходило в его жизни. Но самая неразрешимая загадка состояла в том, что ему не удавалось далеко убежать от себя, от своего собственного дома. Куда бы ни влекла судьба, куда бы ни заносили пути окольные, он всё равно оставался в центре мироздания. Поплутав несколько часов, оказывался здесь же. Либо через улицу, в подвалах дворца, либо после целой ночи пьяных скитаний просыпался в соседнем подъезде. Как будто влекло его по замкнутому кругу. Коло его ока... Театр, кабачок, замок, три вокзала, больница, дом. Всё рядом, всё по соседству.
Из этого следует, что вполне возможно, даже сам шумерский царь Гильгамеш, повидавший всё, гонимый неуёмной жаждой славы и бессмертия, на самом-то деле не слишком далеко уходил от себя!
Глава 14
Воля мёртвых
1
Лифт тяжело поднимал Бубенцова. Поскрипывая тросами, протискивался сквозь толщу этажей. Так батискаф, обременённый грузом ядовитых водорослей, поднимается из океанской бездны, из самой глубокой и тёмной впадины. Полосы света проплывали по полу кабины. Где-то там, наверху, в пронизанной утренним солнцем квартире, ждала Вера. Чистая, невинная, как ангел в лазоревом венце. Мысли разбегались, прятались друг за дружку.
Лифт всплыл на поверхность. По всему подъезду волною распространился острый запах свежей рыбы, морских водорослей, просмоленных снастей, йода...
Перед дверью в квартиру Бубенцов дрожащей ладошкой пригладил вихры. Глубоко вдохнул, надавил кнопку звонка. Знал по опыту, что долгие колебания в иных ситуациях бывают только во вред. Срывать присохшие к ране бинты следует осторожно, но решительно. Неуверенность обессиливает душу, умножает страдания. В ближайшие минуты ему понадобятся бодрость ума, концентрация внимания и острая реакция. Он предполагал, что Вера прямо с порога попытается влепить ему оплеуху. Будет справедливо, хотя и неприятно. Нужно принять заушение с достоинством и смирением. Будет больно, ибо рука у неё тяжёлая, но поднимать локти, отвёртываться от удара не следует. Неудача озлобит и раззадорит. Заставит повторить удар. Следует уклониться, но умело, неприметно, так, чтобы звук пощёчины получился звонким, но сама ладонь пошла немного по касательной. Удар должен принести ей удовлетворение. Но и ему, негодяю и паскуднику, кара необходима для некоторого духовного облегчения. Телесная боль отвлекает от внутренних переживаний, утишает муку от укоров совести.
Сейчас дверь отворится и... «А ты думала когда-нибудь, Вера, вот о чём... Легко ли жить человеку грешному? Да, радостно быть ангелом! Таким, как ты, Вера, таким, как ты. Более того, Вера... Умри этот грешник сейчас, кто пожалеет о нём? Никто. Даже и сам я не пожалею ни секунды. Поделом! Но в детстве был он сиротой, Вера. Вспомни, Вера, о том, как жил он сиротой...»
«Прекрати, сволочь...» — скажет Вера, но голос её даст трещинку.
«Вспомни, Вера, — станет расшатывать подонок, — вспомни его детство, полное обид и унижений. Однажды ему дали конфету “Белочка”, но украл ту конфету Васька Бородич...»
«Молчи, гад! Не надо жалить моё сердце!» — крикнет Вера, и голос её увлажнится от жалости.
Не успела дверь отвориться на всю ширину...
— Я знаю твою тайну, Вера! — заявил Бубенцов с порога.
Это сказалось само собой, от одного только трусливого желания хоть как-то прикрыться, оттянуть миг расплаты. Сказалось бессознательно, без участия мысли. Вера побледнела, отступила на полшага в глубь прихожей.
— Вера, мне всё известно, — тянул он, не зная, как продолжить.
Вера приложила руки к горлу. И такой святой наивностью сияли прекрасные очи жены, что вынужден был схватиться за грудь свою и Бубенцов. Сжалось сердце его от любви, жалости, раскаяния.
— Что ж ты про деда молчала? — спросил Бубенцов.
— Про какого деда?
— Про такого... Твой дед — масон!
Бермудес учил, что при знакомстве с девушкой следует поразить её воображение словами загадочными, неординарными.
— Это они тебе сказали? — произнесла Вера, делая особое ударение на слове «они». — Но... Во-первых, не масон! Он из старинного рода Репьёвых.
— Как же это не масон, когда масон?! — Ерошка говорил это, уже нагло вешая куртку на крючок. — Третьего не дано!
— Почему третьего не дано?
— Потому что обратного хода нет. Система не позволит! Выход из пирамиды только вглубь. В сырую землю! В преисподнюю.
— Понятно. Книжку прочитал, — сказала Вера. — Про всемирный заговор. Старичок у нас лечится. Учёный. Тоже прячется от масонов. Тебе-то какая разница, управляет кто миром или не управляет?
— Это резонно, Вера, — согласился Бубенцов. — Тут ты права. Управляет или не управляет? Вот в чём вопрос. А им легко ли, подумай! Управителям-то. Представь себе, их деды-прадеды тысячу лет выстраивали систему. Передали богатство, власть, все свои мерзкие тайны. Наследники обязаны выполнять волю мёртвых. Даже пропить и прогулять не могут наследство.
— Пропить-прогулять? Стой, гад! — опомнилась Вера. — Ты где был этой ночью?
Вера врезала ему по морде. А Ерошка-то совсем было расслабился, потерял бдительность. Искры брызнули из глаз! Совсем как в прежние счастливые времена, как в самые ранние годы брака. Ерошка отскочил к стене. Получил ещё один удар. Сквозь звон услышал голос Веры:
— Ах ты, скотина!
И ещё один оглушительный удар последовал за этими словами. Обида вскипела в сердце Бубенцова.
— Да убоится жена мужа своего!
— Да устыдится муж жены своей!
— Ах, ты так? — огрызнулся Ерошка. — Драться! Вот же зараза! Обижать детдомовца? Да убоится!
Он кинулся навстречу Вере, налетел на неё, навалился. Она же, гибкая, упругая, яростная, дикая и увёртливая, трепетала, билась, выскальзывая из рук. Он чуял, как опытный боксёр, по движению её живота, по развороту бёдер, что она готовит ещё один коварный удар. А потому попытался связать её, вошёл в более тесный клинч. Обхватил её за плечи, вязал руки, прижимал к стене. Тело её трепетало, пружинило. Грубый, прямолинейный бокс уступил место искусству борьбы самбо. Самбо в свою очередь перешло в более плавные и тесные переплетения классической греко-римской борьбы. И уж неведомо как это у них получилось! Её сухие волосы упали ему на лицо, закрыли мир, он задыхался, никак не мог сдуть их, а руки были заняты... Как так выходило всегда, что всякий раз поединок заканчивался на ковре, или на диване, или даже на голом полу?
— Сволочь, гадёныш, подлец... — по инерции ругалась она, закусывая губку, сражаясь яростно, энергично. Но схватка была уже иного рода. И ругался только её задыхающийся голос. Бубенцов выпал из мира.
Они и в прошлые разы ни разу не смогли чётко зафиксировать тот момент, когда и каким образом с них обоих облетала одежда. И почему, почему она всегда в итоге оказывалась сверху? Почему?
2
Он осторожно сдвинул Веру, выбрался, сел на полу.
— Где я был? Подарок тебе покупал! Вот где я был!..
Бубенцовым овладело дьявольское, лживое вдохновение. Он принялся говорить о вещах, о которых час назад и думать не думал. Рассказывать о планах, которых и в мыслях никогда не имел.
— Давно хотел сюрприз устроить. Помнишь, поместье рядом с дачами?
Вера села по-турецки, повернулась к нему, сдунула упавшую на глаза прядь:
— Там, где ворон живёт?
Дыхание её ещё не вполне восстановилось.
— Да, там, где наш ворон. Где мы сок берёзовый с коры слизывали. Я хочу купить. Это самое поместье. Для тебя! — объявил Ерошка. — В принципе почти договорился. С хозяевами.
— Не может быть!.. Врёшь!
Глядя в её счастливые, хмельные глаза, он и сам радовался вполне искренне. Он и сам в эту минуту начинал верить. Открыл дверь в ванную.
— Мой шампунь не трать, — сказала Вера. — Дегтярный бери.
А потому что пол твёрдый, вот почему...
«Боже мой! — думал Бубенцов, ныряя в ванну. — Никакая другая не сравнится. И близко не... Эх, Вера, Вера...»
Как всегда в такие вот минуты, когда вина перед нею особенно остро томила его, он беззвучно шептал, чтобы тот огонь, который медленно сжигал её жизнь, перекинулся на него. Замечтавшись, он то и дело проваливался в воду с головой и, хлебнув пены, выныривал, откашливался. Чувство собственной жертвенности переполняло сердце.
— Господи! — шептал Ерошка. — Если только Ты есть! Сделай так, чтобы Вера оказалась в раю! И если надо мукой искупить вину, то не мучь её! Переложи её грехи на меня!..
Он произносил безумные, страшные слова, с силой стискивал веки, чтобы избавиться от солёной влаги, назревавшей в глазу. Ему мнилось, что это искренние слёзы раскаяния. Хотя на самом деле то были слёзы самоумиления.
Слеза сорвалась, прокатилась по щеке. Она была холодной в сравнении с горячей водой, которой была наполнена ванна. Как прозрачная капля берёзового сока, сползающая по белой коре. Воспоминание об этих весенних берёзах выплыло на миг и угасло. Слишком много перемен в чувствах пережил он в последние часы, а потому настроение его никак не могло установиться, успокоиться. О чём были его мысли? О чём, о чём этот волнующийся океан, этот налетающий ветер, то и дело меняющий направление, эти изменчивые образы, перетекающие друг в друга? О чём эти меняющиеся цвета, обрывки воспоминаний, всплывающий звон, затихающий шум? Зачем облака, двигаясь и клубясь, принимают именно эти образы, а не какие-нибудь иные? О чём движение света и теней, перемежающихся настроений, неровных ритмов, берёзовых стволов, прозрачных капель, вспышек и озарений? Эти возникающие и исчезающие миры люди условились называть — мыслями. Но что дано нам выловить из непрерывного потока, удержать, обездвижить, зафиксировать? Кое-что, только кое-что. Да вот беда, пока фиксировал это «кое-что», всё самое главное, огромное, необъятное, — растаяло, ушло, убежало. А ведь как ярко вспыхнуло! Вспыхнуло на краткий миг — и погасло, ушло под спуд, забылось, вытеснилось, сменилось иными образами. В сущности, фиксируя мысли, мы оказываемся в трогательной роли простака, набравшего полную шапку солнечных зайчиков и силящегося внести их в дом.
И всё-таки кое-что сохранилось. Вот эта мысль, вот этот пафос, вот эта возвышенная тирада. В том приблизительном виде, в каком удалось её запечатлеть. Всплывёт она ещё один раз, вспыхнет в сознании Бубенцова, но гораздо позже. В самом уже конце, когда будет он стоять на высокой насыпи, оглядываться на прожитую жизнь. Всплывёт вдруг, а он и не поймёт, откуда это взялось. Из каких бездн поднялось?
Ни из каких! Вот в чём весь ужас, Ерошка. Человек на самом деле — пустой! Ничего в нём не хранится! Память — это не альбом с застывшими навсегда семейными фотографиями, не магнитофонная лента с мёртвыми записями разговоров, не связка писем, не чердак с выброшенными старыми вещами, не киноплёнка со сценами свадьбы, не компьютер с сохранёнными файлами, не музыкальный отрывок, залетевший из прошлого... Ничего этого нет. Память обитает не в прошлом, а всегда живёт сейчас.
Нет, оказывается, никаких воспоминаний, не хранятся они в сознании и в подсознании человека, не складируются в неких отделениях мозга. Всё бывшее конечно же не пропадает, не исчезает, но хранится это бесценное богатство не в нейронах человека. То, что кажется воспоминанием, на самом деле не воспроизводится, не извлекается из каких-то личных глубин. Когда в свой смертный час подумает Бубенцов о Вере, о совместной прожитой жизни, то вовсе не память будет говорить в нём, вовсе не память!.. Нет никакого прошлого! Прошлое всегда заново рождается в сердце — здесь и сейчас!
Ерофей отмывался тщательно, мылил себя тремя мылами, тёр бока тремя мочалками. Волосы полоскал в трёх шампунях. В дегтярном, в ромашковом, и в драгоценном, Верином. Чем он мог ответить Вере, чем? Как отплатить за великую её наивность, за святую простоту?
«Много есть чудес на свете, человек же всех чудесней!» Так говорил Софокл. «Но нет ничего чудесней русской женщины!» Так думал Ерофей Бубенцов. Карл Пятый, римский император, конечно, к тому присовокупил бы, что нашел бы в русской женщине великолепие испанки, живость француженки, крепость немки, нежность итальянки...
Через час чистый, душистый Ерошка сидел в халате, пил чай на кухне. А Вера, отвернувшись, драила железным ёршиком подгоревшую кастрюльку.
— Ландышем пахнешь, — сказала Вера.
А ему, дураку, послышалось — «ладаном». Возмечтал-то ведь, сукин сын, о своей жертвенной святости. Рисовал сладкие картины, как, стоя по горло в адском огне, платит муками своими за её вечное блаженство.
Глава 15
История любовная
1
Жизнь, кажется, полностью восстановилась, вернулась в берега, потекла в привычном русле. Отчего бы ей, этой жизни, не течь всегда ровно, плоско, плавно? Не выходя из берегов, не сокрушая всё вокруг. Так на следующий день после измены и примирения, потягиваясь в постели, размышлял Бубенцов в светлых сумерках наступающего утра. Едва-едва рассветало, на улице моросил дождь. Рядом тихо, целомудренно дышала жена.
Грозовые тучи, что носились в последние дни, сшибаясь, высекая молнии над его головой, больше не тревожили. Чуть-чуть только погромыхивало, но в отдалении, за горизонтом. Душою Бубенцова больше не владело смятение.
Он тихо вздохнул и уснул снова. А когда проснулся, увидел, что мир и благоденствие установились во всей окружающей природе. На улице трубили машины, солнце светило во все окна. Ерошка вышел на балкон. Блаженно щурясь, залюбовался царским Путевым дворцом, что весело сиял всеми окнами на той стороне. Не хотелось думать, что там, за весёлыми окнами, живёт злой и умный колдун по имени Рудольф Меджидович Джива. Не может, не должно ничто злое и безобразное скрываться внутри красоты!
И тут будто тень от облачка набежала на сердце. Ах, дворец, дворец. Дворец! Он вспомнил, как обнадёжил, порадовал Веру, какие воздушные замки воздвиг накануне вечером, каких нагромоздил несбыточных посулов.
Одно из родовых свойств лжи заключается в том, что она именно «нагромождается». Начав с невинного обмана, человек вынужден для удержания конструкции придумывать дополнительные крепления, подпоры. Сооружение всё более усложняется, всё опаснее кренится на сторону. То там то сям образуются зияющие прорехи, перекосы, провисания, которые надо аврально заделывать, выпрямлять, латать. Всё время приходится громоздить новую ложь в поддержку старой. Непрерывная эта работа требует огромного напряжения, огромных сил и средств. Тем не менее в конце концов всё рушится. В то время как святая правда стоит сама по себе, сама себя держит, укрепляет и стоит сущие копейки.
Ложь, для того чтобы выглядеть убедительной, нуждается в твёрдом фундаменте. Фантазия должна опираться на реальную основу. Когда Бубенцов врал о том, что вот-вот купит усадьбу, он эту усадьбу не придумывал. Использовал реальные развалины, которые оба прекрасно помнили. Ерошка, подобно всякому художнику и сочинителю, сотворил свою ложь из самых точных, правдивых деталей. Именно эти детали положены были в основу зыбких оснований, из которых выросло обещание подарить жене поместье.
Берёза, с коры которой они слизывали холодный сок, стояла на пути к реке Угре, возле развалин старинного помещичьего дома. Вот откуда возникла ложь о поместье! Они когда-то мечтали, как бы они жили здесь, пили чай на резном балконе, глядя на реку, луга и друг на друга.
В ту минуту, когда Бубенцов произносил лживые обещания, память его творила, рождала сияющее, живое прошлое. Они с Верой шли на речку по лесной дорожке мимо разрушенного поместья. Дом выстроен был на крутом берегу. Крыша давно улетела, оставались одни кирпичные стены, заросшие поверху берёзками. Сохранились четыре круглые колонны, сложенные из старинного кирпича. Штукатурка кое-где отвалилась.
Здесь, среди развалин, у них однажды произошло то, что неизбежно должно было случиться. Ерофею казалось, что он вспоминает сейчас об этом эпизоде, а на самом деле прошлое рождалось, творилось заново. Образы подступали, теснясь и оглядываясь, как пугливые лани подходят к водопою. Ерошка замер, притаился в солнечной глубине лесных зарослей.
В самом конце июня, на Купалу, они сели в электричку. Так томительно долго ползла в тот раз электричка по широкому простору, так неподвижно стоял горизонт! Бросили сумки на дачной веранде и отправились по лесной тропинке к речке. Пока шли по лесу, было свежо, сыро, прохладно. Выйдя из леса, оказались в зарослях цветущего иван-чая. Волна сухого зноя накрыла их с головой. Высоко в небе сияли неподвижные белые облака. Раздвигая упругие стебли, Ерошка пошёл через поляну к старинным развалинам, а следом за ним неслышно двигалась Вера.
Душный воздух наполнен был стрёкотом стрекоз, треском и стоном миллионов цикад, звоном кузнечиков, жужжанием шмелей. Всё жило, копошилось, кружило, шевелилось, жевало жвалами, рожало, размножалось.
Ступеньки терялись, тонули в зарослях крапивы. Камни дышали золой и зноем. Их окружали, защищали четыре стены, ни крыши, ни потолка уже давным-давно не было у этого старинного помещичьего особняка. Только небо над головой да каркала, пролетая где-то высоко, ворона. Входя, они коснулись друг друга влажными ладонями, а затем встали лицом к лицу, и первобытный, райский зной обтекал, облизывал их горячие тела. На висках у Веры выступили маленькие капли пота. Тёмным румянцем полыхали смуглые щёки.
Покрывало он уронил к ногам. Она никла перед ним, кротко уронив руки. Опустились веки, сузились зрачки, окружённые сияющим райком, карим, с золотыми искрами. Подрагивающими пальчиками перебирала край лёгкого льняного сарафана, от этого движения волновалась синяя волнистая вышивка по подолу. Сарафан был некрасивый, мешковатый, похожий на серый кокон. Такая невыносимая, безысходная нежность ударила прямо в сердце, перехватила горло, он испугался, что сейчас расплачется. Стиснул зубы и сквозь выступившие слёзы с удивлением наблюдал за тем, как в ярком сиянии оживали, шевелились, расползались круглые пуговицы на её сарафане.
Пылающие губы пересохли, вздрагивали от пульсирующей, толчками приливающей горячей крови. Он протянул руку к её плечу, чтобы коснуться изумрудной застёжки. Но пронзила палец острая боль, Ерошка одёрнул руку. Пушистый шмель снялся с сарафана и, обиженно гудя, пролетел мимо его лица. Но зато ничто больше не удерживало тонких тесёмок, обнажилось беззащитное плечо. Зелёная заколка в виде огромной стрекозы взмахнула слюдяными крыльями, разжала цепкие лапки. Расслабился тугой узел, русые волосы свободно упали, рассыпались за спиной. Сарафан с тихим шорохом облетел с её плеч, рассыпался серый кокон, лёг к ногам. Сердце Ерофея Бубенцова таяло в блаженном безумии. Дух захватило от сияния столь дивной, совершенной, ненаглядной красоты. Как будто чудесная бабочка... Но бессильно, бледно всякое сравнение. Из всех живых созданий, из миллионов совершенных форм, самое совершенное, самое чудесное, самое чистое создание на земле — юная девушка. Ничего на свете не бывает совершеннее девушки в тот миг, когда в ней созрела возможность зарождения новой жизни.
2
Вот как это случилось. Вот как, вот как... А потом он стоял среди битого стекла, среди наваленных серых тряпок, порванных крафт-мешков из-под цемента, обрывков рубероида, шифера, старых автомобильных шин. Скатывал, комкал влажное покрывало. Чтобы чуть позже прополоскать его в реке.
Вера нашла в траве, среди досок и битого кирпича, свою заколку в виде зелёной стрекозы, стягивала волосы. Ерофею стало как-то пронзительно пусто, грустно. Оказывается, не было никаких жалящих шмелей, тесёмки сарафана стягивались обыкновенной круглой пуговицей из цветной пластмассы. Вера стояла боком к нему, искоса поглядывала быстрыми и лукавыми, как показалось Ерофею, глазами. Сомкнутые губы её, придерживая шпильки, смеялись. От того, что произошло, она, кажется, ничуть не смутилась.
Ерошка топтался посреди живописных развалин, осматривался с недоумением. Ничего здесь не узнавал и узнавать не хотел. Глухое место, лопух, крапива в тени ракиты. Жара. У стены под фундаментом, как и ожидалось, наблюдались аккуратные высохшие следы пребывания людей. Две ящерки грелись на доске. Мухи звенели в стоячем зное.
Обернись, оглянись, скажи мне, муза: что это было? Только честно скажи, ничего не прибавляй, не придумывай.
Да. Я скажу тебе... Это был — рай.
Ерошка поднял глаза. Сквозь амбразуры окон видна была речка, полная полуденных бликов. Закопошился кто-то сверху, взмахнул тёмными крылами. На сухом обгорелом дереве дремал большой чёрный ворон. Свесив тяжёлый, чуть приоткрытый от жары клюв, склонив набок голову, глядел свысока на Бубенцова. Чего он только не перевидел за триста своих лет, этот чёрный ворон с сизым отливом!
Бубенцов вышел наружу. Вера уже сидела на поваленном стволе древней ветлы. Под той берёзой, с которой будущей весной, когда поженятся, они будут слизывать холодный сок.
Этот белый ледяной ствол вспыхнул теперь так ярко, так живо встрепенулось прошлое, наполнилось движением, объёмом, заиграло красками, запахами, звуками. Ерошка Бубенцов затомился, путаясь во временах. Та будущая весна давным-давно прошла, берёзовый сок, совершив положенный круг превращений, возвратился в землю. Сладко защемило душу, и тоска, острейшая тоска ударила в самое сердце.
Очарованный видениями прошлого, стоял на балконе, щурился от света, глядел через дорогу. Сквозь развалины прошлого всё ещё виднелась солнечная Угра, слепя глаза полуденными бликами. Но всё отчётливей проступала из настоящего косная громада Путевого дворца царицы Елизаветы Петровны. «Хотя... Если неожиданно резко обернуться, — надеялся Ерошка, — то можно увидеть ту благословенную берёзу, которой больше нет, а рядом на сухом обгорелом дереве, которого тоже нет, на самом-самом верху, наверняка увидишь и чёрного ворона, которого тоже...» Но ушла уже из сердца сладкая мука, стремительно стали жухнуть краски, таять запахи, растворяться звуки. Только самую незначительную мелочь успел он разглядеть напоследок, спасти, выхватить из уносящегося, ускользающего потока.
Вот он присел рядом с Верой на ствол древней ветлы, взял её за руку. Оба молчали, глядели на речку, что темнела внизу, в густых зарослях прибрежных кустов.
Так «темнела» река или «слепила полуденными бликами»? Этого, к сожалению, нельзя определить достоверно. Слишком уже неясно видится тот день сквозь гаснущую память. Ясно только одно — они ни словом не обменялись о том, что несколько минут назад произошло в их жизни. Ни единым словом, ни единым впечатлением. Разговор их был совершенно отвлечённым, о предметах неважных, посторонних.
— Удивительно, — сказал тогда Ерошка. — С детского дома мы вместе, а только сейчас произошло всё. Столько времени зря потеряли.
— Время всё равно прошло. Так что не жалей, было, не было. Мы же с тобой всегда. Никогда такого не было, чтобы я тебя не знала.
— А хорошее было когда-то поместье! — переменил тему Ерошка. — Вон там, над колоннами, скорее всего, устроена была открытая площадка. Девушка в сарафане вносила самовар на серебряном подносе.
— Лакей вносил, — поправила Вера. — В белых перчатках.
— Толстая, рябая девушка в сарафане, — стоял на своём Ерошка. — С круглым, как репа, лицом.
Этот день они отмечали как начало семейной жизни. День этот давно сгорел, угас, но от него исходил тихий реликтовый свет, согревающий всю их дальнейшую жизнь. Были ссоры, даже драки, но не было самого страшного, разрушающего, разъедающего — мелких и отвратительных взаимных упрёков, которые так часто превращают семейную жизнь в каторгу и ад.
Им тогда и в голову не могло залететь, что помещичий этот дом когда-нибудь станет их собственностью.
Вот такая сложная, занятная история была у этого старинного дома! История любовная. И заметьте себе — эта история не извлекалась из закромов и копилок памяти, не восстанавливалась кадр за кадром. Весь фокус в том, что она сама собою рождалась, рождалась, рождалась из ничего, из пустоты! Прямо вот сейчас и прямо на наших глазах.
Глава 16
Дочери Хроноса
1
Вера за ночь успела обжиться в своей мечте, кое-что уже по-хозяйски там расставила. Планировала, обустраивала. Собираясь утром на дежурство, говорила из коридора:
— Липы! От главного входа до самой воды посадим липы. В два ряда. Чтобы по липовой аллее бегать купаться. Жёлтый песочек.
Бубенцов, возвратившись с балкона, прилёг, нежился в постели.
— Вётлы! — возразил он. — Только вётлы! Мы в детстве в вётлах себе гнёзда вили.
— Липа благороднее.
— На липы пчела летит, — лениво спорил Ерошка, вспомнив, что есть липовый мёд.
— Доброго человека пчела не жалит.
Ерошка прикрыл глаза. Зажужжал знойный полдень, вспыхнуло ослепительное солнце, липовая аллея отбросила узорчатые тени на золотой песок...
— Ладно, — улыбнулся он. — Липы так липы...
И тотчас погасла улыбка. Слова отбросили неожиданные тени — влип так влип. Чем твёрже обнадёживаешь человека, чем больше земного счастья сулишь ему, тем больнее разочаровывать. Обещал мнимое, а отбирать приходится как бы уже настоящее.
Отнимать надежду у Веры следовало не сразу, а постепенно, маленькими долями. Жаль было, конечно, разрушать наивную радость жены, но никакого иного выхода не просматривалось. Приняв холодный душ, несколько раз приказав себе «не унывать», Бубенцов пришёл в обычное своё весёлое, бодрое состояние. Когда вышел из ванной комнаты, Веры уже не было. Ушла на дежурство.
По дороге в офис снова и снова как будто тень светлого облака осеняла его. Щурясь, проходил по солнечному лесу прошлого. Мешались липовые аллеи, вётлы выводили к берегу Угры. Спохватывался, видел ясени на набережной, тополя на том берегу бетонной Яузы. Насвистывая, шёл по набережной, уступил дорогу двум довольно крепким девушкам в спортивной одежде. Девушки бежали вдоль Яузы в сторону спорткомплекса Высшего технического училища имени Баумана. Обе студентки улыбнулись ему в ответ и пробежали мимо. А он приостановился и, опершись о чугунный парапет, долго ещё смотрел вслед одной из них. Впрочем, вторая тоже была недурна. Бежали они размеренной крупной иноходью, и волосы у обеих, собранные в лошадиные хвосты, слаженно, широко раскачивались из стороны в сторону в такт бегу.
Он подумал, как хорошо, что вдобавок к природным достоинствам девушки эти обладают дополнительными совершенствами. Например, могут разъяснить принцип действия маятника Фуко. Или способны вывести формулу, по которой совершается энтропия вселенной. Математический склад ума повышал их привлекательность. Увеличивал шансы на успех в борьбе за существование. Но конечно же ни одну из этих девушек нельзя было сравнить с прекрасной Розой Чмель. При воспоминании об измене улыбка сошла с лица Ерофея. «Шиш тебе, а не свадьба!»
Омрачённый воспоминанием о Розе Чмель, вошёл в офис. Настя и Агриппина при его появлении встали с мест, склонили головы. В строгой белоснежной униформе, в красных чулках, кружевных передниках и крахмальных кокошниках — они похожи были на медсестёр не из обычной городской лечебницы, а из элитной заграничной клиники. От Насти вдобавок приятно пахло дорогим шоколадом.
Вид же Матвея Филипповича, который по-домашнему пил чай за своею конторкой, роняя крошки батона, составлял с девушками разительный зрительный диссонанс. Филиппыч, несмотря на все усилия, предпринятые Шлягером, крепко сидел на прежнем своём месте. Он точно так же насупливал седые брови, не узнавал Адольфа, когда тот входил по утрам в офис. Общался с ним холодно, неохотно, только по крайней нужде. Отвечая, глядел в сторону.
Филиппыч, как и все здешние сотрудники, поверх своего кителя надевал белый халат. Но только из какого-то принципа, исключительно ради противоречия Шлягеру, халат свой он в рукава не продевал, а набрасывал сверху. В таком виде был похож на военного фельдшера.
Карандашик торчал из нагрудного кармашка, как градусник у доктора Айболита. Пористый круглый нос, щётка усов под ним. Разумный образ пожилого алкоголика, навсегда бросившего пить. В конце концов Шлягер признал, что психологически это очень неплохо, когда входящего с улицы посетителя сразу же встречает белый халат с кителем, лысина с пушистой опушкою, белые кустики бровей, добрый взгляд поверх круглых железных очков. Может показаться литературной банальностью, что вахтёр назван Филиппычем. Вот, дескать, фантазии-то у автора кот наплакал. Избитыми тропами ходит. Интересно, что сказали бы эти снобы, если открыть полное имя и фамилию старика? Извольте. Кащенко Матвей Филиппович.
— Доброго здоровья, Ерофей Тимофеевич! — приветствовал Бубенцова Матвей Филиппыч Кащенко. — Паразит здесь уже...
Ерошка заметил, что старик прячет в ящик стола книгу, обёрнутую газетой.
— А что у тебя, Матвей Филиппович, глаза красные? Опять «Песнь про купца Калашникова» читал?
— Читал, Ерофей Тимофеевич, — горько вздохнул страж и шмыгнул носом. — Вы же знаете, слабость моя. Не могу без слёз. Казалось бы, сто раз уж читано. А как дойду до концовки, за душу так и схватит, слёзы так и брызнут. Эх! Вот уж как за честь жены своей постоял. Не каждому дано. Я слышал, Ерофей Тимофеевич, что и вы обидчика жены своей из ружья подстрелили?
— По окнам, старик, — усмехнулся Бубенцов. — Всего лишь по окнам. Да и то перед тем водки выпил. Для куражу. А так-то я робкий.
Неожиданное воспоминание о том, как он стрелял из двустволки по окнам обидчиков, а главное, то, что легко он тогда отделался, привело Ерошку в приятное расположение духа. Насвистывая, Бубенцов направился в приёмный покой. Приветливо кивнул Шлягеру, отвернулся к стенному шкафу, где развешана была их офисная униформа.
— Как ты думаешь, Адольф, — спросил Ерошка, переодеваясь, — обладают ли девушки с математическими способностями какими-либо преимуществами в постели? Не повышено ли содержание тестостерона у мыслящих девушек?
— Напрасно такие опасения тревожат вас, — ответил Шлягер и принялся негромко напевать какую-то мучительно знакомую песенку. Но так перевирал мотив, что Бубенцов не смог определить, что это за песня.
Шлягер прервал пение, спросил самым будничным тоном:
— Ну что? Не передумали покупать поместье?
Ерошка вздрогнул, улыбка сошла с лица.
— Откуда тебе известно?! — не поворачиваясь, спросил он.
— Что именно известно?
— То, что я Вере наобещал. Про поместье на Угре. Откуда ты узнал про это? Признавайся, гад!
— Так мы же с вами говорили позавчера! Целых полчаса вы толковали про этот берег реки. Про своё несчастливое детство. Про мечту. Прадеда Рура своего поминали. Плакали даже на плече моём. «Вещий Баян». А-а... Вы уж позабыли. Понятно, — закивал Шлягер, улыбнулся понимающе. — Это было уже в «Асмодее».
— В «Асмодее» я плакал на плече?
— Огненными слезами, друг мой. Огненными слезами!.. Я тогда же, после интимного разговора нашего, навёл справки. Хочу вас обнадёжить. Поместье, о котором вы мне так эмоционально говорили, как раз выставлено на торги.
— Да неужели? — поразился Ерошка. — Но я ведь, честно говоря, ничего покупать не собирался. Так... в мечтах. Да и средств таких нет.
— Ерофей Тимофеевич! — воскликнул Шлягер. — Молчите! Ни слова больше! Иначе конец дружбе! Вы поступили правильно. Ложь во спасение! Вы начинаете усваивать тот дух, который нужен. Тот дух, который нам-то и нужен! Знайте же, те силы, что до сих пор раздавали вам свои благодеяния, будут содействовать и впредь всеми имеющимися в их распоряжении средствами.
— Что это значит? — растерянно произнёс Бубенцов.
— Это значит, что юридический хозяин недвижимости устранён. Устранён сразу же по окончании нашего с вами разговора в «Асмодее». Хозяин имения покончил с собой. Так уж сложилось, так удачно совпало. Повесился в расцвете лет! Представьте себе. Это, если вам интересно знать, гражданин наших южных губерний, житомирский прокурор Шпонька. Впрочем, имя это вам ни о чём не скажет.
2
После обеда прогуливались по берегу пруда. Бубенцов выведал у Адольфа кое-какие подробности жития прокурора. Разбирали дело Шпоньки киевские следователи, сами большие мошенники. Но даже и они удивлялись изворотливости воровского ума. Более же всего Ерошку поразило то, насколько глубоко овладевает жадность сердцем и умом человека. Можно было спастись, отдав следователям часть награбленного. Но Шпонька выстрелил себе в сердце из револьвера. Назло. Не уступил врагам своим и малой доли земного имущества. Шлягер объяснил это феноменом знаменитого хохлацкого упрямства, которого нельзя преодолеть доводами разума.
— Ты, кажется, говорил, что он повесился, — напомнил Бубенцов, выслушав монолог Шлягера.
— Успел нажать на курок, — находчиво пояснил Шлягер. — Шагнул со стула и, прежде чем петля сомкнулась вокруг выи, нажал на курок.
— Значит, накинул петлю, а потом на лету...
— Те две девушки, о которых вы спрашивали намедни, никакого отношения к Высшему техническому училищу имени Баумана не имели, не имеют и иметь не будут.
— Ты ловко умеешь уклониться от вопроса. Мне глубоко наплевать на этих девиц.
— Это дочери Хроноса, — ещё дальше уводил Шлягер.
Сказано было так просто и естественно, что Ерошка ни на миг не усомнился в истинности слов Шлягера. Адольф не лгал. Дочери Хроноса! От этой правды открылось небо, обнажился тёмный хаос. Первобытный миф зашевелился глубоко под земною корой, зашатались деревья над курганом, ударила в берег крутая волна. С криком взлетели вороны, волосы шевельнулись на голове Бубенцова. Языческий древний Хронос, пожирающий своих дочерей! В ушах его звенело!
— Таня и Аня, — продолжал Шлягер как ни в чём не бывало. — Хронос, разумеется, не тот, о котором вы сейчас подумали. Банальные ассоциации! Я же имею в виду Глеба Львовича Хроноса, старика патологоанатома, заведующего здешним моргом.
— Ты не простой человек! — только и вымолвил Ерошка после долгого молчания. — Кащенко, Хронос... Можно подумать, что мы находимся в сумасшедшем доме.
— Я бы выразился иначе. Что, впрочем, сути не меняет. Мы живём в совершенно ином мире, нежели представляем себе. Мир цельный, а человек может видеть только малую часть его. И тогда на помощь приходит символика. Мир переполнен символикой. Символика — это связь всего со всем. Всё угадывается во всём. Мир просто ломится от символов! К слову: вы знаете ли, что такое Асмодей?
— Ты имеешь в виду тот проклятый кабак? Где я плакал у тебя на плече?
— Асмодей — это демон похоти и семейных неурядиц.
Бубенцов вздрогнул и замолчал. Он почти забыл о своей измене. Напоминание было неприятно. Шлягер между тем вытащил пискнувший телефон, потыкал пальцем в кнопки, нахмурился. В который раз прошли они мимо пруда, мимо беседки с белыми колоннами, мимо Лаокоона. Бубенцов опомнился, огляделся.
— Что ж мы не спешим на торги? Кружим по больничным дорожкам.
— Опоздали. Эсэмэска пришла. Джива прибрал ваше поместье к рукам! Да вы не расстраивайтесь. Помеху устраним. Поместье будет вашим! Надо только подняться на высшую ступень.
— Поясни. Что значит «устраним помеху»? Застрелить и повесить? Как прокурора?
— Зачем? Есть иные варианты. Почему бы вам, к примеру, не стать хозяином земли русской? Чтобы законно овладеть всей совокупностью имущества, так сказать. А Дживе можно тогда голову отрубить. Указ подпишете, и вся недолга.
Бубенцов опустился на скамейку.
Шлягер, посвистывая, перешёл на другую сторону больничного прудика. Нагнулся, подобрал несколько обломков кирпича. Бубенцов рассеянно глядел на воду, на отражения белой беседки, деревьев, неба, жаркого заката. Думал над словами Адольфа. Закат полыхал на зеркальной глади. Показалось вдруг, что отражение тёмной фигуры Шлягера горит в адском огне. Но только на один миг, друзья мои! Всего лишь на один краткий миг. Шлягер швырнул кирпич, вода взметнулась, заволновалась, пошла кругами. Всё перепуталось, перемешалось. Мир распался на фрагменты. Исчезла и сама фигура того, кто бросил камень.
Глава 17
Радости человеческие
1
Многие из тех, кто бывал хоть раз в Москве, должно быть, приметили сапожный киоск, что стоит неподалёку от выхода с Казанского вокзала. Впрочем, нет уверенности, что киоск этот стоит там по сю пору. Слишком стремительно течёт время, слишком многое меняется. Таких киосков в старину было много, особенно в южных областях. Известно, что обширнейшей сетью киосков владели потомки древних ассирийцев, чьи корни уходят в глубину тысячелетий.
Внешне ничего выдающегося в этих заведениях не было и нет. Маленькое, тесное помещение с раскалённым электрическим нагревателем в углу, с табуретом, деревянной ступенечкой, куда посетитель ставит ногу в грязном башмаке. На распахнутой дверке выставлен сопутствующий товарец — разноцветные шнурки, стельки, пузырьки с краской, баночки с сапожным кремом. Внутри на низенькой скамеечке сидит обычно толстая, усатая тётка с родинкой на щеке или смуглолицый, сутулый чистильщик. Сгибаясь, усердно и умело работает щётками, наводя блеск на туфлях. Видно, что чистильщик работает на совесть, ему нравится, он испытывает настоящее наслаждение от любимой работы. Тем более когда попадаются туфли остроносые, из хорошей кожи. Вот он поднимает смуглое лицо. Глаза его смотрят серьёзно, усы чернеют под носом. Смуглые залысины сияют, точно по ним прошлись полировальной суконкой. Ассириец доволен своей работой. Кажется, попроси его, и он будет работать просто так, без денег.
Придёт второй, третий или четвёртый посетитель, ассириец всё так же склоняется и начинает двумя щётками с усердием обрабатывать обувь. Через минуту обувь сияет как лаковая шкатулка. Особенное же удовольствие доставляет работа над хромовыми офицерскими сапогами.
2
Совещание было назначено на семь часов пополудни. Но это по древнему ассирийскому исчислению. Полубес со своим средним техническим образованием всё время путался в проклятых временах. Зная свою слабость, проверял себя по нескольку раз. Поднял глаза на привокзальные часы, удостоверился, что часовая стрелка стоит вблизи цифры «три». Стало быть, три часа пополудни, или пятнадцать часов. Добавил к цифре — «шесть». По библейскому счёту времени вышло около девятого часа, без десяти минут. Отминусовал два часа и вычислил окончательно, что по ассирийскому счёту у него в запасе ещё шестнадцать минут.
Полубес направился к главному входу в Казанский вокзал. Охранник в чёрной форме покосился на его громадного размера яловые сапоги, двинулся было к нему. Но, поглядев в маленькие глаза, глубоко упрятанные под надбровными дугами, передумал, малодушно отступил. Савёл Прокопович купил эскимо в привокзальном буфете. Сел на лавочку и, отхватывая большими кусками, принялся есть. Подвижный его рот шевелился, причмокивал, крепкие зубы постукивали от наслаждения.
Ровно в шесть ноль-пять подошёл к заветному киоску, склонился и спросил:
— Свободно?
Получив утвердительный кивок, пролез вовнутрь, грузно опустился на невысокий табурет. Поставил сапог на подставочку. Ассириец склонился, мягкой холстиной смахнул пыль.
— Либертэ? — всунул волчье лицо человек в макинтоше и в тёмных очках. Получил такой же одобрительный кивок. Встал в дверях, опершись на эбонитовую трость. Сапожник щёточкой счищал с сапога Полубеса присохшую глину. Там, где щёточка не помогала, подковыривал жёлтым когтем. Судя по этому когтю, хозяином киоска был Вольфганг Амадеевич Скокс.
— Получая корону и титлы, раб должен поклониться тому, кто даёт ему власть, — серьёзно и печально говорил он.
— Опасно, — всунулось в киоск волчье лицо Шлягера. — Узнает, кому поклонился, начнёт исследовать! Ум у него, надо признать, смекалистый.
— Взять за шкирку да и поклонить! — сказал Полубес и хлопнул ладонью по колену. — Человек существо ломкое.
— Нельзя! Должно быть собственное произволение. — Скокс склонился над сапогом Полубеса. — А для этого ему необходимо пояснить хотя бы символику происходящего.
— Это-то и опасно, — снова влез Адольф. — Профан может догадаться о реальном существовании дьявола. Откроет сами знаете какую книгу. Профессор уж несколько раз совал ему. А затем перейдёт к зловредной писанине так называемых святых отцов. И всё! Навсегда утрачен для нашего блага. Сколько душ мы уже обронили на этом пути, страшно вспомнить! Нельзя позволить ему изучать предмет.
— Зачем что-то изучать? — возразил Полубес. — Вот меня взять, к примеру. Мне что за дело, есть этот дьявол или нет его? Меня он, как говорится, никаким боком.
— Вы совсем иное дело, — пояснил Скокс. — Вы твёрдо стоите на реалиях. То, чего не пощупаешь, для вас лишено интереса. Наследник же престола натура эмоциональная, склонный к мистике агностик. Пил много, психика истончилась. На собственном опыте ощутил присутствие в мире духовных сущностей.
— Это не так опасно. Всю его мистику можно и на нервы списать, — подсказал Шлягер. — Мало ли чего с похмелья почудится. Важно убедить его, что всё понарошку. Я уж, ваша серость, разыгрываю перед ним дьявола. Генеральские штаны, лампасы и прочее. Юмор применяю. Хромота, трость эбонитовая, чёрный пудель. Огромных денег, кстати, пудель этот мне стоил! А кормление во что обходится! Страшно вслух-то произнесть! Я там отчётец о расходовании средств приготовил. Одним словом, играю роль. И мне кажется, блестяще! Савёл Прокопыч подтвердит.
— Да, — подтвердил Полубес. — С большим-большим юмором, знаете ли...
— Вот и он тоже. Бубенцов-то. Посмеивается. Дескать, вот какой он, дьявол-то. Один юмор. Но, ваша серость!.. — голос Шлягера стал серьёзным. — Осмелюсь ли спросить вас о существенном и главном?
— Соотнесите вопрос ваш со ступенью посвящения, — строго сказал Скокс.
— Иммер берайт! Итак, в России восстанавливается монархия. Пусть даже, как вы выражаетесь, нам нужен «царь на час». Можем ли мы предполагать, — спросил Шлягер, — что мировая тысячелетняя работа близится к завершению?
— Можете предполагать. Риски есть, но ничтожная доля процента. Я не так давно наблюдаю за Россией. Чуть более трёх столетий. С этой страною происходят забавные вещи. Мы не однажды подводили её к последней черте, а она странным образом выскальзывала из рук.
— Ничтожный, глупый народ, — посетовал Шлягер. — Никогда не умел ценить полезных благ комфорта и цивилизации. Я вот когда был в Веймаре...
— Истинно так, — перебил Скокс. — Я порою прихожу к выводу, что есть нечто фундаментальное в их существе, чего мы не видим, не умеем рассмотреть. Какое-то «добро»? Что это за категория? Как это пощупать? Я даже не представляю, что это может быть? Что конкретно скрывается за этим термином?
— «Добро побеждает всегда, — вставил Шлягер цитату. — Даже если оно побеждено!»
— Что значит этот парадокс? — нахмурился Скокс. — Я понимаю, что, как низшее существо, вы имели какое-то понятие о добре. Даже и до сих пор вы несовершенны. В вашем сердце остаются какие-то обрывки этого самого добра. Ибо жалость и сострадание — это тот сорняк, который весьма трудно поддаётся искоренению.
— Это значит приблизительно вот что, — начал Полубес, споткнулся и глубоко задумался, пытаясь упаковать в слова всё то, что он знал о добре. — Ну вот что касается жалости. Я вот человека придушить могу без колебания. Ибо скот. А собачку... Взять хотя бы ту же Муму. Не знаю, хватит ли духу.
— Я поясню вам в образах, — пришёл на помощь Шлягер. — В аналогиях. Вы, по крайней мере, поймёте хотя бы механику.
— Слушаю вас. — Скокс шевельнул своими рысьими ушами. — Объясните мне парадокс: как может побеждать то, что побеждено?
— Видите ли, — начал Адольф издалека, — мы все служители зла. Свободные мыслящие создания...
Скокс кашлянул предупреждающе.
— Хорошо, хорошо. Прошу прощения. Разумеется, никакие не создания. Оговорился, — поправился Шлягер. — Это всё Фрейд, будь он проклят! Скажем так: свободные мыслящие существа! Не зависящие ни от какого, так сказать, мифического «Создателя»...
— Да, — кивнул Скокс. — Так. Дас ист.
— Мы выбрали стезю бескорыстного служения злу. Подтвердив таким образом приверженность великой идее Свободы! Мы отвергли, как созда... существа мыслящие, глупую доктрину о любви к ближнему и прочее, прочее... Свобода превыше любви!
— Ближе к теме, пожалуйста, — попросил Скокс. — Образнее.
— Образнее говоря, — Шлягер немного обозлился оттого, что собеседник перебил течение мысли. — Вот вам образнее. Вспомните Иова Многострадального! Чем больше вы его ущемляли, тем упорнее он становился. Точно такая схема до сих пор применительна и для них! Вы всеми силами и средствами разрушаете их жизнь, ввергаете в разорения, беды, страдания. А им хоть бы хны! Вы в конце концов убиваете их, мучительно, изощрённо, вы сдираете с них кожу, отпиливаете руки и ноги, они орут, извиваются от боли и умирают в конце концов...
Говоря это, он мельком взглянул на Скокса и поразился тому, как переменился весь облик этого серого, заморённого мыслящего существа. Вострая мордочка Скокса оживилась, глаза горели страстным блеском, всё в нём шевелилось, играло — от колен, локтей до кончиков пальцев. Весь озарился мрачной радостью, рот кривила усмешка, похожая на трещину...
Адольф даже примолк на секунду, жалея лишать столь непосредственной радости своего собеседника. Но всё-таки продолжил, жёстко, беспощадно:
— Жертва умирает в муках и кровавых слезах, оставляя в ваших лапах всего лишь сморщенную свою шкурку, пустую оболочку. Вы вдруг замечаете, что держите в руках сломанную куклу. Да и та на ваших глазах рассыпается в прах.
Скокс глянул на свои ладони, беспомощно оглянулся, точно ища пропавшую куклу, которую только что держал в руках.
— А то главное, ради чего всё это и затевалось, от вас ускользнуло. Более того, именно благодаря тем страданиям, которые вы в радостном экстазе нанесли этому существу, оно теперь блаженствует вечно. Душа его спаслась! Так, по крайней мере, говорят книги.
3
Шлягер замолчал, взволнованно и часто дыша. Боялся, что наговорил слишком много непочтительных вещей.
— Это парадокс, — скептически ухмыльнулся Скокс. — Как может блаженствовать то, у чего отнята материальная основа? Что такое истинное наслаждение? Что вообще есть добро? Вы, может быть, недопонимаете. Разъясняю вам на пальцах.
Скокс растопырил свои короткие пальцы, очень похожие на кошачьи, и стал перечислять наслаждения:
— Радости человеческие совершенно очевидны. Иметь много денег. Вкусно поесть. Выиграть в карты. Напиться вином. Овладеть самкой. А ещё лучше — утроить свальный грех. Это, так сказать, самые распространённые блага.
Шлягер, прислонившись к косяку, одобрительно кивал.
— Затем следует более высокая градация. — Скокс продолжал топырить пальцы. — Искупаться в лучах славы — раз. Возыметь власть над ближним — два. Казнить всякого по своему произволению — три. Разве есть хоть малейший изъян в моих рассуждениях? Разве не это составляет суть добра?
— Это точно, — согласился Полубес. — Даже дурак понимает.
Но Скокс по-видимому не расслышал реплику Полубеса, весь погружён был в свои приятные мысли.
— Вы не представляете, сколь разнообразны виды добра! — вдохновляясь, воскликнул Скокс. — Как улучшается самочувствие, если сделать пакость ближайшему своему соседу! Довести кого-то до самоубийства или понаблюдать за тем, как спивается, деградирует твой знакомый. Ведь это же самый верный способ возвыситься над всеми, когда окружающий мир деградирует, опускается всё ниже.
— Плюнуть сзади красивой женщине на воротник, — подсказал Шлягер.
— Скажу вам откровенно, — одобрительно кивнув, продолжал Скокс. — Служение наше князю мира начинается с младых когтей. Краеугольные камни закладываются системой воспитания. С детства забивается колышек, очерчивается коло, за которое заступать нельзя. Недаром мы строжайше запрещаем даже прикасаться к Евангелию. Строжайше возбраняется! Наш девиз: «Не навреди!» Живёт человек, и пусть себе живёт в своё удовольствие. Зачем ему занозу вгонять в мозг, жизнь портить — напрягать совесть, мучить вечными вопросами? Наша задача — обуть, одеть, накормить, устроить комфортную среду обитания. Всё для блага человека! Мы гуманны. У нас умно всё устроено, продумано до мелочей. Диктатуры нашей никто не видит. Человеку кажется, что он сам совершает выбор.
Скокс замолчал. Полубес, воспользовавшись паузой, сказал:
— А этот... Бубенцов-то наш... Дай ему волю, сперва убедится в реальности существования достопочтенного князя. А потом может дальше пойти. Заступить за очерченный круг здравых понятий. Чего доброго, молиться начнёт. Знаю я русский характер. Ни в чём меры нет. Лоб расшибёт, если что. И себе расшибёт, и оппоненту. Русский дурак, одним словом. Опасно.
— Терпение и труд, — сказал Скокс. — Терпение и труд, нетерпеливый друг мой. Европу-то мы уже от ереси этой зловредной избавили. Тысячу лет трудились. И что же? Теперь там за ношение креста — кара, специальная статья закона, хе-хе-с.
— И правильно! А здесь что? Средневековое мракобесие! «Возлюби ближнего»! Чушь какая! Вы оглянитесь на этих ближних. — Полубес обернулся на Шлягера. — Такую гадину возлюбить! Просто уму непостижимо!
— Я вам более того скажу, — вклинился Скокс. — «Люби врагов своих»!
— Врагов! Какая прелесть! Ох-ха-ха-ха-ха... — немного принуждённо рассмеялся Шлягер и в свою очередь поглядел на Полубеса. — То есть такую же гадину, как ближний, но которая ещё и пакостит, вредит тебе.
— Кто тот длинный человек? — ровным голосом произнёс вдруг Скокс.
— Какой человек, ваша серость? — переспросил Полубес, оглядываясь.
— Тот, что полчаса уже наблюдает за нами. Вон он, выглядывает из-за фонаря.
— А-а... Это, ваша серость, дознаватель. Из Таганского отделения полиции, — доложил Полубес. — Как раз нашим делом занимается. Дотошный, сволочь. Везде проникает. Около замка в Красногорске намедни крутился. И фамилия соответствует — Муха.
— Муха эта не слишком ли назойливая? — сказал Шлягер. — Прикажете прихлопнуть?
— Рано, — усмехнулся Скокс. — У мух зрение фацетное. Фрагменты видит, но цельной картины составить не может. Я сам прихлопну эту муху. Но попозже. Ближе к концу.
В это самое время к киоску подошли двое в спортивных штанах и одинаковых кожаных куртках. Один коротконогий, длинноволосый. Сутулый, в кепке. Другой спортивного телосложения, плотный, рослый малый.
— Отодвинься, шлык, — сказал плюгавый, вскинул руку и ловко ткнул большим пальцем в самый кончик носа Шлягера.
Адольф отшатнулся, взвыл от боли и неожиданности, едва не свалился за киоск. Трость упала на асфальт, запрыгала с костяным звуком. Плюгавый в кепке коротко рассмеялся, обнаружив бесстыжую чёрную дыру в зубах. Цвыркнул слюной на ботинок Шлягера.
— Ну что, чурка? — обратился к Скоксу. — Бабки приготовил?
И Шлягер, и Полубес оцепенели от священного ужаса. К их удивлению, Скокс засуетился, как будто даже сконфузился. Вскинулся, извлёк из-под сиденья небольшой пакет, протянул бандиту. Тот приоткрыл, заглянул внутрь.
— Верю, — сказал он. — Но гляди, гнида! Если что...
— У нас точно. — Скокс слегка поклонился. — Будьте уверены. Как в аптеке.
— Гляди, тупарь, — ещё раз пригрозил плюгавый. — Тыквой своей бестолковой отвечаешь.
Полубес сидел без движения. Шлягер одной рукою нашаривал укатившуюся трость, другой потирал уязвлённый нос. Обидчики пошли в сторону Казанского вокзала. Густая толпа пёрла им навстречу, но они легко проходили сквозь толщу народа. Как-то толпа эта сама собою перед ними расступалась.
— Рэкет, — вздохнув и разведя детские свои ручонки, пояснил Скокс. — В месяц плачу им пять тысяч. За «крышу». Дороговато, конечно. А куда ж ты денешься?
Снова присел на низенький стульчик, взял в руки щётки.
— Стоит вам приказать, господин Скокс! — глухо, отрывисто заговорил Адольф Шлягер. — Стоит вам только намекнуть. И я тотчас же! Завтра же утром! Нет, нынче же вечером! Доставлю вам чучела этих рэкетиров.
Голос его окреп, зазвучал торжественно, с рыдающими нотами, как будто он произносил клятву.
— С отлично выделанной кожей. Может быть, даже с узорами. С тиснением и позолоченными ногтями. На ваше усмотрение. Я вижу композицию так: чучело держит в руке собственную голову. За волосы. Пусть это будет светильник.
— Торшер, — подсказал Полубес. — Только колёсики приделать снизу для удобства. Я в «Ашане» видел подходящие. Совершенно бесшумные, с резиновыми ободками.
— Да, — кивнул Шлягер. — Фаза и ноль через ноздри. Включается нажатием на нос.
— Или тычком двумя пальцами в глаза, — снова подсказал Полубес. — От так от делаешь пальцы. Козой... И тык в глаз!
— Это будет символично. Свет миру!
— Успокойтесь, други мои, — сказал Скокс. — Успокойтесь. Рэкету надлежит быть в обществе. К сожалению, рэкет уже не тот, что прежде. Я вот хоть и пытаюсь его искусственно культивировать, воссоздать, но это так, эпизод. Массовости уже нет. А рэкет должен быть. Чем больше зла, тем нам вольнее.
Скокс нагнулся и с бешеной скоростью принялся полировать сапоги Полубеса. Затем оторвался от работы, вскочил и ловким профессиональным движением слепил обе щётки щетиной. Получилось чрезвычайно изящное, символичное завершение разговора. Так музыкант симфонического оркестра вскидывается на заднем плане и, высоко воздев руки, соединяет литавры в заключительном аккорде.
— Тем нам вольнее, господа, тем нам привольнее.
Шлягер и Полубес кинули по пятирублёвой монете в фартук Скокса. Поклонились и двинулись в сторону Сокольников. Некоторое время шли в полном молчании.
— Особая примета, Адольф, — первым нарушил молчание Полубес. — У плюгавого татуировка на пальцах. Я, правда, без очков толком не разглядел.
— Я разглядел, Савёл, — сухо ответил Шлягер. — «Рома».
— Помощь требуется? — спросил Полубес.
— Справлюсь.
Прошли пару кварталов. Полубес иногда выступал чуть вперёд, косился на Шлягера. Наконец не выдержал:
— Вот ты толковал про дьявола. Откуда тебе известны такие подробности?
— Учился богословию, — по-прежнему сухо сказал Шлягер. — В Киево-Могильянской академии.
— Ясно.
Прошли под мостом.
— А всё-таки ты прилгнул, Адольф, — усмехнулся Полубес. — Насчёт пуделя-то. Бешеные деньги, хе-хе... Думаю, ты и таксу эту, скорее всего, украл.
Шлягер промолчал.
Показались купола церкви в Сокольниках. Проходя мимо, каждый трижды быстро-быстро перекрестился. Ну, не перекрестился, конечно. А так, косенько помахал сложенными перстами перед лицом и около груди. В подтверждение своего знания о духовном. То же сделал и Скокс, следовавший за ними на некотором приличном удалении.
Затем пути всех троих ненадолго разделились.
Часть третья
Русский дурак
...Каждое отдельное лицо, преодолевая в себе зло, этой победою наносит поражение космическому злу столь великое, что следствия её благотворно отражаются на судьбах всего мира.
Архимандрит Софроний
Глава 1
Свет миру
1
Однажды в конце мая мальчик встретил гусеницу хищной расцветки. Он, конечно, и прежде видел много таких гусениц, но теперь почему-то обратил на неё особенное внимание. Вероятно, потому, что только вчера высвободился из оков детдомовской жизни с её серой казармой, звонками на подъём, общей зарядкой, столовой, дежурствами, расписанием, казённой муштрой. Ещё вчера томила душу скука последних, мучительно долгих уроков. Ещё вчера, качаясь в рейсовом автобусе, наблюдая за тем, как летит над полями смутное отражение его лица в окне, находился он в неопределённом промежутке между двумя реальностями, когда старая жизнь уже иссякла, закончилась, а новая ещё не началась.
Сегодня проснулся он по привычке старой жизни — рано, в семь часов утра. Можно было повернуться на другой бок и спать дальше. Но так ярко било в окно солнце, так широко хлынуло в душу восхитительное чувство свободы! Наступила уже новая жизнь, первый день каникул. Но главное счастье заключалось в ощущении того, какое бесчисленное множество таких же великолепных солнечных дней у него в запасе! Огромная, беззаботная, нескончаемая, почти вечная жизнь.
Мальчик вышел в сад. И сад конечно же был райским садом, прохладным, свежим, сверкающим от росы. Гусеница сидела на кустике дикого укропа. Жирная, пушистая, с белыми складками и жёлтыми кляксами на чёрных поперечных полосах.
Опасаясь взять её пальцами, мальчик сорвал ветку укропа вместе с гусеницей. Отнёс на веранду. Огляделся, куда бы пристроить. Поставил в пустой аквариум, что пылился на подоконнике. Накрыл сверху сеткой от комаров. Ему пришла в голову отличная мысль: вырастить из гусеницы бабочку и получить пятёрку по биологии у Евы Адамовны, которая его не любила.
Он нашёл тетрадь в клеточку, вывел на обложке красивыми печатными буквами: «Опыты жизни». Расчертил тетрадь по дням, вплоть до середины июня. На первой странице записал: «29 мая. Первый день летних каникул. Поймал гусеницу. Посадил в аквариум для наблюдения».
Целую неделю добросовестно записывал результаты наблюдений. «Гусеница не шевелится. Пасмурно. Вчера был гром и град. Коты дрались за баней». Гусеница казалась мёртвой, но когда он осторожно тыкал иголкой, подрагивала. Ничего иного не происходило. Он сухо фиксировал: «Без изменений». Прошла неделя, эксперимент надоел, записи прекратились. Как-то, проходя мимо, заглянул в аквариум. Гусеница высохла. «Сдохла!» — написал мальчик в тетради и поставил крест. Все его опыты вместе с крестом занимали всего половину страницы. Он немного подумал и внизу, чтобы место не пустовало, нарисовал череп и кости.
Мальчик давно смирился с тем страшным очевидным фактом, что всякая жизнь заканчивается смертью. Эксперимент завершился.
Между тем изменения внутри мёртвого кокона всё-таки происходили. Но они были таинственны, невидимы. Серый кокон, который гусеница сделала для себя, чтобы наглухо затвориться в нём, как в могиле, на самом деле был условием для будущей метаморфозы.
Как-то, разыскивая банку для червей, Ерошка заглянул мимоходом в аквариум. Цвет куколки успел поменяться, она стала почти прозрачной. Ерошка пригляделся, ему показалось, что внутри происходит как будто слабое движение. Он поднял веточку к самым глазам, и в это мгновение оболочка треснула. Из щели высунулись кончики нежных крылышек. Ерошка замер. Сердце его заволновалось. Несколько минут напряжённо вглядывался, боясь сморгнуть и проворонить тот миг, когда бабочка высвободится из кокона.
Но движение прекратилось, ничего больше не происходило. Ерошка спустился в сад, сорвал несколько листьев для корма, а когда вернулся — на стебле высохшего укропа пошевеливала изумрудными крыльями бабочка удивительной красоты.
Ерошка вынес стебель с бабочкой в сад, воткнул под яблоней в мягкую, освещённую солнцем землю. Сидел на корточках, наблюдая, как всё шире, свободнее расправляются крылья. Изумрудно-чёрные посередине, с голубоватым свечением и переливом на волнистых кончиках. А потом бабочка взмахнула крыльями и полетела над землёй. Ерошка поднялся, побежал следом на затёкших ногах, прихрамывая, спотыкаясь. Бабочка летела зигзагами, то падая почти до земли, то взмывая к вершинам яблонь. Полёт её казался неуверенным, как будто ученическим, да так ведь оно и было. Вероятно, она ещё помнила себя прожорливым, толстым, жадным червяком, который с большим трудом ползёт, карабкается по листьям в поисках пищи. Она взмывала и падала, как будто проверяя, испытывая все волшебные, счастливые возможности, нежданно-негаданно открывшиеся в ней. Яркие крылья мелькали меж ветвями. Но вот бабочка резко взмыла вверх и пропала в небе. Ерошка не мог её разглядеть, мешал солнечный свет, который низвергался ему прямо в лицо сплошным водопадом, слепил глаза.
Вечером Ерошка открыл тетрадку «Опыты жизни», нарисовал цветными карандашами поверх чёрного креста, черепа и костей — яркую огромную бабочку, изумрудную, синюю, оранжевую... Для яркости цветов мусолил, смачивал кончиком языка острия карандашей. Долго придумывал, что бы такое написать под рисунком. «Царица вселенной», «Царь мира», «Император неба»... Имена звучные, пышные, выспренние. Так и не выбрал, поскольку все были хороши! Оставил подпись на потом. Это был — как он после узнал, пролистывая в школьной библиотеке каталог, — чёрный махаон. Всего лишь обычный, заурядный чёрный махаон. Про заурядность и повсеместную распространённость читать было досадно.
— Эту историю ты мне рассказываешь уже в пятый раз, — заметила Вера, щурясь на солнышке. — И всегда по-разному.
Они сидели на скамейке парка в Сокольниках. Был уже конец сентября. Порыв ветра пробежал по верхушкам берёз, стая золотых листьев с тихим шорохом посыпалась на сухую траву.
— Это необычная история, — возразил Бубенцов. — У каждого в жизни случается всего две-три подобные истории. Которые переворачивают человека.
— И тогда ты поверил в вечную жизнь.
— Не поверил. Но заподозрил. Очень уж красивая метафора. Так всё символично. Тело человека как будто умирает, а на самом деле...
— Знаю, — сказала Вера. — Рождение в иную жизнь. Надеюсь, так оно и будет!
Бубенцов ничего не сказал в ответ, промолчал. Тема смерти, а уж тем более когда она касалась Веры, его страшила. Что она могла «знать»? Ерошка встал, подал руку, и они пошли по аллее в глубь парка. В тени под деревьями таился острый осенний холодок. Но стоило сделать всего один шаг в сторону, выйти на освещённую солнцем дорожку, как их снова обступал нагретый сухой воздух.
Да, осень этого последнего года была, как никогда прежде, сухая и солнечная. И никогда прежде не проводили они столько времени вместе. Целые дни. Взявшись за руки, бродили в скверах над Яузой, в Лефортовском парке, в больничных аллеях и садах. Не могли надышаться. И жизнь, как бы предчувствуя что-то, напоследок выставлялась самыми лучшими своими сторонами. Синее небо с белыми облаками высоко-высоко поднималось над головой. Аллеи, насквозь пронизанные светом, веселили душу и сердце. Но уже была разлита во всём мире такая тонкая, звенящая печаль!.. Такая печаль, дорогие мои.
2
Но не время сейчас кручиниться, не время грустить! Целая череда самых разнообразных событий произошла именно в это время — в конце лета и в начале осени. Пропал куда-то Роман Застава — правая рука Дживы, исполнитель деликатных поручений. Поиски по горячим следам ни к чему не привели. Не находилось ни горячих следов, ни простывших. Никаких! Словно в ад человек провалился. Вдали от посторонних глаз устраивал Джива допросы, очные ставки. Порой из подвалов путевого дворца доносились глухие крики, удары, восклицания, визг электрической пилы. Всё напрасно! Люди умирали в тяжких муках, раскалывались пополам в буквальном смысле слова, оговаривали близких, признавались в самых тяжких и позорных грехах, страстях, поступках, но про Рому Заставу молчали. Умирали геройской смертью, в скрежете зубовном, потому что нужных сведений сообщить не могли. Не знали. Целая аллея свежих бугорков появилась в дальнем, укромном углу парка Лосиный остров, где некогда закопан был первенец — убиенный Иван Кузьмич. Почему так происходит, бог весть. Знаем только, что по тем же стихийным законам разрастается иногда большая мусорная свалка на том месте, где оставит какой-нибудь безалаберный человек пакет с бытовым мусором.
На столбах и автобусных остановках развешаны были объявления о пропаже. Выявилось вдруг, что ни одной приличной прижизненной фотографии Романа Заставы ни у кого не оказалось. Кое-как слепили из случайных снимков, подрисовали, отпечатали. На прохожих глядел узкоплечий человек с длинными сальными волосами, злой и недалёкий, похожий на батьку Махно. Только вместо папахи надвинута была на мутные глаза большая кепка. Уши оттопырены, тонкие губы сжаты. В награду нашедшему сулили миллион рублей. На третий или четвёртый день поисков пришла в приёмную Бубенцова записка: «Положи под камень возле памятника Ленина шестьсот рублей».
Бубенцов как раз вертел в руках мерзкую бумажонку, когда явился сам Джива. Постучался и тотчас вошёл, не дождавшись разрешения. Ещё не привык, не выработал новый тон отношений. С одной стороны, презирал Ерофея, но с другой-то ранг главы района требовал обращения на «вы». Пока ещё путался Джива.
— Приветствую. Полицию бы подключить, — сказал Джива. — У меня свои каналы, но глава есть глава. Власть.
То ли просьба, то ли приказ, не разберёшь. И добавил:
— Сам-то... Сами. Не видал?
— Не видал, — ответил Бубенцов равнодушно, но, подняв глаза на горестное лицо Дживы, сухо пообещал: — Увижу — скажу.
Обещания своего Ерошка не сдержал. Очень скоро увидел он Романа Заставу! Увидел в самой близи, в расстоянии протянутой руки, и даже рассмотрел внимательно. Но сообщить Дживе об увиденном не отважился. А произошло это свидание вот каким образом. Едва Джива покинул помещение, как в дверной проём просунулось длинное доброжелательное лицо Шлягера.
— Вы позволите, уважаемый Ерофей Тимофеевич?
О, совсем иное отношение! Бубенцов приветливо кивнул.
— Покорнейше вас благодарю! — сказал Шлягер, по-прежнему стоя в дверях и как будто не решаясь войти. — Я попросил бы вас об одном одолжении. Пока кабинет мой на реконструкции, нельзя ли у вас подержать? Оставить, так сказать, на временное хранение. В уголочек поставим, чтоб не стеснять. Я вот тут ещё одну створочку приоткрою, а то не войдёт по габариту.
Шлягер завозился в дверях, ковыряя задвижку.
— Ручная работа, — озабоченно бормотал Шлягер, пятясь задом и волоча из коридора в кабинет Бубенцова нечто громоздкое. — Хрупкое, ценнейшее произведение. Память сердца. Пока скорняка нашли, то-сё... Таксидермистов почти уж не осталось. Умирающая профессия.
С большими предосторожностями Адольф вкатил в помещение массивную конструкцию. Установил на самую середину. Выпрямился, сорвал с конструкции простыню, как с памятника.
— Вива, кесарь! — торжественно провозгласил Шлягер. — Моритури те салютант!
Отступил на пару шагов, как художник отступает от завершённой работы, склонил набок голову, прищурил глаз, залюбовался. Бубенцов не усидел на месте, подошёл поближе, тоже принялся разглядывать сооружение. Шлягер отодвинулся, давая место. Искоса поглядывал на лицо Бубенцова, следя за реакцией.
— Ну? Что скажете? Говорят, первое впечатление самое верное. Я имею в виду художественный уровень.
Впечатление было самое сильное. Ерошка чувствовал, как пошевеливались корни волос, мороз стягивал кожу на голове.
— Безупречно! — похвалил Бубенцов севшим голосом. — Тонкая работа. Мне сперва показалось, что изделие пластмассовое.
— Это потому что лаком покрыто. Бликует. А так-то подлинник. Органика.
— Вижу, что подлинник, — сказал Бубенцов. — Даже и уши оттопырены.
Потянулся, чтобы пощупать изделие, но вовремя отдёрнул руку.
Перед ними стояло человеческое чучело в натуральную величину. С глобусом на месте головы. С отлично выделанной кожей, позлащёнными ногтями. Человек, сделавший чучело, безусловно, обладал тонким чувством меры и целесообразности.
— С наклоном спины мука была! — сказал Шлягер. — Важно было не перегнуть. Чтобы смирение отражалось в фигуре, а с другой стороны наглядный переход от обезьяны к человеку. А так-то функциональная вещь.
Шлягер принялся демонстрировать изделие. Чучело ездило на резиновых колёсиках, раскачивало в вытянутой руке лампу собственной головы, держа её за длинные волосы. На кулаке, сжимающем волосы, сохранена была оригинальная татуировка: «Рома».
— Маму умеет звать! Вот глядите! — Шлягер кулаком ткнул чучело в живот.
— М-ма-а-а! — позвал изнутри скрипучий механический голосок.
— Натурально-то как!.. — заметил Бубенцов. — Берёт за душу.
— Не очень внятно, к сожалению. Концовку сглатывает, — посетовал Адольф, польщённый похвалою. — Полубес идею подсказал. Из куклы старинной вынули пищалку, вставили. Вы в прошлом году куклу выкинули на помойку. Ну, ту самую, с выколотым глазом. Полубес, когда за вами вёл наблюдение, подобрал. У нас ведь ничего не пропадёт. Око за око. А вот ещё вам, глядите! Даю щелбана...
Шлягер толстым ногтем щёлкнул изделие по носу. Выпуклые, как будто удивлённые глаза чучела озарились мягким светом. Широко, от уха до уха, оскалился открытый рот в вечной, немного презрительной улыбке.
— Зуб пришлось вставить, — извиняющимся тоном сказал Шлягер. — У живого-то прототипа дыра смотрелась естественно. А в произведении искусства, увы... Натуральность жизни слишком часто вступает в противоречие с законами искусства. Подправили. Лессинг ещё заметил, что лицо Лаокоона должно быть искажено гримасой страдания. Это если следовать правде жизни. Но по законам искусства даже в страдании должна присутствовать красота и гармония. Мы, как наследники и продолжатели великой древнегреческой культуры, должны твёрдо придерживаться этого принципа! Прекрасное не должно заслоняться житейскими...
— Зачем вы его убили?
— О, тут не нужно мне самому беспокоиться! А уж тем паче вам, случись что! — хитро подмигнул Шлягер. — Я чист пред законом. Умные англичане пословицу придумали для такого случая: «Зачем самому лаять, коли есть собака?» Завальнюк завалил.
— Стоило ради торшера?
— Та-а, — махнул ладонью Шлягер. — Всё равно бы умер.
— Ну, он бы помер позже. Своею смертью. В своей постели.
— Толку-то! Своей смертью. А чем не своя хуже? Сгнил бы понапрасну. А тут сами видите! Свет миру! В комнате отдыха пока пусть постоит. До инаугурации вашей.
3
Инаугурация должна была состояться «в месте светле, в месте злачне». Так выражался Адольф Шлягер. В тех кругах, где вращался Адольф, огромное, исключительное значение придавалось всему символическому. Продвигая во власть Ерофея Бубенцова, они как бы обещали народу светлую эру «злачности», то есть достатка, материального благоденствия.
Шлягер руководил подготовкой мероприятия самолично, не посвящая Бубенцова в докучные детали. Адольф всё время находился где-то рядом, копошился поблизости, постукивал, покашливал за стеной, что-то невнятно пришепётывал, сосредоточенно напевал. Часто забегал к Бубенцову, но только лишь «на секундочку», забывая, впрочем, зачем приходил. Брал с полки случайный томик сочинений Игнатия Брянчанинова, рассеянно шевелил страницы. Затем вдруг хлопал себя ладошкой по лбу, ставил книгу на место и вновь, вильнув своим длинным телом, пропадал за дверью. Словом, вёл себя в высшей степени загадочно. На все расспросы отвечал уклончиво. По-видимому, готовил сюрприз.
В коридорах учреждения шла кипучая жизнь, мелькали озабоченные лица помощников, с которыми Адольф таинственно шептался по укромным закоулкам. Лица эти были по большей части особенные, оригинальные. Вот, держась за руки, вынырнули из-за угла, пробежали мимо Эдик, Вадик и Артур. Следом за ними, звеня медной серьгой в ухе, сгибаясь под тяжёлой треногой, припустил замешкавшийся Гектор. Все четверо скрылись за углом, сгинули.
Ерошка, позабыв, о чём это он хотел спросить Шлягера, проводил их глазами. Выбежал навстречу коротконогий мастер Кукиш с деревянным циркулем в руках. Злой, клокочущий от постоянного недовольства. Раздражение шкворчало в груди его, как будто жарили там сало. Коричневое лицо собрано было в такие морщины, словно он собирался чихнуть или прямо вот сейчас горько заплакать. Этот Кукиш никому не уступал дороги, даже Шлягеру с Бубенцовым. Не из хамства и неуважения, а так уж полагалось ему по должности, позволялось по градусу. Расставленный циркуль опасно поблескивал заострённым наконечником.
— Где же всё-таки будет проходить церемония? — в который уже раз домогался Бубенцов.
Отскочил в сторону, пропуская стремительного Кукиша.
— В месте злачне, — загадочно осклабившись, в который раз пояснил Шлягер. — В месте злачне, в земле покойне.
— Давно уже занимает меня один вопрос, — сказал Бубенцов, озираясь на пробежавшего обратно Кукиша. — Что это у нас за таинственный замок? Тот, что на юго-западе Ордынского района.
А Кукиша уж и след простыл.
— Давно уже жду от вас этого вопроса, — ответил Шлягер. — Дело в том, что...
И отскочил в сторону, пропуская бегущего Кукиша.
Губы Шлягера шевелились, он, по-видимому, отвечал обстоятельно и подробно. Но слова его терялись в мелькании вагонов, тонули в грохоте проносящегося между собеседниками товарного состава.
4
Скоро, однако, разъяснилось, что имел в виду Адольф Шлягер, произнося загадочные слова про «место злачне, землю покойне». Инаугурация назначена была в Колонном зале Дома Союзов. Да, именно так. Разосланы приглашения по всем посольствам. И ходил Шлягер с потрёпанной книжкой в руках, готовился, долбил громко иностранные вокабулы: «зайт берайт — будь готов, иммэр берайт — всегда готов! Гад блаз ю — будь здоров! Гехаб дишвол...»
В Колонном зале Дома Союзов. Вот какое оказалось место. Круг, таким образом, символично замыкался. Когда Бубенцов узнал о том, где будет проходить церемония, сердце его тревожно дрогнуло. Несмотря на праздничную суету, острое предчувствие нехороших перемен затмило ум, затомило душу.
Похожее расстроение случается иногда с людьми в канун Нового года, когда всякого человека между праздничными хлопотами и приготовлениями внезапно посещает чувство утраты. Вот вроде бы и был он, этот прошедший год, а теперь кажется, что как будто не было его вовсе. Прошёл, промелькнул, сгорел спичкой, и нечего уж больше ожидать. Тревожное прозрение пронзает душу страшной догадкой: да не так ли и вся жизнь сгорит — неприметно, не оставив никакого следа, как этот прошедший год?
Глава 2
Гвардия поддержит!
1
Всё, что происходило в дальнейшем, казалось Ерофею Бубенцову повторением былого. Реальность происходящего в иные моменты представлялась чередой оживших воспоминаний. Как будто те же самые люди наполняли фойе, теснились у гардероба, улыбались, пожимали руки друг другу. Да ведь, если приглядеться, и в самом деле — те же!..
Тут был краснорожий услужливый Благовой и прочие чиновники, доставшиеся в наследство вместе с властью. Прибавился, правда, какой-то «адвокат» — подозрительная юркая личность с масляными круглыми щеками, как будто объевшаяся блинов. Многое, многое повторялось буквально. Бубенцов нарочно уронил пышный букет, и тотчас, сталкиваясь, отпихивая друг дружку, кинулись поднять услужливые прихлебалы. Всё как тогда! Нынешняя действительность перемешалась с действительностью давно прошедшей, прошлое наползало, проникало в настоящее. Всё двоилось, теряло очертания. Две действительности, пародируя друг дружку, взаимно умаляли одна другую. Две равноценные реальности, сталкиваясь, перемешиваясь, придавали окружающему миру зыбкую иллюзорность, недостоверность. И не пил ведь ни капли Ерофей Тимофеевич Бубенцов в сей торжественный день, но чувствовал себя пьяным. Как во сне провёл официальную торжественную часть, рассеянно улыбаясь, вставая, снова присаживаясь, опять вставая. Механически, косноязычно прочёл по бумажке заготовленную речь. Откланялся под аплодисменты и крики «ура!».
Всё так же рассеянно улыбаясь, кивая незнакомым людям, которые беспрестанно забегали вперёд и приветствовали его, спускался в окружении свиты по мраморной лестнице.
Он надеялся, что с переходом в банкетный зал сознание вынырнет наконец из липучего сна. Напрасно! Даже столы были расставлены в прежнем порядке. Как будто специально ничего не меняли, не убирали с прошлого раза. Всё шло привычным чередом, как и год назад, когда он с хмельными своими друзьями впервые вошёл под эти высокие своды.
Сияло во всю стену то самое зеркало. То самое! Конечно, умом Бубенцов понимал, что зеркало совсем иное, вставленное взамен разбитого. Нарочно подойдя, потрогал раму, провёл пальцами по стеклу. Сдвинулся к левому краю и убедился, что та самая волна, забавно искажающая черты, на прежнем месте. Но ведь не бывает копий, которые столь совершенно повторяли бы все изъяны оригинала! Однако реальность опровергала доводы рассудка. Зеркало, несомненно, было то самое, которое он некогда разбил. А значит, хранило это зеркало в глубине своей ту самую жизнь, что, казалось бы, давно прошла. Нет, дорогие мои, — жизнь не проходит! Она всегда одна и та же, только чуточку иная. Год назад он был один. А теперь рядом с ним красивая, бледная Вера в сияющем длинном платье. Вот, пожалуй, и все отличия.
Да ещё ухмылялся из дальнего угла остроглазый Шлягер, приметивший манипуляции Бубенцова с зеркалом. Шлягер стоял меж дочерьми Глеба Львовича Хроноса, Таней и Аней, о чём-то беседовал с ними. Судя по пакостной улыбке, говорил комплименты. Сам старый Хронос стоял обочь, кушал персик.
По просторному залу, перегороженному длинными столами, вольно передвигались люди с тарелками в руках. Кое-где образовывались уже плотные кучки. То тянулись, притягивались друг к другу, сбивались в круг, подобно атомам, знакомые меж собою. Из атомов образовывались сложные молекулы, облепляли столы.
Показался меж колоннами опытный банкетный хмырь в чёрно-оранжевом — да-да, тот самый! И с тою же деловитой ухмылкой на бритом лице. Он, как и в прошлый раз, стяжал где-то пять бутылок красного вина. И пронёс их все сразу, зажав горлышки между шестью растопыренными пальцами.
Всё течёт, ничего не меняется.
Вера легонько коснулась, пожала локоть. Этого ласкового движения хватило на то, чтобы сон, околдовавший Бубенцова, стремительно растаял, исчез. Реальность утратила множественность, перестала отражаться сама в себе. Ерофею стало просто и весело. Первое, на что обратил он внимание, был проходящий мимо стола Адольф Шлягер. На душе Бубенцова потеплело. Он удивился нежданным чувствам. Как будто успел привыкнуть, едва ли не сродниться с этим ничтожным, недостойным человеком.
Фигляр, как следовало ожидать, и на этот раз был «в образе». Аккуратная, скромная бедность. Честный государственный служащий, стеснённый в средствах. Галстучек в горошек, как на школьном портрете у Владимира Ильича Ленина. Измятый, застиранный воротник рубашки. Пиджачок кургузый, тесноватый, заставляющий сутулить спину, суживать плечи, втягивать выдающиеся из рукавов костистые руки. Обшлага обтрепались до бахромы, подшиты чёрными нитками. Видать, не очень ловко держалась колкая игла в неумелых пальцах одинокого вдовца. Старомодные узкие штаны пузырились на коленях. Адольф неприкаянно скитался по залу, стесняясь своего присутствия здесь, стыдясь бедной своей одежды, дичась столь блестящего, образованного общества.
Бермудес же, напротив, развернулся во всю ширь. Важный, представительный, расхаживал в накрахмаленной рубашке с сине-красным галстуком, в новом чиновничьем костюме в полоску. Гремел, балагурил, похохатывал. Бермудес, как донесли уже Бубенцову, готовился возглавить районное министерство культуры. Во всяком случае, принимал уже подношения от музеев, творческих союзов и частных лиц.
И конечно, Бубенцов с какой-то внезапной ностальгической тоскою поглядывал в тот заветный угол, где в прошлом году гуляли они с друзьями на презентации Сёмы Ордынцева. Там теперь Джива, расставив в стороны руки, встречал завернувшего к нему Адольфа Шлягера. На супротивном конце стола пил пиво какой-то доброжелательный работяга. Джива улыбался всеми золотыми зубами. Адольф Шлягер так же широко склабился в ответ. Бубенцов видел, что между ними тотчас завязалась дружеская беседа.
2
— Ну что, козёл! — скаля зубы, говорил Джива. — Думал, с рук сойдёт? Лучшего бойца завалил! Зачем? Отвечай, волчара! Да ещё торшер из него сделал!
— Торшер? — с презрительным снисхождением отвечал Шлягер. — Понимал бы, азиатская морда! То светильник! Масонский символ. Иммер берайт! «Несите свет миру!»
— Голодранец, — ещё более презрительно улыбался Джива. — Верни мои сто тысяч! Знал бы, я б тебе и рубля взаймы не дал!
— Вернём, вернём. В своё время всё вернём. С процентами, лихвою и дивидендами. Ерофей Тимофеевич заведёт новые порядки. Мы твою коррупцию пресечём! Гад блаз ю!..
— Хе... «Пресечём». У меня Сёма Ордынцев ленточки разрезал. Не лез не в свои дела. И этот будет смирно сидеть в президиумах. Выступать на детских утренниках.
Завальнюк, попивая пиво, рассеянно прислушивался к спору клиента и заказчика. Сто тысяч, о которых сейчас упоминал Джива, были уже переданы ему Шлягером. В качестве аванса. Киллер Завальнюк и в самом деле был похож на рабочего, отдыхающего в Доме культуры или в заводском клубе в выходной день. Пиджак свободно наброшен на плечи. Рукава стираной клетчатой рубахи закатаны. Крепкие загорелые руки в золотистых волосках, короткие цепкие пальцы, привыкшие к молотку и зубилу. Добродушное лицо с мясистым носом-картошкой, светлыми бровями, морщинками вокруг глаз. Благожелательно улыбнулся, поймав случайный взгляд Дживы. Так улыбается человек, живущий в ладу с совестью, честно и без прогулов отработавший свой век у станка на тяжёлом производстве. Внешний облик удачно довершала щёточка пшеничных усов, аккуратно подстриженных. Идеальный киллер! Опытность в своём деле, умелость в сочетании с вполне ещё свежими физическими силами.
— Па-азволь-ка, любезный! Бал-дар-рю...
Рыжий прапорщик, причёсанный барашком, потеснил Завальнюка плечом. Поставил на стол две початые бутылки водки. Завальнюк благожелательно улыбнулся и прапорщику. Вежливо подвинулся, уступая место.
3
Бубенцов время от времени поглядывал в угол, где по-прежнему мирно, благочинно беседовали Джива со Шлягером. Рыжий прапорщик, примостившийся подле работяги, накачивался водкой. Даже издали было видно, что делает это он целеустремлённо, умело. Такого человека — Бубенцов это знал по собственному опыту — следовало опасаться. Обычно люди, пьющие в таком темпе, проявляют затем свой вулканический темперамент неожиданно и бурно.
Бубенцов не пил уже долгое время и, признаться, совсем отвык от алкоголя. Но вид этого жизнерадостного военного действовал на него заразительно. Возникло на миг сильнейшее желание накатить залпом с полстакана. И даже голос как бы некоего Каина явственно прозвучал во внутреннем ухе: «А не жерануть ли!..»
Ерофей благоразумно отвернулся от соблазна, потянулся за бутылкой минералки. Потянулся за бутылкой, и рука его застыла на весу. Снова, как это не раз уже бывало с ним в последнее время, совершенно неожиданно овладела им странная задумчивость. Он давно уже чувствовал, что не всё в его жизни идёт так, как надо. Возможно, чувства эти были навеяны разочарованием от неких несбывшихся надежд. Ни слава, ни богатство не принесли и малой части того, на что надеялся, на что рассчитывал и о чём мечтал когда-то. Но у кого и когда сбывались надежды и мечты? Что приносили они человеку, кроме печального и мудрого опыта? Вот теперь ему достаётся власть. А что даст ему эта власть? Бубенцов ни на что особенно не надеялся, ни на что не рассчитывал, ни о чём больше не мечтал.
Но даже и не в этих разочарованиях заключалась главная печаль. А в том, что нечто гораздо более важное внутри его разладилось, сбилось, поломалось. Это что-то следовало поскорее поправить, изменить. Но пока что он блуждал, путался в частностях. Никак не мог докопаться до духовного центра своей жизни. Инстинкт подсказывал ему, что разбираться с поломкой нужно именно в центре механизма. Тогда внешние проявления поломки сами исправятся. И часы пойдут. А что такое центр? Это сердце человека.
Всякий раз, прислушавшись к сердцу, Ерофей с удивлением обнаруживал, что есть внутри человека нечто большее человека. Нечто, способное подняться над ним, поглядеть сверху, оценить даже сам ум его. Живое одухотворённое присутствие он и теперь ощутил в себе вполне определённо. С такой поддержкой исправить поломку внутри себя — возможно. Возможно!..
— От-ставить!.. — гаркнул вдруг совсем рядом прапорщик. — Р-руки!..
Мундир на прапорщике был расстёгнут, висел на левом плече, вдетый в один рукав, как на хмельном гусаре. Оттолкнул в сторону официанта, пошёл к Бубенцову. Шевельнулась охрана, но Ерофей движением ладони остановил. Гусар усмехнулся и, подкрутив ус, сказал:
— Позвольте, любезный, пару слов. Только откровенно!
Такой ласковый, вежливый зачин не сулил ничего хорошего.
— Ну-у... отчего же... — ответил Ерошка, внутренне подобравшись.
Прапорщик, выставив крутой лоб в мелких и жёстких завитках волос, внимательно рассматривал Бубенцова немного выпученными красными глазами. Глядел ответно и Ерошка, стараясь, чтобы взгляд его выражал доброту, грусть и ласку. Ах, как было бы хорошо сейчас расслабиться, действительно накатить стакан, как это бывало в прежние вольные времена, да поговорить по душам с этим славным прапорщиком. Поругать начальство, посетовать на дураков во власти. Да мало ли тем для задушевной беседы? А затем разругаться, подраться, в конце концов. А потом снова помириться. Но должность сдерживала, сковывала, обременяла. Необходимость соответствовать своему положению вязала по рукам и ногам.
— Жеранём? — прапорщик кивнул на полный штоф.
— Увы, — кротко сказал Ерофей Тимофеевич.
— Понятно, — огорчился прапорщик. — Но. Допустим так. Вот вы там. Законы разные принимаете. То-сё. Я от имени народа. Спросить.
— Законы принимаем не мы, — сказал Бубенцов и отступил на полшага. — Не наша епархия. К сожалению. Это на федеральном уровне.
Бубенцов заметил, что невольно заговорил отрывистыми военными фразами.
— Система виновата? — не отставал прапорщик. — А поменять? Недостаёт соображалки?
— Нет таких планов.
— Нет таких планов? — удивился прапорщик. — Вернуть народу власть. Русскому я имею в виду. Сто лет уж прошло. Не пора ли? Берись наконец-то за рычаги. Ты же хозяин земли русской!
Ерошка понял, что его провоцируют. Разговор принимал самое опасное направление. Но при этом толстое лицо военного, чуть выпученные, водянистые глаза не выражали ничего, кроме наивного простодушия.
— Что ж вы предлагаете, любезный? — усмехнулся Бубенцов. — Монархию восстановить?
— Ты гляди! Кумекалка-то кумекает! — похвалил прапорщик. — Молодчага! Первый шаг сделать. Гвардия поддержит!
Бубенцов покосился на большие красные кулаки прапорщика.
— Русская гвардия поддержит! — значительно повторил прапорщик. — Давно ждали. Чтобы кандидат подходящий. Чтобы, так сказать, размах рук соответствовал...
Прапорщик широко развёл руки. Мундир свалился с плеча. Ерошка машинально двинулся, склонился поднять. Столкнулись лбами.
— Охотно верю, — немного смутившись, с досадою сказал Бубенцов. — Но, полагаю, народ не готов.
— Народ не готов? А внутри себя? Не пробовал? Покопаться? — взяв Бубенцова за пуговицу, домогался прапорщик.
— Но позвольте, — возразил Бубенцов, чуть поднимая руки, чтобы мгновенно блокировать возможную атаку, перехватить удар. — Я не отвечаю за Россию.
— А кто ответит? — удивился прапорщик и высоко поднял светлые брови. — Если не ты, то кто же?
Прапорщик выдохнул, и оба оказались как бы внутри густого облака алкоголя.
— С вами совершенно невозможно разговаривать! Во-первых, вы пьяны. Во-вторых, мне очень не нравится, что вы всё время тычете мне пальцем в лицо.
— Эк тебя козявит!
— Без паники, — проговорил рядом женский голос, немного заплетаясь. — Будем сохранять спокойствие.
Давешняя милая дамочка взяла Ерошку за руку. Бубенцов попытался вызволиться, но та держала мягко, но крепко. Вязала.
— Значит, ты. За Россию. Не в ответе? — наступал прапорщик, всё более хмурясь, багровея лицом. — Отрекаешься?
— Если угодно... Отрекаюсь.
И Бубенцов, как ни готовился, всё-таки пропустил увесистую плюху.
4
Спустя всего лишь десять минут, когда крики утихли, когда выволокли рявкающее тело прапорщика, когда всё замяли, замели, замыли, Бубенцов стоял у стены в умывальнике и, приблизив лицо к зеркалу, прикладывал платок к ссадине.
— Дело прочно, когда под ним струится кровь, — весело заметил стоявший за его спиною Шлягер. — Народная примета. Что за пьянка без драки!
— Надо же так нажраться в самом начале банкета, — сказал Бубенцов без всякого осуждения. — Это ты подослал гада?
— Актёр наш, — признался Шлягер. — Мишка Барашин. Стажируется. Обычно свадьбы сопровождает. Ещё не получил окончательного лоска. Талантлив, как сам дьявол. Этот и не хочет, а наскандалит. У него волосы дыбом поднимаются, если дать ему водки. И вам хороший урок. Закон бумеранга.
— Сценарий ты писал? — сказал Бубенцов. — Узнаю стиль.
— У нас сценарий самый общий, без всех этих деталей, — возразил Шлягер. — Нам важен корень и ствол. Ну а ветви, листья сами собою нарастают. Мы не указываем. Тут полная воля.
— Но оплеуху мне ты лично вписал, гнида, — сказал Бубенцов. — И специально нанял этого скандалиста?
— А вы вспомните свой дебют! — ухмыльнулся Шлягер. — Вас что, тоже наняли?
— Вы тогда просчитали меня! — огрызнулся Ерошка. — Предвидели мои реакции!
— То-то же, — с удовлетворением сказал Шлягер. — Умнеете на глазах! Нам не нужно никого нанимать. Мы берём готовый характер, который органично вписывается в сюжет. А дальше человек действует уже сам, по собственному вдохновению. Так ему кажется. На самом же деле система управляет им. Он поступает в соответствии с законами системы, а его поступки в свою очередь влияют на систему, настраивают, совершенствуют её. Всё живо, всё естественно.
— А если человек не захочет вписываться в вашу механику?
— Человек действует совершенно свободно. Но вариантов выбора всего два. В любой ситуации. Да — нет. Вот весь свободный выбор.
— Это отвлечённая философия, — сказал Бубенцов. — Какого чёрта домогался от меня твой Барашин? Не просто так подослали его. Умысел был. Цель-то в чём?
— Вы сказали «отрекаюсь» и получили по морде. Вот и весь смысл. Когда серьёзным людям нужно получить от вас согласие, вам не стоит употреблять слово «нет».
— Серьёзным людям? Кто организовал провокацию?
— Джива, разумеется, — сказал Шлягер. — Козлом вас обозвал давеча. Инородец.
— Козлом? Убить мало.
— Мало! Мало! — закивал Шлягер, проворно выхватил из-за пазухи записную книжку из чёрной замши, затрёпанную донельзя, быстро-быстро что-то записал. Захлопнул, сунул обратно под мышку.
— Что это ты там записываешь? — спросил Бубенцов подозрительно.
— Да так. Пустяки. Ни дня, как говорится, без строчки.
— Давно хотел спросить, Адольф! Зачем вам нужен этот Джива? Системе вашей.
— А не очень-то и нужен! — весело сказал Шлягер, как будто обрадовавшись. — Функция. Всего лишь элементарная функция.
— Функция?
— Видите ли, такие люди, как Джива, выполняют низовую практическую работу по сбору средств, концентрации денег в одном месте. Никакой чиновник не сделает эту работу столь качественно, как подобные добровольцы, действующие по влечению сердца. Копейка не пропадёт у них втуне! Им кажется, что они копят богатства для себя. Но приходит время, и мы отнимаем у них кубышку. Очень практично и удобно!
— Но ведь то же самое можно сказать про всякого богача.
— Именно! Все они — наши покорные слуги.
— Кубышки?
— Как ни назовите. Кубышки. Элементарные функции. Откормленные кабанчики. Наименований много. Но суть одна. Приходит нужное время, и мы отнимаем своё.
— Забиваете кабанчика?
— Убить-то не хитро. Тем более что Джива достоин казни. Но вам не нужно беспокоиться, — хитро подмигнул Шлягер. — «Зачем самому, если есть собака?»
В руках у Шлягера снова оказалась записная книжка.
— Ты не подумай что-нибудь, — спохватился Бубенцов. — И не надо фиксировать каждое моё слово. Я просто так сказал. В сердцах.
Адольф поплевал на палец, перетасовал страницы, отыскал нужную запись:
— Эге. Сто семь миллионов на счетах. Да сколько же ещё по сумкам рассовано. Плюс недвижимость. А ведь вы правы, Ерофей Тимофеевич! Как это мы проглядели! Созрел голубчик. Есть, знаете ли, у каждой коровы предельный уровень надоев. Сколько её ни корми. Пора, пора дать ему... путёвку в смерть.
— Я не прошу отнять у него жизнь! — встревожился Бубенцов.
— Вопросы жизни и смерти пока ещё, к сожалению, вне вашей прямой компетенции, — мягко проговорил Шлягер. — Казнить, а равно и миловать может только монарх. Самодержец.
Подошёл старичок с надкушенным персиком в руке.
— Прошу простить великодушно! Не видели ли вы Таню и Аню, дочерей моих?..
— Там! Там... — взмахнул остриём карандаша Шлягер неопределённо.
Глава 3
Тихие недруги
1
Первое, что увидел наутро Бубенцов, был прислонённый к дверям Дживы роскошный похоронный венок. Вот почему в коридоре издалека пахло смолой, ладаном и церковью. Ерошка глядел на страшное сооружение, опоясанное траурными лентами и еловыми лапами. Такое уже бывало в его жизни. Ещё не так давно, выходя из собственной квартиры, он регулярно обнаруживал у дверей похоронные венки. Но то были венки ветхие, краденные с чужих могил. На тех венках висели не ядовито-чёрные, а бледно-серые выгоревшие ленты. И украшены они были не такими яркими, бьющими в глаза восковыми цветами, а уже стёршимися, блёклыми. Венки те были столь низкого качества, что Ерошке неловко было показываться с ними во дворе. Потому он вносил их с лестницы в квартиру, прятал в прихожей. Только глубокой ночью, когда дом уже спал, крадучись, прижимаясь к стене, нёс их к помойным контейнерам.
Нынешний же венок был просто великолепен. Два тяжёлых снопа, как будто кованных из червонного золота, сходились колосьями. Меж ними горел рубиновый треугольник, роняющий лучи на земной шар. В самом низу, там, где прежде писали на ленте: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», теперь мерцала серебряная надпись: «Коло ока его вокруг да около, да недалёко!» Другой конец ленты немного подвернулся, скомкался: «Ивану Кзмчу от дрзей лживцев».
Бубенцов перетаптывался на пороге, не решаясь отпустить дверную ручку.
— Адольф Шлягер приказал. В четыре утра доставили, — сказала Настя. — Превентивно.
— Что значит «превентивно»?
— Заблаговременно. Загодя, — пояснила Настя, одной рукой запахивая халат, другой запихивая в рот конфету «Белочка». — Адольф велел готовиться к худшему. Джива нынче встречается с господином Завальнюком в «Кабачке на Таганке». Уже объявление дадено во все газеты. — Настя заглянула в листок, процитировала: — «С прискорбием сообщаем о трагической кончине Дживы Рудольфа Меджидовича, мецената, благотворителя, друга обездоленных...» Ну и так дальше.
Яркие глаза её весело блестели, веснушки озаряли приёмную.
— О трагической кончине? А почему «Ивану Кузьмичу от друзей и сослуживцев»?
— А «Ивану Кузьмичу» — потому что с могилы Ивана Кузьмича взядено. Чтоб лишних денег зря не тратить. Да и где ж в четыре утра найдёшь? Буквы затрём.
Зелёная обёртка, скомканная в шарик, полетела в урну. Настя докладывала, стараясь раздельно выговаривать каждое слово бесстрастным голосом, каким дикторши сообщают телезрителям о погоде. Но мешала конфета, речь звучала не чётко, с присасыванием, непристойным причмокиванием.
— Значит, Шлягер велел готовиться к худшему?
— Шлягер видел сон. — Настя вытерла шоколадные губы салфеткой. — И у него возникли дурные предчувствия.
— Сон?
— Сон про чёрную жабу. Жуть! Это значит, что у Рудольфа Меджидовича во время встречи с Завальнюком случится удар. — Настя весело взглянула на Бубенцова. — Припадок задушья. Ещё говорят «грудная жаба». По мере исполнения вещего сна Шлягер будет ставить вас в известность. Он уехал час назад.
Густой еловый запах заполнял весь приёмный покой. Бубенцов чихнул.
— Кто такой господин Завальнюк?
— Вы не догадываетесь? Фамилия же говорящая! Завальнюк. — Настя облизнула шоколадные губы острым красным язычком. — Кричащая фамилия. Ну?
Ах, негодяйка!.. Вот ведь... Мысли путались...
— Ну? Сдаётесь? Киллер наш! — подсказала Настя. — Тихон Степанович Завальнюк. Любого завалит.
Бубенцов вдруг ясно осознал, что чего-то подобного ожидал в глубине души. Причём ожидал заинтересованно. Хотя говорились вчера страшные слова как бы невзначай, мимоходом. Но втайне шевелилась, трепетала под спудом подлая надежда — а вдруг?.. Знал же истинную силу своих благодетелей. И вот оно реализуется. Враг будет нынче убит. За столиком в кафе. Будничная сцена для крёстных отцов. Мафия именно так в кино и убивает, за роскошным ланчем. Красное вино растекается по белоснежной скатерти.
— Вы бледны, Ерофей Тимофеевич. Если желаете, мы можем сделать вам успокоительный укол.
— Нет-нет, — сказал Ерошка. — Ни к чему. Я сейчас... сейчас...
— А то? — Настя снова облизнула губы, указала на кушетку. — Может, того? Как вы? Снять стресс. Помогает. Я согласна. От меня же не убудет. Не смылится. Только вы мне потом шубку купите... Ладно? Даёте слово?
О чём она? О чём? Что-то знакомое... «От меня не убудет...» Да. Вспомнил! Самость остаётся. Самость.
Бубенцов прошёл мимо Насти. Срочно нужно было пресечь, остановить! Но он медлил, мешкал. Как бы бессознательно тянул время. Принялся вдруг искать телефон, хлопать по разным карманам. Хотя видел, что телефон лежит перед ним на столе. Сам же только что и выложил. Бубенцов знал, что не может позволить совершиться преступлению. Презирал себя за мягкотелость, за отсутствие решимости... Стал набирать номер Шлягера. Рука дрожала. В ответ играл и играл «Встречный марш лейб-гвардии Преображенского Его Величества полка». Но Шлягер трубку не брал. Бубенцов набрал номер ещё два раза. Тщетно. Тогда он решился позвонить самому Дживе.
«Что говорить? Что? Надо так, нейтрально... Без эмоций. Приветствую вас, Рудольф Меджидович. Остерегайтесь Завальнюка... Так, что ли? Глупо. Но как тогда?..»
Бесстрастный голос сообщал:
— Аппарат абонента находится вне зоны досягаемости.
Это могло означать что угодно. Могло быть и так, что абонента уже нет на поверхности земли. «В девяностых в гробы уважаемых людей клали дорогие мобильники, — вспомнил Бубенцов. — Но никто не отзвонился с того света. Даже из братских могил. Интересно, сколько их лежит в безвестных братских могилах? Все вне зоны досягаемости. Однако что ж я? Вероятно, уже поздно. Но кто знает? Надо сделать всё, что можно. Хотя бы для очистки совести...»
Бубенцов выскочил в приёмную. Появилась уже и другая секретарша, Агриппина Габун. Успела переодеться в белый халат.
— Девушки! Если Шлягер позвонит, попросите его, пусть они не прерывают нити бытия! Нельзя же взять и пресечь! Пусть продлят они жизнь Дживы! — говоря это, Бубенцов верил, что они, благодетели его, могут и в самом деле распоряжаться жизнью человеческой. Потому добавил: — Продлят дни его. Елико возможно.
Еловый запах от венка умалился, отплыл в сторону, зато резко ударило в ноздри спиртом и эфиром.
— Ерофей Тимофеевич, — ласково говорила Настя, — Шлягер рекомендовал. Настоятельно. Это не больно. Как комарик...
Агриппина со смоченной ваткой заступила дорогу, а Настя, выходя из-за стола, высоко поднимала шприц с успокоительным. Тонкая струйка брызнула из иглы в потолок... Но Бубенцов грубо оттолкнул обеих со своего пути, поднырнул под руки, выскочил из приёмной. Звякнул упавший на кафельный пол шприц.
2
За спиною давно остался корпус из красного кирпича, Лаокоон, беседка, пруд. Но Бубенцов мало обращал внимания на неподвижные, косные приметы материального мира, расставленные на его пути. Слишком живо кипело всё, петляло, путалось внутри его. Дух находился в большом смятении. Неожиданно выяснилось, что и тело двигалось петляющим, кружным путём. Понял это, когда оказался у ограды храма в Сокольниках.
Ругались и гомонили нищие, сидя на ящиках, разливая портвейн в валкие пластмассовые стаканчики. Один стаканчик опрокинулся. Тотчас возник яростный спор, готовый перерасти в драку. Но поднялся седовласый, краснорожий старец, произнёс веско:
— По закону виноват тот, кто не удержал стакан в руке. Но, братья, поступим милосердно...
Затем нищие выпили не чокаясь. Вероятно, кого-то поминали.
Наблюдательного Бубенцова тотчас осенило. Было бы неплохо, пользуясь случаем, поставить свечу за подлежащего убиению Рудольфа. Это свежо и, кажется, довольно остроумно. Заблаговременно поставить свечу за упокой, предуготовить ангелов небесных. Предварить восшествие грешной души в райские облака. Или во облацы. Как правильней? Помянуть превентивно. Заранее. Неизвестно, когда теперь в храм-то удастся заглянуть. Вероятно, Рудольф ещё жив, но что это меняет? Коли похоронный венок готов, то всё бесполезно.
С этими смутными, нестройными мыслями вступил Ерошка Бубенцов в церковную ограду. Служба уже кончилась, храм был почти пуст. Только сизый прозрачный дым стоял под куполом. Несколько одиноких, как бы бесплотных фигур безмолвно передвигались в дальних углах, склонялись к ковчежцам с мощами, подолгу застывали у икон.
Бубенцов протянул пятитысячную купюру старушке в тёмном платке, что орудовала у церковной стойки. Взял самую дорогую восковую свечу.
— Сдачи не надо, — сказал он.
— И мне не надо.
— Оставьте за упокой.
— Вам, может, сорокоуст? — спросила старушка.
— Пожалуй что так.
— Кого записать? — спросила старушка, открывая общую тетрадь.
— Грешного Рудольфа.
— Грешного не надо, — сказала старушка. — Рудольфа нет в святцах. Родиона?
— Пишите. Бог сам разберёт.
Направился в глубь храма, к столу с небольшим распятием, где горело десятка два свеч. Свечи были самые дешёвые, а у него самая дорогая, и это почему-то очень порадовало Бубенцова.
У стены напротив кануна сидел сивый дедок в мухояровом сюртуке. Уставив простую деревянную палку в пол, двумя руками держался за отшлифованный до костяного блеска крюк. Лысенький, с белоснежной опушкой лёгких волос вокруг головы. С белой бородой. Бубенцов, покосившись на старика, зачем-то перекрестился и поклонился ему.
На выходе из храма напомнил старушке:
— За упокой. Бог знает кого.
Старушка молча кивнула и поджала губы.
«Зачем я это сказал? — подумал Бубенцов. — А, всё равно... Родителей-то своих забыл помянуть. Отчима. Вернуться, может? Нет, не стоит. Времени в обрез...»
3
Выйдя из ограды, Бубенцов сперва двинулся шагом, потом припустил рысью, потом снова перешёл на шаг. Как будто подстраивался под мысли, что переменялись, рвались, метались в его голове. Вышел кривыми путями к Яузе, направился к Таганке. Чем ближе подходил к конечной цели, тем мучительнее становилась тревога.
Показался наконец «Кабачок на Таганке». Бубенцов остановился, отдышался, огляделся. С удивлением обнаружил качающиеся вокруг деревья. По этому качанию понял, что давно уже погода переменилась, поднялся ветер и что ледяной мелкий дождичек сечёт лицо. Ерошка потрогал холодными пальцами нос. Замёрзшие пальцы ощутили, что нос был ещё более ледяным. Нос вытянулся, окостенел.
«Весь ещё жив, а нос уже того, — подумал Бубенцов. — Чует смерть».
Тихими, тяжёлыми шагами шёл к дверям кабачка, вдыхал глубоко, выдыхал с шумом. Но не приходило желанное расслабление; тревога, затаившаяся под ложечкой, никак не выдыхалась.
У входа собралась большая толпа, оттесняемая полицией. Шпак Семён Михайлович топтался у дверей, отирая платком околыш фуражки, промокал багровый лоб. Санитары выкатывали из дверей носилки. Бубенцов привстал на цыпочки. Лицо мёртвого Дживы было накрыто, под простынёй угадывался окостеневший нос. Убийство совершилось. Опоздал.
— Заведение закрыто, — говорил длинный в сером плаще. — Расходитесь, товарищи.
Ерошка узнал дознавателя Муху.
Носилки на колёсиках прокатывались мимо. Бубенцов двинулся следом, с усилием пробился сквозь толпу, кинулся к «скорой». Санитары возились с носилками, пытаясь сложить колёса, чтобы пропихнуть груз в машину. Бубенцов протиснулся меж ними, откинул край простыни. Тускло, укоризненно сверкнул на него из-под прикрытого века тёмный зрачок. Лицо было ещё совсем свежим, румяным. Но это был не Джива! Это был тот самый работяга, пивший пиво на вчерашней презентации.
Бубенцов попятился, наступил кому-то на ногу. «Ну, слава те!.. — думал Ерошка. — А я тут распереживался! Сорокоуст заказал. По Бог знает кому... Мой-то жив. Жив курилка! А венок-то, венок-то! Шлягер поторопился, насмешил людей...»
Кто-то тронул за плечо, проговорил сзади, в левое ухо, плюская губами:
— Рудольфа Меджидовича нашего придушили.
— Как придушили? — механически спросил Бубенцов, делая усилие, чтоб не обернуться. — Говорили же, что он погибнет от припадка грудной жабы! Кто?
— Как душили, неизвестно. А вот кто, тут всё проще. Недруги, — сказал Шлягер. — У всякого богатого человека есть недруги. Придушили прямо в спальне. Вынослив оказался, гадёныш. Две минуты трепыхался. С перекрытым-то кислородом. Сто двадцать секунд.
— Как определили?
— Завальнюк, когда душит, всегда пульс считает. Профессионал! А уж на что осторожный был Рудольфушка наш. Но вот же и скрипящий паркет не помог. Завальнюк пройдёт — лист не колыхнётся.
— А это тогда кто? Под простынёй.
— А это Завальнюк и есть.
— Зачем ты его убил? — спросил Бубенцов. — Ответь мне честно, Адольф.
— А не рой другому могилу!
— Да что ж за жизнь такая! Всё кого-то душат, топят, убивают. Постоянно. Со всех сторон только и слышишь: там кого-то машиной сбило, там пожар, там ураган, там наводнение. Там с перепоя кто-то помер.
— Сказано в Писании: услышите слухи о бедствиях, не пугайтесь! Тому надлежит быть в конце. Это всё потому, что люди смертны. Не будь люди смертны, кто бы их удавил-то? Дави не дави, как говорится. Задавил, положим, а человек всё равно дышит. И огонь не берёт. Встал, отряхнулся... Ан нет, смертны!
Помолчал и добавил, сделав мудрое лицо:
— Не нами заведено, не нам и...
— Что тут лукавить?! — прервал Бубенцов. — Я желал смерти Дживы. И даже, кажется, обмолвился неосторожно... Моя вина!
— Зря вы от успокоительного укола отказались, — строго сказал Шлягер. — Девочек только расстроили. Да вы не убивайтесь. Что нам Джива? На что нам эти люди? Заваль! Впрочем, если вы и желали в душе смерти кое-кого, то глупо вам мучиться совестью, как твари дрожащей. Право имеете!
Адольф зло рассмеялся.
— Почему это я право имею?
— Потому что некоторые из людей стоят выше закона и вне морали.
— Цари, что ли? Деспоты? Императоры?
— Совершенно верно, достопочтенный Ерофей Тимофеевич! — по-прежнему криво ухмыляясь, произнёс Адольф Шлягер. — Именно цари! Императоры. Да ещё, кажется, младенцы да умалишённые...
Глава 4
Вечный вопрос
1
Звон колокольный слышался окрест на всех аллеях и просеках парка в Сокольниках. Нищие не отходили от ограды церкви, хотя утренняя служба уже закончилась. Бедняки рассчитывали на знатную поживу. Намечалось нечто особенное, выходящее за пределы обычного расписания богослужений. Мимо нищей толпы в церковную калитку то и дело проносили венки с восковыми цветами, траурными лентами. То ли двадцать семь, то ли двадцать восемь насчитали уже этих венков, а потом сбились, заспорили, перестали считать.
«Рудольф», — успел прочесть кто-то на ленте.
И пробежало между живых, перепрыгивая с уст на уста, мёртвое имя.
Некоторые из нищих старшего поколения ещё помнили рассказы своих предшественников об отпевании местного вора в законе, которое происходило здесь лет двадцать назад. Седовласый, крепкий старик с красной, загоревшей рожей, похожий на боцмана, сидя у церковной калитки на деревянном ящике, теперь пересказывал эту давнюю историю, снабжая и украшая её некоторыми новыми подробностями. Полтора десятка бродяг толпились вокруг боцмана, внимательно слушая. Лёгкий ветерок налетал, шевелил длинные волосы сказителя. Несмотря на хрипоту, в интонациях голоса рассказчика появилась уже та плавность, певучесть, и та складность, что свойственна былинам, легендам и прочим народным сказам. Слушали с большим интересом, но время от времени кто-нибудь из слушателей всё же качал головой, перебивал речь недоверчивыми восклицаниями.
Показались горящие фары чёрного катафалка. Именно его-то все и ожидали, на него устремились взоры. Затих седой сказитель, далеко отставив в сторону свой костыль. Остановилась мысль, прекратилось течение речи его.
Медленно, плавно, как маршальский лимузин на военном параде, катафалк въехал в ограду, остановился у высоких ступеней напротив дверей храма. Тотчас вынырнули как будто из-под земли одинаковые люди в серых сюртуках, с чёрными повязками на рукавах, алыми гвоздиками в петлицах. Волосы всех четверых стрижены в скобку, расчёсаны под старину, на прямой пробор. Застыли у задней дверцы лимузина в почётном карауле. Склонили головы, скорбя лицами, выражая некую общую вину живущих пред мёртвыми.
Поднялась задняя дверь, хитроумные немецкие механизмы беззвучно выпихнули дорогой гроб. Взявшись за литые бронзовые ручки, молодцы надулись, приосанились, понесли гроб внутрь храма. Случайный луч солнца пробился сквозь листву, позолотил латунный крест на лакированной крышке.
Взойдя на высокое крыльцо, несущие гроб приостановились. Двое других молодцов, пониже ростом и не таких осанистых, уже ожидали. Судя по намасленным волосам и прямым проборам, эти двое принадлежали к той же похоронной фирме. Слаженно зашли с обоих бортов, поддели край, вскрыли драгоценную домовину. Крышка сверкнула на солнце, но уже не золотом, а светло-лиловым атласом, прибитым с исподу. Крышку поставили у дверей на попа. Мертвец поплыл в царство теней, в светлый сумрак, освещённый огнями свечей.
2
Бубенцов протискивался меж животов, локтей, спин, извинялся, поглядывал по сторонам. Мелькнул в толпе, кажется, Шлягер. Да и как ему не быть здесь, большому любителю поглазеть на чужую смерть? И точно, вильнув своим длинным телом раз и два, Шлягер пролез сквозь гущу народа, оказался рядом со вдовой.
Принято считать, что окончательный итог жизни подводит смерть. Принято также считать, что из всех разновидностей смертей наилучшей является — внезапная. Желательно, чтобы во сне, чтобы не мучился. То, что Джива не мучился, Бубенцов узнал, подобравшись поближе, притаившись за спиной Шлягера.
— Колбаски сырокопчёной попросил, — тихо говорила вдова. — Среди ночи. Пока на кухню ходила, вернулась — а он уже. Кухня-то далековато, минут двадцать ходу туда и обратно.
— Кончил земное поприще? Сочувствую. Прими мои надгробные рыдания.
Быстрыми глазами Шлягер обшарил гроб, оценил богатое убранство.
— Эх, Роза, Роза, — укоризненно зашептал он. — Двадцать девять тысяч! «Найт»... Чистая кожа! Зачем? Смысл?
Шлягер вытащил платок, глухо порычал в него, сморкаясь.
— А куда их? — пожала плечами вдова. — Не снимать же теперь.
— Если неприметно сдёрнуть, а? При последнем целовании. Когда крышкой накрывать будут. Мой размер, вот что обидно! А впрочем... — Адольф махнул рукой. — Так и не поел колбаски-то?
— Даже не надкусил, — вздохнула вдова, поднесла батистовый платочек к сухим глазам.
— Не надкусил... — Шлягер с печальным выражением лица покачал головой, помолчал, а затем продолжил: — Вот-вот. Это и обидно. А туда уж не передашь. Там уж не вкусишь. Колбаски-то. Никак. Отъел, как говорится, своё.
Спрятал платок в карман, снова оглядел гроб.
— Шею, пожалуй, прикрыть. Грим гримом, а всё-таки странгуляционная полоска выдаётся. — Шлягер выступил вперёд, склонился над гробом, поправил узел пышной косынки, повязанной на шее покойного, снова отступил ко вдове.
— А и чёрт с ними, с кроссовками! Тебе идёт, Роза. В чёрных-то шелках. — Шлягер погладил вдовицу по широкому заду. — Отпевание было?
— Да? Ты серьёзно? Считаешь, идёт? — Роза переступила с ноги на ногу, сбрасывая ладонь Шлягера со своего крупа. — Наверно, было. Пели что-то, дымом кадили.
— Что конкретно-то пели?
— Ах, Адольф, не знаю. Всё ж по-старинному: «Яки паки...»
— Не кощунствуй. «Упоко-ой, Го-осподи, душу усо-о-пшего раба твоего...» — скороговоркою тихо пропел Шлягер. — Это пели? Любимая моя мелодия.
— Да, кажется, был похожий напев.
— «У-у-покой, Го-о-осподи-и...» — затянул Шлягер погромче, и близстоящие стали озираться на него.
Вдова одёрнула за рукав.
— Один певец всё на меня поглядывал. — Роза усмехнулась. — Вот тебе и монахи.
— Не обязательно монах. Певчих откуда угодно берут. Главное, задушевность.
— Интересный такой мужчинка. Высокий.
— Не успела туфлей износить. Эх, ты. Сорокоуст заказала?
— Не верил он. Зачем ему молитва?
— Не скажи. Церковная молитва из ада вытащить может. Бывали случаи.
— Ну, его вряд ли вытащишь.
— Похоже на то. Личность масштабная. Была... — Шлягер вздохнул, помахал рукою перед лицом, как будто крестясь. — Снискал в этой жизни кое-какую удачу. Царствие ему. Хотя нет. Не пройдёт он в Царствие Небесное. Даже и в кроссовках «Найт». В принципе в рай-то, если объективно, малая часть народа попадает. Процентов пять–семь. Остальные — туда, в отсев. — Шлягер указал пальцем вниз, в мозаику пола. — В самых недрах небось сидеть будет. А вообще, если разумно рассудить, всё к лучшему. Пожил, как говорится. Водочки попил. Не старый, конечно, но своё взял от жизни. Изюм из булки выковырял.
— Сорок семь через месяц было бы.
— Вот-вот. На десять лет Пушкина пережил. Сравни. Лучшую часть жизни ухватил. Сердцевину, так сказать. А поживи дальше — одно горе. Болезни, операции. Простатит, суставы, инсульт, геморрой...
— Всё равно как-то жалко.
— Не дури, Роза. Сколько бы он денег на свои операции ухнул. Всё к лучшему. Недвижимость по закону... Наша недвижимость!
И тут запели то, о чём спрашивал Шлягер у бестолковой вдовы. Высоким тенором возгласил священник:
— Поко-о-ой, Го-о-осподи, душу усо-о-опшего раба-а твоего-о...
И повторил трагическую песнь весь хор церковный. Наполнился дивными звуками храм до самых дальних уголков. Встрепенулся под куполом сонм ангелов белых. Отозвались с неба чистые, радостные голоса.
— Поко-о-ой, Го-о-осподи, душу усо-о-опшего раба-а твоего-о... — красивым, полнозвучным тенором выводил священник, хор подхватывал, повторял дивный напев.
Подпевал негромко и Бубенцов:
«...и память его в род и род...»
Ерошка тянулся, выглядывал из-за спин. Торчал выдающийся из гроба острый нос покойного. То, что лежало там, не было Дживой. В гробу лежала холодная, неподвижная смерть. Где же человек? Где теперь блуждает то, что составляло когда-то его личность, его жизнь, его самость? Ерошка почувствовал вдруг, как ум, начав цепь рассуждений, вдруг остановился, оцепенел. Ум не желал идти дальше, не хотел продолжать, углубляться в главнейший вопрос. Не хотел исследовать единственный по-настоящему важный вопрос, касающийся буквально каждого из живущих на земле. Вопрос, с которым всякий человек должен разобраться максимально полно. Вечный вопрос о том — будет ли жизнь твоя продолжаться после физической смерти? Сохранится ли твоя неповторимая, твоя бесценная личность? Самость!
Смертью раздирается человек на две части: отдельно душа, отдельно тело. Или не существует души? Из чёрной, бездонной ямы, из которой неведомо каким образом появился живой человек, он спустя какое-то время просто переваливается в другую такую же чёрную, бездонную яму, откуда нет возврата.
От того, какой ответ даст себе человек, зависит всё. Содержание жизни, отношение к людям, цели, задачи. Если умрёшь, если прекратятся твои мысли, если тело просто закопают и оно станет землёй — то какая тебе разница? Предельная задача, которую может поставить и осуществить на земле человек, не верящий в Бога, а стало быть, и в личное бессмертие, — завоевать землю, стать правителем человечества, первым среди людей. Всемирным царём. Но ведь и эта цель, в конце концов, лишена смысла. Элементарная математическая логика говорит о том, что один год, или тысячелетие, или миллиарды лет — всё это одинаково ничтожно перед непостижимой бесконечностью.
3
Панихида закончилась. Гроб накрыли крышкой, понесли к выходу. Сунулся навстречу случайный замухрышка, но ретировался, не желая беспокоить опечаленное общество. Перекрестился, отвесил поклон, пропал. «Мелькнул и пропал навеки, — думал Ерошка. — Не так ли и все мы?»
Провожающие рассаживались в чёрные машины. Автобус с надписью «Ритуал» распахнул двери. Бубенцов, поколебавшись, на кладбище не поехал. Сложные чувства владели его душой. Самое главное, пожалуй, заключалось в том, что он в который раз увидел и осознал, насколько хрупок человек. Весь остаток дня Бубенцов испытывал наплывы тихого довольства, почти счастья. Обычного счастья и удовлетворения от того, что вот совсем-совсем рядышком с ним прошла беда. В шаге прошелестела, но не задела, не окликнула, миновала. Мимо! «Покой, Господи, душу усопшего раба твоего-о...»
И ещё одно чувство владело сердцем. Чувство странной близости, родственности, жалости к человеку, которого сейчас закапывают в землю. Шлягер, вероятно, сказал речь над могилой. «Заслуги его несомненны! Без таких людей останавливается прогресс, сохнет нива жизни...» Затем отслужили краткую литию, опустили гроб, бросили горсть песка. Прощай, человек. Жизнь твоя сгорела, как спичка. Как много ты не успел!..
Ерошка глянул на часы. Три пополудни. Пожалуй, уже закопали, засыпали землёй.
Сколько их, любивших эту земную жизнь, надеявшихся долго жить и ещё вовсе нестарых, легло в землю! Никто из них не мог сказать пришедшей смерти: «Подожди! Я ещё не хочу умирать!»
Многие не успели как следует приготовиться, некоторые умерли посреди весёлого пиршества, иные скончались на дороге, иные потонули, кто-то разбился, упав с высоты, а кого-то убили злые люди. Иные растерзаны зверями, иные легли на постель, чтоб успокоить тело недолгим сном, а уснули вечным. Какое множество наших родственников, друзей, знакомых выбыло! Славные оставили славу, власть, почести. Богатые потеряли имущество и деньги.
Смерть разлучила родителей с детьми, супруга с супругою, друга с другом, поразила гения среди великих дел его. Отняла у общества самого нужного деятеля в минуты величайшей нужды в нём.
Что на земле не суетно? Что не превратно? Что имеет хоть какое-нибудь постоянство?.. Всё слабее тени... всё обманчиво... всё сновидения.
Прощай, Джива! Деньги, дома, костюмы, старинные часы, картина Левитана и даже любимые твои американские сапожки из козловой кожи, с драгоценными золотыми подковками... всё, всё осталось здесь. Всё. Насадили на окостеневшие стопы кроссовки фирмы «Найт», но и они совсем тебе не пригодятся при переходе в иную реальность.
Напрасно, впрочем, сокрушался об этих кроссовках Шлягер, напрасно завидовал мёртвому. Будь в церкви свет поярче, он разглядел бы, что кроссовки эти тоже, как и слишком многое здесь, всего лишь дешёвая подделка, имитация.
Глава 5
Много ли стоит душа
1
Чужая смерть производит бодрящее действие на живых. На другой день, ещё не совсем проснувшись, Ерошка Бубенцов ощутил в груди толчки животворной радости, какой никогда прежде не ощущал. Всё, что давило, угнетало, мучило, вдруг отошло на второй план. А вот дым ладана в сумраке храма, прорезанный золотыми лучами солнца, высокое пение хора, сутолока светлых ангелов под куполом — это выступило вперёд. Вчера видел он смерть. Смерть косной громадой лежала перед ним на расстоянии вытянутой руки. Тяжёлая, как глыба урана. Настоящая, подлинная, но, к великому счастью, чужая.
Ерошка накинул на шею полотенце, отправился умываться. Смутные, неопределённые думы потихоньку стали оформляться в мысли, и процесс этот доставлял физическое удовольствие. Так после долгой болезни, вялого полусонного лежания, наступает солнечное утро, когда человек чувствует, что выздоровел! Встаёт, делает первые шаги, и всякое движение наполняет его счастьем, ликованием. Бубенцов почуял, что наконец-то дух его пришёл в то бодрое состояние, когда можно уже не отлынивать, не откладывать, а прямо сейчас приняться за дело. Настала пора привести в порядок все те обрывочные впечатления, что связаны были с последними событиями. А последние события показывали, что перемены стали совершаться слишком решительно, что сама жизнь его понеслась с огромным ускорением.
С ним происходило то же, что с человеком, который загляделся в воду, залюбовался отражением неба, стоячими белыми облаками. Светлая созерцательность околдовала, сморила. Самый полдень, ни дуновения, ни ветерка, всё тихо, безмятежно. Горлышко брошенной кем-то бутылки покачивается, блестит на солнце в тихой воде. Фиолетовая стрекоза садится, поводит слюдяными крыльями... Но что-то вдруг настораживает человека, посторонний дальний рокот заставляет поднять голову, оторвать наконец-то взгляд от недвижной поверхности. И человеку открываются берега, которые, оказывается, проносятся с бешеной скоростью. Человек соображает, что всё это время он находился не на середине укромного лесного озерка, как представлял себе, а несёт его стремительный, неудержимый поток. Дальний глухой рокот делается вдруг близким, наполняется зловещим смыслом. То впереди ревёт вода, отвесно обрушиваясь с огромной высоты...
Отдалённый рокот давно уже тревожил душу. Всё определённее, отчётливей проявлялось влияние посторонних, уместнее сказать — потусторонних сил на его жизнь. Силы эти таились уже не так тщательно. То там, то здесь вылезали грубые следы, обнаруживались результаты неугомонной деятельности. Бубенцов принялся разбирать полунамёки, ухмылки, подмигивания, недомолвки, пытаясь выстроить стройную систему.
«Казнить, а равно и миловать пока ещё вне моей компетенции — так, кажется, говорил Шлягер. Казнить может только монарх. Самодержец». Что это значит? «Пока ещё»! Вот ключевые слова! Невидимые силы хотят посадить его на трон. «Гвардия поддержит»! Похоже на то, Ерофей Тимофеевич! Похоже на то! Слишком определённый намёк! Достаточно ли сил у этих сил? О, вполне достаточно, уважаемый Ерофей! Кто бы усомнился. Славу, пусть балаганную, базарную, он получил. Деньги, каких он прежде и в глаза не видел, у него есть. Власть, пусть уездную, он имеет. Теперь же речь идёт о царствах, о верховной власти. Вот куда его несёт бурный поток! Невозможно поверить, но, похоже, так оно и есть! Мятный холодок волнения разлился под ложечкой.
Следовало в первую очередь обезопасить рассудок от угрозы возникновения мании величия. Бубенцов поступил в этом пункте удивительно разумно, расчётливо. «Мания величия наступает в тот момент, — решил он, — когда человек видит и чувствует себя не тем, кто он есть, а мнит себя великим полководцем, царём, гением». Вслушавшись же в свои ощущения, он ясно осознал, что полагает себя всего лишь обыкновенным человеком, пожарным Ерошкой Бубенцовым. Это его обрадовало.
Дальше можно было рассуждать уже гораздо спокойнее. «Вполне возможно, что, наделяя меня, пусть и уклончиво, титулом царя, они имели в виду нечто иное, — думал Бубенцов. — Возможно, тут всё иносказательно. Как и многое у них. И слово употреблено, и отвертеться от него весьма удобно. Припрёшь их вот так к стенке, а они: “Да что вы, Ерофей Тимофеевич! Неужто в прямом смысле приняли наши слова? А ведь мы имели в виду совсем иное. Царь-то вы, конечно, царь. Но в самом общем смысле. Как и всякий человек. Про льва вот тоже говорят «царь зверей». Так и здесь. Имелось в виду, что человек есть царь природы. Венец, так сказать, творения...”»
Вот что они могут сказать, посмеиваясь. Кто такие «они», он не представлял себе ясно. Только смутные предположения, догадки. Да ещё путаные, бестолковые, мало что объясняющие объяснения Шлягера: «Ах, Ерофей Тимофеевич, знали бы вы всю их подспудную совокупную мощь!»
2
С полотенцем на шее, бодрый, свежий, возвращался Бубенцов из умывальника. Матвей Филиппович Кащенко читал книгу, шмыгал носом. Сокрушённо качал головою. То и дело снимал круглые железные очки, промакивал лицо носовым платком. При появлении Бубенцова вскочил, книгу попытался быстренько запрятать, запихать в ящик, но не получилось. Слишком большого формата оказалась книга, хотя и тонкая. Выпала из рук.
— Опять, Матвей Филиппович, глаза красные! — заметил Бубенцов. — Тебе Адольф запретил «Песнь про купца Калашникова»!
— Никак нет, Ерофей Тимофеевич, — глухо отвечал страж. — Не про купца. Я бы и совсем этих книг не читал. Баловство одно. Ну их к бесу! Да вот на «Муму» наскочил!..
— Да как же ты на «Муму» наскочил?
— Шлягер намедни профессора облапошил. Библиотеку, паразит, за сущие гроши выманил! Не помогли деньги. Старичку-то. И дочь пропала, и жену залечили. Тронулся умом горемыка. Прятал эту «Муму» под подушечкой. Я гляжу, собачка на обложке. Дай, думаю... Уж как он за неё цеплялся, за книжку-то!.. Пришлось дубинкой раза три врезать по локтям. А как открыл я книгу, так и оторваться не смог! Это ж про меня, считай, написано! Про русскую долю! Ох, жалость-то какая жалкая!..
Бубенцова озарило. Ай да профессор! Душевное, духовное... Как будто не связано друг с дружкой. А оно перетекает, сосуды-то сообщаются!
— «Муму» нельзя отдавать! — бормотал Бубенцов, вышагивая из угла в угол, повторяя на разные лады. — «Муму» не отдавать! Нельзя! Если только ты русский человек. Надо профессора предупредить! Срочно!
Ерошка решительными шагами направился к выходу.
3
В обиталище профессора всё было по-прежнему. Капельница у стены, на стеклянном столике медицинская посуда, баночки с лекарствами, бутылочка валерьянки, пустая мензурка, тарелка с недоеденной курагой. Пахло йодоформом. Профессор Покровский сидел в коляске у окна, нахмурившись, разглядывал Бубенцова.
— Вы, должно быть, Троеглазов? — догадался профессор. — Вынужден вас разочаровать. Самогон мы не варим.
— Я по поводу книжки одной...
— Но вам никоим образом не следует огорчаться, — продолжил профессор.
Бубенцов всё-таки огорчился. Афанасий Иванович сильно сдал за это время.
— Есть книга одна...
— Ну, наконец-то! Дошло и до вас! — оживился профессор. — Я терпеливо дожидался. Лет уж, кажется, семь, а то и все семьдесят семь прошло со времени нашей последней встречи! Не так ли? Мы с вами встречались незадолго до Ялтинской конференции. Мир с тех пор здорово переменился! Ещё ближе подошёл к своему концу. Появились уже кое-какие вернейшие приметы. Вот я всё ждал вас, готовился. Когда ж, думаю, человек о книге вспомнит, хватится?!
— Так, так. Вы почти не изменились, — поддержал безумный разговор Бубенцов. — За эти семьдесят семь лет.
— Старики мало меняются, — заметил Афанасий Иванович. — В старости душа живёт тихо, вне общей сутолоки. Как будто в далёкой провинции. Благословенно время старости! Она даётся человеку, чтобы тот успел прибраться в душе. Собрать раскиданное, подмести перед уходом. А вот вы разительно переменились, молодой друг мой!
— Треплет жизнь, — неопределённо пожаловался Ерошка.
Подумал и добавил:
— Врагов много. Недруги. Я борюсь. Тоже стал присматриваться к себе. К бардаку, что внутри. Кое-что прибираю, пытаюсь навести порядок. Не откладываю на старость.
— Вот-вот-вот! Давно хотел вам сказать...
Звякнул колокольчик, отворилась двустворчатая дверь. Профессор с досадою оглянулся. Белобрысая девица с толстыми плечами, пятясь, везла тележку с завтраком. Оглядела тесное пространство, подняла светлые брови, соображая. Обошла кресло Ерошки, взялась за спинку, отодвинула. Откатила ногой коляску с профессором. Тележку свою поместила между ними. Две-три минуты продолжалась возня с приборами, звяканье, расстановка. Овсяная каша, дежурная рыбная котлетка, пара кусков хлеба, стакан спитого чая. Молчание царило в комнате. Ерофей Бубенцов и профессор Афанасий Иванович сидели друг против друга. Губы профессора шевелились, он задумчиво кивал. Ерошка хмурился, сцепливал пальцы. Выражение лиц у обоих менялось, когда по ним пробегала лёгкая рябь мыслей. Стороннему наблюдателю показалось бы, что между собеседниками идёт оживлённый, но беззвучный разговор.
«Как же убедить профессора, что нельзя отдавать “Муму”? — думал Ерошка, пользуясь паузой. — Надо ему образно сказать. Образность действует на ум доходчивее. Пожалуй, вот так выскажу. Дескать, это же всё равно что последнюю рубаху отдать! Что ж тогда на груди рвать? Русскому-то человеку. Если нет рубахи, то и рвануть нечего! Весь эффект пропадает. Это с одной стороны, а с другой...»
Наконец тележка укатилась прочь.
— Я ведь зачем так спешил к вам? — возобновил Бубенцов прерванный свой монолог. — Хотел предварить насчёт книги.
— Вовремя же вы спохватились насчёт книги! Слышал, всучили-таки вам шапку Мономаха? — перебил профессор. — Не тяжела ли?
— Хорошо, — подчинился Ерошка. — Будем развивать вашу тему. Если вы тоже слышали эту невероятную новость, то мы с вами можем говорить начистоту. Всё верно. Меня, кажется, действительно хотят поставить на царство.
Замолчал, дивясь тому, что проговорил нелепые слова так спокойно, буднично. Вероятно, точно такими же словами пациенты психиатрических клиник подтверждают свои невесёлые диагнозы, когда отвечают на вопросы лечащего врача. «Я, император Бонапарт Наполеон, нахожусь в здравом уме и трезвой памяти...»
Профессор хмурился, сжимал губы.
— Решение как будто принято, — добавил Ерошка после минутного молчания.
— Знаю, знаю, — сказал Афанасий Иванович. — Сперва намёки. Недомолвки. Экивоки. Спектакли. Смотрины. Шуточки. Это их стиль. Скоро прямо предложат корону и скипетр.
Афанасий Иванович всё это произнёс небрежным тоном, будто речь шла не о царстве, а о покупке мешка картошки. Бубенцова это обстоятельство поразило чрезвычайно. Даже немного уязвило самолюбие.
Кот пришёл, стал точить когти о ножку кресла. Тотчас же что-то как будто переключилось в окружающей обстановке, пришло в нормальное состояние. Бубенцов поднял лицо и увидел, что теперь глаза Афанасия Ивановича смотрят на него с ласковым сочувствием, без того отчуждения, с каким профессор встретил его десять минут назад.
— По моим подсчётам это должно было произойти через полгода. А то и лет через сто двадцать. Точных сроков никто не ведает. Мой вам добрый совет... — сказал профессор и замолчал. Поглядел на Бубенцова с таким выражением, как будто заранее знал, что никто и никогда совет этот исполнять не будет. И всё-таки продолжил: — Мой вам совет. Прекратить всякое общение с теми, кто вошёл в вашу жизнь.
— Со Шлягером?
— Преимущественно с теми, кто прячется за его спиной, — продолжал профессор. — Не следовало вообще отпирать дверь, разглядывать, впускать к себе мёртвых духов. К сожалению, современный человек не догадывается, сколь опасно подобное общение.
— Шлягера-то я сразу раскусил, — похвастался Бубенцов. — Он вроде вербовщика у них. Вовсе он не демон, как пытается изобразить.
— Обыкновенный человек, — кивнул профессор. — Из актёров, причём заурядных. Жмеринский народный театр. А тут выпал шанс сыграть дьявола-искусителя. Пошляк не придумал ничего оригинального. Образ банальный, вторичный. Хромота, пошлость, юморок. Трость, трубка. Собака.
— Полагается чёрный пудель, — вспомнил Ерошка. — А он таксу завёл. Да не чистопородную, а смесь с дворнягой. Разницу себе в карман. Денег не считают! У них там полнейший бардак!
— До определённой степени, друг мой! Я полагаю, это он в издёвку над вами! Намекает, что вы ведь тоже, простите за сравнение, в каком-то смысле смесь с дворнягой. Они очень любят символику. Боюсь, вы не совсем ясно представляете, что находится в верхнем углу пирамиды.
— Отчего же не представляю? Верховодит всем существо мыслящее. Но не человек.
— Схватываете на лету! — похвалил профессор. — Тогда нам объясняться будет проще. Вероятно, вам обещаны были власть, богатство, слава?
— Немного в иной последовательности, — сказал Бубенцов. — Они дали мне славу и богатство. Теперь сулят царскую власть.
— Душу не предлагали обменять на блага? — поинтересовался профессор. — Как бы с юморком, как бы понарошку.
— Было! Именно что с юморком и как бы понарошку.
— Запомните! Когда речь идёт о душе, никаких шуток быть не может! Вопрос о душе самый серьёзный на свете! Бесценное сокровище!
— Насчёт сокровища не уверен, — возразил Бубенцов. — Тем более бесценного. Много ли стоит душа? Какого-нибудь забулдыги, а?
— А вот представьте, что забулдыга оказался на острове людоедов и ему грозит гибель.
— Как оказался?
— Неважно. Течением унесло. Выпил немного, пошёл купаться. Речь не об этом. А о том, стоит ли посылать на выручку забулдыги Тихоокеанский флот, пару дивизий стратегической авиации и батальон спецназа? Как вы думаете? Стоит ли того его душа?
— Не стоит.
— Это абстрактно. Но если вы представите на месте забулдыги себя, или, как вы выражаетесь, свою самость, — то всё сразу встанет на свои места, — сказал Афанасий Иванович. — Выстроится правильная иерархия. Вам откроется истина о цене человеческой души. Каждый человек — единственный и неповторимый шедевр Бога! Уж они-то цену эту очень хорошо представляют! Они умеют оценивать подлинники!
— Поэтому взамен предлагают славу, деньги, власть?..
— Ничего они не предлагают, кроме пустоты!
— Понимаю вашу логику! Какая может быть самодержавная власть, если получаешь её из лап того, кто владеет тобой? Абсурд. Не так ли? Но я иду на эту жертву. Я принимаю вызов!
— «Царства мира дам, если, пав, поклонишься мне!» — тихо напомнил Афанасий Иванович.
— Ерунда! Я всё обдумал. Сделаю вид, а поклоняться не буду. Встану во главе народной монархии! Это ж какую пользу можно извлечь, сами подумайте! Благоустроить всё! Я вот в Ордынском районе успел асфальтовую дорогу сделать. От Прудков до хутора Большие Луга. Вот что значит власть! «Сила, которая всегда хочет зла, но приносит благо!» Грешно, глупо не использовать эту силу! Я, к слову, уже наметил кое-какие важные государственные реформы...
Голос его звенел. Он, конечно, понимал, что с обывательской точки зрения выглядит совершенным сумасшедшим. Но никаких неудобств от этого не испытывал, наоборот, чувствовал себя на редкость естественно. Как, предположим, птица в воде или рыба в облаках. Профессор Покровский очень внимательно и, кажется, с большим состраданием глядел на Бубенцова.
— Иными словами, вы задумали построить рай на земле?
— В отдельно взятой стране, Афанасий Иванович! — поправил Бубенцов и ещё раз произнёс с нажимом: — В отдельно взятой! У меня все будут богаты, сыты, обеспечены. Дадим бой коррупции.
Афанасий Иванович недоверчиво покачивал седой своей головою.
— Лечение бесплатно. Хлеб в столовых бесплатно, — загибал пальцы Ерошка. — Проезд бесплатно.
Афанасий Иванович глядел всё грустнее.
— Каждой семье отдельное жильё! Дача, машина... — пообещал Бубенцов. — Бедность устраним. Утрём всякую слезу.
Подумал и добавил:
— У всех будет много различных вещей!
На этом мысль остановилась. Запас райских благ как-то скоро иссяк. Новых придумать он не мог. Впрочем...
— Все станут более лучше одеваться.
Теперь уже окончательно...
— Да. Всё устроено именно так. Мир завоёвывается пошлостью, — сказал профессор тихим, несколько усталым голосом. — Пошлостью. А вовсе не доблестью и не силой оружия. Ибо главное свойство «князя мира сего», как известно — пошлость. Но в этом и состоит роковой изъян самого верного плана завоевания мира. Как только они завоюют мир, он автоматически потеряет всякую цену.
— Потеряет цену?
— Именно так. Пока мир не завоёван, он ещё кое-что из себя представляет. В смысле хотя бы творческом. Но как только они поставят последнюю точку и скажут: «Ну, наконец-то! Вот он, мир. Мы добились своего!» — так тотчас с разочарованием обнаружат, что вместо подлинника, божественного оригинала, у них в руках всего лишь ничего не значащая подделка, тень. Пустая ссохшаяся оболочка. Вроде какого-нибудь серого осинового гнезда. Или мёртвого кокона от бабочки.
— Да! Мёртвый кокон. Я видел в детстве.
— Из мира уйдёт творческая сила. — профессор продолжал тем же ровным лекторским тоном. — Сила, способная изменить человека. Две вещи вдохновляют человека, дают ему решимость переменить что-то в себе — религия и поэзия.
— Ну, хорошо! — Бубенцов обрадовался тому, что тон разговора переменился, оторвался от быта и взмыл в философскую высоту. — Положим, они хотят овладеть миром. Убрать из него творческую силу. Но я-то им для чего?
— У вас оказалась нужная им кровь. Подлинная царская кровь. Это серьёзные люди. Копиями не интересуются. Они могут себе позволить только подлинник.
— Стоп! — крикнул Ерошка. — А Бубенцов-то! Рюрик понятно, от Рура. Прадед мой Рур! Но Бубенцова куда вы денете?
— Гогенцоллерн, — твёрдо и холодно сказал Покровский. — Чувствуете созвучие? Понятно теперь вам, откуда растут рога?
— По-вашему, это убедительное созвучие?
— Сами разве не слышите? Бубен-цо! Гоген-цо!
— Вон как! Бубен-цо! — с удовольствием повторил Ерошка. — Гоген-цо!
— А теперь слушайте меня очень внимательно. — голос Покровского возвысился, зазвучал мерно, торжественно. Как будто он обращался не к Бубенцову, а читал проповедь с церковного амвона. — Вы спрашиваете, для чего вы им нужны. Мёртвым духам нужна живая кровь, нужен подлинник. Предтеча мирового царя должен быть настоящим. Без оригинала невозможно существование копии. Только подлинник может породить отражения и повторения. Только подлинник даёт жизнь пародиям, копиям, иллюзиям. А никакого иного подлинника, кроме Бубенцова Ерофея Тимофеевича, у них нет!
— Бубен-цо! — смеясь и радуясь, повторил Ерошка. — Гоген-цо!
— Не обольщайтесь! Запомните на прощание то, что я вам говорил, — произнёс профессор особенным тоном, каким никогда до этого не пользовался. — Одна жизнь маленького человечка, умноженная на вечность, неизмеримо больше и дороже, чем весь этот растленный мир!
— Бубен-цо! Гоген-цо!
Профессор Афанасий Иванович Покровский привстал на каталке, слёзы показались на его глазах.
— Засим прощайте, дорогой друг! Вас уже заждались ваши мучители. Матушка, попрощайся с Ерофеем Тимофеевичем. Человек завершает свои прощальные визиты. Впрочем, до скорой встречи там!
— До скорой встречи там! — не задумываясь, кивнул Бубенцов. — Там-там-тарам...
Ерошка не помнил, как прощался, как уходил от профессора. Тот всё кричал вслед ему свои напутствия, но Бубенцов их почти уже не слышал. А напрасно. Это бы здорово пригодилось ему и в нынешней, и в будущей жизни. Впрочем, не только ему, но и всем нам, дорогие мои! Особенно напоминание о том, что всякий, даже самый мельчайший, поступок человека — имеет судьбоносное значение! Всякий!..
Столкнулся на лестнице кое с кем. Дама с бледным, точно обсыпанным мукою, лицом, с рыжей косою на плече поднималась ему навстречу. «Та самая!» — полыхнуло в мозгу у Ерофея. Но что значит «та самая» — объяснить в ту минуту он бы не смог.
— Скажите, человек... — дама остановилась, пристально вглядываясь в Бубенцова. — Здесь ли временно проживает знаменитый профессор?
— Бубен-цо! Гоген-цо! — ответил Ерошка, скача мимо дамы вниз по ступеням.
Когда был уже в самом низу, показалось, что вдогонку окликнул его по имени тихий, хрипловатый голос, и ещё раз окликнул, но он, по счастью, не расслышал, не приостановился, не обернулся.
Глава 6
Шапка Мономаха
1
Очевидно, отрадная весть уже распространилась по всему корпусу. Необыкновенное воодушевление наблюдалось в среде окружающих. Больше обычного шумели и волновались медсёстры в коридоре. Настя и Агриппина загадочно ухмылялись, перешёптывались. Повара на кухне гремели посудой, готовились. Ерофей Тимофеевич чувствовал на себе внимательные, озабоченные взгляды. Какой-то невысказанный вопрос стоял в глазах каждого встречного. Бубенцову, что уж тут лукавить, нравились эти знаки внимания.
Теперь, когда судьба вознесла его на самый гребень, возросла опасность впасть в высокомерие, гордыню. Человек слаб. Поэтому Ерошка силился выглядеть скромным, простым, таким же, как все. Нарочно сутулился, опускал скромно глаза, жался к стене, проходя мимо персонала. Нужно было изо всех сил скрывать своё превосходство. Это было по-настоящему трудно. Он не привык лукавить. Ведь, к примеру сказать, испанский король или самодержец шведский с самого раннего детства приучаются вести себя так, как будто они равны со всеми прочими. Монархов заставляют ходить пешком в магазины, на работу ездить на велосипеде. Но, во-первых, монархии их по сравнению с Российской невелики, можно сказать, мизерны. А во-вторых, Бубенцова же в детдоме никто не учил скромности по отношению к низшим сословиям. Приходилось теперь придумывать всё на ходу.
— Сохраняем спокойствие, — похлопал он по плечу придворного лекаря, который попался навстречу. — Не волнуйтесь.
Тот испуганно отшатнулся, остолбенел от неожиданной ласки. «Бедняга, — подумал с жалостью Бубенцов. — Совсем забит. Надо будет поощрить его...»
Ерофей Бубенцов вступил в помещение. Присел на кушетку. Рассеянно стучал пальцами по колену. Думал неопределённую думу. Любопытные то и дело заглядывали в дверь.
«Пожалуй, пожалую ему табакерку», — решил Бубенцов и усмехнулся. Каламбур вышел в стиле Шлягера.
— А я предлагаю развенчать! — тотчас отозвался из коридора приближающийся голос Шлягера. — Убедить в ложности идеи! Пусть сам отречётся. Пока не поздно! Убедить логическими, так сказать, доводами. Он и выйдет из замкнутого круга. Из кола этого своего.
— Нет, нет, коллега! — возражал голос другого Шлягера. — Метод в том и состоит, что не следует перечить! Наоборот! Коло его ока, говорите? И хорошо! Пусть повертится! До изнеможения. Довести, так сказать, до абсурда. И тогда ум его ужаснётся и вернётся в обычные берега.
Шлягер вошёл злой, покрасневший от спора с самим собой. Некоторое время шумно отсапывал, шевелил губами, издавал короткие мычания, рубил воздух ладонью. Присев на стул напротив Бубенцова, долго и озабоченно рассматривал лицо Ерофея. Бубенцов держался молодцом, так же дерзко глядел в ответ, стараясь не моргать. Шлягер не выдержал, сморгнул первым.
— Да какие тут споры? Именно так! Встанем, друг мой! — Шлягер, схватившись за поясницу, поднялся со стула. — Почувствуйте момент! Чувствуете? Запомните хорошенько, будете пересказывать внукам, правнукам и праправнукам.
Бубенцов пожал плечами, встал с кушетки. Старался выглядеть спокойным. Хотя волнение Адольфа невольно передалось и ему.
— Имею предложить вам, — сказал Адольф Шлягер глухо, подняв голову, уставившись в стену, — предложить вам...
Бубенцов тосковал, переминался с ноги на ногу. Пророчество исполнялось!
— Вы только не удивляйтесь, — переводя взгляд на Ерофея, домашним голосом вставил Шлягер. — Ничему не удивляйтесь.
Опять уставился в стену, прокашлялся и закончил громогласно, как бы обращаясь к толпе народа:
— Корону, скипетр, державу!..
На слове «скипетр» голос фиксанул, провалился. Но, несмотря на досадный сбой, пророчество всё равно сбывалось. «Корона» прозвучала отчётливо, ясно! Раскатисто, хотя и с небольшим козлиным дребезжанием прогремела «Дер-р-жава». Сбывалось! Бубенцов ничуть не удивился. Он ждал этого. Тем более что профессор предупредил! Прошла минута, другая. Шлягер внимательно глядел на Бубенцова, брови его всё больше хмурились. Толстые губы укоризненно поджались, собрались в гузку. Вероятно, его обижала слабая реакция на столь торжественные слова.
— Корона Российской империи, — тихо, со значением произнёс Шлягер.
Бубенцов молчал, не зная пока, как реагировать. Прошла ещё минута.
— У меня мышца на ноге подрагивает, — не выдержал наконец Ерошка. — Вот, обрати внимание. Дрог, дрог, дрог...
— Знаю. Напольён. Император. Перед решающим сражением, — отрывисто пояснил Адольф. — Лев Толстой. «Война и мир».
Прошла ещё минута. Бубенцов склонил лоб, то ли соглашаясь, то ли задумываясь. Шлягер глядел на него, приоткрыв рот, чего-то как будто выжидая. Даже дышать перестал.
— Запорол! Загубил эпизод! — топнул ногой, выдохнул с шумом. — Эх, как бы я сыграл! На вашем-то месте. Неограниченная власть! Абсолютная свобода! Делай что в голову взбредёт, и ни за что отвечать не надо. А вы стоите как истукан бесчувственный... Пропала сцена!
Горестная складка пролегла по углам рта.
— Твои слова были бы справедливы, — возразил Бубенцов, — если бы мы были пациентами сумасшедшего дома. Это там можно дурака валять. Но мы же не в дурдоме! Хотя формально...
— Да-да-да, — закивал Шлягер. — Намёк понял. Формально офис расположен на территории психиатрического корпуса. Но не надо этих скрытых упрёков! Скоро переедем. Джива устранён. Покои освободились. А вам как раз нужен покой. — Не удержался даже и в столь торжественную минуту от каламбура.
— Слишком много событий. Я устал, — согласился Бубенцов. — Внутри меня опустошение. Болит нога...
2
Весь остаток этого торжественного дня прошёл в тоске, в вялом бездействии. Но и наступившая ночь не принесла успокоения. Ночи здесь всегда бывали очень тревожны. Помещение под офис Шлягер выбрал крайне неудачно. Так, впрочем, часто случается, когда человек меняет прежнюю жизнь и устраивается на новом месте. Поначалу всё подходит идеально, но обязательно всплывёт — если не сразу, то впоследствии — какая-нибудь досадная мелочь, неудобство. В корпусе никогда нельзя было добиться полной темноты и тишины. Во всех коридорах, на всех этажах горел свет, пусть его и приглушали на ночь. Свет просачивался сквозь стёкла двустворчатой двери. С верхних этажей доносились звуки шагов, тихий говор, вздохи, а иногда и стоны. Как будто здание наполнено привидениями.
Поздно вечером заходила Вера, принесла яблоки.
— Останусь здесь, — предупредил её Бубенцов. — Поработаю ещё над документами. Тебе, вероятно, уже сказали. Я избран монархом!
Вера кивнула и заплакала от радости.
Вялая ночь обступила, обложила, окутала его со всех четырёх сторон, а также сверху и снизу. Народ в корпусе безмолвствовал.
3
Есть выражение «проснуться знаменитым». Применимо ко многим людям. Но только по отношению к редчайшим, избранным единицам можно сказать «проснулся царём». Бубенцов проснулся рано утром. Углы просторного помещения ещё заполнял сумрак. Но сквозь побелку на дверных стёклах было видно, что в коридоре горит дежурный свет. Оттуда доносились звуки возни, пыхтение, перетаптыванье, слышались сдержанные отрывистые восклицания. Именно от этих звуков Ерошка проснулся. Возня внезапно стала ожесточённей, яростней. На белом квадрате стекла чётко, как на экране, отпечатывались две чёрные тени. Тени как будто общались, сблизив носы, шевеля руками.
Одна тень косая, кадыкастая, долгоносая. Другая, густая, плотная, с тяжёлыми надбровьями, в профиль напоминала обезьяну или неандертальца. Профили делались резче, темнее, когда вплотную приближались к стеклу. А затем вдруг увеличивались в размерах, расплывались, размывались по краям. Как будто кто-то прорывался с усилием, а кто-то едва сдерживал, отпихивал.
— Почиваютс-с, — свистящим, сдавленным шёпотом говорил долгоносый. — Вчера изволили несколько... На радостях-то... Перебрал. Девять драк затеял, шутка ли? Еле увязали! Ды-ы куды-ы ж ты прёшься!
— Ну какая же коронация без драки? — возражал неандерталец с хриплым, басовитым напором. — Полагается.
— Так девять же! — упирался Шлягер.
— Я ж то и говорю, — напирал басок. — Я ж то и говорю.
— Ды-ы куды-ы ж ты-ы!..
Одна тень схватила другую за воротник, принялась терзать её, ломать, валтузить, влачить прочь от дверей. Обе тени стали увеличиваться, увеличиваться по мере удаления, теряя чёткость, густоту, пока не растворились совсем.
Ерошка спустил ноги на пол, всунул бледные ступни в шлёпанцы.
— Адольф! — позвал громко, строго. — Где тебя черти носят? Подь сюды, дрянь такая! — И тотчас поморщился, отметив в себе новую, повелительно-капризную интонацию.
Из глубины коридора послышался торопливый, дробный перестук шагов. Перед самой дверью всё стихло. По-видимому, Шлягер выдерживал некоторую благочестивую паузу, охорашивался. Плоская тень на стекле приложила палец к губам, склонилась, прислушалась. Затем дверь скрипнула, Адольф наконец явился весь, в полном объёме, щёлкнул выключателем. Зажужжала под потолком лампа дневного света, несколько раз вспыхнула, погасла, снова вспыхнула и стала светить, треща и помаргивая. Лицо Шлягера было пасмурно. Одет он был по-рабочему, в белый служебный халат. Прошёлся туда-сюда мимо бубенцовской кушетки, хромая, покашливая в кулак.
— Не особо-то здесь, — проворчал негромко, как бы в сторону. — Командует...
Расстегнутые пуговицы на халате Шлягера подчёркивали независимый его нрав.
— Кто там ко мне рвался? — спросил Бубенцов.
— Тэ-э, — махнул рукою Шлягер. — Лезут. Посланники. От полтавского олигархата. Принёс дары. Три миллиона с мелочью.
— Да ну? — не поверил Бубенцов. — Мне в дар три миллиона? Не откажусь!
— Откажетесь, — строго сказал Шлягер. — Я выгнал в шею. Презренные холопы! Дрянные, подлые, мелкие людишки. Пся крэв! Пользуются раздробленностью Руси! Геть, жадные падлы! Всю Украину в зубах принесут! Живую или мёртвую.
— «Живую или мёртвую»? Сильно сказано! Но всё это пустые слова.
— Слова пустыми не бывают, — строго опроверг Адольф Шлягер.
— Никогда бы не поверил, что происходящее реально, — качая головой, произнёс Бубенцов слабым голосом. — Но весь последний год чудеса так и сыпятся на мою голову. Неужели и это правда? Про посланников-то?
— Правда, — сказал Шлягер. — Привыкайте. Входите в роль постепенно. Предельно осторожно обращайтесь со словом. Цена человеческого слова непомерно высока! Опыта царствования у вас кот наплакал. Да и опыт-то в основном мечтательного свойства. «Эх, мне бы стать повелителем, да я бы!..» Плебейские грёзы. А реальная власть — тяжёлая, угрюмая, опасная штука.
Глава 7
Слова пустыми не бывают
1
То, что власть опасная штука, Бубенцов давно догадывался. Просто до сих пор действительно не имел живого опыта.
Хотя Ерошка ещё не вступил в должность, хотя символы власти пока ещё не вручали ему официально, но перемены уже проявлялись в каждой мелочи. В тоне окружающих, в их манерах, в тех знаках уважения, которые теперь ему оказывались. И, как выяснилось, совсем не зря Шлягер напирал на то, что теперь следует быть особенно осторожным со словом! Ничего нельзя было сказать просто так. Каждое слово, даже пустое, праздное, пыталось немедленно реализоваться. Этим же утром мистическая мощь царского слова проявилась особенно наглядно, когда Ерошка в сопровождении Шлягера шёл к завтраку.
— Хороший вид! — обронил Шлягер, приостанавливаясь у окна. — Но, обратите внимание, угол терапевтического корпуса ограничивает обзор.
— А и правда! — согласился Бубенцов. — Лаокоон, беседка и скамейки видны хорошо. А пруд частично закрывается.
— Вы имеете в виду, что хорошо бы снести? — забегая несколько вперёд, наклоняясь и заглядывая снизу, спросил Шлягер.
— Просторнее было бы, — сказал Бубенцов. — Тем более терапия давно не работает.
Шлягер приотстал, что-то быстро-быстро начертал в записной книжке.
На следующий день, проходя тем же коридором, поглядев за окно, Бубенцов увидел, что вокруг красного корпуса кипит адская работа. Ухали стенобитные машины, дымились руины, бульдозеры ровняли груды кирпича.
Спустя неделю никакого корпуса уже не было. На его месте раскинулся унылый пустырь. Только античная беседка да гипсовый Лаокоон стояли на прежнем месте. Хотя какое же «прежнее место»? Красный дом снесли, и не осталось никакого прежнего места. Беседка одиноко высилась на холме. Одиноко стоял Лаокоон, троянский прорицатель, воздев отломанную руку с торчащей арматурой. Над розоватой водою больничного пруда кружила золотая листва.
Сколько раз в прежней жизни мечтал Ерошка именно о такой вот абсолютной власти! «Ах, — думалось ему иногда в бессонные минуты, — если бы предложили мне, предположим, стать верховным повелителем! Как разумно, правильно, справедливо устроил бы я жизнь государства! Это же элементарно!»
Но вот что-то невероятное произошло с законами вселенной, что-то нарушилось в привычном ходе вещей. В результате сбоя призрачная фантазия маленького человечка воплотилась в жизнь. Приятные грёзы, сотканные из невесомого эфира, из ускользающего вещества сновидений, неожиданно отвердели, стали земной реальностью. Бубенцов получил царство и власть. И что? На вожделенной вершине было безлюдно, голо, одиноко. Что делать, с чего начать? Бубенцов ощущал, как всё большая тяжесть наваливается на него, всё беспокойнее ворочается сердце. Слишком неподъёмен груз, повиснувший на раменах. Его томили ответственность, страх за великую державу, за Российскую империю! Непонятная, косная, необъятная громада!.. Мысли цепенели, мрачное будущее грозно выступало из тумана. Похожие чувства он уже испытывал в детстве. Тревожные чувства сироты, которого после восьмого класса вдруг выбросили из привычного распорядка и уюта детского дома в чуждую среду, в большую волчью жизнь.
И чего более всего теперь не хотелось принимать — серьёзности, которой стало напитываться его существование. Слишком тяжёлыми последствиями отзывались слова и поступки. Если прежде самые безобразные пьянки, с драками и скандалами, оказывались совершенно ничтожными по результатам, то теперь, оглянувшись на пройденный путь, видел он за спиной разрушения и смерть. Самое лёгкое движение мысли, самое пустое слово обретало неожиданную мощь, взрывалось новыми смыслами, которые прежде безопасно лежали на глубине. В том, что происходило, не было ничего свышеестественного. Известно, что в слове спрессованы гигантские энергии. Реликтовый свет мерцает в глубине глагола. Обыкновенно свет этот не виден, да он и не нужен в заурядном, поверхностном общении. Так лампочка в сорок ватт освещает кухню, питаясь электрической энергией. И никто не догадается связать эту энергию, слабый этот свет — с ревущей плотиной, с рокотом и воем гигантских турбин, от которых сотрясается земля.
2
Вечером сидели со Шлягером в обширной пустой столовой. Стол накрыт был на два куверта. Почему-то не шёл из головы тот дом из красного кирпича, уничтоженный неосторожным царским словом. Ерошка вздохнул, поправил на груди салфетку, запятнанную потёком манной каши.
— Тяжела ты, шапка Мономаха! — Бубенцов произнёс это с сердечным сокрушением.
— Зане! — со смехом отвечал ему Адольф фон Шлягер, подмигнул ободряюще, ёрзая на стуле с другой стороны обеденного стола.
На шее Адольфа тоже висела салфетка, покрывая грудь, наподобие детского слюнявчика. Концы её, как заячьи уши, выглядывали из-за головы. Адольф, растопырив локти, клонился над трапезой. Лысина сияла сквозь редкие пряди волос. Шлягер шумно хлебал, сёрбал, пыхтел, чавкал, сопел, крякал, шмыгал. Ложка так и мелькала в быстрых пальцах. Весь облик его лучился довольством, испарина выступила на лбу от усердного поглощения пищи.
Бубенцов склонился к тарелке. Улыбка тотчас слетела с лица Шлягера, брови сдвинулись.
— Хребет! — взвизгнул строго. — Спинку держим!
Недожёванный кусок выпрыгнул из его возмущённого рта. Шлягер с недавних пор вёл занятия по дворцовому этикету. Но, к сожалению, имел крайне расплывчатое понятие о предмете. Нахватал верхов из бульварных романов, исторических кинолент, кое-что подсмотрел из эротического фильма про Екатерину. Что-то вычитал в википедии, что-то почерпнул из гравюр и репродукций. Полученные знания дополнил собственными домыслами.
Бубенцов вздрогнул, вытянулся вверх, выпрямил спину. Но ложку свою отложил с глухим стуком. Шлягер же как будто не заметил капризного демарша. Низко клонясь, всасывал в себя длинные макаронины. Спустя минуту отодвинул пустую тарелку, облизнул губы, промокнул салфеткою:
— А что же это мы? Почему не кушаньки?
В ласковом голосе Адольфа звенело раздражение.
— Уберите, — попросил Бубенцов. — Глядеть на это не могу.
— Однако же придётся. Царская еда! Вот специальный черпачок и щипчики для подобной пищи. Щипчиками ловите, зажимаете, и, пока оно извивается, пищит, вы от так от черпачком... Рот откройте-ка!
— И не подумаю.
— Вы что же, полагаете остаться таким, как есть? — разозлился Шлягер. — Природным человеком? После того как люди вбухали в проект прорву денег. Рассчитываете на то, что не заставят вас питаться по уставу?
— Сами жрите это. А я люблю обычную яичницу. Пусть мне пожарят пару яиц с салом. Желтки не разбивать!
Он оглянулся. Пожилые официанты не шелохнулись. Всё это были серьёзные, молчаливые люди, похожие на министров иностранных дел.
— Да, — покачал головой Шлягер, как будто извиняясь перед почтенными старцами. — Плебейство труднее всего вытравить из человека. Не знаешь уже, чем и потчевать его. Мало уже ему обеда из трёх перемен!
Подкатили тележку со вторым. Стали подавать тарелки с котлетами. Сперва Шлягеру, затем уже Бубенцову. Это почему-то острой обидой отозвалось в сердце Ерошки. Некоторое время ели молча. Но молчание длилось недолго.
— Когда кушаете страуса, — сделал замечание Шлягер, — полагается отщипывать куски двумя перстами. Мизинец, безымянный и средний оттопырены веерообразно! Вот так вот...
Ерошка отпихнул от себя миску. Он не знал, что это был страус.
— Вы кушайте, кушайте! — обеспокоился Шлягер. — Мясо полезное, диетическое.
— Для меня страусом питаться — всё равно как человека съесть.
— Хе-хе-хе, — добродушно заулыбался сытый Адольф. — Остроумно. Впрочем, в чём-то я с вами согласен. Птица рослая, двуногая. А насчёт того, можно ли есть человека, я так скажу. Как-то на Севере, попав в пургу...
Шлягер потянулся через стол за деревянной зубочисткой.
— Не надо, — перебил Бубенцов. — Знаю эту твою историю. Ничтожный болтун! Нельзя есть двуногих!
— Кто вам сказал, что нельзя есть двуногих?
— Можно четвероногих, копытных... — тут Бубенцов немного призадумался, продолжил: — Можно есть лапчатых. Но не двуногих.
Подобные размолвки возникали между ними и прежде.
— Уберите это, — попросил Ерошка, обернувшись к официанту.
Тот шагнул к столу.
— Оставьте это, — тихо, но твёрдо возразил Шлягер.
Официант отступил от стола, спрятал руки за спину.
— Ты издеваешься? — вспыхнул Бубенцов. — Нарочно меня душишь поганой едой!
— Хотели власти? Народной монархии? Придётся есть всё, что полагается по должности. А как вы думали? У нас слишком немного времени. Обычно такие манеры преподаются с самых младых ногтей. Вам же предстоит пройти весь курс ускоренно, экстерном. На чём мы остановились в прошлый раз?
— На перстах, — нехотя напомнил Бубенцов.
— Итак, что можно вкушать перстами, — начал Шлягер торжественно. — Перстами дозволено брать хлеб, фрукты. Дозволяется вкушать также плов, пильгиши, печёную брюшину...
Бубенцов в тоске отвёл глаза. Разглядывал старый плакат на стене: «Уважайте труд уборщицы!» Уборщица между тем, лязгая железными тарелками, убирала остатки еды. Прислушивалась к разговорам о страусе, фруктах и плове. Соскребала с мисок, вываливала в ведро остатки холодной манной каши. Стряхивала обгорелые корки чёрного хлеба, пюре с кусками плохо протолчённой картошки.
— У тебя плебейская привычка после еды полоскать зубы чаем, — проворчал Бубенцов с отвращением. — А имеешь наглость манерам учить.
Шлягер поперхнулся, жалко поморщился, а потом, взглянув исподлобья, огрызнулся:
— Не вам лечить меня! Не вы, как говорится, меня сюда направляли!
Проговорился и закашлялся.
Только брусочек повидла да тридцать грамм сливочного масла съел нынче за ужином Бубенцов.
3
Утром с Бубенцовым работал постановщик речи. Пучеглазый, со смуглым лицом, с большим унылым носом и пышными чёрными усами. Бубенцову не нравились грубые приёмы репетитора, волосатые жирные пальцы, манера внезапно совать эти пальцы в рот ученику, чтобы, захватив за кончик, вытягивать язык, добиваясь идеального грассирования. Вызывал отвращение его неопрятный белый халат, похожий на спецодежду мясника, весь в бурых пятнах.
— Дышите! Паузы! — кричал репетитор, всплеском толстых ладоней обрывая монологи Бубенцова. — Паузы подлиннее! Не дышите!
— Да куда уж подлиннее? — огрызался Бубенцов. — Я длю всякую паузу иногда до полуминуты! Мало этого? Я вам не Джива, чтобы две минуты без кислорода.
— Подлиннее не значит подлиннее! — злился учитель.
— А что же по-вашему значит «подлиннее»? Покороче, что ли? — язвил Ерошка.
— Подлиннее, значит, натуральнее! Естественнее! Неподдельнее, если угодно!
— Айзор Бекметович не кончал ваших академий! — приподнялся в защиту специалиста Шлягер. — Знали бы вы, в какую сумму обошлось ему медицинское образование! Откуда ему знать, где и когда ставить ударения!
Бубенцов нервничал, бунтовал, вскакивал со стула. Репетитор требовал смирения и послушания. Больно давил пальцами ключицу, усаживая на стул.
— Язык! — кричал репетитор, клонясь к лицу Бубенцова. — Я прошу высунуть язык! Рот пошире.
Ерошка открывал рот, высовывал язык. Репетитор ещё ниже клонил своё лицо, поворачивал под нужным углом настольную лампу. Свет отражался в вогнутом зеркале, закреплённом у репетитора на лбу, слепил глаза Бубенцову.
— Скажите «а-а-а...».
Шлягер сидел в углу, уткнув локти в колени, опираясь подбородком о кулаки, исподлобья наблюдал за уроком. Угрюмая дума омрачала его чело. Бубенцов, скосив глаза на Шлягера, ясно читал эту нехитрую думу: «К лицу ли царской особе смирение? Язык сей высунутый. Не во вред ли будет государственной пользе? Царь должен “смирять”, но не “смиряться”. Держать в узде жестоковыйную толпу. Иначе беда. Как добрый царь, так на Руси — горькое горе!»
Глава 8
Исповедь негодяя
1
На следующий день после выполнения обязательных по регламенту процедур Ерофей Бубенцов в сопровождении Адольфа Шлягера направился в канцелярию. Надлежало привести в порядок документы, заполнить анкету.
Поначалу всё шло гладко, дело спорилось.
— Я вот в графе «Профессия» записал: «Хозяин земли русской». По твоему, между прочим, совету. Как некогда император Николай Второй. — Бубенцов перечитывал анкету, держа перо на весу. — Но гляди, какая нескладуха. В пятой графе обозначил — русский. Вот думаю, не тавтология ли получается? Масло масляное?
— Ну-ка... — Адольф взял бумагу, отстранил далеко от себя, сощу-
рился.
— «Русский. Хозяин. Земли. Русской...» — подребезжал Шлягер разными по высоте тонами, пробуя слова на звук. — Да. Режет ухо. Действительно, неловкость какая-то. Шовинизмом как будто немного отдаёт...
— То-то и мне показалось. Сочетание необычное. Но не писать же «россиянин». Скажут, скрывает! И ещё одна, кстати говоря, у меня возникает неясность. В пункте семь. По поводу Бога.
— Какая же тут может быть неясность? Тут-то, наоборот, всё предельно ясно. Пишем: «Бога нет». Точка. Бог с маленькой.
— А вдруг есть? Что тогда? Кто-то же, логически рассуждая, должен был запустить всю эту махину... — Бубенцов кругообразно повёл рукой.
— Успокойтесь. Слишком мало доказательств. Только косвенные улики.
— Я думал над этим в последнее время. В пользу того, что Бога нет, тоже никаких доказательств. Ситуация патовая.
— А и не надо много думать! Зачем какие-то доказательства? Всё же ясно. Первобытный человек придумал. Молния, гроза, гром. Откуда ещё, по-вашему, Бог мог возникнуть? Сами посудите. Ни из чего, что ли? Не было ничего — и вдруг Бог!.. Так, что ли? Не было гроша — и вдруг алтын?
— Да, как-то оно... шатко.
— То-то же. Всё, что есть, возникло само. Ни из чего!
— Как может «всё, что есть» возникнуть ни из чего?
— Может. Наука доказала. Был взрыв. После взрыва всё стало разлетаться.
— Но позволь, а что же, собственно, взорвалось?
— Ничто! — Шлягер аргументы свои произносил голосом твёрдым, уверенным. — Ничто!
— Шатко, Адольф! Кто-то же должен был создать это Ничто. Получается как про курицу и яйцо. Хоть так, хоть эдак — всё шатко. Пока в пункте семь оставляем многоточие, — решил Бубенцов.
— Так неможно!
— И всё-таки многоточие...
2
Видимо, страшно не устраивало это многоточие кое-кого. Потому что после завтрака завихрилась в коридорах сутолока, застукотала беготня, почти непрерывно звучал «Встречный марш лейб-гвардии Преображенского Его Императорского величества полка». Адольф Шлягер принимал звонки, сам перезванивал кому-то в Красногорск, говорил на повышенных тонах, ругался, спорил. Происходило, как понял Бубенцов из отрывочных восклицаний, нечто вроде заочного совещания. Ерофей прекрасно понимал, что речь шла именно о нём, о его судьбе, хотя имени не звучало, не произносилось. Бубенцов чутко прислушивался к каждой реплике.
Постепенно из отрывочных фраз, словечек, междометий выяснилась вот какая картина. Прав был профессор Афанасий Иванович Покровский! Оказалось, что и в самом деле по древнему уложению перед венчанием на царство всякому полагается ознакомиться с начатками веры. Обойти опасную процедуру никак нельзя. Объяснения этому очень простые. Пародия и копия не могут возникнуть без подлинника. Иерархия власти, будь то земная власть или власть преисподняя, выстраивается по тем же законам, что и небесная. Копия должна утверждаться на прочных основаниях, на мощном фундаменте оригинала. Как и всякий паразит, пародия должна питаться чистой энергией подлинника.
Наслушавшись всех этих речей, Бубенцов встревожился, почуял смертельную опасность. Ведь после того, как возникнет копия, можно и даже должно уничтожить шедевр. Оригинал больше не нужен. Более того, одним своим существованием подлинник мешает полноценному самостоятельному бытию копии. Лишь с уничтожением оригинала копия приобретает хоть какое-то самостоятельное бытие и некоторую цену. Следовало теперь особенно внимательно приглядываться к поведению Шлягера.
3
Около полудня многие видели Шлягера на пустыре, возле изувеченной фигуры Лаокоона. Он ходил взад-вперёд, поправляя цветы под мышкой, часто поглядывая на часы. Садился на скамейку в беседке, но тотчас нетерпеливо вскакивал, снова принимался ходить. Одинокие нянечки и медсёстры подсматривали из окон, гадали: для кого же приготовил алые розы этот несуразный тип? Особенную интригу добавляло то, что свидание назначено в такое время, когда рабочий день в самом разгаре.
Однако вместо дамы сердца явился на встречу плюгавый человечишка в шляпе, габардиновом плаще, остроносых ботиках на высоких каблуках, начищенных до блеска. Незнакомец был такого маленького роста, что Шлягеру пришлось беседовать с ним, низко пригнувшись. О чём они там шептались, тесно сблизив головы, никто разобрать не мог. Да и сама беседа продолжалась слишком недолго, чтобы можно было сделать какие-то выводы. Было видно только, что маленький, коротко рубя ладошкой воздух, даёт какие-то указания, а Шлягер согласно и с большой готовностью кивает головой. Вскоре Адольф попрощался с пришельцем, отвесив тому глубокий поклон.
Вечером того же дня Ерофею Бубенцову было сообщено, что ему позволяется для расширения «колозрения» эпизодическое, в безопасных лечебных дозах, посещение храма. Предписывалось в содержание службы не вникать, всё божественное, что придёт в голову, сразу же с негодованием отрицать и отметать, дабы не подвергать опасности здравое, но пока ещё не устоявшееся, пока ещё слишком шаткое мировоззрение.
— Советую вам по мере сил разнообразить скучную церковную рутину, — наставлял Шлягер. — Религия давно устарела, обветшала! Во время всех этих дурацких псалмов думайте о своём, мечтайте, погружайтесь в грёзы. Представляйте, что на месте этих старух... Помышляйте, в конце концов, о лукавствии мира сего...
4
Но случилось нечто странное, не предусмотренное. Переступив порог храма, Ерошка приготовился к тому, что сейчас навалится обычная скука. Так оно и произошло, но только в первые минуты. Неожиданно скуку сменило живое, радостное вдохновение. Как будто в течение его мыслей вмешалась какая-то посторонняя властная сила. Он почуял явное присутствие чего-то необыкновенного, необъятного, внимательного к нему. Так входит в душу порыв первого весеннего ветра, так же необъяснимо накатывает на человека волна счастья. Приходит ниоткуда, уходит в никуда.
Ерошка, не чуя ног, простоял всю всенощную.
Вернулся в офис поздно, уже в темноте.
Настя с Агриппиной ушли, Филиппыч дремал за конторкой. Ерошка на цыпочках, то и дело останавливаясь, замирая, прислушиваясь, перебежал коридор. Тихо юркнул в дверь.
Шлягер, закончив смену, вешал в шкаф халат. На крадущегося Бубенцова не оглянулся. Только передёрнул плечами. Ниже согнулась сутулая, узкая спина.
— Ладаном прёт! — заговорил Шлягер. — Злоупотребили. Не отпирайтесь. Каждый ваш шаг... Опять небось разведывали про устройство мира? Про вечность-бесконечность. Дознавались, есть ли Бог?
— А что, если есть?! — вздрогнув, сказал Ерошка. — Вот ты хотя бы. Скажи честно.
— Есть, есть, успокойтесь, — сдался Шлягер. — Не надо на таких повышенных тонах! Вопрос, конечно, важный, но... успокойтесь. Истерики не красят мужчину.
— Да как же успокойтесь! Как же успокойтесь! Это не просто важный, это главный вопрос! Как же ты, мерзавец, отвечая уверенно, что Бог есть, живёшь так... так...
— Скотообразно? — помог Шлягер. — Да всё просто. Где оно, Царство ваше Небесное? Там, за горизонтом... Песня такая была, помните? «Там, за горизо-о-он-том, там, там-тарам-там-там-там!..» А скотские радости здесь — внутри нас! Вот же она, синица в руке.
Шлягер разжал ладонь. В руке трепетала синица. Глиняная расписная свистулька. Адольф Шлягер набрал воздуху, принялся дуть. Свиста, однако, не получилось. Игрушка оказалась бракованной, сипела и шипела.
— «Царство Небесное внутри нас», — сказал Бубенцов. — А вовсе не скотские радости.
Шлягер отбросил свистульку.
— Писание уже почитываете? — неприятно осклабился. — А вы поглядите, поглядите внутрь себя! А? Что? То-то же.
— Ну, мрак, — согласился Ерошка, постояв некоторое время с закрытыми глазами. — А за ним-то и есть Царство Небесное. По-моему, из мрака что-то проглядывает, просвечивает. Между прочим, кто-то из святых пишет про «божественный мрак».
— Вы что же, — совсем растерялся Шлягер, — Дионисия Ареопагита уже читали? Как посмели? Вам только азы положены! О, стоит только на минуту отвлечься, потерять бдительность...
— Профессор Покровский посоветовал.
Шлягер нахмурился, насупился:
— Мерзкий старик! Пресечь! А вы... Вместо того чтобы... Шастаете по коридорам.
— Мне вот что на ум пришло, — сказал Ерофей Бубенцов. — Пока я на службе стоял, там исповедь шла. Вот я и подумал: а что, если и мне завтра...
Он не договорил. Замолчал, видя, как внезапно переменился весь облик Шлягера. Долгое, извилистое тело скособочилось, перекосилось, выгнулось.
— Нет, нет! Нельзя! — крикнул, вернее, даже как-то взвизгнул Шлягер. — В храме людно, суетно. Толкотня.
— Завтра с утра, я думаю, особой толкотни не будет...
— Грядите за мной! — решился Шлягер. — Есть тихое местечко. Отец Скарапион давно ждёт!
Засуетился, хватая Ерошку под локоть.
— Скарапион? Разве бывает? — засомневался Бубенцов, увлекаемый Шлягером. — Что-то я таких имён не встречал. «Серапионовы братья» были.
— И в святцы уже проникли! О, горе мне с ним!
Адольф тянул Бубенцова за рукав, Ерошка послушно шёл следом. По ступенькам скатились во двор. Адольф перебрал ногами, чтобы попасть в такт, подстроился, пошагал обочь.
— Отцу Скарапиону не позавидуешь! Принимать чужую исповедь крайне опасно, — объяснял Шлягер. — Однажды в вагоне-ресторане мне довелось подраться с таким вот... На вас похож. Все грехи передо мною выложил, плакал. Обнажил язвы! Слезился, а потом рассвирепел. Официанта случайно задели. Ссадили нас на ближней станции.
Бубенцов молчал.
— Под Тулой. «Чернь» станция, — зачем-то уточнил Шлягер.
Вышли из ограды.
— Профессора куда дели? — мрачно спросил Бубенцов. — Я намедни после службы заглянул, а там пусто.
— Не поверите! — посерьёзнел и опечалился Шлягер. — Отрёкся от глупой маниакальной идеи по поводу сына своего. В себя пришёл! В терапию увезли. Умом-то восстановился, а вот физически...
— Что физически?
— Утратил дар речи.
— Как так?
— Онемел и оглох! «Муму» отняли, затосковал старик. Говорить перестал. От горя-то. Чувство вины заело. Онемел, подобно Герасиму.
— Я предчувствовал! — огорчился Бубенцов. — Не успел предупредить! Но постой, лукавый бес! Нет же никакой терапии! Снесли по слову моему!
— Идём, идём, идём... — Шлягер забегал слева, справа, подталкивал в спину, помогая и мешая Бубенцову. — Не отвлекайтесь на пустое! Я боюсь, вы не знаете, что такое исповедь. Я научу вас. Главное, никакого стеснения!
Шлягер горячился, захлёбывался, дудел в самое ухо.
— Валите всё, что на душе. Всю скверну изблевать надо, — дохнул в щёку тёплым тухлым душком. — Нельзя утаивать, иначе смысл пропадает.
— Это я знаю, — сказал Ерошка, морщась и отодвигаясь.
5
В ожидании духовника Скарапиона пребывали в «Кабачке на Таганке» до часу ночи. Пили портвейн стакан за стаканом. Шлягер, ссылаясь на простатит, то и дело отлучался. Ерошка отщипывал от холодного чебурека, жевал, следил за тем, как прихотливо вились мысли. Его занимало, что мысль человека в своём непостоянстве подобна ветру. Мысль свободна так же, как ветер. Витает в непостижимых высотах, блуждает среди сияющих облаков, а потом вдруг пикирует, снижается к самой земле, рыщет по тёмным закоулкам, принюхивается к помойкам. Вот как теперь, когда Шлягер заставил его исследовать дурные поступки. Ерошке, не привыкшему к таким исследованиям, было непросто сосредоточиться в этих скучных сумерках. Он привык думать ярко, солнечно. «Да ведь именно за этим столиком спорили мы некогда о влиянии богатства на душу, — вспомнил Бубенцов. — Как же давно...»
Откуда-то сбоку вновь высунулся нос Шлягера.
«Милейший, в сущности, человек, — думал Бубенцов. — Вот кто выслушает, утешит. Подаст мудрый совет в беде. А я-то... Эх! Ну почему только у захмелевшего человека появляется такой вот светлый, простой, правильный взгляд на всё сущее?.. Трезвый живёт в мороке, злобе, заблуждении...»
— Адольф, я неправ! Как же я был неправ! — сладкие, обильные слёзы умиления потекли по лицу Ерофея. — Я ведь тебя за подлеца принимал! Дурно думал о тебе! Ещё час назад. О, как это несправедливо!.. Я ведь думал, что ты сатанист!
— Стыдитесь, — озабоченно поглядывал на часы Адольф. — Что-то запаздывает духовник наш. Нешто поторкать его, потормошить?
— Стыжусь, — горестно говорил Бубенцов, опираясь мокрой щекою на руку. — О, скорей бы, скорей бы уж явился отец наш Скарапион!
— А и вправду пойти поторопить!
Шлягер пропал, только колыхнулась штора на кухонной двери. Спустя всего лишь полминуты новое движение померещилось Ерофею в тёмном углу, но ничего разглядеть не удалось. Неясное томление стало овладевать сердцем. И тут-то из-за кухонной шторы настороженно выглянул, помешкал, а потом высунулся весь — Бубенцов тотчас понял — сам отец Скарапион. О, долгожданный!.. Наклонившись вперёд, священник мелкими шажками побежал к Бубенцову. С огромной пышной гривой на плечах, с толстым носом, из-под которого широко расходились, торчали в стороны усы, заострённые на концах. Густые брови нависали поверх очков. Рыжая борода лопатой пласталась на груди. Худые, тощие плечи, впалая грудь, коротенькие ноги. При этом огромный, свисающий почти до колен живот. Живот этот колыхался при ходьбе, раскачивался под лиловой рясой, точно бурдюк с водой.
— На колена! — подойдя к столу, приказал священник тонким, визгливым голосом и пребольно ткнул Бубенцова кулаком в грудь.
Бубенцов, не рассуждая, бухнулся на колени. Мысли его заметались, не зная, на чём остановиться. Что же ему выбрать теперь из пёстрого сумбура прошлой жизни, где всё перемешалось, перепуталось? Не лучше ли сразу признаться, заявить о главной беде? О том, что вырвали вожжи из его рук, что уже не сам он управляет ходом событий, а руководит, управляет его поступками неведомая тёмная сила...
— На что жалуемся?
— Вот здесь ноет иногда. — Ерошка ткнул пальцем под рёбра.
— Правильно! Там накопляются грехи наши. Перечисляй, чадо!
— Перечисляю, святой отец! Грешен, грубил близким, — начал Ерошка с самого малого, невинного. — Много пил в своей жизни. И пью вот.
— Пил много? А давай-ка. Подтверди грех действием, — сказал Скарапион, поднимая стакан, не допитый Шлягером. — Клин, как говорится, клином!
— Клином, клином, клином, — закивал Ерошка. — Ах, батюшка, как верно сказано! Истинно так, святой отец!
— Ты вот что, парень, — насупился священник. — Ты слова «батюшка», а тем более «святой отец» не употребляй всуе. Не люблю. Претит. Давай-ка по-простому. «Комбат-батяня» слыхал песню? Вот и ты так же. Батяней меня называй. Ну, вздрогнем!
Бубенцов махом хватил стакан вина.
— Молодчага! — похвалил Скарапион. — Вижу, правду глаголешь. Без лукавства! Далее излагай. Но только мой тебе добрый совет. Ты представь себе, что ты не перед Богом каешься, а как бы пред демоном отчитываешься. Оно психологически получается сподручнее. Как бы заслуги свои перечисляешь, похваляешься! Оно ведь так и есть, если вывернуть! И у тебя легче пойдёт, разымчивей. В чём старец покается, в том молодец похвалится! Давай, хвались!
Бубенцов обтёр губы, продолжал повлажневшим голосом:
— Предал я, батяня, одного человека. Это меня мучит больше всего.
— Не «мучит» надо, а «радует», «тешит»! Похваляйся! Выворачивай!
— Далее... м-м... с женой дрался... — попробовал похвастаться Ерошка, но получилось как-то хило, не задорно. Кроме того, Ерошка, к удивлению своему, почувствовал, что напрочь забыл свои грехи.
— Проехали. Далее.
— Предал ближнего, — повторил Бубенцов. — Старика преклонного. С девицей одной также переспал.
— С Розой-то? Это не диво! Грех с такой не переспать, хе-хе... Повезло тебе, парень! Давай-ка ты, братец мой, выкладывай что-нибудь существенное, постыдное. Зачерпни из самого ила! С содомскими грехами как? — перескочил вдруг Скарапион. — Знаком? Нет тяги запретной? Не совершал? Не услаждался мысленно?
— Никак нет, батяня, — сказал Ерошка, сильно обескураженный таким неожиданным наскоком. — Не услаждался. Наоборот.
Скарапион потемнел лицом, расстроился, покачал головою укоризненно. Закусил клок рыжей бороды. Бубенцову стало совестно за то, что он не оправдал ожиданий.
— Что же я хотел-то? Ах да! Из-за слов моих неосторожных погибло несколько человек. Прокурора Шпоньку, Дживу...
— Да что ж ты заладил-то?! — обозлился Скарапион. — Частности какие-то. Мелочь! Нам нужны масштабные грехи! Экзотику подавай! Непотребство!
— Я, честно вам сказать, всякие непотребные мысли стараюсь отгонять, — ещё более устыдился Ерошка. — Чтобы они не внедрились, корень не пустили. Сразу корчую. Как только помысел возник, тут же его... чик.
— А вот это зря, парень! — строго сказал Скарапион. — Ты сперва помысел-то взрасти, взлелей, а потом уж с ним борись. Запретные книги читал? Профессор подсовывал контрабанду?
— Подсовывал. Мне Афанасий Иванович дал пару книг. Святителя Игнатия Брянчанинова. Там как раз сказано, что нельзя демонские мысли думать. «Разбейте младенцев о камни...» То есть пока помыслы ещё слабые.
— Врёт. Не одобряю. Младенца разбить о камни каждый сможет. Толку-то! — вскинулся Скарапион. — Ты вот попробуй помысел выкорчуй, когда он настоящий корень даст. Когда в силу войдёт. Вот это будет заслуга! Тренироваться надо на трудном. Иначе как мышцы-то духовные накачаешь?
— Я вот мысленно блудил много.
— Мыслью блудил? А-ха-ха! Это хорошо. Хорошо. Дам совет. Есть древняя мудрость. Вместо того чтобы мыслью блудить, фильм поставь. Немецкий. С голыми бабами, — доверительно приклонился к лицу духовник. — Сильно помогает в борьбе с помыслом.
— Ещё крал я, батяня, — сказал Бубенцов слабым голосом.
— Да ёжки ж моталки! Что крал? У Клары кораллы? — провыл мучитель. — Эх, люди-люди!
— Вот ещё! — пришло почему-то на ум Ерофею. — Долги! Влез в долги. В такие долги мы влезли с женой, что отдать невозможно. Неугасимые долги! Да вдобавок сумку прошляпил. С миллионами.
— Лады! Фигня всё это! — прервал Скарапион, которому, видать, надоела пресная исповедь. — Аз, ерей Скарапион, силою вышних. Прощаю грехи твои! Прошлые, настоящие, грядущие! Яко же и мы оставляем должником нашим! Вольно! Ступай, чадо.
Стукнул костяшками пальцев по темени.
— Что... всё прощается? — удивился Бубенцов, поморщившись от боли. — И с Розой?
— А я что тебе глаголю? Купно прощаю всё. Ступай.
Бубенцов поднялся, направился к выходу. По тому, как повело его вбок, а потом и в другой бок, понял, что пьян едва ли не вдребезги. Вино сильно ударило по ногам. Схватился у выхода за ствол пальмы, чтобы обрести равновесие, настроиться на долгий путь к дому. У самых дверей настиг его Скарапион, сунул в бесчувственную руку книжку:
— Прочти. Для духовного кругозора. По-нашему, по-церковному выражаясь — колозрения.
— Колозрения?
— Истинно так! Круг есть коло. А посему кругозор, стало быть, звучит по-древлему — «колозрение». А се журнал «Безбожник». Творение Емельяна Ярославского. Глаголы жизни! Величайший был ругатель и кощунник, царствие ему небесное! Учись, назидайся! А иные глаголы и мудрования отметай с гневом. Как то — священные писания, деяния, всяческие дамаскины, брянчаниновы и протчее суесловие...
Глава 9
Волга впадает в море
1
Было десять часов утра. Бубенцов напевал, приплясывал, стоя под струями контрастного душа. Наслаждался после долгого перерыва покоем домашней обстановки. Он давненько уже, две или три недели, не бывал в своей квартире. Обстоятельства заставляли безвылазно сидеть в офисе, ночевать там, питаться скудной казённой пищей. Вчера, выйдя на свободу, на радостях хорошенько надрался со Шлягером в «Кабачке на Таганке». После полуночи, помнится, к компании на халяву присоединился какой-то рыжий, пузатый поп. Чувство неловкости за вчерашние пьяные откровения улетучилось совершенно. На сердце было весело, легко, и если бы не глухая головная боль, то Ерошка был бы совсем счастлив.
Ледяные потоки перемежались горячими. Внезапно сквозь шум воды стали пробиваться невнятные посторонние звуки. Бубенцов завернул краны. Стуки, грюки, громы, восклицания зазвучали явственнее. Послышались близкие шаги, в дверь ванной комнаты сунулся Шлягер. Лицо его было измято, как будто от бессонной ночи, скосорочено больше обычного.
— Голову сгубил! — рыдающим тенором вопил Шлягер, по инерции продолжая перекрикивать шум воды. — Потерял голову, разыскиваючи!
— Кыш! — цыкнул Бубенцов.
Дверь захлопнулась. Ерошка насухо растёрся большим полотенцем. Надел домашний мягкий халат, вышел из ванной. Шлягер ринулся навстречу, схватил руку Бубенцова, долго держал её в своей ладони, пальцами другой руки перебирая по запястью, как будто щупал пульс. Клонился, пристально заглядывал в глаза. Впалые щёки Шлягера поросли за ночь редкими волчьими остями.
— Смятошася кости мои...
— Опять напаскудил? — весело спросил Бубенцов.
— После, после, — приборматывал Шлягер, пропуская его в гостиную. — Прошу вас одеться и следовать за мной. Всё уж приготовлено.
Ерошка вошёл, увидел, что действительно всё приготовлено. Одежда аккуратно располагалась на софе в том же точно виде, как в то далёкое время, когда он готовился к банкету в Доме Союзов. Двойник, в сером пиджаке, голубой рубахе, чёрных брюках, лежал навзничь на покрывале, расставив врозь носки начищенных ботинок. Ерошка, улыбаясь от нахлынувшего счастья, принялся одеваться. Шлягер вертелся, суетился рядом, подавая то щётку для волос, то ложечку для обуви, то шарф, то одеколон «Шипр». Через десять минут вышли из подъезда.
— Так что же случилось? — снова спросил Ерошка, не переставая улыбаться.
Он припомнил вдруг, что вчера ему простили все его долги. По крайней мере, формально.
— После, после. — Адольф, взяв Ерошку под локоть, мягко подталкивал, направлял к служебной машине. — Сюда, сюда пожалуйте.
Бубенцов покорно, не сопротивляясь, сел в белый микроавтобус. Два крепких дежурных охранника разместились по бокам, внимательно следя за обстановкой. Ерошка всегда был против охранников, но... регламент. Несмотря на пробки, до офиса добрались довольно быстро. Все водители, заслышав подвывание сирены за спиной, торопились уступить дорогу экипажу Бубенцова.
Матвей Филиппыч был уже на месте. Вскочил, открыл дверь. Влажные глаза его глядели с участием и жалостью. «Опять читал!..» Что-то намечалось, что-то назревало, тревожное, мятежное... Шлягер побежал вперёд, облачаясь по пути в служебный белый халат. Вдел одну руку, другая несколько раз мимо, мимо... Мягко поддерживая под локоть, провёл в кабинет, усадил Бубенцова на кушетку. Сам уселся напротив, опустил глаза, задумался. Палец его здоровой руки нажимал кнопку настольной лампы. Казалось бы, как просто: да-нет, да-нет... Но было заметно, что Адольф волнуется, выбивается из ритма. Свет зажигался, гас, загорался, тух, включался, вспыхивал... Стоп-стоп! — вдруг спохватился Бубенцов. Почему это «здоровой руки»? Откуда взялось? Ерошка встряхнул головой, внимательнее пригляделся к противнику. А ведь действительно! Левая рука Адольфа, замотанная бинтами, согнутая в локте, была повреждена — висела на перевязи. Халат накинут сверху, на одно плечо, словно на недавней инаугурации китель у гусара и забияки Барашина. Пальцы выглядывали из-под повязки, нервно пошевеливались. Бледное лицо Шлягера было в серых подпалинах. Вздрагивало веко, дёргалось острое ухо, судорога время от времени проходила по щеке.
Шлягер встал, сильно прихрамывая, прошёлся взад-вперёд. Туловище его, которое в обычное время клонилось немного на сторону, теперь совсем перекосилось. Когда проходил мимо, от одежды повеяло палёной шерстью.
— Где это тебя? — спросил Бубенцов без всякого сочувствия. — Подлинности учили? «Там, где боль, там и подлинность!» Так, что ли?
— Ох-хо-хошеньки!.. — провыл Шлягер тихо, скорбно. — Больно мне, Ерофей Тимофеевич!
— Что так? — Бубенцов поразился искренности тона, так мало свойственного Шлягеру.
— Пришед сонмом, до смерти меня задавили, — пожаловался Шлягер. — Из-за вас. Вечор истязали, инда и теперь весь болю. Исповедь-то вашу в верхах сочли за настоящую. Не удалось обосновать мне, что то была всего лишь интермедия!
И такой неподдельной горечью напитаны были слова, такая обида прорывалась в рыдающем голосе, что Бубенцов совершенно убедился — наконец-то настал тот редчайший миг, когда Шлягер говорит искренне. Попадает во все ноты. Адольф, по-видимому, сам был удивлён этим обстоятельством, страшно растерян. Такого с ним прежде не бывало. Настолько изолгался, что не мог устоять в каком бы то ни было человеческом чувстве. Всё соскальзывал в ёрничество. Всё, к чему ни прикасалась его гнусная мысль, в тот же миг опошлялось, теряло живую силу. Через мгновение, впрочем, очарование искренности испарилось.
— Семеро злейших били в тесном пространстве! — выл Шлягер, уже подыгрывая сам себе. — По приказу самого Вильгельма Готтсрейха Сигизмунда фон Ормштейна. В таких случаях сопротивляться нельзя-с. Опасно. Экзекуторы могут серьёзно озлиться. Особенно Базыкин, у-у... Но поверите ли, я не вытерпел, тяпнул-таки, защищаясь, Базыкина за палец. Огрызнулся, дерзнул...
В словах его ещё слышался отголосок тоски, звучал плач, но тоска была уже наигранной, плач поддельный.
— То есть ты хочешь сказать, что розыгрыш не вышел? Что твоя подлая интрига, или интермедия, как ты здесь выразился, не удалась?
— Вот именно. В том-то и парадокс! Оказывается, грехи ваши, которые вы по скудоумию выложили на вчерашней исповеди, прощены на самом деле. Выяснилось, что таинство покаяния в иных случаях не зависит от внешних обстоятельств.
— Что? И все долги мои списаны? И сумка?
— Материальных долгов не касается. Сумка числится! Юридических расписок я не давал вам! Духовное только прощено.
Шлягер, сопя, пошмыгивая носом, принялся рыться в ящиках стола.
— Интересно у вас устроено, — усмехнулся Бубенцов. — Организация, чувствуется, серьёзная. Юридические расписки, то-сё... А бардак неимоверный. Даже профессор удивлялся. Пропала целая сумка валюты, я жду, жду... Волнуюсь. Нервничаю. С ума схожу. Переживаю. А никто, гляжу, особенно-то и не парится.
— То были фальшивые деньги.
— А что ж тогда столько шуму? Из-за поддельных бумажек-то. Я помню, как ты в камере бился об решётку. Мордой своей волчьей. С чего бы это?
— С того это, уважаемый, что сама Федеральная резервная система Соединённых Штатов Америки не смогла бы выявить такого качества подделку. Ибо сама же их и печатала!
— Но в чём же тогда фальшь?
— В том, что мы-то знали! Мы-то знали, что деньги ничем не обеспечены!
— В чём же разница? Подумаешь, они знали!..
— В метафизике, уважаемый! Мы-то знали! Вот как вы думаете — могли мы найти кандидатуру, более подходящую на должность императора российского?
— Не уверен. — Бубенцов приосанился.
— Могли бы, — сказал Шлягер. — Но вынуждены довольствоваться таким вот... Ибо кровь, кровь! Без крови теряется метафизика. Важнее всего — суть, содержание, а не форма. Нельзя будущее царство строить на зыбких основаниях. Разрушится.
— Оно у вас в любом случае разрушится, — сказал Бубенцов. — При таком-то бардаке.
— Бардак и несуразицы создаются с умыслом.
— Умышленно?
— Организованный хаос. Чтобы профаны не заподозрили. Какой-нибудь умник докопается, кинется разоблачать. Его тотчас засмеют, затюкают: «Конспирологию развёл! В дурдом его!..» Между тем организации нашей больше двух тысячелетий!
— Значит, хаос ради конспирации?
— Вас бы в замок под Красногорском как-нибудь взять. На худсоветы ихние. Вот где машкерады! Ни один дознаватель не докопается! Всем польза от бардака. К примеру, служба безопасности. Под вашу опеку выделена особая группа. Называется «дружина оберега». Зарплата сдельная. Приписки, естественно. Сами же организовывают фронт работ. Устроили нападение, обеспечили защиту, получили наградные.
— Это они морду мне тогда набили? Перед банкетом в Колонном зале?
— А кто ж ещё? Контрольная проба нужна была. На анализ ДНК. Вот они таким способом добывали вашу кровь для анализа.
— Зачем так громоздко?
— А как прикажете бюджет осваивать? Прокат автомобилей, бригада нападения, сексапильный проход Розы Чмель для завлечения вас, управление светофором, расчёт вашей психологии и прочее. Весьма значительные средства были привлечены. Но согласитесь, машкерад вышел на славу!..
— Какой уж там маскарад! Били, твари, по-настоящему.
— Вполсилы, поверьте мне, — сказал Шлягер. — Вполсилы. До первой крови. Был строжайший наказ не ломать лицевые кости. А то бы...
— Но позволь, — сказал Бубенцов. — Почему они знали, что я ввяжусь в драку? Пройди я мимо, никаких анализов у вас бы не было. Так?
— Не так, — усмехнулся Шлягер. — На пути вашем к Дому Союзов расставлено было не менее дюжины подобных засад. Бюджет позволяет. И даже если бы вы благополучно миновали эту дюжину, на самом банкете вам разбили бы нос наши агенты. Вам бы всучили платочек, вы бы промокнули кровь, Роза доставила бы носовой платок в лабораторию. Анализ готов!
— Но ведь драки на банкете могло и не быть!
— Скандал с вашим участием был неминуем. Ибо характер ваш просчитан.
Конечно, Бубенцов с самого начала понимал, что увяз глубоко, однако истинных масштабов бедствия представить не мог. Произошедшие давным-давно события теперь прояснялись, получали совершенно иное толкование. Сила и коварство лжи состояло в том, что правда обнаруживалась лишь тогда, когда всё уже свершилось, когда ничего нельзя поправить.
— Итак, это вы всё подстраивали, — сказал Бубенцов. — Рассчитывали каждый мой шаг. Управляли мной. Так?
— Не так, — возразил Шлягер. — Мы свободы вашей не ущемляли. А скажем деликатнее... влияли. Нам не нужны наёмники. Нужны преданные, верные люди, которые служат добровольно. Действуют по убеждению. Они и не подозревают о том, что самые главные убеждения мы вкладываем в человека незаметно для него, контрабандой. Вживляем через образы, которые мало поддаются анализу. Через чувства, которые трудно контролировать. Через сердце, которое капризно и своевольно. Вам и в голову не приходила догадка, что вы всего лишь орудие чужой воли!
— Что ж, честность похвальна, даже и в таком вот циничном выражении. Ясно. Вам важно не как течёт река, а куда впадёт. Это я слышал. Должен сказать, что всё получалось у вас благодаря слабости моего характера. Попадись человек с более твёрдым характером...
— При чём тут характер?
— При том, что он не пошёл бы во власть. Не согласился бы ни на какую монархию. Это меня вы легко склонили.
— Что есть твёрдый характер? Это, в сущности, болезненная гордыня! И конечно, мы бы действовали другими способами. Ко всякой цели надёжнее всего добираться стезёю кривою, путями окольными.
— Волга впадёт в Каспийское море? Окольными путями. Так?
— Истинно так. Выражусь более удобопонятно. Что бы ни произошло, люди не поменяются. Они всегда будут долбить одними и теми же рогами в одни и те же ворота.
— Хорошо. А если я, предположим, откажусь от престола? Всё у вас рухнет! Ты подумал об этом?
— Мы знаем. Река всё равно впадёт в море. Так что ступайте займитесь делами. Оплатите для начала хотя бы счета свои, ибо содержание ваше влетает нам в копеечку! Не смею задерживать. Можете быть свободны!
2
«Вот же чёртов сын! — чертыхался Бубенцов, выйдя из кабинета. — Выходит, я могу быть свободным не сам по себе, а только по их приказу!»
Заложив руки за спину, Ерошка некоторое время ходил взад-вперёд по длинному коридору, пытался сосредоточиться, обдумать положение. Ни одной ясной мысли не приходило в голову. Хотел было отправиться в офис, сесть за стол, покумекать, что же делать с этими проклятыми счетами, о которых намекал Шлягер. Но обнаружилось вдруг, что совершенно пропал у него всякий интерес не только к личным своим делам, но и в целом к полезной государственной деятельности. Ошибки правительства, социальная несправедливость, имущественное неравенство, коррупция, внешняя политика — всё это показалось ничтожным, мелким, пустым.
Теперь, когда ясно стало, что он всего лишь исполнитель чужой воли, душевная бодрость, которая прежде наполняла радостью и смыслом всякий день, иссякла. Кое-как перемогся до обеда. После обеда, как полагалось по здешнему обычаю, Ерофей Бубенцов отправился к себе, прилёг отдохнуть.
Едва прикрыл глаза, как зарокотало из коридора, забалагурило нежно, басовито, послышался ответный девичий смех. Смех этот приближался вместе с цокотом весёлых каблучков. Настя заглянула в офис, а вслед, не дожидаясь приглашения, всунулся Игорь Борисович Бермудес.
Бермудес с большим трудом и не с первой попытки протиснулся в дверь. Мешал походный рюкзак, который возвышался над головой. Видно было, что Бермудес ещё не привык к размерам неудобной своей ноши. Мешали выдающиеся за габариты черенки кирки и лопаты. Упёршись рюкзаком в верхний косяк двери, повернулся левым плечом, зацепился ремнями за дверную ручку. Настя и Агриппина хлопотали с обоих боков, помогали выпутаться, подпихивали. Бермудес вошёл, сбросил с плеч рюкзак, загоготал, загремел, заполняя пространство:
— Ба-а!.. Бубен! Знатно устроился! Молодчага! Как дела, душа моя?
Кидал слова, бодрился, а глаза тревожно рыскали по углам, по стенам. Ерошка научился тонко подмечать настроение посетителей. Он обрадовался появлению приятеля, скинул одеяло, сел на кушетке. Нащупывал ногами шлёпанцы. Игорь Борисович с шумом придвинул табурет, присел. Спохватился, кинулся вновь к дверям за рюкзаком. Зашуршал, выложил на тумбочку большой пакет.
— Вот, принёс, — почему-то смущаясь, проговорил он. — На всякий случай.
— Стоило ли хлопотать, — говорил Ерошка, тоже чувствуя небольшую неловкость.
— Да ничего. Не в тягость, — по-прежнему смущённо отвечал Бермудес. — Мандарины там. У нас говорят: «Хлеб сам себя несёт». А в Абхазии говорят: «Мандарин сам себя несёт». Абхазская народная поговорка.
Шуткою старался сгладить. А что, что сгладить? Ерошка видел, что глаза Бермудеса ускользают, не выдерживая прямого взгляда.
— Хорошие времена были, — грустно усмехнулся Бермудес, снова отводя глаза. — Весёлые. Жаль.
— Как сказать...
Ненадолго замолчали.
— Вот так вот... — сказал Ерошка.
— У тебя выпить тут нет? — решился Бермудес.
Взял с тумбочки мандарин, помял в пальцах.
— Атмосфера такая, — пояснил, оглядываясь на синие стены. — На водку позывает.
— А и правда! — оживился Бубенцов, нажал красную кнопку над кушеткой. — Давненько не брал я в руки... Сейчас!
Послышались каблучки, Настя появилась в дверях.
— Анастасия, — приказал Ерошка. — Я там наэкономил.
И для Бермудеса пояснил:
— Мне по инструкции спирт полагается. Сто пятьдесят в день. Вроде как фронтовые.
— Обжечься можно с непривычки. Навык нужен. — Настя оценивающе поглядела на Бермудеса. — У нас медицинский.
— Налей, сестра! — сказал Игорь Борисович. — Навык имеется. Лучше нет, милочка, чем медицинский спирт!
Бермудес после общения с красивой Настей и особенно в предвкушении выпивки заметно повеселел. Кругообразно потирал ладони, точно умывал руки. Бубенцов сходил к холодильнику, извлёк домашние котлеты, которые накануне принесла Вера. Холодный хлеб, помидоры, минералку. Кефир, подержав в руке, вернул на место.
Тем временем Настя вкатила столик. На нижней полке позвякивали хромированные инструменты, перекатывались ампулы, теснились мензурки, на марлевых салфетках лежали использованные шприцы. Верхняя же поверхность накрыта была хотя на скорую руку, но с изысканной заботливостью. Две стограммовые бутылочки спирта, которые в народе называют «фуфырики». Два куска ржаного хлеба. Две мензурки из толстого зелёного стекла с вертикальной осью, расчерченной горизонтальными делениями.
— Худо, милочка! Поросюк опять попал, — сказал Бермудес, покосившись на мензурки. Потянулся к бутылочке, долил спирту до краёв. — Покалечили Тараса. В Махачкале.
— Педики?
— Если бы!.. Ну, будем!
Выпили, подышали, запили минералкой. Игорь Борисович пережевал котлету, продолжил:
— Если бы педики!.. В Махачкале, душа моя, нарвались на чужую свадьбу. Адрес перепутали. Не стоило, конечно, перед выступлением пить! Сколько зарекались! По сценарию скандал планировался в доме рыбнадзора. А Тарас на местного бая налетел. По соседству. Тот сына женил. Ты бы видел этого бая! Глаза навыкате, пальцы в перстнях. Поначалу, когда Поросюк взялся тост произносить, никто не врубился. Тарас невесту назвал солдатской подстилкой. Как комплимент. Имел в виду, что красивая, никто мимо не пройдёт. Тихо, правда, стало. Но подумали, микрофон барахлит. А как на самого бая попёр... Глохни, говорит, жаба камышовая!.. Ты бы видел. Шестьсот человек гостей. Отвянь, говорит, жаба! Тарас умеет сказать. Тишина настала такая. Шестьсот человек. Организм у меня сбой дал. Пришлось срочно в огород бежать. Это меня, можно сказать, спасло...
— Жаба камышовая? Остроумно.
— Как тебе сказать? Мы окраинами из Махачкалы выходили. Ни зги не видать, за спиной собаки. Поросюк стонет, волоку его...
Бермудес с удовольствием ел домашние котлетки, обдирал мандарины.
— А уж по Украине поколесили! Вор на воре! За еду, считай, работали. В Кобыляках гранату кидали в нас, в цирке местном. С юмором у них там стало туговато. Всего не перескажешь, чего хлебнули, милочка. Я с Тарасом больше не могу. На стройку поеду, завербовался. — Бермудес кивнул на рюкзак. — За границу.
— На стройку?
— Архитектурный проект, душа моя! Всемирный масштаб!.. Айда со мной!
— Нет, Игорь, — вздохнул Бубенцов. — Слишком серьёзные дела. Сам видишь, что со страной происходит. Надо решать проблемы. Таким огромным царством управлять — это тебе не... Это тебе не...
А что «это тебе не», придумать не мог. Лицо Игоря Борисовича вдруг омрачилось, опечалилось. Озабоченное и как будто виноватое выражение показалось в глазах. Он заторопился, поднялся, взглянул на часы:
— Однако мне пора! Ну, стремянную!
Бермудес стоя допил остатки, махнул рукою, направился к двери. Распахнул, обернулся из коридора:
— Прощай, Бубен! Далось тебе это царство! Возвращался бы ты, милочка, к прежней жизни!
Как будто мысли самого Бубенцова прочитал и высказал вслух Игорь Борисович. Думал, думал об этом Ерошка Бубенцов. Давно думал. Как ему вызволиться из вязкого плена, из державных оков. Конечно, жаль было расставаться и с царской короной, и с неограниченной властью, к которой привык. Как жить без установленного распорядка? Как обходиться без знаков внимания и почитания? А как отказаться от государственного обеспечения? Когда живёшь на всём готовеньком и не надо думать о хлебе насущном. Разве легко решиться? Отречься от своего я, от крови своей, а значит, и от той высокой миссии, которую возложила на него судьба. Стать обыкновенным, незаметным, рядовым человеком. Одним из миллионов двуногих тварей. Не глядеть ни в какие Наполеоны! И тогда свалится с его плеч и сердца непомерный груз ответственности за людей, за страну, за весь мир. Закроются все его личные дела. И никому не станет он нужен.
А с другой стороны — кто же отпустит его?
«Надо пробовать. Шансов мало. Но следует пощупать почву, определить пределы. На всякий случай...»
Глава 10
Ваш непокорный слуга
Шлягер сидел за столом у окна. На появление Ерошки не отреагировал никак, даже не взглянул на вошедшего. Весь был погружён в скучное дело, терпеливо клонил прилежный лоб над бумагами. Бубенцов остановился перед столом, вытащил из кармана сложенный в четверть лист. Развернул, умышленно шумно шурша. Постоял с полминуты, нависая над плешью Шлягера. Пошуршал ещё шумнее...
— Что там у вас? — не поднимая головы, буркнул Шлягер. — Оплатили счета?
— Вот, написал, — тихо ответил Бубенцов. — Всё по форме, как полагается. Позвольте пребыть и проч. Покидаю вас.
— Карандашом почему? — недовольно спросил Шлягер, принимая лист. — Подпись карандашом недействительна!
— Так, мне показалось, будет уместнее, — не повышая голоса, кротко пояснил Бубенцов. — То, знаменитое «Отречение» на станции Дно, как утверждают, тоже карандашом подписано.
— Отречение?! Ну-ка, ну-ка... «Аз, Бубенцов Ерофей Тимофеевич, отрекаюсь от скипетра, державы, престола, а такожде всех благ и превелегий...» — начал читать вслух Шлягер...
Зашипел вдруг, отбросил бумагу, вскочил как ошпаренный. Бубенцов удивился столь бурной реакции. Хотел было объяснить, что в слове «превелегий» нет ошибки, что он специально написал так, соответственно со своими представлениями о грамматике прошлых веков.
Шлягер объяснений слушать не стал. Бросился к стене, уткнулся носом. Как будто шептался с кем-то через дырочку. Ерошка глядел на худые лопатки Шлягера, на его тощий зад, мешочком обвисшие штаны. На его сутулую, узкую, жёсткую спину. Странная жалость к этому чужому и, вероятно, очень одинокому человеку шевельнулась в его сердце.
Между тем стали подниматься со своих мест окружающие. Подходили поближе, тихо обступали, с недоверием разглядывали Ерошку.
— Ибо всё, что я от вас получил, имеет одно определяющее свойство, — поспешил отчеканить Бубенцов заготовленные слова. — Какое же это свойство, спросите вы.
— Ну? — Шлягер обернулся. — Какое же свойство?
— Спросите вы, — повторил Бубенцов. — Не сбивай, пожалуйста. Всё эфемерно. Все ваши дары пусты. Деньги улетучиваются. Слава дым. Поместье, владельцем которого я якобы являюсь, мне принадлежит только на бумаге. Я там и дня не жил. Так что есть оно у меня или нет его — неизвестно. Вернее, прекрасно известно — его нет у меня в реальности. Оптическая иллюзия!
Ерошка поднял руки. Показал, как это делает фокусник перед представлением, что обе ладони совершенно пусты. И с видимой, и с тыльной стороны. Сам как будто удивлялся тому, что в руках ничего нет.
— Как это ничего нет? А квартира? — разом загомонили голоса. — Прекрасная профессорская квартира! Это что, тоже иллюзия? Пусть вы получили её ценой предательства, но...
— Там живёт профессор со старушкой. Да ещё старая Зора. Да ещё Настя и Агриппина. Чей-то кот. Куда их? Я только иногда заглядываю. Так что все ваши дьявольские дары превращаются, по здравом размышлении, в глиняные черепки.
— Но так можно сказать вообще о жизни человеческой! — мягко заговорил Шлягер, подходя. — По здравом-то размышлении! А моя жизнь что? Не черепки? Где моя юность? Первый поцелуй? Где всё это?
— Мелькнула жизнь, и нет её! — басовито подтвердила какая-то смутно знакомая толстуха, оглянулась со вздохом. — Где сладкие грёзы любви? Всё эфемерность!
— Мечта.
— Как с белых яблонь дым!..
Сочувственные, добрые лица со всех сторон обступали Ерошку, кивали, соглашались, сетовали.
— Всякий человек смертен, — успокаивал Шлягер. — А почему? Адам согрешил, и в мир вошла смерть.
— Где целые поколения людей? Все уже умерли, Ерофей Тимофеевич! — ласково убеждала Настя Жеребцова. — Ерунда всё это! Греши, пока молодой! У меня вон тётка в Орле... Сносу не было! А тоже туда же! На тот свет не унесёшь.
— Огонь под полой недалеко унесёшь! — невпопад брякнул Шлягер. — В гробу карманов нет.
— Это всё банальности, — возразил Бубенцов, признавая за голосами определённую правоту.
Однако нельзя было долго дискутировать. Споры с демонами заведомо проигрышны! Враги заваливали его словами. Надо было поскорее выкарабкиваться, завершать задуманное дело. Ерошка отчеканил твёрдо, подавив колебания душевные:
— Ухожу от вас, звери!
Голос всё-таки дрогнул. В самом уже конце. И блеснул надеждой тёмный зрак Шлягера.
— Э-э, милейший! — закричал Шлягер, бросая бумагу на стол, замахав обеими руками. — Так не годится. Взять вот так и отречься от всего! Попрать труд тысяч. Поступок сумасшедшего человека! Савёл Прокопович! А, Савёл Прокопович! Можно вас?
Выбежал таившийся всё это время за тёмной шторой Полубес, загремел тяжёлыми стопами. В два шага приблизился к столу, надевая на ходу железные очки, не попадая оглобельками за уши. Мешали выпирающие надбровья. Широкие подтяжки Полубеса, которые не успел он набросить на плечи, свисали с пояса. Схватил бумагу, приблизил к самым глазам. Стал похож на персонаж из пьесы Гоголя. Щурился, привыкая к свету после сумрака. Бумага мелко тряслась в руке. Очки крепились только за одно ухо, висели криво.
— Не верю! — взревел городничий.
Взялся поправлять, но толстые пальцы не слушались, очки покосились ещё кривее.
— Да он и сам не верит! — пронзительно закричала Настя Жеребцова, заглянув в бумагу через плечо Полубеса. — Блаженный! Глядите, как подписал в конце: «Ваш непокорный слуга!»
— Где, где? А-а! Точно. «Ваш непокорный слуга». А-ха-ха... Так это юмор! А мы-то...
Кто-то ещё, всё это время таившийся за стеною, громко, облегчённо захохотал, зашёлся клекочущим, отрывистым смехом. Ерофею поначалу показалось, что там кудахчет курица, снёсшая яйцо.
— Ах, же вы вот какой ядови... — начал было Шлягер, расплываясь.
— Вот что я вам скажу, — прервал Бубенцов. — Я в ваших проектах не участвую! Но!.. Возможен некоторый компромисс...
Постарался произнести слова максимально жёстко. Но стоило ему намекнуть на некий «компромисс», как немедленно почувствовал, понял, что эту битву он уже проиграл.
— Какой компромисс? Какой ещё может быть компромисс? — обрадованно загалдели голоса. — Тут задействовано множество людей! Вы хотите, чтобы усилия их пропали всуе?!
— А компромисс такой, — повысив голос, сказал Бубенцов. — Если вам так уж нужен подлинник, то готов предоставить свои молекулы. Берите мой ДНК. Выращивайте! За отдельную плату, разумеется.
— Как так?
— А вот так! Овцу Долли вырастили англичане, вот пусть и царя вам выращивают!
— Ой, худо мне! Англичане! Ой, держите меня семеро! — жалобно пропищала Настя Жеребцова и, подломившись в коленях, пала ничком на столешницу.
Агриппина Габун, не вставая со стульев, уронила руки вдоль тела, свесила голову. Обмякла ведьма в показном обмороке, выставив в вырезе платья соблазнительные груди. Полубес, гремя сапогами, кинулся к окошку, распахнул, давая приток воздуху. Тотчас влетел весёлый сквознячок, легонько потрепал волосы Бубенцова. Затем сквознячок склонился над письменным столом, захлопотал над раскрытой картонной папкой, пытаясь расшевелить, оживить мёртвые страницы. Напрасно.
Как ни готовился к неприятному разговору Бубенцов, но теперь был до чрезвычайности поражён реакцией окружающих. Первым делом взял графин, налил воды в чашки девушкам. Затем отхлебнул и сам прямо из горлышка.
— Знаете ли вы, милостивый государь, на что замахнулись? — грозно рявкнул Полубес, возвращая его в реальный мир. — Знает ли он?
— Нет, он не знает! — раздался откуда-то из-за стены резкий, незнакомый Бубенцову голос. Голос, по-видимому, принадлежал тому существу, что только что смеялось клекочущим куриным смехом.
— И знать не хочу, — тихо сказал Бубенцов и поставил графин на край стола. — Вам всем шах и мат. И тебе в том числе!.. — добавил он, повернувшись к стене. — Будь ты проклят... кто бы ты ни был!
Бубенцов двинулся к выходу. Сбоку семенил Шлягер, теребя за локоть. Бубенцов резким движением стряхнул прилипалу.
— Отрекаетесь? — продолжал Шлягер горячо. — Не дрогнет рука? Уничтожить труд поколений... Да вас в сумасшедший дом надо упечь!
— А у вас-то что? Не дурдом разве? Тем более корпус так и называется — психиатрический! Так что упекайте куда хотите! Не страшно.
— Хорошо! Тогда зайдём вот с какой стороны. Мы готовы окончательно списать ваши материальные долги. Как вы? Всё забыть и простить. Без расписки и прочих юридических...
— А пошли бы вы все к чёрту лысому! — выругался Ерошка.
Он чувствовал, что путы ослабли, что стало гораздо свободнее, вольнее. Дышать можно было уже полной грудью.
— «Не даждь места лукавому демону... Лукавому демону, — громко заговорил он, торопясь и сбиваясь, — обладать мною... насильством смертного сего телесе!»
— А насильно и не удерживаем, — проскворчал куриный голос из-за стены. — Только добровольно. Развяжите руки! Дайте ему свободу!
Пошатываясь, потирая затёкшие кисти, Ерофей Бубенцов двинулся прочь. Споткнулся на пороге.
— Карлик на глиняных ногах! — ехидно прокомментировал куриный голос за спиной.
И грохнуло всё собрание. Вылез вперёд толстый, с жабьими глазами. Стал изображать «карлика», переступать раскорякой. Шмякнулся, растянулся. Хохотали, хлопали себя по ляжкам. Даже старый Жиж тоскливо усмехнулся. С каждым взрывом нервного смеха делалось вокруг как будто темнее, мрачнее, невзрачнее.
Глава 11
Роза и Зора
Удар, что и говорить, оказался болезненным. Получив свободу, выйдя с узелком одежды из ограды, Ерофей Бубенцов с первых же шагов понял, как отвык он от самых обыкновенных вещей. Нужно было самому добывать пищу. Как-то заново обустраиваться, прилаживаться. Начинать с нуля. Даже с минуса. Оказалось, что, пока Бубенцов занимался мировыми проблемами, делами государства и благоустройством собственной души, его успели лишить звания артиста. Одновременно уволен был он также из пожарных. Приказ звенел негодованием: «За удобопоползновенность ко всякому непотребству, за образ жизни, невместный с званием огнеборца и лицедея, за злое произволение, за не...» Это был стиль Шлягера.
В понедельник около полудня Ерошка пришёл за расчётом. От былой славы не осталось следа. Никто из встречных не узнал его и не кивнул, пока он шёл по улицам, по коридорам, лестницам, гулким переходам. В бухгалтерии выяснилось, что никаких выплат ему не полагается. Наоборот, он же оказался ещё и должен «шестьсот шестьдесят шесть копеек».
— Так разве бывает?
— Казначейский документ! Как напечатано, так и бывает! Что могу сделать? — отрезала кассирша, и он замолчал. Понял, что и тут намутила воду рука Шлягера. Сумма, конечно, издевательская, но, к счастью, небольшая.
Ерошка расплатился. Отдал семь рублей. Мелочи на сдачу у кассирши не нашлось. Ерошка хотел было принципиально потребовать, настоять. Но размыслил, что бедная женщина ни при чём, отступил. Собрался было уходить из здания, однако в последний миг передумал. Дабы не сочли малодушным... Решил-таки зайти к врагу.
Шаги гулко разносились по пустому зданию.
Калоши с красной выстилкой аккуратно стояли у порога.
Толкнул ненавистную дверь.
— О, какие люди в Болливуде! — фальшиво обрадовался Шлягер, вскидываясь из-за стола. Торопливо дожевал что-то, сглотнул, одновременно спрятал остатки, задвинул ящик. Видать, застеснялся. Завтрак аристократа. — Люди в Болливуде! — повторил с нажимом, вытер сальные губы, выждал несколько секунд, но, видя, что Бубенцов никак не оценил каламбура, продолжил фальшиво-весело: — Счастлив видеть в добром здравии! В здравом, так сказать, добрии. Заждался. Намедни с Савёлом Прокопычем много про вас толковали. С большим, знаете ли, сочувствием. Даром вы Савёла-то Прокопыча сторонитесь. Даром! А он даром обладает! — снова пытливо глянул на лицо Бубенцова, ожидая реакции на игру слов. Продолжил, скрывая досаду: — Лицом, положим, груб, тут не поспоришь. Да вы не глядите, сердце-то у него нежное, трепетное, чувствительное. Слышно, неприятности у вас? Похудели, с лица спали немножко. Спали плохо? — Метнул взгляд, оценивая реакцию на каламбуры. Нет. Пропали втуне. Продолжил, ещё более нагнетая весёлости в голос: — Но даже идёт вам. Байроническое что-то. Не примите за иронию. Тем паче за лесть. В карман вам залезть... А в карманах-то ничего несть!
Так тараторя, вился вокруг Ерофея, прихватывал за лацкан, пожимал руку у локтя, потрёпывал по плечу, охаживал, обдёргивал, как какой-нибудь одесский портной. Недоставало только иголок во рту. Затем отбежал к стене, взялся за ручку двери, ведущей в комнату отдыха.
— Ты подонок и лицемер! — прервал, подходя к нему, Бубенцов. — Впрочем, тут никакого открытия нет. Я не раз тебе это говорил и в прежнее время.
Шлягер инстинктивно отшатнулся, прикрылся ладонью, ожидая пощёчины. Но, поняв, что ничего подобного не будет, с весёлой ненавистью поглядел на Бубенцова.
— Вам просто досадно, что мы вас за нос вели, — огрызнулся он. — А меня лично вы ненавидите как свидетеля ваших моральных падений.
Шлягер вытащил большой платок, зычно просморкался. Затем решительно дёрнул ручку, распахнул дверь комнаты отдыха.
— Прошу сюда, — склонил голову, пропуская вперёд Бубенцова. Даже, кажется, прищёлкнул не очень ловко каблуками.
— Ну? — Ерошка вошёл, остановился на пороге сумеречного пространства. Он впервые заглянул сюда. Даже пожарным не выдавали ключей от этого помещения.
— Минута молчания! — торжественно произнёс за его спиною Шлягер.
Комната отдыха оказалась длинной, просторной, с низкими потолками. Вдоль стен тянулись ряды стеклянных шкафов с синеватой подсветкою изнутри. Обычно в таких музейных шкафах вывешивают одежды исторических деятелей.
— Минута молчания, — значительно повторил Шлягер и присел на железный стул у дверей. Ладони положил на колени.
Бубенцов огляделся, нерешительно двинулся к ближней витрине.
— Руками экспонаты не трогать! — строго прикрикнул Шлягер.
Бубенцов заложил руки за спину, медленно побрёл вдоль стеллажей. Он понял и в большом потрясении молчал. Обходил стенды, сутуло склоняясь, вчитываясь в пояснительные надписи, вглядываясь в каждую вещицу. Тут было на что посмотреть. В ближнем шкафу висел серый брезентовый макинтош, из-под которого выглядывали генеральские штаны со штрипками и лампасами. Внизу, точно под каждой штаниной, стояли носками врозь стоптанные кирзовые ботинки, на которых аккуратно выложены были несвежие, серые гольфы с дырками на пятках. Но самое первое, что привлекло взгляд Бубенцова, — та самая сумка, в каких бомжи носят свою постель и прочий необходимый скарб. Та самая. Застёгнутая только наполовину. Молния немного разошлась... Бубенцов низко склонился, сощурился, пытаясь разглядеть сквозь щель, что же там виднеется, внутри сумки. Разумеется, не увидел никаких пачек — ни фальшивых, ни настоящих. Навалена была для создания объёма бумажная требуха.
— Ясненько, — бормотал Ерошка. — Вот уж теперь-то нам всё ясно.
Хотя ничего... Он отступил ко второму шкафу, и здесь тоже вывешены были скорбные одеяния бомжа. Первое, что увидел Бубенцов, — чёрная пиратская повязка. «Лихо одноглазое»! Неужели и этот их агент? Покосился на дверь. Шлягер сидел закрывшись газетой, делал вид, что его не интересуют реакции Бубенцова. «Якобы читает про ограбление в Сокольниках, а сам следит в дырочку», — догадался Ерошка.
Следующий шкаф. Оранжевая безрукавка, метла, дворницкий фартук. Ясно. Абдуллох, стало быть, тоже.
— Руками не трогать! — снова предупредил дребезжащий старушечий голос из-за газеты.
Лиловая шёлковая ряса, чёрный клобук, парчовая епитрахиль, католический крыж. Лохматая грива парика, ниже уложены в строгом порядке, с правильными промежутками, части лица «отца Скарапиона» — седые косматые брови, очки с розовым носом и прокуренными рыжими усами. В самом низу льняная борода на тонкой резинке. На отдельном крючке висела большая резиновая подушка со специальными лямками и креплениями для создания жирного живота.
— Переодевания, личины, накладные усы... — сказал Бубенцов. — Но как же тебе удалось собственный рост уменьшить?
— Это когда я попа сыграл? На исповеди? — радостно встрепенулся Шлягер, хохотнул, подмигнул, прищёлкнул пальцами.
Подбежал, присел, просеменил на полусогнутых ногах перед Бубенцовым.
— Э-хе-хе... Коленки вот так сгибаешь и семенишь как гусь. Под рясой не видно.
Снова вернулся к дверям, сел на табуретку, зашуршал газетой.
Ерошка направился к дальнему стенду, что стоял в самом углу. Этот стенд приметил он, как только вошёл в дверь. Следовало, конечно, осматривать все выставленные экспонаты по порядку, но Ерошка не выдержал. Издалека уже понял, что находится в той витрине. Кровь прихлынула к щекам, затошнило от приступа жаркого стыда.
— Аро... — хрипло каркнул Бубенцов, указывая пальцем на содержимое шкафа. — Аро-х... Кхо-о...
Нужно было прокашляться, освободить горло от спазма. А Шлягер уже был тут как тут, протягивал стакан с водою. Откуда только взял? Бубенцов принял стакан, отпил. Оказалось, не вода. Дюшес. Тем более, — откуда взялся?
— Роза Чмель? — Ерошка указывал пальцем на шкаф, в котором вывешены были цыганские платья, красные туфельки, кружевные панталоны, ажурный поясок и чёрные чулки.
— Нет-нет-нет! — Шлягер скабрёзно осклабился. Видно было, что он весьма доволен произведённым эффектом. — Э-хе-хе-хе. То, что вы видите, это действительно её гардероб. Не моё! Не то чтобы я не мог сыграть эту роль. Драматургически тут ничего сложного. Но, сами понимаете, до известных пределов. Что не моё, то уж не моё. Постельные сцены — это за пределами моих возможностей. В этой сфере я холоден и целомудрен. Постельные сцены с вами, равно как и все прочие роли, исполняла она лично. Гадалка, уличная соблазнительница, царская невеста, весёлая проказница, блудная страсть и прочее. Это она лично. Тут я пас. Не в том смысле «пас», что агентурно следил за вами, а в ином. Не в том также смысле, что Макар, дескать, телят пас. И разумеется, не футбольный «пас». Ну, вы понимаете... В постельных сценах я — пас. Да ведь к тому же, обнимая эту женщину, вы же лично мяли её, общупывали. Жёсткую мою кость вы бы сразу почувствовали... Э-хе-хе-хе-с.
— Прекрати свои мерзкие подхихикивания!
— Виноват. — Шлягер посмурнел, поклонился. — Вы, вероятно, воображаете, что Розу мы вам подсунули. Это, конечно, так. Но некоторые дошли до того, что сочиняют совершенные небылицы. Дескать, никакой Розы у нас не было!
— А почему рядом с платьями Розы у тебя помещён парик старухи Зоры? — приостановился Бубенцов. — А вон и клюка её.
Шлягер не отвечал, а только молча тянул Бубенцова прочь, к следующей витрине.
— Стой! Это что? — Ерошка указал на нечто, сложенное в самом дальнем углу витрины Розы Чмель и старухи Зоры. Это было похоже на эластичный костюм аквалангиста телесного цвета.
Шлягер широко ухмыльнулся, открыл было рот... Но как будто что-то вспомнил. А Бубенцов всё ещё никак не мог догадаться. Неужели, неужели старуха Зора и прекрасная Роза — это... Это просто не влезало в мозги. Хотя намёк был слишком очевидный. «Роза и Зора» — одно имя. Нужно всего лишь немного переставить буквы.
— Й-ех! — тихо простонал Шлягер и, свернув голову набок, закусил зубами уголок воротника. Так разоблачённый агент разгрызает ампулу с ядом.
А Бубенцов-то ни о чём не догадался. Не хотел! И хорошо, иначе лопнул бы его рассудок. Что вместо прекрасной Розы пользовался он всего лишь... надевшей личину... Престарелой... Да неужели! «Лета эросу не помеха!» Эх! Даже сам Шлягер, лишённый человеколюбия, пощадил его нервы, не стал выкладывать всю чёрную правду, потому что правда эта была бы невыносима для Ерошки Бубенцова.
Впрочем, нет имени у копии, а только псевдоним, эхо, повторение. Есть только внешняя оболочка, есть только вот этот костюм, действительно имеющий отдалённое сходство с костюмом аквалангиста. Любая тощая старуха может хоть сейчас надеть на себя этот эластичный комбинезон, который затем очень легко и просто заполняется жидким тёплым гелем, — и вот перед потрясёнными зрителями возникает прекрасный образ, рельефная, живая скульптура, упругая женщина, пульсирующая, отзывчивая на ласку, горячая на ощупь. Готовая на измену и прелюбодеяние. Теперь надеваем пышный тёмный парик с огненным отливом. И нет больше никакой старухи Зоры! Упряталась вовнутрь, скрылась под оболочкой, затаилась там, как таится страшный скелет внутри каждого из нас. О, незабвенная Роза Чмель! Кто устоит пред страстной и столь совершенной красотой? Кто?
— Ну что? — Шлягер увлекал его к выходу. — Передумали? То-то же! Возвращайтесь. А то ведь... У нас все сцены засняты. Обнародуем реалити-шоу! Вера Егоровна не обрадуется. Так что берите свой узелочек и возвращайтесь к нам. «Яко пёс возвращается на блевотину свою...»
— Да, вы овладели мною, — сокрушённо сказал Ерофей Бубенцов. — Опутали по рукам и ногам.
— Хорошо сказано, ёмко! «Опутали по рукам и рогам». Запомним. По рогам!
— Одно меня утешает, — не обращая внимания на кривляния Шлягера, печально говорил Ерошка. — Когда-нибудь выйду я из этого тела. Кончится мука! А у вас останется пустой кокон.
Адольф Шлягер посерьёзнел, глянул сочувственно, кивнул согласно:
— Древний сказал: «Дум спиро — сперо!» Пока живу — надеюсь. У нас не так! У нас говорят: «Dum spiro — in agonia». Пока живу — мучаюсь.
Глава 12
Заветная книга
1
Только здравая посредственность способна не чувствовать метафизической глубины бытия. Невероятные явления реальны, конкретны — как хлеб, вода, как ночь и день, как жизнь и смерть. Как вечность и бесконечность.
Вьётся во поле дорога, поля растекаются за горизонт. А что, если свернуть в обочину, сойти с ума, перепрыгнуть канаву, перейти поле, взойти вон на тот освещённый закатным солнцем пригорочек, оглядеться оттуда? Что там, за горизонтом? Немногим счастливцам удаётся побывать за пределами, совершить головокружительный трюк. Забрести в такие места, откуда ум если и возвращается, то уже совсем иным. С разорванными нейронными сетями. Кое-как починенными, заштопанными на скорую руку, связанными по-новому.
Облака стояли на горизонте, сверкая как снеговые горы. Ерошка отважно перепрыгнул канаву, двинулся через поле, долго шёл, растворяясь в тумане, и белый туман плыл сквозь него, свободно протекал сквозь его глазницы. Вот, кажется, крутой берег Угры, поток времени плывёт далеко внизу, струится посередине бесконечности. Течёт ниоткуда, утекает никуда. И почему бы однажды не развернуться и не потечь этой удивительной реке обратно? Ерошка стоит на пересечении вечности и бесконечности, как будто в самой сердцевине великого креста. Оглядываясь во все стороны, дивясь невероятному присутствию в мире невозможных явлений. Просто и тихо обретаются они рядом с нами, вокруг нас, не нуждаясь ни в каких доказательствах. Да ведь не может же такого быть, чтобы нигде ни начала, ни конца! И может, и есть, и было, и будет. А правильнее сказать: и может — и не может, и есть — и нет, и было — и не было, и будет — и не будет... Но эта квантовая неопределённость окончательно рвёт робкие и нежные мозги человека обыкновенного.
Вера, жена его, даже и она не подозревает! Как об этом сказать ей? Тут бы выразиться одним словом, единым образом, чтобы картина высветилась во всём великолепном объёме. Чтобы всё встало пред очами, за очами, вокруг очей... Вот как у него сейчас! Но, увы, нельзя!.. Такая досада! Для того чтобы выразить очевидную, ясную, лёгкую реальность, приходится управляться косными, неуворотливыми словами. Легче лепить облака из бетона! Он пытается подобрать нужные слова, но все усилия тщетны. Слова звучат во времени. А главное свойство времени — последовательность. В этом-то весь изъян. Слово должно умереть, чтобы на его место могло встать новое слово. И речь, и даже мысль человека подчиняется закону последовательности. Слова и смыслы не могут звучать одновременно.
Слова и смыслы могут звучать одновременно только в твоей голове, Ерофей Тимофеевич! Только в твоей. Всякого нагляделся в долгих ночных странствованиях Ерофей Бубенцов! Сам шумерский царь Гильгамеш, повидавший всё, гонимый неуёмной жаждой славы и бессмертия, не забирался столь далеко!
2
Вера возилась рядом, выкладывала на тумбочку продукты. Кефир, минеральную воду, яблоки. Ворчала добродушно, сетовала на прожорливого Бермудеса, который поел все котлеты. Ерофею казалось странным, просто непостижимым, что вот человек так доверчиво, так по-домашнему расположился и возится рядышком со страшной, невообразимой вечностью. А вокруг человека во все стороны разбегается немыслимая, выматывающая мозги бесконечность. Точно такая же бесконечность уходит внутрь его. А человек не ужасается, не удивляется и даже не замечает ни вечности, ни бесконечности. Которых, по здравому-то размышлению, ну никак не может быть! Не может же быть таких вещей, которые взялись ниоткуда, у которых нет, никогда не было и никогда не будет ни начала, ни предела! Но ведь не может быть и того, чтобы их — не было! Хватит, Ерофей, довольно!..
— Как там Афанасий Иванович?
— О, про это вся клиника гудит! — отвечает Вера. — Шлягер придумал метод. Зашёл к профессору и таксу свою позвал: «Муму! К ноге...» Профессор-то до тех пор носом к стене лежал, ни на что не реагировал. А как лай услыхал, вскочил! Заговорил! Да так, что заткнуть не могли! Всё про вечность-бесконечность... Неразборчиво только, заикается, гудит, руками машет...
— Вот что, Вера, — серьёзно произнёс Бубенцов. — Я тут по совету Шлягера журнал листаю. Журнал дрянной, под редакцией какого-то Губельмана-Ярославского. Про Христа пишут. Дескать, не было. А при этом столько ненависти, злобы и яда, что поневоле думаешь: «Если не было, то и зачем так-то?..» Цитаты приводят из Нового Завета. Ты бы попросила у профессора. Первоисточник.
— Ну вот. Первоисточник, — сказала Вера. — Старик так и говорил. Как в воду глядел! Велел передать тебе, но только когда ты сам об этом попросишь. Особенно на это напирал.
— Это хорошо, что старик пришёл в себя. Я его пару раз встречал там, откуда нет возврата. Думал, всё уже...
— Ну, как видишь... Пришёл в себя, сразу же заявление написал. Отрёкся от сына. Убедили, что он не отец знаменитого писателя. Шлягер говорил, что если бы и ты отрёкся. От царства. Тоже бы... Всё бы стало на места. Отрекись! Получишь свободу.
— Разные вещи, — возразил Ерошка. — Старик от сына, а мне придётся отрекаться от целого царства! Народ свой бросать на произвол судьбы. Несопоставимо.
Вера извлекла Евангелие, положила со вздохом на тумбочку у изголовья.
— Вот, — сказала. — Читай! А я полетела, не то ругаться будут. Завтра забегу.
После ухода Веры взялся читать загадочную Книгу, рассказывающую о невероятных, немыслимых событиях. О том, чего не могло быть, но было! О вещах таких же невозможных, не влезающих в разум, как вечность и бесконечность. Было понятно, почему у многих людей слова эти вызывают скуку и досаду. Потому что слова были простые, прямые, чистые. Без «художества»...
Почему же теперь эти бесхитростные слова так легко овладевали сердцем, точно зёрна ложились в мягкую почву? Может быть, потому, что все последние недели, готовясь править миром, проникая в тысячелетние тайны, в механику этого управления, Бубенцов занимался и своим личным устроением, проникал в собственные вечные тайны. Годится ли он на такую роль? Пытался докопаться до того главного ядра, что составляет сущность, самость человека. Снимал лишнее, раздевал себя как кочан капусты. Сознательно упрощал внутренний мир. Выбрасывал ненужное!
Как некогда профессор распродавал свои книги, выстроенные на страстях, вскормленные страстями, так и Ерошка отрекался от громоздкого душевного скарба, состоявшего из таких же точно страстей. Усилием воли прекращал движение завистливого чувства к чужому успеху. Пресекал мечтания о том, как отомстит обидчикам. Просил избавления от помышлений суетных, от лукавых похотей. Отгонял тленные пакости. Освобождался от лютых воспоминаний. Оставлял в себе одну только простую, неделимую самость.
И с удивлением обнаруживал, что ничего от него не убыло! Не обеднел внутренний мир! Наоборот, прибавилось в душе простора, воли, объёма. Оказывается, все эти злободневные переживания, фантазии, все эти привычные движения ума, весь поток обыденного сора, мелких страстей, помыслов — ничтожная, неглубокая часть души. Пятна на поверхности. И эта ничтожная, никчёмная часть отнимает у человека столько сил и времени! Более того — владеет его душой!
Ерофей Бубенцов всё читал, читал, оторваться не мог. К вечеру следующего дня радостное чувство прочно овладело сердцем. Как будто получил в дар новую, свежую жизнь! Вероятно, нечто похожее испытывает приговорённый к смерти человек, когда ему, уже поставленному над обрывом, неожиданно объявляют, что пришло помилование, и расстрельная команда, облегчённо выдохнув, опускает карабины.
3
Каблучки Веры застучали в коридоре, распахнулась дверь. Ерошка с бьющимся сердцем поднялся навстречу. Вера снимала шубку, с пушистого ворса, звеня, сыпались иголки инея. Меховая маленькая шапочка блестела снежинками. Пахнуло зимней свежестью, крепким уличным морозом. Вера обернулась к нему, ярко сверкнули карие, с золотыми искрами глаза. Лицо Веры горело тёмным румянцем. Ему показалось в этот миг, что вся убогая комната заполнилась предощущением небывалого счастья, чистоты. Вера подняла руки, вешая шубку на крючок. Ерошка не удержался, шагнул к ней, прижался пылающей щекой к её лицу, холодному, свежему, как яблоко. Оглаживал трепетными ладонями мягкую, нежную шерсть свитера, нагретую её телом.
— Вера, — сказал он. — Оказывается, есть вечная жизнь! Это реальность!
Вера улыбнулась, сняла пушистую боярскую шапочку, нахлобучила на голову Бубенцова. Опустила руки на его плечи, коснулась прохладными губами щеки и ласково, легко оттолкнула, высвобождаясь.
— Значит, мы всегда будем вместе! — докончил он.
Слова переполняли его, нужно было высказать так много, и высказать сразу. Сердце его растворялось, как кусок сахара в горячей воде, и он не знал, с чего начать.
— Мы и так вместе, — сказала Вера.
— Всегда будем вместе! Всегда! Даже после смерти! Чувствуешь разницу?
Вера, освобождая место, сдвинула на край тумбочки раскрытую книгу, выкладывала из пакета сыр, хлеб, сок.
— Из Библии вычитал? — сказала равнодушно, не поглядев даже в его влажно блестевшие глаза. — В каждой деревне, говорят, была парочка своих дураков. Про которых все знали, что они «начитались».
— Хочешь, я тебе сейчас приведу кое-какие доказательства? — начал Ерошка и потянулся за книгой.
— Не надо, — сказала Вера. — Доказательства ничего не решают. В таких спорах аргументов всегда недостаточно. С обеих сторон.
Подняла глаза, внимательно посмотрела на Ерофея.
— Да, — сказала она. — С тобой всё понятно. Кто вступил на эту дорожку, тот уже не свернёт. Ну и как мы с тобой будем теперь жить? В новой-то реальности.
Ерошка молчал, потому что Вера была права.
«Доказательства ничего не решают».
4
Укладывался спать Ерошка Бубенцов с большим волнением, тревогой. Хмельная радость переполняла, бродила внутри, мешала заснуть. А ну, как утром, на трезвую, выспавшуюся голову, всё станет прозаичным, обыденным? Выяснится, что нет никакой вечной жизни! Окажется вдруг при внимательном рассмотрении, что найденный им бриллиант на самом деле обыкновенная стекляшка. Случайно сверкнувшая ослепительной гранью и озарившая сумрак... Сумрак...
Сумрак в гулких переулках, а во сне, на глубине, — тени в чёрных треуголках совещаются в окне.
— Почему вы упустили его? Имея опыт тысячелетий!
— Как он мог, слабый червь, одолеть столь могучие силы?
— Как может вырваться из цепких лап вздорный маленький человечек? Как?
Шлягер, мохнатый и пучеглазый паук, на каждый упрёк вздрагивал, втягивал голову в плечи, оглядывался с испугом, пытался отбиться.
— Он не даёт! — тыча щупальцем вверх, жаловался Адольф. — Мы бы враз сломали ничтожного человека, но он не даёт. Тот, который всем управляет! Имя которого тут не называют! — И ещё раз ткнул пальцем вверх, безнадёжно махнул рукою.
— Кто такой «он»? — не понял Джива. — Создатель мира сего, что ли? Как он может не давать? Его же нет! Ведь, исходя из теории происхождения видов, совершенно понятно, что...
— А действительно, кто такой «он»? — поддержали голоса. — И чем он управляет? Объяснитесь яснее!
Шлягер ответил очень просто. Однако ясный, искренний ответ его вогнал всех слушателей в полнейший ступор.
— Автор, — сказал Адольф. — Тот, кто всё это придумал. И нас в том числе.
Все стали оглядываться с недоумением, страхом, тревогой. Что имел в виду Адольф, никто не понял. Но почему-то устремили взгляды вверх, точно надеясь увидеть там грозный лик Автора.
— Никакого Автора нет, — возразил Полубес. — Никто ж не видел его. И потом, вот же я! Кто скажет, что я придуманный персонаж, когда вот я весь перед вами? От обезьяны произошёл. Можете даже меня пощупать.
— Вот именно! — поддержал седовласый нищий по кличке Боцман.
После этих слов Боцман демонстративно подошёл к Полубесу и пощупал того за лицо. Странно было видеть, как сошёлся в одном месте один и тот же человек, правда в разных одеждах и в разных образах. Ведь Полубес и Боцман действительно были одним и тем же персонажем.
— Напрасно вы отрицаете очевидное! — неожиданно вмешался голос откуда-то снаружи. Голос звучал приятно, задушевно, с некоторой расслабленной ленцой. Как будто кто-то вышел на балкон подышать вечерним воздухом и говорил теперь сверху, с безопасной высоты. Запахло южной лавандой, магнолией, настурцией...
Все замолкли, подняли головы.
— Кто-то же вас создал! Не сами же вы возникли! — продолжал убеждать ласковый голос. — Кто-то же трудился, двигал пером, сочиняя это всё. Кто-то же закрутил этот дикий сюжет. Развёл конспирологию.
Произнося слово «конспирологию», голос стал чуть-чуть ироничным, даже немного раздражённым.
— Кто это говорит? — испуганно крикнул Шлягер. — Нельзя! Посторонних прошу покинуть!..
— А вдруг это тот... Автор? — хором предположили Полубес и Боцман.
И снова взоры всех собравшихся обратились ввысь. Среди персонажей установилось тревожное ожидание.
— Но мне показалось, — сказал умнейший Адольф, — мне кажется, что это произнёс всё-таки не Автор, а кто-то иной. Автор ведь смотрит на всех нас как бы изнутри. А этот голос явно наружный. Да вот же он, глядит сверху! Это не звёзды, уверяю вас! Это глаза его проблескивают сквозь листву.
Можно предположить, что вымышленный герой книги, по имени Адольф Шлягер, обратившись вверх, разглядел над собою блеск глаз читателя. Почувствовав посторонний изучающий взгляд, все герои мгновенно стали напрягаться, меняться. Так, кажется, происходит в квантовой физике, где объект меняет свойства в момент наблюдения.
— Чушь! — отозвался Джива, отмахиваясь, презрительно кривя чёрный рот.
— Вот именно! — поддержал Полубес и седовласый нищий по кличке Боцман.
— Эх вы, дурни! Вас всех сочинили, придумали, заставили двигаться! — сказал разумный голос сверху. — Всех вас создали, а вы не верите в очевидное! Твари вы неблагодарные!
На эту справедливую и в высшей степени мудрую реплику немедленно огрызнулась вздорная, но прекрасная Роза Чмель:
— Если бы кто-то придумал нас и сочинял это всё, то он мог бы сочинить всё гораздо, гораздо гармоничнее, справедливее, интереснее! А коли этого нет, то вполне логично предположить, что нас никто не создал. Что всё возникло само собою. Сперва ничего не было, а потом хоп! — появилась материя, возникли атомы. Из атомов слепились буквы. Из букв возник микроб, а из микроба выросла обезьяна. И так далее. Господин Джива совершенно прав, утверждая, что в соответствии с дарвиновской доктриной о происхождении видов...
— То есть вы полагаете, прекрасная Роза, что никакого создателя этой книги нет? — подкатился старичок в буклях. — Что весь этот сюжет и все мы возникли сами собой?
Пользуясь ситуацией, мерзкий старичок... дрожащей рукой своей... по великолепному атласному крупу...
— Да, мы возникли случайно! — к небывалому счастью старичка, Роза Чмель слишком увлечена была полемикой. — Мы всего лишь случайная, бессмысленная комбинация букв. И после нас... Лопух, как говорится, вырастет.
— О, как убедительны ваши аргументы, сиятельная! — восхищался старичок, теснясь плотнее.
— Да не лапайте же вы меня, вздорный, слабосильный старикашка!
Пережал. Откатился в угол, лязгнув искусственными зубами.
— Ну ладно, случайное сочетание букв и так далее... — вмешался Шлягер. — Положим, это так. Но кто-то же должен был по крайней мере тыкать пальцами в клавиатуру, печатать эти самые буквы!
Некоторое замешательство произошло в рядах... Затем всё стихло. Роза Чмель встала, пошла за пределы, не сказав ни слова. Совершенно голая, между прочим. Ну и что она этим хотела продемонстрировать? Что? А ничто. Поманила пальчиком Бубенцова, тот потянулся было за соблазном, но не успел...
Ерошка открыл глаза. Ни малейшей тени, ни отголоска, ни обрывка от чудесного видения не осталось. Всё свернулось, утонуло в подсознании. Кануло. Как будто ничего не было. Но ведь всем известно с самого рождения, что в подсознании живёт то, что ни в каких доказательствах не нуждается.
5
Снова раннее утро. Потолок и стены освещены тем особым мягким светом, который бывает от выпавшего ночью снега. Радость не ушла. Уже крепко засела, укоренилась в сердце, нельзя вырвать. Не вставая с постели, Ерошка протянул руку к тумбочке. Ему оставалось прочесть всего несколько заключительных страниц.
Он ясно видел и понимал, что перед ним живые свидетельства очевидцев, участников событий. Это как-то передавалось не логикой, не убеждением, не аргументами и конкретными фактами — а самим духом. Все главные вопросы разрешились, он увидел цельную, связную картину мира. Мир и жизнь приобретали наконец-то внятный смысл.
Ещё вчера Бубенцов верил, что вместе с неизбежной смертью тела уничтожится навсегда его самость, а вместе с этим пропадёт и образ мира. Наступит та тьма, которую он не сможет ощутить. Потому что его уже нигде не будет, не останется сознания, в котором эта тьма могла бы отразиться. Ерофея Бубенцова угнетала тщета всего сущего, обессиливала бессмысленность жизни. Не спасала и мысль о человечестве. Если личная жизнь каждого — всего лишь вспышка, ничтожный миг, то что такое существование человечества, жизнь каких-то поколений? Совокупность ничтожных мигов. Такая же бессмыслица, хотя и несколько больших размеров.
Теперь же всё становилось на свои места. Земной срок — время формирования того существа внутри тебя, которое призвано вступить в бескрайнее, бесконечное будущее. В то будущее, которого пока нет. Нигде нет! Но при том что будущего нет, оно есть, ибо обязательно придёт. Это непреложно.
Иногда отрывался от чтения. Беспокойно оглядывался, привставал... Нужно было срочно передать сокровенное знание Вере. Нельзя оставлять в неведении любимого человека, нельзя! Ведь это самое главное! Но как убедить? Сложнее всего доказать то, что очевидно! Нужно было подготовиться к разговору, отрепетировать. Предвидеть возражения, чтобы опровергнуть их.
— Ты утверждаешь, что Бог — это Любовь, — говорила Вера. — Как могла Любовь задумать муки для созданных людей, пусть и грешников?
— Нет никакого ада! — находчиво отвечал Ерофей. — Смерть — это переход в иную стихию, в свет. Нет никаких котлов, кипящей смолы, крючьев. Не придумывал Бог специального концлагеря для грешников!
— А как же вечные муки? — ехидно возражала Вера.
— А никак! За порогом смерти — иная стихия, огненная. Нужно загодя, ещё в земной жизни, готовить себя к ней. Потому что пламя Божественной Любви нещадно выжигает в душах всё тёмное, злое. Это больно. Грешным душам больно в раю. Так что если и есть ад, то устроен он лишь для того, чтобы там могли укрыться грешники, передохнуть от слишком опаляющего, слишком страшного для них огня Любви...
Новое мироощущение утверждалось, возрастало в нём, он слышал рост, чуял спокойное движение, которое нельзя остановить.
— Адам и Ева съели плод познания добра и зла. Нарушили запрет и были изгнаны из рая. Всеведущий Бог знал про это наперёд? Зачем же твой Бог позволил им согрешить?
— Затем, Вера, чтобы человек узнал, каково это — жить без Бога! И не теоретически познал, а на собственном горьком опыте! На своей шкуре! Вот для чего!
— А зачем войны, болезни? Зачем страдают невинные? Зачем дети умирают?
— Ровно затем же...
Всё таинственно совершалось само собою. Бубенцов читал финальную часть книги. Конец мировой истории оказался не очень радостным и входил в противоречие с ярким, морозным, солнечным утром. Всё заканчивалось Апокалипсисом. Мир перед концом подпадал под власть царя-антихриста. Но даже и это страшное предупреждение, это сбывающееся на глазах пророчество ничуть не огорчило Ерофея Бубенцова. Потому что ветхий мир должен был сгореть, чтобы уступить место новому.
Он закрыл книгу, резво встал, прошёл в умывальную. Откровение, прочитанное им только что, не шло из головы. Как ни удивительно, знание того, что весь этот всемирный балаган должен в скором времени закончиться, не угнетало, а, наоборот, приносило успокоение и отраду.
Принимал холодный душ, отфыркивался, приплясывал, принимался напевать. Улыбка сама собою растягивала щёки. Дух пребывал в бодрости, веселии, плоть ликовала! Теперь ему совершенно ясна была подлая цель тысячелетнего ордена без мечей. Наконец-то он осознал в полной и ясной мере, что означало избрание его на царство. Всего лишь генеральная репетиция прихода иного царя. Сперва история происходит в виде фарса, а затем осуществляется в виде трагедии! Царь нужен был им всего лишь как предтеча всемирного царя — антихриста.
6
Теперь, когда открылся перед ним подлинный смысл происходящих событий, Ерофей Бубенцов не спешил. Решение было принято твёрдое, окончательное, неколебимое!
Несколько молчаливых слуг сноровисто обрядили его в казённые одежды. Бубенцов покорно поворачивался, поднимая руки, давал себя препоясывать. Впервые без всякого сопротивления и протеста отправился на положенные ему по ранжиру и этикету дежурные процедуры. Теперь в его шагах ощущалась необходимая сила, решимость, воля. Свет всё время оставался за спиной, длинная косая тень падала перед ним, когда проходил он бесконечной анфиладой комнат.
Вся дворцовая челядь: официанты, сторожа, горничные, посыльные, курьеры, егеря, слуги, независимо от ранга, была одета в одинаковые светлые одежды. Встречные люди, завидев его, отступали к стене, отодвигали тележки с никелированным инструментом, замирали, клонили головы, пока он церемониальным шагом проходил мимо. Так в церкви отступают и клонят головы прихожане, когда мимо проходит дьякон с кадилом.
Только не ладаном пахло в этих коридорах, а тонким эфиром, спиртом, йодом, валерьянкой. Дворец, надо отдать должное, содержался безупречно. Воздух, очищенный, обогащённый озоном кварцевых ламп, веял прохладной стерильной чистотой. Не сказать, чтобы полагающиеся знаки почтения были неприятны Бубенцову. Он, конечно, понимал, что ничем не заслужил такого куртуазного отношения к себе. Но трудно устоять человеку в должном смиренномудрии. Да, пожалуй, и невозможно. Бубенцов давно уже чувствовал, что даже против своей воли напитывался духом высокомерия. Хотя никаких сознательных действий с его стороны... Вот он остановился напротив высокого зеркала. Поглядел немного сбоку. Да, так и есть. Всё-таки в фигуре его, в осанке проступало нечто неординарное. Чем-то же он отличался от прочих! Высокая, благородная простота. Несомненно. Даже вот и внешним образом. Он с удовольствием глядел на себя. Всё ему нравилось, всё было оригинально — полосатая пижама, сократовские шлёпанцы, пыжиковая шапка на голове. Следовало сказать приличествующий афоризм.
— Я часть той силы, что желает блага, но приносит зло! — произнёс Бубенцов. Покосился на слугу в чёрной униформе, что стоял сбоку, в двух шагах от него.
— Но желает блага! — повторил Ерошка, как бы оправдываясь.
Лицо слуги с выпученными глазами ничего не выражало. Да, честно сказать, и афоризм, показавшийся Ерошке в первый миг чеканным, прозвучал как обыкновенный каламбур. Стоявший в некотором отдалении другой слуга с простым лицом точно так же, как и первый, пучил глаза, мучительно наморщивал лоб, пытаясь понять, как ему реагировать. Бубенцов с сочувствием глядел на человека, потеющего от умственного усердия. Ибо и сам ещё совсем недавно находился в таком же мучительном, неопределённом положении.
Слуги молча переглянулись, один из них уронил резиновую дубинку.
7
Взойду я, взойду я на гой-гой-гой!..
Ударю, ударю в цывиль-виль-виль!..
Но как же трудно отказаться от привычных радостей жизни, как тяжело всходить на эшафот! Снова и снова всплывала ослабляющая волю мысль, что можно переиграть врага. Вражиным же оружием, то есть искусным притворством. Разумеется, и речи не могло идти о том, что он теперь изменит вере. Во время церемонии венчания на царство в сердце его не прозвучит ни единой ноты кощунства. Он постарается обмануть их, сделать вид, что поступает по их правилам, но внутри останется верным.
Да полно! Не обольщайся, дорогой ты мой Ерофей Тимофеевич! Можно ли обмануть отца лжи? И вот тут снова и снова вспыхивала в нём надежда, что — можно. Почему бы и нет? Известно же, что самые ловкие аферисты и мошенники, изучившие слабости человеческой психики, знающие все тонкости игры «на доверии» — сами становятся жертвами подобной игры. Оказываются на диво доверчивыми, простодушными, попадают в те психологические западни, устройство которых им слишком хорошо знакомо.
С другой стороны, стоит ли бороться, сопротивляться? Должно произойти то, что вытекало из логики развития всей предыдущей истории. Золото мира и власть должны сосредоточиться в одной горсти.
Шлягер проговаривался, что восстановление монархии в России займёт полгода. Проект реставрации готов, расчислен, утверждён. Вокруг будущей стройки возведены подготовительные леса. Задача значительно упрощалась тем, что здание предстояло возводить на старом фундаменте, краеугольные камни которого прекрасно сохранились. Немного только обросли мхом и позеленели, но это только добавляло будущему зданию благородства. А народ не вякнет.
— Народ безмолвствует! — замедлив шаг, продекламировал Бубенцов, но тотчас понял, что это не так.
Оказывается, в толще народа, на недосягаемой глубине, в самой сердцевине этноса, происходили таинственные перемены. Пусть перемены эти совершались пока внутри одного-единственного человека — внутри Ерошки Бубенцова. Но это были те перемены, которые определяют судьбу всего народа. Потому что народ — это один человек, только многажды, миллионы раз умноженный сам на себя.
Оказалось, что от ничтожного червя, от того самого маленького человека, от перемен, которые таинственно происходили внутри его, зависело слишком многое. Откровенно говоря, зависело — всё!
Бубенцов перестал улыбаться. Нечеловеческая ответственность давила на плечи. Клином сошёлся на нём белый свет. Острейший клин упирался прямо в середину груди. Сердце его горело. И это было по-настоящему больно.
Слишком хорошо знал он, что не существовало более во всём мире никакой организованной силы, которая помешала бы исполниться древнему пророчеству. Вернее, оставалось ещё самое малое препятствие. Этим препятствием на пути всемирного монарха, на пути антихриста, был он — Ерошка Бубенцов. Судьба всего мира, дальнейший ход истории — всё теперь зависело от его свободной воли. Только от свободной воли и ни от чего больше.
«Как же такое может быть? — в священном трепете думал Бубенцов, зачем-то поднимая и с недоумением разглядывая свои жалкие руки. — Как можно, чтобы от воли столь маленького человечка, от его решения и действий зависело так много?!»
Но это было именно так! Припомнились тотчас слова профессора о том, что жизнь маленького человечка, умноженная на вечность, больше, дороже всего мира. Душа человека ценнее всей вселенной. Ерошка развеселился! Маленький Бубенцов знал, что вся совокупная мощь таинственных, незримых сил не могла его сдвинуть ни на ноготь. Если бы он упёрся.
— Человек сильнее мира! — бодро произнёс Бубенцов, рассматривая себя в стенном зеркале. — Могущество его невероятно. Даже могущество заблуждения. Ну а когда с ним Истина, он может уже противостоять абсолютно всем силам зла!
Маленькая взъерошенная фигурка в полосатой пижаме, сжав кулачки, грустно глядела в ответ. «Да неужели?»
— А теперь, тело, иди куда должно! — приказал маленький взъерошенный человечек. Тяжело вздохнул, сдвинул шапку на затылок. — Ша-а-гом марш!
Глава 13
Пирамиду нельзя разрушить
1
Ноги сами, как позже выяснится, несли его куда нужно. Он шагал по середине пустой улицы, глядя прямо перед собой остановившимися глазами. Всё, чему должно быть, — обязательно произойдёт. Финал драмы неотвратим, развязка неизбежна. Об этом ясно написано в Книге.
Характеры и действия главных героев известны, роли распределены. Каждый волен выбрать себе роль по вкусу. Вернее будет сказать так: роль сама подыскивает для себя исполнителей. Иуда подошёл на роль предателя. Да так ли нужна была эта роль? Неужели без подлого предательства не совершилось бы то, что должно? Свершилось бы! И без всякого Иуды пришли бы стражники и взяли Христа. А если по сюжету была необходимость в предателе, то ведь мог же Иуда ужаснуться, попросить, взмолиться: «Отпусти меня, возьми другого!» Это только кажется, что нет выхода. На самом деле всё очень просто. Запил же перед спектаклем Чарыков! И на его роль взяли другого.
Бубенцов остановился посреди тротуара, напротив витрины. Снял шапку, воздел руку. Следовало хотя бы начерно подготовиться, отрепетировать.
— Пусть произойдёт всё, чему надлежит. Я не хочу участвовать! Отрекаюсь!
Два-три прохожих, обойдя его, обернулись с любопытством. Рука Ерошки, сжимавшая шапку, упала. Понурая фигурка в полосатой пижаме смутно отражалась в пыльной витрине. Тело его замёрзло, губы одеревенели от ветра и холода, слова прозвучали неразборчиво. И всё же ему показалось, что сыграно очень убедительно. Но поскольку прохожие отошли уже довольно далеко и ни единого зрителя не оказалось рядом, то слова не возымели должного действия. Мёрзлое слово не обладало нужной силой. Значило ли это, что отречение уже вступило в силу? Неизвестно. Равнодушное ледяное пространство окружало его со всех сторон.
Но, чу! Далеко, на краю площади, у «Кабачка на Таганке», приметил движение, поспешил в ту сторону. Здесь широкий путь неожиданно сузился. Деревянные мостки, проложенные через раскопанный коллектор, горбом подымались вверх. По обеим сторонам мостков торчали прутья арматуры. Следовало пройти по мосткам, но Ерошка решил пробираться иной стезёй, трудной. Полез, обдирая бока, через тесноту, всякий миг рискуя сорваться в котлован. Затрещал надорванный карман пижамы. Наконец одолел узкий путь. Пред ним зияла чёрная дыра. Чугунная крышка, сдвинутая на три четверти, приоткрывала страшный зев. Что-то постукивало в глубине земли. Слушатели находились там, в тёмном недре, в аду.
— О, это недаром! — пробормотал Бубенцов. — «И гад морских подземный ход...»
Он теперь с большим уважением и вниманием приглядывался ко всякому символу, расставленному жизнью на его пути.
— Отрекаюсь! — крикнул он, склонившись в колодец.
Прислушался. Следовало ожидать, что отзовётся подземное эхо: «...каюсь, каюсь...» Но никакого торжественного гула не последовало. Только звякнуло железо и человеческие голоса заматерились на дне. То были сантехники, возившиеся с неисправной ржавой задвижкой. Бубенцов пригляделся, смутно различил во мраке два чёрных, поднятых к нему лица. Луч фонарика из тьмы больно ударил в глаза.
— Чё надо, дебил? — прогудел толстый блатной баритон из ада.
Подельник баритона, высунувшись из дыры, оглядел фигурку Бубенцова, выплюнул под ноги ему дымящийся огрызок сигареты:
— Да он, в натуре, и в самом деле дебил!
— Воспитанный человек никогда не говорит то, что думает! — с достоинством ответил ему Бубенцов, вспомнив наставления и уроки Шлягера. — Вот так-то, господа эфиопы!..
Урка поднял брови и добавил уже гораздо мягче, дружелюбнее:
— Из соседнего дурдома, видать, сбежал!.. И там, блябу, бардак! Слышь, Лёха!..
Вот отчего в кранах Лефортовской больницы не было с утра воды, догадался Бубенцов. Несмотря на грубый приём, Ерошка искренне обрадовался встреченным людям. У него теперь было два свидетеля. Два свидетеля, которые в случае чего выступят в его защиту. «Он дал слово, что отрекается!» — скажет благородный блатной баритон. «Но исполнил ли он своё обещание — это уже нам неведомо, ваша честь, — честно добавит тонкий, хриплый альт. — Но слово дал, в натуре, а слово его, блябу, имеет вес и невероятную силу! Лёха может подтвердить...»
2
Обойдя свои владения, Ерошка добрался до конечной точки. Теперь спешить было некуда. Круг замкнут! Бубенцов приостановился перед дверью, пошаркал ногами о резиновый коврик. Покосился на аккуратно стоящие у стены знакомые калоши с алой выстилкой. Поиграл бровями, покривил губы так и эдак. Он бы, вероятно, ещё долго готовил лицо, подбирал выражение, но хлопнула в конце коридора дверь, звякнуло ведро, на лестнице послышались шаги.
Бубенцов постучался в матовое стекло.
— Войдите!
Бубенцов вступил в помещение.
Повсюду видны были следы торопливых сборов. В беспорядке валялись листы, папки, календари, коробочки от лекарств, карандаши, штативы с использованными капельницами, визитки, скоросшиватели, пустые ампулы, толстые бухгалтерские книги, клочки ваты. Пуговицы, сломанные часы, фантики, значки, открытки, квитанции, черновики стихотворений и прочий никчёмный прах. Как будто здесь только что закончился обыск. Арест пропагандиста. Ещё гремели саблями жандармы на лестнице, уводя... Сквознячок пошевеливал разбросанные по полу листки прокламаций. Один из стульев валялся у окна. Клеёнчатая кушетка запрокинулась, топыря железные ноги. Рядом истекала искалеченная капельница.
Агриппина Габун, стоя на стуле, соблазнительно вытягивалась, доставала с верхних полок папки с документами, передавала Насте Жеребцовой. Бубенцов жалко улыбнулся, кивнул девушкам. Но стервы, как бы не заметив его, равнодушно отвернулись. Потянуло холодом по лодыжкам, ветер просквозил по помещению, снова пошевелил разбросанные листы. Ерошка поспешил прикрыть дверь.
Враг был здесь. Враг сидел за столом. Одет поверх обычного своего белого халата ещё и в овечью тужурку мехом кверху. Вот же удумал, негодяй!.. Остроумно! В овечьей шкуре-то... Бубенцов глядел на лицо, несколько вытянутое вперёд, с толстыми губами, ставшее уже почти родным. Плешь, прикрытая слипшимися завитками волос, большие оттопыренные уши. О, волчья твоя морда!..
Адольф Шлягер мельком глянул на вошедшего. Ни единой эмоции не отразилось на сером лице. Как будто не узнал. Перебирал бумаги, ненужные отбрасывал. Зябко шмыгал простуженным носом. Бубенцов некоторое время стоял, ожидая, когда хоть кто-нибудь обратит на него внимание. Среди разора из угла в угол слонялся чёрный кот, подрагивая кончиком хвоста, глядя кругом с тоской и ненавистью. Мельком взглянул на Бубенцова, скрылся за штабелем отчётов, сваленных рядом с батареей отопления.
Адольф поднял голову, сощурил глаза.
— А-а, это вы. Ну, входите, входите, — пробормотал гнусаво и шмыгнул носом.
Ерошка переступил с ноги на ногу.
— Отрекаюсь! — выкрикнул хрипло, решительно. — Всё кончено!
Постоял, подождал ответа. Снова переступил с ноги на ногу. Ничего не произошло. Он-то, честно говоря, предполагал совсем иную реакцию. Решимость стала немного ослабевать. Вероятно, его просто не поняли.
— Отрекаюсь тебе, сатана! Тьфу...
Шлягер поднял глаза. Сощурился. Поглядел на Бубенцова с каким-то новым интересом.
— Плевать полагается в западную сторону, — строго сказал Шлягер.
— А я куда?
— Юг.
Хотя в тоне и в лице Шлягера не было никакой насмешки, Бубенцов увял. Высокая трагедия оборачивалась фарсом. Так, вероятно, чувствует себя лев, когда у него сбивают прыжок.
— Отрекаюсь от царства! — сказал Бубенцов. — Что теперь будете делать?
Шлягер передёрнул плечами, ссутулился, зарылся в бумаги, ещё сосредоточенней сдвинул брови. Где-то близко тикали невидимые часы. В углу перешёптывались Агриппина с Настей. В коридоре уборщица шваркала шваброй, звякало ведро.
— Что делать, я спрашиваю! — раздражённо повторил Бубенцов, подождав с полминуты.
— А ничего, — ответил Шлягер безучастно. — Ничего не делать. Проект закрыт, финансирование прекращено. Учреждение ликвидируется. Можете ступать на все четыре стороны.
— Как это проект закрыт? — не поверил Бубенцов. — В каком смысле ликвидируется? В какие стороны?..
— А вот так! Не будет пока в России монархии. Отменяется! И не потому, что вы взбрыкнули. Не обольщайтесь на свой счёт. Отрекается он! Вас-то мы в момент бы обломали.
Шлягер снова склонился над столом и как будто напрочь позабыл про Бубенцова. Сидел, сбычась над бумагами, перелистывал историю болезни. Ерошка терпеливо ждал продолжения, перетаптывался, наконец не выдержал:
— Нет, ты всё-таки объяснись, гад!
— А! Вы всё ещё здесь? — удивился Шлягер. — Закрыт проект, я повторяю. Для непонятливых. Народ не созрел. Так что будьте любезны. Заявление. Я продиктую. В конце подпишетесь: «Император Бубенцов».
Шлягер окончательно почужел лицом, говорил скандированным голосом, официально, холодно.
— А меня куда же? — в горле Ерошки запершило от обиды.
— А никуда. На вольные хлеба. Вот вам обходной лист. Подпишете у сестры-хозяйки.
— Вольные хлеба, значит. — Бубенцов постарался вложить в слова как можно больше яду и горькой иронии, но получилось жалобно. Сглотнул слюну.
— Реквизит вернёте, — равнодушно продолжал Шлягер. — Всё по списку. Квартиру у Трёх вокзалов, поместье на Угре, автомобили. Конюшню с лошадьми и понями. Ну и прочее рухлишко.
— Драгоценности жены, — с той же угрюмой иронией продолжил Бубенцов. — Помнишь, ты для Веры в Веймаре приобрёл алмазное колье за полмиллиона евро? Хвастался, что из коллекции Каролингов. Что ж... Всё забирайте. Крохоборы. Пони, между прочим, не склоняются.
— Драгоценности жены себе оставьте. На память. Цена четыреста рублей. Стекло. Вы что же, серьёзно верили, что колье брильянтовое? О, недалёкий человек! И такой в правители нам набивался! Империей управлять!
— А сам не может отличить добра от зла! — усмехнулась Агриппина. — Алмазов от стекла. Я и то сразу поняла, когда у неё цепочка-то порвалась и посыпались все эти «бриллианты-изумруды». А она такая плачет, просит за него, за негодяя: отпустите, мол, пусть дома будет, другого, мол, возьмите вместо него... Тьфу!..
— Пускай она шубу вернёт! — крикнула Настя. — Белая шуба была, песцовая. Я сама видела на ней. И шапочку меховую, боярскую. Ей и не идёт, толстозадой!
— Вот хрен тебе, а не шуба! — обозлился Бубенцов.
Но, обернувшись к Шлягеру, снизил тон, попросил:
— Мебель хотя бы оставьте. В старой-то квартире. Холодильник хотя бы. Стиральную машину. Мы же всю прежнюю обстановку на помойку выкинули. Как богатство-то попёрло. Сгоряча-то.
Шлягер взглянул на Бубенцова и тотчас отвёл глаза. Что-то хотел сказать, но поперхнулся. Долго прокашливался, клонясь вперёд, прикрывая рот платком. Когда распрямился, было видно, что тень смущения и как будто даже вины пала на его небритые щёки.
— Нельзя-с, — глухо, несколько вбок произнёс он. — Мёбель казённая. Реквизит. На всей обстановке проставлены инвентарные номера. С изнанки. Казённая мёбель, никак не можно. Прейскурант.
— Я за свои деньги, между прочим, мебель приобретал. Никакая эта мебель не казённая, — возразил Бубенцов. — «Мёбель», выражаясь вашим слогом.
— Это иллюзия. Своих денег у вас не было. И быть не могло. Вы что же, серьёзно думаете, что все ваши скандалы — это высокоценный предмет актёрского искусства? Заблуждаетесь, милейший! Ваши выходки никакой цены не имели и не имеют. И не могли иметь! Заурядный перфоман-с.
— Вы хотите сказать, что меня разыгрывали? Что все эти заказчики, наш офис, корпоративы, вечеринки с моими скандалами, с битьём зеркал и посуды — всего лишь чьи-то режиссёрские постановки?
— А как же? Вас использовали для дела. Так что звёздные гонорары, которые вы якобы получали, всего лишь единички с колёсиками на ваших счетах. За ними пустота.
— Дали подержать, так? Птицу счастья?
— Абсолютно верно.
— Ясно. Холодильник всё-таки оставьте. Я же свой старый ЗИЛ выкинул. Как жить без холодильника?
И опять закашлялся Шлягер, долго сморкался, вытирал чёрные свои губы клетчатым платком.
— Хорошо. Холодильник ваш. Так и быть. Спишем. Дрянь китайская, скоро навернётся. А то, что сталинский ЗИЛ выкинули, так это ваша собственная дурь. Вечная вещь была! Далее. Вот эту бумагу подпишите. О том, что деньги с ваших счетов переводятся на счета федеральной резервной системы.
— Ну хоть ЖКХ оплатить! — взмолился Бубенцов. — У меня же больше года там не плочено! С мая месяца! Ну, Адольф!
— Кто мешал? — холодно и зло спросил Шлягер. — Надо было вовремя. Когда деньги формально принадлежали вам. Теперь уж поздно. Счета заморожены.
— Крохоборы.
— Скажите спасибо, что живы! — огрызнулся Шлягер. — Я и сам удивляюсь, зачем вас оставили. Ничтожный вы человек! Да и то сказать, пожировали за чужой счёт. Такую дыру выгрызли в бюджете организации. На одни рестораны сколько ушло да на чаевые.
— Я не виноват! Это цены такие! — попытался оправдаться Бубенцов. — Чашка кофе пятьсот рублей. Чай четыреста! Я это придумал?
— Да хотя бы и так, — сказал Шлягер. — А кто заставлял по пять тысяч чаевых раздавать? Кто цыган нанимал? Тщеславие тешили? Социальный лифт вознёс вас на самый верх. Вас отметили. Вам даже Пригласительный билет выдали! В самое высшее общество, в избранный круг! Обратно полетите в лестничный пролёт.
— Из князи, значит, в грязи?
— Радуйтесь ещё! Убивать вас не соблаговолили. Почему-то приказано держать в оперативном резерве. На всякий случай.
— Да что вы с ним разговариваете? — взвилась вдруг Роза Чмель, которая всё это время сидела тихо, неприметно, спрятавшись в углу за абажуром, сделанным из «Ромы». — Что вы миндальничаете с негодяем? Глядеть жалко на вас, как вы душевно страдаете из-за этого ничтожества. Какую скорбь терпите!.. Он вошёл, шапки даже не снял, невёжа!
Бубенцов машинально сорвал с головы пыжиковую шапку, тут же застыдился рабского жеста. Несмотря на отречение, кое-какая царская гордость всё-таки ещё жила в нём.
— Жакет мне подарил, любовник хренов! — Роза вскочила, размахнулась, с силою ударила папкой об стол. — Жеребцовой шубку лисью, а мне пакость эту турецкую. Ширпотреб этот, тьфу!..
— Молчи, дрянь! Я же спал с тобой! Видел голую! — Бубенцов обозлился, надел шапку. И, оглядев всех, сказал, как бы в пояснение: — Как смеет она грубить мне? Голая... Я видел её.
— Ах, вот как! — задохнулась Роза. — Стучать пришёл? Голую он меня видел! Так вот же тебе! Ответишь за слова! Я скажу ему, Адольф! Вот, жри же. Не нужен тебе никакой холодильник! Вообще не нужен! Некуда его ставить! И никакого ЖКХ тебе платить не надо. Нет теперь у тебя никакой квартиры! Ушла!
— Как так... ушла? — не поверил Ерофей.
— Банк вступил в права, продал. За проценты. С молотка ушла. Теперь там иные люди будут проживать. Совсем иные люди. Порядочные, законопослушные. Которые по пять тысяч на чай лакеям не швыряют, с цыганами не пляшут.
3
Бубенцов стоял в полнейшем остолбенении, расставив руки, только часто-часто моргал, беспомощно глядел на Шлягера. Пытался определить по лицу Адольфа степень правдивости прозвучавших слов. Шлягер, по всей видимости, застыдился. Кутался в овечью шкуру, выставляя вперёд лысеющее темя. Снова делал вид, что роется в бумагах, прятал нос в самых нижних ящиках письменного стола. Бубенцов понял, что всё правда, однако нашёл в себе силы переспросить:
— Это правда? Адольф!..
Шлягер тяжко сопел, возясь с завязками папки.
— Адольф! — позвал Бубенцов. — Правда ли всё то, что я услышал? Неужели?
— Ступайте же прочь! — с визгливым страданием в голосе выкрикнул Шлягер, отмахиваясь обеими руками. — У меня уже язва двенадцатиперстной из-за вас! Прочь ступайте! Видеть не могу!
Когда Шлягер волновался, голос его приобретал неожиданную тонкость, дребезжал, пресекался.
— Прочь, гад! — крикнула Роза ещё более высоким голосом. — Не делай вид, что не знал. Чаевыми швырялся, а нас премии лишали здесь! Чтоб финансовые дыры в бюджете залатать! Мы тут все без премий сидели из-за тебя! Я планировала в Греции отдохнуть... Подлец!
Такса высунулась из-под стола, залаяла на Бубенцова заливисто, сердито.
— На кого люди, на того и собаки! — язвительно сказала Агриппина.
— Ты думаешь, проституцией мы почему занимались во внеурочное время? И по выходным? — вскинулась с места Настя Жеребцова, взяв ещё на два тона выше. — От сластолюбия? От похоти? Как же! Посиди-ка без премии!
— Помада, тени для глаз, кружевные трусы, — загибая пальцы, поддержала её Агриппина. — То купи, это купи, за квартиру отдай. Батькам сколько-то грошей пошли. Что ж на пропитание-то остаётся?
Обе глядели на Бубенцова с таким отвращением, с таким искренним, глубоким презрением, что Бубенцов безропотно повернулся, пошёл к дверям.
— Слабый вы, — произнёс в спину ему Шлягер. — Размазня. А для царя хуже нет, чем добрым быть. Будем искать позлее. Чтобы как зверь был!.. Зверьми же приходится править!
— Всё-таки антихриста своего готовите? — остановился Бубенцов. — Не страшно? Против Бога-то?
— Страшно, — вздохнул Шлягер. — А что поделаешь? Что поделаешь? Даже если бы захотели отказаться, то кто ж позволит?
— В каком смысле?
— Ну а как вы представляете? Тысячелетиями лепили по камешку, по кирпичику. Из поколения в поколение. Крепили так, чтобы никакая посторонняя сила не смогла разрушить. Всё предусмотрели. Кроме главного! Пирамиду нельзя разрушить не только извне, но и изнутри. Она управляет людьми, которые управляют ею! Круг безвыходный.
— Коло его ока?.. То-то я гляжу, всё уже готово, а они не очень спешат. Самим боязно. А ты догадываешься, кто восседает на самом верху пирамиды? Ну? Отвечай же! Кто управляет вами?
Вспыхнул злой огонь в зрачках Шлягера.
Бубенцов зажмурился, а потом и вовсе отворотился, прикрыл ладонью глаза.
— Дьябл! — кротко согласился в темноте голос Шлягера. — Его око.
И повторил так же кротко, обречённо заученную некогда бессмысленную формулу:
— Коло ока его вокруг да около, да не далёко.
Ерошка отнял руку от глаз. И показалось, что спала пелена, нечто стало высовываться из-за плеча Шлягера... Бубенцов потерял сознание, рухнул подле дверей. Организм включил таинственный механизм самозащиты. Неизвестно как уж он там срабатывает. Всего лишь на миг, на один жуткий миг открылось перед обернувшимся Бубенцовым, кто стоит за левым плечом Шлягера. Но хватило и этого мига. Большего безобразия, большей гнусности нельзя себе и вообразить!
4
Со смущённой душою, время от времени прижимая к носу ватку с нашатырным спиртом, покинул Бубенцов разорённый офис. Думать о будущем не хотелось. Почти уже в самом низу, на последнем повороте лестницы, настигла его Роза Чмель. Забежала вперёд, встала ступенькою ниже, упругой грудью упёрлась в живот. Бубенцов взглянул в её поднятое к нему лицо, поразился стылому блеску тёмных, переполненных слезами очей.
— Какая любовь! — зло и жарко произнесла Роза, с ненавистью глядя в зрачки Бубенцова. — Какая любовь пропала! Эх, Ерошка, Ерошка! Какой блуд могли мы сотворить, э-эх... Всё пропало! Всё-всё-всё...
«Так сотворили же, — хотел крикнуть Ерошка. — Сотворяли гнусный грех! Мерзкий, скотский...»
Но она закрыла ему рот сухой ладонью, встала на цыпочки, потянулась, страстно напирая тугой грудью. Ерошка целомудренно отстранился, отклячил зад, больно упёрся поясницей в лестничные перила, поднял руки, повернулся к ней щекой.
Но Роза-то! Ах, Роза!.. Роза Чмель поступила куда более холодно, непорочно, целомудренно.
— В лоб, в лоб! — прошептала она, приблизившись, страшно сверкнув очами. — Только в лоб. Последнее целование моё!
Прикоснулась алыми, твёрдыми, холодными, как у русалки, губами к его нахмуренной переносице. Отстранилась, взглянула пронзительно. И такая прощальная мука вспыхнула в её взоре, что у Ерошки потяжелело сердце, свело челюсти. Роза провела лёгкими пальцами по своим мохнатым ресницам. Взмахнула рукой, как будто стряхивая градусник. Целая горсть слёз сверкнула в воздухе, просыпалась со звоном, оросила ступеньки. Две-три капли тяжело стукнули по ноге Бубенцова.
— Так и сотворили же, Роза! — крикнул Ерошка. — Сотворяли гнусный грех! Мерзкий, скотский...
— Ах, не с тобою, не с тобой!.. — тоскливо пропела Роза Чмель.
— Ты, стало быть, другого представляла, когда со мной была! — догадался Ерошка.
— Ах, не со мною, не со мной!.. — всё так же загадочно пропела Роза Чмель.
— С кем же? С кем же? — в тон ей проговорил Бубенцов. — Кто мне спину поцарапал когтями своими? А потом перед Веркой пришлось мне лгать, юлить, душою кривить. А?
— Ах, то не я была, не я!
Роза побежала вверх по лестнице, резво играя крутыми ягодицами. Взметнулась чёрная накидка, взлетела, распростёрлась, как два прозрачных крыла. Улетела, цокая железными шпильками по мраморным ступенькам лестницы. Хлопнула наверху дверь, всё стихло.
— Чёрт бы вас всех побрал! — пробормотал в сердцах Бубенцов.
«Ах, то не я была, не я, — думал он с досадой. — А кто же, кто? И никак-то не ухватишь сущность их, не поймёшь, где у них игра, где правда».
Он ясно видел влажные тёмные кляксы на лестничной ступени, видел следы её прощальных слёз на своём ботинке. И никак не мог поверить, что даже и такие вот тяжёлые, жгучие слёзы могут быть поддельными, ненатуральными, лживыми.
Глава 14
Портвейн «Три топора»
1
То, чего нельзя было себе вообразить, свершилось.
Финальная битва за смысл истории отложилась на неопределённое время. Шлягер, Анубис, Полубес, Джубайс, Абидос, а также некоторые иные чины были не просто понижены, но разжалованы до уровня обыкновенных людей. Выброшены из пирамиды, уволены без содержания. Всё произошло буднично и так просто, как будто у администрации кончились деньги на содержание психиатрической клиники, а потому всех насельников и персонал выставили на улицу.
Все филиалы ликвидировались. Тайна беззакония снова погружалась под спуд до особого распоряжения. В съёмочном павильоне под Красногорском гастарбайтеры принялись разбирать стены замка. Забрасывали на спину огромные серые глыбы, бегом несли их через двор, загружали в длинные фуры. Мраморные блоки, массивные каменные кубы оказались всего лишь искусной китайской подделкой из крашеного пенопласта, картона, пластмассы, папье-маше.
Шлягер и Полубес сдали в отделе кадров обходные листы. Затем на проходной в жаркой сухой каптёрке молчаливый горбун, одетый в серый армяк, вручил каждому по холщовому мешочку с «подорожной таньгой». Ткнул пальцем, где расписаться. В каптёрке уютно пахло сапогами, сухими портянками, кожей, мышами, сёдлами. Отдельно пахло чесночной колбасой, которую любил горбун.
И так тоскливо стало на сердце оттого, что навеки приходится покидать обжитый угол, уходить в неизвестность! Оба негодяя были выставлены за ворота. Тут их поджидал частник на «жигулях» без бамперов и номеров, с разбитым багажником, помятой боковиной. Похожий на кабана водитель не повернул даже головы. Полубес уже почти влез в машину, но настиг его горбун из каптёрки, сорвал с лица очки.
— Казённое имущество, — буркнул он, дохнув чесночной колбасой.
Такса скулила, тулилась к ноге Шлягера. Горбун потянулся к ней длинной рукой, но собака заворчала, насупила косматые брови, оскалила зубы.
— Реквизит, — попытался оспорить Адольф. — Экипировка моя.
— Казённое имущество! — опроверг горбун. — Полагается сдаче. Тросточку также попрошу.
Вырвал из руки Шлягера трость, поводок, потащил за собою по асфальту упирающуюся всеми лапами, рычащую собаку. Шлягер молча глядел вслед, пока горбун не скрылся в каптёрке. Вздохнул, покашлял, долго сморкался в платок. Затем стал усаживаться на заднее сиденье. Полубес деликатно молчал, отвернувшись к окну.
Пронзительный крик, лай, чертыханья послышались из каптёрки. Распахнулась дощатая дверь, чёрная такса с грохотом вылетела оттуда, стремительная, как танковый снаряд. Понеслась к Шлягеру, повизгивая, скалясь, волоча за собою обрывок поводка. Выскочил было следом за нею горбун, но, пробежав несколько шагов, остановился. Поглядел на окровавленную ладонь, прихватил её другой рукою, повернул обратно.
Собака прыгнула в машину, угнездилась на коленях Шлягера. Водитель-кабан тронулся с места, не вступая с отставниками ни в какие разговоры.
2
Спустя недолгое время злосчастных наших героев можно было наблюдать за угловым столом в «Кабачке на Таганке». Оба были в крайне расстроенных чувствах, выглядели совершенно потерянными. Полубес, кажется, даже немного тронулся рассудком от пережитого. Бормотал, хватал ладонью воздух, как будто споря с кем-то невидимым. Одет был просто, скромно, ничем не выделялся от всех прочих завсегдатаев. Серый фартук, брезентовые негнущиеся штаны, кирзачи, ватник. Шлягер же успел утащить из каптёрки горбуна кое-какой подручный реквизит, наскоро соорудил живописный образ изгнанника. Старая грязноватая ряса, прорванная на сутулой спине, перехвачена в поясе пеньковой верёвкой. Из-под рясы выглядывали полинявшие генеральские штаны с лампасами, заправленные в яловые сапоги на толстой подошве. Несокрушимая обувь паломников. На голове выгоревшая монашеская камилавка.
— Эх, Адик, Адик, — говорил Полубес, мучительно щурясь, вглядываясь в собеседника. — Последние очки отняли. «Казённое имущество»! Такого подлого горбуна и гроб не исправит! Не поглядел, паскудник, на выслугу лет. А у меня плюс пять. Марево. Даже ты предо мною будто в чаду, едва различаю.
Рот в обезьяньих складках кривился горько, брезгливо.
— А желал бы и я не видеть ничего! — отвечал его собеседник, возясь с бутылкой, поддевая нижним клыком пластмассовый край пробки. — Зело нам ныне крушиться. Вот ты гроб помянул. Сказано в писании: «мёртвые обзавидуются живым»!
— Ох, верно! — подхватил Полубес. — Что значит художественное слово! «Мёртвые живым»! Истинно так! Хотя, кажется, правильнее будет: «живые позавидуют мёртвым».
Шлягер выплюнул пластмассовую пробку, разлил вино по гранёным стаканам.
— Ну, вздрогнем, бродяга! Зане горше сих бедствий не бываху!..
Спешить им было некуда, да и незачем. Три бутылки портвейна с тремя семёрками на этикетке, прозванные в народе «Три топора», стояли у ног под столиком. Четвёртая на столе. Как и полагается, лежала на расстеленной газете селёдка, покромсанная жирными кусками. Несколько ломтей чёрного, чуть подсохшего хлеба. Два надкушенных чебурека дополняли натюрморт.
Полубес выпил, потянулся за чебуреком. Рука его внезапно остановилась, он принюхался, покосился на Шлягера. Сказал с тихим раздражением:
— Ну вот зачем так устроен мир? Человек хороший, приятный в общении. Пьёшь с ним, открываешь душу... И вдруг пахнёт эдак от него... Козлом тем же. Зачем так устроено? Явное же доказательство, что Бога нет! Если бы был Бог, разве допустил бы такое безобразие?
Шлягер насупился, промолчал. Оторвал небольшой клок от газеты, постеленной на столе. Вытащил из-под рясы кожаный мешочек, развязал засаленные тесёмки.
— Самосад, — увёл разговор в сторону. — Сам растил. На задворках.
— В замке? За ветряком? — догадался Полубес. — То-то я гляжу как бы там на грядке лопухи посажены, рядочками.
— Да-да, — сказал Шлягер. — Моё хозяйство. Люблю хорошую жизнь.
Помолчал, поклацал зубами, разжёвывая, размягчая края бумаги.
— Не люблю я, Савёлушка, чтоб плохо жить!
Послюнявил, склеил, вставил цигарку в угол рта. Ссутулился и, несколько раз умело ударив кресалом, высек искру. Стал пыхать синим дымком.
— Разбили карьеру, Савёл! Не переживай, бродяга. В девяностых весь наш КГБ рухнул в одночасье, а мы выжили. Снова собрались, как ртуть. Русское свойство. Ничего с нами не станется. Не унывай, полковник!
Полубес слушал с самым простодушным, доверчивым выражением.
— Нет такой силы, Савёлушка, чтобы нашу русскую силу одолела! — продолжал Шлягер.
Брови Полубеса стали подниматься. Шлягер похлопал его по руке:
— Нет такой силы ни на земле, ни в самом аду, чтоб товарищество наше русское разрушила!
Рот Полубеса открылся в ещё большем изумлении.
— Но ты же всегда против русской силы действовал! Сколь ты меня этим «русским духом» попрекал, гад! О товариществе он заговорил. Русском! Значит, ты облыжно клялся, присягал ложно? Иуда!..
— Ты действительно дурак, Савёл! — отодвинувшись, сухо сказал Шлягер. — Век живёшь, ничему не учишься. Разве устоишь против силы, обречённой на победу?! Поменялся победитель, поменялась присяга.
— Что значит поменялся победитель?
— А то и значит! — Шлягер стукнул кулаком по столу. — Дурак-то наш умнее всех оказался!
— Бубен, что ли?
— А то кто ж?! Взял да и в самом деле поверил. Сорвал эксперимент!
— Сломались, значит. На православии. А на плацу объявили, что процесс прекращён по «техническим причинам». Мол, в последний миг на красной корове чёрный волос обнаружили!
— Стыдно признаться, Савёлушка! Не смогли одолеть русский дух! Сквозь все народы прошли, а в русском болоте увязли. Насмерть. Жужжат только, как мухи на липучке. Нас ведь, Савёлушка, аршином не измерить! Так-то... Особенная стать! Дурак наш возьми да и брякни во всеуслышание: «Верую во Единого Бога Отца Вседержителя...» Всё тотчас посыпалось прахом!
— Так ты, значит, теперь на стороне русских?
— Да, — сказал Шлягер просто.
— Против всего мирового сообщества?
— Йес.
— И в патриоты запишешься?
— А ты как думал? Здесь свои, там чужие. Здесь мой род, моя родина, мои родичи, мой народ. А там — чужой. Никакие другие доводы не важны.
Адольф встал, сорвал с головы монашескую камилавку, опёрся обеими руками о спинку стула.
— «Росси-и-я вели-и-кая на-а-ша держа-а-ва!..» — речитативом пропел он, к удивлению своему, впервые в жизни точно попадая в каждую ноту. — Полагается встать, Савёл.
Полубес тяжко приподнялся, но тут же снова сел. Ноги не держали.
— И в церковь будешь ходить?
— Вне Церкви — нет спасения!
Слова вылетали из Шлягера округлые, готовые, законченные.
— Чем докажешь? — всё ещё сомневался Полубес.
Шлягер порыскал глазами, затем широко перекрестился на крестовину кабацкой оконной рамы.
— Верю! — плечи Полубеса опустились, он весь оплыл, точно из него вынули скелет. — Легко тебе жить, Адик! Никак не возьму в толк: где же в тебе истинный, коренной человек? где самость твоя?
Прошла минута или более того. Полубес тяжко размышлял. Казалось, мысль с боку на бок ворочается в его покрытой седым бобриком голове, глухо погромыхивает. Но громыхало вовсе не в голове Полубеса. То в дальнем конце зала официант сдвигал вместе два стола, переставлял стулья.
— Значит, есть всё-таки? — Полубес исподлобья поглядел на Шлягера. — А я ведь верил тебе, подлецу! Думал, и вправду — нет Бога. Что же теперь?
— «Рече безумец в сердце своем: “несть Бог”», — тихо ответил Адольф Шлягер. — Прав Бубенцов! Всегда был, есть, будет!..
— Вот как? Но если Христос воскрес, то борьба наша тщетна! Так, что ли? За всё придётся ответ держать? Так, Адольф?
— А ты как думал? — злобно ощерясь, вскинулся Шлягер. — Не верил он. В Скокса же верил, в демона! А коль есть дьявол, то... думай, ничтожный раб!..
— Боюсь я, — признался Полубес. — Трепещу верить! Столько злодеяний за спиной! Страховито, Адольф! Неужели же никак не можно избежать ответа?
— Можно! Можно, Савёлушка, избежать ответа! Вспомни Бубенцова! Живой тебе пример. Я как-то подстроил для смеха. Подпоил как следует, он передо мною душу-то и вывернул. Каялся пьяный. Я ему в шутку грехи отпустил. Назавтра прихожу к Скоксу с докладом. Мне по морде ж-жах!.. Свитком пергаментным в самое переносье! Аж в глазах позеленело! Едва проморгался. Отчего это, недоумеваю, такой переполох? Оказывается, всё написанное о нём на пергаменте — исчезло. Пропало «личное дело»! Чистые скрижали! А казалось бы топором не вырубить!
— Так что ж вы мне на худсоветах голову-то морочили? — взревел в тоске Полубес. — На тренингах проклятых! Книгу запрещали читать! Мол, нет там святой правды! Оказывается, правды нет и ниже! Кому же верить? Где истина? Где справедливость?
И тут же, не дожидаясь никакого ответа, с неожиданной прытью вскочил со стула. Коротким ударом, который в боксе именуется «крюком», заехал сидящему Шлягеру в скулу. Голова Шлягера откинулась вбок, к плечу. Чёрная такса, дремавшая под столом, рыча, вцепилась в щиколотку Полубеса. Тот стряхнул её, отпрыгнул на полшага, сгорбился, встал в стойку. Поднял локти, загородил толстое лицо кулаками в ожидании ответной атаки. Выставил вперёд прочный лоб, следил за реакцией противника. Пружинисто поднимал свою тушу на цыпочки, покачивался из стороны в сторону.
Шлягер же сидел на стуле, сутулился, бубнил горячо, невнятно, клоня нос к сложенным вместе ладоням. Затем поднял лицо, сказал глухо:
— Принимаю заушение твоё, Савёл. Со смирением.
Полубес слушал настороженно, кулаков от лица не отнимал, прикрывался.
— Мотаюсь инде посреде волков. — Шлягер вздохнул. — Яко овечка.
Руки Полубеса стали опускаться.
— Доколе переть против рожна, Савёл? — возвысил голос Шлягер. — Должно искать иной путь! Куда идти, зависит от нашего с тобой произвола. «Утверждает Господь вся ниспадающия и восставляет вся низверженныя». Бубенцов смог! Ничтожный, слабосильный... А мы что же...
— Ну и где выход, Адольф? — отозвался Полубес, с недоверием, но и с некоторой надеждой поглядывая на Шлягера. — Где же выход? Весь мир лежит во зле. Покажи мне такую обитель!..
— Есть такая обитель! Близ древнего града Козельска! Гряди за мною.
И не промешкал Савёл Полубес. Видать, давно уже втайне про то же думал.
— Гряду, Адольф! — выдохнул Полубес. — Куда ж я без тебя?..
Опустил наконец кулаки, оплыл всей могучей тушею, обмяк.
Стало заметно, как за окнами «Кабачка на Таганке» бесновалась снежная мгла, ломилась в стёкла, металась, билась об углы и стены, выла.
Глава 15
Подлинная жизнь
1
Бубенцов не предполагал, что нашествие врагов последует так скоро. Квартиру опечатали. Опечатали, правда, не так, чтоб в неё совсем уж нельзя было проникнуть. Обнаружилась чуть повыше замка всего лишь несерьёзная на вид бумажка — с рваными краями, с синей печатью в виде черепа с костьми. Полоска была ещё влажной, клей не успел просохнуть. Ерошка отлепил мерзкую бумажонку, отомкнул дверь, вошёл. Сердце билось часто, тревожно, с подскоком. Переступая через порог, поневоле вжал голову в плечи, ожидая какого-нибудь умело подстроенного подвоха. Чего-то вроде грубой шутки, когда сверху обрушивается ведро воды или какая-нибудь швабра с треском валится на голову.
Он давно уже усвоил, что при всей несерьёзности, нелепости их действий, тёмного косноязычия уставов, архаичности самого заведения, старинной пестроты обрядов, шутовской формы — содержание всего этого спектакля было самым суровым, кровавым, жёстким. Хорошо, если схватишь по башке шваброй, а то как бы чугунной гирей не ударили в темя. Или рельсом от узкоколейки.
Какие тут могут быть шутки, если как нож сквозь масло прошла эта непонятная ассирийская структура в неизменном своём виде сквозь толщу веков.
Оказавшись внутри, Ерофей Бубенцов новым, острым взором оглядывал пространство такой знакомой, но уже почужевшей квартиры. Здесь прожили они с Верой пятнадцать лет. Бубенцов ходил по комнатам, вдыхал родные запахи, от которых успел отвыкнуть.
Вот в это овальное большое зеркало много раз заглядывал он по утрам, разминая пальцами синие подглазья, тоскуя, припоминая вчерашние хмельные похождения. Это осталось там, в прежней жизни. Гляделась в зеркало Вера, близко склоняясь лицом, сосредоточенно подкрашивая ресницы, поворачивая слегка голову влево и вправо, прищуривая свои милые, карие с золотой искоркой, глаза.
Вот по этому телефону, который сейчас трезвонит, выяснял он в то роковое утро, получил ли друг его Бермудес Пригласительный билет...
— Алло, — сказал Бубенцов. — Слушаю.
Мгла сыпалась, струилась по стёклам как пепел.
В квартиру ворвался телефонный гам. Вновь объявились коллекторы. Закричали после долгой разлуки пронзительным хором. Завизжали все одновременно, отталкивая, перебивая, перекрикивая друг дружку. Галдели радостно, как выпускники пединститута на юбилейной встрече спустя тридцать лет. Узнавая, ахая, не веря глазам. Постепенно, однако, тон криков стал понижаться. Среди безобразного лая, воя, визга Бубенцов различал уже некие отчётливые периоды. Как будто хаос пытался организоваться, в нестройных воплях стали проскальзывать силлабо-тонические ритмические тропы:
— Ты уж думал, мы от тебя отстанем? Ухватим крючьями за рёбра, из-под земли достанем! Да мы тебе ни на этом, ни на том свете покоя не дадим! В самом аду отыщем, лютейшей казни предадим. Думал, тыщи те в тщете не отыщете! Зря, мол, рыщете! Ещё как отыщем и взыщем! Якоже и мы не оставляем должником нашим. До последнего кодранта отдашь им!
Похоже было на стихи Симеона Полоцкого, но... Вот то-то и оно! «Нашим — отдашь им». Рифма каламбурная. Новаторская. Итак, выходит, его снова отдали на растерзание обыкновенным бесам. Мелким, ничтожным. Да что ж ты удивляешься, Бубенцов? Чему тут удивляться? Ведь и миром, как видишь, овладели не могучие ветхозаветные силы зла, а мелкая, суетливая, ничтожная сволочь. Вот что обидно!..
Вся эта нечисть, как видно, страшно соскучилась без дела. Бубенцов ронял трубку, но наглецы перезванивали через пять минут. Всем им, тщеславным, самоуверенным, нужен был слушатель. Звякали бубнами, звенели кимвалами, стучали гитарой, блеяли. Невидимки снова, как и в самом начале, меняя голоса, требовали несуразной выплаты вместе с гигантскими процентами, которые натекли за время, пока Ерошка защищён был от мелких нападок высшими тёмными иерархами.
— Есть верный выход! — увещевал доверительным тоном один особенно ласковый, задушевный тенор. — Есть избавление от мук. Человек создан для полёта! Прыгни с крыши, а мы подхватим тебя!
— Юмор пошлый, — кротко отвечал в трубку Ерошка. — Гадкие людишки. Все вы смертны. Но я возлюбил вас, согласно заповеди. И потому совсем не боюсь.
Хотя, честно сказать, всё-таки побаивался.
Хуже всего было то, что на Ерошку совокупно обрушились все силы, прежде разрозненные, каждую из которых успел он обозлить, настроить против себя. Это обнаружилось тотчас, едва он вышел на улицу, чтобы купить хлеба. Заглянул по дороге в киоск, скользнул взглядом по заголовкам газет и оторопел! Памятозлобие людское не поддаётся описанию. Права была Гарпия, когда говорила: «На кого люди, на того и собаки!» Все самые отборные, гадкие, подлые перья сворой набросились на Ерофея Бубенцова. Газета «Скандалы», оказывается, напечатала статью «Про проделки проказника». Чёрный заголовок пересекал по диагонали две полосы. Сверху вниз, слева направо падала диагональ, подсказывая читателю направление пути антигероя. С высот по наклонной — в тартарары, в преисподнюю, в пекло, в геенну, в тартар, в ад. На три рокочущих слога «про» откликались, выплывали из подсознания «проклятие», «прокуратура».
Ерофей понимал, что истоком травли, гоньбы, ненависти была справедливая человечья обида — отрёкся от власти! Дурак! Сперва дал надежду на лучшее будущее, на счастливое царство, на благоденствие, процветание, на свободу и порядок, равенство и превосходство, братство и богатство. Вот же негодяй! Тебя славили, любили, чествовали, уважали, встречали криками «ура!». А ты взял да и отрёкся! Сумасшедший!.. Будь проклято имя твоё!
Ерошка видел заголовки других газет: «Мерзавец сменил пол», «Кто украл металл?», «Откуда везут мазут?», «Акты, в которых факты!»... Понятно было, что это тоже про него. Приметил на обложке журнала «Космополит» изображение роскошной яхты. Но как доказать людям, что яхтой владел он только виртуально? Самая-то главная беда заключалась в том, что возразить, оправдаться, опровергнуть он ничего не мог. Ясно, что все эти СМИ руководились из одной точки, направлялись одной, сатанинской рукой. Столько чудовищной, несообразной лжи узнал про себя Ерошка, что впору было повеситься.
Но всё-таки из-под тяжкого груза мерзких обвинений, из-под нагромождений лжи пробивался некий светлый ручеёк, несущий в себе радость, отраду для души. Ерофей Бубенцов теперь совершенно ясно понимал — из какого страшного ига он вырвался, из-под какой могильной плиты сумел выкарабкаться. Пусть с ободранными боками, пусть с перебитым хребтом.
2
Вернулся в квартиру с купленным хлебом. Веры ещё не было. Бубенцов не стал зажигать света. Прошёл сквозь длинные сумерки, как сквозь тысячелетия, на кухню, присел бочком к столу. Да, именно так, бочком. Пустой холодильник вздрогнул и тихо, доверчиво загудел, включившись. Прощальную пустоту квартиры ощутил Бубенцов с сиротской, вокзальной тоскою. Точно выгнали уже, выветрили ледяные сквозняки жилой дух отсюда, сдули со стен терракотовые обои, сорвали, унесли занавески, выстудили комнаты.
«Шапка! — спохватился он. — Как же я всё забываю!»
Он прекрасно помнил, где все эти годы лежала пыжиковая шапка, подаренная ему добрым стариком. Непонятно только, зачем он её хранил. Сколько раз доставал, держал в руках, намеревался выбросить. Один раз вынес к мусоропроводу, но в последний миг одумался. Он помнил, что шапка была никакая не кроличья. А самая что ни на есть пыжиковая! Пусть поеденная молью. Придвинул стол, поставил на него стул, полез на антресоль. Нащупал чемодан, с трудом приоткрыл, просунул руку в щель. Сверху сыпалась пыль, мел, пересохший древний сор. Вот он, пакет. Там она и лежит, вместе с мандариновыми корочками, которые, по утверждению Веры, помогают от моли. Извлёк шапку из пакета, чихнул. Шапка была пыжиковой.
Бубенцов тихо улыбнулся, обтряхнул её, несколько раз ударив об колено, надел на голову. Поднял руку, пощупал. Пыжиковая — это подтверждалось и на ощупь.
Послышался знакомый звук проворачиваемого в замке ключа. Пришла Вера. Бубенцов подхватился, побежал встречать. Он всё расскажет. О том, какая катастрофа произошла. На какую вершину вознесла его судьба, в какую пропасть низвергла. Она сперва не поверит, а потом, скорее всего, тихо заплачет. Вера часто в последнее время, глядя на него, не могла удержать слёз.
— Ну, слава богу, наконец-то ты вернулся! Молодец! — похвалила Вера, поцеловала в щёку, пошла с сумками на кухню.
— Проект закрыт, — сказал Бубенцов, входя вслед за Верой. — Не могу тебе, к сожалению, раскрыть деталей. Подписку дал о неразглашении.
Бубенцов сел, ноги ослабли. Замолчал надолго. Руки вытянул перед собою, ладонями вверх. Сидел, глядя в опустевшие ладони, сокрушённо покачивая головою. Зазвонил телефон. Опять проклятые голоса. Вера взяла трубку. Бубенцов отвернулся лицом к стене.
— Да, — говорила Вера в трубку. — Понятно. Стало быть, решение не окончательное. Я так и поняла. Платье парадное из панбархата. Веймарское колье. Подвески алмазные. Можно открыть ему? А то совсем в уныние впал. Да. Депрессия. Нет, пока не запил. Спасибо, Адольф!
«Спасибо, Адольф?» — вздрогнул Бубенцов.
— Значит, можно открыть? Всю подоплёку? Прекрасно! Спасибо. А то и вправду совсем уж. Думаю, он обрадуется.
Ерошка повернул голову, вопросительно глядел на жену. Вера хлопотала у плиты, молчала, нарочно отворачивала лицо. Бубенцов видел, что она сдерживает улыбку.
— Не унывай, — сказала Вера, расставляя тарелки на столе. — Не закрыт проект. Иначе и тебя, и всех нас закрыли бы вместе с ним. Быть тебе царём! Проект отложен ненадолго.
— Почему отложен?
— Русский народ не покаялся в содеянном. Нужно публично, перед всем мировым сообществом. И на коленях. Поляки особенно настаивают, чтоб ползком и на коленях.
Бубенцов, широко раскрыв рот, глядел на Веру. А Вера между тем продолжала тем же тоном, раскладывая еду:
— Формальность, конечно. Но без этого нельзя. Во-вторых, про Земский Собор в суете забыли. Надо ведь, по древним уложениям, сперва Собор созвать. Для легитимности.
— Да ты-то откуда знаешь про всё это?
— Да уж знаю. — Вера поглядела на мужа, улыбнулась. Затем, уже не таясь, громко, от всей души расхохоталась. — Деньги? Да вот же они!
Нагнулась, вытащила из-под стола ту самую, ту давнишнюю, ту брезентовую, ту полосатую...
— От тюрьмы да от сумы не зарекайся!
Попробовала пододвинуть суму поближе к Бубенцову, но не смогла, сил не хватило.
— Это... те? Я же их бомжу... Одноглазому... — ничего не понимая, сказал Бубенцов. — Откуда здесь эти деньги?
— Это не те, Ерошка. На этот раз подлинные. Настоящие. Да только тебе они ни к чему!
— То есть?..
— Царям наличность не нужна. — И тихо рассмеялась серебряным своим смехом.
3
Серебряным смехом, сквозь который проступал тяжёлый гул медных колоколов. То неподалёку, в храме святителя Николая в Покровском, звонили к вечерней службе. То подлинная жизнь проступала из-под спуда.
Бубенцов спиною своей чувствовал сквозь уходящий сон ребристую поверхность деревянной скамейки. Чувствовал, как затекла шея. Голова его лежала на коленях у Веры. Он снова оказался в том мире, где никакой надежды нет.
Сны изводили его в последние недели. Спал он теперь только урывками, от случая к случаю, как спит всякое бродячее животное, лишённое крова и пищи. Но в этих урывках успевали развиться дивные, сложные сюжеты. Откуда-то сваливалось на него богатство. Держал в руках своих Бубенцов много-много денег. Он мог во сне заплатить, положить Веру в самую лучшую клинику, вылечить её от того страшного тихого кашля, который терзал его душу и про который оба они старались никогда не говорить. Сны были цветными, живыми, яркими, надолго врезались в память. Правда, после них жизнь казалась ещё безнадёжнее, ещё тусклее.
Бубенцов поднялся, нехотя открыл глаза. Мир оставался прежним — чуждым, враждебным. Сквер заносило снегом, шаркала невдалеке лопата дворника. Мелкая дрожь сотрясала тело Бубенцова. Он снял с головы пыжиковую шапку, стряхнул морозную пыль. Пахло дымом. Возле платформы неизвестные шутники подожгли мусорный бак. Вера порылась в большой полосатой сумке, извлекла шерстяную кофту, укрыла плечи Бубенцова.
— Что делать будем, Ерошка? — Вера вздохнула, закашлялась, а когда кашель немного утих, прибавила: — Долго нам выносить эту муку?
Сказала это спокойно, покорно, без всякого чувства. Бубенцов некоторое время молчал. На то, чтобы притворяться, лгать, лукавить, — на это у него не хватало никаких душевных сил. Сил оставалось только на правду.
— Видно, до смерти, Вера, — честно сказал Бубенцов. — Теперь уже до самой смерти. Дум спиро... Пока живу — мучаюсь.
Иней в последние дни всё гуще пудрил её короткие волосы.
4
Они сумели отстоять самое лучшее место под платформой. С трёх сторон убежище защищали бетонные плиты, а пролом между опорами Бубенцов завалил старыми венками. Натащил с Лефортовского кладбища. Сквозь еловые лапки видны были огни их дома. Всю ночь сюда, в этот укромный угол, задувал ледяной сквозняк. Вера прижималась, ютилась к нему.
Бубенцов поднимал руку, разглядывал ладонь с горьким недоумением. Ронял на грудь. «Теперь уже до самой смерти, — думал он. — До смерти тела. Тело сейчас мёрзнет, затекает, мучится. Как странно. Внутри тела живёт бессмертная душа. Она мыслит, чувствует, надеется. А тело умрёт. Неизбежно. Значит, с самого рождения всякий человек носит на себе труп. Заскорузлые, тяжкие кожаные ризы. Не потому ли так тяжко душе?..»
Грохотали и грохотали тяжёлые поезда, прокатываясь мимо.
Смертные тела требовали ухода, заботы. В сумерках он уходил добывать пищу. Скоро промерзал до костей на открытом пространстве. Согреться можно было возле входа в метро. Изнутри выгоняли. Простуда валила с ног, порывами налетал озноб, и тогда он чувствовал, как всё в нём трясётся, мелкая дрожь рвётся изнутри его. Кожу сводит короткими судорогами, как у мокрой собаки, которая только что вылезла из проруби.
Бубенцов садился на гранитную приступку рядом со входом в метро, запахивался в бушлат, прислонялся вспотевшей спиной к стене. Замечал расстёгнутую пуговицу на бушлате, но застегнуть её даже не пытался. Сделать это было невозможно. Знал наперёд, что только зря потеряет время. Замёрзшими-то, растопыренными от мороза пальцами. Вера потом поможет.
Из метро тянул тёплый ветер. Хотелось повалиться, лежать на пути этого жилого потока, просушить липкий пот, что струился меж лопаток. Но нельзя было ни на минуту задремать, расслабиться. Во-первых, Вера ждала. Во-вторых... Люди шли и шли, и не все из них были добрыми. В любой миг мог налететь лютый человек, обматерить, толкнуть, а то замахнуться, ударить по щеке. Нужно было встать, идти дальше.
5
Их жизнь состояла только из самого простого, насущного, необходимого. Всё, что прежде тревожило, волновало, заставляло беспокоиться, нервничать, суетиться, оказалось совсем неважным. Все прошлые события как будто никак не были связаны с настоящим.
Ерошка часто вспоминал свою жизнь, представлял её ярко, в деталях, мелочах. Он лежал в темноте с открытыми глазами, и его не покидало ощущение, что все прошедшие события происходили с другим, посторонним человеком, которого давно уже нет. Там, в нереальном этом прошлом, от которого почти не осталось никаких следов, жил кто-то похожий на него, какой-то двоюродный родственник, мало связанный с нынешним Ерофеем Бубенцовым. Всё, что творил тот человек, о чём мечтал, что говорил, что думал, — всё это было чужой жизнью и теперь мало касалось его, Ерофея Бубенцова, обитателя бетонного укрывища.
Самость не может жить в прошлом. Она всегда здесь, при тебе. Самость живёт только в настоящем. Или в загадочной вечности, где настоящее никогда не проходит.
Но зачем тогда всё было? Зачем ему это прошлое? Зачем вся сложнейшая совокупность действий, мыслей, чувств, переживаний прошедшей жизни? Неужели все эти перемены были нужны только затем, чтобы привести вот к этому непонятному результату? Впрочем, как можно назвать результатом то текучее состояние, неустойчивое, непрерывно переменяющееся? То, что скользит, ускользает, проскальзывает меж прошлым и будущим. Стало быть, эта жизнь, что теперь струится в нём, тоже всего лишь промежуточный результат. Окончательный же наступит в момент смерти, когда душа вырвется из текучей плоскости, вызволится из вязкого потока времени.
Всё зыбко, всё неопределённо, всё переменчиво. Но кое-что верное в его жизни всё-таки оставалось. Несомненное, настоящее, драгоценное. У него была Вера. Она сейчас лежала на его руке, тихо дышала в темноте. Лицо её белело во мраке, он приближался, щекой своей чувствовал тепло её дыхания. Но в объективных ощущениях его был некий изъян, о котором он прекрасно знал. Он не мог её разглядеть в темноте, а потому воображение рисовало образ, немного не соответствующий реальности. Он почему-то упорно представлял её с косой, хотя косы давно уже не было. У Веры была короткая стрижка, как у мальчика. Как будто пережила тиф. Густую свою косу она уступила Изольде Грэйф, сухопарой, злой сценаристке, помощнице режиссёра. Это было в Красногорске, где оба они подрабатывали в массовке. Гримёры тотчас остригли Веру, прямо на съёмочной площадке. Немедленно стали прикладывать, примеривать великолепные русые волосы на длинный череп Изольды Грэйф. На эти деньги они жили потом почти месяц.
И ещё кое-что несомненное, подлинное, реальное проникало из прошлого в теперешнюю жизнь Ерофея Бубенцова. То, что нельзя было спихнуть на двоюродного братца, от чего нельзя было отвязаться, отгородиться. От чего не было никакой защиты. Это была его измена. Паскудная измена с великолепной, незабвенной Розой Чмель торчала из прошлого, как шип, мучила, как позвоночная грыжа. Она ничуть не умалялась от времени, а, наоборот, разрасталась, становилась всё болезненней. Трудно было найти такое положение, при котором воспоминание это не защемляло нерва.
— Зачем ты изменил мне? — напомнила Вера утром. — Пришёл и давай мне с порога про масонов заливать.
Было уже совсем светло, и Бубенцов видел, как насмешливо дрогнули её губы.
— Когда это? — попытался оттянуть время Ерошка. — Не понимаю, о чём ты.
— Милый, милый. — она глядела с жалостью и печалью. — Родной ты мой дуралей. Все-то хитрости твои такие.
Ерошка прислушивался, удивлялся спокойному, глухому, усталому голосу. В котором звучало сочувствие, жалость, но почти не было упрёка. Ну разве только самая малая толика. А ведь казалось, что он знает жену свою до последней чёрточки. Бубенцов задумался о таинственном парадоксе. Казалось бы, чем дольше живут люди рядышком, чем теснее и чаще общаются, тем понятнее должны становиться друг другу. Тем меньше тайного у них.
На самом же деле именно меж самыми близкими людьми постепенно вырастает некая стена, и стена эта с каждым днём становится всё непроницаемей. В привычное уже не вглядываешься, доверяя прежним впечатлениям. Эту невидимую, почти не ощущаемую стену труднее всего пробить. Пробивает её совместное горе, да и то не всегда и только на самое короткое время.
— Ты же всегда чуяла моих врагов, — увёл он разговор в сторону. — Как же ты Шлягера допустила в мою жизнь?
— Шлягер приносил пользу. Пусть ненавидел тебя. Да, это ядовитая ехидна. Но кто же убивает ехидну, несущую золотые яйца?
— Прельстил нас проклятый змий!
Многое теперь совершенно утратило всякую цену. И только спустя несколько часов, вернувшись с раздобытков, Бубенцов долго смотрел на горящие окна своего дома, а потом сказал:
— Вот потому нас выкинули из рая.
Оказывается, всё это время мысль его ходила по кругу. Коло ока его вокруг да около, да не далёко.
6
Он ходил кругами по местам, которые помнили их. Знакомый вид этих мест, частично уже застроенных, переменившихся, сладко и больно терзал сердце. Вот улица, где снимали они квартиру в первый год после венчания. Ерошка присел на скамейку, замер, вслушиваясь в себя. В этом дворе, в какую бы пору он ни заглянул сюда, звучала одна и та же музыка. Которая особенно нежно рвала душу. У музыки не было ни автора, ни имени. В отличие, скажем, от «Полонеза Огинского», вальса «Амурские волны» или бетховенской «К Элизе». Хотя она была такою же простою, неотвязчивой, как популярный шлягер. При удивительной простоте мелодии Бубенцов не мог бы её повторить, напеть. Ведь мелодия эта была ещё не написана, она едва доносилась из той таинственной области, из той божественной неисчерпаемой копилки, где хранятся бесценные шедевры. Куда только изредка дано заглянуть гениальным музыкантам. Откуда воруют образы великие поэты и вдохновенные художники. Но тщетно пытаются они повторить, запечатлеть божественную гармонию. Не умещается подлинная гармония в трёхмерном земном мире! Промучившись безысходной мукой, расплачиваются похитители небесного огня слишком дорогой ценой — разбитой вдребезги жизнью или даже ценой собственного безумия.
Таких мест в городе, которые звоном отзывались в сердце, было на удивление немного. Большой Каменный мост, через который они шли когда-то и где он согревал её ладонь в своём дырявом кармане. Двор, где жили они после свадьбы. Античная беседка с Лаокооном в больничном дворе, где Вера ревновала его к девицам из музыкального училища.
Иногда музыка глохла, вот как сейчас. Он как бы выпадал из волшебной музыкальной шкатулки. Это случалось, когда забредал в места настолько чужие, глухие, незнакомые, что уже по-настоящему пугался. Паниковал, как потерянный, заблудившийся ребёнок. Казалось, из этих каменных, ледяных тупиков нет выхода.
«Вера! — из непроглядной глубины доносился до него собственный глухой крик. — Забери меня! Выведи меня отсюда!» Приостанавливался, прислушивался к себе, а затем, уловив направление, шёл на ответный голос Веры, выходил из незнакомого двора. А там, в самом конце улицы, вылезала вдруг из-за угла вывеска знакомого магазина, где он десять лет назад покупал к Новому году польскую водку «Житная»... И снова попадал в расставленные силки, в сети памяти. Попадал снова в мир, где воскресали давно смолкнувшие звуки, оживали позабытые запахи, падал знакомый свет, как и тогда... а вместе со всем этим оживала привычная уже смертная тоска.
А он и рад был запутаться в этих сетях. В тот Новый год на Вере было чёрное платье, нитка белого жемчуга. Осталась чёрно-белая фотография, где она стоит с бокалом в руке. Строго глядит чуть раскосыми, яркими глазами. Он увеличил фотографию, заключил в золотую раму, повесил на стену. А дальше, дальше что? Он помнил, что застолье было шумным, как всегда, весёлым, бестолковым, но кто был у них в гостях? Бермудес и Поросюк точно были, а ещё кто? Десять лет назад. Ну, ещё усилие, ещё рывочек. Вот оно, близко... Память, говори!.. Нет. Нельзя вспомнить, стёрлось, позабылось.
Оборачиваясь на прожитую жизнь, человек неожиданно обнаруживает, что жизни — единой, цельной, неделимой — не было у него. Она была, конечно, по факту — непрерывная, перетекающая изо дня в день, и каждый час в ней продлился сколько ему положено. Все случайности, произошедшие в жизни, логично, последовательно и ладно сцепливаются с миллиардами всех иных случайностей, что каждый миг беспрерывно совершаются во вселенной. Но вот эта вся полноводно, плавно, широко протекшая жизнь куда-то подевалась, пропала, испарилась. Что же получается? А получается то, что и сама жизнь человека, и мир, в котором протекла эта жизнь, — были иллюзорными. Их нет уже! И уж тем более нет никакого прошлого, дорогие мои!
Прошлое всегда заново рождается в сердце — здесь, сейчас! Вот несколько сцен из детского сада, вот школьные картинки, вот учёба в институте, какие-то зачёты, отдел кадров, банкет на работе, скандал на дне рождения у знакомой, драка на свадьбе Понышева... События всей жизни нагромождены как попало, бестолково. Свалены как старые вещи на чердаке. А вернее сказать, как реквизит в бесконечных подвалах, хранилищах кинофабрики в бутафорском замке под Красногорском. Можно бесконечно бродить по подземным лабиринтам, растерянно перебирать, разглядывать отдельные предметы, но трудно связать одно с другим, всё путается, всё рвётся в руках, всё распадается.
Вот он идёт с Верой по Каменному мосту над Москвой-рекой. Внизу в тёмной воде плывут большие серые льдины. Воспоминание наплывает, движется само собою, вне времени. Его невозможно к чему-то привязать, с чем-то соотнести. Льдины плывут из ниоткуда в никуда. Были они тогда женаты или только собирались, неясно. Это было в молодости. И музыка такая... Ни с чем не спутаешь эту музыку, хотя невозможно её сейчас повторить. Бубенцов и не пробует, чтобы не спугнуть. Для музыки нужны ноты, флейты, скрипки, трубы, а в его распоряжении только глухие слова. Кажется, дело происходило ранней весной, в марте. Ветер дует в лицо, приходится прикрывать горло рукой. Зябкий холод проникает в рукав. В свете фонарей стелется через мост белая позёмка. Куда они шли? Может быть, в кафе «Московское», что в гостинице «Москва». Согреться-то было надо. С другой стороны, вряд ли у них были деньги. Таких мелких деталей нельзя теперь вспомнить. Но зато отчётливо хранит память то, что руку Веры он держит в своей руке, согревает в кармане пальто. Карман дырявый, они оба смеются.
Но и здесь таилась измена. Бубенцов как-то напомнил об этом Вере, описал ледоход, ветер на мосту, косой свет фонарей, рука в руке, дырка в кармане пальто.
— Ты меня путаешь с какой-то другой своей бабой, — оборвала Вера. — Не ходила я с тобой через мост! Хотя ледоход помню. Я видела его на реке Березине в Белоруссии.
Значит, у женщин жизнь проносится точно так же, как и у нас! Как будто несётся состав сквозь мелькающую пелену, расходятся клочья тумана, вспыхивают яркие картины. Но женская память отбирает, запечатлевает совсем иные картины, нежели мужская. Иной у них фотоаппарат, иные точки съёмок.
Да, милые мои, у каждого своё представление о прошлом. А на самом-то деле оба, оба забыли, как, перейдя через мост, в поисках тепла забрели не в кафе «Московское», нет! Они зашли в Пушкинский музей. Ну, вспомнили?.. Нет! Не помнят! Забыли про картину, у которой долго-долго стояли. «Леопард, нападающий на лошадь». Экскурсовод особенно подчеркнула, что картина стоит миллионы, а художник умер в нищете. Как можно забыть такое? Как?! Даже очкастую женщину-экскурсовода забыли! Напрочь! Да как же... Эх...
— Ты знаешь, Вера, о чём я больше всего жалею? — сказал Бубенцов.
— Знаю. Жалеешь о том, как много страдания ты мне принёс.
— Будь моя воля, начать всё заново. Я бы вёл себя совсем по-другому. Благородно. Ну, ты понимаешь. Я был бы другим! Жаль, не вернёшь уже.
— Другой мне не нужен, — сказала Вера просто. — Я, Ерошка, не другого любила. А вот этого. Какой есть. И какой уж достался на мою долю.
7
Он спешил. Возвращался со своею добычей к Вере. Утром, прощаясь, оставляя её под платформой, Ерошка плакал светлыми, жгучими слезами. Чувствовал, как горячо стекают они по щекам. Вера боялась оставаться одна. Ей показалось, что она кое-кого видела.
— Помнишь курьера? — спросила Вера.
— Дворника?
— Какого тебе дворника! Бабу эту рыжую, косоглазую. С рыжей косой. Я сегодня снова её видела. На мостике через Яузу. Мельком, правда. Она на меня обернулась.
— Не бойся, — сказал Бубенцов, чувствуя, как похолодело сердце.
«Логично, что смерть является нам в образе женщины, — кажется, так говорил профессор. — Ибо смерть — это рождение в новую жизнь...»
— Во-первых, это была никакая не рыжая баба с косой, — продолжал Ерошка. — Пригласительный билет нам принёс дворник Абдуллох. Во-вторых...
Принялся заговаривать слабыми человечьими словами то, что нельзя заговорить. Но он-то слишком хорошо знал, что смерть всё время бродит рядом с человеком, что она постоянно находится поблизости, в поле зрения. Что она готова всякую минуту... Вот только глаз привык ежедневно, ежечасно видеть её и потому не замечает, несмотря на яркий, экзотический образ. Смерть ничем не выделяется из общей массы, потому что слишком примелькалась, слишком привычна глазу. Но если напрячь внимание, сосредоточиться, разъять толпу на отдельные лица, то обязательно увидишь, встретишься на мгновение взглядом, различишь её среди этой самой толпы. Если очень повезёт, то можно приметить и особую ухмылку узнавания на её безглазом лице. Успеешь осознать, догадаться по еле уловимому движению бледных губ, что она собирается окликнуть тебя по имени. Мудрые люди, впрочем, не советуют особенно приглядываться к этой ухмылке. И больше всего остерегаться ласкового оклика.
Возвращался по знакомым местам, по ледяному пространству. Теперь всё упростилось до самой последней простоты. Нога болела, сердце тихо ныло. Но сердце ныло не от боли, а от жалости. От великой жалости к жене. В нём теперь постоянно жила, мягко ворочалась, задевая, тесня сердце, эта отрадная, целебная, удивительная жалость.
Это было, в сущности, беспокойное, бесполезное чувство, которое теперь никогда в нём не усыпало, не оставляло его ни днём ни ночью. Эту жалость, эту горькую любовь нужно было постоянно сдерживать, допускать малыми дозами, не терять контроля. Потому что если случалось этому чувству вырваться из глубины сердца на волю, то мгновенно у Ерошки жестоко перехватывало горло, мир застилался горячим туманом, нечем становилось дышать.
Странно было ещё и то, что это чувство было больше самого Ерофея, тут впору сказать — громаднее. Как одиннадцатиэтажный дом не больше, а именно громаднее человека. Необъятное чувство не могло уместиться в его внутреннем тесном пространстве. «Но ведь и вселенная не может уместиться внутри человека, — думал Бубенцов, размышляя об этом абсурде, — однако вмещается. Ещё и много остаётся свободного места внутри человека. Так и здесь. Так и здесь...»
И если бы кто-то предложил ему средство избавиться от сердечной маеты, тяготы, протянул горсть таблеток, дающих избавление, душевный покой, то Ерошка, не раздумывая ни секунды, отшвырнул бы от себя эти соблазнительные таблетки, яростно втоптал бы их в снег.
Ерошка нёс своей жене Вере нищую, убогую добычу. Сложенный картон хотя и не тяжёлый, но нести его неудобно. Правая рука устала, онемела. Но переложить груз под левую руку было невозможно. Потому что слева, во внутреннем кармане бушлата, напротив сердца, Бубенцов хранил старинный подарок Веры — антикварный серебряный подстаканник. Вещь, с которой он теперь не мог расстаться даже и до смерти. Ложечку давно уже потерял. Но серебряный подстаканник — это было последнее, самое дорогое, самое ценное, самое настоящее.
Бубенцов тащил найденный картон. Находка веселила душу. Картон толстый, многослойный, с пазухами воздуха внутри. Можно подстелить, и станет гораздо теплее, гораздо. Верка мёрзнет под платформой, у неё сухой, негромкий, страшный кашель. Снова текли по лицу Бубенцова слёзы. Заснеженный мир засверкал сквозь его ресницы. Откуда только они берутся, эти слёзы жалости? Никто не ответит на этот простой вопрос. Никто.
Бубенцов сжимал зубы от страха и отчаяния. «Но и зубами своими не удержать мне тебя...»
Тащился по стогнам города, смахивая с ресниц снег. Вон там чёрный ход в театр, где он был пожарным. А там «Кабачок», где ловкий бес всучил ему когда-то проклятую суму, вверг в сокрушительный соблазн.
8
Тихо урча, медленно обогнала чёрная, сияющая машина, остановилась в десяти шагах впереди. Пал на вечерний снег багровый отсвет тормозных фонарей. Багровый свет сменился на белый — то машина двинулась обратно, стала тихо подавать к нему задним ходом. Бубенцов должен был почувствовать если не страх, то хотя бы тревогу. Но он ничего не почувствовал. Отступил в сторону, пошёл своей дорогой. Когда же его ударили сзади по плечу, он не удивился, не испугался. Молча повернулся, вполне равнодушно оглядел с головы до ног догнавшего его человека. Это был господин в седой бобровой шапке, пахнущий фиалками, сигарой, дорогой сырокопчёной колбасой.
Шуба его была распахнута на груди, видна была золотая цепочка, уходящая в кармашек плисового жилета. На широко расставленных ногах красовались новенькие бурки из белого войлока, с кожаным низом и сияющими, начищенными до неимоверного блеска носками. Вид этого сытого, счастливого, самодовольного буржуина не произвёл на Бубенцова никакого впечатления. Он всё уже повидал в земной жизни.
Чёрная повязка по диагонали пересекала лицо буржуя. Только у двух людей доводилось Ерошке в своей жизни видеть такую повязку — у Кутузова в кино и у легендарного пирата Флинта на портрете в детской энциклопедии.
Впрочем, ещё у одного человека — в тесном переулке у «Кабачка на Таганке», чей смутный образ теперь... Тёмные бандиты выбирались из задней двери, отвлекая его внимание, но Бубенцов не боялся никаких бандитов. Самое большее, чем могли навредить ему бандиты, — отнять серебряный подстаканник. Ну и жизнь, конечно. Зачем ему жизнь? Жалко было только Веру, которая неизбежно погибнет, если его сейчас убьют и растопчут. Бубенцов подумал об этом и опять молча заплакал, на этот раз без слёз.
— Насилу вас отыскали, — сердито пожаловался буржуй. — По адресу вашему проживают совсем иные люди. Совсем иные. Иные люди про вас ничего не знают. Клещами слова не вытащишь! В буквальном смысле. Форс-мажор. Так что просрочка с возвратом долга не по моей вине.
Бубенцов стоял, крепко прижимая локтем картон. Он отдавал себе полный и трезвый отчёт в том, что картон у него, конечно, отнимут. Уж больно неравны силы. Но он будет биться до последнего. Он будет кусаться оставшимися своими зубами. Он будет защищать свою Веру до самого трагического конца.
— Э-э-э... Не узнали? Позабыли? Позвольте представиться, — продолжал между тем буржуй и заключил мёрзлые растопыренные пальцы Бубенцова в свою белую мягкую ладонь. Проговаривая эти слова, грабитель дёрнул руку Бубенцова на себя, пытаясь таким ловким, хитрым маневром отобрать заветный картон. Дёрнул пробно, не очень сильно, так что локоть Ерошки остался на месте. Ерошка по-прежнему крепко прижимал картон к боку.
— Жебрак. Жорж Трофимович. Это, конечно, вам ни о чём не говорит, — продолжал одноглазый пират. — Когда вы год назад предоставили мне кредит, имён не спрашивали.
Два молодца, тяжко переступая, вышли из-за спины пирата. Вынесли и поставили к ногам Бубенцова объёмистый пиратский же ларец, обшитый кожей, обитый медными уголками.
— Тут с процентами, — деловито сказал пират и развернул разлинованный лист с печатью. — Я человек благородный. Процент официальный, Центробанка. За вычетом той суммы, которая была потрачена на выкуп вас из отделения полиции. Я получил от вас год назад три миллиона семьсот тысяч. Возвращаю четыре. С небольшим. Вот здесь распишитесь. И здесь, в клеточке.
— Ерофеюшка! Милый дружок! Обернись же ты, наконец... — отвлёк голос, тихий, хрипловатый. Откуда она только выбрела, рыжая, косоглазая? И как же не вовремя! Та самая, Ерошка, та самая... Которая по безлюдью не ходит. Не зря говорили мудрые: остерегайся ласкового оклика. А он не остерёгся, обернулся.
— Жорж Трофимыч! — позвал тревожным баском один из молодцов и подхватил оплывающего Бубенцова, который медленно валился спиной на сугроб.
— Э-э-э, да он совсем никакой! Давайте-ка его в машину, — успел донестись из тумана заботливый, сделавшийся вдруг таким родным и близким голос. — Долг мой туда же! Сундук! Вот так!
Сильные руки подняли худое тело Бубенцова, бережно повлекли вперёд ногами к открытым дверям, из которых струились благословенное тепло, тихая музыка. «Там, за горизон-там, там-м, там-там-там, там, там...» — пел высокий женский голос, по чистоте и тембру сравнимый, пожалуй, с ангельским.
— Картон оставь! — властно приказывал благодетель. — Картон. Да вырвите же, наконец!..
Так. Картон он не уберёг.
Пират уселся на водительское сиденье, обернулся:
— Где теперь живёте?
— Недалеко от метро, — заговорил кто-то внутри Бубенцова. — Как вы меня нашли? Как это можно?
Одноглазый, не оборачиваясь, сунул ему в руку гербовую бумагу с кисточкой и канителью:
— По имени. В сумке была.
«Я, Бубенцов Ерофей Тимофеевич... Получил в дар от Шлягера Адольфа...»
Ерошка, оттаивая мозгами, покосился на обитый кожей ларь, который добрые молодцы поместили на сиденье слева от него. Хотел постучать чёрным ногтем по медному уголочку, потрогать мёрзлыми пальцами дорогую кожу. И ничего не почувствовал. Рука как бы прошла насквозь...
— Это ваше, — объявил одноглазый, не оборачиваясь.
— Понятно, — сказал Бубенцов равнодушно.
— Поглядите направо. Ваш бывший дом, — объявил через минуту пират. — Куда везти вас? Где теперь обитаете?
— Там, — махнул рукою Ерошка. — Рядом с Путевым дворцом. Надо забрать Веру. Жену.
— Это где лаз в стене? — оживился пират. — Теперь понятно. Под насыпью. Знаю это место! Рядышком храм, семнадцатый век.
— Да-да, — подтвердил Бубенцов. — Там моя Вера.
Приёмник загадочно фосфоресцировал, светился на панели, звучала из него старинная, полузабытая всеми песня. Ангельский голос звал, манил, уносил... «Там, за горизон-там, там-там-тарам-там-там-м...» Неслись стремительно, только метель струилась по стёклам, подвывал ветер за окном. Всё слилось в одну мерцающую серебряную ленту. Скоро земля совсем пропала из виду.
Глава 16
Погорелый театр
1
Белая метель беззвучно струилась по стёклам загородного дома. Виталий Петрович Муха очнулся в пять часов двадцать девять минут. Ровно за минуту до звонка будильника. В комнате ещё стояла тёмная ночь, но уже рыхлая, подтаявшая с краю. Ничто не предвещало, что предстоящий день станет последним днём в его земной жизни. Знай он это, настроение было бы, конечно, совсем иным.
Громко стучал во тьме старый механический будильник. Виталий Петрович протянул руку к тумбочке, но промахнулся мимо тиканья. Недовольно, точно огрызнувшись спросонья, звякнул стакан в подстаканнике. Виталий Петрович сообразил, что надо взять чуток правее. Стал шарить справа, едва не повалил настольную лампу. Наконец нащупал внутри тьмы, тесно заставленной предметами, округлый бок будильника. Перебрал пальцами, отыскивая кнопочку.
Встрепенулся старый, глухой домашний кот Козя, прозванный так за серую, жёсткую, как у козла, шерсть. Козя, прозевавший первый миг пробуждения хозяина, ткнулся мордой в бок, мекнул требовательно.
— Погоди, скотина, — равнодушно сказал Виталий Петрович. — Погоди, козлячья твоя рожа.
Виталий Петрович потянулся длинным, жилистым телом, поджал к животу колени, разгоняя кровь, разминая суставы. Сел в кровати, сунул ноги в тапочки, осторожно поднялся, прислушался к организму. Обычно межпозвонковая грыжа сковывала тело накануне перемены погоды на оттепель. Сегодня оттепели не намечалось. Всё было в исправности, можно было начинать новый день. Виталий Петрович встал у окна лицом на восход. Приложил правую ладонь к груди и, медленно шевеля губами, прочитал вполголоса гимн Советского Союза. Несколько раз глубоко поклонился, разминая суставы, треща позвоночником. Это утреннее правило он называл духовной зарядкой.
Кот тыкался лбом в ноги. Виталий Петрович насыпал в лоток горсть корма. Человек он был одинокий, чёрствый, но кота своего любил безмерно.
— Жри, жадная сволочь, — сказал он без всякого выражения. — Чтоб ты сдох.
Козя затрещал сухим кормом. Виталий Петрович направился в ванную. Все дальнейшие действия совершались почти без участия его сознательной воли, по рутинному распорядку. Тело жило как будто само собою, повторяя заученную последовательность движений. Дознаватель долго и тщательно чистил зубы, умывал лицо ледяной водой, громко сморкаясь, отплёвываясь, отфыркиваясь. Затем завтракал вчерашней котлетой, пил свою обычную чашку кофе. У зеркала в прихожей завязал галстук, застегнул пиджак, проверил, на месте ли удостоверение. Затем влез в тёплый полушубок, прихватил пакеты с мусором и вышел из дома. Мозг всё это время привычно совершал бесстрастную, холодную работу.
Дознаватель Муха ежедневно видел смерть, ощупывал тёплые ещё трупы, наблюдал вскрытия в моргах, иногда раскапывал даже могилы и раскрывал гробы. Всё это были чужие смерти, абстрактные, лично его не касались. Каждое утро прочитывал обширную сводку новостей и происшествий, случившихся в стране и в мире за прошедшие сутки. Каждое утро как будто поворачивался калейдоскоп, всё сыпалось в пёструю кучу, перемешивалось. Новый день складывал очередной узор из прежних стекляшек. Узоры были новые, но элементы всё одни и те же — драки, убийства, кражи, грабежи, насилия.
Следователь Муха считал себя высоким профессионалом. Душа человека давно не заключала для него ничего таинственного. Он рылся в чужом подсознании, как часовщик роется в пыльном механизме настенных часов. Любое рассуждение доводил до разумной простоты. Всякая неясность, двусмысленность раздражала его.
В последний же год, занимаясь делом о пропавшей сумке с миллионами, исследуя структуры секты, Виталий Петрович обнаруживал слишком много именно таких неясностей. Действия подозреваемых очевидно были связаны с иррациональным, с мистикой, а порою с откровенной, грубой дьявольщиной.
Пришлось обратиться к соответствующей литературе. Со скептической, снисходительной усмешкой Виталий Петрович заказывал в Исторической библиотеке труды средневековых мистиков. Листая демонскую энциклопедию, находил много знакомых имён. Асмодей — демон похоти и семейных неурядиц. Виталий Петрович узнал, что человек с козлиной головой, изображённый на бланке, подшитом к делу, не кто иной, как Бафомет, а Бельфегор, упомянутый в завещании Шлягера, — демон, соблазняющий людей богатством. С удивлением узнал, что грозный Вельзевул, командующий легионами ада, также является и повелителем мух.
Продолжая дознание, Муха исследовал доводы противоположной стороны. Ознакомился с Евангелием, вник в Деяния апостолов, перечитал Послания. Как детектив и профессионал, как человек тонкий, опытный в своём деле, он скоро понял, что перед ним абсолютно правдивые свидетельские показания очевидцев. Порою несколько наивные, путанные в мелочах, противоречивые в частностях. Но в целом история была реальной. Хотя очевидцы рассказывали о явлениях и вещах невозможных, немыслимых. Но Муха видел и понимал, что они не врали! Это означало, что следует автоматически признать логично вытекающую из этой истории идею о всеобщем воскресении, о жизни вечной, о реальности ада и рая, о посмертном воздаянии. И вот тут-то, когда цепь железных рассуждений подвела его к единственно разумному ответу, Муха смалодушничал. Запретил себе размышлять на опасную тему. В самом главном вопросе рациональный, умный, трезвомыслящий человек поступил, как и большинство из живущих ныне людей, абсолютно иррационально.
2
Ровно в половине восьмого утра дознаватель вошёл в отделение полиции.
— Понышева ко мне! — приказал он дежурному.
Поднялся по лестнице в кабинет. На столе лежало затребованное им давно закрытое дело. Дело о фальшивых деньгах.
Понышева изловили накануне вечером на крытом рынке неподалёку от метро Таганская. Его схватили цветочницы при попытке разменять стодолларовую купюру. Опытная продавщица сразу же обнаружила подделку, подняла визг и попыталась схватить фальшивомонетчика за рукав. Понышев был готов к такому повороту событий. «Не ори, падла!» — цыкнул он и ударил её под дых. Опрокинул вёдра с товаром, вывернулся и бросился к дверям. Понышева поймали охранники рынка, когда он запутался в проводах, перелезая через ограду. Вечером преступник был допрошен, заключён под стражу.
Теперь снова сидел перед следователем Мухой. Понышев, по обычаю карманных воров и шулеров, постоянно разрабатывал, тренировал пальцы. Даже здесь, в казённом доме, с ловкостью фокусника вертел металлическую змейку. Змейка струилась меж фалангами, заползала на ладонь, соскальзывала, вновь обвивалась вокруг пальцев.
— Так откуда, говоришь? — спросил дознаватель, щупая фальшивую купюру.
— У бомжа взял. Вернее, у бомжихи. Он с бомжихой своей под платформой живёт. Подделка. Красивая.
— Красивая подделка?
— Бомжиха красивая.
Змейка перекинулась с ладони на ладонь.
— Понятно. А почему ты решил, что это подделка? — спросил Виталий Петрович, поднимая купюру, разглядывая на просвет. — По каким приметам?
— Зачем приметы? — сказал Понышев. — Фальшак. Кто ж настоящие отдаст?
— Кто ж настоящие отдаст, — повторил Виталий Петрович и покачал головой. — Это, я так полагаю, тебе преступный опыт подсказывает?
— И без опыта ясно. Гадина же сразу определила, что фальшак. Крик подняла. Проститутка, сволочь...
Виталий Петрович кивал головой. Виталий Петрович Муха, которого люди при первом знакомстве считали человеком ограниченным, недалёким, был на самом деле умным, едким, проницательным следователем. Отличительной чертою следователя была его привычка задавать уточняющие вопросы, причём там, где всякие уточнения были совершенно излишни.
— Значит, никто не отдаст? И поскольку настоящих никто не отдаст, ты заключил, что это фальшивые деньги? Так?
— Так. — Змейка на миг остановилась, затем скользнула меж пальцами. — Фуфло.
— И, зная, что это деньги фальшивые, ты решился на преступный умысел? Так?
— Не так! — спохватился Понышев. — Я после понял. Когда эта гадина вой подняла. Сволота, тварь...
— Но ты же видел, что купюры фальшивые. Не отрицаешь факта?
— Факт отрицаю. Видел, что фуфло, но думал, что деньги настоящие.
— С глупым человеком сам глупеешь, — вздохнул Муха. — Где ж ты видел настоящие доллары, чтобы кто-то отдал их за просто так? А?
Понышев молчал.
— Ладно, Понышев, — сказал Муха. — Я тебя, если ты заметил, не осуждаю. Евангелием запрещено. У каждого свой путь в жизни. Где, говоришь, ты этого бомжа встретил?
— Под насыпью.
— Это где лаз в стене?
— Там.
Когда задержанного увели, Муха некоторое время сидел в задумчивости, вертел в руках фальшивую купюру. Эта купюра была из тех, что год назад пропали из павильона. Следовало присовокупить её к прочим вещдокам и закрыть дело окончательно. Но для этого нужно было соблюсти некоторые юридические формальности. Полдня работы. Муха выписал несколько фамилий в записную книжку.
Бубенцов, Бермудес, Поросюк, Шлягер.
3
Виталий Петрович Муха шагал по переулку по направлению к знаменитому театру. Как всегда, когда чуял добычу, шёл он намётом, с сильным наклоном вперёд, точно принюхивался к следам. Подходя к площади, за два или три квартала почувствовал застарелый, неподвижно стоящий в воздухе запах гари. В народе театр по справедливости назывался теперь «Погорелый».
Загорелось месяц назад, глубокой ночью, на переломе к утру. Первый пожарный расчёт прибыл, когда пожар бушевал в полную силу. Треснули от жара стёкла, гул вырвался наружу, из чёрных окон выметнулись багровые языки пламени. Один из пожарных рассказывал потом, заикаясь, что видел своими глазами, как вылетали из гула и пламени косматые ведьмы в каменных ступах. Стоя на шаткой лестнице, сжимая брандспойт, он едва успел уклониться, втянуть голову в плечи, иначе сшибли бы его с верхотуры ступы эти. Но даже самые близкие товарищи не верили. Качали головой, плевались и отходили, не дослушав гугнивую речь. Трудно дослушать заику, что бы он там ни рассказывал. Особенно когда он волнуется, злится да вдобавок ещё и пьян.
Над входом в театр пошевеливалась серая мешковина с нарисованными окнами, портиками, колоннами и дверями. Из-под мешковины вынырнула кряжистая старуха в фартуке, вынесла ведро, поставила у крыльца. Увидев следователя, ничуть не удивилась. Рассмотрев фотографию, вздохнула:
— А, непутёвый наш! Это Ерошка Бубенцов. Опять накуролесил?
— Что значит «непутёвый»?
— То и значит. Как напьётся, так несёт его чёрт по кочкам. Сколько уж жена его настрадалась.
— Жена настрадалась? Законная супруга? Вера Егоровна?
— Так. Честно сказать, два сапога пара. Больно уж простые были.
— Два сапога пара?
— У ней болезнь была, вот он в долги влез. Лечение дорогое. Влезть влез, а как вылезть, не знал. Вот его надоумили заложить квартиру. Жулики эти. А деньги всучили фальшивые.
— Фальшивые деньги? Это в ресторане было?
— Да. Все наши артисты в «Кабачок на Таганке» ходили. Как лишняя копейка, так они уж там. Ерошка встречу там назначил, чтобы деньги, значит, получить. Дружков взял с собой. Для верности, чтоб обмана не случилось.
— Чтоб без обмана? Дружков взял? Бермудеса и Поросюка?
— Ну да. И Поросюка покойного. На что уж человек разумный был, осторожный.
— Покойный? Поросюк?
— Так. Зашибли. В Кобыляках. На что уж осторожный был.
— Так, вычёркиваем... Бермудес?
— Завербовали. За границу уехал. Да что-то не заладилось там у них. Отменили стройку.
— Ясно. Что ж Бубенцов?
— А что ж Бубенцов? Сказано, простой больно! Не пособили и дружки. Подсунули ему лукавые люди поддельные деньги. За квартиру-то. Выманили.
— Надо полагать, это бутафория, что пропала в Красногорске? Из съёмочного павильона?
— Может, и оттуда. Наши все теперь туда ездят, на съёмках подрабатывают. Театр-то погорел.
— Театр-то погорел, говорите? Неосторожное обращение с огнём?
— Так. А тогда, как понял он, что обманули его, так и тронулся умом. Ерошка-то. Когда квартиры лишился. Жене забоялся сказать про квартиру. Сперва запил, лечился в Лефортовской. Недалеко здесь. А в конце, говорят, увлёкся святыми книгами и совсем свихнулся. Где он теперь, неведомо.
— Когда пожар случился, где был Бубенцов? На излечении?
— Нет, не на излечении! Там недолго его держали. Платно же. Он выйдет с больничного, опять у нас дежурит. А меж дежурствами в Красногорске подрабатывал. Вместе с женой. В массовках. Ну да, в его дежурство пожар случился. Марат Чарыков загорелся. Этот если пил больше недели, огонёк синий у него изо рта показывался. Рассказывают, кто видел. А я думаю, просто заснул с папиросой. Спал-то в гробу, а там стружка подстелена. Сгорели вместе со Смирновым Ваней. Погорело всё имущество. Халат у меня сгорел.
— А Бубенцов что?
— После пожара опять в психушку упекли. А нас теперь так и называют — «артисты погорелого театра». Театр-то погорел. Да и шут с ним, с театром. Халат жалко. Байковый, мягкий, астрами жёлтыми вот так вот, по краю...
Старуха поджала губы, с раздражением захлопнула дверь. Завеса опустилась. Перед глазами следователя снова колебалась серая мешковина с нарисованными окнами, портиками, колоннами и дверями.
— Ясно, — задумчиво сказал Виталий Петрович.
4
Дознаватель направился к Трём вокзалам, отыскивать дом с арками.
Дверь, повозившись с цепочкой, открыла высохшая старуха. На посетителя даже не взглянула. «Чистая ведьма!» — подумал дознаватель Муха. В сумерках прихожей блеснул угол гроба, обитый медью. Влача за собою сломанную швабру, ведьма подалась куда-то вбок и пропала.
Квартира была совершенно пуста. В глубине хлопнула форточка, сильно потянуло по ногам уличным холодом. На ковре, точно после обыска, зашевелились кучки порванной в мелкие клочья бумаги. Летали перья из разодранной подушки, на паркете темнели пятна, похожие на следы дёгтя.
Муха походил по квартире, стараясь не наступать на тёмные пятна. Постоял посередине пустой кухни, оглядывая первобытную мебель. Пышный парик с огненным отливом висел на спинке кожаного дивана. Одинокая муха, каким-то образом ожившая среди зимы, билась и билась, звонко тукалась головой в стекло.
Дознаватель обошёл квартиру, заглядывая во все углы. Присутствия человека нигде не ощущалось. Двустворчатая стеклянная дверь в большую угловую комнату была приоткрыта. Виталий Петрович сразу понял, что это кабинет покойного профессора Покровского. Дух разорения царил и здесь. Светлели прямоугольники от картин, овалы от портретов, что когда-то висели на обоях. Пустые книжные шкафы зияли отверстыми дверцами. Большие окна без занавесок и штор выглядели особенно тоскливо. Но когда солнце выглянуло из туч, хлынуло сквозь стёкла, вся комната озарилась пронзительным прощальным янтарным сиянием.
Дознаватель конечно же немедленно обратил внимание на книгу в золотом старинном переплёте, одиноко лежавшую посередине подоконника. Рука сама потянулась, разогнула страницы. Как и ожидалось, книга оказалась рукописною. Виталий Петрович, проведя подушечками пальцев по страницам, подивился странному, необыкновенному ощущению. Книга была необычной даже на ощупь, мягкой, тёплой, податливой, как будто пульсирующей в ладонях. Пальцы гладили нечто одушевлённое, отзывчивое, живое. Дознаватель догадался, что это пергамент. «Пригласительный билет был доставлен рано утром специальным курьером. Это случилось...» Ощущение одушевлённости мягко угасало, отходило на второй план, меркло, как свет в театре, вперёд стало выступать содержание, высветилось вдруг ярко, резко, выпукло. Виталий Петрович намеревался пробежать глазами два-три абзаца и отложить. Не тут-то было! Слова ожили, зашевелились. Соприкасаясь, сталкиваясь меж собою, зазвучали сперва глухой медью, затем звонкой бронзой, зазвенели чистым серебром. Властная внутренняя мелодия обнаружилась с первых же абзацев. Именно она, эта мелодия, а вовсе не сюжет, расставляла слова в нужном, правильном, гармоничном порядке.
Виталий Петрович перешёл с одной страницы на другую, с другой на третью... Понял, что не выйдёт отсюда, пока не перевернёт последнюю. Он ясно чуял, что на последних-то страницах всё раскроется, что именно там сосредоточено самое главное! Это тем более поразительно, что Виталий Петрович никогда не был книгочеем, не любил никакой литературы. А всякого рода художественные вымыслы, с которыми ежедневно сталкивался на службе, сочувствия и слёз в нём не вызывали. Он разоблачал любые художественные вымыслы уже по самому свойству своей профессии. Но вот в чём, оказывается, всё дело! То, что он читал теперь, было — не литературой! Он сразу уразумел. Это был феномен совершенно иного порядка. Рукопись, попавшая в его руки, была явлением совсем, совсем иного рода. Перед ним был, если можно так выразиться — Первоисточник. Чтобы яснее понять, скажем вот как. Текст, который находится в данную минуту перед глазами читателя, — всего лишь бледная копия того божественного оригинала, который случайно оказался в тот день в руках следователя. Перед нами теперь приблизительный, путаный, косноязычный пересказ. А как же иначе? Много ли живой воды удаётся украсть из вечных родников и унести с собою в продранном решете?
«Это случилось на исходе декабря, в самый канун Нового года...» Дознаватель, не отрывая глаз от текста, ощупью двинулся к столу. Ладонью нашёл сиденье, подтянул к себе кресло. Опустился в него и теперь уже окончательно, сперва по плечи, а потом уже с головою погрузился в чтение. Он забыл о существовании времени и пространства, пребывая всем своим существом в дивном мире живого Первоисточника, полностью растворившись в нём...
— Ну, я пошёл, — сказал он ровно через сутки. А может, и через год. Всё равно... Никто не ответил.
Муха Виталий Петрович вернул книгу на подоконник и покинул квартиру со смущённым сердцем. Государственный дознаватель Виталий Петрович Муха теперь знал, как на самом деле устроен мир.
Спускаясь пешком по лестнице, услышал за спиной звяк цепочки, а вслед за тем сердитое ворчание запираемого на два оборота замка.
Глава 17
История болезни
1
В тот же день дознавателя видели под Красногорском. Виталий Петрович посетил съёмочные павильоны. Долго стоял на пригорке, наблюдая издали за тем, как разбирают колоссальные декорации. Средневековый замок из пластмассовых блоков и украшений из папье-маше. Башни, мосты, переходы, зубчатые стены.
Изучив окрестности, Виталий Петрович постучался в сторожку, кирпичное строение, что стояло перед воротами павильонов. Железную дверь открыл молчаливый горбун, одетый в старинный серый армяк. Хлынул изнутри жаркий дух армейской каптёрки, сухих портянок, кирзачей, бушлатов, едва не свалил Виталия Петровича с ног. Горбун что-то жевал, глядя на гостя подозрительно, с большой неприязнью. Следователь сунул ему в нос раскрытое удостоверение. Горбун проглотил нажёванное, вытер губы рукавом армяка и, дохнув чесночной колбасой, доложил, что всё закрыто. Кинокомпанию ликвидировали, финансирование прекращено, персонал расформировали. Впрочем, бухгалтерия ещё не покинула тонущий...
Именно в бухгалтерских документах Виталий Петрович обнаружил искомые фамилии: «Бубенцов Ерофей Тимофеевич. Бубенцова Вера Егоровна».
Оба подрабатывали, участвуя в массовках.
— Да-да, муж с женой, — вспомнила бухгалтер. — С виду не скажешь, что бомжи. Трезвые, опрятные. Я ещё почему обратила внимание? Она кашляла, больная была совсем. Пришлось отстранить от участия в массовой сцене. Жалко, а что поделаешь? Там у нас финал снимался в замке на площади. Царская коронация. «Народ безмолвствует». А она кашляет беспрерывно. Так она на что решилась, чтобы денег добыть? Волосы продала! Отличные каштановые волосы продала Изольде Грэйф. Чтоб она сдохла, сука проклятая!..
На вопрос о пропавшей сумке с миллионами все отвечали неохотно, скупо, односложно. Подтверждалась первоначальная версия, зафиксированная во всех протоколах. Однажды сумка эта действительно пропала из кабинета режиссёра. Но произошло это совершенно случайно, из-за бардака и неразберихи. И никак не было связано с неожиданной проверкой, с визитом налоговой инспекции. Пропала и пропала, тем более там были не настоящие деньги, а бутафория.
Виталий Петрович попрощался и пошёл к станции. Там оставил свою машину, и не без умысла. Он любил размышлять во время ходьбы. Мысль его при ходьбе работала размереннее, чётче, яснее. На пути к станции, посреди размышлений своих наткнулся на забавного персонажа.
У дороги на большом камне сидел маленький, сутулый человек в серой шляпе, габардиновом плаще, остроносых ботиках на высоких каблуках. Человечек был столь необычен, что на секунду дознаватель принял его за плод своих размышлений. Потряс головой, несколько раз сморгнул. Видение не пропало. Человек как будто сторожил здесь кого-то. Склонив голову, опираясь щекой на кулак, сидел в позе каменного мыслителя, исподлобья внимательно разглядывал приближающегося следователя.
Встреча двух мыслящих существ посреди пустого, безлюдного пространства всегда вызывает некоторое смущение, неловкость в душе. Это совсем не то что встретиться с незнакомым человеком в тесной, шумной толпе. На пустом пространстве такая встреча, обмен взглядами, жест, выражение лица — все эти мелочи приобретают неожиданную важность, между людьми возникает особое психологическое напряжение. Виталий Петрович, чуть замедлив шаги, подыскивал подходящие к ситуации слова, нужный тон. Ничего не найдя, использовал первое, что пришло в голову.
— Здорово, мужик, — дружелюбно обратился он к человеку, поравнявшись с камнем. — Далёко ли до станции?
Тот привстал с камня. На дознавателя смотрели холодные, светлые, как будто фаянсовые, глаза.
— Коло его ока вокруг да недалёко.
Очевидное издевательство заключалось и в словах, но особенно в церемонном поклоне. Человечек помолчал, приложил ладонь к груди и, ещё ниже поклонившись, добавил несуразное:
— Остерегайтесь рогатых всадников, ваша честь.
«Вот же придурок!» — разозлился Виталий Петрович Муха, но вежливо сказал:
— Я тебя, между прочим, про дорогу спросил. А ты мне про рогатых всадников заливаешь. Какие ещё всадники?
Серый человек со спокойным достоинством ответил:
— Всадники на лосях, ваша честь.
Склонил голову, повернулся и пошёл по снежной целине в сторону леса. Некоторое время Муха стоял, сердито глядя вслед маленькой, скукоженной фигурке. Потом успокоился. В скором времени ему предстоял визит в сумасшедший дом. Психика его сама собою исподволь настраивалась на возможную встречу с неадекватными персонажами, поэтому абсурдные слова не показались какой-то особенной странностью.
2
Вернувшись в Москву, Муха отужинал в «Кабачке на Таганке». По сложившейся традиции, тут с Виталия Петровича за питание денег не требовали. А потому дознаватель поневоле набирал лишнего, переедал и после здешних трапез всегда чувствовал тяжесть в желудке.
Дознаватель переговорил со Шпаком, который, сняв фуражку и почтительно сложив руки на коленях, сидел с краю. Шпак был штатным информатором Виталия Петровича. Ничего нового к той картине мира, которая сложилась в голове у дознавателя, информатор не прибавил. Разве что присоединил к сюжету курьезную мелочь. Так художник, стоя перед завершённой картиной, к которой нечего уже прибавить, наносит забавный, но, пожалуй, ненужный мазок. Просто потому, что на кончике кисти осталась капля краплака. Жена Шпака, оказывается, работала в погорелом театре. Та самая баба Зина. Которая не любила Бубенцова.
Отпустив Шпака, Муха отправился в Лефортовскую клиническую больницу. Знаменитая клиника располагалась неподалёку, посередине старинных городских кварталов. Погружённый в раздумья, не заметил, как вошёл в ограду. Сквозящая пустота царила вокруг. Чугунная решётка ворот, каменная беседка с колоннами, занесённые снегом скамейки, искалеченная скульптура Лаокоона. Ни детей греческого провидца, ни терзающих их змей давно уже не было. Лаокоон, приоткрыв мученический рот, сражался с пустотой, топырил отбитые в кистях руки. Мухе тотчас вспомнились «всадники на лосях».
Дворник в оранжевой безрукавке, опустив тёмное, угрюмое лицо, сбивал лёд со ступеней крыльца. Муха, покосившись на лом с приваренным на конце топором, стороной обошёл работающего.
Внутри, за конторкой, облицованной красным мрамором, дремал старый привратник. К груди старика пришпилен был квадратный ламинированный листок с изображением змея и чаши, под рисунком фамилия: «Кащенко Матвей Филиппович». Муха бесцеремонно толкнул старика, сунул к носу служебное удостоверение. Брови Матвея Филиппыча приподнялись, губы уважительно поджались. Узнав, что следователь интересуется историей болезни Бубенцова, Матвей Филиппович оживился, как будто даже обрадовался. Встал из-за конторки, захлопнул большую книгу с нарисованной на обложке собакой. Смахнул крошки со стола, застегнул халат до самой верхней пуговицы. Затем снял очки, упрятал их в пластмассовый футляр. Похоже было, что готовился к решительным действиям.
— Наконец-то! — приговаривал он. — Все давно разбежались, а этот сидит!.. Следы, видать, заметает. Как бы пожара, уходя, не наделал! Сукин кот!..
Пропуская следователя, Филиппыч надел фуражку с малиновым околышем, сам вызвался проводить к доктору. Пошли по широкому, выстеленному линолеумом коридору.
Филиппыч всё забегал вперёд, но тотчас притормаживал, шаг свой сдерживал, семенил дробнее, мельче. Двигался полубоком, соблюдая уважительную дистанцию. Муха же с самого начала ступал размашисто, солидно, чуть нагнувшись. Старался наступать на чёрные квадраты, минуя белые. Между двумя этими людьми, одинакового возраста, одинакового ума, одинакового телосложения, сразу сама собою, без предварительного приготовления и репетиций, установилась необходимая гармония человеческих отношений. Это происходило без всякого их осознанного участия, без размышления. Но обоим было приятно соблюдать ясную, чёткую иерархию, и оба при этом прекрасно себя чувствовали.
Муха, проходя коридором, поворачивая вслед за Филиппычем, старался дышать неглубоко, чтобы не впитывать больничный воздух, насыщенный сложными запахами валерьянки, эфира, карболки, искусственного озона, к которым примешивались запахи кухонные — жареного лука и ещё каких-то неопределённых объедков. Сытому дознавателю запах кухни был особенно неприятен. От влажного, только что протёртого пола отдавало немного болотной тиной и хлоркой. Где-то убирали со столов посуду, слышался перезвяк мисок.
Попался навстречу длинноволосый горбун в сером халате, похожем на старинный армяк. Горбун отступил к стенке, блеснул оттуда стёклами круглых железных очков. Выставил вперёд руку, обмотанную окровавленным, грязным платком, и пожаловался:
— Ва-ва!.. Ав-ав!..
— Не всех ещё психов выперли, — пояснил Матвей Филиппович, отпихнув горбуна к стене. — Заведение закрыли, а некоторые же круглые сироты. Куда их денешь?
Стоны, бормотания доносились из-за приоткрытых двустворчатых дверей, стёкла на которых закрашены были белой краской. Дошли почти до самого конца коридора.
— Здесь! — Филиппыч указал на обитую зелёным дерматином дверь. — Здесь засел.
Перед дверью стояли аккуратные резиновые калоши с алой выстилкой.
3
Доктор в первый момент никак не отреагировал на появление гостей. Весь погружён был в чтение. Очевидно, изучал историю болезни, что-то подправлял. Шевеля толстыми губами, водил пером над большой книгой в золотом старинном переплёте. Глаз его был хищно прищурен, точно он выцеливал что-то на странице.
Книга показалась дознавателю знакомой, «той самой», которую не так давно читал он сам. Как могла живая книга попасть в руки врача? Быть этого никак не могло! Не по воздуху же перенеслась! Не ведьма же на метле принесла её!.. Впрочем, кто знает? Кто может хоть о чём-нибудь в этом мире сказать с полной уверенностью?
Муха заранее постановил себе не удивляться ничему. Отделение называлось психиатрическим, а значит, любые странности были возможны здесь, органичны и даже неизбежны.
Доктор изловчился, резким движением пальца притиснул живую, извивающуюся строку, приколол пером к листу, поднял глаза. С полминуты поверх очков глядел на вошедшего. Изучал. Строка потрепетала, дёрнулась раз, два и замерла. Взгляд доктора потеплел. Он затворил обложку, отодвинул фолиант, встал, степенно обошёл стол, протянул навстречу дознавателю пухлую руку:
— Шлягер!..
Помолчал, удерживая сопротивляющиеся пальцы Виталия Петровича в ласковой, тёплой ладони. Порывшись опытным взором в самой глубине головы дознавателя, важно повторил:
— Доктор Шлягер.
Баритон очень естественно подходил к его толстым, мясным губам. Что-то давнее, очень знакомое почудилось дознавателю в розовом, гладко выбритом лице. Память подсказывала, что он прежде встречал этого доктора. Или кого-то очень на него похожего. Но в другой одежде, в другой обстановке. Может быть, даже в Таганском отделении полиции. Впрочем, так широк был круг общения дознавателя, что он давно уже перестал напрягать память, тратить умственные силы по пустякам.
Доктор между тем, пододвинув кресло и усадив Виталия Петровича, успел возвратиться на своё место и теперь набивал трубочку. К тонкому аромату дорогих духов присоединился мятный запах душистого табака. Набив трубку, стал раскуривать с большим усилием, втягивая щёки. Что-то булькало, клокотало, хрипело, мучилось внутри трубки. Наконец вывалилось наружу густое облако дыма, окутало всё лицо доктора, так что оно напомнило дознавателю борт линейного корабля «Меркурий» после пушечного залпа.
— Не желаете? — любезно спросил доктор, выставляя из дыма большие, крепкие зубы.
— Благодарю вас, — вежливо отклонил приглашение Виталий Петрович, отвёл от лица рукою облако дыма и тоже выставил в ответ зубы, крепкие и острые.
Кабинет доктора, как успел отметить дознаватель Муха, был обставлен со вкусом и уютом. На стене прямо напротив входной двери висела картина «Чёрный квадрат». Ещё около дюжины репродукций, начиная от «Вечного покоя» Левитана и завершая «Гибелью Содома» Семирадского, развешано было по стенам кабинета. Гитара с голубым бантом на грифе стояла в углу, добавляла задушевности. Вероятно, всё тут рассчитано было на то, чтобы располагать пациентов к длительным сердечным беседам.
Доктор Шлягер, попыхивая трубкой, чрезвычайно охотно и подробно отвечал на все вопросы дознавателя. Кажется, беседа с человеком умной гуманитарной профессии доставляла ему подлинное удовольствие. Сам подошёл к шкафам, чтобы свериться с записями в дежурной книге. И вот какая удача! На первой же странице... Был здесь такой! Пациент с фамилией Бубенцов.
— Ну как же, припоминаю! Ерофей Тимофеевич. Нервное потрясение на почве полной утраты материального имущества! — доктор радостно оскалился всеми своими большими зубами. — Раза два или три гостил у нас. Лечение не дешёвое. Держать социальных больных долго нельзя. Чуть подлечился — и до свидания.
— В чём выражалось...
— Сверхидеи! Навязчивый бред! — не дав завершить вопроса, сообщил Шлягер. — Мысли о пагубном влиянии богатства на личность человека.
— Про фальшивые деньги было?
— Разумеется!.. Мошенники вынудили заложить квартиру, а расплатились поддельными купюрами. Поэтому от реальности с неразрешимыми проблемами пациент убежал в собственные фантазии. Выстроил свой мир, где подобных проблем не было. Кроме разве что — нравственных, умозрительных. Меня, к примеру, он считал посланником неких тёмных сил.
— Понятно.
— Мы пытались ролевыми играми вывести его из круга болезненных представлений. Пациента мучил вопрос денег. Мы предложили взамен нечто более ценное. Власть! Специально изготовили корону, скипетр, мантию.
— То есть имеющееся нервное расстройство пытались вытеснить более сильной манией? Это ведь опасно?
Умный Виталий Петрович ударил в самую сердцевину.
— Игра! — тотчас нашёлся доктор. — Всего лишь игра! Реалити-шоу. Ерофей же Тимофеевич вывернул по-своему. Мол, мы миру антихриста готовим. Упёрся! Начитался мистической литературы, да тут ещё и профессор влез... Был у нас один персонаж.
— Это не тот ли профессор, чью квартиру у Трёх вокзалов...
— Представьте себе, Бубенцов пришёл к выводу, что человек способен противостоять мировому злу! — весело продолжал доктор, не расслышав вопроса. — Причём только в одиночку! Это якобы единственный эффективный метод борьбы со злом! Между тем понятно, что зло и несправедливость можно преодолеть только коллективными усилиями...
Дознаватель сухо кивал, а затем неожиданно задал ещё один неделикатный вопрос:
— Вы, насколько мне известно, в настоящее время являетесь юридическим владельцем квартиры Бубенцовых?
— Не совсем так. Юридическим владельцем является мой брат. Не хотелось бы углубляться в этот вопрос. Поверьте, всё вполне законно.
— Долго Бубенцов у вас... лечился?
— Три раза доставляли его. Жена привозила, друзья. Жена, к слову, здесь же работала медсестрой, но в другом корпусе. Находился всякий раз недолго. Я говорил уже, лечение недешёвое. Очень сдружился здесь с соседом по палате. Который выдавал себя за профессора богословия. У «профессора» тоже была своя идея. Ложная, разумеется. Считал себя отцом знаменитого писателя. У Михаила Булгакова, автора известного романа, отец, оказывается, был полным тёзкою нашему пациенту. Тоже, представьте себе, Афанасий Иванович.
— Да что вы? — вежливо удивился дознаватель, не читавший знаменитого романа. — То есть выдуманную реальность они оба принимали за подлинную жизнь? Так?
— Истинно так! — охотно подтвердил доктор. — Бубенцов совершенно искренне принимал соседа своего по палате за профессора богословия.
— Из материалов дела следует, что больной уверовал в христианскую доктрину и уже безвозвратно сошёл с ума, — тщательно подбирая слова, проговорил Муха.
— Да, представьте себе! — озарился Шлягер. — Профессор ему подсунул Евангелие. И всё написанное в Евангелии безумец стал воспринимать буквально! Без критического осмысления. Поверил в грядущий конец света, в царство антихриста! Вообразил, что некие силы, готовящие апокалипсического антихриста, хотят поставить его, Ерофея Бубенцова, русским царём. Дабы народ принял саму идею монархии, привык к ней и легче принял приход всемирного царя.
— Логично. А позвольте вас спросить, некто Полубес...
— Этот охранник уволен за грубость! Вместо него иной теперь у нас! Сию секунду!
Шлягер вскочил, подбежал к двери:
— Иван Кузьмич! Прошу вас! Санитар наш, — добавил вполголоса.
Вошёл невысокий человек с выправкой военного пенсионера. В красном плаще, с позлащённой короной на лысой голове. Дознаватель с одного взгляда определил, что корона вырезана из жестяной пятилитровой банки из-под греческих оливок. В левой руке санитар держал деревянный скипетр.
— У нас своя метода, — пояснил доктор Шлягер. — Входим в образную систему, в какой существуют пациенты. Целые мистерии разыгрываем. Сублимация, освобождение от психологических грузов. Вот последняя мистерия была... «Семь страстей»! В ней Бубенцову отводилась роль царя. Знаете, у него было высочайшее мнение о себе, о своей якобы силе, о могуществе своего слова. Вон там, за окном, был у нас дом из красного кирпича. Терапевтический корпус.
— Да, — оживился дознаватель. — Я когда-то давно лежал там. Язва двенадцатиперстной.
— Мои утешения. Так вот, представьте себе... Как-то Бубенцов пожаловался, что корпус мешает виду из окна. На следующее же утро начались работы по сносу. По графику совпало. Строение давно предназначено было городскими властями к сносу. Естественно, Ерофей Тимофеевич принял это на свой счёт. Дескать, «вот какова сила моего слова»! Сказал слово — и пожалуйста: тотчас приехали бульдозеры, разрушили дом! Настоящим царём себя почувствовал. Буквально самодержцем российским. И настолько убедительна была его вера, что и все окружающие поверили. Покровский тоже...
— Да тут и здоровому трудно было бы устоять, — усмехнулся дознаватель. — При таком совпадении. Нельзя ли для полноты, так сказать, картины посмотреть медицинскую карту? — спросил Муха.
— К сожалению, он умер, — сказал доктор.
— Бубенцов умер?
— Нет, я имею в виду Покровского. Преклонных лет старик.
— Примите соболезнования, — вежливо склонил голову Муха.
— Благодарю вас, — ответно склонил голову и доктор Шлягер. — В каком-то смысле пациенты становятся для нас родственниками. Старика-то, впрочем, не жалко. А вот молодых, в расцвете сил... В последний только год множество перемёрло душ! Джива Рудольф Меджидович. Тишайшей воды пациент. Кротости необыкновенной! Мухи, простите за выражение, не обижал. Ах, простите, каламбур невзначай...
Муха кивнул, доктор продолжил:
— Джива этот считал себя вором в законе! Задохнулся от грудной жабы. Продолжаю наш грустный мартиролог. Рыбоедов, Завальнюк... Это навскидку, кого помним. Одних Иванов Кузьмичей троих или четверых похоронили. Всех не перечтёшь.
— У нас то же самое, — вздохнув, поспешил заверить Виталий Петрович. — Текучесть кадров. Рыбоедов, кстати, от нас к вам поступил. Значит, насколько я могу судить о Ерофее Бубенцове, человек оказался перед неразрешимой проблемой. И сознание его, не имея никаких способов разрешить проблему, просто убежало. Выскользнуло. Придумало иную реальность, более уютную.
— Истинно так. Если вы заметили, это свойственно всем людям. В здравых пределах, разумеется.
— Придумывать иную реальность? — на секунду следователь задумался. — Да. Согласен с вами. Знаете, порой и за собою замечаешь.
— Ничего удивительного в этих метаморфозах нет, — сказал доктор Шлягер, и видно было, что разговор по мере развития доставляет ему всё большее удовольствие. — Подобные реакции человеческого мозга, связанные с вытеснением из памяти всего неприятного, давно известны науке. Всё злое, тревожное, ужасающее тонет в трясинах подсознания. Даже люди, которые в результате клинической смерти побывали в аду, после возвращения в земную жизнь только в первые минуты помнят и могут рассказать о своих впечатлениях. Но, как показали исследования, через час уже начисто забывают об аде. Неудивительно, что злейшие грешники по той же причине забывают свои злодеяния и совершенно искренне считают себя нормальными людьми.
— Понятно. Все мы живём каждый в своей реальности, но ведь есть же и нечто общее. Одинаковое для всех. Мы же как-то стыкуемся.
— Реальность Ерофея Бубенцова прекрасно стыковалась, согласовывалась с реальностью нашего мира. Никаких противоречий! То есть в ней было только то, что могло быть! Ничего фантастического, болезненно искажённого. Да, это было своего рода художественное творчество, вымысел. Но вымысел, построенный по законам реализма.
— Но есть же реальные факты, объективные, так сказать...
— Важны не факты, а интерпретация! Важна правильная смесь реального и созданного нашим воображением. Человек живёт на границе миров. Все мы в этом смысле творцы, выдумщики. Вспоминая, к примеру, своё прошлое, мы невольно подмешиваем к реальным событиям известную долю вымысла. Иногда весьма значительную. И сами того не замечаем. Чаще вымысла бывает гораздо больше, чем реального.
— С умным человеком сам умнеешь, — тонко заметил Муха. — Думаешь и говоришь по-иному. По крайней мере, слова подбираешь умные. «Дискурс», «парадигма»... Я так понимаю, что в жизни Бубенцова процент вымысла был превышен. Мера нарушена.
— Некоторые детали просто умилительны! Вообразил, что профессор Покровский подарил ему в детстве пыжиковую шапку. Выписываясь от нас, прихватил её на память. Да, пыжиковую шапку профессора, — с улыбкою продолжал доктор Шлягер. — Это заметили все сотрудники и медперсонал, но догонять и отнимать не стали. Оно понятно, такие шапки давно вышли из употребления и ценности не представляют. Хочу вам сказать, что придуманная иная реальность вполне для них реальна. То есть там есть не только радостное, но и печальное. Как и в нашей с вами жизни. Например, пациента постоянно мучила совесть. Он называл себя неоднократно иудою. Полагал, что совершил предательство, отнял у профессора квартиру. Лишь на том основании, что время от времени его помещали в палату, для чего приходилось утеснять профессора. По понятиям Бубенцова о справедливости, человек, что-либо приобретая, отнимает это у ближнего.
— То есть его мучила совесть за выдуманные, воображаемые преступления?
— Видите ли, и в реальной реальности, и в вымышленном вымысле действуют одни и те же нравственные законы. И там, и здесь человек постоянно совершает выбор между добром и злом. Поверьте мне, выбор этот одинаково труден.
— Занятно, занятно, — проговорил дознаватель Муха, немного уже утомлённый красноречием доктора Шлягера.
Тот же, напротив, вдохновлялся всё больше.
— Вы знаете, что в этой истории самое интересное? Самое, так сказать, центральное? Корень зла? Квинтэссенция?
— Ну? — уже несколько угрюмо отозвался Муха.
— В центре всего находилось убеждение Ерофея Бубенцова в том, что вся мировая история, весь человеческий прогресс нужны были лишь для одной-единственной цели. «Какой же цели?» — спросите вы. Отвечаю. Все мезозои, динозавры, мамонты, бронзовый век, античность, приход в мир Иисуса Христа, войны, землетрясения, географические открытия, живопись и литература — всё-всё-всё, что совершилось в мире, совершилось лишь для того, чтобы в результате взаимодействия миллиардов случайностей родился, вырос и был поставлен перед тяжким нравственным выбором маленький человечек — Ерофей Тимофеевич Бубенцов! А? Каково?
— Да уж... — протянул дознаватель неопределённо.
— И вы знаете, меня настолько это поразило... Я задумался. И, ей-богу, едва не... Ведь и в самом деле каждый человек может про себя сказать то же самое! Именно он находится на острие истории. Для него такое соображение абсолютно законно, правильно, несомненно. А как же иначе? Ведь вся совокупность земных событий привела к тому, что произошло самое главное на земле — родился я! И убеждение это настолько естественно, настольно очевидно, что не нуждается ни в каких подтверждениях. Я родился! Если бы не родился, то к чему весь мир? Вот какое значение имеет маленький человечек! А отсюда вытекает, что каждое его слово, каждый его поступок имеет космическое значение! Таким образом, самомнение возводит человека на высочайшую ступень, делает его ценнее всего мира. Помните: «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Именно это убеждение легло в основу безумия Бубенцова.
Слушать чужую историю болезни становилось уже утомительно и скучно. Дознаватель Муха поднялся:
— Шапку, стало быть, прихватил? Головной убор.
— Представьте себе. — Доктор недовольно нахмурил брови, шумно всхрапнул. Как будто одышка... Мысль его ещё трепетала по инерции, но уже не на вольном просторе, а теснилась в тёмном каземате головы. Прекратилось естественное истечение слов. А слова, как известно, это — дыхание мысли.
— Понятно. — Виталий Петрович немного помолчал. — Квартира покойного профессора, полагаю, тоже записана на вас?
— Так точно, — сухо отвечал доктор.
Встал из-за стола и принялся завинчивать золотое перо. Движение символизировало окончание разговора. Шлягер прошёл через кабинет, взялся за ручку, приоткрыл дверь, склонил голову. Виталий Петрович наполовину выступил в коридор. Но разговор их, вполне завершённый, имел, как оказалось, продолжение. Причём продолжение самое неожиданное.
— Простите, — вежливо сказал Муха. — Вот эта картина Малевича «Чёрный квадрат»... Слишком опасно нависает рама. Я бы на вашем месте поопасался.
— Опасаться здесь совершенно нечего. Это не «Чёрный квадрат». Это картина Альфонса Алле «Битва негров в тёмной пещере глубокой ночью». Написанная задолго. Впрочем, обознаться нетрудно.
— Благодарю вас, Адольф... Адольф... э-э-э... — мешкал в дверях дознаватель, ибо не мог припомнить отчества Шлягера.
Ладонь Виталия Петровича, протянутая для прощального рукопожатия, повисла в воздухе.
— Извините, я не Адольф! — твёрдо и как будто с обидой произнёс доктор. Отвёл свою протянутую для прощания руку.
Дознаватель, хотя с самого начала приготовился ничем не смущаться в этом лечебном заведении, всё-таки сильно поколебался. Виталий Петрович слышал истории про то, как доктора-психиатры от постоянного контакта с умалишёнными сами сходят с ума и попадают в собственные же палаты. Но доктор Шлягер развеял его страхи:
— Обознаться нетрудно. Адольф мой брат-близнец. Он по театральной части. Впрочем, сейчас уже вне этой сферы. К сожалению, после недавних гонений на театр... финансовых проверок... После пожара и всех событий брат мой несколько... э-э-э... — тянул доктор Шлягер, подыскивая благопристойное выражение. — Натура творческая, ранимая, подверженная. Несчастья подломили его. Подвела психика. Тоже лечился у нас. В одной палате с Бубенцовым. Но — увы... Ушёл, по его же собственному выражению, «из мира».
— Да вы что? — не поверил следователь, складывая руки на груди и возводя очи к потолку. — Неужели?
— Нет-нет, не самоубийство, — спохватился доктор Шлягер. — Но весьма близко. Ушли в Оптину пустынь под Козельском. Он и ещё один несчастный сотоварищ его, о котором вы спрашивали. Полубес Савёл Прокопович, надзиратель наш. Решили заживо замуровать себя в монастыре.
— В монастыре?! — изумился дознаватель. — Неужели такое возможно в наши дни?
— Возможно! Законы, к сожалению, не запрещают. Медицина бессильна! Пожив там некоторое время, оба пришли к убеждению, что устав обители недостаточно строг. Удалились в леса.
— Как можно жить в лесу?
— Отыскали дупло в старом дубе, поселились там. Символ получился. «Разбойники на древе распяты». Непрерывно псалмы поют.
В большой задумчивости, дознаватель покинул кабинет доктора Шлягера. Кажется, даже не простившись. По крайней мере, руки их так и не сошлись в прощальном пожатии.
Разумеется, подозрительный Муха не поверил ни единому слову доктора. Он видел здесь только махинации с фальшивыми деньгами, чужим имуществом. Обмен подделок на реальные ценности. Затем следовало вторжение в психику потерпевших. Преступная логика была очевидна. Овладеть квартирой, оформить на брата, а брата скрыть от правосудия в глухом лесу.
Некоторое время Виталий Петрович шёл по дорожке, приоткрыв рот, рассеянно глядя перед собой. На все расспросы Матвея Филипповича не отвечал ничего. Старик, пройдя вслед шагов тридцать, махнул рукою и отстал.
— Муму! — крикнул он сердито. — К ноге!
Кусты зашевелились, затрещали. Дознаватель Муха обернулся. Собачонка, смесь дворняги и таксы, вылезла на дорожку и, повизгивая, побежала к Матвею Филипповичу.
Глава 18
Ночной гость
1
Виталий Петрович отправился в последнюю точку, которую ему нужно было посетить. Миновал Путевой дворец царицы Елизаветы Петровны, увидел железнодорожную платформу, под которой жили супруги Бубенцовы.
Светлые, бесхитростные, доверчивые люди.
Дознаватель заглушил машину внизу, довольно далеко от платформы. Проваливаясь в снегу, стал карабкаться наверх. Скоро увидел то, что искал, — свежий сугроб. Но даже с близкого расстояния невозможно было с точностью определить, что там лежит — окоченевшее тело одинокого бродяги или занесло снегом бездомную собаку. Но следователь знал — там лежат двое. Лежат там двое под белой метелью, обнявшись так крепко, что смерть не разлучила их. Ерофей Бубенцов и жена его Вера.
Дознаватель Муха огляделся. Примерился. Вот отсюда, из-под платформы, сидя в холоде и сырости, эти несчастные видели свет из окон своей бывшей квартиры. На сердце дознавателя стало вдруг тихо, грустно, как будто он заглянул ненароком на заброшенное, занесённое снегом кладбище. Едва шевельнулось в его сердце это живое чувство, как немедленно стали слетаться, сгущаться, оживать подходящие, подобающие настроению образы. Металлическое ограждение платформы напомнило могильную ограду, огромный клён, что стоял за оградой, показался деревом кладбищенским. Чёрный ворон, склонив голову набок, глядел с высоты на Виталия Петровича. Сыпал снег, добавлял седины в чёрное оперение.
Виталий Петрович озяб на пронизывающем ветру. Он собирался уже спускаться с горы, когда вдруг прямо перед ним на снег опустилась... Дознаватель, конечно, оторопел и не сразу поверил глазам. На сверкающем снегу в двух шагах от него сидела огромная тропическая бабочка, пошевеливая чёрно-оранжевыми огненными крыльями. Хотя, если приглядеться... Кленовый лист, дорогие мои. Так легко обознаться! Обыкновенный кленовый лист, задержавшийся на мёрзлой ветке, наконец-то сорвался и упал на заснеженную землю. Виталий Петрович усмехнулся забавной оптической иллюзии, а затем, расставив руки, благополучно спустился к машине. Запустил двигатель, включил печку. Позвонил в службу спасения.
И пусть санитары разбираются с теми, кто лежит под снегом.
2
Дело о фальшивых купюрах можно было окончательно сдавать в архив. Всё оказалось просто. Как это всегда и бывает. Жизнь отсекает лишнее. Муха почувствовал вдруг страшную душевную опустошённость, такой упадок сил, что ему захотелось немедленно лечь, отвернуться к стене, с головой накрыться одеялом.
Виталий Петрович, служебный сухарь, чёрствый прагматик, атеист, затосковал оттого, что разрушилась та пусть ложная, пусть нереальная, но цветущая вселенная, которую он создал некогда, разбираясь в этом деле. Там, где фантазия нарисовала живописный мир, полный звуков, запахов, цветов, где возвела она таинственные замки с мостами, башнями, трубящими ангелами и переходами, не оказалось ничего, кроме унылого, голого, пологого плоскогорья. Го-го-го-о... Там, где воображение развернуло сверкающие дали, полные экзотических миражей, не оказалось ничего, кроме обыкновенного серого песка. Мир выцвел, потерял цену.
Пустота, скука воцарились в душе Виталия Петровича. Никакой секты в реальности не было. Пирамиды не существовало. Всемирный заговор ветвился, оказывается, только на расчерченном ватмане. Как жаль, что мир устроен так просто. Что нет в нём никаких скрытых пружин, тайных сил. Что никто ничем не управляет, ни о чём не заботится. Всё пущено на самотёк. А все те сложнейшие схемы взаимодействий, стрелки, кружочки, которые дознаватель так тщательно вырисовывал, всего лишь плоды его собственной фантазии.
Но почему-то особенно жалко было дознавателю Мухе признать, что не существовало никогда забавного персонажа по имени Амадей Вольфганг Готфрид Скокс! Это маленькое, ничтожное существо, этот эпизодический герой, только изредка выглядывающий из-за кулис, подающий свой куриный голос из-за стены, оказался выдуманным. А ведь как он украшал, как разнообразил дело, придавая всему происходящему мистическую глубину и значительность! Выяснилось, что свидетели напутали, насочиняли. Кивали друг на дружку, повторяли чужие слова. Не было никогда никакого Амадея Вольфганга Скокса, таинственного кочегара, повелителя адского огня.
3
Поздно вечером, почти уже в самую полночь, Виталий Петрович Муха вернулся в отделение полиции, кивнул сонному дежурному, поднялся в кабинет. Дело о таинственной секте и фальшивых купюрах лежало на столе. Дознаватель открыл папку в чёрном переплёте. На титульной странице фиолетовым фломастером выведено было: «Дело № 87-ж».
Не успел следователь подивиться этой неведомо кем приписанной букве «ж», как произошло нечто ещё более удивительное. Мёртвая буква ожила, зажужжала, поползла по странице. Дознаватель от неожиданности вскочил со стула, отпрянул от бумаг. Но тотчас опомнился и усмехнулся. То была очнувшаяся от зимней спячки обыкновенная муха. Безвредная и бесполезная. Муха легко может проникнуть в комнату тайных совещаний, взлететь к потолку, увидеть сверху лежащий на столе план захвата мира. Разглядеть этот дьявольский план во всех ужасающих подробностях. Она увидит истинную подоплёку мировой истории, математическую запись всех ходов. Что толку-то? Эх, муха-муха...
Однако как же напряжены нервы! Виталий Петрович подошёл к окну. На улице творилось настоящее светопреставление. Густой снег стеной валил с неба, едва проглядывали уличные фонари, в воздухе носились тёмные тени. Сшибались, схлёстывались, разлетались. «Остерегайтесь рогатых всадников!» Глупое предупреждение показалось теперь не таким уж глупым. Муха видел смутное отражение своего лица в тёмном стекле. Вздрогнул, пронзённый ощущением, что это не он разглядывает своё отражение, а призрак приник с улицы, вперился блестящими глазами, вглядывается в самый мозжечок. Виталию Петровичу стало страшно. Глубочайшая непонятная тревога овладела всем его существом. Дознаватель вернулся к столу, опустился в кресло. Несколько раз глубоко вдохнул, выдохнул, успокаиваясь.
Кто же ты, таинственный, неуловимый Амадей Вольфганг Скокс, которого нет? Загадочный колченогий кочегар. Во всём деле имелось единственное вещественное доказательство бытия этого Скокса — любительская чёрно-белая фотография пять на шесть. Впрочем, назвать это доказательством можно было только с большой натяжкой. Виталий Петрович ещё раз взял фотоснимок, отпечатанный на старинной бумаге «унибром», с фигурным обрезом. Лицо, снятое в три четверти, мало походило на лицо человека. Виной тому была, вероятно, забавная игра теней и света. С фотографии оглядывалось на зрителя человекообразное существо с широкими скулами, треугольно сходящимися к острому подбородку. Озиралось испуганными выпученными глазками, настороженно подняв уши с кисточками на концах. Как будто кто-то окликнул, а оно обернулось. От уха до уха ухмылялся длинный узкогубый рот. Крючковатый нос, выступающий вперёд, напоминал немного клюв курицы.
Поколебавшись, Виталий Петрович решил шаткое это доказательство на всякий случай из дела изъять. Ни к чему. Отложил фотографию на самый край стола.
А затем, склонившись над папкой, осторожными касаниями передвинул оцепеневшую муху в безопасное место, в пазуху возле корешка. Та, посучив немного задней лапой, снова заснула. Муха закрыл папку, завязал тесёмочки, чёрным маркером печатными жирными буквами написал на картонной обложке: «В архив». Подумал и зачем-то добавил: «Хранить вечно!» Подчеркнул двумя линиями. Поставил дату, размашисто расписался в правом нижнем углу. Всё это делал он с большим, большим, большим сожалением.
Едва поставил дату и последнюю точку, как под самой дверью скрипнула половица, послышалось короткое печальное воздыхание. Тихое, но очень и очень явственное. Виталий Петрович вздрогнул. В дверь осторожно постучались. Вернее сказать, поскреблись.
— Открыто! — крикнул Виталий Петрович, холодея сердцем. — Войдите!..
Вошёл маленький, серый человек. Лицо его, очень широкое в скулах, суживалось книзу, оканчиваясь острым детским подбородком.
— Виталий Петрович? — скрипуче проговорил вошедший.
Прозвучавший голос настолько не соответствовал его виду, что Виталий Петрович некоторое время молча глядел на дверь, ожидая появления из коридора старухи. Однако длинный ночной коридор за спиною пришельца был пуст, тих и совершенно безлюден.
— Это я, — голос Виталия Петровича дрогнул. — Государственный юрист высшей категории. К вашим услугам.
— К нашим услугам? Простите, но мы не нуждаемся в ваших услугах!
На дознавателя смотрели холодные, светлые, как будто фаянсовые, глаза.
— Простите и вы! — обозлился Виталий Петрович. — Кто вы такой? Что вам от меня нужно? Как вас вообще сюда пропустили? Вы вообще не представились…
— Не представился. Да. Думал, ни к чему лишние формальности. Моя фамилия Скокс, — проскрипел странный гость. — Амадей Вольфганг Готфрид Скокс. К вашим услугам.
— Я тоже скажу вам. Что не нуждаюсь в ваших… — Виталий Петрович привстал и, прищурившись, стал вглядываться в лицо посетителя. — Не нуждаюсь в ваших…
Затем перевёл взгляд на смутный фотографический снимок, отложенный им на край стола. Снова поднял глаза. Догадливый посетитель тотчас понял, чего от него хотят. Повернулся лицом в три четверти, растянул бледные узкие губы до самых ушей.
— Так вы что же?.. Тот самый Скокс? А из материалов дела следует, что никакого же Скокса не существует. Нет его!
— Нет так нет, — кротко согласился гость и смахнул фотографию со стола.
Фотография взлетела, вильнула, рассыпалась в воздухе чёрным пеплом.
— Вижу! — произнёс Виталий Петрович. В горле его внезапно пересохло. Голос стал осевшим, осипшим. — Вижу, что нет. Но при чём же тогда «всадники на лосях»?
— Ни при чём, — ответил Скокс. — Юмор такой. Фигура речи.
— А-а-а... Кгрм-кхе-кхе... — дознаватель закашлялся. — Фигура речи? Я-то подумал, что, возможно, имелось в виду — черти. А это у вас юмор, значит, такой? Так, что ли?.. — следователь поднял руки над головою, растопырил пальцы, изображая рога. — Так?..
Он не сознавал уже, что делает, что говорит. Чёрные хлопья ещё плавали в воздухе, кружили перед глазами, мешали сосредоточиться. Мозг цепенел от ледяного ужаса. Виталий Петрович чуял смертную тоску и совершенно ясно понимал причину своего ужаса. Дело в том, что в ночном посетителе человеческое перемешано было с неизвестным.
— Так вы... Часть силы, что вечно хочет зла, — лепетал Виталий Петрович. — Это про вас я только что читал в истории болезни. Абсолютное зло.
— Ошибаетесь, — ответил демон. — Я ничего не хочу. Ни зла, ни добра. Мне всё равно. Абсолютное равнодушие. Это гораздо страшнее для всех вас.
«Кот Козя! — ударило в висках, больно стало пульсировать, прорываться изнутри. — Совсем... один там... Останется... Один в мире... В доме... пустом...»
— Да. Так. Теперь хорошо, — сказал Скокс. — Замри!
Следователь повалился ничком. Голова глухо упала, угодив пробитым лбом прямо на серединку папки. С небольшим запозданием упали и поднятые руки, горестно плеснули мёртвыми ладонями по столу.
Душегуб, ухмыльнувшись, пошутил:
— Позвольте и вам преставиться.
Затем Амадей Вольфганг Готфрид Скокс, которого нет, осторожно приподнял мёртвую голову, стал вытаскивать заветную папку с материалами дела. На столешнице под делом струилась, растекалась свежая кровь. Скокс взял папку за самые уголки, брезгливо отставив кривые мизинцы в сторону, чтобы не запятнать лап. Напрасные усилия! В одну секунду не только картонная обложка, но и вся исписанная бумага, что находилась внутри, все эти стрелки, кружки, цифры, весь подробный план захвата мира — вся эта ничтожная дребедень успела насквозь пропитаться горячей и ещё живой человечьей кровью.
Эпилог
Что известно нам о дальнейшей судьбе Виталия Петровича Мухи, дознавателя? В сущности, доброго, хотя не очень здорового, не очень счастливого человека. Утвердительно сказать нельзя ничего. Но, согласно с христианскими представлениями о посмертной участи людей, — душа оставляет тело и уходит на небеса. На суд Божий. Унося с собой чувства, мысли, память и все впечатления земной своей жизни, которыми успела насквозь пропитаться. Однако перед дальней дорогой скитается по земле ещё три дня и три ночи, прощаясь с привычными местами.
Могучий клён возносил к небу остекленевшие от мороза ветви. Ранние зимние сумерки опускались на город. Послышался нарастающий гул, содрогнулась земля. Искры инея посыпались сверху. Пролетела с грохотом электричка с уютно освещёнными окнами, и долго ещё вихрилась, летела вслед за ней радостная сумятица позёмки. Два санитара в белых халатах, надетых поверх стёганых курток, возились около платформы на отлогом откосе. Оба были слегка навеселе и, скрипя снежком, топтались вокруг сугроба. Ветерок румянил санитарам щёки и носы. Третий, водитель, наблюдал за ними из машины, что стояла внизу. В иные дни он помогал санитарам, но сегодня по случаю крепкого мороза предпочёл остаться в натопленной кабине. Только включил фары.
Пожилой санитар наклонился, смахнул рукавицей иней с лица лежащего навзничь человека.
— Плакал мёртвый, — заметил он. — Что у них ногти растут и щетина, сам убеждался. А этот плакал.
— Да ну? — молодой дышал на красные, озябшие пальцы.
— Меняемся! — приказал пожилой. — Бери за плечи.
— С лёгкого конца норовишь, — проворчал молодой, уступая. — Ты вот, Михалыч, всегда так.
Молодой санитар поменялся местами с пожилым, взялся было за плечи покойника, но замешкался. Сунул руку под обшлаг мёрзлого бушлата, пошарил на груди у мертвеца.
— Оп-па!
Вытащил подстаканник. Потёр рукавом тусклый металл.
— Серебряный, кажись.
— Откуда у бомжа серебряный? — сказал пожилой, досадуя на то, что сам не догадался обыскать бомжа.
— Серебряный! — крикнул Бубенцов. — Вера подарила!..
Но санитары не услышали и не обернулись на его голос.
Всё это время Ерофей Бубенцов находился чуть повыше, на откосе, с любопытством наблюдая за вознёю санитаров. Какое-то небывалое, необычное одушевление смущало его. Но что именно томило сердце, не давало покоя, понять пока не мог. Он видел, как стелется под ногами позёмка, как ветер покачивает ветки, обросшие мохнатым инеем. Но при этом кожа не чувствовала ни ветра, ни снега, ни мороза. Как будто он видел всё это из-за стекла, или из завтрашнего дня, или вообще из какого-то иного измерения.
Бубенцов стал спускаться к санитарам. Здесь ему пришлось немного приподняться над землёю и повиснуть, чтобы заглянуть сверху, через плечо старшего. Лицо мёртвого человека, лежавшего на носилках, показалось ему знакомым. Да и вся мизансцена с ничтожными диалогами могильщиков казалась повторением известного. Всё, что они делали, произносили, и даже то, что они думали, — он знал наперёд. Впрочем, ситуация и в самом деле как будто повторялась. Точно так же и с таким же точно интересом рассматривал он когда-то свою разложенную на софе одежду, собираясь в Колонный зал Дома Союзов. Кое-что, правда, теперь прибавилось. Прибавился объём. Лежащий перед ним на сугробе двойник был выпуклый. Выпуклый и неподвижный, словно кукла или манекен.
Молодой санитар, уложив косную восковую копию на носилки, снова пошарил рукою в снегу, принялся разгребать... Сдвинул в сторону занесённый снегом картон.
— Ух ты! Да тут ещё один. Одна, вернее.
Женщина с белым, заледенелым лицом, вызволенная из-под снега, была, кажется, Верой. Ерошка протянул руку, но напрасно. Ни на что повлиять здесь он уже не мог. Всё, что следовало, было им уже сделано.
«Какая красивая! Какая страшная, строгая, пронзительная красота!..» — думал он с восторгом. Наклонился поближе, не дыша, разглядывал милый образ.
Санитары между тем уносили на носилках восковую куклу, достоверно изображавшую его самого. Но Ерофею не было до этого никакого дела. Непрерывный тоскливый вой внезапно утих. Вместе с телом уносили санитары и тот мучительный ультразвук тоски, что сверлил всё это время его мозг, изводил, изматывал душу. Уносили ненужную, иллюзорную жизнь. В наступившей отрадной тишине ясно прозвучал родимый голос. Ерофей поднял голову, обернулся на зов. В ослепительном свете увидел ту, что окликала его. Это была его подлинная жизнь. Блаженная, благословенная. Это была его настоящая Вера!
«Так во-от...» Бубенцов заплакал снова, но теперь уже от небывалого, невыносимого счастья. Только теперь, только теперь понял он всю разницу. Только теперь всем своим существом разглядел, постигнул, чем же отличается истинно Прекрасное от просто красивого! И какая между ними устроена непроходимая пропасть!
Чем же? Ну?.. Какая же пропасть?
А вот этого выразить, объяснить он уже не мог. Увы. Не бывало никогда таких слов в человечьем обиходе. Не бывало. Обычные же слова, к которым мы привыкли и которые всегда у нас под рукою, все они, к сожалению — трёхмерны.
Конец.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



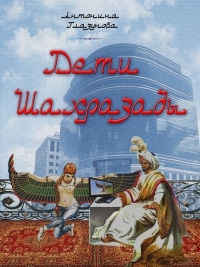







Комментарии к книге «Император», Владислав Владимирович Артемов
Всего 0 комментариев