Анатолий САЛУЦКИЙ
НЕМОЙ НАБАТ
РОМАН
1
— Прими, Господи, прах его с миром. Дозволь сказать последнее «прости». Память о тебе будет светлой.
Дмитрий Шубин после литии в кладбищенской церквушке начал говорить у разверстой могилы стертым ритуальным шаблоном, но печалуясь искренне.
Тяжелую весеннюю землю копальщики круто швыряли по одну сторону могилы. Чтобы опустить гроб, кинули вдоль пару грязных досок. Старшой, знавший, что скудные похороны сводят к дежурным причитаниям, сноровисто шагнул на гнутый настил, подал напарнику веревочные концы:
— Заводи...
Но Шубина покоробила торопливая кладбищенская деловитость. Он поморщился, дернул рукой старшому. Тот притормозил приготовления, и Дмитрий продолжил громко, отчетливо:
— Степан Степаныч Соколов-Ряжский, царствие ему небесное, прошел жизнь достойно, хотя задача сделать человека счастливым не входит в план сотворения мира. Зато в жизнеустройстве его не было червоточин. Но особо хочу изложить, что покойный в тяжкие минуты, выпадающие человекам, умел подставить плечо, вырвать из бездны отчаяния. У его последнего пристанища мы, брошенные в водоворот новой эпохи, не уврачевавшей старых обид, осознаём ценность таких забот... Жить бы ему да жить! Но, занедужив, попал в руки дохторов, вместо насморка поставивших неизлечимый диагноз. — Он нарочно, с нажимом сказал через «х», вкладывая в него известный ему смысл. — Семьдесят четыре годка! Эх, дела наши скорбные! Что ж, до чего не удалось долететь, будем идти, хромая. Как писала Цветаева, ведет наши полки Богородица.
Опоздавший на отпевание Виктор Донцов и телохранитель Вова с букетом красных роз встали за земляным валом, разглядывая тесную кучку провожающих, полукругом обступивших могилу. Донцов знал лишь Дмитрия и Нину Ряжскую — она держала под локоть бесслезную, выплакавшую горе мать. Трое пожилых мужчин, видать дальние родственники. А те две женщины — пожилая в черном платке и молодая в вологодской шали, с краю, вполоборота, — похоже, особняком.
С Ниной Донцов общался, когда она просила помочь заболевшему отцу. Виктор велел помощнику исполнить, но тот старался не по совести. Помощники — особое племя. Испорченные близостью к власти, соразмеряют усердие строгостью спроса. Потому Донцов отчасти корил за недосмотр и себя. Когда Нина сообщила скорбную весть, в душе шевельнулось чувство, заставившее, отшвырнув текучку, быть на похоронах.
— Только без пышностей, — предупредила Нина. — Без шикарных венков. Главное, добрую память в потомках сохранить. А почести... Бог с ними, с почестями...
Виктор вспомнил, как наставляла его после Бауманки Нина на раменском заводе. Но тут девушка в шали повернулась в фас, глянув в его сторону, и Донцов обомлел. К своим сорока он встречал немало красивых женщин, но такое прекрасное, одухотворенное лицо видел впервые. Не просто красивое, а именно прекрасное и именно одухотворенное!
Между тем Вера Богодухова пребывала в угнетенном настроении; упоминание о бездне отчаяния вскрыло давнюю рану, перенесло в страшный день, когда не стало отца. Она не знала здесь никого, кроме Ряжской и Шубина, которые ежегодно в тот календарный день навещали их — с плечистой бутылкой любимой отцом чешской «Бехеровки». Но рюмку за упокой не поднимали, просто вели разговоры о житье-бытье. Вера не хотела ехать на похороны, однако мать настаивала:
— Достойный человек! Поколение знатное, нас на ноги ставило.
Но обостренная кладбищем память о давнем кошмаре, изменившем жизнь, не мешала внимать траурной церемонии. Взгляд скользнул по двум мужчинам напротив — один с букетом красных роз, — они выпадали из серой толпы собравшихся. Потом внимание привлек рабочий, ловко правивший бухту грязной веревки. Из кармана его спецовки слышалась мелодия «Билайна», он судорожно извлекал застрявший мобильник, наконец достал и нырнул за толстоствольную березу. Земная суета вернула ощущение реальности. Вера включилась в происходящее, осознав, что Степану Степановичу Соколову-Ряжскому предстоит покоиться под сенью мощной березы, давнего символа России. И подумалось ей, будто и скромное прощание, и могучая береза у изголовья покойного наделены сокровенным, даже сакральным смыслом. Слегка сжала мамин локоть:
— Спасибо, что я здесь.
Пораженный, Донцов не спускал глаз с женщины в темно-фиолетовой шали, но боковым зрением подметил, что к нему близится кто-то, вывернувший из-за соседнего ряда надгробий. Услышал приглушенное:
— Простите, кого хоронят?
Вскинул плечом, выражая недовольство бестактностью:
— Ряжского...
— Ряжского?.. Уж не Соколова ли Ряжского?
Этот удивленный возглас заставил повернуться. Перед ним стоял модно одетый человек, а когда Виктор для уточнения его статуса бросил взгляд на обувь — высокие, от кутюр, беспроигрышного темно-синего цвета полуботы «Дино Бигони»! — то понял, с кем имеет дело. Видать, борзой кобель.
Утвердительно кивнул головой.
— Соколов-Ряжский... — дивился незнакомец. — Вообще-то он Соколов, фамилию жены добавил, чтоб отскочить от других Соколовых.
— Вы его знали?
— Они с отцом начинали, потом разошлись — на переправе в новую жизнь. А теперь, выходит, опять вместе. Об-балдеть! — Он выразительно сдвоил «б». — Но я-то почему подошел? Горе чужое, а вот будто меня кто под бок толканул. Не свыше ли?
Помолчали. Но незнакомец оказался говорливым.
— Кладбище захудалое. Разве я отца здесь захоронил бы? Ваганьково бы взял! Да могила семейная, из прошлой жизни. И надо же, Соколов-Ряжский рядом! Отец о нем часто вспоминал, а на погосте — встренулись! Мой полгода назад преставился, по надгробию хлопочу. Да-а, жизнь суета сует, сквозняк. Как ни голоси, как ни колеси, а сойдемся на кладбище.
Бубня без умолку, он часто поправлял узел галстука. «Руки деть некуда, — неприязненно подумал Виктор. — Как Жириновский нос теребит». Сознание резанула фраза «Ваганьково бы взял!». «Взять Ваганьково». словно авто модной марки.
Гроб опустили, и Донцов, приняв букет у телохранителя Вовы, пошел бросить горсть земли.
Когда над могилой поднялся холмик с временной табличкой на штыре, Нина поклонилась в пояс, сказала:
— Автобус ритуальный, он ждет. Двигаем потихоньку.
Последним подошел Донцов. Приобнял за плечи, сказал соболезнования, потом невзначай спросил:
— Мужчины пожилые — это родственники?
— Где у нас, Виктор, родственники? Сослуживцы папины, бывшие.
— А две женщины — вроде мать и дочь?
Но Нина всегда оставалась сама собой, проницательной и слегка насмешливой. Она сразу раскусила смысл вопросов и ответила по сути донцовского интереса:
— Богодуховы на поминки не едут.
— Кто такие Богодуховы?
— Это история долгая, трагическая. Как-нить опосля.
Шубин, попрощавшись с Донцовым, сказал жене:
— Меня не ждите, догоню. Один хочу побыть, сказать кое-что Степан Степанычу.
Но говорить Дмитрий собирался не с покойным тестем, а с самим собой. Свежий могильный холмик, могучая береза, скромный похоронный обряд пробудили в нем грустную, но величавую мысль. Ему подумалось, что именно сегодня по-настоящему уходит в вечность бывшая эпоха большого стиля, которая то ли Соколова наделила высокими людскими достоинствами, то ли сама заняла у его поколений нравственный капитал. Да, утвердился Шубин, сегодня — прощание с эпохой. Степан Степанович Соколов-Ряжский... Вспомнил, как заводской приятель тестя Подлевский, который в перестройку подался в бизнес, подтрунивал над Соколовым, называл его «дефис Ряжский» — мол, вынырнул Степан из орды однофамильцев. Шубин криво усмехнулся: уж он-то знал истинную причину «удвоения» фамилии.
Снова с печалью подумал, что сегодня не только хоронили трогательно-заботливого тестя, но с ним ушла в историю не очень ласковая, зато не стяжательская, добросердечная эпоха, сохранившаяся в закоулках памяти словно ржавые несрезанные гроздья пожухшей сирени. Философски вздохнул и, как ни чудно, испытал душевное успокоение. Завершилось время метаний, раздвоений, суетливой беготни мыслей, головоломной медвежути. Прошлое умерло. После шикарного кутежа на обломках СССР вступила в права другая эпоха — новые смыслы и обычки, взлом бытия, немилостивые государи, ставящие интересы выше ценностей. Жестоковыйное, накопительское, беспощадное к людским страданиям время — словно беспристрастное лицо манекена, но по-своему привлекательное, с перспективой, не прощающее промедления на развилках выбора. Правда, и старорусские традиции вернулись: не умеет эскадроном командовать — дать ему в управление губернию.
Аркадий Подлевский тем временем петлял среди частокола невысоких надгробий, двигаясь к семейному захоронению, и дивился происшествию. Никакие высшие силы его под бок не толкали, это сочинилось для фасону. Бродил по кладбищу в ожидании работяг, ушедших за цементом: они ладили фундамент под плиту коричневого мрамора с богатейшим декором, заказанную гранитчикам. Подлевский намеревался соорудить повыше, размашистее, но директор кладбища, не скрывая разочарования, — выгодный клиент! — наложил запрет на излишества: кляуз не оберешься. Вышло околомодье, но все равно «рашен майнд» — русский дух. Зато изготовят надгробие вне очереди.
На чужой погребальный обряд его навел случай. Но Аркадия поразило совпадение: Соколов, которого отец победно разгромил на поприще добывания земных благ и с которым до конца жизни заочно мерялся по части каких-то нематериальных «дисциплин», сравнялись кладбищем. Подумал удовлетворенно: «Уж по надгробию-то мы верх возьмем!»
А еще Подлевскому приглянулась смазливая бабенка на соколовских похоронах. Опаньки — и мысли перескочили на мирское: надо разузнать, кто такова, а обхаживать, шатать женщин мы умеем. Нажал мобильник, который всегда в руке, вызвал шофера:
— Иван, сейчас выйдет молодуха в фиолетовой шали. Ее надо до дому проводить. Понял?
Не успел дойти до родительской могилы, вякнул ответный звонок:
— Аркадий Михалыч, докладаю. Их двое. В ритуал не сели, идут на рейсовый.
— Та-ак... Значит, вот что, садись с ними в автобус — и чтоб сегодня же доложил адресок. Ключи оставь под сиденьем.
Дав указания кладбищенским работягам, Подлевский поехал в офис, где его застал новый звонок от шофера:
— Аркадий Михалыч, домик-то — избушка с консьержкой! Едва проскочил, а в лифте последний этаж нажал. Они на седьмом вышли. Там три квартиры, номера записал.
— Годится. Наведем справки.
Он всегда ковал железо горячим.
2
Телохранитель Вова зорко прощупывал глазами дорогу и ждал, когда Власыч, переварив текущие ньюс, переговорив по мобильнику, приступит к отвлеченным рассуждениям. Была пятница, они гнали в «Черепаху», а в таких случаях подопечного тянет философствовать. Дабы не отвлекать телохранителя от прямых обязанностей, Власыч — он за стеклянной ширмой — велел оборудовать «мерс» внутренней связью.
В прошлом телохранитель Вова был «прикрепленным», как называли охрану высших партийных чинов. Успел застать славные времена — на излете, — когда личка жила без особых хлопот, заботясь лишь формальным сопровождением. Зато летала на самолетах с отменным бортпайком, а поздними вечерами где-нибудь в Ливадии или под Гаграми «деды» со стажем, слегка поддав, позволяли себе наперегонки гонять по горному серпантину в служебных тачках. Заводить друзей вне секретной среды запрещалось, мужики годами варились в тесном кругу, через пустой риск расходуя молодецкую удаль.
— Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов, — раздалось в ухе. — Чьи строки?
— Пушкин, — с ходу ответил телохранитель Вова.
— Это про твоих бывших. Мандельштам... А вот скажи: допустим, нужна черепица на дачу. Есть финская и наша, дешевле. Какую возьмешь?
— Если на рупь дешевле, зачем мне наша?
— А вполовину?
— Вполовину — мусор, деньги на ветер.
— Грамотеешь, грамотеешь... — раздумывая о чем-то, пробурчал Власыч. — А если по чесноку? Чтоб ценой и качеством?
Телохранитель Вова быстро вошел в житейскую тему, природная смекалка подсказала:
— Тираж нужен. Ежели весь поселок уговорю нашу взять, цену можно срезать. Но вполовину не отдадут.
— Понял, понял, — весело отозвался Власыч и отключил связь.
Водитель Серега с густой татуировкой на запястьях скосил глаза на телохранителя: о чем это они?
Донцов был доволен. Телохранитель Вова, как обычно, вывел его на любопытные выводы. Телохранитель Вова... Мужику под шестьдесят, но даже юнцу Сереге велит называть себя Вовой, говорит, удачная была кликуха, а он суеверный, в его деле без фарта никак. Много повидал, этот Вова, много разговоров слышал, и легли они на природную закваску. В минуты дорожного безделья Донцов любил подкинуть телохранителю дурацкий вопросик, знал: Вова с его здравой, практичной выправкой скажет что-то дельное.
Виктора не интересовала черепица. Отказавшись перебрасывать прибыль за рубеж, — ну, кое-что он в Европе припрятал на черный день! — Донцов, глядя вперед, вложился в станкостроительный заводик. Дело новое, конкуренции нет, а завтра, глядишь, можно вылезти в лидеры перспективной отрасли.
Но рынок — под импортом. А донцовские станки, хотя простые — пока! — по цене вровень с германскими. Кто их возьмет? Виктор и без телохранителя знал, что для удешевления нужна крупная серия. Но практичный ум Вовы подсказал, как действовать. Договориться с путейцами о поставке нескольких станков, а может, скинуть цену, если они переоснастят сразу всю дорогу.
Отключив связь с телохранителем Вовой, набрал Кривцова, условился о встрече.
— Есть разговор!
С магистрали машина свернула на боковую улицу, затем в квартальный проезд и встала у двухэтажного дома со скромной неоновой вывеской над едва приметной, облупившейся железной дверью: «Черепаха». Когда Донцов прикатил сюда впервые — кстати, с Кривцовым, который поручился за него, — телохранитель Вова наметанным глазом определил:
— Бывший детсад, доконно. А вот и детплощадка, ноне — парковка. Уютное местечко для высшей лиги слуг и печальников народа.
Ресторан «Черепаха» внешне выглядел непрезентабельно, даже удручающе. Но за пыльной дверью во всем блеске открывалось скромное обаяние новой русской буржуазии. Владелец заведения Жора Бублик — по слухам, в прошлом браток, присвоивший общак, и вовсе не Жора и не Бублик, а лицо азиатского происхождения — притащил из Италии девяностых тогдашнюю моду на контрасты: фешенебельные клубные рестораны, где собиралась деловая, а отчасти и политическая знать, не били в глаза пышной рекламой, поражая изысканностью интерьеров. Но «Черепаха», понятно, переплюнула итальянских предков по роскоши. Зеркала в широких золоченых рамах, резной дубовый декор по стенам, потолки в пасторальных росписях, причудливые полотна в стиле модерн, по углам роскошные трехламповые жирандоли в старинном стиле. При первом взгляде на это изящество Донцову померещилось сравнение со светским храмом. Но когда поднялся на второй этаж, предназначенный для людных застолий, образ храма уступил подобию расписных кремлевских палат.
Доступна «Черепаха» была лишь обладателям клубных карточек, обретение которых дозволялось по рекомендации завсегдатая ресторана. И хотя снаружи не было охраны, в предбаннике дежурили два «дверных доводчика» — два крепких молодца с припухшими ниже глаз скулами — верная боксерская метка, — не допускавших в заведение посторонних. Сюда наезжали великосветские хайлайфисты, солидные клиенты — не кутить и не в поисках интимных приключений, а в своем кругу «сверить часы» в оценке текущих событий или поразмышлять с заглядом в завтра. Впрочем, еще при первом визите Донцов обратил внимание, что на открытой гардеробной висело изрядное число пальто и шляп в стиле унисекс, годных и для мужчин, и для женщин.
Кухня здесь была отменная, о чем напоминало витиеватое меню. Осетрину подавали звеньями, во всю толщину рыбы. А после ответных российских санкций появился синий вкладыш с дерзким уведомлением: «У нас вы никогда не пожалуетесь на отсутствие рокфора или хамона».
Для Донцова резервировали столик, но, едва он переступил порог, справа раздались возгласы:
— О-о! Донцов!
— Власыч, причаливай к нам!
За круглым столом на пятерых сидели четверо филигранных — по классификации Жоры Бублика — клиентов, среди них, кстати, два Виктора, и Донцов в очередной раз поприятствовал, что в дружеском кругу за ним утвердилось «Власыч» — не в качестве возрастной заслуги, а для удобства общения: и звучит, и сразу ясно, о ком речь.
На горячую закуску заказав говяжью мексиканскую кесадилью — пальцеоблизательно! — вслушался в застольный разговор.
— Он, конечно, отмотивировал их по полной. И министра, и губера, — веско говорил Виктор Жмур, худой, кадыкастый, в строгом чиновном прикиде, с безвкусным желтым галстуком. Жмур начинал скромным помощником адвоката, но судьба, по его словам, сделала то ли мертвую петлю, то ли сальто-мортале, и он, едва не сгинув, почти утонув, вынырнул на стремнине бизнеса. Теперь Жмур — член совета директоров крупной компании и, поговаривали, удачно «обставился» пакетами акций, а кроме того, вошел в клан офшорной аристократии, успешно вывозил за рубеж честно уворованные деньги. — Засуетились, как тараканы после дуста. Он им дал месяц, а их сиятельства за сутки полигон закрыли.
Донцов сообразил: судачат о балашихинской свалке. После прямой линии с президентом она стала символом нынешних порядков. Свалка мусора! Сколько вокруг нее свистопляски! И впрямь тянет на символ.
— Как бы т-такая торопливость боком не вылезла. Куда т-теперь московский хлам везти? Ну, назначили другие полигоны. Но это н-новые покатушки, иной километраж. А времязатраты? Цены выше. У-у-у! Н-неразбериха — с ум-ма сойти. Нелегальные свалки пойдут, начнут сбрасывать мусор в кустах, все Подмосковье изгадят. Для ГАИ новый грев, откроют охоту на нелегалов. Как п-писал классик, од-дин коверкает, другой расковеркивает. — Валерий Шлёнский, совладелец крупной айтишной фирмы, говорил неторопливо, с легкой запинкой.
— О чем вы, люби-друзи? Все образуется. Нормальный российский формат. Капля, попадая в море, становится морем. Типичный сюжет эпохи. Российские обыкновения. — Жмур обожал изъясняться формулами.
— Не скажи. Очередное бубнилово, и только. Пустое: ставлю дюжину шампанского против бутылки колы. Одну проблему закроют, десяток новых наплодят. Кругом безладица. — Это другой Виктор — Шаринян, герметичный по части эмоций. Но сегодня, кажется, и его прорвало. — Кстати, восьмое аграрное правило утверждает, что избыток одного удобрения не может компенсировать нехватку другого. Оно применимо ко всему. А ты что, Власыч?
Донцов сидел с полным ртом, и тот, который напротив, Гаврилкин из Минразвития, пришел на помощь:
— Дайте ему прожевать, это не бычки в томате. С голодухи не догоняет, об что речь.
— И не м-манты с джусаем, — подыграл Шлёнский. — Да, кстати на кстати. Переносить технические законы на жизнь не комильфо. Бердяев, например, писал, что штопанием дыр капитализма м-можно создать новую общественную ткань. Прав он или нет, не суть важно, однако м-мысль заслуживает уважения.
Донцов поднял ладонь в знак готовности к ответу, сделал глоток минералки и после короткой паузы, завладев вниманием, внятно, расставляя слова, сказал:
— Меня напрягает, что мусорной свалкой занимается лично президент. Дурдом! В одиночку-то всем сопли не утрешь.
— Вынужден заниматься... — многомысленно поправил Жмур.
— А это что в лоб, что по лбу. От перестановки слагаемых сумма не меняется.
— Слагаемые — это царь и бояре, — расшифровал Шаринян.
Донцов сперва кивнул, но сразу добавил:
— Ну-у, не совсем. Бояре, они жалованные, наследная знать. По мне, так важен факт: не проблемы экологии, а мусорная свалка в Балашихе! Антресоли демократии...
И осекся.
В зал вошла женщина, поразившая Донцова на похоронах Соколова-Ряжского. Одета просто, но по цветовой гамме изысканно. Нежно-голубая с белым отливом шифоновая блуза навыпуск, синяя юбка-карандаш и, как вишенка на торте, свободно повязанный розово-красный шейный платок и скромные тоже розоватые туфли «Мери Джейн» с ремешком на подъеме. Рядом шел мужчина. Именно рядом — он смотрелся живым аксессуаром. Лицо его показалось Виктору знакомым, но где он встречал этого лощеного, подтянутого господина в серой с отливом тройке и ботинках со стразами, Донцов вспомнить не мог.
— Т-ты чего запнулся? — удивился Шлёнский. — Об антресолях демократии это в самый раз.
— Погоди, забыл сделать важный звонок. — Донцов поднялся из-за стола, на ходу доставая смартфон, вышел в предбанник.
Решение созрело мгновенно. По сотовой связи вызвал телохранителя Вову, продиктовал:
— Запомни фамилию. Бо-го-духова. Фамилия редкая, в Москве Богодуховых немного. Мне нужны адреса и телефоны всех женщин этой фамилии в возрасте до тридцати. Подключи связи. Имени не знаю. Когда справишься?
— Если повезет, сегодня.
— Что значит «повезет»?
— Если старый приятель с пятницы на субботу дежурит.
— Ну, действуй.
Отключив мобильник, Донцов с матерным уклоном в свой адрес подумал: «прошляпил! чего, дурень, раньше не беспокоился? сколько раз мелькало: “Найти, найти ее, разыскать!”. А где я этого хмыря видел?»
Вернувшись за стол, где продолжали обсуждать политическую пыль, поднятую мусорной свалкой, Донцов уже не принимал участия в разговоре.
— Н-неприятности? — участливо спросил Шлёнский.
— Нестыковочка нарисовалась. Как говорится, судороги жизни, — отмахнулся Виктор и, словно бы соскакивая с неприятной темы, равнодушно поинтересовался: — Кстати, не знаешь во-он того, костюмчик с отливом? У окна, с женщиной...
Шлёнский пожал плечами, но Гаврилкин ответил:
— Подлевский Аркадий, с Госимуществом связан. Акциденциями живет, случайными доходами, фрилансер, искатель профита. Виртуоз сиюминутности. У него кликуха Игрок, хотя впрямую финансами не занимается. По природе игрок, любит рисковые ставки. Но везет человеку — всегда с избытком кэша! Альпари — вровень, честно, ухо-на-ухо не любит. Зато, бел-свет, в ступе дно прошибет. Мы с ним на крупной земельной сделке пересеклись.
— Ты же не купец, — удивился кадыкастый Жмур.
— Я курировал от ведомства, а он выставил мелкую фирму — без году неделя, капитал мизерный. Она и выиграла, паровоз ему навстречу. В общем, элитное жульё, по типу прежних залоговых аукционов, когда подставные карлики главный куш хапали. Этого Подлевского еще зовут «мистер иногда».
— Не понял, — отозвался Шаринян.
— Ты с Кавказа, а по части моды недоучка. Пиджаки как носят? На верхнюю пуговицу застегивают иногда, на среднюю — всегда, на нижнюю — никогда. А он любит на верхнюю. Теперь понял?
Донцов, краем глаза наблюдавший за Подлевским, увидел, как тот подтянул узел галстука, и вспомнил: кладбище! Тот хмырь в дорогих ботинках, который спросил, кого хоронят. Часто галстук поправлял, словно удавкой себя затягивал. Он, он, земля ему стекловатой. Настроение испортилось вконец. Выходит, на похоронах они оба обратили внимание на эту женщину — да, да, редкой, вдохновенной красоты! — но этот игрок сразу подсуетился, а ростопша Донцов предавался пустым мечтаниям, откладывая на завтра то, что требовалось делать немедля. Теперь тихо кури в сторонке. Эх, яблочко да на тарелочке... Получил прямой в челюсть.
Вечер был испорчен вдрызг. Вдобавок не повезло с приятелем телохранителя Вовы, он не дежурил, и поиски Богодуховой подвисли до понедельника. Хотя какое это имеет значение? Ведро выплеснул, а над стаканом трясешься.
3
На голую Клементину они набрели случайно. Рано освободившись в последний день демографической конференции, Вера Богодухова с новыми подругами — толстушкой Лилей из Питера, очкастой Светой из Саратова — отправилась в старую часть Женевы и в лабиринте улочек, в скверике близ костела, увидели прелестную обнаженную девушку — полную жизни, не тронутую модой модельной истощенности. Рядом — матовой кофейной полировки фортепьяно с выдвижной банкеткой, а чуть в стороне — деревянные столы с лавками, где хлопотал официант.
Несмотря на скудные бюджеты, они не могли отказать себе в удовольствии выпить эспрессо в компании со знаменитой бронзовой Клементиной. И, наслаждаясь спокойным комфортом безмятежной Швейцарии, делились впечатлениями об этих трех — всего трех! — днях.
Командировка в Женеву «засветила» Вере год назад; она готовила пятиминутный доклад о влиянии демографических «ям» на состав населения. Хлопот было много. Реферат, полный текст, перевод на английский — слава богу, сама «языкастая». Затем эпопея утверждения у завсектором Улитина — фамилия под сонливый характер. И все это, не исключено, впустую из-за нехватки у института средств на командировку. Но судьба улыбнулась, и Вера впервые очутилась на заманчивом западе. В благословенной Женеве, на берегу знаменитого озера с гигантским фонтаном, в европейской штаб-квартире ООН — в сводчатом зале, где с потолка свисают разноцветные бетонные «сталактиты», в ухоженном дипломатическом предместье Женевы, где среди зелени истошно и смешно вопят павлины.
Все было в диковинку.
— Девки, а ну-ка, сверим впечатления, — верещала саратовская Света. — Меня потрясли чистота и порядок.
Питерская Лиля кивнула:
— Это само собой. А в восторге я от озера. Миллион раз видела по телику фонтан, но «живьем» — это нечто! Восьмое чудо света. Или какое там по классическому счету? Седьмое?
— Вера, а ты?
— Мысли разбегаются. Пожалуй, девочки, все-таки Стул. — Она произнесла это слово так, что оно звучало с заглавной буквы.
— Стул, да! Это бесподобно, фантастика! — восхитилась восторженная Лиля. — Грандиозный образ. Все бури и сквозняки века.
— Мощный, так и стоит перед глазами, — поддержала Света.
Увидев этот женевский Стул на площади у зданий ООН, Вера сперва ничего не поняла. Гигантский, трехэтажного роста, деревянный стул с прямой спинкой, у которого одна из ножек неряшливо сломана на высоте пяти метров, — это было жуткое, но и притягательное зрелище. Стул-инвалид, под которым мог свободно проехать трейлер. Сюр... И лишь прочитав надпись у бетонного подножия, поняла: это памятник жертвам противопехотных мин, символ искалеченных судеб.
Сверив впечатления, они намеревались двинуться дальше, но увидели, что мужчина лет сорока, в джинсах и ковбойке, сидевший за соседним столиком, поднялся, подошел к фортепьяно, открыл крышку, удобнее подвинул банкетку, чтобы музицировать.
— Вот они, свободные нравы в их истинном воплощении, — комментировала Лиля. — У меня была мысль сыграть Шопена, но думаю, неудобно. Да и можно ли? Вдруг пианино лишь для антуража? А он ни на кого не обращает внимания, ему сумления до лампочки.
Случайный пианист ударил по клавишам, и у девиц физиономии вытянулись до глубокого декольте. Он играл «Подмосковные вечера».
Зачарованные, они с упоением слушали русские позывные, неофициальный российский гимн. И где? В средневековом центре старой Женевы! Здесь он звучал поистине волшебно. И когда смолкли аккорды, эмоциональная Лиля обратилась к мужчине на инглиш:
— Ду ю лайк Раша?
Он громко рассмеялся:
— Господи! Да я неделю как из Москвы. Слышу, вы лопочете по-русски, дай, думаю, развеселю девчат.
Дальше все было как в сказке. Незнакомец, закрыв крышку пианино, подсел за их стол, невзирая на смущенные протесты, заказал всем капучино и яблочный штрудель — с присказкой: «По-русски, без закуски!» — и девушкам оставалось лишь, раскрыв рты, слушать увлекательные байки этого прикольного парня, который пел и обедню, и оперу о здешних красотах, нравах и порядках.
Поездка в Швейцарию нарисовалась у Подлевского неожиданно — как часто бывает, когда буксует подготовка солидной сделки на заключительном этапе. Лозаннские партнеры притормозили из-за разногласий, и его наняли разъяснить возникшие недоумения в режиме отказа от претензий.
Он вообще любил ввязываться в экспромты, каждый раз, словно мантру — а и верно, из суеверия! — повторяя знаменитую заповедь, идущую от Наполеона, а возможно, от Гарибальди: «Нет великого человека без везения!» Повезло и на сей раз, даже вдвойне.
Практичный, въедливый, он к тому времени не только выяснил личность смазливой девицы, которую приглядел на кладбище, — Вера Сергеевна Богодухова, — не только разузнал, где она работает, но и обзавелся в ее институте своим человечком. Как сказали бы в органах, осведомителем, а для него, Подлевского, просто живым «жучком» на небольшом поощрении.
Этот прием у него был отработан давно, хотя сам он такими мелочами не занимался, подобрав помощника из бывших чекистов, умевшего «фрахтовать» нужных людей. Речь шла о передаче лишь персональных данных, не служебных, а в наши времена полно людей, готовых за гроши охотно служить такими «жучками».
Короче говоря, на Богодухову у него набралось небольшое досье, и настало время «спецоперации» по знакомству. Не подойдешь же в хамку на улице, а предложить подвезти в машине, — наверняка откажется, сразу видно, «я не такая, я жду трамвая», не профура в шортах.
И вдруг удача: она едет на конференцию в Женеву! В мозгу Подлевского заработал мощный компьютер, выдавая варианты знакомства при новых обстоятельствах. Он обожал такие ситуации — с простором для воображения. Еще не решив, как поступить, твердо знал, что игра сделана. Он возьмет свое — красиво, элегантно.
Все более погрязая в уверенности, окончательный план Подлевский с наслаждением додумывал в самолете.
Во-первых, надо оформить пропуск в ооновский комплекс. Во-вторых, в последний день этой вшивенькой «ференции» из Лозанны подскочить в Женеву. Утречком, чтобы без спешки разыскать зал, где заседают демографы. Остальное дело техники: дежурить у зала, а потом — по ситуации. Да! Ехать в Женеву поездом — всего-то час с небольшим, — это дает свободу маневра. Она-то — без авто. А если их повезут куда-то автобусом, можно взять такси.
На этом сценарий обрывался, уступая место импровизации «по обстоятельствам». Эту пиковую, клиповую фазу «спецопераций», когда падают в цене, становятся условными нормы и правила отношений с людьми, Подлевский любил особенно — в разных сферах жизни. Вот где истинные возможности для интеллекта, творческих фантазий! Вот где эффективно и эффектно срабатывает интуиция, нешаблон, где можно восьмерку ставить вверх ногами. Вот где важна скорость решений, отличающая его. Креатифф! Вот она, настоящая игра! Он предусмотрительно скрестил пальцы и пробурчал под нос на инглиш: «Кросс май фингер!» — что в его переводе означало: «Дай Бог!» И вдобавок вспомнил Фрейда: люди бессильны против комплиментов.
Настроение было на подъеме. Кроме прочего, неожиданный женевский вариант сулил интригующее, возможно, незаурядное продолжение. Кураж, охвативший Аркадия, по опыту был залогом того, что абсолютно все будет о’кей — и в Лозанне, и в Женеве. Но тут же хлопнул себя ладонью по лбу: не забыть поздравить с днюхой солидного биржевого маклера в Москве.
Первую часть замысла он отыграл как по нотам. Потом, словно охотник, охваченный предвкушением удачи, выслеживал Богодухову в каменных джунглях старой Женевы. А когда она с подругами обосновалась пить кофе около Клементины, понял: момент настал! «Красивый, между прочим, момент, — похвалил себя Подлевский, усевшись за соседний столик и вслушиваясь в бабские пересуды. — Сейчас я на пианино сбацаю!»
Вдобавок толстуха, которую он окрестил «Корова из штата Айова», и вовсе подбросила ему мяч, обратившись на английском.
Все шло как по маслу. А когда знакомство состоялось и настал черед ржачного трепа, Аркадий — в своей стихии! — раскрылся сполна, очаровав веселонравием, а еще загадочностью: свой человек в Европе, мыслит широко, знает много, денежный, а кто такой — не говорит.
— Сударыни, — картинно поучал он, — запад надо знать и понимать. В чем его отличие от наших палестин? В колоссальном внимании к бытовым удобствам. В каждой мелочи, я бы сказал, в мельчайшей мелочи. Гляньте на замочки к бейджам для прохода в ООН. Это же техническое совершенство, пригодное для любых вариантов использования. Или... вы вдоль озера прокатились? Нет? Там же черешневые сады. Скажете: эка невидаль! Но деревья-то в человеческий рост! И накрыты сеткой от града. Все подогнано, зазоров нет, все гладко.
Сударыни изумленно охали-ахали, а Подлевский, разогрев их бытовыми присказками из разряда просроченных западных баек и продолжая держать в плену мелких вопросов, сфотографировал троицу у Клементины, оповестив:
— Историю пишут объективы «мыльниц» и смартфонов!
4
На третьей линии охраны, у дверей конференц-зала, Добычина проверяли столь же придирчиво, как при входе в здание. Сторожевик, знавший Владислава по десяткам мероприятий высшего уровня, попросил приложить бейдж со специальным чипом к электронному глазу турникета.
Войдя в зал — средних размеров, на полтысячи мест, с ровными рядами черных кожаных стульев, — он нос к носу столкнулся с земляком.
— Жора! И ты, Брут, продался бюрократам!
— Я же подписывал контракт с Гомелем. Разве не видел?
— Вышел до перерыва... Сядем рядом?
Они не виделись полгода. Жора Синицын, невысокий, кругленький, с ранним брюшком, лысоватый и очкастый, внешне походил на деловитого, отчасти карикатурного чиновника из допотопного михалковского «Фитиля», не хватало лишь солидного портфеля желтой кожи. Владислав Добычин, наоборот, был тощей каланчой с густой шапкой волос цвета спелой пшеницы, за что коллеги-депутаты звали его Льняной. Друзья детства, они шли по жизни параллельно. Синицын, двинув в бизнес, возглавил региональную сотовую связь, а Добычин ушел в «паблику», и после раскрутки на областной орбите его забросило в Госдуму. При случае они поддерживали друг друга, но взаимных дел не набежало, и общались они не часто.
При встречах им было о чем поговорить. Полное доверие позволяло сверять федеральный клич с региональным отзвуком, словно из пазлов составляя достоверную картину эпохи: что в стране? что в недрах управляющего слоя?
На форуме регионов царила скукота обыденности. Полдня накачанные политическими стероидами министры и губернаторы бубнили о впечатляющих успехах союзного государства Россия — Беларусь. Но если минские пытались изъясняться концептуально, хотя и неуклюже, то выступалово русни выглядело примитивными самоотчетами, усыплявшими мозг, без потуги даже на захудалую идейку. Паралич мышления, фатальная нехватка свежих подходов. Сопли жевали. Все ждали Путина и Лукашенко.
Но известно, к сроку президент прибывает только на инаугурации и парады, опоздания — фирменный стиль кремлевской власти. И у Добычина с Синицыным появилось время приглушенно, в четверть голоса, начать «сверочную сессию».
— Ну, что скажешь? — приступил Владислав.
— Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
— Вечно ты с прибаутками.
— Задумали скоростной интернет, проект составили, финансы изыскали — все путем. Да на согласованиях застряли, их же сотни. А чиновники за отказ не отвечают, тянут с решениями — и никакого им риску нет, ленивые до не могу. На деле-то в засаде за выгодой сидят. Ну, ты понял.
Добычин кивнул.
— Я сунулся к замглавы администрации, а она вежливо отправила меня в пешеходно-эротическое путешествие. Есть у нас дамочка с жиром ожерелий на шее и, поговаривают, с тайными гендерными пристрастиями.
— Может, поднажать на губернатора? Во-он, в пятом ряду. Начнут расходиться, мы к нему и подойдем.
— Не надо, Сева. Не тот случай, чтоб светиться. Губеры теперь — что региональные завхозы. Сбруя из громких титулов, только и всего, самостоятельности — как у курьера в банке. Вдобавок кассовый разрыв в кадрах. Кругом кружит только свой интерес. При тотальном бюджетном дефиците зажимают средства на случай ЧП. Москва наказывает лишь за грубые ошибки. Другого спроса нет. ну, пожурить могут. И чтоб не делать ошибок, упаси Бог инициативу поддержать. Зато отчитываться научились.
Добычин понизил голос:
— Мнение уже формируется. Входит в русскую историю как царь Владимир Добрый.
— Да что ваше элитное мнение! Все не так плохо, все гораздо хуже. Третьего дня блевада-центр дал итоги опроса: тридцать семь процентов из поддержавших Путина сказали, что нельзя ему быть таким добреньким, пожестче править надо.
— Я этот опрос прозевал.
— А ты на министров глянь — рыцари обильного словотечения. Связному про отказ от роуминга толкуют, а он на нас, операторов, кивает. Но я-то знаю, чего он мнется: чиновники это дело с ходу не осилят. — Вдруг завелся, да с глумливым словцом. — Застой, Сева, крутой застой! Все ладят под чиновные удобства. Кругом сплошные муляжи — в статистике, в отчетах. Бурсаков поневоле вспомнишь, когда пороли на воздусях по всей строгости гражданского согласия. Пасмурно, Сева! Хотя еще не сумерки.
— Ты у нас как гегельянец — ни в чем совершенства не видишь. Лозунгами не дави. Кинь пример, чтоб яснее стало, о чем тоскуешь.
— Примеров мульён! Возьми зарплату учителей, которую Москва требует выше средней. Как ноне измудряются? Проще простого! Берут педагога на четверть ставки и платят семь тыщ. А в отчете-то полная ставка идет — двадцать восемь тысяч. И все в ажуре, не подкопаешься. Плавающий слой научился с Москвой в дёсны жамкаться. У себя за пазухой никто ничего не ищет.
Замолчали. Своими уральскими сказами, пересыпанными перчеными словечками, Жора бередил Добычину душу, каждый раз вызывая в памяти образ печальника Гамлета с его классикой: то ли «неладно что-то в Датском королевстве», то ли «какая-то в державе датской гниль» — в зависимости от перевода. Это чувство неясной угрозы было широко разлито и в московском управляющем слое. Словно грозовая туча на далеком горизонте, эта угроза погромыхивала и посверкивала то грядущим дефицитом пенсионного фонда, то неизбежным драматическим выбором макроэкономической стратегии, который не от хорошей жизни, прикрываясь державным блудом, малодушно оттягивает Кремль в надежде скрестить ужа и ежа.
Добычин знал, что теперь его очередь излагать Синицыну свои соображения, понимал, что в суждениях пойдет на политическую глубину, попытается на пальцах объяснить, почему игорный дом в убытке не бывает. Однако начинать не стал, опытным глазом засек легкую суету среди ребят из Службы. И верно, из охраняемых дверей выпорхнули две девчушки — прямые светлые волосы за спиной, белый верх, черный низ, в руках тонкие, элегантные кожаные чемоданчики с застежками «под золото». Они юркнули к пюпитру, заменявшему трибуну, положили на него бумаги и уселись в третьем ряду, у прохода, на заранее назначенных местах. Добычин понял: приготовления завершены. Шепнул Синицыну:
— Зачехляем гитары. Идут. Приветствуем стоя.
Процедура была хорошо знакома. Но на сей раз уютный зал позволял разглядеть детали, ускользающие в больших аудиториях. Путин сидел на невысокой сцене, в белом кресле. Внимательно, даже с пристрастием рассматривая его, Добычин пришел к выводу, что президент выглядит неплохо, во всяком случае следов утомления на лице не заметно, а макияжа, как бывает в иных случаях, нет. Удивило, даже поразило другое: слушая выступавших, Владимир Владимирович постоянно двигался. То перебирал носками и пятками ног, то разминал суставы пальцев, то дотрагивался до лба, до щек, словно его что-то беспокоило. Чувствовалось, он не вслушивается в говорение с трибуны, а полностью ушел в свои мысли, двигаясь в такт им.
А когда настало время, вышел к пюпитру, раскрыл заготовленный девчушками текст и без запинки озвучил — было ясно, видит его впервые.
«Конечно, — думал Добычин, — мероприятие важное, но рутинное. У них с Лукашенкой за кулисами свои тёрки, когда приходится включать мозги на всю мощь. А здесь... Фасад, сцена, ни экспромты, ни остротемье не запланированы. Привычный репертуар политической шарманки для наивной публики за стенами этого зала. Космических спутников делаем больше, чем в 1923 году выпускали тракторов, — вот и все доводы, они же вызовы».
Ситуация в целом понятна, объяснима. И все же настроение у Добычина было смутным — как вообще в последнее время. Эта нарядная дежурная сходка замороченных региональных баронов и высоких столичных чиновников являла растущую мощь пластичной, обволакивающей бюрократической элиты, которая даже президенту подсовывала то, что ему надлежит произнести. А какие цитаты из речи тиражировать по телевидению — это тоже будет решать окружение президента. Вдруг мелькнула неожиданная мысль: «Когда Путин начинал, в двухтысячном, у него была команда, которую окрестили питерцами. А сегодня команды нет — есть окружение». Эта мысль показалась Добычину столь важной, что он решил обязательно додумать ее на досуге.
Спросил у Синицына:
— Вечером занят?
Тот неопределенно пожал плечами. Ясное дело, провинциалу, часто наезжающему в столицу, всегда есть чем занять досуг.
— Сегодня у одного из думцев юбилей. Поедем, тебе будет интересно.
Когда вышли из «Экспоцентра», где гулял форум, на улице вдруг потемнело. Оглянуться не успели — налетел страшный, как потом выяснилось, исторической силы грозовой шторм, каких, по уверению синоптиков, не случалось в Москве полтораста лет. Черная туча зашла ниже высоток Сити, хляби небесные разверзлись. Это было жуткое зрелище, апокалипсис, ужас непроизносимый. Как писал классик, пожар во время маскарада. Ветер в клочья рвал нарядные флаги и перетяжки, валил бигборды, ливнёвки не справлялись с потоками воды, она по щиколотку затопила площадку между выставочными павильонами. Но самое гнетущее — эта жуткая иссиня-черная туча, низко, ниже небоскребов-тучерезов, висевшая над городом. Она пугала не только мраком, наступившим средь бела дня, но и своей небывалостью, невиданностью. Такие грозные, незаурядные, памятные взрывы стихии, да вдобавок внезапные, словно ниспосланные за какую-то провинность, с библейских времен рождали страх, трепет и дурные предчувствия, считались худым знамением.
Прячась от непогоды за распашной стеклянной дверью, ожидая, когда подъедет поближе машина, Добычин с тоской вспоминал уральские сказы Синицына. Очень уж плотно, впритирку ложились они на его умозрения, его восприятие происходящего, красочно дополняя панораму федеральных непоняток. Азоту много — овощ идет в ботву. И под влиянием бушующей стихии, созвучной мятущемуся настроению, само собой всплывало в сознании старое, ветхозаветное «Вихри враждебные веют над нами».
Шестидесятилетний юбилей Юрий Силантьев, отбывавший в Думе уже третий срок, отмечал с размахом, арендовав дом приемов — сразу за третьим кольцом, перед Мосфильмовской. Там все наилучшим образом устроено для торжественных церемоний калибра «люкс». Овальный зал ожиданий, где предлагали аперитив и где можно сплотиться небольшими компашками за уютными столиками с мягкими креслами, парадный зал на втором этаже с красивыми обористыми занавесями и круглыми столами с поименной схемой рассадки. Славился дом приемов и знатной кухней, готовой выполнить любые запросы заказчика. А около здания обустроили обширную парковку.
Считалось, что на категорию «экстра» это заведение не тянет, ибо находится в людном районе города: воротилы жизни предпочитают для «сходок» более укромные места, вроде «Барвихи Лакшери», где, как говорится, копейку алтынными гвоздями приколачивают. Однако «люкс» привлекателен с точки зрения комфорта и удобен по диспозиции — здесь собирались люди, дорожившие временем.
Съезд гостей в семь, и это означало, что торжество начнется не раньше восьми. Такие посиделки — не ресторанные, а в «спецприемнике», как называли гостевой дом, — ценились не антуражем, не хлебосольными изысками, а тем, что сочетали застолье с кулуарными переговорами, позволяли толкаться в своей среде, знакомиться с нужными людьми. А еще служили отдушиной для прибагряненных, зачастую увядающих депутатских спутниц жизни.
После первых тостов быстро сбивались группки по интересам, и гости, сидевшие за разными столами, перемигнувшись в переносном и буквальном смысле, по двое, по трое, нередко и небольшими компашками спускались в нижний зал, где, накатив по рюмке вискаря или «Хеннесси», в разогретом, однако вполне мыслеспособном состоянии вели доверительные беседы. Для того и нужны эти широкие людные «масленицы», чтобы в неофициальной обстановке откровенничать, сказать от души о наболевшем, кое-что согласовать, кое о чем договориться.
Добычин с Синицыным спустились вниз, чтобы продолжить дневной разговор, но волею обстоятельств попали в узкий кружок политического и делового бомонда, где тон задавал Георгий Лесняк, известный в Думе вольнодумством — разумеется, в пределах допустимого. На сей раз он горячился по модной теме — относительно образа будущего.
— Да пойми, Власыч, — тормошил он за локоть приятеля. — Образ будущего — это тебе не фантазийные русофильские сказания о запуске русского реактора. Говорим «будущее», а в башке колотится самое что ни на есть сегодня — президентская предвыборная программа. Что Путин предъявит народу, чем окрылит на грядущие шесть лет? Да чтоб поверили, чтоб вдохновились! Чтоб стать ему полпредом от «завтра».
— Постановка вопроса некорректная, — упрямился Власыч. — Понятие «образ будущего» сбивает с толку. О каком будущем говорить, если министры публично определились: один говорит, что до тридцатого года реальные пенсии расти не будут, другой обещает рост ВВП не выше двух процентов. Таких министров надо взашей, а коли их не гонят да окорот им не дают, выходит, опровергать боятся. Вон Глазьев что-то вякнул, так пресс-секретарь президента его с ходу осадил.
— Ну, прав ты, прав про этих министров, которые пиарятся ежедень дурацкими прогнозами, пророчат злые завтра. Дебилярий! Но суть в другом, помилуй мя, ты в нее не въезжаешь. «Что обещать народу?» — вот в чем вопрос. Это посильнее, чем «быть или не быть?». Дальнейший рост жизненного уровня? А, Льняной? Ты же у нас стратег.
Добычин криво усмехнулся, ничего не ответил. И так все ясно.
Но Лесняк не унимался:
— Кремлевская команда с ног сбилась в поисках образа будущего. Хотя бы чернового наброска. В Интернете хайп, лютый бардак.
Добычин встрепенулся:
— Как ты сказал? Кремлевская команда?
— Тебе будто невдомек, что там мозговой центр.
— Я не о том. Применительно к президенту слово «команда» давненько не звучит. У президента теперь «окружение».
Лесняк уставился на Добычина, почуяв намек на серьезную правду, но не в силах распознать ее.
— Как говорится, шалом, православные! Ну-ка, ну-ка, подробнее.
— Команда единомышленников была у Путина вначале, — питерцы. Помнишь, как их в либеральной ступе толкли? В порошок терли. А теперь в Кремле — окружение. И кто побожится, что у этих «окружающих» не разновекторные интересы? Как говорят в таких деликатных случаях, истина конкретна.
Но тут в разговор отважно вступил Синицын:
— А у нас считают, что Путина уже приватизировали. Либералы.
После паузы Лесняк спросил:
— У кого «у нас»?
— На Южном Урале.
— Хочу представить единоземца, — пояснил Добычин. — Георгий Синицын, управляющий крупным региональным оператором связи. Где родился, там и пригодился. Всю жизнь варится в местных раскладах. Глас народа.
— Народ вот-вот начнет праздновать победу над самим собой, — расхрабрился Синицын.
— Да-а, любопытно, — неопределенно протянул Власыч, чувствуя, что негабаритные речи этого провинциала, который жжет без стеснений и оглядок, не вписываются в умозрения думской тусовки. И хотя в мозгу Донцова чесались вопросы по поводу столь неожиданно трактуемой «приватизации президента», расчехляться не хотелось, не тот случай.
А Жору уже не остановить, он поддал жару:
— Чтобы все осталось как есть, надо все изменить. У нас теперь иначе не мыслят. От Москвы чего-то ждут, а чего — сами не знаем.
— Вот вам и образ будущего. Прозренцы-то на местах, а мы их и не слышим, — после новой паузы подвел неутешительный итог Лесняк, изобразив муляж улыбки. — Владислав, накатим по маленькой? Давно не чокались.
Компания слегка пригубила коньяку и стала рассасываться. Лесняк с Власычем пошли наверх.
— Ты Лесняка походя в нокдаун отправил, — улыбнулся Добычин. — На нем такие костюмчики не сидят. Однако же ты вмиг прославился, твой провинциальный приговор теперь по всей Думе зашелестит, ссылаться будут. Жди навара с известности.
— Кто этот Лесняк?
— Формально рядовой депутат. Но к его оценкам прислушиваются. Из тех, кто мнение формирует.
— А Власыч?
— Приятель его из коммерческой прослойки. Бизнесмен, станкостроением увлекся, дело святое. Потому в Думе и ошивается, проталкивает интересы отрасли. Кстати, кого предпочитаешь: лицедеев или лицемеров?
— Ты по поводу Лесняка?
— Не только, здесь таких много. На людях смирные, великих благ чаятели, а по заглазью о-го-го как правду-матку режут. Живут двусмысленно и двуязычно. Надо понимать, с кем имеешь дело. Условно говоря, один курит сигареты, а другой лузгает семечки.
— Но Лесняк-то, Лесняк? — добивал Жора.
— А Лесняк вроде макарьевского сундучка. Там, слышал, по шесть штук один в другой вставляют, как матрешки.
5
Богодуховы перебрались из Тулы в Первопрестольную по случаю. Виктора Ивановича, сцепщика вагонов, шапка набекрюшку, послали на подмогу в депо Лихоборы. Там он чистил паровозы, следил, чтоб ремонтные ключи выдавали в рейс полным комплектом — без инвентарного набора инструментов в пути встанешь намертво, — чтоб масленки до краев наливали смазкой нужных сортов, а в кабине было чисто, как у монашенки в келье. Жили в нищете, да в святости. В итоге исправного туляка определили на курсы машинистов и приманили комнаткой для семьи. Спустя год за ним закрепили паровоз под номером 1675, он водил составы по Окружной дороге.
Жизнь шла в рост. И вдруг — сброс на ноль. Богодухов разделил судьбу своего поколения: погиб 4 августа сорок первого под Смоленском — у села Секати Батуринского района, как гласила похоронка, титулованная Извещением.
Это Извещение стало единственным наследством сына Сергея, не раз помогая в жизни. Когда со Щёкинского химкомбината его выдернули инструктором отраслевого отдела ЦК КПСС, пожилой кадровик, наверняка в прошлом фронтовик, так и сказал:
— Считай, тебя погибший отец рекомендует.
В цековских порядках Богодухов разобрался не сразу, но основательно. Для обывателей аппаратчики Старой площади, бренд «ЦК КПСС», в те времена считались номенклатурной кастой. Лихие эстрадники с дипломами врачей Лившиц и Ливенбук, растворившиеся в далях забвения, однажды отмолотили на сцене стих Чуковского «Муха-цокотуха», с непозволительным намеком сделав особое ударение на двух магических буквах: «Муха-ЦКтуха», — и невинная реприза отозвалась ликованием в среде «профессионалов недовольства» — свободомыслящей публики, заверещавшей на кухнях о подрыве зловредных партийных устоев. Считали, что это крайняк, смелый вызов власти, растабуирование запретного.
Но на деле аппарат ЦК КПСС был неоднородным.
В отраслевых отделах вкалывали, по самоназванию, «серые лошади», народ тягливый, от сохи, со своей шкалой смыслов, не утерявший связи с низовой толщей, — работяги, пахавшие глубоко, колесившие из края в край бескрайней державы. Отраслевые отделы подменяли министерства, что было стратегической ошибкой партийных верхов. Для рядовых аппаратчиков нелепый дубляж оборачивался каторгой. Правда, с материальными бонусами.
И совсем иное дело — заграничники из международных отделов, агитпроп, орговики. Туда брали белую кость, голубую кровь, там вершилась политика, прочищавшая уши и просветлявшая умы соотечественников, а в случае надобности вразумлявшая кое-кого по сусалам. От этих дирижистов исходили веяния, упакованные в форматы постановлений, решений. Там ценились «хафизы», наизусть знавшие «коран» политического двоемыслия.
Между отраслевиками и политиканами издавна выросла незримая ментальная перегородка. При внешней учтивости в душе заграничников жила неистребимая старопоместная спесь лакея, угождавшего барину и презиравшего мужика. Впоследствии, когда жизнь перевернулась, из тех потаенных настроений позднесоветской элиты вырос мем «быдла» в адрес простонародья. А отраслевики называли заграничников и агитпроповцев «министерством странных дел».
Но по работе «серячки» и забойные отделы пересекались не часто, и скрытая неприязнь выплескивалась лишь в откровенных кабинетных перемолвках, не сказываясь на формальных отношениях. Сор из избы не выносили, пока обаяние неведомого, — этим поначалу привлек извечных русских очарованных странников обольстительный перестроечный манок, — не сменилось тревожной непредсказуемостью из-за шараханий партийных вождей.
И когда пошла чехарда в партии, отчуждение, разделявшее отраслевиков и политиканов, стало стеной недоверия. В одночасье обнаружилось, что несогласия внутри аппаратного сообщества слишком глубоки. Отраслевики с их намоленными связями на местах в глазах перестроечного авангарда стали тормозом. Вросшие в хозяйственную почву, они быстро ухватили, что теневая, подпольная советская экономика начала бесстыдно прорастать в структуры власти, бешено тянувшей к рынку. Цеховики, вышедшие из подполья, повели с политиканами цыганский торг. На место диссидентов-шестидесятников выдвигались доморощенные прогрессисты, передовые мыслители, партийные восьмидерасты. Зашевелились гниды под расческой: вспомнили о трансформизме Антонио Грамши по изменению национального психотипа.
Аппаратное противостояние становилось опасным. Из кабинетов перекинулось в курилки, на совещания разных уровней. И хотя расхождения еще носили закрытый характер, но — уже с мстительными обертонами.
Дуб сохнет с головы. В корне расклад изменился, когда Горбачев, плюнув на Конституцию и мировую практику, совместил два высших поста — в государстве и партии: президент сохранил должность Генсека. Такого злополучия никто не ждал.
Шулерский горбачевский трюк щипача — под флагом гласности! — расставил точки над «i». Отрыв слова от дела стал катастрофическим, политическое сожительство — невозможным. Понимая, что надлом свершился, что из крутых яиц яичницу не сварганишь, не стесняясь поветрий устной русской речи, отраслевики с тоской и чугунными мыслями наблюдали, как президент, стоя враскоряку, лихорадочно тащит к себе сквозь бутылочное горлышко двоевластия перевертышей из политиканских отделов Старой площади. Все цековские «покойники» оказались живехонькими в Кремле, срочно разучивая новые политические роли. А оставанцев, неуместных людей, партию в целом готовили к закланию. Вступала в права новая, пока еще конспиративная власть.
Давняя трагедия повторялась нудятиной, фарсом. В дни Большого террора 1937 года люди шли под расстрел с именем Сталина на устах. На финише перестройки, осознав предательство партийной верхушки, презрев библейские сказания о мудрости членов Политбюро, парализованные запахом страха, дрессированные цекистские аппаратчики, хлопая ладонями и ушами, понуро брели в никуда под кнутом партийной дисциплины. Они понимали, что у партии теперь незаконный начальник, но были не в состоянии осмыслить простую до наготы истину: у незаконного начальника — не подчиненные, а сообщники. И в основном предпочли зажмуриться.
Однако в «разночинной» среде аппаратных отраслевиков, у которых, по Есенину, была «слаба гайка», нашлись и крутыши, люди иных настроений, не готовые робко бытийствовать в пожаре грозных событий, не считавшие себя сообщниками измены. Среди них и Сергей Богодухов.
Цековская номенклатура всегда оставалась для него не более чем факультативом, дополняющим реальное дело, ее сапоги всегда жали ему в коленках. Познав мысли, настроения и повадки высшего партаппарата, он воспринимал формулу «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи» в одном формальном ряду с усвоенным в детстве «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», чему учила мама. Чуткий к голосу судьбы, он за гранью повседневности угадывал большее, лучше других оставанцев распознавал в политических конвульсиях горбачевизма не просто борьбу за власть, а стремление перекроить Россию по чужеземным лекалам. Предательство «реальных пацанов» из верхушки возмущало, взрывало мозг не опасениями за судьбу партии, страшило не цинизмом, а угрозой государственного нездоровья, демонического зла, густого сумрака, которым накрывал Россию меченый князь тьмы.
Но на заветное цены нет! Богодухов отказался от пустых, маскарадных, негласных потуг группы оппов, как пометили наверху внутренних оппозиционеров, противостоять духу разложения, сифонившему с вертлявых партийных верхов, и со страстью бросился в публичную стихию, которая в те торопливые дни вознесла рядового инструктора ЦК КПСС на девятый вал недовольства перестройкой. Он говорил со знанием дела: генсек и президент в одном лице тянет Россию на разрыв. Итогом змеиных зигзагов станет катастрофа, наихудшая из возможных. И с самой высокой трибуны, доступной ему, — Колонный зал! Многотысячная возбужденная толпа! — Богодухов догола раздел хромого архитектора перестройки, за которым прочно укрепилась слава агента влияния, назвав его мудрейшим из пустозвонов с неопрятной шумихой слов, наторевшим в политическом двуличии и глядящим Наполеоном.
Чувствительный удар по верхушке партийной власти простить инструктору ЦК КПСС не могли. Уже через день хищная, честолюбивая, как Макбет, личность из Политбюро, которого по-пушкински «проныром лукавым» ославил Богодухов, приказал перевести его в отраслевое министерство, и, мелочно, в отдел, назначенный к расформированию, — министерство уже падало. Демиурги демократического централизма не стеснялись: в ЦК КПСС, цитадели «высшей справедливости», не было профсоюзной организации, инструкторы ЦК, словно крепостные, даже формально не имели защиты от своеволия начальства, находясь в плену его усмотрений. Дисциплина зижделась не на идее — на страхе.
В родном отделе проводы не устраивали. Но в узком кругу за рюмкой «Столичной» Богодухов пнул ногой стул, на котором по-чиновничьи натирал «седалищные щеки», и ухарски посетовал:
— Батюшки-светы, пятнадцать лет на этой пыточной дыбе отдавал себя в жертву геморрою!
Он ушел из ЦК без сожаления, даже весело, не явившись по новому месту работы. В сердце жила надежда, что, поплевав на ладони, горы свернет, найдет свое место в стремительном круговороте последних месяцев умирающей державы, которую вполне земные силы готовились безжалостно спустить в унитаз истории.
Но не знал Богодухов той степени коварства, с какой хунта партийных предателей преследовала своих идейных противников, — даже поверженных.
6
Как обычно, о неурочной встрече в «Доме свиданий» Подлевского известили накануне, что вынудило срочно перекроить деловой график.
Его жизнь состояла из бесконечной череды встреч, и он кокетливо называл себя фрилансером, ибо не имел на балансе активов, а промышлял высоким процентом с махинаций в бизнесе, с финансовых выяснюшек, со сделок по договоренностям с властью. Приятные манеры и клиповое мышление в духе нашего времени, с легкостью позволявшее подменять сущность формой, зачастую делали его незаменимым. Подлевский был не решалой, которых в своем от природы артистичном сознании уподоблял тореадорам, красочно завершавшим корриду, но классическим «нужником». К решалам он, кстати, относился скептически, зная, что эта заносчивая публика, образно говоря, не прочь подворовывать по квартирам столовое серебро. Себя он скромно причислял к пикадорам, готовящим эффектную концовку. С ним не заводили дружбу, да он в ней и не нуждался, его с лихвой устраивал колоссальный круг знакомых. Все знали, что он годится на роль смазки, облегчающей притирку контрагентов.
Подлевский намеренно не обзаводился фирменным брендом, выступая исключительно в личном качестве. Персонал имел лишь технический, зарплату выдавал в конвертах. В дешевый арендный кабинет за непрестижной Семеновской заставой клиентов не приглашал.
Это был своеобразный, если не сказать, странноватый человек. По размаху дел и знакомств мог содержать солидную консалтинговую фирму, объемом личного капитала был вровень со многими из тех, кого обслуживал: блатная жизнь дешевой не бывает. Но предпочитал играть роль фривольного любителя кружевных труселей с бахромой и девок-макияжниц, за которой просматривался жесткий, пунктуальный одиночка с таинственными и влиятельными связями. В нужных случаях он умел промолчать, чтобы потом его хорошо услышали, а иногда умудрялся незаметно исчезнуть, чтобы все обратили внимание на его отсутствие.
Помимо деловых качеств, он славился безграничной преданностью общему делу, чем и добился приглашения в «Дом свиданий», где получил возможность излагать свои густые предпочтения.
В период пионерного освоения Рублевки, когда нувориши бешено швыряли шальные деньги на сооружение кичливых «родовых замков», Подлевский со свойственной ему самоиронией считал себя начинающим сбытчиком гашиша с двумя граммами на кармане и даже не задумывался о суете на рублевской ярмарке тщеславия. Но спустя четверть века слава Рублевки померкла, и он по старой памяти, щекотавшей эмоции, возмечтал приобрести здесь стрёмный особнячок. Однако в последний момент здраво убоялся, как бы не оказаться в числе ревнителей не по разуму, и отказался от этой идеи. Подмосковные сиятельные пажити он уподобил ритуальному мексиканскому Акапулько, где селят экс-президентов. Резервация для бывших, изнаночный пир.
Но ездил Аркадий в переуплотненную Рублевку с удовольствием. Каменные джунгли причудливых четырехметровых заборов в Жуковках, контрольно-пропускные посты, закрытая от посторонних глаз жизнь тешили самолюбие, отзывались хорошим настроением, потому что Подлевский въезжал теперь сюда желанным гостем. А хорошее настроение продувало свежим ветром мозги, готовя их к четкой работе, что, по его опыту, обещало искрометные сюрпризы.
Сбор был назначен на четыре часа, и ровно в три шофер на скромном разъездном «ниссане» уже ожидал Подлевского у домашнего подъезда на Басманной. Аркадий не любил беседовать с чужими водилами и сосредоточился на предстоящем раунде, который, по его прикидкам, будет связан с новой политической ситуацией.
Домчали ровно за час, шофер пультом раздвинул высокие глухие ворота и остановился около группы людей, топтавшихся на стриженой лужайке, по которой бродили белые и черные барашки — разумеется, муляжные, гипсовые. Двухэтажная, в сером мраморе, кое-где с резцовым декором, вилла Ильи Стефановича производила солидное впечатление, хотя не входила в число жуковских изысков. Ее отличали кованые узкие балкончики на окнах — милый маленький Парижик. Настоящим украшением усадьбы было одноэтажное рубленое строение в сторонке, которое Илья Стефанович окрестил Домом свиданий. Это «заведение», с большим камином, огромными немецкими резными шкафами вдоль стен, стилизованными бочками для винных припасов, с длинным узким обеденным столом примерно на тридцать персон, и считалось «Домом свиданий». Именно здесь правдюки, как шутливо именовал гостей Илья Стефанович, вели мозговые штурмы. Не исключено, в этой уютной обстановке собирались иные люди и совсем по иным поводам. Однако для Подлевского это святилище не было просто адресным обозначением места встречи, оно несло в себе некий смысловой подтекст, конспирируя фривольным названием суть того, что происходило здесь, когда в доверенном кругу собеседники расчехлялись, реплики и мнения шли нараспашку, а порой «с плеча», круша привычные догмы вдоль, поперек, вдребезги и пополам.
Стол был накрыт не слишком изысканно, однако добротно для умеренного насыщения, поскольку многие из гостей не успели пообедать. И Илья Стефанович, сидевший в голове, спиной к камину, после нескольких реплик, связанных с разъяснением чьего-то отсутствия по уважительным причинам, без раскачки перешел к делу:
— Собсно говоря, тема ясна: после санкционной атаки амеров на Россию ситуация меняется. Уже начались бурные вербальные словоизвержения при явном запоре мысли. Особенно много чепухи струит антинаша публика — ну что взять с ветеранов Куликовской битвы! Долбят словно обкуренные диджеи. Поэтому, предвосхищая обсуждение, хочу сформулировать конечную цель: да, Россия обязана реагировать, как у нас принято, асимметрично ответить на грубый выпад Вашингтона. Властвующее сословие не вправе публично встать перед Штатами в коленно-локтевую позицию. Но!.. Господа, мы ни на секунду не можем терять из виду главное: при любой ситуации отношения с США надо сохранить на зрелом уровне. Здесь вам не тут! — играя смычком интонации, повысил голос. — Скажу напролом: важно не допустить сворачивания противостояния в области мягкой силы!
Произнеся эту тираду, Илья Стефанович слегка улыбнулся правым уголком рта, что должно было означать всеобщее понимание хода его мыслей, без расшифровки. Потом добавил:
— Мы собрались не для того, чтобы шнурки гладить. Резюмирую: мэй би любые варианты, любые политические гипермодяры, дерзости вплоть до наглости. Но в итоге никаких новых железных занавесок! Как грица, нинада! — он перешел на обиходный интернетный язык. — Вы меня хорошо поняли? — И вдруг со смехом закончил по-старосоветски: — Нам нужны такие Гоголи, чтобы нас не трогали!
Вступительный спич с ходу подхватил Денис Грук, личность писательского сословия, в порядке исключения допущенная в «Дом свиданий». Когда-то он ежеквартально кропал книжонки о благородной социальной роли ЮКОСа, прославляя нетленный вклад Ходорковского в процветание России. Да так и остался в его шлейфе — на подхвате и на содержании бывшего олигарха, более скудном. «Дом свиданий» Грук украшал носом волнующих размеров и массивной головой, которую гнедая львиная бетховенская грива превращала в необъятное вместилище разума, увы, созревшего лишь до стадии, именуемой в обиходе «квашня квашней». Зато Грук умел вставить в общий разговор трескучее мелодраматическое словцо и, с легкостью перепархивая с проблемы на проблему, словно пчела, оплодотворял мысли тех, кому было что сказать.
В этот раз он тоже завелся с полоборота:
— Эта сентенция звучала иначе: Щедрины и Гоголи. Товарищ Сталин, которому приписывают изречение, по части литературных дел испражнялся исчерпывающе точно. Помните? «Других писателей у меня нет...»
— Отдали классицизму честь, — небрежно осадил его Илья Стефанович. — А по существу?
— Первый вопрос: надо ли втягиваться в обмен ударами? А если незаметно, тихонько проглотить? — Арсений Царев из кудринского ЦСИ, мешковатый, в сиво-бурой блузе, задумчиво почесал модную бороденку а-ля Буланже. — Медведев уже успел ляпнуть об экономической войне, на то он и Медведев, Топтыгин и Торопыгин. А Кремль, похоже, готов работать по Сирии, по КНДР — словно не было новых санкций, словно не подвис «Северный поток-2».
— Мудро! — вставил Грук, взбаламутив буйную шевелюру. — Ежели каждый день думать о том, что будет завтра, с ума сойти можно, мозги лопнут.
Его глупую реплику пропустили мимо ушей, а Цареву возразил Хрипоцкий из института Гайдара, за свою манеру общаться получивший прозвище «Хаудуюду». При встрече он непременно начинал с этого англосакского вопроса, пока не нарвался на ответ какого-то русского шутника: «А вам какое дело?»
— Выжидают, только и всего, — авторитетно заявил Хаудуюду. — Европа свое слово еще не сказала. Но, зная кремлевские манеры, руку на отсечение — пакет ответных мер уже сверстан. Амеры циники не по сути, а по рождению: бьют по газу, по финансам, а космос особым пунктом из-под санкций вывели: нужны им наши движки. Пока! А нужда пройдет — ждать недолго, — тоже расплюются. Думаю, нам бы вдарить по сферам, где у них еще сохраняется интерес. Да, самострел! Но, во-первых, не смертельный, в ногу, зато мы проявим крайнюю степень решимости. В лоб нас не возьмешь. Остается только мягкая сила. Перестройка-2. А в таком деле, сами знаете, курочка по зернышку клюет, но весь двор в помете.
— Прэлэстно! Вербальная державность вкупе с экономической ущербностью? — вопросительно уточнил кто-то. — Шаблон. Селедка под шубой.
— Нихт ферштейн! — воскликнул экспансивный банкир Константин Цурукадзе. — Слушай, Хаудуюду, у тебя что, в мозгах чешется? Цирк говоришь!
Тут снова влез неугомонный Денис Грук:
— Бьюсь об заклад, никто не помнит последнюю песню убиенного Игоря Талькова. А слова сегодня звучат ой-ой! «Господин президент, назревает инцидент. Мы устали от вранья, в небе тучи воронья». Каково?
Герман Михеевич Осадчий, немолодых лет, бывший грефовский чиновный гений экономразвития, в сердце которого уже зияла пустота, а в глазах читалась усталость, по совместительству страстный пчеловод, уловил философскую линию Грука и добавил:
— Чем ближе улей к упадку, тем больше в нем трутней, это вам любой пасечник скажет. Если кто сомневается в чрезмерном нарастании на всех уровнях бюрократической прослойки, тот не ощущает главную современную тенденцию.
— Ну, хватит, хватит, — укоризненно произнес Илья Стефанович. — Как грица, дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку. Господа, переключаем канал. Ближе, ближе к телу.
По мнению Подлевского, «ближе к телу» оказались если не чугунными банальностями, то уж точно неопрятной шумихой слов и фраз, стократно звучавших либо в телевизионных ток-шоу, либо в топ-ньюс «Яндекса» либо громыхавших в однообразной канонаде «войны на перьях», которую безалаберно вели СМИ и фэйсбучные лентачи. В разных ракурсах разговор крутился как на заезженной пластинке. Возмущенцы жали на необходимость ответных санкций, что, по их расчетам, даст повод американцам продолжить экономическое давление, вынудив хозяина Кремля добровольно уйти из-за неразрешимых проблем. А уж как будет оформлена отставка, значения не имеет, тут широкий веер бюрократических вариантов. Другие, наоборот, предлагали затихнуть, утереться и искуплением вплоть до исступления и отупения под угрозой дальнейших санкций позволить амерам и дальше загонять в нашем общественном пространстве про свободу, что в итоге обернется киевским вариантом — разумеется, без майдана.
При впечатляющей велеречивости оценок суть их в конечном итоге сводилась к развилке «ответить или промолчать», а потому Подлевскому было скучновато. Он понимал, что в «Доме свиданий» собрались не первые лица, принимающие решения, а их поверенные, профи политических эскорт-услуг, в чью задачу входит изначальная обкатка грядущего политического поворота. Судьбу страны будут обсуждать на негласном закрытом форуме, после консультаций с зарубежными партнерами, и не обязательно на территории России. Идея «семибанкирщины» о поддержке Ельцина в середине 90-х вызрела в Давосе. А эта публика в «Доме свиданий», в том числе он, Подлевский, при всей серьезности данного собрания все же выполняет роль неких таиландских «лэдибоев», обслуживающих высшую касту по части ее политических запросов.
И, внимательно вслушиваясь порой в безбашенные заявы коллег по «Дому свиданий», Аркадий ловил себя на мысли, что их умозрения бьются в прямолинейной схеме противостояния США и России: как быть — гордо, с потерями для своей экономики ответить или пропустить плевок в лицо? У каждого из вариантов были свои плюсы и огрехи, однако в голове Подлевского бродила совсем иная концепция, все более овладевавшая им по мере нарастания споров, после которых «в этой речке утром рано утонули два барана».
Но он молчал, выжидая наиболее эффектной позиции для изложения своего нестандартного мнения.
Как нередко бывало, на помощь пришел Грук, — его для того здесь и держали, чтобы он нелепыми репликами иногда менял регистр дискуссии. Неспособный погружаться в глубину проблем, Грук цепко хватался за все, что могло подкрепить его титло литератора, и оживлял разговор спонтанными взрывами своей эрудиции — не всегда по делу, но порой кстати.
Хаудуюду, завершая очередной спич, мимоходом упомянул о широком наборе расхожих уроков российской истории, заявив, что пора бы провести ревизию представлений о нашем прошлом. И закончил это попутное замечание патетически:
— Закройте прошлое! Мне дует!
В реплику моментально вцепился Грук.
— Гениально! — громогласно воскликнул он, тряхнув для убедительности шевелюрой и оснастив речь изысканным непечатным вокабулярием. — Это же «Бесы»! Натуральные «Бесы»! Неужто не помните: «Кто проклял свое прошлое, тот уже наш»?
— А вы сомневаетесь, что Хрипоцкий наш? — съязвил Илья Стефанович. — Кстати, в нашей бурной беседе, а она длится около двух часов, я не слышал голоса Аркадия Михалыча Подлевского. Решил отмолчаться?
Аркадий, сидевший в середине стола, долгим взглядом посмотрел на Илью Стефановича, словно раздумывая, что и как ответить, хотя заготовленные слова рвались наружу. После паузы медленно, с расстановкой вымолвил:
— Понимаете ли, прямолинейный спор по поводу вдарить или умыться — на мой взгляд, это уровень текущей политики, отношений России и США. Между тем есть судьбоносные для России вопросы, которые формально, — я подчеркиваю, формально, — с ответом на американский демарш не связаны.
— Та-ак. Уже интересно, — прокомментировал Илья Стефанович.
Но Подлевский чутьем ухватил, что интригу надо разогреть основательнее, и начал издалека:
— Здесь говорили о русской тактике асимметрии. А где она, асимметрия? Нам тычат газовой блокадой, а мы закроем поставки разгонных космических блоков? Это асимметрия? А может, умоемся слезами или соплями — и это тоже станет асимметричным ответом? Коллеги, неужто не ясно, что на линии прямого противостояния с США никакой асимметрии не может быть в принципе?
За столом повисла тишина, ни один столовый прибор не звякнул. Краткий, четкий вывод не нуждался в комментариях и не вызывал возражений. Все напряженно ждали продолжения, а Аркадий умело затягивал паузу. Наконец Илья Стефанович не выдержал:
— Мне пока не зашло, о чем ты страдаешь.
— Я слушаю ваши премудрости и с тоской, даже с ужасом думаю о другом. Тут Хрипоцкий говорил, что в Кремле ответный план уже сверстали, там на шаг впереди бегут, такова манера нынешней власти. Согласен! Только есть маленький вопросик: по какой части план? Хорошо бы, по проблемам, о которых мы тут долбим. А если настоящая, истинная асимметрия? Америкосы рассчитывают — да и мы с вами тоже, — что Россия с ними будет бодаться или перед их натиском смирится. А Кремль возьмет да вообще плюнет на США, пошлет их к чертовой матери и займется внутренними делами. Вот она, истая асимметрия!
— Не понял, — осторожно вякнул Хаудуюду.
— А представьте, что в качестве ответа амерам Кремль поставит страну на мобилизационные рельсы. Вот чего я опасаюсь, учитывая крымский инцидент.
— Ну и что? — недоумевал Арсений Царев. — Что нам дало импортозамещение? Крохи.
— Эх, Арсений, — укорил его Подлевский. — Нюх теряешь. При чем тут импортозамещение? Мобилизационная экономика — это же новый орднунг, смена внутриполитического курса.
Тут всполошился Илья Стефанович, до которого, кажется, начали доходить опасения Подлевского.
— Ты хочешь сказать, что чрезмерное внешнее экономическое давление может обернуться новым железным занавесом?
— Я хочу сказать, что все может аукнуться гораздо хуже. Какой там железный занавес! Если Путин, прижатый к стенке экономическим давлением, издаст указ о переходе к мобилизационной экономике, то один из пунктов этого указа будет звучать примерно так: освободить ключевые посты в системе госвласти и общественной жизни от чиновников, известных прозападными настроениями.
— Исключено! — загрохотал Грук. — Это эротические фантазии. В Кремле что, припадошные? Во-первых, это нарушение закона. Во-вторых, начнется дикая судебная чехарда с массовыми волнениями. Государство ходуном пойдет.
— Дорогой Шекспир, — с улыбкой повернулся к нему Подлевский, физически ощущая внимание, с каким все ждут его ответов. — Нарушений закона не предвидится и судебной чехарды тоже. Будет указ, а возможно, даже закон, в котором смена, а вернее, замена административных кадров будет мотивирована новыми условиями и проведена без персональных разбирательств. Одних уберут — других поставят. Вот и вся недолга. А к тем, кого долой, — никаких претензий. Таковы, мол, требования мобилизационной экономики: политический курс страны меняется. Вы, отставники, делайте что хотите: можете двинуть в бизнес, умотать за кордон. Временно вам нельзя замещать государственные должности — только и всего. Временно! Короче, разовая ротация кадров, а по сути — мгновенная смена элит. Повод для этого есть.
— Нет, не пройдет! — заламывая руки, снова загромыхал Грук. — Эти неслыханные скорби идут против течения жизни, о чем писал еще Алексей Константинович Толстой. Помните? «Верх над конечным возьмет бесконечное. Сдайтеся натиску нового времени!»
Этот Шекспир, нафаршированный цитатами классиков, явно спал без тревожных снов, а наяву не задумывался над глубинными загадками бытия.
На его вопль никто не реагировал. И Аркадий, оглядывая сидевших за столом, понял, что угодил своими опасениями в десятку. Все были растеряны, лихорадочно продумывая, насколько реальна столь мрачная перспектива и как ей заранее противостоять. А Подлевский плеснул керосинчику:
— Говоря по-научному, такая асимметрия меняет социальный контракт власти и общества. Сегодня — дружба с западом при учете своих интересов. Завтра — державность на грани изоляционизма. Кстати, не исключено, что низам завершение либерального банкета потрафит. И по- крупному изменится конфигурация власти, вот и все. Причем без потрясений, майданов и судилищ.
— Да нет! Это бред какой-то! — покачал головой Герман Осадчий. — Невозможно в принципе. Как это — взять и устранить из главного управляющего слоя всю прозападную прослойку, вдобавок организационно не оформленную? Всех в выносное ведро — и в «очко»! На каком основании?
— На основании перехода к мобилизационной экономике.
— Да не сделает он этого никогда! — пробросом кинул Хаудуюду. — Не в его стиле. Он своих не сдает.
— Ну, это уже иной разговор, — возразил Аркадий. — Я говорил лишь об опасениях, не более. Об асимметричном ответе, о возможных зигзагах управленческой воли. А своих-то у него, кстати, немало, и они разные. Весь силовой блок — разве не свои?
— Мне что-то не смеется, — задумчиво произнес Илья Стефанович. Помолчал немного, потом сквозь зубы процедил: — То есть ты опасаешься наоборотничества?
Он, конечно, неспроста возглавлял «Дом свиданий», этот Илья Стефанович. Не владея серьезными аналитическими навыками, он чутко улавливал суть разбросанных, часто нелогичных разговоров, облекая эту суть в отчетливую формулу, вокруг которой и строил партитуру дискуссии.
— Да, в духе китайской культурной революции. Только бархатной, без хунвэйбинов. Думаю, многим здесь известно, а вам, уважаемый Илья Стефанович, наверняка, что китайская революция была способом выкорчевать из насиженных гнезд тот слой чиновников, который управлял страной с 1949 года, с создания КНР. По ним и пришелся главный удар. Через два года перевоспитания в деревне университетские профессора вернулись на свои кафедры, а чиновные места оказались заняты другими людьми. Такова китайская специфика: под «культурный шум» срезали прежний бюрократический слой, правивший страной четверть века.
Илья Стефанович, несомненно слышавший о подспудных мотивах китайской культурной революции, изредка кивал. Однако Аркадию показалось, что только сейчас Голова до конца понял суть происшедшего в Китае полвека назад, после чего начался подъем Поднебесной. Но тема мобилизационной экономики, затронутая Подлевским, слишком глубока, Илья Стефанович не был готов к ее проработке. Требовалось время, чтобы обсудить ее с кем-то из высоких кураторов «Дома свиданий». И председательствующий резко закруглился:
— Вот что, друзья мои. Пацанва! Коли пошла такая теоретическая пьянка, не могу не упомянуть о знаменитой пирамиде Дилтса. Суть сей премудрой концепции гласит, что никакая проблема не может быть решена на том уровне, на каком она возникла. Чтобы решить любую проблему, надо взглянуть на нее, как минимум, со следующего управленческого уровня. Посему незачем заниматься соплежуйством, считаю сегодняшний сходняк, нашу фабрику мысли архиплодотворной, но на данный момент исчерпанной. Не будем уподобляться неудовлетворенной стерве, которой не купили очередную норку. Вангую, жизнь становится все чудесатее.
Когда, с шумом отодвигая массивные дубовые стулья, поднимались из-за стола, Илья Стефанович негромко напрямую обратился к Подлевскому:
— Ты что, серьезно считаешь, что возможен бархатный вариант? Без расследований и изъятий?
— Все хуже, чем просто плохо. В этом главная опасность, — тоже негромко и адресно ответил Аркадий. — Единственная надежда, что у Него ума не хватит отпустить нас на все четыре стороны. В угоду низам контрибуций потребует. А это уже совсем иной разговор, для Него это ловушка.
7
Узнав, что Вера Богодухова из семьи бывшего инструктора ЦК КПСС, да вдобавок там еще какая-то долгая трагическая история, о чем вскользь упомянула на кладбище Ряжская, Виктор Донцов пришел к выводу, что без содействия Нины не обойтись. Серьезность намерений исключала фантазии о случайностях типа «рояль в кустах», наступать предстояло открыто, целить прямой наводкой, вплоть до сватовства.
Он позвонил Нине, пригласил пообедать в ресторан «Воронеж». Виктор любил этот затейливый ресторан с летней верандой на крыше, с окнами на храм Христа Спасителя. Не раз заседал здесь с партнерами, обмозговывая за обедом запутанные, порой деликатные мелочевки бизнеса, а при переговорных затруднениях и мысленно, и зрительно обращался за подмогой к Нему. Помогало!
Ряжская, удивленная неожиданным приглашением, тем не менее согласилась сразу, без ужимок и ворчаний. Это, во-первых, соответствовало ее простым манерам общения. А во-вторых, женщина проницательная, она своей неуловимой, неповторимой интонацией как бы намекнула Донцову, что предполагает о цели встречи, считая ее важной. Вопрос упирался лишь в проблему «стыковки», как говаривали когда-то на Раменском заводе.
— Мы с Димой по ресторанам не знатоки, — объясняла она. — Хотя не ветхожилищники, но и не с чердаков жизни. Где он, твой «Воронеж»? Сразу у «Кропоткинской»? Ну, это другое дело. Значит, стыкуемся у выхода из метро... Да! А там наш плитколюбивый мэр еще не все перекопал?
На лифте они поднялись на третий этаж, стол был уже накрыт, и Донцов с наслаждением плюхнулся в любимое кресло. Храм как на ладони!
— Да-а, давненько мы с Димой по ресторанам не шастали, — улыбнулась Нина и пустилась в рассуждения. — Дело даже не в бюджете, — в настроениях. У молоди, вот возьми двух наших балбесов, развлекалова невпроворот, двумя руками новизну загребают. А я, Кувалда Иванна с поклажей в декольте, матрона Рубенса, — кивнула на свои мощные груди, — куда? Для тебя, Виктор, рестораны — место работы, деловых встреч, у тебя походный строй жизни. А мы с Димой? В кино, где парни с девками обжимаются? Не комильфо. Не театралы, не музейники, бьемся об углы жизни, не до увлечений. Компаниями, как раньше, не собираемся, кухонные сходки давно не в чести. Чем свободный вечер занять? Когда сезон, дача спасает. А то сидим, два истукана, перед ящиком, где возобладал сорняк из гнилоустов, плюемся на политических активистов средней руки, этих аристократов захолустья. А срам да гниль, шушеру прикультуренную из «бохемы» вообще не смотрим.
— Их теперь причисляют к страте «бобо», богемной буржуазии, — ворвался Дмитрий. — А медицинские передачи она знаешь как называет? Здравозахоронение.
Нина поняла, что увлеклась абстрактными рассуждениями, закруглилась:
— Все наше поколение так живет. Даже удивляюсь, что спившихся мало. Обстановочка-то располагает.
— Раньше хобби согревало, — подхватил Шубин. — А сейчас даже само словцо сошло на нет. В нашем поколении да в конструкторской среде духовные позывы умерли. Чего только не собирали, чем только не равнялись! — Казалось, он утопает в объятиях любимых теней прошлого. — Ныне только коммерция, рублишко сшибить редким значком.
Слушая тоскливые жалобы, Донцов вдруг поймал себя на мысли, что сам-то живет такой же скукой. Отыми у него бизнес, требующий круглодневной заботы, и останется он пустым, голым — даже при деньгах. Что делать? Шляться по ресторанам до белой горячки? Ветреничать на тусовках или в Куршевеле, где девочки на силиконе открывают лыжный сезон охоты на папиков, вызывающе полунагие, откровенно доступные, рождая не желание, а отвращение? Странно, общаясь с Ряжской и Шубиным, людьми иного круга, Виктор ощутил такое глубокое понимание их настроений, что невольно высказал заветное:
— Вас двое! Вдобавок единое миропонимание. Друг друга и спасаете.
— Так и есть! — охотно откликнулся Дмитрий.
Но Нина — ох уж эта Ряжская! — проницательно добавила:
— Витюша, я ведь соображаю, чего ты нас вызвал. Дело серьезное. серьезней, чем ты сам полагаешь. Вера Богодухова не просто алмаз иль бриллиант, она, дорогой мой, человечек особой душевной стати. В мыслях кличу ее «Святочный ангел». О внешности не говорю; платье не в пол, умеет себя преподнести. Но устои незыблемые. Настоящий русский случай. И что ты на нее глаз положил, я рада. Перед Господом за тебя поручусь — не за дела твои, коих не знаю, а за твою верность России. Зря, что ли, мы в Раменках об этом до ночи говорили-спорили?
— Как ты догадалась? — поразился Донцов.
Но Ряжская продолжала свое:
— Да, рада. Вере такой и нужен. Но задачка трудновата, не знаю, как подступиться. Сватовство у нее не в почете. К тому же Катя Богодухова недавно шепнула по телефону, будто у Веры кто-то возник.
Разговор пошел сам по себе.
— Знаю, знаю, Нина. Есть у нее ухажер.
— Знаешь? Откуда? Кто? — орлицей налетела Ряжская.
— Сам этого хлюста с ней видел. Он ее на похоронах Степан Степаныча присмотрел.
— Он был на похоронах? — хором воскликнули Нина и Дмитрий.
— Случайно прибился. Спросил меня, кого хоронят. Я буркнул: Соколова. А он: уж не Соколова ли Ряжского?
Нина и Дмитрий, ошарашенно глядя друг на друга, побелели от волнения, — полотно!
Минуты две молча переваривали услышанное, что-то прикидывая. Потом Ряжская, уняв эмоции, спокойно, — слишком спокойно, почти безразлично — сказала:
— А ну-ка, ваше сиятельство, расскажи, как все было, да подробнее, в деталях. Мы сообща попробуем его вычислить.
— А чего вычислять? Я о нем справки навел. Делец, игрок, хищная личность. Подлевский Аркадий.
— Подлевский! — вместе ахнули, даже как бы взвыли Нина и Дмитрий, с ужасом глянув друг на друга. Они были в шоке.
Донцов понял, что заранее обдуманный «протокол» застольной беседы с замыслом через Нину познакомиться с Богодуховой летит в тартарары. История не просто перерастает в какую-то невероятно сложную жизненную ситуацию, а, видимо, оборачивается трагедией со множеством темных противоречий. Сразу сработал инстинкт умелого бизнес-переговорщика. Чтобы остудить страсти, предложил:
— Вот что, друзья. Чую, тема глубже, чем я полагал, потому давайте сперва закусим, винца пригубим.
— Нет-нет, — отрезала Нина. — Никакого винца не будет. Такие разговоры только стрезва. И еще. Ты же должен помнить старую пилотажно-космическую заповедь: делать быстро — это значит действовать медленно, обдуманно, однако без перерывов, безостановочно; без суеты, но без пауз. Проверено жизнями: такой метод сводит ошибки к минимуму.
Однако на салат «Цезарь» с креветками Нина и Дмитрий спикировали словно по команде, хотя не исключены были подстольные указания мужу. Впрочем, вкуса пищи они явно не ощущали, а молча жевали, похрустывая сухариками, чтобы выиграть время для анализа, продумать внезапную кризисную коллизию. Наконец Ряжская резко прервала трапезу:
— Витя, говорить вполовину мы не будем. Все скажем. Но ты — могила! Если шевельнешься до срока, быть страшной беде. Я баба простая...
— Проще некуда, — усмехнулся Донцов. — С твоими-то пониманиями...
— Печенкой чую, что за этим треугольником — ты, Подлевский, Богодуховы — стоит гораздо большее, чем личные судьбы. Га-а-раздо! Через эту запутанную, словно нарочно придуманную головоломку — тут, друг ситный, запах серы унюхивается, тут все неспроста! Понял? Грядущая история России угадывается. Не решается, оно понятно, а именно что проглядывает. Покажет это дело, как вся наша жизнь повернется.
— Понимаешь, Виктор, — разобъяснил Шубин, — эта Ряжская, она... как бы вернее сказать... В общем, есть, есть у нее общения с высшими силами, — кивнул на храм Христа Спасителя. — Сколько живем, всегда вперед да вширь смотрит. Чуткая к голосу судьбы. На заводе это знают, авторитет у ней всегда был. А сейчас-то, после всего, что сбылось по ее предчувствиям, даже наши кибердиссиденты со средним высшим образованием ее Вангой кличат.
— Да ладно тебе, — отмахнулась Нина.
— Нет, не ладно, — настаивал Дмитрий. — Знаешь, за что она Окуджаву не переваривает? «Тихий треп о том о сем мы с собою унесем».
— А он и есть «Тихий треп»! — взорвалась Ряжская. — Приземленец! Философия подворотни, пусть и арбатской. А «Бумажного солдата» вовсе не приемлю. Такие солдаты, без ружей, с лопатами, в сорок первом Родину спасли. Шли в огонь, забыв о смерти.
Донцов механически кивал головой, с мольбой о помощи глядя на храм Христа Спасителя, и запоздало отреагировал на удивившие его слова:
— Что значит среднее высшее образование?
— А то и значит: образование не хорошее, а именно что среднее. Знаний на троечку. Полуфабрикаты. Долбонавты. Нас-то лучше учили. Недавно прислали мажорку — на «порше» ездит! — так она с пилкой для ногтей не расстается. Временные люди. Наша местня в шоке. Так и хочется послать эту мажорку подальше, да жаргоном с половыми извращениями. А еще лучше элитку эту — розгами, вымоченными в соленой воде, да по филейным частям. Чесслово.
Виктор не перебивал, не форсировал. Он понимал, что легкий треп как бы оттягивал предстоявший тяжелый разговор, позволяя Ряжской и Шубину покрепче подготовиться к объяснениям.
Наконец рычаги управления разговором твердо взял Дмитрий, отодвинувший блюдо с початым «Цезарем».
— Начинать, Нина, надо издалека, — уверенно сказал он. — С фамилии. Для тебя, Виктор, те похороны были событием скорбным, но рядовым. На самом же деле они символические, даже сакральные. Кем был Степан Степаныч? По титулу бывший инженер-конструктор космического завода, хотя свой вклад аж в полет Гагарина успел внести. Но почему он, с колыбели Соколов, добавил фамилию жены? И обрати внимание — когда? В самые худые перестроечные годы. Однажды за домашней настойкой — Нина умеет! — я спросил. А он: эх, Дима, неужто не понимаешь? Это мой заводской приятель Подлевский, — Дмитрий сверкнул глазом на Донцова: «Запомни фамилию!» — надо мной подсмеивался. Я молчу. А он: по первым буквам Степана Степановича Соколова-Ряжского прочитай. Что получится? СССР! Чую, рушится держава, а без нее и мне не жить. Когда настанет сон без меры и пробуждения, в лоне бесконечности, хочу, чтобы на могиле моей потомки читали: «СССР». — Дмитрий коснулся салфеткой глаз. — На доске могильной, говорит, выбейте так, чтобы заглавные буквы хорошо виделись. Я, говорит, из гроба гляну проверю. Вот, Виктор, кого мы хоронили. Ты и не заметил, а для нас то были символические похороны прошлой страны. Все! Умерло былое. Другая жизнь вступила в свои права.
— А Подлевский твердил, будто отец среди Соколовых хочет особняком значиться, — вступила в разговор Нина. — Они же в Раменках работали рядом, приятельствовали.
За столом установилась тишина, и Донцов понял, что безопасная, нейтральная часть разговора завершена, Ряжская ищет повод перейти к главному. Подтолкнул:
— Ну ладно, это про Степан Степаныча. А Богодуховы?
Минута — и на него в два голоса обрушилось нечто такое, что заставило Донцова понять: волею судеб он оказался в сердцевине бесовски закрученных событий, исход которых, имея частный интерес, отразит суть скоро грядущих в России исторических процессов, способных определить образ будущего, над которым бьется ныне не только Кремль, но каждый честный человек, страдающий о России. Чуть ли не физически ощутимая связь между личной судьбой и взыскуемым российским поворотом поразила Донцова. В трагические взлеты повествования он мелко, едва заметно крестился на храм Христа Спасителя, вымаливая силу и стойкость для предстоящей духовной брани, от которой — это он знал точно! — ему не устраниться.
А Ряжская и Шубин, вырвавшись из тюрьмы, замуровавшей их память, нарушив мораторий на воспоминания, отбросили табу. Неровно и нервно, перебивая, дополняя, поправляя друг друга, они горячо, болезненно, едко выплескивали наболевшее, освобождаясь от груза, много лет давившего их, не стесняясь и обжигающего кипятка. Они искренне, до санобработки собственных душ исповедовались. Но исповедь шла не обрядовая, не об искуплении. Истово колотились они о том, чтоб не сошли на нас еще более тяжкие злополучия, чтобы устранилась от дел, говоря их словами, «шваль мироздания», натворившая столько бед, чтобы скорее сошло помрачение национального сознания и завершился в России затянувшийся государственный «тяни-толкай», при котором великая держава топчется на месте.
— Не дай бог на своих же соплях снова поскользнуться! — разбушевавшись, в раже воскликнула Ряжская и наглухо смолкла. Выгорела эмоционально.
Позднее Донцов не раз прокручивал в памяти ту горячую трагическую исповедь, которая укрепила его умозрение, определив главную цель жизни, счастливо объединив личную сердечную страсть и высокий замысел о будущем России. Суть драмы, разыгравшейся в семьях Богодуховых и Ряжской, на первый взгляд выглядела типичной для краха народного самосознания в токсичные девяностые годы. Однако было в ней столько умопомрачительных, трагедийных, символических совпадений и нюансов, что это грозное скопление случайностей выделяло ее из лавины потрясений, пережитых миллионами растерянных, вышибленных из колеи людей в тот угарный, «фастфудный» период русской истории.
Даже начинался крестный путь Богодухова при особых обстоятельствах. После распада Союза тот, против кого публично поднял голос Сергей и кого числили архитектором перестройки, свел счеты с бывшим инструктором ЦК КПСС мстительно и жестко. После слома системы оставшийся на орбите верховной власти хромучий «идеолог в законе» отрезал Богодухову пути к государственной службе.
Но неспроста очень тонко подметил когда-то мудрый Карамзин, что «русскую историю надо уметь читать между строк». При таком чтении выйдет наружу и навсегда останется в сознании соотечественников истинное коварство «творцов» перестроечной истории. За фальшивым фасадом демократии, гласности, свободы мнений кипели низменные вандальные страсти, судя по сообщениям СМИ, одобренные просвещенными иллюминатами из Бильдербергского клуба.
Речь не шла о примитивной расправе со строптивым, лично неугодным бывшим партаппаратчиком. В ядре верховодов перестройки, перевертышей, маскировавших свое недавнее прошлое, вызрел негласный сговор, принявший форму концептуальной доктрины, — по сути, ку-клукс-клан на иной лад: «Смолой и в перья!» В отношении «недружественных лиц», тех, «кто не с нами», в новый управленческий слой была внедрена повелительная установка: лишить заработка! Пусть живут как могут — если выживут. Случайно ли в тот мрачный переходный период на людей, оставшихся не у дел, «вскипяченных» всеобщим крушением, часто ниспадал тяжкий грех отчаяния. Разразилась эпидемия самоубийств.
Сергей Богодухов просто попал под раздачу, оказавшись на самом дне великой чаши бытия, в углу жизни, у параши.
Но беды не спеленали его волю. Наоборот, побудили отбросить житейские страхи и фобии, искать пути выживания. Осознав, что экономика дала течь надолго, что новая жизненная ситуация — навсегда, Сергей, согласно бессмертному указанию классики, «переквалифицировался в управдомы». И, подобно тысячам инициативных, сильных духом людей, не готовых смириться пред судьбой, двинул в челночный бизнес — за прибыльным красным товаром.
Обзавестись напарником не составляло труда — Димка Шубин, друг студенческих лет, близость с которым еще более окрепла после свадебных приключений: жены тесно сошлись взглядами на устройство жизни и семейные ценности. Когда перестройка выдохлась и ходуном пошло государство, когда многие, условно говоря, по сокращению штатов были уволены из привычного быта, Нина и Катя покупали муку и в заполошных буднях сами выпекали батоны в газовых духовках, что дешевле, чем брать их в булочной.
При сосущей нужде последняя копейка, и та ребром стояла.
В ту смутную тупиковую постсоветскую пору, когда Россия погрузилась в сумрак, а поднимать клин на поле жизни стало невмоготу, предложение опробовать горемычную челночную авантюру легло Димке на душу сразу, без колебаний. В чаду иллюзий и по русскому обычаю «авось, небось да как-нибудь» они с трудом наскребли долларов у знакомых, запаслись списком покупок, составленным женами, и после мучительного оформления первых в жизни загранпаспортов ринулись за мелкой монетой судьбы — в незнаемый Стамбул.
Та шальная крайсветная одиссея вышла боком. Каждому свое, а Богодухов с Шубиным, без торговой смётки, безъязыкие, скупали не то и по завышенным ценам, однажды заблудившись в дебрях бесконечного стамбульского базара, впустую потеряв драгоценный день. Вышел у них четверг впереди среды, взяли свинью за жабры, в заграницах только обувь истрепали.
Стояла поздняя осень, погода — глухое предзимье. На обратном пути после злых дождей Москву некстати накрыл короткий снежный буран, и самолет приземлили в Киеве. Но у Незалежной свои порядки: пассажиров — сплошь челноки! — не выпустили из погранзоны, с багажом загнали в обшарпанный зальчик ожидания. Народ отборный, но предельно истощенный недельным шоп-туром, каждый — в себе. Когда мужики кантовали огромные баулы, жилы на шеях опасно вздувались до шпагата. На женщин с неподъемной кладью, челночивших в одиночку, страшно смотреть.
То была ныне подзабытая народная эпопея. Вышвырнутая рыночной похабелью с насиженных гнезд, восстала из небытия упорная русская старина и, не думая о самосохранении, ринулась нехожеными тропами, чтобы прокормить семью. Никто не заботился о внешности, изможденные, пройдя через нецензурные мытарства, они были толпой одиночек. Но в те окаянные дни отважное челночное племя, не жавшееся к печке, дравшееся за будущее, во многом спасло корчившуюся в рыночных схватках страну. То был поначалу не понятый — сколько насмешек! — памятный эпизод народной русской истории, стоящий в одном ряду с вагонными мешочниками военных и первых послевоенных лет, когда люди на своем горбу из конца в конец огромной страны везли припасы для пропитания попавшей в беду родни.
Богодухов и Шубин вернулись без радостей, считай, из сапог в лапти переобулись. Когда жены, сопоставив траты с возможными доходами, подвели плачевный итог, мужики раздавили на богодуховской кухне бутылку «Бехеровки» и любивший пофилософствовать Сергей сказал:
— Нет, не своим делом мы занялись. Рысью пахать стали, евнухи взялись учить Потемкина. Скажи, Димыч, где мы? На пустоши или на пустыре?
— Не понял.
— Могу спросить иначе: что сейчас важнее — размышлять, откуда идем, или думать, куда идем?
— Дважды не понял. Об чем речь?
— Ну, по поводу куда или откуда — разговор особый, нашим мозгам его сейчас не поднять. А вот о пустоши или пустыре... Если мы на пустоши, деться некуда — надо ее пахать. Ехать в Турцию снова и снова, пока печаль на радость не переложим. А ежели мы на пустыре, то его надо новьём застраивать. В общем, пахать или строить? Вот они, главные сомневансы. Но если строить, то как оживить русскую сказку-мечту, где справедливость идет рука об руку с нравственностью?
В тот раз они ни о чем не договорились. А еще недели через две в квартиру Шубиных на проспекте Мира ворвался взбудораженный Богодухов. Сбивчиво, забегая вперед и возвращаясь к началу, он рассказал, что ему удалось набрести на клондайк. Кто-то из прежних знакомых проговорился, что недавно из Америки к нам завезли партию редких гумусных червей, которые плодятся несметно, как роковые яйца у Булгакова, вырабатывая небывалый по плодородию почвенный слой. Для новоявленных фермеров это истинный клад, на таком жирном гумусе получают по три парниковых урожая в год. Если Шубин войдет в долю, через неделю можно основать в Одинцовском районе «червячную ферму» — полутеплый сарайчик. А больше ничего и не нужно.
— Денег тоже не нужно? — съязвил Дмитрий, ушибленный стамбульской неудачей.
Богодухов обиделся на подначку, но терпеливо принялся разъяснять, что небольшой капиталец необходим, во-первых, на приобретение «маточного поголовья» заморских чудо-червей, во-вторых, на комбикорм для них, в третьих — копейки на аренду сарайчика.
— Сколько? — в лоб спросил Шубин, по-прежнему держа в уме убытки от челночного бизнеса.
— Точно сказать не могу, вопрос в стадии изучения. Но главное, Димыч, рядом с гумусным бизнесом есть люди, готовые дать кредит.
О дальнейших переговорных перипетиях Шубин рассказывал бегло, откинувшись в кресле, прерывисто дыша, как бы заново переживая былую трагедию. Ряжская отрешенно глядела в окно, опасаясь лишним словом усугубить душевные терзания мужа. А Донцов, догадываясь о подвохе, думал о том, сколь наивны были эти неискушенные люди, с разбегу нырнувшие в бурные воды рыночной стихии, где властвуют коммерция и кредит.
— Надо было знать Серегу! — с болью воскликнул Шубин. — Без душевного запала, без азарта за дело не брался. Почему у него все получалось в прежней жизни? Других умел увлечь, вот его сила. Ну и я, сам понимаешь, пал жертвой. Хотя Нина не советовала, имела предчувствия. Да разве нас с Серегой остановить?
Донцов без пояснений понимал, что завершилась гумусная авантюра стандартно и плачевно. Но в его бизнес-голове с четким логичным мышлением не могли возникнуть предположения о трагических изворотах этой истории, которые вскрылись через несколько минут.
Технологию разведения диковинных заморских «зверей» мужики соблюдали ювелирно. Дьявольские черви оказались чудовищно прожорливыми, хотя плодились с неимоверной быстротой, образуя горы гумуса. Сперва «фермеры» ликовали: получилось! Однако вскоре энтузиазм стал угасать: затор возник на сбыте. Возврата денег не шло. «Хваленый хуже хаянного!» — однажды ругнул Богодухов американский гумус. К тому же широко раздутое Ельциным фермерство забуксовало — в двери одинцовской сараюшки покупатели не ломились.
А гималаи гумуса угрожающе нарастали.
В этой точке повествования Шубин сделал большую паузу, как бы давая возможность продолжить рассказ жене. Но Ряжская — Виктор в очередной раз подивился ее умению тонко понимать ситуацию — вместо развития темы сказала:
— Димуль, ты сперва к началу вернись.
— Какому началу?
— Ну как же! Там ведь все перемешалось. Про отца, про завод.
Донцов недоумевал: при чем тут завод? Снова подумал: «Мудрая женщина, сбивает накал эмоций».
Дмитрий и впрямь успокоился, речь пошла о событиях заурядных — обычный для тех лет развал оборонного щита России. Раменский завод погрузился в спячку, формально вроде жил, но заказов не стало, финансирование обнулили, зарплату задерживали, народ стал разбегаться — Шубин тоже сиганул в челноки. Степан Степаныч тяжело переживал закат заводского КБ, однако решил держаться до последнего. А приятель его Подлевский незаметно, без прощаний и объяснений, с завода исчез, растворившись в «таежных джунглях» новой жизни. Соколов-Ряжский пытался дозвониться ему по домашнему телефону, но в квартире Подлевских поселились другие жильцы.
— С концами исчез парень, — сетовал Степан Степаныч. — А жаль, конструктор толковый, башка у него варит.
Шубин повернулся к жене:
— Все вроде сказал? Теперь снова про червей?
— Да нет, не все, — возразила Нина. — Ты же сам говорил, что однажды видел Подлевского в шикарном авто с шофером. Отец тебе не поверил, сказал, что ты обознался.
Дмитрий почесал в затылке:
— Верно, было такое. Спорить со Степан Степанычем не стал, но я-то знал, что не ошибся. Он это был, он!
Снова вернулся к злосчастным гумусным червям:
— Понимаешь, Виктор, на челночную авантюру мы одолжили у знакомых. И хотя в минус вышли, основную часть долга вернули с ходу, а потом расплачивались в рассрочку. Да и суммы были небольшие. А за разведение гумусных червей надо платить сразу, и, по нашим понятиям, немало. Вот нас и вывели на коммерческую структуру, готовую дать кредит под умеренный процент ради развития в России фермерства. А когда мы гумусом затоварились...
И тут взорвалась Нина:
— Они денег и не видели. За них заплатили, а им маточным поголовьем выдали да плюс самосвал комбикорма. Я когда узнала, сразу поняла: афёра! Черви эти заморские и кредиторы — повязаны. Как карасей в пруду, наших мужиков на живца взяли.
А дальше началось страшное: требовали вернуть кредит, «поставили на счетчик». Лихие парни звонили по телефону, приезжали вечерами в квартиры Богодухова и Шубина — сперва увещевали, потом пошли угрозы.
Кривясь, словно от зубной боли, Дмитрий говорил:
— Я Нине не верил, что гумусники и кредиторы между собой связаны, не в моем это понимании, не допускал такого.
— Да «не между собой связаны», а одна банда! — нажимала Ряжская.
— Но однажды... Понимаешь, приехали к нам трое матерых мужиков с угрозами, и одного, горбоносого, я узнал — он червей в Одинцово привозил. Тут я и понял, что дела наши плохи, ежели они общий интерес скрывать перестали. А особенно они на Богодуховых жали. Серега как-то вечером закатил к нам — лицо серое, глаза провалились. Впервые водки потребовал. После неполного гранёныша полчаса молча в кресле сидел, потом говорит: «Сказали, чтоб через неделю квартиру на них перевел. Тупым напильником по душе прошлись ультиматчики».
— Квартира-то в цековском доме, — перехватила разговор Ряжская. — По тем временам высший класс. Они губу и раскатали, все ухищрения зла в ход пошли.
— Серега и говорит, — продолжал Шубин, — ты же знаешь, как у меня совпало. Дом 16, квартира 75. А у отца паровоз был за номером 1675. Как ее отдать? Они про комнатку в пригороде говорят, угрожают Верку похитить. Бесчиние! А я в это оголтелое время — кто? Помёт эпохи... Может, Верку к дальним родственникам в Тулу отослать? Остается, говорит, действовать по обстоятельствам момента. Да, по обстоятельствам момента! Так и нажал. За полночь от нас ушел. А в шесть утра звонит Катерина...
— Как начнешь припоминания бакланить, у меня душу буравит, — вскипела половодьем чувств Нина. — А главное опять упускаешь.
— Что главное?
— Забыл, что Сергей говорил в тот вечер? Пытался с теми аферистами столковаться, все отдать, кроме жилья. А они: нет, эта хата шефу понравилась, он не отступится. А шеф тоже приезжал — раньше. Сергей его сразу угадал: на возрасте, в очках, залысина, воротник пиджака стеной, склад речи культурный, не брехливый, без словоизлияний заборных, иногда с ма-аленькой запинкой... — В сердцах махнула рукой, резко закончила мучительный разговор: — В общем, наутро Богодухов с седьмого этажа. — Перекрестилась. — Прости его Господи! Семью, квартиру спасал. Великомученик неудобного времени.
Потрясенный Донцов молчал, медленно осознавая услышанное. А Ряжская уже снова тараторила:
— Но мы-то следующие, как пить дать. Я к Катерине умчалась, а Димка — к отцу-матери за советом. Ну, вопрос решили сразу: черт с ней с квартирой, переедем с ребятишками к родителям, в тесноте, да не в обиде, зато приют от ненастья. Игра нам не по карману. Вот и перебрались с проспекта Мира в Перово.
— А теперь ты про главное забыла, — укорил Дмитрий.
— Да! — спохватилась Нина. — К нам закопёрщик этого злоумышления не приезжал. Но по сережиному описанию отцу навеялось неладное. Спрашивает потом у Димки: говорил, воротник пиджака стеной, затылок закрывает? И с запинкой? Потом велит Димке: а ну-ка, проверь. Сколько мне кажется, уж не Подлевский ли? Вбрось мимоходом фамилию. Ну, Димка при очередных переговорах и просит: мне бы с Подлевским встретиться, может, договоримся. Они сразу: откуда фамилию знаешь? Кто сказал? Димка на Богодухова и свалил — поди проверь. А когда отцу рассказали, пришлось неотложку вызывать. Едва очухался, шепчет мне: бандитам ни за что не говорить, что ты Ряжская. Ему житейская сноровка всегда помогала, отцу. Он понял: если Подлевский в криминальные прибыльщики подался, — чтоб концы в воду, он на нас генеральную облаву объявит.
— Я-то как Шубин у них числился, — поддакнул Дмитрий.
В сознании Донцова поначалу бушевала неразбериха. Подлевский, Подлевский... Выходит, судьба повернулась так причудливо, что нынешний ухажер Веры Богодуховой — сын человека, дьявольски погубившего ее отца. Немыслимое стечение обстоятельств! Вот это коллизия! Но о ней никто не знает, тайна волею случая открылась только ему, Ряжской и Шубину. Вот почему Нина требовала: «Шевельнешься до срока, быть большой беде». Оно и верно, жутко представить, что может произойти, если страшная тайна обрушится на Богодуховых.
По мере осознания происшедшего двойная ответственность наваливалась на Донцова: так «раздеть» Подлевского, чтобы криминальный капитал отца стал общеизвестным, тогда вышедшая наружу тайна объяснит всё и вся. Но как это сделать? Как вскрыть конвертацию криминального хапка начала 90-х в теперешнюю кичливую силу денежной власти? Фамильный промысел тех «игроков» продолжается, и без всякого беспокойства для совести.
Донцов, искушенный в закулисных интригах нового времени, понимал, что речь не может идти о личном единоборстве, унылом фарсе на манер интриг графа Монте-Кристо. Снова все указывало на то, что его сердечное влечение окажется в одной «упряжке» со всеохватными событиями, надвигающимися на страну, будет связано с глубинной борьбой, в которой он и Подлевский противостоят друг другу. Именно глубинной, ибо различимые глазом зыбь и рябь возникают лишь на медийном мелководье, а главные течения пересекаются подспудно и неявно, в потаенных, формах политической жизни. Американцы эти неофициальные слои власти называют «deep state» — глубинное государство.
Между тем Ряжская и Шубин, не утомленные, а изнуренные трудным разговором, вяло домучивали десертный «наполеон» с капучино. Но продолжали обдумывать открывшуюся тайну. Наконец Нина, решительно отодвинув блюдце с пирожным, благомысленно, без желчи ожесточения, скорее с грустью поставила точку:
— Хватит! Мы не трапезолюбцы! Чуяла, что с Богодуховыми будет непросто. Но чтоб до такой степени... Подлевский всплыл! Давай, Виктор, твердо условимся: по линии Богодуховы — Подлевские всегда будем на связи, ничего без согласования не предпринимать. Ни-че-го! Иначе, друг ситный, от этой неудобной правды, как в народе говорят, пятки подрумянятся, пожар займется. Стихийный напор жизни сам все на свет божий вынесет.
Виктор, глядя поверх ближайших целей, утвердившийся по части своих жизненных намерений, ответил спокойно, уверенно:
— Суетиться не будем, это факт. Ты, Нина, Богодуховых попусту не тревожь, интереса к вериным планам не проявляй. Но если ненароком ее мать что важное скажет, сразу звони. А я, как договорились, — могила!
8
В аппаратных структурах Застенья, как элита, приближенная к власти, в обиходе нарекла административный Кремль, подготовка к президентским выборам 2018 года шла с усердием, порой переходящим в надрывные срывы. Особых хлопот доставлял поиск «громкой» формулы для кандидатской программы, получившей название «Образ будущего». По этой теме Застенье перешло на авральный режим.
В умах кремлевских смысловиков и придворных приват-доцентов, а также тех, кого привлекли для пропагандистских эскорт-услуг, модель будущего России идейно не вытанцовывалась. Решительные движения власти подменялись очередными уверенными надеждами — вроде упований на дюжину молодых губернаторов-технократов, которые непременно наладят обстановку в стране. Образ будущего России, предполагавший целостное понимание грядущего, переустройство народной жизни и державный рывок вперед — «Новый курс», даже не обсуждался. Не выделяли такие важные разделы, как будущее государства, будущее власти, будущее Родины, куда входила идеологическая составляющая. В корне изменились стилистика, символика, суть мотивации, однако постановка вопроса сводилась к рецидиву старозаветной, казалось, давно утилизованной хрущевской торговле будущим, сулившей прошлым поколениям коммунизм, вместо которого в Москве провели Олимпийские игры. Это юркое соскальзывание к набору цветистых вариантов продажи завтрашнего дня пытались маскировать волшебством цифровой экономики или социальными лифтами для новых лидеров, где лифтерами оставались заводилы 90-х, чуравшиеся нового курса и готовившие себе смену.
Не просто было и с явкой. Изначальный кавалерийский замах на 70 процентов уступил место скромным расчетам, и по команде из Кремля интерес к этой теме в СМИ угас. Хотя губернаторы отлично понимали, сколь пристально наверху будут изучать явку в регионах.
Однако в целом тронная ситуация была очевидной, тревоги, даже легкого беспокойства предстоящие выборы не вызывали, требуя лишь усилий по их теоретической оснастке — пропагандистский муляж «образа будущего», покрытый туманом возвышенных слов! — и технического обеспечения голосования. Не нервировала Застенье и общая ситуация. Наличие конкурентов от думских партий, а также шоуменши из «Дома-2» лишь наращивало явку. Внесистемной оппозицией можно было пренебречь. Самое же существенное коренилось в том, что административно-деловую элиту страны и модных корифеев совриска — современного искусства — кандидат Кремля вполне устраивал.
А явка... При хорошей явке ударим в медийные тимпаны и литавры, при посредственной замылим тему в СМИ. Слабая явка исключалась в принципе. Но в случае крайней необходимости («не за туда голосуете») орги, как на бюрократическом жаргоне называли орговиков, подключат админресурс.
Исходя из этой ситуации, Борис Хитрук отстранился даже от косвенного участия в подготовке выборов, априори считая, что вопрос решится наилучшим образом. Его не раз пытались подключить к одной из групп, потевших над «образом будущего», однако он отказывался. Не из принципа, хотя, откровенно говоря, его не влекла перспектива лукаво «ездить по ушам» соотечественников. Причина отказов в том, что концептуальных задач перед разработчиками программы не ставили, но именно он, Хитрук, как раз и занимался будущим России — не в предвыборном плане, а по существу. Хотя конкретные итоги пропагандистского банкета 2018 года представляли для него большой интерес, ибо напрямую были связаны с темой, которой он занимался и которая касалась обустройства России после 2024 года.
Человек малоизвестный — практически вообще неизвестный! — в широких обывательских кругах, Хитрук обладал колоссальными связями в аппаратной среде, с видными персонами которой лайкался холодным чмоком в щеку. Его почтительно приветствовали рукопожатные личности, проходившие по разряду селебрити. Кроме того, Борис Семенович Хитрук обладал «вездеходом» — допуском в любое госучреждение — и мигалкой на служебном «ауди». Хотя формально числился лишь советником председателя правления одного из крупных российских банков.
Не имея отношения к финансам, он не вмешивался в банковские вопросы. У него не было статусных обязанностей, Хитрук занимался комплексом дел, о которых понятия не имели коллеги-финансисты. Как не знали они, что у председателя правления есть закрытый финансовый фонд, распорядитель которого — Хитрук.
Разумеется, его особый статус интриговал старшее звено банковских заправил, и некоторые полагали, будто Хитрук внедрен по линии Федеральной службы безопасности — «смотрящим». Такие суждения Борис Семенович не опровергал, его устраивал «секретный» имидж. Однако на деле все обстояло иначе: Хитрук не имел отношения к ФСБ, но периодически контактировал со Службой на предмет получения информации, а иногда направлял на Лубянку рекомендации, которые рассматривали на солидном уровне.
Для Хитрука скромная банковская должность — неприметная, не на слуху, не престижная — была удобным «схроном». По такому же принципу — не только в банках — власть на почтительной дистанции от себя разместила еще несколько живых «датчиков», в постоянном режиме изучавших состояние общества, предоставив им свободу маневра, не загружая повседневной текучкой. Хитрук в этой нелегальной группе был одним из ценных кадров. В его задачу входило загодя распознавать назревающие политические и общественные процессы, чтобы подавать о них сигналы правящему слою.
У него была редкая профессия: он работал в «тылу» завтрашнего дня.
Поздней осенью — считай, предзимье — Хитрук собрался на Южный Урал. Он любил и умел исподволь готовить такие вояжи, позволявшие с головой нырнуть в бездну региональных настроений. Заранее засылал на «точку» передовую группу, чтобы составить детальный план предстоящих встреч, скрытых посещений местных тусовок, а также разведать, где у местной власти «башмаки жмут». Впрочем, «группа» — громко сказано. Жизнь показала: чтобы не привлекать внимания к своей персоне, — «К нам едет ревизор!» — полезнее авангард из одного человечка, о полномочиях которого губернатору сообщали из Кремля.
Но подыскивать толковых исполнителей было непросто. Требовались люди тертые, умеющие держаться в тени, но коммуникабельные, а главное, дорожащие услугами Хитрука — лучшая гарантия от утечек относительно его истинной миссии.
Поразмыслив, Борис Семенович «десантировал» на Урал Аркадия Подлевского, которого выудил в «Доме свиданий», а потом пригласил отобедать тет-а-тет в библиотечном зале кафе «Пушкин», полакомиться стерлядкой в икряном соусе. Подлевский подходил по всем статьям: глядит Наполеоном, но охотно клюнул на «подряды», обещанные Хитруком, позволявшие неплохо заработать. Примеси порядочности у собеседника Борис Семенович не уловил — явно ищет, где маслом гуще намазано. Единственное его условие: для облегчения местных контактов взять с собой гражданскую жену.
Хитрука это не смутило, и, перейдя на начальственное «ты», он напутствовал:
— Глядеть надо в корень. Как говорил мой прежний начальник в Кремле, генеральской России без щедринского мужика не бывает. Ёмкая формула! На все времена.
И примерно через месяц Подлевский в письменной форме, с указанием дат, фамилий и объективок на «действующих лиц» — от «либералов со слезой» до патриотических аспидов — положил перед Хитруком план предстоящей командировки. Гримасничая под интернет и извинившись за много «букафф», устно изложил понимание региональной ситуации, загибая откровенно, порой кисло. Аккуратно польстил:
— Вы, ваше степенство, очень любопытный регион выбрали. Все там: как говорится, и распивочно, и на вынос. Полный спектр, включая провинциальные политические подмигивания, «мутителей народа», визгливых крикунов и прочей несистемщины. А если по-крупному, клубочек-то со вмотом, снаружи вроде как и приторно, а внутри, похоже, с горчинкой.
— Кстати, летим вдвоем, без дамского сопровождения, — мимоходом вставил Хитрук. В деле Подлевский нужен был ему полностью, без обременений личными настроениями.
Человек сам выбирает судьбу.
Внезапное предложение на пару недель смотаться в незнакомый город не то чтобы озадачило Веру Богодухову, а скорее смутило. После женевского очарования Аркадием их дружество вступило в новый этап. На нее обрушились шикарные ресторанные ухаживания, возникли еженедельные посыльные с роскошными букетами, заставлявшие млеть пожилых дам, дежуривших в подъезде. Настроение Веры изменилось. Подлевский, шутливо называвший ее вишенкой-черешенкой, а себя с иронией величавший реставратором жизни, нравился ей, но уже не казался таким обворожительным, как поначалу.
Ценившая не только свободу мнений, но и свободу сомнений, она не могла понять причин своей настороженности. Исходили эти душевные неудобья вовсе не от гаданий о серьезности намерений Аркадия, а коренились в подсознании, затрудняя их осмысление. «Дар чтения в чужой душе дается немногим, да и эти немногие часто ошибаются», — вспоминала она чье-то изречение и злилась на себя: всеведения нет даже в собственной душе. Возможно, эти терзания — дамская ерунда. Но если Аркадий — гений обмана, не пора ли зашнуроваться? А в чем может состоять обман? В неискренности чувств? Но этот вопрос не очень беспокоил Веру, готовую к превратностям отношений с Подлевским. Тревога касалась чего-то более важного — самой сути этого по-своему незаурядного человека, в чистоту помыслов которого она изначально поверила.
Внутреннее смятение осложнялось тем, что Подлевский, не только по расчетам мамы, но и по мнению самой Веры, был для нее хорошей парой. Все вроде бы наисправе! Откуда же эти узоры в голове? Отчего явилась донимающая, словно изжога, настороженность, отравляющая карнавал жизни, омрачающая изначальную радость общения?
Настроения шли врозь.
Женщина взрослая, давно пережившая девичьи комплексы, Вера понимала, что время главных решений приближается, а она к ним не готова. В итоге сомнения, с которыми Богодухова восприняла предложение о путешествии на Южный Урал — у Аркадия там дела, — повернулись иной стороной. Конечно, надо соглашаться. Обязательно! Очень, очень кстати такая поездка — возможно, ответит на все вопросы: либо прочь неясные настороженности, либо вскроет причины тревожных мыслей. «От винта!» — скомандовала она себе, отбросив колебания и изготовившись к миссии «гражданской жены», как представил ее кому-то Подлевский.
Командировочная жизнь оказалась привлекательной. После утреннего табльдота в отеле Аркадий исчезал по делам, а Вера отправлялась на экскурсии по центральным улицам и магазинам. Обедали вместе, и он снова куда-то уходил. А по вечерам их приглашал в гости кто-либо из новых разночванных, вплоть до мелкочиновной публики, знакомых Подлевского.
Хотя Вера при таких встречах выполняла роль статиста, эти посиделки были для нее интересны и поучительны, ибо открывали доселе незнакомый мир политических интриг. Она, разумеется, не запоминала фамилий, во множестве звучавших в длительных беседах — иногда за бокалом вина, — однако быстро начала входить в суть обсуждаемых вопросов, далеко не всегда понимая их глубинные смыслы.
Особенно врезался в память визит к некоему Валерию, по словам Аркадия, человеку, не обремененному должностями, однако состоятельному и весьма в местных кругах влиятельному. Его большой домашний кабинет со старинным резным письменным аэродромом производил впечатление. Под высоким, тоже резным торшером уместился уютный уголок из трех кожаных кресел и стеклянного кругляша для кофейного сервиза или бокалов. И едва Аркадий вальяжно расположился в одном из кресел, как сразу продолжил разговор, видимо, начатый днем, в неподобающей для откровенности обстановке:
— Значит, у вас, Валерий, нет абсолютной веры в то, что российский маятник после Путина качнется в сторону прозападных настроений?
— Понимаете, Аркадий Михайлович, — неторопливо, басовито и манерно, даже фигуристо заговорил Валерий, — я хотел бы выстроить наш обмен мнениями не на моих пожеланиях, кои, насколько я полагаю, у нас с вами одинаковы, а на обзоре сомнений в реальности чаемых нами целей. Некоторые разночтения будут проистекать не из различия позиций и принципов, а из намеренно обостряемых мною оценок ситуации.
— Отлично! — воскликнул Подлевский. — То есть мы не будем поддакивать друг другу, а, как принято говорить в известных кругах, пойдем на глубину?
— Вот-вот, совершенно верно.
— Тогда обоснуйте, пожалуйста, причины, как вы аккуратно сказали, отсутствия у вас абсолютной уверенности в успехе нашего общего дела.
— Есть несколько соображений. Во-первых, за Путиным не просматривается солидное число мощных финансово-экономических групп.
— Это почему же?
Видите ли, в провинции народ простоватый, однако сообразительный. Ответ на ваш вопрос уже дан. И дали его не здешние изощренные мыслители — он прилетел из-за лужи.
«Назвать океан лужей — это крепко! Сразу ясно, о чем он ведет речь», — мысленно восхитилась Вера. А Валерий продолжал:
— Тех, кто с Путиным, Уайт хауз пометил санкциями и угрозой конфискации капитала. Но обратите внимание, об элитном либеральном ядре — будь то Кудрин, Греф, Набиуллина, несть им числа — ни звука! Они на балу удачи. Что из сего следует? Из этого, с вашего позволения, вытекает важнейшее обстоятельство российской действительности: наша финансово-экономическая элита расколота. Корректнее говоря, в среде олигархата сложились прозападная и национально-сознательная, так сказать, сведомая группы.
Подлевский недоуменно пожал плечами, но потом задумался, насупился и сказал:
— Неужели вы всерьез верите, что американская затея с нажимом на наших олигархов может привести к потрясениям, угрожающим Путину?
Валерий громко, раскатисто рассмеялся:
— Батюшки мои! Вы меня не поняли, Аркадий Михалыч. Я не о текущих выборах говорю — с ними все ясно. Но буквально с 19 марта элитные кланы начнут отчаянную борьбу за кандидатуру преемника Путина в 2024 году, потому что объективно Владимир Владимирович становится в некоем смысле «хромой уткой» — начнется последний срок. Аркадий Михалыч, вдумайтесь! — Валерий заговорил оживленно: — Перед нами калька событий столетней давности, когда из-за элитной свары власть выпала из рук правящего слоя и ее подхватили большевики. Аркадий Михалыч, мы с вами говорим о перспективах. А для меня перспектива — именно двадцать четвертый год, который может угрожать смутой. Кстати, возможно, вы не обратили внимания, что в прессе слово «смута» звучит все чаще. Журналюги уже гадают, кто кого через шесть лет отматильдит. Никто не забудет, как с Улюкаем расправились.
Вера заметила, что лицо Аркадия стало загруженным. Он, видимо, с трудом пережевывал услышанное и, чтобы не продолжать острую тему, вернулся к исходной точке:
— Но вы говорили о двух причинах. Какая еще?
Хозяин кабинета понял, что копнул слишком глубоко, и, облегченно откинувшись в кресле, перешел на размеренный, солидный тон:
— Наш административный, проще говоря, бюрократический слой проиграл битву за умы народа. Народ отчужден от власти, не только региональной, даже местной, живут отдельно — как пчелы и мухи. Скреплявший общество социальный клей высох. К власти люди относятся несочувственно, постепенно стервенеют, через пару лет по захолустьям до протестаций может дойти. Интелли, вроде нас с вами, просвещаются по книгам, через интернет. А народ-то... его сама жизнь учит — кругом несправедливость. Народ сегодня — как горох при дороге: кто мимо идет, тот и щиплет. Помните перестройку, святых демократов, свергавших монополию КПСС? — Рассмеялся. — Кстати, знаете, как в провинции в ту пору называли ЦК КПСС? Набор глухих согласных! У нас умеют словечком пригвоздить... Так вот, перестроечные прорабы в 90-е выродились в презренных «дерьмократов», а еще хуже — в «демокрадов». Сейчас отношение к бюрократической среде претерпевает подобную метаморфозу.
— И как же нейтрализовать означенные вами угрозы?
— Прежде всего их надобно четко осознать в наивозможной полноте. — Валерий слегка отпил из бокала. — Нарастает тревога, что в пределах Садового кольца как бы правильнее сказать... Пожалуй, придется цитировать тирана: головокружение от успехов. Полагаются на рыцарей политических ток-шоу, на телевизионную картинку, на административный ресурс.
Вера, внимательно вслушиваясь в речи этого крупного, пузатого человека в дорогих кроссовках-премиата — даже дома не снял! — была на его стороне. Он нравился ей все больше, из головы как-то испарилось, что Валерий не излагает выстраданную точку зрения, а лишь делится сомнениями, предостерегает от ошибок. Но все встало на свои места, когда он сказал:
— Предчувствую усугубление этих опасных процессов. Понимаете, Запад зашел в Россию вместе с Гайдаром и прочно обосновался здесь, ибо экономическая власть — в руках бывших сподвижников Гайдара, их учеников. Вот сейчас затеяли скоростной социальный лифт «Новые лидеры». В принципе верно, готовят следующее поколение либеральной элиты. Но когда, когда? 2024 год на носу. А наши тревоги — крик в никуда. И мои слова — это своего рода сторожевой клич.
— Ну-у, пространство длиною в шесть лет — срок немалый.
— Какие шесть лет! Неужто вы считаете, что перед парламентскими выборами 2021 года власть будет такой же твердой, как сегодня? Э-э, Аркадий Михалыч, пресветлое ваше величество, не знаете вы провинциального чиновника. В двадцать четвертом предстоит коренная смена власти, и у него одна мысль: будут новые порядки, новый орднунг! как бы чего не вышло! Как бы его за нынешние проказы смолой не обмазали. Очень осторожен, виртуозно изворотлив будет местный чиновник. Ибо ревизия исторических репутаций может случиться. Нельзя ему, как сегодня, перед одним портретом в исступлении лоб расшибать. На все стороны вертеться надо. Сейчас он рысью пашет, выполняя указания Центра. А в 2021-м тыщу причин найдет увильнуть, в стороне остаться, не подставиться. При социальной разладице швейцару в ресторане начнет руку пожимать. По части убеждений или внушений будет безнадежен. Тут у начальников государства, вообще у столичного персонала тоже ошибочка: не понимают, что административный ресурс заметно ослабнет.
Вера, слегка пригубив оскомистого, терпкого вина, снова глянула на Аркадия. Ей показалось, на его лбу выступили капельки пота, словно он беседовал с дантистом.
— Слушая вас, Валерий, — откликнулся он, — я, откровенно говоря, рад, что не приходится вступать в полемику. Надеюсь, свои сомнения вы подробно изложите Борису Семеновичу. Он тоже не станет возражать, но будьте уверены, донесет ваши соображения до наивысших сфер.
— Хорошо бы... — Валерий сделал глоток вина. — У меня порой от нервов насморк делается. Я внимательно за здешней жизнью наблюдаю, и гложат думы, глубоко ли в Кремле понимают региональную ситуацию. У нас ведь разные мнения бытуют. О народе уже сказано. Но позиции сталкиваются и в региональной элите, особенно экономической, даже среди пламенных рослибов, вот что хуже всего. Киберактивисты из штанов выскакивают. Полный фарш! Праздник в дурдоме. При такой разноголосице одними зазываниями в будущее не отделаешься. Конкретику подавай! Обещания лакшери в Мухосранске не проходят.
После этого посыпались фамилии, должности, что не интересовало Веру. Аркадий делал частые пометки в блокноте, иногда о чем-то переспрашивая Валерия, задавая краткие вопросы. А она, не притрагиваясь к бокалу, мысленно зубрила речи этого толстяка, чтобы не забыть их и потом обдумать.
В ней просыпался интерес к новизне, в которую она окунулась.
Вернувшись в отель, они спустились для легкого ужина в декорированный возбуждающе красными панелями, кабацкого пошиба ресторан. Аркадий был молчалив, а Веру, наоборот, распирало от обилия вопросов. И, едва справившись с замысловатым меню, пестревшим умопомрачительными названиями блюд, вроде салата «Уральские самоцветы», она сказала:
— Этот толстяк наговорил много любопытного.
Аркадий раздраженно ответил:
— Наполеон мысли! Думаю, он сгущает краски, привлекает внимание к собственной персоне. Хотя это ему удалось, мимо него теперь не проскочишь.
— Но разве раскол элит или трусость чиновников, разве это не интересно? — Тут же поправила себя: — Разве это не важно?
— Да говорю же: сгущает краски! Обозначает общеизвестные проблемы, придавая им особую значимость. Аристократ захолустья! Типичный случай когнитивного диссонанса.
— Чего-чего?
— Расщепления мышления.
— А-а... Но проблемы-то, о которых он говорил, кажутся злободневными.
Аркадий долгим, отчужденным взглядом смотрел на нее, прикидывая степень откровенности дальнейшего разговора. Беседа с Валерием выбила его из привычной колеи пофигизма, сомнения этого местного властителя дум слишком походили на отчаянные жалобы человека, напуганного приближением событий, способных нарушить безмятежное течение его сытой жизни. Уж людей-то Подлевский угадывать умел — его конек! И готов был руку дать под топор, что никому из здешних этот Валерий столь открыто не говорил о своих тревогах. Зато излил душу перед патентованно надежным — из администрации губера звонили! — московским гостем, который посулил встречу с солидным «решалой», который донесет его опасения до столичных верхов. Подлевский был расстроен неприятной, даже чудовищной правдой, которая, словно пружины из протертого дивана, торчала в словах Валерия. Подумал: «Этот парень нашел умную форму для изложения своих страхов — сомнения». Эти мысли назойливо теснились в голове, и неожиданные расспросы Веры застали врасплох.
— Ты что, действительно хочешь понять смысл того, о чем мы с ним говорили? — непривычно резко спросил он.
— Ну-у, хотелось бы. Если осилю.
— Тогда слушай, — разозлился он. — Речь шла о том, что в провинции зарождается оппозиция нынешнему порядку вещей, угрожающая сломом всего и вся, что для нас дорого и важно.
— Для кого «для нас»?
— Для меня, для тебя, для власти в целом. Я же ясно говорю: для нынешнего порядка вещей.
— Но он ни словом не обмолвился об оппозиции.
— В том-то и дело! Шла бы речь о какой организованной силе — это чепуха. Раздавим, никто и не заметит. Минимум издержек. Но хотя этот Валерий наплодил уйму заблуждений, сквозь его речи проглядывали подвижки самой жизни — вот в чем загвоздка. Причем по разным направлениям, друг с другом напрямую не связанным. Как говорится, мало людей на митинге — много в подполье. Мы вдоль шагаем, а жизнь, она поперек прет.
— Если жизнь поперек, почему бы к ней не приладиться? Получается, страна идет не в ту сторону, и этот Валерий боится остаться на подножке новой жизни. Я верно поняла?
Аркадий опять долгим взглядом посмотрел на Веру, сожалея о своей откровенности. Но в мозгу сильным фоном продолжался шум от недавней беседы, и он не мог сосредоточиться. Наконец чутье минуты, всегда выручавшее его, подсказало, что надо табанить, сдавать назад:
— Слушай, это дела не женские. Ну зачем тебе обременять свою распрекрасную головушку заботами, в сути которых никто толком разобраться не может? Понимаешь, никто! Тем более этот, повторюсь, аристократ захолустья, который, между прочим, катается на шестисотом «мерине», столько наворочал, что сам заблудился в своих умозрительных комбинациях.
— Но мне же интересна твоя позиция, — настаивала Вера. — Твое мнение, твое понимание услышанного.
— А я сюда прибыл не для того, чтобы формировать мнение, — попытался ускользнуть от назревшего конфликта Подлевский. — Я с ним не спорил, только вопросики подбрасывал. Я тебе говорил, что готовлю визит крупного государственного деятеля и не обязан излагать личную точку зрения по поводу политической зауми, какую услышал сегодня.
— Но мне-то ты можешь сказать, — упорствовала она, чувствуя, что под влиянием обстоятельств Аркадий, как теперь говорят, расчехлился и настает момент истины: она может узнать, что у него за душой.
— А ты еще не поняла? — резко спросил он.
— Я могу только предполагать.
— Ну и предполагай... — Пошутил: — Ты, оказывается, у нас девка стрёмная. — Аркадий отодвинул чашку с недопитым зеленым чаем, жестом попросил официанта выписать счет. — Мне этот Валерий и без того испортил настроение своим нытьем, упакованным в форму сомнений. Как говорится, долив пива после отстоя пены. А тут и ты терзаешь дурацкими вопросами. — Смягчил тон: — Слушай, вишенка-черешенка, давай отвлечемся от ядреных мерзопакостных политических тем. В конце концов, в чем драма этого толстяка? Он хочет одного, а вероятным считает другое и потому паникует. Именно паникует! Не бери в голову его словоизвержения. Сомневающийся тип! Хотя, откровенно тебе скажу, для моей миссии — просто находка. Будет что проверять и перепроверять. Но я не знал, что тебя интересуют такие вопросы. Учту.
Формально разговор завершался на примирительной ноте, но Вера не поняла этого краткого «учту». Возможно, Аркадий впредь не будет брать ее с собой на такого рода встречи. Но может быть, наоборот, постарается подробнее разобъяснить сложности современной провинциальной жизни. Однако в любом случае по их отношениям пробежала трещинка непонимания — всего-то с волос, тонкая, но, известно, треснутый или клееный фарфор уже не звенит. И это означает, что настороженность, смущавшая Веру, не была напрасной. Более того, теперь эта настороженность обретает четкую форму: Аркадий — тот ли человек, за которого себя выдает?
Но внутренний голос, склонный к сомнениям, вдруг выдал побочную мысль: странно, а вот склеенная скрипка звучит еще лучше.
Из командировки на Урал Борис Семенович Хитрук вернулся в смятении. Это неприятное, сосущее, лишающее покоя чувство охватило его впервые в жизни. Формально поездка удалась. Серия плановых встреч, подготовленных Подлевским, была содержательной. А его негласное присутствие на заседании областной торгово-промышленной палаты, которое стараниями Подлевского приурочили к командировке важного московского гостя, Хитрук и вовсе считал знаменательным. Он был переполнен пониманием текущей провинциальной жизни, что позволяло составить информативную и глубокую записку на имя главы президентской администрации, которая наверняка ляжет на стол адресату.
Но следует ли быть откровенным до конца? Смятение, охватившее после услышанного на Урале, призывало к осторожности: как бы не прослыть паникером-алармистом, сгущающим краски. Однако серьезные опасения за судьбы завтрашнего дня требовали полной достоверности. Потом могут предъявить претензии: вовремя не сигнализировал! Прошляпил или не сумел оценить важность зарождавшихся процессов?
Обычно Борис Семенович садился за написание аналитических записок сразу после командировки, по горячим следам. Но на сей раз сами события подталкивали не торопиться: у кремлевского начальства предвыборная горячка, все заняты текущими делами, даже замам главы администрации не до оценок следующего политического цикла. Вдобавок появление в списке кандидатов совхозного Грудинина потребует коррекции предвыборной партитуры. Грудинин может взять до двадцати процентов, и тогда откровенная уральская записка Хитрука заиграет другими красками. С такими обстоятельствами текущего момента торговаться было бессмысленно.
Эти размышления отчасти успокоили Бориса Семеновича. Объективно возникшая пауза, во-первых, давала возможность все обдумать еще раз, а во-вторых, интрига с Грудининым могла изменить послевыборную ситуацию во власти. В итоге Хитрук твердо решил выждать. Однако командировочные впечатления не отпускали. Он прокручивал в памяти то, что услышал на заседании провинциальной торгово-промышленной палаты, не уставая поражаться не столько критицизму тех дебатов, сколько их высокому интеллектуальному уровню. «Вот она теперь какая, эта провинция! — буравило в мозгу. — Да-а, с ней надо быть начеку».
На Урале действительно произошло нечто. Если бы не видел своими глазами, если бы не слышал своими ушами, не поверил бы.
Заседание ТПП назначили в фойе местного драмтеатра. Посредине взгромоздили овальный стол с микрофонами для спикеров, видимо из реквизита, вокруг расставили укороченные ряды вынесенных из зрительного зала мягких кресел, где расселась публика — по прикидкам человек двести, которые возгласами и хлопаньем выражали «уважуху» ораторам. Две большие люстры «под хрусталь» и бра на стенах придавали происходящему сценический, постановочный вид, и казалось, зрители исполняют роль греческого хора. Возможно, психологически давила сама театральная атмосфера.
Хитрука предупредили, что заседания здешней ТПП проходят бурно, в дискуссиях преобладают критиканские мотивы. Но то, что он услышал, далеко выходило за пределы местных проблем. Первый же оратор, невысокий, лысоватый, с брюшком, задрал планку выступлений на такую высоту, какой и в столице редко достигают.
— Коллеги! — начал он. — дабы наш разговор не выродился в очередную перебранку по поводу экономической модели, властвующей в России, хочу напомнить о... гарвардском апельсине.
Зал удивленно загудел, а оратор, умело выдержав паузу, объяснил:
— Гарвардские абсурдисты сочинили мудрую притчу. Двум дочерям подарили апельсин, из-за которого они рассорились. Но пришла мама и разрезала фрукт пополам. Одна из дочерей съела дольки, выкинув клочки кожи. Другая сняла с апельсина кожуру и приготовила из нее цедру для пирога. Мать подумала: «Если бы я заранее знала, как дочери используют свою половину, то каждой досталось бы по целому апельсину: одной — все дольки, другой вся кожура!»
Зал разразился дружным смехом, а оратор забил гвоздь по шляпку:
— Мораль сей притчи такова: чтобы принять верное решение, желательно заранее знать цели и намерения контрагента. Потому призываю не собачиться по конкретным поводам — их у нас тысячи, — а зреть в корень, пытаться понять, чего хотят разные экономические силы: кто о России радеет, а кто американщине лабутены лижет.
Прочитав табличку с именем выступавшего — «Георгий Синицын», Хитрук спросил Подлевского:
— Кто такой?
Тот сорвался с места, убежал куда-то, но через минуту вернулся, шепнул:
— Шеф областного оператора связи.
— Однако по-крупному начал, — покачал головой Борис Семенович. — Он что, в Гарварде учился? Потом дашь на него объективку.
Зачин был серьезный, и разговор сразу пошел крутой.
— Выступать буду позже, но сперва вопрос. Ко всем! — сказал кто-то за столом. — Почему при падении инвестиций операции на московской бирже выросли пятикратно? Пя-ти-крат-но!
В креслах зашумели, послышались реплики: «Долбочёсы!», «Совесть на ремонте!» — но их перекрыл громкий микрофонный ответ:
— В России тридцать лет идет кутёж финансовой элиты. Либеральный карнавал. Страна в аренде у чиновничества.
— Финансы отдельно, производство отдельно. Мухи и котлеты! — фистулой, густым грудным голосом крикнул кто-то из кресел.
Зал взорвался аплодисментами.
Но тут слово взял сидевший в узкой части стола гладко причесанный мужчина в сером свитере до подбородка.
— Синицын взял высокую ноту, и меня зацепило упоминание о тридцати годах, прошедших со времен перестройки. Если же считать от ее начала, уже тридцать с гаком. А за тридцать лет в стране накапливаются противоречия. Такие противоречия накопились в хрущевский и брежневский периоды, но руководство КПСС их не снимало. В итоге — застой и тухляк, а за ними разрушительная перестройка. И вот минуло еще тридцать лет. Мы же с вами чуем, что в стране снова накопилась уйма противоречий. России нужны — нет, не революции! — а обновительные процедуры, посредством которых власть должна устранять набежавшие противоречия. Для этого идеально подходило столетие Октября. Прекрасный был повод дать нейтральную оценку прошлого и представить образ будущего страны, объединяющего красных и белых, объявить о новом курсе, которого все ждут, потому что крымский консенсус 2014 года рухнул. Помните Цоя: «Мы ждем перемен!»? Его клич снова стал злободневным. Но власть заявила: «А что праздновать?» — и предпочла устраниться от планов обновления жизни, прежде всего экономической. И противоречия нарастают с пугающей быстротой.
Зал взревел бурными возгласами, долго не смолкали аплодисменты, а Борис Семенович был потрясен. Никак не ожидал, что услышит такие речи в провинции. Шепнул Подлевскому:
— Зарисуй схему рассадки за столом, представишь объективки на всех.
Но это было только началом.
Слово снова взял Синицын:
— Либеральная монополия в экономической политике выродилась в то, что философ Вадим Цымбурский назвал «корпорацией по утилизации России». Либерал-клептократ Улюкаев — символ элитной группы, которая так рулит макроэкономикой, что денежная политика не стимулирует производство. Эта группа держится концепции пресловутого «Вашингтонского консенсуса», которую в конце восьмидесятых разработали для Африки и подсунули Гайдару. От этого консенсуса отказались даже на западе, «Римский клуб» в последнем послании осудил разливанное море финансовых спекуляций, ущемляющих производство. А где наша концептуальная теория? Где исполины духа? Кто назовет носителей концептуальной власти? «Красный проект» умер. Но мы оказались в концептуальном тупике. Хошь не хошь, вспомнишь слова Сталина: без теории нам смерть. А наши догматики цепляются за устаревшую доктрину. В реальной жизни это вылилось в чудовищное заявление министра Силуанова, чья зарплата свыше полутора миллионов рублей: «Пенсионеры у нас работают не из нужды, а по желанию. Зачем им индексировать пенсии?»
Зал негодующе зашумел. А Синицын продолжал:
— Либеральный глум над Россией, когда правительство самовольно отменяет даже указание президента, отказываясь от деофшоризации, обернулся непредсказуемостью развития. Мы в самой толще бизнеса и кожей чувствуем, что страна на ущербе. Хочу задать классический вопрос, по-латыни звучащий так: «Куи продэст?» Иначе говоря: «Кому это выгодно?»
Атмосфера в зале накалялась, и Хитрук, чего с ним никогда не бывало, растерялся. Даже в самом жутком сне ему не могло присниться, что в провинции такие настроения. Поражала высокая эрудиция выступавших. Но главное — било в глаза отсутствие политических выпадов, речь шла исключительно об экономике. Хотя подспудно угадывалось многое, имевшее отношение к самой высокой политике.
И словно в подтверждение этих мыслей следующий оратор — нос баклушей — поднял новую тему.
— Я представляю нижнюю планку среднего слоя, то, что англичане называют «Lower low middle class», малое предпринимательство, уже сейчас разоренное. Могу подтвердить: гайдаровская система, которую держат на своих плечах такие «атланты», как Греф, Чубайс и другие, сгнила. Если глянуть в бюджет, станет ясно: ближайшие три года бедность в стране будет нарастать. А наши баобабы экономических наук, вроде Набиуллиной, как писал Мандельштам, «куют за указом указ», облагая малый бизнес и потребителя новыми косвенными налогами. Нужен справедливый жизнестрой. А у нас перекладывают бюджетные затруднения на население. Лучше бы матом обложили, чем налогами.
В креслах весело загоготали, и баклуша добавил жару:
— Банкетно-фуршетные либеральные бесы четверть века терзают Россию. У них мания погубления России. Бюрократическая сыпь — опаснейший симптом. Много праздного люда в государстве. Где ветер в наши паруса? А в штиль паруса — тряпки. Об этом еще Ключевский писал.
— Минуточку! — врезался в разговор сидевший за столом худощавый человек с льняной шевелюрой. — Во-первых, речь идет не о настоящих либералах, а о профанаторах либеральной идеи, которые нагуглились поверхностными знаниями. Во-вторых, коллеги, мы с вами чрезмерно ударились в обвинительный уклон. Как не учитывать, что после трехкратного падения цен на нефть страна выходит из кризиса? Инфляция на минимуме. Я согласен со многим из того, что услышал. Но хотелось бы и конструктива. Речь идет не о кризисе страны, а о кризисе управления. Предстоит наладить самую сложную отрасль — производство мысли. Георгий, — обратился он к Синицыну, — ты же знаешь, в Госдуме эти вопросы тоже поднимают. «Единая Россия» горой за малый и средний бизнес.
— Это Добычин, депутат Думы от здешнего округа, — шепнул Подлевский.
— А что касается тридцатилетнего цикла, напомню интересный исторический факт: после Великой Французской революции ее завалы разгребали до 1830 года. Вот и мы еще не вылезли из руин, оставленных перестройкой и девяностыми годами. Стадия разложения позднесоветского бюрократического слоя не завершена. Но то, что востребован новый экономический курс, об этом и в Москве говорят. Над ним сейчас интенсивно работают.
— Во главе с Кудриным? — раздался издевательский возглас.
— За салат оливье и селедку под шубой надо в отставку отправлять, это насмешка над народом! — крикнул кто-то, и зал одобрительно загудел.
Но тут слово снова взял Синицын:
— Владислав, это хорошо, что у нас симфония мнений. Но у людей накипело. А главное, много непонятного. Мы же помним, как поступил Путин в начале двухтысячных, когда стал президентом. Уж на что сильна была семибанкирщина, сросшаяся с Семьей! Открыто претендовала на закулисную власть. Но Владимир Владимирович усмирил Гусинских, Смоленских, Ходорковских. А чего же сегодня не разгонит либеральный прозападный гадюшник в экономике? Все трещат, что инфляция, по Набиуллиной, падает, а вот инфляция доверия к власти быстро растет. В начале путинского президентства среди либеральных закопёрщиков крутилась идея отдать Западу наши сырьевые поля — месторождения! — в обмен на списание тогдашнего огромного долга. Путин на это не пошел — поклон ему. Но те люди, они по-прежнему у рычагов экономической власти и блокируют рост производства. А Кудрин — теневой кукловод! Философия абсурда в духе Альбера Камю. Отсюда — гнетущее ощущение топтания на месте.
— Внешними успехами внутренний кризис не одолеть! — раздался из зала уже знакомый голос.
Мужчина в сером свитере, сидевший за овальным столом, сказал:
— Это немыслимо! Инфляция два с половиной процента, а учетная ставка — почти восемь. Рай для спекулянтов. Дорогой банковский кредит душит. Почему не выпустить инвестиционный рубль? При цифровых методах на нем просто сделать метку, которая не пустит его ни в банк, ни на биржу — только в производство! Инфляция не подскочит. Сейчас у народа такие настроения, что, не приведи Господи, ахиджакнет. И громко... У бизнеса ощущение, будто на страну летит стая «черных лебедей» — в точности по Нассиму Талебу. Очень нужен новый курс! Вы, Всеволод Дмитриевич, — обратился он к Льняному, — так в Думе и передайте. Отшень просим.
Хитрук устал делать торопливые записи в блокноте. Он вообще устал от этого заседания периферийной торгово-промышленной палаты. Общая картина была ясна, и он уже думал над тем, как наиболее полно, однако без панических эмоций отразить провинциальную атмосферу в аналитической записке.
Настроение было паршивым. В тот день он с особой ясностью понял, какие сложные накатывают времена и как непросто будет проходить смена верховной власти через шесть лет. «Театр абсурда!» — хотелось ему успокоить самого себя, учитывая, что заседание идет в театральном фойе. Но трезвый ум аналитика подсказывал другое. В душноватом от обилия людей помещении явственно попахивало предвестием будущей смуты. Ее слабые, но грозовые раскаты, различимые опытным ухом, звучали далеко впереди, ее еще можно было избежать, скорректировав траекторию движения. Но как? Над такими вопросами надлежало трудиться уже не Борису Семеновичу Хитруку. Его задача лишь в том, чтобы уведомить правящий слой о грядущих угрозах.
И Хитрук знал: свою миссию он выполнит. Уже выполнил! Остальное, как говорится, дело техники: изложить наблюдения и выводы на электронном носителе информации.
9
Встречу с Подлевским Боб Винтроп назначил в угловом ресторане на Новом Арбате. Двадцать лет назад в этих стенах, словно улей, куда пчелы сносят нектар, гудел знаменитый банк «Мост» Гусинского, и Боб ради интереса бывал там. Теперь здесь все преобразилось, стало просторнее. «Видимо, у банка были площади, закрытые для клиентов», — подумал Винтроп, выбрав столик у окна.
На сей раз в Москве он наездом, для ревизии старых связей, чтобы «сверить часы», уточнить понимание российских тенденций. График был спокойным, и Боб пришел в ресторан на полчаса раньше. Мелкими глотками отпивая воду со льдом, смотрел на суетливый Новый Арбат и вспоминал былые годы. Боже, с «гусинских» времен минуло уже двадцать лет!
Боб Винтроп, крупный, с пышной шатеновой шевелюрой, в годы перестройки работал в американском посольстве, отлично овладел русским и обзавелся уймой знакомых из всех слоев общества. Конечно, он хлопотал не в одиночку. Десятки американских спецслужбистов находились в Москве «под прикрытием». Приглашенные в качестве консультантов различных ведомств и организаций, они имели статус, который в тот смутный период русской истории, когда бездействовала спецура, открывал широкие возможности для сбора политической информации.
Впрочем, этой функцией их роль не исчерпывалась. Они вербовали агентов влияния. Не шпионов, нет! Именно агентов влияния. Американцы сотнями просеивали сквозь свои сита захмелевших от демократии, млевших от безнаказанного общения с иностранцами лопоухих совков, мчавшихся на зазывную мелодию политической шарманки, — за глаза они называли их «полезными идиотами» и вылавливали тех, кто интересен для долговременных связей. А особенно охотились за всегда прогрессивными ренегатами из бывшей номенклатуры.
В те времена поступали незатейливо. Составив списки нужных людей, включая медийные персоны, посольство по домашним адресам направляло к ним курьера с презентом — фирменной бутылкой виски и приглашением 4 июля, в день независимости США, пожаловать на прием в резиденцию посла Спасо-хаус. Судя по длинным очередям у ворот Спасо- хауса, приглашенных было немало, хотя их состав менялся.
Методология отбора нужных людей сложилась быстро. «Абитуриентов» не обременяли заданиями, все сводили к общению, иногда в ресторане, к беседам о перестроечных процессах. Сортируя людей по лояльности, некоторых сажали на поводок личного интереса, предлагая грантовую учебу в США, где окончательно «редактировали». В дальнейшем американские спецслужбы, используя свои рычаги, содействовали продвижению агентов влияния на солидные посты, помогали зачать бизнес, устроиться в медиа. Все шло согласно извечным правилам мироздания: бесы пленных не берут, перебежчиков не принимают, а кто сам сдается, тех потчуют смузи и губят до конца.
Боб Винтроп находился в эпицентровой карусели и вел себя как щука на жоре, ибо дипломатический статус открывал перед ним особые возможности. Он хорошо представлял себе общий размах деятельности, которую люди его круга деликатно называли информационно-аналитической. В те годы конгресс не скупился на средства для контактов в России. Вошло в обиход понятие «гражданское общество», неизвестное в СССР, и на американские деньги, согласно официальному отчету конгресса, в России создали 65 тысяч неправительственных организаций разного профиля.
Золотые были времена! Карнавал с балаганом!
После распада СССР Винтроп вернулся в Америку, но периодически наведывался в Москву, встречаясь с прежними знакомыми, занявшими важные должности в новом госаппарате, с титульными либералами и озлобленными патриотами, держа руку на пульсе событий. Но позднее, когда разведслужбы США пришли к выводу, что ракетно-ядерный щит СССР по регламентным срокам догниет к 2010 году, интерес к России упал. В США осталось лишь пятьдесят школ, где изучали русский, а конгресс срезал ассигнования в расчете на самоугасание бывшего глобального конкурента. Боба переключили на борьбу с терроризмом.
Но возник Путин, и из России посыпались сообщения о новых типах ядерного оружия. Политическая Америка была взбешена. Ее обманули!
И в орбиту деятельности Винтропа снова включили Россию.
Боб продолжал наблюдать за автомобильной суетой на Новом Арбате, за течением пестрой, разношерстной толпы, в которой выделялись щеголеватые бородатые парни кавказского облика, неспешные нарядные дамы из богемной тусовки, американского типа девушки в обтяжных джинсах для привлечения взглядов к своему непомерно большому филе, неопрятные неформалки из трюмов жизни, в драных джинсах, стоптанных кроссах, с косяками в одежде, а следом ботоксная секси в стразах и лабутенах, парочка мужчин, смахивающих на заднепроходцев, — но мысли его, сделав скачок, уже крутились вокруг событий десятилетней давности.
Именно десять лет назад в России зародился протест, который многоопытный Винтроп распознал не сразу. В 2008-м, казалось, все шло по накатанным рельсам. Встречаясь с российскими знакомыми, Боб начинал с шутки: «Ну что, будем величать следующего президента Сергеем Борисовичем?»
Ни у кого не было сомнений, что временным преемником Путина станет Иванов. Это подтверждали аналитические доклады американских спецслужб. В итоге особого интереса к смене российского руководства в Вашингтоне не проявляли, кардинальных перемен в политике России не ожидалось.
И вдруг не Иванов, а Медведев!
Такой разрыв шаблона требовалось осмыслить. Хотя все понимали, что рокировка — это договорной матч и радикальные изменения вроде бы не планируются, Боба не покидало смутное беспокойство: не упускает ли он в связи с подъемом Медведева что-то существенное? В итоге он затрагивал российскую тему чаще обычного, даже на встречах, напрямую с Россией не связанных.
Помнится, в Швейцарии они нащупали след террористической ячейки, и Винтроп связался с одним из агентов, работавших под крышей ЮНИСЕФ — детского фонда ООН. Это был невысокий располневший брюнет с тщательно стриженными, крашеными усиками, внешне очень добродушный. «У него огромный опыт», — сказали о нем Бобу. И верно, Жан Паскаль оказался особо полезен, ибо в интересных случаях пользовался давней методикой германских спецслужб, бравших в разработку любого человека, который в поезде, в магазине, у билетной кассы — где угодно! — был замечен около объекта, находящегося под слежкой. В одном случае из ста это могло оказаться контактом. То, что множество граждан невольно оказывались «под колпаком», — издержки агентурной работы.
Винтроп и Паскаль около часа прогуливались по набережной озера, а завершив деловую часть, присели выпить эспрессо в прибрежной «Ротонде», напротив фонтана. Боб, по обыкновению, факультативно коснулся российских проблем, изложив свою точку зрения. Но швейцарец не стал поддакивать. Он молча смотрел на бьющую ввысь струю, потом ответил:
— Возможно, вы правы. Но опыт показывает, что правители часто ошибаются в преемниках. До конца люди раскрываются лишь на вершине власти. Кстати, в России это уже было: Андропов — Горбачев, Ельцин — Путин. Но главное — приспешники! Может возникнуть соперничество команд.
Винтроп свернул российскую тему так же внезапно, как начал. Этот мудрый швейцарец одной фразой ответил на смутные предчувствия московских перемен, и Боб мгновенно понял, о какой концепции отношений с Россией надо теперь размышлять, какие наборы фамилий выносить в топ. Позднее, когда четко оформился курс на поддержку протестного движения, Боб часто вспоминал мимолетный разговор в женевской «Ротонде».
Впрочем, в тот памятный день Винтропу не дано было знать, что другой американский аналитик из разведслужбы в Мельбурне, на конспиративной встрече в прогулочном трамвайном вагончике, бесплатно курсирующем по городу, имел похожий разговор с австралийским коллегой. Аналогичные сигналы поступили из Бразилии, где на собеседовании в университете Рио-де-Жанейро один из бывших совграждан высказал сомнения по поводу линейного развития российских политических процессов, а также из Вены, когда во время удобной для такого рода встреч экскурсии по Шоннебергу агент австрийской спецслужбы не поддержал американскую уверенность относительно миссии, возложенной на Медведева, — провести непопулярные реформы для «завтрашнего» Путина. У молодого лидера России могут взыграть амбиции.
Итогом этих донесений стало узкое совещание в Вашингтоне для обсуждения новых российских тенденций. На нем, вспоминал Винтроп, было отмечено любопытное обстоятельство: в странах, напрямую не противостоящих России, опытные аналитики глубже понимают властные расклады этой страны. А главный вывод совещания требовал глубже изучить российскую ситуацию. Слово «протест» еще не звучало. Но задачу сформулировали четко: сплотить вокруг Медведева его собственную властную команду.
Винтроп снова чувствовал себя в своей стихии, часто наведываясь в Москву. В Вашингтоне Медведева вскоре стали воспринимать как Горби-2, проверив на самом высоком уровне. Обама повел его в Макдоналдс, заурядную забегаловку, и русский лидер проглотил унижение. Более того, на следующий день после его отлета в США была арестована русская шпионская «десятка», что в глазах общественности стало пощечиной. На этом проверки не кончились. На другой день после озаренной улыбками встречи Обамы и Медведева на саммите АТЭС американцы экстрадировали из Камбоджи русского бизнесмена Бута. Наконец, опять на следующий день после примирительного визита Медведева в Варшаву польский лидер заявил в Вашингтоне о желании разместить в своей стране элементы американской ПРО.
Людям опытным было ясно: эти «случайности» имели цель подмять Медведева. И, судя по реакции Кремля, это удалось — звонок Обамы в Москву с просьбой поддержать в ООН «открытое небо» над Ливией был воспринят благосклонно, что обернулось расправой над Каддафи и вытеснением России из этой страны. Начала вырисовываться новая задача: не допустить возвращения в Кремль Путина, создав ситуацию, при которой Медведев мог бы пойти на второй президентский срок.
В те годы Боб крутился с молодым задором. Без лишней скромности он мог записать на свой счет участие в двух политических спецоперациях. Первая — создание ИНСОРа, Института современного развития, которому надлежало стать мозговым центром Медведева. Потом была работа по организации заседания ИНСОРа в Ярославле, где дорвавшихся до власти либералов штырило от эмоций и они устроили немыслимую бюрократическую возню. Вдобавок, опьяненные перспективами, возгоготавшие от радости организаторы «сабантуя», словно всадники апокалипсиса, пошли на шалую выходку — сделали заявление, обошедшее мировые СМИ: возвращение Путина в Кремль равнозначно реанимации брежневского застоя.
Такую ретивость Боб не одобрял. К 2012 году надо готовиться осторожно, исподволь. В этом плане Винтроп был доволен второй спецоперацией, в которой ему довелось участвовать, — как всегда, закулисно, однако едва ли не решающе.
Речь шла о подготовке информационных ресурсов, способных работать на Медведева в случае повторного выдвижения. В России СМИ стараниями американцев приняли либеральный уклон. Однако Боб осознавал необходимость телеканала, который при надобности мог бы круто, без оглядки «мочить» Путина, не стесняясь и телепохабщины. Эта задача стала еще актуальнее, когда Медведеву под предлогом создания общественного телевидения не удалось вырвать у государства вторую кнопку. Путин, стоявший как бы в стороне, понял суть дела и сорвал замысел. В этих условиях зарождение «отвязного» медведевского телеканала начальство Винтропа посчитало делом первостепенной важности. И Боб приложил немало усилий, чтобы установить контакты ближайшего окружения Медведева с преодоленцами — людьми, готовыми ввязаться в будущую драку.
В итоге все сработано чисто, и на свет появился неприметный «Дождь», которому президент обеспечил преференции в виде дешевой аренды и контрактов с кабельными сетями. Это был эмбриональный период телеканала, способного в будущем мгновенно превратиться в мощный информационный ресурс федерального уровня. Однако и тут сказалась торопливость, свойственная русским либералам: «Дождь» от восторга мастурбировал антипутинскими наветами и мерзостями, слишком рано заявил о себе как едва ли не главном рупоре внесистемной оппозиции, а смышленые руководители «Роспечати» чрезмерно пичкали его грантами и заказами на рекламные ролики. «Рано они начинают, рано», — с тоской думал Винтроп, не одобрявший преждевременный звездёж путиносливщиков.
Но процесс пошел, духовный и политический ландшафт менялся, страна глухо волновалась. Резко изменилась тональность западных СМИ, ставших антипутинскими, социальные сети звали людей на улицы, появились новые маяки общественного мнения. Низы, мидлы, верхи — все гражданское общество пришло в движение, креативное модное небритьё, подсев на медиастероиды, шевелило гробы, коверкая историю, проявляло недовольство Путиным, не гнушаясь ручкаться с русскими националистами. Обезумевшие интернет-дрочеры тиражировали лозунги «Путин — вор!» и «Россия без Путина!».
Однако Винтроп задолго до выборов понял, что у белоленточной — символ протеста! — оппозиции нет шансов, скоро выйдет из употребления. В мозгу шевелилось смешное: «Французскими булочками следующим утром можно гвозди забивать, каменно черствеют». Раздражала антипутинская медиадиарея заядлых либералишек с ментальными пустотами в сознании. «Швондеровичи! — поругивал Боб этих суперактивистов. — Мешки с сухим горохом, певцы надлома».
Впрочем, как уже было в его жизни, ответ на главный вопрос текущего момента пришел со стороны. В Вене ему посоветовали встретиться с некой русской женщиной, обосновавшейся в Австрии. Созвонившись, они условились увидеться в соборе Св. Стефана. Он всегда полон туристов, шаркающих по каменным плитам вокруг высоких резных колонн. Некоторые присаживаются на деревянные скамьи перед иконами в боковых приделах, бормоча молитвы, сокрушаясь о своих грехах. В каждом приделе по пять-шесть рядов, что позволяло точно наметить место встречи, важное при первом свидании.
Боб по привычке пришел в собор раньше, сделал несколько кругов и нацелился глазами на левый придел. В назначенный час в третьем ряду присела миниатюрная женщина с высокой прической. Она не опустилась на колени для молитвы, опершись на прочную планку, прикрепленную к предыдущему ряду, а принялась что-то искать в дамской сумочке. «Не католичка», — отметил Винтроп. Подошел, спросил по-русски:
— Простите, можно присесть?
Для Винтропа встреча была проходной. Этой миниатюрной даме, видимо, тоже не хотелось завязывать знакомство с заезжим американцем, — кстати, собор Св. Стефана предложила она, Боб намеревался угостить ее мороженым в кафе «Моцарт». Разговор сразу пошел по делу, и вновь подтвердилось, что люди, не ввязанные в московскую политическую драку, воспринимают ситуацию в России объективнее. Вдобавок странным образом повторилась женевская история с Паскалем.
Завершив основную часть беседы, они коснулись общей ситуации в России и вышли на вопрос, всегда интриговавший Винтропа: почему выбор Путина пал на Медведева, а не Иванова, что казалось более логичным.
Она удивленно глянула на Боба и ответила так просто, что он поразился: почему сам не сообразил?
— Путин и Иванов из одного гнезда, оба из внешней разведки, причем Иванов званием выше. Он абсолютно свой, политически на него можно полностью положиться. А в человеческом плане? Представьте, что у президента Иванова появятся амбиции. Знаете ли, высшая власть толкает людей на неожиданные кульбиты. В общем, Иванов-президент, связанный с силовыми структурами — ведь и министром обороны был! — это потенциальные сюрпризы. А Медведев... У него нет опоры среди силовиков; если пойдет что-то не так, укоротить его несложно. Внутренний компромат возможен.
— Что значит — внутренний?
— Господи, неужели вы допускаете, что за личной жизнью Медведева плохо присматривают? При необходимости на ушко такое шепнут, что сам откажется от любых авантюр. Вот он — выбор между Ивановым и Медведевым. Похоже, вы недооцениваете Путина.
В тот раз Боб пожалел, что выбрал не тот тон общения — сугубо деловой. Впрочем, при домашнем анализе копнул глубже и пришел к выводу, что она укоренилась в Вене со своей миссией. Тот особый мир, в котором существовал Боб Винтроп, во-первых, допускал различные варианты двойного человеческого бытия, а во-вторых, предписывал не совать нос не в свое дело.
Но так или иначе, а та дама ответила на главный вопрос текущего момента, который Винтроп ей даже не задавал: осмелится ли Медведев пойти на второй срок? Теперь Боб точно знал: это исключено! Путин вернется в Кремль. Медведев — фигура, битая кувалдой реальности.
Воспоминания увлекли Винтропа, но, глянув на часы, он понял, что вот-вот появится Подлевский. И в этой связи снова вспомнил венскую встречу десятилетней давности.
Оценив по достоинству аналитическое мышление мимолетной знакомой, Боб счел возможным спросить, с кем, по ее мнению, ему полезно пообщаться в Москве. В ответ прозвучало несколько знакомых имен, а в дополнение она сказала:
— Есть любопытный тип, я называю его флешкой. В том смысле, что он, не занимая должностей, — актер без ангажемента, но с гламурным налетом — погружен в бесконечные общения и стал хранилищем самой разнообразной информации. К тому же капитальный русофобище. Его зовут Аркадий Подлевский. Вы без труда наведете о нем справки, а при встрече сошлитесь на меня.
В эту минуту Винтроп услышал:
— Рад вас видеть, Боб.
Подлевский сел напротив, дружески пожал протянутую руку.
В последние годы они встречались регулярно, и Аркадий с энтузиазмом вываливал Бобу обильную, пеструю пустомельщину, из которой Винтроп выуживал полезные сведения. Подлевский, конечно, понимал, с кем имеет дело. Но поскольку формально не являлся носителем государственных секретов, видимо, решил сыграть свою игру, плотно сойдясь с влиятельным американцем, не стесняясь показывать свои замашки, говорить о своих притязаниях.
Но после напугавшей его командировки на Урал Аркадий решил закинуть удочку по-крупному. Начал с рассказа о близком знакомстве с очень солидным деятелем, обладающим колоссальной информацией.
— У него прямые выходы на Кремль, на ФСБ, — понизив голос, объяснял Подлевский. — Я сопровождал его в командировке и видел, как перед ним расшаркивался губернатор. Между прочим, должность неприметная — советник председателя банка, а машина с мигалкой, пропуск- вездеход. Интереснейшая фигура! Кстати, если есть желание, могу при случае познакомить. Мы с Борис Семенычем сошлись.
«Знает, знает, подлец, что мне нужно, — думал Боб, слушая Подлевского и в очередной раз отмечая: — Сырой, совсем сырой!» Винтроп сразу прикинул, что собой представляет этот Хитрук, горячо рекламируемый Аркадием, и понял, что знакомство с ним не имеет перспективы. Хитрук не согласится, и, если Подлевский все-таки устроит встречу, выйдет неловкость. А Винтроп совсем не кстати угодит в списки «меченых». С такими людьми знакомятся не через сошек вроде Подлевского.
Между тем Аркадий, посчитав, что показал свою солидность, перешел к делу:
— Боб, давно хочу попросить совета. Меня все чаще посещает мысль перебраться в Америку. Что на это скажете?
Винтроп помолчал, обдумывая ответ, а Подлевский продолжал наседать:
— В принципе я человек не бедный. Но ведь и в Штатах придется искать какое-то дело. Вы меня неплохо знаете. Чем бы я, на ваш взгляд, мог заняться в Америке?
— А что, здесь горячо становится?
— Не то чтобы горячо, а как-то неустойчиво. По-разному могут события повернуться.
Но Подлевский нужен был Винтропу в России, а не в Америке. И вдруг мелькнула забавная мысль, он сказал:
— Конечно, вы неплохо смотрелись бы в богемных кварталах Сан-Франциско. И в Америке могли бы заниматься тем же, что и здесь.
— Чтобы войти в американские обстоятельства, перезнакомиться с нужными людьми, понадобится лет десять. Вся жизнь уйдет.
Боб рассмеялся:
— Вы меня не поняли. Вы могли бы играть роль связного между нашими бизнесменами и русской реальностью, которую прекрасно знаете.
Аркадий даже подскочил на мягком стуле — его наконец осенило! Он был безмерно благодарен Бобу за подсказку, в мозгу уже роились варианты будущих авантюр. Но Винтроп осадил прилив эмоций:
— Вопрос в другом: где вам лучше жить? В Америке или все же в России? Может быть, на два дома? — хитро глянул Боб. — Но завязать связи с нашими бизнесменами я помогу. Кстати, ни разу не был у вас в гостях. У вас приличная квартира?
— В принципе неплохая, однако не люкс. Район центральный, но дом неважнецкий.
— Это не есть хорошо, — кисло поморщился Винтроп. — Давайте поступим так. Не будем форсировать события. Я наведу справки и мосты в Вашингтоне, в Нью-Йорке. А вы тем временем подумайте о хорошей собственности здесь, в Москве. Поверьте, это имеет значение.
Винтропу было глубоко наплевать на мышиную возню Подлевского. Он даже не вдумывался в суть дела, а импровизировал, как говорят в России, «лепил горбатого», делал вид, будто принял просьбу близко к сердцу. Но он, конечно, не мог предположить, какие роковые события разыграются после его мимоходного, равнодушного замечания о поисках Подлевским приличной квартиры как прелюдии к российско-американскому бизнесу.
10
В комитете по промышленности Виктору Донцову оформили постоянный пропуск в Госдуму — нарекли внештатным помощником депутата, — и он стал захаживать в здание на Охотном ряду. В первый-то раз его распирало от гордости — шел в «храм парламентаризма». В историческое здание, где работали Каганович, Байбаков — фамилии, хранившие память о великом, хотя и вытоптанном прошлом.
Но когда визиты сюда стали рутиной, когда Донцов сошелся с аппаратом Комитета — главной здешней тягловой силой, — ореол померк, Дума оказалась заурядной бюрократической машиной.
Виктор суетился по делу — пробивал закон о станкостроении. Сперва обзавелся радетелями, убедил нескольких депутатов поручить ему, знатоку отрасли, подготовку эскиза законопроекта. Его долго мусолили по кабинетам, привлекали экспертов, которых аппаратчики за глаза величали «экспердами». Вариант Донцова в Комитете лег на душу, но, во-первых, надо шлифовать его по части парламентской стилистики, а во-вторых, регламент требовал побочных мнений, потому приглашали спецов со стороны. С некоторыми Донцов зафрендился по Инету, они подсобили с формулировками. Двое других — один с модной стрижкой «кроп» и прямой челкой до середины лба, другой бородач, словно вчера из барбер-шопа, — оказались псевдоэкспертами, с апломбом переливая из пустого в порожнее, неуклюже скрывая свою мыслебоязнь.
Наконец формальности соблюли, было сказано «Годнота!», то бишь подходит, и законопроект сочли готовым для обсуждения на Комитете, чтобы отослать на утверждение в правительство.
И тут началось!
Как шутили думские аппаратчики — с учетом тогдашнего общественного скандала, — «матильдомер зашкаливал».
Виктор не подозревал о такой изысканной бюрократической волоките. Из правительства шли поправки, заставлявшие вспомнить Гоголя: «Дурь почище сна!» Они придавали законопроекту двусмысленность, оснащали его недомолвками, извращали изначальные смыслы. В аппарате комитета под лозунгом «Паровоз им навстречу!» пыхтели над новыми формулировками, чтобы обойти креативщиков с Красной Пресни, и звали на подмогу Донцова.
Виктор поначалу не схватывал сути этой странной игры: почему, зачем ясные строки законопроекта пытаются затуманить, размыть, выхолостить, сведя их к аморфной пропагандистской риторике? Но Петр Демидович Простов, старейший комитетский аппаратчик, доброжелательный к стараниям Донцова, пояснил:
— Эх, Власыч! Не ухватываешь чиновного маневра. У Белого дома одна задача: их умопомрачительства заранее невыполнимый закон рисуют! А наша задача с полными карманами уважухи учесть пригоршню их букв и запятых — без этого никак! даже обсуждать не дадут! — но так извернуться, чтобы уклончивые помехи нейтрализовать, чтоб не оставить щелей для коррупции. Лескова почитай, на Пресне у нас теперь «кувырк-коллегия».
Простов, говоривший с легким захрипом, отчего его голос был узнаваем, издавна работал в Комитете и считался чуть ли не старейшим аппаратчиком в Думе. По возрасту его могли давно спровадить на пенсию, но кто-то побуждал кадровиков продлевать контракт. Петр Демидович некогда был инструктором ЦК КПСС, и его, возможно, берегли как реликвию. Простов как-то сказал Донцову:
— В Думе, в Кремле начальство с виду одинаковое, а душу поскреби — у всех разная. Наверное, кто-то считает, что надо сохранять аппаратную преемственность. Я же чувствую, меня неспроста держат, с ведома. Хотя на верхах не кручусь, никого не знаю. От оно как...
Такие разговоры вели в неофициальной обстановке. Два дня в неделю — иногда и третий прихватывали — шли пленарные заседания, и при нынешних строгостях пропускать их не полагалось. А когда ни пленарок, ни заседаний Комитета, депутаты встречались с нужными людьми. И общались, обсуждая «шум больших идей», как пел Гребенщиков. Это был невидимый для посторонних, но причудливый хоровод мнений, облегчавший человеческую притирку.
Случались и келейные сидения, иногда длившиеся допоздна, иной раз с гранёнышами, куда плескали «Хеннесси», — особенно при вязких, ожесточенных спорах с выразительными текстами и красноречивыми жестами. Эта умственная движуха была внутренней составляющей депутатской жизни, способствовала взаимопониманию, ибо самые жаркие дебаты вели в кабинетах, где собирались депутаты одного комитета, но из разных фракций.
Здесь кучковались запутинцы и путиноборцы, патентованные прогрессисты и коммунисты-лайт. Эти градации рождались непосредственно в думской тусовке. А были еще «делопуты» — полубездельники, «депутаны» — без гендерных различий, — вечно готовые к перемене взглядов. На думском танцполе каждый исполнял свое «па-де-де». На пленарках фракции заявляли позицию официально, но в кабинетных ристалищах, в буесловиях со сложными русскими речевыми конструкциями, мнения звучали разные, без оголтелой извращенной политкорректности, накатывающей с запада.
Не сразу, после негласной проверки, на такие посиделки начали при случае допускать и Донцова, признав его своим, не треплом и с мнением. Там он сошелся с Георгием Лесняком, потом с Севой Добычиным, с которым мимоходом познакомился в Доме приемов, — оказалось, Льняной тоже из этого комитета.
Как-то после затянувшихся разговоров в Думе Донцов предложил подбросить Простова домой. Тот сперва отказался — «Рядом живу, за “Ударником”», — но ввиду дождливой погоды согласился. Виктор сел с ним на заднее сиденье «мерседеса», и слегка датенький Петр Демидыч, видимо, в благодарность за участие начал объяснять, почему думские приняли Донцова в свою компанию.
— Понимаешь, в партийные времена было правило. — Донцов незаметно включил внутреннюю связь, чтобы телохранитель Вова слышал разговор. Мелькнуло: «Потом проверю». — Допустим, человек со стороны случайно оказался за одним столом с секретарем райкома Ван Ванычем. А завтра для авторитета среди знакомых хвастает: «Ну, мы с Ван Ванычем крепенько закусили!» Да еще застольной себяшкой — ну, селфи по-нынешнему — в нос тычет. Такого потом ни к одной партийной компании за версту не подпустят. «Вам мимо! Брызги да визги не для нас!» Почитай Эсхила. «Двойною плетью хлещут празднословного». А другой, который о встрече с Ван Ванычем ни гу-гу, — с ним дело иметь можно. Вот ты не трепло, я к тебе приглядывался. Это правило с цэковских времен в нынешние аппараты перешло через таких, как я. Я свое прошлое цветами не украшаю, в политику не лезу. А вот аппаратный устав соблюдаю. Из быстроумных кто зарвется, я ему по-отечески: «Ты куды, алень?» Я человек советской выделки, «эпохи Москвошвея», зеркало в кривизне своей рожи никогда не винил. Но вот дожил до чужих мне времен.
Попросил остановить машину.
— Все! Свая дошла, баба отскакивает! — Хрипло рассмеялся. — По базовой профессии я строитель, до сих пор профтермины помню. Сваю бьем, бьем, она идет в грунт. А потом баба начинает отскакивать. Значит, дошла до тверди. Приехал я, Власыч, дома.
Когда распрощались, Донцов спросил у телохранителя Вовы:
— Слышал?
— А то!
— И что скажешь?
— Интересничает мужик. Истинную правду глаголет. Так и было. Кто трепался, хвастал, что он в ГОНе баранку крутит, — в Гараже особого назначения, — тех убирали. Сперва на кружку ставили — ну, в бане нижний чин, который на камни водой или ароматом плещет, — в общем, в подручные переводили. Потом и вовсе сокращали.
А дней через десять на думских посиделках вспыхнул яростный спор по поводу кандидата в президенты Грудинина. Правда, самого Грудинина помянули мельком, он стал как бы детонатором взрывных дебатов.
— Какие вы, мать вашу, коммунисты! — накинулся Добычин на Простова, хотя тот никакого отношения к партии не имел. — В церкви ходите, с попами лобызаетесь. Может, и свечные ящики в приходах держите? В мечетях тоже частые гости, с муфтиятом ручкаетесь. Это вам Ленин завещал? Или о мировом социализме радеете? Нет, все пляски вокруг России. А культура? Ленин-то про две культуры учил: пролетарскую и буржуазную. А вас только национальные традиции волнуют, классовый подход в сортир слили, как естественные выделения при витальных процессах. Э-эх, эмалированный вы наш!
Простов только улыбался и слегка посмеивался. Но когда Добычин принялся костерить коммунистов за «фальшивую оппозиционность», все-таки уронил словечко:
— Понимайте, Всеволод Сергеич, как знаете, но я коммунистами считаю не горбачевскую клику, развалившую великую страну, а нынешних, за народ радеющих.
— Но чего же они Ленину поклоняются, — не унимался Добычин, — ежели от главных его заветов ускакали? Ленин и партия — близнецы-братья! Да они ныне дальние родственники, по сотовой связи общаются, и то в праздники. Плачущие большевики! Помрачение сознания! Классовый разрыв! К чему вся эта похабель?
Любящий пофилософствовать Лесняк начал шуткой:
— Жучь его, Сева, жучь!
Но сразу сменил тон:
— А вообще-то, Льняной, усовестись. Во-первых, чего на Простова взъелся? Он в ЦК тридцать лет назад работал, а сейчас в компартии не состоит. Верно говорю, Петр Демидыч?
Тот кивнул.
— Во-вторых, ты чего хочешь-то? Чтоб КПРФ антиклерикальной стала? Чтоб Россию на хворост для мирового пожара пустила? Чтоб культуру на классовую основу перевела? Чтоб коммунисты занялись продажей далекого прошлого, подохшей эпохи? Или как у Есенина: стране стальную клизму? Мы сегодня стаканами не шумим, а ты разбушевался, как в портовом борделе.
Добычин снова забулькал о несоответствиях философии КПРФ ленинской классике, но остался в одиночестве. После короткой паузы, оснащая речь извинениями, неожиданно вступил Донцов:
— Простите, но как человек, далекий от изношенной идеи коммунизма, считаю, что партия Зюганова молится на Ленина, а на деле-то идет за текущей жизнью, отражает чаяния. По завету Дэн Сяопина: «Не надо шуметь, надо выиграть время». За минувший век в стране, в народе переменилось много. Как же КПРФ соответствовать ленинским нормам? Если бы не партийный эгоизм...
Глаза у Добычина округлились, в наставшей тишине он не мигая глядел на Донцова, но словно не видел его, напряженно поглощенный каким-то воспоминанием. Даже щека дернулась. Вдруг почти криком:
— Стой, стой! А помните в доме приемов вы внизу сидели, за коньячком, а я к вам со своим приятелем Жорой Синицыным подкатил? Должны помнить! Он в тот раз ляпнул, что в провинции, а он с Урала, считают, будто Путина приватизировали либералы. Ты, Георгий, от того разговора увильнул сразу, вместе с ним, — кивнул на Донцова, — наверх заторопился, трапезничать.
— Я того парня приметил, — откликнулся Донцов. — О приватизации Путина, такое не забывается. Лысоватый, невысокий, с брюшком.
— Он, он! — радостно вскинулся Добычин. — Память у вас цепкая. Но почему я Синицына вспомнил? Он же в провинции сидит, много думает, голова светлая. К КПРФ, понятно, не принадлежит, но симпатизирует. И знаете, что он сказал? Я недавно в округ летал... Коммунистам, говорит, очень мешает буква «К». У народа от этой буквы давняя травма. Я, говорит, с людвой много общаюсь, и простой избиратель твердит: во всем прав Зю, вот кабы он партию переименовал — она же все равно не коммунистическая! — вся голосовалка была бы его. Буква «К» для людей простого звания — словно шлагбаум. Тут, говорит, как в Новом завете: что сеешь, не оживет, если сперва не умрет.
— Ишь, чего всхотел! — воскликнул Лесняк и миролюбиво добавил: — А твой Синицын мужик, видать, крупный, не гурман из Макдоналдса. Это я еще тогда заметил.
— И то важно, — поднял указательный палец Добычин, — что он не в столичной политтусовке крутится, а отражает мнение провинции. Он же на Урале не заезжий, его с младых ногтей знают, кто только с ним не шашлычил. Говорю же, недавно в округе был на заседании торгово-промышленной палаты. Кто верховодил? Синицын! И сразу видно: знает, чем народ дышит.
Помолчали, переваривая неожиданный поворот дискуссии. Потом Лесняк задумчиво произнес:
— А ты, Сева, скипидарчику нам вспрыснул. Смотри, как расцицеронился! Пестня!.. Да-а, ежели коммунисты обернулись бы общенародной левой партией, сохранив региональную структуру, история России могла бы пойти иначе.
— Вы о чем? — вежливо спросил Донцов. — Грудинин может стать президентом?
— Да при чем тут Грудинин! — не очень корректно отмахнулся Лесняк. — Я вообще не о 2018 годе, с ним все ясно. Сейчас стране без Путина не выжить. А вот что будет на выборах в транзитную Думу 2021 года, когда пойдет кавалерийская рубка? Что будет в 2024 году, когда в России неизбежен транзит власти, передача тронных полномочий? С девятнадцатого марта начнется у Путина последний перегон. По ком через шесть лет будет звонить политический будильник?
— Кстати, Путин официально отказался от предвыборных дебатов, — невпопад влез Добычин, и его слова прозвучали вопросом к Лесняку.
Тот ответил:
— Это дело привычное. Однако появление Грудинина все меняет. Тут дебаты были бы кстати. Помяните мои слова, люби друзи, отказ от дебатов с Грудининым Путину еще аукнется. Не в смысле выборных итогов, а позже, в 2021 и 2024 годах, когда проблема авторитета станет главной. Грудинин, как его ни прессуют СМИ, не политик, он от народа представительствует. В игнор его посылать не комильфо. С авторитетом вождя вообще теперь непросто: очень некстати подвернулась корейская олимпиада. Имиджевая катастрофа! Как унизили, а! Тоже на авторитет Кремля легло.
— Выхода не было, — подал голос Простов. — Если бойкот, о чем говорили, нас не допустили бы к двум следующим олимпиадам.
Лесняк укорно глянул на Простова:
— Был выход, Петр Демидыч. Я о нем заикнулся, а на меня думские личности, заинтересованные в корейском турне, всех собак спустили, считай, рот заткнули. А надо бы в ответ на наглое издевательство отправить на Игры команду из шестых номеров, отказаться от трансляции. Форму соблюсти, а по сути, плюнуть на МОК. И они без козырей! Не обращать на них внимание, пусть творят что хотят, над ними весь мир смеялся бы. В историю корейские игры вошли бы как Россией пропущенные. Но без последствий для завтрашнего дня.
— А что? Разумно, народ бы понял, — комментировал Добычин.
— Разумно! — издевательски усмехнулся Лесняк. — Так надо же было думать. А кому думать-то? Мыслителей в Застьенье днем с огнем не сыскать. Вот Путину и подсказывают то нацидею под видом патриотизма, то олимпиаду без флага и гимна... Ушли от идеологии и получаем по полной. Боюсь, не в последний раз, как бы хужее не было.
Перебивка про олимпиаду не интересовала Донцова, он как бы не слышал Лесняка, ушел в свои мысли — это свойство помогало сосредоточиться на главном. А главным он в сей момент считал мощную заявку этого уральского Синицына: КПРФ хорошо бы избавиться от ленинской тени. Для этого незачем отрекаться от прошлого, предавать идеалы. Просто сменить название. Сегодняшние спорщики, думал Донцов, не говорят о сути, погружены в партийные дела. А межпартийные дрязги — мелочь, частности для пленарок. На деле-то в России насмерть схватились две силы. Небольшая, но плотная консолидированная либерально-прозападная элита, компрадорский олигархат, подмявший под себя макроэкономику, духовно-культурную среду, медиа, и разрозненное большинство народа, которое либералы презрительно кличат быдлом, крымнашистами.
Но ведь КПРФ — самая мощная системная оппозиция, с развитой сетью местных комитетов. Если убрать литеру «К», народ встанет за левую партию. Страна-то левая. Магистральные настроения народа — левые!
И тут Донцова осенило. Он громко спросил, обращаясь ко всем сразу:
— Кто скажет, на какую общественно-политическую силу опирается сейчас Путин?
Лесняк недоуменно посмотрел на него:
— На правящую «Единую Россию» с конституционным большинством.
— То-то он от нас в президенты не двинул, — съязвил Добычин.
«Сказал А, надо говорить Б, иначе попадешь в Г», — подумал Донцов и решил сказать напрямик:
— Я не про Думу, я о двух главных силах современной России. О либеральной прозападной элите, чье кредо заявил Кудрин, предложив «покончить с национальным эгоизмом», то бишь заключить «Брестский мир». И об океане рядовых граждан, чей жизненный уровень снижается четвертый год подряд. На какую из этих сил опирается Путин?
Простов в волнении встал с кресла, в котором уютно слушал интересный разговор.
— А почему вы так ставите вопрос? — в растерянности спросил Лесняк.
— Могу объяснить, — твердо ответил Донцов, в голове которого сложилась ясная модель. — Основные экономические решения Путин принимает в кругу титульных либералов, задающих повестку дня, зовущих в либертарианский рай Кудрина. А на шествии «Бессмертного полка» идет в гуще народа. Он открывает Ельцин-центр, Стену скорби, а потом памятник Александру Третьему.
— Ну и что? — перебил Добычин. — Президент учитывает интересы всех слоев общества.
— Могу продолжить, — невозмутимо парировал Донцов. — О намерении участвовать в выборах Путин объявил на заводе, среди рабочих. А на московское собрание по выдвижению собрал политкультурный бомонд.
— Ты что хочешь сказать? — нетерпеливо, с волнением, даже заполошно снова перебил Добычин, а Лесняк в такт его вопросу кивнул.
— Я знаю, что он хочет сказать! — раздался громкий хрипловатый голос. — Власыч хочет сказать, что «телодвижения» Путина все больше начинают напоминать лавирования Горбачева, которые привели к сдаче страны. Я верно понял, Власыч?
— А ты, Петр Демидович, почем знаешь, об что он толкует? — опять перебил Добычин.
— Потому что я Горького читал, — с легким вызовом ответил Простов. — Горький что писал? Не о том думайте, что спросили, а зачем, для чего, и поймете, как ответить. Мудро! Я верно тебя понял, Власыч?
— Верно, Петр Демидыч. Но тут формальным сходством не обойтись. Путину труднее. Он вынужден балансировать в нескольких плоскостях. Одна ось: компрадорский олигархат и национальный капитал. Другая: оборзевшая от диких бабок элита, условно вменяемая богемная тусовка и страждущий народ, андеркласс бедных. Третья ось: чиновничий фаворитизм и махровая коррупция. Четвертая — внутриэлитный раскол, который нам подбросил Трамп, поделив олигархов на «друзей Путина», которых прессуют, и на его тайных недругов. Вроде и чистит русские офшорные конюшни, а на деле элиту сталкивает лбами. А тут еще нравственное раздвоение общества, утрата былого интеллектуального величия, фатальная нехватка мыслителей; сплошь подёнщики. После Крыма паралич созидательной мечты. За нацидею выдают патриотизм, но это же состояние души. Если так пойдет, то нацидеей объявят цифровизацию жизни.
Донцов перевел дух и снова:
— Нет у президента мощной силы, на которую он мог бы опереться. По-научному это звучит как неполная субъектность. Сислибы во власти рвут свое. Вдобавок из ельцинского семейного кокона никак не выберется. Представляете, какой головняк! Лишь благодаря особым лидерским качествам в этой каше удается ему удерживать балансировку. А с 19 марта пойдет другая история. Такие маневры могут завести в Эгершельдские путевые тупики.
— Что такое Эгершельдские тупики? — спросил Лесняк.
— Вы, видимо, во Владивостоке не были. На мысе Эгершельд заканчивается Транссиб.
— Вас надо с Синицыным свести, сдвоить аналитические мозги, — вымолвил пораженный Добычин.
Но Донцов уже не мог остановиться.
— Погодите, ребята. С чего разговор пошел? С того, что Ленин и КПРФ не близнецы-братья и хорошо бы коммунистам избавиться от литеры «К», от титульного прозвища. Что Грудинин не просто беспартийный, а еще и удачливый бизнесмен, ведь это важнейший факт, подсказывающий Зюганову направление движения. Если КПРФ к 2021 году станет левой партией, то будет действовать совсем в других координатах. Новая движуха. И вот она — твердая опора президента, ибо за левой партией — народ.
— Выходит, Власыч, после 2024 года судьба России может больше зависеть от Зюганова, чем от Путина? — подал голос Простов. — И если Зюганов сдрейфит, если слякоть, при переходе власти может смутой запахнуть.
Через секунду добавил:
— В таких делах лейтенантская смелость нужна. Иначе получится шницель и штрудель в одной тарелке. Концептуальный тупик.
— То-то и оно! — подхватил Донцов, чувствуя, что Лесняк и Добычин, хотя неизреченно, согласны с его логикой. — Но это не значит, что Зюганов станет президентом. Вперед пойдут другие поколения. Но левая партия будет участвовать в подборе кандидата — вместе с Путиным. Потому что, прав Георгий, одного путинского авторитета не хватит. Путин уже предстал перед судом мирской совести. Процесс, конечно, будет нескорым, но сам факт говорит о многом.
— Наплыв утопий и сладкий сон. Грёзы Морфея, — устало сказал Добычин.
— Да-а, вот она, добрая внучка злой бабушки. Петр Демидыч нюх-то не теряет, — возражая, неопределенно протянул Лесняк. — Неужто Путин из-за всей этой круговерти и впрямь под седлом ходит?.. Канешна, надо еще переварить эти умопостроения, но одно ясно: волноваться надо не за 2018 год, а за 2021-й и 2024-й. Время пасмурное, экономику штормит, как бы на стыке эпох библейская засуха с саранчой не приключилась. Еще и от либеральной жандармерии, как писал Герцен, от политических голодранцев, от ржавого люда, от борзоты придется отбиваться. Забот невпроворот. Тревожное будущее надвигается, снова трудный век.
Непривычно активный в тот вечер Простов неожиданно подвел итог затянувшегося спора:
— Проблема-то, мужики, вот в чем. Наверху не знают, чего хотят. То ли достичь лучшего, то ли избежать худшего. А без ясной постановки задачи, без внимания к философии русской жизни — она от политики мало зависит, стихия народная, кем бы ни был человек русского звания — православным, коммунистом, монархистом, он в любом случае за справедливость. Короче-то говоря, для власти бороться за интересы народа недостаточно, надо выражать его волю. К тому же власть сводит народный интерес только к материальному благу, ошибка роковая. Из-за этого Союз рухнул. Помню, после Беловежской пущи стоим с приятелем у первого подъезда ЦК, он на часы глянул — обычная «Слава»! — и говорит: «Смотри, Петр, такие маленькие часики, а какое большое время отсчитывают!» Слова-то вещие. Похоже, сегодня они снова кстати.
Когда расходились, Простов обратился к Донцову:
— Ты меня не подкинешь по знакомому маршруту? Устал я от этих разговоров. Нервы!
Ехали молча, каждый думал о своем. Но когда «мерседес» остановился у дома, Петр Демидович сказал:
— Вот что, Виктор, в моем подъезде когда-то жил близкий друг, вместе в ЦК работали. После развала партии, страны попал он в руки мошенников, ну и так вышло, что сиганул с седьмого этажа. Сергей Богодухов, отличный мужик! А семья его по-прежнему здесь. И Катерина, вдова, через неделю отмечает юбилей, впервые за четверть века собирает бывших друзей мужа. Не возражаешь, если тебя с собой возьму? Богодуховы живут замкнуто, чужих не привечают. Тебя на свою ответственность приглашу, мне Катя доверяет.
В душе Донцова взметнулась буря чувств. Но ничем не выдал себя, равнодушно спросил:
— А зачем я там нужен?
Старик разозлился:
— «Зачем, зачем!» Неужто не ясно, что в моем возрасте люди ничего просто так не делают? — И конспиративно добавил: — Потом поймешь.
А через день позвонила Нина Ряжская, испуганно оповестила:
— Виктор, в следующую субботу Катя Богодухова справляет юбилей, гостей назвала. Нас с Димкой тоже. — Сделала паузу. — Но мне сдается, юбилей вроде как смотринами обернется. Этого... ухажера, Подлевского. Что делать, ума не приложу. Как бы беды не случилось.
Донцов спокойно ответил:
— Я тоже буду на юбилее.
— Ты тоже? Как вышло? Кто пригласил? — Нина очумела от неожиданности.
— Потом скажу. Но перед визитом к Богодуховым с тобой и Дмитрием надо пересечься, все обговорить. Лады?
— Лады, лады! — заверещала Ряжская. — Ты только свистни, я куда хошь примчусь.
11
По неписаным законам бытия большое горе, внезапно постигшее человека, наделяет его мудростью и особым вниманием к знакам судьбы. Эти перемены затронули и Катерину Богодухову. В какой-то момент жуткое прошлое, словно абордажными крюками, стало еженощно цеплять ее память, вторгаясь в сознание, омрачая текущие дни. Она не могла не задуматься, что происходит, почему вдруг обострилась давняя глухая душевная боль, и, не особо умничая, пришла к выводу, что муж, погибший страшной, но геройской смертью — да, да, геройской, ибо не в грехе отчаяния, а ради спасения семьи, — шлет ей некий сигнал, который она обязана распознать. Прошлое вошло в нее, принадлежало ей на правах собственности и требовало чуткого обхождения.
Катерина рисовала в уме, как выглядел бы Сергей, будь он сейчас с ними. Богатый жизнью, мощный старик представал перед ее мысленным взором. Что было бы для него особо важным?.. Неуврачеванность глубокой душевной раны влекла к раздумьям. На память приходил почитаемый в семье — в те счастливые, благословенные дни! — Тютчев: «Наше время давно забвеньем замело». Но постепенно Катерина начала склоняться к мысли, что любимый поэт прав лишь отчасти. Да, мир неузнаваемо меняется, его техническая оснастка, способы и правила людского общения уступают место иным порядкам, ценности прошлого тускнеют на фоне новомодных веяний. Однако набеги на духовный строй русской жизни лишь временно заметают его чуждыми наносами, он воскресает снова в других поколениях, генетически хранящих традиции русского уклада.
Большие батальоны размышлений маршировали в сознании Катерины. Подступало глухое старческое время, светлые мысли о встрече с Сергеем там, где бескрайнее пространство и бесконечное время, перемежались с темными аллегориями. Но в конечном итоге высший чин ангельской иерархии — херувим явился ей во сне и подсказал отгадку послания мужа: все клином сходится на духовном благополучии дочери. О будущих ее нажитках она не думала — имеют значение, но не сами по себе, а лишь в приложении к любви, семейному счастью, сбережению самости, что и сплавлялось для Катерины в понятие духовного благополучия.
Она все полнее загружалась этой заботой, ибо видела: в эпоху тотальных развлечений, вопреки порочной отрыжке времен блатного капитализма, наперекор ущемлениям русской ойкумены и повальным подражаниям, дочь избежала новомодных завозных приманок, выросла цельной, сохранила особость, отличавшую предков, — словно оберегал ее с небес тайный отцовский погляд.
Но впереди, волновалась Катерина, главное испытание — замужество, о чем она мечтала и чего панически боялась, из-за чего не спалось ей «в ночь глухую».
Однажды не выдержала, сказала дочери:
— Тебе годков-то — слава Богу! Конечно, ныне замуж не торопятся, выгодной партии ожидают. А там, глядишь, и детородный возраст начнет поджимать. Сколько таких случаев!
Вера с постным лицом ответила в тон:
— Разве ты не знаешь, что я феминистка? — И весело рассмеялась: — До первого достойного мужчины!
И вот достойный мужчина, кажется, замаячил на горизонте: с еженедельными пышными букетами, с приглашениями в театры, в рестораны — в общем, первостатейный пылкий любезник без ухарских повадок. Особенно вдохновила Катерину их совместная поездка на Урал. Возможно, тот мимоходный разговор с дочерью был кстати.
Все, казалось, шло путем. Но в какой-то момент чуткий материнский глаз приметил, что отношения Веры с Аркадием — это имя незаметно вошло в семейный обиход — встали на паузу. Встревожившись, Катерина пыталась сдвинуть их с мертвой точки, чтобы внести ясность. Несколько раз пробовала затевать с дочерью интимный разговор, однако Вера с присущим ей тактом аккуратно уходила от него, отделываясь общими фразами, смысл которых сводился к изнурявшему мать «ни да, ни нет».
Катерина терзалась желанием познакомиться с Аркадием, чтобы составить личное впечатление. Но от предложения при случае пригласить его на чашку чая Вера деликатно уклонилась. В итоге у матери остался единственный способ — возможно, повод — выяснить свадебные настроения дочери. После долгих раздумий она отважилась нарушить четвертьвековое затворничество и объявила о решении справить юбилей.
Когда сказала Вере, намеренно сопроводив неожиданность нудными сетованиями на возраст, дочь сперва изумилась, но после секундной растерянности нежно обняла маму. «Все сразу поняла! — не без гордости за нее подумала Катерина. — Поняла, что будет не юбилей, будут смотрины Аркадия. Если же она его не пригласит — это тоже ясность».
Но для Веры вопрос о приглашении Аркадия не был сложным. После путешествия на Урал, где в ней проснулся интерес к общественным темам, многое в ее жизни переменилось. Недопонимая, а то и вовсе не улавливая политические хитросплетения, не умея отличить их суть и смысл от взбитой вокруг пены, от сетевого мусора, даже от банальных фейков, Вера неожиданно легко, без колебаний определилась с симпатиями и антипатиями. Это случилось как-то само собой, естественно: одним людям по душе горы, другим — морские просторы, одни увлекаются музыкой, другие живописью.
Аркадий перестал интересовать ее в качестве потенциального жениха. Началось с первой ресторанной размолвки после встречи с толстяком в кроссовках-приора, а дальше — по русскому присловью: есть дыра, будет и прореха. Подлевский нравился Вере как мужчина, но она без мучительных раздумий и душевных терзаний мысленно подвела черту их отношениям. Его антироссийские взгляды не только смущали ее, но и рождали протест. Женевское сладкопение, с которого началось знакомство, теперь выглядело нелепым водевилем.
Но человек тактичный, не шумный, она предпочитала не возражать, поскольку слабо разбиралась в новых для нее темах, и не казала своего разочарования. Вдобавок была искренне благодарна за то, что он невольно открыл перед ней новый мир интересов — загадочный, запутанный, но особо притягательный мир политики.
Теперь она иначе бродила по интернетной барахолке. Место забавностей, изысканных фотоцветов или пейзажей заняли поиски разнополюсных политических изворотов — она как бы закрепляла свои взгляды, утверждалась в новых настроениях. И, наткнувшись на что-либо шокирующее, кричала маме:
— Посмотри, посмотри, что тут пишут! «Перегорела лампочка в подъезде — пора валить из Рашки!» Ну и публика! Шутка-то со смыслом, с подвохом. «Рашка»! Как оскорбительно... Тоже мне! Аристократы из помойки.
А мать удивлялась новым интернетным пристрастиям дочери.
Однако внешне отношения Веры и Аркадия выглядели обычно, неладное заподозрила лишь Катерина. А Вера, принявшая твердое решение, не считала нужным форсировать разрыв, полагая, что сама жизнь все расставит по своим местам. И обрадовалась желанию мамы справить юбилей. Шестое чувство подсказывало, что это необычное для Богодуховых событие поможет определиться окончательно.
И обязательно надо пригласить на юбилей Аркадия, это ясно.
Аркадий Подлевский не был избалован вниманием женщин только по той причине, что неусыпные хлопоты фрилансера, торгующего своим свободным временем, не оставляли ему перерывов для интимных приключений и амурных похождений. По профнеобходимости частый гость разнокалиберных и разномастных тусовок, он назубок выучил повадки тех женских особей, которые в избытке наводняли развлекательные сборища. Нагловатые, липкие светские львицы с гламурным «сю-сю», а иногда и с изысканным подцензурным вокабулярием, заменившим запрещенное вульгарное покуривание, искушенно охотятся за разовой добычей. Жеманные, рафинированные, как правило, шикарно одетые, с меховыми боа женщины истекающего срока годности изнемогают в стремлении устроить свою личную жизнь, хотя бы в гражданском варианте. Бомондные замужние дамы — пальцы в дорогостоящих болтах! — ожесточенно жаждут запоздалых удовольствий, подыскивая подходящего мачо.
Примерно до тридцати лет он славился по юбочной части — тусовочным шевелизмом и плясками на дискачах. Туса привлекала его новизной, открывшейся вместе с приличным заработком. Это была ярмарка плотских утех, замаскированная под светское общение, а по сути, декорированная панель с повышенными ставками, где каждый выбирал себе по цене и вкусу, — как фрахтуют девиц на трассе. Хотя еще с тех времен Аркадия не привлекали «дяди, одетые как тети», все чаще мелькавшие в тусовочных кругах, особенно с богемным подбоем.
Но к сорока, когда деловых забот стало через край, а рутина тусы изрядно поднадоела, вынужденно похищая время, став всего лишь неустранимым фоном жизни, наподобие автомобильных пробок или парковочных неудобств, Подлевский уже избегал случайных знакомств по заранее известному сценарию: скучно! Хотя порой в дни отдыха после удачных сделок позволял себе расслабиться и плыл по течению событий, которые однажды едва не затянули его в опасный водоворот.
Этот мемуарчик всегда торчал в памяти.
После шумного юбилея одного из партнеров он приехал домой с Ангелиной, силиконовой ботоксной блондинкой. Все было как обычно, однако утром Аркадия ждали неотложные дела, а случайная подруга не привыкла к ранним пробуждениям. Такое бывало. Но в холостяцкой квартире Подлевского ни на виду, ни укромно не хранилось ничего ценного, и в подобных случаях, наскоро выпив чашку «нескафе» с парой бутербродов, которые наловчился изготовлять, он говорил ночной спутнице:
— Я двинул по делам. Будешь уходить, захлопни дверь.
Так он сказал и Ангелине. Но дальше пошло не по расписанию. Вернувшись к вечеру, Подлевский не узнал квартиру. Замызганные, давно не мытые полы блистали свежестью, на окнах колыхались легкие цветистые занавески, прибранная кухня сияла бликами от новой посудной нержавейки разного калибра, обеденный стол был накрыт узорчатой скатертью и заманчиво, со свечой сервирован на двоих.
— Ужин готов! — радостно встретила его Ангелина в бирюзовом платье-рубашке, бархатных бабушах и отпадных гольфиках. — На десерт тирамису-лайт.
Сто тыщ мильёнов!
Подлевский от удивления вытаращил глаза:
— У тебя же нет ключа. Как ты умудрилась?
— А зачем мне ключ? — хохотнула Ангелина. — Я позвонила подругам, и они доставили сюда все необходимое.
Утром Аркадий тоном, не терпящим возражений, потребовал запихнуть кастрюли в баул и безжалостно выставил Ангелину за дверь. Он понял ее замысел и пресек его на корню.
Хорошо дрессированная тусовочными нравами, она даже не обиделась, — прием был отработанный. И когда Аркадий изредка встречал ее в компаниях, она мило, заговорщицки улыбалась.
На Богодухову Подлевский запал «из интересу». Эта смазливая бабенка была для него первой женщиной не тусовочного круга, внутри которого он вращался. И знакомство с этой привлекательно странноватой Верой разожгло любопытство, хотя никаких долгосрочных планов Аркадий не строил. Однако поездка на Урал разочаровала и утомила. Он стал подумывать о том, чтобы сбавить обороты, а затем и вовсе исчезнуть, сославшись на далекую заграницу, где затруднена даже мобильная связь. Ему не хотелось идти на юбилей к Богодуховым: считал, что Вера задумала представить его родственникам. Но, поразмыслив, пришел к выводу, что это даже смягчит ситуацию — вместо неприятной жирной точки позволит поставить ни к чему не обязывающее многоточие.
Впрочем, Подлевский, в элегантном сером костюме итальянского силуэта — широкие плечи, узкая талия, — не думал, не гадал, что, поднявшись на седьмой этаж с двумя роскошными букетами цветов — для юбилярши и Веры, — он уже через пять минут в корне изменит свое решение.
Учтиво поздравив маму, которая, как ему показалось, со старческим бесстыдством в упор разглядывала его, расшаркавшись перед Верой, он нарочито серьезно сказал ей:
— Наконец-то пригласила меня в свое гнездышко. Что ж, показывай пенаты.
Вера из широкой прихожей провела его в просторную кухню, затем в свою комнату с книжными стеллажами, компьютерным столом и старинным трюмо, потом приоткрыла дверь в мамину спальню, где поверх постельного пледа были аккуратно разложены спицы, крючки и разноцветные клубки для плетения макраме, и в конце экскурсии пригласила в гостиную, где за накрытым столом уже сидела пожилая пара.
— Знакомьтесь, — обратилась она к ним. — Это Аркадий. — И к нему: — Это Нина Степановна и Дмитрий Валентинович, наши близкие друзья. — Улыбнулась. — По гольфу.
Подлевский поздоровался, сел на указанное место. Он не только не запомнил имен этих людей, он вообще перестал замечать что-либо вокруг. Его мозг, все его естество поглотила жгучая мысль: вот это квартира! Не простенькая евродвушка — как раз то, о чем говорил Винтроп! Какой дом! Какой район! В сознании мелькали неясные, спутанные варианты действий на просторах будущего времени, и все били в одну точку: квартира должна принадлежать ему! Планы порвать с Верой, которые он додумывал в лифте, исчезли. Он одержимо нацелился: эту квартиру надо взять! Сначала с Верой. А потом разберемся. Главное — сперва здесь припарковаться.
Отстраненный от происходящего, погруженный в новые планы, Подлевский не замечал, как внимательно разглядывают его Нина и Дмитрий. Тишина за столом становилась тягостной: обычно гости из вежливости вступают в никчемные разговоры о погоде. Но Аркадию, потрясенному квартирой, окрыленному перспективами, было не до приличий.
Вскоре Ряжская громко вздохнула:
— Пойду-ка на кухню. Бабоньки наши совсем захлопотались.
Едва мужчины остались вдвоем, Шубин нарушил молчание. Согласно намеченному плану, сказал:
— Меня не покидает ощущение, что где-то мы виделись.
Подлевский неохотно, волевым усилием оторвался от квартирных мечтаний, взглянул на визави, пожал плечами:
— Зрительная память у меня неплохая. Но, как принято говорить в наш цифровой век, она вас не идентифицирует. — И тут же, словно обухом по голове: «Я увидел Веру у могилы Соколова-Ряжского, а эти “друзья по гольфу” наверняка были на кладбище». Аркадий кожей почувствовал: что-то тут не так. Но сумятица в голове из-за неотвязных размышлений о квартире не позволяла сосредоточиться, от непоняток он даже стал морщиться, хлопотать лицом и добавил: — Возможно, мы с вами могли видеться на похоронах Соколова.
Шубин делано удивился:
— Насколько помню, вас на похоронах не было.
— Я случайно шел мимо, в тот день занимался обустройством отцовского захоронения.
— Степан Степаныч был моим тестем. Супруга моя — Нина Ряжская.
— Ах да! Он же незадолго до смерти сдвоил фамилию.
— Ну как незадолго? Лет десять, наверное.
Разговор прервал громкий дверной звонок, и из прихожей донесся голос Катерины:
— Петр Демидович, наконец-то! Видимо, трамваи редко ходят, вы же издалека ехали.
— Лифт застрял, — хрипло хохотнул кто-то. — Ко мне племянник нежданно-негаданно в гости нагрянул. Вот и решил его с собой взять. Извините, без уведомления. Знакомьтесь: Донцов Виктор Власович. Подпольная кличка — Власыч.
Из прихожей слышалась неразборчивая разноголосица, и вскоре Катерина ввела в гостиную двух мужчин, представив пожилого:
— Прошу любить и жаловать. Петр Демидович Простов, с восьмого этажа. Ему до нас до-о-лго добираться, вот и запоздал. А это его племянник... — Катерина замялась, и Хриплый, как его сразу окрестил Аркадий, подсказал:
— Виктор Власович Донцов, можно просто Виктор.
И Подлевский с немалым удивлением узнал в Донцове человека, которого расспрашивал на кладбище. Аркадию никак не удавалось логически соединить факты: этот Власыч был на похоронах, значит, связан с Соколовыми, но он еще и племянник Хриплого, а в доме Богодуховых впервые. Снова непонятка! Смутное беспокойство, овладевшее Подлевским, усилилось. Человек среднего ума, он обладал развитым чувством опасности, которое сигналило: температура момента повышается.
А Донцов, когда все расселись за столом, готовясь к юбилейному тосту, обратился к Подлевскому:
— Мы ведь с вами виделись на похоронах Степан Степаныча Соколова-Ряжского, не так ли? Вы мимо проходили и поинтересовались, кого хоронят.
Вопрос был в лоб, и Аркадию не оставалось ничего иного, как ответить:
— Да, да, вас было двое. Большой букет красных роз...
Вера, неестественно, словно от базедки, выпучив глаза, с изумлением вслушивалась в разговор. Она была потрясена. Оказывается, Аркадий был на кладбище. Почему же не сказал? Эта странность не укладывалась в логику их отношений, требовала «домашнего анализа», особого обдумывания. Но еще больше Веру смутил этот племянник Простова. Да, на похоронах она заметила двух незнакомых мужчин с букетом красных роз. И значит, Донцов — один из них. Но какое отношение он имеет к Соколовым-Ряжским? Вопросы громоздились Монбланом, и женская интуиция подсказывала, что этот загадочный Донцов, этот Виктор, этот Власыч, неспроста оказался за юбилейным столом. Вопрос о нем начал занимать Веру сильнее, чем непонятное умолчание Аркадия о присутствии на кладбище.
Между тем Петр Демидыч, слегка толкнув Донцова в бок локтем и стрельнув глазами в сторону Веры, шепнул:
— Теперь понял, зачем я тебя сюда привел?
Но тут поднялся Шубин, взявший на себя роль тамады:
— Позвольте начать застольную церемонию традиционным тостом в честь юбиляра.
— В честь юбилярши! — поправила его жена, большегрудая «кошелка» пенсионного возраста, ну прям сороковая бочка.
— А может, в честь юбилярки? — весело упирался Шубин. — Разве в этом суть? Суть в том, Катерина, чтобы ты всегда была с нами.
За столом зашумели, в изобилии посыпались пожелания здоровья. Пошли алаверды с дежурными искренними словами. Но появление в доме Богодуховых Подлевского заставляло всех, в том числе самого Аркадия, интуитивно чувствовать, что каждому из сидящих за столом отведена сегодня своя роль, каждому предстоит принять участие в какой-то подспудной борьбе. Только Донцов, Ряжская и Шубин знали, что Подлевский — отголосок страшной драмы, когда-то случившейся в этих стенах, однако их настроение неведомо как передалось Катерине и Вере. Мудрый Простов, решавший свою задачу, тоже учуял: Подлевский станет помехой. А сам Аркадий, ничего не понимая, блуждая среди непоняток, нутром ощущал, что оказался среди недоброжелателей, более того, здесь враг отъявленный и давний. В результате над столом витало общее нервозное настроение, напряженность нарастала. Это чувствовалось по тому повышенному вниманию, какое гости начали уделять своим тарелкам. Уткнувшись в них, каждый обдумывал первые ходы.
Выручил Простов, который решительно загнал разговор в политическое русло.
— А кто мне скажет, что теперь будет? — ни с того ни с сего хрипло и громко произнес он, в упор глядя на Подлевского. — После ракетных откровений Владим Владимыча.
Аркадий сразу понял, куда покатится застольная дискуссия. В таких случаях он предпочитал не соваться вперед, уловить ее стержень, а потом удивить всех неожиданным словом поперек общего настроения. Но на сей раз вопрос задан лично ему, все ждут его ответа, хотя он, конечно, может и отмолчаться — упрямо, назло этому старикану плечистого крестьянского склада. Но Подлевский, в голове которого кровельным гвоздем с зазубринами засела мысль об этой квартире, решил, что обязан показать себя здесь хозяином и задать тон. В сознании мелькнуло: «Надо быть нахальнее!»
— Вы имеете в виду этот блеф, примитивную мультяшку в Манеже? — равнодушно ответил он вопросом на вопрос, с вызовом глядя на Простова.
Тот аж поперхнулся от неожиданности, потом возразил:
— Ну-у, оценивать Послание можно по-разному. А я-то спрашиваю, что теперь будет.
— Да ничего после этого державного блуда не будет, кроме усиления санкций. Своей дешевой патетикой он не напугал, а еще больше обозлил. Политтехнология подворотен. Политические предзимки.
Аркадий снова, на сей раз с плохо скрываемой ухмылкой, глянул на Простова, понимая, что тому нечем крыть. Не пускаться же в бессмысленный, бездоказательный спор об американских расчетах. Подумал: «Один — ноль в мою пользу!»
Но тут в разговор вступил непонятный Донцов, неизвестно как оказавшийся здесь:
— Понимаете, Путин обращался не только к Западу, но и к нам с вами. И если спорить об отклике забугорья нелепо, тем более при нынешнем американском русожорстве, — у каждого свое мнение, никто никому ничего доказать не может, лишь будущее определит, кто прав, — то в России возникают другие вопросы.
— Конечно, другие! — воскликнул Подлевский. — Кто вдохновлен этими веселыми картинками, неизбежно должен поинтересоваться грандиозными бюджетными тратами на пушки — вместо масла.
— Я имею в виду иное. Новое оружие создавалось не только в тайне, но и в так называемом «кармане эффективности», как именуют личный надзор президента. Помните, он регулярно проводил недельные военно-промышленные совещания в Сочи?
— И что с того?
— «Карман эффективности» был изъят из ведения правительства, — не обратив внимания на колкость, спокойно продолжал Донцов. — Иначе говоря, эта сфера развивалась по своим экономическим закономерностям.
— Ты хочешь сказать, вне либеральной макроэкономики? — отреагировал Простов.
Виктор кивнул, но не отвлекся от мысли:
— Как поведет себя Путин после выборов? Новое оружие дает России спокойствие от угроз по внешнему контуру, о чем мечтал Столыпин, — через баланс ядерных сил, через сдерживание. У Путина развязаны руки для наведения порядка во внутренней политике. И что же? Он снова будет опираться на изношенных либеральных бюрократов, которые тормозят развитие страны? Или проявит решимость, как в оборонке, отодвинув от макроэкономики птенцов гнезда гайдарова, убрав либеральный деспотизм? Кстати, не только в экономике — и в культуре, а главное, в идеологии. Вот они, главные вопросы.
Подлевский понял, куда гнет этот Донцов, и, не желая спорить по существу, поймал его на слове:
— Значит, вы уверены, что Путин выиграет выборы?
Простов удивленно спросил:
— А у вас есть сомнения?
— Сомнений нет. — И после короткой паузы: — К сожалению.
Аркадий презирал этих людей, внезапно вставших на его пути, антизападных патриотов на зарплате. И, держа в сознании мысль о хозяйских намерениях, пошел напролом, считая важным проявить решимость. В наступившей тишине повторил:
— Да, к сожалению.
Но в разговор неожиданно влезла Ряжская — совсем с иной темой:
— А у меня другая позиция. Был бы второй тур между Путиным и Грудининым, я точно голосовала бы за Путина. А в первом туре — только за Грудинина! Однозначно, как чешет Жириновский.
— Это почему же? — спросила Катерина не столько от удивления, а скорее чтобы обозначить свое присутствие за столом.
— А потому что не во всем я с Путиным согласна. Мы с Димой думали: как выразить свое недовольство? Не пойдешь же митинговать. И голосовать против Путина не хотели, вот и решили протестовать неявкой. А когда возник Грудинин, да еще когда рекламуха против него пошла, когда стали его мочить на всех телеканалах, тут уж ясно: только за Грудинина!
— Это аппарат! — поправил Простов. — Уж я-то знаю. Чиновники в Застенье с ума посходили, им же процент нужен, вот они мавзолеи и городят. А на местах да в медиа от исполнительского ража каблуками щелкают. Этот прессинг и обеспечил Грудинину популярность.
— Нечестно его шельмуют, вот в чем обида, — отозвался Шубин. — И этот сволочизм настраивает народ против Путина, подставляют его чиновники. Хотя мы с Ниной понимаем: сейчас в Кремле Путина заменить некем.
Подлевского незаметно, однако явственно отодвинули со стремнины разговора, и, пока он раздумывал, как ловчее вернуть первенство, Донцов начал новую «фугу Баха».
— Меня больше беспокоит не текущий день, который, похоже, сюрпризами не угрожает, а завтрашний. Все ведь чувствуют, все понимают, что официальная социология занижает проценты Грудинина, выборный спектакль идет при опущенном занавесе.
— Все! Все! — горячо поддакнула Ряжская.
— И что будет после объявления результатов? — в своей спокойной манере продолжил Донцов. — Путин все равно победит, объективно. Никакого второго тура! Но Грудинин взял верную тактику: вместо пустых дебатов — чёс по крупным городам, где его принимают на ура. А ЦИК нарисует ему восемь процентов, под них сейчас цифру и шлифуют. — Забавно пошутил: — Стыдоужас! Шкандаль! Ведь в Сибири, на Урале люди знают, за кого голосовали, особенно заводской народ. Да и независимые экзитполы могут другие цифры дать. Может буча пойти, а то и протестный шторм. КПРФ, левые тоже возьмут власть за ноздри. Зачем все это Путину, если он все равно победит? Да, это кремлевские чиновники во главе с Кириенко мудруют, чтобы отличиться. Сигнальную систему, оповещающую власть об опасности, отключили, про шахтерскую канарейку забыли, напропалую жмут. А Путину, на мой взгляд, очень был бы полезен Грудинин с тридцатью процентами голосов.
— С чего это? — не выдержал Подлевский, которого все сильнее раздражал этот прозренец, по всему видать, накачанный патриотическими стероидами, слишком заливисто поет. И славно изощренный по части риторических упражнений. Издевательски пояснил: — Он же кентавр: голова коммунячья, от мумии основоположника, а туловище олигархическое. Скандальное политическое ню!
Катерина из вежливости в ответ на удачную шутку изобразила муляж улыбки. Но Донцов ответил серьезно:
— Опираясь на мнение большой части избирателей, президент мог бы увереннее менять макроэкономический курс, убавив влияние прозападных либералов.
— Если он вообще хочет этого, — сумрачно заметил Простов. — Он Ключевского любит читать, но, видимо, не насквозь. У Ключевского сказано об опасности логики полумыслей и политики полумер. В отличие от внешнего контура, он внутри страны к половинчатости тяготеет.
— А дело, Петр Демидыч, не в хотеть или не хотеть, выхода иного нет, — пояснил Донцов. — Если помазанник ограничится «улучшением и совершенствованием» нынешней внутренней политики — не только экономической! — года не пройдет, как начнут вылазить нестыковки. Да, чуть не забыл! Запад, уязвленный нашим новым оружием, понимающий, что извне на Россию давить бесполезно, с удвоенной энергией, удесятеренными деньгами ринется подтачивать нас изнутри, подкармливать пятую колонну. Удержать ситуацию нынешними кремлевскими методами будет трудно, можно потерять политическое равновесие.
— А кого вы подразумеваете под пятой колонной? — снова не выдержал Подлевский, стремясь поставить оппонента в неловкое положение.
Но остроумный ответ Донцова вызвал дружный хохот:
— Это разговор особый и долгий. А если кратко и образно, то для пятой колонны уже и формула сложилась: «Три Маши — Гессен, Слоним и Гайдар, плюс Дуня Чубайс и Ксюша Собчак». Кстати, на западе кандидата в президенты Собчак окрестили «red herring» — красная селедка, что на сетевом жаргоне у англосаксов служит синонимом отвлекающего маневра. На мой-то взгляд, выдвижение Собчак опустило общество. Вы понимаете, что я имею в виду.
Когда отсмеялись, Шубин вернулся к предвыборной теме:
— А знаете, Виктор, о чем я подумал?.. Пока Грудинин кружит по сибирским заводам, Владимир Владимирович собрал грандиозный митинг в Лужниках, что само по себе нормально. Но кто его окружал на подиуме посреди стадиона? Сплошь звезды шоу-бизнеса да знатные спортсмены, словно индустрию люкса показывали, ни одного рабочего человека. И как на это смотрят заводские после встреч с Грудининым? На прошлых-то выборах было наоборот: Путин за поддержкой полетел в Нижний Тагил. Не-ет, тут что-то не так. Мощь во внешней политике не стыкуется с неясностями во внутренней. Как бы пучина раздора с народом не открылась, политический дефолт не вышел.
Донцов согласно кивнул головой, но комментировать не стал. За столом становилось горячо, а переходить двойную сплошную в критике власти, заглядывать за край было незачем.
Вера, как принято изъясняться на банальном жаргоне, вся ушла во внимание. Никогда ей не доводилось слышать таких глубоких и простых разъяснений. Этот Власыч держался не мелких вермишельных дел, а главных вызовов эпохи. Мнения Аркадия на этом фоне измельчали до размеров муравья, штурмующего пирамиду Хеопса, — независимо от их политической сути, которую она еще на Урале интуитивно подвергла сомнению.
Но Ряжская, чутко следившая за ходом застольных прений и помнившая наставления Виктора, поняла, что первый раунд пора заканчивать. Гонг! И громко возвестила:
— Мужики! Мужчины! Мы на Катин юбилей собрались, а вы, как всегда, про политику. А ну-ка, наполнили бокалы, рюмки... Танцуют все! У меня тост, Веруня, за тебя! Ты у нас бриллиант чистой воды, незамутненный. Ничего я тебе сейчас желать не буду, кроме одного: чтоб оставалась ты такая, какая есть! Поняла меня? Чтоб вихри враждебные тебя миновали. Чтобы там, в небесах, предки радовались твоей верности их заветам.
По неписаному правилу богодуховского дома, а вдобавок по предварительному напоминанию Катерины, Ряжская ни словом не обмолвилась о верином отце, однако намек дала. И все поняли Нину — кроме не знавшего о былой трагедии Аркадия. Он поднялся для алаверды, но Ряжская, не желавшая его спича, моментально хлопнула свою рюмку водки и громко выдохнула:
— Всё! Тост закрыт...
Подлевский понимал, что не вписывается в застольную компанию, связанную давними отношениями, а вдобавок настроенную антилиберально. Он самоопределился на роль хозяина, но она не пошла. Он уступал по очкам этому заядлому Донцову, который явно первенствовал, направляя разговор в удобное для него русло. И, воспользовавшись паузой при смене блюд, Аркадий напряженно искал его слабые, уязвимые точки, ибо, не приподнявшись над ним, не послав его хотя бы в нокдаун, нечего и думать о лидерстве.
Перебирая в уме различные варианты, пришел к выводу, что развивать политические темы бессмысленно: это чужое поле. Но если уйти в сферу искусства, в театральную жизнь? Он, Подлевский, кое-что смыслит в ней, потому что вынужден посещать модные спектакли. Эта публика наверняка далека от художественной сферы.
Обратился к Вере:
— Кстати, забыл сказать. Я заказал два билета на «Барышникова» в Большой. Обещают всего три спектакля, ажиотаж немыслимый, но я, кажется, успел вовремя.
На самом-то деле никаких билетов Аркадий не заказывал, однако не сомневался, что при надобности достанет их у спекулянтов. У него на этот случай был нужный человечек.
— На «Барышникова»? Интересно! Хотя у меня к Серебренникову отношение двойственное. По многим причинам.
— У меня тоже, — подыграл Аркадий. — Тем более желательно быть в курсе дела, составить личное впечатление о его творчестве. Спектакль громкий!
И к Донцову:
— Вы, наверное, Серебренникова осуждаете? Судя по вашим взглядам.
Виктор уточнил:
— Если вы о режиссере, то я, к сожалению, не театрал, имею о нем, возможно, искаженное мнение, навязанное газетно-интернетным мародерством. У нас, увы, любят сплетничать. Если же вы о подследственном, то я целиком полагаюсь на прокурорских.
— По части уголовного дела я не принадлежу ни к его адвокатам, ни к хулителям. Но в художественном смысле это, конечно, явление, крупнейший режиссер. В театральных кругах распространено суждение, что придет время, когда будут говорить: это было в эпоху Серебренникова.
— Мы не на венчании, чтоб кричать «Исайя, ликуй!» — встряла неугомонная и неприятная Ряжская. — А мне он не нравится. Не нравится, что обнаженку на сцену тащит. А еще покоробило, как наши корифеи бросились его защищать. Миронов аж публично вручил Путину петицию. И надо же, президент взял!
Ее поддержал супруг:
— Мне вообще не по душе, что президент заигрывает с художественной элитой, со звездами шоу-бизнеса. Это же в нос бьет. Словно робеет перед ней, словно льстит ему общение с богемой. Не могу забыть, как он в кремлевском кабинете обнимался-целовался с отставным Хазановым, давно вышедшим в тираж.
Аркадий чувствовал, что завладел вниманием собравшихся. Веско ответил:
— Когда глава государства проявляет повышенное внимание к художественной жизни страны, это благотворно. Кстати, — не к ночи будь помянут, — Сталин, как вы знаете, тоже в этом смысле держал руку на пульсе. правда, с иными целями.
Простов и Донцов помалкивали. «Значит, я угадал, слабы они по этой части», — подумал Аркадий и развил тему:
— Не говорю о музыкальном искусстве, этом эсперанто, которое понятно всему миру. Но Художник с большой буквы занял очень достойное положение в нашем обществе. Во многом — благодаря позиции власти, которая его ценит и уважает. Случайно ли среди доверенных лиц Путина столько ярких артистов, режиссеров?
— Пожалуй, вы правы, — наконец заговорил Донцов. — Судя по вашему замечанию и множеству других фактов, наша политическая элита не просто состоит в дружбе с художественной, а хочет ей нравиться, — это бросается в глаза. Но знаете, существует историческая закономерность: как вы говорите, Художник с большой буквы, чувствуя заигрывание с ним, понимает, что эта политическая элита — слабая элита. Только слабый политик жаждет нравиться художественной элите. А значит, допустимо ему и на шею сесть. В наших условиях это оборачивается завышенным влиянием на общественное мнение, щедрыми грантами. Можно жить безбедно, не связывать свою судьбу с судьбою народа, а это всегда было свойственно русской художественной интеллигенции. В этом плане достаточно сравнить отца и сына Райкиных. Мне кажется, развод людей простого звания с артистической богемой, с пребывающими в ереси пастырями из креативной элиты уже входит в стадию раздела духовного наследства. Чтобы не допустить ее полной победы над русской жизнью.
— Достала уже эта театральная гомосятина с эротическими фантазиями и генитальными романами. Одно слово: СРИ — самопровозглашенная российская интеллигенция! — не сдерживая эмоций после третьей рюмки, шумнула Ряжская.
— Вы хотите сказать, что Путин, власть в целом должны отвернуться от художественного мира? — игнорируя этот вопль, язвительно спросил Подлевский.
Донцов несколько секунд помедлил, потом ответил:
— Вопрос тонкий, и я подбираю слова, чтобы меня верно поняли. Пожалуй, так: слабый политик хочет нравиться художественной элите, потакая ей, а сильный политик ее использует в государственных целях. Если это правило применить к нашим временам, мы получим не очень радостный результат: представители художественной богемы слишком часто становятся источником громких скандалов, будоражащих общество. Выводы из сказанного делайте сами.
— Я заметил, все, о чем бы здесь ни говорили, вы упаковываете в политическую обертку. Занимаетесь политикой?
— Вовсе нет, я предприниматель, меня больше интересует экономика. Но осознаю, что в нашем отечестве она стала заложницей политики. Вот мы любим сравнивать Америку и Россию. А знаете, в чем различие?
— Да их мильён! — экспансивно воскликнула Ряжская.
— Я имею в виду экономику и политику. Так вот, в США у кого ресурсы — природные, промышленные и прочие, — у того и власть. В России наоборот — у кого власть, у того и ресурсы.
— Да-а, далече вы уехали от искусства, — процедил Аркадий.
— Я лишь ответил на ваш вопрос относительно рода моих занятий. А если по существу, то отношения искусства и власти также произрастают на политической почве. И если сократить должность садовника, может вырасти что угодно, а скорее всего, репей и чертополох.
Вера от восхищения едва сдержала одобрительную улыбку, а Подлевский, снова упуская инициативу, резво перекинулся на другую тему:
— По поводу садовника вы хорошо сказали. Но ведь это имеет значение не только в искусстве. Вот прошла очень мощная акция по части социальных лифтов — «Новые лидеры». Слышали, наверное. Десятки тысяч перспективных управленцев приняли участие. И лучших будут выращивать опытные садовники. Целая эпопея!
— О-о-о! Не эпопея, а опупея! — охнул Простов, взмахнув рукой.
— Что вас не устраивает? Опять недовольны? — раздраженно откликнулся Подлевский.
— Эту тему лучше не бередить, — тяжело вздохнул Петр Демидыч. — Все уже давным-давно обговорено.
— Что обговорено?
— Ну, объясни ему, Власыч. У меня сил нету про эту кириенковскую авантюру талдычить.
— Понимаете ли, — начал Виктор в настороженной тишине, — растить новых лидеров — идея замечательная. Но позвольте спросить: кому поручена роль садовников? Грефу, Кудрину, Мау — иначе говоря, записным либералам, ведущим родословную от Гайдара. Неужели вы думаете, что этот либеральный заградотряд пропустит в свою среду хотя бы одного руководителя, не разделяющего их взгляды? Речь просто идет о подготовке сменщиков по лекалам Чубайса. Для этих рукопожатных попаданцев в элиту уже и прейскурант должностей готов. А Кириенко, придумавший этот фокус, считает, будто всех обхитрил. Один дефолт он в конце прошлого века устроил, теперь, выращивая новое либеральное поголовье управленцев, готовит почву для другого дефолта.
— Видимо, Чубайс вам совсем уж не по нраву.
— Что вы! Чубайс — находка для сочинителя детективов. Не жизнь, а авантюрный роман. Инфернальная личность.
«Хватит! Второй раунд закончен нокдауном, — подумала Ряжская. — Пожалуй, третий-то и не понадобится. Виктор победил вчистую. Да, пора закруглять эти дебаты». Она в очередной раз наполнила свою рюмку водкой и громко, укоризненно сказала, обращаясь к Донцову:
— Вот что, Виктор, тебя хлебом не корми, а дай порассуждать. Ты же у нас философ на завалинке. Всех забил! Слова сказать не даешь. Давайте-ка, люди добрые, подымем тост, который у нас с Дмитрием обязательный. — И, набрав в грудь воздуха, громко выдохнула: — За Россию!
Когда табельное торжество подошло к концу и был выпит чай с пирожными — большое блюдо с набором миниатюрных наполеонов, картошек, эклеров, которые когда-то были полновесными, о чем не преминул напомнить Петр Демидович, — первыми поднялись Простов и Донцов. Хозяева вышли в прихожую проводить их, и Виктор с душевным трепетом впервые пожал протянутую Верой руку, глянув ей в глаза. Возможно, ему показалось, но их рукопожатие на осколок секунды длилось дольше дежурного, и, как бы оправдывая эту заминку, сказал:
— У меня к вам просьба. Шепните, пожалуйста, Нине, пусть ждет моего звонка. Им далеко, я подвезу их.
— Обязательно! Будьте спокойны, — улыбнулась она. И эти неформальности — «шепните», «будьте спокойны», стали для Виктора добрым предвестием.
— Ну что? — с подтекстом спросил его Простов, когда они поднялись в его квартиру.
— Что «что»? — словно не понял Донцов.
— Не придуривайся, все ты понимаешь, — хрипло хохотнул Простов. — Разглядел Веру? Это тебе не датская русалочка в хиджабе. Точно было сказано: чистый бриллиант! Жаль, супруга моя сейчас в больнице подлечивается, она бы тебе про Веру Богодухову мно-о-го доброго сказала.
Размягченный происшедшим, бесконечно благодарный Простову, Виктор обнял старика за плечи:
— Спасибо, Петр Демидыч, от всего сердца. Давно хотел с Верой познакомиться, да подходов найти не мог.
— Погоди, погоди, — отстранился Простов. — Ты что же, ее раньше знал?
— Не знал, но видел. И мечтал о встрече.
— И ничего мне не сказал? Я тебя в дом Богодуховых звал, а ты мне: «Зачем я там нужен?» Ну, Донцов! Я давно понял, мужик ты крепкий. А выходит, кремень. — Дружески похлопал Виктора по плечу. — Такой ей и нужен. Но ответь по правде: намерения серьезные?
— Хоть завтра под венец. Но под венцом ликуют вдвоем.
Петр Демидыч ответил не раздумывая:
— Ты этого фасонистого обалдуя в ботинках-зеркалах обыграл с крупным счетом и всухую. Чтобы скабрезно не выражаться, я таких называю унитазом без слива. Этот — до краев полон. Липкий малый. Все-таки невозможный народ эти либералы. А он на нее тоже нацелился. Катерина нам по дружбе говорила: юбилей ради него затеяла, пора, мол, дочери определяться, к тридцати катит. Я его раньше не видел, но сегодня он себя объявил: антинаш, тут и говорить нечего. Зная Веру, голову на отрез: не ее романа, душа у нее свободна, от тебя будет много зависеть. Я, конечно, с Катериной агентурную работу проведу. В общем, диспозиция ясна. Ты уж извини старика, но с учетом литража белокапельной выпивки могу себе позволить панибратство. Тем более ментально я застрял в прошлом веке. — И троекратно облобызал Виктора.
Спускаясь на лифте, Донцов позвонил Ряжской:
— Жду в машине.
Они втроем затолкались на заднее сиденье «мерседеса», и взбудораженная Нина заверещала:
— Победа нокаутом! Я ж видела, когда ты говорил, она с тебя глаз не сводила. А я? Все делала, как ты наставлял?
— Четко сработала, до деталей. Но теперь самое сложное предстоит.
— Да чего сложного-то? У него что — пять тузов в колоде? Я с Катериной поработаю, и хоть сватов засылай. Отошьем мы этого Подлевского, ты его дураком выставил, он на запятках оказался.
Дмитрий с сомнением покачал головой:
— После застолья у тебя легкость мыслей необыкновенная. Вопрос не в том, чтоб его отшить. Я глядел внимательно, у Веры к нему интереса нет. Но это же Подлевский! Токсичная фамилия. Даже Катерина ее впервые слышит. Откуда ей знать, что отец этого ухажера вынудил Серегу из окна выкинуться?
— Не знает и знать не будет. Ты, что ль, скажешь? — продолжала хорохориться Нина.
Но Донцова опасения Шубина резанули. Интуитивно он осознал, что жуткая опасность может угрожать Вере. Каким образом? Об этом он в сей миг не думал. Радость сегодняшней встречи испарилась, он строго сказал Ряжской:
— Нина, тут не до веселья. Дмитрий в корень глядит. Еще неизвестно, как с этим Подлевским повернется, он на все способен. Давай так: прежняя договоренность в силе, ничего без согласования не предпринимать. На Катерину не дави. Полюбопытствуй, конечно, о Верином настроении — тут тебя не учить. Но вот что: если Вера в нем разочаровалась, насоветуй Катерине, чтобы резко не рвала. Не могу избавиться от мысли, что все непросто пойдет. Про меня пару слов кинь, но не педалируй. Время нам требуется — поглядеть, что, как да куда покатится.
Ряжская вмиг протрезвела:
— Поняла, поняла, мне повторюшки в натугу. Подлевский он и есть Подлевский. «Черный квадрат» — что так, что вверх ногами. Яблоко от яблони... Вдобавок мы не знаем, что ему известно, — сделала ударение на слове «что», подразумевая давнюю трагическую историю с квартирой Богодуховых. — Знает ли о том окаянстве?
Аркадий, задержавшись за столом, пока не ушли все гости, попросил у Веры еще чаю и ждал, когда женщины унесут на кухню грязную посуду. Когда остались втроем, обратился к Катерине:
— Очень рад, Екатерина Дмитриевна, знакомству с вами.
— Маму зовут Катерина, по паспорту, — поправила Вера.
— Красивое имя, необычное. Я думал, просто сокращение... Кстати, Вера, а как «Барышников»? Идем? Что бы кто ни говорил, а Серебренников ныне назначен культовой фигурой. Как у Евтушенко: «Пришли иные времена, взошли иные имена».
Предварительное намерение именно сегодня намекнуть Аркадию о разрыве по ходу застолья сложилось у Веры в твердое решение, которое теперь не только было связано с их нестыковками, но и опиралось на какое-то другое неясное чувство, к Аркадию отношения не имевшее, но мешавшее общению с ним. Зная себя, Вера понимала: ей предстоит бессонная ночь с обдумыванием и осмыслением того, что случилось сегодня. И в этих ночных мыслях для Аркадия с его лайфхаками, как в Инете называют житейские хитрости, не найдется места. От слова «совсем». Она готова была прямо сейчас дать ему понять, что между ними все кончено. Она продумывала подходящую фразу во время застольных дебатов, потому и попросила его немного задержаться. Но что-то непонятное и внезапное, не из глубин характера, а словно откуда-то свыше, вдруг остановило ее. Сознание слишком быстро превращало этого случайного Донцова в необходимость, мысли путались. В голове некстати мелькнула давняя, со студенческих лет сбивавшая с толку загадка: «Почему Брехт считал Дон Кихота и Швейка духовными родственниками?» И неожиданно для себя ответила:
— Конечно, идем! Это же очень интересно.
12
В Вильнюс Дмитрий Соснин прилетел вечерним рейсом. На такси добрался до отеля «Амбертон», где заказал номер, наскоро перекусил в ресторане и завалился спать. Устал.
Намереваясь перебраться в Литву, он изучил Вильнюс по интернет-картам, но не определился, где снять квартиру — в центре, на арене главных публичных событий, или в квартале Ужупис, мекке местной богемы, маленьком Парижике. Выбор рассчитывал сделать на месте. Но — завтра. Сейчас — спать!
Усталость не связана с суетой уходящего дня — она копилась исподволь. Уже давно его мучила бессонница, неотступно думал о переезде, перебирая варианты. И только здесь, в четырехзвездочном «Амбертоне», отключился от терзавших его дум, погрузившись в обвальный сон.
Проснулся Соснин бодрым, готовым к бурной деятельности по обустройству на новом месте жительства. Выглянув из окна и оценив достоинства Старого города, понял, что Ужупис — по-русски просто Заречье — прекрасен для отдыха, однако селиться ему следует здесь, близ башни Гедимина. Киевский Крещатик многому научил.
Киев ему рекомендовали незадолго до Майдана, и он видел, в том числе из окна съемной квартиры на Крещатике, как украинская замятня полыхнула кровью, смертями и сменой власти. Со временем прижился, обзавелся множеством связей, вошел в курс текущих дел, готовя политические обзоры, и по старой памяти начал фэйсбучить. Но после первого серьезного блога из Москвы позвонил Тэд Кронфильд и пробросом, как бы между прочим сказал:
— Кстати, у меня впечатление, что в Киеве тебе уже нечего делать.
Соснин понял намек, ибо давно привык к такой форме указаний. Вдобавок это «кстати»... Самое важное они почему-то говорят именно кстати. видимо, так их учат, считая, что такой оборот речи скрывает подспудную суть разговора. С того момента Дмитрий стал размышлять о переезде. Разумеется, лучше бы вернуться домой, в московскую квартирку с окном на небольшой обновленный парк. Но Тэд не упомянул о Москве. Да и что Соснину делать в столице? Речь шла только об отъезде из Киева. В итоге Дмитрий смотался в Престольную и, как не раз бывало, откушал с Тэдом в итальянском кафе на Старом Арбате.
Он долго рассказывал о постмайданных событиях, разбавлял речь шутками о киевской колбасе развратных размеров и кренделях с похоронный венок. Но Тэд слушал лениво. Он держался классической тактики: вести переговоры так, словно вы слегка выпили и никуда не спешите. В какой-то момент Соснин скомандовал себе: «Брейк! Надо переключать канал».
Этот долговязый, сухопарый американец-экспат обладал странной особенностью: он вслушивался только в то, что касалось его в данный момент, и пропускал мимо ушей все, что не относилось к текущим делам. И когда Дмитрий умолк, Кронфельд сказал кратко:
— В Киеве тебе делать нечего. А начнешь активничать по журналистской линии, существует опасность... Как у вас говорят? Да, опасность спалиться, кажется, так. Привлечешь внимание майданными настроениями.
Соснин густо покраснел, поняв намек Тэда, но оценил его деликатность: Кронфельд не напомнил об ошибке давних дней. Через паузу ответил:
— Да-а, в Киеве нельзя в стороне от событий. Я подумываю временно перебраться в Прибалтику.
Это было ходатайство, просьба о разрешении, и Тэд, потягивавший капучино, кивнул головой.
Дмитрий выбрал Вильнюс.
Утром, не щадя отельных запасов шведского стола, он позавтракал, превзойдя легендарный аппетит принца Уэльского, затем по знакомой партитуре подошел к ресепшен, положил на стойку пять евро. Обратился к портье:
— Хочу снять квартирку. Гаупт — в центре, на проспекте Гедиминаса.
Портье, постного вида, средних лет, сухощавый, с козлиной бородкой и до отлива выбеленной перекисью гладкой прической, оценил немецкое «гаупт» и передвинул рекламный буклет, накрыв купюру. Спросил:
— На какой срок?
— На полгода, а там видно будет.
Брови у портье многозначительно приподнялись, и он на тугом русском, с акцентом сказал:
— Если подойдете через полчаса, думаю, дам вам помощь.
И верно, через полчаса после приятного секса с портье, получив адрес квартиры, Соснин уже стоял перед добротной дверью с накладными украшениями под орех, на втором этаже старого дома. Хозяйка показала квартиру — похоже, часть большого помещения на весь этаж, — и Соснину понравилось. Привлекла и старая канапешка с высоким изголовьем, обитая красным бархатом, напротив телевизора. Ему захотелось немедля лечь на нее. И когда через час он вселился сюда, сразу скинул обувь и с наслаждением растянулся на канапе. Мысли окончательно успокоились. обращаясь к себе, произнес:
— Вот я и залег на дно. Неплохое местечко для паузы. Комфортабельное дно.
Перебравшись из майданного мочилова в прибалтийский мирняк, он подумал о «спящих» террористах, которых страшится Европа. Где-то вот так же залегли на дно люди, ждущие приказа взрывать. Но они вечно боятся разоблачений, их ищут. А Соснину опасаться нечего — он просто ушел в тень. И мысль о том, что его берегут, не позволяя «спалиться» в Киеве, тешила самолюбие, напоминая о сопричастности к грядущим событиям мирового масштаба.
Окрыленный мечтаниями, он не сомневался, что жизнь сделана. Эту формулу Дмитрий услышал от первого начальника — Вадима Горохова, ответсекретаря городской газеты, который взял Дмитрия в штат. Громыхала перестройка, местные газетчики, перетряхнув свои духовные активы, не чтя отцов и не щадя дедов, переходя грань приличия, с ржачным стёбом, даже с глумом по делу и без дела громили неприкасаемую прежде партийную власть. В далекий сибирский город начали звонить из Европы, из-за океана, подбадривая смелых журналистов. Вадим, хорошо владевший английским, весело потирал руки:
— Заметили, заметили! Говорят: маленькая газетенка, да удаленькая. Димка, еще чуть-чуть — и жизнь сделана!
С тех пор прошло немало бурных лет. Торопыга Горохов после крушения коммунизма принялся неумеренно пользоваться благами новой жизни, в разгар сибирской зимы укатил в Арабские Эмираты, но из-за крутого климатического перепада его хватил инфаркт — прямо в море, — и он утонул. Соснин искренне считал: на его долю выпало то, что предназначалось Вадиму. Но ничего не поделаешь — судьба!
Соснину жаловаться на судьбу не приходилось. Он родился в секретном городе Томск-7 с нестандартным атомным реактором для оборонных нужд, готовился к инженерной карьере. Но взошла заря перестройки, и Дмитрий учуял запах перемен: как в остановленном реакторе, у власти началась остывающая фаза, на местном сленге — осенний режим. Стало ясно: он не вправе запираться в закрытом городе с грифом носителя гостайны.
В семье разыгралась драма. Но сын был непреклонен, поступив на журфак. Он не чувствовал в себе мощных творческих сил, однако жизнь свела его с молодым журналистом Вадимом Гороховым, который тоже не славился талантом, а делал карьеру как организатор газетного дела — готовил верстку. Вплоть до своей нелепой гибели он опекал Дмитрия.
После трагедии ответсекретарем назначили вчерашнего студента Соснина. По его инициативе редакция приняла участие в конкурсе оформления печатных изданий, который затеяла какая-то американская фирма. Из-за океана названивали все чаще, и переговоры вел Соснин, срочно подтянувший английский частными уроками.
В те времена электронная почта еще не вошла в моду, а между Массачусетсом и Томском разница почти двенадцать часов. Дмитрию в ожидании звонка приходилось являться в редакцию задолго до начала рабочего дня. Зато он был в одиночестве и мог болтать на отвлеченные темы — о настроениях людей, их отношении к власти.
Телефонные знакомства быстро упрочились. В них начал угадываться легкий ман. И однажды Соснину сообщили суперскую новость: их газетка — призер медийного американского конкурса.
Призовую грамоту прислали в роскошном цветастом конверте, с вручением главному редактору. Авторитет Соснина, усилиями которого удалось придать газете современный вид, вырос до небес. Но то были сущие пустяки в сравнении с новым потрясающим известием.
Неким ранним утром — Соснин продолжал приходить в редакцию затемно, интуитивно чувствуя, что новые американские друзья его не забудут, — ему позвонили и сказали:
— В Чикаго открывается вакансия на обучение специалиста по газетному делу. — В душе Соснина прыгнул зайчик. — Если есть желание, могли бы похлопотать о тебе.
Выслушав горячие благодарности, на том конце провода спросили:
— Кто формальный учредитель газеты?
Соснин поспешно крикнул:
— Газета официально стала независимой!
— Тогда все о’кей. Через неделю вышлем анкеты.
Соснин был на седьмом небе от счастья: абитура в Америке! Эта мысль сверлила мозг, он не ходил, а летал по улицам. Однако ничего не сказал коллегам: сглазят, свинью подсунут. И когда пришел пакет с документами, равнодушно объяснил редактору:
— Наверное, это обобщенные данные по конкурсу.
Он отослал заполненные анкеты, сделав приписку, чтобы впредь корреспонденция на его имя шла на дом, указав, разумеется, адрес съемной квартиры, а не Томск-7. Если в секретный город поступит почта из США, спецслужбы поднимут скандал.
Обживаясь в вильнюсской берлоге, лежа на канапе, Соснин вспоминал, как долго ждал заветного вызова из Америки, чтобы, по Мандельштаму, «разорвать расстояний холстину». На полную включив журналистские связи, отканителился с загранпаспортом. Но в памяти сохранились ошарашенно-завистливые глаза коллег, этой сибирской ссыли, половозрелых лузеров в стоптанных кедах, чье место у параши жизни, когда он предъявил авиабилет в Нью-Йорк с пересадкой на Чикаго. В те дни он часто вспоминал Наполеона: «У каждого должен быть свой Тулон!» Битва при Тулоне сделала капитана артиллерии генералом. Теперь у Соснина появился свой Тулон.
О слезах матери и отцовских укорах предпочитал не думать, не видел родителей много лет, не летал в Томск, где наверняка попал бы в поле зрения спецслужб.
В Вильнюсе Соснина ждала праздность — временная. Он не сомневался, что вскоре вновь окажется на юру. Никакого запора мысли! Чуть ли не физически он ощущал незыблемую прочность и перспективность стартовой позиции, какую занял к тридцати годам, на огневой скорости поднявшись вверх. Он знал свой завтрашний час, готовясь играть вдолгую, и чуть не ударился в детерминизм: все предопределено! Вуаля!
Вечерами, лежа на удобной канапешке, играя телеканалами, Дмитрий расслаблялся, сладкие воспоминания уносили его в прежние годы, когда он настолько преуспел, что превратился в «кадровую ценность», сберегаемую для будущих дел.
В Америку он прилетел восторженным юношей. Чикаго потряс его красотой, овеянный легендами город на Великих озерах был привлекательнее ущелий Манхэттена. Здесь тучерезы стояли вразброс, позволяя рассматривать их. Вдобавок гангстерский флёр тридцатых прошлого века... Его окружили сверстники, называвшие себя мыслящим авангардом, щеголявшие в статусных, по правилам стиля топсайдерах соклесс, на босу ногу, со шнуровкой вокруг пятки, с подвернутыми брюками. Они наперебой рвались показать памятные места хиппарей семидесятых, изюминки города, начиная с громадного бобового зерна из нержавейки — в честь Миллениума. Только здесь Дмитрий узнал, что расщепление атома началось в местном университете, лишь потом был удаленный Лос-Аламос.
Впрочем, Соснин интуитивно чувствовал, что интерес к его персоне служит своего рода гарниром для каких-то других блюд. И верно, их преподносили люди постарше. Особенно запомнился случай с Анн Скинер, девицей модельной фигуры, но ртом в куриную гузку. Она взяла на себя роль экскурсовода, обещая отвезти в университетский квартал, к дому Барака Обамы, о котором она знала, кажется, все, даже летала на Гавайи, где Обама родился, окончил школу, заглянула в павильон «Баскин Роббинс» — там юный Барак продавал мороженое.
Это был, на взгляд Соснина, «добродушный критинизм американцев», о котором писал Вертинский, назвавший США «страной консервов», — здесь и впрямь, загружая память, консервировали все подряд, включая рецептуру коктейлей. При этом Дмитрий обратил внимание на особенность американского восприятия: почти нет восторга перед красотой, зато избыток преклонения перед фактом; образно говоря, звезды на небесах — это всего лишь числа.
Подогрев интерес Дмитрия и назначив день поездки, Анн преподнесла сюрприз: прикатила не одна, а передала Соснина на попечение своего дяди — Боба Винтропа, поскольку у нее возникли неотложные дела.
— Боб знает Чикаго лучше всех, — проворковала Анн.
Боб Винтроп, солидный, с залысинами, по комплекции, как говорят американцы, плюс сайз, производил приятное впечатление мягкой улыбкой.
— Пожалуй, сначала поедем в университетский квартал, — предложил он. — Анн просила показать вам дом Барака и Мишель Обама... Кстати, в свое время я работал в Москве представителем «Вестингауза» и выучил русский.
Соснин пропустил мимо ушей биографические подробности, но обрадовался, что можно перейти на русский, ответил:
— Являясь неофитом, я понятия не имею о Бараке Обаме. Кто это?
— Обама? — усмехнулся Винтроп. — Это конгрессмен от штата Массачусетс, афроамериканец, восходящая политическая звезда. Поверьте, вам еще доведется хвастать, что вы видели чикагский дом Обамы.
Лежа на канапешке в вильнюсской берлоге, Дмитрий улыбнулся. Боб оказался прав: впоследствии Соснину не раз приходилось рассказывать, что он видел в Чикаго скромный двухэтажный кирпичный дом президента США Обамы.
Потом мысли снова перекинулись к памятному разговору с Винтропом. Этот дядя Анн Скинер излагал очень веско, ни одно слово не выскакивало у него просто так, заставляло вслушиваться, запоминать. Боб объяснял:
— Вам повезло, вы попали в Америку в очень интересные годы, когда здесь по-новому звучит симфония бизнеса и государства. В Москве я тоже угодил на период перестройки. О, это было захватывающее время!
Дмитрий ощущал, что знакомство с Винтропом — вовсе не случайное! — может стать знаковым, и старался произвести на дядюшку Анн Скинер благоприятное впечатление. Пустил в ход козырную карту:
— Я рос в закрытом сибирском атомном городе, а там перемены ощущались по-особенному.
К удивлению Соснина, Винтроп не клюнул на «атомный город», и, анализируя ту встречу, Дмитрий пришел к выводу, что Боб знал о нем все, а потому вел разговор в своем ключе, спросив:
— Какие у вас планы? Вы намерены закрепиться в Америке или вернетесь в Россию?
— Трудно сказать, — дипломатично отозвался Соснин, хотя еще с томских времен страстно мечтал врасти в американскую почву, наивно восхищаясь «саквояжниками», которые мигрировали с севера на юг США. Хотя они были собратьями русских мешочников, но как звучало слово! Саквояжники! И речь шла об Америке!
— Разумный ответ, — похвалил Боб. — Но мне кажется, что в нынешнюю эпоху такому медиаменеджеру, как вы, изучив наш опыт, можно сделать большую карьеру в России.
И снова Соснин ощутил, что за каждым словом Винтропа кроется особый смысл.
За три года в Америке таких встреч было немало. Быстро матеревший Соснин вскоре осознал, что он постепенно становится заправским лютером, начал усваивать протестантскую этику — сберегать деньги, много работать, быть ответственным, происходила как бы реновация его воззрений, а главное — его осторожно и тщательно прощупывают на предмет истинных убеждений, стремятся распознать, нет ли у него «второго дна». И чего греха таить, ждал предложения о серьезной работе.
Однако время шло, но никаких перспектив не открывалось. Зато все отчетливей проступал план, как бы случайно изложенный Винтропом на первой встрече: Соснину надлежало вернуться в Россию, где его ждут великие дела. Эти настроения взращивали в нем люди, работавшие над его восприятием жизни, внушая, что он должен ощущать себя преобразователем отечества во имя его процветания.
Потом память уносила ко временам возвращения в Россию. О Томске речи уже не шло. Блестящий молодой человек, окончивший магистратуру по медиаменеджменту, в совершенстве владевший английским, в Москве был приглашен содиректором американского фонда поддержки независимых СМИ, а вскоре возглавил отдел в русском офисе Агентства США по международному развитию, которым руководила непосредственно Госсекретарь США Клинтон. Дмитрий вел семинары для молодых журналистов, которых рекрутировали из российской глубинки, создал школу тренинга. И у агентства нашлись средства, чтобы купить ценному сотруднику однокомнатную квартирку в спальном районе столицы.
Позднее он получил ослепительное предложение: возглавить независимую газету столичного масштаба, которую основал — формально! — норвежский издательский концерн «Шибстед». Соснин стал распорядителем серьезных ресурсов, обзавелся служебной машиной с водителем, секретаршей, незаметно для себя превратившись в «спящего» активиста протестного медиакласса России, по-простецки — неполживого журналья, которое заботливо выращивали винтропы.
Но через несколько лет его внезапно перебросили в Киев, где созревал Майдан.
Через три месяца размеренной жизни в Вильнюсе Дмитрия охватила тоска. Ничегонеделанье вступило в конфликт с темпераментом, и он озаботился, чем себя занять. Учить еще один иностранный? Скучно, да и незачем. Перебраться в интеллектуальное гетто Ужуписа с его рок-туснёй и прочими модными кренделями? Тоже не манит... Почирикать в твиттере, все-таки пофейсбучить и початиться со старыми московскими знакомыми? Но, перебрав в уме список бывших единомышленников, понял, что попытки орать в никуда или обновить знакомства будут выглядеть нелепо. Как объяснить, почему он тихо сидит в Вильнюсе?
Столичным кураторам не звонил, ими кружит лишь свой интерес. Ему аккуратно высылают денежное довольствие, и это означает, что они просят их не беспокоить, все идет по плану. Это успокаивало, заставляя свыкаться с пустым существованием.
И вдруг в один из острых приступов тоски позвонил Боб Винтроп.
Боже, как Соснин обрадовался появлению старого знакомого! Вдобавок Боб звонил с сюрпризом: по пути из Москвы в Штаты он залетит в Вильнюс.
Соснин ждал его с нетерпением, однако и с опаской: какие известия привезет? Но встреча вышла замечательной. Дмитрий, разумеется, не жаловался на житье-бытье, скорее хорохорился, а мудрый Винтроп, понимая состояние подопечного, рассказал о сползании России в тупик, завязав в один узел внешнеполитические авантюры Путина, кризисное падение производства и растущее недовольство населения. Но когда эта часть беседы завершилась, Винтроп объявил, что прибыл в Литву неспроста.
— В Вильнюсе, — рассказывал он, — намечен очередной съезд лидеров российской оппозиции. Приглашены все ведущие антипутинские фигуры. Тебе полезно быть там.
— Выступить? — со сверкнувшей в глазах надеждой спросил Дмитрий.
— Ни в коем случае! Просто присутствовать для понимания ситуации. Перед отлетом встречусь кое с кем, похлопочу о твоем приглашении.
На форуме Соснина потрясла степень откровенности ораторов, клеймивших и гвоздивших российские порядки. Никакого эзопояза — прямой наводкой! Даже на Майдане Дмитрий не слышал столь острых суждений. Впрочем, когда Кох заявил, что скорый крах кремлевской власти из соображений гуманности и здравого смысла требует от нее добровольной передачи полномочий европейскому парламенту и перевода Вооруженных сил России под командование НАТО, Дмитрий невольно произнес вполголоса:
— Ну, загнул...
— Считаете, перебрал? — тихо спросил сидевший рядом мужчина.
— Кох боится бояться, — скаламбурил Соснин. — Не те люди в Кремле, чтобы добровольно отдать власть.
— Да, в буквальном смысле это маловероятно. Но кто думал, что Горбачев легко сдаст ГДР, а при Ельцине Россия встанет на задние лапки перед Америкой? В истории невозможное часто становится неизбежным.
Дмитрий повернулся к соседу. Это был неприметный мужчина лет сорока, в очках, в потертом сером пиджачке, из-под которого выглядывал не первой свежести пуловер. В руках маленький диктофон. Судя по тому, что вместе с Сосниным ему досталось место в предпоследнем ряду, он не принадлежал к числу токсичных участников форума, скорее наблюдатель. «А я, дурень, не включил диктофон в телефоне», — подумал Дмитрий.
При выходе, в толкотне они случайно вновь оказались рядом, и Соснин спросил:
— Вы из Москвы?
— Что вы! — вяло удивился человек в очках. — Живу в Вильнюсе. Из Москвы мне помогли раздобыть приглашение.
— В Вильнюсе? Тогда давайте знакомиться. Дмитрий Соснин, журналист-фрилансер. Тоже квартирую здесь.
— Валентин Суховей, — кратко представился он.
Совместное пребывание на форуме делало их единомышленниками, предполагая доверительность. И Соснин, обрадованный первым в новых краях знакомством, зацепился за этого невзрачного человечка. Возможно, через него удастся выйти на более интересные общения. Сказал:
— Вообще, я москвич. Но потом уехал в Киев, на майдан. Здесь отлеживаюсь, зализываю раны.
— О, у вас богатая биография, — почтительно покачал головой Валентин. — У меня все проще. Уже почти сорок, лысею, седею, а в дохлой провинции жизнь не устроишь. Попытался в Москве припарковаться, да не случилось. Пришлось сюда эмигрировать, здесь жилье дешевле. А вообще-то я из Сибири, из Томска.
— Из Томска?! — обалдел от удивления Соснин. — Где учились?
— В двадцать восьмой. Вы тоже из наших краев?
— А как же! Томск-семь.
— А-а, — понимающе протянул Валентин, — как у нас говорили, из аристократов. А встретились в Литве! Неисповедимы судьбы людские.
С совещания земляки вышли вместе. И Дмитрий задал главный вопрос:
— Извините за бестактность, как удалось сюда проникнуть?
Суховей пожал плечами, словоохотливо ответил:
— Сам не понимаю. Я человек маленький, на подхвате у знатного московского блогера, монтирую для него кое-что на «ютюбе», шлю увеселительные штучки из Ужуписа. У него сотни тысяч подписчиков, он на рекламе прилично зарабатывает. Мне в евро слегка подкидывает, чтоб не сдох с голоду. А тут вдруг пишет: будет форум свободной России, сходи, с пропуском все устрою, дашь мне отчет. Вот и вся недолга. Кстати, мне было интересно, даже удовольствие получил, дома будет что рассказать. Я не один — с прицепом.
— С женой?
— Она бы хотела! Но куда мне жениться, на жизнь едва наскребаю. Она из-под Владимира, деревенская. Куда, говорит, без тебя? Пропаду. Вот и пришлось с собой взять.
Прощаясь, Соснин и Суховей обменялись имэйлами, сговорились поддерживать связь. Негоже землякам расходиться, как в море корабли.
Поужинав домашними заготовками, — с американским продуктовым быстроделом, с субкультурой фастфуда туго, — Соснин растянулся на любимой канапешке и, против обыкновения, не включил телевизор. Мысли вернулись к форуму. У него была цепкая память, он помнил спичи не только пафосного Каспарова, но и полинявшего финансового оракула Илларионова, реплики ботоксной секси в стразах и лабутенах, светской львицы Божены, которая возбужденным неадекватом работала на публику, глубокомысленные замечания фатоватого Макаревича с красной шерстяной нитью каббалы на левом запястье. Он, конечно, получал удовольствие от этого пиршества оппозиционных воплей на празднике свободомыслия, от раскованности этой пестрой среды напыщенных «интелликонов», однако найти общий знаменатель форума не удавалось. Даже намеков на единую программу действий не звучало — лишь подзаводка политических эмоций. Сходнячок подгламуренной тусовочной образованщины, избыточно засоряющей русскую речь иностранными словами. Псевдополитическая буффонада. «Одно важно, — подвел он итог размышлениям, — общим для спичей было “Рашка фсё!”, говорили о скором крахе путинской России, о революции, которую прочит Ходорковский, переставший скрывать, что готов заменить Путина. Даже сами эти люди, некоторые с радикально-альтернативной внешностью, кое-кто в сигнальных коротких приталенных коричнево-кожаных курточках (наверное, с баночкой вазелина в кармане, как говорится, нос в кокаине, губы в сперме), — все это наводит на мысль, что под напором кризиса, санкций и военных авантюр кремлевский режим близок к распаду».
Потом мысли вернулись к новому знакомому. Этот персонаж со странной фамилией Суховей произвел на него впечатление странное. Не глуп, склонен к размышлениям на серьезные темы — но какой-то жалкий, неприкаянный, без прошлого и без будущего. Соснин таких презирал. Он сразу почувствовал себя гораздо выше Валентина, и тот безропотно признал его первенство. Это Соснина устраивало, он любил верховодить. А потому решил ближе сойтись с Суховеем. Общение с земляком, во-первых, слегка скрасит тоскливые будни, во-вторых, суждения Валентина, не исключено, можно брать на вооружение.
Через пару дней Дмитрий послал Суховею электронку: «М.б., встретимся, посидим в кафешке?» Ответ пришел быстро, однако неопределенный: житейские заботы затрудняют отлучку из дома. А в ответ на следующее предложение Валентин сообщил, что вынужден домоседствовать, и если у Дмитрия есть настроение, милости просим в гости. И адрес — в пригороде Вильнюса.
Соснин сообразил, в чем дело. Во-первых, он с подругой. А главное, кафешка не укладывается в его бюджетный расклад. И, сговорившись через электронную почту, поехал на такси к Валентину, купив по пути скромный тортик.
Обосновался Суховей в двухэтажном частном доме, занимая небольшую, бедно прибранную комнатушку внизу. Стол уже накрыт для чаепития, его украшение — тарелка с овсяным печеньем, на фоне которой тортик «Пиккалино» казался сказочным угощением.
— Вы нас балуете, — представившись Глашей, уничижительно сказала хозяйка, насупленная, неулыбчивая женщина, одетая по-кухонному. «Да, баба, видать, деревенская, — отметил Соснин. — Этот маломочный Суховей, видимо, еще и подкаблучник, попал под первую попавшуюся электричку».
Это была шутка давних лет, но, как ни странно, она оказалась кстати. Выяснилось, что Валентин, квартировавший в Подмосковье, познакомился с Глашей в электричке.
— Да я сама к нему пристала, — не стесняясь, грубоватым голосом говорила эта святая простота. — Я деревенская, Москву не знаю, поехала на разведку. А куда идти, с кем советоваться? Кругом простая людва. Вдруг гляжу, рядом мужичонка аккуратненький сидит, один-распроединственный. Думаю: «Верняк, москвич тертый. Дай расспрошу». А он сам работу ищет... Вот так и познакомились. Шо? Не так шукаю? — повернулась она к Валентину.
— Так, так, — отмахнулся он, не желая продолжать домашнюю тему, предпочитая вопросы, интересные гостю. — Ты в соцсетях комментирующую публику читал?
— Это те, кто там не был. Выдергивают жареное и мусолят. Ничего интересного. А у тебя какое мнение?
Суховей немного подумал, потом сказал:
— Я на частности внимания не обращал. А если взять общую тональность, то удивила оторванность лидеров оппозиции от реальных процессов в России. Сразу видно, спикеры за границей живут. Бормотологи. Наполеоны мысли.
— Да ведь и мы за границей, — вставил Дмитрий.
— Во-первых, я свалил из Рашки недавно. Но главное, можно жить за рубежом и улавливать российские процессы. А они верхами скачут. С выводами я согласен: Рассеюшка путинская к пропасти несется. Только их-то доводы об этом не говорят.
— А что об этом говорит? — направил разговор в нужное русло Соснин.
— Это я пожалуйста! — обрадовался Валентин, который, видать, истосковался по серьезным разговорам. — Я бы с чего начал? — спросил сам себя. — Главная нынешняя беда России не в спаде экономики, на что жмет оппозиция, даже не в путинском режиме — на защите режима от народа и переворотов стоит Росгвардия. Путин не озаботился создать государственную элиту, похоже, об этом даже не задумывается. А без государственно мыслящего слоя наступает паралич национальной идеи, государство — колосс на глиняных ногах. Может рухнуть от слабого толчка, даже под собственным весом.
Для Соснина такой ход мыслей был внове. Хотя сразу возникли вопросы.
— О чем ты говоришь! Та же Росгвардия, оборонка! Они на страже государства.
— Не государства, а власти! Есть еще бизнес-элита, научная, культурная богема, и каждая решает свои проблемы. А вспомни, кто начал рушить государство сто лет назад?
— Ты и большевиков в элиту записываешь?
— При чем тут большевики? Я об отречении царя. Кто его с трона попросил, нанеся смертельный удар по государству? Элитарный Шульгин! Человек, представлявший высшие слои общества. Подобные Шульгину считали, что государство — данность, воздух, которым дышат, твердыня незыблемая, что власть можно менять сколь угодно, а к распаду государства это отношения не имеет.
Соснин удивлялся глубине этого взгляда. Вопрос не в том, прав Валентин или его заносит. Сам подход говорит об особом мышлении этого бесперспективного и неприметного человечка. Вот что интересовало Дмитрия, которому незачем было дискутировать о наличии или отсутствии в России государственно мыслящей элиты.
— Ну ладно, — примирительно сказал он. — А еще какие мысли в связи с оппозиционной говорильней?
— Хосподи! Он вам счас сорок сороков наговорит, — угрюмо буркнула Глаша, без стеснений за обе щеки трескавшая торт. — Свезло ему, нашел слушателя. Мне-то его хфилософия на фига? Начнет трындеть, я и засыпаю.
— А на черта запад России санкции учинил? Оппозиция рада: жми на Путина, дави! И опять в корень не смотрят. Вспомни, как начиналось. Гайдар с головой нырнул в рыночную стихию. Задрав штаны, мчался встреч глобальной экономике, подписывал десятки обязывающих договоров, сотни соглашений. Задача была одна: скорее влиться в мировую систему. Так говорю?
Соснин понимал, что Валентин сейчас выдаст резкий разворот мысли, и напряженно, однако впустую пытался предугадать его. А Суховей и впрямь выдал:
— И по гайдаровской глупости глобальный рынок, где хозяева — трансконтинентальные корпорации, втянул в себя Россию. Никакой интеграции — нас просто поглотили! Вернее, проглотили и начали переваривать в чреве гигантского кита.
— К чему гнешь? — не выдержал Соснин.
— Погоди. Глянь на Украину, Молдавию. Ассоциируясь с ЕС, они что, выиграли? Обнищали! Все соки из них тянут, таков закон глобализации: выигрывает сильный!
— Охолонь, Валь, чайку с тортом хлебни, пока я его весь не умяла, — грубовато хохотнула Глаша. — Он у нас с воды пьян, а с квасу и вовсе бесится.
Но Суховея уже не остановить. Сказанное было лишь диспозицией.
— Так вот, мил человек, мы сами, по своей дурацкой воле, влезли в пасть к глобальному монстру. Словно насекомое, сели на нефтяную иглу, уронили экономику, и западу оставалось лишь ждать, когда он нас окончательно переварит. И хотя Путин пытался вырваться из тисков глобализма, дальше новых вооружений двинуться не удалось. Нефтяные цены рухнули, экономика дала течь, падение России стало неизбежным. Как говорится, резинка у рогатки внатяг, вот-вот лопнет. Эпоха сумерек на носу.
— Это я и без твоих проповедей знаю, — вставил Соснин, дабы не выглядеть студентом на профессорской лекции.
— Эх! — всем телом всколыхнулся Валентин, даже привстал со стула. — Тогда на кой черт запад ввел санкции? К чему они привели? Вроде упадок России усилился, зато она по разрешению самого запада начала вырываться из объятий глобализма. Его мертвая хватка ослабла, Путин воспользовался — возьми аграрный сектор! России только дай чуть вздохнуть, отпусти вожжи, она и воспрянет, самородные начала жизни проклюнутся. Вот что дурацкие санкции наделали, понял? Ни запад, ни оппозиция об этом не думают. Надо было только финансы зажать, инвестиции, и все.
Валентин выдохся, умолк, занявшись чаем с овсяным печеньем, к торту не притронулся.
В комнате повисла тишина. И снова Соснин ощутил интеллектуальное превосходство этого невзрачного человечка. Ему опять было неважно, верны ли его суждения. Главное — уровень мышления!
Глаша извинительно сказала:
— Сегодня чтой-то он особенно заболтался. Аж горит!
— Да обидно, понимаешь, обидно! — воскликнул Валентин. — Путина глобалисты спеленали, после падения нефтянки ему каюк засветил. А тут запад санкциями дает свободу маневра. Зачем? Политики не додумали, а оппозиции нашей такой расклад и вовсе невдомек, она узник собственных концепций.
— А чего ж ты на трибуну не вылез?
— Да я-то каким там боком, чтобы учить высоколобых попаданцев в высший свет? У меня подтяжки без штанов, биография не рукопожатная. Мне и слова бы не дали. Атмосфера ругательная, поносительная, не аналитическая, сплошь апокалипсические грёзы. Серьезный анализ пошел бы против общего настроения. Тебе спасибо, что выслушал.
Разговор переходил в будничную плоскость, и Дмитрий спросил:
— А как ты вообще оказался в Вильнюсе?
— Да я вроде говорил. В Москве работу не нашел, жилье, даже за городом, дорогое, Глашка некстати приклеилась. Хотел в настоящую заграницу рвануть, уже на заборе сидел, ногу на ту сторону перекинул. А потом сообразил: там совсем пропаду. Что умею-то? Только в соцсетях свободно шурую.
— Я ему говорю, — влезла Глаша, — хоть бы язык иностранный учил.
— А-а, — махнул рукой Валентин. — Зачем мне иностранный?
— Земляк, образование у тебя какое? — Соснин, встречаясь с новыми людьми, всегда думал о том, как пристроить их с пользой для себя. Валентин в этом смысле был удачной кандидатурой. Дмитрий чувствовал, что этот человечек невульгарного ума ему пригодится, а потому желательно узнать о нем побольше.
— Да какое образование! — опять махнул рукой Валентин. — После школы устроился в электротехникум, может, знаешь — на углу бывшей Октябрьской. Но бросил: скучно. Помыкался несколько лет в Томске, родителей-то потерял.
— Умерли, — покачала головой Глаша.
— Осталась престарелая тетушка. Ну не сидеть же у нее на шее, вот и рванул в Москву. А там жизнь ка-ак начала мять-бросать, света белого не взвидел. Все опостылело. А Вильнюс?.. Меня тот блогер надоумил: езжай, говорит, в Литву, будешь картинки с выставки слать.
Слушая исповедь, Соснин думал не о Суховее, — о вопросах, возникших после форума. Сегодня представился хороший случай получить ответ на один из них.
— Слушай, — бесцеремонно перебил он, — оппозиция, весь запад прямой наводкой бьют по Путину. Он на выборах победил с разгромным счетом, а по нему еще больше лупят. Снаружи Скрипали, изнутри Кемерово. На что расчет?
— На что расчет? — переспросил Валентин. — Ну все ведь ясно. Если Путина скинут или заставят отречься, как Николая Второго, Россия ослабнет, ее можно подмять. Она только на Путине держится, рядом — никого. По Конституции в Кремль придет Медведев, а это наш человек. Лидерское одиночество Путина — его крупнейшая историческая ошибка. Пока он внешней политикой и оружием занимался, внутренняя жизнь страны развалилась, управленческая воля сосредоточена в одном человеке — у президента, настал позднепутинский период застоя. И посыпалось — то пожар в Кемерове, то мусорные бунты в Подмосковье. Как пел Тальков, народ отмечает победу над собой! Пошел эмоциональный откат. Позолота осыпается. В одиночку воз не вытянуть, «великие мелочи бытия» ку-у-да сложнее внешней политики. Захлебнется! Путин вынужден решать местные вопросы, из-за чего размывается сакральность власти. Вот его уязвимое место! — Вдруг завелся: — Не-е, не понимает Путин, что под таким давлением он шесть лет не протянет. А ведь есть у него элементарный способ давление сбросить.
— Какой?
— Да простой! Примитивный! Имитировать консервативный маневр — назначить премьером такого деятеля, чтоб все вздрогнули и поняли: уйдет Путин — и западу и оппозиции мало не покажется, войну развяжет, пятую колонну прихлопнет. Ну нельзя же все время быть на острие, надо рядышком волкодава держать, чтоб на его фоне овечкой выглядеть. А он сменщиком Медведева ставит. И нет человека, который подсказывал бы такие элементарные вещи. Идеолога нет, каким Яковлев при Горбачеве был. — Валентин рассмеялся, после чего совсем сник. — Как-нибудь потом об этом поговорим.
Он явно устал от горячих спичей, и Соснин счел за благо откланяться. Поймав такси, ехал в центр и думал, что Суховей на сто процентов прав по Путину. Пожары, мусорные бунты, ЖКХ, беспредел полиции — тысячи частностей загонят его. Это намного сложнее, чем громоздить Крымский мост. Систему управления страной не выстроил, все упирается в его решения... Потом думал, как ловчее использовать этого неприкаянного человечка с нестандартными мыслями.
В результате Соснин и Суховей начали ежедневно переписываться, а затем Дмитрий пригласил Валентина в гости. Он рассчитывал стол на троих, но Суховей прибыл без сопровождения. Пояснил:
— Она стесняется. Баба-то деревенская. Хотя не глупая, смекает, что будет мешать нашим разговорам.
— Как получилось, что она за тобой в Вильнюс увязалась?
— Просила на панель не толкать. Она все время панелью грозит, иного выхода у нее, мол, нет. Возьми с собой, — говорит, — буду верой и правдой служить, одному в чужих краях тоже не сладко. Ну, мне жалко ее стало. Вот и весь сказ. Понял что-нибудь?
— А чем ее здесь можно занять? — участливо спросил Дмитрий.
— Профессии нет, за скотиной ходила. Хотела домработницей, но спроса нет. Языка не знает. Ни литовского, — засмеялся — ни французского. Вот так и живем-тянем. Словно калифорнийские «выживальщики» в противоатомных бункерах. В сердце пустота, в душе усталость. Таких, как мы, рафинированная гопота вроде Божены называет генетическим мусором. А чего да как будет, я не задумываюсь. Но она очень с ребенком пристает.
— Какой еще ребенок?
— Вот и я говорю. Какой ребенок в нашем положении? А она точит и точит. Но тут уж слабины не дам.
Полная безысходность ситуации, в какой оказался Валентин, мотивировала Соснина размышлять, как использовать его аналитический ум. Суховей был его единомышленником, но, в отличие от каспаровской тусовки, которая просто кляла Путина, умел смотреть в суть проблем. Это привлекало. Изворотливый, искушенный ум Соснина, привыкший комбинировать, поместил Суховея в центр размышлений, выдав на-гора интересную мысль: хорошо бы сделать Валентина негласным консультантом, чтобы доить его тягу к осмыслению российских неурядиц. Задача была поставлена, и по жизненному опыту Дмитрий знал, что случай для ее реализации подвернется.
Общаясь с Винтропом, Дмитрий понял, что у Боба появились дела в Литве и после Москвы он будет на сутки-двое приземляться в Вильнюсе. Так и получилось. Примерно через месяц они снова сидели в кафе, и Боб спросил мимоходом:
— Как тебе оппозиционный форум?
По равнодушному тону было ясно, что Винтроп знает о тусовке ровно столько, сколько ему нужно. И Дмитрий решил не обременять его своими оценками, ограничившись общим скептицизмом. Но когда начал излагать то, от чего ушли лидеры оппозиции, — а это были мысли Суховея, — глаза Боба стали внимательными, он ни разу не прервал.
Винтроп был опытным разведчиком и прекрасно понимал Соснина. В долгосрочных планах Дмитрий давно занял предназначенное ему место, где могли пригодиться его сильные качества. Так бывало всегда: вербуя агента влияния, хорошо изучив его, Боб отводил ему подобающий ранг в своей иерархии. Речь не шла о должности — эти вопросы решает жизнь, — скорее о «специализации».
Между тем мысли об отсутствии в России государственной элиты, спорные, но любопытные соображения о санкционных просчетах не укладывались в образ Соснина. И, глядя ему в глаза, Боб спросил:
— Это твои выводы?
Соснин покраснел, но сумел выкрутиться:
— Забавно, на тусовке я встретил земляка, рядом сидели. Потом вместе обсуждали, и это плод общих размышлений.
— Что за парень? Что у него между ушами?
— Да уж не парень, под сорок. Головастый, но недотепа, неустроенный, перекати-поле.
— Подробнее, подробнее. Как звать?
— Валентин Суховей, окончил в Томске двадцать восьмую школу, учился в техникуме. Без толку мотался, уехал в Москву, а там и вовсе потерялся.
— На что живет?
— Студенческий бюджет. Батрачит на блогера, который его послал в Вильнюс, достал пропуск на форум.
Винтроп потерял интерес к Суховею, переключился на общую ситуацию в России. По его мнению, она сползает к катастрофе. На эту тему он мог говорить часами. «Раньше я его фактурой снабжал, — с грустью подумал Дмитрий, — теперь он меня просвещает».
Когда вышли из кафе, Боб вдруг спросил:
— Говоришь, земляк двадцать восьмую школу окончил? В каком году?
— Точно не скажу. Где-то в конце девяностых... Да! Он не один. Мало того, что гол как сокол, за ним баба увязалась. Деревня деревней, из-под Владимира. Познакомились в электричке, она его на жалость берет, пугает, что на панель пойдет. В общем, странный человек. Убогий, тихоня, тонет в будничной суете. А башка варит.
Винтроп не комментировал, а на прощание сказал:
— Такие дела, что каждый месяц буду залетать.
Пребывая на политическом мелководье, в томительном ожидании славных дел, когда путинский режим рухнет, Соснин все более увлекался общением с Суховеем.
Матерый Винтроп, обкатав Соснина в Москве, хорошо изучил его, отведя ему должную роль в будущей российской игре. Но и Дмитрий, немало покрутившийся среди людей из американского «аналитического» сообщества, неплохо их понял. А потому оценил потаенный смысл вопросов о Суховее. Винтропа заинтересовал бедствующий русский эмигрант со свежими мозгами. Однако Боб свято блюдет заповеди своей службы: сперва проверь, с кем имеешь дело. «Они поднимут списки выпускников двадцать восьмой школы», — подумал Дмитрий.
Между тем Валентин стал чаще заглядывать к Дмитрию — с пустыми руками и вечными извинениями за нарушение этикета. От угощений отказывался, но в избытке пил чай, громко прихлебывая и отдуваясь. Говорили прежде всего о России. Валентин стойко утверждал, что в девяностые запад втянул страну во всемирную экономическую паутину, и в чужой игре России ничего не светило.
— Политика снова взяла верх над экономикой, — сокрушался он. — Эти чертовы санкции заставили Россию рваться из мертвой хватки глобальщиков, начать свою игру. Как запад не просчитал этот вариант, ума не приложу!
— И что будет? — допытывался Дмитрий.
— Да все будет о’кей, запад дожмет. Но теперь это сложнее, появился китайский фактор. Россия попытается продать себя дороже.
— Не понял.
— А чего не понять? Олбрайт требовала расчленения России на полсотни кусков, ибо несправедливо, что огромные природные богатства принадлежат одной стране. А теперь ее позиция неприемлема. Что означал бы распад России? Отпадение земель за Уралом? Они войдут в орбиту Китая! Отсюда усложнение игры: сменить власть в Кремле, взять Россию под внешнее управление, но не допустить распада страны.
После таких бесед Дмитрий задумывался. Он был человеком дела и не обладал аналитическим даром. Но уж что-что, а извлекать выводы из услышанного умел прекрасно. И, прикладывая их к своей судьбе, искал выход из комфортного вильнюсского заточения. Его деятельная натура жаждала событийных эмоций.
Однажды Валентин пришел в неурочное время, утром.
— Плохие новости, Дима. Вчера звонит тетушка, говорит, приезжай, дорогой, у меня инфаркт, может, последний раз свидимся. А на какие шиши я в Томск полечу? По телефону позвонить не могу — роуминг дорогой, а партнер плату задерживает. Мобильный счет пустой.
В башке Соснина сразу щелкнуло, — на такие дела он был мастак! — предложил:
— Звони с моего мобильника.
Суховей благодарно кивнул. Видимо, на помощь и рассчитывал, потому зашел утром, чтобы в Томске не наступила ночь. Медленно, с расстановкой продиктовал номер, и Дмитрий услышал старческий женский голос:
— Аллё...
— С вами будет говорить Валентин. — Соснин быстро передал телефон.
— Бабуня, ты что меня огорчаешь? — ласково сказал Валентин. — Все будет в норме, держись. Сейчас прилететь не могу, я в Вильнюсе. Ну, в Прибалтике. Что врачи говорят? Почему в больницу не взяли? Ты отлеживайся, перемогайся. Я еще позвоню. Держись, дорогая, держись.
Отдав мобильник, тяжело вздохнул:
— Неужто не придется с тетушкой увидеться? Единственная родня. Эх, жизнь! Удручающе все это. Сижу здесь как в зиндане.
Говорить было не о чем, не то настроение, и Валентин, поблагодарив за помощь, умотал. А Соснин подошел к зеркалу и хитро подмигнул себе: двух зайцев убил: и Валентину порадел, и в своем телефоне сохранил номер его тетушки. Будет о чем доложить Винтропу.
Для Боба томский телефон действительно стал приятным сюрпризом. Он переписал его на одну из маленьких бумажек, которые носил в верхнем кармане пиджака. Вечером они распрощались до следующих встреч, но утром неожиданно раздался звонок:
— Слушай, возникли обстоятельства, которые требуют задержаться в Вильнюсе. На что тут можно убить пару дней простоя?
Дмитрий лихорадочно перебрал в уме здешние прелести и, зная нелюбовь Боба к осмотру музеев, посоветовал:
— Единственный нестандарт — район Ужупис с местной богемой.
— Ладно, годится, — сказал Винтроп и попрощался. Но вдруг словно вспомнил: — Да! А как поживает твой Сухой? Так, кажется, фамилия?
— Вы имеете в виду Суховея?
— Да, да, Суховей.
— Все так же. Тетушка сильно хворает.
— Слушай, а может, ты меня с ним сведешь? Кстати, что он о тебе знает?
— Пожалуй, ничего. Вопросов не задавал, а мне зачем заплывать за буйки?
— Та-ак... Значит, скажи ему, что стажировался в Штатах, а я был преподавателем. И должен пролетом быть в Вильнюсе. Встречу организуй в нашем кафе, и чтоб он был со своей бабой. Но предупреди, что могу не прилететь. Если все пойдет по плану, Суховею сообщишь послезавтра днем.
Звонок Винтропа застал Соснина за домашним завтраком: он перешел на самообслуживание. Но, нажав «отбой», отвлекся от кофе и, скрестив руки под головой, улегся на канапешку. Его не мог не встревожить повышенный интерес к Суховею, и первой эмоцией была ревность. Но он осознавал: к Валентину интерес совершенно иной, чем к нему, Соснину. Выстраивая цепь событий, понимал, что номер томского телефона сыграл решающую роль в вильнюсской задержке Боба и в желании познакомиться с Валентином. Видимо, по школе двадцать восемь все сошлось, однако этого мало. Вот телефон тетушки — это да! Можно быстро проверить, есть ли тетушка, больна ли? Соснин уверенно отгадывал действия другой стороны. И вместе с отгадкой пришло успокоение: Валентин не конкурент, он нужен для чего-то иного. Более того, при удачном раскладе землякам придется работать в паре, где у каждого своя роль. Винтроп слишком важный человек, чтоб терять время впустую.
Допив холодный кофе с сырной булочкой, Дмитрий снова растянулся на канапешке. Теперь предстояло обдумать, как ловчее уговорить Суховея на поход в кафе, да еще с его тёхой-матёхой. Глаша может взбрыкнуть, а они нужны вдвоем. Не выполнить поручение Соснин не мог.
Все тщательно взвесив, написал Валентину: «Намечаются неожиданные события. Удобно, если через час заеду?»
Суховей, разумеется, согласился, и Дмитрий, по традиции, с маленьким тортиком, на такси помчался по знакомому адресу. Войдя в скудную комнатушку, не здороваясь, громко воскликнул:
— К нам едет ревизор!
Валентин побелел от неведомой опасности, а Глаша вылупила глаза, с ужасом повторила:
— Ревизор?
Дмитрий рассмеялся, разрядив напряженную атмосферу, попросил чаю, удобно устроился на хлипком стуле и начал заготовленную заранее сагу:
— Валентин, у тебя, насколько я понял, биография короткая, а у меня уже набралось кое-что. Я не говорил, что три года стажировался журналистом в Америке.
— В Америке?! — изумленно ахнула Глаша.
— Ну ты даешь! — восхищенно поддакнул Валентин. — И молчал!
— А ты не спрашивал, чего я буду тебе Америкой тыкать. Но сейчас не обо мне речь. Как ни странно — о вас.
Нагнетая нетерпение Валентина, положил в рот кусочек торта, глотнул чаю и только тогда начал:
— В Томске я работал в городской газете, помнишь такую?
— А как же! — торопливо откликнулся Суховей. — Еженедельник. Знатно обком бомбил.
— Так вот, газета выиграла американский конкурс по оформлению, и меня пригласили в Штаты. Три года там мыкался. Магистратуру окончил.
Глаша, подавленная новостью, помалкивала, а Валентин не спускал с Дмитрия глаз, гадая, куда повернет разговор.
— Так вот, — продолжал Соснин, — в университете был преподаватель с русским языком, Боб Винтроп. Потом я узнал, что в годы перестройки он работал в московском офисе «Вестингауза». В общем, сложились у меня с Бобом добрые отношения. Отменный мужик и уважает Россию.
Соснин сделал паузу, снова хлебнул чаю.
— Отучился я в Штатах, но вернулся уже не в Томск, а искал работенку в Москве. У меня же английский в совершенстве! С языком, да аусвайсом магистра удалось устроиться на приличное место, и жизнь, хотя потряхивало на ухабах, покатилась вперед. Но это к делу не относится.
— К какому делу-то? — не выдержала Глаша.
— Вот нетерпеж! — хохотнул Дмитрий. — Не ставь телегу впереди лошади.
— Не поставлю, я деревенская.
— Так вот, живу в Москве, и вдруг звонок: «Привет, это Боб Винтроп, по делам в России. Может, свидимся?» Ну, я с радостью. И выяснилось, что Винтроп, владеющий русским, получил должность в каком-то московском офисе. Общались мы часто, стали друзьями, хотя он намного старше. Но в Америке это не имеет значения.
Дмитрий ждал, что Валентин начнет задавать вопросы, а тот молчал, не сводя глаз с рассказчика. «Разогрев прошел по плану, пора переходить к сути», — решил Соснин.
— Короче, братцы, мы с ним года два пивко попивали. Потом срок контракта вышел, он улетел. Но иногда по скайпу перемигивались, а во-вторых, изредка он по делам фирмы объявлялся в Москве. После Киева я в Вильнюс смотался, о чем Бобу сообщил. И представляете... — Дмитрий выдержал интригующую паузу. — вчера получаю известие, что он снова в Москве и на обратном пути в Штаты хочет навестить меня. Если без форс-мажора, будет здесь послезавтра.
И снова не выдержала Глаша:
— А нам-то чего? Ну, прилетит эта американщина, как его... Боб. А мы что?
Дмитрий откинулся на стуле и, глядя в глаза Валентину, сказал:
— Винтроп обзавелся в Москве большими связями. О себе говорит мало, но чувствую, стал крупной птицей. Посолиднел, богообразный, неторопливый. Удивляюсь, что про меня не забыл, американцы, они, знаешь, дружат по принципу «нужен — не нужен». А Боб, он в этом смысле нетипичный, это я еще в Штатах понял. Так вот, ребята, если ничего не сорвется, мы сговорились с ним поужинать. — И с пафосом завершил: — Хочу вас с ним познакомить! А потому приглашаю на ужин.
В комнате настала тишина. Первой опомнилась Глаша:
— А я там к чему? Мне чего там делать?
— Ну, как тебе объяснить? Если Валентин будет один, это как бы деловая встреча. А дела-то нет. Я просто хочу вас с Бобом свести, вдруг он поможет Валентину работу в Москве подыскать? Связи у него, говорю, огромные. А коли вы вдвоем, я вас представлю как своих друзей, земляков. Ты, Глаша, пожалуешься на житье-бытье. Он это любит и понимает. А я попрошу помочь. Мой замысел в том, чтоб знакомство вышло неофициальным. Глаша будет ныть. Ты, Валентин, по-крупному говорить умеешь. Чем черт не шутит... Валь, ну чего молчишь? Понимаю, шанс хилый. Но зачем от него отказываться?
— Спасибо, дорогой, — расчувствовался Валентин. — Но все это неожиданно, непривычно. Не знаю, как себя вести.
— Будь самим собой. Только с Глашей беседу проведи, чтоб не выскакивала со своими кричалками.
— А чего я? — отозвалась Глаша. — Какая есть, такая есть. А ежели лишняя, то не пойду, пусть один идет. Глядишь, чтой-то наклюнется. Пользы не будет, но вреда тоже нет.
— Всю игру ломаешь, — разозлился Дмитрий. — Валентин, уйми ее, серьезное дело намечается. Я гарантий дать не могу, но грешно шанс упускать.
— Ладно, поговорю с ней, — согласился Валентин. — Чтоб маслом кашу не портила. А вообще-то задачку ты задал сложную. Первый раз такое. И — с американцем! Да еще с Глашей. Мы вдвоем нигде не ходили.
— А куда ходить-то? По ресторанам, что ль? — процедила неугомонная Глаша, и Соснин понял, что у них будет «сурьезный» разговор. Сможет ли Валентин ее обломать? Характером она посильнее этого мямли.
Прощаясь, Дмитрий снова предупредил, что вопрос решен не окончательно. Вдруг Боб не прилетит? Поэтому он сообщит, состоится ли ужин.
Вернувшись домой, опять вытянулся на канапешке и стал соображать дальше. Это была его метода: он не продумывал задачу целиком, от начала до конца, а решал по частям, этапами, пошагово. Это помогало, не обмозговывая весь комплекс дел, сосредоточиться на одном эпизоде, зато мысленно репетировать его до мельчайших деталей.
Теперь, когда подготовительная часть завершена, предстояло выстроить план ужина. Лучше, если они с Бобом встретятся раньше, все обговорят, а потом появится Суховей. Правда, сразу выскочил побочный вопрос: а что, собственно, обговаривать? Задача поставлена четко: познакомить!
Дмитрий понимал: если встреча состоится, больная тетушка у Валентина и вправду есть. Но в чем интерес Винтропа? Валентин со своей светлой башкой в общественном смысле — абсолютный ноль. Чего же Боб вцепился в него и задействовал механизмы для проверки его биографии? На этот вопрос Соснин ответить не мог. Но застольный разговор придется вести ему. На чем сделать акцент?
Впрочем, этот вопрос был из легких — о бедственном положении Валентина. Хотя его вдохновляли вовсе не благородные земляческие чувства. Именно этот ракурс позволит Винтропу направить беседу в то русло, какое он считает нужным.
Еще раз мысленно «провернув» в башке предстоящий ужин, Соснин утвердился в своей проницательности и «отключился» — вернее, включил телевизор.
Боб позвонил в десять утра, сказал по-английски:
— У меня все о’кей. Что у тебя?
— Тоже о’кей. Остается согласовать время.
— Встретимся в кафе в пять часов.
Но Суховею Дмитрий написал лишь в три:
«Прилетел! Договариваемся так: в половине шестого ты с Глашей придешь в кафе у башни Гедимина. Там реклама мигающая, все знают. Мы будем вас ждать. Кстати, Глашу уговорил? Я предупредил Боба, что хочу познакомить со своим другом и его женой».
«Я не сторонник таких авантюр, — ответил Валентин. — Глаша будет. Но за жену выдавать не стану. Какая она мне жена? Как получится, так и получится. По формуле “Продается как есть”».
«Бывают же такие неудачники, как этот Суховей, — подумал Дмитрий. — Мало того, что у самого жизнь не сложилась, так еще и дуру на шею посадил».
Винтроп в очередной раз удивил Соснина.
Когда у Суховея и Глаши прошел шок от знакомства с вальяжным, крупным, солидным американцем — настоящий дядя Сэм! — когда были соблюдены протокольные требования по части обоюдных рекомендаций со стороны Соснина, Боб вдруг — именно вдруг! — сказал, обращаясь к Валентину:
— Знаете, чем американский менталитет отличается от русского? У русских личные отношения слишком зависят от совпадения взглядов. У нас этого нет. Мы с Дмитрием давние друзья, и хотя сегодня расходимся в оценках, это не сказывается на взаимных симпатиях. Пока вас не было, мы перекинулись мнениями, и выяснилось: он считает, что Россия Путина идет к краху, а я, наоборот, вижу признаки возрождения. Я профи в экономической сфере, мне виднее. — Добродушно улыбнулся. — Исходя из вашей с Дмитрием дружбы, бьюсь об заклад: вы единомышленники.
Суховей неопределенно пожал плечами, отмолчался.
— На президентских выборах ваше общество консолидировалось. Я люблю Россию, верю в ее будущее. Я прав, Валентин, что вы стоите на воззрениях Дмитрия?
— Понимаете ли, мои мозги так устроены, что не воспринимают постановку вопроса в общем виде, — не очень вежливо и снова уклончиво ответил Суховей. — Я мыслю конкретно и уж точно не готов кидаться в спор при первом знакомстве.
«Молодец! — мысленно похвалил его Соснин. — Я-то понимаю, что Боб его разводит, прощупывает, а Валентин принимает эти штучки за чистую монету, но тактично дал понять, что оптимизма не разделяет. Однако же пора и мне вступать».
— Боб, конечно, мы с Валентином единомышленники. И его судьба говорит, что мы более здраво оцениваем ситуацию. На работу устроиться невозможно.
— На какую работу?
— Да хоть какую! Вот мне бы серьги по пуду — работать не буду, — глуповато решила показать себя Глаша.
— Подождите, подождите, — покачал головой Винтроп. — Если вы, Валентин, скептически относитесь к власти, чему же удивляться? У русских протест иногда принимает изощренные формы. Я беседовал с человеком, который возмущался отсутствием в ваших суворовских училищах туалетов для трансгендеров. Согласитесь, для современной России это чересчур. Есть люди, готовые жаловаться по любому поводу. Вот власть и выбирает, кого брать на службу.
— Извините ради Бога, но мне на власть плевать. На любой службе я исполнял бы свои обязанности, и все. А что у меня в мозгах — хоть туалеты для трансгендеров! — кому какое дело? Мы по-русски — без закуски, потому и меры не знаем. Кстати, служба — дело государственное. А я-то к любой умственной работе готов, тщетное не замышляю.
— Пристроить бы его, скажем, в почтовое ведомство где-нибудь под Москвой, — взял быка за рога Соснин. — Главное, твердая зарплата, пусть небольшая. Он на стороне слегка приварит, как сейчас.
— Не-ет, друзья мои! — воскликнул Винтроп. — Так не пойдет. Это не мой уровень! Давайте серьезно. Я буду в Москве месяца через полтора и могу похлопотать о вас, Валентин. Но речь может идти только об относительно солидной должности, не исключено, с испытательным сроком. Я вас не знаю, но доверяю Дмитрию, который ручается за вашу деловитость.
Ничего не понимающие Валентин и Глаша, вытаращив глаза, глядели на американца, словно перед ними был волшебник Хоттаб. А Боб продолжал:
— Посоветуюсь с русскими друзьями, и, думаю, вопрос удастся решить. Возможно, не в Москве — в Подмосковье. Не знаю, правда, как быть с вашими настроениями. Или убеждениями? Я же говорил, что в России политические взгляды имеют неоправданно важное значение.
Суховей беспомощно развел руками, давая понять, что «в любви он не волен».
— Но надеюсь, вы не состоите в каких-то оппозиционных структурах?
— Нет, нет, на этот счет можете быть абсолютно спокойны, — торопливо ответил Суховей. — Свое ношу в себе. Мало ли какие застарелые неприязни есть. С Дмитрием мы и впрямь сошлись умозрениями, откровенны друг с другом. Но что до коллективных форм протеста, — это не для меня. Я на отшибе. Как говорится, никаких открыток.
Винтроп недоуменно поднял брови, и Валентин пояснил:
— Открыткой у нас называют «Открытую Россию» Ходорковского. И спорить не люблю. Не стану же я, заламывая руки, убеждать вас, что вы относительно оптимизма не правы, что в России пацаны у власти.
— Это американский подход к дискуссиям. У нас не спорят, а обмениваются мнениями. Мы считаем формат спора бесплодным. Суть спора в том, чтобы переубедить собеседника. А это при лобовом противостоянии невозможно, никто не признает своего поражения. Споры усиливают упрямство, ожесточение. И совсем иное — обмен мнениями. Спокойно выслушали друг друга и разошлись. А при домашнем анализе аргументы собеседника могут побудить к перемене точки зрения.
В тот день, поздно вечером, Соснин получил два важных сообщения. Сперва позвонил Боб, сказав, что «этот парень» ему понравился, умственная мускулатура у него в наличии и что он «возьмет его в работу». Так и сказал: не «на работу», а «в работу», что было гораздо интереснее. Потом пришло письмо от Суховея, который, по мнению Дмитрия, сегодня был в ударе. Валентин искренне благодарил, кланялся за дружеское содействие, но удивлялся оптимизму этого добродушного американца, слабо понимающего Россию, — ну прямо квасной патриот!
Внезапное «перевоплощение» Винтропа многому научило Соснина. Но главное, его замысел, кажется, тоже пойдет в работу.
Среди множества девятиэтажных, облицованных бледно-желтой плиткой домов вблизи Калужской заставы Суховей без труда отыскал нужный адрес, нажал на пульте домофона номер квартиры и, когда женский голос пригласил: «Пожалуйста, входите», — спросил, какой этаж.
Поднявшись на пятый, увидел в дверях справа средних лет женщину, пригласившую войти. Она провела в дальнюю комнату, где в углу был обеденный стол, сказала:
— Располагайтесь, пожалуйста. А я пойду.
Суховей сел в кресло, огляделся. Комната скромно обставлена казенной мебелью, стол, накрытый на двоих, тоже незатейливый: селедка с картошкой, немного красной рыбы, блюдо с мясной закуской, какие-то канапешки, ваза с пирожками, хрустальный штоф с водкой. «Классическая конспиративная квартира, — подумал Валентин. — В случае надобности можно и заночевать».
Щелкнул замок входных дверей, Суховей поднялся и, когда в комнату вошел среднего роста мужчина в темно-сером костюме, вытянулся по стойке смирно.
— Здравия желаю, товарищ генерал!
— Здравствуй, здравствуй, Валентин, рад тебя видеть. Редкий случай: удалось проскочить без пробок... Давай попроще, по-свойски, сегодня мы не при параде.
— Слушаюсь, Константин Васильевич.
— Ну что? Сразу к столу? Поднимем за встречу.
Когда наполнили рюмки, генерал добавил:
— За встречу и за удачу! Поздравляю. Подсаживая тебя к Соснину, не думали, что так быстро удастся выйти на Винтропа.
Когда выпили, закусили, спросил:
— И как вас теперь называть?
— Зам руководителя одного из подразделений Мособладминистрации. Название длинное, сам едва выговариваю. Базируюсь в Красногорске.
— Хор-рошо! Винтроп тебя пристроил с перспективой. Карьерный рост гарантирован. Как Гульнара?
— Сожалеет, Константин Васильевич, что не пошла в театральное училище. Открылся талант актрисы, так въехала в роль деревенской Глаши, что крепко думаем, как из этой роли ловчее выбираться. Классику вспомнили — «Моя прекрасная леди». Возможно, задействуем подобие такого варианта.
— Кстати, у тебя какой язык?
— Английский.
— Сразу поступай на платные английские курсы. Чтобы все знали, учишь инглиш с нуля. Сегодня трудно предвидеть отдаленное будущее. Игра идет вдолгую.
— Меня больше беспокоит завтрашний день. Адрес съемной квартиры я Соснину сообщил, он может в любой момент наведаться.
— Ради бога.
— И увидит, что деревенская Глаша круто осовременилась. До неузнаваемости.
— А это уж твоя забота. Пусть не спешит перевоплощаться. Зачисли ее на какие-нибудь курсы, где шлифуют на городской манер и на которые можно сослаться. А Соснин... Соснин не фигура, типичная пятая колонна. Он прокололся еще в 2011 году, когда слишком рьяно нападал на Путина. Организатор газетного дела он опытный, и его держат в резерве на случай изменения общей ситуации. В Вильнюсе он, как теперь шутят, словно гей на передержке. Хотя эротическими фантазиями не увлекается. Как человек дела, он от долгого безделья может эмоционально выгореть. У него карьерные галлюцинации неизлечимые. Будь к нему предельно внимателен.
— Не устаю благодарить.
— Да, Соснин не интересен. Мы использовали его для твоего томского варианта, вот, пожалуй, и все. Куда важнее Винтроп. Крупная птица! Занимается очень тонким делом. В секретные сферы не лезет, шпионов не вербует. Мы про него все знаем, а предъявить нечего. Ну, можно закрыть въезд в Россию. И что? Таких, как он, десятки... Давай-ка еще по маленькой, и я тебе изложу всю диспозицию. Надо четко понимать, что происходит.
Выпили, слегка закусили. И Константин Васильевич предложил передислоцироваться в кресла. Удобно устроившись нога на ногу, начал говорить:
— Перед такими, как Винтроп, стоит задача вербовать агентов влияния. Кто тебя в областную администрацию пристраивал? Те, кому Винтроп мог дать на этот счет указание. Мы, кстати, потихоньку их вычислим, не повредит. Однако это частности. Важнее сама проблема: насыщение российского управленческого слоя агентами влияния, не связанными в единую сеть, но готовыми выполнять предписания некоего центра. Не понимая общего замысла, они продвигают по карьерной лестнице друг друга и новичков вроде тебя. Они тихо саботируют исполнение властных решений, не в меру администрируют, нахлобучивая народ и вызывая ропот, они наказывают невиновных и награждают непричастных, раскачивают общество, чтобы, как в «Бесах», пустить судорогу. Одни делают это в расчете на будущий бурный карьерный рост, другие — из страха перед компроматом. Сегодня много шумят о цветных революциях, но они выдохлись, отработав свое. Это вчерашний день. На смену пришла новая концептуальная идея: насыщение руководящего звена стран-мишеней агентами влияния. Ущучил разницу? В странах-вассалах политическая верхушка такими агентами забита до краев. Отсюда и стратегический блеф типа сплочения вокруг дела Скрипалей. Это тоже скрытая интервенция, распознанная далеко не всеми. Как в цветных революциях протестующие не осознавали, что кто-то на их горбах въезжает в рай, так и многие агенты влияния не понимают, какая роль им отведена. Перестройка, увенчанная гибелью СССР, показала амерам, что в информационный век невиданно возросло значение «мягкой силы». Вспомнили Бисмарка: русским нужно привить ложные ценности, тогда они победят сами себя. И в 90-е не жалели средств на создание в России протестного медиасообщества. Сколько у нас Сосниных, пичкающих народ тухлым информационным продуктом! Прокололись единицы, а другие по-прежнему в деле, не осознавая, что ими дирижируют. Но теперь американская праведность требует пропитать агентами влияния административную прослойку, вплоть до верхов, чтобы создать хаос в управлении страной. Действуют в точности по Марксу: бюрократия сделала государство своей собственностью. Спроста ли мы столько лет не можем сформулировать стратегию развития, хотя закон, требующий ее разработки, принят в 2014 году? Тормозят! В этой среде много тайного ослушания. Обуздатели и укротители держат страну в плену мелких вопросов, библейский обряд омовения рук освоили в совершенстве, кругом засилье административных процедур. Все гуще льют елей вместо конкретных дел. Агенты влияния — мощнейшая разновидность «мягкой силы», вдвойне опасная, ибо их распознать сложнее, чем охотников за госсекретами. И амеры резко усилили вербовку агентов влияния, проверяют поверхностно — как тебя через Томск, — цепляют кого попало, кто на дор блю клюет. Известно, голодная акула и мелкую рыбешку замечать начинает. Эту серьезную опасность мы осознали не сразу. Зато теперь так: они вербуют, а мы им своих людей подсовываем. Показываем им агентурный эквивалент оскорбительного среднего пальца.
Рассмеялся:
— Есть притча об эзоповой девице, которую из кошки превратили в женщину. И все шло распрекрасно, пока мимо не пробежала мышь, тут ее кошачье нутро и вылезло. Вот мы порой «мышей» и запускаем, а они прокалываются.
Умолк, подумал о чем-то, потом начал снова:
— Что мы ждем от тебя, какие задачи ставим? Ну, раскрытие агентов влияния, попадающих в поле зрения, — само собой, в этой симфонии каждый звук важен. Но ты нужен прежде всего для того, чтобы отслеживать тематички — какие задачи будут ставить перед агентами влияния в связи с нашим политическим календарем. В экономической, административной сферах тоже — они цифровую колонизацию замыслили, а ее проталкивать надо через прозападное цифровое лобби. Нам необходимо понимать конфигурацию угроз. На данном этапе это главное. И еще. Самое трудное — осознать, что с Западом нельзя играть по русским правилам, запад по природе своей циничен, для него обман — это доблесть. К сожалению, даже на самом верху у нас это не понимают, пытаются взывать к благородству... О связи тебе сообщили — через Гульнару и маникюршу. Скажешь Соснину, что Глаше на курсах велели маникюриться. Нам пиши подробно, опасаться нечего. А в электронной почте не держи, там АНБ сторожит, никакие прокси не помогут сохранить анонимность, настало время боевого использования Инета. Переходим на дедовский способ донесений. Он сейчас безопаснее. Вопросы есть?
Суховей задумчиво пожамкал губами, сказал:
— Вопросов нет. Но чувствую, будет скучновато.
— А ты живи. По работе старайся, чтобы карьера скорее шла. Мы помогать не будем. Весь цимес в том, чтобы тебя вверх винтропы толкали. На подходе новая полоса жизни — в стране! Как в перестройку, нас попытаются разложить изнутри. Не в последнюю очередь через агентов влияния. А мы должны хитро ответить. Кстати, со временем подсунешь амерам нашего кандидата в агенты. Ты ведь и сейчас не один такой. Винтропы суетятся, но и мы проснулись, готовим асимметричный ответ. В такое время живем, что мыслить приходится не текучкой — масштабом десятилетий, поколений. — Посмотрел на часы. — Та-ак. Ну, главное мы с тобой обговорили. Когда увидимся снова, не знаю, частить незачем. Разве по обстоятельствам... Видишь, как получается: внутренние нелегалы в нашей службе появились. Так что живи, делай карьеру, овладевай чиновной эластичностью, трудовой перхотью, набирай аппаратный вес. Видимо, придется и на административную ренту подсесть — белой вороной быть негоже. Давай я тебя на прощанье обниму и двину к себе. Сергевна здесь приберет, а будешь уходить — просто защелкни дверной замок.
Они крепко, по-мужски обнялись.
13
Апрель в Сочи — скучная пора. Но этот апрель и в столице выдался незадачливым: жизнь словно остановилась. На исторической развилке начальники начальников жестоко грызлись на верхах за стратегические посты в правительстве, в Застенье. Чиновный люд замер в режиме ожидания, томительно гадая о дорожной карте Путина. На какой курс ляжет государственный корабль в последний президентский срок? Прежний, на что уповает облепившая местоблюстителя кремлевского трона либеральная рукопожать? Возобладают ли обновительные потребности, о чем мечтают отечественный капитал и большинство народа? Или же Кремль под видом национального компромисса ограничится фальшаком, рекламными обновлениями в стиле модного политического жеманства, вроде «стратегии лайт» Кудрина (без отказа от суверенитета), что убьет надежды на перемены, которыми беременна Россия? Искушенные бюрократы министерского звена, с которыми общался Донцов, ссылаясь на российские обыкновения, склонялись к третьему, отнюдь не лучезарному варианту, высказывая опасения, что дедлайн на носу.
Далекий от властных верхов и фаворитизма, непричастный к подковерной драке за будущее России, Виктор изнывал от штиля. Никто ничего не знал и ничему не верил. Ни практические, ни законодательные вопросы не решались, дела повисли, как говорится, яхта уронила паруса, сроки срывались, заикаться об инвестициях бессмысленно, несолидно. И он на две недели махнул в Сочи. Не лечиться, даже не отдыхать, а причесать мозги. Безмятежное санаторное безделье вдали от политического окаянства, обуявшего элиту, способствовало размышлениям о житье-бытье: сорокалетие накатывает.
Он привык колотиться в сутолоке бизнеса, преодолевая неизбежные преграды и обходя повседневные препоны, противостоя оппонентам или договариваясь с ними, постигнув дикую российскую коммерцию «по понятиям» и научившись не бояться ни пацанских наездов, ни коварной аудиторской любознательности. Заоблачных вершин не достиг, однако надежно укрепился в деловом мире. На двух станочных заводах — вернее бы сказать, заводиках — владел четвертными долями, на одном — контрольным пакетом. Коллеги неспроста признали его лидером. Донцов умел формулировать смыслы и на доступном бытовом примере объяснил партнерам плюсы быстрого перехода на цифру. Зачем, по традиции, покупать в семью второе авто, если теперь легко вызвать машину через Uber? На деле такой подход позволял выйти за отраслевые рамки, обрести свободу маневра по клиентской базе, по интересным инновациям «со стороны». Нет, в Сочи ему незачем обдумывать бизнес-планы, состав деловой жизни давно угнездился в башке, требуя действий, которым мешал чиновный штиль и неясности экономического завтра.
Под размеренный накат ленивых волн на пустынный галечный пляж он неторопливо вышагивал по аккуратной плитке из конца в конец набережной вдоль длинного десятиэтажного корпуса «Приморский». Вспомнился дощатый настил на Брайтон-бич: впервые прилетев в Нью-Йорк, он не только глазел на небоскребы Манхэттена, но заглянул в город и через заднюю калитку — навестил знаменитую иммигрантскую гавань. В отличие от суеты Брайтон-бич, санаторная сочинская тишь помогала раздумьям. Крики чаек служили звуковым обрамлением ритмичного шума волн.
Донцов пытался думать о Вере. Именно пытался, потому что мысли раз за разом соскальзывали в другую плоскость. Наверное, это был редкий, возможно, очень редкий случай: лишь однажды встретившись с ней взглядом, слегка коснувшись рука об руку, он твердо знал, что они будут вместе и можно загадывать имена их детям. На душе было тепло, спокойно. Как ни удивительно, не тянуло даже мечтать об устройстве личной жизни, без всяких фантазмов сердце подсказывало, что в их отношениях все образуется само собой и наилучшим образом.
Раздумья упрямо, невольно перескакивали на иную тему, тоже связанную с Верой, с будущей семейной жизнью, однако уносящую в сферы, где властвовали не радость и благодать, а озабоченности и тревоги.
Он видел Веру трижды — на похоронах Соколова-Ряжского, в «Черепахе», с Подлевским, и у нее дома, на юбилее. Как ни странно, особенно запомнилась она в «Черепахе». Одетая элегантно — все в меру и не напоказ, — в очень стильной цветовой гамме: юбка-карандаш синеватой берлинской лазури, почти белая шифоновая блуза с напуском, розово-красный платок, свободным узлом с широкими концами повязанный ниже шеи. Только здесь, почти в одиночестве прогуливаясь по приморской набережной, — прохладная погода не многих располагала к променаду, — Донцов вдруг понял, почему именно тот образ Веры так врезался в память. Ну конечно! Еще на кладбище его поразила и неудержимо привлекла ее одухотворенность. А тот наряд, в «Черепахе», — это же цвета российского флага!
Виктор как бы заново осознал глубину своих чувств: одухотворенным обликом и непростой судьбой Вера словно олицетворяла образ России, величественной, но еще не достроенной до совершенства Храмины. И только подумал, все встало на свои места. Вспомнил: после посиделок с Ряжской в «Воронеже», когда впервые узнал о трагедии Богодуховых, ему привиделось, будто борьба за Веру будет вписана в какой-то несравненно более широкий контекст, нежели просто сердечное влечение. Теперь он мгновенно, как в цифровом счете, сопоставил все, что знал о ней, включая «наличие» Подлевского, и его бомбило от загадочного итога: речь идет о поединке с Подлевским. В личном плане он уже взял верх. Но после дискуссий за юбилейным столом ему был брошен тонизирующий вызов. Подлевский не просто оппонент, это симптом, воплощение российской либеральной болезни. С этим спесивым бычком в томатном соусе, в коллекционных ботинках они не только политические антиподы. Как говорили в дворовом детстве, зуб даю, что их непримиримая ментальная схватка пойдет на уровне не домашних разговоров, а государственных проектов, затронет судьбы России. Если же трагедию Богодуховых, происшедшую по вине старшего Подлевского, хорошо ураганившего в 90-е годы, сопоставить с видами его наследника на Веру...
Виктор чуть ли не конвульсивно плюхнулся на ближайшую скамейку — они тут через каждые двадцать метров, — дыхание участилось, в голове сумбур, сквозь который, словно тонкий луч солнца, как раз в эту минуту ударивший через окно в пелене облаков, висевших над морем, пробилась догадка: ему изначально чудилось, что в истории с Верой будет много промыслительного, и сейчас эти предчувствия обрели четкую форму. Соперничество с Подлевским для Донцова становится как бы символом борьбы за будущее России.
Глянув на часы, Донцов заторопился в огромное, словно круизный лайнер, здание корпуса «Приморский», лифтом поднялся на десятый этаж и через просторный вестибюль вышел в ботанический парк. Здесь уже бушевала свежая зелень, крупными бело-розовыми лепестками цвела магнолия, белки метались вдоль прогулочных аллей, сторожа санаторных кормильцев с орехами.
Виктор жил в полулюксе укрытого в парке от летнего зноя корпуса «Сочи» — трехэтажного, с колоннами, сталинской архитектуры, с фигурными балюстрадами, ограждавшими широкие лестницы, и фонтанами перед ними, с цветными мраморными полами. Здесь издавна лечилась советская знать; у одного из номеров Донцов видел латунную табличку, извещавшую о пребывании знаменитого полярника Ивана Папанина. Поднявшись на свой второй этаж, скинул ветровку — переобулся и по крытой галерее — портику классической архитектуры — пошел ужинать.
Ресторан «Белые росы», непосредственно в здании, работал по принципу шведского стола, хотя за каждым отдыхающим закрепляли место. Виктора подсадили за столик к пожилой паре, и, представившись, он услышал в ответ:
— Мы всегда отдыхаем здесь в мертвый сезон, — сказал мужчина с небольшой седеющей бородкой, с залысиной, в солидных роговых очках — облик ученого из старых советских фильмов, — который и впрямь оказался профессором «Курчатника».
— Нам купанья и загоранья уже не с руки. Наш рацион — процедуры и моцион, — добавила его супруга, не скрывающая косметикой возраста, одетая скромно, но со вкусом, с соблюдением правил санаторного дресс-кода.
Трижды в день встречаться за ресторанным столом и не разговориться по душам — такое возможно где угодно, только не в корпусе «Сочи», где лечатся люди одного круга. Тем более профессор с шутливой и, видимо, привычной оговоркой представился:
— Меня зовут Михаил Сергеевич. Извините за сходство с небезызвестным персонажем, трещавшим о ценностях общечеловеческого свойства, но оставившим неоднозначный след в русской истории. — И коснулся пальцами залысины, намекая на горбачевскую метку.
Донцову впервые довелось близко общаться с человеком ученого звания. К тому же выяснилось, что профессор, далекий от публичной политической жизни, чутко следит за властной ситуацией и его научное мышление позволяет глубоко, нестандартно оценивать происходящее в стране. Застольные соседи быстро нашли общий язык, жадно поглощая свежую информацию, ибо каждый говорил о том, что было внове для собеседника. Вращаясь в разных, непересекающихся слоях общества и по прихоти случая сойдясь за каждодневной санаторной трапезой, они обрушили друг на друга свое понимание жизни. Разумеется, им не хватало застольных бесед, после обеда, уже не обремененные посещением врачей и процедурами, они отправлялись бродить по обширному парку, продолжая беседы. Понятно, в сопровождении Лидии Петровны, которая, как быстро понял Виктор, в этой приятной паре играла роль направляющей силы.
Впрочем, откровенность пришла не сразу. Профессор был эрудитом, обладавшим познаниями в самых разных сферах, а бизнесмен Донцов представлял для него интерес как человек, варившийся в кипятке жизни. Но поначалу Михаил Сергеевич не шел на политическую глубину, проявляя осторожность и, видимо, желая лучше понять настроения нового знакомого. Блистал эрудицией — глубокой, явно не нагуглил, — но свой аналитический ум держал как бы в засаде.
Когда они прогуливались рядом с дачей Индиры Ганди — она тоже отдыхала здесь, — Лидия Петровна сказала:
— Миша, а напомни-ка, ведь очень умно ее отец изгнал англичан из Индии.
— Ну как же! — воскликнул профессор. — Величайшая в мировой истории гуманитарная акция! Виктор, вы знаете, что Махатме Ганди удалось избавить страну от британского владычества без единого выстрела?
— Ну откуда же бизнесмену, утопающему в деловой текучке, ворочать такими историческими пластами?
— Ну как же! Сатьяграха! Обет невзаимодействия! В Индии ткацкие фабрики, пошивочные, метизные — все принадлежало британцам. Как же избавиться от колонизаторов? Вы, надеюсь, помните полотно Верещагина о неслыханных скорбях восставших сипаев — их усмирили, привязывая к жерлам заряженных пушек. И что сделал великий Ганди? Он призвал народ не пользоваться английскими товарами, не взаимодействовать с колонизаторами. Как это удалось в доцифровую эпоху, ума не приложу. Но удалось! Англичане сперва посмеивались, но скоро их фабрики встали, бритиши не смогли справиться с тихим протестом и ушли из Индии.
— Потрясающе! — воскликнул Донцов. — А ведь неплохой пример для нас, один из ответов на американские санкции: отказаться от навязанной нам субкультуры бигмаков, не брать гамбургеры и колу, разорив жральни Макдоналдса, не смотреть голливудскую бредятину.
— Пустое! Для соблюдения обета Сатьяграха надо быть индусом, — сказала Лидия Петровна. — У нас народ такой, что не отказался даже от латышских шпротов, хотя свои теперь не хуже. И многовато оплаченных скептиков, особенно в соцсетях, нарочито празднующих непослушание, я бы даже сказала, очагов внутренней иммиграции.
Но профессор после паузы произнес как бы в никуда:
— А может быть, дело не в народе? Может быть, у нас нет своего Махатмы Ганди? — Снова через паузу, смягчая намек, добавил с коротким смешком: — Вообще-то у нас нечто подобное происходит, но иначе. Почти двести лет назад Вяземский писал: правительство производит беспорядки, а страна выправляет их способом непризнания. Эта константа и поныне сохранилась, как дважды два — четыре.
— Абсолютно точно! Сейчас у нас так же, — подхватил Донцов, но Лидия Петровна увела разговор в сторону:
— Вчера, как теперь говорят, в топе Яндекса было о начале стройки АЭС в Турции. Все-таки жаль, Миша, что ты с Курчатовым возрастом разошелся.
— Зато с академиком Александровым знался. Виктор, я вам такую веселую правду поведаю, что будете в компаниях рассказывать. Я ее услышал в Севастополе, в кают-компании штабной «Ангары», кстати, судна Гитлера, полученного по репарациям. Анатолий Петрович был великолепным рассказчиком, мыслил очень образно. Запомнилось, как он, вспоминая о великой Победе, упомянул майский визит маршала Жукова в Берлин в 1945 году. Так вот, Александров — творец атомного реактора для подводного флота, проект 613. И когда первую атомную подлодку спустили на воду, осмотреть чудище на север полетели секретарь ЦК Устинов, министр обороны Малиновский и главком флота Горшков. Александров повел их по лодке, а там светящиеся в темноте фосфорные буковки указывают номера боевых частей — БЧ-1 и т.д. Но дозиметристы так настроили приборы, что поймали даже мизер фосфорного излучения и приказали буковки отвинтить. Устинов одну тайком опустил в карман шинели Горшкова. И на пирсе все прошли контроль, а на Горшкове сирена взвыла так, будто при нем кобальт, в сотни раз усиливающий заражение. Схватил радиацию! Главком побелел как полотно, а Устинов говорит: «В карманах пошарь». Тот буковку нащупал, в сердцах ее в море швырнул, но в себя пришел не сразу. Вот она, можно сказать, онтология нашего атомного флота. История... — опять сделал паузу и шутливо: — не в изложении Сванидзе.
Посмеялись от души, а потом долго гуляли молча. Донцов чувствовал, что профессору хочется от воспоминаний перейти к суждениям о нынешних днях, но он ждет либо наводящих указаний супруги, либо удобного случая.
И такой случай представился уже за ужином.
В тот вечер несколько телефонных звонков из Москвы вынудили Донцова прийти на ужин позже обычного, когда профессор и его супруга заканчивали трапезу. Набирая в тарелку различную снедь у ресторанной стойки, он увидел забавную, миниатюрную, мохнатую собачонку — йоркширский терьер крутился около ног женщины, выбиравшей блюда. Бросил на нее взгляд — и остолбенел. Это же Людмила Путина, бывшая жена президента!
Вернувшись за столик, тихо сказал:
— Вы знаете, кто эта дама с собачкой? — кивнул в сторону ресторанной стойки.
Первой откликнулась Лидия Петровна:
— Лицо знакомое, но не могу вспомнить, где я ее видела.
Михаил Сергеевич, поправив очки для верности взгляда, изумленно шепнул жене:
— Лидуша, это же Людмила Путина!
— Что?!
Разглядывать Путину в упор было невежливо, и Лидия Петровна с любопытством украдкой наблюдала за ней, приговаривала вполголоса:
— Терьерчик у нее очаровательный, трогательная собачка, настоящий йоркшир. Его и на руках можно носить.
Когда выходили из ресторана, Донцов спросил у стройной красивой девушки, встречавшей отдыхающих и отвечавшей за постоянное пополнение шведского стола:
— Мы не ошиблись? Эта дама с собачкой...
— Нет, не ошиблись. Она у нас часто отдыхает. С мужем... Иногда обе дочери приезжают. Приятная женщина, простая в обращении. Обслуживает себя сама.
— А примерно в километре отсюда, если ехать дальше по Виноградной, в резиденции «Бочаров Ручей», работает ее бывший муж, — задумчиво сказал Михаил Сергеевич, когда прощались после ужина в мраморном вестибюле, где настенные панно изображали сцены прошлой советской жизни. — И что? Да ничего. Жизнь как жизнь. Люди как люди. На мой взгляд, все по-человечески. А в интернете фейерверк фейков, будто она в заграницах. Могла бы, если б хотела. Но зачем? Пользоваться благами свободы личной жизни — именно личной жизни, а не так называемыми земными благами — в Отечестве гораздо удобнее, чем за рубежом. Там русские — любой национальности — вроде бы и не совсем чужие, но и не вполне свои. Всегда! А мы дома чего-то опасаемся, по своей дурацкой воле живем с кляпом во рту. Как писал Тютчев, «Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои».
После того случая профессора словно подменили. Видимо, о чем-то он с Лидией Петровной посоветовался поздно вечером и на следующий день преобразился, а по мнению Донцова, стал самим собой, желая высказать в общем-то случайному собеседнику то, о чем думано-передумано, что тяготит душу.
— Вчера в вечернем ток-шоу обсуждали ответ на американские санкции... — Виктор хотел высказать свою точку зрения, но Лидия Петровна сразу перебила:
— Мы уже давно телевизионный смрад не смотрим.
— Ну как же! — поддержал профессор. — При советской власти были «глушилки» — мощные антенны работали на частотах радио «Свобода», других западных станций, заглушая их радиошумами. Нынешние ток-шоу — те же глушилки, архаика на новой технологической основе. Информационный шум, стратегия отвлечения внимания, чтобы люди не могли составить истинное представление о происходящем. Я, батенька, в силу научного статуса гурман по части восприятия реалий. В политическом смысле бесприютен, одинок, это мое агрегатное, то есть рабочее, состояние. Но мозги-то работают. Представьте, сомелье потчуют водкой. Ну, вкус и потерян. Вот и ток-шоу для меня чреваты. Шоу! Политический бурлеск! Все по законам жанра: один набор ораторов, заранее известно, кто что скажет, политклоуны, коверные, чья задача — молоть чепуху, отвлекая от серьезных обсуждений. Возьмите того же Бориса Надеждина: специально держат для разрушения дискуссий. Браться за столь позорную роль можно лишь при хорошем гонораре. Сплошной шмяк-бряк, воляпюк. Общество топят в текучке, не позволяя задуматься о новых смыслах, о главных вопросах развития. Английский юмор в таких случаях требует сказать, что все замечательно, хотя на сленге извращенной британской изысканности это означает, что хуже быть не может.
Донцов, разумеется, не мог не воспользоваться неожиданным приступом откровенности и спросил:
— А что вы считаете главным?
— Увы, во внешней политике — это одно, во внутренней — другое. Конечно, все «главные» взаимосвязаны, однако требуется в каждом случае их распознать. А без системного научного подхода сие невозможно.
— Но хотя бы один пример, — настаивал Виктор.
— Миша, расскажи про тридцатилетие, — явно по предварительному согласованию разрешила Лидия Петровна.
— Какое тридцатилетие? — удивился Донцов.
— Вот видите, вы даже не поняли, о чем речь, — назидательно сказала Лидия Петровна. — Расскажи, Миша, расскажи.
— Понимаете ли, — начал профессор, — анализ русской истории выявляет важную закономерность. Через три десятилетия после смерти Ленина был ХХ съезд партии, разоблачивший культ личности Сталина, началась новая эпоха, и в 60-е страна развивалась успешно. Но прошло еще тридцать лет, импульс развития затух, изменились исторические условия, и в СССР опять возникли противоречия, приведшие к застою. Их бы осознать, наметив новый курс, как сделал Дэн Сяопин. Но Горбачев затеял политический слом, развалил страну. И вот еще через тридцать лет в России снова накопилась уйма противоречий. Казалось, столетие Октября дает повод их осмыслить, консолидируя красных и белых. Но власть озаботилась лишь тем, чтобы «проскочить» дату без скандалов. Скажу больше! Когда начался предвыборный агитсериал, только и шумели о поисках образа будущего России. Но прошли выборы — и тема исчезла. Некогда! «Мелочи жизни», вроде пожаров, мусорных бунтов, чиновного произвола, заслонили поиски образа будущего, заменив их набором благих обещаний «улучшить и повысить». Но где новый курс? Усмотреть аналогию нетрудно, история диктует: каждые тридцать лет в России объективно накапливаются внутренние противоречия и просроченные ценности. Увы, пул экспертов не учитывает это, а руководящее сословие не осознает неизбежность перемен. Чье это попущение?
Помолчал, потом добавил:
— Я мечтаю об эпохе взлета русской мысли. А пока настоящие мужчины играют в хоккей. Беспутье.
— Очень интересно, Михал Сергеич. Но это опять про «кто виноват». А делать-то что?
Тут снова вступила Лидия Петровна, похоже закрепившая за собой в семье роль ЛПР — лица, принимающего решения:
— Господи! Да у него в голове кладези. Но слушать, слушать-то кто его будет? Где он, кроме науки, нужен?
— Погоди, Лидуша, — мягко остановил жену профессор. — Да, у меня есть некие соображения относительно устройства российской жизни. Но я — подданный его величества научного знания, которому служу верой, правдой и с наслаждением. А политические аспекты вынужден учитывать, ибо труды мои, о которых говорить не вправе, неотделимы от судеб Отечества. Но я, как сказано, в общественном смысле бесприютен и одинок. Ни площадки нет, где высказать мнение, ни времени для отвлеченных от науки дебатов. Варюсь в собственном соку и супругу своими измышлениями истязаю.
— Боже мой! — воскликнула Лидия Петровна. — Вы представить не можете, каким он был в перестройку, еще эмэнэсом. Горел! В политику навострился. Где-то рядом со Станкевичем суетился. Сколько нервов пришлось положить, чтобы убедить: для науки он создан! Теперь-то — член-кор, ордена, премии. А на этого жалкого Станкевича смотреть тошно.
— Значит, к вам надо обращаться «академик»?
— Нет, нет. Во-первых, только членкор, а во-вторых, профессорское звание в русском обиходе как-то уютнее, теплее, что ли.
До Виктора начало доходить, что он случайно напал на золотую жилу: беседы с профессором могут обогатить его представления об историческом движении России, его понимание текущих перемен. А Михаил Сергеевич, словно угадав его мысли, счел нужным пояснить:
— Но научное мышление, даже при наличии цифровой гигиены, обладает и плюсами, и минусами. Оно берет предмет целиком, а дьявол, как известно, прячется в деталях. Причем среди деталей, по моему разумению, не последнюю роль играет клановость элиты, степень ее размежевания. Потому, молодой человек, мои суждения не исключают правки.
Донцов только рукой махнул, вернулся к прежней теме:
— Что вы, Михал Сергеич! Вас слушать очень интересно. Так что же делать-то?
— Есть научный анекдот. Профессор спросил на экзамене студента: «Что такое электричество?» Тот отвечает: «С утра назубок знал, а сейчас, как назло, забыл». Профессор и говорит: «Ай-яй-яй, какая беда! На белом свете только один человек знает, что такое электричество, да и он позабыл».
Все заулыбались.
— Разве я могу сказать, что делать? Такие ответы ищут сообща. Научное знание помогает методически. Вот мы говорили о нарастании противоречий, а ныне как раз завершается очередной цикл. Напряжение в обществе растет, момент исторический: президент объявил о прорыве в завтра. А как именно? Каким курсом? План рывка обдуман в узком кругу, и где гарантия от ошибки? Я бы на месте Владимира Владимировича не спешил. По столетней русской традиции, собрал бы Историческое собрание — по типу Конституционного, но без полномочий. Многодневное, под председательством самого президента, с участием бизнеса, политиков, ученых разного профиля. Чтобы выявить разногласия и схождения, умерить интеллектуальный разброд. — Профессор вдруг оживился. — А вы заметили, судьбоносное решение — прорыв в завтра! — приняли келейно? Уж не по сговору ли элит? Царь-батюшка для решения сверхзадач учреждал совещания под председательством Витте. Историческое собрание всколыхнуло бы страну, открыло новую эпоху развития, предложив конкретные действия — от «надо» и «мы должны» все устали. А у нас тон задает эпатажный креаклиат, нет механизма осмысления недавнего прошлого. Живем по принципу: «Ты намедни, а я давеча». Или наоборот. Как без оценки пройденного приступать к следующему этапу? Стихия неопределенности, непредсказуемости нарастает. Вместо рывка можно в стагнацию угодить. Меня знаете какой образ периодически преследует? На палубе «Титаника» все еще играет оркестр, танцуют пары, а столкновение с айсбергом уже неизбежно. И некоторые, между прочим, начинают занимать места в шлюпках.
Внезапно умолк, словно остановил бег мыслей, и через несколько секунд сказал:
— Ну, вы понимаете, это рабочая гипотеза. Ее надо додумать. Возможно, в виртуальном сегменте общества покрутить, с фейсбучным народом посоветоваться. Может быть, не Историческое, а Экономическое. Кстати, в пятьдесят первом году Сталин созвал большое, на месяц, Экономическое совещание. Рассказывают, открывая его, Жданов мрачно пошутил: «Говорите начистоту. Сажать не будем». Тогда даже о рынке речь шла. Но сегодня выяснилось, что эпоха демократии не время для дискуссий. Говорить можно что угодно. Однако на Гайдаровском форуме Глазьеву выступить не дают, а на Московском экономическом, где Глазьев, ни одного министра, ни единого гайдаровца. Разные точки зрения не соприкасаются, обмен мнениями отсутствует, содержательный диалог невозможен. У Пушкина это звучит так: «Для истины глухи и равнодушны». Как изъясняется интернетная публика, нет сети. Опасно! Имитация демократии угрожает возникновением мощного лобби на государственном уровне и ростом не экономики, а дутых макроэкономических показателей. В итоге — низкое качество государственного управления.
— Статистическую службу неспроста упрятали в министерство, лишили самостоятельности, — пояснила Лидия Петровна.
— А в итоге у России нет проекта развития, — подвел итог профессор. — Объявленный рывок не подкреплен конкретным планом действий, заменен стандартным джентльменским набором благих потребностей и пожеланий с громким названием «указ». У Нассима Талеба — помните его «черных лебедей»? — это называется потерей контакта с реальностью. — Грустно вздохнул. — Эх, щи-борщи!
Донцов, не привыкший к такому уровню мышления, тем не менее отлично понял, о каком лобби деликатно, на политкорректном новоязе упомянул Михаил Сергеевич. А тот по-мальчишески взъерошил остатки волос на затылке, видимо, прикидывая, до какой степени откровенности можно беседовать с этим случайным знакомым. Взмахнул рукой и рубанул:
— Не вошел бы Путин в историю как президент проектов. Главнокомандующий в армии стал главноуговаривающим во внутренней жизни страны. Забор мощного либерально-прозападного лобби уже выше кремлевской колокольни.
«Будет, будет что обдумать, — думал Донцов. — А сейчас надо ловить момент и слушать, слушать этого мудрого человека, который не жонглирует фактами, охватывая ситуацию в целом, обнажая ядро проблемы. Но кое-что необходимо уточнить немедленно».
Спросил:
— Что вы подразумеваете под проектом развития?
Профессор снова начал издалека:
— Наш паровоз катит по одной колее, главное — рост ВВП и жизненного уровня, хотя на деле получается синусоида. Мелькнула было крупная, понятная народу идея удвоения ВВП, но ее бросили, а взамен ничего не дали. Раньше-то хоть была «Пятилетка в четыре года!». В Кремле не осознают, что сегодня речь идет о вызове поколений. Как на него ответить? Двигаться все труднее, а мы жмем и жмем по прежней колее, пока котел не взорвется либо не упремся в глухую преграду. Не только о теории государства забыли, заменив ее предвыборными технологиями, но и круговорот народной жизни, если не считать крымской эпопеи, сделали до скуки однообразным: весной — паводки, летом — пожары, зимой — заносы. Забыли, что перед народом надо ставить духоподъемные цели, верхам и не до великих целей, и не до народа, своими делами заняты. Вот Китай. Дэн Сяопин призвал обогащаться: кошка ловит мышей! И народ понял, что надо делать, вырвался из нищеты. Си Цзиньпин выдвигает следующую задачу: великое национальное возрождение! И встает во главе мощной группировки «возрожденцев». Это проекты развития! А на какую управленческую силу опирается Путин в идее исторического рывка? На обступившую его сплоченную группу прозападных элитариев, доминирующих в экономической, общественной и культурной жизни? Возможно, у этой группы есть потаенное видение будущего России. Но у народа такого видения нет, как нет и предчувствия новой эпохи. Для рывка нужна, говоря словами Мандельштама, «стая пламенных лет». Однако этот образ заимствован из Апокалипсиса, и кто знает, чем он обернется? Возвращаясь к прежней мысли, скажу: неустойчивое настает время, особенно в углах жизни. Более того, нас постепенно овертонят, приучая к восприятию чуждого цивилизационного комфорта. Если вдуматься, над этим с наемным восторгом трудятся нынешние политтехнологи, не осознавая своей роли, по сути, заменив астрологов и шаманов.
Профессор говорил так просто и ясно, что Донцову оставалось лишь впитывать услышанное. Оно ложилось на душу, доставляло не только удовлетворение, но и удовольствие. Хотелось, чтобы «краткий курс» высшей политграмоты продолжался. Однако начинал сказываться дефицит времени, а у Виктора язык чесался от обилия вопросов. И, воспользовавшись паузой, он продолжил беседу в интересном для него русле:
— Извините за острый вопрос: а как вы относитесь к Сталину?
— О-о! — рассмеялся Михаил Сергеевич. — на такой диспут двухнедельной путевки не хватит. Эта тема мне, откровенно говоря, не очень интересна. Но есть одна позиция, которую я выскажу, ибо она имеет отношение к нашему предыдущему разговору. Так вот, у Сталина не было ни тесных знакомств, ни закадычных друзей в среде богемы, элиты — называйте эту прослойку как желаете. И это означает, что Сталин обладал дополнительной свободой при принятии важных решений. По-человечески отсутствие дружеских чувств, скорее всего, предосудительно, а вот с государственной точки зрения очень мудро.
— Кстати, Михал Сергеич, а как у нас с Китаем, по вашему мнению? — заторопился Донцов.
Ответ опять был абсолютно неожиданный. профессор взглянул на проблему с такой нестандартной точки зрения, о какой Донцов даже не помышлял. Ничего подобного не вылавливал и в интернете.
— С Китаем? — переспросил Михаил Сергеевич и задумался. — Не моя тема, знаком с ней поверхностно. Одно могу сказать: сегодня мы очень близкие партнеры, Россия снова идет «встречь солнцу». Но с таким гигантом ухо надо держать востро, чтобы не оказаться в роли младшего брата. И вот что очень важно. Недальновидный Трампуша прилагает максимум усилий для сплочения России и Китая, постепенно сдвигая в сторону этого альянса центр мировой силы. Но сегодня в альянсе Россия выполняет роль громоотвода, принимая на себя удары санкций, провокации, медийные атаки, а Китай развивается в относительно спокойной обстановке. Однако за опасную роль громоотвода Россия должна получать некие бонусы. Добиваться их, а вместе с ними и уважения, — одна из задач Путина. В отличие от общественной среды, в межгосударственных отношениях бескорыстное благородство не только не ценится, но аукается падением престижа. — Сделал паузу. — Мне вообще кажется, хотел бы ошибиться, что излишняя деликатность с близкими партнерами, всепрощенчество — болевая точка нашей внешней политики. Нас боятся недруги, но предают — пока по мелочам — союзники.
— Вы опасаетесь за Армению?
— За Армению как раз абсолютно не беспокоюсь. И напрасно наши державные симпатизанты подняли в интернете вопль по поводу событий в Ереване. Нам нужно хранить олимпийское спокойствие. Хотят испытать на себе принудительное попечение запада? Да ради бога! Это же знаменитая философская «пещера Платона», наполненная тенями, то есть иллюзиями. В ответ мы сразу закрываем военную базу — и разбирайтесь в Карабахе сами. База для нас не стратегическая, снабжение только по воздуху. В 90-е армяне уговорили на нее Грачева, чтобы поднять карабахские шансы, в ходе переговоров, наверное, немало коньяка выпили. А теперь на геополитическую карту надо смотреть иначе. Армения граничит с Турцией и Азербайджаном. Казахстан — с Россией и Китаем, который тоже не аплодирует дружбе Астаны со звездно-полосатыми господами. Вот в моду вошло понятие многовекторной политики. Звучит вроде красиво. Но из физики известно, что придать одинаковый вес противоположностям невозможно в принципе. Всегда получается кому-то — в угоду, кому-то — в угрозу. В связи с этим один остроумец заметил: «А пусть-ка девушки сходят замуж на запад. Не придется ли вскорости назад проситься?» Уже на других, конечно, условиях, ибо, как говорят китайцы, «человек ушел, чай остыл». Сюжет в историческом плане затасканный... Но я, откровенно говоря, не увлекаюсь международными проблемами, слишком сложны там лабиринты несогласий, можно заплутать.
Погода стояла теплая, сухая, и в тот день они гуляли долго. Не только по ботаническому парку, но и спустились на специальном наружном лифте на набережную, не раз присаживались на лавочки, наблюдая за накатом волн. И говорили, говорили. Так заговорились, что потеряли счет времени и сразу отправились на ужин.
Донцов радовался везению: перед ним нежданно-негаданно открылись новые горизонты понимания, и он знал, что теперь сможет гораздо глубже анализировать наползающие на Россию события. А Лидия Петровна просто ликовала. Когда они сели за стол и Михаил Сергеевич, выпив бокал настоя шиповника, пошел «отовариваться» к ресторанной стойке, Лидия Петровна нагнулась к Виктору и полушепотом, с чувством сказала:
— Спасибо вам. Сегодня он выговорился на все сто, душу отвел. Я почти за полвека его наизусть знаю, для него это такое счастье — с понимающим человеком поговорить о политике!
Новые санаторные знакомые улетели из Сочи на два дня раньше Донцова, оставив пряное послевкусие. Виктор снова в одиночестве гулял вдоль морского берега, закрепляя в памяти урок высшей политграмоты. Мозги у профессора были устроены столь необычно, — возможно, это особое свойство научного негуманитарного мышления, — что как бы трепанировали проблему, изыскивая ее решение внутри нее самой. Виктора поразил разговор о кандидатуре будущего главы Кабмина. Донцов после общений в думской среде, подобно Лесняку, Простову, раскладывал пасьянсы из громких фамилий, стремясь угадать предпочтения президента. Но выслушав резоны относительно того, кто из нынешних дворянцев годится в премьеры для рывка, а кого исключить из списка по принципу «Вас здесь не стояло», Михаил Сергеевич, свободный от политических условностей, не утопающий в мелочах-частностях, подошел к вопросу революционно, как водится, начав издалека:
— Скорее всего, вы правы, президент подберет премьера рационально, исходя из своего видения задач, стоящих перед страной. Но я глянул бы на проблему с изнанки. Средоточием управленческой воли у нас стал президент. И Запад открыто пошел в атаку на Путина, оказывая на него сильнейшее давление. На главе государства сошлось очень много силовых линий, словес и смыслов. Однажды Володин сказал, что Путин — это Россия, и СМИ подняли его на смех. А ведь он отчасти прав, типологически ситуация схожа с той, когда звучал лозунг «За Родину, за Сталина!».Образно говоря, идет девятый раунд боксерского поединка, и наш лидер постепенно устает, соперник это чувствует, усиливает натиск. С точки зрения классических теорий сопротивления длительное перенапряжение чревато срывами, в данном случае тем, что президент начнет упускать какие-то сегменты политики, полагаясь на умеющих втираться в доверие. Но почему Запад против Путина персонально? Да потому, что по Конституции его место займет премьер — без выборов! И если им останется Медведев, США утроят нажим на Кремль. Значит, что сделать бы Путину? Назначить премьером какого-нибудь генерала в отставке, чтобы у Запада напрочь отпала охота убирать Путина. Такому премьеру надлежит играть роль вице-президента, а реально руководить Кабинетом будет первый зам, которого подберут, исходя из ваших соображений. На месте Владимира Владимировича я назначением премьера убил бы двух зайцев.
Вспоминая тот разговор, Донцов дивился умению профессора видеть проблемы широкоформатно, сквозь толщу времени, сквозь бури и сквозняки века. Перефразируя знаменитого поэта, можно было сказать, что ума он был не линейного. И впрямь, не меняя Конституцию, ввести бы де-факто пост вице-президента — не избранного, назначенного! — поставив на него человека, неприемлемого для Запада. Подумал: «А что в Штатах? Там атакуют Трампа, чтобы после импичмента президентом стал удобный Пенс. В точности то же самое!» Неужто Путин не додумается показать америкосам колоссальный кукиш, назначив премьером да хоть генерала Шаманова? А уж кто будет истинным главой Кабинета — другой вопрос. Неужели некому подсказать Путину эту конструкцию, мощный асимметричный ответ на кабаний, напористый натиск Запада?
Между тем на бездельном санаторном просторе мысли Донцова мчались дальше. В путинской России да при сверхсложной мировой ситуации должность премьера вообще начинает играть интересную роль. Не избранное, а назначенное второе лицо в государстве становится фактором политических раскладов. Премьер не может начать «свою игру», как Руцкой при Ельцине, ибо немедля будет отправлен в отставку. Значит, силовик в премьерском кресле не нарушит внутреннюю стабильность. Зато на внешнем треке у России козырной туз. Если пиндосы вознамерятся перейти красную черту, Путин вправе намекнуть о добровольной отставке, а в критических ситуациях профессиональный военный непредсказуем. Не говоря уже о том, что российское прозападное лобби будет мгновенно сметено с политической доски. Эта угроза предохранит Путина от элитных наездов, которые вынашивает Вашингтон.
Кстати, профессор, пожалуй, прав: нагрузка у Владимира Владимировича сумасшедшая, и уже пошли оплошности, чего раньше Донцов не замечал. В телефильме Кондрашова Путин сказал, что в феврале 2014-го, когда Янукович начал силовую зачистку Майдана, в Кремль позвонил Обама и попросил — плииз! — воздействовать на украинского президента, чтобы не использовал военных, ибо завтра, в пятницу, в Киев прибудут главы МИД Германии, Польши в качестве гарантов соглашения с лидерами Майдана. Путин обещал выполнить просьбу, переговорил с Януковичем, и киевский Таймынь не состоялся. В пятницу соглашение подписали, а в субботу в Киеве произошел переворот, власть захватили заводилы Майдана. Все это рассказал сам Путин. Да еще посетовал, что Обама не перезвонил. То есть, надо полагать, спасибо не сказал.
«И что получается? — думал Донцов. — В телефильме рассказ Путина звучит как чистосердечное признание в совершенном... Ну, назовем это катастрофической ошибкой, итогом которой стала сдача Украины. Он доверился американцам, хотя им вообще нельзя верить на слово. Чем же Путин отличается от Горбачева, проглотившего сказки о том, что НАТО ни на дюйм не продвинется на восток, от Медведева, по просьбе того же Обамы приказавшего Чуркину не применять вето по “открытому небу” Ливии в Совбезе ООН? Сколько же амеры, для которых нечистоты коварного обмана — политическая норма, будут дурить русских простофиль, наивно уповающих на международное право, нравственные ценности и честное слово западных партнеров? Сколько еще будет длиться этот морок — обожествление циничных западных убожеств с ампутированной совестью?
И зачем Путин спустя четыре года оповестил мир о том, что лично причастен к сдаче Украины? Это же и впрямь чистосердечное признание в грубейшей оплошности, которая войдет в анналы истории. Само признание — тоже оплошность. Не понял, что о личном просчете нельзя говорить в эфире. видимо, считает, что ему уже все можно. Но если не понял в данном случае, не исключено, начал упускать и другие важные сегменты политики.
У Макса Вебера, которого изучал каждый бизнесмен, есть тезис об этике убеждений и этике ответственности. В первом случае речь идет о безупречном следовании нравственным идеалам, не считаясь с затратами и жертвами. Этика ответственности предполагает другое: учет ситуации, тщательную оценку последствий, готовность преодолевать худшее зло злом меньшим, жертвовать малым ради большого успеха. Но очевидно, что главы государств, независимо от добродетельных убеждений и личных обязательств, по определению обязаны исходить из этики ответственности. Упрямое нежелание поступиться принципами порядочности может обернуться слишком серьезными потерями для страны. Лидер нации не принадлежит сам себе».
На горизонте возник силуэт пограничного катера, вставшего на якорную стоянку. Это означает, что в резиденции «Бочаров ручей» ждут главного гостя. Донцов пошел в конец набережной, где стояли снаряды для силовых упражнений, покачал руки. Потом устроился на скамейке с изогнутым прислоном, подставил лицо теплому солнцу, закрыл глаза. За пару недель отдыха он причесал мысли. Не обошлось и без везения: чудесное знакомство с «подданным научного знания» Михаилом Сергеевичем помогло отредактировать самого себя и понимание возможных вариантов завтрашнего дня России. Постижение новых смыслов не прошло даром. Невольно улыбнулся, вспомнив загадку, предложенную профессором, вернее, членкором.
— Назовите какой-то факт, скорее фактик, который станет для вас лакмусовой бумажкой по части дальнейшего развития событий, — с хитрецой сказал он однажды.
Виктор, сколько ни пыжился, ничего путного сообразить не мог, и Михаил Сергеевич ответил сам, без улыбки, без «шутинга»:
— Для меня символическим знаком станет знаете что? Пригласит Владимир Владимирович на какую-то должность Грудинина или нет. На какую, не суть важно. Представляю, как возненавидели Грудинина в администрации президента. Еще бы! Чуть всю свадьбу не испортил. Спроста ли его так беспардонно гвоздили перед выборами. Запарковали намертво. Но если объективно, он, особо травимый, показал себя неплохо, вполне готов к серьезной государственной службе. Практиков на скамейке запасных у Путина мало, одну колоду тасует. Новые лидеры, на которых делает ставку Кириенко, в основном карьерные чиновники-скородумы после курсов в Высшей школе экономики у научного руководителя Ясина, который заявил, что золотой запас России — в слитках! — надежнее хранить в США. Изнаночный мир! Разве так готовили кадры высшего звена в Союзе?.. В общем, возьмет Путин Грудинина на госслужбу или нет? Решение по этому частному поводу будет означать многое. В капле воды отражается целый мир.
Донцов согласился с профессором и сейчас, сидя у синего, вернее, Черного моря, тоже загадывал на будущее. На будущее России и на свою судьбу, которую связывал с Верой. Но едва подумал о ней — безусловно, по Божьему промыслу заверещал мобильник, и Виктор наверняка знал, что звонит Ряжская. Верно, Нина! Возбужденно сообщила, что активизировался Подлевский, отчего крайне встревожены Катерина и Вера.
Мысли Донцова сразу начали перестраиваться на Москву. Отдых завершался досрочно.
14
После очередного чаепития у Богодуховых Аркадий Подлевский возвращался в офис в смутных чувствах. Вера его не приглашала, и повод для гостевания опять пришлось изобретать. На сей раз форсу ради обрадовал, что его зовут на солидный пост в управделами Белого дома, но он колеблется: престижно, перспективно, однако ходить под ярмом госслужбы, петлять в чиновных изворотах желания нет, привык к свободе фриланса. Короче, надо посоветоваться в расчете на женскую интуицию. Все выдумал, по телефону врал с чистого листа, но в итоге убил двух зайцев: поднял свою значимость в глазах Веры и показал, что дорожит ее мнением, а это сближает. Так и сказал: «Для меня очень важен твой совет». В такой просьбе отказать невозможно.
Как всегда, приехал к Богодуховым с пышным букетом, шикарным венским тортом. И пока Катерина Сергеевна настаивала чай, поведал Вере сагу о том, что влиятельный чиновник, с которым ездил на Урал, высоко оценил его работу, — улыбнувшись, уточнил: «Нашу с тобой работу» — и задумал пристроить его в аппарат правительства. Вызывая сочувствие, тяжело вздохнул: «Не при должности, говорит, ты никто. Сейчас не жизнь — толкотня». Вера встретила новость вяло, промямлила, что ничего не смыслит ни в госслужбе, ни во фрилансе, а потому вопрос решать самому Аркадию. Беседа вообще была тягучей, говорить не о чем. И Подлевский ловко вывернул на журналистские свежаки, сплетни и инсайды о новом правительстве, которое Путин объявит после инаугурации. Для пущего правдоподобия пояснил:
— Ты же понимаешь, мой вопрос решат после пертурбаций, иначе низзя. Да и мне важно знать, с каким диджеем работать — в кредит или за наличные? — И блеснул одной из цитат, припасенных для умных бесед, сослался на Сент-Экзюпери. — Господи, научи меня верно распоряжаться временем моей жизни. — Закончил исламом: — Иншаллах! Если пожелает Аллах.
Хотя формально посиделки прошли без капризов, Подлевского не покидало ощущение, будто он битый час морозил зад над выгребной ямой — удовольствия мало. Отношения с Верой явно буксовали. Самый простой и прямой маршрут, на который он делал ставку, — женитьба — тормозился. Прежняя калькуляция намерений списана в архив, нужна новая стратегия. Подумал: «Закончен спектакль, увядают цветы». И прислушивался к интуиции, ждал сигнала свыше, стремясь не прозевать его. Он хорошо знал себя: сквозь невнятный шум смутной суматохи, нелепых вариантов и авантюрных мечтаний пробьется отчетливая тема, указующая направление поиска. Топор своего дорубится. Так с ним бывало всегда. Сейчас, после очередной неудачной попытки сближения с Верой, на него нахлынули воспоминания об отце, казалось, не имевшие отношения к теперешним заботам.
Он отмахивался от них, желая сосредоточиться на текущих делах, однако они возвращались снова, пока Аркадий не пришел к выводу, что неспроста. Спросил у водителя:
— Иван, ты моего отца хорошо помнишь?
— А как же, Аркадий Михалыч! Я к вам по наследству перешел, вместе со старым «мерином». Батюшка ваш его антикваром называл. Конечно, Михал Ляксеича я мало возил, занедужил он вскорости. На подхвате был, провизию на дачу доставлял, дохторов. С Агапычем за врачами ездили.
Подлевский задумался, сопоставляя сроки. Подростком он видел, что в девяностые вокруг отца крутились серьезные мужики. Потом отец отошел от дел, через несколько лет заболел и поселился в съемном особняке под Переделкином. Аркадий в ту пору входил в возраст, познавая сложный, полный немыслимых соблазнов мир. Зарабатывая первые деньги, рано научился хорошо жить. Отца навещал не часто — тот ни в чем не нуждался, бабла насундучил в достатке, отойдя ко Господу, сыну оставил. Задушевные родительские беседы Аркадий откладывал на потом — успеется. А времени не нашлось, о чем он теперь сожалел.
— Кто такой Агапыч?
— Колька Агапов, рассыльный. Когда они с Михал Ляксеичем были, он их в строгости держал, не гавкали, долбочёсы. Видать, хорошо харчевались. А дело рассыпалось, они отвязной шпаной заделались, — что шло, что ехало. Почти всех пересажали.
— Какое дело? — перебил Подлевский.
— А вот, Аркадий Михалыч, не в курсе, я пришел позже. Их, говорю, всех пересажали, но по мелочам закрывали, на три–пять лет. Не мокрушники — говнари, за хулиганство, по пьянке шли, за разбой. Агапыч возник после крытки. мне сдается, там он зашкварился, в петухах ходил. А снова к батюшке вашему прибился, Михал Ляксеич ему приплачивал.
— Агапыч про отца много знает?
— Агапыч?.. Да он синкопа — хромой. И на ногу, и на голову. Говорю же, на побегушках держали, фуфлыжка. Чарка да шкварка, вот и вся жизнь. Но не шумный. По его рассказам, — он в основном чепуху струячил, по делу только мимоходом проскакивало, — погонялой у Михал Ляксеича был Горбонос, которому по прейскуранту пятерик закатали. Я его раз на дачу привозил, на свиданку, видать, как освободился. Сел он у Чистых прудов, сдается, рядом жил, потому что отвез его туда, где брал. Похож на нерусь, мрачный мужик, за две дороги ни слова. Как зовут, не знаю, а Горбонос, потому что нос с горбом.
— Как его разыскать?
— Да жив ли? Надо сперва Агапыча найти, а где он сейчас? Небось новый срок мотает. Хотя... Вроде завязал, бабу хорошую нашел. Я пошукаю. У него профессии не было, он в торговле ошивается, и по случаю у меня с друганом о нем разговор был. Ну, как разговор? Обмолвился про какого-то Агапыча, я и спросил: не Колька, не хромой? Отвечает: он, он! Вот и всё, побежали дальше. Найти Агапыча — время нужно. Друган — тоже седьмая вода на киселе, тот еще утырок.
— Давай так: ты в офисе семечки грызешь, моего вызова ждешь, — распорядился Подлевский. — Чего впустую сидеть? Ищи Агапыча, мотайся. Если понадобишься, по мобиле достану.
Многодневные праздники Подлевский не любил, не знал, чем себя занять. По утрам валялся в постели, потом — ритуальный обзвон нужных людей. Листал потрепанную записную книжку, ибо держался старых правил: знакомых много, бумажный носитель надежнее. Смотрел мутняк по ТВ, а днем отправлялся в «Черепаху», где подавали ромовый «Дайкири» в коктейльных бокалах «мартинка» и «Медведь» — кофе с ромом, где шеф Кузьма, по кличке «всехний френд», на заказ готовил любое блюдо и где можно встретить деловых партнеров. На вечер припасал шумную тусовку «среди царюющего зла» — тоже для общений с «нужниками». А если не наклевывалось, обзаводился билетом на модный спектакль, но не гомосятину, которую не жаловал, максимум на балет-обнаженку типа порно в Большом театре. Культпоходы были чреваты ресторанным продолжением, в первых рядах партера заседали сливки общества с женщинами, состязавшимися тем, сколько у них приклеено, накрашено, подмалевано, уколото, имплантировано или подтянуто на лицах, а также изощренной коррекцией ногтей, покрытых гель-лаком, с крестиками в декольте почти до пупка.
На сей раз привычный распорядок спутала погода, совпавшая с необходимостью поразмыслить над квартирным вопросом. После апрельского ненастья майские выходные выдались летними. И Аркадий, по-холостяцки сладив несколько бутербродов, отправился на прогулку, что бывало не часто: одиночество тяготило его. Сперва — по аллеям соседнего парка, потом ноги понесли на Чистые пруды, тоже недалеко от Басманной, всего-то пересечь Садовое, дойти до Бульварного.
Почему побрел на Чистые? Ну надо же было идти куда-то, по характеру он не мог бесцельно топтаться на месте, натура требовала маршрута. А Чистые?.. Аркадий не думал, что может ненароком встретить Горбоноса, которого и в лицо-то не знал, — отцовская линия ушла вдаль, уступив место думам о нынешних днях. Осознавая, что овладение квартирой Богодуховых требует особых, возможно, чрезвычайных усилий, он пытался вписать личные планы в общую картину предстоящей жизни, которая определит степень его активности.
Момент переломный. От того, какой будет осень патриарха, зависят и возможности Подлевского — в смысле свободы рук. Формально он жил мимо власти, не участвуя в политических, партийных или идейных раздорах, не соприкасаясь ни с Кремлем, ни с Белым домом, ни с Думой или Совфедом, — вариант с Хитруком был просто выгодной сделкой. Но по-крупному целиком зависел от ситуации в России. Его жизненное целеполагание сольется с вектором верховной воли? Или придется выгребать против течения?
В минуты раздумий и сомнений Аркадий мечтал волшебно оказаться в «Доме свиданий» — он нужен для понтов, — где обсуждали бы жгучую для него тему. Но в последнее время Илья Стефанович не собирал синклиты: видимо, ситуация была столь неясной, что любые выводы считались несолидными. Однако мысленно Подлевский присутствовал на сборе в «Доме свиданий», в ушах звучали заковыристые спичи Хаудуюду, Царева, Хрипоцкого, Цурукадзе, дурацкие реплики патлатого Грука. Их блудливый риторический онанизм казался сейчас пустопорожней болтовней. И тем не менее он тоже репетировал речь. Что он сказал бы, окажись в Жуковке, на сходке высоколобых либеральных речетворцев?
Неспешно дошагав до Чистых, он не без труда отыскал пустующую лавочку, расположился в свободной позе — нога на ногу, раскинув руки за изогнутой спинкой. Позади, мимо «Современника», с адским грохотом проносились редкие рокари. С эстрады в голове бульвара голосили девочки-припевочки в цветастых нарядах, над брунькой колотился балалаечник, но ослабленные расстоянием звуки не раздражали. Наблюдая за публикой, острым глазом отделял гниль нации, быдло, на ходу жевавшее дешевое кулинарное фуфло, от людей со светлыми, хорошими лицами и их спутницами в шляпках с плюмажем, в юбках без подбоя, на просвет, пытался угадать их социальный статус. Замечательные люди все замечают. Но думал о близком будущем. А «задником», фоном были ни на миг не отступавшие мысли о богодуховской квартире. Слегка улыбнулся, переиначив классическое: «Да, квартирный вопрос портит настроение».
Что он сказал бы тонущим в благополучии собратьям по разуму в «Доме свиданий»? Аркадий отвлекся от наблюдений и строже впряг размышления.
Ну, прежде всего надо ждать сообщения о премьере. К Путину нельзя относиться с полным доверием. Чужой. В 2008 году до последнего держал Иванова прикрытием для Медведева. Вдруг повторит тот маневр с точностью до наоборот и поставит на правительство не Медведева, которого ждут все порядочные люди, а неудобного Иванова? Впрочем, «сальто-мортале» маловероятно. На передний план все-таки выходит примирение с западом.
Здесь сигнальный маячок — Кудрин, которого Аркадий называл «кузнец счастья». Если он займет высокий пост в правительстве или в Кремле, для Подлевского это — поцелуй власти. Дело не в практических видах, нет. Сближение с Западом, которое олицетворяет Кудрин, умиротворит обстановку в стране, многие знакомые Аркадия усилят позиции, обретут новые возможности, получат право определять границы дозволенного. Блуждая под руку с Кудриным в либеральных райских кущах, подумал: «Да о чем вообще говорить, если...» Из глубин сознания вынырнуло слово, объявшее всю совокупность радостей, которые, словно манна небесная, свалятся на него в случае примирения с Западом. Слово с особым, только Аркадию понятным смыслом — безнаказанность. Да, жесткач. Но — по самые помидоры! Демократическая тирания! Танцуют все!
Какую цену заплатит страна за «Брестский мир», Подлевского не тревожило. Ничуть не стесняясь избытка забот о земном, он исповедовал готтентотскую мораль: хорошо то, что выгодно мне, и держался воспетого классикой девиза: «Лишь бы мне чай пить!» — считая, что пришла пора почистить наждаком до западного блеска упертый, дряхлый русский менталитет. Да, цена примирения с Западом, вернее, усмирения России его не беспокоила. Сейчас не до сюсюканий, время жить крупно, на стероидах, пустить в дело доходные качества своей натуры, определиться в отношениях с оклахомщиной.
Менеджер собственной жизни, он относился к либеральным ценностям с философским равнодушием дворника, имея ясный критерий, по которому делил на своих и чужих ту часть человечества, которую мог объять умозрительно: отношение к Западу. Все либеральное, даже ахеджакнутое, в его понимании было прозападным, и этого достаточно. Так же он оценивал «прорыв в будущее», о котором талдычил Путин после выборов. Прорывом может стать «Брестский мир», идеология Кудрина, и тогда все о’кей, будет ему счастье. Но Подлевского не зря считали чуть ли не самой речистой, «перпендикулярной» головой на сходках в «Доме свиданий». Не углубляясь в теоретические изыски, он чутко улавливал галоп событий, дегустировал ароматы эпохи, умел сопоставить разнородные элементы жизни — редкость! — и его мнение зачастую перечило тривиальным взглядам просвещенных коллег, нередко арендовавших его мысли.
Наслаждаясь теплом, безветрием и весенней свежестью, он обдумывал спич о содержании новой эпохи, и его ум вдруг встревожило воспоминание о валдайской речи Путина, которая несколько лет назад не просто смутила Аркадия, а произвела в нем душевный переполох, породила предчувствие бунташных времен.
О, он очень хорошо помнил обескураж, охвативший его после валдайской речи! В тот раз Путин тоже говорил о будущем, однако в ином измерении — о традиционных российских ценностях, о сбережении идентичности в меняющемся мире. В ушах звучали короткие, гвоздями вбитые в сознание вопросы, озвученные Путиным: «Кто мы?», «Кем мы хотим быть?». Когда Подлевский читал ту речь, его бил легкий озноб от ожидания худых перемен. Движение вперед, говорил Путин, невозможно без духовного, национального самоопределения, а после 1991 года власть, государство, общество самоустранились от создания новой национальной идеологии, все, мол, отрихтует могучая рука рынка; но выяснилось, что идеология не рождается по рыночным правилам.
Врезались в память и другие пассажи. Путин говорил: идеология развития обязательно должна обсуждаться среди людей разных взглядов. Или еще: вместо оппозиции власти мы имеем оппозицию самой России, и с этим надо кончать, хватит самообмана, хватит вычеркивать из истории идеологически неудобные страницы, разрывая связь поколений... Перед глазами мелькнули утренние кадры ТВ: мавзолей Ленина наглухо задрапирован. Но воспоминания бежали дальше: Путин резко выступил против идущего с Запада однополого партнерства, против идеалов плотской любви, сокрушался, что мы сами чуть не поверили в западные бредни о том, какие мы плохие. Но вот оно главное и удручающее: он говорил о государстве-цивилизации, скрепленной русским народом, русской культурой, и снова — об идеологии национального развития, об упрочении национальной самобытности.
Подлевский глубоко вздохнул, закончив перебирать в памяти тревожную речь. В ту пору он считал, что особо важные слова президента — это зачатки национальной идеи, вексель, выданный обществу, народу; его-то Кремль оплатит исправно, Путин — из людей длинной воли; уж не вегетарианский ли Сталин? Не отбросит ли Подлевского на обочину жизни, где разносят пиццу и сами штопают носки? Но, сопоставив валдайскую речь с нынешними верховными камланиями, вздохнул снова — на сей раз с облегчением. Не только замаскированный мавзолей, но и вся верховная риторика бесконечно далека от смысла валдайской речи, которая выглядела теперь лишь невыцветшим куском обоев на месте бывшего портрета. Вопросы «кто мы?» и «кем мы хотим быть?» не ждут ответа — без шума и пыли они сняты с повестки дня. Хотел подтвердить свои выводы, но загнул только два пальца — во главе культуры прочно встали либералы, а диалога людей разных взглядов нет и в помине, — как вдруг явилась бесспорная мысль, объяснившая все и сразу: «Другой Путин!» Да, другой, с головой погруженный во внешнюю политику, в социалку; к осени раздумья патриарха о национальной идеологии осыпались, обнажив поеденный временем ствол патриотизма, да и он теперь скорее вербальный лозунг, нежели рабочий инструмент власти.
Аркадий в вихре умоверчения поднялся со скамейки, зашагал вокруг пруда, обгоняя прохожих. Конечно, перед нами «Путин 2.0»! Он не изменил мюнхенской речи, которую цитируют часто, однако в идейном смысле выглядит исчерпанным, замкнувшись на социальном контракте с населением, а теперь и на панацее цифромании, — оттого валдайскую речь не вспоминают, она испарилась с медийного поля. Подлевский хорошо помнил: на Валдае он говорил, что власть и общество боятся даже прикасаться к вопросам национальной идеологии, и это плохо. Но сегодня сам Путин предпочитает возить шайбу в «Ночной лиге», шарахается от идеологических тем. В Кремле — смысловая пустота, прикрытая информационным шумом и площадной скоморошьей отвлекающей веселухой для народа, пар уходит в показные инициативы, в дрыгоножество, рукомашество. Логика обстоятельств, как говорил не к ночи будь помянутый Сталин, оказалась сильнее логики намерений.
И вдруг в мозгу выстрелила — именно вдруг и именно выстрелила! — другая неожиданная мысль: «Медведев сильнее Путина! Он осторожно и аккуратно, не спугнув, темным, шифрованным стилем уволок Путина в непроходимые топи прозападной макроэкономики, которые невозможно форсировать без идеологии национального развития, о чем раньше говорил сам Путин».
Мысли рвались вперед со скоростью «ламбардини». Да, Медведев, коллективный Медведев, сильнее Путина. И премьером снова станет Димон. Дело не в хитроумных политических раскладах или битве кланов, о чем струячат журналюги. Из всех щелей тянет: Медведев завлек Путина играть на его, медведевском поле, потому что теперь «Путину 2.0» здесь удобнее, легче, понятней, привычней, в прозападной системе координат все можно рассчитать до рубля. Зона комфорта! Субстанция сама плывет, это за жемчугом надо нырять вглубь. Какой-нибудь Глазьев — что-то вроде бадминтона при штормовом ветре, пусть и на своем поле. Зачем рисковать? О Боже! Прав был Макфол, оповестивший мир, что Путин стал частью истеблишмента. В лихорадочной спешке, чтобы не успел опомниться от высокого выборного процента, его кроют глазурью и глянцем, эпатажные фрики с ТВ на грани кумироточения лепят культ верховной непогрешимости. Да и сам он бронзовеет: по делу косвенно сославшись на свою знаменитую фразу «Замучаетесь пыль глотать!», не повторил ее, назвав грубоватой. Подлевский даже ускорил шаг в такт взлету настроения. Как его осенило! Воспоминание о валдайской речи помогло здраво оценить переуклад жизни: что было — что есть. Нет, грядущий день не несет угрозы его личным планам. Путин и впредь будет смешивать французский с нижегородским — государь слаб! кормчий сел за весла, и, значит, курс проложат другие. Но по этому поводу — ша! Это для ферштейнеров, для понимающих. Главное, при идейном и моральном хаосе, при неразберихе, чреватой ростом вялого, вязкого недовольства, Подлевский, содержант эпохи, — как рыба в воде.
Стремительный бег мыслей невозможно было остановить. Осознав, что его не будет плющить, что не придется, по старой американской пословице, мчаться ради спасения до канадской границы, что общая российская ситуация благоволит ему, Подлевский сразу переключился на поиски конкретных способов решения своей проблемы.
Увы, на ум не шло ничего путного, он не знал, не понимал, как подступиться к богодуховской квартире со стороны. Мелькнула мысль потревожить Хитрука, однако он ее отбросил: тухло, несолидно, бесполезно, да и как объяснить? Можно себя дискредитировать. Вообще, прежде всего ему нужен грамотный совет относительно вектора действий. Но едва подумал о совете, как из хаоса вариантов, словно титры на видео, всплыло имя — Винтроп. Аркадий чуть ли не свято верил во всемогущество этого вальяжного американца, тайного уайтхаузовского магистра, воплощавшего в себе легендарный успех, мудрость и ценности Запада. Он представлялся ему чуть ли не в образе Ротшильда, которого когда-то возили в экипаже, запряженном четырьмя зебрами. Вдобавок с Винтропом можно говорить начистоту. Он сразу ринулся узнать, когда Боб будет в Москве, даже достал из кармана смартфон, но вспомнил, что за океаном глубокая ночь, звонить до семи вечера непристойно. Вышел с бульвара на широченный тротуар, поймал левака и помчал в «Черепаху».
Обреченный на временное бездействие, в машине вернулся к оценке российской ситуации — переломный момент притягивал словно магнит. После главных выводов размышления спустились на уровень реальной жизни. Вопреки глобальным конфликтам, санкциям и информационным войнам, российская элита, в том числе придворная — она прежде всего! — мечтающая договориться с Западом, добьется своего с оголтелой настырностью — хоть льстиво, хоть лживо. Слишком сильны ментальные, финансовые связи, да и бытовые комбинации не спишешь со счета, у многих дети заэлитарены в Европе. Несмотря на нравственную вонь патриот патриотычей и всякой густопсовой тварьцы, компромисс найдут! Жизнь лакшери не упустят. Но Путин, похоже, загнал себя в ловушку. Скаламбурил: кудри завивает Кудрин. Выскочить из кудринской колеи Путин не может, да и не хочет, потому назначит премьером Медведева. А назначив Медведева, вызовет на себя бешенный пропагандистский огонь Запада: скинув Путина, Запад автоматически получит президентом России Медведева, и, по мнению того же Макфола, это как раз то, что нужно. Для внешнего управления. Подумал: «Кстати, ситуация один в один со Штатами. Там мечтают об импичменте Трампу, чтобы посадить на трон вице-президента Пенса».
Недели через две по пути на Московскую биржу Иван протянул Подлевскому лист бумаги с чертежиком:
— Аркадий Михалыч, адрес Горбоноса.
— А телефон?
— Нету телефона. Агапыча не стало, фунфуриком траванулся. Пришлось выслеживать, он на Чистых живет, я так и думал.
— Молодец, Иван. — Разглядывая чертежик, подумал вслух: — Под каким предлогом к нему завалиться?
— А этого, Аркадий Михалыч, мне знать не дано. Кажись, он не такой крутой, как раньше. Возраст! Музыкант к тому ж, я и не знал.
— Что значит музыкант?
— С инструментом в холщовом мешке ходит. Не понял, труба или тромбон. Видать, в духовой компашке на похоронах халтурит. Один-то — труба ли, тромбон — кому нужен? Я у метро дежурил, пока не засек. А уж до дома проводить — раз плюнуть.
— После биржи подвезешь, чтобы место понять.
Несколько дней Аркадий прикидывал, под каким соусом навестить Горбоноса. Пытался через знакомых узнать телефон — тщетно, городского нет, а мобильный без фамилии недоступен. Правда, Иван слегка развеял опасения: образ матерого уголовника, который рисовался сперва, смягчился оркестровой халтурой на похоронах. Знать, не бандитской добычей живет, завязал. Обдумав разные варианты, Аркадий пришел к выводу, что лучше играть от обороны. Оставался без ответа главный вопрос: зачем? На него он не мог ответить самому себе, а коли задаст его Горбонос, тут уж держись, старичелло, придется импровизировать.
Жил Горбонос на Чаплыгина, в старом двухэтажном доме, чудом устоявшем в центре Москвы, на задворках квартальной застройки. «Не втиснуть сюда новую элитку, вот его и не трогают», — думал Аркадий, с чертежиком в руках угадывая нужный подъезд, — их тут несколько, неказистых строений, останков подохшей эпохи. Поднялся на второй этаж, там одна дверь, надавил на звонок и ждал, пока не послышался старческий женский хрип:
— Хто?
— Меня зовут Аркадий Михайлович Подлевский, — сказал четко, громко. — Хозяин дома?
За дверью тишина. Аркадий уже хотел звонить снова, как услышал грубоватый мужской голос:
— Кого надо?
— Я Аркадий Михайлович Подлевский, сын Михаила Алексеевича. Хочу с вами поговорить.
— О чем?
— Об отце.
Снова настала тишина, и Аркадий понял: его впустят, но предварительно подготовятся к внезапному визиту, что-то припрятав или, наоборот, выставив напоказ. Он поступил бы так же, и это была его жизненная тактика: оценивать действия других по собственным намерениям. Обычно такой подход срабатывал, хотя бывали случаи, когда выходило с точностью до наоборот — как молотком по пальцу. Но те случаи научили Подлевского сортировать людей по критерию «свой — чужой», имея в виду какой-то особый вид бездуховного родства.
Наконец громыхнул засов, повернулась уключина, и перед Аркадием предстал тот, кого он предполагал увидеть, даже лицо показалось знакомым. Оба внимательно разглядывали друг друга. Потом хозяин, в потертой синеватой рубашке в клетку, какие раньше называли «Привет из Малаховки», бросив взгляд на модные светло-серые челси гостя с темными резиновыми вставками на щиколотках, спросил:
— Как меня нашли?
— Агапыч помер. Пришлось выслеживать. — Каждое слово было смысловым, и Горбонос оценил это, жестом пригласил войти.
Они прошли в левую комнату, где стояли квадратный обеденный стол под цветастой клеенкой и два стула. Аркадию показалось, что эта удручающе скудная обстановка спешно подготовлена после звонка в дверь. Едва присел, Горбонос в лоб спросил:
— Кто выследил?
— Вы посещали Переделкино, там был человек — ухаживал за больным отцом. Он вас запомнил и случайно увидел у здешнего метро.
Здесь каждое слово тоже было строго рассчитано, неся целые пласты информации. Горбонос несколько секунд вставлял их в свою матрицу, проверяя, подходят ли они. Потом двинулся дальше:
— Зачем пришел?
— Ставлю отцу надгробие, вот и потянуло. Я о нем мало знаю, а вы рядом были, я вас видел.
— Я тебя тоже мальцом видел. А узнать что хошь?
— Что получится.
Горбонос снова изучающе посмотрел на Аркадия, вернее, осмотрел его. «Видимо, угроза от внезапного прикосновения к прошлому уходит, — подумал Подлевский. — Теперь он прикидывает, можно ли извлечь выгоду из моего визита. Нет, не напрасно я вырядился по первому разряду». И верно, Горбонос вместо кратких настороженных фраз заговорил иначе:
— Про старые дела судачить незачем, быльем поросли. Михал Лексеича добром поминаю. В тяжелые годы меня в самом низу поймал, в пивнушке-разливайке, от вина оторвал. Ну и зажили, славно погуляли, наваристый был компот. Министром мы его звали. А после него — на фиг с пляжа, сплошной недотрах, вразброс рысачить начали. Ну и пошло: лебедь раком щуку, пока на поселение не загремел. А там — не пупок царапать, будешь бычить, едальник не закроешь, могут и отшайханить. Вроде не зона, а нащальники еще хуже, взросляки-макаки, любители нательного рисования, незнамо что кололи. Грева ждать не от кого. Пришлось пограничником прикинуться.
Увидев вскинутые от удивления брови Аркадия, пояснил:
— С пограничным состоянием психики. В до мажоре, нагишом бегал, обнажуха... А вернулся — никому не нужен. Соси ваучер. Сплошь фоска шла — мелочь одной масти, что за карта! Бида. Вот и подался в лабухи, с чего начинал. Жмура на похоронах лабаем, деньги в руки — будут звуки, без лажи. А вчера дубовый жмур вышел: по приказу кого-то из полиции паковали и нам не платили. Сквозняк не пришел, так его грозят на кладбище не пущать. — Снова заметив удивление гостя, добавил: — Флейтист.
Поняв перемену, Аркадий решил: хватит пилить опилки, пора брать разговор в свои руки:
— У меня бизнес. Про отцовские дела узнать интересно.
Горбонос опять ожесточился, отрицательно замотал головой. Но тут же, видимо, подумал о чем-то своем и ответил спокойнее:
— Дела в небыль ушли. Такие хвостики остались, что не ухватишь. Порожняк.
Но для Подлевского именно «хвостики» представляли особый интерес, он любил и умел раскручивать мелкие фактики, которые другие упускали из виду, а потому с деланым равнодушием спросил:
— Что за хвостики?
Горбонос небрежно махнул рукой:
— А-а, свистёж, лажа. Должок за одним лохом остался, да взять не с кого. Мы его на бабки поставили, на счетчик, а он из окна выкинулся. А с родни какой спрос? В суд расписку не предъявишь, как бы самим не погореть. Наехать, припугнуть? В девяностые мы так и делали. Михал Лексеич всегда этого... Капоне вспоминал: добрым словом и пистолетом можно сделать больше, чем просто добрым словом. Но мы не мочили, нет. А сейчас это не катит, опасно, держи уши шире. Да и четверть века прошло. Назад покойников не носят.
— А что за расписочка?
— Да обнакновенная. Взял столько-то, обязуюсь вернуть тогда-то.
— И на что брал?
— Это по дурке разговор. У него спроси, — поднял глаза к потолку, — ежели тама встретитесь. Михал Лексеичу хата его понравилась, обмен предлагал за списание долга, да тот ни в какую. Ну, прижали мы его, а он в окно сиганул, с большого этажа. Вот и грызи бамбук.
— Да-а, — неопределенно протянул Подлевский. — А сейчас к той истории вернуться нельзя? Говорите, родня осталась?
— Ты что?! — испуганно вскинулся Горбонос. — Те дела лучше не ворошить. — Вдруг обмяк, опять изучающе осмотрел гостя, о чем-то подумал, почесал в затылке, сказал: — Я той хреновацией заниматься не буду.
Подлевский понял: Горбонос суемудрствует, это предложение продать расписку, хочет в долю. Ответил:
— Сперва расписочку надо поглядеть.
— Погляд денег стоит.
«Только в одном я ошибся, — подумал Аркадий, — этот позднеспелый огурец не в долю хочет, а получить за расписку сразу. Видать, дело совсем тухлое. Стоит ли связываться? Ну, сперва узнаем, какой прайс».
Пошел напропалую, спросил в лоб:
— За расписку сколько хотите?
Горбонос от прямоты растерялся, заёрзал на стуле, стеклянноглазо глядя на Аркадия. Видимо, опасался продешевить, но и спугнуть гостя не хотел.
— Чего цену назначать? Я с золотых подносов не жую, но человек не последний. Михал Лексеич меня никогда не обижал. А потом... — Опять почесал в затылке, опять что-то прикинул. — Меня обижать нельзя. Ежели расписка куплена, это тоже факт. В эту сторону думай.
Этот тертый мужик явно угрожал Подлевскому в случае неудачной торговли известить кого-то о попытке покупки расписки — возможно, родню должника. Лучше все-таки не ввязываться в эти тараканьи бега. Однако расписку-то посмотреть все же интересно.
— О чем торговаться, пока бумагу не видел?
— А это счас.
Горбонос торопливо поднялся, ушел в другую комнату. Аркадий слышал, как он вполголоса, неразборчиво говорит с кем-то, как хлопнула негромко дверца шкафа или какой другой мебели. Но вернулся скоро, держа в руках фотографию. Предупредил:
— Даю наколку: Михал Лексеич фотокопии расписки сделал, штук десять. Не ксерокопии, а фото. Ох, умен был! Интеллихент! Говорил: в суд нам не сунуться, а вот пригрозим послать фото расписки его знакомым — как домкратов меч! — он и дрогнет.
Аркадий взял копию, внутренне насмехаясь над «домкратовым мечом», но в следующий миг, как в старой песне, «дыханья уж нет, в глазах у него помутилось». Сверху было написано: «Я, Богодухов Сергей Васильевич...» Дальше читать не стал, только вид делал, а сам лихорадочно вспоминал, как на вопрос об отце Вера замялась, ответила, что он скоропостижно скончался от сердечного приступа. А еще в голову ударило: мой-то отец тоже на эту квартиру глаз положил, ну и дела! Равнодушно сказал Горбоносу:
— Что ж, несите оригинал, будем торговаться. Да! Несколько фотокопий прихватите.
— Ну вот, ты боялась, а только юбочка помялась. Зачет! — удовлетворенно хмыкнул Горбонос, направляясь в другую комнату.
Винтроп наведался в Москву на пару дней — по пути в Алматы, — и у него не было времени на Подлевского. Но «сливной бачок» достал его мольбами о встрече, а потому Боб предложил позавтракать в тихом отеле «Арбат», спрятанном в старомосковских переулках, — он любил останавливаться здесь. Когда-то отель был на особом счету, тут селились партийные бонзы и чины зарубежных компартий, инкогнито прибывавшие в Москву. Те времена минули, интерьеры четырехэтажного отеля устарели, однако удобное место в центре восполняло отсутствие роскоши. Как говорят лошадники, «порядок бьет класс», а порядок здесь был отменный.
Аркадий предупредил, что речь пойдет о личных вопросах, что ему нужен мудрый совет Боба. Винтроп неторопливо уплетал специально приготовленную шефом выпускную глазунью с беконом — не омлет из яичного порошка! — а Подлевский, не притрагиваясь к кофе, говорил, говорил.
— Боб, со мной приключилась немыслимая история. После нашего разговора о квартире я достал с антресолей папку старых отцовских бумаг. Живу в спешке, нос утереть некогда, а тут словно кто свыше подсказал. И что я нашел среди документов? Оказывается, четверть века назад отец намеревался купить квартиру в центре и уже заплатил за нее. Я нашел расписку владельца той квартиры в получении денег.
Винтроп, без галстука, в мягких синих бабушах, для приличия хмыкнул. Он слушал вполуха, мысли были поглощены завтрашним днем, встречами в Алматы для наведения мостов с «гинго» — на профессиональном жаргоне так называли неправительственные организации, которые финансировало правительство. Новорусская семантика шла от английского «гавермент» и напоминала Бобу знаменитое «гринго» — так в Южной Америке когда-то окрестили американцев. «Гинго» создавали, чтобы через гражданское общество проталкивать идеи, нужные властям. Но в некоторых странах США использовали «гинго» в качестве канала обратной связи, влияя через них на власти, подбрасывая приватную информацию, которую неудобно излагать на официальном уровне. Винтроп одним из первых распознал, что «гинго» — в точном переводе нелепица: «правительственные неправительственные организации», — можно превратить в агентов перемен. И его послали наладить каналы связи, тимбилдинг — командную игру в Казахстане.
Между тем Подлевский продолжал:
— Представляете, отец уже заплатил за прекрасную квартиру, но произошло непредвиденное: ее владелец скоропостижно скончался. А вскоре заболел отец, и деньги подвисли.
Винтроп сочувственно покачал головой.
— Обнаружив расписку, я поехал к родственникам покойного. Деньги-то уплачены! И тут, Боб, произошло нечто немыслимое. Боб, я по уши влюбился в дочь умершего владельца квартиры.
Винтроп с удивлением поднял брови, такого поворота он не ждал.
— Прэлэстно! Какой карамболь! Это же ситуация вин-вин, выигрывают все! В чем проблема, Аркадий? И вы еще ждете совета?
— Я с наслаждением порвал бы расписку и женился на этой женщине. Но, увы, нет взаимности. Я в растерянности: поначалу хотел предъявить расписку, требовать возмещения долга либо переоформления квартиры. Но влюбился... Вы должны меня понять, Боб! Что делать?
Винтроп с безразличием выслушивал страдания молодого Вертера, ничуть не сомневаясь, что Подлевский, рвущийся в чемпионы жизни, замыслил какую-то аферу. Он понимал, что Аркадию вовсе не совет нужен, расчет на помощь. Но чем может помочь Боб? Ему недосуг даже размышлять на эту тему. Вдобавок стремление вникнуть в ситуацию Подлевского равносильно попытке щупать пульс на протезе. Вспомнился Киплинг: русские считают, что они самая восточная из западных наций, а они — самые западные из восточных. И вдруг сквозь алматинские мысли пробилось любопытное соображение, по сути не связанное с Подлевским: а что, если использовать этого шустрого дельца, этого понтоватого афериста для... да, да, чтобы проверить Суховея, вернее, впутать его в небольшой компроматик? А заодно бросить пятак на водку этому бойкому парню.
Американец участливо похлопал Аркадия по руке, заученно, дежурно добродушно улыбнулся:
— Аркадий, мне кажется, я понял вашу проблему. Непростой случай, вдобавок американцу трудно разобраться в русских любовно-имущественных интригах, у нас своих предостаточно. Я слышал, у вас есть женщины, для которых кнут слаще пряника. Но я хорошо отношусь к вам. Давайте поступим так. У вас есть лист бумаги? Нет? Тогда пишите на салфетке, буду диктовать.
И продиктовал: «Суховей Валентин Николаевич».
— Работает в администрации Московской области, в Красногорске. Опытный человек с большими связями. Разыщите его, свяжитесь с ним, скажите, что господин Винтроп просил оказать вам содействие. Поверьте, этот Суховей может многое, будьте с ним откровенны. Мое имя станет для него паролем. Вы все поняли?
— Спасибо, Боб, от всей души! Я ваш должник.
— Тогда давайте закругляться. Времени в обрез, улетаю завтра утром. Надеюсь, все будет о’кей, желаю фарта, так у вас говорят. И обратите внимание, друг мой: несмотря на спешку, я нашел полчаса для встречи с вами. Мне кажется, они были плодотворными.
15
В «Сапсане» было уютно. Донцов не раз летал на нем в Питер и обратно, используя дорожное время для решения головняков, какими наполнена жизнь бизнесмена. Современный скоростной экспресс, иглой прокалывающий мегарасстояния, располагал к деловым размышлениям. Но сегодня не так, хотя поездка на экономический форум. Еще с утра, до натоптышей на нервах исполняя виртуозный канцелярский батл-рэп в чиновных кабинетах, Виктор с нетерпением ждал часа, когда, закрыв глаза, утонет в кресле «сапсана» и примется обдумывать жизнь. Желание все передумать нарастало постепенно, шевельнувшись еще в Сочи, это он помнил, но тогда оно не было потребностью. Сейчас взбухло до острой необходимости. И, в отличие от бытовых и деловых проблем, которые он привык решать на заседаниях, а в одиночестве щелкал на ходу, урывками, раздумья о жизни требовали сосредоточения, отключения от текущих забот.
Для этого дневной «сапсан» — в самый раз.
Впервые отчаянно влюбиться в сорок лет и жить предощущением желанного семейного счастья — особое состояние души. Песня! Он решил главную проблему своей жизни, зависевшую не только от его воли. В остальном — учеба, работа, бизнес — абсолютно во всем он полагался на самого себя, трезво осознавая, чего способен достичь умом и характером, а куда незачем и ломиться: с холуйством, с подхалимажем у него туго, позвоночник не гнется. Но взаимная любовь, счастливая семья, полная душевного понимания, — это танец вдвоем. Веру ему мог послать только Господь, и Виктор, невоцерковленный, не знавший молитв, кроме пасхального тропаря, истово благодарил Его, что не оставил без попечения.
Настроение было приподнятое. Он вспоминал родной Малоярославец — при прокладке газопровода там обнаружили останки французов войны 1812 года. Находка врезалась в память, трассу вели недалеко от их дома, построенного после Победы дедом старым русским способом — соседской толокой, навалом, за один день. А вечером для всех «печенки» — целого борова под самогон уплетали. Мать с отцом до сих пор хлопочут на грядках, хотя благодаря сыну не знают нужды. Там, в детстве, все в порядке. В студенчестве тоже не изнемогал, голодную слюну не глотал, ездил подхарчиться домой, изредка, в стипендию, даже гурманил в Макдоналдсе. Непоротому поколению бездны, как иногда называли встававших на крыло в девяностые, задумываться о большой жизни, о стране было недосуг — все впереди! Взросление попало в резонанс с другими временами. Новые друзья, первые влюбленности. Группа — все провинциалы, ни одного прыщавого недоумка! — и сейчас сбегается гуртом каждые пять лет, никого не потеряли, только один махнул за кордон. Первые шаги в бизнесе не обидели, жаловаться не на что. Но почему на сердце неясная тревога, почему томит душная затхлость? Когда они явились? Он вспоминал: не сразу, не в одночасье, зато стали всегдашними спутницами, обостряясь по ходу жизни. И наконец пришло понимание, что тревога нарастала вместе с углубленным восприятием политики.
И сумасшедшая радость от встречи с Верой, она тоже косвенно связана с сосущей тревогой: двум любящим, единодушным сердцам легче противиться завтрашним нескладухам русской жизни, которые бередят душу.
Сразу после возвращения из Сочи Виктор узнал у Простова ее телефон и позвонил, без всяких стеснений предложив пообедать в каком-нибудь ресторанчике. К его удивлению и радости, Вера, не жеманная, не по одной половице ходит, ответила просто:
— С удовольствием.
Они долго сидели в любезном Донцову «Воронеже», а затем еще дольше прогулочным шагом мерили из конца в конец Гоголевский бульвар, каждый раз останавливаясь на несколько минут около плывущего в лодке Шолохова. Расставаться не хотелось. В какой-то миг у Виктора мелькнула мысль пригласить Веру к себе домой, тем более что влечение взаимно. Она восхищала его красотой, женственностью, наконец, привлекательными формами, а еще — природной нравственной силой, наполнявшей ее суждения. К сорока годам, изучив не только представительский фасад бизнес-среды, но и невидимые миру ее корпоративные, порой неопрятные задворки, Донцов не надеялся встретить чаемый идеал женской чистоты. На кого падал взгляд — давно замужем, растили детей. А кто пытался устроить личную жизнь, правдами-неправдами пробиваясь на солидные тусовки, все они, или большинство из них, по какой-то нелепой, дурацкой ошибке полагали, будто мужское внимание, помимо «боевой раскраски» и ботокса, привлекают разговоры о «половой правде», эротических конфузах или свойствах фаллоимитаторов различного типа, о рецептах постельной неутомимости, нудистских пляжах и прочих завозных вербальных стимуляторах. Донцов вспомнил «Сладкую жизнь» и обрадовался: уж он-то не повторит ошибку Мастрояни, не пройдет мимо этой редкой чистоты, олицетворяющей первооснову русской жизни.
Попытка похлопотать вокруг «женского вопроса», мужской нахрап претили ему. Им не восемнадцать, сошлись два взрослых человека, каждый из которых много лет мечтал о такой встрече. Интимная близость в эти счастливые минуты ушла на второй план, они распахнули души навстречу друг другу, неодолимая тяга вылилась в страстное желание, отринув внутренних цензоров, высказаться до дна. Нет, глубже — доверчиво раскрыть духовное подполье, где каждый хранит самое сокровенное. Наконец-то! впервые в жизни! Эти восторги были посильнее чар ночи любви.
В равной степени их потрясала, вдохновляла поразительная схожесть глубинных дум, общие духовные беспокойства роднили не меньше, чем гендерные чувства, возникшие сразу, еще на домашнем юбилее, и окрепшие сегодня. Впрочем, бери выше! Взаимное доверие оказалось полным, достижимым разве что в мечтаниях. Но вот же она, эта слитность пониманий и суждений. Становилось ясно: в необъятном мире встретились две сродные половинки, готовые к сильной, жаркой любви.
В завтрашнем дне не было сомнений. И эта уверенность в обретении друг друга заглушала эротический энтузиазм; они торопились выговориться сполна, предъявить священные права своей личности. Со стороны это могло показаться странным, но на самом деле через их бесконечный диалог проявлялся родовой признак цельных натур. Ибо не легкий трёп о мелочах жизни и ее памятных эпизодах, о далеком детстве составлял основу взаимного притяжения. Они с радостью, без рисовки и боязни говорили о своих убеждениях и моральных ценностях. Вербальную форму принимали такие глубокие переживания, какими люди их возраста предпочитают не делиться с посторонними. Но в эти минуты, нет, уже часы счастливого взаимопроникновения душ наружу вырывалось самое сокровенное, то, в чем явственно звучало понимание порядочности, отношение к истории, к судьбам России.
Видимо, для настройки разговора на свой лад Вера сразу взяла верхнее до, озаботясь нынешним несоответствием, даже противостоянием свободы воззрений и свободы самой жизни. Донцов, с закрытыми глазами сидя в кресле «сапсана», невольно улыбнулся, вспомнил один из ее монологов.
— Есть советский анекдот, пыльная старина от мамы. Американец говорит русскому: «Я могу перед Белым домом крикнуть, что Буш дурак, и мне ничего не будет. А ты?» Русский отвечает: «Да раз плюнуть! Крикну на Красной площади, что Буш дурак, и мне тоже ничего не будет».
Виктор улыбнулся:
— Это времена, когда о мастерстве футболистов судили по длине их трусов. С бородой анекдотец.
Но оказалось, то лишь присказка.
— А что у нас теперь? — продолжила Вера. — На Болотную с такими лозунгами вылезли, что жуть брала. Демократия! А попробуй-ка пожури своего начальника на заводе, в нашем институте — где угодно. Премии лишат, это само собой, так ведь выгонят, выжмут, и нигде правды не найдешь. Если обобщить, что получили? Кричать можно любую мантру, от Гегеля до Гоголя, цензурщиков нет, швондеровичи напропалую стряпают. Управляемая фронда! Даже идеолог у нее в Кремле выискался. Как судачила княгиня Бетси из «Анны Карениной», о нем незачем упоминать, и так все знают. А жизнь-то в ежовых рукавицах людей держит, не вякни. На низах народ пуще прежнего боится лишнее слово сказать. Чуть что — уволят. А жаловаться — только президенту. С кнутами, с людодёрством теперь полный порядок.
Вера увлеклась, разговор шел под напором чувств, разбросанный, и она задела смежную тему.
— Я вам, Виктор, больше скажу. — Они все еще были на «вы». — Про Эстонию, например. Там сперва переписали историю — свобода! ликуй! — а затем принялись переписывать собственность: реституцию затеяли, возвращение имущества прежним владельцам. Вот как на деле стыкуются сейчас свобода слова и свобода жизни. Это Эстония. А наше-то вороньё и вовсе со своим карком. Потом скажу. — Глянула на него. — Не боюсь, времени мало. Почему-то я вам могу сказать все, о чем с другими рот не открою, со мной такое впервые. А вот еще пример, который душу бередит: про тридцать миллионов Фирсов.
— Каких Фирсов?
— Да как же! Чеховских! После развала Союза тридцать миллионов русских людей, словно лишние, ненужные Фирсы, брошены за границей на произвол судьбы.
Позади осталось Бологое, а Донцов продолжал с радостным чувством думать о Вере. Малоярославецкая музыкальная школа, которую он самовольно бросил, одарила его забавной привычкой: к людям он стал «приклеивать» слова известных песен. Отец, служивший срочную в погранвойсках, отзывался в сознании строчкой «На границе тучи ходят хмуро». Мама, по-крестьянски встававшая ни свет ни заря, почему-то «аукалась» словами «На заре ты меня не буди». Школьный физрук, крикун, умевший гаркнуть, ассоциировался с классическим «Эй, ухнем!». Замдекана, по совместительству лидера институтских туристов, Виктор наградил словами «По долинам и по взгорьям». Эти песенные «лейблы», исключительно для внутреннего употребления, возникали сами собой, без малейших усилий. Зная за собой эту странность, он иногда пытался песенным словом пометить тех, кто был ему неприятен. Но тут дело шло натужно, приходилось мудрствовать — чаще всего попусту, а если и являлось что путное, все равно не приживалось в памяти.
То ли дело люди симпатичные! Вот к Простову сразу, без усилий, само собой приклеилось «Наш адрес — Советский Союз».
Так же с Верой. Но, в отличие от прежних случаев, когда речь шла о формальной привязке, знаменитая песня, слившаяся в его сознании с этой удивительной женщиной, несла глубокий смысл, некий подтекст. Еще в «Воронеже», в первые минуты знакомства, в голове Виктора выстрелила строчка «Широка страна моя родная». А после долгого променажа по Гоголевскому эта песня и вовсе стала как бы символом Веры, обретя дюжину смыслов. Вот и сейчас, в «сапсане», думая о ней, он в своем сепаратном, глубоко личном восприятии как бы уподоблял ее родной стране.
Но была еще одна причина, которая невольно способствовала глубокому осмыслению происходящего. К радости примешивалась тревога. «Можно ли сбрасывать со счетов Подлевского?» — вторым планом эта тема звучала неотступно. Этот спесивый, желчный деятель, нос крючком, брови шатром, которым явно руководит какой-то расчет — с первого взгляда видно! — не отступится, за Веру предстоит борьба, причем настроения самой Веры в этой схватке учитывать не будут, вот что ужасно. Подлевскому плевать, он ищет своей выгоды, потому и активничает, о чем предупредила Ряжская.
В «Воронеже» разговор тоже коснулся Подлевского, причем со стороны Веры. Речь, собственно, не о нем — о первом знакомстве с Западом, о Женеве, которая очаровала фасадным шиком и случайной встречей с приветливым, раскованным соотечественником, раскрывшим перед ней обаяние Запада. Но с тех пор ее воззрения сильно переменились, Подлевский, не осознавая того, открыл перед ней новые пласты духовной жизни, и она оказалась в бурном потоке политических страстей. Нет, нет, в смысле понимания всех этих хитросплетений она полный профан, приготовишка.
Впрочем, она сказала иначе, интереснее, веселее:
— В политическом интернете я неофит. Но свои межевые столбы, клейменые, сразу расставила. Категорически восстала против концепции «народа в народе»: прозападного креативного слоя и быдла, для которого на ТВ надо готовить особое дурманящее пойло и пятиминутки ненависти — как у Оруэлла. И сразу бросилась в споры. А в сети шумно. Одна френдесса предупредила: «Это интернет, детка! Здесь могут и послать». И что вы думаете? Посылали куда подальше. Кто-то даже назвал девственницей в борделе. Глумилище! А еще эти боты... Но я их Солоневичем припечатала: у нас теперь ставка на сволочь.
— А у вас, Вера, норов проказит! — не удержался Виктор.
Более эрудированная, чем технарь Донцов, она очень кстати, не козыряя начитанностью, сыпала неизвестными Виктору фактами и классическими цитатами, которые приводили его в восторг меткостью попадания в цель. После «народа в народе» сослалась на великого нобелиата Ивана Павлова: «Россия протрет глаза гнилому Западу». А потом, не стесняясь откровенности, не заботясь, какое впечатление произведет, искренне сказала:
— Оттого и доставляет мне огромное удовольствие беседа с вами, что полна взаимопонимания.
В тот миг сердце Донцова банально замерло от счастья. Однако трезвый, искушенный ум сработал четко: эта мудрая простота глубоко разочарована Западом, который представлен Подлевским, и теперь вместе с Донцовым — на стороне России. Но впереди борьба с полчищами подлевских, одолевающих страну изнутри. Вот он, как шутили в институте, «интеграл от дифференциала», вот она, скрепа, роднящая его личную жизнь с общим ходом русской истории, единящая судьбу Веры и судьбу России. В голове снова мелькнуло символическое «Широка страна моя родная».
Настроение изменилось. Радость уступила место невеселым мыслям о российской ситуации, о предстоящем в Питере явлении народу старой прозападной команды Медведева, от которой никаких прорывов ждать не приходится.
Эх, широка страна моя родная... Странно, после встречи с Верой он стал отчетливее слышать посох истории.
Кстати! О Боже, сколько здесь символов! Даже имя — Вера! — совпадает с христианскими корнями страны. А ведь она, крестясь на храм Христа Спасителя, много говорила о православном церковном люде, о первичности для нее христианских заповедей.
И это ее «Довлеет дню злоба его»...
Те, кому не впервой быть на питерском форуме, давно распробовали вкус этой многослойной политико-деловой кулебяки, которую раз в год белыми ночами запекают на «Экспофоруме» в Шушарах. Верхняя ее корочка-запеканочка, лоснящаяся от масляно-элитарного блеска, — мироправители, политический бомонд, которому, соблюдая строгости чопорного этикета, надлежит помпезно подписывать рекордные множества заранее согласованных договоров — преимущественно о намерениях, — сверкать под телекамеры улыбками, обмениваться рукопожатиями и позитивно влиять на статистическую отчетность. Верхний слой кулебяки — уже с начинкой, и за ним негласно утвердилось наименование ярмарки тщеславия. Тут принято арендовать для разъездов по городу ухарских лихачей с щегольской закладкой — «майбахи», и нанимать трансферы с гидами. Этот клубящийся рой импозантных публичных персон с моднячими перламутровыми пуговицами на сорочках, в костюмчиках от Бриони, туфлях от Черутти, очках Ray-Ban и галстуках от YSL активно демонстрирует свою накачанную бюрократическую мускулатуру, петушится друг перед другом на званых бизнес-завтраках, где идет игра встречных самолюбий и произносятся топовые безответственные тосты, мгновенная добыча ТВ. Вечерами эта денежная кичливость перемещается на списочные тусовки мировых брендов, и в банкетно-фуршетном элитном гламуре всеобщим вниманием завладевают выгуливающие самые изощренные наряды и модный тюнинг жёвлики в брюликах — жены влиятельных коммерсантов, усыпанные крупными гайками с бриллиантами.
Срединный слой кулебяки иные остряки считают чиненным рыбной снедью. Эти типажи прибывают на форум для повышения рейтинга, выгодных знакомств и паблисити, заигрывают с модными селебрити и охотно приносят себя в жертву телерепортерам. Бизнесмены и бизнес-леди, нередко из офшорной аристократии, с повадками, выдающими легкость бытия, в шумном карнавал-шабаше чувствуют себя превосходно. Завзятые «пикабушники» — участники телевизионных шоу-развлечений на сайте Пикабу, окруженные балдежными милахами-хорошавочками волонтерского сословия, с модельными косяками в одежде — богини модных пляжей! — они успевают и на прогулки с трубадурами либерализма, и на гала-концерт со звездюльками шоу-бизнеса. Но чаще этих «жнецов рукопожатий» можно встретить в зоне презентаций, в круговороте губернаторов, сенаторов, полпредов, белодомовских волков и волкодавов разного ранга, а также всевозможной щеконадувной бюрократической челяди из придворных экономистов и социологов, сидящих на негласных «должностных похлебках», где знаменитые в узких кругах деятели ведут диалог с властью. Здесь идет активная торговля влиянием — Рыболовлевых из Монако и у нас предостаточно.
Низовую, слегка подгорелую основу кулебяки, которая, по сути, держит на себе всю форумную конструкцию, запекают из малозаметных российских «серячков», скромных, тягливых работяг отечественного бизнеса, со скепсисом и сарказмом наблюдающих за суетливым коловращением шумного бала. Они предпочитают посещать рядовые бизнес-диалоги, где горячатся записные ораторы, позволяющие тем не менее уловить отраслевые тенденции.
Многослойность форумной кулебяки — знаменитый нижегородский трактирщик Харя Поликарпов славился умением ладить длинные пироги с двенадцатью начинками за раз! — особенно била в глаза на панельной сессии в Конгресс-холле, в театре одного актера. Почетные ряды партера занимала здесь политико-экономическая знать, высокочиновный люд, «серебряные бобры» и короли госзаказов — вперемежку с иностранными гостями, с особо заметными активистами власти. За сановниками теснилась груда тел из «рыбных» косяков, а в глубинах амфитеатра, куда не достают телеобъективы, в полудрёме кивали носами «серячки». При этом если в персонально забронированной части партера, под софитами, царил бурный, хотя отчасти показной энтузиазм чемпионов лицемерия, постепенно убывающий к двадцатым рядам, то амфитеатр был отгорожен молчаливой стеной равнодушия. Громкие девизы бутафорского шоу «Экономика будущего» и «Создавая экономику доверия», похоже, не трогали сердца тех, кто представлял изможденный, повседневный российский бизнес. Форум им запомнился скорее традиционным фестивалем мороженого — вечным спутником политико-экономического карнавала в Шушарах, этого странного эрзац-праздника, праздника-полуфабриката, праздника-подкидыша, — крикливыми речами, дутыми контрактами и усилиями анестезиологов с центрального телевидения, маскирующего промозглую действительность бизнеса и экономическую депрессию в стране.
Но люди, умеющие отличать важное от шумного и сквозь текущую суету угадывать истинные смыслы происходящего, понимали, что господствующая группа, сохранившая после мартовских выборов свой состав и свое влияние, вступила в новую полосу удержания власти.
Донцов и Добычин заранее сговорились о совместной поездке на форум и поначалу забронировали номера в отеле «Причал» на Витебском проспекте, сравнительно недалеко от Пулкова. Отсюда, от метро «Купчино», можно быстро добраться до Шушар на бесплатном шаттле. Но в последний момент Льняной почему-то передумал и заказал апартаменты в мини-отеле на 7-й линии Васильевского острова, рядом с Андреевским собором — на 6-й линии — и музеем-квартирой Ивана Павлова. С дальнего Васильевского конца до Шушар гнать через центр, и Донцов замысла не понял. Но едва вселился в скромные апартаменты с кухонным уголком, как раздался громкий стук в дверь — кулаками долбили! — и на пороге с улыбками от уха до уха возникли Льняной и его уральский земляк — лысоватый, полнеющий Синицын, которого Донцов признал сразу и не без удовольствия.
— Русское хатаскрайничество! — шутливо объявил он. — Мы от форумной мозгомойки в сторонке.
Тут все и разъяснилось. Для депутата «Единой России» Добычина форум был скучной, но неотвратимой формальностью. А потому он условился с Синицыным свидеться в Питере по отдельной программе. Изложив суть дела, Льняной хитро спросил у Виктора:
— А какая программа предпочтительна для русских мужиков, выросших из одного корня и жаждущих потолковать о своей душевной боли?
Виктор недоуменно почесал в затылке, но Синицын громко хлопнул себя ладонью по лысине, воскликнул:
— Сева, ты чего его пытаешь? Он моложе, откуда ему знать, что в совке для нас высшим наслаждением было засесть вечерком в гостинице за бутыльцом, батоном докторской и банкой бычков в томате, чтобы до полуночи душу штопором открывать?
И столько широкого добродушия, столько приветливости было в громком шлепке Синицына по собственной лысине, что Донцов сразу вошел в игру:
— А-а, так я третьим нужен?
— Сева, а ты в нем не ошибся, свой парень.
— Так ведь работали, проверяли.
— А я вас помню, — сказал Донцов. — В доме приемов вы громко крякнули, что Путина приватизировали. Кое-кто даже не расслышал. А я в ту присказку все больше въезжаю.
Посмеялись. Потом Льняной перешел к делу:
— Значит, так, мужики. С утра едем в Шушары, — я на троих «фордок» заказал, — и толчемся каждый по своему плану. А вечерние пиры, увеселения да шутейные церемонии, когда девки нарасхват, нам до фени. Часов в шесть-семь созваниваемся и снова сюда — подальше от форумного шума, с чужих глаз да ушей долой. Бутылка «Хэннэсси» у меня уже охлаждается, закуску, соки возьмем по пути.
С виду самый невзрачный, Синицын возмутился:
— На троих здоровенных мужиков одна бутылка! Это в Думе теперь такие порядки?
Серьезные разговоры пошли после третьей. Льняной, отрезая хороший шмат вареной колбасы и намазывая его толстым слоем «Виолы», спросил:
— И за что сегодня пьет провинция?
— Ты, Сева, уже и не знаешь, как провинция живет, оторвался. А у нас все по-прежнему: если что начинается — пожаром по тайге идет, как при сильном ветре. Всех задевает.
— Это о чем?
— Ты же спрашиваешь, за что пьют. А тост теперь один. Кто-то его недавно вбросил, он и гуляет по застольям. Без него не начинают. — Поднял рюмку. — За уцеление России!
— Как, как?
— Слушай, Шкловский писал, что на третьем «как» он думает о чем-то постороннем. Повторяю: за у-це-ление России! Ясно?
— Уцеление? — наконец понял Добычин. — А что, крепко! Словцо редкое, но глубокое, со смыслом. И злободневное. Все наши тревоги объяло... А может, все-таки исцеление?
— Не-ет, уцеление России — сильнее. Цепляет. Умеет народ самое точное слово для текущего дня найти, — возразил Донцов. — Сегодня не об исцелении речь, выжить бы! Девяностыми запахло. Ответчики за те ошибки во власть возвращаются, опять боярствуют. Кремль-то снова потихоньку ельцинеет.
— Вот как пламя и пошел тост. Знаешь, что поражает? Очень быстро все перевернулось. До выборов Крым праздновали, а теперь настроения вниз летят. Уж на что либертарии наши слякотные, шваль мироздания, а по случаю сядем вместе и хором: «За уцеление!» Новая ритуальная формула.
— А чего вообще у вас ждут? — продолжил Донцов.
— Чего ждут? — Синицын задумался. — Ну, первым ударом стало назначение Медведева. Народ оторопел! После 77 процентов это шок, и до всех сразу дошло, что он голосование счел за карт-бланш: все можно! А коли так, народ ждет повышения пенсионного возраста и налога НДС, скачка бензиновых цен, реванша ельцинской Семьи. Новый орднунг готовится.
— Слушай, Кассандра, хватит про либерду на кофейной гуще гадать. Ребяческий бред, — отмахнулся Льняной. — А то из Кащенко интеллигентные люди в белых халатах побеспокоят.
— А я, братец ты мой, не гадаю. Без дела лаяться изволите, как писал классик. Понимаете, мужики, русская провинция, она... Почему-то у нас всегда наперед знают о замыслах власти прищучить народ. Как получается, видит Бог, не ведаю, а вот просачивается к нам самая закрытая информация, и все. Словно операторы ЗАС — засекреченной аппаратуры связи, утечку дают. В Москве еще не чешутся, у вас Дума герметичная, но у нас уже людская мовь лютует. В провинцию слухи легко утекают, а здесь — один узнал, всех оповестил. Уж и сетевые вожди молодежи подключились к анонсам ущемлений, снайперы Инета — туда же, в печальки, у них вообще на этот счет рвотный рефлекс, сплошной гундёж. В провинции свои порядки. Вот был случай — единичный! — органы опеки детей изъяли за то, что родители не кормят их бананами. И опять: все теперь можно! Прорыв во главе с Медведевым! Это ж надо так бомбануть! Аванс ему дали — без программы, без кадров, одному, голенькому поверили. Телепутину! А он попёр без оглядки. Спроста ли поползли со всех сторон шепоты о разложении вертикали власти? Хотя, на мой-то взгляд, это досужее, у нас домашних натурфилософов ложнозрячих, мечтающих вскипятить ситуацию, пруд пруди. Но капитал доверия уже не тот, если коллекцию угроз, что я говорил, выкатят, — а я не сомневаюсь! — запутинцам пятидесяти процентов не взять. Многие сожалеют, что поверили.
— Выборов уже не будет, — осадил Донцов.
— Да что выборы! — наставительно сказал Добычин. — Выборы делать научились, уж я-то знаю. Все хлебные контракты по списку раздают политологам, платят в валюте.
Помолчали. Но Синицын все-таки поднял рюмку:
— Как у Высоцкого, если я чего решил, выпью обязательно. И мы должны: за уцеление России! Как нас в школе учили? Широкую, ясную грудью дорогу проложим себе. — Но закончил прежней мыслью, которая, видимо, донимала его, словно изжога: — Нет, мужики, над схваткой ему долго не протянуть. а если после Ельцин-центра возвращением в Кремль Семьи народу пощечину влепит...
— Ну и что будет? — насмешливо спросил Льняной.
— Да ничего не будет, в том-то и дело. На этот случай уже заготовлена усмирительная команда распиаренных политтехнологов. Но ты же, Сева, должон знать, к чему ведет накопление в людях бессознательной злобы. А русский случай, он вообще особый. У нас трамвайных хамов не любят.
— Во-первых, еще неизвестно, сбудутся ли твои пророчества. А меня-то больше интересуют не утечки о замыслах Кремля, а то, что на деле происходит с жизнью в России. Всякие воспаленные головы меня тоже не волнуют. Но я кожей, каждым волоском на своей башке ощущаю, что в стране начала вдруг складываться какая-то загадочная взаимосвязь разнородных сил, толкающих Россию к смуте. Нельзя на выборы идти под лозунгом прорыва в технологическое будущее, опережая мировые темпы роста, а сразу после выборов слышать, что пару лет ВВП будет ниже, до двух процентов не дотянем. При таком раздвоении гражданин — Гражданин с большой буквы! — неизбежно станет враждебен власти, усомнившись в искренности державной воли. Неужто казенная ложь возобновилась? Не только советская ошибка повторяется, царская — тоже. Опять не думают об историческом завтра.
Добычин высказался о наболевшем, не чокаясь, опрокинул рюмку и ждал развития темы. Однако Синицын повернул в другую сторону, сказал задумчиво:
— Царь Николай был большим любителем псовой охоты. Путин спортом увлекается. Только Сталин, как его ни кляни, книжки читал.
— А ты, кстати, метко сказал «Телепутин», — загнул свое Донцов. — Он от живого народа резко отодвинулся. Волонтеры — сплошь подобраны, чесноком за версту разит. Прямая линия — насквозь режопера.
— Что значит «режопера»? — спросил Льняной.
— Режиссерская опера, как у Серебренникова, Богомолова. Голая постановка. Замысел вместо жизни.
Но Синицын продолжал гнуть свое:
— В моем сознании Путин все больше сближается с Николаем. Во-первых, чаще проявляются признаки внутреннего бессилия: команды раздает, резолюции пишет, указы кует, кадры на местах меняет, а дело по-крупному стоит. Но главное, пожалуй, в другом. Что царь, что Путин перестали слышать немой набат, все сильнее звучащий в народе. Вот мы говорили о быстром накоплении в людях бессознательной злобы — а ведь это и есть немой набат.
Донцов, которому слова Синицына ложились на сердце, добавил:
— Если сравнивать царя с Телепутиным, еще одна зарубка есть: в политическом смысле оба — одиночки! А для государства это худо.
— Верно! — оживился Синицын. — Один, совсем один! Даже страшно подумать, коли что случится, все под Богом ходим.
— Если вы оба такие умные, ответьте на вопрос: почему от Путина ушел Сергей Иванов? Властного противостояния меж ними не было, возраст равный, пятнадцать лет рядом шли, умозрением — из одного гнезда, из внешней разведки. Конфликта, во всяком случае наружного, тоже не нащупывалось. Иванова не выдавливали, сам ушел, добровольно. Почему?
— А ты сам ответил, — развел руками Синицын. — Умозрение у них одно... Было! А в какой-то момент Иванов перестал соглашаться с линией шефа, с его новым окружением. Думаю, разногласия возникли внутренние, не для чужих ушей. Внешне все в ажуре, но разговор, видать, между ними был профессиональный. И после периода полуразлада порешили остаться друзьями. Но — расстаться! И добровольный уход Иванова с поста главы администрации — один из важнейших доказательств того, что Путин начал меняться. Мы же видим, былого Путина уже нет. Царя подменили! Тост «За уцеление России!» неспроста вдруг явился, пожаром по провинции идет, он же девяностые годы в сознании воскрешает. Ответчики за те ошибки во власть возвращаются, опять боярствуют, а иные на покой и не уходили. Кремль-то снова потихоньку ельцинеет. Путин теперь совсем один-одинешенек в прозападной толпе, одолевают его ерундисты.
— Если уж продолжать сравнение, — жал свое Донцов, — то как не вспомнить об исторической вине Николая Второго?
-— У него много ошибок, — вставил Добычин. — Ты о чем?
— О том, что на совести царя отсутствие рядом с ним Столыпина. Не нашел замены, да и не искал. С Путиным так же: памятник Столыпину водрузили, но что-то не упомню, чтоб к подножию цветы возлагали. А Иванов Сергей Борисыч в политическом смысле неким Столыпиным и был, мы же помним, как он телевидение наше, которое Путин возвеличивает, нижеплинтусным назвал. А без Столыпина Россия вниз пошла, это урок исторический.
— Вместо Столыпина царский двор Распутиным обогатился, — резко, зло сказал Льняной.
— Путин, Распутин... — слегка зевнул Синицын. — Это для ащеулов с «Йеха Москвы». А коли серьезно, на мой-то взгляд, и впрямь завелся около государя Распутин, из бывших неполживцев девяностых годов, идейных экстремистов, не бездарный, в современном, конечно, обличье, внешне благочестив, но не из народа. Приёмыш власти, холуйский блеск холопьих глаз. Лижет царя, как эскимо, шлифует образ, пьедестал мастерит, не чураясь ни диктатуры лжи, ни казенного оптимизма, и влияние оказывает, слушают его все больше. Прочно засел на запятках власти. Вдобавок гвоздь-то уже ершёный, его против пера не вытянуть. Могущество временщиков!
— Кто — не спрашиваю, ибо догадываюсь, — кивнул Донцов.
Льняной тяжело вздохнул:
— Опять в России за все в ответе один-единственный человек — государь. И перед Богом, и перед народом, и перед историей. Понимает ли он это? Осознаёт ли? Чувствует ли?
Застольное товарищество приумолкло. Добычин в смятении чувств колобродил локтями по столу. Синицын, сопровождая крестным знамением, видимо, нелегкие раздумья, мелко троекратно перекрестился. Донцов, в тяжелых предчувствиях смутных времен, слегка захмелев и не в силах зацепиться за одну цельную мысль, взялся за хлопоты: нарезал колбасу ломтями толщиной с палец, по рецепту рекламы «Папа может!», вскрыл новую банку шпротов — калининградской выделки, выбирали дотошно! — впрок наполнил рюмки. И тоже угомонился в ожидании следующего акта самодеятельного спектакля, где актеры играли самих себя.
Просторный номер мини-отеля был оборудован кухонным уголком с широким набором полезного для гостевого застолья инструмента, включая причудливый, стилизованный под львиную гриву штопор. Уголок удачно вмонтировали в нишу, а для столешницы, шкафчиков, как и для оконных занавесок и стен, подобрали общий колор — мягко-серый, с невнятными разводами. Этот спокойный интерьер, показалось Донцову, обладал терапевтическим эффектом. Подумалось: в тихом помещении люди не повышают голоса, в шумном — наоборот, невольно кричат. Здешняя аура навевала задумчивость. И странно: возможно, похожие чувства испытывал Синицын.
— Здесь мирно, хорошо, удачную гавань выбрали, — прервал он затянувшееся молчание. — Мысли, эмоции не в ярость идут, не в ожесточение, а по глубинам рассудка шелестят, в голову стучится то, о чем обычно, в житейской суматохе, не думается. По рюмке опять же пропустили...
— Пить надо меньше, — пошутил Льняной. Но Жора не свернул с курса:
— Мы вот про государственные начала жизни трезвонили, про большую политику. А о великой силе слабости позабыли.
— Сейчас из него заумь попрет, — бросил Добычин. — С ним часто так: две лошади белые, третья голая. Вздор мелет. Объясни сперва, о чем мудруешь.
— Да все просто, Сева: слабых Господь особой силой наделяет. Не в смысле воли, ума или хитрости, чем успешные славятся. Слабому, если взять, скажем, униженный народ, терять нечего. А ежели человеку терять нечего, он становится смелым, сильным. Русский народ, кстати, в веках этим прославился, Пушкин-то Александр Сергеевич, по сути, это и провозгласил.
— Жора русского бунта ждет, — с иронией комментировал Льняной, обращаясь к Донцову.
— Легче, Сева, легче, дикцией не берите, ваше высокоумие. Я о другом. Сейчас в разряд самых слабых начинают выдвигаться наивные дети перестройки, чудом выжившие в развале девяностых, обманутые-переобманутые. Я их называю — не научно, разумеется, — поколение челноков, они в ту пору на себя главный груз взяли. Им-то сейчас пенсия и засветила. А это не бывшие советские пенсионеры, это публика тертая, много понимающая, ее лозунгом не возьмешь, а бояться ей уже нечего. Мальцы, коих теребит Навальный, школота безмозглая, она для власти угроза нулевая, глупые шалости. А вот новый пенсионер, который в политике разочарован, ни в какую партию не полезет и уличных политических протестов чурается, вот он... Сева, неужели не смекаешь, к чему я гну? Ты же сам только что сокрушался, что Россия на авторитете одного-единственного человека держится. А что, если самый слабый свою необузданную, неосознанную силу явит? — Сделал паузу и закончил резко, ударно: — На выборах!
— Да не будет же выборов! — снова влез Донцов, дивясь непонятливости Синицына. Но тот глянул на него с таким искренним сожалением, словно перед ним малое дитя, и объяснил делано задушевным тоном, каким общаются с несмышлеными:
— Понимаешь, Виктор, выборы у нас ныне в каждом сентябре. И допустим, на нашем опромышленном Урале, в нашей заводской хлопотне «Единая Россия», — кивнул на Добычина, — вопреки всем ухищрениям, провалится. По кому удар? Сева, ну, напрягись, подумай.
Льняной напряженно смотрел на Синицына, лихорадочно перебирая варианты ответа. Наконец неуверенно начал:
— Значит, ты снова о пенсионной реформе?
Жора поощрительно кивнул головой.
— Но если я верно понимаю, не про экономику, а про политику?
— Уф! — облегченно вздохнул Синицын. — Нет, не зря мы с тобой за одной партой сидели. Три года, по-моему. С восьмого по десятый? Хотя ты вечно, как индюк, пыжился, но соображалка работала отменно.
— А ты не в меру щебетливый был... Но погоди, не сбивай, — отмахнулся от воспоминаний Добычин. Видимо, его «соображалка» заработала на полную мощь. — Сила слабых! Но именно эти слабые, особо пострадавшие в девяностые, вот-вот массово попрут на пенсию. Со своими тягостными настроениями и невериями ни во что и ни в кого. И их много, смежные поколения. Так они и есть главная опасность! А если их намеренно попридержать на работе, где они по макушку зависят от начальства, чтобы не оказаться на улице без пенсии?.. В предпенсионные годы жизнь-то у людей самая шаткая. Верно я понял?
Синицын поднял рюмку, сказал Донцову:
— Давай-ка за Севу! Очен-но толковый мужик. — Выпив, пояснил: — Будет, будет пенсионная реформа. Она политически нужна власти в сто раз больше, чем экономически. Никакого прорыва не жди, какой прорыв с Медведевым! Страна все больше отстает от своих потребностей. Хрущев к 1980 году коммунизм обещал, а ныне к 2030 году сулят долголетие до восьмидесяти. Снова посулы! Снова сеют рожь, да как бы опять не пришлось лебеду косить. Обещания за пределами сроков своей власти вообще штуковина в моральном плане сомнительная. Спросить-то не с кого.
Подумал о чем-то.
— Ну, я отвлекся. А суть в том, что походка у власти стала неровная, авторитет лидера пошатнулся, в сердцах крымской уверенности не стало, народ опасается предательства элиты, которая в его понимании — подобие колониальной администрации. В умах такая смердячка, будто кто-то бросил дрожжи в уличный сортир. А уж наличный житейский порядок... Бытовуха, иначе говоря, ЖКХ, медицина повседневная и прочее, особенно в провинции, — там голимый развал, оркестр разгула, мелкочиновную саранчу мздоимство обуяло, виртуозы хищений, алчные гусекрады, в барахольстве погрязли. А народ зачуханный. Тотальный цинизм чиновья. Такой разброд, что не зачавши забеременеешь. На выборах манипулировать придется. Миллионов на десять расширят страту самых зависимых избирателей, тех, кого искусственно оставят в предпенсионном статусе. А число независимых пенсионеров, наоборот, снизится. Что и требуется.
Остановился. Потом подвел итог:
— В общем, бяда. Если судить по интернету, а это индикатор настроений верный, началась война власти с народом. Как это допустил любимец народа Путин? У чиновников фискальная шизофрения, они твердят: нас рать!
— Верно, на все им наплевать! — вставил Добычин.
Донцов, полагавший, что в думских вечерних посиделках и сочинских премудрых общениях изрядно поднаторел в понимании скрытых пружин большой политики, искренне восхищался провинциальным Синицыным, который на три метра под землей видит потаенные ходы власти, закулисную русскую стряпню. Сказал с уважением:
— Так это же и есть твой немой набат.
— Во-первых, не мой. Это у Гюго есть, а у него и Солж прихватил. Но там смысл другой: оба хорошо видят набаты, языки колокольные в истерике бьются, а неясно, в чем дело, чего набатят. У нас, наоборот, причины набата ясны: неосознанный протест высокого давления, злоба невысказанная, внутрь загнанная, неверие растущее. А его не слышат — набат немой. Кстати, что-то похожее было на памяти наших отцов: кухонные сидения шестидесятых годов, с тех кухонь малогабаритных шестидесятники пошли, там креаклит зародился, тоже немой набат был, интеллигентский. Сегодня набат круче, гулом гудит, опять же особенно в провинции. Бочка настроений уж пазами течет. Но блюстители народного блага ропота не чуют, на балалайках едут, набат не слышат. Властная группа, охваченная энтузиазмом благополучия, вдохновляется конскими балетами на Красной площади, ближний круг, целиком устоявший после выборов, — крыши поехали от счастья! — уверен, что все проблемы решаемы теперь админманеврами. Игры патриотов идут под кремлевскую музыку. Какие-то ключевые показатели эффективности придумали, не реальной жизнью, а бюрократическим изыском занимаются. Легко верят соцопросам, где стало преобладать известное русское настроение: «Моя хата с краю!» Не понимают, что хатаскрайничество — невинный, не по сговору народный обман властей, на деле-то за каждым шагом верхоты в оба следят все и всюду. Такова ныне господствующая нота. Частности, подробности там, — сделал выразительный жест, обозначающий кремлевское «там», — понимают гораздо лучше, чем общее движение жизни и русской истории. Наперед и малой доли не предвидят. Но история потом скажет, что новый распутин был у нее лишь разгонным посыльным, не у настоящих дел. Ситуация патовая: чиновник считает, что ничего народу не должен — идет вал дурацких заявлений, даже от Чубайса, а народу терять нечего. Пока ждут, кто первый дрогнет, страна развалиться может.
Вдруг резко сменил тон:
— А ведомо ли вам, братцы, что в 1927 году здесь, в Питере, царя-освободителя Александра Третьего в железную клетку, аки преступника, заковали? — Рассмеялся, отвечая на недоуменные взгляды. — Памятник, памятник! А сегодня ему в Крыму величественный монумент воздвигли. Нет, что ни говорите, а безмерно величие России в пространстве и во времени. А еще — в вечных исканиях народом справедливости. От изумления века моргают веками. В России власть обязана мыслить масштабами поколений и столетий. Но сегодня спрос не на способных, а на удобных.
Уже изрядно захмелев, опираясь на стол, Синицын тяжело поднялся с рюмкой в руке:
— Давай еще по пиисят...
Цепенеющим взглядом уперся в Добычина, с напором начал:
— Пушкина, Пушкина штудируйте. — Стал с выражением декламировать: — Иль русского царя бессильно слово? Иль нам с Европой спорить ново? Иль мало нас?.. — Сделал паузу и закончил совсем на другой ноте: — О ком трубит архангел Гавриил? Об идущих нам на смену...
По пути на Московский вокзал Виктор позвонил Вере. Сказал запросто:
— В Москве буду восьмичасовым «сапсаном». Меня никто никогда не встречал, кроме водителя. Может, ты встретишь? Третий вагон.
Она снова ответила легко, без жеманства:
— С удовольствием.
Донцов не стал тревожить ни шофера Серегу, ни телохранителя Вову. Они с Верой на такси доехали до «Азбуки вкуса», открытой недавно на Смоленке, недалеко от донцовского дома, набрали всякой снеди, включая классический оливье, готовые голубцы и даже фруктовый салат «Чунга-чанга». Не сговариваясь, взяли бутылку крымского — именно крымского, словно для них это был «пароль» и «отзыв», сверка по запросу «свой–чужой». Вера быстро, сноровисто накрыла стол.
Виктор, взбудораженный полуночными питерскими тёрками в мини-отеле на Васильевском острове, не уделяя ни малейшего внимания экономическому форуму в Шушарах, бросился пересказывать застольные мужские откровения. Она слушала внимательно, от удивления широко раскрыв глаза, в которых Донцов не мог не заметить искренней радости. Иногда кивала, если у него выскакивало особенно удачное замечание или словцо, вроде «человековолчества», когда речь шла о надоевшей по маковку эпохе «потребл...ства», — он извинился за неблагозвучие. И так увлеклась, что начала задавать уточняющие вопросы. Потом спросила о главном:
— А как сложился ваш мальчишник? Собутыльники сбросились на троих? — И осудительное «собутыльники» прозвучало в ее устах не оскорбительно, а скорее с ласковой интонацией. — Говоришь, один из провинции, другой из «Единой России». Случайная встреча и такое глубокое совпадение взглядов?
— Ну как случайная? С Добычиным мы сговаривались заранее, я его по Думе знаю. Синицына тоже как-то видел, они с Севой друзья детства, уральские. Случайным тот разговор не назовешь, одной масти люди сошлись. Но меня другой вопрос терзает, именно терзает, иначе не скажешь. Вот собрались за бутыльцом трое мужиков, душой, сердцем, всем нутром своим радеющие за Россию, — «Единая Россия» тут ни при чем, на саммит в мини-отель мы прибыли в личном качестве. Все осознают все угрозы, нависающие над страной, видят — в меру своих знаний и пониманий. Три мощных мужика! Хотя чую наверняка, что нашу позицию разделяют тысячи, миллионы, в том числе многие, суетившиеся на форуме. Ну и что? Вот скажи, скажи, что мы можем сделать, чтобы унять ахинейцев, изнуряющих экономику? Чтобы этих либеральных гуру, оседлавших Россию, как говорят на мужском арго, послать куда положено и без возврата, в пожизненный игнор?
Запнулся от возмущения, а Вера, воспользовавшись паузой, добавила ему оливье.
— Что мы можем? Новые партии замыслить, самородные союзы граждан? Любые дурацкие затеи с политическими эмбрионами ныне бессмысленны. Зарядиться уличными протестами с заливистым лаем? Угарный бред, прихоти ущербного воображения. Кстати, политическими протестами сейчас в стране и не пахнет. На поверхности общественной жизни тишь да гладь. Народ безмолвствует. А душа-то ноет в предчувствии смутных времен. Вертлявая власть едет на балалайках, на праздниках нескончаемых, на форумах, футболах, шайбах, создавая антураж всеобщего благополучия. Политические сновидения, страна Вообразилия! — Вера коротко хохотнула от «Вообразилии». — Но жизнь идет своим ходом и вовсе не туда, куда предназначено мартовским девизом о прорыве. К власти встали менеджеры, люди рутины, новой касты, а у них на уме одно: минимум издержек, максимум прибыли! Рулят страной словно корпорацией с разделом продукции, все соки тянут, выжиматели выжатых лимонов. Шевеления духа этому чиновному муравейнику, этой либеральной фауне, триумфаторам потребительства — побоку, только зрелища народу подают, да и то в виде нравственной порчи, нравопогубительной дубиной наставляют.
Тут взорвалась Вера:
— Ничтожную книжонку «Гарри Поттер» через бешеную рекламу эти вымышленники объявили главным воспитателем детского поколения.
— Вот и получается, — завершил горькую жалобу Донцов, — одну ногу занесли в будущее, в завтра, а другая завязла в прошлом. Самая неудобная, самая невыгодная поза. И очень для державы опасная, по шву может лопнуть. У меня от этого травма сознания.
— Но ты вопрос так и не сформулировал, — улыбнулась Вера. — Возбужден питерским мальчишником и до сути не добрался.
— Нет, суть я как раз высказал и вопрос задал, ты меня поняла, по глазам вижу. Но вот еще о чем хочу сказать. Безмерно богат, многозначен русский язык. Послание Федеральному собранию, где от президента ждали предвыборной стратегии, вышло, извини за моветон, неким посыланием. Послал куда подальше ожидания ясности экономического курса. Тайны русского корнесловия всю подноготную приоткрывают. А еще этот прорыв в технологическое завтра темпами, превышающими мировые. Но слово «прорыв» имеет и противоположное значение: прорвать может дамбу, спасающую от наводнений, и всех затопит. Что за олухи придумывают ему сомнительные девизы со взаимоисключающими смыслами? Из подгузников не вылезли эти виртуальные извращенцы. Кстати, после выборов «Прорыв!» практически исчез из политического обихода, из СМИ. Слова у нас дрессировать научились... Какой прорыв? Министры бубнят о снижении темпов роста ВВП. Ну, я на эту тему могу говорить часами. А вопрос к тебе могу повторить.
— Наконец-то!
— Вот судили-рядили три мужика, болеющих за судьбу России. Хотя таких мужиков и баб превеликое множество. Так что же нам делать? Что им делать, чтобы воспряла Россия? Давай чокнемся без тоста, и ей-бо, буду терпеливо ждать ответа на эти проклятущие вопросы, хотя ответа не существует.
Вера, подперев кулаками подбородок, сидела, уставившись на старую увеличенную фотографию донцовских крестьянских предков в стилизованной под столетнюю давность раме. Но, поглощенная мыслями, не разглядывала ее, большое серое пятно на стене перед глазами помогало сосредоточиться на внутреннем созерцании. Наконец сказала:
— А почему ты считаешь, что на эти вопросы нет ответа? Меня те же мысли изводят, пусть по-своему. Что делать миллионам русских людей, не готовых мириться с новым строем жизни? Умом, отстраненно понимаю, что катастрофа Союза не может пройти бесследно для поколений, задетых ею. Но как быть, как жить эмоционально? В бессонные ночи «Слово о полку» из головы нейдет: «печаль жирна течет среди земли русской». И знаешь, Витюша, мне кажется, нашла ответ.
— Нашла? Не может быть! Какой?
Вера рассмеялась:
— Все-таки «не может быть» или «какой»?
— Какой, какой?
— Прямые действия ты верно назвал бредом, чушью. Кроме новых великих бед, они ничего не дадут. Технологически власть сегодня сильна, как никогда, так исхитрилась, что конкуренция с ней — дело пустое. Снова говорю: в политике я неофит, а свежему, не замыленному взгляду неприступные властные редуты особенно заметны.
— Так что, что же делать? — нетерпеливо в очередной раз воскликнул Виктор. — Говоришь, что нашла выход...
— Да, нашла! — неожиданно твердо сказала Вера, глаза в глаза глядя на Донцова. — Знаешь, что нам, Витюша, нужно? Нам — это и нам с тобой конкретно, и каждому русскому человеку, озабоченному судьбой родины. Знаешь, что? — Сделала, нагнетая внимание, паузу и спокойно, без эмоций, без накала, произнесла: — Даже в ненастные дни жизни русскому человеку надо оставаться самим собой — это наша главная сила. Какие мы есть, такими и должны быть. В народе огромная мощь живет, века учат. Это разговор долгий, у меня все продумано, все плюсы-минусы учтены. Но суть в том, что и на Руси, и в России те, кто переставал быть самим собой, так или иначе довольно быстро превращались в пену, которую смывали волны времени. А материк народа, коренная его основа, живущая в ограде православной церкви, она интуитивно остается сама в себе, и эта сила народных недр всегда берет верх. Пена каждый раз уходит, чужая кожа сползает. Не получается натянуть западную униформу на великие русские пространства. И незачем нам страшиться цивилизационного одиночества России. Слишком велик у нее запас смиренномудрия, выдержки, неприхотливости, исторического долготерпения. Из-под кнута никто не в силах с нами совладать — ни наемная сабля, ни доморощенные обуздатели. Меня эти мысли согревают.
Донцов схватил бокал, восторженно воскликнул:
— За то, чтобы всегда оставаться самими собой! — И поймал себя на мысли, что весь вечер от избытка чувств едет на восклицательных знаках, хотя это ему не свойственно. Спокойнее добавил: — Ты произвела на свет, я бы сказал, идею геологического масштаба. Да, оставаться самим собой даже в сложных исторических переделках — вот великая сила народа, наш природный спасительный консерватизм, инертность историческая. На западе их считают отсталостью. Ну и пусть мчатся наперегонки к однополым бракам, к родителям № 1 и № 2, во Франции уже и посмертные браки ввели. А мы не поторопимся.
— У Гончарова в «Обломове», — напомнила Вера, — есть упрек: «Вы спите, а не живете!» Но мне всегда казалось, что эта знаменитая фраза, отражающая протестантскую активность, несет мощный исторический заряд. Спим, чтобы мерзостями не отравиться. А час пробьет — проснемся. Да еще как! В России перемены вечно начинаются вдруг.
— Ты, словно Дорошевич, знаешь по именам всех китайцев, — пошутил Донцов, собрав жалкие остатки своей эрудиции. — Мне рассказывали, в перестройку в столицах политический шторм верхушки сосен ломил, а в тайге, в гуще народа, низовые ветви не шелохнулись, тишина стояла. Потому до конца и не доломали. А еще... Кажется мне, что такая мысль глубокая, чисто русская могла родиться только в женской душе. Мы-то, мужики, в эту сторону даже не качнулись, вокруг злобы дня крутились, от беспомощности, от бессмыслицы существования умом трогались. Чувствуем, не только не на той станции хотим сойти, но вообще не в тот поезд сели. А ты этот глухой узел разрубила. Ни впредь, ни после не забуду.
Поднял бокал:
— За тебя!
— За нас! — мягко подправила Вера. — Тут бы церковный икос пропеть с припевом «Радуйся!».
И настала прекрасная жаркая ночь любви, настоянная на взаимности чувств, стократно восторженных от полной духовной близости.
16
Подлевскому удалось разыскать Суховея без особых трудов: чиновник среднего звена в Красногорске проходил по официальным спискам. Выяснив номер телефона, позвонил во второй половине дня, зная, что совещания уже кончились. Сказал секретарше:
— Соедините, пожалуйста, с Валентином Николаевичем. — И, предупреждая дежурные вопросы, добавил: — Скажите, звонит Аркадий Михайлович Подлевский, от господина Винтропа.
Суховей взял трубку сразу, обрадовался, словно старому знакомому:
— Рад, очень рад слышать вас, Аркадий Михайлович. Какими судьбами?
Голос у него был ясный, дикция четкая, тон спокойно-приветливый. Подлевский уже мысленно рисовал облик матерого чиновника, наторевшего в бюрократических изворотах, в совершенстве освоившего три главные, по мнению Аркадия, сущности современного столоначальника: лояльность, умение пилить бабло и кидать понты. «Заслуженная, видать, сволочь! — вынес он одобрительный вердикт. — Из должности, наверное, торчит как свеча из канделябра».
— Есть, Валентин Николаевич, небольшое дельце личного характера, сугубо личного, — сразу задал направление Подлевский. — Хотелось бы пересечься, посоветоваться.
После полусекундной заминки из Красногорска раздалось:
— Проблемы, где встретиться, не существует, удобнее всего здесь, у меня. А вот со временем... Если бы вы позвонили вчера, мы бы с вами беседовали уже сейчас. Но два ближайших дня мне предстоит колесить по области, затем выходные, а понедельник, как известно, день тяжелый. Первый зазор — вторник, шестнадцать часов. Если вас устроит, милости прошу. Подходит? Замечательно! Значит, до встречи. Я переключу вас на секретаря, и Света детально разъяснит, как найти мой офис в здешних административных джунглях, закажет пропуск. Желаю удачи и жду.
Суховей намеренно использовал надуманный предлог, чтобы оттянуть знакомство со свалившимся на его голову Подлевским почти на неделю. Открытая, не принятая среди админов ссылка на рекомендацию иностранщика выдавала несолидность клиента. Проходной, в игру не посвящен, и Винтропу его личные проблемы неинтересны. Подлевский понадобился американцу для другой цели: прощупать его, Суховея. Подумал: «Возможно, хотят подкинуть какой-то мелкосклочный компромат, чтобы зацепить покрепче».
Неспроста неделю назад, как всегда с нового номера, — видимо, у него набор безымянных симок, — звонил Винтроп, по договоренности представившись Игорем Игоревичем Блохиным, и по-дружески сообщил, что открылась неплохая вакансия в аппарате полномочного представителя президента по Центральному округу; не заинтересует ли она Суховея? Быстро, однако, двигают! Всего-то год отбарабанил в Красногорске, — правда, старательно, без ошибок, скромно, не строптиво, в придворных интригах не участвовал, — и сразу в Москву! Должность наверняка не выше нынешней — но зато какой ранг! О Подлевском Боб даже не заикнулся, хотя заманчивое предложение и визит этого деятеля, несомненно, связаны. Значит, речь и впрямь о проверке перед новым назначением.
Эти соображения молнией сверкнули в мозгу Суховея за ту полусекундную паузу, после которой он отказался от безволокитной, немедленной встречи. Предстояло кое-что обдумать, подобрать верный тон общения с «посылочкой» от Винтропа. Похоже, речь не о служебных делах, даже не о гешефте. Видимо, Подлевский случайно подвернулся Бобу с личной просьбой и Винтроп решил скинуть ее на Суховея, убив двух зайцев. Но какого рода проблема? Тут возможны каверзы.
В конце дня позвонил Глаше — им так полюбилось это ласковое имя, ставшее как бы оберегом в трудные месяцы литовской инсценировки, что они решили оставить его для межсобоя. Тем более по телефону иногда объявлялся Сурнин, застрявший в Вильнюсе. Недавно сообщил, что «шпроты» поставили памятник небезызвестному Павленскому, сидящему в парижской тюрьме. Валентин предложил:
— Я подъеду к «Пятерочке», жди у входа. Слегка затоваримся продуктами и прогуляемся к дому. Ливняки кончились, погода славная.
Глаша, разумеется, признала этот вариант разумным, похвалив Валентина за внимание к домашним заботам. Но на самом деле звонок был шифрованным, он означал, что возникли проблемы, требующие срочного обсуждения.
Нелегальная работа в родной стране требовала соблюдать не меньше предосторожностей, чем за рубежом. В домашнем обиходе они говорили обо всем — о служебных, бытовых, иногда политических вопросах, — кроме упоминаний о том, что так или иначе, пусть косвенно, касалось Винтропа. Такие темы обсуждали исключительно на прогулках, считая предостережения Сноудена отнюдь не пустым делом.
— И чего именно ты опасаешься? — спросила Глаша, выслушав размышления Валентина о предстоящем визите некоего Подлевского. — То, что это подсадная утка, сомнению не подлежит. Ты прав, втянут в какое-нибудь мелкоскандалье, всерьез-то портить твое реноме им невыгодно. А предложение карьерного роста не только для стимула, а чтоб знал: ничего даром не дается.
— Все так. Но, думаю, после моей встречи с Подлевским тебе придется совершить поход к маникюрше. Наверняка потребуются кое-какие уточнения. Не люблю я внезапных неучтенцев. Если он именем Винтропа козыряет, сама понимаешь, — инициативный обалдуй, либеральный мусор, если не гонус. Боб простых, элементарных задачек не подбрасывает — обязательно с ловушкой. У него даже поговорка на этот счет есть: дьявол тем и силен, что в него никто не верит. В общем, записывайся к маникюрше на следующую среду, узнай ее рабочий график.
— Мнение по поводу визитера — это твое вероятностное суждение или категорический вывод? — робко спросила Глаша.
— Пока неизвестна суть вопроса, наверняка не скажу. Но есть же опыт, анализ, есть понимание логики Винтропа. Вдруг Боб какого-нибудь умопомрачительного гомика подсунет? С него станет! Наконец, не отправляй в утиль интуицию. Глашка! Чую, для нас с тобой будет трудное дело, нестандартное. Ты учти наш статус. Формально работать мы должны на Винтропа, то есть против совести. Лукавить нельзя — сразу вычислят. Позиция древняя: что бы ни случилось, не сторож я брату своему. Ну прям израильские двоеверы. А у нас с тобой какой девиз?
Глаша обняла его за талию, шепнула на ухо:
— Как у Атоса из «Трех мушкетеров»: я ничего не желаю для себя, но многое хотел бы для Франции.
— Кстати, я тебе рассказывал, как Боб меня на должность благословлял? Нет? Странно, мне кажется, я тебе все повторяю, а тут из головы вылетело. Он говорит: в Америке законы жизни берут из природы. Вот известно, что стадо бизонов бежит со скоростью самого медленного быка. И если его валят хищники, идет отсев слабых и скорость стада соответственно возрастает.
— Крепкий намек.
— Вот и нам не до ошибок. Слабых отсеивают сразу.
Подлевский появился в приемной ровно в шестнадцать часов и пробыл в ожидальне не больше минуты: Света пригласила его в кабинет. Суховей поднялся из-за стола, шагнул навстречу и после крепких взаимных рукопожатий они сели лицом к лицу за приставным столиком. Хозяин кабинета учтиво предложил:
— Аркадий Михайлович, для знакомства хотел бы предложить по рюмочке коньяка. Вы, насколько я понимаю, не за рулем.
Аркадий был польщен свойским началом, снова предположив, что его визит не обошелся без уведомительного звонка Винтропа. Этот Суховей, не поражавший брутальной внешностью, видимо, грамотно ведает вверенными чиновникам источниками обогащения, не опасается ни встречи в служебном кабинете, ни нарушений этикета. Значит, сюрпризов не ждет, Винтроп — гарантия надежная.
Впрочем, к удивлению Подлевского, коньяк озадачил: не «Хеннесси», не «Мартель», а лишь армянский. Но Суховей, словно угадав ход мыслей респектабельного, лощеного гостя без недочетов ни во внешности, ни в одежде, в туфлях от Кристиана Лабутена с фирменной ало-красной подошвой, наполняя до трети бокалы, словоохотливо объяснил:
— В нашей сатрапии свои порядки. Во-первых, не принято колоть глаз чрезмерностями, а во-вторых, армянский считается более патриотичным. — Пошутил: — А вообще-то ждать рая на земле не заповедано.
Атмосфера сразу сложилась непринужденная, и Аркадий счел нужным подчеркнуть доверительность своих отношений с Винтропом, памятуя, что без паблисити не будет просперити.
— Я благодарен Бобу, что он вывел меня на вас. Боб человек очень отзывчивый, мы знакомы много лет, общаемся регулярно, хотя не при каждом его визите. — Улыбнулся и дал понять, что хотя бы частично в курсе деловых забот Боба. — Он прилетает в Москву слишком часто.
Суховей понимающе кивнул. Чокнувшись «за встречу», они для приличия пригубили, и хозяин кабинета перешел к содержательной части:
— Аркадий Михайлович, итак, с максимальным вниманием слушаю вас. Все сегодняшние дела раскиданы, во времени я не ограничен.
Подлевский вновь отметил благожелательный тон Суховея, но все же решил не приступать к делу с ходу, а слегка размяться на общих темах, чтобы органично ввинтить этого чиновника в свой вопрос. Сказал:
— Признаться, никогда не бывал в Красногорске, а областная столица недурна. Понаехи в глаза не бросаются, как в иных местах. — он не использовал слова «мигранты» и «гастарбайтеры», на жаргоне светской тусовки, столичного полусвета их называли «понаехи». — Наверное, из Москвы у вас нередко хантят сотрудников.
— Да, Аркадий Михайлович, переманивают, и нередко, тут вы в десятку попали. — Суховей легко перешел на канцелярит. — Некоторых хэдхантеров в лицо знаем. Мелькнул — жди утечки персонала. За планктоном охотятся усердно, особенно за теми, кто связан с программным обеспечением.
— Я этих хэдхантеров считаю разложенцами. Стимулируют амбиции, а на деле... Мне, Валентин Николаевич, именно с такой публикой пришлось столкнуться. — Он в очередной раз поправил галстук.
— В какой сфере?
— Чтобы прояснить ситуацию, необходимо коснуться случайностей, увы, нередко дирижирующих нашей жизнью, — красиво перешел к делу Подлевский.
Суховей понял, положил перед собой лист бумаги, гарантируя максимум внимания.
— Да, да, Валентин Николаевич, все началось с дурацких домашних затруднений. Я семьей не обременен, живу по-холостяцки, и на майские праздники дернула меня нечистая заняться приборкой антресолей, где пылятся отцовские бумаги. И что же я обнаружил среди них? Оказывается, папаша мой, царство ему небесное, в середине девяностых затеял покупку трехкомнатной квартиры в центре и отдал задаток, на что имеется расписка некоего Сергея Михайловича Богодухова. Но глубока житейская колея! Богодухов скоропостижно помер, батюшка мой слег и вскоре тоже скончался. А четверть века спустя я натыкаюсь на расписку, после чего узнаю, что в квартире бывшего владельца безбедно проживают его наследники, простите, фуфлыжничают за чужой счет по принципу «Кому должен, всем пр-рощаю».
Суховей практически не отрывал взгляда от лица рассказчика, но периодически делал пометки на бумаге.
— Представляете мое положение? Обескураж! От этих житейских попечений моль в голове завелась! — пафосно воскликнул Аркадий.
— Еще как представляю, дорогой мой! — откликнулся Валентин. — Пожалуй, спустя четверть века и в суд не обратишься.
— Да в том-то и дело! Вдобавок расписка фиксирует лишь наличие долга, без адреса квартиры. Кроме того, стоимость жилья с тех пор заметно возросла, и я веду речь только об одной комнате.
— А миром не вытанцовывается?
— Куда там! Извините за жаргон, меня на катере да к такой-то матери! Попытался привлечь адвокатов, но попались как раз те скобленые рыла, с кого мы разговор начинали. Опущенцы! И плюнуть нельзя: вход — по рублю, а выход-то — за червонец! До одури замучили, но вывод один: стерильно, по закону проблема не решается, знаете, мол, как у нас дела стряпаются. Еле-еле от этих супостатов отбился.
— Да-а, — сочувственно покачал головой Суховей. — Вопрос не мой, однако я дал слово вам помочь. Подскажите, Аркадий Михайлович, — чем? Чего вы от меня ждете? — В своей шутливой манере, но явно с подтекстом сказал: — Что под жернов насыпят, то он и перемелет. Впрочем, в современном мире эта старая формула звучит иначе: каким софтом железо загрузят, в таком ключе программа и результат выдаст. — И тоже подчеркнул свою близость к Винтропу: — Как говорит наш с вами общий друг, кстати великий реалист, у него на родине любят держаться такого принципа: надеяться на лучшее, готовиться к худшему и соглашаться на среднее. Кстати, я его для себя как бы окрестил словом «SOS».
— SOS? Сигналом тревоги? — удивился Подлевский.
— Не-ет, Аркадий Михалыч. В нашей среде это слово расшифровывают иначе, по смыслу букв. В переводе на русский это значит «медленнее, старше, умнее».
— Надо взять на заметку, — улыбнулся Подлевский, а сам напряженно думал, как вести себя с этим опытным человеком.
Именно вопрос, что просить у Суховея, был для него самым трудным, уже несколько недель он ломал над ним голову. Сопоставляя новую политическую ситуацию в стране с той мерой вседозволенности, какая допустима теперь лично для него, Аркадий все более утверждался во мнении, что формат наступающей эпохи, неконцептуальной, чреватой идейным тупиком, позволяет действовать дерзко. Как в девяностые, вновь замелькал впереди призрак солженицынского «разграба», засветила заветная жизнь во весь размах рук. Богодуховы перестали для него быть Верой и Катериной Сергевной, превратившись в безымянных наследников умершего владельца квартиры, должника его отца. Он уже не задумывался о происхождении долга. какое это имеет значение? Долг был! И пусть теперь он тянет только на стоимость одной комнаты, это неважно. Но комната по праву должна принадлежать ему, за нее уплачено четверть века назад. А дальнейшее — дело техники. Не зря говорят, что стыд уходит вместе со снимаемой одеждой, а совесть испаряется с вожделениями стяжательства. В конце концов, незыблемый принцип Парето гласит: богатство всегда находится в руках немногих.
Подлевский уже давно раздумывал над атакующим вариантом — никаких адвокатов он, разумеется, не привлекал, все выдумка. На самом деле он ставил на Горбоноса, за хорошие деньги тот займется этим делом, взыграет ретивое, в девяностые перебивался подобным. «Вообще-то в этом вопросе мне никакой Суховей не нужен!» — думал Аркадий поначалу. Но, анализируя ситуацию глубже, понял, что без прикрытия не обойтись. Богодуховы могут кинуться в полицию. И хотя с полицейской низовкой Подлевскому игра по карману, барсетка пухлая, жалобы лягут под сукно, однако та публика, на юбилее Катерины, полезет и повыше. Тут-то и поможет Суховей. Но тогда придется выложить ему все начистоту.
А следует ли быть полностью откровенным? Отступать поздно, надо идти до конца, но последний шаг всегда самый трудный. У Аркадия даже начали покалывать кончики пальцев. Он колебался, а сомневансы обычно склоняли его к осторожности. Раскрыться при первой встрече? Да, залогом служит Боб! Но Винтропу он изложил совсем другую версию, и в случае нестыковки... Нет, надо повременить, сойтись с Суховеем ближе. Понять, кто он — расФасовщик или расПасовщик? Исполнитель конкретных дел или мастер широких договоренностей? Но так или иначе, к нему с обнимашками не полезешь.
— Чего я от вас жду? — задумчиво повторил вопрос Аркадий. — Ну, прежде всего доброго совета. Боб рекомендовал вас как весьма опытного чиновника, знающего все ходы-выходы. Кроме того, речь может идти о содействии в решении какой-то части моих устроительных задач, этой утомительной мозгомойки, миль пардон. — Не выдержал и как бы мимоходом заметил: — Ну, скажем, взаимодействие с полицейскими чинами, обожающими совать нос в имущественные сделки.
— Аркадий Михайлович, я начинаю проникаться и даже — не удивляйтесь — увлекаться вашей проблемой. — Суховей по-прежнему был полон доброжелательности. — Но пока мне трудно прикинуть свою роль в ее решении. Знаете, чиновное племя особый подвид людей, мы не вправе совершать действия до уяснения сути дела. Нельзя! Как нельзя пить пиво после водки. Может быть, мы с вами возьмем тайм-аут на обдумывание? Как говорится, расчехлим мозги. Но затягивать повторную встречу не будем. как только вы созреете, сразу найду время, не такой уж я раб календаря, сиесту всегда устроим. Кстати, о полиции. Это ближе к моим профинтересам.
Подлевский внутренне вспыхнул и был готов продолжить разговор на важнейшую для него тему. Однако Суховей явно настроился на завершение встречи, и Аркадию оставалось лишь согласиться. Впрочем, по пути в Москву он пришел к выводу, что Суховей, пожалуй, человек действительно весьма опытный. Он почувствовал в рассказе Аркадия криминальный привкус и не хотел говорить начистоту при первой встрече. Вдруг Подлевского осенило: он не хотел идти на глубину в служебном кабинете! Интересно, где он назначит второй раунд? Если не в кабинете, значит, все о’кей!
Он снова с теплотой подумал о Винтропе.
Выехав на своей «весте» из Красногорска в субботу утром, к полудню Валентин и Глаша свернули с трассы и припарковались у спрятанной в лесной чащобе гостиницы — четырехэтажной, вполне современной. Номер заказали заранее, а потому, в спешке побросав стрень-брень — скудные дорожные пожитки — и наскоро перекусив в местном ресторанчике, снова заторопились к машине и минут через десять были у Ясной поляны.
В музей, в домашние покои заходить не стали, бывали здесь так много раз, что наизусть знали проповеди местных экскурсоводов. Купив цветы, двинулись по главной аллее в глубину усадьбы, к могиле Льва Николаевича, долго молча стояли около пышного, словно огромная клумба, захоронения.
Для них это был давний ритуал. В переломные дни жизни, в минуты колебаний они ехали именно в Ясную Поляну, много часов гуляли по аллеям толстовского парка, обсуждая жгучие в тот период головоломки. Наверное, у каждого есть на земле особое место притяжения, реальных сновидений, где ему лучше думается, где ум просветляется, где отлетают сиюминутные частности и на передний план выходят глубины бытия. Для Суховеев, — а Глаша уже двенадцать лет носила эту фамилию, еще со времен минской разведшколы, — таким местом притяжения стала Ясная поляна. Дух великого провидца, витавший над усадьбой, над вековой лесной чащей, как бы осенял их, рождая смелые думы, позволяя находить ответы на самые тонкие, деликатные вопросы. Но что еще важнее — угадывать не распознанные при обычном анализе опасности, а они, по образному мнению Валентина, могут таиться в самой обычной с виду придорожной пыли, которая, по народному присловью, небо не коптит.
В Ясной Поляне у них, словно в стране чудес, проявлялись особые способности по части смысловых исканий. Валентин в шутку называл себя тренированным охотничьим псом, чей незаурядный нюх помогал устойчиво идти по следу зверя. А Глаша отличалась верхним чутьем, которое среди охотничьей братии ценится выше низового нюха, позволяя издали «видеть» дичь. «Да-а, желтизна в хрустале породистее синевы», — говорил по этому поводу Валентин, искренне признавая Глашино превосходство в глубокомыслии.
Для него главным смыслом жизни были бесконечные и, увы, абстрактные поиски эльдорадо, где нужды государства можно было бы согласовать с народной психологией.
Она неуклонно держалась основного посыла философии — соизмеряй и сравнивай.
Эти различия позволяли им идеально дополнять друг друга. Особенно в Ясной поляне, которая давала полный простор самовыражению. Святое русское место — космодром мысли, творчества и великого самостояния — открывало их души как штопором, говоря словами яснополянского гения мафусаиловых сроков жизни.
— Валя, сперва я тебя хочу выслушать, — сказала Глаша, когда улеглись привычные восторги от очередного общения с яснополянской духовной аурой. — Клара слишком быстро вызвала меня на очередной сеанс маникюрной магии: какие-то жутко модные наклейки появились. Я отказалась: и без того меняю ногти как перчатки. Но флакон с высохшим лаком она вернула. Что там?
— Видимо, этот Подлевский, считая, что у него непроницаемое прошлое, задумал серьезную аферу. Бывший владелец квартиры Богодухов не умер, а выкинулся из окна. За какой-то долг его поставили на бабки — мы с тобой девяностые изучали — и требовали расплатиться квартирой. Происхождение долга неизвестно. Дело закрыли за отсутствием улик, хотя были указания на попытки насильственного захвата квартиры. Подлевский, не подозревая о моих возможностях поднять старые дела, по сути, открытым текстом признал, что кашу четвертьвековой давности заварил его отец. Формально этот «достойный» в кавычках отпрыск качает гражданские права, но я убежден, что сын вознамерился пойти отцовским путем. Нехорошая квартира! Булгаков.
— И на кого наезд?
— Там живут вдова и незамужняя дочь в возрасте, как говорится, «божья невеста», умученная жизнью. Он угрозами намерен требовать у них одну комнату, чтобы зацепиться и потом вышвырнуть бедолаг на улицу. Дятлы с ТВ каждый вечер бубнят о таких историях.
— Отцовский промысел! — с негодованием фыркнула Глаша. — Мы обязаны сорвать аферу, предупредить.
Валентин нахмурился:
— Ты с ума сошла! Это совсем не в кассу. Войти в дело не на стороне Подлевского — на сто процентов раскрыться. Пойми, Глашка, я не знаком с богодуховским кругом, малейшее движение — и меня засекут. Винтропу плевать на Подлевского, ему надо, чтобы в любой ситуации я его прикрыл. Говорил же тебе: он обязательно расставит ловушки.
— Проклятье! Опять клинч между совестью и служебными надобностями! — Глаша остановилась, долго разглядывала гигантские ели, словно ища ответ среди их разлапистых крыльев.
Валентин попытался разрядить обстановку:
— У тебя такой вид, будто ты мучительно вспоминаешь, выключила утюг перед отъездом из дома или позабыла.
Но Глаша не желала отвлекаться от темы:
— Картина ясна: некий Богодухов принял мученическую смерть, чтобы сохранить родовое гнездо от посягательств Подлевского. И вот второй наезд. От кого? От сына все того же Подлевского! Кто он такой?
— Через Клару я этот вопрос задал. Ничего интересного, фрилансер, трется в деловых и биржевых кругах, подрабатывает решалой. Из протечек — грехи по неуплате налогов. Проходная фигура. Для Винтропа — служебная. Грохочет, как пустое ведро, брошенное на лестницу.
— И отдать приличных людей на растерзание этому аллигатору? Обречь на нецензурные мытарства? — Глаша не могла успокоиться. — Неужели нельзя сделать косвенное предупреждение?
— Нельзя, Глаша, нельзя. Мы с тобой отрабатываем важную задачу, очень близко подошли к Винтропу. Чувствую, у него на меня виды. Побочные маневры у нас даже не будут рассматривать, я не вправе ставить такие вопросы, мы с тобой люди опогоненные. Моя задача — так отлайкать Подлевского, чтобы он пришел в восторг.
— Ты вторично говоришь о прикрытии Подлевского.
— Похоже, этот наглец склоняется к авантюрному варианту. Но Богодуховы не в вакууме, у них друзья, близкие. Они будут защищаться. Вот Подлевскому и нужна моя помощь — выйти сухим из воды. Хочет ремнем безопасности пристегнуться, как в самолете. А главное — ни в коем случае не публичить дело, не вляпаться в информационный навоз.
— Валя, ты же понимаешь, что лично он в афере участвовать не будет. Формально комнату запишут не на него.
— В этом сложность. Мне надо узнавать о развитии ситуации раньше самого Подлевского, чтобы сразу включиться в игру. На его стороне. Но как туда влезть?
— Я тебя слишком хорошо знаю. Ты на сто процентов уверен, что замысел Подлевского лопнет.
— Не будем об этом. чего загадывать? Па-асмотрим! Важнее вопрос, который меня тревожит. Видеокамеру установить, что ли? Шутка! Он сам обозначил, что ему понадобится полицейское прикрытие. Но, пожалуй, его прикрытие, — сделал акцент на слове «его», словно на компьютерную клавишу Caps Lock нажал, — мне нужнее, чем ему.
Суховей мысленно продолжал обдумывать узловой вопрос операции, и постепенно в голове сложился вывод, которым можно было поделиться с Глашей. Разъяснил:
— В общем, так. В любом варианте мне надо выходить на полицейское начальство районного звена. Самому, без нашей помощи. Все должно быть предельно чисто.
Но Глашу продолжало волновать чужое, дальнее горе, и она зашла на проблему с другого бока:
— Как ты думаешь, почему Подлевский, если ты его верно раскусил, так осмелел именно сейчас? Интуиция подсказывает, что на эту квартиру он запал давно. А к решительным действиям приступает только сейчас. С чего бы это?
— Вот оно, твое верховое чутье! Я пашу носом на земле, меня не интересует ничего, кроме конкретной проблемы. И кажется, удалось нащупать след — через подполковника полиции. А ты вопрос ставишь по-крупному. Действительно, почему Подлевский именно сейчас и почему так явно, безбоязненно готовится к повторению криминального отцовского маневра? Я над этим вопросом не задумывался, а ответ на него — ключ не только к делу Богодуховых, но и к отношениям с Винтропом, которые могут увести нас с тобой далеко, в том числе территориально.
— Об этом и не думай! — резко повернулась Глаша. — На следующий год буду рожать. Исходите из этой данности. Возраст у предела.
Валентин нежно обнял ее, но Глаша отстранилась:
— Нахал! Здесь же люди ходят, а мы не малолетки.
Впереди как раз обозначился переполненный тестостероном пунцоворожий качок, истый бодипозитив, горой нависавший над идущей рядом худенькой девушкой модельной внешности.
— «Нахал!» не значит «Прекратите!», — отшутился Валентин. — Дорогая, ты же знаешь, я об этом тоже мечтаю. Кстати, с Кириллычем была договоренность: таллинская инсценировка, которую заранее ограничили по срокам, считалась в некоем смысле последней. После нее нас с тобой ждала пауза для решения семейных проблем. — Успокоил еще крепче: — Да ведь так и получается: если с Подлевским разберусь удачно, Винтроп переведет меня в Москву. А на новом месте минимум года три пахать. Вот тебе и пауза. Что завещал архимандрит Иоанн Крестьянкин? У Бога все бывает вовремя для тех, кто умеет ждать.
Глаша глубоко вздохнула:
— Вот жизнь! За решение своих проблем приходится расплачиваться чужой трагедией. Так под луной устроено.
— Почему под луной, а не под солнцем?
— Да потому что это невидимые миру слезы. Несчастная у нас, Валь, профессия: знаем то, о чем лучше не знать, видим оборотную сторону жизни. Я от этого страдаю. Сегодня слабому лучше не жить.
Зная глубокие Глашкины миноры, Валентин вернул ее к прежнему вопросу: почему Подлевский именно сейчас так осмелел? Она ответила не сразу. Предложила:
— Давай-ка снова к могиле Льва Николаевича сходим. Около него думается масштабно, промыслительно. Священноначалием не обласканный, он думы даровитых людей России на новые высоты поднимает, такие дали прозрения открывает, что в бинокли не увидишь, — только сердцем, интуицией можно узреть. Помнишь ладью из его «Записок»? Гребцы-молодцы во всю силу на весла налегают, только сидят-то спиной по движению, куда ладья рвется, не видят. Курс подсказывает тот, кто на корме, кто в лица гребцов вглядывается и вперед глядит. А он увлекся, сам за весла сел, ладья еще быстрее полетела, в глазах гребцов горох и звездочки. Но некому теперь понять, что летит ладья на рифы, на камни.
— Гений! — негромко сказал Суховей. — Нынешний день предвидел.
— Гений-то гений. Но не все, что Толстым писано, — читано, лень в чащобу его языка лезть. А если читано, то не понято. Или понято совсем не так. Кстати, помнишь цитацию: «Внутри горы бездействует кумир»? Это Мандельштам, конечно, не про Толстого, о Ленине в Мавзолее. Но здесь, у могилы Льва Николаевича с его бессмертными провидениями будущего, эти строки тоже на ум приходят. По-крупному он сегодня бездействует. Чтут, но не читают, не понимают. И именно те, для кого его творчество — кладезь государственной мудрости. Какова ладья, а! Толстой-то увековечен, а творчество его изувечено, заслонено испражнениями креаклов, интернетным сором, литературным холопством, гламурной хренью. Цирк лилипутов, мечтающих о новой, европейской России — с вывозом сырья, но без культурного величия.
Они снова пришли к могиле великого яснополянца, долго стояли там в окружении могучего русского леса, вкушая духмяный запах трав, словно заряжаясь мысленной энергией, сгущенной в этом особом месте, где не угасает величья русского заря. Наконец заговорила Глаша:
— Вот я чистопородная татарка. Ты же знаешь, иногда в мечети хожу, халяльным побаловаться непрочь, нацию свою уважаю. Но для меня, как для тебя, жизнь — это Россия, только Россией оба живем, это и для любви нашей основа прочная, все вкупе и влюбе, строй души единый, чувства никогда не никнут. Такие великие символы, как Лев Толстой, Ясная Поляна, — я их воспринимаю своими, родными.
Но неожиданно, как часто с ней бывало, сменила тему, вернувшись к предыдущему разговору:
— Вот ты, Валя, задал вопрос: с чего это Подлевский вдруг осмелел, почему именно сейчас решил повторить криминальный маневр папаши, который, по всему, в девяностые крупно ураганил, крысятничал, скорее всего, мошенничеством? Подлевского твоего я в глаза не видела, личного впечатления не имею, хотя полагаю его подлецом расподлейшим. Вообще, этот тип с орнаментами новояза неинтересен, как говорится, не пёсий благотворитель с сорока парами штанов. Вот его жертвы — их жалко. Но их я тоже не знаю, это дело мимо меня плывет, а нас, как ты помнишь, учили в чужие передряги нос не совать. Здесь я только связная. Сперва, правда, погорячилась — как людям помочь? — сунулась было в реальный поток жизни, а теперь мысли на другой круг ушли. Лев Николаевич помогает над фактами возвыситься, весь небосклон взглядом окинуть, всю историческую ситуацию умом охватить. Ведь и верно, отчего Подлевский так обнаглел, что торопится повторить аферу девяностых? И тут как раз важно, что я ни его не знаю, ни бедолаг из нехорошей квартиры. Поэтому мысли не о нем, не о них, а о днях наших бренных. В голове крутится: почему сейчас? почему почти буквальный повтор? почему так схожи нюансы? Как писал Леонардо, «постигни причину!».
Глашей опять овладело раздумье.
— Нет, эта нехорошая квартира меня не щекочет, не в ней дело. Да ведь и Булгаков не жилищным вопросом увлекался, он выше глядел, до самых Истоков добрался. Вот это замах! И я сейчас дальше смотрю: замысел Подлевского — словно символ! А символ чего? Эта неразгаданность меня тревожит. Помнишь, во время пира мифологического на стене зажглись огненные слова: «Мене, текел, фарес»? Никто предостережению не внял, и все погибли. Подлевский с нехорошей квартирой — тоже «Мене, текел, фарес». Как разгадать предупреждение?
— Твоя сила в логике, начинай по пунктам, — подбодрил Валентин.
— Не-ет, Валя, сегодня так не пойдет, — грустно улыбнулась Глаша. — Хотя для разгону начать можно по пунктам. Первый: почему именно сейчас? Не до марта, не до выборов, а после? Кажется, какое отношение его афера имеет к выборам? Формально вроде никакого.
— Что означает «вроде»?
— А тут, дорогой мой, собака и зарыта. Что после выборов изменилось?
Валентин наморщил лоб, пожал плечами:
— Выборы прошли по плану. Ничего не изменилось.
— Стоп! В том-то и дело, что ничего. Ни-че-го! Все ждали перемен, чуть ли не кадровой революции, но основные фигуры на местах. Стабильность! Или застой, фальшивый ренессанс? А Подлевский парень мышлявый, крепко врос в прежнюю систему, он верняк перемен страшился. Но выяснилось, все кореша — при деле, живут в свою задницу! Даже легкой контузии не получил. Вот он себя увереннее и почувствовал, на Винтропа основательнее облокотился. Все можно!
— Та-ак. Что дальше?
— А дальше, Валя, логический тупик. Потому что мысли утекают от Подлевского. Говорю же, не в нем дело. Он заставляет о другом думать. — Вдруг зажглась, перешла на скороговорку: — Смотри, перед выборами Путин на голубом глазу твердил: теперь главное — внутренние проблемы. Но пресс-секретарем оставил международника! Сделай его послом, замминистра, кем угодно, ясно же, Песков во внутренних проблемах — нуль! Президент меняет главный вектор, значит, голос, который доносит народу, миру его мнение, должен стать другим, нужен человек, владеющий новой тематикой. Если этого не случилось, одно из двух: либо обман — крутого приоритета внутренних дел не будет, либо президент не свободен, подмят окружением. Ну, мне Песков, как говорится, на зуб попался, таких примеров невпроворот.
После паузы продолжила:
— И тут мысля моя берет новый разгон. Говоришь, ничего не изменилось. Но так не бывает, ничего не меняться не может. Жизнь всегда движется вперед — должна двигаться! И если сие не происходит, ее неизбежно сносит назад. А куда назад? Здесь-то Подлевский очень в подмогу. В девяностые! Об этом уж в очередях поговаривают, я же по магазинам хожу, с людьми общаюсь, в транспорте. Даже многописец Быков завыл, что атмосфера жизни тревожнее, чем в 90-х. Да что разговоры! Много сору накопилось в государстве, уборка нужна. Народ чувствует, что пришло время дать оценку временам Ельцина, а вместо этого ельцинский клан, Семья публично набирают силу. В Кремле советниками обосновались, в Москве еще один шикарный Ельцин-центр громоздят. Девяностыми отовсюду веет, в воздусях запахи витают. Тень Ельцина, словно солнечное затмение, на страну наползает. Опять все можно! Днем с огнем не сыщешь высокого чиновника, у которого дети без западного гражданства. В Кремле австрийские подданные сидят. Сыновья высших сановников за границей вступают друг с другом в однополые браки — мадам, бриться! Россию эти люди ненавидят глухо, исподтишка, она им мешает. Живут по принципу: после нас хоть опять Ельцин. В соцсетях по этому поводу хайп чудовищный — и никакого эффекта! В ответ сплошная развлекуха, бренчат хиточки с хохоточками и присвистом, отовсюду фэйкомёты торчат, балагурное юродство, в одичании тягаются, кунштюки ловкие предъявляют. В девяностые, при ваучеризаторе Чубайсе, американцы распоясались в России, как при Бироне. А сегодня Винтропы опять в чести. Наглый вызов национальному чувству, нравственной дряблости добиваются. Зато соловьи нового времени на семь колен щелкают, воспевая обещанный прорыв. А ведь ныне каждый понимает: если должно стать лучше, значит, должно быть по-иному.
Валентин хорошо знал Глашу, чувствовал, что этот набор — нечто вроде гарнира, ее мысль прорывается выше. Сейчас она зарядит главный калибр.
— Но ты же, Валька, не можешь не понимать, что на западе этот новый — после духоподъемного Крыма и всенародного ликования — стиль прекрасно просчитывают. В девяностые американцы дали маху, не дожали Россию, — сама догниет. А сейчас-то шанс упустить не хотят. Винтропы, агенты влияния на разных этажах государственного управления, в духовной индустрии захватывают власть, люборусов с вольтерьянцами стравливают, ждут, когда снова наступят в стране темные годы идейных блужданий. Мне порой страшное мыслепреступление темяшется: а мы-то с тобой на кого работаем? Мы, в чистом виде слуги народа! Слишком размашисты стали шатания между твердой властью и неограниченной свободой. Ладья Льва Николаевича, по недосмотру плывущая на рифы, из головы нейдет. А еще, еще... — вдруг встрепенулась. — Помнишь, в Россию Обама приезжал? Как его тогдашний премьер Путин встретил? Это же потрясающий спектакль был, Обама аж очумел. Владимир Владимирович принял его на веранде, с русским самоваром, который раздувал сапогом — сапогом! — мужик в красной косоворотке. Тысячей слов не выскажешь, что Путин в истинно русском, царском стиле предъявил американцу. Но способен ли на подобный сильный политический шаг полированный западными манерами президент? В 2013-м он валдайскую речь о России сказал, а в 2018-м заговорил о «дремучем охранительстве». Дураков же нет, эту «дремучесть» ему неспроста подсунули. И сравни послекрымские настроения народа с нынешними: был взлет духа, теперь — депрессуха. Историческая мигрень одолела.
— Тут ты перебираешь, — остановил Валентин. — Если встать на твою точку зрения, народ опасается предательства государственной элиты, которая припарковала за рубежом свои богатства, в любой момент может туда рвануть — на чемоданах сидит! — мечтает сдаться на любых условиях, а в качестве заслуг перед западом системно тормозит развитие русской экономики. Предположим — так! Но ты же не можешь отрицать, что есть человек на вершине государства, которого никогда не примут на западе.
— Во-первых, никогда не говори «никогда». Во-вторых, мы же с тобой не тертые ашкеназские спорщики, с полуслова друг друга понимаем. Загадка здесь действительно неразрешимая, для меня, во всяком случае. Но вопрос о главной плите нации — для иного разговора, других размышлений. А мне-то после твоих слов главное приоткрылось. Квартира, гнусный Подлевский, нагло, с жаром, пылком на нее претендующий, — это образы России и Запада. Снова, как в девяностые, пошла атака на Россию, а курс — разрушение государства. Опять изнутри! Why not? Вот, Валя, что меня растревожило в твоем Подлевском, вот смысл нового «Мени, текел, фарес». Как писал Ильин, заразить нас хотят «духовной чумой», чтобы не допустить русского успеха, чтобы погрязли мы в серенькой суете выживания. Вот в чем опасность новых времен. Перекрестись, чтоб сбереглась Россия. А я всемогущего Аллаха молить буду, чтоб политику не разменяли на аппаратные интриги.
Валентин с чувством перекрестился. Повернулся к усыпальнице Толстого:
— Спасибо Льву Николаевичу! Нет, не напрасно мы, Глашка, мчимся сюда, когда на душе смутно. За советом к Толстому! Здесь и вправду мысли возвышаются, философические битвы в мозгах гремят. А еще спасибо ему, что здесь мы позволяем себе быть предельно откровенными. При нашей-то судьбе, нашей профессии это редкие минуты настоящего счастья, раскрепощения чувств.
— И для меня счастье. Знаешь, во Франции есть гаражное виноделие, в очень малых объемах. На лозе оставляют по шесть гроздьев, зато в них весь вкус, вино редкостное, рафинированное, немногим удается его пригубить. Вот и у нас с тобой счастье как бы рафинированное, в Ясной поляне я это особо чувствую. И особо ценю. Мы ведь, Валюша, угодили в сэндвич-поколение: дети пойдут, их предстоит на ноги ставить, а к тому времени уход понадобится нашим старшим. Это и есть сэндвич-поколение — так его окрестили — среднее, стержневое, зажатое между детьми и престарелыми родителями. Двойная тяга на нас ляжет в будущем.
И вдруг рывком, как обычно, перескочила на другую тему:
— Расслабились мы на все сто. А пора как казакам: добро в охапку — и на «линию». Давай-ка о деле покумекаем. Как ты Подлевского прикрывать намерен?
Но Валентин разомчался, вдруг не осадишь. Зло ответил:
— Абракадабра! Нет чтоб своих поддержать, так вынужден врагам акафисты петь.
Но у Глаши настроение улучшилось, теперь она вела мелодию:
— А я тебе вот что, Валя, скажу. Нам надо свое дело во имя России делать, как бы оно с виду, снаружи ни выглядело. Говорю: мы-то настоящие слуги народа. А что касается этих... как ты сказал? Богодуховых? Хорошая фамилия! Во мне надежда живет, что они от Подлевского сами отобьются. Россию просто так не возьмешь. когда очень трудно, народ всегда вспоминает о моральном предводительстве и ряды смыкает. До неприступности!
17
После встречи с Донцовым Вера переменилась. Жизнь, ковылявшая вяло и буднично, наполнилась смыслом, события обрели логику, и все упиралось лишь в некую невнятную «субстанцию», которую ныне принято величать политкорректностью: нельзя же в тридцать лет мчаться в ЗАГС через неделю после близкого знакомства. Приличия требовали респектабельной паузы.
От мамы, которая не могла не заметить перемен, Вера не таилась, сказала о твердом намерении выйти замуж, чему Катерина Сергеевна была рада несказанно. Но именно она, исходя из своих ветхозаветных представлений, назначила сроки: после Нового года.
Внешне жизнь Богодуховых катилась по прежней колее, но, по сути, преобразилась ожиданиями давно чаемого счастья. Донцов стал в доме частым гостем. Нередко заглядывал на чаепитие Петр Демидович Простов, готовившийся к роли особо торжественной персоны свадебного обряда. Своим долгом он считал назидательно расписывать небывалые добродетели Виктора Донцова, хотя в этом никакой нужды не было.
Но иногда посиделки превращались в дебаты. Петр Демидович однажды рассказал о письме в Думу по поводу традиционной новогодней кинокомедии.
— Люди совсем иначе мыслить стали. Вот возьмите «С легким паром!». Казалось бы, сюжет — люкс, актеры замечательные. А один пишет: чего вы, господа депутаты, радуетесь «Иронии судьбы»? Фильм этот теперь народу — как серпом по причинному месту. Да, квартиры были стандартные, но — бесплатные! Народ по этому поводу слезы льет, а не шуточками наслаждается. Вредный фильм! Люди теперь другую чашу жизни пьют, видят то, чего раньше не замечали. Идет эрозия режима. Так и написал. И ведь не скажешь, что пустяк, дешевая патетика. Какая-то внутренняя поломка в людях произошла. Я от удивления вставную челюсть чуть не проглотил.
Но случилось так, что именно во время одного из соседских чаепитий в квартире Богодуховых раздался странный телефонный звонок.
— Это Екатерина Сергеевна?
— С кем я говорю? — ответила она вопросом на вопрос.
— В данном случае важнее не с кем, а по поводу чего. Речь идет о вашей квартире.
Катерина Сергеевна, зажав ладонью микрофон, с ужасом прошептала:
— Кто-то звонит по поводу нашей квартиры.
Вера решительно взяла трубку:
— Слушаю. Кто это?
— А вы кто?
— Вера Богодухова. Что вам надо?
— Я звоню по поводу вашей квартиры, — нагло, внятно, отрепетированно начал незнакомец. — Ваш покойный папаша, уходя в мир иной, не рассчитался по долгам, на что имеется его собственноручная расписка. Долг он обязался вернуть квартирой. Не буду тратить время попусту. Суть вот в чем. С тех пор цена жилья заметно возросла, и, не мелочась процентами по долгу, наследники Богодухова обязаны в счет расплаты вернуть одну комнату вашей квартиры. Какую именно — результат переговоров. Считайте мой звонок ультиматумом. Это вопрос принципиальный, корысти — по гривеннику с тыщи. Подумайте. Если дело примет добровольный оборот, я приду лично, представлюсь по всей форме. Если проявите упрямство, с вами будут беседовать другие люди и совсем по-другому. Советую не путать пиво с мадерой. На раздумья — неделю. Хотелось бы попрощаться до деловой встречи. Кстати, не забывайте о судьбе своего отца.
В трубке зазвучали короткие гудки.
Когда Вера пересказала разговор, Простов, воскликнув: «Кудревато витийствует!» — сразу набрал номер Донцова.
— Ты где? Бросай все дела и мчись к Богодуховым. Я у них. Немедля!
Донцов позвонил в дверь уже через двадцать минут. Все это время на богодуховской кухне стояла мертвая тишина. А Вера думала вовсе не о страшном телефонном звонке, но лишь о том, как сказать Виктору правду об отцовском самоубийстве, которое она тщательно скрывала. Попросила Простова:
— Петр Демидович, с Виктором разговор начну я.
Сев за стол у приготовленной для него чашки, Донцов сразу понял: случилось что-то ужасное. Но не успел задать вопрос, как Вера глухим, деревянным голосом обратилась к нему:
— Виктор, прежде всего хочу просить у тебя извинение за обман.
Он не понял, в чем дело, а она торопливо продолжала:
— Я всегда говорила, что мой отец скоропостижно скончался. Это неправда. Он покончил самоубийством, выкинувшись из этого окна.
За осколок секунды Донцов понял, что произошло, и жестко перебил:
— Я все знаю, Вера! Знаю больше, чем ты. Для нас с тобой это не имеет абсолютно никакого значения. Давай конкретно: что стряслось?
Пораженная Вера онемела, потом громко, словно дитя, разрыдалась и без стеснений с благодарностью бросилась на шею Донцову, как бы ища у него защиты, повторяя снова и снова:
— Все знал! Все знал и терпел мое вранье!
Простов и Катерина Сергеевна от избытка чувств приложили к глазам салфетки. Сцена и впрямь была достойна взрослой слезы. Когда слегка успокоились, Простов сказал:
— Теперь слово беру я. Вера, не лезь в мужской разговор. Тут хитропланить придется.
Донцов сидел молча, не прерывая, не переспрашивая, не пытаясь что-то уточнять. На самом-то деле он и не вслушивался во взволнованную речь Простова, потому что многое понимал лучше Петра Демидовича и думал уже о вариантах отпора. Он ясно осознавал, что за атакой стоит не отвязная шпана, а Подлевский, что речь идет о юридической фикции, криминальном наезде, о готовности к злодейству, но сразу решил эту тему не затрагивать — да и смысла нет, сам Подлевский в аферу не сунется, укроется за подставными игроками, позаботится о камуфляже. Но делать, делать-то что? Он так углубился в раздумья, что прозевал заключительные слова Простова, обращенные к нему:
— Виктор, что делать-то будем? Угроза не шуточная.
Спохватился, извинился за молчание, напугавшее всех, ответил:
— Петр Демидыч, во-первых, будем сопротивляться. Вера, без согласования с нами ни единого слова этим бандюкам не говори. Когда он должен звонить?
— Через неделю.
— Та-ак. Значит, неделя у нас на разработку ответных мер имеется. Но одно для меня уже сейчас очевидно: через неделю вам, Катерина Сергеевна, и тебе, Вера, придется потесниться и одну комнату освободить.
— Освободить?! — хором ахнуло застолье, а Простов, задрав брови, вытаращив глаза, зашелся от возмущения.
— Ты что, не понимаешь, если они одну комнату отхватят, в нее взвод арендаторов с рынка заедет и заставит распроститься с квартирой? Льстивый ход в кредит, афера известная, по ящику о ней ежедень твердят. Тебе психиатра пригласить?
Донцов, не обратив ни малейшего внимания на этот вопль, ровным голосом продолжал:
— В освободившуюся комнату мы временно поселим моего телохранителя Вову, которому официально разрешено ношение огнестрельного оружия. — На миг повернулся к Простову. — Кому-то может понадобиться не психиатр, а патологоанатом. А вы, дорогие женщины, в санаторном режиме кормите телохранителя Вову завтраками, обедами и ужинами. Денег подброшу торовато, чтоб на себе не экономили. Он здесь будет неотлучно в качестве охраны. Телевизором его обеспечьте. С этого мы начнем.
Стремясь разрядить общую напряженность, неудачно, грубовато, забористо пошутил:
— Эх, катай-валяй! Под дулом пистолета заставим эту гопоту изящные развлечения исполнять — от легкого порно до эротического шоу.
Ни смешков, ни улыбок не последовало, и Донцов вернулся к делу.
— А мы, Петр Демидович, уже вдвоем, без женщин все детали довообразим.
Вера как завороженная глядела на него и впервые по-настоящему осознавала, что она теперь не одна, а под крылом надежного, любимого человека. Изначальный страх проходил, на пару с Донцовым она тоже была готова к бою с внезапными порчаками. В голове мелькнуло: «Нет, просто так нас не возьмешь. если опасность, мы смыкаем ряды».
Когда мужчины ушли, мать объяснила ей, что Донцов, вероятно, все узнал от Нины Ряжской — ведь бандиты девяностых годов поживились Нинкиной квартирой.
— Ряжская наверняка знает больше, чем рассказала мне, — заключила Катерина Сергеевна. Потом добавила: — А нам с тобой, Верка, надо готовиться к испытаниям, сохранять силу духа. Стихи недавно прочитала: «Был барак, стал бардак». Несуразные времена, всех колбасит. Когда уже схлынет эта пена переломной эпохи, эта плесень русской жизни?
Вера, поглощенная мыслями о происшедшем, грустно, задумчиво произнесла:
— Вот они и вылезли наружу, эти «темпи пассати», дела давно минувших дней.
Свой разговор шел и на восьмом этаже, в квартире Простова.
— Не могу избавиться от подозрений, что за этой аферой стоит тот хлюст Подлевский, — говорил Петр Демидович.
— Незачем вдаваться в детали, наверняка знаю, что он, — ответил Донцов. — А что толку от моего знания? За руку не схватишь, этот диспетчер лжи сам не полезет, бандитов наймет — плетку при большом кнуте.
Простов горько вздохнул:
— Серега Богодухов собой пожертвовал, чтобы семью спасти, а теперь и на нее наезжают. Виктор, ты должен Веру отстоять во что бы то ни стало. Я таскаюсь уже помаленьку, от погоды колено мозжит, но тоже в стороне не останусь. А главная сила — ты, Вера для тебя уже родной человек. Ты должен, обязан!
На лице Донцова появилось такое возмущенное выражение, что Простов заткнулся, поняв, что калякает глупости, ибо «должен», «обязан» были совсем уж некстати, понукания выглядели грубой бестактностью. Евнух брался учить Потемкина. Однако и на молчание у Простова не было сил.
— Верушка на моих глазах росла, без отца, сама на ноги вставала. Я тебя неспроста с ней познакомил: бриллиант чистой воды. И знаешь, Витя, что я тебе скажу... За свою долгую жизнь, — а она вся состояла из общений, — я людей повидал очень много, в личностях разбираюсь, вот тебя разглядел. И могу точно сказать: все, что есть чистого, русского, все это, как по воле Божьей, в Верушке собрано. Она для меня словно образ России. Да ты глянь на ее осанку, на поступь: идет — будто на голове корону несет. Ее не защитить — что родину продать. Думай, Чапай, думай. Кстати — нотабене! — дров не наломай, не накосолапь. Ты телохранителя — как его? Вова? — через неделю к Богодуховым хошь заселить, да не рановато ли? Хотя говорят, что лучше на год раньше, чем на час позже, все же горячку пороть незачем. События галопом не поскачут. Сразу видно: ведьмаки эти, блудодеи не лапотники, не кромешные идиоты, «Капитал» от «Майн кампф» отличают, за ними серьезные люди стоят. Сперва давление начнется, угрозы телефонные, подтанцовку применят вроде бы случайную, чтобы запугать, по ошибке в дверь начнут ломиться. Мы в полицию постучимся, из Думы нажмем, дабы внимание проявили. Хотя я сыскным на грош не верю, они норовят штрафами вразумлять, а в дела не лезут, являются всегда после беды, для расследований. Сигналы профилактики игнорируют — обычно за мзду. Но так или иначе, а река эта с перехватами, с узиной, времени на подготовку решительных действий этим меринам, боевым унитазникам понадобится немало, похоже, через толпу напродёр рваться не станут. Но телохранитель Вова с оружием для них сюрпризом должен оказаться. Тут конспирация нужна.
Глаза у Донцова стали жесткими, внимательными. Перебил:
— Тут, Петр Демидыч, ты прав стопроцентно. Вовремя Господь вразумление послал. Поторопился я, хотел Веру и Катерину Сергеевну успокоить. А по сути-то полезно выждать — пусть начнут чудить. Понять надо их логику. В таких делах бывают важны случайные указания текущей минуты. И по ходу битте-дритте — сплошного «выканья», тайком поселить к Богодуховым телохранителя Вову в самый нужный момент, когда жареным запахнет. Ну и нам с тобой в горячку придется подежурить. Для меня раскладушечку найдешь? А вообще, за этот разговор спасибо. Сдается мне, Подлевский часы для своей авантюры уже завел, да время не сверил. Другие мы сегодня. Не те, что в девяностые, когда папаша его в малиновое безвременье крысятничал.
— Значит, фамильный промысел?
— Это люди темной судьбы, как-нибудь в другой раз скажу. А вот за Веру спасибо сто крат. С первого взгляда ее обожаю. Для меня она — именно то, что ты сказал. Я не мог сформулировать, робел, а ты ясно объяснил ее притягательность. Без нее мне жизни нет. И вправду — словно образ самой России. — По-дружески обнял старика за плечи. — Разве мы, Петр Демидыч, силы свои ради России пожалеем? Сломим этому Подлевскому хребет. Веришь?
Простов расчувствовался и тоже полез обниматься, приговаривая:
— Утверди нас, Господи, в решимости!
Когда Подлевский позвонил Суховею для повторной встречи, тот радостно отозвался:
— Замечательно! Бывают же, Аркадий Михайлович, совпадения! Завтра утром я по делам мчусь в столицу, освобождаюсь к трем часам. Как раз сиеста. Было бы неплохо где-нибудь отобедать.
Подлевский ликовал, — его предположения подтвердились, — и решил принять Суховея по первому разряду, как когда-то потчевал его Хитрук: в ресторане «Пушкин», на втором этаже, в «Библиотеке», заказав стерлядь. Грёзы гурмана!
По косвенным признакам Аркадий понял, что Суховей в этом шикарном ресторане бывал, а значит, человек свой, «правильного» круга, и после краткой дежурной разминки относительно особых гастрономических достоинств здешних стерляжьих деликатесов перешел к делу. Этот чиновник с легкостью согласился на ресторанную встречу для щекотливого разговора, и сие избавляло от долгого, утомительного прощупывания, позволяя взять быка за рога. Так поступают в разминочных партиях опытные шахматисты, начиная сразу с шестнадцатого хода, ибо все дебюты им известны наизусть. Подлевский тоже начал с «шестнадцатого».
— Валентин Николаевич, любезнейший, я уже приступил к подготовке акта восстановления исторической справедливости. Да, базар житейской суеты, но с зароком был вклад-то отца. Вечная ему память! И дело, скажу я вам, пошло более гладко, нежели я мыслил. Разумеется, сначала должникам был предложен вариант мирного, на добровольных основах решения застарелого спора и дано время на обдумывание, чем они в настоящее время и занимаются. Как говорится, где грешил, там и кайся. Но поскольку веры в их здравомыслие, откровенно говоря, мало, я наметил параллельные пути. Через надежного человека — разумеется, за солидный гонорар — удалось подобрать двух, по его терминологии, лосей, изрядно искушенных в коллекторских процедурах истребования долгов по микрозаймам. В общем, резкие пацаны, умственные калеки, долбонавты, рубилово! Умеют кошмарить жизнь, загоняя клиентов, как бильярдный шар, в лузу, до «ходячей комы» доводят. Вы ведь знаете, Валентин Николаевич, эпоха сортирует людей. Таким образом, дело, что называется, на мази. Да, кстати! На носу третий четверг ноября, праздник Божоле-нуво. Думаю, мы распробуем молодое вино. Извините за этот смолл-ток эраунд — маленький разговор вокруг темы.
Суховей одобрительно, в такт словам собеседника покачивал головой, а когда пришла его очередь, подбодрил:
— Что ж, Аркадий Михайлович, приветствую ваши рациональные усилия. В суть дела, в конкретику мне вдаваться незачем. Но вы весьма интеллигентно, даже не упоминая о ней формально, четко определили задачу, которую предстоит решать мне. Говоря кратко — это безопасный выход из ситуации после ее завершения. Она в свою очередь разветвляется на два русла — при позитивном ходе событий, на что я надеюсь, и при неудаче, которую исключать не вправе, ибо в любом случае — подчеркиваю, в любом! — обязан обеспечить для вас идеальное общественно-политическое алиби. Именно так я понял поручение нашего общего друга. Для меня главное — ваша абсолютная неуязвимость. Вот такие у меня пироги.
По согласованному с Глашей плану Суховей импровизировал, создавая иллюзию того, что получил задание лично от Винтропа. Впрочем, так или иначе, а вопрос-то действительно упирался в спасение Подлевского. Предстояло вытащить его из беды, если авантюра потерпит крах, на что надеялся Валентин на самом деле.
— Я вас правильно понял, Аркадий Михайлович?
Подлевский высокомерно улыбнулся, кивнул головой. Он окончательно уверовал в то, что Суховей приставлен к нему Бобом в качестве ангела-хранителя. Это как бы возвышало Аркадия в собственных глазах, наполняло значимостью, позволяя купаться в тщеславии. У нынешнего времени он за пазухой! Оставалось лишь по-ямщицки гикать и свистать кнутом, поторапливая исполнителей замысла.
Конечно, Аркадий не мог полностью исключать негативный исход, поэтому никаких контактов с нанятыми для вышибания долга «лосями» у него не было, заказчиком выступал Горбонос, неожиданно легко согласившийся на предложенные условия, — а Аркадий на посулы не поскупился, оплату «лосей» тоже взял на себя, причем по высокому прайсу. Несколько смущало Подлевского лишь то, что при договоренностях с Горбоносом он заметно упростил ситуацию, сведя ее лишь к старухе матери и перезрелой дочери, которые живут, по сути, раздельно — как мухи и пчелы, потому что дочь — что-то вроде горничной, обманутой лакеем. Но умолчал о связях Богодуховых, вылезших на юбилее. Впрочем, наличие Суховея, взявшего на себя отношения с полицией, по мнению Аркадия, как бы компенсировало недосказанности Горбоносу. Тем не менее он решил уточнить задачу, стоящую перед Суховеем:
— Да, Валентин Николаевич, все верно. Хотелось бы только вновь напомнить, что в данном случае не исключаются разного рода предварительные жалобы в полицейские инстанции, во всяком случае на уровне районного звена.
— Для меня это главный вопрос, — деловито ответил Суховей. — Самый главный. Его не решить с ходу, с кондачка. Необходимо время, чтобы нащупать человека с правильными убеждениями, затем довести контакты с ним хотя бы вот до такого прекрасного обеда. Вы меня понимаете...
— Конечно, конечно, Валентин Николаевич. — Упоминание о «человеке с правильными убеждениями» в среде, где общался Подлевский, служило своего рода паролем и закрепляло мысль о том, что Винтроп рекомендовал Аркадия очень опытному чиновнику.
— Поэтому сроки завершающего этапа, — продолжил Суховей, — для меня, подчеркиваю: для меня! — возможно, наиболее важны. Я бы поставил проблему так: когда начинать операцию, какими способами и методами ее проводить, — это полностью ваш приоритет, меня это не касается. Но к решающему этапу можно приступать только по согласованию со мной — с точки зрения сроков. Таковы, Аркадий Михайлович, правила планирования подобных операций. Опасно и ждать, и торопиться. Традиции здесь незыблемы. К традициям вообще надо относиться трепетно. Лорд-спикер британского парламента по сей день восседает на церемониальном мешке, набитом шерстью, которая в прошлом была национальным богатством Англии. — Улыбнулся. — И еще. Случилось раз услышать, что советский деятель Анастас Микоян сказал: «Когда я вхожу в комнату, то прежде всего изучаю, как из нее выйти». Возможно, это байка, но в мудрости ей не откажешь.
— Но хотелось бы, пусть приблизительно, понять ваши представления о сроках. У меня-то, как я говорил, все на мази.
— Не думаю, что мне понадобится слишком много времени. Однако речь все же идет не о неделях — о месяцах, нужны серьезные подвязки. Исходя из этого, и придется планировать наращивание давления, чтобы чрезмерно не ускорять события. Но в этой связи возникает еще один важный вопрос, я бы сказал, финальный. Даже при позитивном исходе у вас и твердых контактах с должностным лицом у меня в момент «икс» я должен немедленно получить информацию о результатах, чтобы, говоря по-пацански, дать нужную команду. А момент «икс» обещает быть острым — скажем, силовой захват одной из комнат, — и нижние полицейские чины обязаны знать, как им реагировать. Давайте заранее решим эту важнейшую для исхода дела проблему.
Подлевский слушал сосредоточенно, иногда хмурясь. Чувствовалось, в нем нарастает утробное раздражение, он о чем-то усиленно размышляет. После некоторого молчания сказал:
— Понимаете, Валентин Николаевич... Аткравенно! — Для доверительности он перешел на интернетный новояз. — Только сейчас, анализируя ваше мнение, я начинаю сознавать, что моя комбинация с отовариванием старого отцовского долга — сложная процедура. Неистовый век! Я относительно легко решил вопросы, связанные с процессом изъятия у Богодуховых комнаты, оплаченной моим отцом четверть века назад, но не уделил должного внимания последствиям этого акта справедливости. И дело не просто в неких чинах, способных замять скандал. За пыльными полицейскими кулисами черт знает что творится. Вдруг этот случай станет достоянием дурналистов?
Он намеренно исказил «ж» на «д». От волнения у него даже выступила смага на губах, которую он торопливо отёр сложенным вчетверо элегантным носовым платком.
— Дорогой мой, — поспешил успокоить Суховей, — неужели вы полагаете, что я не учитываю этот фактор? Известно, лист лучше всего прятать в лесу, где много ему подобных. А можно поднять немыслимый хайп вокруг какой-нибудь нелепой административки — как было с задержанием мальчишки на Арбате. Всю страну на уши поставили! А под шумок совсем другие дела проходили незаметно. Торговля общественными эмоциями — современное импортное искусство, надо тонко учитывать интересы и свойства среды в данный момент времени. Для того мне и нужны плотные контакты с погонниками, чтобы они, помимо прочего, перекрыли утечку в СМИ, обошлись без медийного присутствия. Финальная стадия операции, так называемый отход, — всегда самая сложная. В решающий момент мы с вами должны быть на связи. При любом повороте событий мне — снова подчеркиваю, не вам, а именно мне! — предстоит действовать мгновенно.
— Валентин Николаевич, голубчик, я безмерно рад, что судьба в лице Боба свела меня с таким вдумчивым человеком, как вы. Я шел к вам, поначалу не понимая, чем вы можете помочь, поскольку основательно подготовился к делу. Но вы повернули его совсем иной стороной. Верно! Самое главное — стратегия выхода из ситуации. Этот Микоян глядел в корень. Объективно получается, что главной фигурой в успешной реализации моего замысла становитесь вы. — Подлевский явно намекал на материальную благодарность.
— Вынужден вас огорчить, — ответил Суховей. — Если, не приведи Господь, по каким-то причинам реализация вашего замысла сорвется, моя роль возрастет многократно. Я обязан — именно обязан! — обеспечить вашу общественную безопасность, любой ценой выдернуть вас из этого дела. Хочу быть предельно откровенным: я слишком дорожу доверием нашего общего друга и не могу не выполнить его указание. Сделаю все, что необходимо. Но, повторюсь, нужна ваша помощь. Первое: дождаться моего сигнала о возможности приступать к решающему этапу. Второе: моментально информировать меня о ходе этого решающего этапа.
— Слушаюсь, товарищ командующий! — повеселел Подлевский. — Сегодня вы вправили мне мозги, особенно по части сроков. Кавалерийская атака, которую я планировал, отменяется. Мы же не какие-нибудь свирепые японские якудзе. И чайку с полонием подавать не будем. Но давить, постепенно нагревая ситуацию, нервы вымотаем до ментальной травмы, как советует некий актер, усердно пьющий сын своего великого отца. Еще разок предложим очиститься от исторической коррозии, вернуть взятые в долг безгрешные деньги, как говорится, натурой. Подключим некую дщерь оккультных наук — есть у меня на примете одна томная, экзальтированная дамочка, селедка под шубой, а не женщина, своего рода метресса для инфанта, способная производить внушения. Эти маневры дадут время для ваших стремлений. Все ясно, Валентин Николаевич! Да-а, сегодняшняя стерляжка была великолепна.
Он расплатился банковской картой, держа фасон, щедро накинул чаевых. Посетовал:
— Греф заявляет, что наличие кэша в кармане — это анахронизм. А как быть с чаевыми? Правда, в Америке их автоматически вписывают в счет...
18
В один из свободных субботних дней предзимья, когда в душе запутанным клубком переплелись радость от общений с Донцовым и тревоги о наползающих квартирных бедах, Вера отправилась в пешее путешествие по Москве, чтобы «причесать мысли». На прогулочном шаге ей всегда думалось лучше, полярные эмоции как бы туманились, размывались воспоминаниями о знакомых местах.
Ну бывают же в Москве неудобные маршруты! Вроде бы недалеко, а транспортом не доберешься. На метрянке нет близких станций, автобусом — уйма пересадок с длительными субботними ожиданиями. Вот и решила пойти пешком с Полянки на Палиху. Выйти на Садовое, через Крымский мост до Зубовской, а за ней нырнуть в переулки на задах огромного здания Академии Фрунзе. Она не помнила адреса, который был ей нужен, зато безошибочно знала, какую и зачем избрала конечную цель.
Дом Палибина!
Отчасти — чтобы вновь восхититься изумительным и скромным творением послепожарного деревянного старомосковского зодчества, чудом выжившего среди бетонных нагромождений новых веков. Но главное — углубиться в душеполезные воспоминания об этом удивительном доме, которые, по ее разумению, должны навести порядок в растрепанных чувствах. Ей казалось, — нет, она была абсолютно уверена! — что Дом Палибина, возвышавшийся в сознании над повседневным бытием, формально никак не причастный к нынешним печальным обстоятельствам жизни, укрепит ее духовные тылы.
На Крымском мосту она вспомнила, что за ним, в старом корпусе Института международных отношений, ей, еще школьнице, по случаю, а вернее, по знакомству довелось попасть на громкую по тем временам лекцию о «макиавеллиевском кентавре»: государственная власть должна базироваться не только на силе, что закономерно, но также на согласии с гражданами.
И сразу поток мыслей умчал в сегодняшние дни, когда, по ее твердому убеждению, сила русского государства являет себя лишь во внешней сфере, а внутри страны власть стала дряблой. Не к добру все более размашистые шатания между чрезмерными вольностями под лейблом «демократии», этим американским мессионизмом, символом и кнутом всемирного влияния, — ну точно как коммунизм в СССР! — и отрицанием национальной идейной доктрины. Уличные строгости стали важнее согласия, тупой напильник власти начал подгонять жизнь под режим, заглушая общественные течения.
Уже в студенчестве она снова наткнулась на формулу Макиавелли, но в совсем ином смысле — в георгий-федоровском: о различиях между свободой и волей в русском сознании. Свобода личности немыслима без соотнесения со средой, а русская воля всегда только для себя. Но, в отличие от «мессианства демократических свобод», — на деле только для элиты, — которыми по чужому наущению чрезмерно увлечены властвующие, русская воля спрятана в глубоких тайниках народной души, никак не проявляя себя. Однако случается в истории, когда свободу слишком неуемно эксплуатируют одни, беспощадно ущемляя других, когда чаша несправедливости становится с краями полна и, не приведи Господь, воля вырывается наружу. Подумав об этом, Вера поймала себя на мысли: куда ни кинь, везде упрешься в нынешний день. Время сгущается.
Увидела издали красно-белую пряничную церковь в начале Комсомольского проспекта, в народе нареченную Капельской, и припомнила выступление отца Дмитрия Смирнова в Доме литераторов, куда тоже попала по случаю. Не обремененная домашними хлопотами, она любила общественные диспуты, хотя не всегда понимала их суть. О многом в тот раз говорил священник: о борьбе числа со словом, денег с нравственностью, об угрозе утилизации русского исторического наследия, о попытках размыть добро и зло, о деградации норм приличия, популяризации пороков, дабы заменить образ России как «Третьего Рима» хештегом развратного Вавилона. По словам Смирнова, самоизмышленной ереси служит проект «Страна на перепутье», финансируемый Соросом, извергающий на нас лавины информационного навоза. Коснулся и политики, подняв новую и очень острую для вождей тему о совести приватной и публичной.
Впрочем, на сей раз Вера понимала, почему именно эти мысли все более одолевают ее, она приближалась к Дому Палибина.
Этот старый бревенчатый особняк в стиле ампир с длинной боковой прихожей, где гостей встречал ласковый «дворянин» Тёма, словно обнюхивая их на чистоту помыслов, навсегда врезался в память Веры, повлияв и на ее мировосприятие. Оказавшись в реставрационных мастерских Дома Палибина по институтским делам, она познакомилась с тогдашним их главой — Саввой Васильевичем Ямщиковым, великим подвижником русской культуры, отважно радевшим за отечественную культуру, презирая неприятельскую фэйсбучную канонаду.
Впервые она увидела этого огромного добролицего человека утопающим в глубоком старом кожаном диване в заглавной комнате и поразилась исходившему от него обаянию. Несмотря на тучность — следствие долгой болезни, — манеры Саввы Васильевича были не просто энергичными, а стремительными. Его мобильники не утихали, а он еще успевал задавать Вере точные вопросы, выслушивать ответы и принимать наилучшие решения. Она много славного слышала о Ямщикове, читала его статьи, и он заочно выглядел в ее глазах незаурядной фигурой русской культуры. Но личное общение потрясло. Это действительно был великий человек, из тех особых, Богом отмеченных, чьи имена навсегда остаются в национальной истории. Благолепие!
А как он говорил!
Помнится, возник вопрос о главной и боковой линиях заказанной институтом работы. Савва хитровато глянул на Веру и сказал:
— К Петру Первому однажды пришли как раз с такой проблемой, конечно по другому поводу. Но спросили, спросили-то как? Скажи: отрубать ветви или положить топор на корни? Точнее суть не обозначишь, а мы мнемся вокруг да около.
И очень уж точно этот прямой, царский образный ответ отражал речестрой самого Саввы.
Вера была счастлива, что ей приходилось бывать в Доме Палибина и, пусть накоротке, общаться с Саввой Ямщиковым. Журфиксов здесь отродясь не было, люди, даже незнакомые, приходили в любой день, в любой час. Позднее Богодухова познакомилась с дочерью Саввы Васильевича — Марфой, своей сверстницей, женщиной не менее примечательной, чем ее великий отец, которая осталась на своем посту и после создания мемориального кабинета. Но не думала не гадала, что в Доме Палибина судьба преподнесет ей редкостный, исключительный, памятный подарок.
Однажды она пришла в реставрационные мастерские часа в три пополудни, и Марфа обрадовалась:
— Какая удача! Очень вовремя! Отец просил тебя спуститься вниз.
Из заглавной комнаты со знаменитым проваленным диваном, в котором, принимая гостей, утопал Савва, куда-то вниз вела темная крутая лестница, прикрытая шалашным козырьком, — обычно так обустраивают вход в подвалы. Вера осторожно спускалась по узким, едва освещенным ступеням, внизу повернула направо, и перед ней, словно в сказочном видении, открылась небольшая горенка. Горенка в подвале! Но так умно, искусно освещенная, что Вере от неожиданности показалось, будто это не подпол, а мезонин. В дальнем углу потрескивала поленьями печь-каменка, наверное, отапливая полдома, а остальное пространство занимал небогато накрытый стол с тесно сдвинутыми стульями. Во главе стола восседал Савва Ямщиков, а по сторонам — несколько буднично одетых мужчин в возрасте, приветливо кивнувших Вере.
— Прошу любить и жаловать! — громко произнес Савва, указал ей на единственное свободное место в конце стола. — Наш человек.
Вера испытывала глубокое потрясение. Первым из сидящих за столом, на кого она сразу обратила внимание, был великий русский писатель Валентин Григорьевич Распутин. В другом мужчине она, слегка приглядевшись, опознала великого русского танцовщика Владимира Васильева. Рядом сидел знаменитый литературный критик из Пскова Валентин Яковлевич Курбатов, близкий друг Ямщикова, — его статьи, смелые, нестандартные, она всегда читала с интересом, а лично познакомилась здесь, в Доме Палибина.
Первая невольная ассоциация, мелькнувшая в голове при виде этого удивительного созвездия талантов, банально уперлась в библейскую «тайную вечерю». Но, во-первых, был разгар дня, а во-вторых, ничего тайного, кроме этой подвальной комнатки, не указанной ни в одном путеводителе, здесь не было. Чувствовалось, эти великие люди не впервые собираются у Ямщикова и в этом необычном для современного обывателя старорусском печном уюте — в самом центре Москвы! — ведут беседы на волнующие их темы. Вера поняла: ей несказанно повезло, каким-то чудом, не чая этого, она оказалась за общим столом с выдающимися людьми современной эпохи, составляющими славу и гордость нашей культуры.
Кто-то вежливо положил на ее тарелку пару кругов любительской колбасы, кусок какой-то рыбы, однако она, душевно поблагодарив, не прикоснулась к еде. Ее внимание сполна поглотила застольная беседа, ее мозги, словно магнитофон, работали «на запись», пытаясь уловить каждое слово.
— Да, не в силе Бог, а в правде, — видимо, продолжая начатый разговор, говорил Курбатов. — Александр Невский словно сегодня вещает.
— А у нас Асахару в Кремль выступить позвали! — с негодованием воскликнул Васильев. — В Кре-емль! Шантрапа сектантская, в токийском метро людей погубил, осужден пожизненно. А его в Кремль! Вот оно, роковое отсутствие национальной идеологии. Не могли шарлатана вычислить.
Курбатов поддержал:
— Не только в Кремле выступал, но и в МГУ, перед студентами. Да о чем говорить, если Джек Алтаузен, которого ныне превозносят в качестве поэтического гения, в свое время писал... Дай Бог памяти... Ага! Слушайте: «Я предлагаю Минина расплавить, Пожарского. Зачем им пьедестал? Довольно нам двух лавочников славить, их за прилавками Октябрь застал. Случайно им мы не свернули шею, я знаю, это было бы под стать. подумаешь, они спасли Расею! А может, лучше было б не спасать?» Каково?
За столом возмущенно загудели. Кто-то сказал:
— Эти вирши я недавно по телевизору слышал, кафешантанные куплеты какого-то шутника-баламута. Нет, не могут наверху понять, что народ к таким словоизлияниям относится с омерзением. Отсюда, между прочим, — на мой взгляд, конечно, — и феномен наших дней: при популярности лидера отношение к государственной власти кислое, рейтинг ее низковат.
Ямщиков сердито хлопнул ладонью по столу:
— Россия приняла наследие Византии, через нее древнеапостольские традиции, первозданное христианство. Потому и ввели запрет на государственную идеологию, чтобы под шумок духовно разоружить и правдами-неправдами втащить к нам Лютера. Гляньте, кого финансируют с запада, деньжищами одаривают. Перечни известны, все организации русофобские.
— У нас на Псковщине Центру социального проектирования «Возрождение» — названия-то какие придумывают! — подкинули пятьдесят тысяч баксов. А чем он занимается? Если кратко — выполняет заповедь Алтаузена. И так по всей стране. Простое дело — раздачу списанных книг окрестили на чужесловии: «Бук-кроссинг». Чуждь всюду внедряют.
Долго молчавший Валентин Распутин перевел разговор в другое русло:
— Что большая политика стремится одержать победу над русской жизнью — факт общепризнанный. Но меня больше интересуют — и волнуют, конечно! — не политические ухватки, а состояние самого народа, который порой говорит одно — перед телекамерой или микрофоном, — а сам свою думу думает. Беспокоила меня проблема русской пассионарности. Что сие такое, известно, Гумилёв разъяснил. Но как раз пассионарность, на мой взгляд, в наименьшей степени подвержена политическим влияниям, эта русская стихия неподатлива. Ее вроде бы и нет — сегодня! А завтра, глядишь, из всех щелей прёт, из любого мужичонки, вчера, казалось, жизнью в пыль забитого. И представляете, попалась мне строго научная книга, где на исторических примерах показаны волны русской пассионарности. Оказывается, она циклическая! Внедряемая ныне в сознание мысль о стабильности парализует жизненные силы народа. Словно сеанс гипноза: бедлам информационного шума, торжествующий шоу-бизнес, подсчеты лайков, интернет-восторги, индустрия фэйков. Чуть ли не цифровой концлагерь городят. Но это дело временное, поверхностное, оно не затрагивает корней. Потому что народ наш пришел издалека и идет далеко. А с точки зрения исторической цикличности пассионарность русская, если судить по периодическим волнам, должна отчетливо проявиться в 2020–2021 годах.
— Но как она проявится? — подал голос Савва.
— А вот в том и вопрос, — оживился Валентин Григорьевич. — За или против? По моим наблюдениям, власть этим вопросом не заморачивается. Видимо, считает, что русская пассионарность не более чем экспонат истории. Но народ — как природа, которая уступчива лишь тогда, когда слаба. А шторма, потопы, землетрясения — они земным человеческим силам неподвластны.
— Спит, спит народ! — воскликнул Владимир Васильев. — В свете нашего разговора как не вспомнить вещего простачка, юродивого из «Бориса Годунова», который озарением понимает то, что умным невдомек. Нельзя молиться за царя Ирода! Такие вещие простачки на Руси и сейчас не перевелись, но слышно их только в особые минуты истории. Они как будильник, вернее, словно колокол вечевой. Все просыпаются. Миг — и нет пространства безгласия.
— А может, Илья Муромец, на печи своего срока ждущий? — задумчиво произнес Распутин. — Россия играет вдолгую. Созреть должны сроки.
— Да-а, — тоже задумчиво начал Курбатов. — Сегодня-то впору Тютчева вспоминать: «Не плоть, а дух растлился в наши дни».
Савва перебил:
— А мне Иван Ильин ближе: «Бог в сердце, царь в голове и вожак впереди». Правда, с вожаком неясности — пока только вождь в наличии.
Курбатов ответил в форме вопроса:
— А вот мне не ясно, мы новый фундамент возводим или углубляем «Котлован»?
Это был очень мудрый, глубокий вопрос, все поняли, что речь о «Котловане» Платонова, и задумались. А Вера, на которую внезапно свалилось счастье оказаться в столь звездном, высоколобом обществе, возгордилась еще пуще.
В это время по поводу едкого замечания Курбатова кто-то пошутил:
— Ну, это полный Кафка.
Все рассмеялись.
А Курбатов, чтобы усилить свое мнение, напомнил:
— История такие сальто-мортале устраивает, что диву даешься. Кто-нибудь слышал, как в воюющей Европе времен Первой мировой войны называли писательскую братию? Никто не слышал? Могу напомнить. Называли не очень почетно — «соловьи над кровью». Потому что с каждой из противостоящих сторон литераторы сеяли только ненависть, никто не осмеливался на осмысления. Сегодня соловьев русофобских тоже немало. К счастью, крови нет.
Затем разговор перекинулся на поиски идеи нравственного подъема страны, на русофобское умопомешательство пятой колонны, на заветы русской жизни. А ближе к концу обеда, затянувшегося из-за обилия мнений, снова Валентин Григорьевич поднял серьезную тему о необходимости культурного общения с западом и угрозе перерастания общения во влияние.
— По логике, это первейшая обязанность государственной власти, — размышлял Распутин, — бдительно следить, чтобы культурные связи с западом, пусть самые тесные, теснейшие, даже родственные, — что худого? сколько таких примеров! — не вели к признанию чужого превосходства, к нравственному подчинению чужеродной среде, к заимствованию чуждых обычаев. Если коротко — чтобы культурное общение не обернулось духовно-нравственным подчинением, гуманитарным игом. Вот в чем загвоздка. У нас чуть ли не пинками заталкивают в безобразность. — Он сделал сильное ударение на первую букву «О». — При нынешнем медийном нездоровье всякого ждать можно.
— Да уж! — проворчал Ямщиков. — К чему привели общечеловеческие ценности Горбачева, нам известно распрекрасно, общечеловеки оказались ягнятами в волчьих шкурах. Ты, Валентин, конечно, прав. Без обмена развитие культуры немыслимо. Но ведь это мы жаждем обмена, а они-то, муха-погремуха, хотят нашу самородность подавить, чтоб мы под седлом ходили. Высокие лицемеры, образованные мерзавцы. — Непонятно было, чьих, каких лицемеров и мерзавцев имел в виду Савва. — Тут, правда, есть некое правило, которое можно позаимствовать у православия. — Мудрый Савва заинтриговал небольшой паузой. — Церковь допускает случаи, когда позволительно отступать от канона в подробностях повседневного обихода. Нет в этом никакого отступничества. Мы вот сегодня за стол садились, а молитву не прочли. Или возьми мужичка, слегка хлебнувшего. Он в церкви щепотью себе в нос тычет, при крестном знамении до лба не дотягивает, да еще слева направо. Но что касается заповедной области верования, сферы, где господствуют высшие интересы, скажем доминирующая в русском сознании ценность справедливости — стихия, особо для нашего народа щепетильная, — то здесь человек верующий нипочем не уступит. Думаю, и в нравственной обрядовости, в культуре так же. Проблема в другом. Как писал Тонино Гуэрра, молодежь смотрит, а старость видит. И в какую сторону будут смотреть следующие поколения? Много залётного, безродного впаривают глобальщики. Но я верю и верую: не допустим слома цивилизации, под воду, как твоя Матёра, не уйдем.
После новой паузы продолжил:
— Но тут ведь как? Помните, Хорут и Морут, граждане Вавилона, предупреждали об опасности научных знаний, попавших к безумцам. Без-ум-цам! Так вот, безумцы-то и у нас завелись, вот в чем беда. Они-то и прибирают к рукам культуру, духовные ценности.
Распутин откликнулся:
— Когда-то один обманутый человек, еще в Сибири это было, сказал мне: грызите землю, но не возвращайтесь туда, где вас предали. Я эту заповедь переношу на отношения с западом. Сколько раз нас предавали, а мы снова лезем к ним с объятиями, любой благожелательный взгляд ловим, за чистую монету принимаем.
— «Лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян». Пушкин, — поддержал Курбатов.
А Савва вернулся к своей мысли:
— Вожди есть. Но вожак, вожак нужен!
Тот разговор Вера запомнила в деталях и, добравшись домой, для верности записала услышанное в тетрадь для заветных мыслей. Когда-то, по девичьей традиции, она намеревалась вести дневник, однако довольно скоро бросила это занятие, посчитав его бессмысленным. Через несколько лет она пожалела о скоропалительном решении: много интересных наблюдений забылось, навсегда канув в текучке жизни. Но сама тетрадь сохранилась, и Вера иногда делала в ней записи — не столько дневниковые, сколько с пометкой «нотабене», самые важные мысли.
Но запись той удивительной беседы в подвальной «горенке» Дома Палибина, у пыхтящей, уютной печи, Вера не перечитывала ни разу. В этом не было необходимости, ибо тот разговор вошел в нее прочно и навсегда, не нуждаясь в «реставрации памяти». Потому в трудные, неясные дни жизни она и отправилась к Дому Палибина, чтобы вновь проникнуться спокойной, несгибаемой волей, которая исходила от великих людей русской культуры. Конечно, на нее не могла эмоционально не повлиять сама обстановка задушевной, откровенной беседы, молчаливым участником которой она стала. В центре столицы, в подполе старомосковского бревенчатого дома, у русской печи собралась элита русской художественной интеллигенции, со своими ясными, твердыми убеждениями, отражавшими настроения народа. Она подумала: никакая это не судьбоносная тайная вечеря, а рядовое стечение обстоятельств. Замечательный Савва Ямщиков без всякого повода, без повестки дня собрал на дружеский обед своих друзей, чтобы раскрепощенно, не заморачиваясь, поговорить о текущем дне страны и родной культуры. Без подписания каких-то документов или решений, без принятия на себя обещаний. Просто так! Но именно в этом «просто так» таилась великая, неодолимая мощь русского взгляда на мир, та спящая до поры пассионарность, которая периодически проявляет себя духовным взлетом, расчищающим захламленное чужеродным мусором русло народной жизни.
Но не могла она не думать и о другом. По служебной надобности ей довелось в оригинале осилить для резюмирования солидный труд одного из профессоров Массачусетского технологического института, под названием «Десять способов манипуляций через СМИ». Много было наворочено в этой книге, уважаемый профессор, по мнению Веры, отбросил все условности и вел себя как буйный адмирал в состоянии полного шторма. Не будучи специалистом в теме, Вера не запомнила многие его советы, однако пункт № 7 почему-то остался в ее памяти и вылез именно сейчас, когда она размышляла о величии представителей русской национальной культурной элиты, с которыми ей повезло общаться. Тот злосчастный пункт № 7 гласил: один из важных элементов манипуляции сознанием людей через СМИ является побуждение их восторгаться посредственностями.
Боже мой, как предельно ясно предстала перед Верой политика нашего телевидения после встречи с Саввой Ямщиковым и его гостями, которых на телеэкране можно увидеть очень редко! Да, это была большая политика. Это были русские обстоятельства современной эпохи.
Вера долго стояла у Дома Палибина, на котором, по слухам, вскоре появится мемориальная доска в память работавшего здесь Саввы Ямщикова. Вновь и вновь вспоминала противоречащую космополитизму интернета атмосферу памятной встречи с гениями русской культуры. И в душе ее, на что она и надеялась, нарастала сила сопротивления надвигающимся бедам. Ей уже немало довелось перенести: грубые телефонные угрозы, напоминания об отцовской участи, льстивые предложения «решить дело миром», визиты незнакомых людей, склонявших к компромиссу, а затем зло твердивших, что квартира все равно будет куплена, продана и перепродана. Конечно, теперь она была не одна, ощущая крепкую поддержку Донцова. И все же моральный груз «квартирного вопроса» давил все сильнее. Повадки узурпаторов начали меняться, и это указывало на приближение развязки.
Путешествие к Дому Палибина заметно прибавило стойкости. Ямщиков и те, кто был с ним, — хотя некоторые, и сам Савва, уже на бунинском «мировом погосте», — все равно стояли как бы рядом с ней в надвигавшейся битве. Более того, она вдруг ощутила огромную ответственность перед ними: она обязана быть достойной их веры в будущее России, она должна не только выдержать все натиски, не только выстоять в жестком противостоянии, но и победить.
19
Тот морозный день навсегда врезался в ее память. Телефонные супостаты перестали делать секрет из своих намерений, открыто заявив, что вызывать полицию бесполезно — речь идет о споре хозяйствующих субъектов, о возврате старого долга — и что они сами предупредили участкового о предстоящем решительном выяснении отношений. Если упретесь, не откроете дверь, — взломаем замок, и за последствия будете отвечать вы. В последний раз советуем проявить благоразумие и во исполнение былых обязательств пожертвовать одной из комнат. Всё!
Наглый тройной звонок в дверь прозвучал около полудня. И Катерина, выждав полминуты, повернула замок. В квартиру без всяких «здрасьте» не вломились, а ломанулись два молодых «лося». Один — здоровенный гвоздила, выше среднего роста, в заячьей ушанке, другой — малорослый надутый пыжик, коротышка с «кормой», сильно выпирающим вперед подбородком, отчего выглядел он устрашающе, свирепо. Оба в дешевых мышастого цвета нейлоновых куртках до бедер.
— Ну все, мать, игрушки кончились, — с примирительным оттенком сказал длинный. — Давай показывай комнаты, выбирать будем. Мы с собой харчей прихватили, сегодня здесь заночуем, а завтра кредитор пожалует.
Катерина молча, с ужасом глядела на вторженцев, и низенький гаркнул:
— Кому говорят! Оглохла, старая? Показывай хату, не то все вверх дном перевернем.
Он сделал несколько тяжелых шагов по прихожей, направляясь к правой комнате, но внезапно ее дверь распахнулась изнутри, и в проеме появился телохранитель Вова с пистолетом, направленным на «лосей». Спокойно, не повышая голоса, сказал:
— Оружие боевое. Зарегистрировано. При необходимости имею право применять. — И, выждав секунду, но не позволив «лосям» оправиться от шока, наученно, взвинченным, почти на бабьем взвизге, криком приказал: — Оба к стене! При попытке неповиновения стреляю по ногам!
Мужики отпрянули к входной двери, но как раз в этот миг замок щелкнул и в квартиру ворвались Простов с Донцовым. Петр Демидович, не обращая внимания на «лосей», зычно крикнул:
— Вера!
Из кухни моментально выскочила Вера с «готовым к бою» профессиональным фотоаппаратом, несколько раз под вспышку, меняя ракурсы, щелкнула пришельцев и снова юркнула на кухню.
— Та-ак, — удовлетворенно произнес Простов и принялся внимательно рассматривать «лосей». — Полдела сделано, портреты есть. Все идет по плану.
— Руки за спину! — вдруг рявкнул телохранитель Вова, выдвинувшись в прихожую и вращая стволом чуть ниже пояса насмерть перепуганных, ставших жалкими супостатов.
Оба сразу вытянулись в струнку, и Донцов выполнил свою функцию, быстро нацепив на каждого из «лосей» пластиковые наручники.
— Та-ак, — снова с удовлетворением «такнул» Петр Демидович и крикнул: — Вера! А ну-ка, неси пару табуреток, гости устали на ногах топтаться.
Вера выставила в прихожую два круглых кухонных стульчика, Простов поставил их у вешалки и велел «лосям» располагаться. Еще раз внимательно осмотрел их, сказал:
— Ну вот, за этими ушлепками можно и полицию звать.
Но этот заранее продуманный план, включавший даже временный провод со звонком, который Простов через окно спустил с восьмого этажа на седьмой и которым Вера оповестила о появлении «лосей», неожиданно поломал телохранитель Вова.
— Нет, с полицией мы торопиться не будем, — командным голосом заявил он. — Оба они нам не нужны, одного отпустим. Которого? — Прищурившись, прощупал «лосей» взглядом. — Отпущу того, кто назовет имя заказчика.
Тут произошло нечто поразительное. И высокий, и «с кормой» в унисон дернулись, перебивая один другого, заверещали:
— Горбонос! Горбонос! Музыкант. Он послал, он все расписал, должен завтра здесь быть, звонка ждет.
— Телефон, адрес? — жестко спросил телохранитель Вова. — Говорить по очереди. Длинный, давай.
— Кличка Горбонос. Играет в кладбищенском оркестре. Тромбон. Живет на Чистых прудах, адреса не знаю, у него не был. Телефон в мобильнике, но он велел на дело мобилу не брать.
— Короткий? — повернулся телохранитель Вова к «кормовому».
— Так и есть, — прошамкал тот. — Горбонос заказал, дома у него не был, на Чистых прудах рядились. Сперва на июль сговаривались, теперь на зиму переехали.
— Да, сдвинул сроки, — подтвердил длинный.
— Откуда его знаешь? — подключился Простов.
Коротышка оказался словоохотливым, объяснил, что Горбонос из приблатненных, ходка за ним, вроде бугром был. Но не мокрушничал, на авторитета не тянет. Говорили, раньше на калечьем дворе, на живодёрне служил, потом мошенничал, а сейчас старый, стал наводчиком. Сказал, что дело простое, а бабла навалом. Задаток дал просто так, не в счет, на мышеядь.
Длинный согласно кивал, потом сказал:
— Будто бы должник старый у нее. — Указал на стоявшую в стороне Катерину. — Надо выбить. Не баблом, а хатой.
Донцов и Простов быстро переглянулись. Наконец-то явственно мелькнула тень Подлевского.
— Кого отпустим? — нажимал телохранитель Вова.
— А на кой хрен отпускать? — огрызнулся Простов. — Я думал, ты для понта обещал. Грабеж чистой воды.
— Нет, одного отпустить надо, — настаивал телохранитель Вова.
И Донцов, хорошо знавший его, понял: значит, есть у телохранителя Вовы какая-то своя мысль, просто так он не стал бы нажимать, всегда знает, что делает.
— Согласен. Надо бы отпустить, — твердо сказал Виктор ничего не понимавшему Простову. — Которого?
Телохранитель Вова долгим взглядом снова принялся разглядывать «лосей». Спросил:
— В паре давно работаете?
— Первый раз, — ответил длинный. — Нас Горбонос спарил.
Телохранитель Вова твердо взял допрос в свои руки, обратился к коротышке:
— Тебя где подобрал?
— На кладбище. У входа на терезях стоял, торговать помогал.
— Терезях?
— Ну, весы базарные, коромысельные.
— Кто связь с Горбоносом держит?
Длинный кивнул.
— Где телефон?
— На вокзале, в ячейке.
Вера, слышавшая из кухни эти разговоры, не понимала, что происходит. Петр Демидович абсолютно прав: надо скорее вызывать полицию, чтобы забрали бандитов. Чего с ними церемониться? И почему помалкивает Виктор? А этот странноватый, своеобразный человек, называющий себя телохранителем Вовой, уже трое суток живет в их квартире, разговаривает мало, в основном сидит, вернее, лежит в отведенной ему комнате, у телевизора на тихом звуке. Доставляет хозяевам минимум хлопот, от попыток побеседовать во время совместных обедов вежливо и ловко уклоняется. Вера придумала ему кличку «Вещь в себе». Но почему в самый критический момент именно он стал верховодить?
Простов, и тот, видимо, не выдержал. Объявил:
— Чего с ними цацкаться? Сдать обоих в кутузку, а там с ними разберутся.
— Одного отпустим, — твердо стоял на своем телохранитель Вова. — Думаю, вот этого, длинного. — Обратился к Донцову: — Виктор Власыч, зачем полиции двое? Они коротышку будут неделю трясти, пока он Горбоноса не опознает. Если тот вообще на кладбище снова сунется. Исчезнет.
Донцов начинал понимать игру телохранителя Вовы. Горбонос — вовсе не заказчик захвата квартиры, а подрядчик, подыскавший «лосей». Если длинного отпустить, он верняк сообщит Горбоносу о неудаче. Тот поставит в известность истинного заказчика, — а мы знаем, о ком речь, — и рванет в бега, чтобы потом шантажировать Подлевского. Если же Горбоноса возьмут сразу, он Подлевского не сдаст, это его козырь. Да и будет ли полиция доискиваться? Там свои сыскные козни.
Телохранитель Вова навел пистолет на длинного:
— Сейчас тебе срежут наручники, но — без глупостей. Обоймы не пожалею. Лети на вокзал, звони Горбоносу — и пулей из Москвы. Виктор Власыч, сперва дверь приоткройте.
По-прежнему ничего не понимавший Петр Демидович крикнул Вере, чтобы подала острый нож, и длинный, чье имя кануло в историю, на ходу потеряв заячью ушанку, сиганул вниз по лестничным маршам.
Когда коротышка остался один, телохранитель Вова сказал:
— Давайте-ка пересадим его на стул со спинкой и привяжем покрепче. Посовещаться надо.
— Да-а, как писал Козьма Прутков, все мы люди, да не все человеки, — тяжело вздохнул Простов на кухне, когда мужчины остались втроем, предусмотрительно послав Веру в прихожую на дежурство. И телохранителю Вове: — Ты чего затеял?
— Если бы мы длинного сдали, — ответил телохранитель Вова, — Горбоноса уже в ночь взяли бы и заказчик стал бы его отмазывать. Заказчик с большими отмазками работает, сто процентов! После первого звонка почти полгода готовились, спроста ли? Не исключено, они сами Горбоноса грохнут, чтоб концы в воду. Нет, через полицию нам на заказчика не выйти.
— Тут ты, пожалуй, прав, — согласился Простов. — Сколько мы на них профилактически жали! Из Думы звонили, а все без толку. Где-то это дело схвачено. Мздомливая публика там засела.
— Ну вот, пусть с этим брандахлыстом, одаренным кретином, и работают. Он, кроме клички «Горбонос», Чистых прудов и кладбища, ничего не знает. Будет твердить: однажды шел дождь дважды.
Донцов по своей привычке молча обдумывал игру телохранителя Вовы и нутром чуял, что все попусту. Ничего не выйдет. Однако привлекал сам замысел. Передать обоих «лосей» в полицию слишком просто, ну не так сейчас сыскные работают, чтобы выйти на Подлевского. Тут — абсолютный нуль по фаренгейту. Если же Горбонос останется на свободе, он очухается и впрямь начнет теребить Подлевского. Тут другая комбинация может возникнуть. Но телохранитель Вова... Как смело взял игру на себя! Таким Донцов его еще не видел.
В тот день Глаша с утра позвонила маникюрше Кларе и попросила обязательно дождаться ее:
— Руки нужны сегодня комильфо, а когда освобожусь, неизвестно, дел по горло.
Суховей, предупрежденный Подлевским о «дне Икс», сказался слегка занедужившим и отпросился у начальства отлежаться дома — с обязательством отвечать на все деловые звонки и не выключать интернет, дабы при надобности быть в пределах досягаемости. У него уже были заготовлены варианты донесений при различном ходе дела. За полгода общений с Подлевским он неоднократно предупреждал его об осторожности, об отстраненности от роли заказчика, и однажды Аркадий Михайлович в порыве откровенности мимоходом упомянул имя кладбищенского музыканта Горбоноса, когда-то работавшего с его отцом. Этого было достаточно, чтобы смоделировать финальную стадию операции, задуманной Подлевским. Вопрос посчитали важным, доложили генералу, и он тоже ждал развития событий. В «день Икс» Подлевский был на связи постоянно, пока наконец не сообщил весело:
— Ну все, Валентин Николаевич. Горбонос звякнул, что ребята пошли. — Он настолько верил в успех, что совсем потерял бдительность и вновь назвал имя Горбоноса.
Затем настало долгое, слишком долгое молчание. И вдруг Подлевский чужим голосом, срываясь на крик, завопил по мобильнику:
— Все пропало! Горбонос говорит, что лоси нарвались на вооруженную засаду. Одному удалось бежать, другого замели. Горбонос ждет ареста. Валентин Николаевич, он же меня сдаст! Надо действовать немедленно. Включайте свои связи.
Суховей холодно, жестко ответил:
— Аркадий Михайлович, вы звоните очень не вовремя. Я сейчас предельно занят. Позвоните позднее. — И выключил мобильник.
Через пять минут Глаша отправилась в парикмахерскую обновлять маникюр, а уставший за последние дни Валентин завалился спать — конечно, не выключая интернет.
О, как проклинал его Подлевский! «Кинул, подлюга! В самый горячий момент — занят. Врет, конечно. Динамо крутил. Ну, ничего, получит сполна. Бобу я расскажу все в самых мрачных тонах. Этот Суховей не заслуживает ни малейшего доверия. Падла! Горбонос вот-вот начнет давать показания, а этому Суховею, который морочил мне яйца, некогда. Не-ког-да!» У него однажды промелькнуло, что Боб готовит ему повышение, чуть ли не в Москву. «Как своих ушей не увидит он это повышение. Никакой лицензии на рост! Костьми лягу, чтобы дискредитировать его перед Винтропом». Даже Твардовского вспомнил: «Все у сердца на счету». В тот день он сто раз пытался дозвониться до Суховея, натыкаясь на «временно недоступен». И окончательно осознал, что проиграл, попал в ловушку. К вечеру, измаявшись от переживаний, впустую перебрав все возможности спасения, в том числе авантюрные, глупые, нереальные, он, словно побитый пес, пешком доплелся до своей домашней конуры, распечатал нетронутую бутылку «Хеннесси», не закусывая, сделал несколько больших глотков из горла и, не раздеваясь, замертво рухнул на постель.
Жизнь была проиграна.
В десять утра — он успел бросить взгляд на настенные часы — его разбудил звонок мобильного телефона.
— Аркадий Михайлович, — спокойным, деловым тоном сказал Суховей, — в одиннадцать часов я жду вас в кафе «Пушкин», но на первом этаже. Позавтракаем вместе.
Подлевский пружиной взлетел с постели. Голова гудела, мысли путались. Он понимал, что звонок Суховея означает что-то очень важное, однако склонялся к мысли — был уверен! — что его ждут самые искренние извинения за вчерашнее, новый водопад обещаний и клятвы о выполнении задачи, поставленной Винтропом. Новые планы в новых условиях — когда над Аркадием уже висит угроза преследований. Нет, на этот раз он не намерен просить, он будет требовать, угрожая подробным донесением Бобу, которое поставит крест на карьере Суховея.
Подлевский мчался к Пушкинской на такси, но все же опоздал минут на десять. Кубарем скатившись в подвальный гардероб, шагая через три ступени, быстро поднялся на первый этаж и слева, за маленьким столиком, сразу увидел Суховея, потягивавшего через пластиковую соломину какой-то сок. Аркадий плюхнулся на свободное место и, не здороваясь, зло уставился на Суховея. Спросил язвительно:
— Сегодня, Валентин Николаевич, вы не так заняты, как вчера?
Суховей спокойно выдержал ненавистный взгляд и, продолжая помешивать недопитый оранж, равнодушно начал:
— Понимаете ли, Аркадий Михайлович, я вынужден сообщить вам скорбное известие. Сегодня утром на кладбище нашли труп замерзшего человека, которого опознали как Горбоноса. Вчера, как вы помните, был хороший морозец, говорят, музыканты играли, не вынимая инструментов из чехлов и не снимая перчаток. А после траурной церемонии кто-то из погребальной команды предложил для сугреву немного водочки. Видимо, Горбонос не рассчитал, принял больше нормы, заблудился среди надгробий, прилег отдохнуть, да не заметил, что подыскал для себя вотчину в косую сажень, уснул так, что даже в морге не проснулся. По поверью, будет теперь на том свете каленые пятаки голыми руками считать. Нашли его утром, с тромбоном, с документами, без следов насилия. Единственное злокачественное добавление в полицейском рапорте: при нем не было мобильного телефона. Видимо, выронил спьяну.
Пока Суховей спокойным, ровным голосом рассказывал о печальном кладбищенском происшествии, в душе Подлевского бушевал вулкан эмоций. Он не заметил, как официант принес два заказанных кофе, он даже не видел лица Суховея — он слышал только размеренный голос, извещавший его, Подлевского, что он полностью свободен от любых подозрений. Полностью! Горбонос, и только Горбонос мог назвать его фамилию в связи с попыткой изъятия части богодуховской квартиры. Но теперь Горбоноса нет, и опасность не просто отступила — она испарилась! О том, как удалось Суховею провернуть этот наиважнейший вопрос, да и вообще, замешан ли в этом деле Суховей, может быть, речь просто о счастливой случайности, он в тот момент думать не мог.
— Валентин Николаевич, дорогой! — только и воскликнул Аркадий. — Я ваш вечный должник! Я в самых ярких красках перескажу Бобу, какую огромную роль вы сыграли в моей судьбе.
Но Суховей словно не слышал.
— Аркадий Михайлович, у меня, к сожалению, не слишком много времени, — сказал он, допивая кофе. — Вынужден мчаться в Красногорск. Надеюсь, вы расплатитесь за этот скромный завтрак. А я вам за это преподнесу небольшой презент.
Он вытащил из бокового кармана пиджака обшарпанный мобильник и положил перед Подлевским. Пошутил:
— Видимо, любопытная штуковина.
— Что это? — недоумевая, спросил Подлевский.
— Кто-то подобрал мобильный телефон Горбоноса. После прослушивания советую уничтожить.
Поднялся из-за стола и на прощание сказал:
— Вы абсолютно свободны, Аркадий Михайлович. Ничего не было. Можно не пристегиваться.
— Валентин Николаевич! — в избытке чувств снова воскликнул Подлевский, вскочив, обхватив ладонями руку Суховея и потряхивая ее с такой силой, что даже столик закачался. — Спасибо! Миллион раз спасибо! Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вас перевели в Москву.
Суховей прервал:
— Это будет интересно не только для меня, но и для вас. Мы же с вами теперь в дружеских отношениях.
— О-о! — счастливо простонал Подлевский вдогонку Суховею, подозвал официанта и заказал двести коньяка.
Душа жаждала разгула.
Журнал "Москва", 2019, №№ 7-9
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




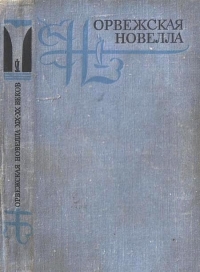


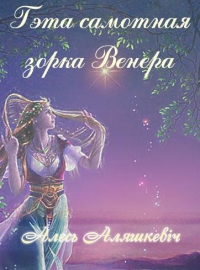

Комментарии к книге «Немой набат», Анатолий Самуилович Салуцкий
Всего 0 комментариев