Матиас Фалдбаккен Ресторан «Хиллс»
Published by agreement with Salomonsson Agency
Издание осуществлено при поддержке Norla (Norwegian Literature Abroad)
This translation has been published with the financial support of NORLA
Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко
Иллюстрация на обложке Дженни Кит
© Matias Faldbakken, 2017
© Jenny Keith, cover image
© A. Ливанова, перевод на русский язык, 2019
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019
Издательство CORPUS®
* * *
Посвящается Иде
Часть I
Пуганая собака жирка не нагуляет.
(Норвежская пословица)Хрюшон
Ресторан «Хиллс» существует с тех еще времен, когда свинья была свиньей, а хрюшка хрюшкой, любит говаривать наш метрдотель, Мэтр; иными словами, с середины XIX века. Вот я тут стою в своей форме официанта, вытянувшись в струнку, и вполне мог бы стоять так сотню лет назад, а то и раньше. Взрослые люди ежедневно совершают рискованные поступки, но я – нет.
Я обслуживаю. Я прислуживаю. Двигаюсь по залу, принимаю заказы, наливаю и убираю. У нас в «Хиллс» люди могут полностью погрузиться в дышащую традициями атмосферу. Они должны ощущать, что им рады, но не чувствовать себя настолько вольно, чтобы забыть, где находятся. Впрочем, есть и исключения – отдельным посетителям позволено вести себя в нашем заведении, как в собственной гостиной. Хрюшона, одного из завсегдатаев (кстати о свиньях), в половине второго по будням ждет постоянное место – столик 10 у окна. Обычно Хрюшон является точно в свое время, но сейчас уже 13.41, а его все еще нет. Проходя по залу, я описываю изящную петлю и выглядываю в холл, но и там никакого Хрюшона не наблюдается. Гардеробщик Педерсен поднимает глаза от газеты. Вид у Педерсена, как говорится, аристократический; он в этой жизни чего только не видел. Посетители сдают ему на хранение свои вещи (куртки, пальто, сумки, зонты), получая взамен номерок, который они возвращают, приплюсовав немного мелочи, и получают эти свои вещи назад, завершая визит. Такие транзакции Педерсен сдержанно, со вниманием и гордостью осуществляет из года в год; свою работу он выполняет на совесть. Все мы тут, в «Хиллс», стараемся как можем. В таком месте старание необходимо. Старание и забота неразделимы, я в этом абсолютно уверен.
Ланч уже в разгаре, основной зал заполнили представители верхнего среднего класса: кожа гладкая, речь плавная. Одежда элегантная. Ближе ко входу стоит ряд небольших столиков с классическими для кафе мраморными столешницами. На этом пятачке шумят сильнее. Столы на отдалении от входа накрыты скатертями. Позвякивает посуда, но все звуки приглушены. Столовые приборы движутся по фарфору, затем взмывают ко рту. Зубы перемалывают, гортань приподнимается и опускается, глотая. Тут у нас главное – питание, и я создаю условия для него. Сам я никогда здесь не питаюсь. Я наблюдаю за поглощением пищи. Между восприятием вкуса ядреного шевра «пикодон», вызывающего гастрономический фейерверк в полости рта, и наблюдением за губами вкушающего этот шевр дистанция немалого размера. По континентальному обычаю, я выставляю на каждый столик как можно больше посуды. Свободного места почти не остается, но я нахожу возможность втиснуть еще несколько бокалов, десертных тарелочек, еще бутылочку. Создается впечатление изобилия и богатства.
Не особенно большая, но тяжелая люстра, подобно хрустальному мешку или кошёлке, свисает с низкого сводчатого потолка над круглым столом в центре помещения. Размером она со среднюю торбу. Всмотревшись, разглядишь на полу почти стершуюся мозаику, уложенную концентрическими кругами. Деревянный декор выполнен с большим тщанием, отполирован дотемна прикосновениями ладоней. Одну стену целиком занимают два великолепных зеркала. Отражающий слой с обратной стороны стекла кое-где потрескался, образовав благородную патину. Дубовые рамы, в форме которых ощутим югендстиль, были смонтированы в 1901 году. Это мне Шеф-бар рассказала, расцветив историю подробностями о том, как заготовки доставили с Экебергского холма на повозке, в которую была запряжена лошадь самого Фрица Таулова. Шеф-бар – ходячая энциклопедия нашего заведения, лицо у нее профессорское, только доброе, у профессоров таких не бывает. От ее взора никакая мелочь не ускользнет.
«Хиллс» напоминает венское кафе, но расположен не в Вене. Похож он и на европейские гранд-кафе, но чуть более обветшал, чуть сильнее износился и чуть не дотягивается до истинно европейского великолепия. Само помещение и расположенное в нем заведение существуют под вывеской «Хиллс» уж скоро 150 лет. Название образовано от фамилии основателей – семьи Хилл, которая с 1846 года владела располагавшимся в здании магазином готового платья. Шеф-бар все об этом знает. Глава семейства, Бенджамин Хилл, легендарный денди с трагической судьбой, перебрался сюда из английского Виндзора, профукал две трети фамильного состояния и потерпел оглушительное банкротство, закончившееся для него попыткой самоубийства и последующей инвалидностью. Помещение отошло предпринимателю, открывшему в нем ресторан под названием «Ла Гренада», но прежняя вывеска из свинцового стекла, занимающая значительную часть фасада и намертво к нему прикрученная, была столь дорогостоящей и искусно исполненной, что пришлось оставить ее in situ[1]; в народе, как и можно было ожидать, заведение продолжали называть «Хиллс». Разворотливый сын Бенджамина Хилла вновь выкупил помещение, принял на себя руководство рестораном и восстановил название, под которым он был основан. «Хиллс» и по сию пору остается семейным заведением.
С гнутой латунной трубки, смонтированной над входной дверью, ниспадают две плотных суконных портьеры, края которых, дабы не обтрепались, подшиты телячьей кожей. Портьеры защищают от сквозняка. Из-за этих портьер, хиллсовского портала, или, если хотите, из-за сценического занавеса, появляется, наконец, Хрюшон, улыбается, кивает. Времени уж скоро без десяти, то есть на грани допустимого. Я не улыбаюсь и не киваю в ответ. Официантам дано распоряжение не делать этого. Я по натуре неулыбчив и не любитель кивать. Мне не требуется специально напрягаться, чтобы следовать инструкции: встречайте посетителей с непроницаемым, но услужливым выражением на лице. Бесстрастная мина – составная часть профессии.
– Пришлось задержаться, сожалею, – говорит Хрюшон извиняющимся тоном, слегка подхохотнув; не прихрюкнув, а как бы заржав. Как назвать ржание осла? Вскрик? Смех Хрюшона похож на пронзительный вскрик. Мне не раз приходила в голову мысль, что Хрюшон, в переносном смысле, осел, каким мы его знаем из европейской мифологии и литературы – то есть не древнегреческим «упрямым и глупым», а библейским «надежным и преданным». Но сейчас он, выходит, надежности не продемонстрировал.
– И сколько нас будет сегодня?
– Четверо вместе со мной, – говорит Хрюшон.
– Остальные уже в пути?
– Полагаю, что так.
Одеваться можно по-разному. Хрюшон избрал единственно приемлемый стиль: безупречный. Он постоянно появляется в новых костюмах, и, судя по покрою, качеству шитья и тканей, костюмы эти созданы руками портных на Сэвил Роу или близ того. Разменявший седьмой десяток, облаченный каждодневно в подобные наряды, он являет собой образчик представительного мужчины и достойного клиента. Хрюшон для «Хиллс» идеальный посетитель. Вот почему мы позволяем ему выходить за рамки допустимого в том, что касается количества резервируемых мест. Хрюшон не испытывает недостатка в средствах, это сразу видно, но и не любит привлекать к себе излишнего внимания. Регулярно, но без ажиотажа, выказывая неизменную любезность, неизменную безупречность наряда и манер, он привлекает в «Хиллс» все новые лица, все новых знакомых, приглашая их преимущественно на ланч, иногда на обед.
– Для вас как обычно столик у окна, – говорю я, рукой показывая путь, прихватываю четыре меню и сопровождаю его по залу. Отточенными движениями я отодвигаю для него стул, произношу привычную формулу: – Воды, пока изучаете меню?
– Да, будьте добры.
И разворачивается спиной, что позволяет мне аккуратно подвести стул к сгибам его подколенных впадин. Голову Хрюшона обрамляет мощная грива седых волос, которую он укрощает, еженедельно подравнивая. Седина появилась у него, когда ему не было еще и тридцати, он тогда строил карьеру во Франции, где и получил прозвище Крюшон – «графинчик», потому что всегда заказывал себе графинчик белого бургундского. По возвращении в Норвегию Крюшон тут же превратился в Хрюшона. Брови у него все еще черны и придают его лицу то ли интеллигентное, как у Кастелли, то ли собачье, как у Скорсезе, выражение.
Блез
За роялем, установленным на антресолях, сидит наш пианист старик Юхансен и всматривается в пространство куда-то слева от себя, в направлении сводов потолка. Тупоконечные, какие-то (римско-)папские пальцы легкими движениями, но с тяжкой покорностью привычной рутине бегают по клавишам, извлекая из них неприметно перетекающие одна в другую мелодии. Годится ли эта музыка для застолий? Наш Юхансен выбирает великих композиторов, но тем не менее это застольная музыка. Порой, не прекращая рассыпать несущиеся в зал звуки, он прикрывает глаза. Старый колобок Юхансен. Голова плавно клонится к плечу, кажется, он задремал на секунду, но тут он встряхивает головой, глаза открываются. И так он шпарит часами, без остановки. Уже с полтора поколения он сидит, крутя головой, на антресолях, под самым потолком, и каждый день сплетает звуки в ласкающие слух посетителей мелодии. Нам редко удается перекинуться словечком, поскольку рабочий день у нас начинается в разное время, но, говорят, он умеет ядовито пошутить.
На полках невысокого стеллажа, стоящего между двух колонн в центре зала, сложены сгибом наружу, чтобы легче было считать, салфетки. Сверху на стеллаже установлена застекленная ширмочка; на стеклах едва проступает, как и положено в стиле югенд, узор. Ширма разгораживает двенадцатый и восьмой столики. Если у меня выдается свободная минутка, я рад прогуляться до стеллажа с салфетками и, скрытый от глаз публики ширмой, сложить их поаккуратнее. Ванесса работает у нас не так давно и немножко халтурит с этим. Я слежу за тем, чтобы вензель «Хиллс» на салфетках располагался в правом дальнем углу и был обращен кверху.
– Что, найдется сегодня белое бургундское? – спрашивает Хрюшон.
– Разумеется.
Прежде чем задать следующий вопрос, я из вежливости пропускаю два такта; впрочем, ответ мне и так известен.
– Бокальчик, или возьмем бутылочку?
Хрюшон размышляет с минуту.
– Пожалуй, бутылочку.
Внезапно он встает, я едва успеваю выдвинуть из-под него стул. Он протягивает руки навстречу стильной паре, пробирающейся к нам между столиками.
– Блез! (он произносит, Блес!) – с энтузиазмом восклицает Хрюшон.
А затем зачарованно: – Катарина.
Блез Энгельберт муж Катарины, Катарина жена Блеза. Это ближний круг Хрюшонова общения, особенно Блез. Блезам достались зрелые версии друг друга, как любит формулировать Шеф-бар; пожалуй, несправедливо было бы назвать это старыми версиями, говорит она. Чтобы найти друг друга, каждому из них прошлось проделать долгий окольный путь через светские круги Осло (в чем бы это ни проявлялось), и теперь каждый из них, продолжает иногда Шеф-бар, старше, чем все их былые пассии и возлюбленные.
Катарина идет первой, ставя одну ногу перед другой таким образом, чтобы ее хорошо сохранившаяся фигура сорока трех – сорока пяти лет от роду решительно двигалась в направлении Хрюшона. Блез, будучи старше жены какими-нибудь семью годами, следует на шажок позади, облаченный в серый костюм, качество которого не уступает Хрюшонову, а возможно, чуть превосходит его. Шаг Блеза пружинист, на шее повязан превосходный галстук.
Элегантность – вот слово, которое всегда носится в воздухе вокруг этого человека. Позади них семеню я, отодвигаю стулья и получаю подтверждение, что они желали бы, чтобы в бокалы им были налиты вода и вино (ради этого никому из них не пришлось проронить ни словечка).
Меню у нас выглядит вполне по-французски, оно деликатно отпечатано слегка разреженным Бодони. Вот слова, фигурирующие на двух густо исписанных страницах: шкварки, морской язык, козлятина, голубая плесень, римский тмин, профитроли, топинамбур, тарталетки, буйабес, каракатица, икра ряпушки, финик, лопатка, рийет и кит-полосатик. На любое из этих и еще многих других слов можно показать пальцем, и шеф-повар с помощниками со знанием и умением приготовит это, а затем я или, к примеру, Ванесса вынесем блюда в зал и наши клиенты отправят их себе в рот кусочек за кусочком. И трюфели тоже можно заказать. Трюфель – это вершина всего.
Ванесса – относительно неопытная официантка с нежной внешностью и короткой мальчишеской стрижкой; талант Ванессы стреножен амбициями. Она расправляет скатерти, я же, прохаживаясь по залу, то подливаю в бокалы там, то обихаживаю клиентуру сям. Бедняга актер, которого недавно поймали на подделке документов, просит добавить, а его глазные яблоки уже приобрели заметную водянистость. Предоставив сотрапезникам Хрюшона минуту-другую на изучение меню, я возвращаюсь ровно к тому моменту, когда требуется разлить воду по бокалам. Не успеваю я задать вопрос, как Блез не колеблясь отметает белое бургундское. Он делает несколько долгих глотков воды, и я немедленно доливаю ее до нужного уровня. Теперь он показывает, что можно налить вина. Всякий раз, подлив в бокал, я слегка поворачиваю бутылку по часовой стрелке, чтобы подхватить последнюю каплю. Тактично склоняюсь над плечом Хрюшона и в мягкой форме интересуюсь, будем ли мы дожидаться последнего, четвертого сотрапезника. Хрюшон смотрит на наручные часы.
– Ничего от нее не слышно? Времени уже 14.03. Мы уже полчаса ждем.
Блез с женой качают головами.
– А она обещала? – говорит Блез.
– Разумеется, – говорит Хрюшон. – Разумеется.
У Блеза удлиненный моложавый затылок. Он тянет шею, вглядываясь в сторону входа. Линия роста волос четкая, угол наклона носа и бровей, изгиб скул с отточенной ритмикой повторяют линию роста волос, плавно опускающуюся от виска к уху. Шея мальчишеская, несмотря на возраст, взгляд живой. Образуя элегантную складку, воротничок рубашки на 6–7 ласкающих глаз миллиметров отступает от кожи на затылке. Блез мускулист, но не перекачан, он в тонусе, но не напряжен. Когда он говорит, почти что шепотом, Катарина и Хрюшон наклоняются к нему поближе. У Блеза необычный голос. Можно было бы ожидать надменного нажима, такое часто слышишь из уст красивых, чуть ли не напыщенных мужчин; его же речь звучит уверенно, авторитетно, но дружелюбно, даже, пожалуй, чувственно.
– Желаете подождать немного? – говорю я, стараясь избежать настырности в голосе.
Хрюшон снова взглядывает на циферблат, Блез тоже приподнимает левую руку и встряхивает ею, обнажая часы на запястье. Выясняется, что это шикарный экземпляр от А. Ланге унд Зёне, неужели же элитные «Гранд Ланге 1»? Капельку франтоватости у него, у Блеза, не отнимешь.
– Можете принять заказ, а кто задержался, тот… – говорит Хрюшон, намекая знаками сначала одной, затем другой руки, что заказ придется позднее откорректировать. Я вперяюсь взглядом в жену Блеза, давая понять, что она может начинать. Катарина выбирает салат-меш с козьим сыром «Монте Энебро», орешками, зернышками и заправкой из гранадиллы.
– Можно мне побольше орешков и зернышек? – говорит она.
– Побольше орешков и зернышек, – повторяю я.
Прежде чем остановиться на густом ризони с виноградным луком, Блез успевает дважды передумать. Такая переборчивость, очевидно, несколько коробит Хрюшона – очевидно для меня, не для Блеза с супругой. Я поворачиваюсь к Хрюшону. Теперь его черед. Он не спешит с выбором.
– А вот эта ваша форель из Валдреса… – говорит он.
– Да?
– К ней какой пресный хлеб пойдет лучше, что вы посоветуете?
– У нас есть хемседалский пресный.
– Ну пусть.
– И у нас есть к ней великолепный сметанный соус-дип, – произношу я, опустив и снова подняв согнутый крючком указательный палец в качестве иллюстрации к «дипу». Что это со мной такое?
– Да нет, спасибо. Мне, пожалуйста, без дипа. Форель так форель.
– Отлично.
Стены
Над панелями, которыми обшиты по периметру стены «Хиллс», висят бесчисленные портреты, рисунки и живописные полотна; под ними на протяжении десятилетий наклеивались всяческие бумажки. У нас это можно. Так заведено. В последнее время клеют не столь активно, но то тут, то там по-прежнему появляются новые наклейки. Откуда пошла эта традиция, точно никто не знает, но, по слухам, зачастившие сюда в 20-е годы «авангардисты» затеяли сыграть шутку над богачом, для которого в обеденное время бронировался постоянный столик в другом конце зала. В чем собственно состояла шутка, с сегодняшней временной дистанции уяснить трудно; главное же, что внизу, у самого плинтуса, до сих пор приклеены ветхие пожелтевшие вырезки из газет, где речь идет об этом финансисте по имени г-н Грош. Авангардисты нарезали газетные колонки тонкими полосками и наклеивали их на стены с самого низу, предпочтительно параллельно плинтусу; по замыслу клеятелей, делалось это в пику г-ну Грошу. Постепенно эти несуразные наклейки расползлись от плинтусов кверху; в 30-е и 40-е годы к ним добавились листовки и коротенькие памфлеты, воззвания, в основном политического характера; позже, в 60-е и 70-е, прямо поверх них стали лепить коммерческие наклейки, сначала старые эмблемы топливных компаний «СТП» и «Галф», потом «Кастрол» и «РФИ», следом – эмблемы футбольных и гребных клубов, и так далее, и все это образовало конгломерат, покрывающий панели сегодня.
Можно было бы провести археологическое исследование, вскрыв наслоения и обнажив все пласты – от наклеек самых глубинных, закопченных, приобретших вид золотисто-коричневого пергамента, до самых свежих, от жизни ранней богемы – до расцвета спорта и торговли. Сами панели, едва видимые через узенькие просветы между наслоениями наклеек, темнеют матовой чернотой, они почти так же черны, как потолок над головой повара на кухне. Кажется даже, будто между наклейками пустота. Трудно определить, где кончаются наклейки и начинаются панели, а значит, начинается (эвентуально, заканчивается) и сам «Хиллс»; считать ли стену началом или концом зала, помещения, здания. Пожалуй, Европа и впрямь видала лучшие дни. Можно утверждать, что идею Европы лучше всего отражает европейское гранд-кафе.
Поверхность стен, неоднократно покрытая слоями блестящего бежевого лака – это бенга, похоже? – и приобретшая, прошу меня извинить, коричневый оттенок поноса, от панелей до потолка плотно увешана картинами и рисунками, есть тут и пара-тройка коллажей. Произведения искусства «аккумулировались» в «Хиллс» годами, благодаря чему здешнюю коллекцию будет справедливо охарактеризовать как значительную в национальном масштабе. Тут у нас Револд, там Пер Крог, а возле столика номер пять – даже маленький набросок Оды Крог. В 90-е годы обсуждался вопрос сохранности коллекции в микроклимате «Хиллс», но семья всегда жестко настаивала на том, чтобы картины, полученные рестораном в дар, в нем и висели. Теперь, после введения закона о курении, с этим проще, но некоторые из ранних поступлений обрели табачно-коричневый оттенок.
Хотите верьте, хотите нет, но над столиком номер шесть висит небольшой докубистский пейзаж маслом работы Брака. А чуть подальше, возле ширмочки, великолепный рисунок Леже мелом. Висящий с правой стороны над баром простенький коллаж Швиттерса, заключенный в уродливую тиковую рамку, пожалован самим Швиттерсом, выбравшимся то ли в тридцать четвертом, то ли в тридцать пятом году в столицу с островка Йертёйа. На торцевой стене красуются два графических листа Гюннара С., и еще один – под антресолями. Крупные и мелкие работы рассованы по стенам в беспорядке. У нас в «Хиллс» никогда и речи не шло о том, чтобы что-то «перевесить»; новые поступления вешают там, где найдется место. И так продолжается по сию пору. Современное искусство втискивается в промежутки между произведениями искусства прошлого. Старое и новое, чистенькое и запылившееся висит бок о бок. Качество даров существенно разнится. Рисунок углем руки Андерса Свура размером в какие-то 15 × 20 см висит рамка к рамке с ранним полароидом Эда Рушей и атипичным фроттажем Козимы фон Бонин. Шарж Финна Граффа, изображающий Владимира Путина в образе лемура, касается, чисто физически, посредственной видовой открытки Киппенбергера. Так все это и расползлось по стенам, сверху донизу, от потолка до того уровня, где начинаются панели с наклейками. Да, я действительно сказал Киппенбергер. Там висит Киппенбергер. А вон снимок, сделанный Вали Экспорт. И есть у нас кричащий, но славный маленький Ширер с изображением металлической головы, стоящей на вершине горы и обозревающей окрестности.
Именно в связи с хиллсовским собранием произведений искусства стоит упомянуть еще одного постоянного посетителя, Тома Селлерса. Он прямая противоположность Хрюшону. Селлерс обретался в Дюссельдорфе и Кёльне (нужные места) в нужное время и, говорят, сделался не последней фигурой в тех кругах, где вращался Киппенбергер. Селлерс всегда отрицает это, ассоциация с Киппенбергером – меч обоюдоострый. Сам Селлерс художником никогда не был, его это не интересует. Но, как и за всеми «фигурами» из «кругов», «близких к Киппенбергеру», за ним оттуда все еще тянется некая аура, и он наверняка якшается со многими другими «фигурами» из «тех кругов» – и имеет тем самым доступ к произведениям, к каким у большинства доступа нет. Изрядная доля лучших работ, подаренных за последние 15–20 лет, оказалась у нас благодаря Тому Селлерсу. Это он в свое время преподнес нам простенький рисуночек Вернера Тюбке с изображением ступни; рисунок висит у торца барной стойки. Его самый ценный дар – крохотная акварелька Виктора Гюго, на которой осьминог парит над замком в долине Рейна; выполнена она сажей, кофе и угольной крошкой в технике вымывания, типичной для рисунков Гюго. Своей меценатской деятельностью Селлерс заработал у нас немалый кредит доверия. Однако его вклад влечет за собой некий прицеп, нарост, добавку – налет разболтанности, беспорядка и неуправляемости. Но в «Хиллс» и этому есть место. У нас никто не должен чувствовать себя стесненно, говорит М. Хилл, исполнительный директор.
Еще на стенах висят портреты постоянных посетителей прошлых лет. Чтобы заслужить портрет, мало быть видной персоной (в области финансов, культуры или науки), необходимо еще проводить у нас достаточно времени и оставлять звонкую монету. Упомянутый актер (погоревший, прогоревший) не удостоился чести иметь здесь свой портрет, а после того как его оштрафовали за скандальную подделку документов, у него вряд ли осталось достаточно денег, чтобы в грядущие годы сорить ими здесь. Портрет Хрюшона тоже блистает своим отсутствием, но по иной причине: когда исполнительный директор намекнула, что пора бы уже таковой написать, Хрюшон вежливо отклонил предложение. У Хрюшона хороший вкус. Искусство его безусловно интересует. Поговаривают, что дома у него есть отличный Киттельсен. «Вы знаете, – по словам Шеф-бар, сказал Хрюшон M. Хилл, – когда, как я, изучаешь офорты Карла Ларссона столько лет, то, как бы это сказать, сложновато найти портретиста, который бы… ну, вы меня понимаете. Сами знаете… в наши-то дни. Но спасибо, что предложили».
Молодая дама
К тому времени, как я выношу заказ Хрюшона, последний сотрапезник еще не появился.
– Вас не затруднит посмотреть, нет ли того, кого мы ждем, в гардеробе? Это молодая девушка… дама, – приглушенно просит он.
– Извольте, – отвечаю я.
Хрюшон вытаскивает телефон и показывает мне фото девушки. Что за манеры? Совсем не похоже на Хрюшона. У стойки гардероба образовалась небольшая очередь из пожилых мужчин. Я не знаком с той, кого мне описали как «молодую» и «девушку… даму», но здесь таких явно нет. Старый Педерсен управляется с одной мужской курткой за другой.
– Кто-нибудь пришел на встречу с господином Грэхемом? – громко спрашиваю я. Четверо никак не реагируют, один слегка качает головой. Я спрашиваю Педерсена, но он никого не видел. Выхожу на улицу и смотрю сначала направо, в сторону трамвайной остановки, потом налево, в сторону Стортинга. Мой взгляд скользит по так называемой «танцевальной ямке» – впадине в асфальте, в которую однажды угодила вдова Книпшильд. Все официанты видели, как она запнулась, и, чтобы не упасть, ей пришлось сделать резкий выпад другой ногой; при этом она взмахнула руками, так что могло показаться, будто она исполняет эдакое рок-н-ролльное па, отсюда и название «танцевальная ямка».
Конец ноября, и, хотя стоит прекрасная погода, мне не удается сполна насладиться ею. Привычка – это плат, скрывающий природу вещей, как говорится. Несмотря на сияние осеннего солнца, город кажется выцветшим, всегда одинаковым, банальным.
– Я ее не видел.
– Гм.
Хрюшон позволил себе неторопливо пригубить белого бургундского. Блез не сводит с него взгляда.
– Позовите меня, если понадобится еще что-нибудь, – говорю я.
За те 13 лет, что я здесь работаю, я ни разу не видел, чтобы спутники Хрюшона проявляли раздражение или повышали голос, но сейчас Блез обращается к Хрюшону весьма решительным тоном. А Хрюшон, о котором ни в коем случае нельзя сказать, что он слаб и податлив, исполняет серию извиняющихся жестов. В конце концов, в 14.22, Блез поднимается со стула так, что тот с визгом проезжается по полу, отшвыривает в сторону льняную салфетку и направляется к выходу жестким шагом промышленного босса. Я исподтишка бросаю взгляд на Шеф-бар, чтобы удостовериться, что она это тоже заметила – разумеется, заметила, как и всегда, – затем делаю несколько шагов вперед и, переступив границы дозволенного, касаюсь ладонью спины несколько взбудораженного Хрюшона, между лопаток. Катарина, подобрав по одному орешки и семечки, машинально убирает свои бебехи в сумочку и беззвучно поднимается.
– Все хорошо?
– Да, не беспокойтесь, – говорит Хрюшон.
– Не нужно ли чего-нибудь?
– Нет, благодарю. Посчитайте нас, пожалуйста.
Хрюшон одну за другой отделяет купюры от пачки, а Ванесса принимается убирать со стола, чуть рановато, чуть (слишком) поспешно. Никто из сидевших за столиком заказанных блюд не доел, и белое бургундское придется вылить; бутылка еще наполовину полна драгоценной жидкости. Это дело я беру на себя, без колебаний выплескивая белое бургундское в сточную раковину. И виноградный нектар из Алокс-Кортона исчезает в клоаке. Хрюшон, накрыв одной мягкой ладонью другую, остается сидеть в ожидании, пока я вернусь со сдачей, которую он все равно оставит, но я позволяю ему исполнить этот невинный ритуал с подвиганием тарелочки в мою сторону и произнесением формулы «это оставьте себе», после чего я сердечнейшим образом благодарю за чаевые, или начаи, те денежки, на которые официант, согласно традиции, мог по окончании смены выпить чаю или чего покрепче. Я-то не большой любитель выпивать, и мои смены имеют обыкновение затягиваться. Хрюшон движением ноги оправляет штанину и удаляется, развернувшись к нам чуть скошенной на один бок спиной.
– Не каждый день с Хрюшоном так обходятся, – замечает Шеф-бар.
– Что верно, то верно, – говорю я.
Как по заказу появляется Мэтр. Когда дело пахнет керосином, он тут как тут. – Что происходит? – спрашивает он. Сейчас начнет выпытывать. Начнет руководить. Он мнит себя хозяином заведения, возможно, потому, что и отец его был здесь метрдотелем, и отец отца. Не кривя душой, с нейтральным выражением лица, я говорю, что затрудняюсь определить. Он долго смотрит на меня в упор и по обыкновению постепенно приближает свое лицо к моему. Лицо ребенка представляет собой, как правило, чистую округлую поверхность, холст для важных в символическом смысле черт, глаз и рта. На лице ребенка выделяются глаза и рот. Глаза и рот могут придать лицу обворожительную прелесть, с их помощью мы общаемся, по ним можно прочитать неуверенность, радость и печаль. С возрастом же в лице все сильнее проступает собственно лицо. Глаза и рот оттесняются на задний план самим лицом. Лицо Метрдотеля представляет собой разительный пример этого «торжества морды». Его глаза, когда-то наверняка ясные и сияющие, теперь мало того что ввалились и стали бесцветными – они еще и несоразмерно малы для такой обширной физиономии. Мешки под глазами чуть ли не выразительнее самих глаз. Если в детские годы выражение его лица складывалось в основном из выражения глаз и рта, то сейчас в них читается минимум того, что «происходит» на лице в целом. Губы, когда-то упругие, пухлые и нежные, теперь плотно сжаты в щелку с вертикальными морщинами в уголках: кажется, будто Мэтр постоянно дует в поперечную флейту. То, что осталось от «губ», в лучшем случае функционирует в качестве своего рода ставня, прикрывающего пожелтевшие зубы. Много лба, челюстей и щек, местами гладких и блестящих, местами изрытых расширенными порами, изборожденных морщинами. Его лицо окрашено в бесчисленное множество цветовых оттенков и нюансов, покрыто мелкой сеточкой лопнувших сосудов, изнурено годами бритья, похлопывания ладонями, смоченными лосьоном, а также потреблением алкоголя. Некоторые мины и гримасы обрели сложившуюся форму. Не велика хитрость по внешнему виду определить, что творится у него внутри, насколько бы церемонно он ни держался.
– Счастье с несчастьем соседи, – говорит он.
Вообще-то я не мастер читать по лицам. Если мне захочется встретиться со своими треволнениями лицом к лицу, так сказать, то мне достаточно посмотреться в зеркало. Мое лицо будто слепок треволнений, мучивших меня годами, треволнения – форма отливки моего лица. Часто, чувствуя, как стягивается кожа на лице, я представляю, какие черты проступают на нем при этом; треволнения сжигают ткани и подкожный жир. Я чувствую, как уголки рта тянет книзу. У меня напряженное лицо, вот что. Я ощущаю, как чувства хозяйничают у меня на лице и старят его. Как им это удается? Что невоздержанность в употреблении спиртного может попортить и обезобразить лицо, это понятно, что кровеносные сосуды и поры расширяются под действием алкоголя, логично, именно эта драма и разыгрывается на лице Мэтра. Но что лицо могут изрезать эмоции, это мне кажется несправедливым. Если у тебя есть нервы, в конце концов у тебя будет нервная физиономия. Почему так устроено? Разве лицо – это игрушка для нервов? Что человек лицом общается, это очевидно, но если человек пытается скрыть свою нервозность под бесстрастной миной, а в конце концов все-таки оказывается обладателем нервной физиономии, то для чего это надо? Что за эволюционный тупик? Когда ребенок плачет, все кидаются ему на помощь, а вот когда в обществе появляется нервная физиономия, все разбегаются. Никто не бросается спасать нервную физиономию.
Шеф-бар говорит, что иногда Мэтр прячется за углом и мажет физию лосьоном. Вот она и блестит. Ну и смех! Он умело прячется, но мне слышно, как он намазывается, говорит Шеф-бар. Мы с Шеф-баром можем втихомолку посмеяться над этим слышимым намазыванием. Но главное, говорит Шеф-бар, чтобы, например, Селлерс с компанией не пронюхали об этом. На такой мелочи они вполне способны выстроить целую систему издевок.
* * *
В самом начале четвертого, раздвинув суконные портьеры, входит молодая дама. Направляется прямиком ко мне и осведомляется о Грэхеме, то бишь о Хрюшоне. Голос у нее сразу и располагающий, и резкий, и ей удается выжать из меня серию подтверждений. Грэхем ушел уже? Да. Он был не один, со спутниками? Да. А среди них был мужчина средних лет? Был.
Девушка похожа на свое фото, я переживаю легкое дежавю. Толщиной – или, наверное, лучше сказать, тонкостью – с модный журнал о стильной жизни. Присущие ей самоуверенность и апломб легко принять за ум; может быть, это ум и есть. Она выглядит как излишество, замаскированное под аскезу. Возможно, это звучит ужасающе, вы уж меня простите, но у меня возникло чувство, что такие как она являются продуктом женоненавистничества – это я в хорошем смысле.
Не хотелось бы надолго задерживаться на одном месте, как заезженная пластинка, но скажу: те, кому знаком живописный портрет пятнадцатилетней Элизы Тведе кисти Матиаса Столтенберга, еще головка ее очень хорошо прописана, смогли бы уловить определенное сходство. Пожалуй, стоящая передо мной девушка представляет собой более светлую версию Тведе. Версию, в жизни которой меньше ощутимых забот. И окутанную в своего рода оглушительную современность, нужно, наверное, добавить, со всем отсюда вытекающим. Она приоделась во что-то потрясающее от Дриса ван Нотена и носит это с шиком, что очень не многим дано. На ногах у нее туфли от Аквазура, они в прекрасном состоянии, на кончиках шнурков – яркие маленькие помпончики. Но, как говорится, за всей этой элегантностью скрывается undethronable tackiness[2]. Пожалуй, эту девушку можно охарактеризовать как ценность, притом что я не знаю в точности, что бы это могло значить. С какого рода персоной мы тут имеем дело? Она что, новый флагман Хрюшона?
Хрюшон осторожен во всем, что касается так называемой безвкусицы, это относится и к противоположному полу. Вокруг него неиссякаемым круговоротом вращаются ухоженные особы женского пола, но все они принадлежат к типу уже определившихся. В том смысле, что ни одну из них не заподозришь в тщеславии, ни одна не тянет шею в надежде где-то здесь, у нас, найти удовлетворение своих жадных амбиций. Особа женского пола, вовлеченная в круг общения Хрюшона, это особа женского пола, уже усвоившая все правила игры, женщина, по виду которой нельзя сказать, что ей «требуется» Хрюшон, и, наоборот, которую Хрюшон никоим образом не может «использовать» – иными словами, женщина, являющаяся ровней Хрюшону, равноценная женщина.
Но стоящий передо мной экземпляр несколько молод для этого, вроде бы? Может быть, родственница?
– Я могу вам как-то еще быть полезен? – говорю я.
Девушка не отрывает взгляда от украшающей пол мозаики. В центре каждого мозаичного круга камушками выложено по три стилизованных пиона нежнейшего розового цвета. Она поднимает глаза и этим сразу же накидывает себе десяток лет.
– Нет, я вернусь попозже. Передайте, пожалуйста, что я заходила.
– Мы ждем господина Грэхема только завтра. А вы не из Грэхемов?
– Что?
– Да нет, так. Прошу прощения.
От девушки исходит какое-то холодное свечение, и когда она удаляется, поблагодарив, на ее месте образуется так называемый человеческий вакуум – или явственно ощутимое отсутствие. Когда она проскальзывает за суконные портьеры, свет в «Хиллс» тускнет на пару физических единиц. Как выражается мой друг Эдгар, такой изгиб талии являет собой последний бастион потребительской стоимости. Подходит Мэтр и берет меня под локоток; я при этом ощущаю определенную неловкость, поскольку стремлюсь на своем рабочем месте соблюдать дистанцию. Не прыгай слишком высоко, о свою же бороду запнешься, говорит он, намекая прикосновением руки на то, что я не должен забывать о своих трудовых обязанностях. Я бросаю взгляд в сторону Шеф-бара. Вид у нее озадаченный. Неужели она не знает, кто такая эта девушка? Чтобы Шеф-бар пришла в замешательство в деле атрибуции клиентов, это редкий случай. Ее ментальная карта посетителей кафе и ресторанов в Осло не знает пробелов. Шеф-бар – ходячий справочник. Она проявляет такой интерес к клиентуре «Хиллса» и так ее изучает, словно это научная дисциплина – или по крайней мере своеобразное хобби. Шеф-бар обладает так называемым каталожным знанием нашей клиентуры. В том, что касается наших посетителей, она подобна коллекционерам винила. Ее эрудиция может действовать на нервы, как могут действовать на нервы коллекционеры винила, или как могут действовать на нервы, скажем, мужчины, обладающие глубокими познаниями в области велосипедной техники, или сотрудники фотомагазинов – словом, мужчины, «полностью повернутые» на своем пристрастии. Но во имя справедливости следует упомянуть, что время от времени она делится информацией, которая дарит мне радость. Не пользу, а именно угодливую радость. Сейчас же Шеф-бар – воплощенная растерянность.
Каждое утро
Строгий распорядок и обслуживание клиентов – испытанное средство в борьбе с внутренними помехами. Я стараюсь быть занятым постоянно. Мои рабочие дни кажутся нескончаемыми, и это меня устраивает. Каждое утро начинается с облачения в тужурку официанта. В тесной раздевалке за кухней я снимаю с вешалки белую тужурку. Засовываю в рукав одну руку, затем другую. Оправляю тужурку, поддергивая ее на плечах. Продеваю роговые пуговицы в петли. Всегда одно и то же. Чистая рутина. Эта тужурка у меня уже лет восемь, не меньше. Тужурки нам поставляет производитель из Бельгии, еще они шьют походные рубахи для военных. Качество наших тужурок высочайшее: их строчат из того же типа тонкого хлопчатобумажного полотна простого переплетения, что и рубахи для военных, и они такие же износостойкие. Тужурки однобортные, застегиваются спереди на костяные пуговицы диаметром 25 мм матового черного цвета и снабжены двумя небольшими карманами; в правом я держу исключительно ключ для открывания бутылок, левый большую часть времени пуст. Тужурки изнашиваются, но на привлекательный манер, как изнашиваются прочно сшитые вещи; тужурки отличает износостойкость качественного интерьера. И сам «Хиллс», и эти тужурки своим происхождением обязаны эпохе, когда вещам предназначалась долгая служба; со временем они лишь лучше садились по фигуре. Становились удобнее. Обретали нужную форму. Не превращались в негодные и ненужные шмотки, как большинство нынешних вещей.
«Украшение городу – храбрость его мужей, телу же – красота, душе – мудрость, вещи – прочность, слову – истина», – говорится в «Похвале Елене» Горгия. Складывается впечатление, что на сей момент в силе остается только сказанное о теле. Уж прочность вещей точно давно отброшена за ненужностью. Хотя есть вещи, выдерживающие испытание временем: кухонные инструменты, которыми пользуется шеф-повар, все до одного прочны и надежны. Он старается по возможности пользоваться старыми, не приобретая новых. Электроники у него нуль, насколько мне известно. То, что электронику необходимо покупать все новую и новую, меняя ее с бешеной скоростью, говорит о ее ненадежности. Электроника – это неиссякаемый источник досады. Наши тужурки сдаются в чистку и глажку трижды в неделю, и острая эстетическая коллизия между износоустойчивой, но заношенной вещью и ее чисткой и глажкой, или же еще и накрахмаливанием, чрезвычайно притягательна. Такие же тужурки служат формой официантам в роттердамском «Де Пейп», в «Мажестик» в Порту и в бадалонском «Фуэте», да и в старом добром цюрихском «Кроненхалле». Тужурка официанта универсальна, и это меня полностью устраивает.
Вообще, одежда – дело не простое. Какую одежду носить, когда я не на работе? Обычную одежду. Глубоко ординарную одежду. Как говорит Эдгар: то, что одеваться приходится каждый день, означает, что каждый день приходится идти на поводу у тех эстетических принципов, которыми руководствовался некий случайный модельер, высокого или низкого пошиба, в удачный или неудачный момент. Часто я соглашаюсь с Эдгаром, хотя временами его рассуждения представляются мне несколько выспренними. Когда на мне обычная одежда, не важно, иду ли я на работу или с работы, одна и та же мысль часто не дает мне покоя. Мое внимание переключается с того случайного модельера, благодаря которому родился дизайн моих трусов, на того (и чаще всего на того, а не на ту), которому я обязан своими ультрамариновыми носками, на индивида, создавшего мою майку-сетку, надетую поверх нее повседневную сорочку, брюки. Я представляю себе дизайнеров, создававших мою одежду. Вот они, когда в удачный, когда в неудачный момент, проектируют вещи, которые мне приходится натягивать на ноги или надевать через голову перед тем, как выйти из дому и пересечь город, направляясь прямиком в «Хиллс», а позже назад, домой, и я ведь в каком-то смысле создаю им рекламу, этим вещам и их дизайнерам. Я способствую циркуляции их коммерческих идей в городе. Это меня коробит. Я не хочу сказать, что обладаю броской внешностью, одеваюсь я как можно более нейтрально, но за тем или иным столом заседаний в том или ином кабинете модельер словом «нейтрально» обосновал создание этой вещи, и вот я хожу и демонстрирую представления этого горе-модельера о «нейтральности»; подобные мысли сводят меня с ума. И, словно этого мало, они перескакивают следом на обувь, часы, перила и дальше на сам город, так что эта оптика переиначивает вид фасадов, витрин, улиц, продуктов, кинофильмов и так далее. Я хожу и кипячусь в собственном соку, убежденный в том, что мы все до единого попались в сети, сплетенные из чьих-то более или менее удачных эстетических предпочтений и хитроумных планов. Просто-напросто коммерческих идей, порожденных в ходе более или менее продуктивных рабочих дней, и идеи эти всегда движимы мыслью о деньгах. И вот в эти ловко раскинутые сети, которые плетут жаждущие наживы типы, попался и я. Каждый день я запутываюсь в мелкоячеистых сетях множащихся коммерческих идей. Моей вины тут нет. Я и сам не просился участвовать в подобных транзакциях, и никогда не понуждал других участвовать в них. Я сейчас говорю совсем как Эдгар.
Поэтому каждое утро, явившись в «Хиллс» в 06.45, я с радостью освобождаюсь от «собственноручно подобранной», «нейтральной» одежды. Я стаскиваю ее с себя и надеваю униформу. В ней легче дышится. Мое отношение к официантской тужурке устоялось, потому что ее дизайн отработан, он базируется на давних традициях и ей нет надобности выражать шаблонное представление о «современности» какого-нибудь случайного модельера, жаждущего разбогатеть, и вчера я повесил ее на вешалку в закутке позади кухни, расправив как можно аккуратнее, чтобы она была готова к использованию сегодня. Была готова использоваться каждое утро, в нужное время. Мы по одному заходим друг за дружкой в тесный гардеробный закуток и надеваем тужурки. Все официанты и все повара должны по очереди заглянуть сюда, все, кроме Мэтра. Он приходит уже облаченным в костюм. Я думаю, раздевалка кажется ему малопривлекательной, немного тесной, да так оно и есть.
Я стелю поверх подскатертников накрахмаленные скатерти и расправляю их руками. Протираю мраморные столешницы, на них класть скатерти не полагается. Я протираю столешницы, даже если это уже сделано до меня. Я выставляю воду. Пишу мелом названия блюд дня на старинной доске, висящей рядом с окошком раздачи. Когда я это делаю, я ощущаю себя учителем. Нужно сходить за газетами. Это моя работа – каждое утро сортировать газеты и по одной зажимать их корешком в длинной деревянной рейке, так называемом Zeitungsspanner[3]. Я вывешиваю их на газетный стенд при входе. Ежедневные норвежские газеты мы в таком заведении, как наше, не предлагаем, уж слишком они плебейские. Мы пытаемся соответствовать континентальным стандартам и выставляем те немногие из зарубежных изданий, что все еще печатаются на бумаге. Не то чтобы мы так уж пыжились, стараясь выпятить собственную континентальность, но норвежских газет мы не держим, извините. Они не выполняют своих обязанностей по части информирования общественности. Временами, когда у нас случается затишье, я пристраиваюсь у барной стойки и читаю бумажное издание какой-нибудь газеты. Не может и речи быть о том, чтобы я небрежно пробегал тексты глазами. Я читаю аккуратно, шурша страницами. Шуршание перелистываемыми страницами полноформатной газеты является видом деятельности, чисто эстетически подобной исполненному портным шву или зову саксофона. Иными словами, оно принадлежит прошлому. Устарело, изжило себя. На большого любителя, коих единицы. Когда я прихожу на работу, у нас чисто. «Чисто»… Полы и прочие поверхности моются каждую ночь, но вообще-то «Хиллс» во всех отношениях ресторан-замарашка. Не скажешь, конечно, что у нас плохая гигиена, но следует сказать, что отчасти у нас кое-где кое-что и подзаросло, запачкалось. Будто за все прошедшие годы еда, чад, дыхание въелись в стены и тонкой пленкой обволокли мебель и каждый камешек мозаики, не говоря уж о потолке. Раньше в залах курили, как, возможно, многие помнят, и в интерьерах «Хиллс» по сию пору заметны следы сотен тысяч сигарет, выкуренных за долгие десятилетия, пока это было разрешено. Рюмки, бокалы, фужеры и графины все высочайшего качества, традиционных форм, а не причудливо-дизайнерских с претензией на стиль. Приборы, как, возможно, уже упоминалось, – это ранние модели гебрюдер Хепп, эвентуально подлинный Пюифорка. На всей столовой посуде подглазурно нанесена делфтской голубой краской эмблема «Хиллс», увенчанная сверху характерным вписанным в овал и безупречно элегантным «Х». Всякий раз, расставляя на поверхности стола эти тарелки, я ощущаю прилив воодушевления. Таково свойство высокого качества. Оно вселяет воодушевление.
Кухня в «Хиллс» похожа скорее на кузню, чем на кухню, паленая, обугленная. Газовая горелка, полыхающая на пятачке у шеф-повара, была бы к месту и на промышленном предприятии. Соки опаливаемой и обжариваемой снеди забрызгали стены доверху, заползли в самые укромные уголки и поры. Ассистенты шеф-повара стоят в другом конце кухни, с ними я дела почти не имею. В стене между кухней и залом проделано отверстие, нечто среднее между оконцем и кухонным островом. Эта конструкция не входила в замысел архитектора, она органично произросла из полувековой практики и переделок. Трудно разобрать, что здесь стена, что полки, что подвеска для кастрюль и сковородок, что рабочая поверхность, а что сервировочная стойка. Потолок стал коксово-черным. Над тем местом, где, потея, колдует шеф, потолок прочернел настолько, что его просто-таки не видно, нет в принципе. Над шефом висят кастрюльки, сковородки и другая утварь, а выше – потолок, но его, как я уже говорил, не видно. Вот он там стоял-стоял, шеф-повар-то, фламбировал-фламбировал, да и спалил потолок, так сказать. Над местом шеф-повара располагается отсутствие потолка, глубокое, темное отсутствие, впадина, обращенная кверху. Настолько закопчен потолок. Он не отражает ничего. Кухня довольно тесная, и шеф стоит на том месте, где и до него стоял шеф-повар, и до него тоже, где они всегда стояли и день напролет что-нибудь обжаривали, а то и фламбировали этими своими нескончаемыми фламбировочными движениями.
Чуть в стороне от центра города, на площади Карла Бернера, располагается мастерская кузнеца Хьелле. Его визитная карточка, если можно назвать визитной карточкой простую картонку с офсетной печатью, извещает, что он производит заточку: Заточка всех видов инструментов для работы по камню, земле и бетону, а также любые кузнечные работы.
Примерно раз в полгода шеф-повар собирает свои ножи и сдает их Хьелле в заточку. Кузнец Хьелле точит ножи шеф-повара, чтобы они снова стали острыми. На тот же манер, что старый Юхансен на балконе антресолей оттачивает, сидя за роялем, популярные мелодии прошлого, чтобы придать им остроту. Для заточки ножей в остальное время сам шеф-повар применяет технику японских точильщиков; отдавать их Хьелле достаточно пару раз в году. Однако шеф-повар верен ножам европейского производства, европейской стали. Обсушенные ножи лежат в боевой готовности на тряпице справа от разделочной доски, сплошь покрытой рубцами. Ножей не слишком много, каждый нож предназначен для выполнения немногих определенных операций. В чисто эстетическом отношении ножи полностью гармонируют с кряжистым телосложением шефа, в то время как чистые линии стали образуют резкий контраст с его изборожденным морщинами лицом – что чисто визуально еще теснее связывает его с ножами; возможно, это покажется парадоксальным, но это так. Остро отточенные ножи находят отзвук в его морщинистых щеках и приплюснутом носе. О таких как он говорят: тяжел на руку и за словом в карман не полезет. Он и сам груб как кузнец, грубиян с гастрономической жилкой от бога, горилла с тончайшим вкусом. Он немногословен. Но уж если откроет рот, отбреет любого. Это он сказанул, что внутри нашего Мэтра бушует гражданская война между алкоголем и гомосексуализмом.
Часть II
Эдгар и Анна
Я не большой любитель смешения ролей, однако смешивать роли нижеследующим образом я себя приучил: мой хороший друг, пожалуй даже, один из моих лучших друзей, Эдгар, которого я уже упоминал, вернее, мой лучший друг, приходит сюда практически через день. Он всегда является ближе к вечеру, около 17.00, и всегда вместе с дочерью, Анной. Я обслуживаю их так же, как и всех остальных, но атмосфера вокруг нас иная. По отношению к ним я и официант, и друг. Мы всегда успеваем поговорить, или, скорее, я работаю, а они разговаривают со мной. Оба они весьма разговорчивы, у Эдгара есть свое мнение обо всем. Мы с Эдгаром знаем друг друга с семи-восьмилетнего возраста, я знаком с ним дольше, чем с кем-либо еще. Я всегда усаживаю Эдгара с Анной за столик на четверых, под собакой Пера Крога, чтобы у девятилетней Анны рядом с тарелками оставалось место делать уроки. Столик кафе во многих отношениях является противоположностью школьной парте. Нет разве? Кто-то сказал, что столик кафе на всем протяжении развития европейской культуры служил важнейшим центром так называемых bohemianist research[4], именно тем местом, где велись независимые, автономные поиски ответов на вопрос, где и как жить «настоящей жизнью», или как «прожить жизнь по-настоящему». За столиком кафе складывались и увядали research friendships[5]. Анна вытаскивает учебники и пенал, сосредоточенно точит карандаш, осыпая все вокруг очистками, и принимается за дело. Вопреки едким замечаниям, которыми Эдгар комментирует пользу обзаведения потомством – «разумеется, Норвегии требуется все больше страдающих аллергией пользователей айфонами», – девочку он любит. Он воспитывает ее один. Мать ее живет отдельно от них, в другом городе. Она страдает биполярным расстройством личности, у нее развилась сильная зависимость от бензодиазепинов, и ее лишили родительских прав из-за безответственного и рискованного поведения в послеродовой период. Я помню, как беспокоил Эдгара прием женой бензопрепаратов в первом триместре беременности. В ряде исследований высказываются опасения, что прием диазепама повышает вероятность рождения ребенка с волчьей пастью или заячьей губой. Анна с матерью почти не видится. И волчьей пасти у нее нет, вот так-то.
Анна разглядывает обанкротившегося актера и шепчет что-то Эдгару на ухо. Всклокоченная шевелюра актера плавно переходит в растрепанную бороду; это придает ему карикатурный вид. Он похож на леонбергера, сто лет накачивавшегося спиртным. Эдгар рассказывает, что они с Анной любят смотреть передачу, в которой разные знаменитости пробуют себя в качестве классного руководителя седьмого класса школы. Некоторые прекрасно с этим справляются, а у других все идет наперекосяк. Пока Эдгар излагает эту историю, Анна не сводит с него глаз и громко хохочет в тех местах, которые кажутся ей уморительными. Именно в этом возрасте зубы у детей растут с разной скоростью; так же и у Анны. Но независимо от их размера или наклона, ее зубы ослепительно белые. Я знаю, что у многих детей эмаль новых зубов чуть желтее, и это не всегда добавляет детям шарма. Я по возможности стараюсь не смотреть на кривые, отливающие желтизной зубы, мне они кажутся отвратительными. Анна вежливая и аккуратная девочка. Эдгар хорошо воспитывает дочь, я думаю, это он следит за ее гигиеной. Я как-то познакомился с другом Анны, Карлом Фредриком, они привели его с собой. Его манеры изысканными не назовешь, вынужден я сказать. Анна смеется громко, но у нее такой искренний смех, что невозможно не поддаться ее очарованию. И она на редкость сообразительна. Между этапом раннего детства и подростковой стадией располагается несколько золотых лет, говорит Эдгар, когда детишки такие умные, что умнее им, видимо, уже не стать, но в то же время они еще совершенно не испорчены. Для того чтобы портить детей в этом возрасте, задействуются колоссальные ресурсы, утверждает Эдгар. Одна организация за другой, одна коммерческая структура за другой создаются и функционируют исключительно для того, чтобы стреножить развитие детей и свести до предсказуемого уровня их потенциал, тот безграничный потенциал, которым дети в возрасте восьми, девяти, десяти, одиннадцати лет еще обладают, и вот они ходят в школу, просиживают там дни напролет и подвергаются воздействию всевозможных технологий. Школа кладет их на лопатки, любит говаривать Эдгар. Заорганизованность тянет и склоняет детей в заранее заданном направлении, родители тоже в той или иной форме давят на детей, не давая им проявить себя. Технологии захватывают и затягивают ребятишек в свои сети с самого нежного возраста, напирают с непреклонностью законов природы и тянут, дергают их к себе, соблазняя их и пуская им пыль в глаза, проникая в их нервную систему и просачиваясь в ДНК, и тем самым технологии и впрямь превращаются в законы природы, так что детям редко, а то и никогда не удается полностью раскрыть свой исходный потенциал, они не умеют громко хохотать во весь рот, вот как сейчас хохочет Анна, когда Эдгар рассказывает об этой телевизионной программе. Анна даже привстала, так ей смешно. Она показывает на Эдгара пальцем и заливается смехом, потому что Эдгар рассказывает, как одна из этих знаменитостей, горе-учительниц, ухитрилась выпустить в классе пятнистого хомячка одного из школьников, и теперь там царит полнейший тарарам. В полном восторге дети с визгом носятся по классу, карабкаются на стены, обрушиваясь с них на пол. Должно быть, телевизионщики часть материала отсняли в ускоренном темпе, потому что там и сям смонтированы до крайности замедленные эпизоды, где с кристальной четкостью видны опрокидывающиеся стулья, летящая по воздуху точилка, контейнер которой в полете раскрывается, так что оттуда во все стороны разлетаются очистки. На пол роняют парту, и на макроуровне видно даже, как щепотка шершавчиков, образовавшихся от стирания резинкой надписи на бумаге, раскатывается, подскакивая, по полу. Анна полностью поглощена рассказом. Учительница-знаменитость, согнувшись в три погибели, неуклюже вертится между партами, пытаясь схватить до смерти перепуганную зверюшку, мечущуюся из угла в угол. Эти кадры чередуются с другими, на которых еще семь знаменитостей пытаются обуздать доставшиеся им классы. Эдгар говорит, что даже не знает, кто все эти люди, если не считать двоих: престарелого барда, которого он помнит еще со времен своего детства, и жалкого обанкротившегося актеришки, который трапезничает на расстоянии трех столиков отсюда. Видимо, программа была отснята раньше, чем были выявлены подделанные им документы, на телевизионном экране он выглядит несравненно более свежим и бодрым, чем в жизни, замечает Эдгар. Апропо очистков: подошел Мэтр и велел мне подмести карандашные стружки, валяющиеся на полу под стулом Анны, или девчонки, как он ее называет.
Кофе
Кофе и автомобили каким-то неисповедимым образом заняли примерно одинаковое место в «свободной жизни Запада» и пронизывают ее метафизику в равной степени; эта мысль не раз посещала мою голову в моменты, когда меня тянет пофилософствовать; возможно, это на меня так Эдгар действует. Как известно, утро проходит под знаком кофе. Независимо от того, как относиться к отдаленным последствиям кофепития и автомобилизации, без этих двух компонентов, особенно в комбинации одного с другим, и особенно по утрам, нашу жизнь трудно себе представить. На хромосомном уровне такие занятия, как потягивание кофе и вождение автомобиля, сопряжены с представлением о раскачке и раскочегаривании. С идеей горькой утренней услады в виде кофе, или поездки в машине, или с кофе в машине, или машины, остановленной возле кофейни, чтобы купить кофе и взять с собой в машину, или, если на то пошло, с идеей традиционного европейского кофе в кафе, что само по себе не предполагает наличия машины, но ее следует считать своего рода этапом пути, представляющим собой некую цель, равно как машина всегда представляет собой этап пути и конечную станцию сама по себе. Отказ от любой из этих двух вещей был бы равноценен ампутации конечности у тела социума, это абсолютно неактуально. Трудно себе представить, как бы общественный механизм мог каждое утро «раскочегариваться» в отсутствие этих двух составляющих. Кто-то сказал, что «пить бескофеиновый кофе – все равно что целоваться со своей сестрой». Вот вам пожалуйста: в единственном афоризме о кофе, который мне удалось вспомнить, речь, что характерно, идет о бескофеиновом кофе. Шеф-бар категорически отказывается подавать бескофеиновый кофе. Это ни в какие ворота не лезет, уверена она. Вообще-то она вовсе не фанат кофе, не кофе-наци, она не повернута на идеологии бариста, но она человек старой закалки, и всему есть предел, вот ее мнение. У нас в «Хиллс» по утрам все крутится главным образом вокруг кофе. Конечно, не обходится ни без круассанов с джемом, ни без утренних выпусков газет, но кофе являет собой ось утренней активности. Шеф-бар придерживается мнения, что культурное значение кофе – разумеется, не в том смысле, в каком о нем разглагольствуют снобы, но в смысле его фактической ценности для общества как в историческом, так и в политическом аспектах, – должно у нас выражаться в том, как мы его подаем. Самому мне приходится ограничивать потребление кофе, но от привычки выпить чашечку с утра отказаться очень трудно, именно потому, что тот, кто в восьмом часу не потягивает кофе из чашечки, оказывается исключенным из важного сообщества. Бескофеиновый кофе создает суррогатное ощущение сопричастности. Разумеется, можно считать себя кофеманом, даже когда потягиваешь кофе без кофеина, но давайте уж прямо скажем: кофеин – одна из важнейших составляющих кофе, и дело тут не только в эстетике и сценичности. Стоит вспомнить хотя бы Schweigt stille, Plaudert nicht![6] – первую строчку «Кофейной кантаты» Иоганна Себастьяна Баха, которую частенько заводит наш Юхансен. Этому пофигисту Баху стоило позаботиться о том, чтобы бескофеиновый кофе подавался его дочурке Лизхен, может, это как-то помогло бы ей справиться с зависимостью. Я слыхал, что Вольтер выпивал до пятидесяти чашек кофе на дню. Самого меня кофе сильно выбивает из равновесия. Иногда просто паранойя какая-то начинается. Моя так называемая гиперчувствительность плохо сочетается с кофеином, представляющим собой один из тех стимулов, на которые мы, люди с гиперчувствительностью, сильнее всего реагируем. А еще мы, «гиперчувствительные», сильно реагируем на звуки и неоднозначные социальные ситуации. На смешение ролей. И на голод, или когда приходится выполнять несколько дел сразу. И в общении с другими людьми мы быстро теряем энергию, вместо того чтобы ощущать ее прилив. Я не могу с утра пить кофе, до прихода на работу. Звуки, производимые посетителями, их галдеж, кажутся тогда слишком резкими. Стоит мне перепить кофе, и у меня тут же начинаются головокружение и сердцебиение, мало того, появляется ощущение, будто внутри меня что-то проваливается.
Здесь не место вытаскивать на свет божий бородатые истории, но помнится мне одно утро несколько лет назад, такое же утро, как сегодняшнее, в то же время года, и солнце светило так же, как сейчас, косыми лучами освещая кофейные чашки и утренние газеты на отшлифованных рукавами мраморных столешницах в зале. Я был в прекрасном расположении духа и сдуру выпил три, если не четыре чашки кофе еще до полудня. Забегал в бар, засыпал в кофеварку кофе и цедил себе один эспрессо за другим. Чашка кофе помогает сбить неприятные проявления отходняка от потребления слишком большого количества кофе, вот я все утро и усердствовал в потреблении эспрессо, чтобы сбить эти последствия. Время приближалось к половине второго, и я как раз собирался добавить кофе в чашку господину, сидевшему у стены, почти полностью закрытой зеркалом. Моя работа предъявляет два существенных требования: я должен обладать профессиональной гордостью, и я должен оставаться абсолютно незаметным. Профессиональная гордость обязывает меня строго следовать заведенным правилам, и это является решающим фактором для того, чтобы я чувствовал себя уверенно и выполнял свою работу с удовольствием, поскольку, обладая гиперчувствительностью, я с трудом переношу перемены, особенно неожиданные. То, что я стараюсь оставаться незаметным, позволяет мне общаться с клиентами и обслуживать их, не вовлекаясь в их проблемы. В наши дни, когда очень большому числу людей свойственно отвратительное позерство, профессиональная гордость и абсолютная незаметность представляются мне ценностями, которые достойны сохранения. И вот я с кофейником в руке, на профессиональный манер гордо и абсолютно незаметно, подхожу к господину, сидящему возле зеркальной стены. Повязанный на нем галстук шили в аду, сказал бы я. Узор настолько аляповат, что я теряю разгон и на несколько секунд застываю перед клиентом, не в состоянии вымолвить ни одного из привычных речевых оборотов. И пока он, несколько опешив из-за моего молчания, натянуто просит подлить ему кофе, мне кажется, будто я проваливаюсь в тартарары, и причиной этого является главным образом его галстук, я и по сию пору считаю, что это его галстук вызвал во мне такое ощущение. Этот галстук являл невероятную смесь трех нюансов синего: основу образовывал сероватый кембриджский голубой, пересекаемый лазурными полосками и в дополнение к этому испещренный крапинками того цвета, который я, пожалуй, назвал бы перваншевым оттенком лилового. Вид этого галстука бьет по моей сетчатке и расшатывает, в физическом смысле, карточный домик, который от рождения достался мне в качестве нервной системы и к описываемому моменту основательно дестабилизирован потягиванием кофе, расшатывает и обрушивает этот домик, так что он проваливается внутрь меня, внутри у меня все рушится и обваливается, у меня наступает внутренний коллапс. Все это освещается яркой вспышкой света, голова раздувается до невероятных размеров и становится легкой, как шарик, надутый гелием; ощущение такое, будто голова растет вверх, но при этом проваливается вниз, «что-то» проваливается, все внутри меня проваливается, и, чтобы не завалиться на сторону, мне приходится свободной рукой схватить себя за бок. При этом моя ладонь слегка, по касательной, задевает щеку пожилой дамы и толкает ее столик, заставив зазвенеть чашки с блюдцами и выплеснув чай на столик, за которым дама мирно чешет язык с подругой, никак не ожидая, что я, официант, ни с того ни с сего вдруг зашатаюсь как персонаж немого кино и едва не заеду ей изо всей силы по мягкой морщинистой щеке. Мне удается восстановить равновесие, но я не осмеливаюсь попросить извинения, потому что чувствую, что рот у меня перекосило, а язык распух и тяжело завалился назад, в сторону глотки. Попробуй я теперь извиняться, и я попаду из кулька в рогожку, добавив к пощечине и расплескиванию чая режущий слух скрежет, будто исходящий из опухшей собачьей пасти. И вот я молча стою и хлопаю глазами, все с тем же кофейником в руке, но теперь я ощущаю, как внутри меня вздымается некий всплеск адреналина, чувствую определенный подъем. У мужчины в галстуке такой вид, будто он едва сдерживает серию кислых отрыжек.
– Не желаете ли добавки? – произношу я, удивляясь тому, что слышу слова, а не вой. От пальцев к плечам прокатывается ощущение покалывания, я бросаю торопливый взгляд на руку, держащую кофейник.
– Спасибо, не надо, – говорит посетитель. Рука тут, на месте, я ее вижу, но не чувствую, она совсем онемела, полностью.
– Сию минуту распоряжусь убрать, – говорю я, обернувшись к пожилым подружкам, и широким шагом пациента с острым психозом, по-моряцки вразвалку, словно пытаясь подставить ножку собственной неустойчивости, удаляюсь на кухню. Маленький филиппинец с размашистыми ушами, работавший у нас в то время посудомоем, при моих словах «разлили» и «столик 14» мигом срывается с места с тряпкой в руке. Как же его фамилия? Я стою на кухне за дверью-вертушкой, дышу носом и машу руками, пока к ним не возвращается чувствительность. Бяйяни, что ли, Бавьяни, Баянви. Что-то в этом духе. Повар бесконечно фламбирует что-то под обугленным потолком. Плеснет в сотейник коньяку и умелой рукой так направит язык пламени от газовой горелки, что на медной посудине тут же вспыхивает огненный шар. Он у нас эстет, наш повар. Я теперь стараюсь много кофе раньше второй половины дня не пить, а то и до вечера.
Глазные яблоки
Смотрите-ка, она; как и прежде, в утреннем свете, по той же мозаике, в удобных туфельках на низком каблуке вплывает юная дама, которую Хрюшон с компанией ожидали давеча. В такую рань? Позавтракать зашла? Может, меня сейчас заносит и я ошибаюсь, но у меня такое чувство, что как только она вошла, всем сразу захотелось во что бы то ни стало заполучить ее к себе. Кажется, такой товар, на который, как ни парадоксально, спрос с повышением его цены лишь возрастает, называется товар Гиффена? Складывается впечатление, что наша юная дама обладает подобным свойством. Хотя не поручусь, не знаю.
Она усаживается и смотрит в ту сторону, где в ожидании расцветаю в своей официантской форме я. Или не знаю, расцветаю – не расцветаю, просто стою на месте, стою здесь год за годом и старею, вроде как мох. Она делает едва заметный кивок головой назад. Как назвать кивок, направленный назад? Это называется задрать подбородок. Она задирает в мою сторону подбородок, и какой подбородок. Я незамедлительно реагирую и подхожу к ней, прижимая локтем к боку два меню.
– К вам кто-нибудь присоединится?
– Нет.
– Кофе?
– Да, пожалуйста.
Меня посещает мысль спросить ее, нашла ли она Хрюшона, Грэхема, но почти сразу же я отгоняю эту мысль прочь, слегка ошеломленный тем, что такое вообще могло прийти мне в голову. В мои должностные обязанности никоим образом не входит выпытывать что-либо у клиентов. И вот на тебе. Она может приходиться ему внучкой, может быть его деловым партнером или амурным увлечением, откуда мне знать. Наши клиенты не обязаны перед нами отчитываться. Однако неизбежно делаешь определенные наблюдения. Что она гарантированно представляет собой некий актив, это точно, иначе она не попала бы в обращение. Хрюшонов резерв. Кредит. Что знает об этом Шеф-бар? Судя по всему, пренебрежимо мало. Стоит за стойкой, и на ее проницательном лице читается знак вопроса.
Немного несправедливо, что если нужно описать девушку, всегда приходится начинать с внешности, но что я могу с этим поделать? Больше мне не на что опереться. Когда всматриваешься в ясное небо, фокус не играет никакой роли. На чем там фокусироваться? Вот так же и с этой девушкой, думаю я, ее видно отчетливо, ясно, хотя она всегда не в фокусе. Нет, я серьезно. Впечатление, производимое ею, всепоглощающе. Я подаю ей одно меню, второе прижимаю к ребрам. Задерживаюсь рядом с ней чуть дольше принятого; она читает, а я не свожу взгляда с завитка у нее на макушке, или правильнее сказать, на темени. От темени к левому виску тянется не совсем ровный пробор, от него вправо зачесана челка, так что волосы ниспадают на лицо. Склонив голову, она изучает меню.
Эдгар завел как-то интрижку с одной девушкой, доводившей его до умопомешательства. Хотя она всегда заверяла его в полной ему преданности, рассказывал Эдгар, и умело внушала ему мысль о его исключительности, чего ранее у него не случалось ни с одной из его партнерш – и он абсолютно доверял ее словам, содержавшим град комплиментов, – в то же время его снедало подозрение, что подобные заверения высказывались не ему одному.
– Нельзя ли попросить молока к кофе? – говорит девушка и, кажется, улыбается.
Эдгару так и не удалось окончательно все выяснить. Он не поймал подругу ни на кокетничаньи, ни на неверности, но исходя из того, что ее чары оказывали на него столь магическое воздействие, рассуждал Эдгар, в принципе они должны были оказывать подобное же воздействие и на других. И мысль, что она, тот человек, то существо, которое сумело дать ему почувствовать себя неповторимым и единственным, может быть, впервые в жизни, все же существует не для него одного, стала каплей, переполнившей чашу. Его переклинило от мысли, что зацепив таким особенным образом его, она может таким же образом зацепить и других. В Эдгаре, рассказывал он сам, проявились все самые неприглядные черты его характера, стяжательство, своекорыстие, и принялись неуклонно разрастаться, как сорняки, как пырей с его длинными ползучими стеблями, проникающими глубоко в землю. Он относился к ней как торгаш к своей кубышке, сказал он. Как капиталист. Скряга. Я эту девушку ни разу не видел, но в голове у меня сложился ее образ – за те долгие часы, когда я выслушивал сетования Эдгара, – и вот этот образ материализовался в той юной даме, что сидит передо мной в «Хиллс», купаясь в утреннем свете. Такой я ее себе и представлял. Генератором ревности. Девушка смотрит на меня, и я понимаю, что она недоумевает, почему же кофе до сих пор не подан, потому что она протягивает мне меню и просит принести смесь для завтрака с падевым медом и с йогуртом из козьего молока.
– Ну и кофе, конечно.
Расправив плечи, я спешу на кухню. Это можно назвать чудаковатостью, но именно так я и поступаю: поспешным шагом пересекаю зал. Торопливо миную вертящиеся двери, выскакиваю на кухню, цепляю один из кофейников и тотчас же спешу назад с кофейником в одной руке и маленьким стальным молочничком в другой. Молочник такой крохотный, что ручку приходится зажимать между большим и указательным пальцами. Я подлетаю к юной даме и наливаю ей кофе. Затем я едва заметно приподнимаю молочник и одновременно взглядываю на девушку, чуть выгнув брови, что замыслено в качестве подобия вопроса: мол, не подлить ли вам в кофе капельку молока?
– Да, пожалуйста, – отвечает она на этот «жестовый» вопрос, и я добавляю то количество молока, которое иначе как капелькой не назвать. Я вопросительно взглядываю на нее, и она говорит «еще чуть-чуть», и я, наклонившись с прямой спиной и отставив в сторону мизинец из-за того, что ручка столь мизерна, подливаю еще капельку.
– Минутку, я принесу сегодняшние газеты, – говорю я, но она останавливает меня, сказав, что в этом нет необходимости. Газет не надо? Вот как. Что за личность перед нами?
– Прекрасно, – говорю я.
Ага, значит, утренние газеты нас не интересуют. Некая мысль брезжит на краю сознания. Подчас мысль о том, что старая добрая Европа сохраняется в законсервированном виде у нас в «Хиллс», делает меня слепым к новым веяниям, но я тем не менее ошеломлен нежеланием девушки поддержать традицию и за кофе пошелестеть страницами полноформатной газеты на утреннем солнышке. Что значит «в этом нет необходимости»? Я, конечно, заметил, что газеты на бумаге все чаще и чаще подменяются у нас другими носителями, даже и в утренние часы. Я не говорю, что выудить какой-нибудь гаджет и тыкать в него, вместо того чтобы шуршать газетными страницами, это предательство; я только хочу сказать, что от моего внимания это не ускользнет. Но оказывается, юная дама вовсе не собиралась выуживать никакого высокотехнологичного устройства. Она сидит как на выставке и потягивает свой кофе, неторопливыми движениями поднимая и опуская чашку, вот и все.
Расхаживая по залу и стряхивая крошки со столиков, я краем глаза слежу, чем занимается девушка, или, вернее, чем она не занимается. Она продолжает попивать кофе, больше ничего достойного внимания не происходит. Вообще-то больше всего мне нравится стряхивать крошки со скатертей щеткой для уборки крошек. У нас в ресторане есть и щетки, и так называемые лопаточки для уборки крошек, я предпочитаю щетки. Я ловко стряхиваю крошки на совочек, подведя его под край стола. Вешаю щетку на место и снова подхожу к юной даме. Заметьте, с почтенной New York Times в руках, а не с газетой из нервной старушки Европы; однако как ни странно, именно эта газета хранит дух старой Европы, прежнего миропорядка или чего-то в этом роде. От нее ощутимо веет ароматом 20-го века. Я протягиваю девушке свежий, поскрипывающий экземпляр.
– Ну зачем же, – говорит она.
– Благодарю, – говорю я.
И чего ради я навязываю клиентке газеты? Что еще за «благодарю»? Я возвращаю на место извечную New York Times, снова хватаюсь за щетку и принимаюсь с привычной сноровкой сметать крошки с льняных скатертей. Прохожусь щеткой даже по тем двум столикам, которые я отряхнул вот только что, сам себе вдвое увеличиваю трудовую повинность.
– Можно вас, – говорит девушка, показывая, что желает расплатиться. Я тотчас же приношу ей счет. Пока она достает наличные из сумочки, в которой царит подобающий беспорядок, я вскользь замечаю, что день, похоже, выдался чудесный.
– Ммм, – говорит девушка.
Она встает, и сразу обращаешь внимание, как она чудовищно пропорционально сложена. Симметрична. Я это видел, увидел вчера еще, но не осознал до конца. Теперь осознаю. За два столика отсюда сидит клиент, угнездившийся в возрасте между сорока и пятьюдесятью годами; он не в состоянии совладать со своими глазными яблоками, когда она выпрямляется и потягивается, да-да, она потягивается и потом уже набрасывает на плечи осенний жакет, легкий такой жакет, вязаный. Крючком? На спицах? Не на толстых ли спицах? Домашняя это вязка или машинная? Экологичная, долгополая, связанная вручную кофта, закамуфлированная под жакет? Из уютной ангоры? Глазные яблоки мужчины в двух столиках отсюда живут своей отдельной жизнью, это совершенно очевидно. Надо сказать, довольно интересно наблюдать за человеком, потерявшим контроль над собственными глазными яблоками. Сколько сил кроется в глазных яблоках? С другой стороны, мне бы за своими глазными яблоками следить, а не за чужими. Мои глазные яблоки, равно как и его, вращаются по собственной воле. Разница в том, что мои яблоки на какие-то мельчайшие доли секунды обращаются к его яблокам, словно желая получить подтверждение того, что он (его яблоки) видит то же, что вижу я (мои яблоки). Глазные яблоки этого мужчины вступили в схватку с волей этого мужчины, пытающегося подчинить их движения себе, но яблоки словно два совенка поворачиваются в сторону девушки, которая стоит возле столика, потягивается и натягивает на себя слегка длинноватый вязанный крючком жакет, или как там называется жакет, если он такой длинный. И идет к выходу. По мере ее движения в сторону двери воздух следует за ней, покидая зал и восстанавливая отчасти некий человеческий вакуум. Элегантным, может быть даже объективирующим себя шагом, она минует суконные портьеры и исчезает за ними. Она вновь возникает в проемах арочных окон ресторана, нижняя часть которых прикрыта кружевными занавесками на латунных штангах. Снова пропадает, скрываясь за простенком, появляется в следующем окне, пропадает за простенком, и так продолжается, пока не заканчивается весь ряд окон: то она есть, то нет ее, как в кадрах диафильма.
– Как и все рабы, девушки считают, что все за ними только и наблюдают, хотя на самом деле это вовсе не так, – бормочет мужчина с глазными яблоками, поглядывая на меня. Что он хочет этим сказать? Присмотрел бы лучше за своими глазами, а то они того гляди выкатятся из черепушки. Ага, за своим столиком появился обвиняемый в мошенничестве актер. И тут же старик Юхансен на антресолях ударил по клавишам; на сей раз это Бах, он выбрал Гольдбергову вариацию № 5, с ускорением темпа. Эти мелкие события возвещают, что времени ровно десять утра.
– Я бы водочки выпил, – говорит актер.
– Вам подать «Бельведер», – спрашиваю я, – или «Рейку»? – Это исландская водка, и я знаю, что время от времени он ее пьет.
Актер пыхтит как кит, кажется, что сама жизнь улетучивается из его тела. Потом он со свистом втягивает воздух через нос, выпускает его и бормочет «Бельведер» таким густым и хриплым голосом, что исходит он, кажется, из самых кромешных глубин ада. Я задерживаюсь на пару слов у стойки Шеф-бара; если меня тянет на разговоры, то болтаю я с ней. Она рассказывает, что вчера средь бела дня у нее в машине совершенно некстати полетел ремень ГРМ, и еще что руандийская народность тва, как ни странно, гончары, делают керамику, это совершенно не свойственно пигмейским племенам; как правило, пигмеи выменивают для себя сельскохозяйственную продукцию, металлические изделия и керамику на мясо. Не извольте сомневаться, Шеф-бар уже сумела где-то раздобыть прелестный керамический горшочек тва.
– Послушай, а эта девушка, она кто? – невпопад спрашиваю я.
– Насильник, – отвечает Шеф-бар загадочно (как это часто с ней бывает, если она не находится с ответом), – вступает в схватку не с мужчиной, не с женщиной, а с сексуальностью как таковой.
Что такое? Улыбнувшись, она рассказывает, что керамический горшочек тва стоит у нее дома на серванте и он изумительного качества.
Хрюшон хочет поговорить
Хрюшон является ровно в 13.30 и усаживается, сложив руки на коленях. Это человек слишком приличный, обладающий слишком хорошим вкусом, слишком утонченный, чтобы к месту и не к месту тянуться за телефоном. Суетливое чтение смс и социальных сетей отдает незрелостью. Если человек каждую секунду лезет за телефоном проверить, что там нового, то он либо еще не вышел из детства, либо являет собой продажную девку – именно так, и пусть с моей стороны мещанство высказываться подобным образом. Независимые, уравновешенные люди, добившиеся определенного статуса, не занимаются такой ерундой. Но вот дернуло же меня сказать Хрюшону, что юная дама, которую он ожидал вчера, заходила к нам, и не только вчера, но и сегодня с утра; почтенного Хрюшона это известие толкает в пучину телефономании.
– Она здесь была сегодня утром? – широко распахивает он глаза.
– Да.
– Осведомлялась обо мне?
– Сегодня нет.
– А вчера?
– Да, вчера осведомлялась.
– Вы позволите?
Из внутреннего кармана пиджака, безупречного, а не из кармана брюк, безукоризненных, он выуживает телефон, богопротивный. Тычет в него. Позвонить собирается, думаю я, или послать сообщение? Небезынтересно. Я наблюдаю. Позвонит, или пошлет смс? Воспользуется ли для передачи того, что ему нужно сообщить, голосом или пальцами? Постукивает по стеклу кончиками пальцев. С того места, где я стою, невозможно разглядеть, ищет ли он номер или набирает текст. Он поворачивается ко мне вполоборота, показывает знаками «две минуты» и идет к выходу. Пробираясь между полотнищами суконных портьер, берегущих тепло, портьер, обрамляющих дверь, он подносит телефон к уху. Интересно. Мне видно, как он выходит на улицу и даже закуривает сигарету. Минуты три курсирует взад-вперед, втягивая в легкие табачный дым, делает затяжку за затяжкой, а говорит на выдохе. Между затяжками плавно жестикулирует правой рукой, в которой зажата сигарета без фильтра. Вернувшись, бросает:
– Ладно.
И я подхожу с бутылкой белого бургундского, молниеносно откупориваю ее ключом для открывания бутылок, он у меня лежит в правом кармане официантской тужурки, и наполняю его бокал.
– Нас сегодня будет трое, не четверо, – говорит Хрюшон. А потом: – Я, знаете ли, хотел бы поговорить с вами об одном деле.
Я убираю со столика лишние посуду и прибор, предназначавшиеся четвертому.
– Вот как?
– Я уже давно подумывал вам об этом сказать.
– Извольте, – говорю я.
– Вы знаете, – говорит Хрюшон, – вы знаете, когда Питер Нортон в 1999-м году купил письма, которые Джойс Мейнард выставила на «Сотбис»…
– Питер Нортон, – говорю я.
– Да, четырнадцать записок и писем, написанных в 1972 и 1973 годах, и там Сэлинджер – какова ирония – среди прочего предостерегает юную Джойс Мейнард от опасностей, которые таят в себе слава и эксплуатация успеха…
– Вы меня простите, – говорю я.
– Нортон намеревался купить эти письма – они ушли по цене, значительно превышавшей 150 000 долларов, что вдвое больше начальной, – чтобы вернуть их Сэлинджеру, и тот мог бы поступить с ними как его душа пожелает, запереть их в сейфе, сжечь…
– Мне очень жаль, – говорю я. – Меня ждут за другими столиками.
– Но мне бы очень хотелось рассказать вам одну вещь…
– Извините меня, – говорю я.
– Нортон охотился еще и за одним из нечетких рисунков Гольбейна, сделанных при дворе Тюдоров, рисунки были выставлены на этом же аукционе…
– Прошу меня извинить…
– Когда заканчивается ваша смена? – спрашивает Хрюшон.
– В пять часов, но мне сразу же нужно будет уйти, у меня встреча.
– Понимаю.
Никаких встреч у меня не бывает. Я всегда на работе. Что это такое было? Нельзя отвлекаться. Где щетка для уборки крошек? Освободились столики 5 и 12, надо отряхнуть скатерть. Я мигом убираю посуду, нахожу щетку и энергичными движениями прохожусь по скатертям. Так, освободились 7 и 3. Рассчитываюсь с 19-м. 11-й желает еще воды, а 4-й снова отправляет назад рислинг от братьев Лоозен. Что за разговоры о Сэлинджере и о Мейнард? О Гольбейне? Шеф-бар показывает, что за столик 3 кто-то садится.
Входят к тому же те двое, что составят компанию Хрюшону за его постоянным столиком № 10. Я провожаю их к столику; это коллега Хрюшона, остроносый, похожий на грифа субъект по фамилии Орволл со своей вежливой, но несколько пугливой дочерью; я узнаю обоих, они и раньше у нас бывали. Наполняю бокалы. Тринадцать лет наши с Хрюшоном отношения не выходили за рамки профессиональных. С чего такая внезапная невоздержанность? «Поговорить об одном деле?» Я нахожусь в непрерывном движении, пока часы не бьют пять, потом наскоро переодеваюсь. Мне необходимо убраться отсюда, подальше от беспардонности Хрюшона, который все еще сидит здесь – наверняка переполняемый вопросами о Сэлинджере и Мейнард – и смакует свое неизменное бургундское. Он разглядывает жирные полосы, оставляемые на стекле сползающими по нему каплями алкоголя. Мне необходимо убраться подальше от Хрюшоновского смакования.
Жестокое обращение с животными
– Попросить повара поджарить лучку? – говорю я двумя днями позже.
– Нет, спасибо, – говорит Анна.
– Если у вас есть, – говорит Эдгар. Он смотрит на Анну и с озадаченным видом показывает на бургеры.
– Бургеры, – говорит Анна.
– Бургеры, – кивает Эдгар.
Повар споласкивает деревянную доску и очищает, режет и жарит лук. Странно подумать, что этот овощ использовали тысячелетиями, что жители древнего Египта поклонялись ему. Не потому ли, что концентрически располагающиеся слои шелухи как бы символизируют «вечную жизнь» и «солнечную систему»? Помню, были у меня в детстве друзья, которые всех приезжих из бедных стран называли «жидами луковыми». Это казалось смешным. В деревне, где я вырос, лук в готовке использовали мало. Повар осторожно перекладывает жареный лук на десертную тарелку, а я забираю ее и ставлю перед Эдгаром так, чтобы эмблема «Хиллс» оказалась ровнехонько на месте двенадцати часов, если тарелку представить себе циферблатом.
– Спасибо, – говорит он. – Не хочешь немножко? – Я качаю головой. Он прекрасно знает, что я никогда не ем на работе.
– Я не большой любитель лука.
– И я тоже, – говорит Анна.
– В прежние времена думали, что от лука человек становится сильным, – говорю я.
– Это как, сильным?
– Очень сильным. Чтобы стать сильнее, гладиаторы натирали мышцы луком. В средние века лук занимал столь важное место в жизни, что многие расплачивались луком за жилье.
– Ну, это ты загибаешь, – говорит Эдгар.
– Нет.
– А в магазине можно было платить луком? – интересуется Анна.
– Этого я не знаю. Может, тогда и магазинов не было. Но у облысевшего могли волосы вырасти снова. У него прибавлялось сил. Повышалась потенция.
– Что такое потенция? – спрашивает Анна.
– Это когда пенис очень твердый, – говорит Эдгар.
– А это зачем?
– А подумай только о бедных индейцах. Ведь это мы привезли с собой в Америку лук, – говорю я.
– Мы, это кто?
– Европейцы. Мы там обнаружили картошку, индеек, золото и табак. И кофе. И кокаин. И ананасы. И увезли с собой домой. А туда мы привезли с собой лук. Как ты думаешь, понравилось это индейцам?
– Наверное, они не любят лук.
– Теперь и индейцев-то больше не осталось, – говорит Эдгар.
– Осталось, – говорит Анна. – Катарина у нас в классе индианка.
– А она откуда?
– Из Венесуэлы.
– Наверняка она смешанных кровей, – говорит Эдгар.
– Не знаю, во всяком случае она пришепетывает, – говорит Анна.
– Присепетывает?
– Да, она присепетывает.
– Ишпанцы тоже присепетывают. Значит, у нее в жилах течет ишпаншкая кровь. Она метишка.
– Да сто ты, – говорит Анна серьезно.
– Венешуэла, – говорит Эдгар.
Эдгар трет пальцем переносицу, и его правый глаз при этом еле слышно издает чмокающий звук. Потом Эгар испускает серию покряхтываний и мигает до тех пор, пока ему не удается сфокусировать взгляд. Я утомил Эдгара. Я спрашиваю, ест ли Анна мясо по-прежнему. Эдгар показывает рукой на бургер. Она как-то говорила, что мясо противно есть, потому что с животными плохо обращаются, говорю я. Тошнилка, как говорили у нас в деревне. У Эдгара деньги на счету есть, я знаю. А вот аппендикса у него нет, это я тоже знаю. Эдгар вполне способен с умным видом изречь что-нибудь вроде: «Говоря обыденным языком, мясо – это мышечные и жировые ткани забитых животных, предназначенные на продажу в качестве пищи для человека», словно раскрывает некую тайну. Словно это лично он выявил ненормальность фетишизации мясоедения. Эдгар бывает самодовольным. Знай себе вещает. Жестокое обращение с животными это одно, заявляет он. Но что говорит такое жестокое обращение о тех людях, которые держат скот?
Ну вот, теперь жди лекции. Эдгар облизывает губы. Решает взять на себя ответственность и поведать о прочитанной им статье, посвященной новой книге одной писательницы. В основу ее повествования положен новостной репортаж, построенный вокруг отчета о проведенных обществом защиты животных исследованиях с целью выявления случаев жестокого обращения норвежских фермеров с животными. И подумать только, говорит Эдгар, в обществе защиты животных считают, что безобразно жестокое обращение с животными нередко свидетельствует о том, что фермер страдает депрессией или умственной деградацией. Иными словами, жестокое обращение с животными почти всегда служит признаком распада человеческой личности. Книга, о которой идет речь, написана в форме романа, и фишка в этом романе в том – нет, вы только послушайте, говорит Эдгар, – что распад личности фермера изображен с точки зрения скотины. Это, можно сказать, своего рода Скотный двор психиатрии. Фермер – холостяк 47 лет. Свиньи страдают от жажды. Их не поили целую вечность. Чем он занимается? Единственный, кто контактирует с ним, это кот, через кошачий лаз он может беспрепятственно проникать в дом и покидать его, и он любит запрыгнуть фермеру на колени. Как это и бывает обычно, телевизор включен постоянно. Из конуры доносится жалобный лай собаки. Цепочка, на которую посажена собака, позволяет ей дотянуться почти до самого окна кухни, но заглянуть внутрь собака не может.
Овцы мерзнут. Начало ноября. Уже семь дней они толкутся вокруг овчарни, сбившись в кучку, но не могут попасть внутрь. Снег еще не выпал, но по утрам на земле выступает изморозь, холод стоит собачий. У некоторых овец начался понос, в шерсти застряли комочки навоза. Полоса травы возле изгороди общипана до самой земли, овцы просовывали головы между реек ограды и обглодали все съедобное, что нашли, тощие кустики травы и корешки. Из свинарника доносятся дикие вопли. Свиноматка так зализала и изжевала одного из поросят, что он стал похож на тюленя и видом, и цветом кожи. Восьмой день подряд солнце заходит, а никому так и не досталось ни воды, ни корма. А что же куры? Двух заклевали насмерть, а еще одна потеряла все перья и покрылась струпьями и ссадинами. Остальные курицы топчутся рядом и без всякого сочувствия клюются и щиплются налево и направо. Писательница тщательно изучила вопрос, в книге упоминаются такие подробности, додуматься до которых сама она никак не могла, считает Эдгар. Эдгар и сам работал на хуторе, говорит он, и знает, сколько времени пройдет, прежде чем, скажем, у лошади произойдет дегидрация, или, скажем, овцы начнут кидаться друг на друга. Книга написана хорошо, считает Эдгар. Концепцию отличает цельность, никаких стилистических выкрутасов. А добиться этого было непросто, ведь все происходящее в книге описывается с точки зрения животных, притом что, как известно, животные не умеют говорить. Как описать страдания голодной коровы? У коровы четыре желудка, но полное отсутствие вокабуляра. Что делать писателю, если он хочет описать страх и растерянность свиньи, не получающей должного ухода, обращаясь к присущей свинье гамме ощущений? Нет, Эдгар не верил, что добиться этого возможно, пока не начал читать; но эта писательница ей-богу сумела хитроумно раскусить этот нарративный орешек.
Перевозки
Я с ужасом представляю себе перевозки, сколько всего необходимо было перевезти, возить и возить до бесконечности, чтобы Блез мог блистать тут у нас – как он блистает сейчас за постоянным столиком Хрюшона, 10-м, – то и дело поднося к губам чашечку с эспрессо. Каково происхождение мрамора под скатертью? Он доставлен из Больцано? А керамика откуда? Из Венгрии? Костюм из Лондона, ну то есть, скроен и сшит он в Лондоне, а вот ткань откуда? Ткань отсюда, подкладка оттуда. Галстук, возможно, из Шотландии, он сшит из материи с тартановым рисунком. Запонки я узнаю, такие производит известный модный дом во Франции. Туфли от Ломбардо, я это сразу заметил, а носки, сдается мне, американские, хотите верьте, хотите нет. Носки он приобрел в «Гриман-Маркус». И так далее. Даже парикмахер у него залетный. Я знаю, что наш Блез стрижется в салоне «Федерер» у португальского парикмахера и стилиста Жоао Фуэнтеса. Парикмахер прилетел из Португалии, носки же летели сюда из США. И так далее. А кофе-то, кофе: кофейные бобы собраны в мешки, перетащены, перевалены, перевезены по суше и по морю из самой Боливии, и меня сейчас посетила вот какая мысль, клаустрофобская такая мысль, что единственное в моем поле зрения, в зале ресторана «Хиллс», где я стою и исподтишка разглядываю Блеза и его окружение, единственное здесь, что произведено в Норвегии, это молоко, плещущееся на дне молочника. Но и в этом случае коровушку доил фермер, с больной ли психикой, нет ли, где-то далеко в горах, и молоко было разлито по бидонам и булькало и плескалось весь долгий млечный путь до столицы, где оно завершило путешествие в миниатюрном молочнике от гебрюдер Хепп, поставленном мною перед Блезом. Все привозное. Нашему зданию много-много лет, но внутри него нет ничего, произведенного на месте. Суммарно наше европейское гранд-кафе здесь, в центре Осло, воспринимается как дивный лоскутный ковер. Его существование обеспечивается благодаря поступлениям со всех концов света, все части света прочесываются в поисках тканей и средств, материалов – и идей. Ибо идеи-то происходят, разумеется, из Вены, или Парижа, может быть, из Берлина, и какие-то мелочи копируются из забегаловок и кабаков Амстердама или Роттердама, где перебывали многие поколения норвежских моряков. И в то же время «Хиллс» является одним из тех институтов, которые являются определяющими для столицы, которые придают Осло своеобразие, это место, куда сходятся ведущие издалека пути. Этот зал, это помещение, где я сейчас и всегда стою в своей официантской форме, представляет собой запутанный клубок натасканных феноменов, и мне иногда делается нехорошо при мысли, что наше в высшей степени автохтонное, овеянное традициями и неизменное заведение являет собой мозаику из натасканных и притараненных сюда вещей и обычаев. Тут у нас целый конгломерат, скопление натасканного, и я нередко погружаюсь в размышления о всех тех транспортных маршрутах, которые были проложены, протоптаны и поддерживаются в рабочем состоянии, и которые с самых разных сторон ведут к «Хиллс» ради того, чтобы все натасканное нашло дорогу сюда, в «Хиллс», а здесь – в подвал и на кухню, и было подано мною на столики, на мраморную столешницу перед Блезом. Со всех концов света сюда, в Европу, в Северную Европу, в Осло, до самого «Хиллс» тянутся пути. Утренние часы здесь, у нас, с нашим уровнем традиций и качества, непредставимы без танкеров, пригородных перевалочных баз, железнодорожных стрелочных переводов, погрузочных платформ, грузовых стропов, семитрайлеров, отбельных чанов, обеденных перерывов транспортников и их кратких отлучек на перепих, без поддонов и кранов. Сколько обширных угодий и земельных участков Европы и других уголков мира расчищаются от строений, обращаются в пустыри и раскатываются под цели транспортных перевозок, и как же истощается все вокруг из-за бесконечных потоков транспорта, ради того, чтобы Блез мог размеренно подносить к губам чашечку с эспрессо и ощущать собственную сопричастность Европе – нет, этого нам никогда не узнать. Перевозки необходимы, потому что благодаря им оказывается возможной торговля, слышал я (наверняка от Эдгара), а без торговли в свою очередь невозможно становление цивилизации. Цивилизации возникают с развитием транспорта, и погибнет цивилизация тоже из-за транспорта, кажется мне, или во всяком случае кажется Эдгару. Ну ладно. Просто вдруг в голову пришло. Продукты выгружают из машин и отправляют в подвал. Все сначала поступает в подвал. Через подвальный, или погрузочный, люк. Те, кто ведет разгрузку, укладывают в люк две разгрузочные направляющие и по ним спускают ящики вниз. Как называется это устройство? Я их спросил однажды, пока они разгружали машину:
– А как вы называете эти направляющие?
– Без понятия, – был ответ.
Значит, у этого устройства никакого названия нет. Как бы то ни было, оно ведет в подвал. Под нашим рестораном растянулась целая сеть запутанных подвальных коридоров, где хранятся продукты.
Чужой заказ
Кто-то вроде бы сказал, что нимфоманией на самом деле прикрывается фригидность. Импотенция прячется за донжуанством. Ну и анорексия, конечно же, прикидывается булимией. Кто именно это сказал, я не помню, но когда эта вековечная, чуть не сказал я, эта молодая дама, что последнее время осведомлялась о Хрюшоне, вновь возникает на пороге, мне в голову приходят эти слова. Портьеры раздвигаются. Вот и она. На 100 % «самобытная», но в то же самое время до слез типовая. Неожиданно, всего за какие-то два дня, она превратилась едва ли не в самого частого гостя нашего заведения. Что ей нужно? Рубленым модернистским шагом она идет по направлению к Метрдотелю, который кипит, склонившись с озабоченным видом над книгой учета заказов. Она улыбается, показывая два полных ряда зубов.
Рановато она на этот раз заявилась; времени 13.15, значит, столик Хрюшона пора будет накрывать лишь через четверть часа. И снова она привносит с собой ощущение дежавю, сегодня оно еще отчетливее. Какая в ней сила. Какая осанка, плечи расправлены. Туфли. Контрапунктно продуманный наряд. От этой девушки в зале становится светлее. Мое рабочее место разом превращается в сцену, в арену. И в то же время она будто стягивает все великолепие «Хиллс», его многолетние традиции и далеко идущие притязания, вниз, до уровня своих бедер. «Хиллс» – пункт питания, но эта девушка неисповедимым образом выражает ненависть к мясу, навевает мысли о базовом физическом состоянии, о скелетной системе. Она разговаривает по телефону. – Стоит мне только услышать слово негативный, я звоню своему психологу, – со смехом говорит она.
Эдгар сказал как-то, ни с того ни с сего: «Женщина дается женщинам для потребления, молодость дается молодым для потребления». Я тогда не понял, что он имеет в виду, но что-то начинает брезжить в сознании, когда я вижу эту девушку. – Боже мой, ну ты бесстыдник! – смеясь, продолжает она.
Прикрыв трубку тремя пальцами, она осведомляется у Метрдотеля о Грэхеме. Мэтр отвечает – сложив губы в фигуру, образующую скорее напряженное кольцо, запирающий мускул, нежели две отдельные губные дуги, а согнутые пальцы в щепоть, указывающую направление, – что столик освободится через пять минут. Не могла бы она пока подождать в баре?
Разговорчивая Шеф-бар, владелица новехонького ремня ГРМ и нарядного керамического горшка тва, со спиной такой прямой, словно аршин проглотила, и всезнающим оком, без лишних церемоний спрашивает, чего ей налить. Девушка взглядывает на нее блестящими, будто ее глазные яблоки омыты водой, глазами и делает заказ. Тут сюжет закручивается еще круче, я ведь слушал внимательно: она просит четверной эспрессо. Нельзя сказать, что Шеф-бар таращит глаза, она же профессионал, но видно, что она, как говорится, делает свои выводы. Она тут же подходит к машине и нацеживает один эспрессо поверх другого, пока не получается четверной. Я делаю секундную остановку в своем раунде со щеткой для крошек и становлюсь свидетелем того, как Шеф-бар наполняет обычную кофейную чашку до самых краев. Для меня это шокирующее зрелище. Меня бросает в жар при одной мысли о том, что этот эспрессо четверной. Я смотрю девушке в лицо. Она отпивает. Как описать отпивание? В такое время, как сейчас, когда, как говорит Эдгар, существующий политический язык не имеет предложить иного решения, кроме как удержание чужих страданий на расстоянии путем контроля, менеджмента, расширения рынков, поддержания здоровья белого населения, экстремального туризма и развлечений, как мне описать питиё этой девушкой четверного эспрессо из чашки? Нет такого политического языка, которым можно было бы адекватно сформулировать конфликты нашего времени. Но все же можно сказать по крайней мере одно: девушка пьет свой кофе так, будто это я сам его пью. Я понятно выражаюсь? Она пьет с каким-то вовне обращенным наслаждением. Я ощущаю вкус эспрессо, когда пьет его она. Чашка, вылепленная из качественной керамики, поставленная на нарядное блюдце, подносится ко рту с заразительным спокойствием. Маленькие облачка пара, или что там поднимается от горячего кофе, это же, наверное, водяной пар? Пронизанный ароматическими частицами? Что именно создает запах кофе в том паре, который поднимается от чашки и витает вокруг нее? Атомы кофе? Но я совсем не о том. Я собирался сказать, что пар из чашки распространяет некие абсолютно предсказуемые, будоражащие «вспышки», которые – как бы лучше сказать – «продают» этот кофе мне. Четверной эспрессо продается мне, гиперчувствительной личности, самим эспрессо, и в этом ему помогает то, как с ним обращается девушка. Похоже, Шеф-бару не терпится и самой прихлебнуть кофе – она, как и я, не сводит с девушки глаз.
Он состоятелен, Хрюшон, он многое может себе позволить. Практика благосостояния составляет, так сказать, его основное занятие. Осуществление и поддержание благосостояния, если кому интересно, составляют основную массу его ежедневных дел. Все люди, которыми он себя окружает, играют ту или иную роль в этой его благосостоятельной деятельности. Главное, чтобы при использовании и накоплении благ демонстрировался так называемый класс. Например, беседу вроде той, которую три средней руки дельца ведут за столиком 7, за столиком Хрюшона никогда не услышишь:
– Ну он дурак… сбанчил лодку по 13. А ты знаешь, сколько соли идет на литр? Получился чистый бутик, ну чистый бутик.
Точно рассчитанным движением девушка запрокидывает голову назад, как при вывихе, и приканчивает последние капли кофе; в этот момент раздвигаются портьеры и входит Хрюшон, а за ним, наступая ему на пятки, и Блез Энгельберт. Судя по всему, Блез чувствует себя при таком раскладе неуютно, словно ему никогда раньше не доводилось идти на плечо позади другого человека. Но Хрюшон, вовсе не будучи беззастенчивым альфа-самцом, излучает естественный авторитет (а может, хватку?), из-за чего его правое плечо в любой данный момент, пока они движутся к Метрдотелю, пока он указывает им их столик, пока они приближаются к столику, оказывается впереди Блеза.
Я веду себя как идиот – говорю девушке «вуаля», давая ей знать, что ее сотрапезники пришли, но она уже и так их заметила. И я, и Шеф-бар, и Мэтр замираем, забыв обо всех делах, и смотрим, как девушка соскальзывает с барного табурета, забирая с собой свою «креативную» сумочку и бесшовное (не буквально, швы на нем есть) дамское пальто. Уверенной и твердой походкой она подходит к Хрюшону со спутником. Хрюшон и Блез одновременно замечают ее, забывают о спинках стульев и салфетках и поворачиваются к ней «аки цветочки к солнцу», как сказала бы моя бабушка. Оба едят ее глазами; девушка прикладывается к ним щечкой в порядке возраста, то есть сначала к Хрюшону, потом к Блезу. Нет, ни с кем из них она не в родстве, это сразу видно. Общаясь с близкими, никто так не суетится и не старается показать себя с лучшей стороны, как это делают Хрюшон с Блезом. И внучка с дедушками так кокетничать не будет. Кажется, будто она запыхалась, торопится куда-то, словно рядом непреклонно тикают часы. С чего вдруг такая спешка? Может быть, это в ней бурлит четверной эспрессо. Она напоминает вытащенную из воды рыбу, свежий товар, требующий немедленного потребления, потому что с каждым проходящим мгновением приближается окончание срока годности.
Столик Хрюшона обслуживаю я. Я не могу тотчас же ломануться к ним. Наверное, не помешало бы выдвинуть стул для юной дамы, но я вешаю щетку для сметки крошек на крюк и принимаюсь выравнивать стопку меню. «Дама», говорю я. Трудно сказать, дама она или девушка. Дама или девочка. Она какая-то дама-ребенок. Она «взрослая» во всех отношениях. Абсолютно «взрослая» по общему впечатлению, производимому ею; да и одета слишком рафинированно, ребенок не сумеет так подобрать вещи, не говоря уж об их стоимости. Но вот этот флёр первой юности, не до конца распустившейся свежести, кажется сознательно культивируемым, и не в стиле неиспорченной наивности, а утонченно. Профессиональным образом. Повернется ли у меня язык сказать – спекулятивным образом?
– Самая тонкая струна звучит всех чудесней, – говорит Мэтр, окидывая меня непроницаемым взглядом прячущихся в глубине подглазных мешков глазок. Я понимаю, что мне пора принять заказ на напитки. Обычно-то я всегда оказываюсь на месте, когда требуется. Не стоит доводить до того, чтобы Мэтру приходилось вмешиваться и подавать сигналы глазами или еще как-то. Я «поспешаю» к столику.
– Ну вот, хорошо, – произносит Хрюшон с улыбкой, давая понять, что бутылка белого бургундского пришлась бы к месту.
Я раздаю меню по направлению часовой стрелки, начинаю с Дамы-детки. Не хочу хвастаться, но жест, которым я одной рукой элегантно раскрываю обложку точно на странице с обеденным меню и вручаю ей так, чтобы было удобно и приятно читать, и плавен, и молниеносен: отшлифован опытом. Она взглядывает на меня и кивает. Блез последним получает меню, я его не раскрываю, поскольку Блез сидит справа под неудобным для меня углом; Блезу меню достается закрытым.
– Подсказать вам что-нибудь? – говорю я.
– Спасибо, не нужно, – говорит Хрюшон.
– Могу порекомендовать камбалу, она сегодня особенно удалась.
– Не стоит, благодарю вас.
Могу порекомендовать? Что же это я лезу, куда не просят? Разве Хрюшон не сказал спасибо, не нужно? Камбала сегодня удалась не лучше и не хуже обычного. Что я такое мелю? Я удаляюсь к стойке с напитками и прошу у Шеф-бара два бренди. Она споро наливает два «стравеккио», я отношу их в обеденный зал и ставлю один снифтер перед Хрюшоном, другой перед Блезом. Хрюшон, снимая очки, в которых он читал меню, любезно оборачивается ко мне.
– Это что? – спрашивает он.
– Стравеккио, – говорю я.
– Что?
Я чувствую, как на затылке у меня начинает дергаться тик, и говорю – простите, мне очень жаль, я ошибся. Принес чужой заказ. Я качаю головой, забираю снифтеры с бренди и возвращаю их на барную стойку.
– Что, прокисло? – спрашивает Шеф-бар. Открывает «стравеккио» и нюхает. Я стою рядом, пошатываясь и не переставая качать головой. На скулах гуляют желваки.
* * *
– Кто она такая? – спрашиваю я шепотом, наклонившись к самому ее уху словно подхалим.
– Ну что тебе сказать… – Шеф-бар напускает на себя вид знатока. – Можно попробовать вычислить.
– Давай попробуем.
Она поднимает в воздух три изящных пальца без маникюра и крепко, аж за ушами трещит, задумывается.
– Я так думаю, Грэхем разменял уже седьмой десяток. А девушке сколько лет может быть? Двадцать? Тридцать? Вряд ли ей больше тридцати пяти. Этого не может быть. Но и не меньше двадцати. Или меньше? Семнадцать-восемнадцать? Нет. Все двадцать, не меньше. Ни фига она, чуть не сказала я, не подросток. Я бы ей дала тридцатник. Но это трудно определить. Ты и сам видишь, возрастные этикетки отскакивают от ее лица, как вода от головки сливочного масла.
– Да уж точно, – говорю я.
– Дочери Грэхема хорошо за тридцать, и она учится в Лондоне, это нам известно. Это не она.
– Не она.
– У нее нет детей в возрасте около двадцати.
– Нет.
– У Блеза, насколько известно, детей нет, а внуков и подавно. Ему максимум полтинник.
– Может, она его падчерица? Дочка Катарины от другого мужчины?
– Нет, у Катарины сын. И посмотри, как они себя держат. Они не родственники.
– Я заметил, – говорю я.
Шеф-бар то покрутит в пальцах ручной пресс для эспрессо, то взвесит его на ладони, ровно на уровне пряжки на поясе. Взгляд ее направлен куда-то за горизонт. Я жду, что последует дальше.
– Кто-то сказал, – говорит она, – что война – это самая разумная форма иррациональности.
– Серьезно?
– Ну, это было сто лет назад…
– Здесь есть о чем задуматься, – говорю я.
– Это мне приходит в голову, когда я смотрю на нашу девушку.
– А.
– Что-то в ней есть подстрекательское, не то чтобы прямо-таки подстрекающее к войне, но подзуживающее, возбуждающее.
– Да, есть о чем поразмыслить…
– Определенно.
– А конкретнее?
– Я обратила внимание на одну забавную деталь, – говорит Шеф-бар.
– Расскажи.
– У декоративных дам редко бывают прозвища. Представительских дам зовут как-нибудь на манер Жасмин, Каролина, Дженнифер, Камерон, Миа, Билли, Синди, Фланнери, Мира. А у этой есть прозвище.
– Да что ты?
– Ее называют Злоты. Имя-то у нее, собственно, другое, но называют ее Злоты.
– Шутишь.
– Нет, я сама слышала.
– Но кто она такая?
– Не все сразу. Будь паинькой.
* * *
Шеф-бар подмигивает мне и говорит «будь паинькой». Это чересчур. Ей надо успокоиться. Нельзя бросаться такими намеками. Я беру в руку тряпку, не нужную мне сейчас. Смотрю на щетку для крошек. Я на кухню собирался? Надо было добавить «стравеккио»? Внезапно ощущаю легкое головокружение. Или нет, пожалуй, это не головокружение, это скорее какой-то моментальный глюк, некий провал в памяти, секунда или две схлопываются вместе и исчезают, и я на мгновение теряю ориентацию. Поле зрения заволакивается дымкой. Но вот я снова здесь, и включается программа обслуживания Хрюшона, отработанная годами до автоматизма. Хрюшону, когда он соберется сделать заказ, нет необходимости подавать мне никаких «знаков», нет необходимости привлекать мое внимание; я знаю, когда Хрюшон готов. Я это чувствую. Направляюсь к его столику. Сидя ко мне спиной, он начинает перечислять, обращаясь в воздух перед собой, ему не требуется оборачиваться, он знает, что я тут.
– Мы возьмем обычного, но две бутылки, не одну; еще воды, и, пожалуй, закажем уже поесть? – обращается Хрюшон к Даме-детке.
Дама-детка, не отрывая глаз от меню, качает головой и пропускает свою очередь, давая возможность сделать заказ соседу, но сидящему не с той стороны, где положено, а с правой, то есть Блезу.
– Для козленка, пожалуй, рановато? – говорит Блез и старательно хохочет, озираясь вокруг. – Я возьму улиток. Пусть положат две штучки дополнительно, будет в самый раз.
– Разумеется, – говорю я.
– Не перестаю удивляться тому, что улитки такие сытные.
Очевидно, Блез пришел к нам сюда прямо от парикмахера. Боже милостивый. Неужели он позволил сделать себе нитевую эпиляцию – threading — по периметру всего лица? Нет, человек со столь развитым вкусом не может быть падок на подобные вещи. Это на Среднем Востоке любят такое. Полагаю, что линия роста волос на его лице от природы ровна и четко отграничена от безволосых участков. Ну вот, опять он передумал, он так часто поступает.
– И что же, к камбале действительно подаются дикие травы, собранные в окрестностях Осло? – интересуется он, глядя на меня в страстной надежде получить четкий утвердительный ответ.
– Можете быть уверены, – говорю я, глядя ему прямо в глаза взглядом, в котором нет и намека на сомнения относительно места сбора дикоросов.
– Я тогда лучше попробую камбалу.
– Камбала – прекрасный выбор.
– Тем более что я вечно не могу совладать со щипчиками для улиток.
Хрюшон согласно кивает, чуть было не сказал я, но кивок выражает вовсе не согласие с Блезом, это своего рода подтверждение факта, что хореография этого раунда заказов принимает изящные формы, невзирая на вихляния Блеза. Теперь внимание Хрюшона вновь приковано к Даме-детке, она продолжает изучать меню. Я поднимаю в воздух сложенную ковшичком ладонь, так что она оказывается на том же уровне, что и ее лицо. Обернувшись, она могла бы срыгнуть туда. Она с легким щелчком захлопывает меню и смотрит прямо перед собой, как это с ней было, когда она собиралась заказать четверной эспрессо, и глазные яблоки ее снова заволакиваются влагой.
– Нельзя ли поджарить разных грибов. Только не вешенок, – говорит она, и голос ее звучит как-то скрипуче.
На мозаичном полу перед ротондой (собственно, это не ротонда, но мы ее все равно называем так) устроено небольшое возвышение ступенькой, и я имел неосторожность правой ногой встать на это возвышение, из-за чего теперь, пытаясь откликнуться на ее заказ кивком, выражающим полнейшую готовность выполнить ее пожелания, несмотря на то, что кивать нам запрещено, я стою, подавшись вперед в неудобной позе.
– Кухня займется грибами.
Я подтягиваю ногу к себе и перемещаю все так же сложенную ковшичком руку к лицу Хрюшона.
– Мне, пожалуйста, тартар, но масла виноградных косточек самую малость, да вы и так знаете.
– Прекрасно, – говорю я и собираю меню, следуя направлению часовой стрелки.
Повар принимается за дело сосредоточенно словно аутист: он немедленно измельчает грибы, слегка обжаривает их и заканчивает легкой фламбировкой. Как только грибы, камбала и тартар уложены на тарелки с эмблемой «Хиллс», я беру грибы и тартар в правую руку, балансируя тарелкой с камбалой в левой, выхожу в зал и ставлю грибы перед Дамой-деткой, тартар перед Хрюшоном, а камбалу перед подгулявшим актером за столиком 9. Блез смотрит на меня с изумлением. Хрюшон делает странное, едва заметное движение рукой, но ничего не говорит. Никто не прикасается к своим блюдам. За столиками воцаряется тишина. Я позволяю тишине раскатиться, прорезая пространство, потом убираю тарелку с камбалой из-под носа громко сопящего актера, который, со своей стороны, заказывал конфит из утиных бедрышек, переношу камбалу к столику 10 и плавно опускаю ее на него прямо на глазах прекрасно сохранившегося и ухоженного Блеза.
Пару секунд, ни на кого не глядя, я сохраняю слегка наклонную позитуру подающего; потом, будто ставя точку, отдергиваю руку и с легким стоном выпрямляюсь. Я высокий мужчина, некоторые говорят – видный, чуть скованный в движениях, хорошо сложенный и настолько застенчивый, что едва держусь на ногах. Обладаю непокорной растительностью над верхней губой. Усами. Мне как-то сказали, что я немного похож на Дэниела Плэйнвью. Пожалуй, что так. Но не вполне. Сдержанностью похож, может быть. Легкой сутулостью, зажатостью похож, может быть. Но Плэйнвью закаленнее меня. У него вид человека, часто бывающего на природе. А на меня накладывает отпечаток работа в помещении, в кафе. Если он скорее ожесточен и мстителен, то я услужлив и пуглив.
«Нипорт»
Теперь беседа за столиком Хрюшона течет плавно. Похоже, они забыли о моем промахе. Как сказано в должностных обязанностях, я должен быть незаметным в приемлемой степени, это мне подходит. Мне не следует выпячивать себя на передний план. Я посматриваю на Хрюшона. Он мягкий человек. Но он и деловой человек, ни в коем случае нельзя забывать об этом. В каком-то смысле он постоянно ведет переговоры. Пользуясь своими обаянием и тактом, он выстраивает отношения так, чтобы в конечном итоге заработать на этом. Что касается меня, я так и не сумел разобраться в том, что значит вести переговоры. Разве это не то же самое, чтобы в результате обсуждения добиться наивыгоднейших для себя условий? То есть торговаться на современный лад? Заниматься этим противно. Мне бы никогда не пришло в голову просить снизить цену на что-нибудь, пусть даже цена и завышена. Если у продавца хватает наглости запрашивать столько-то, ну что же, пусть столько и получит. А я лучше дополнительно поработаю, чтобы покрыть убытки. Я не такой, чтобы клянчить об уступке в цене. Как какой-нибудь прижимистый араб. Нет, в моей культуре торговаться не принято, мы здесь платим полную цену.
Хрюшон поднимается. Куда это он? Собирается спуститься в туалет? Нет, ой, идет ко мне. Я торопливо, однако не халтуря, складываю салфетки. Что ему еще надо? Прямо за моей спиной сидят две пожилые женщины, лопочут и перешептываются такими тихими и слабенькими голосами, что их шепот переходит в присвист. Они обмениваются нескончаемым свистящим потоком полуправд, и одна из них издает такие пронзительные звуки, что каждый раз, как она произносит стресс или сострадание, мои барабанные перепонки режет словно скальпелем.
– Простите, разрешите задать вам вопрос? – мягко произносит Хрюшон.
– Чего изволите?
– Я тут вот что подумал, – говорит Хрюшон. – Этот Том Селлерс, он еще часто сидит за соседним столиком; вы с ним знакомы? Он ведь вроде слывет знатоком?
– Вы позволите, я должен ненадолго отлучиться, – говорю я, окидывая головы обедающих диким взглядом. И надо же, как по заказу, словно рассчитав секунды с точностью комического актера, вдова покойного счетовода Книпшильда легонько машет мне рукой, показывая, что желает рассчитаться.
– Нет, вы послушайте, я вас не задержу, – говорит Хрюшон.
– Господин Грэхем, извините, пожалуйста, но это не может подождать? – я верчусь как уж на сковородке. – Мне необходимо обслужить вдову Книпшильд. Она торопится. Вы же понимаете, возраст.
При чем тут возраст? Что это я такое несу?
– Ну раз так, конечно, – говорит Хрюшон, улыбаясь мне крупно-буржуазной улыбкой, с той только оговоркой, что в нашей стране все что угодно можно назвать буржуазным. Мы, гиперчувствительные, улавливаем малейшую неверную нотку в той интонации, которой говоривший намеревался сигнализировать свое отношение к сказанному. Возможно, несправедливо было бы характеризовать Хрюшона как ловкача, но сейчас я ощущаю в нем некий налет ловкачества. Что он имеет в виду, говоря «конечно»? А Селлерс? Зачем ему нужен Селлерс?
Вдова Книпшильд, как это с ней часто бывает, положила рядом с тарелкой раскрытую книгу. Читает страницу за страницей. Внезапно появляются две ухоженные руки, берут тарелку и уносят ее. Старушка не сводит глаз с книги, под этим углом ей видно только, как на краю поля зрения появляются руки. Руки, уносящие вещи. Утаскивающие со стола рюмку и салфетку. Это мои руки. Это я. Благодаря мне посуда и еда появляются и исчезают, притом что я остаюсь незамеченным.
– Сию секунду принесу счет, госпожа Книпшильд, – говорю я.
Вдова Книпшильд умяла порцию фуагра. Она уписывает фуагра за милую душу. Она не постоит и за тем, чтобы заказать два блюда из фуагра подряд. Сначала террин, а потом еще пару ломтей обжаренной фуагра. А к этому следует подать яблоко, да на яблоке еще и звездочку аниса. Время от времени требуется еще и нашпиговать его карамельной крошкой. И не успеешь оглянуться, как печень гуся уже запивается крепленым вином, изготовленным из сока винограда, произрастающего в тесной и глубокой долине реки Дору, и на этикетке должно быть напечатано «Порту». А если на этикетке не напечатано «Порту», то напиток этот не годится в качестве средства для запивания печени гуся. Для вдовы Книпшильд не годится. В кулинарии она сечет как бритвенное лезвие, или, скажем, как нож шун, но в том, что касается пользования банковскими картами и терминалами, она не столь сильна. Карту вставляет чипом назад, магнитная полоса стерлась; бледными до голубизны пальцами бабы Яги она долго роется в портмоне, потому что где-то на дне валяется бумажка со всеми пин-кодами – но обозначения кодов тоже, уверяет она, «закодированы». Благодаря этому у меня высвобождается время, чтобы окинуть зал взглядом, и поскольку я с точностью до миллиметра изучил здесь расстояния между объектами и их взаиморасположение, я знаю, что обзор под углом около 110 градусов влево позволит мне наблюдать Даму-детку в три четверти профиля сзади. Таким образом я смогу разглядывать ее, а она меня видеть не будет. Под этим скошенным углом Блез неожиданно кажется похожим на Даму-детку. Возможно, это происходит из-за того, что я так сильно выворачиваю глазные яблоки. А теперь оба они похожи на Хрюшона. Словно смотришь в волшебное зеркало. Дама-детка сейчас совершенно абстрактна. Я мигаю. Они веселятся за своим столиком. Хрюшон смеется громко и раскатисто, своим смехом он всегда перекрывает смех всех остальных, его смех выделяется на фоне их смеха и вызывает дополнительный смех, его смех порождает смех и длит коллективные раскаты смеха несколько долее, чем они бы длились без него. Блез Энгельберт смеется более грубым и зычным смехом, такого типа смех часто присущ лицам, занимающим высокое положение в обществе. Раскаты его «хохота» возводят колоннаду под Хрюшоновым архитравом, если можно так выразиться.
Сегодня сбои на линии связи, вдова Книпшильд ждет, пока произойдет соединение. Ожидая, она возится с таблетницей. Вот вытряхивается одна пилюлька, потом еще одна. Вдова кидает в рот первую. Для чего эта таблетка? Эвентуально, против чего?
– А знаете что?
Она смотрит на меня, слегка тряся головой. Оплата проходит.
– Вы не принесете еще рюмочку «нипорта»?
В голосе Книпшильд слышится металлический призвук, накладывающий отпечаток на голосовые связки пожилых дам.
– Разумеется, – говорю я. Досадно, ведь именно в ее предыдущей рюмке как раз и плескалась последняя порция «нипорта». Иными словами, придется мне спускаться в подвал. Почему? А потому что обычно, если возникает такая необходимость, в подвал посылают коротко остриженную малохольную Ванессу, стаж работы которой ниже моего, но она ушла куда-то. Куда ушла? По делам, ответствует Мэтр. Ей нужно постричься. Я переспрашиваю. С каких это пор официанты начали стричься в рабочее время? Надо же, как снисходительно Мэтр относится к этим ее отлучкам в парикмахерскую. Белая скатерть пачкается первой, знаешь ли, говорит он. Придется идти в подвал.
Подвал
В продуктовом подвале под зданием «Хиллс» хранятся все свозимые к нам припасы, все они отправляются туда. В подвал имеется доступ с улицы, для Осло это необычно, но зато весьма распространено в Нью-Йорке, например, где что-нибудь постоянно загружается в подвальные помещения под магазинами и прочими коммерческими заведениями или выгружается из них через люки, расположенные на уровне мостовой. Часто это просто отверстие в земле прямо перед магазином, рестораном, маникюрной студией или чем там еще; отверстия закрываются крышкой, пользоваться ими очень неудобно, но продукты больше негде разгружать, и выбирать не приходится.
В подвале у нас оборудована замысловатая система стеллажей. Мне в подвале особо делать нечего. В самых его укромных, дальних уголках я никогда не бывал. Продукты оттуда поднимаю, как правило, не я, но мне случалось бывать в той его части, что расположена ближе всего к лестнице, и оттуда рассматривать более удаленные участки. Исчезающую в темноте систему стеллажей. Шеф-повар скупо пояснил, что чуть дальше от входа подвал делится на две части, образуя своего рода развилку. Стены там слегка закругляются, и система стеллажей, состоящая как из открытых, так и из закрытых полок, а также маленьких ящичков в два уровня, повторяет изгибы стен. И там есть еще много разных шкафчиков, в беспорядке размещенных рядом друг с другом или один над другим, и «буфетов» со скошенной под углом фасадной поверхностью, в которой располагаются небольшие ящички. На вид они скорее похожи на какие-то электротехнические панели, нежели на буфеты как таковые. Часть полок, или это все же стенки, обиты металлическими пластинами, которые на межпланетной станции наверняка оказались бы титановыми или магниевыми, но тут, внизу, они скорее из жести или олова. И вообще, необозримые наслоения мельчайших деталей в этом подполе делают его похожим скорее на вытянутую в длину кабину самолета, чем на склад, мастерскую или гараж. Место используется до восхищения рационально. Причудливо чередующиеся ровные, выступающие или вытянутые плоскости дробятся на все более мелкие, ровные, выступающие и вытянутые плоскости. Воспринимается все это богатство деталей чуть ли не как некое «фрактальное» разрешение. И говорят, рассказывают, утверждают, настаивают, что эта система, с ее досконально продуманной рациональностью, распространяется по всему подвалу до самого конца, хотя лично я там, в самом конце, никогда не бывал, о чем я уже говорил. Я даже никогда не видел упомянутой развилки. Описать это трудно, но пространственные особенности скругленных стен, которые при обычных обстоятельствах представляли бы собой проблему в части сравнения с обычными прямолинейными системами стеллажей, используются в этой хитроумной архитектуре наивыгоднейшим образом, так что места для хранения на полках образуется даже больше, чем если бы они располагались по прямой.
Система стеллажей сооружена давно. Говорят, что некоторые ее части существуют с тех самых пор, как было построено само здание. А еще говорят, что Бенджамин Хилл, основатель заведения, построил стеллажи как раз перед тем, как обанкротился магазин готовой одежды. Похоже на то. Ящики и шкафчики идеально подходят для хранения штучного товара, пуговиц, катушек, гребенок или скобяных изделий, булавок, винтов, петель, дверных ручек, штифтов и так далее. Говорят, что Хилл прятался здесь в промежутках между запоями, стыдясь своих загулов и непомерных финансовых потерь за покерным столом; здесь он вспоминал свои навыки работы руками, когда чувствовал, что ничего другого делать уже не может. Это все не пустые выдумки; сохранились письменные свидетельства, что Хилл числился учеником краснодеревщика в столярной мастерской своего дяди в Виндзоре около 1830 года; только лет через пять-шесть из него вырос обаятельный денди, сумевший влиться в эксклюзивные и фривольные круги столичного света. А оттуда его неким сложным путем занесло в Осло. Или в Кристианию, как тогда назывался этот город. Как бы то ни было, эту бесконечную систему стеллажей, конструкция которых сложилась из наращений разных эпох, начиная со времен возведения первоначальных структур Бенджамином Хиллом, необходимо регулярно чинить, подновлять и латать. Но, как я уже говорил, она запутанна и хитроумна, однако вполне отвечает потребностям нашего заведения, посему планов ее замены чем-то другим не возникало. Помещения «Хиллс» всегда использовались для торговли, то готовым платьем, то съестным. Складывается впечатление, что благодаря бесконечным мелким подлатываниям, улучшениям и усложнениям возросла «спаянность» всей этой конструкции, что многолетнее ее использование превратило ее чуть ли не в органическую. Система стеллажей разрослась, покрылась трещинками и спаялась в результате непрестанных использования, износа и починки, использования, совершенствования и износа. Если представить себе, что стена с наклейками в зале ресторана могла бы переродиться в систему стеллажей, то именно такая конструкция и получилась бы. Слой за слоем. Потребность за потребностью. Предназначение за предназначением.
К счастью, «нипорт» хранится недалеко от лестницы. Мне нужно пройти всего несколько шагов вдоль левой стороны коридора со стеллажами и найти широкую старомодную стальную полку, которая выдвигается наподобие ящика. Эта кованая полка тяжела как свинец, но легко и без напряжения скользит по идеально подогнанным направляющим; изнутри она выложена чем-то вроде велюра. Ящик заполнен бутылками «нипорта», «руби», «тони», «кулейта», и так далее. Как ни странно, есть и токайское. Вместительные эти ящики, ничего не скажешь. Я достаю два «нипорта», но, резко пихнув бедром этот тяжеленный ящик внутрь по направляющим, чтобы его задвинуть, я умудряюсь жутчайшим образом прищемить себе левую руку. Как называется край ладони, то место с тыльной ее стороны, которое расположено пониже мизинца, где тыльная сторона переходит во внутреннюю часть ладони, или, может, лучше сказать, ближе к косточке запястья с внутренней стороны; черт, ну как же он все-таки называется, этот промежуток между костяшкой запястья и суставом мизинца, им еще наносят удары каратисты, или когда ребром ладони режут как ножом, то как раз это место задействуют? Кажется, гипотенаром называется эта мышца? Так вроде говорят? Именно этот участок парализует, если удариться локтем и ушибить nervus ulnaris, зажав его в кубитальном канале; такой ушиб, при котором нередко обездвиживаются мизинец и безымянный палец, называют вдовьим локтем, или даже вдовьим горем, потому что эта напасть быстро проходит. Вот это-то место я и прищемил тяжелым кованым ящиком. Ну что я могу сказать? Что тут говорить? Просто адский щипок. Сжав зубы, я испускаю тяжкий стон и с трудом медленно выдыхаю через рот, так что тонкая струйка слюны стекает на элегантную официантскую тужурку. Бутылки я сумел, не разбив, опустить на каменную кладку пола, зажал ладонь между ляжками и продолжаю шипеть и брызгать слюной, мне больно по самое немогу. Разжать ляжки и посмотреть, что с моей рукой, я не решаюсь. По ощущениям невозможно определить, расплющена ли она, порезана или размозжена, или что там с ней. Больно так, что кажется даже, будто кто-то нарочно измывается надо мной. Может, так и есть? Пытаясь справиться с болью, я принимаюсь ходить взад-вперед. Хотя можно ли это назвать хождением: я ковыляю туда-сюда между рядами полок, загребая ногами и зажав руки между ляжками. Но я не продвигаюсь вглубь подвала, я вовсе не желаю забрести в его дальнюю часть, ни за что на свете не желаю я оказаться в дальней и самой глубинной части этого промозглого подвала. В этом накопителе всего привозного и наносного. Порезаться я, кажется, не порезался, я потираю одну руку о другую, они сухие, похоже, крови нету. Даже смотреть не хочу. Стою тут, ниже уровня мостовой старого Осло, и постанываю.
У меня подкожное кровоизлияние: надулся волдырь размером с ненадетый презерватив. Вот-вот лопнет, надо бы его проткнуть, но с этим делом нужно идти к повару, здесь, в подвале, нет никаких колющих орудий, насколько мне известно. Я захватываю две бутылки «нипорта» правой рукой, а поврежденную левую руку зажимаю под противоположной подмышкой. Вот ведь незадача какая. Крышку подвала (стальную) мне удается захлопнуть каблуком туфли; в момент падения крышки на раму (тоже стальную) раздается оглушительный грохот. Ну и пусть. Мне этот грохот не приглушить. Я огибаю выступ стены и прохожу на кухню через черный вход.
– Можешь его проколоть? – прошу я шеф-повара, показывая ему волдырь.
– Сейчас сделаем.
– Здорово разнесло.
– А я его устричным ножичком.
В ту же секунду со стороны вращающейся двери доносится «эй!». В дверях, вперив в нас взор, стоит запыхавшийся Метрдотель. Я поспешно отзываюсь.
– Да?
– Ванессе нужна помощь, – говорит Мэтр.
– Так Ванесса вернулась?
– Да, она вернулась. С новой стрижкой.
– А.
– Сверху блеск, снизу гниль.
– …
– Ей требуется помочь. Она раньше не обслуживала столик 13.
– А что, за столик 13 пришли? – говорю я.
– За столик 13 пришли, – говорит Мэтр.
– Ах ты, господи.
Часть III
Селлерс с компанией
Ну вот, за столиком 13, у самого бара, через два столика от столика 10, за которым восседает Хрюшон со своими избранниками, устроились Том Селлерс и его компания. Столик 13 тоже мой столик. Только их мне сейчас и не хватало. Селлерсу, как и Хрюшону, но на прямо противоположных основаниях (дело тут в упоминавшихся уже подношениях), дозволено вести себя в «Хиллс» как в собственной гостиной. Селлерс со свитой имеет обыкновение заявляться в разгар вечера, когда уровень шума возрастает, а публика постепенно распоясывается, но вот сегодня они, значит, прибыли в 13.47, средь бела дня: Селлерс, Братланн и Рэймонд.
Вообще-то Селлерс особо и не безобразничает. Он «озорничает», как говорят в деревне, но не выходя за рамки приличий. Он из мастеровых, так это называлось в старые времена. Когда в XVII–XVIII веках по Европе, начиная с Германии, разбрелись едва научившиеся ремеслу подмастерья, понятие «бродячий подмастерье» обросло довольно одиозными ассоциациями, так стали называть праздношатающихся бродяг без роду и племени. Конечно, Селлерс обретается в одном и том же месте, строго говоря, но от него исходит присущая некоторым людям, пожалуй, все меньшему числу людей, особенно здесь, на нашем упорядоченном севере, аура бесхозности и неприкаянности. Он шалопай. Ореол окультуренного озорника делает его в глазах многих неотразимым. Или, может быть, не столько неотразимым, сколько привлекательным.
Или не столько привлекательным в том смысле, что он обладает обаянием и магнетизмом, но в том смысле, что он притягивает к себе других жаждущих признания озорников. Нотка озорства придает Селлерсу авторитет в определенных кругах. У него физиономия стареющего шалуна. На лице у Селлерса толстая и грубая кожа Джорджа Клуни, но она более обветренная, более серая чем у Клуни, и форма головы под ней менее выигрышная. Селлерс не то чтобы страшненький Клуни, но у него кожа Клуни натянута на черепушку пошире. Кожа Клуни прокурена, пропита и натянута на черепную коробку озорника. Волосы начинают седеть. Он напоминает невыспавшегося Пикабиа. У него линялый вид, хотя он и крепко сложен.
Селлерс не блещет того рода ухоженностью, которая в общем отличает клиентуру «Хиллс». Пожалуй, его можно назвать интересным мужчиной. Он несколько потаскан и грубоват, но он спокоен. Утомлен. Не раздерган. Он выглядит лощеным, но в то же время и неряшливым. Он производит впечатление неглупого человека, и потому это его неблагоприличие влечет к нему. Эдакий потрепанный аль денте: снаружи потасканный, внутри жесткий. Ну и стоит еще добавить про то, как на него действует алкоголь. Некоторые люди, пьянея, ведут себя беспомощно или дурашливо. Когда Селлерс пьянеет, кажется, что он делает это нарочно, с вызовом. Со стороны опьянение Селлерса выглядит как критика чужой трезвости. Ему доставляет удовольствие, когда ситуация выходит из-под контроля. Селлерс из тех, кто чувствует себя как рыба в воде в атмосфере подначек. Вокруг него все постоянно наскакивают друг на друга. Его же почти невозможно вывести из себя. Рядом с Селлерсом не расслабиться. Он производит двойственное впечатление. Он не прост. Селлерс сложен. Его не поймешь. Представляет ли он собой загадку? Пожалуй, что так. Начинаешь задаваться вопросом, чего же он хочет? Чем он занимается?
«Никогда я не буду работать, O море огня и дыма!» – это не Рембо, нет? Селлерс не занимается ничем. Но постоянно чем-то занят. О нем рассказывают разные истории. Шеф-бар переполнена информацией. Исполнительный директор М. Хилл, со своей стороны, настроена по отношению к Селлерсу и его группе весьма благожелательно (дары) и утверждает, в передаче Шеф-бара, что Селлерс с друзьями, не прилагая ни малейших усилий, именно тем самым вписываются в определенную историю, в определенное направление исторического развития, создавая традицию, ставящую превыше всего инфантильную дурашливость. Да никогда Селлерс ни в какое историческое развитие не вписывался, возражает Метрдотель, скорее ровно наоборот, но исполнительный директор, в передаче Шеф-бара, настаивает, что бесконечное нанизывание Селлерсом одного нонсенса на другой активно соотносится с определенными чертами культурной истории XX века. Мэтр считает такой взгляд на вещи слишком снисходительным, его такая интерпретация не убеждает, но исполнительный директор стоит на своем. Гордясь своим делом и семейным предприятием, она желала бы, чтобы в этом семейном предприятии, ресторане «Хиллс», прослеживались следы культурной истории, что, строго говоря, уже наблюдается в форме всех этих слоев наклеек и картин, но для исполнительного директора этого недостаточно. Она предпочла бы, чтобы история культуры продолжала разыгрываться, не просто «продолжалась», или «развивалась», но повторялась бы до бесконечности, и чтобы все, что еще не было осмеяно, вышучено и переосмыслено в первом раунде, начиная с 1914 года и далее, могло в том же духе подвергаться осмеянию и перевиранию снова и снова. Процесс великого осмеяния, начатый в самом начале XX века, в период расцвета «Хиллс», так и не завершился, говорит исполнительный директор М. Хилл, в передаче Шеф-бара, он не завершится никогда, и требуется погрузиться в глубину времен, чтобы начатые и незавершенные фигуры, эти осмеяния, которые только и являются действительно ценными фигурами, говорит она, можно было свести воедино, и повторить, и разыгрывать вновь и вновь. Такие фигуры обречены вечно оставаться неверно понятыми, и тем самым обречены повторяться, чтобы навеки сохранять такое неверное понимание, поскольку неверно понятые вещи часто более эффективны здесь и сейчас, нежели как часть истории. «Хиллс» – одна из немногих площадок, где для подобного есть место. Так помпезно излагает свое мнение исполнительный директор. Селлерс и склочен, и неуживчив, этого у него не отнять, но само по себе это не делает его престолонаследником дада, полагает Мэтр. Подспудное несогласованное брожение в компании Селлерса, Рэймонда и Братланна не прекращается ни на мгновение, но оттуда до Пантеона им как до неба, раздраженно настаивает Метрдотель. Тот пляж, который якобы должен прятаться под булыжниками мостовой (аллюзия к студенческим волнениям 1968 года), Селлерс с коллегами обнаруживают на дне бутылки, считает исполнительный директор, но чтобы набраться и вести себя по-свински, особых дарований не требуется, возражает Мэтр, нет, совсем наоборот. Ядовитые нападки, которыми Селлерс и его подпевалы жалят всех вокруг, чуть жидковаты, чуть говнисты. Если следовать логике Метрдотеля в передаче Шеф-бара, то дружки Селлерса сумели разобраться единственно в классическом вопросе, стоит ли получать максимум удовольствий и развлечений от текущего момента, сегодняшнего дня, жизни как таковой, или же дать выход своим желаниям только после революции, а пока попридержать их. Поскольку революцией не пахнет, Селлерс, Братланн и Рэймонд вовсю развлекаются – «отрываются» – здесь и сейчас. Они давно уже раскумекали, аргументирует исполнительный директор, что мы вращаемся в подставной действительности, действительности с подставными социальной, политической, экономической, экзистенциальной составляющими, которая, как уясняет все большее число людей, превратилась в откровенную пародию на то, что когда-то было «существованием»; эта ситуация, это состояние, зашли так далеко, что их не назовешь даже шуткой, анекдотом; так далеко, что любой приличествующий отклик на нее перестал быть приличествующим. В репертуаре остается лишь издевка. Однажды Селлерс сказал ей, утверждает исполнительный директор, что его целью является попытаться сделать так, чтобы сутки никогда не состояли более чем из 24 часов зря выкинутого времени. Ну что ж, с этим даже Мэтр может согласиться. Но больше ни с чем.
Может создаться впечатление, что Селлерс у нас курит в помещении, но нет, это не так. Закон о курении вступил в силу много лет назад, даже авангардистам теперь приходится курить на улице. Селлерс «держится» так, будто он курит, он выглядит как какое-нибудь фото 20-х годов, а точнее, он выглядит как фото 1923-го года. Я выгляжу как фото 1890-го года, если не обращать внимания на то, что прямо позади меня сидит Дама-детка, у которой внешность на все сто современная. Хрюшон выглядит как фото 1984-го года. Братланн, тщедушный компаньон Селлерса, выглядит гномом. Лицо у него в одно и то же время и молодое, и старое. Мне этот Братланн никогда не нравился. Эти близко посаженные глазки. Селлерс и Рэймонд мне весьма симпатичны, несмотря на все их дурачества, а вот Братланн мне даром не нужен. От Селлерса я могу ожидать чего угодно, но он великолепен. Братланн гадок. Выражение на его лице всегда гадкое. У него змеиная улыбка. Глаза дохлой рыбы. Вечно все комментирует. Братланн окончательно облысеет через три секунды. Внешность не из выигрышных. А если точнее, и по-прежнему апеллируя к атмосфере, царившей в начале XX столетия: на самом деле он похож на Жака Ваше. У него крысиное Конан O’Брайено-подобное лицо Жака Ваше, водруженное на вздернутые плечи Берни Сандерса. И плохие зубы.
Стоит за столиком 13 помянуть малоизвестное Братланну имя, и он, обычно такой разговорчивый, смолкает. Потом, оставив Селлерса с Рэймондом продолжать беседу, Братланн удаляется в туалет, а когда возвращается оттуда, внезапно оказывается обладателем массы ценных сведений. Еще бы – посидел, значит, на крышке унитаза, рыская по интернету, и нахватался всяческой информации. Из клозета является подпитанный краудсорсингом эрудит. Чтобы закамуфлировать свое чудовищное невежество, он всегда припадает к интернету. Здоровенный верзила Рэймонд, третий в свите Селлерса, – прямая противоположность Братланну. На вид оборванец оборванцем, сальная челка свисает на глаза. Лицо его напоминает маску из задубелой волосатой кожи, в которой проделаны две дырки и одна узкая прореха, но из этой прорехи, из его рта, как правило, раздаются замечания не в бровь, а в глаз. Познания Рэймонда глубоко осмысленны, не то что у Братланна, этого любителя почитать на фарфоровом толчке. У Рэймонда на подбородке шрам, подбородок подрагивает словно от сдерживаемых рыданий, из-за этого кажется, будто Рэймонд перманентно растроган, слегка огорчен. Рэймонд обладает некой потной харизмой, он всем нравится. Его одаренность невероятна. Не знаю, как должен выглядеть гений, но, если уж он мне попадается на глаза, я понимаю, что это гений. И зовут его просто Рэймондом, никакие клички к нему не липнут – у этого милого дитяти имя одно. А вот у невзрачного Братланна кличек пруд пруди. Одна из них «Уж», поскольку он ужом увивается вокруг Селлерса. Как-то Братланн продал квартиру по цене значительно ниже оценочной стоимости, после этого его прозвали «Оценщиком». Прозвище «Ведерко» появилось, когда они отправились в лес по ягоды и Селлерс подшутил над ним, убедив, что собирать нужно исключительно зеленые. «Что у тебя в ведерке?» – приставали к нему потом. Когда они ездили в Варшаву, Братланн из кожи вон лез, чтобы блеснуть своими познаниями о достопримечательностях польской столицы – он проучился там один семестр в конце 1980-х годов – и всю осень по возвращении из поездки его кликали «Поляком». Составив Селлерсу компанию в Дюссельдорфе, он крикнул «Генуг![7]» чистильщику обуви, который слишком рьяно надраивал его новые кожаные туфли, и тем заработал себе кликуху «Генуг». Именно так к нему и обращаются чаще всего, особенно Рэймонд; всякий раз, когда нужно сказать Братланн, Рэймонд говорит «Генуг».
Ситуация
Что там они отмечают? Селлерс и его свита вальяжны в движениях. Они не горласты, не шумливы, какими люди нередко становятся после, скажем, обеда с возлияниями – они пребывают скорее в состоянии спада, который наступает, когда гулянка продолжается уже почти сутки, когда пирушка перерастает в соревнование на выносливость, в марафон, в нелегкую работу. Братия Селлерса ведет себя скорее сосредоточенно, чем празднично. Ходят они вразвалку. Жесты Селлерса неуклюжи, движения глаз замедлены. Я прячу ладонь с волдырем за спину и спешу на помощь недавно к нам устроившейся, коротко обкромсанной Ванессе, которая беспорядочно кружит по залу, прижимая к груди стопку меню. Я знаю Селлерса. Или как сказать, знаю – не знаю: я знаю его настолько же хорошо и настолько же плохо, насколько я знаю всех наших постоянных посетителей. Я его вижу здесь на протяжении многих лет. Он меня видит здесь на протяжении многих лет. Мне известно о нем очень многое. Ему обо мне ничего не известно.
– Желаете посмотреть меню?
Том Селлерс потирает ляжки. Потирает свои авангардистские ляжки. Трудно сказать, является ли он алкоголиком в прямом смысле слова, но, надо сказать, такое потирание ляжек типично для алкашей. Оно выдает жажду. Селлерс всегда в подпитии. Выбор компании падает на пиво «Бирра Моретти»; но не всей компании. Братланн, он же Поляк, он же Ведерко, он же Генуг, желает белого вина.
– Домашнего? – спрашиваю я.
– Нет.
– Желаете посмотреть карту вин?
– Не стоит.
– Понимаю.
– У вас калифорнийское шардоне есть? Калифорнийское.
– Ну конечно.
– Тогда мне бокал, да не скупись.
– Кушать будете что-нибудь?
Есть резон соблюдать формальности даже в общении с такими развязными типами как Селлерс. Все мы знаем, что они пришли поесть, но еще мы знаем, что прежде чем обслуживать человека, comme il faut[8] спросить, чего он желает, и я беру на себя труд спрашивать, поедать глазами и ожидать. Я все это умею. Обмен взглядами завершается кивком Селлерса, я со своими рукой и волдырем удаляюсь за барную стойку и там достаю бутылки «моретти» (раньше его варили в Удине, но теперь марка куплена Хейнекеном, кажется так) плюс бутылку шардоне, выращенного, собранного и давленного в солнечной Калифорнии. Продолжающий набухать волдырь болит и мешает сосредоточиться. Я думаю, что надо бы мне поскорее разобраться с напитками и отправиться к повару под его устричный нож. Селлерс запевает тихим голосом:
E ricomincerá Come da un rendez-vous…[9]Много лет тому назад стоял тут у нас музыкальный автомат, исполнявший под гулкое эхо песни Паоло Конте и другие хиты итальянской эстрады. «Плащи» и тому подобное. Мне кажется, Селлерс скучает по этому автомату.
– Селлерс, умоляю, – говорит Братланн.
– Не суйся, Генуг, – говорит Рэймонд.
Атмосфера вокруг этой троицы являет собой гремучую смесь освежающего и неприятного. Можно ли представить себе запах, одновременно свежий и гнилостный? Как-то раз мне довелось расправляться с букетом лилий, загнивших в вазе. Флорист не проследил. Букет пах уже не лилиями, он пах дерьмом. Но странное дело, цветы выглядели вполне свежими, только стебли одрябли. Сладковатый дух гнили мешался с ароматом цветов. Лилии испускают сильный тревожащий запах, особенно если не обрезать маленькие тычинки, или что там торчит изнутри цветка, они-то и пахнут. Наш флорист меня раздражает. Время от времени он допускает такие оплошности. Пока я сервирую напитки, никто из компании Селлерса не поднимает глаз. Чтобы не видно было волдыря, я подворачиваю левую руку внутрь словно клешню. Селлерс парень приметливый. Не сказать бесцеремонный, но ему может прийти в голову отпустить замечание по поводу какой-нибудь ерунды и смутить человека. Да что я говорю? Это меня такое может смутить. За других не скажу. Он сметлив, всегда видит больше, чем высказывает вслух.
Я прячу волдырь, не хочу, чтобы меня расспрашивали о нем. Непозволительно допускать такое. Ничьей вины в этом нет. Я не могу поставить в укор вдове Книпшильд, что она послала меня в подвал. Вдова Книпшильд! Ужас какой. Я смотрю на ее столик, на нее; она так и сидит с пустой рюмкой, устремив взгляд на меня. Да просто кошмар, ее старые глаза неотрывно смотрят на меня, ее выцветшие глазные яблоки ищут вопрошающим взглядом мои глаза, конечно, они не могут понять, почему же я не несу этот «нипорт» и почему я оказываю предпочтение этим не первой молодости (собственно, средних лет), не вполне трезвым мужчинам. Бедные усталые глазные яблоки вдовы Книпшильд. Только представить себе, чего они повидали. Представить себе, сколько из них выкатилось слез. За ее долгую жизнь они поработали на славу, эти глаза, наглазелись, наревелись. А тут новое разочарование. Только этого ее усталым глазам и не хватало, быть вынужденными свидетелями еще одного разочарования. Со мной вот-вот случится ровно противоположное тому, чтобы «вдохнуть полной грудью» – я чувствую, как у меня сжимает грудь. Мое дыхание становится поверхностным. Такое со мной бывает, особенно если мне на тарелку насыпали лишнего, как говорится; у меня затрудняется дыхание. Вдова Книпшильд все сидит, вперив в меня свои глазные яблоки; чтобы привлечь мое внимание, она даже тянет кверху свою костлявую руку. Рука у нее дрожит, но так замедленно, что кажется, будто она помахивает мне. И будто мало мне этой помахивающей костистой руки, еще и Хрюшон поворачивает голову в мою сторону и кивает. Ну ему-то что надо? Что ему нужно, этому Хрюшону, у которого есть всё? Я показываю, что подойду к нему чуть позже. Ванесса по-прежнему вьется возле столика Селлерса. Волдырь пульсирует. Я устремляюсь к повару.
* * *
– Ну что, проколешь?
– Чего?
– Мой волдырь.
– Покажи.
Излишне жесткой хваткой он вцепляется мне в запястье и начинает очень медленно и глубоко дышать через свой приплюснутый нос. Изучает мою ладонь так, как кузнец мог бы изучать ковку, выполненную другим кузнецом, например, или как мастер суси изучает кусок рыбы, крутя ее в руках и оглядывая со всех сторон. Я не знаю, зачем он напускает на себя такой «угрожающий» вид, он повар, не хирург. Кому Бог даст чин, даст и ум. Но прокалывание волдырей повару не по чину. Он отделяет устричный ножик от магнитной полосы (она приделана под рабочей поверхностью, а не над ней), равномерно и с силой надавливает им на волдырь, так что тот сразу лопается. Вырывается тоненькая струйка крови, тоньше волосинки. Толщиной с иглу для иглоукалывания, наверное? В смысле, абсолютно необъяснимо тонюсенькая. Мне кажется, повар и не заметил эту струйку поначалу, у него не особо хорошее зрение; струйка успевает ударить в грудь белого застиранного поварского кителя, потом хлестнуть выше, по воротничку, по шее, по лицу. Вот она уже стекает по щеке. Только теперь он реагирует. Может быть, кожа его глаз оснащена особо чувствительными нервными волокнами. «Иэээуууййй», – ревет он в отвращении, испуская некий причудливый, средний между «эээ» и «ууу» звук, из-за чего его вскрик похож сразу и на слово, и на ауканье, на выкрик, не имеющий определенного значения, чуть ли не на блеяние; это звук, производимый телом, когда отказывают языковые способности. Он то ли улыбается, то ли кривит рот в плаче, и по щеке у него сползает как бы кровавая слеза, которую он поспешно смахивает рукавом поварского кителя. Обернув мою руку кухонным полотенцем, он надавливает на волдырь так, что кровь вытекает на ткань (лён).
Вопрос в том, насколько громким был его вскрик. Мне это послышалось, или на самом деле звяканье приборов и гул голосов в зале ресторана на мгновение стихли? Да уж, причудливый звук издал наш повар. То ли вскрик, то ли отрыжка, то ли блеяние, раздавшееся из пасти овцы. Из глотки овцы. Из зева овцы? Вот так он заблеял. Кто-нибудь слышал это? Я пробую «вздохнуть», но глубоко втянуть воздух у меня не получается, и вместо того глубокого материнского вздоха облегчения, который мне хотелось бы издать, я произвожу натужный шипящий звук. Волдырь опорожнен, из раздутого переполненного пузыря он превратился в бледный шмат кожи.
– А теперь что? – спрашиваю я.
– Надо забинтовать, а то заденешь, оторвешь кожицу.
– А есть у нас марля?
– Немножко есть, кажется. В раздевалке.
Мне надо поторопиться. Хрюшон ждет, рюмка перед вдовой Книпшильд все еще пуста. Нужно подлить ей «нипорта». Пусть хоть зальется своим «нипортом». А Хрюшон, хочет ли он посмотреть десертное меню, или он хочет дразнить и растравлять меня беспредметными расспросами о Селлерсе и о редких произведениях искусства? Я протискиваюсь мимо повара, лезу в древнюю прожелтелую аптечку в нашей раздевалке и накладываю на этот свой шматок кожи двойной компресс. Получается это у меня из рук вон плохо, компресс ложится криво и отстает. Я заматываю руку куцым обрывком марли, который нашелся в аптечке. Повязка получилась очень далекой от профессиональной. Что за игру он затеял, Хрюшон, что это за подначки? С «нипортом» в руке я толкаю вращающуюся дверь и возвращаюсь в зал, к гостям. Уф, Хрюшон оборачивается ко мне. Не сводит с меня глаз. Дама-детка тоже взглядывает в мою сторону. Уф. Вдова Книпшильд сероватыми глазными яблоками смотрит в мою сторону, в надежде дождаться бутылки с «нипортом». Я подхожу к ней первой. Держу «нипорт» высоко, почти что на высоте грудины, чтобы не посеять в душе вдовы Книпшильд никаких сомнений в том, что сейчас произойдет.
Я не скуплюсь, наполняя ее бокал. Лью и лью. Доливаю до краев, вот-вот выплеснется.
– О, спасибо, спасибо, – говорит она.
Теперь к Хрюшону.
– Всё хлопочете? – говорит он.
Ох, как это мне знакомо, чувство напряжения по периметру правого глаза. Не могу понять, какое отношение правый глаз имеет к моей эмоциональной жизни, но напряжение всегда сковывает кожу вокруг правого глаза. «Что-то» напрягается. Что именно напрягается? Неприятное ощущение. Тревожность. Напряжение.
– Понравилось? – интересуюсь я.
– Великолепно, – отвечает Хрюшон.
Вот бы посмотреться в зеркало, глянуть, насколько заметно это напряжение вокруг правого глаза. Что говорит окружающим эта буря в глазу, чуть было не сказал я, о моей нервозности? И в какое бы зеркало мне поглядеться? Для персонала предназначено лишь крохотное зеркальце на дверце шкафа в раздевалке. Конечно, в самом зале две стены зеркалальные, но не может быть и речи о том, чтобы смотреться в зеркало посреди ресторана. Я качаю головой. К тому же зеркальный слой на обратной стороне растрескался, любой выглядит чудовищем в этих старых «откормочных зеркалах», как их называет Шеф-бар. (Не потому ли, что в них все выглядят толще, чем на самом деле.) Ощущения вокруг правого глаза становятся отчетливо болезненными. – И грибы свое дело сделали? – осведомляюсь я у Дамы-детки. Она прыскает. – Зависит от того, что понимать под их делом. – Блез гогочет. Что за дело должны делать грибы? Поди знай. Наверное, свое грибное дело. Не стоит мне пытаться острить. Несчастный человек – надежный потребитель, любит повторять Эдгар. Это и к Даме-детке относится. У нее «детская» улыбка, но меня не проведешь. Сколько потребуется подразделений спецсил правопорядка, чтобы Дама-детка улыбнулась по-детски? Я прибегаю к своему единственному средству защиты, стандартным фразам.
– Могу ли предложить вам что-нибудь на сладкое?
Левую руку я из-за спины не высовываю, чтобы не размахивать бинтом перед носом у обедающих. Налегая на сёмужку, буйабес или волован, человек вряд ли жаждет разглядывать компресс, наложенный на раневую поверхность. Проблема только в том, что пока я общаюсь с Хрюшоном, моя спина обращена в сторону бдительного Селлерса и его свиты, моя рука не сходит со сцены, можно и так сказать, на нее направлены огни рампы, в какую бы сторону я ни повернулся. Пока я пытаюсь ублажить Хрюшона, Селлерс с компанией своими взглядами чуть ли не ощутимо прожигают компресс до жалкого шматка кожи под ним. Уф. Селлерс где угодно найдет повод для конфликта. В смысле, он не лезет на рожон, не задирается откровенно, но делает это по-умному, исподтишка, как-то двойственно или тройственно, что на мой взгляд хуже, чем расхожее, неподобающее, простецкое, пресное подначивание. Я оборачиваюсь к нему.
– Что, на кухне все ли идет своим чередом? – двусмысленно осведомляется Селлерс.
– Да, вполне.
– Вы только скажите, если мы можем чем-то помочь.
– Вряд ли это понадобится, – говорю я.
– Нет так нет, – говорит Селлерс. – Но, если что, обязательно обращайтесь.
– Не принести ли еще напитков? – спрашиваю я.
– Вы похудели, или мне кажется?
Когда я стою возле столика, обслуживая клиентов или принимая заказ, то, бывает, и сам замечаю, что сутулюсь. Уж эта сутулость. Мало найдется смягчающих обстоятельств для оправдания сутулости, но если посмотреть на нее под особым, официантским «углом зрения», то сутулость в известной мере сопряжена с трудом официанта. В нашей профессии приходится часто наклоняться вперед. Сейчас я нагибаюсь к столику Селлерса. Со стороны, возможно, и не совсем уж странным выглядит, что официант так кренится, но в данном случае речь идет о чрезвычайной сутулости. В тяготящей меня ситуации я сутулюсь сильнее обычного.
– Я всю сознательную жизнь вешу столько же, сколько весил в девятнадцать лет, – говорю я.
– Прекрасный возраст. Девятнадцать. Эти вечера. Этот задор, – говорит Селлерс, двусмысленно.
Надо поскорее убраться отсюда. Я показываю Ванессе, чтобы она приняла у Хрюшона со спутниками заказ на десерт и кофе. Что-то из этого выйдет? Ванесса мастак напутать. Она не в состоянии запомнить одинарный кортадо, двойной эспрессо, двойной кортадо и одинарный американо. Переспрашивает. – Оба кортадо двойные? Нет, только один. А американо? Одинарный? Да. И двойной эспрессо, правильно? – Вроде не так уж сложно, – говорит Блез. Скорее цедит сквозь зубы. Довольно резко; в том, что он говорит, слышится укол. И этот укол слышен издали. Бдительный Селлерс и его сотрапезники очень чувствительны к уколам и репликам сквозь зубы. Пусть они бесконечно нечувствительны к тому, как сами выглядят со стороны, к тому, что вокруг них неизменно создается тягостная атмосфера, но уколы со стороны других – особенно если они направлены «сверху вниз», как говорится, – вот их они не пропустят мимо ушей. Укол, подобный тому, какой Блез отпускает Ванессе, Селлерс с компанией оценивают как «недостойный», мне ли не знать. Я их хорошо изучил. Блез обладает на редкость представительной внешностью, да я уже его описывал. «Недостойость поступка» прямо пропорциональна тому, насколько наканифолен тот, кто этот поступок себе позволил. Тем самым отчебученная Блезом недостойная реплика становится еще более неподобающей на слух Селлерса и Братланна.
Селлерсу никогда не придет в голову использовать в нападении иное оружие, кроме языка. На худой конец, ужимки и уловки. Селлерс жестом подзывает Ванессу к себе. Размеренно перечисляет все, что желает заказать. Ванесса с отчаянием во взгляде кивает. Сколько всего надо запомнить. Она удаляется к бару и вскоре возвращается, неся на подносе множество чашечек с разнообразными видами кофе и штабель тарелок с легкими закусками. Она с трудом удерживает поднос в руках. Подходит сначала к Селлерсу и ставит на столик две чашки с кофе, но Селлерс поправляет ее, она забирает чашки с собой и не без напряжения переносит весь перегруженный поднос к столику Хрюшона, расставляет чашечки с кофе, одну за другой, и в общей сложности семь блюдец салями с фенхелем; Хрюшон с компанией молча наблюдают. И когда Ванесса, выглядящая несколько пришибленной, заканчивает свое дело, на столике 10 оказывается девять двойных американо и один кофе по-турецки, в дополнение к куче салями с фенхелем. Ванесса смотрит на дело своих рук. Что она натворила?
– Юхансен! – выкликает Селлерс. Музыка стихает.
– Schweigt stille, plaudert nicht!
Юхансен обрушивает на зал «Кофейную кантату» Баха.
Разумеется, до рукоприкладства не доходит, но не обходится и без заварушки. Блез поднимается и идет к столику Селлерса. Братланн, со своим привычно воинственным настроем, поднимается и движется навстречу Блезу. Они останавливаются в неловкой близости друг от друга. Братланн на добрые десять сантиметров ниже Блеза, Блез далеко впереди Братланна в том, что касается умения хорошо одеваться.
– Это вы кофе заказывали? – говорит Блез.
– Да, я без конца заказываю кофе, – говорит Братланн.
– Или, может быть, он? – Блез показывает на Селлерса.
– Вы что, кофе не любите? – говорит Братланн.
– А?
– Капли с барского стола?
– Я не понимаю, что происходит? – говорит Блез.
– Правила приличия. На вас они тоже распространяются. Вы в ресторане находитесь.
– Это что такое?
Блез разводит руками и оглядывается в поисках подтверждения абсурдности раздающихся из уст Братланна слов. Он как бы ничего не понимает. Сбитая с толку Ванесса начинает перетаскивать кофе и салями с фенхелем со столика Хрюшона назад, на столик Селлерса. Метрдотель и я приближаемся к скандалистам с противоположных сторон. Мэтр просит их успокоиться. Братланн не обращает на это внимания, но Блез, будучи воспитанным человеком, подчиняется. Делает шаг назад. Я кладу руку на плечо Братланну, чтобы попридержать его, но он выворачивается как какой-нибудь подросток.
– Фy! – говорит он, тыча в Блеза указательным пальцем.
Мэтр обхватывает ошеломленного Блеза за предплечье, другую руку кладет ему на аккуратно подбритый затылок. И отводит благоухающего джентльмена назад к столику Хрюшона. Уймется ли Братланн наконец? О ужас, он подцепляет с одного из блюдец с закуской хвостик салями с фенхелем. Но не успевает он запустить им в Блеза, в Даму-детку, или слопать его, или что он там собирался с ним сделать, как Селлерс шлепает его по кисти, и колбасный хвостик выскакивает из пальцев Братланна. «Эй!» – резко вскрикиваю я. Хвостик салями летит по пологой навесной траектории и хлопается прямо о стекло прелестного ассамбляжа Изы Генцкен, висящего в рамочке чуть выше и правее столика 15; оттуда он скатывается за весьма монструозную батарею отопления, покрытую бесчисленными слоями облезающего блестящего лака. Метрдотель реагирует решительно, как-то даже дернувшись, вскинувшись.
– С Генцкен поаккуратнее! – выкликает он, показывая негнущимся пальцем на произведение искусства.
Салями с фенхелем оставляют на обрамленном стекле сальное пятно. Колбасный хвостик валяется теперь за батареей в пыли, грязи и жире. Селлерс жмурится. Щурится. Вид у него такой, будто он пытается сфокусировать взгляд на жирном пятне, оставшемся на Генцкен. В смысле, старается разглядеть его получше, рассмотреть поподробнее.
Нос
– Генцкен протри, – говорит Метрдотель грубым голосом.
Я тут же отправляюсь на кухню за аэрозолем «Джиф». Повар отрывает взгляд от фламбировки и смотрит на меня, услышал, должно быть, что в зале переполох, но вопросов он никогда никаких не задает. Есть у него, у повара, такое свойство: он знает, что происходит в обеденном зале, хотя сам находится в другом месте. А пока я протираю стекло, ко мне подходит Хрюшон и интересуется, не повреждена ли картина. Да ничего, все в порядке. Это всего-навсего жир. Но тут он снова принимается за свое. Ему хочется поговорить. Как это некстати, говорит он, этот инцидент. Ведь Хрюшон-то хотел, чтобы я представил его Селлерсу. Дело в том, что Хрюшон случайно натолкнулся на одно произведение искусства, и надо бы, чтобы его посмотрел компетентный человек. К тому же такой, как бы это выразиться, говорит Хрюшон, чтобы он как бы неофициально его посмотрел. Этот Селлерс компетентен, как они поняли. Возможно, и так, без энтузиазма откликаюсь я. Мне бы не хотелось впутывать в это администрацию ресторана, говорит Хрюшон. Лучше всего, если бы вы, с вашим многолетним опытом, представили меня Селлерсу, говорит Хрюшон. Больше от вас ничего не потребуется.
Я вежливо отказываюсь. Это выходит далеко за рамки моих служебных полномочий, говорю я. Мне бы не хотелось вмешиваться в это дело. Поднимите этот вопрос с исполнительным директором (M. Хилл). Нет, вы меня не поняли, говорит Хрюшон. У Блеза дома сейчас находится настоящая жемчужина (Да, сейчас он хранит у себя одну из небольших портретных зарисовок Ганса Гольбейна-младшего, не из самых известных, чуточку блеклую, но это тем не менее Гольбейн, один из рисунков серии, созданной при дворе Тюдоров, не больше и не меньше), и ему требуется обсудить ее с кем-нибудь, кто не станет потом трезвонить об этом на каждом углу. Как полагает Хрюшон, Селлерс не станет. Блез подумывает преподнести эту вещь в дар. Нет, извините, повторяю я. Гольбейн? Нет, нет. Я без обиняков скажу, с этим вам, господин Грэхем, придется разбираться самому. Я в это вмешиваться не хочу. Но нужно, чтобы меня ему представили, говорит Хрюшон. Придется вам представиться самому, говорю я, ошарашенный собственной прямотой. Хрюшон человек старой закалки, ему вынь да подай, чтобы его представили.
Засим Хрюшон удаляется. Щеголеватый Блез рыночно-свободным шагом подходит к суконной портьере и скрывается за ней. Дама-детка остается сидеть. Я продолжаю начищать Генцкен, хочу быть уверенным, что не останется жирного пятна. Посреди зала стоит Мэтр. Застыл как истукан. Лицо Метрдотеля, и всегда отливающее пропитой синюшностью, нездоровым румянцем, приобрело в данной ситуации более глубокий оттенок. На мой взгляд, Даме-детке следовало бы удалиться. Следовало бы приличия ради покинуть заведение, дать поднятой волне улечься. Но нет, сидит и сидит как бацилла какая-нибудь. Правда, пересаживается за другой столик, один из тех небольших, с мраморной столешницей, что возле входа; но не уходит. Как бы ее выставить?
У Селлерса вид рассеянный, взгляд устремлен вдаль; по всей видимости, разыгравшаяся здесь неприятная сцена никоим образом его не обеспокоила. Его спутники уж в который раз повторяют заказ на «моретти» – все, кроме Братланна, который зациклился на идиотском калифорнийском шардоне. Уже миновало четыре часа, скоро половина пятого. Вот и Эдгар, придерживает портьеру для Анны, которая шустро проскальзывает у него под рукой; на ее детском личике, в самом центре физиономии, если можно так выразиться, сияет улыбка.
– Привет! – говорит она. Эдгар тоже в настроении.
– Делай уроки, Анна, – говорит он.
Анна не артачится, сразу же достает свои учебники, включается в учебу немедленно, никаких тебе «(тяжкий вздох) придется приниматься за дело»; одно удовольствие наблюдать за тем, как она без всякой волынки берет быка за рога. Да и к чему тянуть, медлить? Забинтованную руку я плотно прижимаю к левому бедру.
– Папа говорит, что ты здорово играешь на пианино.
– Вовсе нет, – говорю я. – Я не учился играть на пианино. А что тебе задано на дом?
– По математике.
– Какой раздел?
– Геометрия.
– Ну это просто.
– Да… только циркуль вихляется, когда мне нужно рисовать окружности. Разболтался.
– Дай-ка посмотрю.
Она лезет в пенал за циркулем, и я ощущаю дуновение знакомого аромата. Отчетливый запах школьной поры, смесь карандаша и стирательной резинки. Значит, в этом ничего не изменилось. Карандаш и резинка. Не может быть. Я беру циркуль в руки: он совсем расшатался, а расшатанный циркуль, как всем известно, страшно выводит из себя, ужас что такое. Если циркуль расшатан, то это что угодно, только не циркуль.
– Пойду попрошу повара подтянуть его, – говорю я.
Повар на кухне кивает и, не проронив ни слова, заворачивает винтик циркуля кончиком наидрагоценнейшего хенкелевского ножа; потом возвращается к требующей отточенного мастерства обжарке турнедоса. Я уже утратил восприимчивость к запахам блюд, приготовляемых нашим поваром, однако знаю, что именно это исключительно ароматно. Но, господи, неужели же я забыл написать и турнедос, и кок-о-вэн на доске, где рекламируются блюда дня? Я хватаю мелок с блюдечка, стоящего позади катушки с кухонной нитью для мясных блюд. Пересекаю ресторанный зал, и тут Братланн ни с того ни с сего вопит «давай Сержа!»; это значит, что наверху, на антресолях, нашем внутреннем балконе, старый Юхансен должен переключиться на Рахманинова: это будет концерт № 3 для фортепьяно, Братланновский любимый. Я прихватываю бутылки с «моретти» и шардоне и помогаю им, словно трем синичкам на кормушку, без задержки приземлиться перед носом Братланна, Рэймонда и Селлерса. Потом отношу циркуль малышке Анне.
– Что происходит? – спрашивает Эдгар.
– А что происходит? – Я вскидываю брови и стараюсь сообщить лицу приподнятость, не дать ему сложиться в мрачную напряженную мину.
– Вид у тебя какой-то загнанный.
– Да тут у нас сложилась одна ситуация.
– Какая такая ситуация?
– Незначительная ситуация.
– Понятно.
У Эдгара не хватает терпения пробить мой антикоммуникабельный настрой. Он пожимает плечами. Анна свежеподтянутым циркулем с увлечением выводит идеальные круги. Боковым зрением я вижу, что Дама-детка подозвала и не отпускает дурно вышколенную Ванессу. Долго ей что-то втолковывает, не похоже, чтобы это был заказ. Что там еще она внушает Ванессе?
– Анна решила, кем она хочет стать, – говорит Эдгар.
– Ага? – говорю я. – Геометром?
– Нет такого слова, геометр, – говорит Анна.
– А кем ты хочешь стать?
– Парфюмистом.
– Парфюмистом?
– Да.
– Нет такого слова, парфюмист, – говорю я.
– Я хочу работать в магазине парфюмерии.
– Хочешь стать продавцом парфюмерии?
– Да.
– Но это совсем не то, что парфюмист.
– Ну ладно, тогда продавцом парфюмерии.
– Если слово парфюмист есть, то оно должно значить «тот, кто делает духи», – говорю я.
– Это называется парфюмер, – говорит Эдгар.
– Да, конечно.
– Или nez.
– Нэ. Нос по-французски. Человек, у которого хорошо развито обоняние, – говорит Эдгар.
– Я не нэ хочу стать, – говорит Анна. – Я хочу работать в парфюмерном магазине.
– И почему же?
– А те, кто там работает, такие веселые.
– Правда, – говорит Эдгар. – Они веселые.
– Ты хочешь быть веселой, – говорю я.
– Да, – говорит Анна, – когда работают в парфюмерном магазине, становятся веселыми.
– Пожалуй что так.
Эдгар рассказывает, что они намедни заходили в парфюмерный магазин. И его (их) поразило, какой невероятно позитивный настрой у работающей там дамы. Она была такой непостижимо радушной, говорит он, и Анна кивает. Так и надо, торговать тем, что хорошо пахнет и приносит людям радость, говорит Эдгар. Это замечательно. Анна кивает. Мы потом еще обсудили, говорит Эдгар, какая она была добрая и приятная. И у ортодонта та же история. Девушка в приемной такая безгранично приветливая. Зубы надо выравнивать, чтобы они стали ровными и выглядели привлекательно. И это нужно делать как следует: не переусердствовать, но и не схалтурить. Нужно достаточно мастерства, чтобы люди уходили домой с ровными зубами или приятным запахом. А на выходные нужно стремглав мчаться на дачу или в другое приятное место. Желательно каждую неделю. А кроме этого, нужно серьезно относиться к праздникам и торжествам. Полностью погружаться в приготовления к Рождеству. Безудержно наводить красоту. Чтобы не подкачать с Рождеством. Чтобы отпраздновать с размахом. А как придет время, не скупиться на пасхальные яйца и масленичные прутики. Я считаю, что это – источник счастья. Я серьезно, говорит Эдгар.
– А за чем вы заходили в парфюмерию? – спрашиваю я. Эдгар мешкает с ответом.
– Купить кое-что для одной приятельницы.
– А, вот как, – говорю я.
– Мускус, – говорит Анна.
– Мускус?
Всех приятельниц Эдгара я знаю. Ни одной из них мускус он не стал бы покупать, это уж точно. Интересное дело. Оно повисает в воздухе вместе со всем остальным, что уже витает в воздухе. В воздухе много чего витает. Бывает ли, чтобы в воздухе ничего не витало?
– Что за приятельница?
– Ты ее не знаешь.
Анна поочередно ставит одну ножку циркуля перед другой, и циркуль шагает по странице черновой тетради словно худющий парень на негнущихся ногах, в его неуклюжести я узнаю свою. С возрастом у меня развилась неуклюжая походка. Если мне нужно развернуться на сто восемьдесят градусов, то вместо того чтобы решительно повернуться разом, я делаю несколько неуклюжих вспомогательных шажков.
Селлерс подзывает меня движением руки. Протрезветь он не протрезвел, но и сильнее не набальзамировался, достигнув определенного уровня, так сказать. А теперь захотел поесть.
– Что вам принести? – говорю я Эдгару с Анной. – Мне нужно идти работать.
– Я хочу лазанью, – отвечает Анна.
– А я бы съел камбалы под сливочным маслом, – говорит Эдгар.
– Камбалу в масле, – повторяю я.
– Положишь побольше каперсов?
– Добавить каперсов к камбале.
– Немножко вычурно, может быть, но мне как-то подали ее с желе из фиников. Можешь это устроить?
– Финики к камбале, ну естественно.
– Желе из фиников, – говорит Анна.
– Хочешь фиников?
– Нет, финики, фу… – она машет пальцами перед носом, скривив лицо.
– Попроси его шампиньоны посильнее подсушить, – говорит Эдгар.
– До хруста?
– Чтобы насквозь прожарились.
– И масло прогреть до золотистого цвета.
– Да. До золотистого.
– Что ты будешь пить, Анна?
– Яблочный сок.
– А тебе, наверное, бокальчик чего-нибудь?
– Я, пожалуй, соблазнюсь бокальчиком того, с берегов Луары… – говорит Эдгар.
– «Савеньер Кло…»?
– Нет, «Куле»…
– Пусть будет «Куле».
Клюв птицы и носик соусника
Всякая птица своим клювом поет, гласит пословица, – если верить Метрдотелю. Так же и с Рэймондом. Разговаривая, он растягивает гласные. Когда он делает заказ, эти растянутые гласные смешиваются со звуками, несущимися с антресолей, из-под толстых пальцев наигрывающего трели старого Юхансена. Вот сейчас Юхансен плавно перешел к рахманиновской колыбельной, красивая музыка, но, я бы сказал, очень тягучая и крайне утомительная, странный выбор для этого времени суток. Под колыхания мелодии подгулявший Рэймонд заказывает антрекот. Голос у него густой, у Рэймонда. Баритон, на мой слух. Процесс заказа превращается в музыкальную миниатюру. Он желает, чтобы антрекот был средней прожарки, а соусник наполнен беарнезом по «саааааааамый» краешек, говорит он. Дополна. И добавляет, что лукового демигласа ему нужно только полпорции. Прекрасно, говорю я.
В общем и в целом, говорит Эдгар, искусство беседы состоит главным образом в умении пропускать мимо ушей бесстыжее вранье, так и лезущее из каждого предложения. Вранье, и к тому же еще всякие двусмысленности. Рэймонд подобным не грешит. Его заказ антрекота и до краев полного соусника, озвученный в полной гармонии с музыкой, ласкает ушные раковины. Улитки ушей. Для нас, официантов, которым, принимая заказы, приходится мириться со всевозможными запинками, время от времени выслушать ясно сформулированный заказ – это просто бальзам на душу, можно сказать.
С Братланном в этом смысле всё гораздо хуже. Речь его бессвязна, синтаксис хромает на обе ноги. С заказом все идет наперекосяк. – Не могли бы вы подождать две минутки, я напишу на доске блюда дня, – говорю я. – А почему вы не можете просто назвать их? – спрашивает Братланн. – Мне нравится писать, – говорю я. Притаскиваю старый табурет-лесенку с тремя ступеньками, вскарабкиваюсь на него и тяну руку к доске, висит она высоко, чтобы всем было видно. Когда я добираюсь до «д» в турнедосе, мелок так взвизгивает, что Братланн отпускает ругательство. Ковыряет в ухе пальцем. Я продолжаю писать, «э» в кок-о-вэн вскрикивает, Братланн снова ругается. – Этот твой визг лазером врезается в мою любимую музыку, – говорит он. Не обращая внимания на его слова, я решительно прочерчиваю жирную линию между названиями блюд и рекомендуемыми сортами вин; раздается такой резкий взвизг, что Братланн снова принимается охать и чертыхаться. – Словно шилом в мозг ткнули, – ворчит он. Я отношу табурет на место и показываю рукой на доску. Братланн прищуривается. – Нет, эти каракули мне не расшифровать, – говорит он. Я объясняю, что там написано турнедос и кок-о-вэн, но, по правде говоря, я написал турдонес и кок-о-вэрж.
– Вот уж этого мне точно не надо, – говорит Братланн.
– Прекрасно, – говорю я. Селлерс, как обычно, заказывает конфи из утиных ножек.
– Горошек не перерос молочной спелости? – задает он риторический вопрос.
– Все так же далек от полного созревания.
– Мне ведь, знаете, чуть ли не завязь нужно.
– Так и есть, горошины крохотные, едва образовались.
– И не попросите ли повара добавить капельку сока из телячьего жаркого в тимьяновую заправку?
– Обязательно, – говорю я.
Начинает прибывать обеденная публика. Минуты идут. Заказ Эдгара и Анны готов, я несу его в зал. Когда я ставлю лазанью перед Анной, она принимается хлопать в ладоши, я не шучу. Пожалуй, в ее возрасте у нее остается еще с полгода, когда она будет способна на такие бурные проявления восторга. Дети старше десяти лет уже не умеют так радоваться, не говоря о взрослых. Восторженность мало-помалу вытесняется другими эмоциями. Наш повар готовит лазанью просто пальчики оближешь, когда я подаю ее Анне, горячая паста в керамической форме все еще шипит и пузырится.
– Не обожгись, очень горячо, – говорю я.
– Знаю, – улыбается Анна.
– О как разошлись, – говорит Эдгар.
– Ты про кого? – спрашивает Анна.
– Да вон за тем столиком, – говорит Эдгар, кивая в сторону алкогольной компании Селлерса.
– Что это с ними такое? – интересуется Анна.
– Много пива выпили, – отвечаю я.
– Тебе это не мешает? – спрашивает Эдгар.
– Что мне не мешает?
– Их манера держаться.
– Уж какая есть, – говорю я.
– Да я просто так спросил, – говорит Эдгар; он знает, что Селлерс тут гуляет на очень длинном поводке.
– Ну, мне пора.
– Иди-иди, вижу, они уже заждались своего заказа, – говорит Эдгар, делая «великодушный» жест в сторону Селлерса с компанией.
Я подаю им заказанное, если не считать соусник для Рэймонда, который я мало что не наполнил под завязку, но плеснул туда вызывающе мало беарнеза. Я ставлю соус рядом с тарелкой Рэймонда; он заламывает руки.
– Ну, знаете ли! – говорит он своим глубоким певучим голосом.
Не пикнув, я забираю соусник с собой, несу его на кухню и наполняю до краев, как и просил Рэймонд.
– Это что за представление? – спрашивает он, когда я возвращаюсь.
– Позвольте? – говорю я.
– Вы это специально делаете, путаете заказы?
– Что, под нас пытаетесь косить? – вклинивается в наш разговор Братланн.
Я делаю движение головой – не понять, то ли кивнул, то ли тряхнул. Это больше похоже на непроизвольное подергивание, на тик. Будто я вздрогнул, очнувшись после секундной дремоты. Братланн чихает с таким звуком, будто кто-то залепил ему по физиономии.
– Вы опытный официант, – говорит Рэймонд. – Вы прекрасно знаете, чего я просил. Я просил подать соусник полным до краев. И тут вы являетесь с полупустым соусником. Потом уходите, чтобы его наполнить, и возвращаетесь как ни в чем не бывало.
– Ну только не надо заводиться, – говорит Селлерс, обращаясь непонятно к кому, то ли к Рэймонду, то ли ко мне.
– Теперь соусник полон, – говорю я одновременно с Рэймондом, который произносит: – А я и не завожусь.
– Ну всё, прекратите – говорит Селлерс.
– Зачем же надо было таскаться с пустым соусником? – говорит Рэймонд.
– Да хватит уже о соуснике, – рыкает Селлерс.
– Ладно-ладно, – соглашается Рэймонд, поднимая руки ладонями от себя.
Селлерс жадно откусывает от утиной ножки. Придирчиво причмокивает.
– Что-то не чувствуется тут телячьего жаркого, – говорит он.
– Я просил повара плеснуть подливки.
– Кажется, он об этом забыл.
– Обычно он очень внимателен, – говорю я.
– Тогда вам следует вымуштровать его получше, – говорит Селлерс.
– Повар сам себе указ.
– Вот как, стоит там себе и стряпает во имя свободы? – говорит Селлерс.
– Вопрос не в том, от чего быть свободным, но в том, для чего, – говорю я.
– Понятно, приняли на работу полемиста, – говорит Селлерс.
Сцепив пальцы обеих рук, я обхожу зал широкой дугой, заглядываю в бар, беру бутылку горчащего и тусклого шардоне, возвращаюсь к столику 10 и до краев наполняю бокал Братланна, хотя он и не просил добавки. В ответ он делает глоток настолько глубокий, что глаза закатываются в черепушку.
Критика женского тела
Возле входа Дама-детка поднимается из-за мраморного столика и направляется к авангардному пьющему столику Селлерса. За этим наблюдают Шеф-бар, Метрдотель и я. Что ей понадобилось от Селлерса? Она обменивается с подвыпившим завсегдатаем парой слов, представляется, используя ту же хореографию, какую до того с Хрюшоном, Грэхемом, да в каком-то смысле и со мной тоже. Дама-детка никогда не создает ничего нового, думаю я, она лишь воспроизводит саму себя. Брови взмывают чуточку выше, когда она склоняется к Селлерсу и осчастливливает его тем, что можно обозначить как плюшевое объятье. Включив свое обаяние на полную катушку, она кидается в его распахнутые руки. Он обхватывает ее и сжимает в ответном объятии. И долго не отпускает, взрослой рукой придерживая за шею, крепко притиснув, как говорят датчане, фальшивейший народ Европы.
Шеф-бар наклоняется поближе к моему уху и шепчет, мол, удивительно, но в эту компанию она вписывается ровно так же естественно, как и в ту, другую. В один и тот же день крутить хвостом и перед Хрюшоном, и перед Селлерсом – это надо уметь. Тут на одном шарме далеко не уедешь, говорит она. Посмотришь на эту дамочку и подумаешь, что, наверное, нет такой прекрасной внешности, которая не скрывала бы пугающего нутра.
– Она знакома с ними, что ли?
– Посмотрим, – говорит Шеф-бар. Ее это искренне развлекает.
Объятие завершается, но Дама-детка не спешит убрать ладони с плеч Селлерса. Они не сводят друг с друга глаз, словно старые друзья. Обнимаются еще разок. Она отпускает смешок. Радостно машет рукой двум другим пьянчужкам из компании Селлерса и усаживается между ними на стул, беспардонным образом прихваченный ею от столика 11. Мне не остается ничего иного, как накрыть и для нее.
– Спасибо, конечно, но я только что поела, – говорит она мне. Вот как? То есть грибы, которые я ей организовал, уже забыты? И как я меньше часа тому назад подливал в бокал вино, тоже? Пытается замаскировать свою двойную игру, свое перебежничество, делая вид, что ее внезапное приземление за столик Селлерса – дело самое обычное? Резкими движениями я обращаю процесс накрывания вспять. Собираю приборы, салфетку и бокалы, делая это в обратной последовательности, словно меня показывают в кино, прокручивая ленту задом наперед, если кто еще помнит, что такое было. Скрывать дальше забинтованную руку с проколотым и прикрытым сверху волдырем больше невозможно. Вероятно, мне это просто кажется, но у меня такое чувство, будто и Дама-детка, и Селлерс, и к тому же насквозь все видящий Рэймонд разглядывают мою руку.
– Я бы у вас попросила бокальчик «пино нуар», – говорит Дама-детка.
– Яволь, – беспрекословно подчиняюсь я.
Растерянно отворачиваюсь и прохожусь щеткой для крошек по паре освободившихся столиков. Что это за выражения я использую? Чистое безумие. Теперь, значит, подай ей «пино нуар»? И что это означает, если принять во внимание Хрюшоново белое бургундское? С возрастом я стал чрезвычайно восприимчивым к малейшим помехам. Стоит мне задуматься о том о сем, и я уже сбит с толку. Если только у меня что-то не заладилось, я надолго выбит из колеи. Отчего все эти сбои? Постоянное ощущение, что вот оно – вот – опять пошло не так. Ну надо же. Снова сбился. Почему со мной вечно что-то не так? Но, собственно говоря, ничего страшного никогда не происходит. Меня переклинило, когда Дама-детка уселась за столик Селлерса. Из меня ни к селу ни к городу выскочили немецкие слова.
Что-то все-таки непонятное у Дамы-детки с возрастом. Она выглядит неестественно молодо. В то же время она производит впечатление столь пожившей и матерой, что кажется даже утомленной и несколько потрепанной. Сколько ей лет? У нее порно-возраст. Ее пальцы усажены кольцами, служащими индикатором весьма серьезного капитала. Одно перекрывает сустав среднего пальца и так уж сияет и переливается, как единственно может сиять бриллиант, оно несколько вычурное, на мой вкус, но у нее это кольцо гармонирует с прочими деталями облачения, в которое вложено немерено дизайна и метров ткани. Я там вижу Миу-Миу и Дриса ван Нотена, плюс слабоватого Баленсиагу, а в основании всего этого на ней красуется пара обуви, которая не может не изумлять. Туфли относительно неуклюжие и цветастые, с толстым язычком, как у старых ботинок для катания на коньках. Но эти-то новые, должно быть, или, по крайней мере, это перевыпуск старой модели. Эйрвок, что ли? Что за причуда. Дама-детка выглядит как подросток в боевой раскраске. Ее макияж не назовешь безвкусным, но наложено его многовато. Когда я подхожу с «пино нуар» и наклоняюсь к ней во всю амплитуду своей сутулости, мне приходит в голову, что это из-за ее возраста черты детского лица кажутся более определившимися и заострившимися, что она все же не так уж сильно накрашена. Я опускаю бокал с вином к поверхности столика и беззвучно ставлю его на нее, и мысли мои заняты тем, чтоб только не повернуться сейчас к Даме-детке, я же не совсем еще спятил, мне нельзя сейчас повернуться и уставиться ей в физиономию. На клиентов не пялятся лицом к лицу. Но меня страшно интересует вся эта история с макияжем и возрастом. Я не стесняюсь признаться в этом, но вот пока я тут стою, все еще в процессе постановки бокала на столик, я ощущаю неодолимую потребность повернуть голову влево и хорошенько впериться глазами в лицо Дамы-детки. Я сгибаюсь над ее правым плечом и ставлю бокал так осторожно, что стекло касается накрытой скатертью столешницы беззвучно. Я наклоняюсь к ней так близко, что ощущаю исходящее от нее тепло. От нее исходит едва ощутимое благоухание… 80-х. Какое-то мужское даже. Что это за аромат? На какое-то мгновение, склонившись над ней и не выпуская из пальцев ножки бокала, я замираю в своей изящной официантской тужурке, в форменных брюках, в поношенных, но вполне крепких и начищенных туфлях. Уж эти мои практичные туфли. Так и стою со своими сухими волосами и так называемой нервной физиономией, которую я всегда стараюсь замаскировать усами, или же удержать на ней бесстрастное выражение. Так я стою и думаю, что было бы интересно подробно рассмотреть соотношение между декоративной косметикой и возрастом на лице Дамы-детки. Поворачиваюсь и смотрю. Она смотрит на меня. Расстояние между кончиками наших носов, ее греческим носом, моим шнобелем, равняется толщине пары кусков дрожжевого хлеба, не больше. Ни в коем случае не следовало мне устраивать такого «рандеву». Она раздвигает губы и зубы, то бишь открывает рот, с легким щелчком отрывает язык от нёба и произносит: – Яволь.
Я очень медленно выпускаю из пальцев изящную ножку бокала, наполненного легким и элегантным вином из знаменитого винограда с Золотого берега Франции, «пино нуар», и притягиваю руку к себе. Я убираю ее за спину, где уже спрятана забинтованная клешня, и пытаюсь выпрямиться. Поясница дает себя знать, с легким стоном и строгим лицом я как зеленый кадет вытягиваюсь в струнку, принимая в конце концов условно вертикальное положение. На ее «яволь» мне ответить нечем.
Эдгар рассказывал, что Набоков весьма своеобразно подходил к процессу интервьюирования: он настаивал на том, чтобы сначала записать свои ответы и отправить их журналисту, которому потом приходилось сочинять вопросы. Так вот ответ: а кто его знает. А вопрос какой? Куда деваться, когда опростоволосишься подобным образом?
Все без исключения пути к отступлению, которые имеются для меня у нас в «Хиллс», ограничены по времени. Я могу удалиться на кухню искать убежища у повара, но он наверняка вибрирует от раздражения, что для него обычно. Я мог бы почесать языком с постоянными клиентами, нам разрешено проводить с ними больше времени, чем с остальными посетителями. Я мог бы спуститься в подвал за продуктами, но, как я уже говорил, я стараюсь этого не делать. Там, внизу, меня нередко охватывает ощущение, что я погрузился в хаос. Крошки я только что стряхнул везде, где необходимо. Остается воспользоваться присутствием Эдгара и Анны.
– Ну как, у вас тут все в порядке? – деревянно спрашиваю я.
– Да, – говорит Анна. Лазанью она уже почти прикончила.
– Нелегко тебе с ними? – говорит Эдгар.
– Да уж как получается, – говорю я.
– Угу… да еще и присоединившаяся последней осложняет дело.
– Что?
– Что-что, ты знаешь, кто она такая?
На что это намекает Эдгар? Он с ней знаком? Во мне все опускается.
– Что?
– Ну, эта штучка.
Эта штучка? Он что, вдруг возомнил себя специалистом по части Дамы-детки? Я всматриваюсь в его непроницаемое лицо и не могу понять, что оно скрывает. Ах ты господи. Духи. Так духи, это для нее, что ли? Она пахнет мускусом, точно. Что за дурацкую комедию ломает Эдгар? Откуда у него этот интерес к Даме-детке? Говорит одно, думает другое? Он еще несколько лет тому назад заявил, что к противоположному полу теперь и близко не подойдет. Что он питает к женщинам неприязнь. А теперь что же? Может быть, это прозвучит несправедливо и незрело, сказал он тогда, но женское тело утратило свою притягательность. Я выступлю с критикой женского тела, сказал Эдгар. Именно так и сказал. Критика женского тела. Я слушал и кивал, как я всегда делаю. Этому есть две причины, сказал он. И так изложил их, в логической последовательности. С одной стороны, и в этом нет ничего нового: превозносимое в СМИ, ухоженное, точеное, отрегулированное, скульптурно очерченное женское тело вытеснило за ненужностью обычное, стандартное, расхожее, обыденное тело, какое досталось подавляющему большинству женщин. Превозносимое в СМИ женское тело к тому же сделало невыносимым пребывание поблизости от так называемого нормального женского тела. Обыденное тело лишилось какой бы то ни было притягательности, потому что кстати и некстати всем навязывается женское тело, превозносимое в СМИ. Ну пусть. Но с другой стороны, это превозносимое в СМИ и по всей видимости привлекательное женское тело – которое единственно и остается объектом желания в ситуации, когда обыденное женское тело сошло со сцены – сопряжено с подлейшей формой денежного оборота, в такой степени, что оно раз за разом аннулирует собственную привлекательность. Это тело таково, что если ты на него пялишься, то оно пялится на тебя в ответ. И в его глазах ты читаешь взгляд торгаша. Загорелое девичье тело, вылепленное сотнями тысяч приседаний, с миллионами подписчиков в социальных сетях, – это маска торгаша. Это он натянул себе на череп девичью кожу и пялится на тебя, словно Кожаное лицо, сказал Эдгар. Анна тоже сидела за столом и в тот раз, но была еще совсем мала, ходила то ли в подготовительный, то ли в первый класс. У нее была с собой книжка с заданиями. Сегодня Эдгар уже не смог бы так распространяться при ней. Вот вы, девушки (жаждущие обрести превозносимое в СМИ тело), вы догадываетесь хоть, сказал он, какими дурищами вы выглядите, когда следуете диктату подлого торгаша? Не видите? Тут он потряс в воздухе указующим перстом, в совершенно буквальном смысле. Я вам вот что скажу: у вас вид умственно отсталых. Тело, обладательницами которого вы жаждете стать, пропитано идеологией. Своей кожей вы камуфлируете торгашескую идеологию. Я же вижу только ушлого торгаша, сказал Эдгар. И от планов торгаша я не возбуждаюсь, так скажем. Вы меня простите, но не пора ли этим бабенкам немножечко прикрыть свою наготу? Ну нельзя же до бесконечности выставлять напоказ свои телеса. Стоит с первым весенним солнышком выйти в магазин или кафе, и приходится смотреть на гадкие ляжки, выпирающие из слишком коротких джинсовых шортиков. Почему в мое поле зрения втискивают какие-то мерзкие ягодицы, так что я вынужден пялиться на них и встречать настырный взгляд торгаша. Ну можно ли быть такими тупыми? Я вижу ложбинку между грудей. Прикройся, говорю я. Вижу пупок. Прикрой его. Мы не хотим видеть пупок. Ни за что на свете не желаем видеть ляжки. Зрелище идиотской, дурацкой женской задницы – последнее, что нам нужно в эти времена. Это печально для тебя. Печально для нас. Мы словно бы читаем иронический эпилог. Женское тело – отпущенный на свободу раб, который вернулся к прежнему господину, чтобы тиранить его. Ну смотрите: у всех на заднице шнуровка. Женское тело превратилось в синоним рыночных интересов торгаша. Так говорил Эдгар раньше. Но теперь он встретил Даму-детку и называет ее «этой штучкой»; по-другому запел.
Часть IV
Загадки сна
Каждое утро, едва проснувшись, я как дурак лезу в телефон. Сегодня мне еще в постели пришлось воспринять видео, в котором пружинящие прыжки животных сравнивали с достижениями спортсменов. Автоматизированная лютня о пяти грифах сама на себе наигрывает трели роботоподобными пальцами. Подросток собрал действующий люгер из соломинок для питья. Клип показывает пьяного (Прибалтика? Россия?), который ухитрился свалиться в кузов мусоровоза и пропал. Двух неверных женщин забивают камнями на так называемом Среднем Востоке. В Бразилии мальчик, посмотрев мультик «Побег из курятника», отказывается есть куриные крылышки. Дебаты о дефиците воды в Калифорнии и деятельности компании «Нестле». Статья о том, что Бодлер употреблял гашиш. Висячий мост в Индии, украшенный тысячами маленьких уродливых тряпичных кукол. Бездарная реклама форда «Мондео». Глава государства (Испании? Польши?) прослезилась, слушая пение подростка-саама. Все это совершенно выбивает меня из колеи еще до того, как я прихожу в «Хиллс» и включаюсь в утренние хлопоты.
На антресолях порхают по клавишам руки старого Юхансена, испещренные печеночными пятнами. Вообще-то мне казалось, что Мэтр запретил ему исполнять Пахельбелев канон для трех скрипок и бассо континуо, то есть канон ре-мажор, но сейчас он играет как раз эту вещь. Она много теряет в исполнении на фортепьяно. Однако старый Юхансен слегка поменял в ней акценты, так ее труднее узнать; вероятно, потому ее исполнение сходит ему с рук. Пахельбелев канон на рояле, сколь дрябло он ни звучит, все же гораздо предпочтительнее многого другого. Лихо Юхансен наколачивает.
Зажав газеты корешками в Zeitungsspanner, я принимаюсь разносить капучино, эспрессо, американо и свежеиспеченные круассаны один за другим. В паузах между приготовлением порций эспрессо Шеф-бар все пытается поправить на пальце неудобное, так сказать, кольцо, и трет палец, на котором кольца нет. Один за другим появляются представители взрослого мира, основными составляющими которого являются беседы и коммерция, как иногда говорят; они заказывают чего-нибудь заморить червячка, как правило, кофе и к нему какого-нибудь печева. Кто это сказал, что стремление хорошо пожить в кризисные периоды становится маниакальным? Бальзак, что ли? Или Чоран? Уж если сейчас не кризисный период, я тогда не знаю. Когда до меня доносятся обрывки разговоров за столиками, я, случается, не могу отличить чистосердечное высказывание от пародии. Мне очень сложно понять, что говорится всерьез, а что вышучивается. Конечно, можно исходить из того, что предприниматели, чиновники и адвокаты за утренним кофе вряд ли пародируют нравы своего сообщества, но иногда у меня создается именно такое впечатление. С утра пораньше я заглянул под повязку. Волдырь выглядит просто чудовищно. Кожа образовала что-то наподобие клапана. Бледный кожистый клапан. Я снова забинтовал руку той же марлей.
Шеф-бар уже три раза порывалась обсудить со мной события вчерашнего вечера, но я увиливаю. Забираю чашечки с кофе, которые она выставляет на стойку, и отношу их заказывавшим. Можно так сказать, заказывавший? Тот, кто заказывал. Гость. Клиент. Запрашивающий. Тот, кто запрашивает кофе и к нему печева. Меня не проведешь, я не желаю обсуждать вчерашнее. Мне есть о чем подумать, мне незачем трындеть с Шеф-баром, строить догадки на тему Селлерса и Дамы-детки, или того хуже, Эдгара и Дамы-детки. Я ношусь взад-вперед с кофе в руках. Разными кофе. Чашечками с кофе. Пока Шеф-бар занята приготовлением одной-двух порций кофе и размещением чашечек на барной стойке, ей не удастся раскрутить меня на разговор о вчерашнем дне.
К тому же она весь вечер просто стояла там и пассивно пялилась, я же обслуживал столики, носясь, по известному выражению, как пришпоренный, да еще следил за тем, чтобы Анна не чувствовала себя покинутой после того как Эдгар со смехом и протянутой для рукопожатия рукой подкатился к столику Селлерса и навязался им. До чего же беспардонно он к ним подрулил, Эдгар. Недопустимо набиваться в чужую компанию подобно охотнику за автографами, нельзя, и все тут. А они его даже усадили за свой столик, между Дамой-деткой и Селлерсом. Пока он там горделиво восседал, мне пришлось его обслуживать. Я вынужден был носить ему одну бутылку «моретти» за другой. Я осуществлял обслуживание. Обеспечивал обслуживание? Анна, сидящая за другим столиком, углубилась в свою книжку и в течение всего того времени, которое мне – наверняка и ей тоже – показалось целой вечностью, пила какао.
Эдгар подсунул ей книжонку фэнтези, иными словами, не высокого полета литературу. Я попытался расспросить Анну о содержании книги, но так и не смог уяснить, в чем там суть. Кучку подростков в условиях какой-то мрачной футуристической диктатуры колдовством превратили в «рабов-плакальщиков». В условиях крайнего дефицита H2O «слезы» представляют собой важный ресурс, и нескольких лишенных свободы бедняг (подростков) заставили сидеть на какой-то фабрике и лить слезы. Нет, не может такого быть. Что-то уж совсем жиденько, даже и для фэнтези. Хотя – почему для фэнтези? Что я знаю о фэнтези? – А что, Анна завтра в школу не пойдет? – в конце концов пришлось мне спросить у Эдгара. Было уже почти без четверти одиннадцать. Анна сидела за своим столиком, а Эдгар распинался и хохотал за другим, между Дамой-деткой и Селлерсом. Встревал в разговор при любой возможности, как я видел. Распространялся то на одну тему, то на другую, и весь столик внимал ему. Только в десять минут двенадцатого он сделал над собой усилие и удалился, таща за собой Анну, валившуюся с ног от усталости. Для младшей школьницы это непростительно поздно, нельзя не признать. Сразу же за ними ушел и я. Селлерс, Дама-детка, Братланн и Рэймонд продолжили вакханалию – на употреблении именно этого слова настаивает Шеф-бар. Их вакханалия затянулась до самого закрытия ресторана, глубоко за полночь. Шеф-бар рассказывает, что Дама-детка досидела до победного конца, тет-а-тет с Селлерсом. Они обсуждали автомобили, говорит она. Не может быть, говорю я. Еще как может, они были полностью поглощены разговором об автомобилях, автопроме, о разных моделях. Такой аутизм на двоих, утверждает она. Старый «Луссо-250» – это шедевр, говорил Селлерс. Но серьезно, ведь Пининфарина настоящий виртуоз, иначе не скажешь? – откликалась Дама-детка. Все это я проспал.
И вот нате вам. Заявляется Дама-детка, и в такую-то рань; показывается между портьерами, раздвигает их. Точно она? Времени всего четверть восьмого. Меня охватывает сомнение. Похожа. Ну да, она.
Или не она? Похожа на саму себя. Похожа еще на тысячу других. Но это она, должна быть она. Ничего особенного в Даме-детке нет, как и в ее красоте. Свеженькая, с гладкой кожей, невыразительная, красивая. Выглядит отдохнувшей. Присаживается у барной стойки, перед Шеф-баром, которая со своей стороны, и я в этом не сомневаюсь, уже взяла все на карандаш. Что же закажет Дама-детка? Каков будет ее заказ? Четверной эспрессо. Опять четверной эспрессо. Она что, никогда не спит? Как любит говорить Эдгар, сон – это хорошо. Сон – это бескомпромиссное прерывание того расточительства времени, которому подвергает нас торгаш. Эдгар любит поспать. Большинство по всей видимости насущно необходимых для жизни человека вещей – голод, жажда, дружба, половое влечение – переосмыслены в финансовых формах, если можно так выразиться. Сон представляет собой человеческую потребность и «мертвый» временной интервал, который невозможно напрямую колонизировать или загнать под ярмо торгаша, чуть неуклюже формулирует Эдгар, обычно потрясая при этом указательным пальцем. Таким образом, сон остается для торгаша аномалией, белым пятном. Несмотря на то, что сон усиленно изучают со всех сторон, он продолжает ставить ученых в тупик и не поддается попыткам использовать его или видоизменить согласно желаниям торгаша, говорит Эдгар. И я тут не о производителях кроватей веду речь, конечно. И не о психоаналитиках с их толкованиями снов. Завораживающая истина состоит в том, что по сию пору не удается извлечь из сна никакой материальной выгоды.
А Дама-детка не спит? На ней свежая одежда с иголочки. Ни волоска не выбилось из прически. О мешках под глазами и речи нет. На вид сама энергия и собранность. Сидит глотает свой четверной эспрессо после вчерашней вакханалии за столиком Селлерса. Да, я тоже употреблю слово вакханалия, хотя у них это, строго говоря, не было «разгульным пиршеством, посвященным прославлению винограда». Вакханалия Селлерса, судя по всему, посвящена скорее прославлению ничегонеделания. Прославление постоянного, бесконечного расслабона, разгильдяйства и, как следствие этого – томительного сачкования. Безделье. Смакование бездействия и неумения работать. Как может Дама-детка так беспардонно выставлять себя на всеобщее обозрение, после того как всю ночь принимала участие в подобном?
Она тянется рукой к объекту. Иногда на какие-то короткие мгновения я теряю способность вспомнить нужное слово. То одно, то другое полностью выпадают из языка, и я не могу найти их, когда требуется. Вот сейчас мне не удается вспомнить слово, которым обозначается лежащий на барной стойке предмет. Меня тотчас охватывает паника. Как только я теряю способность соединить слово с вещью, вот как теперь с этим объектом Дамы-детки, я превращаюсь целиком в гигантский глаз, в огромную сетчатку. Как это называется? Афазия? Можно ли заработать афазию, если у тебя не было инсульта, кровоизлияния, опухоли мозга, ты не получал травмы? Объект цветной. Она держит его в руке и достает что-то, извлекает или вытаскивает какую-то вещь, вытягивает, выуживает что-то – телефон; пролистывает страницы, находит нужный номер и поднимает телефон к нежному ушку, украшенному довольно крупной мерцающей серьгой – бриллиант, должно быть.
Тринадцать непринятых
– Я в «Хиллс», – слышу я ее слова. – Да нет же, нет… Да, я сейчас здесь…
Покашливание, которое она при этом издает, звучит как небольшой моторчик.
– For sure[10]! Я не прикалываюсь.
Тут она тихонько прыскает и отворачивается, будто желая скрыть свой смех от Шеф-бара, а может, и от меня, застывшего рядом соляным столпом. Шеф-бар поставила рядом с кофеём Дамы-детки стакан воды. Та не прикасается к нему. Эспрессо же хлещет с умопомрачительной скоростью. Вот сейчас, заглатывая свой четверной, она пальцем трет телефон. Трет и трет стеклянную поверхность указательным и средним пальцами, не отрывая глаз от экрана. Она склоняется, скрючивается над экраном, можно сказать, зашторивает экран. Я забираю тарелку и чашку с освободившегося столика 3, где только что откушал адвокат конторы «Вирсхолм, Мельбю & Бек». Ставя чашку с блюдцем на барную стойку, я кидаю, что называется, долгий взгляд на экран мобильного телефона Дамы-детки, но вижу до обидного мало. Общается ли она в социальных сетях? Наверняка. Сейчас она общается, в каком-то смысле, при помощи средства социального общения. А может, и нет? Мне трудно, а то и вовсе невозможно определить, с кем и как она общается. Поскольку экран мне не виден, я ничегошеньки не знаю о том, с кем она переписывается, хоть она и сидит прямо передо мной. Мало того. Я даже не представляю себе, читает ли она или рассматривает изображения. Я не знаю, ведет ли она политическую деятельность, участвует ли в какой-нибудь акции, оплачивает ли счета, работает ли, занимается ли сексом, просматривает ли художественный фильм, разговаривает с родителями, изучает что-нибудь, покупает одежду или мебель, а то и автомобиль. Знать это невозможно. Хотя она и сидит у всех на виду, что называется. И всегда одинаково горбится над экраном. Квадратные сантиметры экрана выполняют в каком-то смысле ту же функцию, что денежная купюра – всеобщий совершенный переводчик, думаю я словами Эдгара. Работу, досуг, изображения, отношения, знания, вздор, текст, помыкание и пресмыкательство, покупку и обмен, производство и безудержное потребление, птицу и рыбу, бесконечную изобретательность и строжайший контроль, вожделение и систему, все можно перевести в деньги, и все это постепенно переводится на экран и воспроизводится на нем. Большинство «вещей» стилизуются и подгоняются под формат экрана, ровно так же, как все «вещи» стилизуются и приспосабливаются для того, чтобы из них можно было тем или иным образом извлечь звонкую монету. Денежная купюра и экран состоят в родстве. Экран – витрина денежной купюры. Экран – витрина торгаша. Наверное, так. С экрана тебе в глаза пялится торгаш. Точно, пялится. Особенно на Эдгара. Дама-детка неожиданно поднимает голову, и я не успеваю принять подобающий вид; стою, вытирая руки о кухонное полотенце, на котором вышито «Хиллс», вперив, как говорится, свой бесцветный взгляд, так я это себе представляю, вероломный, требовательный, испуганный, прямо ей, Даме-детке, в глаза, без всяких на то оснований. Она вперяется в меня. На какую-то долю секунды у меня возникает ощущение, что это торгаш смотрит на меня ее глазами. Я вдруг вижу торгаша, вперившегося в меня так, как он пялится с экрана. А теперь я вижу Даму-детку. Вот вновь вылезла мерзкая рожа торгаша. Снова появляется безупречное личико Дамы-детки, и я, сам не зная зачем, машинально складываю полотенце в продолговатый прямоугольник, замахиваюсь и ударяю им, словно коротким бычьим хлыстом или полицейской дубинкой, по барной стойке. Шлепок звучит неожиданно звонко; хотелось бы надеяться, что окружающие воспринимют его как своего рода привычный ритуал, традицию, официантский жест, принятый во Франции, – нечто, долженствующее символизировать точку, а может, переход от одного занятия к другому: я тотчас же отворачиваюсь и принимаюсь ходить между столиками со своей извечной щёткой-смёткой, я сгоняю со скатертей крошки, осыпающиеся с круассанов чешуйки теста и стараюсь убедить себя, что движения, которыми я это делаю, выглядят профессиональными, но в то же самое время сам себе кажусь ужасно сутулым и встрепанным. Дама-детка подскочила на месте, когда я хлестнул вышитым полотенцем по барной стойке. Взглянула на меня. Представить только, какое количество официантов и извозчиков (а теперь и шоферов такси) безмолвно канули в лету истории. Представить себе, сколько мужчин, посвятивших себя официантскому или извозческому промыслу, сгинуло бесследно в Европе за долгие годы. Нескончаемые вереницы извозчиков. Нескончаемые вереницы официантов. Сколько всего было перевезено. Сколько подано съестного и прохладительного.
Дама-детка машет мне рукой, и я приближаюсь. Близ нее ощущается отчетливый аромат, мускус, что ли? К сожалению, всю эту ночь я проспал на одной щеке, и от глаза к уголку рта пролегла глубокая вертикальная складка. Должно быть, я всю ночь лежал в одной и той же позе, складка никак не разглаживается, из-за этого я выгляжу значительно старше своего возраста.
– Знаете что, – говорит она.
Я наклоняюсь к ней, изображая «внимание»; мало того, я даже опираюсь рукой о барную стойку, и моя ладонь оказывается в непосредственной близости от клатча. Клатч, вот как он называется, этот ее объект.
– Знаете, что мне Селлерс вчера сказал?
– Селлерс?
– Да, Селлерс.
– Нет.
– Он сказал, что я – навязчивая идея.
– Что? – говорю я.
Дама-детка прыскает, прикрывая губы ладошкой. Я застываю – что со мной часто бывает – не шевелясь, не двигаясь, словно птица отряда куриных, поскольку я не понимаю. С ее губ слетает еще смешок. Похоже, что она пытается изобразить «неудавшуюся попытку» «скрыть» от меня, что она «прыскает». Я так и стою внаклонку, положив правую руку на барную стойку, а забинтованный волдырь заведя за спину. Дама-детка работает, даже когда вот так прыскает, думаю я.
– Осторожно, мой клатч, – говорит она.
Оказывается, моя ладонь коснулась ее так называемого клатча, и я отдергиваю руку как от раскаленной горелки.
– А знаете, что мне Эдгар сказал? – продолжает она.
– Эдгар?
– Ну да, вы прекрасно знаете, кто это. Эдгар, ваш друг.
– Да, но… – говорю я.
– Знаете, что он сказал?
Они называют друг друга по имени. Одно дело, что она циркулирует, перебирается от столика Хрюшона за столик Селлерса; но что теперь и Эдгар вовлекается составной частью в эту циркуляцию, вытаскивается на эту «сцену», вызывает тревогу. Вот я и нашел слово. Тревога. Как давно все это продолжается? Вчера вечером я думал, что Даме-детке требуется циркулировать, чтобы не застояться. Эдгар за столиком Селлерса корчил из себя невесть что, сразу было видно. Выдрючивался перед Дамой-деткой. Выпячивал грудь. Жестикулировал, вертелся, демонстрировал мачизм. Все, что соприкасается с Дамой-деткой, само превращается в даму-детку, такое создается впечатление. Я не желаю заразиться этим.
– Не хотите узнать?
– Одну минуточку, – говорю я и по-рачьи отползаю назад. Пора уносить ноги.
Повар на кухне что-то мелко крошит. Что там крошится? Разве утро – это не время яиц-пашот? Крошит резкими и жесткими движениями, ощущение, что крошится моя голова. Позади него стоит старая мясницкая колода, я пристраиваюсь рядом с ней. Толщиной колода уж никак не меньше 50 сантиметров, посередине она перехвачена железным обручем. Потолок над колодой, или плахой, как ее называет повар, прочернел до той же угольной черноты, что и свод над газовыми горелками, над ними будто разинут черный зев. На колоде лежит допотопный пресс для чеснока, серый, видавший виды, самый поршень стал почти черным. Откуда Дама-детка знает Эдгара? Я не понимаю. Передо мной лежит гроздочка из двадцати-тридцати черри-томатов, я засовываю их по одному в пресс для чеснока и давлю, у меня получается что-то вроде томатной пасты, кетчупа из томатов, он стекает прямо на пол. А не ощутил ли я давеча облачко мускусного аромата возле Дамы-детки? Этот мускус – подношение от Эдгара? Она повсюду носит его мускус? Мускус, кажется, значит «тестикула» на санскрите? Что это Эдгар вытворяет? Это он ей подарил мускус?
– Ты что делаешь? – говорит повар.
– Кто, я? – говорю я.
– Что ты за грязь тут развел, что ты творишь с моими томатами?
– Я подотру.
Я беспорядочно верчу головой направо, налево в поисках тряпки.
– И на звонки ответь, – говорит повар.
– Что?
– Да твой телефон в шкафу трезвонит, не переставая.
Мой телефон никогда не «трезвонит». Как правило, по окончании рабочего дня он показывает нуль пропущенных звонков. Я никогда не проверяю телефон в рабочее время. Нет в моей жизни такой составляющей, ради которой стоило бы мне «трезвонить». Повторные вызовы ранним утром могут единственно означать, что случилось какое-то несчастье.
– Я в рабочее время телефон не проверяю, – говорю я.
– И что мне, весь день слушать этот звон? Мне томаты нужны.
– Да нет, не слушай, – говорю я. – Тебе не помешает, если я посмотрю, кто мне звонил?
– Я тебя об этом и прошу.
– Пользование телефоном в рабочее время не допускается правилами. Тогда надо предупредить Метрдотеля, что возникла чрезвычайная ситуация.
– Чрезвычайная ситуация?
– Наверное, так.
– Отзвонись только, и все.
– Я схожу за томатами.
Я захожу в раздевалку и нащупываю в кармане своей демисезонной куртки богомерзкий гаджет. Эдгар звонил мне тринадцать раз. Ну и ну. Что-то еще вчера стряслось? Может, он был пьян, когда отправился с Анной домой? Что за беда приключилась? И что же это я стою и рассуждаю сам с собой? Ведь лучше позвонить ему? Могу ли я себе позволить ответить на его звонки?
– Позволительно ли мне будет ответить на звонок? – спрашиваю я повара.
– Да позволительно, позволительно.
Эдгар принимает мой звонок, он хватает трубку в ту же секунду, постанывая и покряхтывая, и объясняет, что ему необходимо съездить в Копенгаген по «срочному делу» – и нельзя ли Анне после школы прийти в «Хиллс». «Это по работе, – говорит он. – Она посидит у вас, и все». «Что?» – говорю я. «Она привыкла, – говорит Эдгар. – Дашь ей лимонада. Тебе не требуется ее развлекать». «Да нет, понимаю», – отвечаю я. «Просто дай ей поесть», – говорит Эдгар. Я считаю себя чрезвычайно бесконфликтным человеком, но если я не хочу подохнуть на нервной почве, мне нужно набраться мужества и объяснить, каким стрессом явится для меня забота об Анне, когда я на работе. Этого Эдгар никак не может понять. «Твоя работа – это же чистая рутина, – говорят мне. – Разве не в этом состоит ремесло официанта? Поставь перед девочкой еду, поболтай с ней две минуты, вот и все дела. Дашь ей колы. Совсем не требуется опекать ее больше, чем любого другого посетителя. Пусть делает уроки и читает. Что такого трудного, – слышу я. – Мы ведь о ребенке говорим. Один ребенок – все равно что ни одного, а два или десять – уже без разницы, как говорится, – убеждает меня Эдгар. – Пусть поест в кредит, запишешь на мой счет, вот и все». Записать еду на счет? Да, ведь Эдгар особо не задержится, сообщается мне. «Я за ней не поздно вернусь», – обещает он. «Не поздно, это как вчера?» – говорю я, и в моей интонации звучит ехидство. Надо бы попридержать язык. Эдгар ожесточается. Что уж такого ужасного произошло вчера? Что, ему и на один-единственный вечер нельзя расслабиться? Ведь на нем одном лежит забота о ребенке, он из года в год вечер за вечером просиживает дома, в квартире, большей частью в одиночестве. Ведь его мать скончалась. Ведь ему никто больше не помогает. Ведь мать Анны – опустившаяся наркоманка, я не забыл? Я ведь ему друг? Разве он просит так много? Мне задаются все эти вопросы. «Да нет, конечно, – отвечаю я. – Мне не сложно. Раз уж ты настаиваешь. Присылай Анну после школы сюда». Что ж он так ко мне привязался?!
Романеско
Спина у повара округлая, плотная.
– Мне нужны томаты. Принеси мне томаты, – говорит он.
– Чего?
– У тебя четыре минуты.
– А где они?
– В подвале.
Я стою возле люка, ведущего в подвал, и чувствую, как ёжатся мои нервные окончания; я пытаюсь осмыслить факт, что 885 лет тому назад по этим квадратным метрам ступала нога Сигурда Крестоносца. Вот здесь он ходил, Сигурд, сын наложницы. Ему тогда и сорока лет еще не исполнилось, а двадцать шесть из них он царствовал. Немногословный, неприветливый, но умеющий ценить друзей и сам верный друг. И вот я стою на том же месте, готовый поднять крышку ведущего в подвал люка, чтобы спуститься туда за несколькими веточками, с которых свешиваются плоды томатного кустика, и беспредметно нервничаю. Да уж, дистанцию между тем, что разворачивалось здесь во времена Сигурда, и тем, что происходит сей момент, иначе как бесконечной не назовешь. Бесконечное расстояние с точки зрения человека, в географической же перспективе расстояние это равно нулю. Он стоял здесь, Сигурд, в Осло, и прямо вот тут, за углом, ему предстояло умереть, завершив умопомрачительно эпическую жизнь. Феноменальную жизнь. За эту жизнь немало мусульман покрошил он на окраинах Европы. Покрошил, пожалуй, не вполне точное слово в этой связи; он их рубил мечом или, может, бородовидным топором. Мне надо спуститься в погреб за томатами. Никогда в жизни я не осадил ни единого мусульманина. Я никак не могу найти нужный ключ к навесному замку; неловко держать тяжелую цепочку рукой с волдырем и одновременно перебирать ключи в огромной связке, которую дал мне повар. Почему связка такая здоровущая? Она еще и холодная, эта связка. Эдгар всегда говорит «завязка», когда нужно сказать связка, это раздражает меня. Завязка ключей, говорит он. Но ведь это называется «связка»? Этимологически это следует понимать как завязанный шнур, или завязанная тесемка, говорит Эдгар всякий раз, как я поправляю его. Нет, связка, говорю я. Связка лещей. Связка альпинистов. Связка бананов, связка томатов. Замок и цепочка просто ледяные, пальцы цепенеют. Дыхание становится поверхностным. Изо рта вылетают маленькие облачка морозного пара. Крышка люка тяжела как свинец, лестница крутая и ненадежная, со стершимися до округлости ступеньками. Но почему включен свет? Ярко светит голая лампа, освещающая ближний коридор. Втянув голову в плечи, я останавливаюсь у подножия лестницы. Потолок здесь такой низкий, что я задеваю его затылком. А я-то всегда думал, что потолки в «Хиллс» такие высокие, что всем здесь должно дышаться легко. Я скашиваю глаза и всматриваюсь в сторону развилки. Есть тут кто?
– Эй?
Мириады ящиков, шкафчиков и полок тянутся вдоль стен центрального прохода и скрываются из вида в полутьме еще до того, как покажется уже не раз упоминавшаяся развилка. Я знаю, что томаты вместе с другими фруктами хранятся в ящике стеллажа по левую руку, рядом с объектом, напоминающим пульт управления. В домашнем обиходе многих норвежцев томаты считаются овощем, но с точки зрения ботаники это фрукт с крупными, сочными, а к тому же еще и питательными ягодами. Ощупывая стены коридора правой рукой, я неуверенно пробираюсь к развилке, волдырь прижат к бедру. Если верить повару, то далеко впереди, под выдвижной полкой на высоте колен, расположен выключатель, которым можно будет зажечь лампу, освещающую следующее колено прохода. Непростая задача. Что такое выдвижная полка? Я пробегаюсь пальцами по ряду из пяти ящиков со скошенной лицевой поверхностью, можно ли их назвать «выдвижными полками»? Пальцы нащупывают под ними лишь высохшую землю или сажу, что-то порошкообразное. Еще дальше рука цепляется за нечто, похожее на комод. Опустившись на одно колено и пытаясь дотянуться рукой до дальней кромки комода, из-за больной руки я падаю на оба колена и локоть. Задеваю за какой-то крохотный выступ, и загорается свет. Вижу над собой какую-то панель. Пульт управления? Там предохранители, что ли? Уж вряд ли регулятор климата? Тот стеллаж, где хранятся томаты и прочие фрукты, в свою очередь разделен на бесконечное число выдвижных секций. Из некоторых торчат хвостики веточек.
– Эй, эй, – раздается у меня за спиной; а я все стою на четвереньках.
Загнанный в угол, скрюченный, я с трудом приподнимаюсь на полусогнутых и вижу прямо перед собой Метрдотеля. Стоит неподвижно как столб. Что ему тут надо?
– Что вам тут надо?
– Что мне тут надо?
Мэтр без выражения смотрит на меня; единственное, что он вообще делает, это удерживает свое обширное лицо перед моим.
– Как дела вообще?
– Как дела? То есть? – говорит он.
– Да нет… я так.
– Нужны оловянные тарелки, под масло брусочками.
– Ясно, – говорю я, соединяя большой и указательный пальцы в небольшой кружок, обозначающий «окей».
Оловянные тарелки, о которых идет речь, это прелестнейшие вещицы. Они датированы аж 1789 годом, произведены в Дании, на каемке у них выгравированы штандарт и инициалы прежнего владельца. С обратной стороны круглое клеймо, якорь и чайка. Трудно себе представить, что семейство Хилл обладало ими еще за три четверти столетия до открытия ресторана. Датские тарелки имеют диаметр 8 см. Было бы преувеличением сказать, что мешки под глазами Мэтра не меньше этих реальных оловянных тарелочек, но мешки у него под глазами изрядные, так что использование такого сравнения в подобной ситуации не представляется притянутым за уши. (Да и цветом эти мешки не сильно отличаются от цвета старого олова: они матово серебрятся, отливая серо-голубым, и резко контрастируют с цветом самого лица, обладающего несомненным колористическим сходством со свеклой.)
– Ну что ж… Без труда не вытащишь и рыбку из пруда, – говорит Мэтр, крякнув и обдав мой носище явственным выхлопом «кремлевской». Бросает на меня еще один пристальный взгляд, разворачивается и карабкается вон из подвала по охренительно, чуть не сказал я, крутой лесенке.
– Пора наверх.
Что водка не разоблачает тихого пьяницу, неправда, думаю я про себя.
У противоположной стены хранятся овощи, многие из них разложены на открытых полках; между цветной капустой и брокколи, под потерявшей товарный вид проросшей репой и сурепицей, которая, как считается, выносливее рапса, лежат три шикарных головки романеско. Романеско я очень люблю. Мне всегда нравилась брокколи романеско. Не на вкус, а на вид. Не то чтобы я был в этом так уж оригинален, просто меня всегда завораживает схожесть романеско с фракталами. Хотя внешне романеско, пожалуй, и излишне эксцентрична. Чисто визуально романеско даже несколько безвкусна. Но приложимы ли наши суждения о вкусе и безвкусице к творениям природы, от природы эффектным? Наверное, нет. При виде романеско я ощущаю какую-то неизбывную детскую радость. Интересно, видела ли Анна когда-нибудь романеско? Вряд ли. Я решаю прихватить с собой одну головку и показать ей. Если она заскучает. После того, как уроки будут сделаны, фэнтези прочитано, а темы разговоров со мной исчерпаны.
Флорист
Времени ровно восемь; я уже валюсь с ног от усталости. Сегодня пятница, соответственно, у черного входа стоит флорист, цветет и пахнет, если позволите такое цветистое выражение. Флорист расцветает у нас пару раз в неделю; по пятницам обязательно, чтобы на выходных цветочные композиции выглядели свежими и упругими. Прижимая к груди охапку томатов и романеско, я приглашаю его войти. Флорист совершенно не соответствует расхожим представлениям о флористах; ни посплетничать не любит, ни нетрадиционной ориентации не придерживается. Не носит очков, замысловатой прически или шарфа, одежды вызывающего покроя. Он молод и смахивает скорее на сантехника откуда-нибудь с Балкан, чем на флориста. Это не мешает ему с величайшим тщанием заниматься своей флористикой, он обеспечивает нам и составление цветочных букетов, и общий флористический дизайн. Мало этого, я знаю, что некоторые растения он выращивает сам и даже производит их на продажу; таким образом, его бизнес охватывет большую часть того, что понимается под декоративной флористикой. Флористики как философии он, напротив, не касается, я его как-то спросил об этом и получил лаконичный отрицательный ответ. Я знаю, что в основе того, что он делает, лежит философия икебаны, однако откорректированная под вкусы традиционной европейской клиентуры. Правду сказать, он старательно избегает современных европейских трендов с их смакованием асимметрии, негативного пространства, драматических пауз, а также с нелепым контрапунктированием. Я натянуто киваю в сторону дверного ограничителя, показывая, что именно этим устройством флористу следует воспользоваться, пока он челноком носится к своему зеленому как водоросли автомобильчику, похожему на тачку из набора лего «дупло», таская туда-сюда охапки цветов. Машина стоит на парковке, зарезервированной для клиентов «Хиллс». Флорист мог бы и сам допереть до того, что нужно использовать ограничитель. Он тут не впервые. Он дважды в неделю декорирует «Хиллс» цветами. Я имею свойство зацикливаться на подобной ерунде и тем самым усложняю себе жизнь.
– Я разве просил принести романеско? – спрашивает повар.
– Нет, не просил, – говорю я.
– А это что?
– Романеско.
Повар одаривает меня убийственным взглядом.
– Я ее принес, чтобы показать Анне. Я подумал, что это ее позабавит.
– Что за Анна?
– Ну, она сюда придет после школы. Ей нужно немножко посидеть у нас.
– Так-так.
– Ее отец, Эдгар, уехал по делам в Копенгаген.
– …
– Ну вот ей и нужно немножко посидеть у нас.
– …
– Я подумал, что романеско придется как нельзя кстати.
Если я умею занудить любой разговор, то повар великий мастер свести беседу на нет. Так мы и пялимся друг на друга, тяжело дыша, он через свой приплюснутый нос, я через свой обрамленный растительностью рот. Наконец он кидает томаты на разделочную доску и поворачивается ко мне спиной. Я направляюсь в зал и кручу головой, обозревая завтракающих. Голова крутится не в такт шагам, как у птиц семейства куриных. Встретившись взглядом с Дамой-деткой, я ощущаю тяжесть проклятой романеско в правой руке. Почему я не оставил ее в кухне? Зачем я приволок с собой в зал капусту? Дама-детка взглядывает на овощ, потом на меня. Она машет мне рукой, и я не вижу иного выхода, кроме как все так же по-птичьи выступать/шествовать/вышагивать в ее сторону, с капустой в одной руке и волдырем/клочком кожи на другой. Она кладет телефон на стойку кверх стеклом. Хотелось бы мне предъявлять тебе другое лицо; демонстрировать другую физиономию. Я бы с радостью показал тебе лицо, которое было у меня, скажем, лет 12–14 тому назад. Но того лица уж нет. Оно больше не существует. А есть только это. Изрядно изношенная физия. Я ощущаю свою изношенность, свой возраст, когда она, неподверженная порче, лишенная возраста, смотрит в мое теперешнее лицо.
– Ничего себе капустка, – говорит она.
– Да…
– А она что такое?..
– Это такая цветная капуста.
– А, – улыбается она.
– Называется романеско. Вкусовые ощущения едва уловимо обнаруживают родство с брокколи.
– Неужели?
– Да.
– …
– А вот посмотрите на это, – говорю я, поднося овощ к самому ее лицу.
– С ума сойти.
– Да. Вы ведь, наверное, обратили внимание, как она хитроумно закручена.
– Ага, здорово.
– Можно подумать, что ее создали по чертежам Бенуа Мандельброта, – говорю я и добавляю «хе», которое звучит громковато, звучит так, будто я кашлянул, отхаркнулся; звук образовался где-то в самой глубине гортани.
– …
– Меня привлекают такие сложные, такие невозможные визуальные образы, – продолжаю я, теряя контроль над собой.
– Такие бездонные визуальные образы.
Я держу романеско на вытянутых пальцах словно маленький череп, изучаю его, прищурившись, и внезапно слышу, как мой голос пускается развивать следующую цепочку умозаключений:
– Представить только, как славно было жить в старой Европе, в совсем еще недавние времена, когда можно было, например, войти в дверь, подняться по лестнице, а там сидит М. К. Эшер и с величайшей точностью вырезает на деревянных досках невозможные геометрические фигуры. Подумать только, как мило. Абсурдные и невозможные с точки зрения перспективы фигуры он вырезал на древесине, взглядом исследователя находя нужный фокус, а потом печатал свои изысканные гравюры. Вот и все. Ему было приятно их создавать. Нам интересно их разглядывать. Теперь все не так. Мы не можем отправиться на рынок в Нюрнберге и увидеть, что в лавочке сидят бок о бок Альбрехт Дюрер и его женушка Агнеса, урожденная Фрей; чтобы торговать гравюрами мужа, рядом с зеленными лавками Агнеса построила свою лавку. Бездетная чета Дюреров наезжала на рынки и ярмарки Лейпцига и Франкфурта и предлагала самым обычным людям по сходной цене купить богом целованные гравюры. Ни один эпический гений не придет теперь на базар торговать своими гравюрами. Теперь об этом можно забыть. Теперь повсюду шаурма и замена стекол в мобильных телефонах. Бедная Европа. Зато нет проблем починить мобильник.
Дама-детка слушает. Но воспринимает ли? Я теряю нить. Она полезна, говорю я теперь. Антиоксиданты необходимы для здоровья, говорю я. Не это ли первейший признак пустозвона? Люди, имеющие привычку болтать о вещах, в которых они ничегошеньки не смыслят, обязательно заведут волынку об антиоксидантах. Антиоксиданты обеспечивают защиту от образующихся в организме свободных радикалов, говорю я. Это важно, в частности, для профилактики рака. Слишком большое число свободных радикалов вредоносно для клеток тела. Много антиоксидантов содержится в шиповнике и грецких орехах. В кислой вишне и семенах подсолнечника. В чернике. И в чае. И в шоколаде! Вы это знали? Нет, Дама-детка не знала этого. Вы, может быть, понимаете уже, к чему я клоню? Нет, она не вполне уверена. А к тому, что и в овощах тоже содержится масса антиоксидантов. В краснокачанной капусте и в кудрявой капусте. И в особенности, пожалуй, в брокколи. А рядом с брокколи можно поставить что? Дама-детка показывает на капусту. Совершенно верно! Романеско.
Ну всё, полный атас. В панике я застываю на несколько секунд с овощем в руке и губами, сложенными как бутылочное горлышко; как раз в этот момент из кухни появляется флорист с огромным букетом лилий в руках. Я громко окликаю его.
– Постойте!
Флорист останавливается. Я кладу капусту на барную стойку.
– Можно вас попросить, вы уж проследите, чтобы тычинки были обрезаны, иначе эти ваши лилии через пару дней запахнут навозом…
– Разумеется…
– Хорошо. И не тяните, подрежьте их поскорее, пожалуйста.
– Ладно.
– Но вообще лучше отщипнуть их пальцами, и желательно под пальцы подложить бумажку. А то эти тычинки все вокруг окрасят.
– Мне это известно, – говорит флорист с вопросительным выражением на лице.
Я вещаю слишком громко, но теперь уже будет странно вдруг понизить голос, и я продолжаю на тех же децибелах.
– Хорошо.
– Можно мне счет? – говорит Дама-детка. У нее такое гладкое лицо, трудно уяснить, что оно выражает. Разочарована ли она, обижена, в панике мечтает поскорее убраться отсюда – или она просто хочет оплатить счет, не угадать. Ее лицо похоже на плоскопанельный дисплей, вилка которого выдернута из розетки, на обесточенный так называемый умный телевизор. Она не сводит с меня своих глазелок с чуть ли не голубыми белками, пока мне не удается выдавить из себя профессиональное, сдержанное, скупое, деловое, жесткое, отчаянное «разумеется» и приправить это «разумеется» таким резким кивком, что прядь волос падает мне на лоб. Со стороны я, должно быть, выгляжу клоун клоуном. Вытянув вперед и вверх руку, что больше всего напоминает скособоченное гитлеровское приветствие, я кричу Шеф-бару с торца стойки, что здесь желают оплатить счет. Я именно так и выражаюсь: «желают оплатить счет». Шеф-бар кладет счет на маленькую тарелочку, и я несу ее от кассового аппарата к Даме-детке. Это тарелочка производства Рёрстрандского фарфорового завода, я знаю.
– Счет за четверной эспрессо, подается на миниатюрной тарелочке из фаянса, – говорю я и легким движением опускаю тарелочку на стойку словно трясогузку.
– На тарелочке из чего? – говорит Дама-детка.
– Из фаянса.
– Как вы сказали?
– Фаянс.
– …
– Изделия из глины. Первоначально из Фаэнцы. Делфтские фабрики пытались делать посуду, похожую на китайский фарфор – ну, знаете, белый такой, с голубым декором. Фаянс пользовался большой популярностью.
– Так это керамика?
– Да, можно и так сказать. В Рёрстранде фаянс начали производить в XVIII веке. У нас в Норвегии такую посуду более 100 лет выпускали на фаянсовой фабрике в Эгерсунне. У нас в подвале хранится много эгерсуннской посуды.
– Я сегодня много всего узнала.
– Но то, что производили в Эгерсунне, большей частью было не фаянсом.
– Да что вы говорите?
– Они делали каменную керамику.
– Вот как.
– Но у нас имеется комплект десертных тарелочек из фаянса.
– Надо же.
– Они хранятся в подвале.
– Что за подвал?
– У нас есть глубокий разветвленный подвал, он расположен прямо под нашими ногами.
Взглянув на деликатно сложенный вдвое счет, покоящийся на фаянсовой тарелочке, Дама-детка достает из клатча внушительную пачку наличных. Пачка денег и цена четверного эспрессо абсолютно не соответствуют друг другу. Тем не менее Дама-детка вынуждена каким-то образом сделать так, чтобы они – наличные и эспрессо – вступили друг с другом в диалог.
– Так вам не интересно узнать, что Эдгар вчера сказал, – говорит она, не глядя на меня.
Ну что тут скажешь? И снова она использует выдох и движения языка, чтобы прогудеть его имя – «Эдгар».
– А вот Эдгар никогда не бывал в нашем подвале, под «Хиллсом», – говорю я.
Поднимаю со стойки кочан капусты романеско и взвешиваю его в руке, слегка покачивая вверх-вниз.
– Никогда, – повторяю я.
– Нет?
– Нет. Никогда.
Я кладу капусту на барную стойку и разворачиваю ее так, чтобы ее заостренный кончик был повернут в сторону Дамы-детки.
– А должен был?
– Вы знаете, что слово кельнер пришло из немецкого и означает, собственно, келарь и происходит от латинского cellarius, кладовщик.
– Впервые слышу.
– Да, вот так.
Дама-детка поднимает взор и оделяет меня еще одной улыбкой. Если говорить о зубах и прикусе, то образцовые экземпляры таковых находятся прямо перед нами, во рту Дамы-детки. Всё-то теперь исправляют и выпрямляют, так я думал раньше, но что это исправление и выпрямление имеют смысл, становится очевидным сейчас, ведь этот прикус исправлен, надо полагать, если, конечно, не создан самой природой, что не менее впечатляюще. Зубной ряд Дамы-детки впечатляет при любом раскладе, будь его совершенство естественным или благоприобретенным. Выглядит эффектно, и не важно, подарен ли он природой или облагорожен обработкой; на мой взгляд, он может вызвать восклицание «боже» и в качестве врожденного («Боже, это у тебя свои такие зубы?»), и в качестве исправленного («Боже, да твой ортодонт просто волшебник»).
– Так вы, значит, хранитель погреба.
– Ну, на самом-то деле нет. Я официант, это так, но…
– Раз вы кельнер, ну и так далее…
– Да нет, это вообще-то устаревшее понятие.
– Cellar door[11], – говорит она, кладя на тарелочку слишком крупную купюру.
– Что, простите?
– Самые красивые слова в английском языке, разве нет? Slide down my cellar door[12]…
– …
– Ну песня такая, не знаете?
– Сейчас дам сдачу, – говорю я. – Вот, пожалуйста.
К моему ужасу, она не уходит совсем, а снова пересаживается за маленький столик у самого входа. Кто она такая? Мурена, затаившаяся в своей норке и ожидающая, в кого бы вонзить свои зубы?
Старый Юхансен
Мы видим, что недостаток сна неблагоприятно сказывается на учебе в школе. Мы видим, что недостаток сна плачевно сказывается на успеваемости по разным предметам. Все это мы видим. Люди, которые занимаются такими вещами, все это видят. Мы тоже потом увидим, как это скажется на Анне. Когда она должна прийти? В шестнадцать? В семнадцать? Сегодня ночью ей не удалось выспаться из-за того, что Эдгар выкаблучивался перед Селлерсом с дружками. Через какие-нибудь шесть, а то и восемь часов перед нами предстанет усталая и слегка осунувшаяся Анна, войдет, едва удерживая на своих худеньких покатых плечиках непропорционально огромный школьный рюкзак. Как можно, чтобы ребенок таскал на себе столько книг? Чтобы он под тяжестью этого груза не опрокинулся на спину и не барахтался на земле, словно перевернутая черепаха или жук; при ходьбе ей приходится сгибать спину в пояснице под углом почти в 45 градусов. Горемыки эти дети. Горемыка наша Анна.
Старый Юхансен так и сыплет нотами, да все печальными, я бы сказал, минорными, выражают ли они сущность горемыки? Горе-мыки? Того, кто горюет, мыкаясь? А старый Юхансен на антресолях горемыка? Пожалуй что так. Сегодня утром он начал с Пахельбеля, и потом пошли одна пьеса унылее другой. Удивительно, что Метрдотель позволяет Юхансену укутывать ресторан в такой музыкальный траур. Мы не должны разрешать ему создавать (нагнетать) подобную атмосферу перед приходом Анны.
Ничего подобного тому, что я сделаю в следующий момент, я не делал ни разу за все время своей службы в «Хиллс»: я решаю вознести свое тело вверх по винтовой лестнице, ведущей на антресоли, к старому Юхансену. Покорение винтовой лестницы из кованого металла – мука мученическая. Как старый Юхансен забирается сюда? Он кругленький как колобок. Раньше я об этом не задумывался, а ведь когда я прихожу на работу, он всегда уже сидит у себя наверху. Мне не доводилось видеть, как он форсирует винтовую лестницу. А видел ли я, как он спускается? Нет. Он сидит там, и когда я ухожу. Я ввинчиваюсь вверх по лестнице. Поднявшись на верхнюю площадку, я вынужден сильно нагнуть шею, так низко нависает потолок. Отсюда я вижу одетую в рубашку спину, которую антикварные подтяжки, с отделанными кожей петельками в форме большого черного икса (X), делят на четыре части. Наверное, он предпочел эти X-образные подтяжки Y-образным, потому что первые оставляют больший простор снизу; и такому крупному мужчине как старый Юхансен необходимо, чтобы штаны крепились сзади в двух местах.
– Юхансен, ты, собственно, по какому расписанию работаешь?
Слегка повернув голову, старый Юхансен чуть приподнимает подбородок, но даже минимально не вздрагивает, будто за его спиной постоянно возникают взобравшиеся по винтовой лестнице люди и задают ему неожиданные вопросы.
– Что-что?
– Ты до которого часу работаешь, Юхансен?
– До которого всегда работал.
Он сидит на сдвоенной скамье высокого качества, так называемой дуэтной банкетке; оба ее сиденья регулируются по отдельности, – опять же ради того, чтобы там поместился человек любых габаритов, так я полагаю. С обеих сторон банкетка оснащена винтами регулировки, по одному для каждого сиденья; подушки обтянуты прекрасным бархатом густого бордового цвета, оттенка бычьей крови. Подставка под сиденьем выполнена из щедро покрытого лаком бука, с правой стороны выдвигается ящичек для нот. А вот этого я никак не ожидал: под каблуками его начищенных до блеска туфель виднеется возвышение, к которому крепятся педали, старомодная такая подставка. Значит, в сравнении со своим обхватом он даже ниже ростом, чем я думал. Короче говоря, старый Юхансен шаровиден.
– Послушай, Юхансен… – говорю я.
– Да, пожалуйста, – говорит Юхансен.
(Да, пожалуйста? Я о чем-то просил? И что я получил?)
– Ты ведь знаешь, что Мэтр считает Пахельбелев канон излишне минорным? Ты с утра с него начал и уже впадаешь в крайнюю меланхоличность. Не мог бы ты несколько разогнать тоску?
– Пахельбелев канон написан в Ре-мажоре.
– Пусть так, но не мог бы ты все же играть что-нибудь хоть на йоту менее минорное?
– Один минор не «минорнее» другого. Не понимаю, в чем проблема, – говорит Юхансен, продолжая всеми десятью пальцами извлекать образцовый минор.
– Публика не прочь немного оживить атмосферу.
Юхансен встроен в эти антресоли? Одно дело – соотношение между обхватом его тела и шириной винтовой лестницы. Другое дело – штабеля нотных тетрадей и листов, высящиеся вокруг фортепьяно. К стенам лепятся покосившиеся башни из всевозможных брошюр и книг (все они посвящены музыке, насколько я могу видеть). Свод начинает сужаться на высоте всего метра в полтора от пола, и эти полтора метра практически полностью скрыты за нагромождениями нот. И что я вижу: наклейки, которыми залеплены деревянные панели стен внизу, в зале, добрались и сюда. Вскарабкались по винтовой лестнице, вон они, высовываются из-за юхансеновских торосов. Старые потрескавшиеся вырезки, картинки, этикетки, кое-где они так пожелтели, так замурзаны, что кажутся покрытыми толстым слоем кофейно-коричневого шеллака. Слева, на высоте пояса, кто-то неумело начеркал на стене вереницу нот; головка, штиль и флажок коряво выведены фюзеном или сангиной, а может, и цветным мелком. Перед нотными штабелями громоздятся разновысокие башни из тарелок. Я вижу мелкие столовые тарелки для твердой пищи, глубокие супные тарелки для пищи жидкой и множество сервировочных тарелок (или блюд, для подачи закусок и выпечки), а кроме них еще стопки десертных тарелочек. Многие из них – эгерсуннского фаянса, о котором я распинался перед Дамой-деткой. Помнится мне, Мэтр сокрушался, что они постоянно куда-то деваются. На верхней тарелке в каждой стопке навалены грудой ножи, вилки и ложки; похоже, Юхансен выстраивает эти пирамиды уже долгое время. Посуда в беспорядке громоздится и на полу, там и стеклянные вазочки для цветов, и элегантные фужеры для шампанского, из многих торчат ложки, десертные вилочки, ножики и тому подобное. Я вижу вилку для омаров, высовывающуюся из хрустальной чаши для омовения пальцев, туда же брошены щипцы для улиток, четыре трехзубые рыбные вилки, а еще, вы не поверите, самая изящная из имеющихся в нашем хозяйстве лопаточка для икры. На полу, совсем рядом с педалями, на которые вовсю жмет Юхансен, в сотейнике для приготовления жаркого из оленины, поверх кучки ложек-сосьерок валяются виноградные ножницы и восхитительная посуда из сервиза для дичи, оставшегося в наследство от самого Бенджамина Хилла. Кто доставляет все это сюда, но не относит назад? Что за пиршества устраиваются здесь наверху?
– Да у тебя тут своя столовая, Юхансен, – говорю я. Юхансен молча делает легкое движение головой, заставляющее его шевелюру всколыхнуться. Волосы у него сухие, наэлектризованные и напоминают стальную вату. На затылке они отросли, а на темени совсем поредели; он небрежно зачесал прядь волос сбоку так, чтобы она прикрывала макушку; теперь его причесон – точь-в-точь внутренний заём а-ля Жиль Делёз. Когда он вскидывает голову, знаменуя драматический момент в развертывании музыкальной темы, волосы не «колышутся», а встряхиваются – сухой, резкой встряской; наверное, так же трясется уснея хохлатая, если пнуть камень или пень, на котором разросся этот лишайник.
Почти незаметно мелодии фортепьяно обретают более светлое и, по моим представлениям, менее минорное звучание. Неужели Юхансен послушался меня? И переключается на мажор? Или же эта модуляция присуща самому произведению? С какой легкостью старый Юхансен извлекает из инструмента эти волшебные звуки! Как могут такие полные, барские пальцы так легко порхать по клавиатуре? Инструмент тяжеленный, должно быть. Просто монстр. Чудовище. Я внутренне корчусь при одной мысли о том, с каким трудом его втаскивали на антресоли. В извилины винтовой лестницы он бы точно не вписался. А как же тогда? Справа под самым сводом виднеется оконце, но в ширину оно не больше 60 см, так что и не через него. Неужели им пришлось разбирать свод, чтобы втянуть наверх этот громадный музыкальный инструмент? А заодно и старого Юхансена?
– Это у тебя там Хейфец на стене? – спрашиваю я, показывая рукой – хотя Юхансен сидит ко мне спиной – на рамку с небольшой гравюрой на дереве, вклинившуюся между нагромождениями штабелей и наполовину закрытую ими.
– Хейфец, – подтверждает Юхансен.
– Забавно, его сразу узнаешь по резко очерченным ноздрям.
– Да не на что там смотреть. Гравюру вырезал один замшелый норвежский график. Совсем не Хейфец, если можно так выразиться, – говорит Юхансен.
– Да уж, не Хейфец.
– Ну ладно, – говорит Юхансен, по-прежнему не поворачивая головы.
Музыка сейчас звучит определенно легче. Живее.
– Отлично, – говорю я, приготовившись спускаться.
– Можно вас спросить?
Он обращается ко мне на «вы». Я прокручиваю сцену назад и с ужасом убеждаюсь в том, что пока мы с Юхансеном общались, я все время обращался к нему на «ты».
– Да?
– Мне это кажется, или вы чем-то расстроены?
– Что?
– Какой-то вы дерганый стали, нет?
– Не пойму, о чем речь.
– Впечатлительный. Ранимый.
– Вам виднее.
– Как утверждает Винникотт, – говорит Юхансен под аккомпанемент своего на этот момент радужного музицирования: – The ego organizes defences against breakdown of the ego organization[13].
– И что сие означает?
– Когда организованность эго начинает хромать, жди срыва, вот что.
Старому Юхансену не нужно даже оборачиваться, чтобы констатировать мою надсадную горемычность. Выходит, моя аура горемыки очевидна, хотя мне виделось, что я хорошо скрываю ее за соблюдением правил обслуживания, настроем на сервис и кажущейся предсказуемостью реакций.
I wonder that a soothsayer doesn’t laugh whenever he sees another soothsayer[14], сказал вроде бы Цицерон, очевидно, не по-английски, наверняка на латыни, и я тут имею в виду, что, возможно, преимущество горемыки состоит в том, что он не заливается слезами при виде другого горемыки, мыкающего горе. Меня скорее трогают, расстраивают, огорчают мысли о себе как горемыке, чем, например, появление в «Хиллсе» других горемык. Другие горемыки меня раздражают. Вот я и сказал это открытым текстом. А своя горемычность меня расстраивает. Потому что мне известны многие (хотя не все) из причин собственной горемычности. И стоит мне вызвать в памяти эти причины – чего я ни в коем случае не собираюсь здесь делать, – как я вижу, что у меня имеются вполне веские основания ощущать себя горемыкой, и мысль об этих основаниях, из-за которых развились мои недостатки, может в секунду растрогать меня, если я позволю ей пробиться из памяти в сознание. Я думаю о том, что не я виноват в том, что стал горемыкой, и что своими недостатками я обязан несправедливости жизни. А вот если я вижу другого горемыку, только горемыку я и вижу. Я не вижу недостатков. Я не вижу наверняка трогательных и несправедливых причин его или ее горемычности. Я вижу только саму горемычность и думаю, что ему или ей следует взять себя в руки. Он или она должны научиться владеть собой и не представать в таком унылом виде. У всех нас хватает своих забот, думаю я, пора уже научиться владеть собой. Бывает, я думаю так, а сам тоже печалюсь. Подними голову, холодно, без всякого сочувствия мысленно говорю я человеку, от которого веет унынием, хотя сам тоже тоскую и сутулюсь; человек унылый не вызывает во мне симпатии. Я могу чувствовать себя совершенно насчастным, разбитым, сломленным, измученным горестными мыслями о собственных недостатках, о нанесенных мне обидах и никогда не затягивающихся внутренних ранах; при малейшем нарушении привычного хода вещей или напоминании о прошлых неприятностях меня раздирают душевные муки. Я могу чувствовать все это, оставаясь совершенно безучастным к страданиям горемычного ближнего, с его собственными недостатками, обидами и сутулостью.
Навигация в сети
Доковыляв до столика и усевшись, вдова Книпшильд принимается листать меню, которое я поместил на стол перед ней, после чего у наружного края тарелки под пирог мягко, как кошачью лапку, положил десертную ложечку. Вдова Книпшильд показывает пальцем на обсыпной пирог. В гардеробе вдовы Книпшильд красной нитью, так сказать, проходят серые, блеклые и выцветшие тона. Она бесцветна как пепел, вдова Книпшильд. Мне она всегда нравилась. Замечательная женщина. Интеллигентная. В свое время она занималась историей искусств и была профессором. «Вы знаете… – сказала она как-то. – Вы знаете, что когда я училась в Антверпене, я параллельно работала в Плантен-Моретус?» Я это знал, она и раньше рассказывала, но что поделаешь, склероз. «А вы знаете, что мы тогда тайком прокрадывались по ночам к старинным печатным станкам, чтобы печатать на них памфлеты?» Нет, этого я не знал. «Первый памфлет я напечатала на самом старом из тамошних печатных станков, как вам, возможно, известно, в мире есть только один печатный станок древнее его. Станок стоит точно на том же месте, куда его поставили всего через какие-то несколько лет после того, как Гутенберг изобрел книгопечатание. Под ножками стола в полу образовались вмятины». «Потрясающе», – говорю я. «А знаете, что было написано в первой напечатанной мной листовке?» Нет, откуда же я мог это знать. «Там было написано The great are only great because we are on our knees. Let us rise. Proudhon»[15]. «Да что вы говорите!» – изумился я и спросил ее, какими литерами она набирала текст, теми ли старинными свинцовыми, что хранятся в музее. «Ну конечно, – отвечала она. – А какими же еще?» Тут она откусила кусочек грушевого пирога, который я легко, словно пушинку, опустил на стол перед ней, и долго причмокивала, прежде чем закончить: «Я потому постоянно возвращаюсь в „Хиллс“, что это место в Осло, да и, наверное, во всей Скандинавии, больше всего напоминает мне Плантен-Моретус». «Ну это вы, пожалуй, слишком», – сказал я. «Да нет, не слишком, – сказала вдова Книпшильд. – Что есть, то есть. Это место, где сходятся дальние пути!»
Я уже говорил, что никогда не пользуюсь телефоном в рабочее время, но сегодня приходится отступить от этого правила. Мне нужно время от времени проверять, нет ли новостей от Эдгара или от Анны. Может быть, рановато ждать каких-либо известий, но что если они пошлют мне сообщение? Я пытаюсь «проскочить» мимо повара, но неудачно. Проход между его скругленной спиной и закопченной, забрызганной жиром, увешанной кастрюльками и сковородками стеной на пути к тесному закутку для переодевания, где висит моя демисезонная куртка, такой тесный, что протискивание сквозь него отдает чем-то сексуальным. Повар жарит грибы с луком, он расшвыривает грибы и лук по сковородке. Резким броском подкидывает грибы и лук вверх, и в этот момент они, грибы с луком, взлетают высоко над сковородкой, кажется, что на целый метр. Когда грибы и лук зависают на высоте его лица, повар не сводит с них глаз. Прямо перед ним в воздухе висят грибы и лук. Потом они, пластинки грибов и полоски лука, все сразу, снова падают в сотейник. Подбрасывание грибов и лука сопровождается резкими движениями локтей: предплечья движутся взад-вперед словно сцепное дышло локомотива, и я тут же начинаю беспокоиться о том, как же я проберусь позади него. Вдруг я его задену? Я издаю покашливание. Повар прекращает двигаться. Это знак мне, что можно проходить. Грибы с луком скворчат на сковородке, надо мне поторопиться, чтобы они не подгорели. Наш повар любит раскалить сковороду посильнее.
Анна прислала нуль сообщений, Эдгар тоже ни гугу. Времени всего начало одиннадцатого. Когда же, интересно, придет Анна? Я пытаюсь справиться с телефоном, держа его прямо перед собой в обеих вытянутых руках, в характерной стариковской манере. Телефон лежит в ладони левой руки, а согнутый указательный палец правой усохшим круассаном ширкает по стеклу. Не могу взять в толк, как это мобильный ухитряется реагировать на тычки кончиком узловатого пальца. Сначала мне приходится посмотреть всякие видео, снятые с дронов, но наконец я попадаю сюда, внутрь, туда, вовне, онлайн. В наши дни приходится мириться с тем, что довольно значительное число съемок производится дронами. Эти дроны кристально ясно запечатлели картины танкового сражения в пригороде Дамаска Джобар. Внизу, в туалетной комнате нашего ресторана, белой и черной плиткой еще в давние времена был выложен изумительный узор. Пожалуй, в черной плитке угадывается темно-зеленый оттенок. Или скорее она отливает синевой? Оксфордский синий, переходящий в черноту? Как бы то ни было, этот повторяющийся узор из темных и светлых четырехугольников навевает воспоминания о прежнем Дамаске. Бесподобная красота. Сделанные дроном снимки, загружающиеся на мобильный, показывают Дамаск, больше всего похожий на обсыпной пирог вдовы Книпшильд. Всюду лишь россыпи крошек и комьев песчаного цвета. Я успеваю увидеть старейшее в мире, как считают многие, жилое поселение, рассыпавшееся в труху, но тут меня зовут. Я слышу голос, призывающий меня из кухни. Прокручиваю ленту сообщений чуть дальше. Нельзя, что ли? Теперь я вижу фото девушки, которая стоит на копытах лежащей на спине, как собака, лошади. Вижу кошку, умеющую говорить «уд». Отсечение руки, в исламистском стиле. Статью, исследующую связь между излучением от экрана и желтизной зубов. Ну ничего себе. У меня зубы вполне себе белы. Может быть, это объясняется тем, что я провожу у экрана ограниченное время, плюс моим здоровым скепсисом по отношению к современным технологиям? Неожиданный бонус. Зачем, да и самое главное, как Анна могла бы послать мне сообщение в десять минут одиннадцатого? Наверняка в школе им запрещено пользоваться мобильным телефоном – хотя точно мне ничего об этом не известно. Но договорились мы однозначно. Она придет сюда сразу после уроков. С какой стати она будет слать мне эсэмэски? Да и есть ли вообще у нее телефон? А Эдгар, наверное, сидит в самолете или на важном совещании. Срочное дело, так он сказал. Я с ходу посылаю ему сообщение:
тайны души и сердца являют себя в незаметных, странных и неожиданных комбинациях букв и слов. твоя пиявка.
Затем я пролистываю ленту еще дальше вверх. Вижу пуму, которая охраняет крохотную лягушку, карликовую лягушку. Старик ста пяти лет от роду говорит, что, возможно, не стоит всю жизнь придерживаться строгой диеты и отказываться от переработанных мясопродуктов, поскольку последние 30 лет в жизни человека и без того тоскливы и безрадостны. И еще я вижу девушку, на хэллоуин облачившуюся в мундир Иди Амина, все до малейшей детали воспроизведено в точности. Она его вылитая копия. Не женщина, а миниатюрный Амин.
– Эй, – слышу я голос повара из кухни. Это ко мне, зависшему над телефоном, он обращается?
– Да, что такое?
– Тебя зовут.
Я упрятываю мобильный телефон в демисезонную куртку и, протискиваясь мимо повара, вынужденно выставляю себя в самом неприглядном виде. Я появляюсь в зале ресторана с раздувающимися ноздрями и воспалившимися глазами. Ну ладно, тычинки лилиям флорист обрезал, но что же со вторничной декоративной капустой? Покрылась пеленой забвения? Декоративная капуста, или орнаментальная капуста, как ее называет сам флорист, начала пованивать. Я ощущаю едва заметный запашок подгнившей орнаментальной капусты. В воздухе витает отталкивающая едкая примесь. Среди всего этого восседает вдова Книпшильд, окутанная ароматом собственных духов, и этот аромат наверняка не пропускает к ней тошнотворного зловония орнаментальной кочерыжки, но это не вдове потребовалось мое внимание. И не медленно, но верно накачивающемуся актеру. А Метрдотелю.
– Требуется обслужить и 7, и 12, – указывает он.
– Разумеется, – говорю я, глядя ему прямо в глаза, как я научился делать, невзирая на собственную врожденную безавторитетность; у меня хорошо получается такой вызывающий взгляд прямо в лицо. Изнутри меня может раздирать на части, но встать столбом с дебильной, но абсолютно непроницаемой «гордостью» официанта и пялиться человеку в глаза, это пожалуйста. Я не отступаю. Я использую собственное лицо, чтобы сказать Мэтру в лицо «разумеется». Физия Мэтра лоснится от лосьона. Его лицо демонстрирует эдакий надсадный эффект влажного лица в сочетании с сухостью волос. Не лучше бы наоборот?
– И будь добр, сделай что-нибудь с этой капустой.
– Флорист только что уехал, мне его вернуть?
– А для чего тебе флорист?
– Чтобы занялся капустой.
Мэтр трет глаза. Выглядит это совершенно гротескно. Как ему удается давить на подглазные мешки, чтобы они при этом не лопнули?
– Не понял, – устало произносит он.
– Что это за флористика такая, оставить нам вторничную брассику вонять разложением и навозом, – говорю я. – Пусть разберется с этим.
К моему ужасу, Мэтр продолжает тереть глаза, удрученно показывая левой рукой в сторону барной стойки. Там лежит романеско. Тьфу ты.
– Не многовато ли нам капусты, – говорит он.
– Э… разумеется, – говорю я и припускаю в сторону романеско, словно мне наподдали под зад. – Романеско, да. Извините, мне очень жаль.
– Юная дама обратила на нее мое внимание, – говорит Мэтр, понизив голос и торопливо кивнув в сторону Дамы-детки, которая так и не сдвинулась со своего места возле портьеры.
– На что?
– Что ты оставил здесь овощ.
– А, вот оно что, – говорю я, хватаю романеско обеими руками и чувствую, как все во мне опускается. – И что же она сказала?
– Она сказала, что ты оставил капусту.
– Понятно.
– Рад, что тебе понятно.
– Но что она сказала?
– То есть?
– Как она это сказала?
– Как она это сказала? Открыв рот, полагаю.
– Я понимаю. Но как вы узнали, что она именно меня имеет в виду?
Мэтр прекращает потирания и роняет руку словно гирю. Так и стоит пару секунд с закрытыми глазами, словно заснув в вертикальном положении. Потом – с некоторым напряжением лицевых мышц, которое начинается с того, что он выгибает брови дугой с целью приподнять тяжелые веки, а продолжается тем, что он открывает рот и зевает, чтобы оттянуть книзу и подглазные мешки – ему удается разъединить веко и мешок, так что образуется узенькая щелочка, и он может приступить к репетитивному миганию/прищуриванию, благодаря чему постепенно фокусирует взгляд на окружающем; очень похоже на млекопитающее, впервые после рождения открывающее глазки.
– И так понятно было, – говорит он, широко разевая рот.
– Ну если так, – говорю я.
– Так, – говорит Мэтр.
– Но она не знает, как меня зовут.
– Посмотрим, сказал слепой глухому, – говорит он, исполненный комического воодушевления. Вот он еще будет передо мной комедию ломать.
Романеско своим остреньким кончиком повернута к высокому стулу, на котором восседала Дама-детка, пока не переместилась за другой стол; обращена к барному табурету, это такой высокий стул. Мимо походкой усердного исполнителя торопится Ванесса, и я хватаюсь за подвернувшуюся возможность делегировать поручение.
– Эй, – окликаю я Ванессу.
Чуть резковато. Ванесса от моего голоса вздрагивает.
– Ты не могла бы позвонить флористу?
– А он разве не был у нас только что?
– Был, но, к сожалению, не выполнил свою работу.
– Сейчас позвоню, – говорит Ванесса, почесывая ежик волос.
Приходит Анна
Из-за портьерной драпировки появляется блистающий здоровьем и энергией Блез Энгельберт. Он весь светится. Сегодня он одет особенно тщательно. Вот это костюм. Все мы привыкли видеть здесь высококачественные костюмы, но это нечто из ряда вон выходящее. Покрой. Ткань. Все остромодное, острее меча из узорчатой дамасской стали. Возможно, эту метафору я почерпнул из малоподходящей культурной сферы, но это не так важно. Если у человека достаточно фантазии, чтобы перевести британское портновское искусство на язык традиционного сирийского кузнечного мастерства, то он легко представит себе, как сейчас выглядит Блез Энгельберт – он одет по последней моде, он остромоден, остер как дамасская сталь. Ничего подобного я никогда не видел. Даже Метрдотель отпускает ему сдержанный, но недвусмысленный комплимент, а такое случается не каждый день. Мэтр комплиментами не разбрасывается.
– Ну, скажу я вам, – говорю я, когда Блез проходит мимо меня.
– Да вот, – говорит он; он знает, о чем я.
– Это просто нечто, – абстрактно произношу я.
– Ну да, – говорит Блез.
Думается мне, нужно дожить до моего возраста, чтобы оценить подобный лацкан. Такое впечатление, что дети, вообще молодежь – со всей их гиперчувствительностью по отношению к еде и прочим подобным вещам – не замечают как раз те подробности, что имеют значение. Дети не обращают внимания на мелкие детали. На зажженную в уголке свечу, которая сразу же меняет настроение в комнате. На подходящий или неподходящий стул, украшающий или обезображивающий интерьер. И напротив – насколько же тонко настроен аппарат чувственного восприятия в моем возрасте. Меня никогда не укачивает в машинах, я могу есть заплесневелый сыр и рыбу с душком. Я могу спокойно жевать жилы и волоконца, не ощущая позывов к рвоте; в детстве я этого не мог. В каше может быть сколько угодно комков. Могу хлестать водку, не ведя бровью. Для ребенка это невозможно. Но если приоткроется дверь и я почувствую малейший сквозняк у своих ног, тончайшую струйку холода, вот на это я отреагирую. И сильно отреагирую. Это где же не закрыта дверь, задумаюсь я тогда. Ребенком я мог часами болтаться по улицам в промокшей обуви и даже не замечать этого. Когда я дома разувался, шерстяные носки оказывались такими мокрыми, что от меня несло овчиной. У меня обламывались ногти, но я замечал это, только когда было уже слишком поздно. В девятилетнем возрасте я бы и не заметил мастерски обработанного лацкана на пиджаке Блеза Энгельберта. Лацкан остался бы для меня незримым. Теперь же этот лацкан единственное, что я вижу. Непревзойденный лацкан, нет, никогда подобных не видал.
Дама-детка вспархивает из-за мраморного столика, словно все было схореографировано, и вслед за Блезом следует к столику 10, это мой столик. Вот теперь выдвинуть для нее стул будет уместно. Дама-детка протягивает Блезу руку, Блез галантно принимает ее. Я берусь за спинку стула, на который, по моим представлениям, сядет Дама-детка, и отодвигаю его, другой рукой «указывая», куда ей можно/должно/следует/положено/рекомендуется сесть: сюда, на выдвинутый мною стул.
– Спасибо вам, – говорит она.
– Не за что, – говорю я.
Она пристраивает подколенные впадинки перед сиденьем стула, а переднюю поверхность бёдер приближает к кромке столика и ждет, чтобы я задвинул стул. Я ощущаю легкое благоухание мускуса. Ведь это мускус? Она ожидает, что сиденье стула вот-вот коснется подколенных ямок, и это послужит ей знаком, что можно напрячь мышцы бедра, переднюю группу, так называемую четырехглавую мышцу – разгибатель коленного сустава, самую крупную мышцу тела, а затем согнуть колени, чтобы опуститься на сиденье стула, что наверняка потребует слаженной работы передней и медиальной групп мышц бедра, заключающейся в их попеременном напряжении, сопровождающемся сведением мышц задней группы, так что на какое-то мгновение она застынет в неявном полуприседе, при напряженной до предела большой ягодичной мышце, ожидая, что я полностью задвину под нее стул, что я и делаю, чтобы она могла без опаски усесться на сиденье.
– Вот так, – говорит она.
Я вижу тысячу возможных вариантов того, чем я мог бы парировать это «вот так», но удерживаюсь, чтобы не произнести вуаля, ну вот, отлично, прекрасно или еще что-нибудь идиотское. Сам себя удерживаю за шкирку. Я несколько раз вдыхаю и выдыхаю через нос, в усы. И благоразумно помалкиваю. Профессионально и благоразумно помалкиваю.
Кстати об умении владеть собой, или о контрапункте владения собой, об умении разойтись вовсю; старый Юхансен воспринял идею перейти в другой лад всерьез, скажу я вам. Теперь он на своих антресолях наяривает presto[16], так скажем. На его парящем над залом, оборудованном, обжитом балконе господствует vivace[17]; или это называется vivo[18]? Кажется, французы называют такую резвую радостную музыку, на грани лихорадочности, vif? Не слишком ли она разудалая? Как к этому отнесется Мэтр? Не выглядим ли мы, обслуживающий персонал, облаченный в черно-белые наряды, чуть комично, когда нам аккомпанирует такая разудалая lebhaft[19] музычка? Мне кажется, что Юхансену стоило бы несколько умерить задорность исполнения.
И вот еще насчет этого мускусного аромата. Он отдает чем-то старушечьим. На юной леди вроде Дамы-детки он воспринимается совершенно особым образом. Блез тоже пользуется парфюмом, в высшей степени ненавязчивым. Возможно ли такое? Исходящий от Блеза аромат смешивается с негромким мускусом Дамы-детки. Чем душится Блез? В этом запахе ощущается нотка Grey Vetiver, но древесный оттенок в нем иной, дерево в этом букете напоминает скорее об Encre Noire. Тут больше аквиларии, или, быть может, оуда. Чувствуется древесина, сильнее напитанная влагой, нежели в Vetiver. Может, он смешивает парфюмы? Из мужчин единицы делают это. Он что, такой продвинутый, Блез? Пожалуй что так. Я хмелею от этих ароматов. Именно подобное совершенство мы приветствуем здесь, в «Хиллс». Мы хотим видеть у себя неожиданные комбинации и сопряжения совершеннейших, исключительных свойств. Мы желаем, в переносном смысле, чтобы яйцо подбиралось прямо из-под несушки, и чтобы масса раздробленных и смолотых семян подсолнечника давилась до тех пор, пока из нее не начнет сочиться масло, и чтобы это масло, опять же, смешивалось с яйцом и сбивалось так энергично, чтобы свойства смеси компонентов видоизменились и она превратилась бы в майонез. Вот чего мы желаем, в переносном смысле, как я уже сказал. Смешиваясь, ароматы Блеза и Дамы-детки производят чуть ли не магическое действие, соответствующее чуду возникновения майонеза. Во взаимодействии этих двоих, их букетов, их ароматов, рождается нечто новое и абсолютно неповторимое. (Как описать майонез человеку, который лишь по отдельности пробовал семена подсолнечника и яйца?)
Через окно мне видно, как к дверям подкатывает Хрюшон в автомобиле, который иначе как шикарной тачкой и не назовешь. На часах ровно 13.30, его привычное время. Я сопровождаю Хрюшона к столику, за которым сидит, блистая костюмом, Блез, и рядом с ним сияет Дама-детка.
– Ожидаем кого-нибудь еще? – спрашиваю я, покачиваясь на носках туфель.
– Будем только мы втроем, – говорит Хрюшон.
– Значит, трое. – Я моментально принимаюсь демонтировать прибор и посуду для четвертого лица. – Могу ли рекомендовать вам что-либо до еды?
– Я бы рискнул попросить бокальчик того белого бургундского.
– Прекрасно.
Белое бургундское я плавно, мыльным пузырем, ставлю Хрюшону под правую руку. Он кивает в знак благодарности, поглаживает хрусталь, водя вверх-вниз по ножке указательным и большим пальцами, сухим и кряжистым, соответственно, затем благоговейно подносит вино ко рту и пригубливает. Дама-детка широко распахивает глаза, будто ей 12 лет от роду, и я друг ее отца, а она дочка Хрюшона, и Хрюшон мой друг. Она начинает улыбаться с закрытым ртом, но губы растягиваются все шире и размыкаются. Словно раздвинулись портьеры, обнажив многажды охарактеризованный ряд зубов. Дама-детка выдает мне весь свой жемчужный ряд, ее улыбка затмевает все вокруг.
* * *
Времени скоро без четверти два. Полагаю, именно в это время заканчиваются школьные уроки у детей в возрасте Анны. А может, и нет? Не остается ли она в группе продленного дня? На продленке? Если бы Эдгар сказал мне, во сколько можно ждать прихода Анны, мне не пришлось бы ломать голову и гадать на кофейной гуще. Я шустро протискиваюсь мимо повара и ныряю в раздевалку. Нуль сообщений от Анны. Ни одного от Эдгара. Вновь передо мной пустой экран. Вряд ли будет преступлением немного полазить в интернете. Первым открывается изображение Губки Боба, балансирующего двумя кукурузными початками, по одному на каждом глазном яблоке; потом видеозапись начала 90-х, на которой Эминем в Детройте читает рэп про «пиклс», одновременно жаря во фритюре луковые кольца. И еще я успеваю узнать, что семьи евреев, бежавшие в свое время от нацистов, хотят теперь получить немецкие паспорта из-за того, что теперь творится в Великобритании. Черт бы его побрал, Эдгара.
* * *
Ванесса, волосы ежиком, притащила флориста. Он идет позади нее в своем флористическом облачении, в принципе это костюм садовника, то есть рабочая одежда. Грубые штаны с большими накладными карманами. Из них торчит пара перчаток. Сейчас я ему покажу. У нас здесь не место всяким тошнотворным примесям и запашку. «Эй!» – выпаливаю я, выбрав, как водится, самый неудачный момент. «Флорист!» – верещу я. Флорист вздрагивает. Вздрагивает и Метрдотель, он стоит у дальнего 17-го столика и смотрит на меня по-рыбьи, как морской черт: вытаращил зенки и сложил рот подковой. На стеновой панели слева от него, на высоте лица, располагается бра, очень похожее на антенну со светящимся утолщением на конце, как раз как у морских чертей. «Минутку», – говорю я, подняв палец вверх; забинтованную левую руку я прячу за спину. Облокотившись о барную стойку, флорист наблюдает за моим безмолвным продвижением к нему, которое я теперь, окликнув его, с неизбежностью должен завершить. Мои шаги гулко отдаются на изумительном мозаичном полу. Флорист смотрит, как я иду и по-куриному дергаю головой. Видит, как я сутулюсь. Даже и не знаю, как мне не утратить боевой настрой.
– Позвольте вам указать, – говорю я.
– Да?
– Это относительно вашей декоративной капусты.
– И что с ней, с орнаментальной капустой?
– Вы не чувствуете?
– Что я должен чувствовать?
Я раздуваю ноздри и шнобелем изображаю, будто принюхиваюсь; одновременно отмахиваюсь ладонью; все вместе должно означать «амбре».
– Не чувствуете, это капуста? – повторяю я.
– Может, объясните, в чем собственно дело?
– Она воняет.
– Ну значит, ее просто надо вынести, – говорит флорист.
– Да, вы должны ее вынести.
– Я уже доехал до самого Хёйбротена, – говорит флорист. – И теперь мне из-за вас пришлось проделать весь этот путь в обратном направлении, только чтобы вынести из помещения увядшее растение?
Я беру его за локоток, не слишком крепко, но решительно, и препровождаю в направлении Блеза и Дамы-детки. Мы останавливаемся в двух метрах от их столика. Здесь я снова втягиваю ноздрями воздух, сигнализируя, что и ему следует проделать то же самое. «Принюхайтесь», – говорю я. Флорист осторожно нюхает. Я объясняю ему, что это ольфакторный фон, который мы в «Хиллс» стараемся поддерживать. Оуд. Аквилария. Перемежающиеся гастрономическими ароматами. Ольфакторный фон? Флорист явно растерян. И теперь я тяну его оттуда к барной стойке, над которой возвышается огромная композиция из тошнотворной орнаментальной капусты. «А не это», – говорю я. Он спрашивает, серьезно ли я это говорю. Да уж, куда серьезнее. Я прошу его глубоко вдохнуть. Ну, знаете ли, говорит флорист. Вашими стараниями, а вернее, их отсутствием, продолжаю я, нарушен ольфакторный фон. В ваши обязанности входит следить за тем, чтобы растительный декор постоянно поддерживался в идеальном состоянии. Флорист пытается объяснить, что растения срока годности не имеют. Если между понедельником и пятницей какое-нибудь завяло, разве трудно просто вынести его? Я вам уже сказал, повторяю я, и жестом полицеймейстера снова хватаю его за локоток, но не той рукой – бинт сползает, больно, ведь под ним волдырь. Я пытаюсь сменить руку, но пока я мешкаю, флорист отдергивает локоть и шипит «не прикасайтесь ко мне». Выворачивается и возбужденно трясет головой. Я неуклюже пытаюсь задержать его правой рукой, но промахиваюсь и задеваю его по плечу.
– Прекратите, – говорит разъяренный флорист и резво двигает к выходу. Я застываю на месте в неловкой позе, клонюсь вбок, кренюсь. Флорист исчезает за портьерой. Он здорово разозлился. У меня возникает сомнение, увидим ли мы его снова у нас в «Хиллс», вернется ли он сюда осуществлять флорацию, эвентуально де-флорацию, если можно так выразиться.
И будто этого мало: пока я стою и смотрю вслед рассвирепевшему флористу, между полотнищами портьеры, закрывающей входную дверь, просовываются две маленькие руки. В зал заглядывает Анна (9 лет). Наконец-то. Я внутренне вздрагиваю. Она наклоняет голову. На высоту ведра выше ее головы показывается рукав неглаженой рубашки. Портьера отодвигается в сторону. Кому принадлежит мосластая рука? Меня снова пробирает дрожь. Анна делает шаг вперед, и позади нее вырастает долговязая фигура Селлерса. От него чего угодно можно ожидать. Подмастерье останавливается в дверях. Его лицо растянуто в широчайшей из улыбок, что свойственно подмастерьям.
– Славная девчушка, – говорит он мне, подмигивая.
Часть V
Гольбейн
Конечно, сохранность портретного наброска с изображением Барона Вентворта оставляет желать лучшего, а штриховка якобы не несет характерных признаков того, что он выполнен левшой, каковым был Ганс Гольбейн младший, с жаром вещает Блез. Некоторые считают, что рисунок видоизменяли в более позднее время. Я согласен с тем, что берет и ухо плоские, словно на них слон наступил, а прорисовку шевелюры вдохновенной не назовешь. Неказистое чернильное пятно, обрамляющее контур правого глаза и прячущееся под полями головного убора, наверняка является позднейшим добавлением. Но все до единого, кому довелось видеть этот рисунок собственными глазами, говорит Блез, – в этот момент он выгибает плечо колесом, чтобы собеседник, Селлерс, полностью сосредоточился на том, что будет сказано, – и с нажимом выговаривает по слогам: все до е-ди-но-го, кому довелось видеть этот рисунок собственными глазами, живьём, IRL[20], вресноту, признают, что это замечательное произведение.
Все это Блез без запинки излагает Селлерсу, стоя возле столика Селлерса, столика 13, и жестикулируя; рядом стоит Хрюшон. Блез вещает настолько громко, что мне все слышно за колонной, где я прячусь, сгорбившись, с отяжелевшим лицом, и жду сигнала. Они ведь наверняка захотят поскорее скрепить результаты общения чем-нибудь из серии покушать или выпить. Как принято у больших.
Волоски усов под носом у Вентворта, продолжает Блез, по гениальности сравнимы с тем, как воспроизведены детали волосяного покрова на лице сэра Томаса Уайетта, ни прибавить, ни убавить. Контур переносицы очерчен безукоризненно. Непревзойденно. Этот контур переносицы не уступит лучшим образцам. В буквальном смысле. Он вполне сравним со световым акцентом на нижней губе папы Иннокентия X у Веласкеса, говорит Блез. И это мое глубокое убеждение, говорит он. Это громкое заявление, но так оно и есть на самом деле. Растушевка мелом на спинке и крыльях носа Вентворта, которую на репродукции адекватно отразить невозможно, столь деликатна, утонченна и архи-минималистична, что ничего подобного невозможно припомнить. Вкупе с неуклюже прорисованными беретом, перьями и тенью от берета рисунок являет собой загадку. Как часто бывает с рисунками Гольбейна, выполненными в период его служения при дворе Тюдоров, трудно определить, когда и кем, если не самим Гольбейном, контуры были обведены чернилами. Было ли это сделано с целью перенести мотив на деревянную доску или на холст? А серебряный карандаш, он когда был добавлен? Работа кистью местами выполнена мастерски, местами посредственно. Ничем не примечательная ушная раковина и тончайшая прорисовка кружевного воротника, примятого на затылке, – каким образом столь разительно отличающиеся по уровню мастерства детали оказались на одном и том же листе? Ни один из рисунков Гольбейна не таит больше противоречий, чем набросок Вентворта, и благодаря им работа в целом поднимается до неслыханных художественных высот. И в то же время изображение едва проступает. Оно почти невидимо.
– К чему же вы ведете? – интересуется Селлерс.
Видите ли, дело в том, что мне хотелось бы пригласить вас посмотреть этот рисунок, говорит Блез, как мы помним, облаченный в умопомрачительный костюм. Он у меня дома, утверждает Блез. Нет, не может быть, говорит Селлерс. Правда, идемте со мной и убедитесь сами, настаивает Блез. Да нет, перестаньте, вы шутите, говорит Селлерс. Но Блез, триумфально улыбаясь, сдержанно кивает. Вы знаете, говорит он, рисунки Гольбейна, созданные при дворе Тюдоров, в Виндзорской библиотеке хранятся необрамленными. Их держат в специальном боксе, в безвоздушной среде. Сложив стопкой. Некоторые вставлены в паспарту, некоторые нет. Но здесь, на публике не стоит обсуждать это, говорит Блез. Подробности я могу раскрыть вам у себя дома, говорит он, понизив голос. Ну, знаете, это какая-то фантастика, говорит Селлерс. Это надо переварить. Это нужно заесть сыром. И он выкрикивает: «Катите нам сыр!» Блез кивает и энергично машет мне рукой. Значит, пора сервировать сыры. Завязывание отношений следует отпраздновать вкушением сыра. У нас здесь используется трехуровневый сервировочный столик. На каждом уровне разложены сыры разнообразных сортов, а сверху стоят еще две медные кастрюльки, содержащие, соответственно, вываренные в красном вине ядра грецких орехов и консервированные фрукты.
Возвращаясь к entré[21] Анны и Селлерса: Селлерс придержал для Анны суконную портьеру, пропуская ее вперед себя. С улыбкой прошествовал вслед за ней к своему постоянному столику. Проходя мимо меня, по обыкновению небрежно бросил «привет» в ответ на мое «добро пожаловать», но затем я испытал настоящий шок: минуя столик Дамы-детки, за которым сидели также Хрюшон с Блезом, Селлерс любезно поприветствовал и ее. Дама-детка ответила на приветствие, а оба господина вежливо кивнули.
Тем самым контакт между столиками 10 и 13 установлен, подумал я про себя. Все развивается ровно так, как спланировал Хрюшон. Этот мне Хрюшон, он приятный и общительный, но хитрый как лис, я так всегда говорил, подумал я. Ну и хитрец. Наверняка это он придумал использовать Даму-детку, чтобы подобраться к Селлерсу. Сначала подкатил ко мне, эти его разговорчики о том о сём, а потом привлек Даму-детку. Дама-детка – идеальный сообщник.
Не прошло пяти-шести минут, как Дама-детка обосновалась за столиком 13, в ставке Селлерса, откуда он правит своими подданными. Завязалась беседа. Смеясь, она пальцами касается руки Селлерса. Жестикуляция направлена в сторону Хрюшонова столика. Хрюшон и Блез замерли, навострив ушки. Без видимых усилий она связывает невидимой нитью два мира, столик 10 и столик 13. Дама-детка подала Хрюшону с Блезом знак приблизиться. И не успел никто и глазом моргнуть, как Блез и Хрюшон в своих шикарных костюмах уже стоят возле столика 13 и распространяются о Гольбейне перед не верящим своим ушам Селлерсом. Этого не может быть, говорит Селлерс. Ну и дела.
За такими разговорами прошла добрая четверть часа. Затем они пожелали сыру. И когда я теперь подкатываю сырную тележку к столику 13, у Блеза с Хрюшоном появляется законный повод подсесть к нему. Мне кажется унизительным маячить позади сырной тележки и отрезать то кусочек конте для Блеза, то немножечко Пор-Салю для Селлерса, и так далее, под ученые разговоры о настоящем или поддельном Гольбейне, который якобы хранится дома у Блеза, в то время как Дама-детка своим присутствием придает блеск обычно грешащему люмпенскими замашками столику. Не знаю даже, почему, но это так.
– А возьмите еще кусочек этого реблошона, – говорит Блез, тщательно жуя. – Я так люблю сыр на коровьем молоке. А вы?
– Да, только если корочка вызрела, – говорит Хрюшон.
– Помилуйте, конечно, вызрела; Пор-Салю всегда долго выдерживают, – говорит Селлерс. – И я полагаю, он сделан из коровьего молока?
Он бросает на меня взгляд, в котором в равных долях содержатся вопрос, издёвка и алкоголь.
– Пор-Салю производится из коровьего молока, – подтверждаю я.
– Я возьму немного шевра, – со смешком говорит Дама-детка. Вот уж абсолютный и непревзойденный потребитель. Так проходит первый час.
Весь этот час Анна сидит за уроками, кожа натянута на висках, за спиной косица, к столику с классической мраморной столешницей прислонен ранец. Кто же ей заплетает косу по утрам? Когда она вошла, я вздрогнул от неожиданности, хотя и ждал ее весь день. Да уж, вздрогнул так вздрогнул. Ну что, Анна, идем к твоему столику, сказал я чуть громковато, поспешил на кухню и торопливо вернулся оттуда, неся десертную тарелочку с красиво уложенными на ней кружочками колбасы четырех сортов; тарелочку я опустил перед ней плавно, словно осиновый лист.
– На вот тебе, побалуйся колбаской, а то ужин еще не скоро.
– Спасибо большое.
– Хочешь попить чего-нибудь?
– Воды, и всё.
– Яблочного сока не хочешь? У нас очень вкусный сок, из Абильдсё.
– Нет, спасибо. Он немножко мучнистый.
– О? А мне казалось, он очень удался, и вкус у него нежный.
– Я лучше воду.
– Сейчас принесу.
Анна достала учебники. Я налил ей воды. За столиком 13 поглощали сыр. Хлестали десертное вино, которое я посоветовал после некоторых раздумий. Теперь настроение там настораживающе веселое. Селлерс в ударе, ничего не скажешь. Включил свое мелкожульническое обаяние на всю катушку. Так я и думал, теперь ему хочется тяпнуть чего-нибудь покрепче. Он поднимает руку и машет мне. Все остальные за столиком дружно присоединяются к заказу. Они тоже желают пропустить по стопочке. Времени половина шестого, но они уже переходят на крепкие напитки. Хрюшон, Блез и Дама-детка согласно кивают, когда Селлерс предлагает и им принять по одной.
– Анна, – говорю я, проходя мимо нее к бару, за стопками со спиртным.
– А?
– Я тебе хочу показать кое-что интересное.
– Угу.
– Ты уроки сделала уже?
– Немножко осталось, одна математика.
– А что из математики?
– Деление десятичных дробей.
– Я уж и забыл, как это делается.
– Я умею.
– И без калькулятора?
– С калькулятором любой разделит.
(…)
– Ты мне махни рукой, когда все сосчитаешь, и я тебе тогда покажу кое-что.
– Ладно.
– А вот скажи мне одну вещь.
– Да?
– У тебя есть телефон?
– Нету.
– А ты знаешь, когда папа придет?
– Нет, но он же все равно сюда придет, – говорит Анна.
– Ну да, наверное.
Я показываю Шеф-бару «четыре стопки» и прохожу прямо на кухню. Где моя романеско? Не видел ли повар капусты романеско? Вон она, он ножом показывает, где она лежит на рабочем столе вместе с айвой и еще какой-то зеленью. Я хватаю овощ обеими руками и тут же вижу, что повязка, прячущая волдырь, замурзана и ослабла. Надо бы перебинтовать руку. С извинениями я снова протискиваюсь за спиной повара в раздевалку. От Эдгара ничего. Я посылаю ему смс:
Анна делает уроки. она тут уже больше часа. как у тебя дела?
Логика заключается в том, часто говорит Эдгар, что жизнь в большом городе настолько уныла, что мы без сожаления продадим ее за деньги. Но непунктуальность Эдгара никому не принесет выгоды. Не перебинтовав левой руки, я снова пропихиваюсь мимо повара, чтобы доставить выпивку к столику 13. Селлерс опрокидывает свою стопку едва ли не раньше, чем я успеваю поставить ее на скатерть. Остальные следуют его примеру. Тут же заказывают по второй. Где первая стопка, там обычно и вторая. Анна машет мне. Она доделала математику.
– Справилась? – говорю я.
– Ну да, конечно.
– Тогда я тебе покажу кое-что.
Подняв палец к лицу, что должно обозначать «следи внимательно», я извлекаю из-за спины романеско и бережно выкладываю ее на мраморную столешницу перед Анной. Она смотрит на капусту, потом на меня. Я объясняю, что это капуста романеско. Правда же, она удивительная? Да, соглашается Анна. Я добродушно смеюсь, обращаясь к ней, но мой смех звучит словно короткие сигналы компрессорного гудка, скорее агрессивно, чем обезоруживающе. Если тебе станет скучно, попробуй нарисовать ее. Анна кивает. Тут я снова завожу канитель о фракталах и Мандельброте, я уже рассказывал это Даме-детке. Анна слушает. Спрашивает, кто такой этот М. К. Эшер. Давай расскажу, говорю я и ораторствую дальше. И мало этого, продолжаю я. Романеско еще очень вкусная. И полезная для здоровья. Если хочешь, я попрошу повара приготовить ее на пару́, это и будет твой ужин. Сначала нарисуешь ее, а потом съешь, говорю я, издав краткий пневмосигнальный гудок. Анна кивает без устали.
Восковой мелок
Шеф-бар жаждет поговорить. Сборище за столиком 13 повергло ее в изумление. Что они затеяли, не может она понять. Да вроде они хотят зазвать Селлерса домой, чтобы он посмотрел один рисунок, говорю я. Ну это вряд ли, говорит Шеф-бар. Зачем? Оценить его? В таком случае лучше бы им обратиться к Рэймонду. Селлерс в этом не петрит. Но зато Рэймонд всюду таскает за собой этого проходимца Братланна, говорю я, и его-то уж никто к себе на пушечный выстрел не подпустит. А когда у них за столиком такая шикарная девушка, как эта молодка, общаться с Братланном вообще становится невозможно. Так и норовит ущипнуть, кобелина старый. Мерзкий тип. Хрюшон с Блезом улучили момент, когда Братланна в кои-то веки нет рядом, рассуждает Шеф-бар.
Я прохожусь пару раз по залу, проверить, все ли в порядке со столовым бельем. Поправляю скатерти, постеленные под ними подкладные скатерки. Щетку для крошек держу наготове. Мои глазные яблоки без устали обводят зал взглядом. Ничто не останется незамеченным. Это действительно так. Я знаю, как далеко продвинулась Анна, рисуя капусту. Я знаю, кем и сколько стопок спиртного выпито за столиком 13, а сколько не выпито. Дама-детка ерзает на месте, ей не сидится спокойно. Но теперь ей ведь не к кому пересесть, насколько я понимаю? Все, кто ей интересен, уже собрались за столиком 13. Что дальше? Мои глазные яблоки вступили в поединок с глазными яблоками Метрдотеля, его яблоки видят то же, что и мои, а возможно, и более того. Я по ошибке сервирую рулет обществу, собравшемуся за столиком 8. Мэтр показывает на рулет, и не успевает компания прокомментировать мой ляпсус, как я забираю рулет и несу его назад.
– И как это понимать?
– Сожалею, – говорю я.
– Кто отчеканен шиллингом, тому талером не бывать, – говорит он.
Не успел я и глазом моргнуть, а Дама-детка уже стоит возле Анны, склонилась над рисунком. Черт бы побрал Даму-детку, прыткая как блоха. Еще и Анну втянут в эту заваруху? Не мешкая, я тороплюсь к ним. Что тут происходит, спрашиваю я, но они пропускают мой вопрос мимо ушей. Я недостаточно авторитетен, чтобы удостоиться их внимания. Дама-детка даже глаз не поднимает, она обращается к Анне: «Когда я была маленькой, я постоянно что-нибудь выдумывала. Жила, полностью погрузившись в собственный мир. Могла часами просиживать за вырезанием картинок из журналов». Классика жанра. Дама-детка с чувством распространяется о своем детстве, давая понять, что она еще не полностью с ним распрощалась и остается в душе все той же наивной девочкой. Теперь она ногтем показывает, где Анна немножко напортачила с рисунком. Я постоянно мыла руки, говорит она Анне. Я объявила войну микробам. Я терпеть не могла, чтобы меня торопили по утрам. Она фыркает. Я объявила войну времени. Я объявила войну беспокойству. Я объявила войну темноте. Я объявила войну тишине. Я объявила войну жиру. Анна продолжает рисовать. А потом я объявила войну войне, говорит Дама-детка и взглядывает на меня.
– Значит, не мне одной демонстрируют эту великолепную капусту?
– Анна хотела нарисовать ее.
– У меня не получится, наверное, точь-в-точь ее нарисовать, – говорит Анна.
– Рисунок просто классный, не буду вам мешать, – говорит Дама-детка.
Анна машет ей рукой.
– Сладкая какая! – говорит Дама-детка и машет ей в ответ. – Она со мной заигрывает. Ты со мной заигрываешь, Анна?
Ну, это уже грубо. Анна не заигрывает. Дети не «заигрывают», что бы ни утверждали их мамаши и прочие дамочки. Если уж кто и заигрывает, так это Дама-детка. Флиртует и обольщает, даже когда ей не требуется никого соблазнить. Есть в Даме-детке некая странность. Издали они кажется ангелом, если подойти вплотную – дьяволом. Она возвращается за столик Селлерса и усаживается рядом с Блезом. Вот ведь черт, никуда от нее не деться.
– Молодец, Анна, тебе прекрасно удалось изобразить узор на капусте, – говорю я.
– Но ведь его невозможно нарисовать точно, как есть?
– Посмотри, у тебя видно, как эти бесконечные конические фигуры, переходя одна в другую, выстраиваются в спиральные формы и то углубляются внутрь, то образуют выступы над поверхностью. Мне кажется, это просто здорово, Анна.
Дама-детка снова встряла в общий разговор. Не знаю даже, как описать впечатление, которое она производит. Складывается ощущение, будто самые «простые» вещи даются Даме-детке наибольшим трудом и скрежетом зубовным. Самые «человеческие» выполняются наиболее механически. Дама-детка оптимистична, позитивна, довольна, воодушевлена, весела. Иными словами: она страдает.
– А эта тетя кто была? – спрашивает Анна.
– А, это знакомая Грэхема. Того старого красивого дяденьки, который всегда сидит за столиком 10.
– Она приятно пахнет.
– Всё, что есть конкретного в этом мире, скрылось между полупопиями Дамы-детки, вот какая мысль пришла мне в голову, – говорю я.
– Хe-хe-хe, – смеется Анна. – Дама-детка?
– Да, Дама-детка. Еще пара минут, и я несу твой ужин.
Что за диковинная сцена разыгрывается за столиком Селлерса? Обсуждают рисунок, и, похоже, Селлерс очень им заинтересовался. Но удивительным образом он ухитряется понять все совершенно неправильно, что и демонстрирует, подробно расспрашивая о том, откуда на листе взялись линии восковым мелком. Блез поясняет, что Гольбейн, разумеется, не пользовался восковым мелком. Но Селлерс продолжает талдычить свое. Восковые мелки такая удобная вещь, говорит он, ими даже под водой можно ставить метки. Я не раз покупал восковые мелки в «Товарах для дайверов» на острове Кармёй. У них там хороший выбор, практичные и недорогие упаковки по дюжине штук. Блез поправляет: рисунок едва заметно заштрихован цветным мелом. Восковым мелком такого добиться невозможно. И думаю даже, что вряд ли у них в то время были восковые мелки, говорит он. Возможно, масляная пастель? Я не о масляной пастели говорю, Блез, парирует Селлерс. Находясь в здравом уме, нельзя в одном и том же предложении употребить слова «Гольбейн» и «масляная пастель», так ведь? Это же полнейший вздор. Еще в строительном супермаркете «Хансмарк» продаются восковые мелки. В «Хансмарке»? – удивляется Блез. Да, в «Хансмарке», есть у них там такие карандаши, называются «Лира». Ими на любой поверхности можно рисовать. Даже на пыльной, необработанной, замасленной или мокрой. А сбоку на упаковке, на крышке, даже приделана точилка. Мне что-то кажется, что мы о разных вещах сейчас говорим, вразумляет Блез. Вы, похоже, о плотницком карандаше нам рассказывали, говорит Хрюшон. Трудно себе представить, чтобы бумага в то время выдержала бы подобный инструмент, говорит Селлерс. В XVI веке бумагу проклеивали? Нет, не уверен, говорит Блез. Ну вот, видите, говорит Селлерс. Ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов. А не опрокинуть ли нам еще по одной? Отчего же, с удовольствием, говорит Хрюшон. Он обращается к Даме-детке: «А ты выпила свою порцию?» «А что, не надо было?» – откликается Дама-детка. Ну конечно, надо! Тогда всем еще по одной, говорит Блез. Непременно, говорит Селлерс. Еще по стопарику нам сюда!
– Еще по стопке, – говорю я.
– Опрокинем еще по стопочке, – говорит развеселившийся Блез.
– Несите нам стопарики, – говорит Селлерс.
Дама-детка приподнимает лицо.
– А мне амаретто не принесете? – говорит она.
– Обязательно, – говорю я.
– Спиртное, настоянное на фисташковых орешках, ничем не испортишь! – говорит Селлерс. – Хороший выбор.
– На фисташках? – говорит Блез.
– Амаретто, король ореховых ликеров, – говорит Селлерс.
Баланс, который демонстрирует Дама-детка, сидящая ровно посередине между Селлерсом и Блезом, выдает в ней скорее бухгалтера, чем танцовщицу. Ссутулившись, я шагаю назад, к бару, и оставляю заказ на амаретто. Он сказал, на фисташках? – спрашивает Шеф-бар. Так и сказал, говорю я.
Я приношу Анне лазанью с пекорино, аранжированную как она любит, с зеленым салатом, плюс колу и на отдельной тарелочке – сваренную романеско. Романеско больше для развлечения, говорю я. Не обязательно есть ее всю. Но нет, Анна хочет съесть всю целиком. Тут она замечает мою забинтованную руку.
– У тебя рука болит?
– Да, прищемил ее вчера в подвале, теперь у меня жуткий волдырь.
– Бинт запачкался. Ты не менял повязку?
– Нет, со вчерашнего дня.
– Я могу тебе помочь, когда поем, – говорит она. – Нас в школе учили оказывать первую помощь.
Сыр, которым лазанья посыпана сверху, очень горячий, можно обжечься, Анна знает это; может быть, поэтому она сначала принимается за романеско. Или ею движет любопытство? Забавно, что ее заинтересовала моя выдумка. Она берет вилку в руку и, держа ее как прутик, отделяет кусочек капусты и пробует жевать. Вкусно, показывает она легким кивком. Я спрашиваю ее, не поперчить ли ей пасту. Да, пожалуйста, говорит она. Я иду за большой мельницей для перца, которая ей всегда нравилась. На пути назад меня перехватывает Мэтр.
– Надо бы постараться, чтобы сегодня снова не вышло так же поздно, – говорит он.
– Простите?
– Я о ребенке.
– Нет, конечно, – говорю я.
– Только подлец отдает больше, чем у него есть, знаешь ли.
Одним из важнейших качеств современного человека, если существует такое понятие, является умение справляться с избыточностью, говорит Эдгар. А если человек не обладает таким качеством? Плохи дела такого человека. У меня не всегда получается успешно фильтровать или сортировать непрерывный поток впечатлений, этот постоянный наплыв. И уж Мэтр, правду сказать, мне тут не помощник, постоянно отпускает ехидные замечания в мой адрес, пробивая брешь в моей защитной броне. Ну неужели нельзя дать мне спокойно посыпать лазанью девчушки перцем, а не подлавливать меня на полпути с какой-нибудь каверзой? Я подхожу к Анне и перчу ее лазанью, трижды резким движением крутанув мельницу.
Марлевая повязка
Опять за столиком 13 разгулялись. Селлерс просит меня подойти поближе. Мне приходится чуть ли не на колени встать, чтобы расслышать, что он говорит. Есть у серфингистов такое выражение: tuck knee. Это значит, колено слегка согнуто и вывернуто вбок, чтобы центр тяжести сместился ниже. Этим термином пользуются и скейтбордисты, и сноубордисты. Вот сейчас у меня tuck knee. Бинт прячу за поясницу. Я бы так сказал: совсем другое дело оказаться в позе tuck knee в зале «Хиллс», чем на тихоокеанской волне или на бетонной рампе в Санта-Монике. В «Хиллс» tuck knee равнозначно неуклюжести, а не стилю. Подчинению. Послушанию. А то и уничижению.
– Как-то все у нас тут сдвинулось, но нельзя ли нам заказать еду? – говорит он.
– Но вы уже заказали сыр? – говорю я.
– Придется нам мыслить нестандартно. – Он смеется низким и сиплым смехом курильщика.
Все перевернуто с ног на голову. Начали с сыра. Хотят заказать ужин после сыра. Я медлю. Селлерс смотрит на меня. Давайте, у нас получится, говорит он. Наверное, получится, говорю я. Позвольте только мне завершить одно дело, прежде чем я приму у вас заказ? Это недолго. Разумеется, говорит Селлерс. Раз это необходимо. Я искоса взглядываю на Анну. Она едва успела притронуться к лазанье. Анна, можно тебя побеспокоить? Анна улыбается. Можешь мне руку перебинтовать? Конечно, давай, отвечает она без малейшего колебания, что так типично для детей. Она тут же поднимается со стула. Спрашивает, куда идти. Надо сходить в подвал за марлей, говорю я. Хочешь со мной? У нас совершенно особенный подвал. Да, она хочет; энергичным шагом она впереди меня проходит сквозь суконные портьеры, выходит на улицу, сворачивает за угол и оказывается перед люком в подвал. Холодно как всегда. Уже довольно давно стемнело. Неоновая вывеска на другой стороне улицы окрашивает мои руки попеременно то в разбеленный цвет сомо, то в бледно-зеленый. Анна с интересом наблюдает за моей возней с ключом и замком. Я сконфуженно смеюсь. Цвет ее лица меняется.
Поставив левую ногу на нижнюю ступеньку, я предлагаю Анне спуститься. Лестница очень крутая, тебе бы лучше повернуться к ней спиной, говорю я. Анна разворачивается и потихоньку спускается, вставая на ступени пятками. Ее ноги как следует упакованы в гигантские сапоги-луноходы, это же настоящие классические луноходы, они выглядят до смешного огромными на ее тоненьких спичечных ножках. Ого, у тебя луноходы, Анна? – говорю я. Да, говорит она. Я держу здоровую руку наготове на случай, если Анна споткнется, но не прикасаюсь к ней. Она осторожно спускается и оглядывает подвал. Вау, говорит она. Она явно никогда не видела ничего подобного.
– Ничего себе, бочки с вином. Они настоящие?
Несколько лет назад мне пришлось обратиться за экстренной медицинской помощью, потому что в ушах у меня пронзительно звенело. Пока врач в кабинете расспрашивал меня и заполнял карту, я случайно увидел на экране компьютера слова, написанные им.
– Колеблющееся лицо, – написал он тогда. Похоже, та же история происходит с моим лицом и сейчас, оно колеблется.
– А как далеко он тянется? – спрашивает Анна.
– Далеко. Не знаю точно.
Света тут недостаточно для того, чтобы мы смогли добраться до секции с ящиками, в которых хранятся мешковина, марля, ветошь, полотенца, ремни, катушки, лоскуты, вязаные подставки под горячее, передники, парадные скатерти и накидки; мне нужно найти кнопку выключателя лампочки, освещающей следующее колено подвала. Анна спрашивает, где лежит марля. Я думаю, что нужно идти прямо вперед до развилки, а там свернуть направо, то есть в сторону, противоположную от того места, где хранятся фрукты, овощи и романеско. Секунду, и я поверну следующий выключатель. Я на ощупь продвигаюсь вперед вдоль стены и поворачиваю рычажок выключателя, но свет загорается под лестницей. Ошибочка вышла, смеюсь я. Но Анны рядом нет. Это же безумно опасно. Я ее не вижу. Стою, упираясь макушкой в потолок. Все во мне опускается, кроме моей так называемой непроницаемой физиономии. По утрам я вижу в зеркале страшную картину постигшего мое лицо опустошения. Я думаю, подобное же опустошение царит и внутри, в мозгу, в печени, а также в пещеристых телах пениса. И наверняка в нервной системе тоже. Чисто физическое разрушение нервов отчасти может служить объяснением тому, что на смену юношеской самоуверенности по мере старения приходит сокрушительная неуверенность в себе. Разве не должно все быть наоборот? Чтобы человек с годами становился все более уверенным в собственной правоте? Я пытаюсь мыслить позитивно. Каждый день, видя в зеркале свое старое, увядшее лицо, я говорю себе: сегодня у тебя самое молодое лицо из тех твоих лиц, что тебе предстоит увидеть в дальнейшей жизни.
– А марля лежит с этой или с той стороны от черенков? – кричит Анна.
Я слышу смешок.
– С той стороны, – громко отвечаю я.
Наступает тишина. Потом слышится царапающий звук. Потом тишина воцаряется надолго. Громкий стук с металлической формантой заставляет меня подскочить на месте.
– Извини! – слышу я голос Анны. – Я не нарочно!
– Мне подойти? – говорю я.
– Не надо, стой там.
Раздается покашливание, но неубедительное, понарошку. Бормотание, за которым следует всхлип. Шепот. Потом воцаряется тишина.
– Эй? – говорю я.
Еще один тихий всхлип. Она что, плачет? Теперь опять все стихло. Но вот едва слышные шаги. Идет. Пол здесь земляной. Анна несет марлю, держа ее обеими руками. Большущий моток, размером с рождественский ветчинный рулет.
– Пошли, Анна, – говорю я и загоняю ее на лестницу.
Заказ задом наперед
Бинтовать мою ладонь мы с Анной идем в мужской туалет, оформленный а-ля Дамаск. Я сажусь на крышку унитаза и разматываю бинт. Вид у волдыря с отстающим кожным лоскутом отталкивающий. Марля пропиталась кровью, гноем и грязью. Анна опускается передо мной на колени и без всякого отвращения разглядывает мою руку. Принимается с усердием накладывать повязку. Сделав очередной оборот, она переворачивает большущий моток марли на 180 градусов, так что от центра ладони к ее краям расходится впечатляющий гадючий узор. Анна сосредоточенно водит языком от одного уголка рта к другому.
– А у тебя есть безопасная булавка или зажимы для бинта? – спрашивает Анна.
Личико у нее гладкое, но под глазами легли лиловатые тени. Явный признак недостатка сна. Уф, амурные похождения Эдгара сказываются на здоровье ребенка.
– Это старый бинт, не самоклеющийся, – говорит она.
– Я вчера завязал концы, и всё, – говорю я.
Анна вынимает из волос крабик и зажимает им кончик бинта на запястье. Я немало впечатлен ловкостью ее пальчиков.
– Здорово у тебя получается.
– Да ну, ерунда, – говорит Анна.
– Теперь тебе, наверное, хочется доесть лазанью.
Селлерс лоснится от удовольствия. Дама-детка потихонечку клонится все ближе к нему. У меня не получится описать ее иначе как метафорически. Она та дорожка, по которой мы спускаемся к потере себя самих, так я сейчас думаю. Она сейчас не комедию ломает, не примеряет на себя разные образы. Скорее образы примеряют себя к ней. Повязка сидит плотно, бинт туго обтягивает руку. Я слегка воспрял духом.
– Ну что ж, готовы мы сделать заказ? – спрашиваю я, просовывая щетку-сметку между сидящими и производя скоростную очистку скатерти от крошек.
Селлерс предлагает сразу выбрать «горячее», а уж потом думать о том, чем закусить. Дама-детка спрашивает, нельзя ли снова попросить у повара жареных грибов. Лучше бы лисичек, и хотелось бы добавить к ним пару-тройку трутовиков, если есть. Должны быть, если не ошибаюсь, говорю я. И чтобы на сливочном масле с ложечкой рапсового, говорит она. Щепотку лука-шалота. Будет сделано. Прожарить посильнее. На чугунной сковородке. Чтобы не получились вареные грибы. На нашей кухне всегда так и жарят, говорю я. Блез аплодирует этому заказу. Потом слегка причмокивает, словно у него на нёбе еще остаются следы реблошона и он пытается решить для себя, какое из основных блюд лучше всего было бы вкусить после этого сыра, что и само по себе абсурдно. Причмокивания языком повторяются еще несколько раз, и выбор падает на телячье жаркое по-итальянски из меню дня, которое я добросовестно начертал на доске мелом. Блез с убедительной интонацией произносит vitello a la Sarda; он желает, чтобы блюдо было гарнировано на традиционный манер, а в дополнение к шпинату, лисичкам и соусу подали еще картофель – и, пожалуй, зеленый горошек.
Изящным движением кисти Хрюшон дает понять, что теперь настал черед Селлерса делать заказ, однако Селлерс говорит, мол, пусть заказывает Хрюшон. Нет, после вас, отказывается Хрюшон. Нет, прошу вас, начинайте, настаивает Селлерс. Но когда Хрюшон произносит «куропатка», Селлерс тут же встревает с «камбалой», перебивая Хрюшона, так что его слов не разобрать.
– Простите? – говорю я.
Хрюшон делает новую попытку со своей «куропаткой», но Селлерс с идеальной точностью подгадывает время: на этот раз он перекрывает заказ Хрюшона своим «козленком», слова обоих сливаются в неразборчивое бормотание. Простите, давайте вы сначала, смеется Хрюшон. Нет, вы, вы, прошу, говорит Селлерс, делая покорный жест рукой. Хрюшон смотрит в меню сквозь прогрессивные линзы очков, делая вид, будто изучает его заново.
– Я бы, пожалуй, заказал…
Он проводит сухоньким пальцем под названием блюда из куропатки.
Блез с одобрением кивает Даме-детке.
– Гммм… – говорит Хрюшон.
Растягивает междометие, глядя на Селлерса поверх очков, затем делает резкий выпад.
– К… – говорит он.
– T… – выстреливает Селлерс.
Хрюшон пытается провести обходной маневр.
– Кy…
– Ta… – без задержки реагирует Селлерс. (…)
– Куропатка для Грэхема, тартар для Селлерса, – подытоживаю я, не желая подыгрывать ни одному из них.
– И нельзя ли подать к нему вустерского соуса в кокотнице? – говорит Селлерс.
– Будет исполнено.
– И вот еще, у вас есть еще тот шнитт-лук, с огорода матушки повара?
– Полагаю, он всегда у нас есть, – подтверждаю я.
– А не попросите ли не класть его?
– Обещаю, – говорю я.
– На состав почвы в огороде матери повара влияет близость ее местожительства к ипподрому, – негромко говорит Селлерс, обращаясь к сотрапезникам. – Лук приобретает неприятный привкус.
Селлерс заказывает к тартару пиво, но, когда Блез просит вина, вмешивается и поправляет французский Блеза.
– Надо помягче произносить н, – говорит он. – Бургунь.
– А, вы имеете в виду Бургонь, – говорит Блез.
– Ну да, помягче, [ɡuɲ], – говорит Селлерс.
– Хорошо, согласен, – говорит Блез. – Второй слог произносим как [ɡɔɲ]. То есть [buʁɡɔɲ].
– Ну да, только не надо забывать о мягкости н. В смысле, произносится примерно как [ɡʊ̈ɲ].
– Ну всё, я пас.
Сроко конец
Заскочив на кухню проверить, нет ли сообщений от Эдгара, я ухитряюсь задеть медные кастрюльки с оглушительным грохотом. На экране по-прежнему ничего. Голову будто тисками сдавливает. Анна не может оставаться тут вечно, к тому же она устала. Не зависнуть ли в инете, попробовать так справиться с беспокойством? Птица застряла клювом в пирсинге у эмо. Пишут, что бродячие истории, будто Авраам Линкольн, Джон Ф. Кеннеди и Мартин Лютер Кинг все были застрелены в десять минут одиннадцатого, неправда. В Линкольна стреляли в четверть одиннадцатого, а умер он лишь на следующее утро. Кеннеди погиб в половине первого, средь бела дня. Выстрел в Кинга был сделан вечером, в одну минуту седьмого, а смерть констатировали в пять минут восьмого. Оказывается, то, что часы в рекламе всегда показывают десять десять, имеет не мистическое, а чисто эстетическое объяснение. А дальше я переживаю шок, потому что на следующем снимке я вижу Эдгара. Он стоит рядом с каким-то типом в выходном костюме и еще каким-то пожилым и абсолютно лысым господином и улыбается. Чуть в стороне от них стоит дама, которая выглядит так, как выглядела бы Мишель Обама, будь она славянкой, со славянской внешностью. Кто-то выложил в сеть это фото полчаса назад. Не Копенгаген ли виднеется за их спинами? Уж во всяком случае, не Осло.
ТЫ ЧТО, ВСЕ ЕЩЕ В КОПЕНГАГЕНЕ?
Шпиль, возносящийся к небу на заднем плане, похож на шпиль церкви святого Андреаса. Не удержавшись, я оставляю под изображением анонимный комментарий. Сроко кончается «Детский час», пишу я. Описку я замечаю слишком поздно. Сроко. Теперь от меня в интернете еще и это останется. Я самый бездарный бот. Время давно уж перевалило за семь, не пройдет и часу, как зал заполнится народом. Есть предел тому, сколько внимания я смогу уделять Анне в течение вечера. Поскорее бы Эдгар ответил. Я сочиняю новое анонимное послание. Я вижу тебя онлайн в Копенгагене, пишу я и отправляю сообщение. Опять меня переклинило. Строго говоря, онлайн и в Копенгагене – это два разных места.
Анна сидит себе за своим столиком, она как-то очень мило читает; теперь у нее в волосах не пять, а только четыре крабика. Я смотрю на нее воспаленными от зависания в интернете глазами. По красочной обложке можно догадаться, что и эта книга – фэнтези. Романеско почти съедена. Я рассказываю, что в данный момент Эдгар не может ответить, так что, видимо, придется еще подождать. Не похоже, чтобы это ее сильно обеспокоило. Ты не устала? – интересуюсь я. Не очень, отвечает она, но глаза говорят обратное. Я предлагаю попросить у повара бечевку, чтобы она сплела пока прихватку или что-нибудь еще. У нее это хорошо получается. Она говорит, что лучше почитает книжку.
Метрдотель склонился над книгой учета заказов. Стол, за которым сидит девочка, забронирован с 19.30, говорит он. Сколько еще она у нас пробудет? Я отвечаю, что этого я, к сожалению, не знаю. Он спрашивает, несу ли я за нее ответственность. Полагаю, что так, говорю я. Дружба дружбой, а табачок врозь, говорит он и отворачивается. Я спрашиваю, что он хотел этим сказать. Мне придется придумать, как быть с девчушкой после 20.00, говорит он. Я отправляюсь в бар за напитками для Селлерсова столика. Наполняя бокалы бургундским, Шеф-бар рассказывает, что Блез с Хрюшоном как следует насели на Селлерса. А Дама-детка их подзуживает. Блез живет недалеко отсюда, и я могла бы тебя эскортировать, сказала она, как утверждает Шеф-бар. Эскортировать? Что за дурацкое слово? Ну, не знаю. Они уговаривают Селлерса пойти с Блезом к нему домой. Я слушаю вполуха. Селлерс ох как не прост, говорит она. Он весь из себя такой любезный и покладистый, но с панталыку его не собьешь. Шеф-бар снедает любопытство.
Гнездышко
Ситуация затягивается. Не представляю, в котором часу я сегодня смогу уйти домой, и виноват в этом Эдгар. Его стараниями я заперт здесь как в клетке. Я валюсь с ног. К тому же из-за него мне приходится за спиной шеф-повара протискиваться в раздевалку, к лежащему в демисезонной куртке телефону, что вынуждает меня с некоторой регулярностью притираться к повару.
давай уже ответь что-нибудь
Ирония заключается в том, что именно Эдгар сидел тут и жаловался мне на нескончаемый поток информации, обрушивающийся на нас. Не я первый, не я последний это говорю, сказал он, но именно в эту минуту я всем своим существом ощущаю, что всё, предел настал. Никогда еще СМИ не навязывали нам информацию так беззастенчиво. И никогда еще не существовало так много разных СМИ; и эти слова, сказал Эдгар, не теряют своей актуальности, повторяй их хоть каждый день. Но сегодня поток информации просто зашкаливает. Нет сил отплевываться от этого потока. Сегодня чаша переполнилась. Будто тянулся за стаканом воды, а тебя окатили из ведра. Сегодня поток мчит как никогда. Слишком мощно мчит. Никогда мне не втюхивали больше инфы, чем сегодня, в этот самый последний день в ряду прожитых мною дней. Никогда не втюхивали ее так безудержно. Поток информации сносит все на своем пути. Бурлит. Сбивает с ног. Так говорил Эдгар. А теперь он сам, так сказать, выпендривается онлайн в Копенгагене, грузит информацией мой телефон, лежащий в кармане куртки, и выманивает меня в раздевалку, и мне не отвечает.
Через полчаса Анна должна освободить столик.
Я слышу, как Селлерс пытается убедить собеседников в том, что нужно позвонить Рэймонду и пригласить его вместе с ними сходить и оценить рисунок, поскольку хорошо разбирается в искусстве как раз Рэймонд. Это какой Рэймонд? – спрашивают остальные. Да вот такой здоровенный мужик, который часто бывает тут вместе со мной, говорит Селлерс. У него еще внешность типичного южанина. Классический южанин-здоровяк. А, этот. Но, может, не стоит его звать, ведь он всегда таскает с собой еще третьего вашего приятеля, резкого такого. Вы про Братланна? – спрашивает Селлерс. Ну Да, про Братланна, говорят остальные. Тут Селлерс хмыкает и говорит, что Братланн кроток как овечка. Не стоит из-за него беспокоиться. Он просто хорохорится немножко. Типичное для южан поведение, говорит Селлерс. Ну не знаю, стоит ли подпускать такого шалопута близко к Гольбейну, говорит Блез, мягко, но без экивоков. Шалопута? Ну что вы, на Братланна можно положиться. Он большой энтузиаст, говорит Селлерс. Он много лет занимается музыкой, серфингом и прочими печальными вещами. Возможно, он производит впечатление несколько вспыльчивого человека, но он не злой. Правда, к заведениям такого высокого разряда, как это, он, пожалуй, относится несколько скептически, говорит Селлерс. Не это ли вас смущает? Как-то раз он был совершенно сражен присланной ему посылкой, в которой оказался набор всевозможных непонятных гурманских продуктов. Братланн не мог этого вынести, он совершенно пал духом. Посылку доставили слишком поздно вечером, рассказывает Селлерс, и там были не только продукты, вместе с посылкой пришел ящик с тяжелым как свинец красным вином. Всю ночь потом Братланн промучился, бегая в туалет. После этого он полностью отказался от амбиций в сфере эпикурейства и стал относиться к гурманству с большой долей подозрительности. Может быть, поэтому он так резко и реагирует на снобизм в любых проявлениях. К этому можно относиться по-разному, говорит Селлерс, но Братланн предпочитает всему такос из супермаркета. Как дорвется до него, так не может остановиться. А вы как относитесь к такому блюду, как такос?
Ну вот, возле Анны появляется строгий Метрдотель; под его наблюдением она собирает рюкзачок, или свою жалкую котомку, чуть было не сказал я, такое это печальное зрелище. Рюкзак или ранец не годятся в качестве обозначений предмета, куда он заставляет Анну запихивать пожитки; нет, она складывает котомку. Я спрашиваю, что тут происходит, а Мэтр отвечает, что время истекло. Но поймите, говорю я, отцу девочки пришлось задержаться, ей необходимо остаться здесь до его прихода. Одному вершки, другому корешки, говорит Мэтр, приблизив свое раздутое раскрасневшееся лицо вплотную к моему. Будьте любезны, позвольте нам немного отдохнуть от народной мудрости, говорю я. Во мне все кипит. Он продолжает смотреть на меня, не отводя глаз. Анна стоит с упакованными пожитками и смотрит на нас. Ее лицо покрыла бледность, кажется мне. Никакого сомнения в том, что она устала. Что же мне теперь делать?
– Иди сюда, посиди с нами, Анна.
Это Дама-детка, тут как тут, крутится вокруг, сует свой нос. И чего она вмешивается? Но говорит вроде бы вполне искренне. И все же, думаю я, настоящее лицо Дамы-детки – это тоже маска, и ужасная. Рядом с ней любой чувствует себя посторонним.
– У нас здесь есть место! – говорит она. Кажется, Метрдотеля вот-вот хватит кондрашка.
– А теперь подайте нам закуски и аперитив, – выкрикивает Селлерс, тыча в воздух указательным пальцем.
– Вот мы и добрались до закусок!
– Вот видишь? – говорит Дама-детка. – Старый Селлерс тоже тут. Ему без тебя скучно.
– Иди-иди, деточка, – говорит Селлерс, опускает палец, сгибает его крючком и тычет им в воздух, показывая, чтобы Анна подошла к нему.
Ух ты, луноходы, со всхлипом восклицает Дама-детка. Да, говорит Анна. Место для нее находится рядом с элегантным Блезом. Анна ставит котомку на пол, прислонив ее к стулу, и вежливо здоровается с Блезом. Потом с Хрюшоном, как воспитанная девочка подает ему лапку. Селлерс по-отечески склоняется над столиком и спрашивает ее, что там за коллизия возникла с Метрдотелем. Что за коллизия, конфликт какой-то? – спрашивает он. Да нет, собственно, говорит Анна, и честно добавляет, что ей понятно, почему детям нельзя находиться здесь в такое позднее время. Это так, но не слушай этого надутого индюка, шепчет Селлерс и раздувает щеки. Анна хихикает. Мы его сейчас немножко погоняем. Смотри, Анна, говорит он, подмигивая. «Метрдотель! Метрдотель, можно вас?» Мэтр оборачивается, до предела исполненный строгой протестантской этики – основного принципа, на котором базируется функционирование всей общественной системы капитализма, как любит говорить Эдгар, – и кивает, сдерживая эмоции. Селлерс говорит, что, пока взрослые наслаждаются закусками, его «племянница» с удовольствием поела бы профитролей. Принимая заказ, Метрдотель мелко подрагивает губами.
– А вот теперь они желают закусок, – обращается потрясенный до глубины души Мэтр ко мне с Шеф-баром. Как могло дойти до такого? На это нечего ответить. Селлерс все вывернул наизнанку, говорю я, он перевернул ход ужина. Нам остается только подавать блюда задом наперед.
– Девчонка пусть еще немножко посидит, но потом всё, никаких, – распоряжается Мэтр и деловым шагом, диктуемым протестантской трудовой моралью, удаляется на кухню, чтобы из первых уст передать заказ от 13-го столика. Пора ему плеснуть на себя еще лосьончику, ворчит барменша. Готовые закуски Мэтр демонстративно подает собственноручно. Вообще-то, будучи собранными вместе, эти блюда образуют своего рода десерт. Для Дамы-детки – знаменитая икра, которую мечет в Ботническом заливе рыбешка рипус, а перерабатывает небольшое предприятие в шведском Каликсе. Дюжина европейских плоских устриц, или «поцелуев из моря», как Селлерс провокационно назвал их, делая заказ, – по три на каждого из мужчин. Когда раковины ставят перед Блезом, он смотрит остолбенело, но смело выхлебывает первую. Анне принесли пять шариков из теста и горячий шоколад в оловянной сахарнице; она уплетает со скоростью света, цепляя профитроли до смешного длинной десертной вилочкой. С той же скоростью Селлерсу удается покорить ее. Ради включения в беседу «молодого поколения», говорит он, показывая на Анну, ему бы очень хотелось «обменяться» относительно потоковых СМИ, но он все время называет их «проточными СМИ», что сообразительная малышка Анна моментально усекает. Она сидит столбиком, она покорена. Хихикает, прикусывает губку, ждет, как отреагируют Хрюшон и Блез, и не проходит и пяти минут, как она полностью околдована Селлерсом. И как будто бы этого мало – теперь он закуривает сигарету, дерзко нарушая закон о курении.
– Много чему суждено протечь в СМИ, – задумчиво говорит он, делая глубокую затяжку. Выдыхает столбик густого дыма. Девятилетней девочке вряд ли доводилось видеть, как ведет себя сигаретный дым в помещении. Как он мягкими голубоватыми клубами поднимается к потолку.
– Не лишайте стариков курения, – говорит Анна.
– Вы только послушайте! – хохочет Селлерс. Ребенок-копирайтер. Вот в тебя я верю, говорит он. И надо же, теперь и Мэтр готов отступить от своих принципов. Не успевают они прикончить устрицы, как он подходит и спрашивает, не желают ли они в ожидании блюд начать с игристого? Может быть, по бокальчику просекко, пока несут закуски? Или шампанского, у нас есть хороший брют, «рюинар», свежий, кремоватый. Селлерс сияет; так злорадствовать умеет только настоящий озорник. Замечательно, говорит он, чуточку шипучки перед едой. Благодарим.
Блез отправляет в рот устрицу номер два и с трудом проглатывает ее. Отрыжка у него, что ли? Определение «краснощекий» как нельзя лучше подходит к Метрдотелю, очень уж он раскраснелся, эдакая рыбка-красноглазка. Он разливает «рюинар» по бокалам медленно, очень медленно, как и следует разливать игристое вино согласно правилам в учебниках, и в то же время ровно наперекор сложившейся европейской традиции сервировки. Шампанское еле течет из горлышка бутылки. Словно обрубок кровяной колбасы, он стоит в костюме и с бутылкой в руке, действуя строго в рамках профессионального кода метрдотелей и в то же время готовый вот-вот взорваться, потому что все действо разворачивается в обратной последовательности. Дай Селлерсу волю, игристое с журчанием потекло бы из бокала назад в бутылку.
– Ничто не сравнится с искрящимся шампанским перед едой, оно как вуаль, слетевшая с сосцов Марии-Антуанетты, – высокопарно изрекает Селлерс и стильно опрокидывает в себя содержимое своего бокала в форме чаши.
Блез берет последнюю из своих устриц, но умудряется выронить ее, вместе с полной ложкой шалота и уксусом на мускателе, прямо на бесподобный лацкан. Моллюск тягуче сползает по левому боку Блеза и приземляется на ляжку. Подобно слизняку, он оставляет за собой темный след. Весь столик в ужасе, и все свидетели происшедшего, включая Шеф-бара и меня, внутренне ахают. На глазах у всех безукоризненная оболочка Блеза расползается; кажется, слышен звон монет в его кошельке. Блез пружиной выскакивает из-за стола, с отвращением взглянув на Хрюшона. Хрюшон торопится за Блезом. Метрдотель застывает в позитуре, напоминающей греческую статую, но берет себя в руки и бросается на выручку. «Идемте к старому Педерсену, гардеробщику, – не терпящим возражений тоном приказывает он, – Педерсен знает, что делать, он в этом дока». Торопливыми шагами все трое поспешают в холл, где восседает Педерсен, хранитель опыта поколений и знаток старинных хитростей.
Дама-детка вглядывается в Анну и спрашивает, не устала ли она. Ты который вечер засиживаешься допоздна, солнышко, говорит она. Анна качает головой. Ты такая красивая, говорит Дама-детка. Тут взгляд Селлерса каменеет, мальчишеская улыбка сходит с лица. Он показывает на Даму-детку сигаретой и заявляет, не шутя: «Я вам устрою короткое замыкание».
Дама-детка, обычно в бесперебойном режиме провоцирующая в окружающих ревность и зависть, теряется и отводит взгляд, ее словно опустошили, словно у нее кончился завод. Анна крутит головой. Селлерс смотрит на меня и решительно кивает. И в этот момент редкого просветления я отчетливо понимаю, что следует сделать.
– Идем, Анна, – говорю я. Анна встает из-за стола.
– Бери свой рюкзачок и постой вон там, под антресолями. Я сейчас вернусь.
Анна поступает как велено, а я взбегаю вверх по винтовой лестнице с таким топотом, что вся металлическая конструкция начинает звенеть. Сгорбившись на верхней площадке, я вижу, что лицо старого Юхансена запрокинуто кверху, челюсть отвисла. Макушка неподвижно высится над заплывшим жиром затылком. Он что, умер? Нет, пальцы шевелятся, он играет. А нельзя ли исполнить одну из колыбельных Баха для графа Кайзерлинга, говорю я, например, вариацию 21. Старый Юхансен вздрагивает и неуловимо переходит на колыбельную Баха.
Анна послушно стоит с рюкзачком за плечами. В торцевой стене под антресолями, этой промежуточной крышей, есть маленькая деревянная дверца, запирающаяся на засов. Это старый дровяной чулан, дровяная каморка, если хотите; она давно уже пустует. На синей табличке, прикрученной среди наслоений наклеек, значится: Даг Нечётный (1942–45). Давай сюда, говорю я Анне, поднимая щеколду. Рассказывают, что во время войны один человек по имени Даг прятался здесь через день, по нечетным числам. Вон, это все вырезки из газет! А сейчас чулан пустует. И места тут вполне достаточно, правда? Давай-ка, Анна, мы тебя здесь уложим, говорю я. Папа еще не скоро вернется. А уже поздно. Можешь поразглядывать наклейки на стенах. Видишь, Энди Панда? А я должен еще поработать, пока не кончилась моя смена. А как твоя повязка, не разболталась? спрашивает Анна. Нет, с повязкой все в порядке, говорю я. Спасибо тебе. Сейчас мы тебе устроим тут гнездышко. Давай, Анна. Забирайся.
Я иду на кухню. В раздевалке сгребаю в охапку накрахмаленные официантские тужурки, которые никому не понадобились. Повар отодвигается, давая мне пройти.
И вот, когда мы уже устроили в дровяной каморке гнездышко из белых официантских тужурок и уместили в него Анну, подложив ей под голову рюкзачок и прикрыв его еще одной тужуркой, чтобы было помягче, и закрепили стеариновую свечку со столика 19 в настенном кронштейне, слышится осторожный стук в дверь. Она со скрипом приоткрывается, и в каморку заглядывает Селлерс. Он улыбается. Рассказать тебе сказку? Анна кивает со своего лежбища. Тогда Селлерс забирается к нам, усаживается рядом с девочкой и начинает свой рассказ.
Баю-баю-баю-бай, непоседа, засыпай! Спать тебе пора давно. Что ты пялишься в окно? Баю-баюшки-баю, колотушек надаю! Там светло? Сияет свет? И чего там только нет! Но тебе пора бай-бай. Живо зенки закрывай. Любопытные глазенки крутятся, как шестеренки. Вдруг да выкатятся – скок! — прямо к троллю, в вещмешок. Тролль себе в нору набрал целый склад таких буркал. Из мешка берет лупетки и кует из них монетки. Тролль доволен: он богат, наковал из глаз деньжат. Полон склеп его монет; знай, таращатся на свет.Имена
Анна тихо лежит в гнездышке. Проходит минут десять, ее дыхание замедляется, по телу прокатывается волна. Это не Блеза ли голос слышится из зала? Посижу лучше еще немножко. Дверь в каморку скрипучая, еще разбужу девочку. Как определить, крепко ли ребенок спит? Я уж собирался погладить ее по головке, протянул в темноте руку, но отдернул ее. Вместо этого я тихонько повторяю ее имя: Анна, Анна. Можно сказать, я глажу ее по головке этим именем.
Через старое вентиляционное окошко над кронштейном мне видно кино, дальше по улице – театр, в прошлом оба служили местом свиданий. Если прижаться головой вплотную к стене, то будет виден еще и край нашей вывески на фасаде здания. Забавно, что эта вывеска состоит из двух панелей, верхней и нижней. Она тянется вдоль всего фасада ресторана, ее поддерживают четыре стройных опоры из пламенно-оранжевого скиросского мрамора. Так она и покоится издавна на этих опорах, словно какое-то европейское пресмыкающееся. Стиль фасада напоминает работы Адольфа Лоза, но он определенно до-лозский, более неуклюжий, более провинциальный.
В отличие от окон в церквях, которые освещаются падающим снаружи светом на манер рекламных щитов, обещающих фантастическую потустороннюю жизнь, в стене позади нашей рекламной вывески имеется поперечное отверстие во всю ее длину, так что по вечерам свет из ресторана освещает вывеску и проникает на улицу. Вывеска функционирует в качестве приглушенного светового бокса. Два потолочных светильника, создающие этот эффект, регулирует гардеробщик Педерсен. Он выключает их, уходя домой на ночь.
На верхней панели матово-белым шрифтом значится «Хиллс»; надпись окружает пластина темного оникса, поверхность которого пересекают свинцовые импосты, образуя нарядный узор; в принципе это витраж из свинцового стекла. Нижняя часть представляет собой установленный наклонно бокс, витрину, на поверхности которой прямые белые, синие и красные линии образуют рамку вокруг названия, «Хиллс». Буквы сложены из кусочков стекла, где к набору цветов добавляются еще зеленый, желтый и розовый. Таким образом, название ресторана дублируется, оно указано дважды на расположенных одна над другой панелях: мы видим удвоенное «Хиллс» «Хиллс», такое вот заикание.
Примечания
1
На месте (лат.)
(обратно)2
Неискоренимая липкость (англ.)
(обратно)3
Держатель для газет (нем.)
(обратно)4
Богемные исследования (англ.)
(обратно)5
Содружества исследователей (англ.)
(обратно)6
Помолчите, не разговаривайте! (нем.)
(обратно)7
Genug (нем.) – довольно.
(обратно)8
Так положено (франц.)
(обратно)9
И все начинается заново, начинается с рандеву (итал.)
(обратно)10
Точно (англ.)
(обратно)11
Дверь в подвал (англ.)
(обратно)12
Спустись вниз… в мою подвальную дверь (англ.). Цитата из песни Forevermore Кэти Херциг.
(обратно)13
Эго организует защиты против распада эго-организации (англ.)
(обратно)14
Интересно, что пророк не смеется, увидев другого пророка (англ.)
(обратно)15
Великие кажутся нам великими, потому что мы стоим на коленях: давайте поднимемся. Прудон (англ.)
(обратно)16
Быстро (итал.)
(обратно)17
Очень живо (итал.)
(обратно)18
Живо (итал.)
(обратно)19
Жизнерадостная (нем.)
(обратно)20
В реальной жизни (англ.)
(обратно)21
Вхождение (франц.)
(обратно)

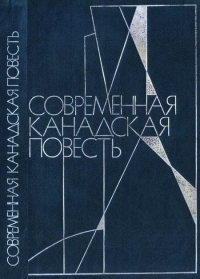

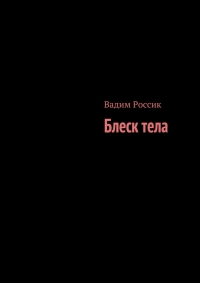






Комментарии к книге «Ресторан «Хиллс»», Матиас Фалдбаккен
Всего 0 комментариев