Изабель Пандазопулос Три девушки в ярости
Москва
Самокат
Isabelle Pandazopoulos
Trois filles en colère
Перевод с французского Дмитрия Савосина
Художественное электронное издание
Серия «Недетские книжки»
Для старшего школьного возраста
В соответствии с Федеральным законом № 436 от 29 декабря 2010 года маркируется знаком 16+
Любое использование текста и иллюстраций разрешено только с согласия издательства.
Trois filles en colère © Éditions Gallimard Jeunesse, 2017
© Д. Савосин, перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательский дом „Самокат“», 2019
* * *
Издание осуществлено в рамках Программ содействия издательскому делу при поддержке Французского института в России
Cet ouvrage a bénéfi cié du soutien des Programmes d’aide à la publication de l’Institut français de Russie
* * *
Антуану, его нутряной страсти к свободе
ϒια τον πατερα μου[1]
Für meine Mutter[2]
ПАРИЖ
Семья Лаваголейн
Сюзанна Лаваголейн, родилась в 1949 году в Берлине
Максим Лаваголейн, отец Сюзанны, богатый банкир
Ильза Лаваголейн, урождённая Мюльмейстер, мать Сюзанны
Дитер Мюльмейстер, родился в 1945 году, сын Ильзы и сводный брат Сюзанны. От неизвестного отца?
Фаншетта, экономка, служит семейству Лаваголейн всю жизнь
БЕРЛИН
Семья Мюльмейстер
Магда Мюльмейстер, родилась в 1949 году в Берлине
Карл Мюльмейстер, брат Ильзы, художник, отец Магды
Сибилла Мюльмейстер, декоратор, мать Магды
Ганс, Лотта и Хайди, брат и сёстры Магды
АФИНЫ
Семья Рунарис
Клеомена Рунарис, родилась в 1949 году в Нафплионе, в подполье
Ставрула Рунарис, мать Клеомены, участница сопротивления нацистской оккупации
Яннис Рунарис, отец Клеомены, участник сопротивления нацистской оккупации, преподаватель, политический заключённый
Мицо Рунарис, брат Клеомены
Эти письма случайно попали ко мне в руки. Они лежали на дне чемодана, старого, мятого и совершенно изношенного, — я купила его за три гроша у старьёвщика. Вместе с письмами внутри лежали несколько газетных статей, вложенных в конверты, листовки, план Берлина, карта Греции и ещё исписанные листочки, вырванные из школьных тетрадок.
Эта переписка, которая начинается в августе 1966 года и заканчивается в ноябре 1968-го, складывалась в цельную картину. Я лишь расположила всё в хронологическом порядке, позволив себе кое-где вставить кое-какие ссылки от себя, коль скоро это казалось мне уместным. Я сохранила и все сопутствовавшие этим письмам архивы — в том виде, в каком я их нашла, — учитывая, что историческая правда — штука крайне субъективная.
Период I Август — декабрь 1966 1966
Письмо 1 Сюзанна — Магде
Париж,
26 августа 1966
Моя дорогая Магда!
Три дня, как ты уехала! Три дня, а точнее — семьдесят два часа, или четыре тысячи триста двадцать минут, или двести пятьдесят девять тысяч двести секунд! Ты, зная, что каждая секунда равна тысяче лет, можешь представить, каково мне это. Я такая же чахлая и съёженная, как те нормандские яблочки, что привозит нам Фаншетта и сама потом целый год с ними возится. Не подымай очи горе, я ничуть не преувеличиваю, уж будь любезна поверить, что я в отчаянии. И отказываюсь проявлять благоразумие. Или прилично себя держать. Мне бесконечно грустно, и с какой стати скрывать это? Да, ты права, я немного слишком сгущаю, и обстоятельства так жестоки, что я ни в чём не хочу себя стеснять: с самого твоего отъезда мне хочется только плакать. Нет — ещё стонать, сердиться, вопить о несправедливости! Я злюсь на весь свет. Сегодня я встретила Франсуазу и Монику, они шли под ручку по Люксембургскому саду, по той же аллее, что и мы, когда идём в лицей. Слава богу, они меня не заметили! Иначе я не смогла бы скрыть ту ярость, какая охватывает меня всю без остатка, стоит мне увидеть двух этих кумушек! До какой же малости я скукожилась, если завидую этой паре дур?!
Скоро начнётся учебный год, и меня утешает лишь мысль, что это — последний. На будущий год я поступаю в университет и втайне надеюсь, что ты тоже будешь там вместе со мной! Объяснение мы найдём, ведь обучение в Берлине наверняка оставляет желать лучшего. Обязательно. Уже представляю нас с тобой в Сорбонне! И не отвечай с твоей серьёзной миной, что не можешь мне ничего обещать!
Ненавижу наигранное благодушие бодрячков, а ведь именно его я прочла на твоём лице, когда мы прощались у дверей дома. Ты даже слезы не пролила, держалась, словно кол проглотила, а маленький чемоданчик стоял у твоих ног. Тот самый, с которым ты пять лет назад приехала в Париж. Дрянная и древняя рухлядь, пыльная, и вся сморщенная, и такая же жёсткая, как твой отец. Он так крепко держал тебя за плечо, словно до последнего боялся, что ты откажешься с ним возвращаться. Это ж надо — так плохо тебя знать!
А мне бы так хотелось, чтобы нас отрывали друг от друга насильно, чтобы тебя швырнули на пол, а ты бы изошла страшным криком — таким же сильным, как твоя тоска оттого, что ты покидаешь этот дом, этот город и эту страну, ставшие тебе уже почти родными, разве не так?
Разве не так?
Ты не проронила ни слова, ты на меня даже не посмотрела. Так что теперь и я уже не уверена, а есть ли ты вообще… Ну что, ты наконец-то чувствуешь себя свободной? О, скажи, что тебе меня не хватает, что ты не забудешь меня… Нет-нет, скажи мне правду, главное — ничего не исправляй в своих письмах. Давай держать слово, давай рассказывать друг другу всё-всё до мельчайших подробностей, так мы не потеряемся. Ну, вроде того как теми вечерами, когда я приходила к тебе в кровать, мы лежали рядом, и смеялись, и рассказывали друг дружке всякую чепуху, пока не проваливались в тёмную пучину сна. То есть засыпала-то я. А ты всё ещё считала баранов… А теперь, в Берлине, тебе спится лучше? У тебя больше нет кошмаров?
Я смотрела, как вы с дядей Карлом уходите всё дальше, с узкого балкона комнаты Дитера. Он, брат мой, стоял рядом, но не говорил мне ни слова. Он обеими руками сжимал кованые железные перила с такой силой, что мне показалось, его вены вот-вот лопнут. Он похож на тебя — тоже держит всё в себе. Я исподтишка наблюдала за ним, он почти пугал меня. Я шепнула, что мы будем скучать по тебе. Он обдал меня презрительным взглядом, каким всегда на меня смотрит. Твой отъезд причинил ему боль, ведь вы оба были очень дружны, хотя я не представляла, что до такой степени.
Дядя Карл шагал торопливо. Ты так старалась не отставать, ты шла, опустив голову. Ох, сладкая моя, признаешься ли, о чём тогда думала? Твоего отца видно издалека. Скажу тебе уж всё, что думаю: дядю, с его безобразным телом, которому приходится прикладывать столько усилий, чтобы двигаться, я считаю очень уродливым! Знаю, что говорю не по-христиански, но у твоего отца манеры животного. Он такой молчун. У него такой мрачный взгляд. Не ври мне, я знаю — ты тоже боишься его. Помнишь, ни с того ни с сего ты вдруг становилась чересчур серьёзной и понижала голос до шёпота. Как в доме с покойником.
И, видишь ли, чемодан-то твой был тяжёлый. Неся его, ты так и норовила завалиться на сторону, а он, твой отец, даже не соизволил заметить. И уж тем более не пожелал вызвать такси, а ведь мама предлагала его оплатить. Мне невыносимо, что ты возвращаешься к такой жалкой жизни, а он отказывается от нашей помощи, уж не знаю как объяснив это… Наверное, своими жизненными принципами. Да ведь это смешно! А о твоей гордости он подумал? Что он может понять в той жизни, к которой ты уже привыкла? Решительно ничего, он даже представить себе её не способен, в этом я абсолютно уверена. В каком жалком углу он собирается вас поселить? Я знаю тебя, жаловаться ты не умеешь, ты ничего мне об этом не скажешь, но я догадаюсь сама.
Мне не нравится твой отец. Это презрение, которое сквозит во всех его движениях… Но в чём же он нас упрекает? Я уже спрашивала об этом маму, но она отвела взгляд, при этом сделав такой лёгкий жест рукой, словно вычёркивала это чувство совсем.
Стоило тебе скрыться за углом улицы, и атмосфера в доме уже не та. Сперва я подумала, что мне нечем стало дышать от моего внезапного одиночества. Но я быстро поняла другое: именно ты заставляла нас обеих держаться.
Мама теперь почти не выходит из спальни. Сегодня она даже не стала одеваться. Спустилась к обеду в длинном пеньюаре из розового и серого атласа, ничего не сказала, посмотрела мимо всех и раскритиковала всё, что Фаншетта поставила на стол. Как только папа раскрывал рот, она бросала на него пренебрежительный взгляд и дошла даже до упрёков в его адрес, когда он заговорил о погоде за окном. Я сперва подумала, что они просто поссорились. То же самое повторилось на другой вечер. Но тут уж я поняла, что всё куда серьёзнее. Папа ничего не ел. Саркастические выпады жены он воспринимал даже без возражений. Я ничего не понимала. Вот тебе и раз, а ведь летом в Сан-Рафаэле всё было хорошо.
А потом, за ужином, папа ни с того ни с сего со своей обычной иронией стал надо мной подтрунивать. Наверное, хотел переменить тему разговора. Ты же знаешь, тут вечно у всех на языке моё «озорство» в области одежды! Мою стрижку он назвал посмешищем, а платье нашёл слишком коротким. Я таким же игривым голоском парировала, что в реальной жизни девушки теперь вовсю показывают коленки и это уже никого не шокирует, кроме некоторых старых джентльменов в чёрном.
Я разозлила его, вывела из себя. Он перестал скрывать озлобленность: теперь я-де уже не так мила и того менее изящна, чтобы простить мою наглость. В моём положении лучше всего оставаться скромной и услужливой.
Никогда ещё он не был таким противным. Я просто онемела. Повернулась было к матери за поддержкой, надеясь, что она постоит за меня, возразив хоть словечком. Она побелела как мел. Но ничего не сказала!!! Просто встала и вышла из комнаты. Я заперлась у себя в спальне. Быть одной стало невыносимо. Тогда я вспомнила, как привыкла делать, когда была маленькой, и пришла на кухню к Фаншетте. У меня в глазах стояли слёзы. А она улыбнулась, увидев меня.
— Ты всех милее, — только и сказала она.
И снова повернулась к плите. От меня что-то скрывают. Как будто гроза проревела вдалеке, но не разразилась, прошла стороной.
Вот пишу тебе, а ведь мне давно время спать.
А у тебя есть своя спальня?
Нежно целую, твоя кузина
СюзаннаПисьмо 2 Карл — Ильзе
Берлин,
28 августа 1966
Дорогая Ильза!
Магда со дня на день ждёт письма от своей кузины Сюзанны. Скажи ей, чтоб посылала свои письма моему другу Францу по причинам, о которых я тебе уже говорил. Я хочу, чтобы об этом знало как можно меньше людей.
Вот наконец мы в Берлине после долгого и утомительного путешествия. Поселились в маленькой, не очень удобной квартирке, но пока что это нас очень устраивает. Твоё письмо меня весьма и весьма позабавило. Целых три страницы советов насчёт Магды — как будто речь о твоей собственной дочке, которую ты решилась доверить незнакомым и безответственным людям. Как это на тебя похоже, дорогая моя сестрица, — как ни в чём не бывало цедить свои банальности с благодушным видом и сладкой любезностью. Пять лет не видались, а ничего не изменилось. Ты всё ещё считаешь меня эгоистичным и опасным идеалистом. А меня по-прежнему огорчает, что ты жена этого спесивого банкира.
Ну, высказав всё, хочу тебя и поблагодарить за хлопоты о Магде. Она рассказала мне о вас много хорошего. И я чувствую, что в Париже она была действительно очень-очень счастлива.
Я сам перестаю узнавать свою дочурку, и это сбивает меня с толку. Как рассказать ей о тех пяти годах, что я прожил без неё? Она выросла в Париже, где все так о ней заботились, так далеко от нашего мира… Я не решаюсь поговорить с ней. Каждый день надеюсь, что она поймёт сама. Я хотел бы, чтобы со мной была её мать и мы бы обо всём ей рассказали. Так было бы лучше для всех нас. Скорее бы мы соединились по эту сторону Стены.
Давай регулярно сообщать друг другу новости. И не забывай заботиться о себе. Мне что-то показалось, ты очень плохо выглядишь.
Твой брат
КарлЗападный Берлин и Восточный Берлин
Строительство Стены, разделившей город на две части. Берлин
1961
Письмо 3 Магда — Сюзанне
Берлин,
28 сентября 1966
Моя дорогая Сюзанна!
Время бежит. Уже месяц, как я получила твоё письмо. Мне трудно отвечать тебе. Ты сама знаешь почему. Говорить о себе мне тяжело. А ещё тяжелее, если приходится о себе писать. Но я тебе обещала. Итак, вот. Я держу слово.
Пожалуйста, больше никогда не спрашивай, скучаю ли я по тебе. Это идиотизм. Я не хочу об этом думать. Я должна привыкать к своей жизни, какой бы она ни была. Так нужно. Потому что — да, конечно, мне тебя очень не хватает. Очень-очень.
Ты права. Мой отец странный. Например, когда мы идём по улице, он то и дело озирается, будто что-то выпало у него из кармана. Возвращаясь домой, всегда выбирает окольные пути. Если я о чём-то спрашиваю, он никогда не отвечает мне прямо. И я больше ни о чём не спрашиваю. Особенно когда мы внутри, в квартире. Он подносит к губам палец и возводит глаза кверху, чтобы я поняла: нужно помалкивать. Каждый вечер запирает дверь на два оборота и сто раз проверит, надёжно ли запер. Всё время повторяет, что я не должна доверять людям, которые хотят подружиться со мной в лицее, а особенно если они начинают расспрашивать, откуда я приехала и почему вернулась в Берлин… Короче, всё так, будто мы в какой-то опасности.
В конце концов я так у него и спросила. Он просто пожал плечами. Не знаю, что это за ответ такой. Пробормотал, что сожалеет, но мне же лучше, если я ничего не буду знать.
— Это чтобы тебя защитить…
— Но от чего? — спросила я.
— От Штази. Политической полиции восточной части Германии. От тех, кто нас сажал…
— А я-то думала, что ты свободен и скоро мама с Лоттой, Гансом и Хайди тоже будут с нами. Ты ведь именно так говорил мне в поезде?
Оставил без ответа. Я настаивала:
— Это так или не так?
— Ну, так.
— А что изменилось?
— Не знаю.
Я махнула рукой. Пошла спать. Заснула. Проснулась. Вокруг непроглядная ночь. Мне хотелось пить. Я встала. Его не было. Я немного подождала. Наконец выглянула на лестничную клетку. Пусто. А потом дверь тех соседей, что напротив, приоткрылась, и появился мой отец — он благодарил их. Он заходил от них позвонить.
Всё это выглядело странно. Я проскользнула к себе. Утром не обмолвилась ни словом о том, что видела. Я прекратила задавать ему вопросы.
Мне страшно. Я должна доверять ему. Я должна терпеть. В конце концов я пойму.
Трудно принять то, что со мной происходит. Возвращаясь в Берлин, я думала, что память ко мне вернётся. Теперь уже не надеюсь. Я всё ещё не знаю, что произошло тогда, в августе 1961 года, когда возвели Стену. Ни как, ни почему я оказалась совсем одна на западе, по другую сторону Стены. Это выматывает меня.
Мы живём в двух маленьких комнатах, которые сдаёт нам Франц, старый друг. Папа говорит, что это временное размещение. Оно как раз такое печальное и тёмное, как ты и предвидела. Нам ничего не принадлежит. Никакого воспоминания. Ни единого следа из нашего прошлого. Как будто два беглых преступника. Одна радость — когда мы едим. Папа в восторге от того, что сам здесь ходит по магазинам. Говорят, там, по другую сторону, всего не хватает.
Я начала учиться. В гимназии имени Готфрида Келлера в квартале Шарлоттенбург[3]. Это большое здание из красного кирпича. Каждое утро я прохожу через парк при замке, вспоминая наш Люксембургский сад.
Классы здесь смешанные. Но это, в конце концов, мало что меняет. Или я просто слишком робкая. Или слишком недоверчивая. У меня не получается общение со сверстниками. Зато я обожаю гимнастику. Станки для тренировок тут современные. Училка очень молодая. Она подбадривает меня. Когда я кручусь на турнике, мне кажется, что я вот-вот превращусь в вертящийся диск, и это мне очень нравится.
Однажды я невольно слишком этим увлеклась. За мной, застыв, следил весь класс. Все захлопали в ладоши. Я покраснела. Ничего не сказала. Очень быстро выскочила вон, не поднимая глаз. Но мне было ужасно приятно.
Ну вот, Сюзанна. А тебе, должно быть, предстоит возвращение в лицей Сент-Клотильд. У тебя там молодая училка с жирными волосами или старая, в шерстяных чулках?
Рассказывай мне обо всём. Мне приятно слышать от тебя любую деталь.
Тысяча поцелуев,
МагдаПисьмо 4 Сюзанна — Магде
Париж,
5 октября 1966
Моя училка старая и в шерстяных чулках, очень-очень старая училка в ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ серых шерстяных чулках. И она ещё хуже, чем кажется на первый взгляд, — всегда немного тряпка, и блёклая, и печальная, и медлительная, как будто, всю жизнь повторяя одно и то же, в одинаковом порядке, одинаковым бесцветным голосом, она превратилась в конце концов в собственную тень. НУ ДО ТОГО СКУЧНАЯ, ЧТО УМЕРЕТЬ МОЖНО!!!!!
Читая твоё письмо, я плакала. Но ты права, говорить это без толку. Я постараюсь быть достойной тебя. (Но всё-таки я их НЕНАВИЖУ, и считаю это НЕСПРАВЕДЛИВЫМ, и хотела бы помочь тебе, но не могу, вот что ХУЖЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ!!!!!)
Здесь, как ты знаешь, ничего не меняется. Я занимаюсь в том же классе, что и в прошлом году, вместе с той же компанией девочек в белых гольфах и аккуратных воротничках, с большим золотым крестом как знаком первого причастия, что так мило пристроился на их девственной груди. Они всегда в одинаковом настроении, вечно послушны и приветливы, когда рассаживаются за партами, и если хоть немного скучают, подобно мне, то стараются этого не показывать. А потому все они унылые уродины! Это я уж слишком, да?
Что ж, да, пожалуй, слишком: они милы, прилежны, хорошо воспитаны и абсолютно согласны со всем, чему их учат. УЖАС!!!!!
Я снова видела Рикардо!! А ведь поклялась больше никогда с ним не встречаться. Думала, что забуду его так же быстро, как забыла Бертрана, Алена и Патрика, но, Магда, с тех пор как ты уехала, мне так тоскливо!
Идя к нему на свидание, я надела тёмно-синее платье (твоё любимое, которое папа называет слишком мрачным, а мама — слишком коротким). Едва заметив его, я поняла: это была ошибка. Всё, что мне нравилось, — его уверенность в себе, его хулиганские повадки, его красивая красная «Веспа» — всё это исчезло.
Он подошёл ко мне, и я бросилась в его объятия. Мы обнимались так, будто только что избежали беды. Он прошептал нежные слова, которые я не осмеливаюсь тебе передать, мягко отвёл волосы с моего лица, а потом так и вперился в меня взглядом, рассыпаясь в пламенных уверениях. Он говорил, что по мне тоскует, что я стала настоящим наваждением, он не может забыть мою мягкую кожу, мои губы, мечтает увидеть меня голой… И это желание так сильно, что не даёт ему спать.
Ещё никогда мною не был так увлечён ни один мальчик. Меня совершенно околдовал этот потоп чувств и всё более и более настойчивых ласк. Я была околдована, но не теряла головы. Я будто видела всё со стороны. Может быть, чтобы заставить себя пасть, мне не хватало звёзд в небе и шума морского прибоя. Он нравился мне, он меня волновал, и это было так вкусно — чувствовать, как его губы прикасаются к моим. Но другая часть меня отказывалась отпустить тормоза. Я сказала ему, что не знаю, что всё это слишком скоро и мне требуется время.
У него был разочарованный вид. А потом — раздражённый. И наконец он рассердился. Он считал, что мы вместе уже достаточно долго, что он и без того был терпеливым и, честно, он не подсаживается на капризных и неопытных девчонок. Повернулся и ушёл. А я осталась одна на скамейке, как дура. Стоило ему свернуть за угол, как я уже пожалела о том, что ему сказала. Ну конечно, я тоже его хотела, ну конечно, моё тело трепетало от его прикосновений. Почему же я не смогла сказать «да», просто «да», и всё?!!! Я ведь так хотела, чтобы ЭТО со мной произошло…
И тогда я ему позвонила. Я назначила ему свидание той же ночью на площади Фюрстенберг[4], после полуночи. Он, кажется, был рад. Прежде чем повесить трубку, мы наговорили друг другу кучу нежностей.
И вот 23 часа…
Я собираюсь тайком спуститься по чёрной лестнице, чтобы уйти незаметно. Так чудесно наконец выйти в настоящую жизнь! На улице свежо, на мостовую капает лёгкий и тонкий дождик, и я уже представляю себе…
Я выбрала площадь Фюрстенберг, потому что она кажется мне очень романтичной. Только она и высвечивает моего Рикардо в каком-то ином измерении. Уверена, что ночь довершит остальное…
Ну, я побежала… Письмо оставляю как есть, незаконченным, а вернувшись, расскажу тебе, как будто ты здесь и ждёшь меня в нашей спальне. Как будто ты и не уезжала вовсе…
Та же — той же Позднее
Я туда не пошла!..
Думаю, что больше не посмею ему позвонить. Понимаешь сама, что он не поверит мне, если я скажу, что это не моя вина. Ну и ладно!..
Как мне хочется, чтобы ты была здесь. Сейчас почти четыре утра. Мне так и не удалось заснуть. Я не знаю, как тебе кое о чём рассказать. Узнай мои родители только, что я рассказываю тебе обо всём, что не должно выходить за пределы их спальни, — страшно представить себе, как бы они рассердились.
Мама беременна. Ей тридцать девять. Она не хочет ребёнка. Решила избавиться от него. Папа против. Он говорит: ребёнок — это всегда благословение Господне. Он отказывается отпустить её в Швейцарию. Потому что убивать ребёнка — это против его самых глубоких убеждений и, разумеется, его веры. Они наговорили друг другу ужасных гадостей, не хочу даже их повторять тебе. Но думаю, что мама по-настоящему несчастна, а папа ведёт себя так, будто всё, что она говорит, не имеет значения. Потом я пришла повидать Фаншетту. Она шила, как и каждый вечер, и слушала радио, тихонько потрескивавшее рядом с ней. Знаком показала мне: входи. И, ни слова не говоря, вскипятила для меня горячего молока с мёдом, как делала, когда я была маленькой.
— Ты знала, что она, то есть мама, ждёт ребёнка? — наконец не выдержала я.
Она кивнула. И сразу опустила глаза к своему шитью.
— А что у отца есть любовница, ты тоже знала?
Она и глазом не моргнула. Ну ещё бы! Ты знаешь её — уж она-то никогда не скажет о папе ничего плохого: во-первых, потому что он мужчина, а во-вторых, он ведь сын бабушки, а её она так боится.
Я чувствую себя маленькой дурочкой!
Начинается новый день, сырой, серый. Запах опавших листьев поднимается прямо к моей спальне, и мне хочется плакать. Но я не заплачу, нет. У меня чувство, будто весь мир затопила ночь и меня некому утешить.
Ответь побыстрее,
СюзаннаПисьмо 5 Магда — Сюзанне
Берлин,
10 октября 66
Моя Сюзанна!
Твоё длинное письмо получено. Спасибо. Отвечаю сразу же. Только вот не знаю, что сказать. Мне больно представлять, как ссорятся дядя Максим и тётя Ильза. Это они-то, никогда не повышавшие голоса друг на друга! Тебе не стоит осуждать их. То, что ты подслушала, тебя не касается. Ты слишком любопытная. Даже если тебя рассердит то, что я говорю, — ты сама знаешь, что я права… Да я и уверена, всё у них уладится.
В Берлине всё спокойно. Тихо. Соблюдается порядок. Когда мне хочется о чём-то спросить папу, я кусаю губы. Или щиплю себя за ладошку. Бывает, что и до синяков. Я жду. И сейчас, сама видишь, мне нечего рассказать. Не беспокойся. Мне хорошо.
Обнимаю тебя,
твоя МагдаP. S. Я перечитала своё письмо. И едва удержалась, чтобы не порвать его. От него никому никакой пользы нет. И я действительно совсем не знаю, что ещё сказать. Я много думаю о тебе. И даже если мы вдали друг от друга, то, что происходит с тобой, происходит и со мной.
P. P. S. Ах да! Я же забыла про Рикардо! Тебе лучше бы подождать, пока он проявится сам. Или вообще не встречаться с такими болванами. Вспомни сама, как этим летом в Сан-Рафаэле он напился вдрызг, когда Анкетиль продул «Тур де Франс»!
Письмо 6 Клеомена — Мицо
Афины,
2 октября 1966
Мой дорогой брат!
Я уже неделю как приехала в Афины и устроилась на улице Мьяули у Эвридики. Вот выкроила немного времени написать тебе. Кажется, впервые на пять минут присела. Сегодня субботний вечер. Все немного пьяны. Пока они спят (а как храпят), я сбежала, чтобы порадовать тебя парой слов.
Меня пока терпят под кровом этого дома, потому что у меня с собой оставалось немножечко денег. Но я прекрасно понимаю, что это временно. При первой возможности меня вышвырнут. Папино имя вселяет ужас.
Думаешь, настанет такой день, когда мы перестанем скрываться? Думаешь, придёт такой день, когда в Греции станет можно быть коммунистом, не рискуя попасть на виселицу?
Ох, Мицо, как же мне не хватает вас обоих! Засыпая, я каждую ночь всё представляю силуэт мамы на набережной Мицулини и как она всё стояла там, пока корабль не исчез за горизонтом. Так мало надежд на то, что мы все ещё увидимся, пока живы, так мало надежд, что мы все ещё соберёмся за общей трапезой. И разве эти идеи, которым папа посвятил всю свою жизнь, стоят такой жертвы?
Но я по-прежнему верю. И жду тебя. А раз ты задерживаешься, я делаю то самое, что мы планировали и что меня ободряет. Я разыскала посольство Франции и хочу наведаться туда, когда смогу хоть немного помыться. Уверена, что выкручусь. У меня есть уголок, где спать, есть кусочек хлеба каждый день и ещё те деньги, что мы зашили в подкладку моего чемодана. Ну, и чего ещё желать, больше мне ничего не надо.
Эвридика расспрашивала меня, как умер папа. Я сказала ей, что он почил в мире. Она покачала головой, не поверив, а потом перекрестилась, бормоча молитву. Мы ни словом не обмолвились о Макронисосе[5]. Она не хочет знать. А может, и знает, ведь видела же, как другие парни возвращаются после депортации.
Как тяжело всё это вынести, правда ведь, ты тоже так думаешь?
Напиши мне, какие новости в Фессалониках. Надеюсь, ты нашёл работу и всё у тебя хорошо. Удалось ли поступить в университет? Мне хотелось бы знать программу твоих занятий. А то уже скучновато заниматься с детьми Эвридики.
Ответь поскорей!
КлеоменаПисьмо 7 Клеомена — своей матери Ставруле
Афины,
9 ноября 1966
Мама, я соскучилась. Не надо бы мне писать тебе этого, но стоит о тебе подумать, и наворачиваются слёзы. Бывает, что я иду по улице, и вдруг что-то тревожит меня без видимых причин. Я роюсь в карманах, как будто забыла ключи от дома, шарахаюсь от теней, и в конце концов до меня доходит: у меня больше нет ключей, у меня нет больше дома. Ветер здесь потеплее, солнце побледнее, оно не умеет палить так, как палит в Пломари, в деревне, где я выросла. Там. Там, где солнце и ветер выбивают силы и прожигают до костей.
А так — всё хорошо. Мне удалось найти работу. Я явилась в посольство, как мы и договаривались. Жак Фонтен говорил со мной добрых четверть часа, у него было время проверить моё знание французского. Его удивила моя образованность. И я с гордостью ответила, что меня всему научили вы.
Мой хозяин, Клод Бюссьер, — преподаватель французского лицея в Афинах. Он приехал в этом сентябре вместе с женой и тремя детьми. Ему нужна была репетиторша для занятий с его потомством. Но при этом ещё и молодая особа, которая следила бы за порядком в доме, готовила еду и иногда ходила за покупками. Я, как ни в чём не бывало, с улыбкой сказала, что этого слишком много для «маленькой подработки». Посол был смущён. Мы оба знали, что отказываться в моём положении нельзя. Он пообещал регулярно интересоваться, как мои дела, чтобы увериться, что со мной всё хорошо и тут не пользуются моим положением. Я уверена, что он так и будет делать и я могу ему довериться.
В первый день мои хозяева были очаровательны. Моя спальня на одной лестничной площадке с их квартирой. Это маленький чулан с крошечным оконцем, выходящим в узкий неосвещённый дворик. Даже если я выверну шею, неба всё равно не видно.
Мадам Арманда (она хочет, чтобы я звала её именно так) была поистине счастлива доверить мне своих детей. Она наконец смогла вздохнуть, выйти, купить побрякушки, сходить к парикмахеру и сделать маникюр, устроить себе сиесту и просмотреть журналы, присланные из Парижа. Семья подписана на «Фигаро» и «Дом и сады», и она вдумчиво читает их, отмечая что-то для себя.
Но как быстро всё это испортилось! Она всё требовательнее. Её может рассердить сущий пустяк, и притом ни с того ни с сего, — тогда она принимается кричать и угрожать мне. Она считает меня слишком красивой. Так не может продолжаться долго, ей надо подыскать кого-нибудь другого…
И так каждый раз, снова-здорово, а я боюсь потерять работу… И при этом я прекрасно вижу, что она никого больше не ищет.
Вот, дорогая мама, ты знаешь всё. Мицо сказал мне, что его дела продвигаются и он рассчитывает приехать проведать меня к Рождеству. Когда он будет здесь, я попрошу несколько дней отпуска. Может быть, когда хозяева увидят моего старшего брата, они перестанут считать, что я в мире одна-одинёшенька и всецело завишу от их доброй воли.
С нетерпением жду следующего года. Наверное, постараюсь отложить немного про запас, чтобы прожить одной и поступить в университет, как мы и планировали.
Любящая тебя, твоя дочь
КлеоменаПисьмо 8 Фаншетта — сестре
15 ноября 1966
Жаннина, появления младенца ожидают в феврале. Будет нужна кормилица. Не можешь ли ты снова кого-нибудь найти? Тут всё слава богу. А как у вас? Крепко обними за меня мать. И всё своё семейство тоже.
Моя Сюзанна — настоящая маленькая женщина. Боюсь, как бы не пошла по дурной дорожке. Я-то вижу, а никому невдомёк. Ну поглядим.
Скорее напиши мне насчёт кормилицы для будущего малыша. Точно говорю, мальчик будет.
ФаншеттаПисьмо 9 Сюзанна — Магде
Париж,
1 декабря 1966
Господи, Магда, как же меня разозлило твоё последнее письмо!!! Его как будто написала старуха 99 с половиной лет! Нет, у меня всё наперекор твоим советам — я предпочитаю знать, что происходит с моими родителями. Хуже всего притворяться. Атмосфера чудовищная. Я не преувеличиваю. Мама ужасающе несчастна. Я не знаю, чем ей помочь. Поэтому я убегаю. Из дома, от матери и отца, от всей этой скверной ругани! И чистая правда, что лучше быть вне всего этого!!!
«Вне?» — удивлённо спросишь ты.
Да!
«Но где же?» (Ты всё больше удивляешься!?!)
Послушай-ка дальше…
Primo. Я действительно больше не хожу в лицей (письма оттуда мне удаётся перехватить благодаря Фаншетте, которая каждое утро грозится меня выдать, но не делает этого — думаю, просто боится, что, узнав о наделанных мною глупостях, меня отправят в пансион… и я подогреваю в ней эти страхи, даже понимая, до какой степени всем плевать, что из меня выйдет без диплома) (чего вовсе не случилось бы, будь я мальчиком) (и не так богата) (баста, хватит скобок).
Deuzio. Я тут очень сблизилась с Моникой. Знаю, ты считаешь её вульгарной и даже немножко легкомысленной. Ты не ошибаешься. Но именно это меня и возбуждает. Нет смысла говорить тебе, что у неё уже кое-что было в жизни. Иногда у входа в лицей её поджидают мужчины в машинах. Вчера это был «альфа ромео спайдер» апельсинового цвета и с откинутым верхом. И пусть даже парень, к которому она села, был немного пузат… волосат… губаст… мордаст… жирный и всё такое, я сама с удовольствием прыгнула бы к нему в автомобиль, чтобы прокатиться на большой скорости. Уверена, что это опьяняет до безумия. Вот этого я и хочу — и опасного, и напрасного. Я словно вижу сейчас твою гримаску (что, начинаешь понимать, а?). Уверена, что ты мне немного завидуешь. А если это и не так, то должно быть так, ибо жизнь, которую я открываю для себя по ночам, — она…
ЭКС-ТРА-ОР-ДИ-НАР-НА!!!
По ночам? Да, по ночам!
Terzio. Каждый вечер я соскальзываю по чёрной лестнице и потом бегу, несусь, а лучше сказать — улетаю к «Гольф-Друо». Помнишь зал, куда мы с тобой мечтали сходить послушать Джонни с того самого раза в июне с Дитером? Но больше так никогда и не получили на это разрешения после той истории (впрочем, не знаю, история ли это) (ну люблю я скобки и не пойму, почему должна их избегать! И многоточия люблю, и восклицательные знаки…!!! Я решила больше ни в чём себе не отказывать!!!..!!!).
Я ночи напролёт танцую, Магда, я пью, я курю, потом прыгаю в первый поезд метро и возвращаюсь домой, когда все ещё спят. Какие глупости отравляли нам жизнь! Если б ты знала, до чего бессмысленно слушать всех этих ворчунов, мешающих нам жить! Какой скукой веет от них от всех! И как мне жаль, что тебя уже тут нет, а то пошла бы со мной. И не говори, что отказалась бы, — всё равно не поверю!!!
Ты любишь танцевать, как и я, так и нечего строить из себя послушную девочку — я-то знаю, что ты не такая.
Напрасно пыталась я придумать, что бы такое ты могла мне сказать, чтобы убедить меня не уходить больше, — ничто не в силах убедить меня. И совесть меня не мучает. Наш дом — театральная декорация, он из папье-маше, тут лишь прикидываются ради маленьких девочек и старых дам, а вся настоящая жизнь проходит за кулисами. Я больше не верю в их сказочки, не хочу больше жить прекрасными мечтаниями. Для меня пришло время прыжка в пустоту, не зажмуриваясь, и если это больно — что ж, переживём.
Подписано
Сюзанна отважнаяP. S. Один парень по имени Боб учит меня новым движениям рок-н-ролла. Мы с ним производим сильное впечатление каждый вечер в «Гольфе». Он зовёт меня «моя акробатка». Ему 27 лет. Очень красивый, но предпочитает мальчиков.
Дневник Сюзанны
Письмо 10 Ильза — Сибилле
Париж,
11 ноября 66
Моя дорогая Сибилла!
Вот уже пять лет я мечтаю написать тебе это письмо! Я сейчас вышлю его Карлу в заклеенном конверте. Он отдаст его тебе, когда ты перейдёшь через эту чёртову Стену. Надеюсь, что эти несколько слов хоть чуть-чуть заменят тебе меня.
В 61-м, когда я приехала за Магдой в Берлин, чтобы забрать её в Париж, я начала вести дневник, рассчитывая отдать его тебе тогда же, когда ты получишь обратно свою дочь. Я мечтала рассказывать тебе понемногу про те годы, что ты проведёшь в разлуке с ней. Но в конце концов отказалась от этой мысли. Думаю, это лучше бы сделать Магде.
Магда стала скромной молодой женщиной, она неразговорчива и никогда ни на что не жалуется. Послушать её, так у неё всегда всё хорошо. Даже если это неправда. Так хорошо, что иногда возникает немного странное впечатление, будто она вообще ничего не чувствует. От всего сердца желаю, чтобы, встретившись с тобой после разлуки, она наконец вновь обрела некоторые воспоминания детства. Я по-прежнему не могу понять, как ей удалось перенести все эти страдания и не сломаться. Это ведь трудно, ты знаешь…
Я вспоминаю день, кода приехала за ней в Берлин, — ровно три месяца спустя после возведения Стены. Все тогда были уверены, что это ненадолго. «Die Mauer kann uns nicht trennen»[6] — писали тогда на транспарантах. И было видно, что сами в это верят, а потому верила и я тоже, и это была правда, Стена не в силах была никого разлучить.
Этому скоро конец — как они были уверены! И вот уже пять лет! Пять лет, я едва осмеливаюсь поверить. И, боюсь, ещё надолго.
Сколько времени мы думали, что всех вас потеряли!
Максим пытался связаться с вами, с тех пор как нам доверили Магду. Тщетно. Коммунистические власти давали нам понять, что вы исчезли окончательно, пропали без вести. В 1963-м они же вдруг стали убеждать нас, что все вы сбежали на Запад. Потом — что все вы умерли. Но Максим вступил в борьбу со всей этой несуразицей. Он всегда был уверен, что вы живы. Ты знаешь, какой у него упрямый и горячий характер. В этом плане он не изменился. Это помогло нам перенести такую долгую неопределённость. И даже если это и было ужасно, я считаю всё смехотворным по сравнению с тем, через что пришлось пройти вам. Я даже не представляла себе, что за вами так внимательно следят, прослушивают, и уж совсем не предполагала, ни единой секунды, что вас бросят в тюрьму. Карл намёками объяснил мне причины, сказал, что за ним, несомненно, до сих пор шпионят и мне надо быть осторожной, а мы ещё поговорим об этом, когда встретимся. Как же я жду этой встречи!
Должно быть, тебе хочется узнать, что я делала все эти пять лет. Мне нечего или почти нечего ответить. Я воспитывала детей. Я ухаживала за Магдой. Я переходила от одного обеда в городе к другому, из одного концертного зала в другой и с виллы в Сен-Рафаэле в замок в Базоле. Ах да! Как же я забыла! Я заново обставила нашу парижскую квартиру. Разве это не похоже на счастье? Это та самая жизнь, о которой я мечтала. Обеспеченная, комфортабельная и беззаботная. Мне за неё не стыдно. Но горло перехватывает каждый раз, когда я об этом думаю, и вот уж некоторое время я просыпаюсь в слезах. Это так смешно. А ещё смешнее забеременеть — в моём-то возрасте. В этом году, Сибилла, мне стукнет 39, и я больше не хочу детей. Да я, кстати сказать, не хочу больше вообще ничего, и, даже если врач убеждает меня, что все чёрные мысли вызваны моим положением, я-то хорошо знаю, что болезнь глубже. Я не хочу этого ребёнка. Я слишком стара. И слишком часто остаюсь одна в этой огромной квартире, где мне немного тоскливо. Максим иногда не приходит сюда ночевать. Ты знаешь, как он всегда любил женщин. И сейчас, думаю, он сильно влюблён.
За эти месяцы я растолстела, подурнела, еле хожу… Очень страшно чувствовать, как ребёнок формируется вопреки мне самой. Максим уверен, что это у меня пройдёт. Наверное, он воображает, что пустоту заполнит младенец. Но он ошибается. Я не хочу этого ребёнка. И впервые в жизни завидую той, другой, что пробуждает в нём мечты и, должно быть, моложе, свежее, веселей меня.
Возвращайся скорее, дорогая Сибилла! Ведь ты единственная, кому я могу довериться.
ИльзаПисьмо 11 Дельфина Лаваголейн — Ильзе
Париж,
2 декабря 1966
Дорогая Ильза!
Я решила взяться за перо, поскольку вы отказываетесь приехать к нам в гости и, как я только что узнала, не хотите праздновать Рождество в этом году в замке, в Базоле, хотя за тридцать лет это уже вошло в обычай. Я знаю, что вы весьма сердиты на Максима, который, несомненно, не слишком хорошо с вами поступает. Но я его неплохо знаю — в конце концов, он мой сын! — чтобы торжественно подтвердить вам, что он безумно любит вас — и тем больше любит, что вы носите его дитя.
Ваши планы отправиться в Берлин абсолютно безрассудны, а с учётом вашего положения это всё просто немыслимо.
Мы с вами не очень-то любим друг друга. И всё же позвольте мне сделать вам признание, которое не преминет удивить вас. Будь у меня выбор, я не стала бы иметь детей. Даже сейчас вид беременной женщины вызывает у меня непреодолимое отвращение. Материнство — кабала, какой ни один мужчина не в силах даже вообразить. Но скажем честно, моя дорогая невестка: если ребёнок — мальчик, он гарантирует вам пусть не присутствие даже, но хотя бы постоянную поддержку мужчины, который, несомненно, в конце концов оставил бы вас ради другой — той, что родит ему сына.
Итак, жду вас, дорогая Ильза, на наши праздники. Как и каждый год.
Искренне ваша,
Дельфина ЛаваголейнПисьмо 12 Магда — Сюзанне
Берлин,
14 декабря 1966
Я люблю читать твои письма. Даже когда ты обзываешь меня старухой. А впрочем, честно говоря, я считаю, что ты поднимаешь такой шум, только чтобы скрыть собственную неискренность, ведь ты вполне сознательно следуешь моим советам.
Во-первых, ты не виделась больше с Рикардо и больше о нём не упоминаешь.
Во-вторых, ты предоставляешь родителям самим решать свои проблемы и развлекаешься на полную катушку.
И что?
И что, я ведь была права…
Мне доставляет большое удовольствие представлять, как ты танцуешь. Станцуй для меня. В ожидании дней побезоблачнее.
…
Здесь много всякого произошло.
Я начала каждый день записывать мысли в тетрадочку. Обо всём и ни о чём. Заставляю себя. Мне нужно научиться. Но чем чаще и больше пишу, тем становится легче.
Это письмо будет не таким длинным, как твои. Я ещё не умею наводить мосты между днями. Ну, да ты сама увидишь. Для этого ведь нужно постараться.
6 декабряНа День святого Николая принесли ёлку. Она слишком большая для нашей квартиры. И ещё слишком тощая. Кроме того, верхушка спилена. Украшений у нас немного, потому что это всё-таки дороговато. Но она каждый вечер мерцает. Я испекла песочное печенье с миндалём и мёдом.
Мы с папой изо всех сил заставляли себя выглядеть весёлыми. И нам это почти удавалось.
…
7 декабряОднажды папа дождался меня у выхода из лицея. Я думаю, ему оттуда позвонили. Забеспокоились, потому что я ни с кем не разговариваю.
В тот четверг мы бродили по Берлину. И все последующие дни тоже. Он берёт меня за руку. Мы идём, опустив головы, мы в вязаных шапочках и кутаемся в шарфы. Снег хрустит под ногами. Город совсем тих. Это уже привычно. Сперва мы идём через Тиргартен[7], громадный парк в добром часе ходьбы от лицея. Выбираем путь, чтобы продлить прогулку. Надо идти вдоль берега Шпрее. Я люблю эту речку. Она более дикая, чем Сена, очень извилистая, то широка и глубока, а то вдруг совсем узенькая. Излучины у неё крупные, она то спускается, то снова поднимается и вдруг разделяется на два притока. И теперь уж, куда ни пойдёшь, везде выйдешь к ней. Или она течёт рядом с твоей дорогой. И потом перейти через неё, чтобы чуть подальше увидеть опять, там, где у течения другая скорость, у воды другой оттенок, а на берегу иногда видны огромные деревья.
Если я, случается, и начинаю иногда чувствовать себя в Берлине как дома, то лишь благодаря этой её странной манере течь извиваясь. Как будто время, текущее мимо, не имеет значения.
Вот так часами бродить с папой — можно вообще забыть, зачем мы оба здесь, и плевать на жгучий мороз. И вдруг повернули на другую улицу — и взгляд натыкается на Стену. Сторожевые вышки. Часовые. Маршируют туда-сюда. С оружием наизготовку. Натянутые поводки собак. Шпрее течёт по другую сторону Стены. Там, где нас больше нет.
…
9 декабряПапа застыл как вкопанный: перед нами был вход на мост Обербаумбрюкке[8]. Мы не произнесли ни слова. Я просто ждала. Кусала губы от нетерпения. Его взгляд был прикован к кончикам ботинок. Это было мучительно.
— Ты вернулся здесь? — наконец не выдержала я.
— Нет, здесь прошла тётя Ильза в 63-м, когда приехала за нами. Они сказали ей, что никого из нас не осталось в живых.
От наступившего молчания у меня снова перехватило горло.
…
11 декабряЭто было на уик-энд.
Мы рано встали и проходили почти весь день. Субботний вечер — стоя перекусили в «Стех-кафе» сосиской с карри, eine Currywurst…[9]
Ко мне вернулось первое воспоминание.
Не образы. Не истории. Только ощущения.
Я, съёжившись, прижалась к кому-то, вокруг много людей, я слышу их голоса, смех, все довольны, голос папы, запах пива, чьи-то ноги приплясывают по полу в такт, потому что холодно.
Зимой в Берлине всегда очень холодно. Я ничего ему не сказала. Сохранила ощущение про себя, будто должна защитить его от внешнего мира. Я ему улыбнулась.
Думаю, он хочет мягко подвести меня к моим детским воспоминаниям. Буду очень стараться. Мало-помалу я, быть может, смогу прорвать пелену тумана. Он идёт рядом. Это хорошо.
…
Я лучше понимаю его молчание. Вчера вечером он с таким напряжённым лицом, так тяжело подыскивал слова, что в конце концов потерял их, так ничего и не сказав. Я просунула свою руку в его.
— Ну же, пожалуйста, скажи мне!
Это ещё больно.
Моя старшая сестра, дорогая моя Лотта, умерла. Она была рядом со мной, когда проходили через Стену. Наверное, тянула меня за собой. Может быть, она запаниковала. Неизвестно. Я знаю только, что она упала. И умерла.
Вот что мне рассказал папа. Тем летом 61-го года мы с Лоттой были в Берлине. Ей предстояло готовиться к устному экзамену на бакалавриат, после того как она сдала письменный в июне. Вся остальная семья была на острове Рюген[10], потому что родилась Хайди и маме был необходим отдых. Когда они узнали, что в ночь с субботы на воскресенье возведена Стена, то пришли в ужас, пытались получить от нас хоть какую-то весточку. Они вернулись и никого в доме не нашли. На столике Лотты ещё горела ночная лампа. Все наши пожитки были на месте.
Они ничего не поняли. Подумали, что произошёл несчастный случай. Разыскивали нас в больницах. Дни шли за днями, и вот их стали терзать сомнения. Лотта раньше постоянно пропадала в западной части города — она ходила туда в лицей. Она обожала английский и хорошо успевала по философии. Не потому ли она так внезапно решилась сбежать на Запад, что поняла — здесь ей никогда не выучиться тому, о чём мечталось? А ведь её едва не приняли. Папа говорил о ней с яростью. По какому праву она втравила меня в это безумие? Слышать такое было тем невообразимее, что она всегда и всего боялась. Он сказал, что это была скромная девочка, немного полноватая и неуклюжая.
…
У меня в голове вертится столько вопросов. Зачем я захотела бежать с моей старшей сестрой в Берлин? Мне было 12 лет, а ей 17! Сама ли я этого захотела? Может быть, она? А что, если во мне-то и было всё дело?
…
Мне бы так хотелось вспомнить.
…
Вместе с письмом ты получишь мой подарок на Рождество. Это шарф, я сама его связала. Не смейся, так ведь и есть: иногда мне 99 лет с половиной. Но если вправду, то каждая петелька твоего шарфа — способ сделать хоть что-нибудь для тебя, чтобы ты носила это на себе.
Цвет зелёного миндаля очень пойдёт тебе. Кажется, в Париже очень холодно в этом году.
Поцелуй за меня всю семью. Даже твою бабушку Дельфину. И покрепче обними Фаншетту. Её мне тоже не хватает. Её яблок и горячего шоколада. Передай ей, что мои песочные пирожные куда хуже, чем её. Как думаешь, она пришлёт мне рецепт своих?
Это Рождество без тебя получится грустным. Да здравствует ближайшее лето. Обещаю тебе, что приеду.
От стен никакого толка. Берлин
1961
СПИСОК ЖЕРТВ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ (1961–1966)
1961 22 августа: Ида Сейкманн (58 лет): убита при попытке пересечь границу вплавь 24 августа: Гюнтер Литфин (24 года): убит при попытке пересечь границу вплавь 29 августа: Роланд Хофф (27 лет): убит при попытке пересечь границу вплавь 17 сентября: Рудольф Урбан (47 лет): умер в больнице после прыжка из окна своей квартиры на границе (Бернауэрштрассе[11]) 26 сентября: Ольга Сеглер (80 лет): умерла в больнице после прыжка из окна из своей квартиры на границе (Бернауэрштрассе) 4 октября: Бернд Люнзер (22 года): упал с крыши (Бернауэрштрассе) 5 октября: Убо Дюллик (25 лет): утонул в Шпрее 14 октября: Вернер Пробст (25 лет): убит при попытке переплыть Шпрее 26 ноября: Лотар Лехманн (19 лет): утонул при попытке пересечь границу вплавь 9 декабря: Дитер Вольфарт (20 лет): проводник, убит за помощь другим в переходе границы 10 декабря: Инго Крюгер (21 год): утонул в Шпрее 19 декабря: Георг Фельдхан (20 лет): дезертир из армии Восточной Германии, утонул в Шпрее 1962 19 февраля: Дорит Шмиль (20 лет): убита (первая женщина, убитая охранниками при попытке перейти Стену) 27 марта: Хайнц Йерша (24 года): проводник, убит, пока помогал другому перейти границу апрель: Фильпп Хельд (19 лет): утонул в Шпрее 18 апреля: Клаус Брюске (23 года): попытался переехать через границу в кузове грузовика, перевозившего песок и строительный мусор; умер, придавленный этим грузом, когда грузовик разбился 18 апреля: Петер Бёме (19 лет): солдат-дезертир, убит после того, как сам убил солдата Юргена Шмидтхена 29 апреля: Хорст Франк (19 лет): убит 27 мая: Лютц Хаберландт (24 года): убит 5 июня: Аксель Хейнеманн (17 лет): убит при переходе Шпрее 11 июня: Эрна Кельм (53 года): утонула при попытке пересечь границу вплавь 17 июня: Зигфрид Ноффке (22 года): убит 17 августа: Петер Фехтер (18 лет): убит; предсмертная агония его прошла под Стеной в присутствии свидетелей из западного сектора, бессильных помочь ему 23 августа: Ганс-Дитер Веза (19 лет): убит 4 сентября: Эрнст Мюндт (40 лет): убит 8 октября: Антон Вальзер (60 лет): убит при переходе Шпрее 19 ноября: Хорст Пишке (30 лет): утонул в Шпрее 27 ноября: Отфрид Рек (17 лет): убит 5 декабря: Гюнтер Виденхоф (20 лет): утонул 1963 1 января: Ганс Рейвель (20 лет): убит при переходе Шпрее 15 января: Хорст Кутчер (31 год): убит 24 января: Петер Крояйтлов (20 лет): убит советскими солдатами в парке в двух километрах от Стены февраль или март: Вольф-Олаф Мущиньски (20 лет): утонул в Шпрее 26 апреля: Петнер Мэдлер (19 лет): убит при попытке пересечь границу вплавь 4 ноября: Клаус Шрётер (23 года): утонул в Шпрее, после того как был ранен выстрелом охранника 25 ноября: Дитмар Шульц (24 года): умер в больнице, сбитый поездом из Сен-Бан в приграничной зоне 25 декабря: Пауль Шульц (18 лет): убит 1964 27 февраля: Вальтер Хайн (25 лет): убит 22 июня: Вальтер Хайке (29 лет): убит 28 июля: Норберт Вольшт (20 лет): утонул при попытке пересечь границу вплавь 28 июля: Райнер Гнейзер (19 лет): утонул при попытке пересечь границу вплавь 18 августа: Хильдегард Трабант (37 лет): задержана при переходе Стены, убита при попытке к бегству 20 августа: Вернхард Миспельом (18 лет): умер в больнице от ранений, полученных за два дня до этого 26 ноября: Ганс-Иоахим Вольф (20 лет): убит 3 декабря: Иоахим Мейр (19 лет): убит 1965 19 января: неопознанный труп: утонул в Шпрее 4 марта: Кристиан Бутткус (21 год): убит 8 августа: Клаус Кратцель (25 лет): сбит пригородной электричкой в туннеле под линией границы, около станции Борнхольмерштрассе 18 августа: Клаус Гартен (24 года): убит 18 октября: Вальтер Киттель (23 года): убит 11 ноября: Хайнц Кирус (29 лет): после неудачной попытки перейти Стену пустился в бегство, упал у здания на Гартенштрассе и умер от ранений в больнице на следующий день 25 ноября: Хайнц Соколовски (47 лет): убит 3 декабря: Эрих Кюн (62 года): ранен 25 ноября, умер от перитонита в больнице через неделю 26 декабря: Хайнц Шёнебергер (27 лет): убит 1966 11 января: Дитер Брандес (19 лет): ранен. Умер в больнице через семь месяцев после того как получил огнестрельные ранения 9 июня 1965 года 7 февраля: Вилли Блок (31 год): убит 14 марта: Йорг Хартманн (10 лет): убит вместе со своим другом Лотаром Шлёзнером при попытке последовать за своим отцом на Запад; самый юный из всех, убитых при попытке пересечь Стену 14 марта: Лотар Шлёзнер (13 лет): убит вместе со своим другом Йоргом Хартманном 19 марта: Вилли Марзан (21 год): солдат-дезертир; причина смерти не установлена — убит охранниками или покончил с собой, не успев убежать от них 30 марта: Эберхард Шульц (20 лет): убит 25 апреля: Михаэль Коллендер (21 год): солдат-дезертир; убит 26 июля: Эдуард Вроблевски (33 года): убит 29 августа: Хайнц Шмидт (46 лет): убит при попытке пересечь границу вплавь 16 декабря: Карл-Хейнц Кюбе (17 лет): убитПериод II 9 января — 21 апреля 1967
Письмо 13 Сюзанна — Магде
Париж,
9 января 1967
Магда милая, Магда обожаемая, дорогая кузина моя, желаю тебе счастливого и прекрасного 1967 года!!!
Как же здорово было услышать твой голос по телефону! Признаюсь, это меня немного успокоило. Да, мисс Совершенство, я беспокоюсь… Никогда так остро не ощущала я твою хрупкость, как в последнем твоём письме. Даже если в твоей жизни всё более чем нормально. Твоё доверие ко мне дорогого стоит. Я горжусь твоим доверием, горжусь тем, что ты — моя подруга, моя кузина.
Надо и мне с тобой кое-чем поделиться. Я не посмела всё это рассказать по телефону. Тем более что рядом стояла мама и слушала всё, что я говорила.
Я приступаю. У меня только одно воспоминание о Лотте. Я так и не решила для себя, хочешь ли ты, чтобы я про это говорила. Или не хочешь. Для меня ведь это тоже было таким ударом, знаешь, — понять, что она умерла. Это же не просто какое-то там воспоминание. Мы с тобой никогда не говорили о Лотте. Не помню, чтобы ты хоть разок произнесла её имя при мне за все те годы, что ты провела в Париже.
Это было, когда мы жили ещё в Берлине. Мне, должно быть, четыре или пять. Тебе тоже. А ей уже девять или десять. Не осмеливаюсь рассказывать дальше, не получив твоего согласия. Вот что я думаю: напишу-ка я эту историю, в которой нет ничего необычного, на отдельном листе бумаги и вложу в заклеенный конверт. Ты сможешь сама выбрать, читать или нет.
Видишь ли, чтоб уж всё тебе сказать до конца, — я до последнего момента была уверена, что вы приедете на Рождество. Маме пришлось долго объяснять мне, что твой отец отказался. Из-за денег. Если я верно поняла. Потому что дядя Карл и Максим ненавидят друг друга. Но я уверена, что это не единственная причина. Я устаю от этих семейных тайн. Всё говорится, чтобы ничего не сказать. Всё делается тайком. А когда я пытаюсь разузнать, меня отправляют спать, будто мне ещё восемь лет. Я задыхаюсь!
Мама вечно готова разрыдаться. А раз уж мы с тобой поклялись всегда говорить друг другу истинную правду, то могу признаться тебе: я нахожу чудовищно неприятной её беременность, с её-то телом почти старой дамы… Когда ребёнку исполнится 10 лет, она будет совсем седой и в морщинах. А когда я заведу своего ребёнка, то моего братика или сестрёнку сочтут моим сыном… Ты так не думаешь?
Как бы там ни было, а Рождество здесь выдалось довольно мрачным. Но я не жалуюсь. Не смею даже вообразить, какие праздники в Берлине! Я лишь молю, чтобы и ты смогла хоть чуть-чуть поразвлечься под твоей худосочной ёлкой!!! Жду лета — с таким же нетерпением, как и ты. Приедешь на будущий год учиться в Париж? Наша разлука по-прежнему кажется мне ужасно несправедливой!!!
Но в любом случае на этот 1967 год я хочу торжественно пожелать (и пусть, пусть даже это пожелание тебя шокирует), чтобы ты забыла Берлин, и Стену, и семейные дрязги — забудь всё это и прежде всего подумай о себе и своём будущем. Предпочтительно — в Париже.
Ладно, и правда такие пожелания ужасно эгоистичны. Что ж, я начну заново.
Я желаю тебе вновь обрести твою семью и твои воспоминания. Я желаю тебе влюбиться, и завести друзей, и каждый день смеяться. Быть такой лёгкой и смешливой, как ты умеешь, когда забываешь о том, что всё забыла. (Шучу… можно?)
Ладно. Обо мне! Я приняла несколько решений, вот первое. Очень скоро я выкину свою девственность к чертям собачьим (вот же смешное выражение, не правда ли?). Но мне это всё равно: я хочу заняться любовью ещё до того, как мне исполнится 18 лет. Не важно с кем. Большая любовь — потом! И — вот вам всем, и не хочу ничего слышать — ни нравоучений, ни предостережений, потому что это я решаю…
Я пару раз приходила на танцы в «Гольф» после Нового года (который встретила на улице Флёрюс, чувствуя себя там как заживо погребённая). И в первый, и во второй раз там почти никого не было из моих знакомых, кроме всегдашнего Боба, да и тот был не расположен потанцевать после того, как немножко безумно напраздновался. А раз никого не было, то я слушала, как он обо всех мне рассказывал, обещая показать мне и другие клубы в Париже. Он говорит, что тоскует в этом городе и у него план — смыться в Лондон. Я слегка затормозилась, рассказывая тебе об этом парне, ведь ты его, наверное, никогда не узнаешь. Но меня он цепляет.
Он всегда улыбается, в хорошем настроении, выслушивает все признания, не осуждая, не разбалтывая никаких сплетен, широко раскрывает объятия и подставляет плечо всем, кому нужна поддержка. Он — тот, кого все обожают и никто толком не знает. Как-то вечером, когда оркестр играл уже просто под сурдинку — так мало нас пришло и все такие вялые, — Боб много выпил и под конец прикорнул в моих объятиях. Говорил он со мной очень мало, но я почувствовала, как ему здесь одиноко, каким он себя чувствует странным и сдвинутым. Он сказал, что ему нет места в Париже. Ещё тише прошептал, что не знает, есть ли вообще в мире такое место, где гомосексуалистам просто можно жить такими, какие они есть. Он порвал с семьёй, или, точнее, семья отказалась от него — когда он им сказал, «что из него вышло». Да ты ведь сама, наверно, заметила, сколько оскорбительных словечек, сколько ярости и умолчаний вокруг «этих голубков»? Наконец он заговорил об Америке. А если и там так, то вниз головой с моста. А когда мы снова увиделись, в другой раз, — в нём снова кипела радость, немного принуждённая, она ведь служит ему как панцирь. Мы много танцевали. Он так искусно вёл меня в танце, что окружающие пришли в восторг. Теперь стоит нам выйти на танцпол, как все расступаются и любуются нами. И в такие минуты я чувствую себя королевой (почти такой же красивой, как ты!).
Главное — скажи мне, прочитала ли ты то, что я помню про Лотту.
Обнимаю тебя и целую крепко-крепко, изо всех сил!!!
Сюзанна 67P. S. Я каждый день хожу в твоём шарфе, бабуля Магда. Это мой самый прекрасный подарок.
Письмо 14 Сюзанна — Магде
Что я помню о Лотте, Дитере, Гансе и тебе.
Мы играем в большой комнате. Рождественский вечер. Мы ждём. Наши родители где-то недалеко — слышно, как они разговаривают и смеются. Пахнет папиной сигарой, это всегда добрый знак. Лёгкое облачко дыма у нас над головами и пустые стаканы, они всё ещё в беспорядке стоят на столе. Дело к полуночи, за окном черным-черно, много снега. То самое Рождество, какое дядя Карл рисует на картинках для книг. В красных и золотых тонах, с санками, северными оленями и заплечной корзиной, в которой полным-полно подарков.
Мы все разгорячённые, играем в догонялки, ведь раз это Рождество, то мы имеем право прийти за стол, а потом просто встать и выбежать из-за него, когда захотим, залезть к родителям на колени и в тысячный раз спросить: «Да когда же, когда? Скоро — это через сколько?»
Помню, как взрослые спрашивали нас, слушались ли мы их в этом году. Вспоминаю, как нам неловко, ведь мы хорошо помним, что если и слушались, то не так, как им бы того хотелось, и вот они смотрят на нас, а мы опускаем глаза.
Ты во всём им призналась. Что проглотила жвачку. Что нарочно сломала мою заколку, потому что рассердилась, и ещё ты сожгла волосы моей куклы. Я сказала, что «ничего страшного, ерунда». Я не хотела, чтобы ты им признавалась. Я считала тебя глупенькой — теперь Дед Мороз ничего тебе не принесёт. Тут я расплакалась. Я-то врала напропалую. И глупостей не делала. Ни единой! Это их смешит. Мы обе стоим, густо покрасневшие.
На ёлке звенит колокольчик… Взрослые с криком вскакивают. Дед Мороз уже за дверью. Нам надо быстро спрятаться в комнате. Слышно, как за дверью кто-то ходит взад-вперёд.
Мой брат Дитер насмехается над нами. Лотта сердится. Она не хочет, чтобы он насмехался. Он порывается что-то сказать. Она кидается на него и зажимает ему рот рукой. Они немного возятся. Она оцарапала его. У него кровь. Больше никто не смеётся. Непонятно, с чего вдруг такое. А за стеной взрослые продолжают играть в Деда Мороза.
Наконец Дитер выдаёт: «ЕГО И НА СВЕТЕ-ТО НЕТ!»
В это не верится. И вот уже слышен голос дяди Карла — тот очень громко спрашивает, все ли были послушны в уходящем году… В этот миг мне кажется, что мы все уже перестали быть детьми.
Лотта очень зла на Дитера. Или на весь мир. Она начинает трястись и раскачиваться вперёд-назад, как в приступе безумия. Ты пытаешься утихомирить её. Обнимаешь. Успокаиваешь её, всё твердишь и твердишь, что ничего страшного нет. Ты как будто давно умеешь так утешать. Как будто ты уже взрослая.
Лотта кричит. Она знает, что его нет на свете, и говорит, что хочет, чтоб он был, и, значит, он всё-таки существует. Она не хочет, не хочет, не хочет. Она продолжает верить в это. А Дитер просто дурак.
А я помню, что испугалась её. Я не хочу оставаться ребёнком. Я очень-очень горжусь тем, что знаю секреты взрослых. И вот потом, когда уже заходят распаковывать наши подарки, я играю с маленьким Гансом, как будто он отсталый ребёнок.
Ты не улыбалась в то Рождество. Ты обиделась на своих родителей за то, что они солгали тебе. Знаю, ты чувствовала себя преданной. Но не это было важно. Главным была она. Ты как будто хотела создать для неё особый мир, где воплотились бы все её мечты. Держать её за руку и не отпускать никогда.
Вот что я помню, Магда. Пыталась поточнее изобразить картины, впечатавшиеся в память. Но, едва начав рассказывать, я уже отдаю себе отчёт в том, что, когда пишу, вкладываю собственный смысл, даже, может быть, сгущаю краски. Нанизываешь слова на чувства — и вот уже выходит что-то не то. Единственное, что важно, — что ты об этом скажешь.
Я люблю тебя, Магда, подруга моя, подруга моя.
Письмо 15 Мицо — Клеомене
Фессалоники,
3 января 1967
Дорогая Клеомена, милая сестричка моя!
Χωνια polà, Αδερφη μου![12] Этот 67-й год станет решающим для нас, для нашей страны и для всего мира, я абсолютно уверен в этом!
Наконец-то! Давно пора!
Ты ждала меня на Рождество. Знаю, знаю, Клеомена, отсюда, где я сейчас, слышны твои брюзжание и бесконечные «почему»; такое ожидание для тебя мучительно, а эта работа у французских хозяев до чего унизительна!.. Я ежедневно борюсь, стараясь найти выход, и ты должна мне верить и ещё — знать, что это оказалось труднее и тяжелее, чем предполагалось. Я тут кое-что придумал, хотя тебе это и не понравится. Полагаю даже, что ты меня возненавидишь.
Лозаннская газета
25.02.1950
Но, прежде чем бросаться седлать твоих любимых коньков, поразмысли как следует. Откажешься ты или примешь моё предложение — всё равно речь тут обо всей твоей будущей жизни. Не только о временном выходе, чтобы прекратить работать на этих идиотов, но ещё и реальная возможность — и единственная для тебя, какую мне удалось отыскать, — поступить в университет. Мама в курсе, и теперь она со мной согласна.
Но, прежде чем сказать об этом больше, чтобы втолковать тебе, каковы истинные ставки, мне следует поведать обо всём, что со мной случилось, что я узнал про нас, про папу, а о чём и сам догадался. Хотел бы я приехать в Афины и рассказать всё тебе лично. Писать довольно трудно, выходит напыщеннее и завершённее, чем на самом деле, и это пугает меня.
Я люблю тебя. Никогда не забывай об этом.
10 январяВсё произошло не так, как предполагалось. Приехав в Фессалоники, я сразу отправился на поиски старого папиного друга, Панайоти Дедеса. А он, хоть и был предупреждён о моём приезде, побледнел, как только я вошёл в его кафе. Меня часто принимают за папу. Здесь тоже, как и повсюду, люди, едва увидев меня, долго вглядывались в моё лицо с недоверием, почти с ужасом, потому что все в конце концов неминуемо бормочут одно и то же: да неужели это явился папин призрак? А я в ответ неминуемо смеюсь, потому что папа не смеялся никогда, и мой смех на время рассеивает тревогу. Ещё все спросили, не утратила ли мама былой красоты. Я не сказал им, что ты в тысячу раз красивее. Они бы мне всё равно не поверили.
В Греции всегда солнечно. Афины
Начало 70-х
Панайоти понемногу водил меня туда-сюда в поисках работы. Заработанного мне хватает, только чтоб поесть и поспать, я на подхвате повсюду, направо-налево — на кораблях, в кафе или у бакалейщиков. Но это долго не продлится. Мне нужно найти настоящую работу. В университет ходить у меня нет времени, и это бесит меня. Мне думалось, что Панайоти хоть немного мне поможет, ведь папа так в это верил. Я понял: не будет этого. К тому же они, хоть и ничего не говорят, втайне надеются, что я уйду.
Как-то вечером Панайоти пустился в рассуждения, что папа был слишком непримирим, слишком радикален и не смог вовремя остановиться. Это меня взбесило. Я ответил ему всё, что об этом думаю, — что мой отец был единственным, кто не запятнал себя отречением. Что его, с позволения сказать, товарищи на самом деле все оказались продажными подонками. Кончилось дракой. Так что теперь мы вряд ли скоро увидимся.
Знаешь, Клеомена, на самом деле папу убили не часы пыток, не эти годы заключения, — нет, он обезумел от того, что все друзья покинули его, эти коммунисты при галстуках, которые решили, что страницу пора перевернуть. Папа продолжал бороться, он так и не смог отречься от своих идеалов!
Этим летом я, может быть, поработаю на яхтах богатых туристов, которые любят круизные плавания в Средиземном море. Поскольку я бегло говорю на четырёх языках, вряд ли можно сомневаться, что мне хорошо заплатят. А на эти деньги я, может быть, смогу купить себе билет до Кубы.
А что, если тебе, сестрёнка, поехать туда со мной?
А теперь слушай! Я не смогу оплатить твоё обучение. Невыносимо знать, что ты прислуживаешь как рабыня этим тупым, мелким и самодовольным буржуям. У меня чувство, что в таких обстоятельствах тебя никто и уважать не сможет. Я искал выход — и нашёл такой, который по крайней мере убережёт тебя от самого худшего. Только он может гарантировать твоё будущее. Я ходил к свахе и объяснил ей все наши обстоятельства. Ты без приданого, свободна и горда. Тебе нужен мужчина с добрым, открытым сердцем, который позволил бы тебе поступить в университет и работать. Она, сваха эта, просто расхохоталась мне в лицо, сама понимаешь. И погнала меня вон. Тут я показал ей твою фотографию. Она покачала головой и обещала подумать, что можно сделать.
Она нашла. Я с ним встретился. Тебе он не понравится. Ему 37 лет, он некрасив, пожалуй, полноват, всё время немного потеет. Но очень богатый. Очень. Кажется любезным. И образованным. Несомненно, немного зануда. С политической точки зрения — скорее умеренный. В Гражданскую его семья немало настрадалась. Ещё он согласен позаботиться и о маме. И готов заключить брачный контракт в письменном виде.
Он часто бывает в Афинах (путешествует по делам, занимается коммерцией, он управляющий отелями на островах). Я сказал ему, что ты ничего не знаешь о моих хлопотах. Он улыбнулся. Он уже тебя любит. Умоляю тебя: прежде чем отказывать, встреться с ним.
Мама взвыла, когда я сказал ей об этом. А потом она получила твоё письмо. Она тоже знает, что я хочу уехать на Кубу. Нам нужно найти способ завоевать немного свободы. Подумай.
Жду твоего ответа. Пожалуйста, не задерживайся с ним.
МицоПисьмо 16 Клеомена — Мицо
НИКОГДА!!!
Письмо 17 Ставрула — Клеомене
Пломари,
25 января 1967
Дорогая моя девочка, κούκλα μου[13], не знаю, хорошо ли ты решила. Умоляю тебя, подумай ещё немного. В нашем положении нет хорошего выхода. Возможен только один-единственный — позволяющий избежать худшего.
Я-то всегда поступала, как ты. Для нас самым важным было не отрекаться — и я горжусь, что пошла до конца. Я ни о чём не жалею. Но тебе я не желаю такой жизни, полной и страха, и голода, и лишений; да ведь ты сама знаешь, как кончил твой отец. Чтобы быть свободным, надо платить дорогую цену. Теперь я знаю: всегда нужно быть изворотливее всех, кто тебя окружает.
Оглянись же. Взгляни, кто правит, кто обучает, кто надзирает, кто судит и кто лечит. Посмотри, кто пишет, кто рисует и кто сочиняет музыку, кто строит дома и кто их придумывает. Кто летает на самолётах, плавает на кораблях, рулит на автодорогах… А мы, женщины, только служим им украшением и набиваем им брюхо, ублажаем их и рожаем им детей. Так испокон веков заведено во всех обществах этого мира. Мы у них на службе. И ты веришь, что обладаешь силой, чтоб отвоевать себе место в таком мире, лишь потому, что ты исключительно умна и красива? Если ты веришь в это, дочь моя, я говорю тебе: ты ошибаешься. Не забывай уроков, преподанных тебе грязной водой, стекавшей с половой тряпки!
Ну хотя бы встреться с ним, с этим мужчиной. Он вдовец, уже разочарован в жизни, он будет совсем не таким высокомерным, как любой, кто помоложе, а кроме того, если у него нет детей от первого брака, это добрый знак, а вдруг он не может их иметь или просто не хочет. У тебя будет время подумать об этом, когда ты получишь диплом и овладеешь ремеслом, которое сама и выберешь. Твой отец пришёл бы от моих слов в ярость. Но он и понятия не имеет о том, что значит быть женщиной в сегодняшней Греции.
Не забывай, что тебе всегда нужно быть сильнее их. Пожалуйста, Клеомена, выбирай с умом!
СтаврулаПисьмо 18 Магда — Сюзанне
Берлин,
20 января 67
Я сомневалась, Сюзанна, вскрывать ли мне твоё письмо-воспоминание… Просто сунула его под подушку. Каждый вечер дотрагивалась до конверта. И решила прочесть. Случилось то, что происходит каждый раз, когда мне что-то рассказывают из моей прежней жизни. Смесь хорошо знакомого со странным, чужим. Это моя память — и не моя. Это не принадлежит мне. Я по-прежнему, как всегда, лицом к лицу с чёрной дырой.
И всё же с тех самых пор, с твоего письма, я не перестаю видеть сны. Каждую ночь. И все эти ночи мне снятся дома. Я хожу из комнаты в комнату. Они просторны, но пусты. Тёмные, несмотря на огромные окна с пола до потолка. Свет приходит извне. Изнутри — никогда.
На следующую ночь я вижу себя в несуразной квартире. Я знаю её малейшие закоулки. Слишком маленькая. В ней полно всего. Книги, одежда, маленькие бархатные кресла и лампы с мягким светом. Здесь я как дома. От меня требуют, чтоб я ушла. Я хочу здесь бывать. Потолок слишком низкий. Это тревожит меня.
А потом ещё я иногда в большой комнате, пол там выложен голубой и бежевой плиткой. Комната выходит прямо на улицу. Очень шумно. С криками проходят какие-то люди. Слышны клаксоны автомашин. Я лежу в кровати. Вижу чью-то спину, склонившуюся над письменным столом. Я слежу за ней. Знаю, что фигура сейчас выпрямится. Но она не выпрямляется. И от этого её спина трясётся от смеха.
Я видела эту фигуру много раз. Может быть, это она и есть? Моя сестра Лотта? А ты как думаешь? Что, если мой сон и есть воспоминание о последнем дне её жизни?
Мне кажется, так и есть. Я узнаю эти квадратики пола, я уверена, что ими была выложена большая гостиная в квартире на Бернауэрштрассе. Не осмеливаюсь спросить папу. Боюсь его ответа. Если это не мой дом — быть может, я больше никогда не поверю тому, о чём мне рассказывают сны. А если это мой дом, папа и дальше будет думать, что я скрываю от него то, что знаю.
Эти образы, приходящие ко мне ночью, — нити, протянутые над невидимым. Я запрещаю себе шуметь во время этих ощущений. Ни слов. Ни звуков. Ни слишком резких движений. Быть столь же незаметной, как воздух, который поддерживает бабочку, чтобы она могла летать. Только так я могу почувствовать, что сестра моя где-то недалеко, что она в каком-то смысле навещает меня.
Спасибо, Сюзанна. Спасибо, что ты так внимательна. Ты сделала мне драгоценный подарок.
Твоя подруга навсегда,
МагдаПисьмо 19 Сюзанна — Магде
Париж,
1 февраля 67
Магда!
Я уверена, что эти квадратики с голубыми и бежевыми завитками были в том доме! Мне достаточно было просто прочесть твоё письмо, и они тут же воскресли в моей памяти. Могу даже нарисовать…
Позволю себе дать совет. Думаю, тебе стоит спросить своего отца. Дядя Карл показался мне совсем не таким грубым, как тогда. Во всяком случае, он любит тебя и он здесь ради тебя. Так доверься ему!
Случившееся со мной так незначительно, что я не знаю, стоит ли тебе рассказывать. Но раз уж ты настаиваешь… Нет, ну неправда же!!! Я просто сгораю от желания поговорить с тобой об этом. А если ты мне запретишь — думаю, удовольствие от того, что я это пережила, стало бы в тысячу раз меньше!
Ладно! Итак, в прошлую субботу со мной произошло забавное приключение!!! Забавное? Да! Странное! Смешное! Нежданное! Волнующее!
Настоящее приключение!
Я была в «Гольфе» и крепко напилась… (да!! признаюсь тебе, у меня появилось некоторое пристрастие к пьянству!!). Два мартини, а главное — «Голубая лагуна» (из-за её потрясающего цвета и экзотического названия!). Я выпила два или три бокала этого божественного напитка (да!! а может, и больше, сама уже не помню!!) и чувствовала себя все свободнее, все легче, открытая всему на свете, радостно парящая в воздухе, а несли меня парни без лиц. Боб сказал мне, что я была великолепна, и я в это верю.
А потом… а потом, скажу я тебе, все осложнилось!!
Когда я пришла в сознание, то лежала на банкетке в незнакомом мне бистро. Я открыла глаза, потом закрыла, у меня жутко раскалывалась голова, и от меня скверно пахло. Женщина с хриплым голосом прыснула со смеху:
— Ну вот и проснулась ваша малышка…
Я попыталась было встать, но всё вокруг так закружилось, что пришлось снова откинуться. Я их слушала. Быстро поняла, что всего их тут пятеро, две девчонки и трое парней, студенты факультетов словесности и социологии, и всю ночь они праздновали напропалую в разных местах, а потом дотащили меня и уложили на эту банкетку, обитую искусственной кожей кирпично-красного цвета, уже протёртой до дыр.
Сейчас они вовсю спорили о теории Маркса, вся эта бодяга о труде и эксплуатации масс и о том, что технический прогресс никогда не улучшит межчеловеческие отношения в процессе труда. Наконец я сообразила, что на улице давно белый день, сегодня воскресенье, а меня ещё нету дома! Что же я здесь делала?
Наконец я приподнялась и увидела своё отражение в зеркале. Жалкое зрелище: волосы растрёпаны, без пальто, а платье всё мокрое от этого голубого пойла, которое я так жадно лакала всю ночь, петли на чулках спустились… Никогда в жизни мне ещё не было так стыдно.
Хриплый голос зазвучал снова, я почувствовала движение в мою сторону, а потом, скорее с симпатией:
— Да не бери в голову, малышка, с кем не бывает…
У неё чёрные глаза и задорная улыбка. Носик вздёрнут, а на голове беретка. Она с нарочитой беспечностью курит «Крейвен А».
Зовут её Дебора. Парень рядом с ней — это и был Марсель (да, это он, тот самый… он так невероятно, чудесно… О-БОЛЬ-СТИ-ТЕ-ЛЕН!!! В его силуэте видится нечто смутное, бестолковое, не знаю, как ещё сказать… Но стоит ему только взглянуть на девушек, как они ему подмигивают…).
Это он довёз меня домой на своём красном «дукати». А уезжая, предложил мне снова встретиться с ними всеми в баре в ближайший уик-энд. Я с энтузиазмом согласилась. Он рассмеялся, и я почувствовала, что краснею. Тогда он легонько чмокнул меня в щеку. Тут я уже совсем побагровела.
С таким вот нежным смешком он и умчался. Я была немного обижена. И пошатывалась.
Уже у самых дверей дома я представляла себе наказание, крики, слёзы и всякие увещевания… Но ничего такого… Дитер сидел в своей комнате, дверь была заперта, Фаншетта суетилась на кухне.
Увидев меня, она и глазом не моргнула. Просто рассказала, что тут случилось. Маму увезли в больницу, она должна вот-вот родить. Мне беспокоиться не о чем, всё прошло совершенно нормально… А потом она повернулась ко мне, и лицо её придвинулось так близко-близко к моему. Она смотрела мне прямо в глаза. Я не могла понять, чего она хочет. И немного наклонилась к ней, думая, что она собирается что-то шепнуть мне на ушко, и тут она изо всех сил отвесила мне оплеуху, прямо по лицу.
Да, Магда, ты верно прочитала!!! У меня потом целых три дня щека была красная и немного опухшая.
— Больше никогда не пропадай на целую ночь! Никогда, поняла?
Я так и осталась стоять разинув рот. Даже не вскрикнула. А она снова повернулась к плите.
Вот, Магда, здесь заканчивается первая серия моих приключений. Через несколько дней я собираюсь снова повидаться с этим молодым человеком. И ещё решила всё-таки заняться учёбой. Когда я слушала их, то казалась себе такой глупой. А у меня настоящее предчувствие, что это будет потрясающая встреча!!!
Сюзанна, банкирская дочкаP. S. Я знаю, что это все ничего не значит и я так вдохновилась из-за пустячка! Но они выглядят такими свободными! Такими живыми! Такими современными!!!
P. P. S. А ты замечаешь, что твои письма становятся всё длиннее? Ответь же поскорей!
Письмо 20 Максим — Ильзе
Париж,
5 марта 67
Милая Ильза, дорогая супруга!
Причиной того, что я тебе пишу, отчасти является отчаяние, поскольку ты отворачиваешься, не желая взглянуть на меня, и не разговариваешь со мной. Ты даже ни разу не взяла на руки своего младенца. Меня пугает всё, что с тобой происходит. Врачи толкуют о депрессии, а я ничего не пойму. Леону нужна ты, твоя любовь, твоя забота. Ты не хотела этого ребёнка. Эта мысль причиняет мне боль. Мне хочется думать, что у тебя это пройдёт. Возьми себя в руки! Я верю, что тебе нужно сделать маленькое усилие, преодолеть самоё себя, и ты снова придёшь в норму. Попробуй встать, умыться, одеться…
Я часто теряю терпение. Это до такой степени непостижимо для меня — так непохоже на ту женщину, какой ты всегда была… Как можно не хотеть собственное дитя? Я искренне полагал, что, если ты увидишь нашего сына, это поможет тебе вновь обрести немного здравого смысла. Я ошибся. Готов признать это. Но когда я спрашиваю, чем тебе помочь, ты ничего не отвечаешь. Или плачешь. Тебе нужно вновь собраться с силами, дорогая, пожалуйста, сделай это ради меня, ради нас. Психиатр объясняет мне, что дело тут не в желании. Это свойство твоей болезни — ничего больше не хотеть.
Я сознаю, что во многом перед тобой виноват. Иногда у меня бывают интрижки, но они ничего не значат. Ты моя жена, ты ещё и мать моих детей, ты та, кого я выбрал и буду защищать до конца дней. Ты единственная, кто важен мне.
Заключим мир. Вернёмся к прежней жизни. Без тебя я пропаду.
Я снова вижу тебя такой, какой увидел в первый раз в 1947 году на той стройке Берлинского аэропорта. Тоненькую, нервную, стойкую. Ты была голодной, ты была худой и усталой — конечно, как и сотни других женщин, тоже таскавших камни, чтобы заработать на пропитание, но ты другое дело, ты вся светилась, работая весело, с огоньком! Ты так любила жизнь! И невзирая на всё, что случилось и с тобой, и с твоим маленьким Дитером, глаза твои смеялись и доверчиво глядели в будущее. Я мгновенно влюбился в эту женщину — сильную, цельную и к тому же невероятно элегантную.
Мне хочется верить, что она не умерла, ибо именно в ней я нуждаюсь. Как горестно я по ней скучаю.
Нежно целую тебя,
МаксимПисьмо 21 Магда — Сюзанне
Берлин,
6 марта 1967
Дорогая Сюзанна!
Ну что, каково это — быть такой взрослой сестрой такого крохи, как малыш Леон?
Мне трудно даже вообразить. что ты чувствуешь… Как, должно быть, ты взволнована и возбуждена, не правда ли? Мне хочется верить, что Леон наполняет светом ваши дни и своим присутствием сглаживает все ваши трудности последних месяцев. Он тебя уже узнает? Не вселяет ли в тебя желание самой стать мамой? Я никак не могу ответить сама себе, какая может быть связь между вами, ведь разница 18 лет — это немало.
А я?
Я?..
Как обычно, и ничего, и всё на свете. Кручусь-верчусь-слоняюсь. Считаю дни до наступления лета. В лицее страдаю от вынужденного одиночества. Но никак не пытаюсь это исправить. Кончилось тем, что я записалась в клуб чтения, организованный преподом истории — он немного провокатор, и из-за него в лицее разгорелись страсти. У него есть и раздражённые противники, и энтузиасты-сторонники. Мне хотя бы любопытно посмотреть на них. Папе я ничего об этом не сказала. Уверена, он бы не одобрил.
Но мне нужно сменить обстановку. Он не подозревает, как мне это надо. Или делает вид, что ничего не понимает. И это хуже всего. Я не выношу такого положения. Я не из тех послушных тихонь, что вечно ходят с опущенными глазками. Становясь невидимками. Я чувствую, что вот-вот взорвусь.
Я их узнала, те квадратики плитки, что ты нарисовала. Скорее всего, это они, те самые, из нашей спальни в квартире на Бернауэрштрассе. Но моя сестра больше не снится мне. Ничего, ладно. Я жду её. Я на неё сержусь. Она нервирует меня. Да. Раздражает. Не знаю почему. Папа говорил, что мы были неразлучны. Что между нами была какая-то совершенно исключительная связь. Несмотря на разницу в возрасте. И вот, видишь, в твоём воспоминании о Рождестве то же самое. Все та же связь между нами обеими.
Папа говорит, она была странная. Родилась, когда Берлин бомбили, потому и осталась до невероятности нервной. У неё бывали припадки. Припадки, во время которых она причиняла себе увечья. Билась об стены. Даже однажды сломала руку. Она не рассказывала о том, что чувствовала. Чтобы успокоить её, требовалась целая серия обрядов и церемоний. Например, обойти весь квартал, выбирая всегда один и тот же путь. Прежде чем войти в дом через голубую дверь, сделать три шага вперёд и три шага назад. Прочесть заклинания в одинаковом порядке и в определённый момент. Вымыть руки перед выходом на улицу. А бывало, ничто не могло предотвратить кризис. Кроме меня.
Я чувствую ответственность. Ты права. Беспечность не моя подруга. Всем, кроме тебя, совершенно наплевать, что я чувствую. Я здесь, и ладно. Стоящая на ногах. Сильная. Надёжная. Я хочу выбраться из этого лабиринта, я в нём теряюсь. С меня довольно.
Я хочу жить свободной! Я хочу свежего воздуха. Много смеха. Пируэтов. Лёгкости.
А виделась ты ещё с тем красивым парнем на мотоцикле, который совершенно неотразим?
МагдаP. S. Мне надо сказать тебе кое-что. Признаться тебе. Я не знаю, как поступить. Поклянись мне на самом дорогом, что выслушаешь и не станешь осуждать. Поклянись мне в этом, пожалуйста.
Письмо 22 Ставрула — Жаку Фонтену
Пломари,
март 67
Дорогой господин посол!
Лишь отчаяние сподвигло меня обратиться к вам. Надеюсь, вы прочтёте эти несколько слов. Простите меня за дерзость, я многословной не буду. Речь о моей дочери, Клеомене Рунарис. В одном из последних полученных мною от неё писем она упоминает о вас и о вашем благосклонном расположении к ней. Вот почему я обращаюсь именно к вам. Нет ли у вас каких новостей от неё? Мне она не даёт о себе знать. Мои письма остаются без ответа. Она, может быть, рассердилась на меня. Но сейчас прошло уже так много времени. Она обещала мне. Вот почему я совсем обезумела от беспокойства. Её брат и она — всё, что у меня осталось.
В почтительном ожидании весточки от вас,
Ставрула РунарисПисьмо 23 Сюзанна — Магде
Париж,
15 марта 67
МагдаМагдаМагда…!!.. (Вздохи)
Что за странный вопрос ты задаёшь в конце письма!.. Как ты смеешь сомневаться во мне? Я когда-нибудь тебя осуждала? Не знай я тебя, не предполагай по твоим предосторожностям, что речь о чём-то серьёзном, — могла бы реально обидеться. Нет, Магда, нашу дружбу не сможет поколебать ничто на свете. Ничто-ничто, и ты можешь доверять мне.
Ты просишь меня поклясться тебе тем, что для меня дороже всего. Тут я пришла в замешательство. Я не смогла решить. Задала же ты мне задачку. Разве что поклясться тебе головкой Леона, хотя он не чтобы мне дороже родителей и старшего брата — нет, но он совсем новенький, такой хрупкий, что ему и вправду невозможно пожелать ничего плохого. Скорее уж наоборот. Мне так хочется позаботиться об этом невинном маленьком человечке. Итак, клянусь тебе, Магда, клянусь головой Леона: я не стану тебя осуждать, что бы ты ни сказала, в чём бы ни призналась. Но давай поскорей, все эти предосторожности тревожат меня.
Ну вот, передо мной белый лист бумаги, который мне хочется положить обратно, откуда взяла, в ящик письменного стола моей комнаты. Он мне виден с кровати, а сама я сижу на ней, поджав ноги, обложившись пятью подушками, пока ищу нужные слова, раздражаясь без причины, не в силах сосредоточиться, да и того менее — действительно начать тебе писать, и готова уже опять отказаться от этой мысли, как уже много раз в прошлые вечера.
Наконец я сажусь за письменный стол. За окном темным-темно. Так странно — глухая тишина в этом просторном доме, где больше нет мамы. Она уже две недели как уехала в Базоль. Не уверена, что бабушка отнесётся к ней по-доброму, но папа постановил, что это самое лучшее решение. Ей очень плохо, и на сей раз я уж сама не знаю, какие чувства испытываю к этому Леону, к которому я не заходила уже несколько дней, в которые он не переставая плакал. Он невзрачный, красный, по всему тельцу экзема. Извивается, как червяк, потому что у него болит животик. Правда, услышав меня, тут же перестал кричать и широко открыл глаза. Я подошла к его колыбельке и, вот забавно, почувствовала, как он крепко-крепко зажал мой палец в своей ручонке!!!
Папа, должно быть, очень хотел, чтобы я поехала в замок вместе с мамой. Но она вдруг так энергично стала приказывать мне сдавать выпускные экзамены… папа не посмел ей возразить. Понятное дело, я-то не сказала им, что больше не хожу в лицей…
Дитер вечно в бешенстве. Очень агрессивен. Ещё сильнее, чем обычно… Между прочим, я не уверена, что люблю старшего брата. Категоричный, заносчивый, меня то и дело задирает, будто я какая-то мелкая дрянная девчонка, всё старается подражать папе, а получается в тысячу раз гаже. В тысячу раз!!!
Ну вот, я снова вспомнила дорогу в школу. Через «не хочу» и более-менее регулярно. И ещё болтаюсь со «своей» новой компашкой, которую встретила на площади Сен-Сюльпис, в маленьком бистро как раз за церковью. Это их штаб-квартира, они там переделывают мир, покуривая «Крейвен А». И сочиняют манифесты против войны во Вьетнаме. Мне кажется, я им очень нравлюсь. Зовут меня «малышкой». Это правда: я не только гораздо моложе их, но и совсем новенькая в политической борьбе левых экстремистов!!
Как-то они взяли меня с собой в Нантер — поддержать манифестацию студентов университета. Уезжали с вокзала Сен-Лазар. Студенты раздавали листовки прямо на перроне. У них требования к правилам внутреннего распорядка. Они против раздельного обучения юношей и девушек и требуют свободного передвижения как днём, так и по ночам.
На первый взгляд, знаешь, Нантер — жуткий город. Сплошная стройка. Представь себе большие бетонные здания, безликие и холодные, а между ними лишь пустыри. Комнатки студентов крохотные, вид из окон — на грязь и заброшенные земли, изборождённые следами экскаваторов. А если пойти туда, где заканчиваются университетские здания, наткнёшься на пейзаж ещё невзрачнее. «Это бидонвили», — объяснила мне Дебора (женщина с хриплым голосом), которая улучила минутку, чтобы показать мне город, хотя она всё ещё смеётся надо мной, я ведь среди них белая ворона. Такие бидонвили населены иммигрантами, главным образом из стран Магриба, их привозят во Францию из-за того, что здесь не хватает рабочих рук. И размещают как скот. Меня аж передёрнуло, стоило мне только представить, как им тут живётся.
— Пташка вылетела из золотой клетки, — съехидничала Дебо.
Я опустила глаза, чтобы скрыть замешательство. Она права. Несмотря на всё это, я не чувствую, что она осуждает меня. Подтрунивает, насмехается, иногда раздражается и даже обалдевает от моей наивности, но никогда не оставляет меня не у дел. Марсель не скрывает, что восхищается ей. Иногда я вижу, как они целуются. Наверное, им случается и вместе спать.
— Да ведь все свободны, — отчеканила Дебо в тот день, когда соизволила со мной об этом поговорить. — Нельзя же просто быть с кем-то и при этом обещать самой себе, что это на всю жизнь, ты тоже так считаешь?
Я не ответила. Пытаюсь к этому привыкнуть. А всё-таки я вижу: когда мы с Марселем хохочем, её это немножко огорчает. Но для них самое главное — бороться за продвижение их идей.
На тех листовках, что они раздают, я смогла прочесть чёрным по белому такое, чего никогда не решилась бы произнести вслух. Это нечто вроде воззвания, в котором призывают отменить все запреты вокруг сексуальной стороны жизни, требуют изменить нравы, выдвигают на первый план плотское удовольствие.
Я попыталась разузнать немного побольше о Марселе. Дебора охотно рассказала мне: он сын преподавателя, с семьёй своей разругался, потому что хочет снимать кино, а его отец не считает это серьёзным ремеслом. Живёт он в комнате для прислуги совсем рядом с метро «Гобелен». У него много любовниц.
Однажды мы целовались. Но больше ничего такого. И то лишь единожды, и, думаю, это не имело для него никакого значения. И потом, это показалось мне так похоже на все остальные разы. Когда юноша целует меня, я чувствую, что становлюсь какой-то другой. Одна часть меня получает удовольствие, а другая — зло посмеивается, напрягается, упрямится. Я чувствую себя неумелой. И даже решительно посмешищем.
Вот, дорогая подруга, и что ты об этом думаешь? Представляю, как ты осмысляешь эту ситуацию… «Ты влюблена?» — спрашиваешь ты у меня, словно врач, который, нахмурив брови, щупает мой пульс. Я вздыхаю… Может быть… Я сомневаюсь… немножечко… да… и даже немного больше чем немножечко всё-таки! Но на самом деле не больше… Я на него запала — так мне кажется, вернее, больше соответствует моме-е-е-енту…
Я пишу тебе это письмо уже четыре с лишним часа. Ведь мне так приятно и тепло, нежная моя, чувствовать, что ты рядом, несмотря ни на что.
Головокружительная-Сюзанна-с-головой-кругомДневник Сюзанны
Письмо 24 Фаншетта — Сюзанне
Базоль,
24 марта 67
Моя маленькая Сюзанна!
Как там дела в Париже? Здесь-то плоховато всё же, мне уж не двадцать, и коленки совсем не гнутся. Да и вся эта катавасия — так грустно смотреть. Ни маме нехорошо, ни ребёнку. Я уж не знаю, что и делать. Особенно когда месье Максим от всего самоустраняется.
Я вот что себе думаю: сможет ли она выкарабкаться, мадам Ильза-то? У меня ведь сердце кровью обливается, как подумаю, что она смотрит в потолок с утра до вечера. Очень уж я за неё переживаю. Мне кажется, ей надо возвращаться в Париж, потому что мадам Дельфина — она её просто с ума сводит, говоря по правде. Ты можешь так твоему отцу и сказать? Нелегко это, знаю, но так нужно сделать. Меня-то он слушать не станет. Ну, теперь обнимаю тебя и надеюсь, ты там при деле.
ФаншеттаПисьмо 25 Магда — Сюзанне
Париж,
2 апреля 67
Моя дорогая Сюзанна!
Я рассчитывала приехать на Пасху. Папа дал мне понять: он хочет, чтобы я оставалась в Берлине, пока остальные члены семьи не воссоединятся с нами по эту сторону Стены. Я разозлилась. То же самое было и на Рождество. И фразы те же. Приказано терпеть. Без объяснений. Подразумевается, что я не могу располагать собой до скончания времён. Я сказала ему, что задыхаюсь. Что хочу быть немного свободнее, чем есть. Или хотя бы получить какие-нибудь объяснения. Разделить это ожидание.
Ответил он очень зло. Заявил, что я не изменилась. Всё та же эгоистка, какой была. Думаю только о себе и собственном комфорте. Мне было так больно, что я просто схлопнулась, как устрица. И с тех пор так и не разжала зубов. Я больше не хочу с ним разговаривать. Он неопределённо извинился. Но я не захотела объясняться с ним. Вот уже больше недели мы не обменялись ни словом.
Ещё чуть-чуть, и я не выдержу. Меня ранили. Я хочу стремглав бежать отсюда. Я дохожу до ненависти к собственной семье и всему, что она держит под запретом или хранит в тайне.
Я уже испытывала эти чувства — эту спешку жить, порыв к бегству. Не знаю, откуда всплывают мои воспоминания. Например, вчера у меня перед глазами вдруг возникла эта сцена, она была почти реальной.
Я стою. Очень напряжённая. Стою за партой в классе. Фрау Шлютер о чём-то меня спрашивает. Я несколько раз отвечаю «не знаю». Я делаю это нарочно, чтобы разозлить её. Она несправедлива. Я не хочу опускать глаза. Я сопротивляюсь ей.
Внезапно она срывается на крик. Её терпение кончилось. Вот она подходит ко мне близко. От неё плохо пахнет, это немыслимо, ведь я точно помню, что фрау Шлютер всегда славится безупречной, безукоризненной чистотой. Очевидно, что она боится, и боится из-за меня. То, что я делаю, может обернуться неприятностями не только для меня, но и для неё. Я тону в слезах, но отказываюсь сделать то, чего она требует. Я не двигаюсь. Я не уступлю. Никогда.
В классе мёртвая тишина. Ни насмешливого хохотка. Ни косых взглядов. Ни дуновения ветерка. Только звериное замешательство от того, что сейчас может мне так дорого обойтись.
Я знаю, что потом придётся выйти в центр школьного двора, встать на возвышение и сказать, что я сама осуждаю своё поведение. Я убеждаю себя, что так нужно. Вся школа здесь. Препы, начальники и уполномоченные от Партии по делам молодёжи. Пока я иду к возвышению, я уже убедила себя, что сейчас попрошу прощения. Так лучше для меня. Для моего будущего. Я сделаю это. Легко. Но стоит мне раскрыть рот, и я поступаю наоборот. Я говорю правду. Я провинилась. У меня отбирают право учиться. Но мне не жалко. Я об этом знаю. Ещё и сейчас, когда пишу тебе это, во мне живёт стремление поступить по справедливости. Нет ничего хуже, чем потерять достоинство. Как тогда смотреть на себя в зеркало?
Дома я воображаю, как, должно быть, все на меня рассердились.
Итак, сама видишь, что, если надо, я найду способ приехать к тебе в Париж. Не знаю, удастся ли мне… но мне теплее, даже когда я просто пишу тебе это.
Обнимаю тебя, дорогая моя Сюзанна. Когда мне грустно, я думаю о тебе, и это всё равно что знать: убежища — да, они есть.
МагдаP. S. То самое «нечто», о котором я должна тебе рассказать и что меня так тяготит, у меня не написалось в этом письме. Я скажу тебе лично, когда мы встретимся этим летом. Обещано!
Письмо 26 Ильза Лаваголейн — депутату Люсьену Нойвирту[14]
Месье депутат!
Я восхищаюсь тем, как вы боретесь за продвижение законопроекта, разрешающего во Франции применение противозачаточных средств. Я даже никогда вообразить себе не могла таких бредовых возражений против него, как обвинения в порнографии или страх увидеть Францию жертвой «вспышки эротизма». Меня удручает исступлённость этих голосов, их вульгарность напоказ, их лозунги и вообще то, как депутаты нашего Национального собрания, по их мнению, должны относиться к женщине. Ещё больше удручает меня ярость католической церкви и та непримиримая энергия, какую проявляют священники, стремясь просто помешать даже постановке и обсуждению этого вопроса мало-мальски прилично и спокойно.
Но чего же все эти люди так страшатся?
Эти слова, эти истерические позы, эти разглагольствования причиняют мне боль не только как женщине, но и, разумеется, как матери. Уже в который раз я втайне радуюсь вашим упорству и терпению в защите нашей судьбы. Спасибо за эту битву от нашего имени и во имя нас, женщин, ибо у нас больше нет представительского места в палате депутатов, как не имеем мы его и на площадках общественного обсуждения и в собственных семьях. Ваша непоколебимая убеждённость только прибавляет уважения к вам.
Мне невыносимо более это стремление контролировать и держать женские тела в плену моральных принципов, свалившихся на нас неизвестно откуда и якобы неопровержимых. Мне более невыносимо чувствовать себя обречённой на этот природный детерминизм.
Меня настигла тяжёлая депрессия после рождения моего сына, которого я не хотела иметь и так и не смогла полюбить. Мне становится лучше. Но из-за этого я едва не отправилась на тот свет.
Вы придаёте мне сил опять вернуться к жизни.
С большим уважением,
Ильза Л.Письмо 27 Магда — Дитеру
Берлин,
4 апреля 1967
Дитер, сколько раз я уже начинала писать ответ на твои письма. И всегда бросала. В последнем ты угрожаешь мне «раскрыть всё, что было». И вот тут уж ответить тебе необходимо.
Это будет моим единственным письмом к тебе, Дитер. И никакие угрозы ничего тут не изменят. Наша переписка — дело столь же невозможное, каким была когда-то и наша связь. Мы кузены. То, что мы совершили, делать не надо. И я уж думала, что ты с этим согласился.
Возвращение в Берлин было для меня способом перевернуть страницу. Я хотела забыть то, что с нами случилось. И мне хотелось бы, чтобы забыл и ты. Быть может, разделяющее нас расстояние позволяет мне осознать всё безумие произошедшего с нами острее, чем тебе. Не знаю. Но, скажу уж совсем чистосердечно, я стыжусь самой себя каждый раз, когда об этом думаю. Стыжусь до глубокого отвращения к себе. А самое худшее — в том, что я так поступила под кровом людей, приютивших меня, и вот их-то я и предала.
Эти слова вызовут у тебя раздражение. Представляю, в какую ярость ты придёшь, читая это письмо. Но истина — вот она: нашу связь я пережила как тюрьму. Нет, я никогда не любила тебя.
Тогда зачем же я позволила втянуть себя в это безумие так надолго?
Я не знаю.
Три раза я начинала писать это письмо. Я взвешиваю каждое обращённое к тебе слово, но то, что я стараюсь понять, пониманию не поддаётся. Это невозможно рассмотреть на расстоянии. Всё снова путается. Я уже не сознаю, что на самом деле думаю, а того меньше — верно ли то, что я говорю. Всё сбивается, становится смутным, когда я с тобой.
Это чувство — оно возникло у меня мгновенно, в первый же раз, на том концерте на площади Насьон. Скажу между нами — сперва было так легко, так радостно. Когда Сюзанна повела нас на этот концерт, разве ты уже собирался меня соблазнять? Помню, как мы слушали радио. И тут объявили, что сейчас споёт Джонни Холлидей! И как мы все трое радостно возбудились при одной мысли, что будем петь и плясать под открытым небом, прямо на улице, в парижской ночи.
Тебе тогда уже было 17 лет, а нам — неполных 14. Как всё это сейчас от меня далеко…
Максим торжественно поручил тебе быть нашим защитником. Случайно ли ты обнял меня, или я сразу угодила в ловушку, давно тобой задуманную? Я уверена лишь в одном: в том, что произошло, не было моего решения, это произошло как будто без меня самой. Я долго убеждала себя, что это всё из-за того слегка сумасшедшего празднества. Радость, охватившая тогда всех поголовно и одновременно, и эта музыка, и вдруг ощущение свободы, и это было начало лета и начало жизни, и какой-то взрыв удовольствия. Не будь всего этого, да разве посмели бы мы обнимать друг друга так крепко прямо в толпе и целоваться?
Как стыдно, Дитер, с того самого первого вечера, и этот стыд никогда не покинет нас, ты сам признаёшь это, правда?
Я прекращаю это! Хватит! Ты должен понять.
Почему я позволила втравить себя в это приключение с тобой? Не важно! Для меня тут всё кончено.
И ещё — пошёл бы ты со своими угрозами, Дитер. Я тебя не боюсь.
Оставь меня в покое!
МагдаФранцузский молодёжный журнал
1962
Письмо 28 Дитер — Магде
Тебе плевать на мои угрозы, Магда?!
Тебе, безгрешной кузине нашего святого семейства! А мне — мне тоже плевать на твои доводы вежливой послушной малышки, написанные круглым красивым почерком, — потому что я-то помню другую, молодую женщину, которая любит наслаждение, нарушает запреты и бросает вызов условностям.
Мне плевать на твои глаза стальной голубизны.
Плевать на твой силуэт испуганной лани.
Плевать на то, что я каждую ночь вижу во сне твои маленькие груди с набухшими сосками.
Плевать на то, что в одиночестве брожу по улицам туда-сюда и на каждом углу вижу тебя.
Плевать на всех тех, кто пытается указывать мне, как себя вести.
А бывает, мне плевать и на то, что ты можешь обо мне подумать.
Каждое твоё слово — враньё, я не верю тебе. За все три года ты ни разу не оттолкнула меня. И я ни разу тебя не принуждал. Никогда не было ни передо мной, ни в моих объятиях, ни в моей постели той нерешительной молодой женщины, какой ты себя изображаешь. Я даже не сказал бы, что ты была скромна. Или даже просто сдержанна.
Кого ты хочешь обмануть, Магда? Кто приходил ко мне в спальню? И ты смеешь утверждать, что никогда не испытывала удовольствия? Не стану оскорблять тебя дальнейшими подробностями, напоминать кое-что более интимное, но, будь ты здесь, я бы это сделал — я бы проник в тебя и шептал бы, шептал тебе на ухо все те слова, которые ты обожаешь выслушивать.
Как можешь ты заявлять, будто я «продумал заранее» наш первый поцелуй? И так-то ты обо мне говоришь? Как об убийце, заранее подготовившем преступление? Ты мне нравилась, это истинная правда, но так, как нравится быть с кем-то рядом, ты ведь моя кузина, я не придумывал ничего сверх этого, мы украдкой переговаривались по-немецки, и, несомненно, именно это и породило между нами некую особую близость. Но тем вечером на площади Насьон никто не мог представить себе, чем обернётся тот концерт, не могли даже сами организаторы «Привет, друзья»[15]. Эти толпы, всё прибывавшие с каждым часом, становившиеся всё радостнее и оживлённее, — это был подарок небес, что-то совсем новое. Нас было так много, мы были так счастливы, что все вместе, и мы с тобой, и все остальные, так опьянённые музыкой, возбуждённые, даже супервозбуждённые, орущие во всю мочь, и энергия рвалась из нас наружу. Поистине невероятное счастье просто быть там, хохотать, петь и отплясывать твист.
Когда я сказал двум своим приятелям, Жильберу и Жану, что ты подруга моей сестры Сюзанны, ты отнюдь не стала возражать. Ты даже чуть заметно улыбнулась в ответ. Немного позднее, уступив движению толпы, я схватил тебя за руку. И мы оба удивились тому, что с нами произошло. Ты сжала своей рукой мою чуть сильнее, чем обычно. У меня отчаянно забилось сердце, Джонни Холлидей кричал в микрофон:
Останови время, Умоляю тебя, Задержи в бесконечности Эту ночь…Тогда мы поцеловались. Это было волшебно. Безумно, безрассудно, запретно, как хочешь. Но главное — это словно вышло само собой.
Никогда не забуду охватившее меня тогда чувство. Потрясение — чувствовать нежность твоих губ своими губами, и всё, что нас окружало, откликнулось как эхо.
Это было так, будто я и ты — мы вместе открыли в себе желание изменить мир. И — бороться, спорить об этом, биться врукопашную стенка на стенку, не пытаясь выглядеть чистюлями. Именно благодаря тебе я решил покончить с самоуничижением.
Так случилось, что я познакомился с ребятами из университета, они состоят в одном студенческом союзе. И разделяют то, что я чувствую. Они в ярости от того, каков нынче мир, они антикоммунисты, и западные ценности для них превыше всего.
Мне очень увлекательно быть с ними. Я обрёл место, где могу свободно говорить, что думаю. Обо всём — и о насилии, неизбежном ради того, чтобы изменить мир и помочь победить лучшим из нас.
Мне плевать, получу ли я от тебя ответ. Плевать, потому что я тебя люблю. И ты тоже любишь меня.
ДитерПисьмо 29 Сюзанна — Магде
Париж,
7 апреля 1967
Дорогая моя Магда!
Твоё последнее письмо встревожило меня не на шутку. Мне невыносимо чувствовать, что тебе так больно. Не пойму, с чего твой отец снова превратился в того же агрессивного и тупоголового медведя. Да как он смеет осуждать тебя с таким презрением?
Я, я тебе говорю, Магда: ты — свободна. Я это знаю уже очень давно. Ты гораздо свободнее, чем любой из тех, кто вокруг меня. И с этим ничего нельзя поделать. Ты такая родилась. И это так же верно, как и то, что я тебя люблю.
Может быть, тебе стоило бы всё же спросить твоего отца, отчего он был таким злым. Впрочем, ты сама говоришь, он ведь извинился. Ты такая гордячка, что даже не желаешь замечать, как дорого ему это стоило. Об этом ты не думаешь?
Лето уже близко, скоро увидимся. Это так радует меня. Мне тоже это нужно, сама знаешь. Потому что и в моей жизни не до шуток!
С Марселем у меня так ничего и не вышло.
Самое плохое в том, что с тех пор, как я его знаю, мне становится всё хуже и хуже. Я потолстела. У меня на лице прыщи, особенно на лбу, они иногда отвратительно краснеют и превращаются в настоящие пятна, а сквозь две прядки волос кажутся островами с рваными границами. Груди совсем маленькие. Зато плечи слишком широкие, а икры как колонны в церкви, без лодыжек и без грации. Да, Магда, я нашла выражение, которое больше всего мне подходит. Я девушка, лишённая грации. Из тех, что приходят, уходят, всё ходят туда-сюда, и невозможно ни описать их, ни запомнить, как их зовут.
Однажды вечером Марсель привёл меня к себе. Он живёт в крохотной мансарде под самой крышей, в квартале Гобеленов, над мастерской одной штопальщицы чулок, которая кивает ему с насмешливой и широкой улыбкой, стоит ей только его увидеть. Я-то думала, Магда, что наконец переживу первую ночь любви.
Так вот, я ошиблась!!! Знаешь, что он мне сказал?! Что он посмел мне сказать?!!?
Он нежненько прошептал мне в самое ушко такое, хуже чего я никогда и не слышала… Что за моими повадками высокородной герцогини, которой все кругом должны, прячется маленькая, хрупкая и трогательная девчонка, которую он очень сильно любит.
Я так и осталась стоять как вкопанная, даже голос потеряла!! Он любил маленькую-хрупкую-и-трогательную-девчонку. И ещё добавил: я для него как маленькая сестрёнка, которой у него никогда не было!!!
В тот вечер я вернулась домой такой подавленной, как ещё никогда в жизни. Магда, я, наверное, кончу в монастыре. Я чувствую себя скверной, уродиной, уродиной!
Ещё через несколько дней он предложил мне пойти в кино. Взгляд у него был опять тот же, игривый и обольстительный, которому я не в силах сопротивляться. И весь сеанс я мечтала, чтобы он меня обнял.
Да, ты права, у меня совсем нет гордости!
Дописав последнюю фразу, я тут же положила ручку. Я расплакалась. Надолго. Но не беспокойся, это всё просто нервное!
Потому что есть ведь и ещё кое-что, о чём я тебе не рассказываю. Истина — она и в том, что я ещё и развлекаюсь, к тому же вовсю. Во всяком случае, намного больше прежнего…
Знаешь, я ходила в кино на «Девушек из Рошфора». Вот как мне хотелось бы жить. Жизнь как любовная история в нежно-розовом и мягко-синем, в таких живых зелёном и оранжевом, и непременно чтобы огромные цветные шляпки, обильно украшенные ягодами и цветами, и умопомрачительно красивые девушки — те, что танцуют, и смеются, и говорят о большой любви непринуждённо и беспечно, как ни в чём не бывало.
Я три раза ходила на него. Некоторые песни знаю наизусть. Мне хотелось бы посмотреть его вместе с тобой. Две главные героини — сёстры-близняшки, но они близки как сёстры и по жизни. Я как будто увидела в цветных картинках воплощение той самой связи, что объединяет нас с тобой.
Теперь скажи мне, увидимся ли мы летом? Предпочитаю, чтобы ты сказала мне правду, даже если она будет неприятной. Ладно-ладно?
СюзаннаP. S. Вот бы ты сказала «да». Как мне не хватает тебя!
МагдаПисьмо 30 Магда — Сюзанне
Берлин,
15 апреля 67
Сюзанна,
ну вот, свершилось, я вновь обрела семью.
Моя мать, Ганс и Хайди. Теперь мы живём в большом доме, который снимаем. У меня своя комната.
Это случилось в прошлый понедельник. Когда я вернулась, в квартире никого не было. Я ждала папу. Его всё не было. Я не находила себе места. Меня очень легко встревожить.
А потом в дверь позвонил Франц. Он сказал, что они ждут меня у него дома. Ещё он сказал, что они ждут не дождутся. Я почувствовала, как ноги у меня подкашиваются. Мне нужно было присесть. Я не могла произнести ни слова. Франц деликатно ждал.
Потом мы пошли к нему. У меня сильно колотилось сердце. Войдя, я услышала музыку. И голоса. И смех. Как бывает во всех семьях.
Франц незаметно исчез. Я осталась в темноте у дверей, мне было видно всех, а им меня — нет.
Папа напряжённо ходил по гостиной из угла в угол. Он не сводил глаз с моей матери. У неё на коленях лежала свернувшаяся клубочком Хайди; казалось, маме не хватало рук, чтобы сжать в объятиях свою дочь. Ганс прилип к креслу, он выглядел как посторонний. Он не улыбался. Вид был тот же, забавный и ошеломлённый, какой у него ещё и сейчас, когда я пишу тебе это письмо. Как будто происходившее вокруг него было ненастоящим.
Мне хотелось сказать «мама», но слово застряло у меня в горле. Странно — я как будто не могла их узнать. И, даже не разглядев её толком, мою мать, которая сидела ко мне спиной, я как будто почувствовала, что это не она. Мне помнилось, что у моей матери волосы длинные, и белокурые, и очень густые, от них было щекотно, когда она крепко обнимала меня, как сейчас обнимала Хайди. У этой женщины, находящейся совсем близко, я видела один только затылок. Волосы были сухими, и жёсткими, и тёмно-каштановыми.
— Магда?..
Отец наконец заметил меня.
Они все повернулись ко мне. Им тоже нелегко оказалось меня узнать. Они искали черты другой девочки, той, которую бросили и которой больше не было. Я зашла в комнату.
Мама поднялась. Я видела, что у неё на губах замер крик. Она спустила Хайди с колен — та с любопытством смотрела на меня. И мама раскрыла мне объятия.
Я сделала ещё шаг вперёд.
Мы крепко обнялись. Мама принялась плакать. Она рыдала. Не могла с собой справиться. Смешные рыдания. Хриплые. Эти крики вместили в себя все те годы, которые украли у нас. Потом мы обнялись с Гансом и Хайди.
А правда ведь, мы уже не осознаём, что это значит — быть братом и сестрой?
Хайди сразу приняла меня. С ней я чувствую себя свободно. Если нет общего прошлого, тогда проще. У меня нет повода пытаться вспоминать.
Каждое утро мы завтракаем вместе. Впятером. Прошло несколько дней, и я наконец поняла, что — да, свершилось. Это правда. У меня есть семья, дом, комната, брат, сестра, отец, который ходит на работу, и мать, бегающая по магазинам и ведущая хозяйство, она готовит еду и тоже ищет работу. Обычная жизнь. Нормальная. Как у всех.
Но на деле ничего не нормально. Всё ещё предстоит придумать. Это особенно наглядно, когда вместе ходим за покупками. Все любят разное — и в еде, и в одежде, и в убранстве комнат. Чужие с немного принуждённым смехом. Сейчас они чинят мебель. Делают ремонт. Заводят очень громкую музыку. Много слушают радио и хотят смотреть телевизор. Ганс всё время запирается в своей комнате. Завтра вместе пойдём в лицей. Впервые пойдём туда вдвоём. А сегодня утром пришла Хайди и юркнула ко мне в кровать.
— Я так счастлива, что ты моя сестра, — сказала она.
— И я, — ответила я ей.
И она заснула. А я и вправду счастлива обрести малышку-сестрёнку.
Не понимаю, отчего мне всё время хочется плакать.
Я так стараюсь улыбаться. Всё хорошо. Всё хорошо.
Вот, я рассказала тебе всё лучшее, что смогла, и, клянусь тебе, это было нелегко.
До скорого, моя прекрасная Сюзанна! (Не могут из тебя сделать девицу без грации ни три прыщика, ни пара лишних килограммов…)
(Если Марсель так на тебя действует, срочно звони Рикардо!!)
Обнимаю крепко-крепко,
МагдаПисьмо 31 Клеомена — Ставруле
Афины,
21 апреля 67
Дорогая мама!
Где ты сейчас, в эту минуту? Что поделываешь? Мне хочется верить в Бога, только бы он защитил тебя, только бы уберёг моего брата от этих чудовищ, дорвавшихся до власти и со вчерашнего дня набросившихся на нас. Но я не верю в Бога, допускающего такие несправедливости!
Я пыталась дозвониться в мэрию Пломари. Ты, должно быть, пытаешься найти меня, как пытаюсь я, как наверняка пытается и Мицо, и, скорее всего, уже поняла, что больше нет телефонной связи, как нет больше ни газет, ни ресторанов, ни открытых магазинов. Афины — мёртвый город: ни автобусов, ни трамваев, ни прохожих на улицах, а туристы в отелях сидят под арестом…
Я тебе пишу, а что толку? Отправить письмо я смогу только через несколько дней, и то если буду уверена, что оно до тебя дойдёт.
Я снова попробовала выйти из дома, чтобы узнать какие-нибудь новости. Люди тянулись и тянулись пешком на площадь, отовсюду, но в полдень они опять разошлись! Мне много раз советовали идти домой и затаиться там, как в убежище. Я видела танки и бронетранспортёры, вооружённых солдат, несколько ошеломлённых людей, в тупом и тяжёлом молчании слушавших этот голос, орущий через громкоговоритель одно и то же с самого утра: что армия захватила власть, чтобы спасти страну от катастрофы, что введено военное положение. Ещё они говорят, что после захода солнца будут стрелять по прохожим без предупреждения.
Я пришла к Бюссьерам — работать. Они сочли за лучшее отправить меня домой. У них глаза словно вылезли из орбит. Я закрылась в своей маленькой каморке. Схожу с ума.
Мне страшно.
24 апреляВыхожу после встречи с Жаком Фонтеном, который не захотел принимать меня в посольстве. Мы встретились в маленьком кафе за несколько кварталов. Он клятвенно обещал мне, что всё предпримет, лишь бы разузнать хоть что-нибудь о тебе и Мицо.
Мне приходится доверять ему, но то, что он так осторожен, лицо каменное, говорит вполголоса и убежал от меня очень быстро, едва успев допить свой кофе, — это всё меня нисколько не успокаивает.
Или ему известно что-то такое, чего он не говорит мне?
Жизнь здесь, кажется, входит в почти нормальную колею. С завтрашнего дня. Я ждала волны возмущения, уличных выступлений, восстания, которое не дало бы свершиться государственному перевороту.
Ничего такого не случилось.
Ничего! Ты понимаешь, о чём я. Это повергает меня в такую ярость!!!
Я опять пыталась звонить тебе в Пломари. Трубку снял кто-то из мэрии. Но стоило мне произнести твоё имя, как связь тут же прервалась.
Вчера вечером я хотела сесть на корабль. Посол меня отговорил. Сперва он хочет навести справки.
Я схожу с ума от этого — ждать и ничего не мочь сделать. Схожу. С. Ума.
Вчера в бакалейной лавке я слышала, как кто-то говорил, что выбран, несомненно, наилучший выход. И это может призвать людей к порядку. И что нельзя продолжать дальше так, как было.
Как такое возможно, чтобы люди предпочитали демократии диктатуру?
Танки на улицах Афин
21 апреля 1967
* 21 апреля 1967 года «чёрные полковники» захватили власть в Греции путём вооружённого государственного переворота. Буквально на следующий день были арестованы все ведущие политики и начались репрессии применительно к «левым» и подозреваемым в сочувствии к ним.
26 апреляВчера мне стало известно, что по доносу семьи Бюссьер арестовали сотни людей, «плохих греков», как выражается новое правительство.
Другие люди рассказали мне о списках, состоявших из имён участников Гражданской войны[16].
Я поняла.
Едва услышав, что начали перевозку заключённых на остров Йарос, я пошла в порт. Я видела женщин и детей, больных стариков с пустыми глазами, людей всех возрастов и социальных положений. Все они шли молча, высоко подняв головы. Не знаю, на что я ещё надеялась. Я хорошо знала, что вас не могло быть там. Разве что, может, Мицо?
Я подумала, а не взойти ли вместе с ними на этот корабль.
Но ведь ты никогда бы не простила мне, не правда ли? Я хочу жить, мама, клянусь тебе в этом.
Кому я всё это сейчас пишу? Я даже не могу отправить эти несколько слов, не подвергнув тебя опасности, мама, любимая моя.
В тот же день, немного позднееЯ прошла перед посольством Франции. Жак Фонтен просил меня снова подойти, когда стемнеет. Я так и сделала. Он подтвердил всё, что я и предчувствовала. Мы все в этих списках. Я тоже, и мне грозит опасность.
Мама, я скоро уеду во Францию. Другого выбора у меня нет. Мой билет оплатит Фонтен. И займётся моими документами и всем остальным.
Я не хотела.
Но Бюссьеры больше не желают, чтобы я у них работала. Они вполне могут донести на меня.
Я скоро уеду. Я не перестану тебе писать. И думать о тебе.
Увидимся когда-нибудь, μητέρα μου[17].
КлеоменаПисьмо Жолио Кюри[18]
Дорогой мой Жолио, пишу тебе с Аи Стратис[19], мы все здесь, нас около трёх тысяч;
Обычные люди, есть рабочие, а есть образованные,
В плащах с дырами на плечах,
А в солдатском мешке
Луковица, пять оливок и краюха солнца.
Люди обычные, как деревья на свету,
Люди, за которыми нет никакой вины,
Кроме любви, как и у тебя,
К свободе и миру.
Мой брат Жолио,
Сколько уж лет мы переселяемся
С одного пустынного островка на другой,
Неся палатки на спинах,
И не разбить нам палаток,
И не поставить пожитки на груду камней,
Не побриться и не выкурить по полсигареты
От переклички до переклички,
От наряда до наряда,
Таща в карманах старые фото, на которых — весна;
От времени выцвели они, их теперь не узнать.
Сад вроде наш, но каков он теперь?
И как они там, губы, шептавшие нам «люблю»?
Как они там, две руки, укутывавшие тебя одеялом
до плеч,
Когда, чтобы заснуть, у тебя только прохладная
рубашка улыбки,
Мы забыли.
(…)
Мы столько вынесли, Жолио, столько вынесли
И сколько ещё терпим,
Спать в грубых солдатских башмаках,
Без капли воды в южном пекле,
Без весточки в зимний мороз,
Даже не услышать тишину
Меж двух слов,
Меж двух рук, сцепленных в рукопожатии,
Только тишина перед сном.
Только тишина после любви,
Тишина ставни, запахнутой от дождя,
Тишина распускающегося цветка,
Лампы, которую зажигают, когда уже все собрались,
Лампы, которую гасят, говоря «добрых снов»,
Тишина после аплодисментов,
Пальцем на полу рисующая счастье для всех
После торжественного шествия свободы и мира.
Период III Май — декабрь 1967
Письмо 32 От Жака Фонтена, посла Франции в Афинах, декану университета Сорбонна
Париж,
30 апреля 1967
Дорогой друг!
Вчера у меня едва нашлось время пересечься с вами. Прежде чем вернуться в Афины, я счёл своим долгом поблагодарить вас за то, что вы любезно согласились принять мою маленькую протеже, как только возобновятся занятия. Я абсолютно уверен, что вы не пожалеете о вашем великодушии. Эта юная девушка — редкостная жемчужина, и я лично могу это гарантировать. Сейчас я совершенно открыто разыскиваю следы документов о её школьном образовании, чтобы представить их вам как можно скорее. Тем не менее вы, надеюсь, поймёте, что это может оказаться делом нелёгким, учитывая нынешнее политическое положение, с которым мы столкнулись в Греции. И всё-таки я сделаю всё возможное.
Клеомена Рунарис — из семьи крупной афинской буржуазии. Её отец был известным университетским преподавателем, специалистом по вопросам права и доктором философии. Жену и сына арестовали в числе первых. И стоит опасаться самого худшего, поскольку мне не удалось добиться никакой информации об их дальнейшей судьбе. На сей момент мне нечего сообщить Клеомене. Это может стать для неё слишком жестоким потрясением. Нужно дать ей время.
Если же возникнут проблемы административного характера — без колебаний обращайтесь к Максиму: он дал согласие опекать её во Франции на законных основаниях.
Шлю вам привет, дорогой Гюстав, и жду этим летом, как и каждый год, в Миконосе вместе с вашей супругой, которую прошу обнять за меня.
Жак ФонтенПисьмо 33 Клеомена — Ставруле
Париж,
16 мая 1967
Мама, μητέρα μου!
Я больше не могу спать. Меня всё ещё преследует чувство, что меня вот-вот найдут, уволокут насильно, чтобы швырнуть на остров, заражённый крысами, без воды и хлеба. И вдобавок стыдно, что я выбрала бегство, оставив вас, думая только об одной себе. До меня всё никак не может дойти, что я в Париже. Что я здесь делаю, когда вы — там, брошенные где-то на острове, может быть, на том же, где был и папа? Вы хотя бы вместе там?
Время идёт, но ничего не меняется. Я жду вас. Не могу представить, что с вами может случиться что-нибудь страшное. Мне необходимо знать, что вы живы.
Я нашла бумагу для письма. Отошлю мои письма Жаку Фонтену. Какой он прекрасный человек… Вот тут уж можно быть по-настоящему уверенной. Вы, несомненно, придёте увидеться с ним, чтобы уехать ко мне, когда снова станете свободными.
Мне не хватает вас.
18 маяИ всё-таки в конце концов мне пришлось заснуть. Больше ничего не помню. Сейчас совсем темно, я слышу шум дождя над моей головой. В каком крошечном, заброшенном углу я живу, как далеко. Холодно. Во мне опустошение.
22 маяСегодня ко мне приходила какая-то женщина. Её зовут Ильза. Я не очень-то поняла, кто она. Она вошла в комнату, когда я спала. И вдруг оказалась прямо передо мной, громадная и безмолвная. Она изучала меня таким внимательным взглядом, что я вся съёжилась; после стольких часов одиночества я даже не была уверена, что это все наяву. Но мне не стало страшно. Наконец она присела на краешек узкой железной кровати, на которой я лежала. Я закрыла глаза. Мне опять захотелось спать. Я не вынесла бы никаких вопросов. Она походила на женщину, что приезжала на лето в Мегалохори, в тот большой пустой дом на краю скалы, всегда одна, облачённая в длинную белую льняную тунику. Помню, как я издалека пыталась представить себе, сколько морщин избороздили её обгоревшую кожу, при этом нисколько не замутив ясного взгляда и не повлияв на изящество движений. Помнишь, мама, ты ещё говорила мне, что она художница, но холсты свои никому не показывает?
Я рассказала об этом Ильзе, и тогда она обняла меня и принялась качать, как ребёнка. Я не сопротивлялась. Мы не плакали.
Вдруг её больше не было.
Мама, ты жива, потому что я тебе пишу.
25 маяУ меня больше нет температуры. За мной ухаживали. Думаю даже, ко мне приходил врач. Некая Фаншетта каждый вечер приносит мне суп. Она не произносит ни слова. Мне нужно при ней съесть всю тарелку. Потом она уходит. Невозмутимая. Это её, должно быть, я слышу по ночам — она спит чуть подальше, в той комнате, что под самым чердаком. Она каждую ночь весело хохочет во сне и не просыпается, а мне приятно слышать это и есть её суп тоже.
Я уже не знаю, какой день сегодня, и не хочу высчитывать.
Я живу в комнате для прислуги дома Лаваголейнов, отец в этом семействе — богатый банкир. У них дочь, Сюзанна, моя ровесница, сын, которого я никогда не видела, Дитер, и только что родившийся младенец Леон. Фаншетта — моя соседка по комнате.
Максим Лаваголейн — друг детства Фонтена. Я могу оставаться здесь, сколько мне нужно. По крайней мере, мне так сказали.
Фонтен вернулся в Афины, а я не смогла его поблагодарить.
Сегодня я была приглашена пообедать с семьёй Лаваголейн!
Дверь мне открыла та самая Сюзанна, хозяйская дочка. Она сразу же стала вести себя со мной с подчёркнутой теплотой, чтобы я чувствовала себя непринуждённо, но я не облегчала ей этой задачи. Сперва она показалась мне манерной принцессой на горошине, привыкшей к деланому жеманству. Ломается, хлопает ресничками и натужно хохочет. Всё то, что я ненавижу. Она словно играла роль мадемуазель Сюзанны Лаваголейн и то и дело заглядывала мне в глаза, чтобы убедиться: да, это ей удаётся. Рядом с ней я чувствовала себя простушкой.
Чтобы попасть в столовую, надо пересечь всю квартиру. Я просто обомлела, проходя по анфиладе комнат и коридоров, где всё — разноцветные ткани, толстые ковры, шкафы с инкрустациями, глубокие кресла, маленькие лампы в каждом уголке и картины на стенах — абсолютно всё говорит о роскоши и хорошем вкусе. Тут каждый предмет имеет своё имя, и маленькая гостиная переходит в гостиную голубую, а та соседствует с будуаром и ведёт в столовую, где мы ели. В конце коридора я даже заметила большую беломраморную лестницу, должно быть, ведущую в спальни.
— Тут около тысячи квадратных метров, — с гордостью сказала мне потихоньку Сюзанна.
— А… — ответила я, напустив на себя как можно более безразличный вид.
Она покраснела. Я тоже. И тут, вопреки всем ожиданиям, мы почувствовали, что у нас много общего.
Они убеждают меня, что я замечательно говорю по-французски. Эти слова будто воскресили для меня отца и его обезоруживающую улыбку, которой он улыбался так редко.
Под конец обеда Сюзанна предложила показать мне университет. Своим друзьям она представила меня как беженку из Греции, жертву диктатуры. Они все — одна компания и собираются каждый день в кафе на площади Сорбонны. Они просто кипят от вопросов, которыми тотчас меня осыпали. Я отвечала как могла. Они показались мне очень возбуждёнными, смело и открыто говорящими обо всём на свете и сразу предложили мне выступить с прямыми свидетельствами, стать общественной активисткой, написать в журнал. Я вежливо отклонила все предложения. Совсем не чувствую в себе такой боевитости.
Я встретилась взглядом с Сюзанной. Она улыбнулась с таким простодушием, какого я в ней даже не предполагала. Я почувствовала, что злюсь на саму себя: зачем позволила себе осудить её так сразу? Марсель, один из её друзей, предложил свести меня с греками-беженцами. Я не сказала ему, что уже встречалась с некоторыми из них и что от их тревоги за близких у меня зверски болит всё внутри. Лучше бы мне не видеться с ними. Я поблагодарила его чуть поспешнее, чем прилично для прекращения разговора. И продолжила беседовать с девушкой, которую зовут Дебора. О чём мы с ней толковали, даже и не вспомню. Я не переставала думать о взгляде, каким на меня смотрел Марсель.
Долгий взгляд, словно ожог.
Когда я уже точно собралась уходить и взмахнула рукой, чтобы попрощаться, некий Борис сказал Марселю довольно громко — нарочно, чтобы я услышала:
— Как думаешь, она сама понимает, до чего хороша?
Марсель не ответил. И не помахал мне рукой на прощание. Но стоит мне о нём подумать, как сердце у меня каждый раз вспыхивает от его деланого безразличия.
На обратном пути Сюзанне вздумалось меня предупредить. Мне, видите ли, не следует ему доверять. Она говорит, что он всегда в кого-нибудь влюблён.
Я ответила, что для меня сейчас имеет значение только учёба и мне необходимо в ней преуспеть. Я очень серьёзно сказала это. И сейчас серьёзно повторяю в письме, когда пишу тебе. Только для этого я здесь, во Франции. Так далеко от вас.
В конце концов, несмотря ни на что, мы с Сюзанной расстались как лучшие подруги.
И мне правда хочется понравиться им — людям, проявившим ко мне такое великодушие.
6 июняМама, я не знаю, чем закончить это письмо, которое к тому же не совсем письмо. Мне не хочется ставить последнюю точку, а хочется продолжать писать и писать тебе, как будто я с тобой разговариваю, как будто ты не так далеко, как будто твоя жизнь не подвергается опасности каждый миг.
Целую тебя. Я отправлю эти слова по почте. И скоро напишу тебе ещё. Да, и Мицо тоже напишу, клянусь тебе.
КлеоменаПисьмо 34 Сибилла — Ильзе
Берлин,
24 мая 1967
Дорогая моя Ильза, старая подружка!
Я уже отчаялась уговорить тебя приехать на несколько дней к нам в Берлин. Но раз ты не отвечаешь на телефонные звонки, то подозреваю, что ты всё ещё колеблешься. Вот почему я и решилась написать тебе. Я сижу за кухонным столом, думаю о тебе, и мне от этого хорошо. Раз уж я снова могу наконец говорить с тобой и переписываться, то, значит, ещё не всё потеряно, понимаешь мои чувства, да? А замечала ли ты, что наши дочери дружат, как и мы? Я и оглянуться не успела, как они выросли такими большими… А всё-таки хуже всего это ощущение, что у меня украли жизнь.
Ты много раз спрашивала меня по телефону, как мои дела. И каждый раз я отвечала тебе одной и той же фразой: «Кажется, ничего». Уже так давно никто не интересовался, как на самом деле обстоят мои дела.
Как их описать, пять последних лет, чтобы не омрачить ни твой день, ни мой?
Снова научиться быть собой оказалось труднее, чем думалось, и говорить от своего имени тоже. В восточном секторе, в тюрьме, со мной так часто обращались как с вещью. Вещью, которую запирают, переставляют, допрашивают, освобождают и снова запирают на ключ. Отказываясь объяснять за что. Внезапно приписывая тебе измены, о сути которых ты и понятия не имеешь. Вырывая у тебя признания. Или бесстыдно придумывая их. Истина их мало интересует. В счёт идёт только то, что ими же и сфабриковано, чтобы придать легитимность их подозрениям. Надо мною так неусыпно бдили, Ильза, что в конце концов мне пришлось подавлять любую мысль, едва лишь тень её возникала у меня на лице. Я была убеждена, что зло у меня внутри вопреки моей воле и, чтобы выжить, мне нужно со всем соглашаться — так со временем они хоть немного отстанут и оставят нас в покое. Видимо, я ошибалась. Они так и не отстали от нас и не отстанут уже никогда. Они всегда были убеждены, что мы собираемся сбежать. При этом так ни разу и не нашли этому никакого подтверждения. Когда они арестовали меня аккурат сразу после того, как освободили Карла, в январе 62-го, то посадили в совсем крохотную камеру без окон, площадью два метра на два. В таком вот, с позволения сказать, местечке, совсем одна и не зная, что делать, ты очень скоро утрачиваешь представление о времени, о том, кто ты на самом деле есть, и перестаёшь следить за поворотами своих мыслей. И когда они выводят тебя на допрос, тебе трудно снова стать самой собой, ты прекрасно осознаёшь, что не вполне уже в себе, с трудом произносишь слова, просишь по нескольку раз повторять вопросы и видишь, как это их раздражает, а ведь тебе хочется постараться им понравиться, так что приходит наконец момент, когда тебя разбирает смех от всего этого и ты говоришь им: «Это глупость какая-то, все эти ваши вопросы, и допросы, и моё заключение в тюрьму. Да вы и сами знаете, какая это глупость, а что, не так, что ли?» — и доводишь до того, что они хлещут тебя по щекам, принимаются орать на тебя и, наконец, не отпускают в туалет, чтобы ещё покруче тебя унизить, потому что больше всего им от тебя нужно, чтобы ты уступила и поддалась. И наконец тебя отводят обратно в твою крошечную камеру. Вот ты снова одна и не знаешь, доколе будет так, и ты слышишь, как они уходят, спорят о чём-то вполголоса, смеются, ты воображаешь, что, наверное, делятся своими планами на вечер, и вслушиваешься в звук их удаляющихся шагов. Они предоставили тебя твоей судьбе, и это самое худшее. Одиночество. Это даже хуже, чем смерть. Ты предпочла бы броситься в пустоту. Но они лишили тебя и этого.
Даже это, моё желание исчезнуть, у меня похитили.
Как-то утром меня вывели из камеры и вышвырнули на улицу. Я была свободна. Карл оставался в тюрьме. Против нашей семьи вели следствие, раскопали ещё что-то неблагонадёжное. Обоих наших детей поместили в учреждения, которым поручено заниматься их воспитанием. Я приложила все силы, чтобы найти их. Я хотела их повидать. Хайди было всего полтора года, Гансу не исполнилось и десяти. Много недель утекло, пока наконец мне сказали, где они; и понадобилось ещё несколько недель, чтобы получить разрешение прийти на них посмотреть. Тысячу раз пыталась я наплевать на это их разрешение. Мне приходилось смирять свой гнев. Просто каждый день появляться в их кабинетах, тихонько стучать в двери администрации, заполнять запросы, иногда десять раз один и тот же, и неутомимо повторять одно и то же: «Я хочу видеть своих детей».
В первый раз Хайди так и не сошла с рук своей «няньки». Стоило мне подойти к ней близко, как она тут же повисла у неё на шее, будто я хочу сделать ей больно. Она только дотронулась кончиками пальцев до моей щеки, по которой текли слёзы. Я запела её любимую песенку — «Schlaf, Kindlein, schlaf»[20], она выпучила глазки, так и застыв на руках у этой чужой женщины, которую я ненавидела. Meine kleine Puppe[21], куколка моя, ты боялась меня…
Непросто вышло и с Гансом. Нас ни разу не оставили наедине. Я не могла ни о чём ему рассказать. Кто знает, что ему там наплели? Им вполне удалось породить в наших детях недоверчивость. Я сказала ему о сестрёнке. Говорила, что тоскую по нему, что вся моя жизнь проходит в неустанных мыслях о них и когда-нибудь мы все опять будем вместе, и дала ему в этом торжественное обещание. И тут — единственный раз — наши взгляды встретились.
Через несколько дней нам вернули детей, ничего так и не объяснив, почему их у нас отняли.
Зато теперь вот нужно идти встречать из школы Хайди. Вчера она спросила, можно ли ей пойти полдничать к её новой подружке Софии. Ещё её пригласили на день рождения к какому-то Себастьяну. Его родители предложили устроить для нас вечеринку, они каждую весну организуют для всего квартала маленькое торжество в своём саду. Решили так и сделать. Сейчас из лицея вернутся Ганс с Магдой. Он на первых же уроках получил очень плохие оценки. Мне кажется, он просто не понимает, чего от него требуют. Магда пытается объяснять ему, но не получается, он упрямится. Он-то ничего не говорит, но я замечаю, что он больше не показывает ей свои тетрадки. Я полностью его понимаю. Как отделаться от ощущения, что тут, на Западе, все словно сговорились вежливо преподать нам урок? Что нас воспринимают как отсталых? Это действует на нервы. Чтобы обжиться, освоиться в новой обстановке, требуется время, и к школьным программам тоже надо привыкнуть, они не исключение. Вот и всё.
А что касается Магды…
Не знаю даже, что тебе и сказать. Она осталась верна самой себе. Такая же замкнутая, если не сказать загадочная. Может быть, даже ещё чуть-чуть нелюдимее. Но Хайди обожает сестру. Я так люблю слушать, как они вместе хохочут.
Жить обыкновенной жизнью — это так странно…
Я ничего не сказала о твоём письме. Как и о твоей депрессии. И не знаю, что сказать об этом. Мне бы хотелось выслушать, как ты об этом расскажешь.
Скажу разве что пару слов.
Скорее воспоминание. О тех двух одиноких годах в Берлине, с нашими малышами, когда мы боролись, как гиены, чтобы только выжить среди ужаса, в котором вдруг оказались. О таком не расскажешь. Зализываешь раны. И вот когда становится не так больно и мы можем встать, мы снова идём вперёд и стараемся забыть. И это удаётся. А что, не так, что ли? Удаётся до тех пор, пока боль не возвращается, чтобы снова душить нас.
Но эта боль — она, должно быть, гложет нас изнутри незаметно для нас самих. И если так происходит вопреки нам, вопреки нашей воле — это надо признавать, как признают поражение. Нужно уметь переживать бури. И снова отстраивать целые города, разрушенные ураганом.
Жду тебя в Берлине.
СибиллаПисьмо 35 Марсель — Клеомене
Париж,
22 мая 1967
Дорогая Клеомена,
вас что-то давно не видно. Дебора сказала мне, что вы устроились на работу в «Бон-Марше» и вам там очень тоскливо. Я наведался туда сегодня, надеясь устроить вам сюрприз своим появлением. Но вас невозможно отыскать среди этих старых крикливых и накрашенных куриц. Или вы уже успели уволиться?
Тогда я пошёл поболтаться по набережным. Накрапывал мелкий дождик. Букинисты укрывали книги папиросной бумагой. Но я всё-таки кое-что нарыл, восприняв это как добрый знак. Этот «Очерк теории эмоций» перевернул всю мою жизнь. Я только недавно перечитал его. Думаю, вам понравится. В любом случае это хорошее для вас чтение.
Марсель БланзиP. S. Разрешаете ли вы мне называть вас на «ты»?
Жан-Поль Сартр, «Очерк теории эмоций», издание 1939 г.
Письмо 36 Сюзанна — Магде
Париж,
23 мая 67
Ну как же, Магда, мы дошли до того, чтобы так быстро и крепко поссориться? Я так радовалась, узнав, что у тебя появится телефон! Воображала, как легко и непринуждённо мы будем каждый день сообщать друг другу новости и обмениваться мыслями. Ведь мне так этого не хватало! И вот я опять пишу тебе письмо, а на сердце тяжело и на душе скребут кошки.
Я несколько раз набирала номер. Но трубку никто не берёт…
Ты всё ещё злишься, скажи?
Прости меня, мне жаль, не знаю, что на меня нашло, мне ни в коем случае не следовало бросать трубку. Ты же знаешь, какая я вспыльчивая, но ведь сразу остываю, и мне стыдно. И ещё больше стыдно, как подумаю, что ты-то никогда так не срываешься.
Я сержусь, что тебя здесь нет.
Знаю, что я несправедлива и эгоцентрична. Но сейчас это ничего не меняет, я по-прежнему сержусь, особенно с тех пор, как поняла, что в ближайший год ты не уедешь из Берлина.
Но дело не только в этом. Я точно знаю, почему вдруг обезумела от ярости. Это совсем просто и совсем некрасиво: я тебе завидую! И мне вовсе тут нечем гордиться. Но раз уж это чувство охватывает меня с каждым полученным от тебя письмом и стало особенно сильным, с тех пор как ты вновь воссоединилась со своей семьёй (соглашусь с тобой, что выглядит это печально и удручающе), то уж лучше я тебе об этом скажу, по-любому лучше, раз уж я неспособна хитрить, и мне остаётся одно — обо всём говорить тебе честно, чтобы ты, по крайней мере, знала, чего ждать от старой подружки…
Осознаёшь ли ты, до какой степени изменилась? Мне кажется, с каждым письмом ты всё дальше от той Магды, которую я некогда знала. Ты увлечена своей жизнью, которая похожа на настоящий приключенческий роман. Так ведь оно и есть — это такая красивая история, ваши встречи после разлук, тот дом, в котором вы сейчас вместе делаете ремонт, и все эти отношения, которые ещё предстоит выстроить. У тебя даже есть теперь малышка-сестричка, которая тебя обожает… так с чего бы тебе скучать по мне? А главное, зачем приезжать в Париж, как раз когда от семьи Лаваголейн осталось одно название?
Ну вот, сама видишь, я злюсь на тебя оттого, что ты счастлива. Мне бы порадоваться, а я плохая, мне стыдно, но ничего не поделаешь.
Я уже не узнаю саму себя, Магда, и проблема не только в отражении в зеркале. Я помню, какое это было настоящее счастье — открывать глаза по утрам, помню затаённый восторг от вида наступающего дня, нетерпение жить, возникавшее с такой же неизбежностью, что и горячий шоколад Фаншетты.
И всё это покинуло меня. Похищено, утрачено, бежало. Умерло.
Теперь мне не хорошо нигде.
Иногда мне хочется вернуться обратно. Я мечтаю снова стать послушной и дисциплинированной, воспитанной и очаровательной, прелестной бездарью без мозгов. Я вышла бы замуж, нарожала бы детей, ни в чём бы не нуждалась. Я убеждаю себя, что всё возможно, было бы желание. И я снова думаю о сёстрах Сент-Клотильд и о наших одноклассницах, которые с такой лёгкостью вросли в школьную форму, спеша сыграть заранее написанные для них роли.
Я им завидую (да, им тоже!!!) — они нашли своё место.
Потому что, признаюсь тебе, я больше не в своей тарелке с Марселем и его компанией. Мне скучно, когда они говорят о политике, я теряюсь, когда они спорят о противоречиях в различных течениях левоэкстремистского толка, конфликтах между маоистами, сталинистами, троцкистами-ленинцами и ситуационистами. Правда в том, что они мечтают о захвате власти, а мы, девушки, смотрим, как им это удастся, сторонние наблюдатели издалека, как всегда. Я не так сильна — или не так красива, чтобы быть им нужной. Кроме того, меня преследует страх оказаться посмешищем, если я выскажу свои мысли.
Даже танцевать мне больше не хочется.
Я неприятная, да? Да, я неприятная, вот оно, слово, подходящее мне, как перчатка — руке.
Маме лучше. Она всячески старается снова наладить в доме жизнь, похожую на прежнюю. Как будто ничего не произошло, понимаешь ты это, нет? Я прекрасно вижу: она была бы рада поговорить со мной и всё бросает в мою сторону тревожные взгляды. Но любой вопрос, который она мне задаёт, меня бесит. Мне нечего ей ответить. Я на неё сердита. Взять и вот так ни с того ни с сего заболеть, стать такой хрупкой, когда я-то считала её нерушимой скалой, и вот опять превратиться в себя прежнюю, всегда красивую, без изъянов, замечательную!! Даже её манера переживать папины измены… Она уравновешенна, полна достоинства, она стоит нерушимо, только я её больше не переношу.
Папа, как и раньше, бывает дома через день. Он подарил мне фотоаппарат. Я не знала, что сказать. Только буркнула, что никогда ещё не делала фотоснимков… Он ответил: «Тебе повезло, эта модель войдёт в историю». И вышел из дому.
Надеюсь, ты больше не злишься. Ответь поскорее!!
Сюзанна-разочарованнаяP. S. Ладно, Магда, вот чего я тебе ещё не рассказала. Да это и правда немного грустно. Я переспала. Со случайным знакомым. Это приятель моего кузена Поля, он тоже был в замке, куда я приехала на несколько дней праздновать Вознесение.
Готово, сделано.
Гордиться тут нечем. Я пишу тебе про это и чувствую себя законченной идиоткой.
Ужасно, как я разочарована.
Письмо 37 Магда — Сюзанне
Берлин,
27 мая 67
Ох, моя нежная Сюзанна, ведьмочка моя, обожаемая подружка… Я только что повесила трубку. Верь мне, я не приемлю ничего, что поссорило бы нас с тобой. Но мне невыносимо, что ты бываешь так вспыльчива… Меня до сих пор трясёт от этого. Мама сказала, что ты пыталась до меня дозвониться. Я предпочитаю не возобновлять разговор прямо так, сразу. Я знаю тебя. Конечно, ты уже жалеешь и в то же время, как не до конца задутый огонь, способна снова вспыхнуть и опять начать упрекать меня неизвестно в чём!
Мне нравится твоя манера общаться — прямая, непосредственная. Твоя чистосердечная искренность, которой я, похоже, лишена от рождения и которая так нравится мне в тебе. Возмутительница спокойствия — вот кто ты, несуразная моя Сюзанна, и даже если это мне не нравится, ты всё равно была права. Я девушка осторожная, послушная, вечно боюсь ссор и склонна воображать всякие катастрофы. Но ты-то знаешь, что несчастья и правда случаются?
Да, ты хорошо это знаешь…
Я не могу вернуться жить в Париж. Мне нужно время, чтобы снова привыкнуть к своей семье. Я не могу не попытаться. Знаю, что ты поймёшь.
Верь мне — я приеду на несколько дней в Сен-Рафаэль. И пусть это не всё лето — приеду хоть так, клянусь!
Ещё одно… Несколько дней назад мне позвонила твоя мама. Она сказала, что перестала понимать, как с тобой общаться. Ещё она говорит, что ей не было бы так тяжело, если бы она чувствовала, что ты счастлива, но она тревожится, видя тебя такой одинокой и свернувшейся ёжиком… Тебя-то, которая всегда была такой весёлой и в хорошем настроении, всегда полной энтузиазма! Она очень хорошо осознаёт, сколько ты всего сделала для неё и для Леона. Но интуитивно она подозревает, что дело тут в чём-то другом. Она умоляла меня спросить тебя об этом. Ну вот, я это и делаю. И тоже говорю тебе — хоть она и запретила мне, — что это она тревожится о тебе, а не я.
Ведь, что бы ни случилось, ты мне об этом напишешь. Так?
МагдаЭтот фрагмент не имеет датировки
Письмо 38 Клеомена — Марселю Бланзи
Париж,
31 мая 1967
Дорогой Марсель!
Мы расстались, одинаково смущённые друг другом. Что за мысль вам пришла — повести меня на такой фильм! Мне хочется верить, что этот Бунюэль — один из величайших режиссёров нашего времени, раз уж вы с таким жаром это утверждаете, и что Катрин Денёв — самая красивая в мире актриса. Могу ещё допустить, что эта «Дневная красавица» стремится разоблачить конформизм буржуазии и именно эту среду режиссёр намеревался шокировать. И раз уж он хочет освободить речь и сексуальность от уз предрассудков — пусть его! Я прекрасно поняла его образ мыслей, и если в теории, то почему бы и нет?
Но если говорить правду, то я предпочла бы не смотреть этот фильм с вами. Я вас так мало знаю. Я сидела в этом зале словно взаперти, мне было так неловко.
Вы принесли извинения, но этого недостаточно. Я считаю вас высокомерным. Кроме того, у меня нет ни малейшего желания войти в вашу восторженную свиту. И происходит это, полагаю, от полученного мною воспитания, над которым я запрещаю вам издеваться. Я много говорила о вас с Сюзанной и Деборой, но встречалась ещё и с Мартиной, Моникой и Люсеттой. А что касается Брижит, она до сих пор не исцелилась от того, что приняла за настоящую любовь.
И что же — вы любили их всех?!
Дон Жуан тоже претендует на абсолютную искренность, когда предлагает руку и сердце каждой женщине, добиваясь новой любви, перечёркивающей предыдущую, сохраняя иллюзию вечного начала. Вам не втянуть меня в эту игру, Марсель, я ведь не гусыня.
Я никогда не буду зависеть от мужчины, я не собираюсь выходить замуж, я не хочу заводить детей, я не доверяю всем этим чувствам, в плен к которым, как я вижу, угодили все ваши подружки. Они зависят от вас и ваших капризов, и это ничуть вас не смущает, напротив, вы укрепляете ваше превосходство, не допуская даже мысли, что поступаете дурно, ибо это пользуется одобрением во всём обществе.
Уж не думаете ли вы, что женщина могла бы поставить вашу «Дневную красавицу»? Сомневаюсь в этом… И тем не менее мне было бы очень любопытно понять, как эта женщина решилась сыграть для зрителей собственную сексуальность. А вам — нет?
Но ведь и в этой стране, как и во всех прочих, наслаждение женщины вторично — оно имеет значение лишь после вашего.
Прощаю вам ваш неловкий поцелуй, Марсель. Надеюсь, и вы извините пощёчину, которую получили в ответ.
КлеоменаПисьмо 39 Марсель — Клеомене
Париж,
31 мая 1967
Поверишь ли ты мне, Клеомена, если скажу, что ночью я не сомкнул глаз? Я пил до зари и не мог опьянеть, я блуждал по городу, гневаясь на себя самого, такой несчастный, что ты не можешь даже себе представить. Повсюду преследовала меня тень твоего раненого взгляда. Чудовищно, как мне стыдно. И вот в довершение всего я прихожу домой и распечатываю твоё письмо.
Ты права, я вёл себя как дурак, и мои извинения никогда не сотрут из памяти этот пагубный вечер, от которого я, между прочим, ожидал настоящего праздника! Я мечтал о нём с первого раза, как увидел тебя, ещё не зная твоего имени, не спросив, откуда ты приехала, едва услышав твой голос… Как тебе об этом сказать и при этом не выглядеть идиотом? Ты — воплощение всего, чем желал бы обладать мужчина. Ты невероятно красивая, Клеомена, какой-то нереальной красотой, и лучистой, и торжественной, ледяной и чрезмерно чувственной. Но больше всего ошеломляет, что ты, кажется, сама не подозреваешь об этом. Ты вполне счастлива просто быть, одаривать нас своей прелестью с полнейшим великодушием, почти жестоким оттого, что ты не соразмеряешь оказываемого тобою действия.
Здесь я останавливаюсь. Я мог бы часами напролёт говорить тебе о наслаждении, с которым я любуюсь изгибом твоих бёдер и очертаниями ресниц, представляю, какие у тебя длинные волосы, стоит тебе их распустить, и как длинны твои ноги, скрытые под ужасными чёрными юбками, которые носишь с самого своего приезда. Да, правда, здесь мне пора остановиться. Не хочу вдобавок признаваться тебе, что считаю тебе ещё и умной и тонко чувствующей. Ты — пришелец из иного мира, и ты знаешь о жизни куда больше нас всех. Мысли о тебе сводят меня с ума.
После всего, что я тебе тут написал (рискуя вызвать твоё раздражение), я всё-таки хочу закончить наш спор, он слишком быстро оборвался вчера вечером. Я не только поклонник фильма Бунюэля как произведения искусства, я ещё и его политический сторонник. Это, я сказал бы, протест против господства власти и церкви над телом и над нашими желаниями. Знаешь ли ты, что фильм Риветта «Монахиня» по роману Дидро[22] так и не вышел в широкий прокат, хотя и был показан в Каннах прошлой весной? Тут атака не просто на свободу выражения. Нам продолжают навязывать представление о мире, отрицающее жизнь с её наслаждениями. Тут стремление забросать грязью всё, что связано с телом и исходит от него, объявить стыдным самый естественный акт в мире, вмешиваться в самые интимные глубины нашей души, чтобы навязать упрощенческое представление о добре и зле и сыграть на руку силам реакции.
Я уже давно принял решение — избегать всего, что умаляет мои потребности и чаяния или препятствует им. Я хочу жить свободным, это одновременно и смешно, и головокружительно.
Но я уверен, что ты понимаешь всю силу этого решения. Интуиция даже говорит мне, что это решение объединяет нас. Оно у нас общее, у тебя и у меня, и оно выше всего, что нас разъединяет…
Теперь два слова обо всех тех женщинах, о которых ты упоминаешь в письме. Это правда, все они были моими любовницами. Я этого и не скрываю. Я люблю заниматься любовью, люблю женские тела, и это мой принцип. Моё тело не принадлежит никому, и я не чувствую себя собственником ничьего тела. Я не хочу, да и не могу связывать себя обязательствами на всю жизнь, не хочу, да и не могу быть верным исключительно кому-то одному. Претендовать на противоположное — значит идти против влечения и природы. Нам пора избавляться от всех пут буржуазности. Я нахожу это удивительно весёлым! И плевать я хотел на всех доброжелательниц, уверенных, что, наговорив обо мне гадостей, они сделали доброе дело. Не верь им! Ибо я никакой не Дон Жуан. Я не лукавлю, я не обещаю ничего сверх того, что способен дать, и даже настаиваю на исключительности каждой любовной страсти, пережитой мной, и тех, что я ещё переживу в будущем.
Дорогая Клеомена, согласишься ли ты встретиться со мной ещё раз? Я очень хочу открыть тебе Париж.
МарсельПисьмо 40 Магда — Сюзанне
Берлин,
1 июня 1967
Ты не ответила на моё последнее письмо, Сюзанна, а отец не пускает меня к телефону и не даёт тебе позвонить. Дело тут не в деньгах. Он говорит, что Штази по-прежнему следит за нами и надо, хочешь не хочешь, проявлять чрезвычайную осторожность. Моё письмо дойдёт до тебя, как и прежде, через посредничество Франца, а ты снова пиши на тот адрес, который я тебе укажу на обороте этой страницы.
Не знаю даже, что и думать об их вечных страхах. Они следят за каждым своим словом и за тем, кому что говорят. Никогда не обсуждают скользкие темы в полный голос. Не выражают чувства открыто. На лице такая же серая маска, как одежда, которую они носят.
Главное — не привлекать внимания. Со мной они обращаются так, как если бы на улице сияло солнце и было голубое небо, а они вовсю убеждали бы меня, что выходить нужно в сапогах, с зонтиком и в тёплой куртке с капюшоном. Я всё больше свыкаюсь с необходимостью говорить, прикрывая рот рукой. А выйдя на прогулку, красться вдоль стен. Это становится невыносимым.
С тобой-то всё было наоборот. С тобой я поневоле говорила что думаю, ты заставляла меня — не то чтобы напрямую, но тем, какая ты есть сама по себе, то есть твоей манерой брать жизнь приступом, ища понимания, нарушая привычные установки, не признавая ничего такого, что скрывалось бы в тёмных углах или давно пылилось в шкафах. Ты пишешь, что завидуешь мне, а я отвечаю, что восхищаюсь тем, как бескомпромиссно ты судишь о самой себе. А насчёт остального, насчёт признаний, которые ты выдаёшь лишь невольно, — я жду нашей встречи, чтобы ты сама мне всё рассказала. Всё лето мы будем говорить и говорить друг с дружкой по-настоящему — обо всём, чего в письмах не напишешь.
Надеюсь, ты больше не гневаешься на меня! Ответь же!
А помнишь того препода, Матиаса, который ведёт кружок в лицее? Я тайком туда похаживаю, зато каждую неделю. Только там мне становится легче, слово там свободно. Я наконец чувствую себя самой собою. Ни упрощенческих суждений, ни готовых мыслей, можно размышлять вслух и обсуждать любые вопросы, какие ни возникнут. Думаю, ты пришла бы в восторг… Я вот думаю, есть ли такие места во Франции.
Говорим обо всём на свете, а иногда начинаем обсуждать проблемы, которые выносит на первые полосы журнал «Твен». Вот, например, прошлый вторник: «Существует ли любовь без неверности?» А ещё раньше так: «Какие из мужчин — лучшие любовники?» Или вот ещё: «Почему некоторые девушки любят только девушек?» Вопросы о сексе как раз чаще всего там и обсуждаются, но можно и о серьёзном, битых два часа — о войне во Вьетнаме, а потом нежданно-негаданно перейти к моде на мини-юбки…
А бывает, вообще дискутируем чёрт знает о чём, но до чего же бывает забавно…
Матиас рискует потерять работу. Он говорит, что ему плевать на это. Он много мне помогает. Когда я слышу, как он ставит на обсуждение запретные темы, меня это успокаивает. Он без конца повторяет, что отстаивать идеи — это и есть учиться.
Я будто наконец обрела место, где можно мыслить.
А чтобы уж ничего не скрывать — в группе есть один студент, который мне очень нравится. Его зовут Иоганн. Мы часто переглядываемся. Улыбаемся друг другу. Мне нравится, что он робеет. Я могу писать тебе ещё часами, но всё-таки пусть лучше это маленькое письмецо отправится сегодня, пока не кончился этот день…
Вот, Сюзанна, я всё тебе сказала, целую тебя.
М.Письмо 41 Марсель — Клеомене
Париж,
7 июня 1967
Дорогая Клео!
Почему каждый раз, когда мы расстаёмся, меня накрывает такой пустотой? Часто ловлю себя на том, что мне чуждо всё, что вокруг меня. А ведь это те же тротуары, те же ворота, те же деревья, те же дамы с собачками и даже те же официанты в кафе с вечно хмурыми рожами. Но ничто уже не похоже на себя — а всё потому, что тебя больше нет рядом. И меня так тяготит одно и то же предчувствие: настанет день, и я больше не увижу тебя никогда, тебя больше здесь не будет, я останусь один, и всё потеряет смысл.
Знаю-знаю, я немного смешон, когда признаюсь тебе в своих чувствах, отказываясь назвать их, — потому что представлять, как я скажу тебе это, ещё головокружительнее, чем их испытывать. Даже если я краснею, что-то мямлю, спотыкаюсь каждый раз, стоит мне тебя увидеть. Ты так прекрасна, Клеомена, так прекрасна и так чувственна. Только что я попрощался с тобой на улице Флёрюс и вот уже скучаю по тебе.
И теперь я живу только одной надеждой — что завтра снова увижу тебя.
Я в первый раз в жизни влюблён.
А заметила ты, что мы уже давно не прикасаемся друг к другу, даже просто чтобы попрощаться? Как будто наши руки, наши губы, вся наша кожа чувствовали бы: прикосновение может обжечь. Как давно уже мы идём по парижским улицам на некотором расстоянии друг от друга. А пока мы разговариваем или идём молча, наши тела говорят друг другу совсем другое, взгляды встречаются и пугливо разбегаются, сердца колотятся слишком быстро, а дыхание учащается вопреки нашей воле. Зачем так ожесточённо противиться наслаждению, которое наши тела обещают друг другу каждый миг, если ты создана быть любимой, прекрасная моя Клеомена?
Мне хочется, чтобы ты знала, до какой степени ты волнуешь меня, опьяняешь, заполняешь, возбуждаешь. Как сильно я хочу тебя. Каждый день.
Сейчас я брошу это письмо в твой ящик, представив, как ты распечатаешь его завтра и оно будет с тобой весь день в кармане твоей блузки, так облегающей бедро, и ты будешь комкать его кончиками пальцев почти наперекор себе до самого вечера, когда я снова буду ждать тебя у входа в «Бон-Марше».
До завтра,
МарсельПисьмо 42 Клеомена — Марселю
Париж,
9 июня 1967
Меня не было у выхода из «Бон-Марше», Марсель.
Я бежала — от ваших взглядов, ваших вопросов, ваших требований и ещё от вашего гнева. Ваше письмо потрясло меня больше, чем вы можете вообразить. Вы всё кружите вокруг меня, вы кружите голову мне, вы меня очаровываете, вы такой живой, лёгкий, полный воодушевления и жадный до жизни и до меня, как и до других женщин и девушек, и молодых, и постарше, то есть до целой половины рода человеческого! И обо мне вы мечтаете день и ночь — а это вполне возможно, я вам верю, — но лишь для того, чтобы увидеть меня павшей и уступившей, разве не так?
Ну, а потом?
Удовлетворив наконец вашу страсть к наслаждениям после того, как я уступлю вам, единожды наевшемуся, переполненному и пресыщенному, — сколько времени понадобится вам, чтобы заскучать со мной и остановить свой выбор на другой, что появится? Ответить на это вы не можете, я знаю и не упрекаю вас, ведь вы с первого дня были абсолютно честны, вы не лукавили, вы не можете ничего пообещать.
А вот мне необходимы обещания, обязательства и верность.
И этого вполне достаточно для объяснения моего письма и моего решения. Ибо я прошу вас, Марсель, оставить меня в покое. Больше я не хочу вас видеть. Мне так необходимо сейчас собраться с силами, чтобы начать жизнь здесь, в этой стране, мне так нужны время и спокойствие, чтобы овладеть всем, чем я хочу овладеть, притом что мысли непрестанно возвращают меня на те острова, где мои родные ежедневно подвергаются опасности погибнуть от побоев, голода, холода, равнодушия и забвения.
Сердце моё не лежит к пустяковым интрижкам, как говорите вы, французы. Может быть, я оставила вам возможность надеяться на противоположное. Могу без стыда признаться, что для меня большое удовольствие прогуливаться вместе с вами, меня по-хорошему увлекают наши споры, даже когда они слишком бурные. Вы нравитесь мне, это правда. И мне очень нравится то, с каким пылом вы меня добиваетесь. Но у меня нет желания заходить далеко. Или уж, чтобы выразиться совсем точно, мне кажется, что я вам задолжала это. Но даже если бы я могла поддаться искушению, закрыть глаза, позволить вам целовать меня, позволить нашим руками сплестись — я всё равно изо всех сил сопротивлялась бы и приложила бы всю свою волю, чтобы побороть слабость.
Я верю в вечные узы и долгую любовь.
Итак, вам остаётся лишь согласиться, что вы очаровательны, но вы не для меня. Возвращаю вам ваше письмо и прошу больше не искать со мной встреч.
Подождём хотя бы, пока пройдёт это лето. Может быть, осенью мы сможем снова увидеться как добрые друзья.
От всего сердца желаю вам всего самого лучшего, Марсель.
КлеоменаПисьмо 43 Сюзанна — Мени Грегуар[23]
Дорогая Мени!
Я каждый день слушаю ваши радиопередачи. В первый раз это получилось совершенно случайно: я была на кухне, где хозяйничает моя кормилица Фаншетта, а она тоже с пристрастием вас слушает, хоть и не признаётся в этом. Это как если бы мы, женщины, встретились в четырнадцать тридцать и сели в уголок, чуть поодаль от всего мира, и чтобы никто нас не видел, как, бывает, закрывают за собой двери, чтоб никто не услышал, о чём между собой говорят, то есть обо всём, что нас волнует и что не осмелишься вот так попросту взять и спросить.
Меня зовут Сюзанна, и этим летом мне исполнилось восемнадцать.
Я хотела бы знать ваше мнение, потому что и правда боюсь, что мне никогда не стать женщиной. То есть, хочу сказать, такой же как все, замужней, имеющей детей и счастливой в своей семье. Я чувствую, что такая жизнь не для меня. При этом ума не приложу, чем заняться. Мне ничего не интересно… Я люблю смотреть на людей, люблю слушать, как они рассуждают. Но ведь этим всю жизнь не заполнишь.
Разве я смогу когда-нибудь удовлетворить какого-нибудь мужчину?
Этим летом у меня был второй опыт в постели. Немного лучше, чем в первый раз, но всё-таки он сказал мне, что я ему ничего не дала и он как будто сжимал в объятиях кусок льда. Я не смею спросить у других девушек, даже у тех, с кем близко дружу, как у них это получается, что они при этом чувствуют, больно ли им и на что похоже их наслаждение.
Дорогая Мени, скажите, я нормальная?
Дневник Сюзанны
Письмо 44 Магда — Сюзанне
Берлин,
27 июня 1967
Моя Сюзанна!
Спешу написать тебе, пока тебе ещё не наговорили невесть что! У меня по-прежнему нет от тебя новостей. Не знаю, получила ли ты мои письма. Мне больно оттого, что ты молчишь. Не можешь же ты до бесконечности злиться, так ничего мне и не объяснив. Это на тебя не похоже! Я попробовала позвонить, но Фаншетта разговаривала так, будто я сам дьявол во плоти. Что-то вроде того, что тебе надо сдавать экзамен и не нужно тебя беспокоить. Я отказываюсь в это поверить. И лелею надежду, что ты прочтёшь эти строки. Мне нужно, чтоб ты знала обо всём, что случилось. Моя жизнь на пороге крутого виража, которого я никак не ждала.
Недавно, 2 июня, я была на своей первой манифестации — против визита иранского шаха, ты в курсе? Я видела, как один из манифестантов умер у меня на глазах, и совсем иначе, чем показали по телевизору и написали в газетах! Надо, чтобы ты знала. И говорила бы об этом. Мне хочется, чтобы весь мир взвыл от негодования, а вокруг только равнодушие и безропотность! Это так несправедливо и непонятно!.. Как будто так можно в 1967 году — тебя убьют на улице средь бела дня, и ты погибнешь неизвестно за что. Может, за идею, а может, и нет, а просто потому, что какой-то тронутый мозгами решил, что это будешь ты, что именно твоя жизнь оборвётся здесь и сейчас… Он пришёл на манифестацию впервые. Как и я. Женат, ему было 27 лет. И клянусь тебе, что его убили. Я там была. Я видела этого полицейского в штатском, Карла-Хайнца Курраса, как он хладнокровно вытащил оружие, хотя никто в его команде этого не подтверждает, и убил этого мальчика, стоявшего к нему спиной, просто выпустил пулю в затылок. Это не мог быть несчастный случай!
А когда я прочитала в прессе, чтó этот полицейский наговорил, я пришла в ярость!
Я не знаю, что думать. Вокруг все говорят: ему заплатили, чтобы дискредитировать студенческое движение. Это было бы ужасающим цинизмом. Даже написав тебе только это, я чувствую, как дрожит рука. И всё-таки именно так думает Иоганн. Он был со мной. Он тоже всё видел и потрясён точно так же. Всем надо объединиться против журналистов и правительства, которые искажают истину, как им выгодно.
Я чувствую себя преданной и оплёванной, Сюзанна. Я, именно и лично я, как будто такая недавняя история нацистской Германии снова всплыла, как будто с той грязью до сих пор не покончено. Как будто ложь и государственные интересы могли по-прежнему бесконечно превращать нас в ничто.
* Бенно Онезорг (1940–1967) — немецкий студент-филолог, во время демонстрации в Западном Берлине смертельно раненный выстрелом в затылок полицейским Карлом-Хайнцем Куррасом. Дело получило огласку, и Куррас был отдан под суд, но оправдан «за недостаточностью улик». Позже выяснилось, что этот западноберлинский полицейский был информатором Штази и членом СЕПГ.
Вернувшись домой, я не смогла скрыть правду. После только что пережитого я была в слезах. А услышав, что я была на демонстрации, — по-моему, они потеряли рассудок. И так разорались. Наговорили кучу всякого такого, что я предпочла бы забыть. Хотелось бы мне списать всё это на их родительское беспокойство, даже их бесконечные твердилки, типа что я «была совершенно безответственна», всё это я им прощаю, потому что могу это объяснить. Но не то, что последовало дальше.
Они уверены, что на меня кто-то влияет, и хотят знать, кто это. Сперва я попыталась объяснить им всё, что чувствую. Мы с ними в первый раз поспорили, то есть, хочу сказать, впервые поговорили по-настоящему…
И тогда я наконец рассказала им о собраниях в лицее у Матиаса.
Они так и сели, удивлённые; мне показалось, им захотелось услышать, что я обо всём этом думаю. Я сказала им, сколько радости, лёгкости, силы давало мне всё это, такие моменты разноголосицы в лицее! Я рассказала о своём желании вступить в борьбу за мир более терпимый и великодушный, мир без войн. Призналась им, что до этой минуты лишь со стороны следила за горячими дискуссиями, но понемногу осознала, что МЫ, молодёжь, если потихоньку и повсюду в мире будем объединяться, сможем вместе создать целое движение. В Берлине, но и в Париже тоже, в Брюсселе и Амстердаме, Нью-Йорке и Барселоне, в Риме и Японии. Мы выйдем ВСЕ выразить протест против современного империализма и против войны во Вьетнаме. И мало-помалу МЫ поймём, что по отношению к существующим властям мы — сила! Пришла пора НАМ вписать в историю новую главу, новую страницу, где главным словом будет слово «свобода»!
А особенно в Германии, сказала я в заключение, ведь на ней особенная ответственность за всё, что происходило.
Мама мертвенно побледнела. Папа был вне себя.
— Нам путь в политику заказан. Ты рискуешь навредить нам всем! Понимаешь?
Нет, я не понимала и сказала им об этом со всей доступной мне мягкостью.
— А как мне понять, если вы в лучшем случае мне ничего не говорите, а в худшем — подозреваете, что я скрываю от вас правду про то, что случилось с Лоттой? И откуда мне знать, что вы там такое пережили и что мне можно и что нельзя, если вы со мной говорить не хотите?
— Ну, и что же ты хочешь знать? — наконец процедил папа сквозь зубы.
Я вспомнила наши прогулки по Берлину, вспомнила, сколько деликатности скрывалось под его хмурым, встревоженным, таким неприступным видом. И мне показалось, что я могу ему доверять.
— Знаешь, все мои друзья и даже некоторые преподы убеждают нас, что надо говорить обо всём, что происходило во время войны. Что нужно спрашивать у родителей и объясняться с ними, глядя глаза в глаза.
Они оба отскочили от меня с такой чудовищной гримасой, точно кто-то неожиданно их очень сильно ущипнул. Потом смущённо взглянули друг на друга. И тут моя мама насмешливо бросила:
— А ещё они тебе что-нибудь рассказывают, твои милые дружки?
Она вывела меня из себя. Я вдруг решила, что хватит с меня этих высокомерных ужимок, обиженного молчания, постоянных недомолвок. Я ответила ей так, будто она действительно ждала ответа на свой вопрос. Я сказала: вот Матиас обнаружил, что дом, в котором он провёл детство, принадлежал евреям, а его родители с 1937 года жили там, зная об этом. Он сделал выбор — порвал с семьёй окончательно и бесповоротно, отказавшись с ними встречаться.
Они побледнели. Но меня это не могло остановить.
Я сказала, что задавалась вопросами, такими же, как все молодые люди моих лет. О своих дедушках-бабушках. Потому что об этом никогда не разговаривали. Как будто прошлого вовсе не было.
— Погоди немного, она ещё обвинит нас в том, что сама память потеряла, — ухмыльнулась мать.
Вот тут я просто онемела. От её нечестности. От её злобы. Меня вдруг пронзило интуитивное чувство, что мне придётся всю жизнь ждать объяснений, а их так никогда и не последует.
Отец, казалось, был в чрезвычайном затруднении. Он колебался и, по-моему, мучительно подыскивал слова, но стоило ему заговорить, как я поняла: он повторяет что-то уже много раз им говоренное, и повторяет как затверженный урок, так, будто это был вопрос жизни и смерти.
— Не делали ничего такого, в чём не замечены были бы большинство немцев, и, разумеется, не были согласны с Гитлером, но и не выступали против него. В стране появилась работа, а ведь до этого был кризис. А если насчёт остального — просто смирялись, жили, опустив головы, стараясь избегать неприятностей. Боялись.
— Кто — боялись? — холодно спросила я.
И тут резко перебила мама:
— МЫ, МЫ боялись. Те самые МЫ, среди которых так тёпленько сейчас устроилась и ты.
Это было как удар кулаком в солнечное сплетение. Я поняла: разговор не просто окончен — нет, я в некотором смысле только что невольно объявила им войну.
Мне страшно.
Но я не могу иначе. Мне надо жить дальше, выбрать свой, собственный путь. И я чувствую себя самой собой, только когда я не с ними.
Что бы тебе ни сказали обо мне, Сюзанна, прошу тебя не понимать это буквально. Я буду всегда честной и буду говорить. Таков единственный способ, который я нашла, чтоб выбраться из этой грязи. Я хочу знать, что случилось в моей семье. Как думаешь, а если ты напрямую спросишь об этом свою маму, у неё хватит смелости ответить тебе?
Я не уверена, что ты прочтёшь это письмо. О небо, будь же к нам милосерднее!
Обнимаю тебя,
МагдаПисьмо 45 Карл — Ильзе
Берлин,
1 июля 1967
Ильза,
поверь, я предпочёл бы никогда не писать этого письма. Могу тебя уверить, что снова поневоле переживать тот кошмар, что остался нам в наследство от родителей, мне так же тяжко, как и тебе. Но стоит мне лишь подумать, что мы наконец освободились от него, как те же вопросы возникают опять, и я опять в странном положении, словно обязан отвечать за то, что они совершили, что думали и кем стали.
На сей раз спрашивать у меня пришёл черёд Магды. Всё прошло хуже некуда. Я ничего ей не сказал. И по-прежнему считаю, что в тысячу раз предпочтительнее молчать. Я не хочу, чтобы эту тяжкую ношу несли и наши дети. Это и для нас довольно трудно. Надо покончить с этим. Стереть насовсем из памяти. Молодые поколения не отвечают за всё, что натворили их предки. Я абсолютно убеждён в этом.
Магда, думаю, теперь из кожи вон вылезет, чтоб только разузнать побольше. Её к этому подначивает компания молодых самодовольных леваков, которые ратуют за всестороннюю открытость. Я же буду держаться всего, о чём говорил прежде. Надеюсь, что и ты поступишь так же, если эти вопросы тебе задаст Сюзанна. За ней в этом смысле дело не станет. Потому я и предпочитаю предупредить тебя заранее.
Сообщаю тебе ещё одну неприятную новость. Что-то вроде продолжения предыдущей. Под твоим кровом у Дитера с Магдой была довольно долгая любовная связь. Я узнал об этом несколько месяцев назад, когда застал Магду за сочинением ответа на его очередное письмо. Мне что-то показалось странным, почему она получает от него столько посланий. Когда я понял, в чём дело, то решил помалкивать, но потихоньку перехватывать письма Дитера. Случилось то, что я и предвидел: он прекратил ей писать. А сейчас — вот снова за своё. Я распечатал его письмо, и там он говорит, что ходит на сборища ультраправых, сочувствующих фашизму и склонных к насилию. Предпочитаю предупредить тебя об этом.
Я так долго просидел в тюрьме лишь потому, что Штази обнаружило — я до сих пор не знаю как, — что наши родители, едва услышав, что война проиграна и Гитлер покончил с собой, бежали в Южную Америку. Агенты политической полиции на востоке пребывают в уверенности, что мы знаем, где они скрываются. Или, раз уж они приходятся нам родителями, что рано или поздно они попытаются вступить с нами в контакт. Ничто не может поколебать их убеждённости, и это настоящая одержимость. При этом они знают, что я отказался быть офицером СС и в 1943 году побывал в российском плену. Известно им и то, что я выбрал местом жительства Восточную Германию по убеждению и дабы таким способом выразить своё полнейшее неприятие всего, что делали наши родители, хотя и не знал ещё всего размаха содеянного. Да ведь и ты тоже по-своему бежала от них, правда, иначе…
Но для Восточного Берлина мы — генетические носители национал-социализма. В их глазах это нестираемое пятно.
Так что — ради безопасности Сибиллы и моих детей — для меня очень важно, чтобы никаких намёков на те времена в этом доме не было БОЛЬШЕ НИКОГДА.
Я ни в чём не могу тебя упрекнуть. Но пойми же сама, и речи быть не может о том, чтобы этим летом Магда поехала в Сен-Рафаэль. Я не очень-то хочу, чтобы она там встретилась с Дитером. И по мне, было бы разумнее предохранить от таких тошнотворных встрясок и Сюзанну.
Мне очень жаль. Искренне жаль.
Несмотря ни на что, желаю тебе прекрасного лета!
Передай мои дружеские пожелания Максиму.
Целую,
твой брат КарлПисьмо 46 Сюзанна — Магде
Париж,
21 июля 1967
Мама всё мне рассказала!!! Я не понимала, почему ты не приезжаешь. Почему тебя никогда нет дома, когда я пытаюсь до тебя дозвониться… Наконец она обо всём мне поведала… И я не могу опомниться!!!
Да разве могла я даже представить себе, что ты умеешь так ловко, с таким притворством обманывать всех вокруг? Я пытаюсь нащупать связки, склеить кусочки, отыскать симптомы! Но как объединить в одно два этих образа: с одной стороны — та Магда, которую я помнила, которую знаю, прямодушная, осмотрительная почти до суровости, — и другая, та девчонка, что по ночам пробиралась в комнату к собственному кузену?
Не постигаю.
Я хочу, чтобы ты приехала в Париж и ответила на все мои вопросы! Я хочу понять!! Ибо ещё хуже твоей лжи — чувство, что ты на всё наплевала и растоптала, а особенно моё к тебе доверие, наши клятвы обо всём говорить друг другу. Я смертельно обижена на тебя. И имею право сказать тебе это прямо в лицо!
Открытка из Сан-Рафаэля
Меня раздражает мамино поведение. Она сказала мне, что порвала два твоих письма. Мне невыносимо, что за тебя говорят другие.
Я принесла тебе клятву, прекрасно помню это, но я принесла клятву, ничего не зная. Теперь я знаю и хочу понять. Как такое возможно? Каждый раз, стоит мне только подумать об этом, я словно тупею от омерзения. И наконец говорю себе: быть может, мне просто наврали и ты сможешь всё объяснить сама? Тем более что после того, как ваша история выплыла наружу, Дитер с нами не живёт. У меня больше нет от него никаких вестей. И мне ничего про него не говорят. Только знаю, что папа по-прежнему оплачивает его обучение. Но упорно отказывается видеть его. Или, может быть, это мама выкинула его вон? Я ничего не знаю об этом, Магда… Но в какой же чудовищный кошмар ты всех нас втравила…
Кто ты на самом деле, Магда?
Я вдруг осознала, что ты рассчитываешь каждое сказанное тобой слово, каждый жест, каждый свой шаг. Ты девушка, имеющая секреты и умеющая их хранить. Я-то верила, что наша дружба для тебя дороже всего на свете. И вдруг такое разочарование… В глубине души я правда не знаю, кто ты.
Надеюсь, что ты прочтёшь это письмо и сразу ответишь. Ты мне должна ответ! Как часто мне хочется разорвать тебя в клочья. И, окажись ты сейчас передо мной, я бы начала с того, что побила бы тебя до крови. Представлю только — и уже немного легче.
Отправь свой ответ Клеомене Рунарис, на тот же адрес. Она передаст его мне.
СюзаннаПисьмо 47 Клеомена — Жаку Фонтену Посольство Франции в Афинах
Париж,
август 1967
Дорогой господин посол!
Вы, вероятно, сочтёте, что я требую слишком уж многого после всего, что вы уже для меня сделали. Поверьте же, что я каждый день удивляюсь своему везению и благодарна за всё, чем обязана вам. Ваше великодушие помогает мне держаться. Оно же обязывает меня каждое утро вставать и продолжать мой путь.
Но я по-прежнему не имею никаких известий ни о матери, ни о брате. Иногда мне кажется, что у них всё хорошо, они где-нибудь в безопасном месте и я очень скоро увижусь с ними просто потому, что не может быть иначе. Чаще же всего я заставляю себя мыслить здраво. Я прекрасно знаю, что они в страшной опасности, если ещё не погибли.
Умоляю вас сообщить мне всё, как есть. Обещайте мне сказать правду — сегодня ли, завтра. Будьте уверены, я всё ещё достаточно сильна, чтобы её выслушать. Всё лучше, чем такая неизвестность и бесконечные вопросы.
К этому маленькому посланию я прилагаю другое письмо, адресованное моей матери, которое прошу вас сохранить со всеми предосторожностями до того дня, когда она появится и спросит обо мне. Вы, наверно, вопреки вашему желанию, стали для нас неким пересылочным пунктом. И за это я тоже бесконечно вам признательна.
Заранее и уже в который раз благодаря вас за внимание, проявленное к моему положению, очень прошу вас, дорогой месье Фонтен, принять выражение моего самого искреннего почтения.
Клеомена РунарисПисьмо 48 Клеомена — Ставруле
Париж,
4 сентября 1967
Мне так нравится наблюдать, как наступает осень, даже в Париже, где сразу становится сыро и серость неба под стать городским крышам. В августе город совершенно безлюден, совсем нет жителей, все или почти все в отъезде… Иногда мне здесь очень одиноко. И всё-таки в своей маленькой комнатёнке под самым потолком, где всегда очень жарко, я день за днём штудирую латынь. Конечно, степень мне не светит, но я верю, что справлюсь. Мне так не терпится приступить к учёбе! Хочу быть блестящей ученицей и заполучить лучший диплом, и уверена, что мне это удастся, я потрачу на это столько времени, сколько нужно.
Вы будете мной гордиться.
В августе я написала заявление об уходе из «Бон-Марше». Я подыскала другую работу. Там мне платят больше и не приходится стоять, с придурочной улыбкой глядя в пустоту. То, что я нашла, — по правде сказать, не ремесло, а скорее что-то вроде игры, хотя и невесёлой игры. Видишь, как осторожно я начинаю рассказывать, — знаю, тебе такое не по душе! Сперва я отказалась, а потом разок туда сходила и поняла, что это даётся не так уж тяжело, как я представляла. Я позирую в школе искусств для художников и скульпторов. Я совершенно голая, но, знаешь, они ведь смотрят не на меня вовсе. На полученные деньги я впервые в жизни смогла купить себе красивое платье. Оно очень скромное, чёрное с белым, чуть-чуть выше колен. А с высоким шиньоном у меня в этом платье вид почти настоящей парижанки. А ещё я снялась для торгового каталога моды. Меня фотографировала крупная фирма французского нижнего белья. Это было потруднее. На тебя никто не обращает внимания, тобой вертят туда-сюда и двигают, как пустую бочку. И, когда я увидела фотографию, у меня было чувство, что я оставила на ней частичку самой себя. Меня можно узнать и подумать обо мне не то, что я на самом деле есть. Но мне не стыдно. Чтобы подорвать мою решимость, понадобилось бы несравненно больше. Я поняла, что стать частью того мира, к которому я хочу здесь принадлежать, не получится, если у меня будет вид бедненькой страдалицы. И хочу использовать все козыри, какие имею. А если за это придётся заплатить фотографиями в «Плейтексе» — что ж, заплачу эту цену, я ведь от этого не умру.
Я рассказала обо всём этом Деборе. Думала, тут уж мне нечего опасаться строгого осуждения. Ох, как же я ошиблась. Она обвинила меня, что я прислуживаю богатеям, продала душу дьяволу, наплевала на принципы и не подумала о том, что больно унизила всех женщин, выставив себя напоказ и став рабыней.
В общем, я их всех предала — всех тех женщин, что борются с реакционерами и женоненавистниками.
Сперва я просто остолбенела.
Дебора из тех, кто утверждает, что интеллектуалы должны идти работать на завод, что здесь нужно устроить всё так же, как на Кубе, выстроить иной способ жизни, общинный, чтобы равенство и свобода были возведены в принципы бытия, а собственность-де надо упразднить. И это уже не просто мечта, а нравственный императив.
Слушая всё это, я столько раз думала, что папа пришёл бы от неё в восторг, а Мицо влюбился бы по уши. Она такая фанатичка, каких они любят, решительная и готовая идти до конца, вот ничего-де в мире нет достаточно большого и чистого. Всё дóлжно принести в жертву ради лучшего будущего.
Но я даже не представляю, что скажешь на всё это ты. Разве так представляла ты мою жизнь? Разве ты тоже готова меня осудить? И какой выбор сделала бы ты на моём месте — работать продавщицей в храме роскоши или дать себя сфотографировать для каталога? Я, со своей стороны, отказываюсь отвечать на это. И особенно тем, кто тоже хочет запереть меня и диктовать, что мне думать и кем становиться.
Я разозлилась. Сказала ей, что ненавижу всех тех, кто, претендуя на защиту свободы, сам начинает с осуждения тех или других людей во имя своих принципов. С какой стати мне менять одно угнетение на другое?
— Все вы одинаковы, маленькая шайка надменных и болтливых буржуа, развалившихся в дорогих креслах, самодовольно упивающихся красотой своих идей!
Я уже готова была развернуться, уйти и никогда больше с ней не разговаривать. Но, к моему изумлению, она весело расхохоталась. Сунула свою руку под мою и говорит:
— Ты права, прости. Может, пропустим по стаканчику?
А я всё ещё дрожала от ярости. Как ей удаётся так легко переходить от одного чувства к другому? Я недоверчиво нахмурилась.
— Да пошли же, не хмурь брови, говорю же, ты права! А знаешь ли, что самое главное — уметь немного поразвлечься? И лучше всего для нас — не с мальчиками…
Я позволила себя уговорить. И не пожалела!
Сперва мы немного погуляли, не разговаривая, а потом она вдруг рассказала мне о движении «Прово»[24], зародившемся несколько лет назад в Голландии. Молодые девушки решили раскрашивать велосипеды в белый цвет и оставлять их в общее пользование, чтобы любой, кто захочет, мог на них прокатиться. Провокация против капиталистической идеи частной собственности. И вот ей захотелось продвинуть эту идею в Париже.
Дело за малым — угнать несколько великов, конечно, самых красивых и в самых богатых кварталах, и перекрасить их, а потом посмотреть, что будет…
Да она совершенно чокнутая, тебе не кажется?
Я пошла с ней.
Каждая из нас украла по пять велосипедов. А потом мы довезли их до ворот Сент-Уан, где она попросила какого-то владельца гаража немного подозрительного вида перекрасить их.
И мы перетащили их прямо в центр Латинского квартала.
После чего отправились спать.
Ты никогда не догадаешься, что дальше!!!!
Их никто не взял! Ни чтобы покататься, ни чтобы украсть. Мы их нашли такими же новенькими — там же, где оставили!
У Деборы был очень разочарованный вид. И правда, это угнетает — как будто никто не пожелал сыграть с нами в нашу игру. Этим нам как будто ясно сказали: не нужно нам вашей свободы, мы не хотим ни с кем делиться, а больше всего раздражает ваша беспечность. Дебора занервничала. Она принялась кричать: «Посмотри только на них, так и ходят, опустив головы, серые и грустные! Никогда из них ничего не выйдет, кроме рабов, довольных своей участью».
Я попыталась немного урезонить её, но это был напрасный труд.
Она действительно отчаялась. Пожала плечами. Тут я заметила, что у неё круги под глазами. Спросила, все ли у неё хорошо. Она ответила «нет». И расплакалась.
Кончилось всё разговором о Марселе. Ты о нём помнишь? Да, конечно, ты помнишь, даже если не читала моих писем. Когда я пишу тебе, у меня чувство, что ты меня слышишь, что ты где-то недалеко. Вот это и придаёт мне жизненных сил — иллюзия, что вы здесь, совсем рядом, и Мицо, и ты.
Так вот, этот Марсель — завзятый сердцеед, который любит женщин, соблазняет их и потом заставляет страдать. Я сама едва не угодила в его ловушку. Но мне удалось отделаться от него.
Дебора сказала мне, что перед новым учебным годом она должна ещё съездить в Бретань повидать родителей. И что сюда вернётся только в середине октября. У неё был какой-то странный вид. (Тебе-то я могу признаться, что была довольна, ведь она будет подальше от Марселя… Впрочем, это правда скверно — ревновать и завидовать девчонке, которая тебе доверилась…) Даже если она то и дело повторяет, что уж ей-то на Марселя наплевать, и только из-за того, что у них всё настолько по-дурацки, это и продолжается так долго.
— Однажды он возьмёт и бросит меня ради какой-нибудь другой, потому что эта другая потребует от него, чтобы он принадлежал только ей одной. Но птиц нельзя держать в клетках. Потому что птицы рождены летать. Ты как думаешь?
Она красноречиво посмотрела на меня, не ожидая ответа. Мы распрощались на перроне вокзала, куда я проводила её и заодно помогла донести вещи. Было сыро и холодно. Потом я много думала о том, что она сказала.
Я не согласна с ней.
Есть птицы-неразлучники. И я знала их.
Вы с папой были существа свободные, но всегда летали вместе, крыло к крылу.
Я каждый день думаю о тебе.
КлеоменаP. S. Завтра у меня встреча с Сюзанной. Мы поступаем в Сорбонну. Ночью я не смогу заснуть.
Письмо 49 Магда — Сюзанне
Берлин,
15 октября 1967
Наконец-то я уверена, что это письмо ты прочтёшь, потому что Иоганн лично отдаст тебе его, и это успокаивает меня куда больше, чем ты себе представляешь. Я не хочу расстаться с тобой, даже не поговорив, не защитив своей позиции. Когда прочтёшь, просто скажи Иоганну, что согласна ответить мне. И пошли твой ответ ему, на тот адрес, какой он тебе даст.
Помнишь ли ты тот наш вечер на площади Насьон? Там мы с Дитером поцеловались в первый раз. Я не могу объяснить тебе, что случилось. Желание обходится без разума. Это было под запретом, даже порицалось, и именно поэтому нас так неодолимо тянуло друг к другу Во всяком случае, ни он, ни я не смогли эту тягу побороть.
Быть может, мы — и я, и он — чувствовали себя потерянными, чужими в лоне нашей собственной семьи? Что, если это нас и сблизило?
Но этого, конечно, недостаточно для того, чтобы избавить тебя от неприятия и отвращения, которое вызвало всё случившееся. Я правда очень огорчена, даже если это ничего не изменит.
Честно, я не в силах ответить на все вопросы. Потому что я и не могу на них ответить. Это необъяснимо. Но главное — Я НЕ ХОЧУ отвечать. Я не желаю, чтобы меня называли шлюхой потому только, что я переспала с мальчиком и испытала наслаждение от этого. Вот, я это произнесла. Это шокирует само по себе и ещё скандальнее оттого, что этот мальчик — мой кузен. Знаю. Но могу лишь повторить то же самое. Ведь я никого не предала, это неправда, я никого не предавала! Мне хочется выкрикнуть это. Я всё та же, Сюзанна, я твоя подруга и хочу ей оставаться.
Я много говорила об этом с Иоганном. И это было так, словно я наконец свалила наземь огромный тюк, который тащила на спине, а он весил тонну и мешал мне двигаться вперёд, понимаешь?
Я отвергаю всю их буржуазную мораль. Она больше не впечатляет меня, потому что я вижу, чему она сегодня служит. Как это выгодно — облить меня грязью как раз в тот момент, когда я задаюсь вопросами о своей семье, о дедушках и бабушках и обо всём, что они делали во время войны. Потому что, если уж тётя Ильза пришла в такую ярость, если она отказывает нам в праве видеться и если сегодня она делает всё, чтобы разлучить нас, — не обольщайся: всё это не из-за того, что я переспала с Дитером, а потому, что я задала вопросы, которые нельзя задавать.
И мне не ответили.
Именно это меня и тревожит. Наша семья свои тайны холит и лелеет, и все согласны с тем, что разоблачать ничего не нужно. Не знаю, выйдет ли это когда-нибудь на свет, ведь послушать их, так они ничего не видели, ничего не слышали, как и все остальные немцы. И это для них главное. Больше НИКОГДА не допускать фашистов к власти! НИКОГДА!
Завтра в Берлине состоится большая манифестация против войны во Вьетнаме. Знаю, что такая же будет и в Париже. 21 числа в то же самое время. Профсоюзы её согласовали.
Иоганн будет там. Мечтаю видеть там и тебя, и чтобы это в некотором смысле сблизило нас.
Пойдёшь? Знаю, что ты не любишь толпы…
Иоганн должен там встретить одного студента, его зовут Даниэль Кон-Бендит[25]. Он учится в Нантере. Может, ты его и сама видела? Он морковно-рыжий, и у него уникальный дар зажигать студенческие массы. И ещё он очень забавный. Он пришёл к нам, в критически настроенный университет, чтобы поговорить с Руди Дучке[26].
Подруга моя, моя сладкая, прошу, прости меня, что я не во всём тебе доверилась. Я боялась, что ты рассердишься и станешь осуждать меня. Надеюсь, у нашей дружбы хватит сил побороть эту неистовую бурю.
А я буду ждать времени, которое непременно придёт.
Крепко обнимаю тебя,
МагдаПисьмо 50 Сюзанна — Магде
Париж,
18 октября 1967
Магда,
представь себе моё изумление, когда этот незнакомец с косичкой протянул мне письмо от тебя… Впрочем, я до сих пор не пойму, как это случилось и почему он согласился оказать нам обеим такую услугу. Как я тебе уже писала в одном из тех писем, которых ты так и не прочла, тебе следует послать следующее письмо Клеомене Рунарис на улицу Флёрюс, она мне его передаст. (Она живёт в комнате рядом с Фаншеттой. Ей можно полностью доверять.)
Это письмо я отправляю тебе с твоим Иоганном — у него такой вид, будто он очертя голову бросится в пропасть, лишь бы ты была довольна. А ты всё-таки обладаешь даром сводить мужчин с ума…
Я больше не хочу впадать в ярость. Мне больно, но я оставлю всё как есть. Хватит уже и того, что я об этом думаю. Не хочу ни прощать тебя, ни осуждать. Мне по-прежнему тяжело об этом думать. Я принимаю то, что ты совершила, потому лишь, что всё уже свершилось, но я считаю это очень странным. И напрасно ты повторяешь, что не приемлешь осуждения, потому что я, именно я говорю, что осуждаю тебя, несмотря ни на что, и, думаю, тебе впору умереть со стыда. Поскольку Дитер — твой кузен и гнусно заниматься этим с ним.
Вот, сказано. Правда, моё доверие к тебе поколеблено. Оно уже не такое, как раньше. Не знаю, лучше это или хуже. Я предпочитаю не прятать голову в песок. Я поняла, что хочу продолжать узнавать от тебя о новостях и сообщать тебе о своих. Тяжелее всего было согласиться с тем, что не всё можно объяснить или понять. Наша дружба крепче этой истории с Дитером. Даже если это нелегко признать.
И всё-таки я должна тебе сказать…
Прежде чем получить твоё письмо, столкнувшись с молчанием моих родителей, я решила разыскать Дитера. Только он мог рассказать мне, что произошло. И я просто стала стеречь его у выхода из университета, на улице Ассас. Я долго ждала его на полярном морозе, меня насквозь продувало. Я воображала: вот сейчас он меня увидит и сделает вид, что не заметил. И в точности так всё и получилось!
— Тебя прислала она? — грубо спросил он.
Он был очень бледен, под глазами круги, и сильно похудел. Я прекрасно видела, как неохотно он разговаривал со мной. Несколько минут мы простояли на тротуаре, переминаясь с ноги на ногу. Я сказала, что пришла, потому что хочу понять. И не отпущу его просто так, не услышав ответ. Он рассмеялся, но это был невесёлый смех. Потащил меня в кафе, мы сели в глубине зала и оба заказали вкусный горячий шоколад.
Мы вспомнили, как пили его на кухне у Фаншетты, когда возвращались из школы. И ты как будто была с нами. Улыбнулись.
— Мне нечего тебе сказать, Сюзанна. То, что произошло у меня с Магдой, никого не касается. Меня злит, когда в это лезут, да ещё и осуждают. Уверен, что и она говорит то же. Потому что мы были счастливы. Она ведь — Магда, — знаешь, свободна! Дика и своенравна, и никому тут ничего не поделать.
Я опустила голову. Он был прав. Он хорошо тебя знает. Я никогда ещё не видела его таким взволнованным.
А потом у него вдруг стало жёсткое лицо. Я видела, как он борется с самим собой. Он пустился краснобайствовать о своём политическом призвании. И мы поругались. Он понёс какой-то несусветный бред: о чистоте Запада, о нашем превосходстве белых, о его страсти к борьбе и к насилию и о необходимости раздавить марксистский дух, гангреной разъедающий наш мозг. Ещё он мне распинался обо всех, кто вернулся с войны в Алжире, раненых, искалеченных, обо всём этом поколении, которое знает, что «только из порядка рождается прогресс», вот именно так он и сказал.
Мы расстались на краю тротуара, неловко поцеловавшись на прощание, обещав сообщать друг другу новости и прекрасно зная, что этого не будет.
Я не люблю своего брата, Магда. Сейчас ещё меньше, чем раньше. Он какой-то призрачный весь, как будто ходит по краю обрыва, нервно посмеиваясь, бросает вызовы, которых никто не хочет принять, и вид у него такой, мол, пусть весь мир катится к чертям собачьим. Как ты смогла крутить любовь с таким типом?
Я ничего не сказала ему о наших дедушках-бабушках. Подумала, что это чревато катастрофой. Может, я и ошиблась… Если уж я сама не представляю, что мне делать со всеми этими вопросами, то предпочла молчание. Думаю, ты со мной не согласишься. Но, прошу тебя, дай мне время осознать, что я об этом думаю. Мама взяла с меня клятву, что я больше никогда об этом не заговорю.
Сюзанна, твоя подруга вопреки всемуP. S. Ещё словечко про эту Клеомену, которой ты должна послать своё письмо. Вот почему ты можешь ей доверять. Она бежала из Греции от диктатуры, установленной там полковниками. Странно, кстати говоря, а ты заметила, что там диктатуре сопротивляются коммунисты и что именно они несут надежду новому миру? В Париже поклоняются Мао и его культурной революции, а чего ж никто не мечтает уехать на Кубу, где, говорят, на заводах читают стихи… Подозреваю, что в Западном Берлине всё совсем не так… И при этом ты говоришь, что вы все очень активно выступаете против войны во Вьетнаме. Не чуднó ли это, что мы с тобой заговорили о политике?? Это на нас совсем не похоже… Ты думаешь, мир действительно на пути к переменам?
Обнимаю тебя.
P. P. S. Я так рада, что опять могу думать о тебе и слёзы больше не наворачиваются…
Письмо 51 Клеомена — Ставруле
Париж,
10 декабря 1967
Мама, я только что впервые в жизни увидела снег. Повсюду только об этом и говорят — и не в одном Париже, а по всей Франции. Кругом все застопорилось, холодно, снег скрипит, и все ворчат, что тротуары обледенели, поезда не ходят и даже самолёты не могут оторваться от земли. А снег как ни в чём не бывало падает и падает и покрывает землю. И я, пусть даже мне очень холодно в этой крошечной комнатёнке под самой крышей, куда я прихожу только ночевать, а Фаншетта готовит мне грелки с горячей водой и кладёт их на простыни, — я наслаждаюсь этой безмолвной красотой улиц, погребённых под снежной хламидой. Как будто вдруг время стало можно остановить.
Вот в такие минуты мне особенно тяжело, что мы не вместе. В такие минуты я с особой силой думаю о вас, и у меня ощущение, что вы со мной, но это иллюзия, и потому становится ещё печальнее, и вот я возвращаюсь к своим письмам; держать данное слово, не рвать нить, такую тоненькую ниточку надежды, что до тебя дойдут эти несколько слов.
Париж, зима
1967
Я начала заниматься, но не в Сорбонне, как представляла себе, а в пригородном отделении, в Нантере, где царит большое оживление. Пожалуй, тут ни дня не пройдёт без того, чтобы хотя бы одна лекция не была прервана требованием студенческих групп, активно выступающих против руководства, но ещё и против министра и правительства в целом. С одной стороны, мне они очень нравятся — они меня смешат, и такому радостному хаосу трудно противиться. Но с другой, они меня пугают. Мне надо вести себя спокойно, из уважения к своим хозяевам и дабы отплатить добром тем, кто оказал мне доверие; я должна успешно учиться, иначе все принесённые вами жертвы и те, что вы ещё принесёте, окажутся ни к чему.
Я часто захожу в кафе «Фонтан» у станции метро «Сен-Мишель», рядом с Сеной. Там много беженцев от нас. Много мужчин. Многие — дети интеллектуалов из Афин и Фессалоник. Они очень сплочённые, любят встречаться своей компанией.
Я как можно меньше рассказываю обо всём, что касается меня. Люблю присесть между ними и слушать наш певучий язык. Но долго мне это делать нельзя — внутри поднимается вихрь ностальгических чувств, в котором все траурно и безнадёжно. Мне необходимо сберечь силы. Некий Ставрос, связанный со студенческой ассоциацией в Афинах, попытается разузнать что-нибудь о вас. Он мне обещал. Когда я немного рассказала ему обо всех нас, он потемнел лицом. Запретил мне возвращаться в страну. «Это был бы твой смертный приговор». Я проплакала всю ту ночь. Он не знает, что я пишу тебе, я не смею ему про это сказать. Я не могу поверить, что вам это может навредить. Неужели я должна прекратить? У кого мне спросить об этом? Раз это по-французски, значит, уже не так опасно.
Самое ужасное в диктатуре — что ты против воли пропитываешься этим страхом…
Когда я не хожу на факультет учиться, то продолжаю зарабатывать на жизнь в домах мод; доход весьма непостоянный, и мне до сих пор не удалось договориться о заключении контракта. Но зато это даёт передышку и средства на жизнь. Сегодня я позировала в белье от «Курреж», очень коротком, голубом и сером. Это было великолепно. Одна девушка мне сказала, что я всё-таки не совсем в стиле этого дома: слишком полные груди и бёдра и слишком пухлые губы. Так что долго это, наверное, не продлится… Но сейчас это меня забавляет.
Тебе беспокоиться не о чем. Как только закончу писать это письмо, сразу же возьмусь за выполнение задания по «Принцессе Клевской». Я столько раз её читала, что, кажется, некоторые пассажи помню наизусть. Видишь, я не забываю уроков отца. Каждый миг думаю о тебе.
Твоя дочь, которую тут называют Клео (шикарно, правда?)Письмо 52 Марсель — Клеомене
Париж,
14 декабря 1967
Клео, тебе следует понимать, что я вовсе не вежливый товарищ, с которым ты просто встречаешься на факультете. Я придерживаюсь всего, что обещал тебе: больше не говорю, как хочу тебя; умерил огонь во взгляде и каждом жесте; я, как добрый приятель, показал тебе Нантер и даже познакомил со всеми своими друзьями, включая и тех, что кажутся мне объективно более привлекательными, чем я, — богаче и стабильнее по жизни, и все они вполне могут тебе понравиться. Я уважал твой выбор, повиновался твоим приказам, я старался держать себя в руках рядом с тобой!
И что же, видишь сама, не надо было мне этого делать.
Ты ведь заметила, как мне приходится самому себе делать рекламу, как будто я чистящее средство или пылесос. Это смешно и унизительно.
Какая же ты теперь выряженная, когда я натыкаюсь на тебя вместе с этим Франсуа Бертеном. А он-то в пиджаке и бархатных брюках, галстук сикось-накось, так что не поймёшь толком, на кого хочет походить — не то на Сартра, не то на Годара. Зато ясно главное — та личина, которую он носит, эти сощуренные глазки под толстыми стёклами очков, подчёркивает: вот он, человек, захваченный интенсивным ходом собственных мыслей. Несомненно, всё очень серьёзно — должно быть, он в уме переводит Цицерона, даже сидя в туалете! Не понимаю, как ты можешь проводить с ним целые часы, сидеть в библиотеке или где-то ещё. Ведь он стар, Клео, и ты не хуже меня видишь, что волосы его седеют, а пузо скоро начнёт припадать на его колени. А уж как скучен — это вообще за пределами воображения! Он тебе нравится тем, что он проф? Тем, как он пересыпает каждую фразу латинскими цитатами, никогда не утруждая себя их переводом, ведь это был бы позор, а-ах нет, пгостите, опускаться до разговоров с чернью.
Я разочарован, Клео. Я представлял тебя более мятежной, непокорной, гордой и знающей, сколь многого ты заслуживаешь. Уж, наверно, лучшего, несомненно, лучшего, чем этот старый бездельник! Ты уже к нему приходила? Он познакомил тебя со своими друзьями — такими же «преподавателями»? Я ведь узнал, он несколько часов читает лекции в Музее изящных искусств.
Тебя больше не видно на наших политических сборищах. А когда объявляют стачку, ты незаметно ускользаешь неизвестно куда. А впрочем, смешно, но я уверен куда…
Да, это действительно так: я мечтаю видеть тебя с гордо поднятой головою, в первых рядах, воспламеняющей нерешительную толпу пойти за тобой следом. А ты скромна, усидчива, прилежна и уже неплохо притёрлась. Ты стоишь большего, Клео, ты достойна куда лучшего, чем такая тепличная жизнь в тени стариковских лавров!
МарсельПисьмо 53 Клеомена — Марселю
Ты глупец, Марсель, или же жалкий провокатор, капризный сопливый кретин. Полный самодовольства — уж во всяком случае, до такой степени, чтоб полагать, будто твоё письмо наставит меня на «правильный» путь.
Ты смеешь ревновать, требовать от меня отчёта о мужчинах, с которыми я встречаюсь, тогда как сам сочиняешь длинные трактаты и часами можешь рассуждать о пользе неверности. Ты нечестен, и это ещё не самое худшее… Ты поступаешь точно так же, как все мужчины, ты высокомерно учишь, ты думаешь за меня, ты считаешь допустимым диктовать мне, с кем я должна встречаться и как себя вести, ты воображаешь себе мои мечты и тайные устремления. Ты хочешь и того и сего, ты щедро раздаёшь советы. А на самом деле ты просто преждевременно состарился, Марсель, ты патерналист и реакционер, эгоцентрик и манипулятор. Мне уже никогда не преодолеть отвращения к тому, что мне открылось… Не хочу больше тебя ни видеть, ни тем более слышать, я запрещаю тебе писать мне и разговаривать со мной.
Ты разочарован??? Вот что ты сейчас думаешь?
Пошёл к черту, Марсель Бланзи!
Я свободна.
КлеоКлеомена — самой себе
Письмо 54 Ильза — Сюзанне
Париж,
17 декабря 1967
Дорогая моя доченька, mein Schatz[27],
ты, уже и так обидев меня кучей упрёков во всём на свете и ни в чём конкретно, несколько недель хлопаешь дверью, выкрикиваешь какую-то чепуху, а чаще всего и вовсе гнусности. Когда я пытаюсь с тобой заговорить, ты закатываешь глаза. А если стараюсь соблюдать дистанцию, испепеляешь меня инквизиторскими взглядами. И я уже не знаю, как с тобой быть, Сюзанна. Я так старалась воскресить былую близость между нами, но вижу, что ты полна ярости и она полностью тобой овладела. Да, это правда, испытание, пережитое всеми нами за этот ушедший год, далось нам тяжело, но ведь оно уже позади. А нам нужно двигаться дальше, дорогая моя девочка, смотреть в будущее, и, если задавать слишком много вопросов, это ни к чему хорошему не приведёт, а только к несчастью. Мне бы так хотелось, чтобы ты снова доверяла мне, как раньше. Мы так нуждаемся в доверии друг к другу. Мне кажется, чтобы вернуться к прежним дням, ничего особенного и не нужно. Ты так похожа сейчас на маленькую девочку, которая прибегала ко мне и ложилась рядом, свернувшись клубочком, ища поддержки. И я хочу, я нуждаюсь в том, чтобы обнять тебя, взять на ручки, и хочу, чтобы ты знала: я всегда здесь, рядом, чтобы защитить тебя. Ты по своей натуре тревожна, но я всегда знала, как рассеять твои тревоги. И вот я молю тебя снова довериться мне. Расскажи же, поделись всем, что гнетёт тебя, что волнует, что страшит. И мы с тобой вместе найдём выход, как всегда это делали.
Ты становишься пикантной, хорошенькой молодой женщиной, знаешь ли ты это, моя Сюзанна? Одновременно и отважной, и весёлой, и внезапно и порывисто хрупкой и во всём сомневающейся, а прежде всего в себе самой. Но для меня, на чьих глазах ты выросла, в этом проявляется ещё и твоя сила, твоя обострённая чувствительность и удивлённый взгляд, которым ты смотришь на мир и окружающих тебя людей.
А вот фотографией, мне кажется, ты увлеклась так страстно зря. Неизвестно, есть ли женщины, преуспевшие на этом пути. Если у тебя тяга к картинкам, ты можешь поступить в Школу изящных искусств. Мне сказали, что курсы рисования акварелей там лучшие в Европе.
А не прошвырнуться ли нам обеим по Парижу, как в прежние времена, чтобы подготовиться к Рождеству?
Твоя мать, любящая тебяПисьмо 55 Сюзанна — матери
Нет, мама, не поеду я с тобой по магазинам за рождественскими покупками, и в Базоль к бабушке я в этом году тоже не поеду, но самое главное — я никогда больше не брошусь в твои объятия с просьбой об утешении.
Зато в остальном ты права: я в ярости. И эта ярость сейчас служит мне преградой для того, так сказать, душевного понимания, которое ты собираешься выказать мне, и всего, что меня волнует и в чём я якобы нуждаюсь, препятствием для твоих тревог и забот о моём будущем.
Занималась бы ты лучше собой, своим мужем и Леоном.
Ибо думаю, что всё-таки предпочту мои тревоги твоим готовым ответам, этим неискренним предписаниям не вылетать из твоего гнёзда, остаться на своём месте в этой семье и не стремиться ни к чему другому, вспомнить о репутации нашей фамилии и налагаемых ею обязательствах в области знания светской жизни и хороших манер. То есть соответствовать твоим представлениям обо мне. И это всё.
Я не нашла в твоём письме ни словечка о том, через что ты прошла за этот год (ты, именно ты прошла через это, а не «все мы», как ты пишешь в письме), ни о твоём желании избавиться от ребёнка вопреки воле папы, ни слова об этой беременности, пережитой тобой как истинный кошмар и завершившейся тяжёлой депрессией. Мне так хочется верить тебе, что теперь всё позади и ты твёрдо решила идти только вперёд. Я очень-очень хочу, чтобы это так и было. Но я не верю, что это может быть в таком роде, как будто ничего не произошло. На самом деле я боюсь, что этим ты хочешь спасти, и притом быстренько и ловко, видимость счастливой и нескандальной жизни, как будто всё так просто — взять и запереть на замок все наши трудности, все вопросы, мучительно стоящие перед нами, и глубинные причины, вызвавшие землетрясение. Ибо это ведь было землетрясение. А что, не так?
Ты хочешь двигаться вперёд, не замечая ни экземы, пожирающей Леона с самого его появления на свет, ни двойной жизни папы… Ты отказываешься отвечать на вопросы о твоих родителях и предпочитаешь вместо этого вычеркнуть из жизни Магду.
Для чего столько умолчаний, мама? И почему они для тебя так важны?
А вот фотографией, знаешь ли, я, по-моему, заболела не случайно. Пока ты из кожи вон лезешь, чтобы стереть любые следы всего, что тебя раздражает, пока переписываешь историю своей жизни, чтобы согласовать её с тем, какой хотела бы её видеть сама и какими должны быть окружающие, чтобы, наверно, по-прежнему находить тебя восхитительной, — я выхватываю куски реальности, как осколки вдребезги разбитого стекла, режущие, острые, ослепительные. Крохотные осколки истины.
У меня нет никакого желания рисовать акварельки, разбавлять водой что бы там ни было, краски или что там ещё, чтобы выглядеть приличной девочкой.
СюзаннаПисьмо 56 Магда — Сюзанне
Берлин,
27 декабря 1967
Моя Сюзанна!
Мне не хватает твоих писем. И тебя, конечно, тоже. Мне иногда страшно, что я вот-вот потеряю тебя. И не только мне. Я получила поздравления от Фаншетты. Она пишет, что ей кажется, ты слишком часто одна. И ещё она говорит мне, что атмосфера у вас не очень-то радостная. Она связала мне митенки. Я выхожу в них каждый день. И всё время думаю о тебе, Сюзанна.
В Берлине что-то вроде временного перемирия. Надо сказать, впервые мы на Рождество все вместе. Папа купил четыре рождественских ёлочки, каждому по одной. И чтоб в каждой комнате стояло по ёлке. Они громадные, все немного кривоватые, кроме той, что для Лотты, эта красивее всех, и её водрузили в гостиной. Мы неутомимо украшаем её всеми игрушками, какие есть под рукой, и теми, которые склеили сами. Мама каждый вечер пекла песочное печенье, а днём развешивала во всех комнатах пакетики, завязанные разноцветными лентами.
Быть вместе. Под одной крышей. Наперекор всему и всем назло.
Иоганн всё время твердит мне, какая у меня замечательная семья. Не могу я разделить его энтузиазм. Он тоже вырос на востоке. Сбежал в 62-м году, переплыв Шпрее, поскольку хотел изучать философию. Точь-в-точь как Лотта, которой сейчас было бы столько же лет, сколько ему. Может быть, поэтому у них есть что-то общее.
Почему ты перестала писать мне? Я правда надеюсь, что твоя ярость прошла.
Ответь же.
МагдаПериод IV 1968
Письмо 57 Жак Фонтен — Клеомене
Афины,
5 января 1968 года
Дражайшая Клеомена!
Пишу вам со скорбной миссией — известить о смерти вашего брата Мицо, интернированного в лагерь на Хиосе. По всей вероятности, он умер от истощения. При нём нашли письмо для вас, которое я и пересылаю Вам в заклеенном конверте.
Я позаботился о его скромных похоронах. Он нашёл последнее пристанище рядом с отцом на кладбище в Пломари. Я желаю им обоим наконец обрести мир и покой.
Те письма, которые вы поручили мне передать вашей матери, аккуратно сложены у меня в личном секретере. У меня по-прежнему нет новостей о ней. Но уверен в том, что они не заставят себя ждать.
Я постоянно узнаю о ваших новостях от друзей, которым доверил заботу о вас. Знаю, что вы делаете успехи и преподаватели поражены глубиной вашего ума и уровнем вашей культуры. Я горжусь вами, девушка, знайте это и не забывайте, что у вас есть средства на длительное обучение и овладение той профессией, которая придётся вам по душе.
Я всегда рядом и готов поддержать вас.
Я часто о вас думаю. Держитесь. У вас должно получиться. Ваше преуспевание — тоже часть моих многочисленных упований на будущее вашей прекрасной родины.
Жак ФонтенПисьмо 58 Мицо — Клеомене
Хиос,
4 октября 1967
Дорогая моя Клеомена!
Пишу тебе с Хиоса, ночью безлунной, но до странности тёплой и ясной. Из расщелины в скале, куда едва протиснулся, чтобы скрыться, я различаю краешек Лесбоса — острова, видевшего, как мы росли. А эта, всё такая же тёмная, недвижная масса, будто вырастающая из вод, — мы видели её когда-то с края пирса — называется Хиос. Я как будто по невидимой границе перешёл с одного побережья на другое. В эти последние месяцы меня не раз охватывал страх, но достаточно было просто оглянуться. Наш остров был там, иногда он сиял, как во снах, под свинцовым солнцем. И ты всегда была близко.
В эту ночь я собираюсь бежать. Нас четверо, всё готово. У прибрежных скал в маленькой незаметной бухточке нас ждёт плот. Мы терпеливо сооружали его, собирая повсюду куски древесины и пряча их в надёжном месте. Я так хочу поскорее вырваться из этого проклятого кошмара!
Мы доверяем друг другу. Рассчитываем пройти через Мелинду, а там найдём, где укрыться после Мегалохори. Я представляю, как мы потом снова вступим в битву. Наверняка уже создано сопротивление. Полковникам долго не продержаться, я в этом уверен. Мы гораздо сильнее их. И так было всегда. Как говаривал папа, есть в мире справедливость. У жалких и покорных типов, как и у палачей, конец всегда одинаков: они издохнут, как псы. Как приятно писать это, я сейчас вижу, как ты улыбаешься, и на душе теплее.
Другие узники сообщали мне новости от мамы. Она вроде на Йаросе. Мне говорили, что у неё всё не так уж и плохо.
Этим летом мы чокнемся в таверне у Марии. Я как будто уже там. Мы, все втроём, сидим за тем столом под оливой, какой хозяйка всегда оставляла для нас. Несколько жареных сардин, свежее узо, и потом искупаемся, потому что будет слишком жарко, а вода возле таверны Марии по-прежнему прозрачна и свежа. Держу пари, что на сей раз удастся и маму уговорить окунуться вместе с нами.
Час близок, мне нужно двигаться. Я счастлив, на душе легко, я ухожу.
Завтра я буду свободен.
Я уже мечтаю крепко-крепко обнять тебя.
Дорогая сестра моя, главное — оставайся живой, где бы ты ни прочитала эти строчки.
И поклянись мне продолжать сопротивление по моему примеру всем тем идиотам, что пытаются посягать на твою свободу где бы, как бы и когда бы то ни было!
МицоПисьмо 59 Марсель — Клеомене
Париж,
28 января 1968
Клеомена,
я так хотел бы хоть чем-нибудь утешить твоё горе.
Я воображал… ничего я не воображал… только сжать бы тебя в объятиях. Унести на своих плечах хоть часть твоей печали. Доказать тебе, до какой степени всё, что происходит с тобой, происходит и со мной.
Пусть я не был знаком с твоим братом, пусть я не политический беженец и не подвергался таким ужасным преследованиям — я хотел выразить тебе сочувствие живым, своим голосом. Но раз ты больше не желаешь говорить со мной, я тебе пишу, что мне тоже больно, мне хочется вопить прямо в рожи этих чудовищ, которые всё разрушают и разрушают, опьяневшие от самодовольства и от обретённой ими власти.
Я ненавижу их, Клеомена, за всё то зло, какое они тебе причинили, за все те жизни, какие они искалечили, за всех убитых и поруганных ими.
И если тебе что-нибудь понадобится — я всегда рядом.
МарсельПисьмо 60 Магда — Сюзанне
Берлин,
22 января 1968
Сюзанна,
я придумала, как вытащить тебя в Берлин! Я так возбуждена! Гениально! Экстра!
Сейчас тебе объясню…
Свободный университет устраивает объединительную встречу, потому что количество несогласных растёт по всей Европе. Будут студенты испанские, итальянские, голландские, английские, французские… Молодёжь всего мира съезжается, чтобы заявить протест против войны во Вьетнаме. Иоганн известил меня, что Франко-немецкое культурное агентство предлагает это путешествие пятнадцати студентам филологического факультета!! Как только получишь это письмо, стремглав несись в студенческий комитет и скажи, чтоб тебя записали.
Ох, моя Сюзанна, я так жду, что ты приедешь! Мне так хочется показать тебе город, мой дом, некоторых друзей, которые настроены очень, очень по-боевому! Ведь мы с тобой уже так давно не виделись.
Если возникнут проблемы и тебя не захотят внести в список, смело обращайся к одному рыжему из Нантера, его зовут Даниэль. Он, разумеется, тоже там будет. Это большой друг Руди Дучке — того самого, кто устроил манифестацию в Берлине.
Дани поможет тебе, я уверена в этом.
До очень скорого,
МагдаПисьмо 61 Сюзанна — Магде
Париж,
2 февраля 1968
Я ПРИЕЗЖАЮ!!!
И со всей командой! Марсель и Дебора, Борис и Моника, и мне, кажется, удалось уговорить Клеомену!
Какой праздник!
Ты права — красный Дани тот, кто был нам так необходим! Он занимался всем: организацией, наведением контактов и даже скептиков заставил последовать за собой! Не знаю, откуда он черпает энергию, но он повсюду, без устали исходил весь университет вдоль и поперёк, произносит речи перед целыми аудиториями и как-то справляется с учёбой, которую ему приходится прерывать, ведь он исчезает на несколько дней, чтобы встретиться с представителями молодёжи в Германии, Голландии, в Италии, — и вот он снова здесь, снова агитирует весь универ направо и налево, от подвалов до чердаков!
Его многие ненавидят. Не знаю, на что способны они сами. Я считаю его неотразимым. Восхищаюсь его энергетикой, дерзостью, его упорством.
Мне почему-то кажется, что ваш Руди более тяжеловесный, мрачный и, может быть, ещё и более радикальный… Посмотрим… Я так хочу поскорее быть там, в твоей стране, с тобой! Наконец-то!!!!
Твоя Сюзанна, ультраэнтузиасткаP. S. Кстати, я подметила: чем я больше энтузиастка, тем моя мать больше подавлена!! Она делает всё, чтобы помешать моему отъезду. Никогда мои родители не ладят так хорошо, как когда хотят запретить мне жить! Но я нашла средство заставить их от меня отвязаться. Стоит лишь задать вопросы, которые их бесят… Это же ужас — какой страх вселяет в них простое слово или истина… настоящий семейный порок… поостережёмся!
P. P. S. Мне надо кое в чём тебе признаться. Во мне решительно ничего нет от революционерки, я ненавижу толпу и когда собираются больше десятка человек… Надеюсь, ты не слишком рассердишься за это… Главное, чего я жду, — возможности наконец-то, наконец-то, наконец-то повидаться с тобой и крепко тебя обнять!
P. P. P. S. Я не писала тебе, да, действительно, мне нужно было время. Сейчас всё куда лучше!
P. P. P. P. S. Ну да же, да, клянусь тебе!!!!!
Письмо 62 Клеомена — Ставруле
Париж,
без даты, не отправлено
Почти три месяца… или мне кажется… я тебе не писала… уже не помню точно… зима была долгая. У нас тут намело сугробы снега… А как там ты?
…
Зимы здесь не похожи на наши. Парижане не умеют молчать, они шумно болтают и оставляют зажжённым свет изо дня в день целый год. Они не замечают смены времён года, ничего не знают о глубине безмолвия, о засыпающей природе, о том, что день иногда запаздывает прийти, и тогда нам приходится опускать головы, вперившись в пол и держа в карманах кулаки в ожидании лучших времён.
…
мама, я не могу, я не в силах больше так и дальше, ждать от тебя известий, писать тебе так, будто настанет день, когда ты сможешь это прочесть.
…
Я возвращаюсь после уик-энда, проведённого в деревне, в доме моего преподавателя, месье Бертена, который помог мне наверстать пропущенные мною уроки. Я уже больше шести недель не ходила на факультет
…
Мицо умер, так и не узнав, что я простила его. Так и не узнав, как горячо я его любила. Как сильно мне его не хватает.
Письмо 63 Клеомена — Ставруле
Париж,
22 февраля 1968
Мама,
я не писала тебе уже больше трёх месяцев… Очень уж трудными выдались новогодние праздники. Но, думаю, на Йаросе было намного хуже. Дают ли вам хоть немного отдохнуть ваши охранники? Лучше ли вас кормят? Позволяют ли питать надежды на лучшее, как всегда под Новый год? Вот и я тоже с праздничными поздравлениями. Обнимаю тебя и в самую впадинку твоего ушка, дорогая мамочка, желаю тебе всего самого лучшего.
Я возвращаюсь из Берлина! Вообще-то я оказалась там случайно. Мне плохо везде. Но хуже всего — в университете. Я была не в силах проходить курсы, а того менее — выслушивать пламенные речи тех, кто приходил прерывать лекции.
И наконец, эта пошлая история с бассейном. На торжественное открытие прибыл министр, и вот один студент, самый рьяный из всех, устроил ему провокацию. Это было очень забавно.
Но кто-то в каком-то кабинете решил, что надо выгнать этого Даниэля Кон-Бендита, который по происхождению немец. Тот же чиновник (или другой какой, но такая же мелкая сволочь) затребовал полный список всех агитаторов Нантера, чтобы их наказать. А чтобы этот список получить, администрация университета расставила своих шпиков в штатском по всем коридорам, и они собирают доказательства, которые ей нужны!
Но мы решили дать отпор. Мы сфотографировали этих стукачей. И размахивали этими фотками при входе на факультет! Ясное дело, это не понравилось…
Пойми же, мама, что, сталкиваясь лицом к лицу с этими недоумками, ошалевшими от самодовольства, этими пустоголовыми тупицами, упивающимися маленькой властью в своих маленьких кабинетиках, людьми, которые хотят тащить и не пущать и при этом ждут, чтобы им подчинялись, хотят истребить всё живое вокруг, потому что сами они уже давно умерли, погребённые под кучей бумаг, я до сегодняшнего дня испытывала к ним только презрение и, может быть, немного жалости.
Но с этой минуты я чувствую, как яростно ненавижу их. Да, именно так, я их ненавижу.
Беда в том, что таких много. И в Берлине я видела таких же.
Тех, кто без продыху лезет из кожи вон, чтобы только разрушить жизнь и всё, что есть в ней радостного и творческого…
И именно там, в Берлине, я приняла решение — бороться. Даже если я этого не хочу, даже если насилие мне отвратительно, я вдруг поняла, что у меня нет другого выбора.
Твоя дочь, по-прежнему любящая тебя,
КлеоменаПисьмо 64 Марсель — Клеомене
Париж,
4 марта 1968
И снова я пишу тебе, Клео, это уж и вовсе посмешище, я чувствую себя глупцом, веду себя как мать, встревоженная причудами дочки!
Скажи, ради всего святого, что на тебя такое нашло?
Я-то думал, что со временем ты хоть немного успокоишься! Но с тех пор, как ты вернулась из Берлина, хуже уже некуда! Ты на глазах худеешь и плохо выглядишь. Но вовсе не чёрные круги у тебя под глазами и не лицо, осунувшееся от недосыпа, заставляют меня писать тебе. Нет, это та мрачная горячка, что сверкает в твоих глазах, та экзальтация, с которой ты бросаешься прямо в толпу, твой сжатый кулак, занесённый над головами жандармов, в касках и при оружии, которым слишком легко и приятно завоевать такой по-детски безобидный трофей, как ты. И каждый раз тебя осыпают ударами. И ты каждый раз начинаешь заново… Ума не приложу, чего ты хочешь! Но в том, что ты делаешь, нет решительно ничего героического. И даже наоборот — я считаю, что ты трусиха! И если от этих слов тебе станет больно — что ж, тебе же хуже.
Если хочешь умереть — выбросись в окно. Это способ более действенный.
Если хочешь отомстить — берись за оружие и убивай их!
Но если ты хочешь изменить мир, тогда тебе нужно согласиться жить вместе с нами и приближать воплощение наших надежд на день завтрашний.
Твоя страсть к разрушению не приносит пользы никому и ничему, Клео. Всё просто: у тебя нет права погружаться в такую глупую безнадёжность. И я, уж во всяком случае, не позволю тебе этого сделать.
Сегодня вечером мы все собираемся у синематеки, чтобы принять решение о ближайших акциях. Пока Мальро[28] не отступит, нам надо стоять на своём. Я зайду за тобой к 17 часам, жди меня внизу. Захвачу каску и для тебя.
МарсельПисьмо 65 Сюзанна — своей матери
Париж,
1968
Мама!
С тех пор как я приехала домой из Берлина, ты не задала мне ни одного вопроса. Да, впрочем, и вообще едва удостаиваешь меня словом. Полагаю, этим ты хочешь выразить мне неодобрение.
Да, правда, я снова виделась с Магдой. И ещё с твоим братом Карлом и твоей подругой детства Сибиллой. Я встречалась с ними, потому что люблю их и они много для меня значат! За что ты-то, в конце концов, на них злишься? Ни твоё презрение, ни нежелание ответить ничего тут не изменят! Но неужто правда, что ты будто хочешь совсем вытравить их из своей жизни? Как ты можешь быть такой злопамятной, когда они едва-едва выбираются из трудных времён? Скажу честно, я ищу и не могу найти для тебя никаких оправданий. Мне действительно стыдно за твоё поведение.
Потому что твой хмурый вид невозможно объяснить иначе — только заботой о собственном комфорте. Но знаешь что, мама, ты можешь кончить совсем скверно и останешься одна, если будешь упорствовать в твоём притворстве!
Умоляю, мама, позвони Магде! Ей плохо оттого, что ты молчишь.
СюзаннаP. S. И если хочешь, можем за ними съездить, за этими покупками, которые не успели сделать зимой. Клянусь тебе, что мне это будет очень приятно.
Дневник Сюзанны
Письмо 66 Клеомена — Марселю
Париж,
31 марта 1968
Да, Марсель, это правда, я очень тебя люблю.
Правда и то, что твоё настойчивое участие в этот период моей жизни мне чрезвычайно драгоценно. Я чувствую себя защищённой, не одинокой, согретой; мне нравятся даже твои приступы гнева. Тебе часто удавалось вдохнуть в меня силы, чтобы воспрять духом; благодаря тебе не так остра моя печаль.
Как бы мне хотелось, чтобы это было возможно между нами. Наш поцелуй у моего порога этой зимой — одно из самых прекрасных воспоминаний за всю мою жизнь.
Вдруг это случилось, здесь, между мной и тобой, с такой ясностью — вот оно, счастье, его бы принять и жить в нём…
Я хочу убедить тебя забыть обо мне. Оставь меня с моими мертвецами.
Мне нужно заплатить по счетам. И для этого может оказаться слишком короткой вся моя жизнь.
Мои родители воспитали нас, Мицо и меня, определив каждому жизненную роль. Мне предстояло учиться. Мой отец хотел, чтобы люди нашего круга боролись за права народа. Это и было моим долгом, моим призванием. Брату папа избрал иное занятие — политическую борьбу, вооружённые отряды и физическое противостояние. Прежде всего потому, что я всего лишь девочка и всегда ненавидела насилие.
Но сейчас всё изменилось. Отец и брат мертвы. Мою мать депортировали на остров. Возможно. Но возможно также, что она умерла. И тогда — долой воспоминания и долой страх. Долой книги в библиотеках, и прощай, тёплая жизнь в самом прекрасном городе мира. Мне — судьба поднять выпавший факел. А раз уж случай даёт мне возможность сделать это здесь, то здесь я и начну. Я должна посвятить всю себя этой битве, полностью отдаться борьбе.
И в ближайшее время я так и поступлю — в Греции. У меня нет другого выбора. Больше мне жить не для чего.
Принять твою любовь, жить твоей любовью значило бы словно осквернить память моего брата, убить его вторично. Я не имею права, мне предстоит продолжать битву, распространяя её и дальше, всеми силами приближая то, что называется настоящей демократией здесь и там, сегодня и завтра. Вот моя история, вот то, что мне завещано, и я не могу отречься от этого. Невозможно.
И на сегодняшний день я не знаю другого средства бороться, как только броситься в толпу, в пасть врагу, замахнувшись безоружными руками. А если в ответ ударят сильнее — я говорю себе, что научусь, закалюсь, выстою.
Они по-любому не могут ничего со мной сделать. Мне больше нечего терять.
Я чувствую своё отличие от других людей — тех, что вокруг, я чувствую его даже по своей походке.
Мой отец вернулся из Макронисоса безумным. Мы жили далеко и уединённо, потому что по ночам он вопил, а средь бела дня мог рухнуть наземь, взывая о помощи. Или голым пуститься в горы, как будто за ним по пятам гналась целая армия. И приходилось делать вид, что так и должно быть, что всё в порядке, и любить его по-прежнему, даже когда он принимал нас за кого-то другого и пытался причинить нам зло. Так мы и делали, Мицо, мама и я, и были с ним до конца.
В минуты просветления он снова превращался в требовательного, безжалостного педагога. От зари до темноты он требовал от Мицо и меня максимальной концентрации внимания. Он хотел угнаться за временем. И чем ближе, по его ощущению, был тот миг, когда ему снова придётся «отключиться», тем жёстче он становился. Мы сжимали зубы. Никогда не выказывали усталости. Я завидовала нашей собаке Туле, когда та, прикорнув в теньке, просто помахивала хвостом, отгоняя мух, ничего не сознавая, ничего не желая, не пытаясь хоть что-то сделать. Ей ничего больше не было нужно, только любить его. И он чувствовал к своей собаке такую нежность и доверие, как ни к кому из нас троих.
Мне долго казалось, что я словно на плоту, в незнакомом мире, с призванием, непонятным мне самой. Сегодня я знаю его суть.
Я ненавижу тех, кто сто раз убил моего отца, так и не убив его на самом деле. Я ещё и сейчас вижу, как он подносит к глазам руку, на которой не хватает двух пальцев. И каждый такой раз словно сама природа вдруг умолкала, леденея от ужаса.
Я заканчиваю. Я позволила себе рассказать тебе небольшую часть моей истории. Она печальна и написана ещё до моего рождения. Мне хотелось, чтобы ты понимал, откуда я, кто я есть, почему это невозможно.
Оставь меня в покое, Марсель, подари другим девушкам свою весёлость и меланхолию, свою чувствительность и прямоту. Ты сильный мужчина. Не теряй себя в пути. Думаю, что и Дебора — невероятно смелая женщина, а главное, безумно влюблена в тебя. Позаботься о ней и попробуй сделать её счастливой.
Нежно целую тебя.
КлеоПисьмо 67 Сибилла — Ильзе
Берлин,
5 марта 1968
Я только что получила приглашение! Какой радостный сюрприз для меня, для всех нас… Мы, конечно, в мае будем у вас. Одна только мысль об этих встречах после разлуки ужасно волнует меня. Веришь ли ты, что самое трудное наконец позади? Всего несколько месяцев назад я и представить себе не могла, что окажусь рядом с тобой в такую минуту, а теперь не я одна, а мы все будем там, все вместе, — и это несмотря на стычки, несмотря на ярость и недомолвки, несмотря на все дрязги между нами. Мы выдержали, моя милая и нежная подруга, 10 мая мы станем одной семьёй, и я так этим горжусь!
В этом маленьком клочке бумаги столько новостей, которых я не знала! Я поняла, что Максим усыновил Дитера, раз уж тот носит его фамилию, и воображаю, до какой степени это облегчило твою жизнь. Ты с самого начала боялась за него, видя, что он исключён из своей семьи… И наверное, это немного нейтрализует то неведение насчёт судьбы его отца после войны, в котором вы до сих пор пребывали. В конце концов, решающим было рождение Леона. А ещё пусть это бракосочетание заставит нас позабыть о том, что случаю было угодно так сблизить наших детей. Спасибо, Ильза, за то, что простила Магду. Всё это, конечно, одни только детские игры. Всегда предпочтительнее забыть.
Если бы Магда прочла последнюю строчку, она обезумела бы от ярости. Не знаю, рассказала ли тебе Сюзанна, что моя дочь вздумала заняться психоанализом! Что за ужас! Разлечься на диване и рассказать о себе всё незнакомому человеку — я считаю такие принципы совершенно идиотскими, абсолютно непристойными и даже весьма опасными! Я-то полагала, что моей дочери, разумеется, неинтересно, что я обо всём думаю, — и вот она почти каждое утро приходит с вопросами, на которые я пытаюсь отвечать, несмотря ни на что.
Вчера наконец случилось то, чего я боялась больше всего, — она потребовала рассказать ей о её сестре. Я не смогла. Но обещала, что попробую ей написать. И сейчас так и сделаю. Я слишком хорошо понимаю, насколько это необходимо.
Тебе следует знать, что я виделась в Берлине с Сюзанной. Всего несколько часов в перерыве между двумя манифестациями, но сколько счастья! Она так изменилась. И дело не только в том, что выросла… Сама не знаю, что кроется за этой её сдержанностью. Она осторожна и наблюдательна. Она так пристально вглядывалась в меня, что в конце концов заставила опустить глаза. Кроме того, она то и дело щёлкает фотоаппаратом, снимая каждую секунду и всё подряд. Помню, что это всегда был любопытный ребёнок. У меня неясное чувство, что она на пороге принятия какого-то важного для себя решения. Даже если сама этого ещё не осознаёт.
Она будет жить в точности такой жизнью, какой сама пожелает. И никто с этим ничего не сможет поделать. Она отчаянная, твоя дочь, отчаянная и смелая. Карл со мной не согласен. Но из него-то психолог как из верблюда, не находишь?
Сейчас я почти счастлива. Я не осмеливаюсь произнести это слишком громко или боюсь поспешить. Хайди набросала для тебя прелестный рисунок, который я вкладываю в этот конверт. Ганс решил, что станет журналистом. Мне кажется, это плохая идея… Но я, как и с Магдой, предоставляю сделать выбор ему самому… По другую сторону Стены у них не было бы никакого.
Здесь, что бы там они ни талдычили, эти молодые, выбор у них есть, и ещё у них есть свобода говорить, читать, думать…
Позвони мне и посоветуй, что подарить Дитеру. У нас есть телефон, и хватит с меня думать о том, что нас всё ещё прослушивают! Карлу придётся к этому привыкнуть… Мы больше не в опасности! Какая радость… Напишу ещё раз… Нет, мы уже не в опасности!
До очень, очень скорого, и да здравствует весна!
СибиллаP. S. Мне взять с собой одно или два платья? Одно короткое и одно длинное? И две пары туфель? И, наверное, лёгкое пальто… Мне ещё нужно подготовиться!
Письмо 68 Сюзанна — Магде
Париж,
2 апреля 68
Моя дорогая Магда,
в Берлине было так хорошо!! Так хорошо! А знаешь ты, что наши матери наконец-то пообщались друг с дружкой и вы все приглашены на помолвку Дитера? Да, ты наверняка знаешь. Надеюсь, что приедешь. Конечно, с Иоганном!
Мама стала наконец поспокойнее. И это утешает меня. Не знаю, есть ли для этого точное слово, но думаю: а пошло бы к чёрту всё-всё на свете!!! Бамс! Упс! Ну наконец-то всё!!
Я от всей души ненавижу свою будущую невестку, которая просто образчик католического конформизма!!! С самого рождения страстно увлечённая вязанием и садоводством, трудящаяся на благо ближнего своего с всегда одинаковой сияющей улыбкой, конечно, девственница и далека, очень далека от того, чтобы задаваться хоть малейшими вопросами о своей независимости или о своих желаниях. Она будет женой Дитера, и этого ей вполне достаточно. Для меня такое непостижимо. А стоит мне только сказать, какую тоску на меня нагоняет эта девица, и это так раздражает маму! И вот я уже больше не выступаю!! А просто улыбаюсь!!!
НО Я НИКОГДА НЕ СТАНУ ЖЕНЩИНОЙ —
ХРАНИТЕЛЬНИЦЕЙ ОЧАГА.
НИ ПРИМЕРНОЙ ЖЕНОЙ,
НИ РЕВНОСТНОЙ КАТОЛИЧКОЙ!!!
Теперь о другом. Приготовления к бракосочетанию Дитера предоставляют некоторые возможности.
Я часто бываю в Базоле…
И наезжаю туда совсем не за тем, чего требуют мать и бабушка. Я встречаю там Эрика, о котором ещё никогда тебе не говорила… Тот, с кем я это сделала в первый раз прошлой весной. Получилась настоящая катастрофа… Но когда мы снова увиделись — вот странно, между нами не возникло ни малейшего смущения. Мы улыбнулись друг другу, и он предложил мне прокатиться на его мотороллере, а я и согласилась (ты ведь знаешь, как беззаветно я люблю парней, умеющих ездить на двух колёсах!). Он поцеловал меня, я была совсем не против, и тут он попросил прощения за то, как всё это между нами получилось, добавив, что если ничего не вышло, то по его вине… Я возразила, говоря, что нет-нет, полностью по моей, потому что это меня вроде как заклинило… Он запретил мне так о себе говорить, выражаясь при этом как озабоченные мальчишки. Посмеялись… радостные, что встретились опять, что можем так болтать, совсем попросту… Это было такое освобождение, ты не представляешь даже какое!!! Смущение, оказавшееся обоюдным, и желание, снова поднимающееся в нас обоих, и всё это происходило одновременно, мы не осмеливались даже в это поверить и несколько дней снова осторожно присматривались друг к другу… Он спрашивал меня, что доставляет мне удовольствие, а что смущает, при этом лаская меня. Сперва я пожимала плечами, считая, что это немного неприлично… А потом прислушалась к тому, что говорит моё тело, и тут понеслось…
Мы встречаемся везде, где можно, и каждый раз набрасываемся друг на друга с одинаковой ненасытностью, и говорим обо всём и ни о чём, бывает, что и о нас. Он часто издевается над моей семьёй… Он смешит меня…
Вчера мы занимались любовью, и как это было хорошо. Решили начать всё заново и как можно чаще… Я не влюблена и не хочу втягиваться, а думаю только о наслаждениях — покататься голышом по траве и окунуться в холодную воду канала, а потом со всех ног к нему — согреться в его объятиях. И заниматься любовью — ещё и ещё, мне ещё так много нужно узнать о себе самой. Я люблю его тело, его волоски и мускулы, его тяжесть на мне, его запах и его член… Мне нравится заниматься этим с ним, и я хочу поскорее попробовать и с другими тоже… снова и снова… и к чёрту и кюре, и родителей, и мою репутацию, и к чёрту всё, что говорят об этом те, кто отвергает жизнь, даже не попробовав её на вкус…
Я люблю любовь, какое счастье!
Я каждый день принимаю противозачаточные таблетки, которые купила в Германии… Говорят, очень скоро их начнут выпускать и во Франции! Мама согласна отвести меня к врачу, потому что несовершеннолетние девочки не имеют права на это без родительского разрешения. Когда я её про это спросила, она сразу же схватилась за телефон, даже не устроив мне допрос.
Но я-то знаю: ей неприятно слышать, что мне это нужно…
Наши матери так запутались в себе… по мне, с ними такая тоска, а уж это их благоразумие… У меня стойкое ощущение, что они предпочли бы видеть кого-то другого на моём месте, не такую живую, не такую дерзкую, поэлегантнее, поскромнее, поуравновешеннее…
Прощаюсь с тобой… Эрик уже у запруды, он машет мне рукой и зовёт к себе… Побегу к нему…
До скорого, радость моя!
Твоя предприимчивая СюзаннаПисьмо 69 Клеомена — Ставруле
Париж,
7 мая 1968
Мама…
Слышишь ли ты его, нарастающий и приближающийся гул ропота, его приливы и отливы, слышишь ли, как он превращается в вопли, слышишь ли ты их, мама, на своём острове, куда тебя депортировали, — всех вас, молодых, бесстрашных, готовых ко всему, переполненных неистовыми желаниями, тех, кто заполняет улицы, рушит установленный порядок, требует всего и чего угодно, главное — чего угодно, суматохи, сумятицы, катаклизма — им всё по душе. Совершать революцию — какая нежданная удача, какой случай, какая взрывная сила! Если бы ты могла это увидеть! Увидеть нас, сражающихся на баррикадах, разбирающих мостовые, срывающих указатели, захватывающих аудитории, улицы, кафе и спорящих до хрипоты, пока без сил не рухнем в кровать… Другой мир — это очень просто: мы хотим жить в другом мире, хотим мечтать, мыслить, распахнуть окна, разделять, меняться, смеяться и танцевать. Ведь, чтобы построить всё заново, надо сперва всё разрушить, правда?
Что ж, мама, скажи, ты ведь слышишь их? Быть может, поверх окриков своих тюремщиков, в их тревожных перешёптываниях ты ощущаешь, как вдалеке дрожит земля? Это шагают и шагают молодые безумцы, требующие абсолютной свободы, от завоевания которой они никогда не отрекутся, откуда бы ни пришли тираны. Мама, я с ними, здесь, я среди них, я танцую на баррикадах, и когда я кричу во всю мочь, то слышу и тебя. В ответ ты смеёшься своим хриплым и чистым смехом, смеёшься во всё горло, всё увереннее и всё смелее, ты смеешься так звонко и весело, как не смеялась прежде, и твои охранники не могут ничего с тобой поделать. Ты смеёшься так громко, что серые стены светлеют и солнце улыбается.
С прошлого четверга я каждый день читала газеты, надеясь, что эти новости попадут на первые полосы и быстрее дойдут до тебя, но они сперва просто не замечали нас. Да ведь поначалу это всё и вправду было не бог весть что… Началось глупо, когда Граппен, декан факультета, решил закрыть Нантер и потом Сорбонну из опасения, что фашисты запада и движение бешеных Нантера устроят потасовки. Во дворе Сорбонны организовали митинг, он продолжался несколько часов, конца не было видно, и вдруг этот красный Дани, который устроил мне поездку в Берлин, — помнишь его? он сейчас во главе всех или почти всех манифестаций в Европе — так вот, он внезапно схватил микрофон и в нескольких словах совсем просто высказал то, что всё никак не высказывалось.
Это было как будто на моих глазах, будто я своими глазами видела, как рождается революция. Он сказал:
— Мы тут, чтобы захватить Сорбонну!
Он отворачивается, передаёт микрофон кому-то ещё. Полиция входит во двор, и тут начинается бунт.
А потом мятежные выступления уже не прекращаются и в Латинском квартале.
И тогда, впервые с прошлой весны, я сказала себе, что нахожусь там, где должна быть, и мне стало от этого хорошо. Тем более что мы не одни перед лицом полицейских атак. Толпа нам сочувствует. Люди в ужасе от той жестокости, с которой полиция и жандармерия средь бела дня и при свидетелях кидаются на молодых людей, а те — в одиночестве, падающие наземь и безоружные, могут только закрываться голыми руками от сыплющихся на них ударов. Избиения на глазах прохожих, причём совершенно немотивированные, заснятые и сфотографированные, которых они даже и не скрывают, а наоборот — чувствуют полное своё право, да, так они думают, и с таким же удовлетворением навалились бы впятером, вшестером или всемером, все при оружии, на одного — того, кто заведомо слабее, меньше их, ничто или вовсе чья-то тень! Но они получают ясные приказы. Им необходимо показать, что они не того десятка, чтобы позволить разгуляться какой-то двадцатилетней мелюзге, не знающей даже, что такое ответственность, каким-то мечтателям, опасным паразитам общества, вообразившим, что они угрожают общественному порядку, — уж таких-то легко успокоить ударами полицейских дубинок…
Когда я вижу их, эти тени в длинных чёрных плащах, в касках, с карманами, тяжёлыми от дубинок и гранат, когда они выстраиваются в ряд, взявшись за руки, такие уверенные в себе, в своём праве, в своей силе, — у меня каждый раз чувство, что передо мной что-то ирреальное, потому что эти жандармы кажутся мне ряжеными, переодетыми в кого-то другого, злыднями из детских сказок или всамделишными людоедами. Их жестокость — словно доцивилизационная, докультурная, она даже домыслительная, эти люди подобны животным, ими движут самые низменные инстинкты.
Я смотрю прямо в эти лица, я хочу встретиться с ними взглядом — и понимаю: они до мельчайших деталей похожи на тех, кто во имя закона пытал моего папу, кто довёл его до безумия.
Вчера было 600 раненых и 400 арестованных.
Дани и его товарищи предстали перед университетской комиссией по дисциплине. Они пришли туда, скандируя: «Весь мир насилья мы разрушим, кто был ничем, тот станет всем…»
Они надеялись, что мы не бросим их там одних. Мы шли за ними следом, мы — заодно!
Я люблю тебя, мама, люблю, ты слышишь меня?
Письмо 70 Максим — матери, Дельфине Лаваголейн
Париж,
15 мая 1968
Дорогая матушка, взглянув на события, сотрясающие Париж и весьма далёкие от угасания, а напротив — грозящие охватить уже всё общество, вы поймёте, что в такой атмосфере, столь же тлетворной, сколь и опасной, не может идти и речи об организации помолвки Дитера. Вы не представляете, что мы переживаем каждый день и каждую ночь вот уже на протяжении недели… Обе наши машины были перевёрнуты и сожжены, на улицах пониже от нашего дома искорёжен асфальт, граната со слезоточивым газом, брошенная неизвестно кем, попала прямо в мой кабинет, разбила окно и тут же изошла терпким и удушающим дымом, который мог убить моего сына, не окажись Фаншетта столь предусмотрительной: она заперлась вместе с ним в маленькой спаленке на самом верху, куда у взбесившихся революционеров не хватило духу подняться.
Нечего и говорить о том, что эти мятежи должны как можно скорее прекратиться. Это не проходит бесследно для бизнеса — от нас бегут инвесторы. Майские цифры окажутся просто катастрофичными. Я не понимаю, куда смотрит наше правительство! И честно скажу, я спрашиваю себя, как далеко может зайти трусость властей предержащих. В истории бывают моменты, когда не нужно бояться непопулярных мер. Я знавал де Голля не таким презренным трусом!
Я отправляю к вам Дитера с его будущей невестой, которая больше не спит по ночам, убеждённая, что именно к ней однажды явятся эти молодые люди, чтобы учинить расправу… А поскольку я не уверен, что смогу ещё долго удерживать от участия в этих бунтах Дитера, с которого станется наплевать на все усилия и надежды, какие я на него возлагал, то прошу у вас как милости доверить ему управление нашим имением в Базоле. Уверяю вас, из него выйдет очень неплохое управомоченное лицо до самого совершеннолетия Леона.
Чтобы уж ничего не скрывать от вас, матушка, скажу: я больше не чувствую, что владею ситуацией. Ни в своём доме, ни на работе. Никогда не мог я даже вообразить, что окажусь в подобном положении, да ещё и в моём-то возрасте!
Ильза прониклась горячим сочувствием к бунтарям. Нашу гостиную она превратила в лазарет, распахнула двери моего собственного дома для всей этой шпаны, которые все тут заодно, не переставая шастают туда-сюда и днём и ночью, как будто у себя дома. Всё это случилось так быстро… И кажется, что вернуться к прежнему порядку уже невозможно. Ильза защищает их, как курица цыплят. Что касается Сюзанны, то стоит мне раскрыть рот, как она превращается в истеричку.
Ильза не перестаёт удивлять меня! Я полагал, что истратил на неё весь отпущенный мне запас понимания и снисхождения. После её прошлогодней депрессии и того терпения, какое понадобилось мне для её поддержки, признайте же, что я заслужил лучшего, нежели этот внезапный приступ солидарности с голодранцами.
Наши служащие бастуют уже четыре дня. Я сразу же принял представителя профсоюзов, которого давно и хорошо знаю. Стремясь к примирению, я согласился подумать об организации работы. Приняв через неделю ещё одну делегацию, я искренне хотел пересмотреть решение об ужесточении рабочего графика без увеличения зарплат, вступившее в силу этой зимой, и был готов ещё и дать им дополнительное время для отлучки в туалет…
Они все сразу отказались, они меня почти испугали, могу тебя уверить! Если бы ты видела всё, что происходит в Нанте! У меня нет ни малейшего желания попасть в плен к разъярённым типам, добела раскалившимся от подначек обезумевшей толпы. Я уже не понимаю, как успокоить своих служащих. Они упрекают меня во всём на свете и ни в чём конкретно. Например, сегодня утром они вдруг решили, что тоже должны иметь право входить через дверь, предназначенную для клиентов, хотя уже давно работники заходят через служебный вход, который ведёт на улочку за банком! Я на секунду вдруг подумал, а не подменили ли их! Попытался объяснить им, почему это невозможно, но ими овладело настоящее исступление! Сейчас банк прекратил работать! В зале для совещаний женщины устроили детские ясли и требуют зарплат, равных с мужчинами, делающими ту же работу. И что они потребуют ещё?!
Как только закончится этот кавардак, как только они снова по-хорошему рассядутся за свои конторки, уж я найду способ избавиться от этих поджигательниц и сочувствующих им городских товарищей.
Но пока что люди маршируют по улицам с одним и тем же транспарантом:
За солидарность студентов, преподавателей и рабочих!
Кто мог бы представить, что выдастся такой вот май?!
Мне не терпится приехать этим летом к вам, в Базоль, где ничего не изменится. Спасибо за ваше постоянство и ваше понимание, дорогая моя, сегодня оно для меня ещё драгоценнее, чем вчера!
Максим ЛаваголейнПисьмо 71 Ильза — Сибилле
Париж,
14 мая 1968
Дорогая моя Сибилла!
Сегодня 11 мая. Ты уже несколько дней как должна быть в Париже. И мы бы спокойно болтали о том о сём под липами парка в Базоле. А Дитер уже был бы помолвлен…
Но события в который раз оказались сильнее наших планов. У меня чувство, что вся моя жизнь соткана из этих сюрпризов, то добрых, то печальных. И нужно, чтобы я их принимала. Что я и делаю, насколько могу. Но сейчас у меня и вправду ощущение, что это уж слишком. Я больше не знаю, на каком я свете.
Несколько дней назад к нам нагрянули Магда и Иоганн. О них тебе беспокоиться нечего, у них всё хорошо. У обеих наших дочерей глазки блестят с утра до вечера. Они всегда вместе, и болтают, и щебечут, и ликуют, и воодушевлены донельзя. А главное — они ПРОТЕСТУЮТ!!! И я им немного завидую…
Я совершенно перепахана всем, что происходит под нашими окнами. Уже целую вечность я не чувствовала в себе такой жажды жизни… Это восстание вывело меня из долгой летаргии. Максим не понимает, его тревожат дела бизнеса, его сбило с толку это оживление. Мы спорим до хрипоты. Он опять хотел спровадить меня к своей матери! Кончилось тем, что я предложила ему на время разъехаться. На что он ответил отказом.
Мне трудно даже вообразить свою жизнь без него. Мы столько всего пережили вместе. Но я не выношу его прихотей и его манеры считать меня женщиной-ребёнком, слегка глуповатой, эгоистичной, требовательной и ничегошеньки не смыслящей в его заботах, истинных заботах и тревогах настоящего мужчины — то есть в деньгах и власти.
Кончилось тем, что он ушёл на несколько дней к любовнице. Что ж, по крайней мере, не будет спать у себя в кабинете. Я ничего об этом не знаю. Но мне дышится легче, с тех пор как я его больше не вижу. Сама себе удивляюсь. Не знаю, что со мной происходит…
В первый день мятежей я долго-долго стояла у окна, парализованная этим насилием. А потом увидела одного из манифестантов — он нёс кого-то на плечах. Он взывал о помощи, а вокруг никого не было. Я не раздумывая выскочила на улицу помочь ему, и мы внесли его товарища в гостиную. Должно быть, парень рассказал об этом среди своих, потому что в ту же ночь и в последовавшие за ней ко мне втащили и других. Моя квартирка превратилась в приёмную скорой помощи… Каждое утро я встаю и делаю по полной программе всё — компрессы и дезинфекцию. Знаешь, я вновь обрела все навыки времён войны. И вспомнила, как мне важно чувствовать себя полезной. Твоя дочь помогает мне до изнеможения. Она по много часов слушает их, люди охотно доверяются ей, и она любит выслушивать их рассказы о себе. Она сказала мне, что хочет стать психологом… И я считаю, что это занятие ей подходит.
Я рада, что снова встретилась с Магдой. Кончилось тем, что я призналась ей: сейчас я считаю, что она была права, что всегда лучше обсуждать, задавать вопросы. А ещё я сказала ей, что её дедушки и бабушки, скорее всего, живы. Надеюсь, вы не рассердитесь на меня, но я больше не могу притворяться. Я рассказала ей всё, что знаю сама. Что они живы, укрылись в Южной Америке. И что мой отец был значительным лицом в администрации Геббельса. Едва услышав об этом, она заскрипела зубами и вышла из комнаты, не проронив ни слова. Больше мы не заговаривали на эту тему. Зато теперь, если мы смотрим в глаза друг другу, я могу выдерживать её взгляд без стыда за то, что от неё скрывала. Знаю, не за горами и другие вопросы. Нам нужно быть к ним готовыми. Я считаю, что она имеет право на правду, раз уж она от нас её требует.
И ещё на одном я настаиваю, Сибилла, прости уж. Ты должна рассказать своей дочери о Лотте. Ей это очень нужно.
Я сознаю, хорошо сознаю, сочиняя это письмо тебе, до какой степени мне легко разговаривать с тобой о Магде! А вот с Сюзанной всё труднее. Она вечно в ярости на меня! Когда я говорю с ней, она не даёт мне даже закончить начатую фразу, обрывает меня. Я считаю её эгоцентричной, гиперчувствительной и даже с некоторых пор решительно истеричкой! И поэтому не могу больше выносить её капризов и постоянного сарказма. Мне кажется, что я вообще не должна была принимать эту греческую коммунистку под свой кров — от этого всё стало только хуже… Но нет, сама знаю, что эта мысль несправедлива. Как будто это была вина Клеомены… Бедняжка!
Сама уж не знаю что несу…
Думаю, что и правда скоро уйду от Максима. Оставив ему Леона. Хотя бы на время.
Если не сделаю этого сейчас, думаю, скоро от всего этого умру.
А что, ты правда хочешь, чтобы я этим летом на несколько недель приехала в Берлин? Я могла бы снять домик недалеко от тебя… Мне и правда необходимо тебя видеть. Ответь поскорее.
ИльзаP. S. Не забудь же, напиши Магде.
Письмо 72 Сюзанна — Деборе
Париж,
20 мая 1968
Да что ж ты, в конце концов, делаешь, Дебора, в своей бретонской глуши, когда мы стараемся изменить мир в Париже, в Лионе, в Марселе и далее везде?
Мне сказали, что твой отец болен… Но, честно говорю, если всё не так тяжко, прошу тебя, возвращайся быстрее! Тебя ужасно не хватает в эти чудесные деньки!!!
Я искала тебя повсюду!!! На улицах, в аудиториях, в кафешках, в театре «Одеон», распахнувшем свои двери, и на заводах, где трудяги превратили свои рабочие места в игровые площадки. Я видела, как они играют в бадминтон или футбол — прямо посреди станков, при этом митингуя, требуя увеличения зарплат, но не только. Они хотят высвободить побольше личного времени, чтобы отдохнуть или поехать в отпуск, они хотят разговаривать друг с другом — обо всём на свете и ни о чём, о том, что их волнует, гнетёт, подавляет. Что-то носится в воздухе, лёгкое, счастливое. Погода прекрасная, мы гордо подняли головы, лица у всех сияют. Как будто дует ветер каникул, как будто всё обновляется и больше нет ни привычек, ни обязанностей… Остаётся главное, суть — вопрос о смысле той жизни, которую ты ведёшь, смысле наслаждения, которое хочешь испытать, свободы, которой так нам не хватает, времени — его всегда слишком мало на наслаждения жизнью, и на чтение, и чтобы подумать и оглянуться вокруг себя.
И всё это — между двух мостовых и трёх баррикад, с тряпкой у рта, чтобы не задохнуться от слезоточивого газа, слушая радио по нашим маленьким транзисторам, водружённым на капоты сгоревших машин. Это же гениально!!!
Вчера я наткнулась на одну листовку, притянувшую меня, точно магнитом!!! Я переписала её для тебя и именно тогда и решила, что обязательно тебе напишу.
СТУДЕНТ, подвергающий всё сомнению
Отношения ученика и учителя,
А не думал ты подвергнуть сомнению
Отношения мужчины и женщины?
СТУДЕНТКА — участница революции,
Не дай снова обмануть себя,
Не просто иди следом за всеми,
Определись, чего требуешь ты сама!
И я туда пошла!
Аудитории были набиты битком! Правду говорю — аж стены трещали!!! И знаешь, это было волшебно — видеть нас всех вместе! Все так изумлены, и заинтересованы, и полны страсти… Бросаются обниматься напропалую, хмельные от возможности наконец-то обмениваться мнениями, разговаривать друг с другом, оскорблять, протестовать! Проявлять себя вовсю…
«Мы, нас…» От этих слов у меня до сих пор слёзы на глазах. Но главное — твёрдая убеждённость в самой глубине моей души, что откат к прошлому НЕВОЗМОЖЕН УЖЕ НИКОГДА.
В тот самый вечер я видела, как женщины вставали и выступали. Против всех авторитетов, которые стараются отвести им лишь ограниченную роль: родителей, преподавателей, предпринимателей… против всех, кто предпочитает видеть нас покорными! Клеомена выступает во всех аудиториях. Она горит энтузиазмом и зажигает толпы. Люди восхищаются ей и аплодируют. И она ещё и смешит их! Она самая пламенная из всех нас!!! Какая женщина!!!!
Возвращайся быстрее!
Или дай о себе знать!
Если ты не можешь вернуться в Париж, я найду кого-нибудь, кто привезёт тебя на машине!
Потому что вопреки всему вся страна бастует! Больше нет поездов, нет бензина, нет служащих в банках, ни почты, ни телевидения, ни мусоровозов. Нет больше грузовиков на дорогах, нет рабочих на заводах… И я вдруг говорю сама себе, что ты ведь и письма этого не получишь…
Ну и ладно, ничего!!!
Сейчас суну его в свой дневник, а отдам тебе прямо в руки.
Целую совершенно по-революционному,
СюзаннаПариж, май
1968
Письмо 73 Жак Фонтен — Клеомене Рунарис
Афины,
23 мая 1968
Мадемуазель Рунарис!
Вообразите моё удивление, когда декан университета собственной персоной запросил встречи со мной. И ещё того больше — когда я узнал, что вы были в числе этих агитаторов, которые сеют хаос, разрушают и оплёвывают места столь священные, как Сорбонна, а то и бросаются булыжниками в стражей порядка! Мне стоило большого труда в это поверить. Я даже уверял его, что он ошибается. Но пришлось признать очевидное… Да, речь шла именно о вас!
Способны ли вы хоть на миг представить себе, до какой степени я огорчён? Говоря попросту, вы обманули моё доверие. Вы растоптали надежды, которые я на вас возлагал. И наплевали на силы и средства, которые я потратил, чтобы вас спасти. Мне в высшей степени неприятно напоминать вам об этом. Как вы смеете бросать вызов власти тех, кто принял вас на своей земле, кто устраивает ваш быт и кормит вас, тем, кто заботится о вас и защищает вас? Вам не кажется, что Франция и французы заслуживают большего, чем такая неблагодарность? Вам, чёрт подери, всего-то и надо было, что сдать экзамены и спокойно жить! Не слишком ли много вы требуете после всего, что для вас уже сделали?
Декан выразился предельно ясно. Если он ещё раз увидит вас на какой-нибудь манифестации этих взбесившихся леваков, он подаст по всей форме требование о вашем исключении. И вы будете высланы за границу, как уже выслан ваш товарищ Кон-Бендит!
Не обольщайтесь, мадемуазель, никакой революции не будет, и все эти юные бунтовщики завтра вернутся к их дорогостоящим учебным занятиям, сохранив, может быть, лишь смутное воспоминание о том, что вы когда-то вместе с ними учились.
Ваш друг
Жак ФонтенПисьмо 74 Клеомена — Жаку Фонтену
Париж,
25 мая 1968
Господин посол, дорогой месье Фонтен!
Я чудовищно неблагодарна, что правда, то правда, и я понимаю ваш гнев. Я считаю его вполне оправданным. Разумеется, я могла бы, вместо того чтобы часами торчать на улицах или демонстрациях, споря о столь суетных темах, как свобода и демократия, читать в тихих библиотеках Канта, Гегеля или даже Ницше. Несомненно, это было бы не так ошеломляюще и больше подобало бы девушке вроде меня, которую вы по доброте душевной вытащили из грязи.
Однако сколько раз я слышала от вас слова восхищения той борьбой, которой отдал жизнь мой отец, его силой и стойкостью убеждений, его способностью к сопротивлению, никогда не дававшей слабины? Он посвятил этому свою жизнь. В этой же борьбе погиб и мой брат. А о матери я до сих пор не имею никаких вестей.
Я — их дочь, я сестра Мицо, господин посол. Я коммунистка, я партизанка, я феминистка, и я гречанка. Я на защите демократии и революции. Я мечтаю о свободе и равенстве. Как ради сегодняшнего дня, так и ради завтрашнего. Но вовсе не ради того, чтобы писать об этом высокоучёные диссертации в трёх частях с подглавками. И того менее — чтобы украшать прекрасные гостиные тех посольств, в которых вы принимаете ваших друзей.
Вы огорчены, месье Фонтен. Не стоит, разочарования могут вызвать изжогу.
Несмотря ни на что, спасибо вам. Я предпочла бы услышать, что вы гордитесь мною.
Искренне ваша
Клеомена РунарисПисьмо 75 Сибилла — Магде
Берлин,
июнь 1968
Дорогая моя Магда!
Раз уж ты так настойчиво требуешь, я наконец решилась написать тебе эти несколько слов. Я, правда, не знаю, чего ты ждёшь. Я не верю в крупные выяснения отношений. Но искренне надеюсь, что всё написанное мной пойдёт тебе на пользу.
Когда я думаю, с чего начать рассказ о твоей сестре, первой приходит на память та лестница в несколько ступенек, вы обе так любили сидеть там наверху. Маленькая каменная лесенка, ведущая в домик, от которого осталась лишь дверная рама, открывающаяся прямо на руины. Тебе четыре годика, а Лотте уже девять. Но мне до сих пор трудно осознать эту вашу разницу в возрасте. Ты такая крошка, а она уже большая. Но Лотта всегда была слабым ребёнком.
Мне кажется, такой она была ещё до появления на свет. Я долго не понимала, что жду ребёнка. Война шла уже три года. Твой отец приезжал на увольнение в город лишь один раз. Я совсем не подумала об этом. А уже потом, во время этой беременности, я мало ела и плохо спала, ведь Берлин днём и ночью бомбили. Дитя внутри меня не шевелилось, то есть вообще не двигалось, и я всё время думала, что оно там мёртвое. И вдруг оно появилось, вот оно здесь, живое, живёхонькое, и выжило в голоде и холоде. И во всём остальном. Такая вот она, Лотта, да! Нежданная девчушка, ворчунья, вечно недовольная, всегда больная и ноющая. Но, что важнее всего, упрямая и решившая жить. Другие дети чурались её. Она справлялась одна. И, скажу честно, я даже не представляю как. Иногда я смотрю на несколько оставшихся у меня фотографий так, будто могу разгадать тайну, какой она всегда была для меня. Она была некрасивой, плохо видела из-за очевидного косоглазия. Однажды мы купили ей очки, но заставить её их носить оказалось нелёгкой задачей. Две пары она сломала. Тогда от этой идеи отказались… С ней кругом были проблемы: трудно было найти башмаки для её нежных ног, пальто с подходившими пуговицами… И это были не капризы, нет, гораздо хуже. Из-за какой-нибудь мелочи с ней мог случиться страшный приступ, и никто не понимал, отчего она колотится головой о стенку…
А потом родилась ты, Магда. В 49-м. Худшее осталось позади. Это были первые послевоенные годы, твой отец наконец-то вернулся, у всех всё пошло намного лучше. С тобой было так легко. А ведь я так боялась заводить ещё одного ребёнка. Думала, что Лотта этого не потерпит. А получилось с точностью до наоборот. Вы хорошо поладили. Сразу же. Мгновенно полюбили друг дружку. И стали неразлучны. И когда Лотта была с тобой, с ней больше не случалось никаких припадков.
Что было дальше, я помню похуже.
Родился Ганс, но вы не пустили его в свой круг. Вежливо, но всё же отодвинули. Подальше от вашего домика в прозрачном шарике, куда вход всем был заказан.
А потом я нашла работу. Прошли годы. В моей памяти они запечатлелись туманно — обычные годы без всяких происшествий. Почти спокойное житьё-бытьё.
Проблемы появились опять, когда Лотте стукнуло 15. Снова приступы, гневливость, рыдания. А потом она почти перестала есть.
Полагаю, ты захочешь узнать причину. Придётся мне тебя огорчить, Магда, — я не знаю её сама. Я могу делать лишь какие-то предположения — «как будто» или «может быть». Эти гипотезы накладываются одна на другую, и друг другу противоречат, и разве что рисуют образ Лотты: неясный, незавершённый, а главное — неполный.
Париж, лето. Лозунги
1968
Я так никогда и не узнала, что случилось у неё в лицее. На неё не могли не обратить особого внимания — при её-то странном поведении. А в атмосфере всеобщего послушания и слепой покорности партии если уж ты отличаешься от всех, то ничего хорошего не жди. Уж не угрожал ли ей кто? Может быть, она чувствовала себя узницей системы, готовой её растоптать? Она была иной, жила иначе, дикая и, главное, цельная. Неспособная держать при себе всё, что думала. Пойти на компромисс со всяким дурачьём. Кроме того, у неё не было подруг — никогда. Её лицей был далеко от дома. И ты тоже была далеко.
Летом 61-го года Лотта стала совершенно невыносимой. Только что родилась Хайди, и она её возненавидела. С той же бескомпромиссностью, с какой решила, что будет любить тебя. Она стала почти опасной. Словно эта крошка Хайди пробудила к жизни уж не знаю какое чудовище, дремавшее в ней. Она стала ревнивой, злобной. Однажды она держала её на руках и нарочно уронила. В другой раз я увидела, что на голову Хайди намотано одеяло и ей нечем дышать… Мне стало страшно. Думаю, я всегда боялась Лотту, этого её порой полубезумного взгляда.
Такого было ещё немало. Ей исполнилось 17 лет. И внимания к себе она требовала больше, чем Хайди, Ганс и ты, вместе взятые… Мне нужно было отдохнуть, отдышаться. Мы поехали на Рюген. Твой отец был огорчён и разгневан. Однажды вечером мы решили отправить её одну в Берлин. Ты упёрлась, решительно сказав, что поедешь вместе с ней. Сперва мы хотели, чтобы она была одна. Чтобы почувствовала, что наказана, и ценила то, что у неё есть… Лотта уговорила нас. Так, как она умела. Всегда будто немного с угрозой… Это было безрассудно, правда, тебе ведь исполнилось только двенадцать лет. Но мы уступили ей. Будущее заставило нас дорого расплатиться за это решение.
Я не знаю, что произошло с Лоттой в то утро 13 августа 1961 года. Нам так ничего и не сказали. Но догадываюсь, что она получила пулю в спину, когда уже была на Стене. Именно так поговаривали люди в квартале, хотя и отказываясь подтвердить, что это была твоя сестра. Они боялись. Все боялись. Между прочим, для этого её и убили. Как пример и чтобы посеять ужас.
Может быть, Магда, после этого ты всё и позабыла. Но ты ни в чём не виновата. Во всяком случае, не больше, чем мы, — даже если мы, твой отец и я, долго предпочитали думать обратное. Мы были её родителями — и ничем не смогли ей помочь. Ты, Магда, — ты всюду была рядом с ней, любила её и защищала с тех самых пор, как родилась. Вы были чудесными сёстрами.
Не слишком меня воодушевляет твоя идея заняться психоанализом. Не люблю я этих типчиков. Но теперь самое главное для меня, то, что важнее всего, — это знать, что ты живёшь спокойно и свободна выбрать и вести такую жизнь, какую хочешь. Хочешь поехать учиться во Франкфурт? Совершенно с тобой согласна и предприму всё, чтобы облегчить тебе там жизнь. Хотя и вправду предпочла бы, чтобы ты эти дни пожила со мной в Берлине. Мне так тебя не хватает. Все эти годы мне тебя очень не хватало.
Я больше никогда не хочу терять тебя из виду. Давай поклянёмся друг другу, что постараемся выкраивать время для регулярных встреч и разговоров.
Нежно целую тебя,
твоя мамаПисьмо 76 Клеомена — Сюзанне
Париж,
июнь 1968
Сюзанна,
какой жестокий конец всем нашим надеждам! Я перестала слушать радио. Вообразить только, как эти люди всё больше уступают угрозам, снова превращаются в благоразумных работяг, отречься от этого безумия, которое едва не занесло нас далеко, очень далеко… Не понимаю, как можно…
Ты, наверное, знаешь, что я под угрозой отчисления. Мне нужно уехать, прежде чем меня здесь найдут. Вот почему я скрываюсь. Потому что высадиться в Греции под настоящим, моим именем — значит сразу же обречь себя на депортацию на острова. И это ещё в лучшем случае.
Я что-нибудь придумаю, чтобы найти кого-то, кто передаст тебе это письмо лично в руки. От меня будет ещё одно письмо, адресованное Марселю. Я прошу тебя отдать ему это письмо только после моего отъезда. Ставрос, студент-грек, согласился помочь мне. Он нашёл для меня работу на круизном корабле, в ближайшую пятницу отплываем из Бриндизи. Жду фальшивых документов. Чемоданы уже собрала.
Я не в обиде ни на кого, и уж точно не на Жака Фонтена, проявившего ко мне такое великодушие. Мне в любом случае следовало бы уехать домой. Это поданное деканом ходатайство лишь ускорило мой отъезд. Я не в силах больше жить вдали от моей родины. Я должна продолжать борьбу там. Надеюсь, что настанет день, когда и я в свой черёд приглашу тебя в гости. И мы сможем гулять по улицам с тем же чувством абсолютной свободы, какое мы испытали в этот чудесный месяц май.
Я не верю, что всё станет по-прежнему. Что вернётся старый порядок, как будто ничего и не было. Разломы от землетрясений не зарастают очень долго. Молодёжь больше не позволит себя обманывать. Как и женщины, Сюзанна. Я искренне верю в это. Больше никогда. Здесь и повсюду. Мы хотим жить свободными и сами распоряжаться нашими телами и нашими жизнями. Борьба продолжается. Знаю, что и ты убеждена в том же. Но мне так нужно написать это тебе на прощание.
Последняя просьба. Позаботься о Марселе. Я знаю, уехав, а особенно вот так, не сказав ему ни слова, я причиню ему немало боли. Но я не в силах противиться ему. Ему наверняка удалось бы на какое-то время задержать меня здесь. Когда я в его объятиях, то не могу держать слова, данные себе самой. Я забываю о том, кто я и как должна поступать. Отдай ему письмо. Надеюсь, что он поймёт.
Не стану скрывать — вот я пишу эти последние строчки, и моя рука дрожит. Никто не знает, увидимся ли ещё. Обнимаю тебя. Будь такой же весёлой и неповторимой. И пусть твой взгляд на женщин всегда будет таким, как сейчас. Твои фотографии прекрасны!
Обними за меня Фаншетту. И передай всю мою признательность твоей матери. Ну вот, теперь ещё поцелуй тебе, и я исчезаю!
КлеоменаПисьмо 77 Клеомена — Марселю
Париж,
июнь 1968
Любовь моя, я не смогла. Я не понимала, что делать с нашими сожалениями. И со всей этой печалью. Я просто оставила тебя спящим и счастливым после нашей последней ночи любви. Уверяю тебя, так было лучше — просто расстаться, не сказав ни слова. Мы — ни ты, ни я — не созданы для трагических прощаний.
Несомненно, ты рассержен. Понимаю. И всё равно невольно улыбаюсь, воображая твой гнев. Но поверь же мне, твоей вины в этом нет. Если ты ничего не замечал, то в эти последние дни и замечать было нечего — только безумная страсть, сразившая нас обоих, когда мы одиннадцать дней и ночей, обвивая друг друга, сплетясь телами, не могли насытиться.
До того как я узнала тебя, я не представляла, что это такое — любовь. Такая нежная и неистовая, и ещё такая волнующая. Я не представляла, что и в этом тоже можно обрести свободу, возможность быть собой, обнажённой, целиком отдавшись твоим взглядам, твоим рукам, твоим губам — до такой степени, чтобы превратиться в ту дрожащую женщину, что думает лишь о близком миге любовного содрогания.
Мне бы так хотелось показать тебе мою родину. С какой любовью я ласкала бы твою кожу, разгорячённую летним солнцем, а потом просоленную долгими купаниями, вкусила бы твоих ласк при ярком солнце, на вершине горы, в тени олив, чьи листья того же цвета, что и твои глаза. Как бы мне хотелось уснуть в твоих объятиях, у меня в доме, в глубокой тишине зимних ночей заснувшей земли, прижавшись бедром к бедру, а твоё мужское естество пусть отдыхает в моей ладони.
А ещё я бы хотела погулять с тобой по набережной моей деревни, дойти до самого мола и с него показать тебе остров Хиос — так же, как я каждый вечер любовалась им вместе с Мицо и моей матерью, пока нас не разлучили.
Но пора уезжать. Официальное требование об исключении лишь ускорило моё собственное решение. Скажи я тебе об этом, глядя прямо в глаза, всё вышло бы совсем уж тяжко. Ничто не могло удержать меня, и я хочу, чтобы ты был по-настоящему убеждён в этом. Ничто.
Я должна отомстить за отца. И за брата. И я хочу знать, что они сделали с моей матерью. И я не могу жить ничем иным. Когда я пыталась сказать об этом тебе, ты чуть крепче обнимал меня, будто чтобы защитить. И шептал, что понимаешь меня. Но я-то знаю, что это невозможно. Ты не можешь понять, и в этом твоё счастье, береги его хорошенько, а я — я пришла с другой стороны зеркала, и тебе не нужно ничего знать о клокочущем во мне безумии.
Я не забуду тебя, Марсель Бланзи, ты благородный человек, прекрасный принц, охотник за юбками, жадный до любви, у тебя семь родинок на левом боку и сердце бьётся невпопад.
И вот не скажу тебе, что люблю.
КлеоменаПисьмо 78 Фаншетта — Максиму Лаваголейну
Париж,
30 июня 1968
Месье Максим!
Не говорите потом, что не были предупреждены: мадам Ильза уехала, и если вам кто и сообщит, куда именно, то уж точно не я.
Потому что она совершенно права. Ибо несправедливости и злоупотребления, если вы вообще это заметили, всё больше в духе времени!
Этим летом не рассчитывайте на меня — я не стану ухаживать за Леоном. Это ваш сын, и я прекрасно помню, как вы его хотели. Думаю, что вам и мадам вашей матушке, которая всегда всё знает лучше всех на свете, пора узнать, что такое бессонные ночи.
Ну, а засим в сентябре я приеду. И буду ухаживать за моим Леоном, чтобы он всегда был в тепле и холе.
А пока что я решила: съезжу-ка на море.
ФаншеттаПариж, май
1968
Эпилог
Письмо 79 Магда — Лотте
Пишу тебе из Франкфурта, где приступила к учёбе. Начало ноября, снова холода. Если бы я могла сегодня, то пришла бы посидеть у твоей могилки. Но плакать не стала бы. Нет. Я помню, помню. Помню, какая радость жизни вдруг вскипала в тебе каждый раз, когда мир оборачивался к тебе с добром.
Сегодня утром Беата Кларсфельд[29] поднялась на трибуну съезда правящей у нас сейчас партии — Христианско-демократического союза. Она сумела живо проскочить мимо членов правительства, представившись журналисткой. Она поклялась себе, что сделает это. И она это сделала! Встав прямо перед канцлером, Куртом Георгом Кизингером, избранным в 66-м году, несмотря на то, что он с 1933 года состоял в национал-социалистической партии, и на его участие в нацистских преступлениях, она ВЛЕПИЛА ЕМУ ОПЛЕУХУ, крикнув: «Нациста Кизингера — в отставку!»
Тебе было бы сейчас столько же лет, сколько ей. С какой радостью мы бы вместе узнали об этой новости! Потому что она женщина. Потому что она борется. Потому что этот её поступок, такой символичный, придаёт мне сил и веры в победу.
Настанет день, и Стена падёт. И в этот день я принесу цветы на твою могилу. Ты любила лиловые гиацинты. Видишь, я всё помню.
МагдаБлагодарности
Написание этой книги само по себе было приключением.
Мне выпало счастье проводить исследования в одном из самых прекрасных мест мира, где я чувствую себя как дома, соприкасаясь с самой сутью бытия, — в Национальной библиотеке Франции, на нижнем этаже, где сад, в учёной и глубокой тишине, читать и делать выписки на месте К37. Моими соседями были один семинарист, один аспирант и ещё одна дама-психоаналитик. Вот там и родились три мои девушки.
Яннис Рунарис, отец Клеомены, — персонаж, отчасти вдохновлённый жизнью Хрониса Миссиоса, который более двадцати лет провёл в тюрьме, будучи депортирован с 1947 года до самого конца диктатуры чёрных полковников в 1974-м. О своём необыкновенном жизненном пути и преследованиях, которым в Греции подвергались коммунисты, он рассказывает в автобиографической книге, вышедшей в издательствах «Де л’Об» и переведённой Мишелем Волковичем, — «Ты хоть раньше погиб…».
«Чёрная книга диктатуры в Греции», которую издательство «Сёй» выпускает начиная с 1969 года в серии «Битвы», «Греция с 1940» Жоэль Далегр (изд. «Гарматан») и фильм Коста-Гавраса «Дзета» по роману Вассилиса Вассиликоса, вышедший в 1969-м, — вот из каких источников черпала я материал для создания моих персонажей и их судеб. Я благодарю мою подругу Параскеви Фисту за помощь в поиске деталей, которых недоставало мне для изображения идейного разброда в среде изгнанников, среди греческой диаспоры современного Парижа.
Что касается Магды Мюльмейстер, то спасибо ей за прогулки по улицам Берлина, который мы исходили с нею весь в зимние холода. Стены больше нет, но там, где она возвышалась, ещё остаётся нечто похожее на шрам. Музей Штази, который теперь находится в здании бывшей пересыльной тюрьмы при Министерстве безопасности ГДР, позволяет представить себе весь размах слежки за огромным количеством граждан Восточной Германии.
Я особенно чувствительна к тому, что передаётся из поколения в поколение — как в семьях, так и в странах. В Германии вопрос о духовном наследии, по-видимому, стоит остро по сей день. Он великолепно поставлен в «Немецкой трилогии» Катрин Бернштейн — трёх фильмах, в которых слово сперва предоставляется женщинам, выросшим в годы поднимавшего голову нацизма, а затем — их дочерям, то есть следующему поколению, поколению Магды и её кузины Сюзанны.
Помимо этих трудных моментов, пережитых Европой и ставших неотъемлемой частью её истории, нашей истории, остаётся ещё и великолепный взлёт, завершившийся взрывом бунта. всколыхнувший вопросами жизнь, закипевшую в мае 1968 года во Франции. Осмыслить те события и рассказать о них есть великое множество способов, как о том и свидетельствуют бесчисленные опубликованные исследования о том времени. Выделим обязательный труд Патрика Ротмана «Поколение: годы мечты» и ещё одно издание — «68-й, коллективная история», выпущенное под руководством Филиппа Артьера и Мишель Занкарини-Фурнель (издательство «Ля Декуверт»). Для меня самым важным было рассказать об этих днях с точки зрения женщин, заклеймить презрение, с которым им приходилось сталкиваться всю жизнь, сказать о той борьбе, что мы ведём и по сей день, поделиться проклятыми вопросами, пройти рядом, чтобы разделить их ярость. Ещё я с чувством огромного счастья прочитала сборник «68-й в памяти женщин», где собраны признания женщин из Ассоциации автобиографий с 2000 по 2003 год под редакцией Мишель Перро; они вышли в издательстве «Де л’Об». Маленькая книжка, после которой так хочется влезть на крышу и сплясать босоногий танец, вдохновлённый нашими сомнениями, стремлениями и нашими законными притязаниями.
А эта книга, пока я дописываю последние строчки благодарностей, уже находится в производстве в таком великолепном издательском доме, как «Галлимар». От коридорчиков до узких лестниц, от подвала до чердака — каждый раз, когда мне приходится там бывать, я не устаю удивляться, как же мне повезло. Здесь я обрела свою издательницу, Изабель Стуффле, с которой могу обсуждать свои планы, делиться сомнениями, и она соглашается перечитывать ещё совсем горячие тексты, умея всякий раз подсказать изменения. если мне случается сбиться с пути. Эта книга многим ей обязана. Ведь это она добилась, чтобы книга получилась той, о которой я мечтала, — как большой чемодан, найденный в углу чердака.
Кроме того, я хотела поблагодарить всех, кто способствовал появлению этой книги на свет. В первую очередь — Тьерри Лароша, Жана-Франсуа Саада и его команду, а особенно шрифтовика Франсуазу Фам и дизайнера Изабель де Латур, которые вдыхали в буквы иллюстративного материала телесность, делая это столь изобретательно и с явным удовольствием.
Громаднейшее спасибо также тем девушкам, которые очертя голову отстаивают и защищают мои книги, добиваясь, чтобы они дошли до читателей. Спасибо отзывчивой и упорной Фредерике Лакруа-Кюиссо, вдохновенной Мириам Бенейнус и весёлым Сандрине Дютурдуар и Аньес Чахгарьян.
Написание этой книги само по себе было приключением. Это было ещё и прекрасное коллективное приключение.
Над книгой работали
Перевод Дмитрия Савосина
Литературный редактор Нина Хотинская
Корректоры Рита Гутман, Надежда Власенко
Верстка Валерия Харламова
Художественный редактор Влада Мяконькина
Ведущий редактор Анна Штерн
Главный редактор Ирина Балахонова
ООО «Издательский дом „Самокат“»
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.13, стр. 3
Почтовый адрес: 123557, г. Москва, а/я 6
info@samokatbook.ru
Тел.: +7 495 506 17 38
Электронная версия книги подготовлена компанией Webkniga.ru, 2019
Давайте дружить!
/
-library.livejournal.ru/
Дорогой читатель, мы хотим сделать наши электронные книги ещё лучше!
Всего за 5 минут Вы можете помочь нам в этом, ответив на вопросы здесь.
Книги издательского дома «Самокат» можно приобрести
В МОСКВЕ
магазин «Москва»
(495) 629–64–83
магазин «Библио-Глобус»
(495) 781–19–00
-globus.ru
магазин «Молодая Гвардия»
(495) 780–33–70
сеть магазинов «Московский Дом Книги»
(495) 789–35–91
www.mdk-arbat.ru
сеть магазинов «Читай-Город»
(800) 444–8–444
сеть магазинов «Республика»
(495) 1500–55–8
сеть магазинов «Понарошку»
(800) 775–90–68
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
магазин издательства «Самокат»
ул. Мончегорская, 8Б
(921) 302–15–19
магазин «Санкт-Петербургский Дом Книги»
(812) 448–23–55
сеть магазинов «Буквоед»
(812) 601–0–601
магазин «Порядок слов»
(812) 310–50–36
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
«Озон» , (800) 100–05–56
«Лабиринт» , (495) 276–08–63
«My-shop» www.my-shop.ru, (800) 100–53–38
«Wildberries» , (495) 775–55–05
В ОТДЕЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «САМОКАТ»
(499) 922–85–95
sales@samokatbook.ru
~
Вся бунтарская история Европы шестидесятых годов ХХ века — в этом небольшом эпистолярном романе. Демонстрации студентов в Париже, Берлинская стена, диктатура «чёрных полковников» в Греции, расцвет рок-культуры, Бунюэль и Сартр, секс и любовь — всё уместилось в письмах трёх совсем юных девушек: француженки, немки и гречанки. Три личные, тесно переплетённые истории, и три года жизни: с 1966 по 1968.
Противостоять лицемерному взрослому миру, бороться за свободу и уважение к личности, жить согласно своим идеалам — каждое молодое поколение мечтает об этом. Молодым шестидесятых это удалось: их эпоха — символ настоящей свободы.
Книга вышла во Франции к 50-летию парижских событий 1968 года и сразу получила две престижные премии: PRIX IZZ0 и PRIX JEUNESSE DE LA FOIRE DE BRIVE. Сейчас роман выходит в Греции.
«Особенно круто, что „Три девушки в ярости“ — возможность увидеть все эти события глазами именно подростков: честных, энергичных и, возможно, самых свободных девушек во всей истории человечества».
Карен Шаинян, продюсер сериала «1968. Digital»Примечания
1
Моему отцу (греч.).
(обратно)2
Моей матери (нем.).
(обратно)3
Шарлоттенбург — квартал, замок и парк при замке в западной части Берлина.
(обратно)4
Фюрстенберг — площадь в Париже, в квартале Сен-Жермен-де-Пре.
(обратно)5
Макронисос — самый западный из островов Кикладского архипелага (Греция); после прихода к власти «чёрных полковников» использовался как концлагерь.
(обратно)6
Стена не может разлучить нас (нем.).
(обратно)7
Тиргартен — большой парк в западной части Берлина.
(обратно)8
Обербаумбрюкке — мост в Берлине. В 1961 году, после возведения Берлинской стены, был закрыт, но в 1963-м на мосту открылся пешеходный контрольно-пропускной пункт.
(обратно)9
Карривурст — популярная немецкая уличная еда: жареная сарделька с приправой карри.
(обратно)10
Рюген — остров в Балтийском море, известен как курортное место; в годы разделения Германии принадлежал ГДР.
(обратно)11
Бернауэрштрассе — улица, которую Берлинская стена разделила надвое: дома находились в восточном секторе, а тротуары возле них — в западном. Зафиксировано немало случаев, когда люди, жившие в ГДР, выбрасывались из окон домов на этой улице, чтобы оказаться в ФРГ, или пытались пробраться по крышам, но были застрелены пограничниками восточной части Германии.
(обратно)12
С Новым годом, сестра моя! (греч.)
(обратно)13
Куколка моя (греч.).
(обратно)14
Люсьен Нойвирт (1924–2013) — французский политический деятель-голлист. В годы Второй мировой войны был участником Сопротивления. Известность приобрёл настойчивым лоббированием в парламенте «закона Нойвирта». Во Франции с 1920 года действовал закон, запрещавший не только применение противозачаточных средств, но даже распространение информации о них. Важной частью нового «закона Нойвирта» было настойчивое предложение их разрешить. «Закон Нойвирта» был наконец после долгих дебатов принят Национальным собранием Франции в декабре 1967 года, но вступил в силу лишь в 1972-м, при президенте Жорже Помпиду. Напомним читателю, что письма в этой книге расположены в хронологическом порядке, и, хотя датировка этого письма отсутствует, надо понимать, что оно написано в начале апреля 1967-го, до принятия закона ещё очень далеко.
(обратно)15
Речь о знаменитом концерте под открытым небом на площади Насьон, который организовала редакция журнала «Привет, друзья» 22 июня 1963 года в ознаменование первой годовщины выхода. Выступали звёзды рок-музыки, в том числе Джонни Холлидей; на площади собралось около 200 000 молодых людей, охраняли их 3000 полицейских. Консерваторы потом не раз высказывали мнение, что именно с этого проявления необузданной свободы начались все последующие беды, в том числе выступления мая 1968-го.
(обратно)16
Гражданская война в Греции (1946–1949) шла между прокоммунистически настроенными партизанами и монархическими войсками.
(обратно)17
Мать моя (греч.).
(обратно)18
«Горечь и камень». Поэты лагеря в Макронисосе, 1947–1951.
(обратно)19
Аи Стратис (разговорная форма от «Агиос Эфстратиос», остров Святого Евстратия) — маленький островок в Эгейском море. Во времена диктатуры «чёрных полковников» использовался как тюрьма для политических заключённых.
(обратно)20
Спи, дитя (нем.).
(обратно)21
Куколка моя (нем.).
(обратно)22
Фильм Жака Риветта «Сюзанна Симонен, монахиня Дени Дидро» (1965), ныне считающийся одним из вершин французской «новой волны», несколько лет был запрещён цензурой «за безнравственность». Но в конце шестидесятых годов вышел на экраны. Фильм точно следует тексту романа и никаких шокирующих сцен не содержит.
(обратно)23
«Алло, Мени!» — в те годы ежедневная передача французского радио. Её вела известная писательница и журналистка Мени Грегуар (1919–2013), этим более всего и прославившаяся.
(обратно)24
«Прово» (от слова «провокация») — движение молодёжной контркультуры, зародившееся в 1965 году в Амстердаме. Молодые люди левого толка протестовали против войны во Вьетнаме, брака голландской королевы с бывшим нацистским офицером и имели целый ряд «белых» планов: «белые велосипеды», «белые дома», «белые дымоходы», «белые жёны», «белые цыплята» и т. д. В мае 1967 года движение самоликвидировалось.
(обратно)25
Даниэль Кон-Бендит (р. 1945) — очень известный политический деятель, ныне член партии «зелёных». Был одним из лидеров студенческого движения 1968 года. До сих пор активно занимается политикой.
(обратно)26
Руди (Рудольф) Дучке (1940–1979) — немецкий социолог и политик левого толка. Был одним из лидеров студенческого движения 1968 года. Юность провёл в ГДР, но разочаровался в советской системе и перебрался в Западный Берлин. После убийства Онезорга организовал сидячие забастовки, заставив власти довести следствие до конца. За активную левую деятельность не раз подвергался угрозам расправы и покушениям.
(обратно)27
Моё сокровище (нем.).
(обратно)28
Андре Мальро (1901–1976) — французский писатель, в 1959–1969 годах занимал пост министра культуры в правительстве Шарля де Голля, отвечал за пропаганду голлистских ценностей, то есть, конечно, был против студенческих выступлений.
(обратно)29
Беата Кларсфельд (р. 1939) — очень известная немецкая журналистка и правозащитница, прославившаяся бескомпромиссной «охотой» за бывшими нацистами. В 1969 году, проникнув на съезд Христианско-демократического союза, выдвигавшего бывшего нациста Кизингера, дала ему пощёчину, позднее названную немецкой прессой «оплеухой века».
(обратно)



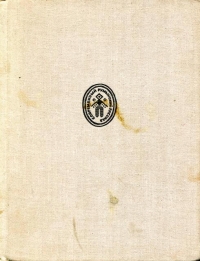

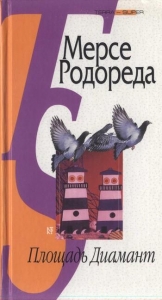
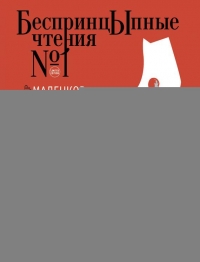

![Высакосны год [Хоку і танка]](https://www.4italka.su/images/articles/511099/primary-medium.jpg)


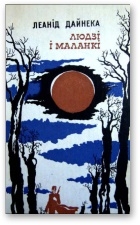

Комментарии к книге «Три девушки в ярости», Изабель Пандазопулос
Всего 0 комментариев