Карл Уве Кнаусгор Прощание Книга первая автобиографического цикла Моя борьба
Karl Ove Knausgård
MIN KAMP. FØRSTE BOK
Copyright © 2009, Forlaget Oktober as, Oslo
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство «Синдбад», 2019.
info@sindbadbooks.ru
* * *
Карл Уве Кнаусгор – норвежский писатель, искусствовед и литературный критик. Его дебютный роман «Прочь от мира» (1998) был удостоен премии Ассоциации норвежских критиков, второй – «Всему свое время» (2004) – номинирован на премию Северного Совета. Автобиографический цикл «Моя борьба», признанных одним из самых ярких литературных событий столетия, принес автору мировую известность и престижные награды, включая Премию Браги, премию Шведской академии и Иерусалимскую премию.
Инна Стреблова – известный переводчик со скандинавских языков. В ее переводе на русском языке вышли более 60 произведений таких писателей, как Август Стриндберг, Сёрен Кьеркегор, Сельма Лагерлеф, Астрид Линдгрен, Эрленд Лу, и многих других. Живет в Санкт-Петербурге.
Часть I
Сердце живет просто: оно бьется, пока может. Затем останавливается. Рано или поздно, в тот или иной день эти равномерные биения сами собой прекращаются, и кровь утекает вниз, в стоячий пруд, заметный снаружи по темному мягкому пятну на побелевшей коже, между тем как температура тела неуклонно опускается, мышцы коченеют, а кишечник опорожняется. Происходящие в первые часы изменения протекают так медленно и совершаются с такой неукоснительной последовательностью в одном и том же порядке, что носят характер какого-то ритуального действа, словно жизнь капитулирует по неким заданным правилам вроде джентльменского соглашения; соблюдает их и другая сторона, представляющая смерть, – ее агенты всегда дожидаются, когда жизнь уступит свои позиции, и только тогда вторгаются на освободившуюся территорию и бесповоротно овладевают завоеванным пространством. Огромные полчища бактерий, распространяясь в теле, уже не встречают никакого сопротивления. Попытайся они сделать это на два-три часа раньше, защитники тотчас же отразили бы их нападение, теперь же все вокруг тихо, и они все глубже проникают туда, где темно и влажно. Они добираются до гаверсовых каналов, либеркюновых крипт, проникают в островки Лангерганса. Они достигают капсул Боумена в Renes[1], столба Кларка в Spinalis[2], черного вещества в Mesencephalon[3]. И добираются до сердца. Оно все еще в сохранности, но лишено движения, на которое рассчитана вся его конструкция, и потому возникает ощущение запустения, как впопыхах покинутое рабочими промышленное предприятие: еще желтеет на фоне темного леса застывшая в неподвижности тяжелая техника, стоят безлюдные бараки, повисли на канатной дороге, ведущей в гору, груженые вагонетки.
Тело, из которого ушла жизнь, тотчас становится частью мира мертвых вещей. Лампочек, чемоданов, ковров, дверных ручек, окон. Земли, болот, ручьев, гор, облаков, неба. Ничто из этого нам не чуждо. Мы постоянно находимся в окружении предметов и явлений неживого мира. Однако мало что способно нас так смутить, как вид попавшего в их круг человека, по крайней мере судя по тем стараниям, которые мы прилагаем, чтобы поскорее убрать подальше от глаз мертвые тела. В крупных клиниках их не только прячут в специальные, недоступные для посетителей помещения; к ним ведут потайные пути с отдельными лифтами и подвальными коридорами, и даже если ты туда случайно забредешь, то покойник на каталке всегда будет накрыт простыней. Из больницы тела вывозят через особые двери, погрузив в специальную машину с затемненными стеклами; в церкви для них отведено особое помещение без окон; на похоронах во время прощания гроб все время стоит закрытый, а потом его опускают в землю или сжигают в крематории. Найти в такой процедуре какой-то практический смысл довольно затруднительно. Мертвые тела можно бы с тем же успехом возить по больничным коридорам и непокрытыми, а затем отправлять куда надо обычным такси, и это ни для кого не представляло бы ни малейшей угрозы. Пожилой человек, внезапно скончавшийся во время киносеанса, мог бы досидеть на месте до его окончания, а то и весь следующий сеанс. Учителя, которого хватил удар на школьном дворе, совсем не обязательно немедленно увозить, ничего не случится, пролежи он там до вечера, пока у сторожа не найдется время им заняться. Ну, сядет на него птица, ну, поклюет – что тут особенного по сравнению с тем, что ждет его в могиле? Разве только то, что там мы ничего не увидим. Пока покойники не мешаются у нас под ногами, для спешки нет никакой причины, они ведь уже умерли, и больше с ними ничего не случится. Особенно удобно в этом смысле холодное время года. Бездомные, замерзшие на скамейке в подворотне, самоубийцы, бросившиеся с верхнего этажа или с моста, старушки, упавшие с лестницы, жертвы аварий, зажатые в разбитых автомобилях, парень, утонувший в озере после вечеринки в городе, девочка, попавшая под колеса автобуса, – с ними-то что заставляет так спешить, чтобы как можно скорей спрятать в укромном месте? Порядочность? Но разве не порядочней было бы дать отцу и матери возможность увидеть дочку спустя час или два, как она лежит рядом с местом аварии на снегу, с раздавленной головой и телом, с запекшейся кровью на волосах и в чистенькой курточке-дутике? Открытая миру, без тайн и секретов лежала бы она на обочине. Но нет, даже один час на снегу – это просто немыслимо! Город, где не прячут от глаз своих мертвецов, где они лежат у всех на виду, на улицах, в скверах и на парковках, – это уже не город, а ад кромешный. И неважно, что этот ад куда правдивее отобразил бы реальность, в которой мы живем. Мы знаем, как оно есть на самом деле, но не желаем этого видеть. И стремление побыстрее убрать покойников с глаз долой – лишь проявление этого коллективного вытеснения.
Однако что именно подвергается вытеснению, не так-то просто понять. Смерть как таковая – вряд ли, слишком уж выражено ее присутствие в общественной жизни. Покойников слишком часто упоминают в газетах или программах новостей, количество таких упоминаний может варьировать, но в среднем их число, вероятно, остается более или менее постоянным, а поскольку для этого существует множество каналов, от них никуда не денешься. Однако там смерть, очевидно, не воспринимается как что-то угрожающее. Напротив, она нам даже нравится, и мы готовы платить деньги за то, чтобы нам ее показывали. Если добавить сюда то несметное число выдуманных смертей, которыми нас развлекают в художественных произведениях, систематическое сокрытие мертвых тел выглядит еще непонятнее. Если смерть нас не пугает как явление, то почему нас так смущает вид мертвого тела? Очевидно, это означает, что есть две разновидности смерти, или же существует противоречие между нашим представлением о смерти и тем, какова она в действительности, а это, в свою очередь, сводится к одному: наше представление о смерти так прочно утвердилось у нас в сознании, что мы не только испытываем шок, сталкиваясь с тем, что действительность не совпадает с нашими представлениями, но еще и всеми силами стараемся это скрыть. Причем так сложилось не под влиянием рациональных доводов, – в отличие от, например, установленных ритуалов, в частности похорон, смысл и содержание которых в наше время стали предметом договоренностей и тем самым перешли из иррациональной области в рациональную, из коллективного сознания – в индивидуальное; нет, то, как мы поступаем с мертвецами, никогда не выносилось на обсуждение: мы действуем под влиянием непреложной необходимости, не имеющей никаких рациональных объяснений, а потому мы просто знаем: если твой отец в осенний ветреный день умер под открытым небом, ты постараешься как можно скорее отнести его в дом, а если не сможешь, то хотя бы накроешь его одеялом. Но этот позыв в отношении умершего – не единственная странность, которая крепко сидит в нашем сознании. Не менее поразительно наше стремление поскорее поместить тело по возможности ниже и ближе к земле. Совершенно невозможно себе представить, чтобы морг и прозекторская располагались на одном из верхних этажей больницы и трупы поднимали бы туда на лифте. Мертвых держат как можно ближе к земле. Тот же принцип распространяется и на конторы, занимающиеся организацией похорон: отделение страхового агентства может размещаться хоть на восьмом этаже, а бюро ритуальных услуг – нет. Любая похоронная контора старается расположиться не выше первого этажа. Трудно сказать, откуда это пошло; невольно напрашивается мысль, что мы имеем дело со старинной традицией, в основе которой лежали практические соображения: например, что в подвале холоднее и хранить трупы там удобнее, – однако этот принцип сохранился и в нашу эпоху холодильников и морозильных камер – не потому ли, что для нас противоестественно относить покойников куда-то наверх, словно высота и смерть – взаимоисключающие вещи. Словно в нас сидит глубинный хтонический инстинкт, заставляя держать мертвых как можно ближе к земле, из которой мы вышли.
Таким образом, получается, что смерть как бы соотносится с двумя различными системами. Для одной характерны скрытность и тяжесть, земля и тьма, для другой – открытость и легкость, свет и эфир. Вот в некоем ближневосточном городе погибают отец и сын, когда отец пытается вынести ребенка за линию огня, и камера одного из тысяч спутников, вращающихся вокруг Земли и передающих изображение на тысячи телевизоров, с экранов которых изображения мертвых и умирающих людей попадают в наше сознание, запечатлела, как их тела, соединенные в крепком объятии, вздрагивают от попадающих пуль. Эти картинки не обладают ни массой, ни протяженностью, существуют вне времени и пространства. Они находятся нигде и везде и уже никак не связаны с запечатленными на них телами. Большинство из них проходит сквозь наше сознание, не оставляя следа, но некоторые по каким-то причинам в нем задерживаются и продолжают жить своей жизнью в темных глубинах мозга. Вот горнолыжница при скоростном спуске пропорола себе бедренную артерию, кровь красным шлейфом тянется за ней по белому склону, тело еще не успело остановиться, а она уже погибла. У самолета на взлете вспыхивают крылья, над городской окраиной синеет ясное небо, и среди этой лазури красным огненным шаром взрывается самолет. Однажды вечером у северного побережья Норвегии потерпела крушение рыболовная шхуна, команда из семи человек потонула; на следующий день сообщение об этом появляется во всех газетах, потому что это произошло при загадочных обстоятельствах: на море стоял штиль и со шхуны не подавали сигналов бедствия, она просто пропала, вечером это еще раз подчеркнут репортеры нескольких телевизионных программ, показывая снятое с вертолета пустынное море на месте гибели судна. Небо затянуто тучами, на море мертвая зыбь, тяжелые, серо-зеленые волны катят размеренно, гряда за грядой, резко отличаясь от темпераментных пенных барашков, кое-где выскакивающих на гребнях. А я сижу и смотрю на это, один, – дело было, по-видимому, ранней весной – отца рядом нет, он работает в саду. Я не свожу глаз с этого моря, не слушая, что говорит репортер, и вдруг среди волн проступают очертания человеческого лица. Не помню, как долго это длилось. Наверное, несколько секунд, но их хватило, чтобы произвести на меня неизгладимое впечатление. Едва лицо исчезло, я бросился на поиски кого-нибудь, с кем можно поделиться. Мамы дома нет, она работает во вторую смену, брат играет в войнушку, а другие ребята из нашего поселка просто не станут меня слушать, так что, подумалось мне, остается только папа, я сбегаю по лестнице вниз, надеваю ботинки, напяливаю куртку, открываю дверь и, выскочив во двор, бегу в сад за домом. Нам не разрешалось носиться по участку, поэтому, прежде чем попасть в поле зрения папы, я сбавляю скорость, чтобы подойти к нему шагом. Отец стоит за домом, в ложбине, где предполагалось разбить огород, и колотит кувалдой по скальному выступу. Хотя ложбина неглубока, всего несколько метров, но из-за черной вскопанной земли, на которой отец стоит, и зарослей рябины за изгородью у него за спиной в ней уже сгустились сумерки. Когда отец, выпрямившись, оборачивается ко мне, лицо его едва проступает из тьмы.
Однако мне и этого достаточно, чтобы понять, в каком он настроении. Тут важно не выражение лица, а общая осанка, и считывается она не рассудком, а интуицией.
Он ставит на землю кувалду и снимает рабочие рукавицы.
– Ну что? – спрашивает отец.
– Я только что видел лицо в море, по телевизору, – говорю я, остановившись на лужайке у края расселины.
Сосед только что спилил сосну на своем участке, и от валяющихся за каменной изгородью чурбаков тянет терпким запахом смолы.
– Аквалангиста? – спрашивает отец.
Он знал, что я интересуюсь подводным плаванием, и не представлял себе ничего более увлекательного, ради чего я мог бы к нему прибежать. Я мотаю головой:
– Это был не человек. А что-то вроде картинки на воде.
– Картинка на воде, говоришь? – произносит отец, вытаскивая из нагрудного кармана пачку сигарет.
Я киваю и уже поворачиваюсь, чтобы уйти.
– Постой-ка, – говорит он.
Он чиркает спичкой и наклоняет голову, чтобы прикурить. Огонек спички протыкает в сумраке дырочку света.
– Ну-у, – говорит он.
Сделав глубокую затяжку, он становится одной ногой на скалу и глядит на лес за дорогой. А может быть, на небо над лесом.
– Ты что – увидел лик Иисуса? – спрашивает он и смотрит на меня снизу вверх.
Если бы не дружелюбный тон и длинная пауза перед вопросом, я бы решил, что он шутит. Его несколько смущало, что я называю себя верующим христианином; единственное, чего он от меня хотел, – это чтобы я был, как все ребята, а из всех ребят в поселке никто, кроме его младшего сына, не называл себя верующим христианином.
Вот о чем он подумал.
Меня так и окатило радостью оттого, что ему не все равно, и в то же время сделалось немного обидно оттого, что он такого невысокого мнения обо мне.
Я мотнул головой:
– Нет, это был не Иисус.
– Приятно слышать, – улыбается папа.
Откуда-то сверху доносится шорох велосипедных колес по асфальту. Звук нарастает, становится громче. В поселке так тихо, что легкий свистящий призвук, различимый в этом шуршании, стал слышаться ясно и отчетливо, когда проезжающий велосипедист наконец поравнялся с домом.
Сделав еще одну затяжку, папа выбрасывает недокуренную сигарету за ограду и, откашлявшись, снова берется за кувалду.
– Брось думать об этом, – говорит он, обратив ко мне снизу лицо.
В тот день мне было восемь лет, отцу тридцать. Хотя я по-прежнему не могу утверждать, что понимаю его или знаю, что он был за человек, но, так как я уже на семь лет старше, чем он тогда, мне теперь легче понять некоторые вещи. Например, то, чем отличались его дни от моих. Если мои дни до такой степени были наполнены смыслом, что теперь это даже трудно представить, а на каждом шагу открывалась новая возможность, переполнявшая меня до краев, то смысл его дней состоял не из череды отдельных событий, а охватывал целые поля, столь обширные, что его невозможно было выразить иначе, чем с помощью абстрактных понятий. С одной стороны, тут была «семья», с другой – «карьера». А что до немногих возможностей, если они ему вообще открывались, то он всегда знал, что они несут и как к ним относиться. В то время он уже двенадцать лет был женат и восемь из них проработал в школе преподавателем в старших классах, имел двоих детей, свой дом и автомобиль. Был депутатом муниципального совета от партии «Венстре». Зимой он занимался своей коллекцией марок – и кое-чего достиг в этой области, очень скоро став самым известным филателистом своего региона, – а летом все свободное время отдавал садоводству. Не знаю, что он думал в тот весенний вечер, не знаю, каким он видел себя самого, когда выпрямился с кувалдой в руках и в полумраке посмотрел на меня снизу, однако уверен: он жил с ощущением, что хорошо понимает окружающий мир. Он знал, кто есть кто, о каждом соседе в поселке, и кто какое место занимает в социальной иерархии местного общества, а кроме того, по-видимому, много такого, что они предпочли бы скрыть, во-первых, потому что он учил их детей, а во-вторых, потому что хорошо подмечал чужие слабости. Как представитель нового, образованного среднего класса, он был также в курсе мировых событий, о которых ему каждый день сообщали газеты, радио и телевидение. Он неплохо разбирался в ботанике и зоологии, так как интересовался этими предметами в детстве, и если в других, точных науках был подкован хуже, то, по крайней мере, знал в общих чертах их основы, которые усвоил в гимназии. Лучше всего он знал историю, так как изучал ее в университете наряду с норвежским и английским. Иначе говоря, не будучи экспертом ни в одной области знания, за исключением разве что педагогики, он понемножку разбирался во всем. В этом отношении он был типичный адъюнкт – преподаватель средней школы с университетским образованием, причем, заметим, той эпохи, когда должность учителя старших классов средней школы еще считалась престижной. Сосед по другую сторону изгороди, Престбакму, работал учителем в той же школе, то же самое и другой сосед, Ульсен, чей дом стоял выше нашего на лесистом склоне, в то время как еще один сосед, Кнудсен, живший на другом конце окружной дороги, был завучем в другой старшей школе. Таким образом, в тот весенний вечер семидесятых годов двадцатого века мой отец, махая кувалдой, крушил скалу в привычном и хорошо знакомом ему мире. Только дожив до его возраста, я понял, что за это приходится платить. Когда ты начинаешь лучше разбираться в мире, слабеет не только боль, которую он способен тебе причинить, но бледнеют те смыслы, которые он в себе несет. Постигать мир – значит несколько от него дистанцироваться. То, что слишком мало для невооруженного глаза, – молекулы, атомы – мы увеличиваем; то, что чересчур велико, – облачные образования, дельты рек, созвездия – уменьшаем. Приспособив все эти вещи к нашим органам чувств, мы их фиксируем. А то, что зафиксировали, называем знанием. На протяжении всего детства и юности мы стремимся установить эту правильную дистанцию по отношению к предметам и явлениям. Мы читаем, учимся, набираемся опыта, вносим поправки. И вот в один прекрасный день все наши дистанции установлены, все системы выстроены. Тогда-то время и начинает бежать быстрее. Оно больше не встречает препятствий, все расставлено по местам, время неудержимо протекает сквозь нашу жизнь, дни мелькают один за другим, мы не успеваем оглянуться, как нам уже сорок, пятьдесят, шестьдесят… Смысл требует полноты, полнота требует времени, время требует сопротивления. Знание, стояние на месте – это враг смысла. Иными словами, образ отца, каким я его вижу в этот вечер 1976 года, двоится в моем представлении: с одной стороны, я вижу его таким, каким видел тогда, глазами восьмилетнего ребенка, – непредсказуемым и пугающим, с другой стороны, я вижу его глазами сверстника, чью жизнь насквозь продувает время, уносящее с собой большие клочья смыслов.
Удары кувалды по камню разносились на весь поселок. По дороге, вверх по пологому склону, ехал с включенными фарами свернувший с шоссе автомобиль. Отворилась дверь соседнего дома, и на крыльцо вышел Престбакму, постоял, словно принюхиваясь к запахам, носившимся в прозрачном воздухе, затем, натянув рукавицы, взял тачку и двинулся через лужайку, толкая ее перед собой. Пахло порохом от скалы, которую разбивал отец, сосновой смолой от чурбаков за изгородью, свежевскопанной землей, лесом и солоноватым северным ветерком. Я вспомнил лицо в море. Прошло всего несколько минут с тех пор, как я о нем подумал, а все уже переменилось. Теперь у меня перед глазами стояло папино лицо.
Удары в расселине смолкли.
– Ты еще тут, малый?
Я кивнул.
– Иди-ка ты в дом.
Я пошел.
– Эй, слушай! Я остановился.
– Чтобы больше без беготни!
Я вытаращил глаза. Откуда он узнал про то, что я бегал?
– И не стой с разинутым ртом, как дурачок!
Я сделал, как он велел, закрыл рот и тихо, шагом, пошел вокруг дома. Завернул за угол, смотрю – на дороге, оказывается, полно ребят. Старшие кучкой стояли со своими велосипедами, которые в сумеречном свете сливались в одно целое с телами своих владельцев. Младшие играли в прятки. Те, что уже попались, стояли в меловом круге на тротуаре, остальные затаились от водящего на лесистом склоне через дорогу, но я-то их хорошо видел.
Над черными вершинами деревьев алели огни на пилонах моста. На ведущую в гору дорогу свернул еще один автомобиль. Фары выхватили из темноты сначала велосипедистов: в мелькнувших лучах – блики металла, дутые куртки, черные глаза и белые лица; затем – играющую малышню, призраками расступающуюся перед машиной. Это были Тролнесы, родители Сверре, моего одноклассника. Кажется, они ехали без него.
Обернувшись, я проводил глазами красные габаритные огни, пока машина не скрылась за горой. Затем зашел в дом. Я лег на кровать и попытался читать, но, так и не сумев успокоиться, отправился в комнату Ингве, из которой было видно папу. Имея его перед глазами, я заранее знал, чего от него ожидать, и так мне было как-то спокойнее. Я знал все его настроения и давно научился заранее их предсказывать, исходя, как мне теперь кажется, из некоей подсознательной классификации; она опиралась на ряд признаков, которые подсказывали мне, чего следует ожидать от него в настоящий момент, и соответственно позволяла внутренне подготовиться. Своего рода метеорология… Скорость, с какой машина подъезжала к дому, то, сколько времени ему требовалось, чтобы выключить мотор, достать из машины вещи и выйти, то, как он оглядывался, перед тем как захлопнуть дверцу, все оттенки звуков, которые слышались, когда он поднимался наверх и раздевался в передней, – все это были знаки, подлежащие толкованию. К этому добавлялась информация о том, где он был, сколько времени отсутствовал и с кем встречался, из чего следовал вывод – единственная сознательная составляющая этого процесса. Больше всего я боялся, когда он появлялся внезапно… Когда я по той или иной причине допускал невнимательность.
И как только он узнал, что я бегал?
Это был уже не первый случай, когда он каким-то непостижимым образом ловил меня на проступке. Той осенью я, например, как-то вечером припрятал под одеялом пакетик конфет, заранее почувствовав, что он зайдет ко мне в комнату и ни за что не поверит моим объяснениям, откуда у меня взялись деньги на такую покупку. Он действительно зашел и несколько секунд молча смотрел на меня.
– Что ты там прячешь в кровати? – спросил он.
Ну откуда он мог это узнать?
За окном Престбакму только что вкрутил мощную лампочку над помостом, где он обычно работал. Новый яркий глаз выхватил из темноты уйму предметов, и Престбакму разглядывал их, замерев в неподвижности перед таким богатством. Штабеля металлических коробок с красками, банки с малярными кистями, поленницы дров, обрезки досок, сложенные куски брезента, автомобильные покрышки, велосипедная рама, несколько ящиков с инструментами, коробки с гвоздями и шурупами всех форм и размеров, полки с цветочной рассадой в картонках из-под молока, мешки известки, свернутый резиновый шланг, прислоненная к стене доска с изображениями всевозможных инструментов, очевидно предназначенная для любительской мастерской, какие обыкновенно устраивают в подвале.
Когда я снова перевел взгляд на папу, он уже шел через газон, неся в одной руке кувалду, а в другой лопату. Я поспешно отступил вглубь комнаты. И тут же хлопнула входная дверь. Это пришел Ингве. Я взглянул на часы. Без двух минут половина девятого. Вскоре он появился, поднявшись по лестнице той особенной, дергающейся, какой-то утиной походкой, которую мы выработали, чтобы ходить бесшумно; вид у него был запыхавшийся, а щеки красные.
– А где папа? – спросил он с порога.
– Там, в саду, – сказал я. – Но ты не опоздал. Видишь, ровно полдевятого.
Он прошел к письменному столу и выдвинул стул. От него еще пахло улицей. Холодным воздухом, лесом, песком, асфальтом.
– Ты не трогал мои кассеты?
– Нет.
– А что ты делаешь в моей комнате?
– Ничего, – сказал я.
– Не мог бы ты заняться этим у себя?
Внизу снова открылась входная дверь. На этот раз послышались тяжелые папины шаги. Сапоги он снял, как обычно, перед тем как войти, и сейчас направлялся в ванную переодеваться.
– Я видел в новостях лицо в море, – сказал я. – Ты уже слышал? Не знаешь, еще кто-нибудь это видел?
Ингве кинул на меня немного насмешливый, отстраненный взгляд:
– Что ты мелешь?
– Ты знаешь, что погибла рыбацкая шхуна?
Он нехотя кивнул.
– Когда в новостях показывали место, где она затонула, я увидел на воде лицо.
– Утопленника?
– Нет. Оно было ненастоящее. Волны как будто сложились в человеческое лицо.
Секунду он смотрел на меня, не говоря ни слова. Затем повертел пальцем у виска.
– Ты что, не веришь? Это по правде было.
– Правда, что ты ноль без палочки.
Тут папа отвернул в ванной кран, и я подумал, что мне лучше бы удалиться в свою комнату, чтобы не встретиться с ним в коридоре. Но оставлять последнее слово за Ингве не хотелось.
– Сам ты ноль без палочки, – заявил я.
Он даже не удосужился ответить. Только обернулся через плечо и, выставив верхние зубы, громко зашипел, пропуская через них воздух, как кролик. Это был намек на мои торчащие передние зубы. Я отвернулся и вышел из комнаты, пока он не увидел, что у меня дрожат губы. Реветь можно, когда ты один. Кажется, все в порядке. Он вроде бы ничего не заметил.
Переступив порог своей комнаты, я остановился и подумал, не пойти ли в ванную. Там можно ополоснуть лицо холодной водой и смыть слезы. Но по лестнице как раз поднимался папа, и я удовольствовался тем, что вытер глаза рукавом. Сквозь тонкий слой размазанной влаги форма и цвет предметов поплыли, как будто комната вдруг погрузилась под воду; впечатление было таким живым, что я, идя к письменному столу, сделал несколько взмахов руками, как будто плыву. Мысленно я представлял себе, что на мне надет металлический шлем, как у водолазов. Они ходят по дну в сапогах со свинцовыми подошвами, одетые в толстые, как слоновья кожа, костюмы с кислородным шлангом, который тянется от шлема, как хобот. Я задышал ртом коротко и шумно и стал расхаживать по комнате тяжелой и плавной походкой, как старинные водолазы, пока страх, с которым граничила эта фантазия, не стал просачиваться внутрь меня, точно холодная вода.
Несколько месяцев назад я посмотрел телесериал «Таинственный остров» по роману Жюля Верна, и история о том, как люди, залетевшие на воздушном шаре на безлюдный остров в Атлантическом океане, с первых же кадров произвела на меня сильнейшее впечатление. Картина была захватывающая. Воздушный шар, ураган, одетые по моде девятнадцатого века люди, суровый необитаемый остров, на который они попали, но, очевидно, вовсе не такой уж необитаемый, как им показалось сначала, так как вокруг то и дело происходили всякие загадочные и необъяснимые вещи… Но кто же были те, другие? Ответ пришел неожиданно в конце одного из эпизодов. Оказалось, что в подводной пещере кто-то есть… Какие-то человеческие фигуры… Свет фонарей выхватывал гладкие головы с масками на лицах… Плавники… Они напоминали ящериц, вставших на задние ноги… На спине – какие-то емкости… Один обернулся – у него не было глаз.
Я не вскрикнул, но ужас, охвативший меня от увиденного, сделался неотступным; иногда меня средь бела дня при одном воспоминании об аквалангистах в пещере охватывал внезапный страх. А теперь я мысленно превращался в одного из них. Мое шумное дыхание стало их дыханием, мои шаги – их шагами, руки – их руками, а закрывая глаза, я видел перед собой их безглазые лица. Пещера… черная вода… вереница аквалангистов с фонарями в руках… Доходило до того, что я и с открытыми глазами продолжал их видеть. До того даже, что страх не отпускал меня и в моей комнате, среди собственных, хорошо знакомых вещей. Я не смел шелохнуться от ужаса, что сейчас что-то случится. Я машинально сел на кровать, негнущимися руками потянул к себе ранец, кинул взгляд на расписание, нашел в нем среду, прочитал, что было написано: математика, окружающий мир, музыка, переставил ранец себе на колени и, прислонившись к стене, начал читать книгу. Сначала я вскидывал взгляд каждую секунду, но постепенно эти интервалы превратились в минуты, а когда папа крикнул мне, что пора ужинать, уже ровно девять, я был целиком поглощен книгой, а не страхом и с трудом от нее оторвался.
Резать хлеб и включать электрическую плиту нам с братом не разрешали: ужин готовили мама или папа. Если мама работала в вечернюю смену, все делал папа: когда мы приходили на кухню, на столе уже стояли два стакана с молоком и две тарелки с четырьмя готовыми бутербродами. Бутерброды он обыкновенно приготавливал заранее и оставлял до ужина в холодильнике, холодные бутерброды не лезли в горло, даже если они были с чем-нибудь, что мне нравилось. Когда дома была мама, то продукты для бутербродов доставала из холодильника она или мы с братом, и этот простой прием, который позволял нам самим выбирать, что подать на стол и с чем сделать бутерброды, в сочетании с хлебом комнатной температуры, рождал ощущение свободы: а раз уж мы могли сами открыть кухонный шкаф, сами достать чуть дребезжащие тарелки и расставить их на столе, выдвинуть ящик буфета и достать позвякивающие столовые приборы, положить рядом с тарелкой нож; раз могли вынуть и поставить на стол стаканы, достать из холодильника молоко и сами налить его в стакан, то, разумеется, могли и поговорить, а не сидеть точно набрав в рот воды. Это получалось само собой: одно как бы влекло за собой другое, когда нас кормила ужином мама. Мы болтали обо всем, что ни придет в голову, ей было интересно слушать наши рассказы, а если при этом кто-то нечаянно плеснет молоком на стол или, забывшись, положит использованный чайный пакетик на скатерть (потому что мама иногда давала нам чай), то в этом не было ничего страшного. Но если наше участие в приготовлении ужина приоткрывало эти шлюзы свободы, то их ширина зависела от папиных нервов. Если папа в это время находился в саду или внизу в кабинете, разговоры велись как угодно громко и свободно и можно было, не задумываясь, размахивать руками. Когда на лестнице раздавались его шаги, мы автоматически понижали громкость и меняли тему беседы, словно считая ее неподходящей для его ушей; если он заходил на кухню, мы совсем умолкали и сидели вытянувшись в струнку с таким видом, точно все наши мысли заняты только едой; если же он проходил в гостиную, мы продолжали говорить, но уже тише и осторожнее.
Сегодня, войдя на кухню, мы увидели на столе тарелки с четырьмя заранее приготовленными бутербродами. Один с коричневым сыром, второй с желтым, третий с сардинами в томате, четвертый с пряным сыром. Сардины я не любил и поэтому начал с них. Рыбу у меня душа не принимала, вареная треска вызывала рвотные позывы, а она подавалась у нас по крайней мере раз в неделю: я не выносил ни запаха из кипящей кастрюли с рыбой, ни ее консистенции. То же самое, разумеется, относилось и к вареной сайде, сельди, камбале, макрели и морскому окуню. В сардинах самым противным был не вкус, а их консистенция и, главное, тоненький, скользкий хвостик. Смотреть на него было омерзительно. Чтобы минимизировать контакт, я начинал с них – откладывал хвостики на край тарелки и, кучкой собрав на краю бутерброда немного томатного соуса, засовывал в него хвостики и зажимал в хлебе. В таком виде можно было откусить и жевать этот краешек, не ощущая хвостов; чуть пожевав, я поскорее запивал этот кусок молоком. Но в отсутствие папы, как сегодня, можно было просто засунуть хвостики в карман.
Ингве глянул, как я это делаю, нахмурился и покачал головой, а потом улыбнулся. Я тоже улыбнулся в ответ.
За дверью в гостиной шевельнулся в кресле папа. Тихонько брякнул спичечный коробок, в следующий миг по его шероховатой стенке чиркнула спичка, вспыхнула с резким шипением, тотчас утонувшим в безмолвии загоревшегося огонька. Через несколько секунд в кухню потянуло сигаретным дымом, Ингве привстал и как можно тише приоткрыл окно. Звуки, ворвавшиеся в тишину из наружной тьмы, совершенно преобразили царившее в кухне настроение. Внезапно она сделалась частью окружающего ландшафта. «Мы сидим, как будто на уступе скалы», – подумал я. При этой мысли волоски на предплечье встали дыбом. Подымающийся ветер шумел в лесу, шуршал в кустах и деревьях перед домом. С перекрестка доносились голоса ребят с велосипедами, продолжавших свои разговоры. На горке возле моста взревел, прибавив скорость, мотоцикл. А надо всем реяло далекое тарахтенье мотора – рыбацкая лодка возвращалась из пролива.
Ну конечно же, он меня услышал! Услышал мои шаги, как я бегу по гравию!
– Махнемся? – тихонько предложил Ингве, кивнув на бутерброд с пряным сыром.
– Давай! – согласился я.
Радуясь, что разгадал загадку, я доел последний кусок бутерброда с сардинами, запил крошечным глоточком молока и принялся за другой, который положил на мою тарелку Ингве. Надо было следить, чтобы молока хватило на все, если не оставить ничего на запивку, одолеть последний бутерброд будет практически невозможно. Лучше приберечь немного молока напоследок, когда все бутерброды будут доедены, потому что молоко вкуснее всего, когда ничего им не запиваешь, а пьешь в чистом, беспримесном виде, но это мне почти никогда не удавалось: текущая потребность всегда брала верх над отложенным желанием, каким бы заманчивым оно ни казалось.
А вот Ингве так мог. Он был мастером экономии.
Наверху у Престбакму кто-то трижды топнул сапогами по лестнице. Затем пространство огласили три коротких возгласа:
– Гейр! Гейр! Гейр!
Ответ донесся со стороны дома, где жил Юнн Бек, ровно через такой промежуток времени, что всем, кто его услышал, стало понятно – человек сначала подумал, а потом решил ответить.
– Тута!
Затем с улицы послышались его бегущие шаги. Когда их звук поравнялся с изгородью Густавсена, папа в гостиной поднялся. Что-то в его походке заставило меня пригнуть голову. Ингве тоже пригнулся. Папа вошел в кухню, приблизился к столу, потянулся без единого слова рукой к окну и резко его закрыл.
– Вечером мы держим окно закрытым, – сообщил он.
Ингве кивнул.
Папа перевел взгляд на нас.
– Давайте кончайте и собирайтесь ко сну! – сказал он.
Только дождавшись, когда он снова усядется в гостиной, мы с Ингве переглянулись.
– Ха-ха! – сказал я шепотом.
– Ха-ха! – шепотом ответил он. – Между прочим, к тебе это тоже относится.
Он обогнал меня на два бутерброда и почти сразу ушел к себе в комнату, а я остался сидеть за столом и еще несколько минут доедал свои бутерброды. Я думал после ужина зайти к папе и сказать, что в новостях, наверное, еще раз покажут репортаж, где было лицо на море, но ввиду сложившихся обстоятельств от этого плана, возможно, стоило отказаться.
Или нет?
Я решил действовать по обстоятельствам. Обыкновенно я, выходя из кухни, заглядывал в гостиную, чтобы пожелать ему доброй ночи. Если настроение у него будет нормальное или даже, на мое счастье, хорошее, то скажу. Если не повезет, то нет.
Оказалось, что он, вместо того чтобы, как всегда, расположиться перед телевизором в одном из двух кресел, на этот раз устроился на диване в глубине комнаты. Теперь, чтобы вступить с ним в контакт, я уже не мог как бы мимоходом заглянуть с порога и сказать «спокойной ночи», что получилось бы, сиди он в кресле: нужно было переступить порог и зайти в комнату. Он, конечно же, сразу поймет, что я зашел не просто так. Разведать обстановку уже не выйдет и придется действовать без подготовки, независимо от того, каким тоном он отзовется.
Я понял это, только уже выйдя из кухни, а поскольку растерялся и остановился, то теперь мне уже не оставалось выбора, потому что он, конечно же, слышал, что я остановился, и сразу догадался, что я собираюсь с чем-то к нему обратиться. И вот я сделал оставшиеся четыре шага, которых недоставало, чтобы оказаться в его поле зрения.
Он сидел нога на ногу, положив один локоть на спинку дивана и подперев свободной рукой откинутую назад голову. Взгляд его, только что обращенный на потолок, направился на меня.
– Спокойной ночи, папа, – сказал я.
– Спокойной ночи.
– В ночных новостях, наверное, еще раз это покажут, – сказал я. – Вот я и решил, что надо тебе сказать. Чтобы вы с мамой тоже увидели.
– Что покажут? – спросил он.
– Кадры, в которых было лицо.
– Лицо?
Вероятно, я остался стоять с раскрытым ртом, потому что он внезапно опустил челюсть и посмотрел на меня разинув рот, что, как я понимал, изображало то, как я выгляжу.
– О котором я тебе рассказывал.
Он закрыл рот и выпрямился, не спуская с меня глаз.
– Хватит! Наговорились уже про это лицо, – сказал он.
– Да, папа.
Повернув назад и выходя в коридор, я уже почувствовал, как его внимание переключилось и отпустило меня. Я почистил зубы, переоделся в пижаму, зажег лампочку над кроватью, затем выключил верхний свет, лег в кровать и стал читать.
Вообще-то разрешалось почитать только полчаса, до половины десятого, но я обычно тянул до пол-одиннадцатого, пока не приедет с работы мама. Так было и в тот вечер. Заслышав, как мамин «жук» сворачивает наверх с шоссе, я положил книжку на пол и выключил свет, дожидаясь, когда хлопнет дверца машины, затем послышатся мамины шаги по гравию дорожки, откроется входная дверь, потом – как она снимает в прихожей верхнюю одежду и, наконец, раздаются ее шаги на лестнице… Все в доме как-то менялось, когда она приходила, и самое непонятное, что я это ощущал; даже если я, например, засыпал, не дождавшись ее прихода, а потом вдруг просыпался среди ночи, то сразу же чувствовал, что она дома: в общей атмосфере менялось что-то такое, чего я не мог точно определить, но это всегда действовало успокоительно. Так же бывало и в мое отсутствие, когда она возвращалась домой раньше обычного: едва ступив в прихожую, я понимал, что она дома.
Я бы с удовольствием поговорил с ней, про лицо она поняла бы лучше всех, но настоятельной потребности в этом я не ощущал. Главное – что она тут. Я слышал, как она, поднимаясь наверх, положила на телефонный столик связку ключей, открыла раздвижную дверь, что-то сказала папе и снова задвинула ее за собой. Время от времени, особенно когда она дежурила в выходные, он готовил к ее приходу ужин. Иногда они в этих случаях ставили пластинки. Иногда на кухонном столе оставалась потом бутылка вина, всегда одного и того же, недорогого красного, норвежского производства, изредка – пиво, тоже всегда одного сорта – пилснер «Арендал», две-три коричневые бутылки по 0,7 литра с корабликом на золотой этикетке.
Но не сегодня. И я был этому рад. Потому что если они не садились вместе ужинать, то смотрели телевизор, а мне только этого и надо было, чтобы осуществить мой план, очень простой и в то же время дерзкий: за несколько секунд до одиннадцати я собирался тихонько встать с кровати, пройти на цыпочках в коридор, приоткрыть на щелку раздвижную дверь и посмотреть по телевизору вечерние новости. Ничего подобного я никогда раньше не делал, мне это даже в голову не приходило. Чего нельзя, того я не делал. Никогда. Ни разу в жизни я не сделал ничего такого, что мне запрещал делать отец. Разве что нечаянно. Но тут был другой случай, поскольку дело касалось их, а не меня. Я-то уже видел лицо на поверхности моря, и мне незачем было смотреть на него еще раз. Я хотел только выяснить, увидят ли они то же, что я.
Так я думал, лежа в темноте, следя глазами за светящимися зеленоватыми стрелками будильника. Когда стояла такая тишина, как сейчас, мне был слышен шум машин на шоссе. Звуковая дорожка начиналась в том месте, где они въезжали на вершину холма возле нового супермаркета «Б-Макс», продолжалась до перекрестка у Холтета, проходила мимо въезда в Гамле-Тюбаккен, поднималась вверх до моста и бесследно обрывалась с такой же внезапностью, как появлялась полминуты назад.
Без десяти одиннадцать хлопнула дверь в доме через дорогу, наискосок от нас немного выше по склону. Я поднялся в кровати и, став на колени, выглянул в окно. Это была фру Густавсен, она шла через подъездную дорожку, в руках у нее был мешок с мусором.
Я понял, что передо мной редкое зрелище, только когда увидел ее. Фру Густавсен почти никогда не показывалась на улице; ее можно было увидеть либо в доме, либо на пассажирском сиденье их синего «форда-таунуса». Об этом я знал, но никогда раньше не задумывался. Только сейчас, когда она подошла к мусорному контейнеру и, открыв крышку, опустила в него мешок и снова закрыла, двигаясь с ленивой грацией, которая свойственна многим полным женщинам, я вдруг понял: а ведь она никогда не выходит на улицу.
От фонаря, стоявшего за нашей живой изгородью, на нее падал резкий свет, но, в отличие от предметов, которые ее окружали – мусорного контейнера, белой стенки кемпера, каменных плит – и которые отражали этот пронзительный холодный свет, ее тело как бы поглощало его и смягчало. Чуть светились голые до плеч руки, мерцала ткань белой вязаной безрукавки, густые, каштановые с проседью волосы отливали золотом.
Она немного постояла, поглядела по сторонам, сначала на дом Престбакму, затем на дом Хансенов, затем на лес через дорогу.
Гулявшая по двору кошка остановилась и посмотрела на нее. Фру Густавсен несколько раз провела ладонью себе по плечу. Затем повернулась и ушла в дом.
Я снова взглянул на часы. Без четырех минут одиннадцать. Мне стало что-то холодно, и я подумал, не надеть ли свитер, но решил, что тогда, если меня обнаружат, это будет выглядеть подозрительно. Да и уйдет на мою вылазку всего несколько минут.
Я подкрался к двери и приложил к ней ухо. Единственным опасным моментом было то, что туалет находился с моей стороны раздвижной двери. Стоя за ней, я мог контролировать ситуацию и, заметив, что они встают, вовремя скрыться, но, если они уже подошли к закрытой двери, я узнаю об этом слишком поздно.
Но в таком случае можно сказать, что я шел в туалет!
Обрадованный, что решение найдено, я осторожно открыл свою дверь и вышел в коридор. Все было тихо. Крадучись я двинулся вперед по коридору, ощущая вспотевшими подошвами сухость ковролина, подошел к раздвижной двери – оттуда не доносилось ни звука – чуть-чуть отодвинул дверь и заглянул в щелку.
Телевизор в углу был включен. Оба кожаных кресла стояли пустые.
Значит, они на диване, сидят вместе.
Отлично!
Тут на экране закружился глобус с буквой «Н». Я молил Бога, только бы показали тот же репортаж, чтобы папа и мама увидели то, что видел я.
Диктор начал передачу с сообщения о пропавшей в море рыболовной шхуне, и сердце у меня так и забилось. Но на этот раз показали другой репортаж: вместо кадров волнующегося моря появились другие – интервью на мосту с местным ленсманом, затем возникла женщина с ребенком, затем сам репортер, говорящий на фоне бушующего моря.
Когда репортаж закончился, в комнате раздался папин голос, затем смех. Меня охватил такой стыд, что я был как в тумане. Ощущение, словно я весь побелел. В детстве у меня только внезапное чувство стыда могло сравниться по силе со страхом, не считая разве что неожиданных приступов ярости; все три ощущения имели между собой то общее, что они словно изничтожали меня самого. Чувство затмевало все остальное. Поэтому, уходя в свою комнату, я уже не замечал ничего вокруг. Я знаю, что окно на лестнице наверняка было такое темное, что в нем стояло отражение коридора, знаю, что дверь в комнату Ингве наверняка была закрыта, как и двери в спальню родителей и в ванную. Знаю, что связка маминых ключей лежала на телефонном столике растопырившись, словно фантастический спящий зверь с кожаной головой и множеством металлических ножек, знаю, что рядом стояла полуметровая керамическая напольная ваза с сухоцветами и соломкой, существуя как бы отдельно от синтетического коврового покрытия на полу. Но я ничего не видел, ничего не слышал, ничего не думал. Я зашел в комнату, лег в кровать и погасил свет, а когда меня охватила тьма, я вдохнул воздух так глубоко, что внутри у меня все задрожало, мышцы напряглись и как бы выдавили из меня рыдания, такие громкие, что пришлось глушить их, уткнувшись в мягкую и скоро насквозь промокшую подушку. Стало полегче, как бывает после того, как тебя вырвет. Когда слезы перестали течь, я еще долго не спал и продолжал всхлипывать. Это было по-своему хорошо. Когда и это хорошее закончилось, я перевернулся на живот, подсунул руку под голову и закрыл глаза.
С тех пор минуло более тридцати лет. Сейчас, когда я это пишу, в окне передо мной маячит мое собственное лицо. За исключением блестящего глаза и проступающей под ним зоны под скулой, которая слабо белеет в стекле, вся левая сторона лица погружена в густую тень. Две глубокие вертикальные морщины на лбу, глубокие складки вдоль щек, все как бы наполнены тьмой, а когда взгляд неподвижен и серьезен, а углы рта опущены, такое лицо не назовешь иначе как мрачным.
Что на нем запечатлелось?
Сегодня 27 февраля 2008 года. Время – 23:43. Я, пишущий эти строки, Карл Уве Кнаусгор, родился в декабре 1968 года, так что в настоящий момент мне тридцать девять лет. У меня трое детей – Ванья, Хейди и Юнн, я женат вторым браком на Линде Бустрём Кнаусгор. Все четверо сейчас спят здесь в разных комнатах квартиры в Мальмё, в которой мы живем вот уже четыре года. Кроме некоторых родителей, которых мы знаем по детскому саду, в который ходят Ванья и Хейди, мы тут больше ни с кем не знакомы. Мы от этого не страдаем, по крайней мере я, потребности в общении я не испытываю. Я никогда не говорю то, что думаю на самом деле, а, как правило, подлаживаюсь под того, с кем в данный момент разговариваю, делаю вид, будто это меня интересует, за исключением тех случаев, когда я выпью, тут я зачастую, наоборот, перегибаю палку в другую сторону, и тогда во мне пробуждается страх зайти слишком далеко. С годами эта тенденция усилилась, и теперь такое состояние может длиться неделями. Когда я напиваюсь, я уже ничего не помню, так что я полностью теряю контроль над своими поступками, иногда шальными и дурацкими, но порой шальными и опасными. Поэтому я больше не пью. Я не хочу никого подпускать к себе близко, не хочу, чтобы меня кто-то видел, а потому так все и сложилось: никто ко мне не приближается, никто меня не видит. Вероятно, это и отпечаталось на лице, сделав его застывшим и до того похожим на маску, что даже мне самому, когда я случайно замечу его отражение в витрине, не верится, что это я.
Единственное на лице, что не стареет, – это глаза. С рождения и до смертного часа они остаются одинаково ясными. Бывает, конечно, что в них лопнет сосудик или роговица помутнеет, но то, что в них светится, остается все тем же. Есть одна картина, на которую я всегда хожу смотреть, когда бываю в Лондоне, и она всякий раз меня поражает. Это поздний автопортрет Рембрандта. Картины позднего Рембрандта, как правило, грубого письма, в них все подчинено мгновенному впечатлению, они словно бы излучают свет и исполнены святости и до сих пор остаются непревзойденными шедеврами в искусстве, не считая – при всей, казалось бы, несопоставимости – позднего Гельдерлина в его последних стихотворениях, ибо свет Гельдерлина, рожденный волшебством стиха, – это сплошной небесный эфир, в то время как свет Рембрандта, рожденный из красок, – это свет земли, металла, материи, но вот эта картина в Лондонской национальной галерее, написанная в несколько более реалистической манере, скорее напоминает молодого Рембрандта. Однако изображен на портрете старик. С него смотрит сама старость. Лицо прописано во всех деталях, по ним можно проследить все отметины, оставленные жизнью. Оно изборождено морщинами, под глазами мешки, время прошлось по нему безжалостно. Но глаза – ясные, они хоть и не молоды, но словно бы остались вне времени, которым затронуто все остальное. Словно оттуда на нас смотрит кто-то другой, скрытый за этим лицом, на котором все иначе. Ближе подступиться к душе другого человека, наверное, очень трудно. Все, что относится к личности Рембрандта, – его привычки, хорошие и дурные, телесные запахи и звуки, его голос и лексикон, его мысли и мнения, его манеры, физические пороки и изъяны – все, что составляет образ личности в глазах окружающих, – уже минуло: картине четыреста с лишним лет, Рембрандт умер в год ее создания; но то, что на ней изображено, что написал Рембрандт, отражает самое существо запечатленного на ней человека, – это то, к чему он, проснувшись, возвращался каждое утро и что тотчас же погружалось в мир мыслей и чувств, само не будучи мыслью и чувством, та сущность, которую он покидал каждый вечер, погружаясь в сон, пока не покинул ее навсегда, заснув вечным сном, та, что светится в глазах человека и неподвластна времени. Разница между этой картиной и другими полотнами позднего Рембрандта выражается в разнице между тем, чтобы видеть и быть увиденным со стороны. То есть на этом портрете он одновременно видит, как смотрит сам и как видят его другие. Такая картина, наверно, могла возникнуть только в эпоху барокко с его пристрастием к зеркалу в зеркале, пьесы в пьесе, с его театральностью, с верой во взаимосвязанность всех вещей, когда уровень мастерства достиг небывалых и уже неповторимых высот. Но вот эта картина существует в наше время и смотрит на нас.
* * *
В ночь, когда родилась Ванья, она несколько часов лежала и глядела на нас. Глаза ее были как два черных светильника. Тельце – в крови, длинные волосики прилипли к головке, а движения – замедленные, как у пресмыкающегося. Она лежала у Линды на животе, словно какое-то лесное существо, и все смотрела на нас. Мы не могли наглядеться на нее и на то, как она смотрит. Но что было в этом взгляде? Тишина, невозмутимый покой, тьма. Я высунул язык. Прошла минута, и она тоже высунула язычок. Никогда еще в моей жизни не было столько надежды, столько радости. Теперь ей четыре года, и все изменилось. Глазки у нее быстрые, в них одинаково легко вспыхивают ревность и радость, горе и гнев, она уже вполне освоилась в мире и порой ведет себя до того нахально, что я совершенно теряю всякое соображение и, бывает, даже ору на нее и трясу, пока она не заплачет. Но чаще она просто смеется. В последний раз, когда я на нее разозлился и стал трясти, а она только смеялась, я вдруг сообразил приложить руку к ее груди.
Ее сердце так и колотились. Как же оно колотилось!
* * *
Утро. На часах самое начало девятого. Сегодня четвертое марта 2008 года. Я сижу в рабочем кабинете, окруженный книгами от пола до потолка, слушаю шведскую группу «Дюнген» и думаю о том, что я написал и к чему это ведет дальше. Линда и Юнн спят в соседней комнате. Ванья и Хейди в детском саду, куда я отвел их полчаса назад. В огромном здании отеля «Хилтон», что напротив, на котором все еще лежит тень, непрестанно снуют вверх и вниз лифты в стеклянных шахтах, расположенных на фасаде. Рядом – дом из красного кирпича, судя по обилию арок и карнизов, постройки конца девятнадцатого – начала двадцатого века. За ним виднеется кусок городского парка с голыми деревьями и зеленой травой, дальше вид загораживает серое здание семидесятых годов, заставляя обратить взгляд на голубое небо, которое впервые за последние недели прояснилось.
За полтора года я уже хорошо изучил этот ландшафт и все его настроения, меняющиеся в течение дня и на протяжении года, но привязанности к нему не испытываю. Все это ничего для меня не значит. Возможно, как раз этого я и искал, потому что мне определенно нравится отсутствие привязанности, возможно, это удовлетворяет какую-то внутреннюю потребность, но сознательного выбора тут не было. Шесть лет назад я жил и писал в Бергене, и, хотя не думал прожить там всю жизнь, я вовсе не собирался уезжать в другую страну и расставаться с женщиной, на которой был тогда женат. Напротив, мы предполагали завести детей и перебраться в Осло, где я и дальше писал бы романы, а она продолжала бы работать на радио и телевидении. Но то наше будущее, бывшее, по сути дела, продолжением того нашего настоящего – с его привычным укладом, обедами с друзьями и знакомыми, поездками в отпуск, посещением родителей и тещи с тестем и плюс будущие дети, которыми мы собирались обзавестись, – так и не состоялось. Но тут что-то произошло, я вдруг взял и уехал в Стокгольм, рассчитывая провести там несколько недель, да там и прижился. В моей жизни поменялись не только страна и город, но и все человеческое окружение. Странно было так поступить, но еще более странно, что я никогда об этом не задумывался. Как я тут очутился? Почему так случилось?
Когда я приехал в Стокгольм, знакомых у меня там было только два человека, да и те не очень: Гейр, с которым мы до того общались пару недель в Бергене весной 1990 года, то есть двенадцать лет назад, и Линда, которую я встретил весной 1999 года на семинаре для молодых писателей в Народном университете Бископс-Арнё. Я связался по имейлу с Гейром и спросил его, нельзя ли мне у него остановиться, пока я не устроюсь с жильем, и он согласился. Приехав, я подал объявления в две шведские газеты, что ищу жилье, и получил больше сорока предложений, из которых отобрал два. Одна квартира находилась на Бастюгатан, другая на Бреннчюркагатан. Посмотрев обе, я выбрал последнюю и только тут взглянул на список жильцов в подъезде – и увидел в нем имя Линды. Какова вероятность подобного совпадения? В Стокгольме больше полутора миллионов жителей. Если бы квартиру мне сосватал кто-то из друзей или знакомых, тут не было бы ничего особенно удивительного, ведь круг литераторов везде довольно тесен, независимо от величины города, – но адрес попал ко мне через безымянное газетное объявление, которое читали сотни тысяч людей, и откликнувшаяся на него женщина, разумеется, ни меня, ни Линду не знала. Я тотчас решил искать другую квартиру – вдруг Линда подумает, будто я ее преследую? Однако это был знак. И оказалось, что неспроста. Потому что сейчас я женат на Линде и у нас с ней трое детей. Теперь свою жизнь я делю с ней. Единственное напоминание о прошлой жизни – это книги и пластинки, которые я забрал с собой. Все остальное я оставил. И если тогда я часто думал о прошлом – так часто, что в этом было даже нечто болезненное, потому что я не просто читал «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, а прямо упивался этой книгой, – то теперь мысли о прошлом посещают меня очень редко. Во многом, полагаю, потому, что у нас появились дети, и жизнь с ними здесь и сейчас поглощает все остальное. Она вытесняет даже самое недавнее прошлое: спросите меня, что я делал три дня назад, и я ничего не смогу вспомнить. Спросите, какой была Ванья два года тому назад, Хейди два месяца назад, Юнн две недели назад, и я не вспомню. В маленькой обыденной жизни много чего происходит, но все в рамках одного и того же, и это более всего повлияло на мое представление о времени. Ибо если раньше я представлял себе время как некую дистанцию, которую предстоит преодолеть, а будущее мне виделось как далекая и, скорее всего, сияющая перспектива и уж во всяком случае никогда не казалось скучным, то теперь оно неразрывно связано с жизнью здесь и сейчас. Если нужен образ, то я выбрал бы корабль в шлюзе: жизнь так же медленно и неуклонно поднимается, подпираемая временем, которое незаметно вливается отовсюду, приподнимая корабль. За исключением отдельных деталей, все остается как было. И с каждым днем нарастает нетерпение: поскорей бы наступил тот миг, когда жизнь поднимется вровень с бортом шлюза, ворота наконец откроются и нас снова подхватит живой поток. В то же время я понимаю, что эта повторяемость, эта замкнутость в тесных рамках, эта неизменность необходима, она меня защищает, ибо в те редкие моменты, когда я покидаю свое прибежище, на меня снова обрушиваются привычные напасти. Я снова оказываюсь в плену всевозможных мыслей о том, кто что сказал, увидел, о чем подумал, меня словно выбрасывает в неподконтрольное, бесплодное, зачастую унизительное и в конечном счете деструктивное пространство, в котором я жил столько лет. Там стремление вырваться так же сильно, как и здесь, но разница в том, что там его цель реализуема, а здесь – нет. Здесь мне остается только нацелиться на что-то другое и на том успокоиться. Искусство жить – вот о чем я веду речь. На бумаге это не проблема, тут я могу в любой момент вызвать, например, образ Хейди, как она в пять утра выкарабкивается из решетчатой детской кроватки и тихонько топает в темноте по полу, чтобы в следующую секунду зажечь свет и предстать передо мной, полусонным, с трудом продирающим глаза, с одним словом: «Кухня». Язык у нее еще своеобразный (слова в нем отличаются от общепринятого значения, и «кухня» означает мюсли с черничным йогуртом. Точно так же свечка у нее – это «позавляю»). Хейди большеглазенькая, большеротенькая девочка со здоровым аппетитом, она смышленый и во всех отношениях ненасытный ребенок, но ту здоровую, несокрушимую жизнерадостность, которой она отличалась в свои первые полтора года жизни, этой осенью после рождения Юнна пригасили другие, прежде несвойственные ей эмоциональные проявления. В первые месяцы она не упускала случая причинить ему вред. Царапины на его личике были скорее правилом, чем исключением. Когда я вернулся домой из Франкфурта после четырехдневной отлучки, Юнн выглядел так, точно побывал на войне. Нам пришлось туго. Чтобы не изолировать Хейди от братика, мы вынуждены были угадывать ее настроение и соответственно регулировать их общение. Но даже когда она бывала в самом лучезарном настроении, ее ручонка могла вдруг молниеносно взметнуться и ударить или поцарапать его. Одновременно у нее начались приступы неудержимой ярости, хотя еще два месяца назад я бы просто не поверил, что такое возможно, и к тому же откуда ни возьмись появилась необычайная обидчивость: при малейших признаках суровости в моем тоне или поведении ребенок опускает голову, отворачивается и начинает плакать, как будто показать нам свою злость она хочет, а огорчение скрывает. Когда я пишу это, меня переполняет умиление. Но только на бумаге. В жизни, когда она действительно заявляется ко мне в такую рань, что на улице еще тихо, а в доме не слышно ни звука, сияющая от радости, что снова настало утро, и я заставляю себя встать, натягиваю вчерашнюю одежду и иду за ней на кухню, где ее ждет любимый черничный йогурт и мюсли без сахара, я чувствую отнюдь не умиление, а если она еще и испытывает мое терпение, и клянчит, чтобы ей дали посмотреть мультики, или пытается проникнуть в комнату, где спит Юнн, короче говоря, каждый раз, когда она не понимает слова «нельзя» и не перестает приставать, мое раздражение нередко переходит в злость и я начинаю говорить с ней строгим голосом, а когда на глазах у нее выступают слезы и она прячет лицо, отворачивается от меня и стоит понурив голову, я думаю: «Ну и поделом тебе». Осознание того, что ей всего два года, приходит только вечером, когда они засыпают, а я наконец задумываюсь, что же я делаю. Но это уже при взгляде со стороны. Пока я в гуще событий, мне не до того. Пока ты варишься в них, надо думать о том, как пережить утро, эти три часа с их сменой подгузников, переодеваниями, завтраком, умыванием, чисткой зубов, расчесыванием и закалыванием волос, пресечением ссор, разниманием драк, натягиванием комбинезончиков и сапожек, прежде чем с двойной коляской в одной руке, а другою подталкивая перед собой двух дочек, зайти в лифт, где, пока мы спускаемся, нередко начинается толкотня и вопли, затем, выйдя на площадку, усадить обеих в коляску, надеть им шапочки и варежки и выехать на улицу, уже полную спешащих на работу людей, спустя десять минут сдать их с рук на руки воспитательнице детского сада, получив пять часов времени для работы, после чего вновь приниматься за ежевечерние хлопоты вокруг детей.
У меня всегда была велика потребность побыть одному, мне необходимы большие пространства одиночества, и, когда я его лишен, как в последние пять лет, моя подавленность переходит в панику или агрессию. И когда под угрозой оказывается то, что поддерживало меня всю мою взрослую жизнь, – честолюбивая надежда написать однажды нечто выдающееся, то меня грызет, точно крыса, единственная мысль: надо куда-нибудь бежать. Мысль о том, что время летит, неудержимо утекает, как песок сквозь пальцы, а я между тем… А что – я? Мою пол, стираю белье, готовлю обед, мою посуду, хожу в магазин, играю с детьми на детской площадке, веду их домой, раздеваю, купаю, нянчусь с ними, укладываю спать, вешаю одежду в сушилку, складываю, убираю в шкаф, прибираюсь, вытираю стол, стулья, шкафы. Это борьба, пусть и не героическая, но неравная, потому что, сколько бы я ни работал по дому, в квартире все равно грязь и беспорядок, а дети, с которых, пока они не спят, я ни на минуту не спускаю глаз, – это самые вредные из всех известных мне детей; временами у нас тут просто сумасшедший дом, возможно, потому, что мы так и не выработали необходимого баланса между педагогической дистанцией и родительской близостью, который еще важнее, когда кипят страсти. А это у нас то и дело случается! У Ваньи месяцев в восемь начались сильнейшие эмоциональные выплески, порой чуть ли не припадки, когда утешать ее было бесполезно, она заходилась в крике. Единственное, что мы могли, – это держать ее, пока приступ не пройдет. Что их вызывало, трудно сказать, но часто они бывали, когда она получала слишком много новых впечатлений, как, например, после поездки к бабушке под Стокгольм, где рядом было много других детей, или когда мы целый день гуляли по городу. Она могла реветь точно не в себе, изо всех сил, дойдя до предела, она поднимала крик и была безутешна. Чувствительность и волевая натура – то еще сочетаньице. Ей и так было нелегко, а тут еще родилась Хейди. К сожалению, я не могу похвастаться, что я вел себя тогда сдержанно и разумно. Увы, на самом деле все было не так; в таких случаях во мне тоже вскипала злость и я не мог справиться со своими чувствами, что только усугубляло положение, причем зачастую на глазах у почтенной публики; иногда доходило до того, что я, не помня себя от ярости, хватал девочку с пола в каком-нибудь торговом центре Стокгольма, закидывал на плечо, словно мешок с картошкой, да так и нес по улицам, покуда она брыкалась, размахивала руками и отчаянно вопила. Иной раз я и сам орал на нее в ответ, швырял на кровать и держал, пока она не переставала орать и биться как одержимая. Она очень рано поняла, чем можно довести меня до белого каления, это были особого рода крики – не плач, не рыдания, не истерика, а ничем не вызванный, преднамеренный, агрессивный вопль, от которого я свирепел, совершенно теряя контроль над собой, вскакивал и набрасывался на бедную девочку, орал на нее и тряс за плечи, пока вопли не сменятся плачем, тело не обмякнет и она не даст себя утешить.
Оглядываясь назад, я поражаюсь, как она в свои два года сумела добиться того, что заправляла всей жизнью в семье. Однако у нее получилось, и какое-то время вся наша жизнь вертелась вокруг этих скандалов. Что, разумеется, ничего не говорит о ней, зато все – о нас. Мы с Линдой оба живем на грани хаоса или с ощущением хаоса, все в любую минуту может рухнуть, и все, что требуется делать, когда живешь с детьми, мы делаем, можно сказать, из-под палки. О том, чтобы заранее что-то распланировать, у нас и речи нет. Необходимость купить к обеду еду сваливается на нас каждый день словно какая-то неожиданность. Необходимость оплачивать в конце месяца счета – тоже. Если бы время от времени мне что-нибудь не приходило на карточку – вроде роялти, отчислений с распродаж книжного клуба, или небольшой денежки за публикацию в учебнике, или, как этой осенью, второй части гонорара за иностранные права, про которые я начисто забыл, то нам пришлось бы туго. Но такая постоянная импровизация усиливает значимость каждого отдельного момента, и поскольку ничто не идет по накатанному, то наша жизнь состоит из сплошных событий. Когда у нас случается светлая полоса, что, конечно, тоже бывает, настоящее кажется нам замечательным, и мы не помним себя от радости. Мы просто ликуем. В детях вообще жизнь бьет ключом, и они стремятся к радости, поэтому, когда в тебе ее в избытке и ты с ними ласков и весел, любые их капризы и скандалы проходят через пять минут. Больше всего меня мучает совесть за то, что я, хорошо зная – к детям всегда лучше подходить с лаской, на деле ничего не могу с собой поделать: когда я в гуще событий, меня словно затягивает в трясину слез и отчаяния. А уж стоит мне в этой трясине увязнуть, как любое новое действие приводит только к тому, что я ввинчиваюсь в нее еще на один оборот. Еще досаднее от сознания, что те, с кем я воюю, всего лишь дети. Что именно с детьми я не выдерживаю. В таких ситуациях я опускаюсь гораздо ниже того человеческого уровня, которого желал бы для себя. Есть в этом что-то глубоко постыдное. В такие моменты ты бесконечно далек от того человека, каким стремился быть. Пока я не обзавелся детьми, я и не подозревал за собой ничего подобного. Раньше я думал, что достаточно обращаться с ними ласково, и все будет хорошо. Так оно на самом деле и есть, но ничто из прошлого опыта не предупреждало меня о том, каким вторжением в мою жизнь окажется появление детей. Та неслыханная близость, которая возникает у тебя с ними, когда твой собственный темперамент и настроение переплетаются с их темпераментом и настроением настолько тесно, что все твои худшие стороны уже принадлежат не только тебе одному и, вместо того чтобы жить своей потаенной жизнью, как бы обретают внешнюю форму и рикошетом бьют по тебе. Разумеется, то же самое относится и к лучшим сторонам. Ибо за исключением самых трудных периодов, когда родилась Хейди, а следом Юнн и наша эмоциональная жизнь для всех членов семьи протекала так, что иначе как кризисом это не назовешь, сейчас она проходит в спокойной и стабильной обстановке, и, хотя порой дети доводят меня до бешенства, они все равно мне доверяют и, если что, сразу бегут ко мне. Больше всего они любят, когда мы идем куда-нибудь всей семьей; им не нужно ничего особенного, самые простые вещи – для них уже целое приключение: отправиться на остров Вэстра-Хамнен солнечным днем, сперва прогуляться по парку, где штабель бревен займет их на полчаса, затем пройтись мимо парусных яхт в гавани, которые их безумно интересуют, потом перекусить на одном из спусков к морю итальянскими панини, купленными тут же в кафе, – запастись дома какой-нибудь снедью мы, конечно же, не удосужились, а потом часок для игр, смеха и беготни; Ванья с ее характерной неровной пробежкой, которая у нее так и осталась с полутора лет, Хейди, усердно топочущая следом крепенькими ножками, всегда на два метра позади старшей сестры, всегда готовая радостно принять те знаки сестринского внимания, что выпадут на ее долю, а затем – той же дорогой домой. Если Хейди засыпает в коляске, мы садимся с Ваньей за столик в кафе; она обожает редкие минуты, когда остается с нами наедине, и вот она сидит за стаканом лимонада, и болтает, и задает вопросы обо всем на свете – крепко ли держится небо? можно ли остановить наступление осени? есть ли у обезьян скелет? Пускай радость, которую я от этого испытываю, скорее похожа на спокойное удовольствие, но все ж таки это радость. И даже – моментами – пожалуй, и счастье. Так разве этого мало? Неужели этого мало? Ну да. Будь моей целью счастье, этого бы хватило. Но счастье я никогда не ставил себе целью, не это моя цель, на что оно мне? И семья тоже не цель моей жизни. Уверен, будь это так и посвяти я ей все мое время и все силы, у нас была бы не жизнь, а сказка. Тогда мы жили бы где-нибудь в Норвегии, зимой ходили бы на лыжах и катались бы на коньках, захватив с собой еду и термос, летом плавали бы на лодке, купались, ловили бы рыбу, ночевали в палатке, ездили бы вместе с другими семьями, у которых есть дети, отдыхать за границу, в доме у нас был бы порядок, мы не жалели бы времени на кухню, готовили бы вкусную еду, общались бы с друзьями и радовались бы своему счастью. Выглядит карикатурно, а между тем сплошь и рядом можно видеть семьи с детьми, в которых все налажено именно так. Дети там чистенькие, нарядные, родители веселы и довольны, а если порой и повышают на детей голос, то все же не орут на них как сумасшедшие. На выходные они отправляются за город, на лето снимают домик в Нормандии, и холодильник у них никогда не бывает пустым. Они работают в банках или в больницах, в IT-фирмах или местной администрации, в театрах или в университетах. Так почему же, если я писатель, детские коляски у нас выглядят так, точно их нашли на свалке? Почему, если я писатель, я обязательно должен появляться в детском саду с безумными глазами и застывшей на лице маской отчаяния? Неужели, если я писатель, мои дети непременно должны быть упертыми как бараны, которые ни в чем не уступят, хоть ты тресни? Откуда берется все это безобразие в нашей жизни? Я знаю, что мог бы с ним покончить, знаю, что и мы могли бы стать такой же семьей, но для этого надо, чтобы я так захотел, и в таком случае вся жизнь должна свестись только к этому. А я так не хочу. Для семьи я делаю все, что могу, это мой долг. Про жизнь я понял только одно: надо ее терпеть, не задавая лишних вопросов, а тоску, которая в результате генерируется, использовать как топливо для писательства. Откуда взялось это убеждение, я не знаю и, явственно его сейчас осознав, сам удивляюсь – это же почти извращение! С какой стати ставить долг выше счастья? Вопрос о счастье – банален, чего не скажешь о следующем вопросе – о смысле. При виде прекрасной картины у меня на глаза наворачиваются слезы, а при виде моих детей – нет. Это не значит, что я их не люблю, потому что я ведь люблю их всем сердцем, но видеть в детях смысл жизни… Нет, мне этого мало. Мне скоро сорок, а там, глядишь, стукнет и пятьдесят. В пятьдесят уже недалеко до шестидесяти. Будет шестьдесят, глядишь, скоро семьдесят. А там и всё. Тогда надгробная надпись может выглядеть так: «Он мужественно жизнь влачил. Вот оттого и опочил»[4]. Или, скажем, так:
Хватался он за все подряд и дней своих растратил клад. Когда почуял смертный хлад, он так промолвил, говорят: «Прием у вас холодноват! Соль жизни передай-ка, брат!»Или, скажем, так:
Здесь лежит большой писатель и хороший человек, но в тоске он дни растратил, жил без радости свой век. Изо рта, где когда-то жили слова, растет трава. Собирайтесь, жуки-червяки! Вот вам глазки, а вот и кишки! Вы тут не стесняйтесь, смелей угощайтесь: мужчина отбросил коньки!Но если мне отпущено еще лет тридцать, то я не обязательно останусь таким же, как теперь. Тогда, может быть, что-то в таком роде:
От всех от нас прими, Господь, ты Карла Уве кость и плоть. Наконец-то его нет, он хлеб наш лопал столько лет. Разогнал друзей ради книг и бухла, сидел дрочил, но книга не шла, марал он и правил на каждой странице, а стиль все равно никуда не годится. Тут взял он вилку, тут взял он ложку, потом селедку, потом картошку, зажарил свинью, сожрал целиком, и «Хайль!» рыгнул, поперхнувшись куском. «Я не нацик, но форму ценю и рунами вам алфавит заменю». Книгу вернули, его достало: жрет и рыгает, и все ему мало. Выросло брюхо, в брюки не влезть, глаза безумные, в голосе жесть: «Я просто хотел рассказать все как есть!» А жир-то откладывался повсюду и забил под конец ему все сосуды. Сердце болит, прямо вертел в груди! «Ах, доктор, мне сердце пересади!» А доктор в ответ сложил ему фигу: «Я ведь, голубчик, прочел твою книгу. Все, попалась рыбка на крюк. Больно тебе? Это смерть, мой друг».Или, если мне повезет, то что-нибудь не настолько личное?
Здесь лежит тип, куривший в постели, и жена его (оба сгорели). Иными словами, не они перед вами: так, золы наскребли еле-еле.Когда моему отцу было как мне сейчас, он бросил свою старую жизнь и начал все заново. Мне было тогда шестнадцать, и я учился в первом классе кафедральной школы в Кристиансанне. В начале учебного года мои родители еще состояли в браке, и если какие-то проблемы у них и возникали, то внешне никак не проявлялись, так что я даже не подозревал, как изменятся их отношения. В то время я жил в Твейте, в двух милях от Кристиансанна, в старом доме на самом краю жилой застройки долины. Он стоял на склоне, за ним начинался лес, а спереди открывался вид на реку. При доме имелся большой амбар и сарай. Тем летом, когда мы туда переехали, – мне тогда было тринадцать – папа с мамой завели кур и продержали их с полгода, потом куры исчезли. Рядом с лужайкой папа посадил картошку, а ниже по склону устроил загородку для компоста, который тогда только-только вошел в обиход. Одной из профессий, о которых отец мечтал вслух, было садоводство, и к этому делу у него действительно имелись определенные таланты: в поселке, где мы жили раньше, сад получился у него просто роскошный, и даже не без экзотики, вроде, например, персика, посаженного с южной стороны дома и, к гордости отца, давшего плоды, – так что, переезжая в деревню, мы были исполнены оптимизма и надежд на будущее, в котором медленно, но верно все больше проступала ирония, поскольку среди немногих конкретных вещей, что я запомнил об отце в то время, была реплика, брошенная им однажды вечером за столом, когда мы втроем – папа, мама и я – сидели в саду и жарили барбекю:
– У нас тут с вами прямо не жизнь, а сплошной праздник?
Ирония была незамысловатая, ее уловил даже я, но в то же время загадочная, потому что я не мог понять ее причины. Для меня такой вечер, конечно, был праздником. То, что подразумевало это ироническое замечание, происходило в то лето подспудно: мы купались в реке ранним утром, играли на тенистых лужайках в футбол, ездили на велосипеде в Хамресанненский кемпинг, купались там и смотрели на девушек, а в июле съездили на Кубок Норвегии, где я впервые в жизни напился. У кого-то из знакомых нашелся приятель с квартирой, у кого-то нашлось кого попросить, чтобы купили нам пива, и вот уже я сижу в чужой гостиной, и внезапно меня охватывает настоящий взрыв радости, ничто уже не пугало, ни о чем не стоило тревожиться, я сижу и хохочу, и вот посреди всего того чужого, что меня окружало, – чужой мебели, чужих девушек, чужой комнаты, чужого сада за окном – я вдруг подумал: вот что мне нравится и чего я хочу! Чтобы все именно так! Хочу просто смеяться и делать то, что мне вздумается. Осталось два снимка, на которых я запечатлен этим вечером, на одном я лежу прямо на полу вповалку с другими, в руке – человеческий череп, голова торчит из кучи тел в одну сторону, руки и ноги – в другую, а лицо застыло в пароксизме блаженства. На другом – я один лежу на чьей-то кровати, в одной руке бутылка пива, другой я прижимаю череп к промежности, на носу – черные очки, рот разинут от смеха. Это было лето 1984 года, мне было пятнадцать лет, и я только что сделал открытие: пить – это здорово!
В следующие недели продолжалась обычная детская жизнь: мы валялись на скалах под водопадом и дремали, время от времени окунались в реку, по субботам ездили на автобусе в город за сладостями, заходили в магазин пластинок, и все это время я постоянно предвкушал, как буду учиться в гимназии. В нашей семье это была не единственная перемена – мама временно ушла с работы в школе медицинских сестер и уехала на учебу в Берген, где уже жил Ингве. Предполагалось, что мы с папой останемся вдвоем в деревне, и пару месяцев мы так и жили, пока папа, вероятно, чтобы я ему не мешал, предложил мне пожить в доме на Эльвегатан, принадлежавшем дедушке и бабушке, где у дедушки была бухгалтерская контора. Все мои друзья жили в Твейте, а с новыми одноклассниками я, как мне казалось, был недостаточно знаком, чтобы проводить с ними свободное время, и те дни, когда не надо было ходить на тренировки, которые бывали у меня пять раз в неделю, я проводил один у телевизора, делал уроки за письменным столом в чердачной каморке или лежал там на кровати, читал и слушал музыку. Время от времени я ездил за чистой одеждой, новыми книжками или пластинками в Саннес, так называлась наша усадьба, иногда оставался там ночевать, но предпочитал студенческое жилье в дедушкином доме. Из нашего как-то ушло тепло; наверное, потому, что в нем перестало что-то происходить; папа обедал где-нибудь в городе и по хозяйству делал только самое необходимое. Это сказывалось на атмосфере дома, и по мере приближения Рождества он казался все более заброшенным. Наверху в гостиной на диване перед телевизором появились сухие кошачьи какашки, на рабочем столе в кухне копилась немытая посуда, отопление, кроме небольшого рефлектора, который отец повсюду таскал за собой, было выключено. Самого его явно что-то мучило. Приехав туда как-то вечером, я отнес сумку в свою выстуженную комнату и столкнулся с ним в коридоре; он зашел из амбара, где нижний этаж был переоборудован под жилье, – волосы всклокоченные, взгляд угрюмый.
– А нельзя протопить? – спросил я. – Тут так холодно.
– Пьётопить? – ответил он. – На фига тут пьётапливать!
Я не выговаривал «р», так и не научился, для меня это стало одной из травм моего взросления. Отец меня часто передразнивал, иногда чтобы указать мне на то, что я неправильно произношу эту букву, в бесплодной попытке заставить меня взять себя в руки и наконец-то начать выговаривать этот звук так, как положено всякому нормальному уроженцу Сёрланна, а иногда потому, что его раздражало что-то в моем поведении.
Я молча отвернулся и поднялся к себе. Я не доставил ему удовольствия насладиться зрелищем моих слез. Стыд от того, что я в пятнадцать лет, почти в шестнадцать, чуть было не разнюнился, был сильнее унижения, которое я испытал, глядя, как он меня передразнивает. Я теперь уже не плакал, как раньше, но власть отца надо мной была так сильна, что я был неспособен из-под нее вырваться. Однако показать, как я к этому отношусь, я мог. Я ушел в свою комнату, выхватил с полки несколько кассет и засунул их в сумку, спустился в комнату сбоку от коридора, где стояли шкафы с одеждой, вытащил несколько свитеров, вернулся в коридор, оделся, закинул сумку через плечо и вышел на двор. На улице подморозило, снег прихватило настом, ледяная корка отражала фонари над гаражом. На лужайке перед домом тоже было светло, ночь стояла звездная, и над пустошью за рекой висела полная луна. Я стал спускаться. Снег в автомобильных колеях скрипел под ногами. Дойдя до почтового ящика у дороги, я остановился. Надо было, наверное, сказать, что я ухожу. Но с другой стороны, тогда получится, что я зря старался. Весь смысл моего поступка был в том, чтобы он задумался над своим поведением.
Интересно, который час?
Я оттянул перчатку на левой руке, отвернул рукав куртки и посмотрел на часы. Автобус будет через полчаса. Вполне успею зайти домой и вернуться.
Впрочем, нет. Еще чего!
Я закинул сумку за спину и продолжил путь вниз по склону. Оглянувшись в последний раз, я увидел, что из трубы поднимается дым. Похоже, он решил, что я лежу в кровати у себя в комнате. И видимо, раскаялся, принес дров и растопил камин.
Лед на реке затрещал. Звук разлетелся волнами по пологим склонам долины.
Затем грохотнуло.
У меня похолодела спина. Этот звук всегда наполнял меня радостью. Я взглянул вверх на скопление звезд. На луну, повисшую над лесистым кряжем. На огни машин за рекой, выхватывающие из тьмы длинные полосы света. На деревья, безмолвно, но не враждебно чернеющие вдоль реки. На два водомерных столба, темнеющие на белом фоне, которые осенью скрывались под водой, а сейчас блестели на открытом пространстве.
Он растопил камин. Так он показал, что раскаялся. Поэтому уходить не простившись уже не имело смысла.
Я повернул назад и пошел к дому. Отпер дверь, начал расшнуровывать ботинки. Из комнаты послышались его шаги, я выпрямился. Он открыл дверь, остановился на пороге и посмотрел на меня, не выпуская дверную ручку.
– Уже уходишь? – спросил он.
Объяснять, что я уже уходил и только что вернулся, было невозможно, и я только кивнул.
– Подумал, что так лучше, – сказал я. – Завтра рано вставать.
– Да, да, – сказал он. – Завтра во второй половине дня меня дома не будет. Имей это в виду.
– Окей, – сказал я.
Он еще постоял, посмотрел на меня, затем закрыл дверь.
Я снова открыл ее.
– Папа? – окликнул я.
Он обернулся и молча посмотрел на меня.
– Я хотел сказать, что завтра родительское собрание. В шесть.
– Вот как? Надо будет пойти.
Он повернулся ко мне спиной и пошел в комнату, а я закрыл дверь, зашнуровал ботинки, закинул сумку за плечо и снова отправился на автобусную остановку, куда десять минут назад не дошел. Внизу виднелся водопад, застывший арками и ледяными струями, едва озаренный огнями паркетной фабрики. Позади меня, за водопадом, высились горные пустоши, окружая рассеянные по долине, но освещенные дома поселка тьмой и глухим безлюдьем. Звезды над ними словно лежали на дне замерзшего моря.
Прощупывая фарами темноту, подъехал автобус, я предъявил проездной водителю и сел на предпоследнее сиденье слева, на которое садился всегда, если оно было свободно. Машин на дороге было мало, и мы промчались через Сульслетту, Рюенслетту, потом вдоль побережья до Хамресаннена, дальше через лес в сторону Тименеса, свернули на Е18 и через мост Вароддбру, миновав гимназию в Гимле, въехали в город.
Дом, где я жил, стоял в самом низу у реки. Слева, как войдешь, располагалась дедушкина контора, справа – жилая часть. Две комнаты, кухня и маленькая ванная. Второй этаж тоже был поделен на две половины, с одной стороны находился большой неотапливаемый чердак, с другой – комната, в ней я и жил. У меня там были кровать, письменный стол, маленький диванчик с журнальным столиком, кассетный магнитофон, подставка для кассет, стопка учебников, несколько газет и музыкальных журнальчиков и груда одежды в шкафу.
Дом был старый. Когда-то он принадлежал папиной бабушке, моей прабабке, которая там и умерла. Как я понимаю, папа был очень близок с нею в детские годы, а подростком проводил тут много времени. Мне она казалась неким мифологическим существом – сильная, самостоятельная, волевая, мать троих сыновей, одним из которых был мой дедушка. На всех фотографиях, которые я видел, на ней неизменно черное закрытое платье. Под конец жизни, которая началась где-то в семидесятых годах девятнадцатого века, она почти на целое десятилетие впала в маразм, или, как говорили в семье, начала «путаться». Больше я о ней ничего не знал.
Я снял ботинки и, поднявшись наверх по крутой, как стремянка, лестнице, зашел в комнату. Там было холодно, и я включил тепловентилятор. Поставил кассету. Группу Echo and the Bunnyman. Альбом «Heaven up Here». Лег на кровать и взялся за книжку. Это был «Дракула» Брэма Стокера, которым я тогда увлекался. Год назад я уже читал эту книгу, но она и сейчас оставалась для меня такой же захватывающей и поразительной. Город за окном с его монотонным уличным шумом исчез из моего сознания, напоминая о себе лишь изредка и урывками, как если бы я куда-то ехал. Однако я никуда не двигался, а лежал на постели и читал до половины двенадцатого, потом почистил зубы, разделся и лег спать.
Очень странное ощущение, когда просыпаешься утром в полном одиночестве: пустота словно не только вокруг, но и внутри тебя. До поступления в гимназию я всегда просыпался по утрам в доме, где мама и папа уже поднялись и собираются на работу, со всеми сопутствующими этому вещами – запахом сигаретного дыма, питьем кофе, завтраком, звуками радио и шумом прогревающихся в темноте двора автомобильных моторов. Тут все было иначе, и мне это нравилось. Нравилось ходить за километр через старый жилой район до гимназии, отчего всякий раз возникали приятные мысли, что и я кое-что собой представляю. Большинство гимназистов были городские или жили в ближайших окрестностях, и только я да еще несколько приехали из сельской местности, что ставило нас в невыгодное положение. Ведь остальные уже были знакомы друг с другом и встречались не только в школе, у них уже сложились свои компании. Эти компании сохранялись и в школе, в них не так-то просто было войти, и каждую перемену передо мной вставал вопрос: куда мне себя девать? Можно было, конечно, сходить на перемене в библиотеку и почитать книжку или остаться в классе, делая вид, что повторяешь уроки, но это означало бы показать всем, что я – отверженный, и ничего хорошего в перспективе не сулило, и вот в октябре я начал курить. Не потому, что это мне нравилось, и не потому, что это круто, но потому, что это решало вопрос, куда деваться: с сигаретой можно было спокойно постоять во дворе рядом с другими курильщиками, не вызывая лишних вопросов. После уроков я возвращался в свое жилье, и проблема на время отпадала. Во-первых, потому, что я, как правило, ехал в Твейт на тренировку или чтобы встретиться с Яном Видаром, моим лучшим другом со средней школы, а во-вторых, потому, что меня никто не видел и никто не мог знать, что я все вечера просиживаю один в своей комнате.
Другое дело на уроках. В нашем классе было еще три мальчика и двадцать шесть девочек. И в классе у меня была своя роль, свое определенное место, там я мог разговаривать, участвовать в обсуждениях, выполнять задания, там я что-то собой представлял. Там я был членом группы, как и все остальные, я никому не навязывался, и никто не мог возразить против моего присутствия. Я сидел на последней парте в заднем углу, передо мной сидел Молле, впереди всех в том же ряду сидел Пол, в остальном класс заполняли девочки. Двадцать шесть шестнадцатилетних девчонок. Кто-то из них мне нравился больше других, но ни про одну я не могу сказать, что она нравилась мне настолько, чтобы я в нее влюбился. Была там Моника, из семьи венгерских евреев, с языком как бритва, образованная, в дискуссиях по палестинскому конфликту она всегда с воодушевлением убежденно отстаивала правоту Израиля, чего я никак не мог понять, ведь ясно же, что Израиль – милитаристское государство, а Палестина – жертва. Еще была Ханна, хорошенькая девушка из Вогсбюгда, она пела в хоре, верующая и наивная, однако любому мужчине было приятно на нее смотреть и находиться с ней в одной комнате. Еще была Сив, светловолосая, загорелая и длинноногая, это она в самом начале учебного года высказалась, что район между кафедральной школой и коммерческой школой напоминает американский кампус, и это выделило ее в моих глазах, поскольку показало: она знает о мире, частью которого мне бы хотелось быть, что-то такое, чего не знаю я. Последние годы она провела в Гане, слишком много хвасталась и чересчур громко хохотала. Потом еще Бенедикта, с резкими, в стиле пятидесятых, чертами лица, кудрявыми волосами и с налетом классового превосходства. Потом еще Туне, грациозная в каждом движении, темноволосая и серьезная девушка. Она хорошо рисовала и казалась независимей остальных. Потом еще Анна, девочка с брекетами, с которой я этой осенью во время школьного праздника обжимался в парикмахерском кресле, принадлежавшем матери Бассе, потом еще Хильда, белокурая и румяная девушка с решительным характером, но при этом какая-то серенькая, она часто ко мне обращалась по разным поводам, а еще Ирена, центр всей девчачьей компании, красивая той красотой, которая возникает и пропадает в один и тот же момент, а еще Нина, крепко сбитая и мужеподобная, но в то же время оставлявшая ощущение хрупкости и робости. Еще была Метта, маленькая и вредная интриганка. Была девочка, которая увлекалась Брюсом Спрингстином и носила исключительно джинсу; была еще одна – маленькая смешливая девочка, которая одевалась вызывающе и притом вульгарно и ходила пропахшая табаком; была одна, у которой при улыбке обнажались все десны, в остальном, впрочем, даже хорошенькая, но ее смех, это подхихикивание после каждого слова и чушь, которую она несла, плюс легкая шепелявость как бы заслоняли ее красоту или даже сводили ее на нет. Меня окружало море девушек, река тел, океан грудей и бедер, и то, что я видел все это только в официальной обстановке, за партами, только добавляло ощущению остроты. В известной мере оно наполняло мои дни смыслом, я предвкушал, как войду в класс, где имею полное право сидеть в окружении всех этих девушек.
В это утро я сначала зашел в столовую, купил булочку и колу, сел за парту и стал завтракать, одновременно листая книгу, между тем как класс постепенно заполнился учениками с вялыми спросонок движениями и мимикой. Я перекинулся парой слов с Молле. Он жил в Хамресаннене, в средней школе мы с ним учились в одном классе. Затем вошел учитель. Это был Берг, одетый в рабочую блузу, он вел у нас норвежский. Наряду с историей это был мой любимый предмет, я болтался между пятью и пятью с половиной баллами[5] и выше не поднимался, но решил преодолеть этот рубеж на экзамене. Слабее всего я был в естественных науках, по математике временами сползал даже на двойку; уроков я не учил, а потому то, что мы проходили в школе, было гораздо выше моего понимания. Наши естественники и математик были учителями старой школы. Математику у нас вел Вестбю, он страдал нервным тиком, правая рука у него все время дергалась и выкручивалась. На его уроках я сидел, закинув ноги на стол, и болтал с Бассе, покуда налившийся краской Вестбю, обратив ко мне плотное, мясистое лицо, не выкрикивал мою фамилию. Тогда я снимал ноги с парты, но стоило ему отвернуться, как я продолжал болтать. Нашему естественнику Нюгору, маленькому, тощему, скрюченному человечку с сатанинской улыбкой и ребяческими жестами, оставалась пара лет до пенсии. У него тоже был нервный тик, он все время подмигивал одним глазом, дергал плечом, вскидывал голову, так что выглядел пародией на несчастного замученного учителя. В летние месяцы он ходил в светлом костюме, зимой – в темном. Однажды я видел, как он упражняется с циркулем, словно с ружьем: мы писали контрольную, а он, глядя в пространство над нашими головами, сдвинул ножки циркуля, приставил к плечу, потом рывком перевел в одну сторону, затем в другую, зловеще улыбаясь. Я не верил своим глазам: что он, с ума сошел? На его уроках я тоже разговаривал, причем столько, что стал у него козлом отпущения, кто бы ни болтал на самом деле. Стоило ему услышать чей-нибудь голос, он сразу: «Кнаусгор!» – и поднимает ладонь, это означало, что я должен встать и стоять возле парты до конца урока. Я делал это с готовностью, во мне тогда уже зарождался бунтарский дух, хотелось пуститься во все тяжкие: прогуливать уроки, выпивать, задираться. Я был анархистом, атеистом, и с каждым днем во мне крепли антибуржуазные настроения. Я подумывал о том, чтобы проколоть себе уши, обриться наголо. Естествознание – на что оно мне сдалось? Математика – на что она мне? Я хотел играть в рок-группе, хотел свободы, жить как сам пожелаю, а не как положено.
Но в этих мечтах я был одинок, никто меня не поддерживал, так что, оставаясь до поры нереализованными, они принадлежали будущему и потому, как всякое будущее, не облекались в определенную форму. Не учить уроки, не слушать в классе учителя было из той же оперы. Раньше я по всем предметам был одним из лучших и любил, чтобы это замечали другие, но теперь – нет, теперь хорошие оценки стали чем-то почти постыдным, они означали, что ты сидишь дома и корпишь над уроками, что ты зубрилка и лузер. Иное дело – норвежский, этот предмет в моем представлении был связан с писательством и богемной жизнью, к тому же тут зубрежкой не возьмешь, тут нужно другое – чутье, свой почерк, индивидуальность.
На уроках я бездельничал, на переменах выходил курить на крыльцо, наблюдая, как постепенно светлеет небо и перед глазами все яснее проступает окружающий пейзаж, и так до половины третьего, когда звенел последний звонок и я отправлялся назад, в свою каморку. Было пятое декабря, завтра мне исполнялось шестнадцать, из Бергена собиралась приехать мама, и я радовался предстоящей встрече. Жить вдвоем с папой было тоже неплохо, в том смысле, что он почти не появлялся на глаза – проводил время в Саннесе, когда я был в городе, и наоборот. С маминым приездом этому придет конец, вплоть до Нового года решено было жить вместе в деревне, а неприятная необходимость каждый день встречаться с папой с лихвой искупалась присутствием мамы. С мамой я мог разговаривать. С ней я мог говорить о чем угодно. Папе я ничего не мог рассказать. Совсем ничего, кроме сугубо конкретных вещей типа куда я собрался и когда вернусь домой.
Подходя к дому, я увидел перед ним папин автомобиль. Я вошел, на весь коридор несло чадом, на кухне гремела посуда и работало радио.
Я заглянул в дверь.
– Здорово, – сказал я.
– Здорово, – ответил он. – Проголодался?
– Еще как! Что ты жаришь?
– Отбивные. Садись, они уже готовы.
Я зашел и сел за круглый обеденный стол. Стол был старый. Наверное, остался еще от его бабушки.
Папа положил мне на тарелку две отбивные, три картофелины и горку жареного лука. Сел напротив. Положил и себе.
– Ну как? – спросил он. – Что новенького в школе?
Я помотал головой.
– Так-таки ничего нового не учили?
– Не-а.
– Надо же.
Мы молча принялись за еду.
Я не хотел обижать его, не хотел, чтобы он думал, что потерпел неудачу, что у него не складываются отношения с сыном, поэтому старался придумать, что бы такое ему сказать. Но так ничего и не придумал.
У него было не то чтобы плохое настроение. Он не сердился. Просто его мысли были где-то далеко.
– А ты был недавно у бабушки с дедушкой? – спросил я.
– Ну да, – сказал он. – Как раз вчера после работы. А почему ты спрашиваешь?
– Да так, – сказал я, чувствуя, что покрываюсь краской. – Просто спросил.
Я уже обрезал ножом все мясо, какое было, и стал обгладывать кость. Папа сделал то же самое. Я отложил кость и выпил всю воду, какая была в стакане.
– Спасибо, – сказал я, вставая из-за стола.
– Родительское собрание начинается в шесть? – спросил он.
– Да, – подтвердил я.
– Ты побудешь тут?
– Да.
– Тогда я заеду за тобой, и мы вместе поедем в Саннес. Годится?
– Да.
Я сидел за столом и писал эссе про рекламу одного спортивного напитка, когда отец вернулся. Распахнулась входная дверь, шум города стал громче, в коридоре послышались папины шаги. Его голос:
– Карл Уве! Ты собрался? Давай, поехали!
К его приходу я уже уложил вещи в сумку и рюкзак, и то и другое было набито битком, потому что весь следующий месяц предстояло жить в деревне, и я точно не знал, что мне там может понадобиться.
Он глядел на меня, пока я спускался по лестнице. Покачал головой. Но не сердито. Тут было что-то другое.
– Ну как? – спросил я, не глядя ему в глаза, хотя он этого терпеть не мог.
– Как? А вот так! Меня отчитал твой учитель математики. Вот как! Вестбю, что ли?
– Да.
– Почему ты мне об этом ничего не говорил? Я даже не знал. Для меня это стало полной неожиданностью.
– Ну а что он сказал? – спросил я и начал одеваться, бесконечно обрадованный, что папа не выходит из себя.
– Сказал, что ты кладешь ноги на парту, что ведешь себя нагло и вызывающе, что болтаешь во время урока, ничего не делаешь и не выполняешь домашние задания. И если так будет продолжаться, он тебя выгонит. Вот что он сказал. Это правда?
– Да, в каком-то смысле правда, – сказал я, выпрямляясь, уже вполне одетый.
– Между прочим, он во всем обвинял меня! Он ругал меня за то, что я вырастил такого лоботряса.
Я невольно поежился.
– А что ты сказал?
– Я выдал ему по первое число. Твое поведение в школе – на его ответственности, это не моя забота. Но все равно приятного было мало. Сам понимаешь.
– Да, понимаю, – ответил я. – Извини.
– Да что толку? Все, это было последнее родительское собрание, куда я ходил. Вот так. Ну что, идем?
Мы вышли на улицу, направляясь к машине. Отец сел за руль, наклонился в мою сторону, распахнул дверь.
– А багажник не откроешь? – попросил я.
Он не ответил, но открыл. Я сложил рюкзак и сумку в багажник, аккуратно закрыл его, чтобы не злить отца, сел на переднее сиденье, перекинул через грудь ремень безопасности, защелкнул застежку.
– Срамота, да и только, – сказал папа, запуская мотор. Засветилась приборная доска, из темноты проступила машина впереди нас и часть дороги, спускающейся к реке. – А каков он вообще-то как учитель, этот Вестбю?
– Вообще никудышный. У него вечные проблемы с дисциплиной. Никто его ни во что не ставит. И объяснять он тоже не умеет.
– Он один из лучших выпускников университета. Ты это знал? – спросил папа.
– Нет.
Он сдал несколько метров назад, вырулил на дорогу, развернулся и направился к выезду из города. Обогреватель гудел, шипованные покрышки мерно жужжали по асфальту. Отец, как всегда, гнал на большой скорости. Одна рука на баранке, другая на сиденье возле рычага переключения передач. Внутри у меня все дрожало, словно сквозь тело пробегали искры радости, ведь раньше такого никогда не бывало. Он никогда меня не защищал. Он никогда не упускал случая сделать критическое замечание, если его что-то не устраивало в моем поведении. Перед летними и рождественскими каникулами, когда предстояло предъявить отцу табель с отметками, я за недели начинал переживать. От какого-нибудь мелкого недостатка в моем поведении он приходил в ярость. То же самое и с родительскими собраниями. Стоило ему там услышать малейшее критическое замечание в мой адрес, например, что я много болтаю или не слежу за своими вещами, и он приходил домой, кипя от гнева. О тех редких случаях, когда я приносил домой записку, что родителей вызывают в школу, и говорить нечего. Это вообще был кошмар и конец света.
Неужели он обращается со мной иначе потому, что я повзрослел?
Неужели мы теперь будем на равных?
Мне хотелось повернуться к нему и посмотреть, как он сидит за рулем, уставив взгляд на дорогу. Но я не мог. Для этого надо было что-то ему сказать, а сказать мне было нечего.
Полчаса спустя мы уже поднялись на последнюю горку и въехали во двор перед домом. Не заглушая мотора, папа вышел, чтобы открыть гараж. Я пошел отпирать дверь дома. Вспомнил про вещи в багажнике и вернулся, когда папа выключил мотор и красные лампочки габаритных огней погасли.
– Откроешь багажник? – спросил я.
Он кивнул, вставил ключ и повернул. Дверца откинулась вверх, как хвост кита, увиделось мне вдруг. Войдя в дом, я сразу заметил, что он делал уборку. Внутри пахло зеленым мылом, в комнатах было прибрано, полы блестели. С дивана исчезли кошачьи какашки.
Все это он проделал, конечно, лишь ради мамы. Но все равно, пусть он поступил так не по собственному побуждению, из-за того, что тут все заросло грязью так, что уже противно смотреть, а по конкретному поводу, я все же почувствовал облегчение. Все-таки восстановлен хоть какой-то порядок. В последнее время мне не то чтобы стало тревожно на душе, но какое-то беспокойство я все-таки ощущал, потому что изменения происходили не только в доме. В ту осень в нем самом что-то поменялось. Вероятно, оттого, что мы остались с ним вдвоем, – он да я, да и то почти не общались. Друзей у него никогда не водилось, в гости к нам никто не ходил, кроме родственников. Из знакомых у него были только коллеги по работе да соседи. Точнее сказать, так было, пока мы жили на Трумёйе, здесь же он не знал даже соседей. Но всего через пару недель после того, как мама уехала на учебу в Берген, он созвал в Саннесе гостей из числа сослуживцев, чтобы устроить дома вечеринку, и спросил меня, не могу ли я на этот вечер уехать в город. Если мне станет одиноко, я всегда могу зайти к дедушке с бабушкой. Менее всего я боялся одиночества, а среди дня он заглянул ко мне и принес пакет еды: покупную пиццу, колу и готовое картофельное пюре, которые я съел, сидя перед телевизором.
Наутро я сел в автобус и поехал к Яну Видару, пробыл у него пару часов, а затем отправился на автобусе к нам домой. Дверь была заперта. Я открыл гараж, чтобы посмотреть, ушел он просто пройтись или уехал куда-то на машине. Там было пусто. Я вернулся к дому и отпер ключом дверь. На столе в гостиной стояли несколько винных бутылок и полные пепельницы, но особого беспорядка заметно не было, и я подумал, что они повеселились довольно скромно. Стереоустановка обыкновенно стояла в амбаре, но сейчас она была тут, на столике у камина, и я присел на корточки перед горкой пластинок, которые частью стояли рядком, прислоненные к ножке стула, частью лежали рядом на полу. Пластинки были те, которые он ставил всегда, сколько я себя помнил. «Пинк Флойд», Джо Дассен, Арья Сайонмаа, Джонни Кэш, Элвис Пресли, Бах, Вивальди. Последние две он, наверное, ставил до гостей или сегодня с утра. Но и остальные не очень-то подходили для вечеринки. Я встал и отправился на кухню, в мойке там лежало несколько грязных тарелок и бокалов. Я открыл холодильник. Не считая пары бутылок белого вина и пива, в нем было пусто. Я поднялся на второй этаж и увидел, что дверь в папину спальню открыта. Я подошел и заглянул внутрь. Кровать из маминой спальни оказалась переставлена сюда, рядом с папиной, на середину спальни. Значит, вечеринка продолжалась допоздна, и так как они выпили, а брать такси до города или до поселка Веннеса, где работал папа, было слишком дорогое удовольствие, то кто-то остался ночевать. Моя комната стояла нетронутая, я забрал там то, что нужно, и отправился в город, хотя сначала собирался тут переночевать. Но все в доме было какое-то чужое.
Другой раз я приехал туда без предупреждения, был уже вечер, мне не захотелось тащиться после тренировки в город, и Том подбросил меня на машине до дома. В освещенном кухонном окне я увидел папу, он сидел за столом, подперев голову рукой, перед ним стояла бутылка вина. Это тоже было что-то новенькое, раньше он никогда не пил, во всяком случае, при мне и уж тем более в одиночку. И вот теперь я это видел, но не желал этого знать, однако отступать было поздно, так что я нарочно громко потопал на крыльце, сбивая снег с подошв, и, чтобы у него не осталось никаких сомнений в том, куда я направился, я отвернул в ванной оба крана и несколько минут посидел на крышке унитаза. Когда я вошел в кухню, там уже никого не было. Вымытый бокал стоял на рабочем столе, пустая бутылка – в шкафчике под раковиной, а папа ушел в амбар. И в довершение всех странностей однажды я увидел, как он посреди рабочего дня проехал мимо магазина в Сульслетте. Я как раз прогуливал три последних урока и махнул из школы к Яну Видару, чтобы пересидеть у него остающееся до вечерней тренировки время; я курил на скамейке перед магазином, как вдруг мимо проехала папина грязно-зеленая «аскона», не узнать ее было невозможно. Я выбросил сигарету, но не счел нужным прятаться; глядя на проезжающий автомобиль, я поднял руку и помахал. Но он меня не заметил, рядом на пассажирском сиденье сидел кто-то, с кем он разговаривал. На другой день он заглянул в мое студенческое жилье, и я упомянул, что видел его. Он сказал, что это была сослуживица, с которой они вместе занимаются одним проектом и вчера поработали несколько часов после уроков у нас дома.
Все это время папа вообще непривычно много общался с сослуживцами. Один раз на каникулах он ездил с коллегами на семинар в Ховден и часто ходил в гости, чего раньше за ним не водилось. Наверное, потому, что скучал и ему надоело быть все время одному. Я этому только радовался; в то время я стал смотреть на него другими глазами – не как ребенок, а как почти уже взрослый человек, и мне нравилось, что он общается с друзьями и коллегами, как принято у людей. Но в то же время мне не нравились эти изменения, потому что они делали его непредсказуемым.
То, что он встал на мою защиту на родительском собрании, вполне укладывалось в общую картину. Пожалуй, явственней всего остального.
Я вынул вещи из сумки и сложил их в шкаф, аккуратно убрал кассеты в подставку на письменном столе, сложил стопкой учебники. Дом был построен в середине девятнадцатого века, поэтому полы везде скрипели, звук проникал сквозь стены, и я знал не только что папа находится в гостиной прямо подо мной, но даже что он сидит на диване. Я собирался дочитывать «Дракулу», но почувствовал, что не могу, не прояснив сначала ситуацию между нами. Итак, он знает, что я буду делать, а я знаю, что будет делать он. Но нельзя же было вот так просто пойти и сказать: «Привет, папа. Я у себя наверху сижу и читаю книжку». – «Зачем ты мне это говоришь?» – спросит, а если не спросит, то подумает папа. Но возникшую ситуацию надо было как-то утрясти, поэтому я спустился вниз, заглянул на кухню – поесть, что ли? – и уже оттуда вошел в гостиную, где он сидел на диване с моими старыми комиксами.
– Ты не будешь ужинать? – спросил я.
Он коротко взглянул на меня:
– Возьми себе там сам что-нибудь, если хочешь.
– Окей, – сказал я. – Я буду потом у себя в комнате.
Он ничего не ответил и продолжал читать под торшером «Агента Х9».
Я отрезал большой кусок колбасы и съел ее за письменным столом. А он ведь, кажется, не купил мне подарок ко дню рождения, подумал я вдруг. Должно быть, его привезет с собой мама из Бергена. Но торт-то он должен был купить? Хоть об этом-то он подумал?
На следующий день, когда я приехал из школы, мама уже была дома. Папа встретил ее в аэропорту. Когда я пришел, они сидели за кухонным столом, в духовке стояло жаркое, мы поужинали при свечах, я получил в подарок чек на пятьсот крон и рубашку, которую мама купила в Бергене. Я пожалел маму и не стал отказываться, все-таки мама ходила по магазинам и искала, чем бы меня порадовать, нашла эту рубашку, которая ей понравилась, и решила, что она придется мне по вкусу.
Я надел ее, и мы сели в гостиной пить кофе с тортом. Мама была радостная, она несколько раз повторила, как хорошо снова быть дома. Позвонил Ингве и поздравил меня; между прочим, сказал, что приедет, вероятно, не раньше сочельника, тогда и вручит мне подарок. Я отправился на тренировку, а когда вернулся, родители были в амбаре.
Я очень хотел поговорить с мамой наедине, но понял, что, судя по всему, это вряд ли получится, и, подождав еще часок, пошел наверх спать. На другой день в школе был зачет, последние две недели они шли один за другим, я освобождался рано, отправлялся в город, чтобы походить по магазинам пластинок или посидеть где-нибудь в кафе, иногда на пару с Бассе, иногда с кем-нибудь из девочек моего класса, но только если так получалось само, чтобы не подумали, будто я навязываюсь. Но с Бассе это всегда было окей, мы стали часто проводить время вместе, один раз я провел у него целый вечер, мы просто слушали пластинки в его комнате, но я был прямо-таки счастлив, ведь у меня появился новый товарищ. Не деревенщина, не какой-то там заядлый фанат метал-рока, а поклонник Talk Talk и U2, Waterboys и Talking Heads. Бассе, или Рейд, как его на самом деле звали, был смуглый брюнет, на девушек он производил неотразимое впечатление, но, кажется, ему это не ударило в голову, потому что в его поведении не было никакой рисовки, ни капли самодовольства, он никогда не занимал того места, которое мог бы занять, однако не от скромности; скорее его удерживали от этого присущая ему задумчивость и погруженность в себя. Он никогда не раскрывался до конца. Не знаю, потому ли, что не хотел, или потому, что не мог. Впрочем, часто это две стороны одной медали. Но самое удивительное для меня в нем было то, что он обо всем имел собственное мнение. Если я рассуждал скорее оставаясь в пределах заданного поля, например политического, где из одного автоматически следует другое, или руководствуясь своим вкусом, то есть если мне нравилась какая-то музыкальная группа, то нравились и похожие на нее, либо в плане чисто человеческом, где я зачастую не мог освободиться от существующих мнений и оценок, то он, напротив, всегда мыслил самостоятельно, исходя из собственных, более или менее индивидуальных идиосинкратических воззрений. Но своими мыслями он не делился с кем попало; сначала еще надо было заслужить, чтобы он их тебе высказал, а для этого требовалось время. Иными словами, это была не его манера, а его натура. И гордость, что я могу назвать Бассе своим другом, объяснялась не только его многочисленными достоинствами и самим фактом дружбы, но не в последнюю очередь еще и тем, что, как мне казалось, его популярность повлияет и на мою. Не то чтобы это была сознательная установка, но, оглядываясь назад, я понимаю, что это очевидно: если тебя не пускают в какой-то круг, то нужен кто-то, кто бы тебя в него ввел, по крайней мере, так обстоит дело, когда тебе шестнадцать. В данном случае моя изоляция была не метафорической, а буквальной и конкретной. Меня окружали сотни парней и девушек моего возраста, но я не мог влиться в среду, к которой они принадлежали. Каждый понедельник я боялся услышать вопрос: «Как ты провел выходные?» Один раз можно ответить: «Сидел дома и смотрел телевизор», в другой еще можно было сказать: «Слушал пластинки у приятеля», но дальше следовало рассказать что-то поинтереснее, чтобы не остаться за бортом. Некоторых списывали со счетов в первый же день, раз и навсегда, но я ни за что на свете не хотел оказаться за бортом, я хотел быть одним из тех, кто находится в центре событий, хотел, чтобы меня приглашали на вечеринки, хотел гулять с другими ребятами по городу, жить их жизнью.
Главным испытанием, самым большим праздником в году, была встреча Нового года. В последние недели все только об этом и говорили. Бассе собирался поехать к знакомым в Юствик, но увязаться за ним не было никакой возможности; и вот занятия в гимназии кончились и начались новогодние каникулы, а меня так никто никуда и не пригласил. Остался только Ян Видар, который жил под горой в Сульслетте, в четырех километрах от нас. Осенью он поступил в ремесленную школу и учился на кондитера, и вот мы с ним за два дня до Нового года сидели и рассуждали, куда бы пойти. Нам хотелось попасть на вечеринку и как следует напиться. Что касается второго пункта, то с ним вроде проблем не предвиделось: я играл в команде юниоров, и наш вратарь Том был парень что надо, уж он-то не откажется купить нам пива. А вот с вечеринкой… Было по соседству несколько девятиклассников отмороженного, полууголовного пошиба, которые наверняка соберутся компанией, но нам она точно не годилась, лучше уж сидеть дома. Еще одну компанию, из Хамресаннена, мы хорошо знали, с некоторыми из этих парней мы вместе учились, а с другими играли в футбол, и, хотя нас никто не приглашал, к ней вполне можно было как-нибудь примазаться, но для меня она ценности не представляла. Они жили в Твейте, учились в ремесленной школе, некоторые уже работали, и у тех, кто уже обзавелся машиной, сиденье было обтянуто мехом, а на зеркале болтался «вундербаум». Впрочем, других вариантов не было. На встречу Нового года без приглашения не придешь. С другой стороны, к двенадцати ночи все высыпают на перекресток пускать ракеты и орать «ура». В этом можно поучаствовать и без приглашения. Многие ребята из нашей гимназии собирались, как мне было известно, встречать Новый год в округе Сём. Что, если нам отправиться туда? И тут Ян Видар вспомнил, что барабанщик из нашей группы, которого мы приняли туда за неимением лучшего, восьмиклассник из Хонеса, как-то сказал, что будет встречать Новый год в Сёме.
Два телефонных звонка, и вопрос решился. Пиво нам купит Том, и мы будем проводить вечер с восьмиклассниками и девятиклассниками, посидим у них в подвальной комнате до полуночи, а затем пойдем на перекресток, где собирается народ, найдем кого-нибудь из знакомых по гимназии и примажемся к его компании на остаток вечера. План был хорош. Вернувшись к вечеру домой, я, как бы между прочим, сообщил маме и папе, что меня пригласили на Новый год, ребята из нашего класса собираются в Сёме, можно мне тоже пойти? Дома ждали гостей, должны были приехать папины родители и папин брат Гуннар с семьей, но папа и мама возражать не стали.
– Здорово! – сказала мама.
– Ладно, иди, – сказал папа, – но чтобы к часу был дома.
– Но это же Новый год, – сказал я. – Может, все-таки в два?
– Ладно. Но только чтобы уж в два так в два, а не в полтретьего. Запомнил?
Накануне Нового года мы с утра поехали на велосипедах в Рюенслетту к магазину, где нас уже ждал Том, мы отдали ему деньги и получили взамен два пакета с десятью бутылками пива в каждом. Пакеты Ян Видар спрятал у себя в саду, а я уехал домой. Мама с папой наводили порядок к приходу гостей, уборка была в самом разгаре. На улице поднялся ветер. Я постоял у окна в своей комнате, глядя на клубы метели, на серое небо, словно осевшее на черные деревья леса. Потом поставил пластинку, взял недочитанную книжку и улегся на кровать. Немного спустя ко мне постучалась мама.
– Тебя к телефону. Ян Видар, – сказала она.
Телефон был внизу, в гардеробной. Я спустился, закрыл дверь и взял трубку.
– Ну, что там у тебя? – спросил я.
– Беда, – сказал Ян Видар. – Сволочь Лейф Рейдар…
Лейф Рейдар был его брат двадцати с чем-то лет, он ездил на тюнингованной «опель-асконе» и работал на паркетной фабрике фирмы «Боен». Вся его жизнь была обращена не на юго-запад, в сторону Кристиансанна, как у меня и большинства из нас, а на северо-восток, на Биркеланн и Лиллесанн, из-за чего, наряду с разницей в возрасте, я не мог толком разобраться в нем, что он за человек и что у него на уме. Он носил усы и часто ходил в очках-«авиаторах», но не то чтобы был обычным пижоном – некая корректность в его одежде и манере держаться говорила совсем о другом.
– И что он?
– Он нашел в саду пакеты с пивом. Нет чтобы пройти мимо! Казалось бы, на хрена ему это. Урод. Шкура лицемерная. Наорал на меня, представляешь? Уж кто бы говорил: тебе, мол, еще только шестнадцать, ну и так далее… А потом пристал с ножом к горлу, кто покупал пиво. Я, само собой, не сказал. Какое его собачье дело! А он говорит, если я не скажу, он все отцу доложит. Святоша нашелся! Такой… Да на хрен пришлось, короче, сказать. И знаешь, что он тогда сделал? Что придумал этот мудак?
– Нет, – сказал я.
Порывы ветра вздымали над амбаром снежную пыль. В сгущающихся сумерках тихо, почти таинственно, мерцал льющийся из нижних окон свет. Вдруг в нем что-то мелькнуло. Наверное, это папа, подумал я, и действительно, в следующий миг в окне показалось его лицо, он глядел прямо на меня. Я отвел глаза и отвернулся в сторону.
– Он запихал меня в машину и повез к Тому вместе с пакетами.
– Да ты что?
– Говнюк поганый! И наслаждался, гад. Какой он молодец. Это он-то! Я прямо охренел от такого, твою мать!
– А дальше? – спросил я.
Я бросил взгляд на окно, но лицо уже исчезло.
– А что дальше? Сам понимаешь. Он наорал на Тома. Затем велел мне отдать пиво Тому. Я отдал. А Тому велел, чтобы отдал мне деньги. Точно сопливому малолетке! Как будто он сам такого не делал в свои шестнадцать! Твою же мать! Как же он упивался, какой он молодец, упивался, когда вез меня туда, когда орал на Тома.
– И что теперь делать? Идти без пива? Не годится.
– Нет. Я мигнул Тому, когда мы уходили. Он меня понял. Потом я позвонил ему из дома и извинился. Он сказал – ладно. Мы решили, что он поедет к тебе один. Но подберет меня по дороге, так что я смогу вернуть ему деньги.
– Вы что – едете сюда?
– Да, он будет через десять минут. Так что через пятнадцать минут будем у тебя.
– Дай мне подумать.
Только тут я заметил лежащего на стуле возле телефонного столика кота. Он глянул на меня и принялся вылизывать лапку. За дверью в гостиной заработал пылесос. Кот обернулся на звук. В следующий миг он уже успокоился. Я наклонился и почесал ему шейку.
– Не вздумайте подъезжать к дому, ни в коем случае. А пакеты можно оставить где-нибудь на обочине. Там их все равно никто не найдет.
– Может, под холмом?
– С той стороны, где наш дом?
– Да.
– Под холмом, где стоит наш дом, через пятнадцать минут?
– Да.
– Ладно. И скажи Тому, чтобы он возле нас не разворачивался, и внизу, возле почтовых ящиков, тоже не надо. Немного дальше за нами есть карман. Лучше бы там, хорошо?
– Хорошо. До скорого.
Я положил трубку и зашел к маме в гостиную. Она разбирала пылесос и оглянулась на меня, когда я вошел.
– Я хочу забежать к Перу, – сказал я. – Поздравить его с Новым годом.
– Беги, – сказала мама. – И поздравь от нас его родителей, если их увидишь.
Пер был младше меня на год и жил по соседству, в паре сотен метров ниже по склону. Пока мы тут жили, я чаще всего проводил время с ним. Мы играли в футбол когда только могли: и после школы, и по выходным, и во время каникул, но для серьезной игры важно было собрать побольше народа; если это не удавалось, мы могли часами играть двое на двое, а если не получалось, то мы играли одни – я и Пер. Я бил по его воротам, он – по моим, я подавал мяч ему, он – мне, или играли на пару, как мы это называли. Мы продолжали это изо дня в день, даже после того, как я поступил в гимназию. Еще мы купались либо под водопадом, в глубоком месте, куда можно было прыгать со скалы, либо внизу у порогов, где стремительный поток сбивал нас с ног. В плохую погоду, когда на улице нечего было делать, мы смотрели у него видео в подвальной комнате или просто болтали, забравшись в гараж. Мне нравилось там бывать, семья у них была дружная и сердечная, и, хотя отец Пера меня недолюбливал, меня там все равно принимали. Но хоть я и проводил с Пером большую часть времени, я не считал его за друга и не упоминал о нем в какой-либо другой связи: он был, во-первых, младше меня, уже ничего хорошего, а во-вторых, деревня деревней. Он не интересовался музыкой и не имел о ней никакого понятия, не интересовали его ни девушки, ни выпивка, и он преспокойно проводил выходные дома с родителями. Он мог запросто появиться в школе в резиновых сапогах, ходил в вязаных свитерах и вельветовых брюках, джинсах и майке, из которых давно вырос, с надписью «Кристиансаннский зоопарк». К тому времени, как я сюда переехал, он еще ни разу не съездил в город один. Книг, кажется, вообще не читал, в основном довольствуясь комиксами, которыми, впрочем, я и сам не брезговал наряду с нескончаемой чередой книжек Маклина, Бэгли, Смита, Ле Карре и Фоллета, их я тогда глотал одну за другой и в конце концов приохотил и его. По субботам мы вместе ходили в библиотеку, а каждое второе воскресенье – на домашние матчи «Старта», два раза в неделю – на футбольные тренировки, в летнее время мы раз в неделю устраивали матчи и каждый день вместе шли к школьному автобусу. Приехав из школы, вместе возвращались домой. Но в автобусе никогда не садились рядом: по мере приближения к школе и всему тому, что она подразумевает, дружба с Пером сходила на нет, так что на школьном дворе мы не общались вовсе. Самое удивительное, что он как будто не обращал на это внимания. Пер всегда был весел, всегда открыт; с чувством юмора и сердечный, как и вся его семья. После Рождества я пару раз ходил к нему, мы смотрели видео и катались на лыжах на склонах позади нашего дома. Позвать его встречать Новый год мне и в голову не приходило, это было за пределами возможного. Ян Видар не относился к Перу никак. Разумеется, они знали друг друга, как и все, кто тут жил, но они никогда не проводили время вдвоем и не видели в этом никакого смысла. Когда я переехал сюда, Ян Видар дружил с Хьетилем, его ровесником из Хьевика, они были закадычные друзья и все время ходили друг к другу в гости. Отец Хьетиля был военным, и, как я понимаю, им все время приходилось переезжать с места на место. Когда Ян Видар подружился со мной, в основном на почве общих музыкальных интересов, Хьетиль пытался переманить его обратно, все время названивал ему по телефону и звал к себе, а когда мы сталкивались в школе втроем, отпускал принятые в их компании и непонятные для меня шуточки. Увидев, что ничего не помогает, он понизил планку и позвал к себе нас обоих. Мы покатались на велосипеде по аэродрому, посидели в аэропортовском кафе, поехали в Хамресаннен и позвонили одной из девочек, Рите, к которой они с Яном Видаром оба были неравнодушны. У Хьетиля была с собой шоколадка, и, когда мы поднялись на холм, он поделился ею с Яном Видаром, а мне не предложил, но и это ничего не изменило, потому что Ян Видар как ни в чем не бывало разломил свою половину пополам и протянул кусочек мне. Тогда Хьетиль отстал от него и стал искать других друзей, но, пока мы учились в средней школе, он так ни с кем и не сдружился настолько же тесно, как с Яном Видаром. Хьетиль был из тех, кто всем нравится, особенно девушкам, но дружить с ним по-настоящему никого не тянуло. Рита, вообще-то бесцеремонная и жесткая, питала к нему некоторую слабость, они все время смеялись и разговаривали особенным тоном, но дальше дружбы дело не шло. Для меня Рита всегда приберегала самую едкую иронию, так что в ее присутствии я постоянно был настороже. Она была маленькая и тощенькая, с узким личиком, маленьким ротиком, но черты у нее были правильные, а в глазах, часто насмешливых, горел такой огонь, что казалось, они светятся. Рита была красива, но красавицей ее не считали, а вела она себя настолько резко, что такое признание ей вряд ли грозило и в будущем.
Однажды вечером она мне позвонила:
– Привет, Карл Уве. Это Рита.
– Рита? – удивился я.
– Да, придурок. Рита-Лолита.
– Ааа.
– У меня к тебе вопрос, – сказала Рита.
– Да?
– Хочешь со мной встречаться?
– Что?
– Еще раз: хочешь со мной встречаться? Это простой вопрос. Да или нет?
– Я… я не знаю, – сказал я.
– Да ладно! Не хочешь, так и скажи.
– Ну, я не думаю…
– Ну и все. До завтра, пока. Увидимся в школе. Всего хорошего.
И она повесила трубку. На следующий день она вела себя как обычно, и я тоже вел себя как обычно, разве что она чуть больше обычного старалась меня задеть при любой возможности. Она никогда этого не упоминала, я тоже не упоминал даже в разговорах с Яном Видаром и Хьетилем – не хотелось перед ними хвастаться.
Я сказал маме «пока», она снова включила пылесос, и я, одевшись в прихожей, вышел из дома и, согнувшись, зашагал против ветра. Папа открыл одну гаражную дверь и сейчас выводил на улицу снегоочиститель. Гравий в гараже был сухой и совершенно бесснежный, отчего мне всегда делалось немного не по себе, ведь гравий – нечто, принадлежащее миру снаружи, а снаружи все покрыл снег, создав некий диссонанс между тем, что внутри, и тем, что снаружи. Когда ворота были закрыты, я об этом не задумывался, такая мысль просто не приходила мне в голову, но сейчас я увидел…
– Я только на минутку к Перу, – крикнул я папе.
Папа, сражавшийся со снегоочистителем, обернулся и кивнул. Я уже пожалел, что предложил встретиться внизу склона – наверное, это чересчур близко, а у папы было какое-то шестое чувство на любые отклонения от привычного. Впрочем, он отвлекся и не обращал на меня внимания. Дойдя до почтовых ящиков, я услышал, как наверху заработал снегоочиститель. Я обернулся, проверяя, видно ли ему меня оттуда. Убедившись, что нет, я стал спускаться по дороге, стараясь держаться у обочины под склоном, чтобы нечаянно не попасться ему на глаза. Спустившись, я стал ждать, повернувшись лицом к реке. На том берегу проехали одна за другой три машины. Свет фар чиркал желтым по сплошному серому полотну окружающего пространства. Снег в открытом поле сливался по цвету с небом, которое угасало, заволакиваемое надвигающейся темнотой. В черной полынье поблескивала вода. Тут я услышал внизу, в нескольких сотнях метров от меня, шум притормаживающей на повороте машины. Судя по тарахтению мотора, машина была старая. Точно, это Том. Я стал смотреть на дорогу, откуда должна была появиться машина, и уже поднял руку, чтобы помахать, когда она вывернула из-за поворота. Автомобиль тормознул и остановился рядом со мной. Том опустил стекло.
– Ну здорово, Карл Уве, – сказал он.
– Здорово, – сказал я.
Том улыбался.
– Наорали на тебя? – спросил я.
– Старый мудак, – произнес Ян Видар, сидевший рядом с Томом.
– Ничего страшного, – сказал Том.
– Так вы сегодня на вечеринку?
– Да. А ты?
– А как же! Гульну чуток.
– Ну, а как ты вообще?
– Да помаленьку.
Он добродушно посмотрел на меня и улыбнулся:
– Ваше добро там в багажнике.
– Он не заперт?
– Не заперт, не заперт.
Я обошел машину, открыл багажник и выудил из кучи инструментов, ящиков для инструментов, багажных тросов с крючками два бело-красных пакета.
– Ну вот, забрал, – сказал я. – Спасибо тебе, Том. Никогда не забудем, как ты нас выручил.
Том хмыкнул.
– До встречи, – сказал я Яну Видару.
Он кивнул. Том поднял стекло, шутливо откозырял, как обычно, включил передачу и поехал по дороге наверх. Я перескочил через кювет, зашел в лес и, пройдя метров двадцать вверх вдоль занесенного снегом русла ручья, положил бутылки под хорошо заметной березой, когда снизу снова донесся шум проезжающей машины.
Постояв некоторое время на опушке, чтобы не вернуться домой подозрительно быстро, я поднялся по склону холма к папе, который как раз расчищал подъезд к дому. Без шапки и рукавиц, он шел за снегоочистителем в короткой старой дубленке, небрежно замотав шею толстым шарфом. Снежный фонтан из машины, не подхваченный ветром, каскадом падал на землю в нескольких метрах от дороги. Проходя мимо, я кивнул отцу, его взгляд мельком задержался на мне, но на лице его не отразилось никаких чувств. Раздевшись в прихожей, я зашел на кухню, там сидела с сигаретой мама. На подоконнике мигала свеча. Часы на плите показывали половину четвертого.
– Все в порядке? – спросил я.
– Ага, – кивнула она. – Все готово, будет уютно. Хочешь поесть перед уходом?
– Я сделаю себе пару бутербродов.
На разделочном столе лежал здоровенный белый пакет с лютефиском, в мойке – куча темной немытой картошки. Горела лампочка кофеварки. Колба была наполовину полна кофе.
– Я, пожалуй, еще немного подожду, – сказал я. – Мне выходить не раньше семи. А когда все приедут?
– Бабушку с дедушкой папа сам привезет, думаю, он уже скоро поедет за ними. Гуннар будет к семи.
– Значит, я успею с ними повидаться, – сказал я и пошел в гостиную, встал у окна, посмотрел на долину, затем направился к журнальному столику, взял апельсин, очистил. Елка светилась огнями, в камине горел огонь, на накрытом столе в другом конце комнаты искрились под люстрой хрустальные бокалы. Я подумал про Ингве, как он проворачивал такие вещи, когда учился в гимназии. Теперь-то у него нет с этим проблем; сейчас он в Ауст-Агдере, в гостинице «Виндилхютта» вместе с друзьями. К нам он заехал на Рождество поздно вечером и уехал как можно раньше – уже на третий день рождественских праздников. Здесь он никогда не жил. Осенью после нашего переезда сюда он должен был пойти в третий класс гимназии, но не захотел менять школу, а остался там, где учились его друзья. Папу это привело в бешенство. Но Ингве твердо стоял на своем, он не стал переезжать, взял кредит на учебу, так как папа сказал, что не даст ему ни кроны, и снял жилье неподалеку от нашего старого дома. Он изредка приезжал к нам в выходные, но папа с ним почти не разговаривал. Отношения между ними стали ледяными. Через год Ингве пошел в армию, и я помню, как он приехал однажды на выходные со своей девушкой, Алфхиль. Раньше он себе такого не позволял. Папа, разумеется, держался подальше, так что мы проводили время вчетвером – Ингве, мама, Алфхиль и я. Только под конец выходных, когда Ингве с Алфхиль уже направились к автобусной остановке, вдруг подъехал папа. Он остановился на дороге, опустил стекло и, улыбаясь, поздоровался с Алфхиль. Таких глаз, какими он посмотрел на нее, я у него раньше не видел. Они сверкали радостным огнем! Ни на кого из нас он так никогда не смотрел, это уж точно. Затем он отвел взгляд, переключил передачу и скрылся за холмом, а мы продолжили спускаться к автобусу.
Неужели это наш отец?
Вся мамина приветливость и заботливость, которую она проявляла к Алфхиль, меркла рядом с четырьмя секундами папиного взгляда. Так же бывало, и когда Ингве приезжал один. Папа, как правило, почти не показывался, предпочитая сидеть у себя в амбаре, и приходил, только когда все садились за стол. Он не задавал Ингве никаких вопросов, а если и удостаивал его внимания, то лишь в самом минимальном количестве, но в памяти потом оставалось именно это, вопреки всем маминым попыткам сделать так, чтобы Ингве было хорошо и спокойно. Настроение в доме создавал папа, и в этом никто не мог с ним тягаться. Снегоочиститель на улице вдруг умолк. Я встал с дивана, сгреб кожуру от апельсина и пошел на кухню. Мама чистила картошку, я открыл шкафчик под мойкой и положил апельсиновую кожуру в мусорное ведро. Посмотрев в окно, как папа идет к подъезду, характерным жестом ероша пятерней волосы, я поднялся по лестнице в свою комнату, закрыл за собой дверь, поставил пластинку и снова лег на кровать.
Мы долго обсуждали, как нам обставить поездку в Сём. Было ясно, что и отец Яна Видара, и моя мама непременно предложат подбросить нас до места, и так и вышло, как только мы рассказали им о наших планах. Но с двумя пакетами пивных бутылок это было совершенно исключено. Мы решили, что Ян Видар скажет своим, будто нас обещала отвезти моя мама, а я у себя дома скажу, что нас отвезет отец Яна Видара. Это заключало в себе некоторый риск, если наши родители нечаянно встретятся, однако вероятность того, что у них зайдет речь о том, кто кого повезет, была так мала, что мы решились рискнуть. Оставалось придумать, как мы будем добираться на самом деле. Под Новый год автобусы от нас туда не ходили, но мы выяснили, что есть другой маршрут, с остановкой на перекрестке у Тименеса, в миле от нас. Значит, придется ловить попутку: если повезет, можно доехать до самого Сёма, если нет, то успеть на перекресток к автобусу. Чтобы избежать ненужных расспросов и не вызвать подозрений, выходить было лучше после того, как соберутся гости. То есть часов в семь. Автобус прибывал в восемь десять, так что при некотором везении все должно было получиться.
Задача напиться требовала тщательного планирования. Нужно было надежным способом раздобыть выпивку, надежно ее спрятать, найти транспорт туда и обратно плюс не попасться на глаза родителям по возвращении. Поэтому с того первого удачного случая в Осло я напивался всего два раза. Причем во второй что-то пошло не так. Лив, сестра Яна Видара, недавно обручилась со Стигом, военным, с которым познакомилась в Хьевике, где служил их с Яном Видаром отец. Она хотела поскорее выйти замуж, родить детей и стать домохозяйкой – довольно необычное желание для девушки ее возраста, ведь она была старше нас всего на год, но жила, можно сказать, в совершенно другом мире. Однажды в субботу они позвали нас на вечеринку к своим друзьям. Поскольку других планов на этот вечер у нас не было, мы приняли приглашение и несколько дней спустя уже сидели на диване в чьем-то доме, попивали домашнего приготовления винцо и смотрели телевизор. Вечеринка предполагалась как уютные домашние посиделки, на столе горели свечи, стояла лазанья, и все, наверное, вышло бы так, как задумано, если бы не вино, которого оказалось немерено. Я пил, ощущая ту же невероятную радость, как в первый раз, но затем наступил провал, так что я не помнил ничего, что случилось после пятого бокала вина и до той минуты, когда я очнулся на полу в темном подвале, одетый в тренировочные штаны и университетское худи, которого я раньше никогда не видел, на матрасе, накрытом полотенцами, а рядом лежал сверток с моей насквозь заблеванной одеждой. У стены стояла стиральная машина, рядом с ней – корзина с грязным бельем, у другой стены – морозильник, поверх которого были навалены непромокаемые брюки и куртки. Еще там был штабель краболовок, сачок, удочка и стеллаж с инструментами и всяческим хламом. Всю обстановку, такую незнакомую мне, я охватил одним взглядом, так как проснулся хорошо отдохнувшим и с совершенно ясной головой. Дверь за моей головой была закрыта не до конца, я открыл ее и вошел в кухню, где сидели, сплетя пальцы и лучась от счастья, Стиг и Лив.
– Привет! – сказал я.
– Никак это Гарфилд явился? – отозвался Стиг. – Ну, как ты себя чувствуешь?
– Отлично, – сказал я. – А что случилось?
– А ты не помнишь?
Я помотал головой.
Он захохотал. В ту же минуту вошел Ян Видар из гостиной. – Ну как? Порядок? – сказал он.
– Порядок, – ответил я.
Он улыбнулся.
– Вот и хорошо, Гарфилд, – произнес он.
– А что это вы все: Гарфилд да Гарфилд? – спросил я.
– А ты не помнишь?
– Нет. Ничего не помню. Как я понимаю, меня вырвало.
– Мы смотрели телик. Фильм «Гарфилд». И тут ты вдруг встал, стукнул себя в грудь кулаком и заорал: «I’m Garfield». Затем сел и захохотал. Потом еще раз: «I’m Garfield! I’m Garfield!» А потом стал блевать. В гостиной. Прямо на ковер. А затем – надо же! – раз и заснул. Бух в самую лужу. И на прием не работаешь.
– Вот черт! – сказал я. – Прошу прощения!
– Ничего, – сказал Стиг. – Это поправимо. Ковер можно отмыть. А теперь главное – доставить вас по домам.
Только тут меня охватил страх.
– Который час? – спросил я.
– Почти час.
– Только час? Тогда хорошо. Я должен был вернуться в час.
Так что опоздаю всего на несколько минут.
Стиг вина не пил, и мы пошли за ним к машине. Ян Видар сел спереди, я – сзади.
– Неужели ты совсем ничего не помнишь? – спросил он, когда мы тронулись и стали подниматься в гору.
– Ни черта не помню.
Я был горд собой. Вся история – то, что я говорил и что делал, – наполняла меня гордостью. Я в ней выглядел почти таким, как мне хотелось. Но когда Стиг высадил меня у почтовых ящиков и я поплелся по темной дороге в чужой одежде, неся свою собственную в пластиковом пакете, я чувствовал только страх.
Только бы они уже легли! Только бы уже легли!
И судя по всему, так оно и было. Свет на кухне не горел, а они всегда гасили его перед тем, как укладываться. Но, открыв дверь и крадучись пройдя в прихожую, я услышал их голоса. Они сидели наверху на диване перед телевизором и разговаривали. Раньше такого не бывало.
Ждут меня? Чтобы проверить? С отца станется потребовать, чтобы я дыхнул. Так делали его родители. Теперь они над этим шутят, но тогда-то это были не шутки. Проскользнуть незаметно не было ни малейшей возможности, лестница находилась совсем рядом с гостиной. Так что остается только вперед и будь что будет.
– Привет! – сказал я. – Вы еще не легли?
– Привет, Карл Уве, – сказала мама.
Я медленно поднялся по лестнице и, очутившись в поле их зрения, остановился.
Они оба сидели на диване, папа – в углу, положив руку на подлокотник.
– Ну как – хорошо провел время? – спросила мама.
Неужели она не видит? Я не верил своим ушам.
– Нормально, – сказал я, начав снова подниматься по лестнице. – Смотрели телик и ели лазанью.
– Отлично, – сказала мама.
– Но я ужасно устал, – сказал я. – Пожалуй, я пойду лягу.
– Конечно, ложись, – сказала мама. – Мы тоже скоро ложимся.
Я был в каких-то четырех метрах от них, одетый в чужие тренировочные штаны, в чужое худи, в руке пластиковый мешок с заблеванными, вонючими вещами. Но родители действительно словно бы ничего этого не видели.
– Ну, спокойной ночи, – сказал я.
– Спокойной ночи, – сказали они.
И вот уже все позади. Как так получилось, я и сам не понял, оставалось только принять это как данность и благодарить судьбу. Мешок с вещами я спрятал в шкафу и затем, оставшись дома один, выполоскал их в ванне, высушил и бросил, как обычно, в корзину с грязным бельем.
Никто не сказал ни слова.
Пить мне нравилось, от этого жизнь делалась ярче. И у меня появлялось ощущение… Ну, не бесконечности, но чего-то такого, неиссякаемого, что ли, какой-то пучины, куда я могу погружаться все глубже и глубже. Ощущение очень ясное и отчетливое.
Неограниченность, вот. Я ощущал себя вне ограничений!
Так что я находился в радостном предвкушении. Но хотя в последний раз все и обошлось, я с тех пор установил для себя несколько правил. Надо брать с собой зубную щетку и пасту, еще я купил эвкалиптовых и мятных таблеток и запас жевательной резинки. А еще надо захватить запасную рубашку.
Снизу, из гостиной, доносился папин голос. Я сел, вытянул руки над головой, завел до упора назад, сперва одну, потом другую. Кости у меня все время ныли, с самого начала осени. Я рос. На групповом снимке нашего класса, сделанном весной, я еще был мальчиком среднего роста. А сейчас как-то вдруг вытянулся и стал под метр девяносто. Больше всего я боялся, что дело на этом не остановится и я буду и дальше расти и расти. У нас в гимназии был один ученик, на класс старше, ростом почти два десять и худой как жердь. Страх, что я стану как он, нападал на меня несколько раз на дню. Иногда я даже молился Богу, в которого не верил, чтобы этого не случилось. Я не верил в Бога, но раньше, в детстве, молился ему, и теперь когда я принимался молиться, то ко мне возвращалось что-то вроде детской надежды. «Господи Боже мой, молился я, пожалуйста, сделай так, чтобы я перестал расти. Пускай я буду ростом метр девяносто, метр девяносто один или девяносто два, но не больше! Обещаю тебе, что постараюсь быть очень хорошим, если ты так сделаешь. Господи Боже, Господи Боже мой, ты слышишь меня?»
Понимая, что это глупость, я продолжал молиться, потому что от страха-то не отмахнешься, как от глупости, страх был мучительный. Другой страх, еще ужаснее, стал одолевать меня, когда я вдруг обнаружил, что мой член, когда встает, торчит чуть вбок. Значит, я – урод, он у меня кривой. По своему невежеству я не знал, можно ли это как-то исправить – сделать операцию или что там еще предлагает медицина. Я вставал по ночам, шел в ванную и заставлял его подниматься, чтобы проверить – вдруг что-нибудь изменилось. Какое там! Все оставалось по-прежнему. Он загибался, гад, почти к самому животу! И кажется, крючковатый? Кривой и крючковатый, как торчащий корень в лесу! Значит, я никогда не смогу ни с кем быть в постели. А поскольку именно это было тогда единственным, чего я хотел и о чем мечтал, меня охватывало отчаяние. Конечно же, я додумался, что могу его распрямить. И я стал стараться, я разгибал его изо всех сил до боли. Он выпрямлялся, но болел. И не будешь ведь, лежа с девушкой в постели, все время давить рукой на свой член? Так что же мне на хрен делать? Да и можно ли вообще что-то поделать? Эта мысль точила меня. Всякий раз, как он вставал, отчаяние охватывало меня с новой силой. Сидел ли я на диване, обнимаясь с девчонкой, а то и запустив руку под ее свитер, а член в штанине торчал как вертел, я понимал, что это максимум, что мне дано, и дальше мне не пойти никогда. Это было хуже, чем импотенция, так как делало меня не только бессильным, но и нелепым. Но можно ли и об этом молить Бога – о том, чтобы это прекратилось? И в конце концов я решился помолиться и об этом. «Господи Боже, просил я, сделай так, чтобы мой член, наполнившись кровью, выпрямлялся. Я прошу тебя об этом один-единственный раз. Так что, пожалуйста, выполни мою просьбу». Когда я поступил в гимназию, всех учеников первого класса, не помню уж по какому поводу, однажды собрали на трибунах зимнего стадиона «Гимле». И вот один из учителей, известный в Кристиансанне нудист, который, как говорили, красил однажды летом свой дом в одном галстуке, а в повседневной жизни отличался неряшливым, провинциально-богемным видом и светлой кудрявой всклокоченной шевелюрой, тогда выступил перед нами и прочитал нам стихотворение, он декламировал, вышагивая вдоль трибун, и вдруг под всеобщий хохот провозгласил хвалу торчащему вбок члену.
Я не смеялся. У меня, кажется, отвисла челюсть. Я так и застыл с разинутым ртом и остановившимся взглядом, пока в голове у меня медленно укладывалась мысль, что стоящий член – кривой у всех. А если не у всех, то у многих, то есть достаточно часто, чтобы воспеть это в стихах.
Откуда взялось все это нелепое? Всего лишь два года назад, когда мы переехали сюда, я был тринадцатилетним мальчишкой с гладкой кожей, не умевшим произносить «р», но которому вполне хватало купания и игры в футбол на новом месте, где пока что никто ничего против меня не имел. Наоборот, в школе в первые дни все стремились со мной поговорить, новички были тут редкостью, всем, конечно, было интересно узнать, кто я такой и что умею. По вечерам и выходным случалось, что посмотреть на меня приезжали на велосипедах девочки даже из Хамресаннена. Бывало, я играю в футбол с Пером, Трюгве, Томом и Вильямом, и вдруг на дороге показываются две девчонки на велосипедах. Что им тут надо? Наш дом стоял с краю поселка, за ним уже начинался лес, потом две фермы, за ними снова лес, лес и лес. Девчонки соскочили с велосипедов, посмотрели в нашу сторону и скрылись за деревьями. Потом глядим, снова едут в нашу сторону, останавливаются, смотрят.
– Чего это они приехали? – спросил Трюгве.
– Поглядеть на Карла Уве, – сказал Пер.
– Смеешься, – сказал Трюгве. – Ехать ради этого из самого Хамресаннена! Это же целая миля!
– А иначе зачем бы им приезжать? Уж точно не для того, чтобы посмотреть на тебя, Трюгве. Ты-то всегда тут жил.
Мы стояли и смотрели, как они продираются сквозь кусты. На одной была розовая куртка, на другой голубая. У обеих – распущенные волосы.
– Да ладно, – сказал Трюгве. – Пошли играть!
И мы снова продолжили игру на речном мысу, где отец Тома смастерил двое ворот. Дойдя до зарослей камыша, примерно в ста метрах от нас, девочки остановились. Я знал обеих, ничего особенного, так что я не стал обращать на них внимание, а они, постояв минут десять в камышах, словно странные птицы, вернулись на дорогу и уехали домой. В другой раз, через пару недель, явились три девчонки, когда мы работали в складском помещении паркетной фабрики. Мы укладывали дощечки на поддоны, перемежая слои рейками; работа была сдельная, и, когда я научился бросать на поддон целую охапку паркетин так, что они сами ложились одна к другой, работа стала приносить какие-то деньги. Мы могли приходить и уходить в любое время, зачастую мы заскакивали на склад по дороге из школы и, собрав штабель, отправлялись домой обедать, после обеда возвращались и работали до вечера. Нам до того хотелось денег, что мы готовы были вкалывать каждый вечер и все выходные, но часто случалось, что работы не было, либо потому, что мы и так уже забили весь склад, либо потому, что рабочие фабрики сами сложили весь паркет. Отец Пера работал в фабричной администрации, так что чаще всего от него или от Вильяма, чей отец работал на фабрике шофером, к нам приходила счастливая весть: появилась работа. В один из таких вечеров к нам на склад и явились три девчонки. Они тоже были из Хамресаннена. На этот раз я был подготовлен: прошел слух, что одна девочка из седьмого класса проявляет ко мне интерес, и вот она явилась; гораздо более смелая, чем те две, которые, как болотные птицы, топтались в камышах, эта – ее звали Лина – сразу подошла ко мне и встала, облокотившись на ограждение штабеля с самоуверенным видом, жуя жвачку и глядя, чем я занимаюсь, в то время как ее подружки держались в сторонке. Узнав, что она мной интересуется, я решил, что надо не зевать; потому что, хотя она училась еще только в седьмом классе, ее сестра была фотомоделью, так что если Лина и не станет моделью, то все равно будет хороша собой. Все так про нее и говорили, что со временем она будет хороша собой, что у нее к тому все данные. Она была худая и длинноногая, с длинными темными волосами, бледным лицом с высокими скулами и непропорционально крупным ртом. Правда, ее долговязость и разболтанные движения, придававшие ей сходство с теленком, вызывали у меня некоторый скепсис. Хотя бедра у нее были что надо. Рот и глаза тоже. Другим ее недостатком было то, что она не выговаривала «р» и казалась глуповатой или рассеянной. Это замечали все. В то же время в классе она пользовалась популярностью, другие девочки наперебой хотели с ней дружить.
– Приветик, – сказала она. – Я пришла к тебе. Ты рад?
– Вижу, – сказал я и отвернулся в сторону, набрал охапку паркетин, кинул их на поддон, где они легли одна к одной, подравнял, чтобы ничего не торчало, и набрал новую охапку.
– Сколько вам платят за час? – спросила она.
– Работа сдельная, – сказал я. – Мы получаем двадцать крон за двойной штабель, сорок за четверной.
– Понятно, – сказала она.
Пер и Трюгве из параллельного с ней класса, не раз выражавшие свое неодобрительное отношение к Лине и ее компании, работали в нескольких метрах от меня. Меня вдруг поразила мысль, что они похожи на гномов. Приземистые, ссутулившиеся, сосредоточенные, они упорно трудились среди громадного помещения, до потолка забитого поддонами, не поднимая головы.
– Я тебе нравлюсь? – спросила она.
– Как тебе сказать, – ответил я. Увидев, как она входит в складское помещение, я решил принимать предложение, но сейчас, когда она стояла передо мной и дело, казалось бы, было на мази, я не смог сделать последний, решающий шаг. Каким-то непостижимым, но отчетливо ощутимым образом я понял, что она гораздо опытней меня. Да, пускай она глуповата, но зато опытна. И вот опытность-то меня и отпугивала.
– Ты мне нравишься, – сказала она. – Но об этом ты, наверное, уже слышал.
Я наклонился и стал поправлять паркетины, отчего-то вдруг покраснев.
– Нет, – сказал я.
Некоторое время она молчала, все так же опираясь на ограждение и жуя жвачку. Подружкам возле другого штабеля, кажется, надоело ждать. Наконец она выпрямилась.
– Нет так нет, – сказала она, повернулась и пошла прочь.
Не то беда, что я упустил шанс, а то, каким образом это произошло: я не смог сделать последний шаг, перейти последний мост. А едва интерес ко мне как к новичку остыл, даром мне уже ничего не перепадало. Наоборот, сложившаяся репутация нагоняла меня и тут. Я догадывался, что она уже близко, слышал ее отзвуки, шаги, хотя, казалось бы, места, где я жил раньше и где находился теперь, никак не были связаны. В новой школе я с первого дня положил глаз на одну девочку, по имени Ингер, у нее были красивые узкие глаза, смуглая кожа, детский вздернутый носик, составлявший контраст с другими чертами лица, их плавными и удлиненными линиями, и неприступный вид, когда она не улыбалась. Ее улыбка, открытая и добрая, восхищала меня и казалась бесконечно привлекательной, как тем, что не была адресована ни мне, ни мне подобным, а принадлежала ее собственной сущности, доступной только ей и ее друзьям, так и тем, что верхняя ее губа при этом едва заметно кривилась. Ингер была на один класс младше меня, и на протяжении двух лет, что я ходил в эту школу, я ни разу не перемолвился с ней ни единым словом. Вместо нее я сошелся с ее двоюродной сестрой Сусанной. Сусанна училась в параллельном классе и жила в доме на другом берегу реки. У нее был остренький носик, маленький рот с длинными передними, как у зайца, зубами, зато грудь была полная и прекрасной формы, бедра – что надо, а глаза смотрели с вызовом, будто всегда знали, чего хотят. Часто это было желание померяться с другими. Если Ингер, с ее неприступностью, казалась исполненной загадочности и тайны, а ее притягательность заключалась в чем-то, чего я не знал и о чем мог только догадываться или мечтать, то Сусанна скорее была мне ровней и внутренне более напоминала меня. С нею мне особенно нечего было терять, нечего страшиться, но зато и ждать ничего особенного не приходилось. Мне исполнилось четырнадцать лет, ей пятнадцать, и за несколько дней мы с ней незаметно сблизились, как это бывает в таком возрасте. Вскоре Ян Видар подружился с ее подругой Маргретой. Наши отношения развивались на зыбкой грани двух разных миров – детства и юности. По утрам мы усаживались рядом в автобусе, сидели вместе на пятничных общих собраниях в школе, каждую неделю вместе ездили на велосипедах в церковь на подготовку к конфирмации, а потом стояли где-нибудь на перекрестке или на парковке перед магазином, где самая обстановка сглаживала различия между нами и где наши отношения с Сусанной и Маргретой становились просто товарищескими. Другое дело – в выходные дни, когда можно было съездить в город в кино или посидеть у кого-нибудь в полуподвальной гостиной, уплетать пиццу и пить колу, обнимаясь перед телевизором или под включенный проигрыватель. Здесь то, о чем все думали, стало уже заметно ближе. То, что еще месяц назад казалось чем-то недосягаемым – поцелуй, о подступах к которому мы рассуждали с Яном Видаром, придумывая, с какой стороны лучше сесть и что сказать, чтобы запустить процесс, ведущий к этому результату, или лучше прямо целоваться без лишних слов, – давно было достигнуто и уже вошло в привычку; поев пиццы или лазаньи, девочки садились к нам на колени, и мы начинали обжиматься. Иногда мы даже устраивались на диване – одна парочка в одном углу, другая – в другом, если была уверенность, что никто не придет. Однажды вечером в пятницу Сусанна осталась в доме одна. После обеда Ян Видар приехал ко мне на велосипеде, и мы пешком отправились вдоль реки и по узкому пешеходному мостику перешли на другую сторону к дому, где она жила и где сейчас они ожидали нас. Ее родители приготовили пиццу, мы ее съели, Сусанна села ко мне на колени, Маргрета на колени к Яну Видару, на стереоустановке стояла «Telegraph Road» группы Dire Straits, я обнимался с Сусанной, Ян Видар – с Маргретой, и так продолжалось словно уже целую вечность. «Я люблю тебя, Карл Уве, – прошептала она мне на ухо. – Хочешь, пойдем в мою комнату?»
Я кивнул, и мы встали, держась за руки.
– Мы уходим ко мне в комнату, – сказала она остающимся. – Без нас и вам тут будет спокойнее.
Они взглянули на нас и кивнули. Затем продолжили обжиматься. Длинные черные волосы Маргреты рассыпались, почти закрыв все лицо Яна Видара. Языки вращались друг у друга во рту. Он сидел замерев и только поглаживал ее по спине, то вверх, то вниз. Сусанна улыбнулась мне, крепче сжала мою руку и провела через длинный коридор в свою комнату. Там было темнее и прохладнее. Я уже бывал здесь, и мне нравилось тут бывать, хотя это всегда случалось, когда ее родители были дома, и мы с ней в принципе не делали ничего такого, что отличалось бы от наших посиделок с Яном Видаром у него дома, то есть сидели, разговаривали, переходили иногда в гостиную и смотрели телевизор вместе с ее родителями, ходили на кухню подкрепиться бутербродами, уходили на реку и долго гуляли на берегу, но, как-никак, это была не темная, пропахшая потом комната Яна Видара с его усилителем и стереоустановкой, с его гитарой и его пластинками, его журналами для любителей гитары и его комиксами, тут мы были в чистенькой, пахнущей духами комнате Сусанны с белыми обоями в цветочек, с кроватью под вышитым покрывалом, с белыми полками, на которых стояли книги и лежали ее украшения, с ее белым шкафом, в котором аккуратными стопками лежала на полках и висела на плечиках одежда. При виде ее синих джинсов, брошенных на спинку стула, я глотал вставший в горле комок, потому что их она потом будет надевать, натягивая на бедра, застегивать на молнию и пуговицы. Вся комната Сусанны была полна таких обещаний, которых я даже не формулировал мысленно, однако они будоражили меня, поднимая волны эмоций. Имелись и другие причины, почему мне там нравилось. Ее родители всегда были приветливы, и по их тону я угадывал, что они считаются со мной. Я что-то значил в жизни Сусанны, она упоминала обо мне в разговорах с родителями и с младшей сестрой.
Она подошла к окну и закрыла его. За окном стоял туман, сквозь серую пелену почти не видно было огней соседних домов. По дороге внизу проехало несколько машин, грохоча музыкой из динамиков. И снова все стихло.
– Ну вот, – сказал я.
Она улыбнулась.
– Ну вот.
Сказала и села на кровать. Я ничего особенного не ожидал, разве что мы оба ляжем, вместо того чтобы я сидел, держа ее на коленях. Как-то я запустил руку под ее стеганую куртку и накрыл ладонью грудь, но Сусанна сказала «нет», и я убрал руку. В этом «нет» не прозвучало одергивания или укора, скорее констатация, напоминание о некоем законе, которому мы подчиняемся. Мы тискались, и хотя я всегда был готов этим заниматься, но вскоре наступало пресыщение. Через некоторое время возникало какое-то тошнотворное состояние, было в этих ласках что-то слепое и безвыходное, все во мне стремилось обрести этот выход, я чувствовал, он есть, но для меня он закрыт. Я хотел идти дальше, но приходилось останавливаться в долине вращающихся языков и падающих мне на лицо волос.
Я сел с ней рядом. Она улыбнулась мне. Я поцеловал ее, она закрыла глаза и легла на кровать. Я взобрался на нее, чувствуя под собой ее податливое тело. Она застонала. Может быть, я слишком давлю на нее? Я лег рядом, закинув ногу на ее ноги. Провел ладонью по ее руке от плеча до кисти. Когда коснулся ее пальцев, она крепко стиснула мою руку. Я поднял голову и открыл глаза. Она смотрела на меня. Лицо ее, белевшее в полумраке, было серьезно. Я наклонился и поцеловал ее в шею. Этого я еще никогда не делал. Лег головой ей на грудь. Она стала ерошить мне волосы. Я услышал, как бьется ее сердце. Я погладил ее бедра. Она задвигалась. Я приподнял ее свитер и положил ладонь ей на живот. Наклонился и поцеловал его. Она взяла край свитера и медленно подтянула его выше. Я не верил своим глазам. Прямо передо мной были ее обнаженные груди. В гостиной внизу снова поставили пластинку «Telegraph road». Не медля ни секунды, я впился в них губами. Сначала в одну, потом в другую. Я терся об них щеками, лизал их, сосал, затем обхватил их ладонями и, опомнившись, снова стал ее целовать, потому что на несколько секунд совершенно от этого отвлекся. О большем я не осмеливался ни думать, ни мечтать, и вот оно тут наяву, но уже через десять минут возникло знакомое пресыщение и того, что есть, вдруг сделалось мало, мне хотелось дальше, куда бы это меня ни завело, и я сделал такую попытку, нащупал молнию на ее джинсах. Молния расстегнулась, Сусанна ничего не говорила, она по-прежнему лежала с закрытыми глазами. Под джинсами виднелись белые трусики. Я с трудом сглотнул. Взявшись с двух сторон за джинсы, я стал их стягивать. Она ничего не говорила. Только шевельнулась, помогая мне. Спустив их до колен, я положил ладонь поверх трусиков. Ощутил под ними мягкие волосы. «Карл Уве», – сказала она. Я снова лег на нее. Мы стали целоваться и, целуясь, я потянул трусики вниз. Совсем немного, только чтобы просунуть палец, он скользнул по волосам, и в тот миг, как я коснулся влажного и гладкого, во мне точно что-то взорвалось. Живот пронзило болью, а потом пах свело точно судорогой. В следующий миг все вокруг стало как чужое, ее обнаженные груди и обнаженные бедра вдруг потеряли всякое значение. Но, взглянув на нее, я понял, что она не ощущает того же, что я. Она лежала, как раньше, с закрытыми глазами, приоткрыв губы, и тяжело дышала, с ней происходило то самое, что только что пережил я, но у меня это было уже позади.
– Что ты? – спросила она.
– Ничего, – сказал я. – Но, может быть, лучше вернуться к нашим?
– Нет, – сказала она. – Давай немножко подождем.
– Хорошо, – сказал я.
Мы остались и продолжали обниматься, но во мне это не вызывало никаких чувств, с таким же успехом я мог бы резать хлеб. Я целовал ее груди, и во мне это не пробуждало никакой реакции, все стало мне поразительно безразличным, соски как соски, кожа как кожа, пупок как пупок, но затем, к моему радостному удивлению, все в ней изменилось так же внезапно, и снова я ничего не желал сильнее, как только лежать и целовать ее где придется.
Тут в дверь постучали.
Мы поднялись и сели, она натянула джинсы и опустила свитер.
Это пришел Ян Видар.
– Идете к нам? – спросил он.
– Да, – сказала Сусанна. – Сейчас придем, подождите немножко.
– Потому что уже пол-одиннадцатого, – сказал он. – Я хочу уйти до прихода твоих родителей.
Пока Ян Видар укладывал по конвертам и собирал в пластиковый пакет свои пластинки, я поймал взгляд Сусанны и улыбнулся. Когда мы, уже одетые и готовые к выходу, поцеловались с ними на прощание, Сусанна мне подмигнула.
– Увидимся завтра, – сказала она.
На улице моросило. Свет фонарей, мимо которых мы шли, соединял крохотные частицы воды в большие сияющие круги, похожие на нимбы.
– Ну что? – спросил я. – Как вы?
– Да как обычно, – сказал Ян Видар. – Сидели, тискались. Не знаю, надолго ли меня хватит с ней валандаться.
– Понятно. Ты же в нее нельзя сказать что влюблен.
– Ну, а ты влюблен?
Я пожал плечами:
– Может, и нет.
Мы спустились к главной дороге и двинулись по ней в долину. С одной стороны тянулась ферма, напитавшаяся водой земля блестела у дороги в лучах фонаря, а дальше исчезала в темноте, пока не возникала снова возле длинного сарая, ярко освещенного. На другой стороне стояло несколько старых домов с садами, спускавшимися к реке.
– Ну, а у тебя как было? – спросил Ян Видар.
– У меня хорошо, – сказал я. – Она сняла свитер.
– Да что ты говоришь? Неужто правда?
Я кивнул.
– Ладно врать-то, придурок! Не было этого.
– Было.
– Что, Сусанна?
– Ага.
– А ты что?
– Целовал ее грудь. Что же еще?
– Вот зараза! Не было этого!
– Было.
Мне не хватило духу сказать ему, что она сняла и трусики. Если бы он добился чего-то от Маргреты, я бы ему сказал. Но у них не вышло, а хвастаться не хотелось. Да он бы мне все равно не поверил. Ни за что в жизни.
Мне и самому почти не верилось.
– Ну, и как они?
– Что «они»?
– Ну груди же.
– Что надо. Большие и крепкие. Очень крепкие. Они стояли торчком, хотя она лежала.
– Придурок! Врешь ты все.
– Да нет же, черт возьми.
– Вот черт!
На некоторое время мы умолкли. Перешли через висячий мост, под которым, черная и блестящая, бесшумно катилась полноводная речка, прошли через клубничное поле и вышли на асфальтированную дорогу, которая за крутым поворотом поднималась по тесному ущелью под нависшими над нею черными елями и после очередного извива наверху приводила к нашему дому. Все было тяжким, темным и мокрым, кроме сознания произошедшего, лучом прорезавшего меня и заставившего мои мысли всплывать пузырьками на свет. Кругом стояла промозглая беспросветная тьма, и только в моей душе от воспоминания о случившемся пузырьками шампанского играла радость. Ян Видар наконец успокоился, поверив в мое объяснение, и я горел желанием рассказать ему, что были не только ее груди, а и еще кое-что, но, увидев его хмурое лицо, я не стал ничего говорить. Сохранить это как нашу общую с Сусанной тайну казалось здорово. В то же время судороги меня встревожили. Волос на лобке у меня почти не было, всего несколько длинных черных волосин, остальное практически только пушок, что тоже меня пугало – вдруг об этом проведают девчонки и особенно Сусанна. Я знал, что, пока там не появятся волосы, я не смогу ни с кем переспать, и потому истолковал судороги как что-то вроде ложного оргазма, решив, что я, очевидно, зашел дальше, чем позволял мой член. Откуда и боль. Видно, я кончил «всухую». Я слышал, что это вредно. А впрочем, в трусах ощущалась влажность. Возможно, это моча, а возможно, сперма. А вдруг это кровь? Два последних предположения я считал маловероятными, я же еще не достиг половой зрелости, но никаких болей в животе я раньше не ощущал. А тут вдруг почувствовал боль, и это меня беспокоило.
Ян Видар зашел за своим велосипедом, который он оставил у нас возле гаража. Мы немного постояли, поговорили, и он поехал к себе, а я вошел в дом. Там был Ингве, который приехал на выходные, они сидели вдвоем с мамой на кухне, я их заметил с улицы, заглянув в окно. Папа, должно быть, был в амбаре. Раздевшись в передней, я пошел в туалет, заперся, спустил брюки до колен, раздвинул ширинку и потрогал указательным пальцем мокрую ткань. Жидкость была клейкая. Я поднял палец и потер его о большой. Пахло морем.
Морем?
Так, значит, это сперма?
Ну да, сперма.
Я достиг половой зрелости.
Ликуя, я вошел в кухню.
– Хочешь пиццы? Мы тебе кусочек оставили, – сказала мама.
– Нет, спасибо. Мы поели в гостях.
– Хорошо провел время?
– Еще как, – сказал я, не в силах сдержать улыбки.
– Ишь, как у него щеки-то раскраснелись, – заметил Ингве. – Никак от счастья?
– Пригласи ее как-нибудь к нам, – предложила мама.
– Обязательно приглашу, – сказал я, продолжая неудержимо улыбаться.
Отношения с Сусанной закончились две недели спустя. С моим лучшим другом Томом с Трумёйи мы еще давно как-то договорились обмениваться фотографиями самых красивых девушек. Не спрашивайте меня почему. С тех пор я давно забыл об этом уговоре, как вдруг однажды вечером получаю по почте конверт с фотографиями – паспортными снимками Лены, Беаты, Эллен, Сив, Бенты, Марианны, Анны Лисбет и уж не помню, как их всех там звали. Это были самые красивые девушки Трумёйи. Пришел мой черед добывать фотографии самых красивых девушек Твейта. Несколько дней я всесторонне обсуждал этот вопрос с Яном Видаром, и мы составили список; осталось раздобыть снимки. К некоторым девушкам я мог обратиться сам, как, например, к Сусанне, подружке сестры Яна Видара, достаточно взрослой, чтобы не переживать, что она об этом подумает, фото других я рассчитывал получить через Яна Видара, чтобы он попросил других ее подружек. Руки у меня самого были связаны, так как попросить фотографию означало проявить к девушке интерес, а поскольку у меня была Сусанна, такой неподобающий интерес вызвал бы сплетни. Но существовали и другие способы. Например, через Пера. Не найдется ли у него фотографии его одноклассницы Кристин? Фотография Кристин у Пера нашлась, и таким путем я наскреб шесть снимков. В смысле количества этого было вполне достаточно, но недоставало главной жемчужины, фотографии Ингер, которую мне страшно хотелось показать Ларсу. А Ингер была двоюродной сестрой Сусанны.
И вот однажды после занятий я достал из гаража велосипед и отправился к Сусанне. Сегодня мы не договаривались о встрече, и она, казалось, очень обрадовалась, когда вышла открыть мне дверь. Я поздоровался с ее родителями, мы ушли в ее комнату, посидели, поговорили о том, чем нам заняться, но, так ни о чем толком и не договорившись, перешли на разговоры о школе и учителях. Наконец я, словно случайно, завел разговор о том, зачем пришел. Нет ли у нее фотографии Ингер и не может ли она ее мне дать?
Она как сидела, так и застыла на кровати, воззрившись на меня с недоумением:
– Ингер? Зачем?
Подобной проблемы я не ожидал. Сусанна ведь была моей девушкой, и, раз я прямо ее прошу, это заведомо говорит о честности моих намерений.
– Этого я не могу тебе сказать.
Я и в самом деле не мог. Открой я ей, что хочу послать приятелю из Трумёйи фотографии самых красивых девушек Твейта, она бы рассчитывала, что и сама окажется среди них. Но ее фотографии там не было, и этого ей сообщить я не мог.
– Ты не получишь фотографию Ингер, пока не скажешь мне, для чего она тебе нужна.
– Но я не могу это сказать. Неужели нельзя просто дать мне фотографию? Я прошу не для себя, если ты это хочешь знать.
– А для кого тогда?
– Этого я не могу сказать.
Она встала. Я понял, что она разозлилась. Все движения ее стали резкими, какими-то отрывистыми, словно она решила не дать мне полюбоваться на них до конца во всем их богатстве, лишая меня тем самым своих щедрот.
– Ты влюблен в Ингер! Ведь так?
Я промолчал.
– Карл Уве! Разве не так? Я уже от многих это слышала.
– Забудем про фотографию, – сказал я. – Забудь о ней!
– Так это правда?
– Нет, – сказал я. – Может быть, был немножко, когда только приехал, в самом начале. Но теперь – нет.
– Тогда зачем тебе фотография?
– Этого я не могу сказать.
Она заплакала.
– Значит, правда! Ты влюблен в Ингер. Я знаю! Знаю!
Раз знает Сусанна, то, наверное, знает и Ингер, осенило меня вдруг.
В голове словно загорелась лампочка. Если знает, то найти к ней подход, наверное, не так уж сложно. Например, я могу на каком-нибудь школьном празднике подойти к ней и пригласить на танец, и она ни о чем не догадается, подумает, что она просто одна из многих. А может быть, даже заинтересуется мной?
Сусанна, всхлипывая, подошла к секретеру в другом конце комнаты и открыла ящик.
– Вот тебе твоя фотография, – сказала она. – На, бери! И чтобы я больше тебя здесь не видела!
Закрыв одной рукой лицо, она другой протянула мне фотографию Ингер. Ее плечи вздрагивали.
– Это не для меня, – сказал я. – Честное слово. Я не для себя прошу.
– Чертов говнюк! – сказала она. – Уходи!
Я взял фотографию.
– Так между нами, что ли, всё? Мы расстаемся? – сказал я.
Это было за два года до того ветреного и морозного новогоднего вечера, когда я читал, лежа на кровати, в ожидании начала праздника. Уже два-три месяца спустя у Сусанны появился новый парень. По имени Терье – коротышка, несколько полноватый, он завивал волосы и носил дурацкие усики. Уму непостижимо, как она могла променять меня на такого. Ему, правда, было уже восемнадцать лет, и он даже имел машину, на которой они разъезжали по вечерам и в выходные. Но все же: предпочесть его мне? Коротышку с усиками? В таком случае – ну ее, эту Сусанну! Так я думал тогда и так продолжал думать сейчас, лежа с книгой на кровати. Но теперь я был уже не ребенок, а взрослый, шестнадцатилетний парень, и учился уже не в школе средней ступени в Ве, а в гимназии – Кристиансаннской кафедральной школе.
Со двора донесся скрежещущий, словно бы ржавый, звук отворяемой гаражной двери, затем стук, когда ее захлопнули, урчание заведенного и работающего вхолостую мотора. Я подошел к окну и постоял перед ним, пока не увидел исчезающие за поворотом красные габаритные огни. Затем я спустился в кухню, поставил чайник, достал кое-что из приготовленных рождественских закусок: ветчину, зельц, колбасу, рулет из баранины, печеночный паштет, нарезал хлеба, принес из гостиной газету, разложил ее на столе и устроился почитать за едой. За окном уже совсем стемнело. Стол под красной скатертью и свечи, горевшие на подоконнике, делали обстановку по-праздничному уютной. Когда вода закипела, я ополоснул кипятком заварной чайник, бросил несколько щепоток чайных листьев и, заливая их дымящимся кипятком, крикнул в пространство:
– Хочешь чаю, мама?
Никто не откликнулся.
Я сел за стол и продолжил трапезу. Немного погодя я взял чайник и налил себе чаю. Темно-коричневая заварка, как растущее дерево, поднималась вдоль белых стенок чашки. Несколько чаинок закружились в струе, остальные черным ковром устлали дно. Я добавил в чай молока, насыпал три ложки сахару, помешал, подождал, пока чаинки снова улягутся на дно, и стал пить.
– Ммм…
За окном, мигая огнями, проехала снегоуборочная машина. Затем отворилась входная дверь. Я услышал топот на крыльце и обернулся в тот самый момент, когда в дверях с охапкой дров показалась мама в слишком большой для нее папиной дубленке.
Зачем она надела его дубленку? Это было на нее не похоже.
Она прошла в гостиную, не оборачиваясь на меня. Волосы и воротник у нее были засыпаны снегом. Загремели сброшенные в дровяную корзинку поленья.
– Хочешь чаю? – спросил я, когда она вернулась.
– Да, спасибо, с удовольствием, – ответила она. – Только сначала разденусь.
Я встал и принес для нее чашку, поставил ее напротив и налил чаю.
– Куда ты ходила? – спросил я, когда она села за стол.
– За дровами.
– А до этого? Я тут уже довольно долго сижу. Принести дров – это ведь не целых двадцать минут?
– А, это я меняла лампочку в гирлянде. Теперь она снова светится.
Елка в конце двора сверкала в темноте огнями.
– Я могу чем-нибудь помочь? – спросил я.
– Нет. Все уже готово. Осталось только погладить блузку. А потом ничего, только приготовить еду, но это сделает папа.
– Ты не могла бы заодно погладить мне рубашку?
Она кивнула:
– Брось ее там, на гладильную доску.
Поужинав, я пошел к себе наверх, включил усилитель и гитару и уселся поиграть. Мне нравился запах от нагревшегося усилителя, и я готов был играть уже ради него одного. Мне нравились также все мелкие принадлежности, которые нужны были для игры на гитаре: фузз-бокс и педаль хоруса, штепсели и удлинители, медиаторы и упаковки со струнами, слайды, каподастр и обитый изнутри мягкой материей футляр для гитары с разными мелкими отделениями. Мне нравились названия брендов: Gibson, Fender, Rickenbacker, Marshall, Music Man, Vox, Roland. Вместе с Яном Видаром мы ходили в музыкальные магазины и с видом знатоков разглядывали гитары. Моя собственная была дешевой копией «Стратокастера», я купил ее к конфирмации и заказал к ней новые звукосниматели, разумеется «на уровне самых современных требований», и новый медиатор по почтовому каталогу Яна Видара. С этим все было в порядке. Вот только с игрой на гитаре дело обстояло не так хорошо. Несмотря на регулярные и усердные занятия на протяжении полутора лет, успехи мои были невелики. Я знал все аккорды, без конца повторял гаммы, но так и не смог от них освободиться, так и не заиграл, связь между мыслями и пальцами так и не возникла, мои пальцы подчинялись как будто не мне, а гаммам, они могли сыграть любую гамму туда и обратно, но к музыке то, что звучало из усилителя, не имело никакого отношения. Я посвящал целый день или два, чтобы вызубрить соло, нота за нотой, и действительно мог потом его исполнить, но не более того. То же самое и Ян Видар. Но он был трудолюбивее меня, он действительно много упражнялся, временами вообще занимался только игрой на гитаре, но и из его усилителя раздавались только гаммы и повторение чужих гитарных соло. Он подпиливал ногти, чтобы удобнее было играть, отпустил длинный ноготь на правом мизинце, чтобы пользоваться им как медиатором, он купил специальный эспандер для пальцев и постоянно сжимал его, чтобы они стали сильнее, он перебрал всю свою гитару и вместе с отцом, инженером-электриком, смастерил к ней что-то наподобие синтезатора. Отправляясь к нему, я часто брал инструмент с собой и ехал на велосипеде, управляя им одной рукой, а в другой у меня болтался футляр с гитарой, и хотя то, что у нас получалось сыграть в его комнате, звучало не бог весть как, это все равно было здорово, поскольку с гитарой в руке я ощущал себя музыкантом, со стороны это выглядело впечатляюще, и если мы пока еще не достигли того, к чему стремились, то со временем все ведь могло измениться. Будущего мы не знали – никому не известно, сколько понадобится упражняться, чтобы научиться играть свободно. Месяц? Полгода? Год? А пока мы сидели себе и играли. Какую-никакую группу мы тоже сколотили; некий Ян Хенрик из седьмого класса немного играл на гитаре, и, хотя он носил мокасины и модные шмотки и приглаживал волосы гелем, мы предложили ему играть у нас на бас-гитаре. Он согласился, а я, как самый плохой гитарист, взялся за ударные. Летом, после того как мы перешли в девятый класс, отец Яна Видара свозил нас в Эвье, и мы, скинувшись, купили дешевую ударную установку. Группа была готова. Мы поговорили с директором школы, получили разрешение и раз в неделю притаскивали в актовый зал ударные и усилители и играли.
Переехав сюда год назад, я слушал The Clash, The Police, The Specials, Teardrop Explodes, The Cure, Joy Division, Nуw Order, Echo and the Bunnymen, The Chameleons, Simple Minds, Ultravox, The Aller Værste, Talking Heads, The B52’s PiL, Дэвида Боуи, The Psychtdelic Furs, Игги Попа, Velvet Underground, все это благодаря Ингве, который не только тратил на музыку все деньги, какие у него были, и сам играл на гитаре, которая в его руках приобретала свое особенное звучание и неповторимый стиль, но и сочинял музыку. В Твейте никто даже не слыхал про эти группы. Ян Видар, например, слушал Deep Purple, Rainbow, Gillan, Whitesnake, Black Sabbath, Оззи Осборна, Def Leppard, Judas Priest. Соединить эти два мира было невозможно, и, поскольку интерес к музыке был для нас общим, кому-то следовало уступить. Уступил я. Покупать пластинки этих групп я не покупал, но знакомился с ними у Яна Видара, в то время как свои группы, некоторые из которых тогда много для меня значили, я слушал дома в одиночестве. В дополнение к этому нашлось несколько компромиссных групп, которые нравились нам обоим, в первую очередь Led Zeppelin, но также и Dire Straits, которых он любил главным образом за игру на гитаре. Чаще всего мы спорили тогда на тему «чувство или техника». Ян Видар, например, мог купить диск группы Lava за то, что они так технично играют, и не чурался группы ТОТО, у которой к тому времени вышло два хита, я же, в отличие от него, от души презирал техничность, она совершенно не сочеталась с тем, во что я уверовал, начитавшись музыкальных журналов брата, которые обличали виртуозов, защищая самобытность, энергию и силу. Однако сколько мы это ни обсуждали, сколько часов ни проводили в музыкальных магазинах и над каталогами «Товары – почтой», сдвинуть с мертвой точки свою группу нам так и не удалось, играли мы все так же, и у нас не хватило ума компенсировать этот недостаток, сочиняя, например, собственные песни, нет, мы продолжали играть самые затасканные и самые стилистически невыразительные композиции, давшие название альбомам, такие как «Smoke on the Water» группы Deep Purple, «Paranoid» Black Sabbath, «Black Magic Woman» Сантаны, это не считая «So Lonely» группы The Police, ставшей непременной частью нашего репертуара, потому что Ингве показал мне все аккорды.
Мы были совершенно беспомощными и никуда не годились, мы не имели ни малейшего шанса хоть как-то отличиться, мы не смогли бы выступить даже на школьном вечере, но, хотя это была горькая правда, мы сами этого совершенно не понимали… Наоборот, мы этим жили. Это была не моя музыка, а музыка Яна Видара, она противоречила всем моим убеждениям, а я тем не менее возлагал все надежды на нее. Вступление к «Smoke on the Water» – это воплощенная глупость, полная противоположность всему крутому – вот что я упорно разучивал в 1983 году в школе Ве: сначала рифф на гитаре, потом хай-хэт – чика-чика, чика-чика, чика-чика, чика-чика, затем большой барабан – дум, дум, дум, затем малый – тик-тик-тик, дальше дурацкий проигрыш бас-гитары, во время которого мы переглядывались и улыбались, кивая головой и раскачиваясь, пока не начнется, совершенно асинхронно, первый куплет. Вокалиста у нас не было. Но когда Ян Видар поступил в ремесленную школу, мы узнали, что в Хонесе есть барабанщик, он, правда, учился только в восьмом классе, но на худой конец мог сгодиться, нам сгодился бы кто угодно, а этот к тому же имел доступ в репетиционное помещение, где есть ударные и усилитель и все остальное, так что вот они мы: я, ученик первого класса гимназии, мечтавший посвятить себя инди-року, но лишенный музыкального таланта, ритм-гитара; Ян Видар, ученик кондитера, вложивший столько усердия в упражнения, что мог бы за это время стать вторым Ингви Мальстеном, Эдди ван Халеном или Ричи Блэкмором, но не пошедший дальше технических этюдов, соло-гитара; Ян Хенрик, с которым вне репетиций мы старались общаться как можно меньше, бас-гитара; и Эйвинн, веселый крепыш из Хонеса, не обремененный никакими амбициями, ударник. «Smoke on the Water», «Paranoid», «So Lonely», а потом и «Ziggy Stardust» раннего Дэвида Боуи и «Hang on to yourself», аккорды к которому мне тоже показал Ингве. Никакого вокала, только аккомпанемент. Каждый выходной. С гитарными футлярами – на автобус, долгие разговоры о музыке и инструментах на пляже, на скамейках перед магазином, в комнате Яна Видара, в кафе аэропорта, где-нибудь в городе, потом тщательные репетиции и упражнения в обреченной попытке поднять группу на ту высоту, на которой мы уже стояли в своем воображении.
Однажды я принес в школу кассету с записью наших упражнений. И как-то стоял на перемене в наушниках на голове, слушая кассету с нашими композициями и размышляя, кому бы их показать. У Бассе были одинаковые со мной музыкальные вкусы, так что ему не пойдет, ведь тут совсем другое, он это все равно не поймет. Может быть, Ханне? Она поет и, кроме того, очень мне нравится. Но тут был немалый риск. Она знала, что я играю в группе, это говорило в мою пользу и возвышало меня в ее глазах, но я мог в них и сильно упасть, после того как она услышит, как и что мы играем. Полу? Да, ему можно. Он и сам играл в группе под названием Vampire, в бешеном темпе, подражая Metallica. Пол, в обычной жизни застенчивый, чувствительный и ранимый, как девчонка, ходил в черной коже, играл на бас-гитаре и орал на сцене как черт, он-то поймет, чем мы занимаемся. На следующей перемене я подошел к нему, сказал, что в прошлые выходные мы разучили несколько композиций, и спросил, не согласится ли он их послушать и сказать свое мнение. Само собой. Он надел наушники, нажал на «play», а я внимательно вглядывался в его лицо. Он улыбнулся и вопросительно посмотрел на меня. Через несколько минут он рассмеялся и снял наушники.
– Там же ничего нет, Карл Уве, – сказал он. – Вообще ничего. Это что, шутка?
– Ничего? Что значит ничего?
– Вы же не умеете играть. И не поете. Там просто ничего нет. – Он развел руками.
– Ну да, можно бы и получше, – признал я.
– Ладно, выключай!
«А твоя группа, конечно, зашибись», – хотел я сказать, но не сказал.
– Ну, что есть, то есть, – выдавил я. – Ладно, спасибо, что послушал.
Он опять засмеялся, вопросительно глянув на меня. Пол вообще был непостижим, с его увлечением спид-металом и нелепым прикидом, над которым потешались одноклассники, совершенно не сочетающимся с его стеснительностью, которая, в свою очередь, совершенно не сочеталась с необыкновенной открытостью, когда ему было нечего опасаться. Однажды, например, Пол принес свое стихотворение, несколько лет назад напечатанное в журнале для девчонок «Дет Нюэ», которому он еще и дал интервью. Опрометчивый, бессовестный, ранимый, неотесанный – и все это Пол. Что нас послушал именно он, было, в общем, даже неплохо, потому что всерьез его никто не воспринимал, так что, над чем он смеется, ни для кого не имело значения. Поэтому я совершенно спокойно засунул плеер в карман и пошел на урок. Это, конечно, верно, играем мы так себе. Но с каких это пор техничность стала считаться чем-то важным? Или он ничего не слыхал про панк-рок? Про «новую волну»? Да в этих группах никто играть не умеет! Но зато у них характер! Сила! Душа! Нерв!
Вскоре после этого, в начале осени 1984 года, нас впервые пригласили выступить. Все устроил Эйвинн. Хонесский торговый центр отмечал свое пятилетие, это событие решили отпраздновать с воздушными шариками, тортом и музыкой. Выступать должны были братья Бёксле, известные в регионе исполнители сёрланнских народных песен, с которыми они выступали уже двадцать лет. Но директору центра хотелось плюс к этому чего-нибудь местного и желательно молодежного, а мы как раз подходили под эти требования, так как репетировали в школе, расположенной в каких-то ста метрах от супермаркета. Мы должны были играть двадцать пять минут и получить за это пятьсот крон. Услышав эту новость, мы бросились обнимать Эйвинна. Черт возьми! Наконец-то настал наш час!
Две недели, оставшиеся до выступления, назначенного на одиннадцать утра в субботу, прошли быстро. Мы много раз репетировали, как все вместе, так и на пару с Яном Видаром, мы до хрипоты обсуждали, в каком порядке исполнять композиции, мы заранее закупили новые струны, чтобы их разработать, договорились, в чем выходить на сцену, и, когда настал назначенный день, заранее собрались в репетиционном помещении, чтобы несколько раз прогнать всю программу. Мы сознавали, что рискуем перегореть еще до выступления, но все же решили, что главное – это уверенная игра.
Ах, каким же счастливым я себя чувствовал, шагая по асфальтированной площади перед торговым центром с гитарой в руке! Аппаратура уже была на месте в конце прохода, ведущего к площади. Эйвинн устанавливал ударные. Ян Видар настраивал гитару при помощи нового электрокамертона, купленного специально ради этого случая. Вокруг собрались дети и глазели на него. Скоро и на меня будут. Я постригся совсем коротко, на мне были черные джинсы, ремень с заклепками, сине-белые бейсбольные кроссовки. И конечно же – гитарный футляр в руке.
В другом конце прохода уже пели братья Бёксле. Посмотреть на них собралась небольшая группа, всего человек десять. Поток остальных устремлялся мимо, в магазин или обратно. Было ветрено, чем-то этот ветер напомнил мне концерт битлов в 1970 году на крыше здания «Эппл».
– Все в порядке? – спросил я Яна Видара, положил футляр, вынул гитару, достал ремень и перекинул через плечо.
– Ага, – ответил он. – Будем включать? Который час, Эйвинн?
– Десять минут двенадцатого.
– Еще десять минут. Подождем немного. Еще пять минут. Окей?
Он подошел к усилителю и отпил колы из стоявшей рядом бутылки. Голову он повязал скрученной банданой. На нем была белая рубашка навыпуск и черные брюки.
Братья Бёксле все пели.
Я бросил взгляд на список пьес, наклеенный сзади на усилитель.
Smoke on the Water
Paranoid
Black Magic Woman
So Lonely.
– Можно мне камертон? – спросил я Яна Видара.
Он протянул мне коробку, и я подключил питание. Гитара была настроена, но я немного подкрутил колки. На парковку то и дело подъезжали автомобили и делали круг, высматривая свободное место. Как только открывалась дверь, из нее вылезали сидевшие сзади дети и, потоптавшись на асфальте, тащили родителей в нашу сторону. Все глядели на нас, проходя мимо, никто не останавливался.
Ян Хенрик подключил бас-гитару к усилителю, резко дернул струну. Над асфальтом разнеслось «БУМ».
БУМ БУМ БУМ
Оба брата Бёксли дружно обернулись в нашу сторону, не переставая петь. Ян Хенрик шагнул к усилителю и прибавил громкости. Сыграл несколько нот.
БУМ. БУМ.
Эйвинн попробовал ударные. Ян Видар взял аккорд на гитаре. Вышло офигенно громко. Вся площадь глядела на нас.
– Эй вы, там! Прекратите это! – крикнул один из братьев Бёксле.
Ян Видар посмотрел на них с вызовом, затем повернулся и снова глотнул колы. Усилитель бас-гитары работал, усилитель Видара тоже. А как там у меня? Я прикрутил звук, взял аккорд, медленно стал прибавлять звук, усилитель словно погнался за звуком, все больше усиливая громкость, а я тем временем не спускал глаз с обоих певцов, стоявших, расставив ноги, в другом конце прохода и продолжавших играть на гитарах, с улыбкой распевая свои безмятежные песенки про чаек, рыбачьи лодки и закаты. В тот момент, когда они посмотрели на меня таким взглядом, который иначе как свирепым не назовешь, я снова убавил звук. Усилитель работал, все в порядке.
– А теперь который час? – спросил я Яна Видара.
Его пальцы уже лежали на грифе.
– Двадцать минут.
– Придурки! Пора им уже сворачиваться.
Братья Бёксли воплощали в себе все то, что я отвергал: все респектабельное, уютное, мещанское. Я с нетерпением ждал момента, когда включу усилитель и смету их со сцены. До этого дня мой бунт сводился к тому, чтобы выступать в классе с особым мнением, а иногда спать на уроке, опустив голову на парту. Однажды я бросил на улице пакет из-под булочек, и, когда какой-то старичок попросил меня его поднять, я предложил ему сделать это самому, если для него это так важно. Когда я, отвернувшись, пошел дальше, сердце у меня колотилось так, что я едва мог дышать. В остальном я выражал себя через музыку, где одно то, что я слушал, – антикоммерческие, андерграундные, бескомпромиссные группы – делало меня бунтарем, не согласным с общепринятыми условиями и стремящимся их изменить.
И чем громче я играл, тем ближе казалась моя цель. Я купил к своей гитаре такой удлинитель, чтобы можно было играть внизу в прихожей перед зеркалом, включив на полную громкость усилитель наверху в моей комнате, и тогда происходило нечто удивительное: звук искажался, становился пронзительным, и от этого, как бы я ни играл, получалось шикарно, звуки моей гитары наполняли собой весь дом и между этими звуками и моими чувствами возникало некое единство, они сами словно становились мною, таким, каким я был на самом деле. Я написал об этом текст, вообще-то для песни, но поскольку мелодия так и не придумалась, я назвал его стихами и записал в дневник.
Души фидбэк коверкая, Я сердце выворачиваю И вижу, как мы сливаемся Внутри моего одиночества, Внутри моего одиночества, Ты и я, Ты и я, любимая.Я рвался на волю, на простор. И единственным, что, в моем представлении, имело к этому отношение, была музыка. Вот так я и очутился тем днем в начале осени 1984 года на площади перед торговым центром Хонеса с купленной к конфирмации, светлого дерева имитацией «Стратокастера» через плечо, и стоял там, положив палец на кнопку громкости, дожидаясь, когда братья Бёксли закончат петь, чтобы в ту же секунду врубить звук на полную мощность.
На площадь налетел резкий порыв ветра, по мостовой, шурша, пронеслись сухие листья, скрипя, завертелся щит с рекламой мороженого. Мне показалось, что на щеку мне брызнула капля, и я взглянул на молочно-белое небо.
– Дождь, что ли? – спросил я.
Ян Видар выставил раскрытую ладонь и пожал плечами.
– Вроде нет, – сказал он. – Один хрен, мы все равно будем играть. Хоть под ливнем.
– Согласен, – сказал я. – Психуешь?
Он с каменным лицом покачал головой.
Наконец братья закончили. Небольшая группа людей, собравшаяся перед ними, захлопала, братья стали кланяться.
Ян Видар обернулся к Эйвинну:
– Готов?
Эйвинн кивнул.
– Готов, Ян Хенрик?
Ян Хенрик кивнул.
– Карл Уве?
Я кивнул.
– Два, три, четыре, – отсчитал вслух Ян Видар, в общем-то самому себе, потому что первые такты рифа он играл один.
В следующую секунду воздух взорвался от звуков его гитары. Люди вокруг вздрогнули. Все обернулись на нас. Я мысленно отсчитывал такт, поставив пальцы на гриф. Моя рука тряслась.
РАЗ ДВА ТРИ – РАЗ ДВА ТРИ ЧЕТЫРЕ – РАЗ ДВА
ТРИ – РАЗ ДВА.
Тут мне надо было вступить.
Но звука не было!
Ян Видар уставился на меня застывшим взглядом. Я переждал один такт, включил громкость и вступил. Две гитары – это уже нечто оглушительное.
РАЗ ДВА ТРИ – РАЗ ДВА ТРИ ЧЕТЫРЕ – РАЗ ДВА
ТРИ – РАЗ ДВА.
Тут вступил хай-хэт.
Чика-чика, чика-чика, чика-чика, чика-чика.
Большой барабан.
Малый барабан.
Затем бас-гитара.
БАМ БАМ БАМ бамбамбамбамбамбамбамбамбамбамБА
БАМ БАМ БАМ бамбамбамбамбамбамбамбамбамбамБА
Только тут я снова взглянул на Яна Видара. Он гримасничал, пытаясь сказать что-то беззвучно.
«Слишком быстро! Слишком быстро!»
Эйвинн сбавил темп. Я попытался сделать то же самое, но сбивало то, что бас-гитара и гитара Яна Видара продолжали играть в прежнем темпе, а когда я бросил эти попытки и принял их темп, они вдруг заиграли медленнее, и только я один продолжал держать бешеный ритм. Посреди этого сумбура я заметил, как ветер ерошит волосы Яна Видара, а один из ребятишек, стоящих перед нами, зажимает ладонями уши. В следующую секунду пошла первая строфа, и мы более или менее выправились. И тут на площади появился мужчина в светлых брюках, сине-белой полосатой рубашке и желтой летней куртке. Это был директор магазина. Он направлялся к нам. Не дойдя метров двадцати, он начал махать руками, как будто хотел остановить идущее судно. Он махал и махал. Еще несколько секунд мы продолжали играть, но, когда он остановился прямо перед нами, продолжая махать, уже невозможно было сомневаться в том, кому он подает эти знаки, и мы перестали.
– Что за чертовщину вы тут устраиваете! – сказал он.
– С нами же договорились, чтобы мы тут играли, – сказал Ян Видар.
– Да вы совсем, что ли, обалдели! Тут же торговый центр! Сегодня суббота. Люди приходят за покупками и хотят отдохнуть! Нельзя же подымать такой адский грохот!
– Хотите, чтобы мы немного убавили звук? – спросил Ян Видар. – Без проблем!
– Убавьте, да как следует.
Вокруг нас собралась целая толпа. Человек пятнадцать-шестнадцать, если считать детей. Не так уж и плохо!
Ян Видар обернулся и убавил громкость усилителей. Взял на гитаре аккорд и посмотрел на директора магазина.
– Так пойдет? – спросил он.
– Еще! – потребовал директор.
Ян Видар еще немного убавил звук, взял новый аккорд.
– Так хватит? – спросил он. – Мы же не танцевальный оркестр.
– Ладно, – сказал директор. – Давайте так. Хотя нет, убавьте-ка еще.
Ян Видар снова повернулся к усилителю. Когда он дотронулся до регулятора громкости, я увидел, что он только сделал вид, что повернул его.
– Ну вот, – сказал он.
Мы с Яном Хенриком слегка прикрутили звук.
– Начинаем сначала, – сказал Ян Видар.
Мы начали сначала. Я отсчитывал про себя ритм.
РАЗ ДВА ТРИ – РАЗ ДВА ТРИ ЧЕТЫРЕ – РАЗ ДВА ТРИ – РАЗ ДВА.
Директор магазина направился обратно к входу в торговый центр. Мы играли, а я следил за ним глазами.
Когда мы дошли до места, на котором нас прервали, он остановился и обернулся. Посмотрел на нас. Отвернулся, сделал несколько шагов к центру, обернулся опять и вдруг устремился к нам и снова замахал руками, как в первый раз. Ян Видар не видел его, он играл с закрытыми глазами. А Ян Хенрик все видел и посмотрел вопросительно на меня.
– Стоп, стоп, стоп! – сказал директор, подойдя к нам. – Так не пойдет, – сказал он. – Извините. Давайте сворачивайтесь.
– Как? – сказал Ян Видар. – Это почему же? Вы же говорили – двадцать пять минут.
– Не пойдет, – сказал он и, нагнув голову, помахал перед собой руками. – Сорри, парни.
– Но почему? – повторил Ян Видар.
– Вас невозможно слушать, – сказал директор. – Вы даже не поете! Так что получите свои деньги, и пока. Вот, держите.
Он достал из внутреннего кармана конверт и протянул его Яну Видару.
Ян Видар взял конверт, повернулся к директору спиной и выдернул усилитель из розетки, отключил его, снял с шеи гитару, подошел к футляру и убрал ее. Народ вокруг посмеивался.
– Все, – сказал Ян Видар. – Пошли по домам.
После этого случая статус группы приобрел некую сомнительность; несколько раз мы еще собирались и репетировали, но как-то без огонька; затем Эйвинн предупредил, что не придет на следующую репетицию; в другой раз на месте не оказалось ударных; потом очередная репетиция совпала у меня с тренировочным матчем… Тогда же мы с Яном Видаром стали все реже встречаться, а еще через пару недель он промямлил, что познакомился с парнем из другого класса и они устраивают джем-сейшены, так что теперь я если и брался за гитару, то только для собственного развлечения.
И вот я, напевая «Ground Conrol to Major Tom», беру любимые минорные аккорды и думаю о двух пакетах с пивом, которые лежат у меня в лесу.
В это Рождество, Ингве привез нотный альбом с композициями Дэвида Боуи, и я сразу переписал их в блокнот целиком, с аппликатурой, текстами и нотами. Сейчас я его достал. Затем поставил на проигрыватель Hunky Dory, включил «Life on Mars», которая шла пятой, и стал негромко подыгрывать, так, чтобы слышать и вокал, и другие инструменты. По спине пробежал озноб. Это была потрясающая вещь, и, когда я повторял вслед за пластинкой гитарные аккорды, у меня было такое чувство, что мелодия раскрывалась мне навстречу, я как бы входил в нее, а не оставался снаружи, как это бывает, когда только слушаешь. Чтобы открыть для себя песню и войти в нее самому, мне потребовалось бы несколько дней, потому что сам я не слышал, какие тут нужны аккорды, мне пришлось бы мучительно к ним пробиваться, и, даже подобрав похожие, я все равно никогда не был вполне уверен, те или не те я нашел. Опустить иглу, внимательно вслушаться, снять иглу, взять аккорд. Хм… Опустить иглу, прислушаться, взять тот же аккорд. А он ли это был? Или, может, вот этот? Не говоря обо всем остальном, что происходит с гитарным звуком на протяжении одной композиции. Одним словом – безнадега! Вот у Ингве, например, все получалось с первой попытки. Я встречал и других людей, похожих на него, которые с этим родились; музыка была у них неотделима от мысли, а вернее, вообще не имела отношения к мысли, а жила в душе, существуя сама по себе. Они просто играли, а не механически повторяли ту или иную схему; о такой свободе, которая и есть музыка, мне оставалось только мечтать. Так же и с рисованием. Рисование никакого статуса не давало, но мне все равно нравилось рисовать, и я проводил за этим занятием немало времени, уединившись у себя в комнате. Если передо мной был образец, вроде какого-нибудь комикса, у меня иногда выходило что-то приличное, но, когда я не копировал, а рисовал сам, из головы, ничего путного не получалось. А мне приходилось встречать людей, в которых это было заложено от природы, в особенности в Туне из нашего класса, она без усилий могла нарисовать что угодно: дерево на площади за окном, припаркованный под ним автомобиль, учителя у доски. Когда пришло время выбирать факультативные предметы, мне хотелось взять «Форму и цвет», но, зная, что некоторые из моих одноклассников действительно умеют рисовать, я отказался от этой затеи. Пусть будет «Кинематография». Но мысль об этом угнетала, потому что хотелось быть кем-то особенным.
Я встал, поставил гитару на штатив, выключил усилитель и спустился на первый этаж. Мама стояла и гладила. Круги света вокруг лампочек над дверью и на амбарной стене еле виднелись сквозь снежную завесу.
– Ну и погода! – сказал я.
– Да уж, действительно, – кивнула мама.
Входя на кухню, я вспомнил, что по дороге проезжала снегоуборочная машина. Наверное, неплохо бы до приезда гостей раскидать сугроб, который она оставила у обочины.
Я обернулся к маме:
– Схожу-ка я уберу с обочины снег, пока они не приехали.
– Это хорошо, – сказала мама. – Может, зажжешь заодно уличные свечи? Они в гараже. Лежат в мешочке у стенки, увидишь.
– Хорошо, зажгу. У тебя есть зажигалка?
– В сумке.
Я оделся и вышел во двор, открыл гараж, взял там лопату, замотался шарфом и направился к дороге. Мело так, что, хотя я начал раскапывать сугроб из рыхлого свежего снега и слежавшихся комьев спиной к ветру, вьюга колола мне лицо, как иголками, и залепляла глаза. Через несколько минут я услышал хлопок, далекий и приглушенный, как будто из помещения, и, подняв голову, успел увидеть среди кромешной, насквозь продуваемой ветром тьмы вспышку маленького взрыва. Наверное, это Пер и Том вместе с их отцом испытывали только что купленные ракеты. Что, видимо, придало им всем ощущение полноты жизни, а меня еще больше опустошило, поскольку этот мгновенный проблеск только усилил ощущение последовавшей бессобытийной пустоты: ни машины, ни одной живой души, только черный лес да метель и неподвижная полоса света вдоль дороги. Долина внизу тонула во мраке. Слышался только скрежет легкого металла лопаты о твердокаменный пласт слежавшегося снега да мое пыхтение, казавшееся громче из-за шарфа, которым я плотно обмотался поверх шапки.
Раскидав снег, я снова зашел в гараж, поставил в угол лопату, нашел мешок с четырьмя уличными свечами и зажег их в темноте одну за другой – не без удовольствия, потому что языки пламени были такими плавными, а голубая сердцевина то вытягивалась вверх, то склонялась набок, следуя за порывами ветра. Подумав, где бы их разместить, я решил установить две на крыльце и две на каменной ограде перед амбаром.
Не успел я поставить вторую пару свечей на ограду, загородив их от ветра кусками наста, и закрыть гаражную дверь, как из-за поворота внизу послышался шум подъезжающей машины. Я снова открыл дверь гаража и поспешил в дом; мне захотелось срочно доделать все до приезда гостей, не оставив следов своей деятельности. Эта навязчивая мысль охватила меня с такой силой, что я впопыхах схватил в ванной первое попавшееся полотенце и вытер им ботинки, чтобы никто не увидел меня в прихожей со снегом на ногах, а куртку, шапку, шарф и рукавицы сбросил, только поднявшись к себе. Когда я спустился вниз, машина уже стояла во дворе с еще не выключенным мотором и горящими красными габаритниками, а дедушка придерживал дверцу, помогая бабушке выйти.
Когда я был дома один, каждая комната обнаруживала собственный характер, и не то чтобы они встречали меня особенно враждебно, но и не раскрывались мне навстречу. Они будто не желали мне подчиняться, настойчиво заявляя о своем праве на отдельное существование зиянием окон и ограниченных плинтусами пола и потолком стен. Я ощущал, как мне противится их мертвое начало, мертвое не в смысле прекращения жизни, а в смысле ее изначального отсутствия, как это присуще камню, стакану воды, книге. Присутствия нашего кота, Мефисто, было недостаточно для того, чтобы преодолеть это свойство комнат, при нем я видел только зияющие пустотой помещения, но стоило в них появиться другому человеку, пускай даже младенцу, как это впечатление рассеивалось. Отец наполнял комнаты беспокойством, мама – нежностью, терпеливостью, меланхолией, иногда, вернувшись домой после работы усталая, легким, но все же ощутимым оттенком раздражительности. Пер, который никогда не заходил в дом дальше прихожей, наполнял ее веселым настроением, ожиданием чего-то хорошего и уважительной скромностью. Ян Видар, единственный человек, не считая семьи, кто бывал в моей комнате, наполнял ее упрямством, честолюбием и товариществом. Интересно бывало, когда вместе собиралось несколько человек, потому что пространство принимало на себя отпечаток только одного, самое большее двоих присутствующих, и не всегда самый сильный оказывался самым заметным. Так, например, скромность Пера, его уважение к старшим порой пересиливали угрюмость моего отца, когда тот, бирюком проходя через прихожую, мимоходом кивал Перу головой. Впрочем, гости в доме бывали редко. Не считая бабушки и дедушки, папиных родителей, и его брата, дяди Гуннара, с семьей. Они навещали нас по три-четыре раза за полгода, и для меня их приезд всегда был радостью. Отчасти из-за того, что бабушка так много значила для меня в детстве, это отношение сохранилось у меня и в юности, и окружавший ее ореол не потускнел в моих глазах, не столько из-за подарков, которыми она меня баловала, сколько из-за ее неподдельной любви к детям, а отчасти потому, что отец при ней показывал себя с лучшей стороны. Он становился мягче со мной, как бы приближал к себе, признавал, что я что-то для него значу, однако это ласковое обращение с сыном было тут не главное, оно было лишь частью излучаемой им душевной щедрости: он делался обаятельным, остроумным, он шутил и блистал эрудицией, и для меня это оправдывало те противоречивые чувства, которые я к нему питал, уделяя столько времени его личности.
Дверь в прихожую им открыла мама.
– Здравствуйте, – сказала она. – Добро пожаловать!
– Здравствуй, Сиссель, – сказал дедушка.
– Ну и погода, – сказала бабушка. – Ужас что такое! Но как же красиво там со свечами, скажу я вам!
– Давайте мне одежду, – сказала мама.
На бабушке была круглая шапка из темного меха, которую она сняла и хорошенько похлопала ладонью, отряхивая от снега, и шубка, которую она вместе с шапкой отдала маме.
– Хорошо, что ты приехал за нами, – сказала она, обернувшись к папе. – Нам самим в такую погоду ни за что бы не добраться!
– Ну не знаю, – ответил дедушка. – Хотя дорога длинная, конечно, и все время петляет.
Бабушка вошла в прихожую, расправила складки на платье, пригладила волосы.
– А вот и ты! – улыбнулась она, увидев меня.
– Привет! – сказал я.
Из-за спины у нее выглядывал дедушка со своим серым пальто в руках. Мама шагнула к нему мимо бабушки и, взяв у него пальто, повесила на вешалку под лестницей возле зеркала. За ними показался папа, он постучал ногами о ступеньку, сбивая с обуви снег.
– Привет, привет! – сказал мне дедушка. – Папа говорит, ты собрался встречать Новый год в своей компании?
– Точно, – сказал я.
– Какие же вы уже большие! – сказал дедушка. – Подумать только – на Новый год с компанией!
– Что поделаешь! – это из передней подал голос папа. – Наша его уже не устраивает. – Он взъерошил пятерней волосы и несколько раз покачал головой.
– Пойдем в гостиную? – предложила мама.
Я вошел вслед за ними, сел в плетеное кресло возле двери в сад, они уселись на диване. Тяжелые папины шаги донеслись сначала с лестницы, затем послышались наверху, из того места над гостиной, где находилась его комната.
– Я пойду поставлю вам кофе, – сказала мама, поднявшись с дивана.
Воцарившееся после ее ухода молчание легло на мою ответственность.
– А Эрлинг что, в Тронхейме? – спросил я.
– Да, в Тронхейме, – откликнулась бабушка. – Они собирались встречать Новый год дома.
На ней было синее шелковистое платье с черными узорами на груди. В ушах белые жемчужины, на шее – золотая цепочка. Волосы у нее были темные, видимо крашеные, хотя не факт – зачем тогда было оставлять седую прядку надо лбом? Не тучная, даже не полная, она тем не менее производила впечатление статности. С которой контрастировали ее движения, всегда проворные. Но самым ярким, самым примечательным в бабушке были ее глаза. Совершенно прозрачные и голубые, они то ли из-за необычного цвета, то ли по контрасту с темными волосами казались искусственными, словно сделанными из камня. У отца были в точности такие же глаза, и впечатление оставляли то же самое. Помимо любви к детям, примечательным бабушкиным свойством был ее дар садовода. Когда мы приезжали к бабушке с дедушкой летом, то, как правило, находили ее в саду, и в моих воспоминаниях она всегда предстает на его фоне. Вот она в садовых рукавицах, с растрепавшимися на ветру волосами несет в костер охапку сухих веток или стоит на коленях возле только что выкопанной ямки и осторожно разматывает мешковину с корней саженца, или, поворачивая расположенный под верандой кран, оглядывается через плечо, заработала ли дождевальная установка, а затем стоит подбоченясь и любуется на сверкающую в лучах солнца крутящуюся струю. А вот она, сидя на корточках, полет за домом грядки, заполнявшие каждую впадину и складку склона, словно лужи, что остаются в шхерах после отлива, отрезанные валунами от родной стихии. Мне, помнится, было жалко эти растения, беззащитные и одинокие, каждое торчит на своей кочке: как же они, наверное, тоскуют по той жизни, которая раскинулась внизу. Там, внизу, все растения жили дружной семьей, образуя все новые сочетания в зависимости от времени года и суток, как, например, те старые груши и сливы, которые бабушка когда-то привезла из дедовского сада, трепещущие листвой под порывами ветра, от которого волнуется падающая на траву тень на закате сонного летнего дня, когда солнце садится в устье фьорда, а городской шум доносится замирающим гулом, сливаясь с жужжанием ос и шмелей, копошащихся в лепестках белых роз, примостившихся зеленой каймой под стеной дома. На саде уже тогда лежала печать старины, той величавости и полноты, которые может дать только время, и, наверное, по этой причине теплицу бабушка устроила в самом низу, скрыв ее за пригорком, чтобы расширять свое поле деятельности, разводя все новые, редкие деревья и растения, не портя сад зрелищем неприхотливой хозяйственной постройки. Осенью и зимой за ее полупрозрачными стенами смутным пятном маячил бабушкин силуэт, и потом она как бы между прочим не без гордости сообщала нам, что огурцы и помидоры на столе – не покупные, а из ее теплицы. Дедушка садом совершенно не занимался и, когда бабушка и папа, или бабушка и Гуннар, или бабушка и дедушкин брат Алф принимались обсуждать цветы и деревья, так как в нашей семье все интересовались растениями, он предпочитал листать газету или проверять по таблице номер своего лотерейного билета. Меня всегда удивляло, что человек, постоянно работавший с числами, продолжал заниматься ими даже в свободное время, вместо того чтобы садовничать, или столярничать, или делать что-нибудь еще, требующее физических усилий. Но нет: числа на работе и числа во время досуга! Единственным посторонним увлечением, которое я за ним знал, была политика. Когда речь заходила о ней, он сразу оживлялся, у него были очень твердые убеждения, но желание подискутировать побеждало, и ему доставляло удовольствие, когда кто-то ему возражал. По крайней мере, в тех редких случаях, когда мама, сторонница либеральной «Венстре», высказывала свои взгляды, его глаза выражали полнейшую доброжелательность, хотя голос становился громче и тон резче. Что касается бабушки, то она в таких случаях всегда просила его поговорить о чем-нибудь другом или успокоиться. Она часто позволяла себе с ним иронию, порой даже насмешку, а он тоже не оставался в долгу, и, если дело было при нас, она всегда нам подмигивала, как бы давая понять, что это, мол, не всерьез. Бабушка была смешлива и любила рассказывать забавные истории из своей жизни или услышанные от людей. Она помнила все потешные детские словечки Ингве; с Ингве они были особенно близки, поскольку как-то в детстве он прожил у нее полгода, да и после часто к ней приезжал. Рассказывала она и про школьные приключения Эрлинга в Тронхейме, но больше всего ее историй восходило к 1930-м годам, когда бабушка работала водителем у одной богатой и, очевидно, впавшей в маразм дамы.
Теперь им с дедушкой было уже за семьдесят, причем бабушке немного больше, чем ему, на здоровье они не жаловались и по-прежнему ездили зимой за границу.
На некоторое время в комнате наступило молчание. Я старался придумать, что бы такое сказать. Повернулся и стал смотреть в окно, чтобы тишина не казалась такой гнетущей.
– А как там дела в кафедралке? – спросил наконец дедушка. – Страй еще способен сказать вам что-то разумное?
Страй был наш учитель французского. Маленький, плотненький, лысенький бодрячок лет семидесяти, он жил рядом с домом, где располагалась дедушкина контора. Насколько мне известно, между ними шла какая-то затяжная распря, возможно по поводу межевания их владений; судились ли они, я толком не знаю, как и не знаю, завершилась она или все продолжалась, во всяком случае, они не здоровались, причем уже много лет.
– Как сказать, – начал я. – Меня он всегда называет «этот оболтус в углу».
– Похоже на него, – сказал дедушка. – Ну, а как там старик Нюгор?
Я пожал плечами:
– Да прекрасно, по-моему. Продолжает в том же духе. Он ведь человек старой школы. А откуда, кстати, ты его знаешь?
– Через Алфа, – сказал дедушка.
– Ну да, конечно.
Дедушка встал, подошел к окну и постоял перед ним, заложив руки за спину. Если не считать падавшего из окон света, снаружи было совсем темно.
– Ну что, отец, что-нибудь там углядел? – спросила бабушка, подмигнув мне.
– Хорошо у вас тут в деревне, – сказал дедушка.
Тут вошла мама с четырьмя чашками. Он повернулся к ней:
– Я говорю Карлу Уве, что хорошо у вас тут в деревне.
Мама остановилась с чашками в руках, как будто не могла ответить ему на ходу.
– Да, место нам очень нравится, – сказала она, чуть улыбнувшись дедушке.
Она вся… Ну, словно вспыхнула. Не покраснела, не смутилась – нет. Скорее как будто осветилась изнутри. Мама всегда была такая. Если заговорит, то от всего сердца, а не просто чтобы произнести какие-то слова.
– Дом такой старый, – сказала она. – Стены пропитались прошлой жизнью. Это не всегда бывает на пользу. Но здесь у нас хорошо.
Дедушка кивнул, по-прежнему глядя в темноту. Мама подошла к столу и стала расставлять чашки.
– А где же хозяин? – спросил дедушка.
– Я здесь, – сказал папа.
Все обернулись на него. Он стоял в столовой возле накрытого стола, наклонившись под потолочными балками, с бутылкой вина, которую он, казалось, внимательно разглядывал.
Когда он туда прошел?
Я не слышал ни звука. А уж за его передвижениями по дому я всегда следил очень внимательно.
– Не принесешь еще дров, Карл Уве, пока не ушел? – сказал он.
– Сейчас, – ответил я, встал и пошел в коридор, сунул ноги в ботинки и отворил наружную дверь. Навстречу мне пахнуло ветром. Но снегопад прекратился.
Я пересек двор и вошел в дровяник под амбаром. Свет голой лампочки резко освещал каменную кладку стен. Весь пол был усыпан корой и щепками, из чурбака торчал топор. В углу лежала черно-оранжевая бензопила, которую отец купил сразу, как мы переехали. Когда он попробовал ею поработать, она не включилась. Он долго возился с ней, наконец выругался и пошел звонить в магазин, где ее покупал, чтобы предъявить претензию. «И что с ней?» – спросил я, когда он вернулся. «Ничего, – ответил он. – Просто они кое о чем забыли предупредить». По-видимому, о каком-то предохранителе, не позволяющем запустить пилу детям. Но теперь она заработала, и, свалив дерево, отец оставшиеся полдня занимался тем, что распиливал его на чурбаки. Я видел, что работа ему нравится. Но когда она была закончена, пилить стало нечего, и с тех пор бензопила валялась без дела в углу.
Я набрал поленьев, сколько поместилось в охапку, открыл ногой дверь, пошатываясь, поплелся через двор, думая главным образом о том, какое я произведу впечатление на гостей, скинул башмаки и вошел в гостиную, откинувши корпус назад и еле удерживая дрова.
– Посмотрите-ка на него! – сказала бабушка. – Ничего себе охапку ты притащил!
Я остановился перед корзиной для дров.
– Погоди, я тебе помогу, – сказал папа, подошел ко мне, снял верхние поленья и сложил их в корзину.
Выражение лица у него было натянутое, глаза холодные. Я опустился на колени и свалил остальные дрова в корзину.
– Ну, теперь до лета хватит, – сказал отец.
Я встал, отряхнул с рубашки приставшие щепочки и сел на стул, а папа, опустившись на корточки, подложил в камин несколько полешек. Он был в темном костюме, с темно-красным галстуком, черных ботинках и белой рубашке, оттенявшей льдистые голубые глаза, черную бороду и смугловатую кожу. В летний сезон он старался как можно больше времени проводить под открытым небом и к августу успевал загореть дочерна, но в этом году он, должно быть, зимой ходил в солярий, сообразил я вдруг, невозможно же так загореть, чтобы загар сохранялся всю зиму.
Под глазами у него появились мелкие морщинки, как бывает на старых кожаных вещах.
Он посмотрел на часы:
– Пора бы Гуннару приехать, а то мы до полуночи и поесть не успеем.
– Это все погода, – сказала бабушка. – Ехать надо осторожно.
Папа обернулся ко мне:
– А тебе не пора ли двигать?
– Пора, – сказал я. – Но я хотел сначала поздороваться с Гуннаром и Туве.
Папа только фыркнул:
– Иди веселись. Тебе тут с нами незачем рассиживаться.
Я встал.
– Твоя рубашка висит на шкафу, – сказала мама.
Я захватил рубашку с собой в комнату и переоделся. Черные хлопчатобумажные брюки с боковыми карманами, широкие сверху и зауженные внизу, белая рубашка, черный пиджак. Ремень с заклепками, который я собирался надеть, я скатал и положил в сумку, ибо если мне даже не запретят в нем идти, то уж точно заметят, а этого мне сейчас хотелось меньше всего. Вместе с ремнем я уложил черные «мартенсы», запасную рубашку, две пачки «Пэлл-Мэлл лайт», жевательную резинку и леденцы с ментолом. Покончив со сборами, я подошел к окну. Было пять минут восьмого. Давно пора было отправиться в путь, но имело смысл дождаться Гуннара, чтобы не нарваться на него по дороге. Выйти ему навстречу с двумя пакетами пива в руках было бы очень некстати.
Кроме ветра и деревьев на опушке леса, едва различимых в свете наших окон, на улице не заметно было ни малейшего движения.
Если через пять минут они не приедут, мне все равно придется идти.
Я надел верхнюю одежду, постоял минутку перед окном, пытаясь уловить малейший шум мотора и напряженно вглядываясь в тот участок пространства, где должен появиться свет автомобильных фар, затем отвернулся, выключил в комнате свет и стал спускаться по лестнице.
Папа был на кухне, он наливал воду в большую кастрюлю. Он посмотрел на меня.
– Уходишь? – спросил он.
Я кивнул.
– Веселого вечера, – сказал он.
У подножия холма, где оставленные утром следы давно замело снегом, я несколько секунд постоял, замерев на месте и прислушиваясь. Убедившись, что на дороге не слышно ни одного автомобиля, я поднялся по склону и углубился в заросли деревьев. Пакеты лежали там, где я их оставил, покрытые тонким слоем снега, который скатился с гладкой пластиковой поверхности, когда я поднял их с земли. С пакетами в обеих руках я спустился с холма, внизу опять постоял и прислушался. Не услышав ни звука, я перелез через сугроб на обочине и трусцой сбежал к повороту. Народу здесь жило немного – основная трасса шла по другому берегу реки, так что, если послышится автомобиль, это, скорее всего, будет Гуннар. Я поднялся на холм на повороте, возле которого жила семья Вильяма. Их дом стоял немного в стороне от дороги, у леса, который сразу за домом круто уходил вверх. В окне гостиной мерцал голубой свет телевизора. Дом семидесятых годов постройки стоял посреди невозделанного участка, на нем виднелись, кроме множества камней и крупных валунов, сломанные качели, накрытый брезентом штабель досок, разбитый автомобиль и несколько автомобильных покрышек. Я не мог понять, почему они так живут. Неужели им не хочется жить нормально? Или они не умеют? Неужели им все равно? Или им кажется, что у них все и так хорошо? Отец был приветливый и спокойный человек, мать вечно хмурая, трое детей всегда несуразно, не по росту одеты: одни вещи им малы, другие велики.
Как-то утром по дороге в школу я увидел их, отца и дочь, они карабкались вверх по каменной осыпи на другой стороне дороги, оба с окровавленными лбами, у девочки лоб был перевязан белым платком, который уже намок от крови. Помнится, я подумал тогда, что в них есть что-то звериное, потому что они ничего не говорили, не кричали, а только молча взбирались на каменную осыпь. Внизу под нею, капотом к дереву, стоял их грузовик. Ниже, где кончались деревья, чернея и поблескивая, катилась река. Я тогда спросил их, не могу ли я чем-то помочь. Отец ответил, что ничего не нужно. Все в порядке, крикнул он сверху со склона, и, хотя зрелище было таким неожиданным, что оторваться от него казалось невозможным, я чувствовал, что стоять и глазеть на них как-то неприлично, и продолжил свой путь к автобусной остановке. Позволив себе один раз обернуться, я увидел, как они ковыляют через дорогу, отец, как всегда в комбинезоне, поддерживал одиннадцатилетнюю дочку, обнимая за хрупкие плечики.
Мы часто дразнили ее и Вильяма, их ничего не стоило разозлить и выставить дураками – в словах и понятиях они не были особенно сильны, – но я не догадывался, что для них это что-то значит, пока однажды обычным скучным летним днем мы с Пером не решили зайти за Вильямом, позвать его поиграть в футбол, и тут на веранду вышла его мать и отругала нас, в особенности меня, за то, что я считаю себя лучше других, и в первую очередь лучше ее дочери и сына. Я что-то ответил, и тут оказалось, что она тоже не очень хорошо владеет словом, однако унять разъяренную женщину мне было не под силу, так что единственным, чего я тогда добился, был хохот Пера, восхищенного моим остроумием, впрочем, через час-другой мы оба о нем забыли. Но обитатели дома у поворота не забыли ничего. Отец был слишком добр, чтобы связываться с мальчишками, но уж мать… глаза у нее так и сверкали, стоило ей меня увидеть. А для меня они были просто объектом моего самоутверждения. Если Вильям являлся в школу в непромокаемых штанах, это становилось поводом показать, какую он сделал непростительную ошибку, а если он неправильно употреблял какое-то слово, то отчего же было не объяснить человеку его промах? Ну ведь правильно? Мы над ним потешались, а уж его дело было остановить нас или промолчать и стерпеть. У меня у самого имелись недостатки, они были у всех на виду – подходи и пользуйся, а если у Вильяма не хватало воображения, то разве это моя забота? Все находились в равных условиях. У Вильяма была своя компания, эти ребята курили во дворе под навесом, с тринадцати лет гоняли на мопедах, в четырнадцать начинали прогуливать школу, они дрались, выпивали и тоже потешались над Вильямом, но с их шуточками он как-то мирился, потому что на них он еще мог ответить. Другое дело мы, ребята с верхних участков, – мы пускали в ход саркастические замечания, иронию и убийственные комментарии, попадавшие в самую точку, и это доводило его до безумия, потому что находилось за пределами его понимания. Но он нуждался в нас больше, чем мы в нем, и он всегда возвращался. Когда я сюда переехал, меня тут никто не знал, и, хотя я, в сущности, оставался тем же, что раньше, это давало мне возможность делать такие вещи, каких я раньше никогда себе не позволял. Возле автобусной остановки была, например, сельская лавка, хозяйками были две сестры, старушки лет семидесяти, очень услужливые и очень медлительные. Если попросить у них товар с полки, которая была наверху, то они, повернувшись спиной к прилавку, копошились там минуту или две, и тут уж знай не зевай, бери что захочешь из сластей и рассовывай по карманам. А уж если за товаром надо было сходить в подвал! В Трумёйе мне бы и в голову не пришло такое проделывать, а тут я не только таскал из-под носа у старушек шоколадки и конфеты, но и других мальчишек на это подбивал. Они были на год младше меня и ни разу не выезжали за пределы своего поселка, и по сравнению с ними я ощущал себя таким бывалым, что дальше некуда. На клубничное поле они наведывались и без меня, но я завел в этом деле особенные изыски, подговорив ребят брать с собой в поле тарелку, ложку, сахар и молоко.
На фабрике мы должны были сами заполнять ведомость о выполненной работе; плату мы получали на основании этого документа. Оказалось, никому еще не приходило в голову, что можно смухлевать. Чем мы и занимались. Главное, в чем изменилось мое поведение, лежало в вербальной плоскости: я обнаружил, что язык позволяет властвовать и подчинять себе людей. Я ставил других в неловкое положение, изводил их, манипулировал ими и иронизировал, и ни разу никому из них не пришло в голову, что основа, на которой покоилась моя власть, крайне зыбка и что достаточно одного точного удара, чтобы ее обрушить. Ведь у меня был дефект дикции! Я не выговаривал «р»! Осмеянные мной легко могли в отместку за это ухватиться, и я был бы убит наповал. Но они этого ни разу не сделали.
Вернее, брат Пера, тремя годами младше меня, один раз предпринял такую попытку. Мы с Пером о чем-то разговаривали у них в конюшне, недавно оборудованной в гараже для пони, которого недавно приобрели для Марит, младшей сестры Пера; мы с ним весь вечер проболтались на улице, а потом устроились в конюшне, где было тепло и уютно, пахло сеном и лошадью, и тут Том, который не любил меня, по-видимому за то, что я претендовал на внимание брата, которое раньше принадлежало ему, вдруг вздумал меня передразнивать.
– Фод Сиея? – переспросил он. – Что такое Фод Сиея?
– Том, – упрекнул его Пер.
– «Фод-сиея» – это машина, – сказал я. – Ты что, не знал?
– Никогда не слыхал про машину, которая называется «фод», – сказал он. – А «сиея» уж тем более.
– Том! – снова одернул Пер.
– Ах, ты хотел сказать «форд»! – притворно удивился Том.
– Ну да, конечно, – подтвердил я.
– Так бы и говорил! «Форррд-сьеррра»!
– Мотай-ка ты отсюда, – сказал Пер.
Но Том не шелохнулся, и брат двинул ему кулаком в плечо.
– Ай! – вскрикнул Том. – Кончай драться!
– Вон отсюда, сопляк! – сказал Пер и двинул ему снова.
Том ретировался, а мы продолжали беседовать как ни в чем не бывало.
Странно, что это был единственный раз, когда кто-то из местных ребят попытался ударить меня в слабое место, тогда как я над ними измывался все время. Но они так не делали. Тут, в горах, я властвовал как король – король над мелюзгой. Но власть моя была ограниченной. Когда появлялся кто-то из моих ровесников или из тех, кто жил внизу в долине, она заканчивалась. Так что я тогда очень тщательно выбирал свое окружение, так же, как и сейчас.
На минутку я положил пакеты на дорогу, расстегнул куртку, вытащил из-под нее шарф, замотал подбородок, снова поднял пакеты и продолжил свой путь. Ветер завывал и бил в лицо, со всех сторон поднимал с земли снег и закручивал вихрем. До Яна Видара было четыре километра, так что следовало поторапливаться. Я припустил трусцой. Пакеты, как две гири, оттягивали мне руки. За поворотом показались фары. Их лучи пронизывали лес. Во вспышках света замелькали деревья, одно за другим. Я остановился, одной ногой ступил в канаву на обочине и осторожно опустил туда пакеты, а сам пошел дальше. Когда машина поравнялась со мной, я проводил ее глазами. За рулем сидел какой-то незнакомый старик. Я вернулся назад на только что пройденные двадцать метров, достал пакеты и продолжил путь, миновал поворот, прошел мимо дома, где жил одинокий старичок, и вышел на равнину, отсюда видны были огни фабрики, смутно горевшие в снежной мгле, прошел мимо запущенной старой усадьбы, которая стояла сегодня с темными окнами, и почти уже дошел до последнего дома перед перекрестком у главной трассы, как вдруг на дороге опять показалась машина. Я снова сделал то же самое – быстро сложил пакеты в кювет и с пустыми руками пошел по дороге. На этот раз это снова оказался не Гуннар. Когда машина проехала, я бегом вернулся к тому месту, где оставил бутылки, достал их из канавы и еще больше прибавил шагу, было уже половина восьмого. Я бежал вниз и почти добежал до главной дороги, когда проехало еще три автомобиля. Я снова положил пакеты с бутылками. Хоть бы это был Гуннар! – подумал я. Когда он проедет, мне больше не надо будет останавливаться и прятать пакеты при виде каждой машины. Две машины проехали, не сворачивая с трассы, к мосту, одна свернула и проехала мимо меня, но и в ней опять был не Гуннар. Я вернулся за пакетами, вышел на главную дорогу, прошел по ней мимо автобусной остановки, сельской лавки, авторемонтной мастерской, мимо старых домов, – все ярко светилось огнями, а кругом сплошная метель и сплошное безлюдье. Почти на самой вершине длинного пологого холма я увидел, как очередные фары скользнули по кромке дороги. Кювета тут не было, так что пришлось положить пакеты прямо в сугроб на обочине, а так как они были слишком заметны, я поспешил удалиться от них на несколько метров.
Когда машина проезжала мимо меня, я заглянул в салон. На этот раз там оказался Гуннар. В ту же секунду он обернулся и, узнав меня, затормозил. Вздымая тучи снега, озаренный красным светом габаритных огней, автомобиль постепенно сбавил скорость и, проехав еще метров двадцать, остановился и тотчас же дал задний ход. Визгнули тормоза.
Поравнявшись со мной, Гуннар открыл дверцу.
– Это ты, что ли, куда-то бредешь по такой погоде? – спросил он.
– Да уж, – вздохнул я.
– Куда это ты направляешься?
– В гости.
– Залезай, я тебя подвезу.
– Да не надо. Мне тут недалеко. Сам дойду.
– Нет, нет, – сказал Гуннар. – Садись давай!
Я замотал головой.
– Вы и так уж припозднились, – сказал я. – Уже скоро восемь.
– Ну и что, ничего страшного, – сказал Гуннар. – Давай полезай! А то Новый год и вообще! Еще не хватало тебе топать пешком в такую стужу. Мы тебя подвезем. End of discussion!
Я не мог больше возражать, чтобы не вызвать подозрений.
– Ну ладно! – сказал я. – Большое тебе спасибо.
Он небрежно фыркнул.
– Устраивайся сзади. И показывай дорогу.
Я открыл дверцу и забрался на заднее сиденье. На нем в детском креслице сидел их трехгодовалый сын Харалд и молча следил за моими движениями.
– Привет, Харалд, – сказал я, улыбнувшись мальчику.
С переднего пассажирского сиденья ко мне обернулась Туве.
– Привет, Карл Уве! – сказала она. – Как хорошо, что мы тебя встретили.
– Привет, – ответил я. – И с Новым годом.
– Ну, поехали! – сказал Гуннар. – Нам, очевидно, назад?
Я кивнул.
Мы доехали до автобусной остановки и снова повернули наверх. Проезжая мимо того места, где лежали пакеты с бутылками, я невольно посмотрел в ту сторону. Они были на месте.
– Тебе куда надо-то?
– Сначала вниз к одному приятелю в Сульслетту. А за ним уже в Сём. Там собирается компания.
– Если хочешь, я могу отвезти вас прямо туда, – сказал он. Туве только посмотрела на него.
– Нет, не стоит, – сказал я. – К тому же в автобусе будут и другие из нашей компании.
Гуннар был на десять лет моложе моего отца и работал в городе аудитором в большой фирме. Он, единственный из всех сыновей, пошел по стопам своего отца, другие два брата стали учителями. Папа преподавал в гимназии Веннесы, Эрлинг – в средней школе в Тронхейме. Но эпитет «дядя» мы употребляли только по отношению к Эрлингу, он был самый спокойный, и он меньше всех из братьев заботился о престиже. В детстве мы редко общались с братьями отца, но мы их любили, с ними можно было подурачиться и пошутить, особенно с Эрлингом, но и с Гуннаром тоже, мы с Ингве особенно любили Гуннара, наверное, потому, что он был ближе нам по возрасту. Он носил длинные волосы, играл на гитаре, а вдобавок у него был быстроходный катер с мотором «меркьюри» мощностью двадцать лошадиных сил, который он держал в Мандале, где в детстве мы подолгу гостили в летнее время. Его приятели, о которых он упоминал в разговорах, в моем сознании были окружены неким ореолом загадочности, отчасти потому, что у отца приятелей не было, отчасти потому, что я никогда их не видел, а только наблюдал, как Гуннар отправляется к ним на катере, поэтому я воображал себе их жизнь как непрестанное катание на быстроходных катерах среди шхер, где ветер треплет их выгоревшие на солнце светлые волосы, а они, радостные, улыбаются, подставляя ему обветренные, загорелые лица, а ночи проводят с гитарой и за картами, и тут к ним присоединяются девушки.
Но теперь он был женатым человеком и отцом, и, хотя он продолжал держать катер, романтическая морская аура куда-то пропала. Как и длинные волосы. Его жена Туве была дочерью ленсмана, ее семья жила в Трёнделаге, сама она преподавала в начальной школе.
– Хорошо встретили Рождество? – спросила она, обернувшись ко мне.
– Да, спасибо.
– Говорят, Ингве приезжал? – спросил Гуннар.
Я кивнул. Ингве был его любимцем, должно быть, потому, что родился первым и подолгу бывал у бабушки с дедушкой, когда Гуннар жил еще у родителей. Но, возможно, и потому, что брат был покрепче меня и не ревел по любому поводу. С Ингве ему было весело. Поэтому, встречаясь с ними, я старался исправить положение, много шутил, много острил, чтобы доказывать обоим, что я такой же легкий человек, как они, такой же веселый, такой же сёрланнец в душе, как они.
– Он уехал несколько дней назад, – сказал я. – Собирался на природу с друзьями.
– Да, что и говорить, совсем арендальцем стал, – сказал Гуннар.
Мы проехали молельный дом, миновали поворот в расселину, в которую никогда не заглядывало солнце, переехали через мост. По лобовому стеклу туда-сюда ходили «дворники». Гудел вентилятор. Рядом сонно моргал Харалд.
– У кого же вы собираетесь праздновать? – спросил Гуннар. – У кого-то из одноклассников?
– Вообще-то у девочки из параллельного класса, – сказал я.
– Да, в гимназии жизнь сразу меняется, – заметил он.
– Ты ведь тоже учился в кафедралке? – спросил я Гуннара.
– Ну да, – ответил он, обернувшись ровно настолько, чтобы встретиться со мной взглядом, прежде чем снова обратить все внимание на дорогу. Лицо у него было узкое и длинное, как у отца, но синие глаза были темнее, скорее дедушкины, чем бабушкины. Затылок – массивный, как у отца и у меня, а губы, нервные и говорившие о его душе больше, чем глаза, – такие же, как у папы и у Ингве.
Мы выехали на равнину, и свет фар, до сих пор упиравшийся в деревья и скалы, в стены домов и обрывы, наконец вырвался на простор.
– Это на той стороне долины, – сказал я. – Можно остановиться тут, у магазина.
– Хорошо, – сказал Гуннар, сбавил скорость и остановился.
– Счастливо попраздновать, – сказал я. – И с Новым годом.
Я захлопнул дверцу и пошел в сторону дома Яна Видара; автомобиль развернулся и поехал обратно к дороге. Когда он скрылся из вида, я пустился бегом. Теперь у нас и впрямь времени стало в обрез. Я вприпрыжку сбежал по склону к их участку, увидел в его комнате свет, подошел к окну и постучал в стекло. За ним тотчас показалось лицо Яна Видара; прищурившись, он вглядывался в темноту. Я показал в сторону двери. Разглядев наконец меня, он кивнул, и я пошел вокруг дома к крыльцу.
– Ты уж извини, – сказал я. – Но пиво осталось на горе возле Крагебру. Придется за ним сбегать.
– Что оно там делает? – удивился он. – Почему ты его не взял?
– Встретил на дороге дядю, – сказал я. – Я едва успел забросить пакеты в канаву, прежде чем он затормозил. Уперся, что меня подвезет, и ни в какую. Отказаться я не мог, а то он бы что-то заподозрил.
– Такая хрень, – вздохнул Ян Видар. – Прямо как нарочно!
– Не то слово, – сказал я. – А теперь давай, надо спешить.
Несколько минут спустя мы уже карабкались вверх по склону к дороге. Ян Видар надвинул шапку на самые брови, рот замотал шарфом, поднял воротник до ушей. Остались только глаза, но круглые ленноновские очки не давали встретиться с ним взглядом.
– Надо ускориться, – сказал я.
– Ну да, – отозвался он.
Трусцой, подволакивая ноги, чтобы экономить силы, мы побежали обратно по дороге. Ветер дул в лицо. Вокруг мела поземка. Из зажмуренных глаз у меня текли слезы. Ноги закоченели и ничего не чувствовали, превратившись в две деревяшки внутри ботинок.
Мимо проехала машина, продемонстрировав нам, что двигаемся мы безнадежно медленно: в мгновение ока она скрылась за поворотом на другой стороне долины.
– Может, перейдем на шаг? – крикнул мне Ян Видар.
Я кивнул:
– Только бы пакеты оказались на месте.
– Что? – воскликнул Ян Видар.
– Пакеты! – крикнул я в ответ. – Надеюсь, никто их не стащил.
– Да какой дурак сейчас из дома высунется! – ответил Ян Видар.
Мы засмеялись. Дошли до края долины и снова припустили бегом. Поднялись на гору, откуда начиналась ведущая вниз проселочная дорога к странному усадебному дому на берегу реки, перешли через мост, миновали расселину, заброшенную авторемонтную мастерскую, прошли мимо молельного дома и маленьких белых домишек пятидесятых годов по обе стороны дороги, пока наконец не добрели до того места, где я оставил пакеты с пивом. Мы взяли каждый по пакету и потащились обратно.
Дойдя до молельного дома, мы услышали сзади автомобиль.
– Проголосуем? – предложил Ян Видар.
– Почему бы и нет?
Мы встали на обочине с мешками в левой руке и, вытянув вперед правую с поднятым вверх большим пальцем, старательно заулыбались навстречу приближающемуся автомобилю. Тот даже не мигнул фарами. Мы потрусили дальше.
– Что будем делать, если никто не подбросит? – спросил через некоторое время Ян Видар.
– Да подбросят, – сказал я.
– Тут в час проезжает две машины, – сказал он.
– А что, есть другие предложения?
– Не знаю, – сказал он. – А вон у Ричарда тоже компания собралась.
– Иди ты знаешь куда? – сказал я.
– А в Хьевике у Стига и Лив тоже собрались друзья, – сказал он. – Чем плохо?
– Мы же решили в Сём! Так ведь? – сказал я. – Нашел когда предлагать, где встречать Новый год! Когда он уже вот-вот наступит!
– Он вот-вот наступит, а мы – на обочине! Клево, правда? Сзади появился еще автомобиль.
– Гляди-ка! – сказал я. – Еще машина.
Она не остановилась.
Когда мы вновь очутились перед домом Яна Видара, было уже половина девятого. У меня замерзли ноги, и я чуть было не предложил бросить пиво и пойти к нему встречать Новый год с его родителями. Лютефиск и лимонад, мороженое, пирожные и фейерверк. До сих пор мы так всегда его и встречали. Поймав взгляд Яна Видара, я понял, что и у него мелькнула та же мысль. Но мы отправились дальше. За пределы поселка, мимо дороги, спускавшейся к церкви, за поворот и вверх, вдоль домов, в одном из которых жил наш одноклассник Коре.
– Как думаешь – Коре празднует где-то в компании?
– Я даже точно знаю: он у Ричарда, – сказал Ян Видар.
– Еще одна причина туда не ходить, – сказал я.
Не то чтобы с Коре что-то было не так, и в то же время не так было все. Огромные оттопыренные уши, толстые губы, жиденькие, песочного цвета волосы и злые глазки. Он всегда злился и, видимо, имел на то причины. В то лето, когда я перешел в эту школу, он лежал в больнице с переломами ребер. Они с отцом ездили в город покупать строительные материалы, среди прочего купили и несколько больших щитов, уложили их на прицеп, но толком не закрепили, и по дороге возле моста Вароддбру отец попросил Коре перейти в прицеп и присмотреть за стройматериалами. Его выбросило вместе со щитами на дорогу, он неудачно упал и сильно расшибся. Мы потешались над этим всю осень, и до сих пор стоило Коре появиться, как вспоминалось именно это.
Теперь он обзавелся мопедом и стал водиться с другими мопедистами.
С другой стороны того же поворота жила Лив, на которую Ян Видар давно уже поглядывал по-особенному. Я, конечно, мог бы с этим смириться. У нее была хорошая фигура, но держалась она и шутила как мальчишка, что перекрывало впечатления от груди и бедер. Кроме того, однажды в автобусе она оказалась прямо передо мной. Она почему-то все время трясла руками перед другими девчонками, трясла и трясла как ненормальная, а потом вдруг и говорит: «До чего же они противные, эти его длинные ручищи!» Не видя ожидаемой реакции, она обернулась и так покраснела, как никогда еще не краснела у меня на глазах, после этого уже не оставалось ни малейшего сомнения в том, чьи именно руки настолько отвратительны.
Ниже по склону стояло здание клуба, за ним начиналась невысокая, но крутая горка, спускавшаяся к магазину, а дальше тянулась длинная долина Рюен, в конце которой находился аэродром.
– Пожалуй, я покурю, – сказал я, кивнув в сторону автобусной остановки напротив клуба. – Может, постоим там немного?
– Ну, покури, – сказал Ян Видар. – Все-таки Новый год!
– А может, глотнем пивка? – спросил я.
– Здесь-то? А смысл?
– Ты что, злишься?
– В каком смысле?
– Да ладно тебе!
Я снял рюкзак, достал зажигалку и пачку сигарет, открыл ее, заслонил горстью пламя и прикурил.
– Будешь? – Я протянул ему пачку.
Он помотал головой. Я закашлялся, и от дыма, застрявшего в горле, подступила рвота.
– Елки-палки! – сказал я.
– Ну что, отдышался? – спросил Ян Видар.
– Обычно я не кашляю, – сказал я. – Дым в горло попал. Это не потому, что я не привык.
– Да ясно, – сказал Ян Видар. – У всех, кто курит, дым попадает в горло, и они кашляют.
– Ха-ха! – сказал я.
В темноте из-за поворота показалась машина. Ян Видар шагнул вперед и выставил вверх большой палец. Машина остановилась! Он подошел к ней и открыл дверцу. Затем обернулся и замахал мне рукой. Я отбросил сигарету, перекинул рюкзак через плечо, схватил пакет с бутылками и тоже подошел. Из машины вышла Сусанна. Она наклонилась, нажала на рычаг и опустила спинку переднего сиденья. Затем взглянула на меня:
– Так это ты, Карл Уве!
– Так это ты, Сусанна?
Ян Видар уже залезал в темный салон. В пакете звякнули бутылки.
– Можешь положить пакет в багажник, – предложила Сусанна.
– Не надо, – сказал я. – Тут хватит места.
Я уселся и поставил пакет между ног. Сусанна села впереди. Сидевший за рулем Терье обернулся и посмотрел на меня.
– Путешествуете автостопом в новогоднюю ночь? – спросил он.
– Ну, можно и так сказать, – произнес Ян Видар, словно намекая, что автостоп тут ни при чем. – Просто у нас сегодня редкостный облом.
Терье включил передачу, проехал первые несколько метров юзом, пока колеса не поймали сцепление, и мы покатили по склону вниз, в долину.
– А куда вам надо, мальчики? – спросил он.
Мальчики!
Вот придурок! Как вообще можно ходить с перманентом и думать, что это красиво? Неужели человек воображает, что с этими усиками и перманентом на голове он выглядит круто?
Подрасти сначала! Скинь килограммчиков двадцать. Сбрей усики. И волосы подстриги. Тогда и поговорим!
Как Сусанна могла его выбрать?
– В Сём, встречать Новый год, – сказал я. – А вы куда?
– Мы только до Хамре, – сказал он. – На вечеринку к Хельге. Но можем подбросить вас, если хотите, до перекрестка в Тименесе.
– Отлично, – сказал Ян Видар. – Огромное вам спасибо.
Я посмотрел на него, но он отвернулся к окну и не заметил моего взгляда.
– А кто будет у Хельге? – спросил он.
– Как обычно, – сказал Терье. – Ричард Эксе, Молле, Ёгге, Хеббе. Хьёди. И Фруде, и Йон, и Юмос, и Бьёрн.
– Без девушек?
– Как же, и девушки будут. Думаешь, мы совсем чокнутые?
– И кто же?
– Кристин, Ранди, Катрина, Хильда… Ингер, Эллен, Анна Катрина, Рита, Вибеке… Что, может, ты тоже хочешь?
– Да нет, мы же в другую компанию, – ответил я вместо Яна Видара, прежде чем он успел что-то сказать. – И мы уже здорово опаздываем.
– А вы бы еще поголосовали.
Впереди показались огни аэропорта. За рекой, через которую мы переехали, высился ярко освещенный слаломный трамплин возле школы.
– Ну и как тебе в коммерческом училище, Сусанна? – спросил я.
– Хорошо, – ответила она с переднего сиденья, не меняя напряженной позы. – А у тебя в кафедралке?
– Хорошо, – сказал я.
– Ты ведь вроде в одном классе с Молле? – Терье глянул на меня.
– Точно, – сказал я.
– Так это тот класс, где у вас двадцать шесть девчонок?
– Да.
Он засмеялся:
– В школу небось как на праздник, а?
Впереди у дороги возникла площадка для кемпинга, покрытая снегом и заброшенная, с другой стороны – молельный домик, супермаркет и заправка «Эссо». Небо над крышами домов, теснящихся на склоне, мигало от вспышек ракет. На парковке стоял чурбак, вокруг него собралась компания и запускала в небо светящиеся шары, рассыпавшиеся огненными искрами. По дороге, параллельной нашей, тянулась вереница машин. С другой стороны виднелся пляж. Белый слой льда, покрывавший бухту, метрах в ста от берега пошел черными трещинами.
– А сколько сейчас времени? – спросил Ян Видар.
– Половина десятого.
– Черт! До двенадцати мы и напиться-то не успеем, – сказал Ян Видар.
– Вам к двенадцати надо быть дома?
– Ха-ха, – сказал Ян Видар.
Несколько минут спустя Терье остановился возле автобусной остановки на перекрестке у Тименеса. Мы вылезли из машины и, подхватив свои пакеты, пошли ждать под навесом.
– Автобус у нас был в десять минут девятого? – сказал Ян Видар.
– Именно, – сказал я. – Но вдруг он задерживается?
Мы засмеялись.
– Ну и черт с ним! – сказал я. – Уж теперь-то мы можем выпить по пиву.
Я не умел открывать бутылки зажигалкой и протянул ее Яну Видару. Не говоря ни слова, он, подцепив крышку, открыл две бутылки. Одну подал мне.
– Ух, хорошо, – сказал я, отирая рот тыльной стороной руки. – Можно раздавить еще по парочке, чтобы уж подготовиться как следует.
– Вообще-то у меня ноги задубели, – пожаловался Ян Видар. – А у тебя?
– Вообще-то тоже, – сказал я.
Я приставил бутылку ко рту и заглотнул сколько смог. Когда я ее опустил, там осталось совсем чуть-чуть на донышке. Желудок заполнился пеной и воздухом. Я попробовал рыгнуть, но воздух не выходил, а поднялась только пена и пузырьками выступила на губах.
– Еще одну откроешь? – спросил я.
– Без проблем, – сказал Ян Видар. – Только мы же не собираемся торчать тут весь вечер!
Он сковырнул крышку и протянул мне следующую бутылку. Я приложил ее ко рту и сосредоточенно закрыл глаза. Я выпил полбутылки с гаком за раз. Снова рыгнул пеной.
– Тьфу, зараза! – сказал я. Так быстро пить – хорошего мало. Дорога, возле которой мы ждали, была главной магистралью между городами, и машины по ней так и сновали. Но за те десять минут, что мы тут простояли, проехало всего две, и обе в направлении Лиллесанна.
Под яркими фонарями клубились снежинки. Ветер, став видимым благодаря снежинкам, вздымался и падал волнами, то медленными и как бы протяжными, то крутыми и взвихренными. Ян Видар стучал ногой об ногу – то правой о левую, то левой о правую.
– Ты бы выпил, что ли, – сказал я, опорожнив бутылку и зашвырнув в лес за навесом. – Еще одну! – потребовал я.
– Тебя же вырвет, – сказал Ян Видар. – Уймись!
– Еще чего! – сказал я. – Давай следующую! И так уже скоро десять.
Он открыл новую бутылку и дал ее мне.
– Что будем делать? – сказал он. – Пешком идти – слишком далеко. Автобус ушел. Ни одной попутной машины. Тут даже автомата нет, чтобы кому-нибудь позвонить.
– Наверное, мы тут и помрем, – сказал я.
– Эй! – воскликнул Ян Видар. – Смотри-ка – автобус! Арендальский!
– Шутишь? – сказал я и посмотрел вверх на дорогу.
Ян Видар не шутил. На холм из-за поворота выехал настоящий, большой автобус.
– Давай бросай бутылку, – сказал Ян Видар. – И улыбайся поприветливей!
Он вытянул руку. Автобус мигнул поворотником и остановился, дверь открылась.
– Два до Сёма, – сказал Ян Видар, протягивая водителю сотню.
Я окинул взглядом салон. В нем было темно и совершенно пусто.
– С выпивкой вы пока подождите, – сказал водитель, доставая сдачу. – Договорились?
– Разумеется, – сказал Ян Видар.
Мы сели в середине салона. Ян Видар откинулся на спинку и уперся ногами в щиток, который отгораживал сиденье от двери.
– Красотаааа! – сказал я. – Тепло и здорово.
– М-м-м, – промычал Ян Видар.
Я наклонился и начал развязывать ботинки.
– Ты адрес-то знаешь? – спросил я.
– Где-то на Эльгстиен, – сказал он. – Примерно представляю, куда идти.
Я снял ботинки и растер руками ступни. Когда мы подъехали к заправке самообслуживания, которая стояла там с незапамятных времен и раньше, когда мы еще жили в Арендале и ездили в гости к дедушке с бабушкой, служила нам знаком, что мы приближаемся к Кристиансанну, я успел завязать шнурки, и к тому моменту, когда автобус после поворота подъехал к остановке у моста Вароддбру, был готов к выходу.
– С Новым годом! – крикнул Ян Видар водителю, выскакивая вслед за мной в ночную тьму.
Хотя я проезжал это место сотни раз, но нога моя еще ни разу сюда не ступала, кроме как во сне. Мост Вароддбру был одним из тех мест, которые являлись мне во сне чаще всего. Иногда я видел себя у подножия моста, и тогда его мачта высоко вздымалась у меня над головой, иногда мне снилось, что я по нему иду. Причем ограждение моста иногда исчезало, и мне приходилось, сев на дорогу, искать, за что ухватиться, а иногда мост внезапно проваливался, и я неудержимо соскальзывал ближе к краю. Когда я был меньше, эту функцию в моих снах исполнял мост Трумёйи. Теперь его сменил Вароддбру.
– Мой отец был на его открытии, – сказал я, кивая на мост, когда мы переходили через дорогу.
– Повезло ему, – сказал Ян Видар.
Мы молча потрусили к поселку. Обычно отсюда открывался замечательный вид на Хьевик и на фьорд, который с одной стороны уходил, глубоко вдаваясь в сушу, а с другой тянулся к морю. Но сегодня было темно хоть глаз коли.
– Вроде ветер поулегся? – спросил я через некоторое время.
– Похоже на то, – сказал Ян Видар, оборачиваясь ко мне. – Кстати, пиво-то действует?
Я покачал головой:
– Нисколечки. Так что зря старался.
Вскоре нас обступили дома. Одни – пустые и темные, другие – полные нарядных людей. На некоторых верандах толпился народ, запускающий ракеты. Перед одним домом компания ребятишек размахивала на ветру бенгальскими огнями. У меня снова окоченели ноги. Пальцы свободной руки я сжал в кулак внутри варежки, но теплее им не стало. Было уже близко, как уверял Ян Видар, остановившись на перекрестке.
– Ну, вот и Эльгстиен. Туда наверх Эльгстиен, и туда наверх Эльгстиен. И сюда вниз. И туда вниз. Выбирай! Куда пойдем?
– И все четыре улицы называются Эльгстиен?
– Судя по всему, да. Но которую нам выбрать? Положись на свою женскую интуицию!
Женскую? Почему он так сказал? Он считает, я похож на женщину?
– Что ты имеешь в виду? – спросил я. – С какой стати у меня женская интуиция?
– Да ладно, Карл Уве! Давай говори, куда идти!
Я ткнул пальцем вправо, и мы пошли в ту сторону. Нам нужен был дом тринадцать. На первом доме значился номер двадцать три, на следующем двадцать один, так что мы были на верном пути.
Спустя несколько минут мы подошли к дому. Он был семидесятых годов постройки и выглядел довольно запущенным. Дорожку к дому давно не чистили, и, судя по ведущим к двери следам, там можно было провалиться в снег по колено.
– А как звать хозяина вечеринки? – спросил я, когда мы подошли к двери.
– Ян Ронни, – сказал Ян Видар и нажал на кнопку звонка.
– Ян Ронни? – переспросил я.
– Так его зовут.
Дверь отворилась, на пороге появился, вероятно, хозяин. У него были короткие светлые волосы, прыщи на щеках и переносице, на шее – золотая цепочка, черные джинсы, хлопчатобумажная рубашка в клетку и белые теннисные носки. Он улыбнулся и ткнул Яна Видара пальцем в живот.
– Ян Видар! – произнес он.
– Он самый, – сказал Ян Видар.
– А ты, значит… – продолжал хозяин, указывая пальцем на меня, – Кай Улаф?
– Карл Уве, – поправил я.
– What the fuck[6]. Заходите. Мы уже за столом.
Мы разделись в прихожей и спустились за ним по лестнице в подвальную комнату. Там было пять человек. Они смотрели телевизор. На столе было множество пивных бутылок, плошек с чипсами, сигаретных и табачных пачек. Эйвинн, сидевший на диване в обнимку со своей подружкой Леной, которая училась только в седьмом классе, но была уже такая хорошенькая и дерзкая, что разницы в возрасте никто не замечал, встретил нас улыбкой.
– О, здорово! – сказал он. – Хорошо, что выбрались.
Он познакомил нас с остальными присутствующими. Руне, Йенсом и Эллен. Руне был в девятом классе, Йенс и Эллен в восьмом, а Ян Ронни, двоюродный брат Эйвинна, учился в ремесленном училище на машиниста и механика. Никто из них к празднику не нарядился. Даже белую рубашку не надел.
– Что смотрите? – спросил Ян Видар, садясь на диван. И вынул из пакета бутылку пива. Я остался стоять у стены под низеньким подвальным окошком, закрытым снаружи сугробом.
– Фильм с Брюсом Ли, – сказал Эйвинн. – Он скоро кончится. Но у нас есть еще «Холостяцкая вечеринка» и один фильм про «Грязного Гарри». Да и у Яна Ронни есть кое-что. Что хотите посмотреть? Нам без разницы.
Ян Видар пожал плечами:
– Мне тоже. Что скажешь, Карл Уве?
Я пожал плечами.
– У вас открывалки нет?
Эйвинн потянулся через стол, взял зажигалку и кинул мне. Но я не умел открывать пиво зажигалкой. Попросить Яна Видара, чтобы он открыл, я тоже не мог, я же не гомик.
Я достал из пакета бутылку, взял в рот горлышко, приноровился, чтобы пробка попала краем под коренные зубы, прикусил и дернул. Пробка с шипением сорвалась с бутылки.
– Не смей так делать! – воскликнула Лена.
– Все в порядке, – сказал я.
Я выпил бутылку одним духом. Но не считая того, что желудок у меня раздулся от углекислого газа, из-за которого мне пришлось несколько раз сглотнуть поднимавшуюся в горле пену, я ровным счетом ничего не ощутил. А на вторую пороха уже не хватило.
В ступни возвращалось тепло, и они болели.
– Ни у кого спиртику нет? – спросил я.
– К сожалению, у нас только пиво, – сказал Эйвинн. – Можем с тобой поделиться, если хочешь.
– Спасибо, у меня у самого есть, – сказал я.
Эйвинн помахал своей бутылкой.
– Пей – не жалей! – сказал он.
– Пей – не жалей, – повторили за ним остальные и чокнулись друг с другом бутылками. Все смеялись.
Я достал из кармана пачку сигарет, закурил. «Пэлл-Мэлл лайт» – не самая крутая марка, и сейчас, стоя с совершенно белой сигаретой в руке, – даже фильтр белый, – я пожалел, что не купил «Принс». Но все мои мысли были заняты компанией, к которой мы собирались присоединиться после двенадцати часов, – компанией, куда входила Ирена из нашего класса, а там с легкими «Пэлл-Мэлл» я уже не буду особо выделяться среди остальных. Кроме того, эту марку курил Ингве. Во всяком случае, он курил именно эти сигареты в тот единственный раз, когда я застал его за этим в саду, пока папа с мамой были в гостях у дяди Алфа.
Мне понадобилось открыть очередную бутылку. Делать это зубами не хотелось, – кто-то сказал мне, что рано или поздно это кончится плохо и я сломаю зуб. Если сейчас, когда все уже убедились, что я и сам могу открывать бутылки зубами, попросить Яна Видара открыть мне бутылку, никто, наверное, уже не подумает, что я веду себя как гомик.
Я подошел к нему, взял из плошки горсть чипсов и спросил:
– Откроешь мне бутылку?
Он кивнул, не отрываясь от экрана.
В последний год он занимался кикбоксингом. Я все время об этом забывал и каждый раз удивлялся, когда он звал меня на какую-нибудь товарищескую встречу или что-то подобное. Я, естественно, всегда отказывался. Но тут шел фильм с Брюсом Ли, где вся соль была в драках, а он в этом кое-что смыслил.
С бутылкой в руке я вернулся на свое место у стены. Никто ничего не сказал. Эйвинн посмотрел на меня:
– Ты бы сел, Карл Уве.
– Мне и так хорошо.
– Ну, тогда будь здоров, – сказал он, протягивая мне бутылку.
Я сделал два шага ему навстречу и чокнулся с ним бутылкой.
– Была не была, выпьем до дна! – сказал он.
Кадык у него заходил вверх-вниз, словно поршень, совсем как у взрослого мужика.
Эйвинн был очень рослым для своего возраста и к тому же на редкость сильным, с телосложением взрослого мужчины. В то же время он был добрый, и его словно не волновало, что делается вокруг, во всяком случае, он относился ко всему без напряга. Словно был неуязвим для окружающего мира. Он играл у нас на ударных – ну да, отчего бы не поиграть! Он встречался с Леной, – а почему бы и нет? Он с ней почти не разговаривал, а только таскал ее с собой по приятелям. Ну и что – ей же нравится с ним больше, чем с другими! Я как-то, пару месяцев назад, попробовал к ней подъехать, так только – прощупать почву, но, хотя я был на два года старше их, она не проявила ко мне никакого интереса. Смех да и только! Я, окруженный в гимназии девушками, должен искать к ней подходы? К семикласснице? Но грудь у нее под майкой выглядела впечатляюще. И мне по-прежнему хотелось снять с нее эту майку. И по-прежнему хотелось ощущать ее груди в своих ладонях, невзирая ни на какую гимназию. Ничто ни в ее теле, ни в поведении не выдавало, что ей всего четырнадцать.
Я приложился к бутылке и осушил ее до дна. Больше, кажется, в меня уже не влезет, подумал я, ставя ее на стол и принимаясь открывать зубами новую. Углекислый газ переполнял мой желудок. Еще немного, и у меня пена брызнет из ушей. К счастью, время подходило к одиннадцати. В половине двенадцатого мы можем отсюда уйти и провести остаток праздника в другой компании. Если бы не это, я бы уже давно ушел.
Тут парень по имени Йенс привстал с дивана, схватил со стола зажигалку и приставил ее к заднице.
– Внимание! – крикнул он.
Он пукнул, щелкнув зажигалкой, и сзади у него вспыхнул огненный шарик.
– Угомонись! – сказала Лена.
Ян Видар улыбался, старательно избегая моего взгляда. С бутылкой в руке я прошел к двери в противоположном конце комнаты. Дверь вела в маленькую кухоньку. Я оперся о разделочный стол. Дом стоял на склоне горы, и кухонное окно, расположенное довольно высоко над землей, выходило в сад позади дома. За окном качались на ветру две сосны. Ниже виднелось несколько домов. В одном из окон трое мужчин и женщина беседовали, стоя с бокалами в руках. Мужчины были в черных костюмах, женщина в черном платье с оголенными плечами. Я подошел к другой двери и открыл ее. Душевая. На стене висел костюм аквалангиста. «Надо же!» – подумал я и вернулся в комнату. Все по-прежнему сидели за столом.
– Чувствуешь что-нибудь? – спросил Ян Видар.
Я покачал головой:
– Нет. Ничего. А ты?
Он улыбнулся.
– Самую малость.
– Нам, кажется, скоро пора, – сказал я.
– Куда это вы? – спросил Эйвинн.
– На перекресток. В двенадцать все там собираются.
– Да на фиг, еще только одиннадцать. Мы тоже пойдем туда. Вместе так вместе, черт возьми!
Он посмотрел на меня:
– Зачем ты сейчас-то туда собрался?
Я пожал плечами:
– Я договорился кое с кем там встретиться.
– Конечно же, мы вас подождем, – сказал Ян Видар.
Когда мы вышли из дома, было уже половина двенадцатого. Тихий поселок, в котором еще полчаса назад не было видно ни души, не считая одного-двух силуэтов на веранде или на дворе перед домом, ожил и наполнился движением. Из домов на улицу потоком хлынула нарядная публика. Женщины на высоких каблуках, в наброшенных на плечи пальто, с бокалами в руках, мужчины в пальто поверх костюмов, в лаковых ботинках с упаковками ракет, и вертящиеся вокруг взрослых возбужденные ребятишки, многие с зажженными бенгальскими огнями в руках, заполнили пространство смехом и возгласами. Мы с Яном Видаром несли по белому пластиковому пакету с пивом, шагая вместе с буднично одетыми прыщавыми учениками ремесленного училища, с которыми провели вечер. То есть не то чтобы вместе. На случай, если встретится кто-то знакомый по школе, я все время держался на несколько шагов впереди. Как будто я то и дело замечаю и рассматриваю что-то интересное, чтобы те, кто нас увидит, вдруг не подумали, что у нас есть что-то общее с этой компанией. Но мы действительно от них отличались. Вид у меня был вполне ничего: белая рубашка с подвернутыми рукавами, как осенью научил меня Ингве, чтобы выглядеть правильно; поверх пиджака с черными брюками на мне было серое пальто, на ногах «мартенсы», на запястьях – кожаные ремешки. Волосы – длинные на затылке и очень короткие на темени. Из общей картины выпадал только пластиковый пакет с пивом. Сознавать это было мучительно. Пакет связывал меня с затрапезной компанией, которая, шатаясь, плелась позади, потому что пластиковые пакеты с пивом тащил с собой каждый из них без исключения.
На перекрестке, расположенном на пригорке и ставшем местом общего сбора, потому что с него была видна вся бухта, царил сущий хаос. Народу собралась такая толпа, что не протолкнуться, было много пьяных, и все непременно желали пускать ракеты. Со всех сторон трещало и грохотало, от порохового дыма щипало в носу, он плавал в воздухе, и под затянутым тучами небом одна за другой рвались разноцветные петарды. Оно дрожало от огненных вспышек так, что казалось, вот-вот треснет и разорвется.
Мы остановились с краю этого столпотворения. Эйвинн, который тоже принес с собой фейерверк, достал крупный кубик, с виду напоминающий шашку динамита, и положил его себе под ноги. Его пошатывало. Ян Видар, как всегда с перепоя, молол что-то не умолкая, с его лица не сходила улыбка. Сейчас он разговаривал с Руне. Речь шла о кикбоксинге, и каждый обрел в другом родственную душу. Его очки все время запотевали, но он перестал снимать их и протирать. Я стоял в нескольких шагах от них и шарил глазами по толпе. Когда кубик рванул в первый раз и вокруг меня полыхнуло красным, я вздрогнул. Эйвинн радостно засмеялся.
– Неплохо! – воскликнул он. – Может, попробуем сразу два? – Он выставил рядом с первым еще один и, не дожидаясь ответа, поджег.
Кубик начал плеваться горящими шарами, и эта их ритмическая пальба привела Эйвинна в такой восторг, что он с лихорадочной поспешностью, не дожидаясь, когда отстреляет этот, выхватил третий.
– Ха-ха-ха! – хохотал Эйвинн.
Мужчина рядом с нами зашатался и свалился прямо в сугроб. К нему бегом бросилась женщина на высоких каблуках и стала его тащить за руку, не с такой силой, чтобы его поднять, а ровно с такой, чтобы заставить его подняться самостоятельно. Он принялся отряхиваться от снега, глядя куда-то вдаль, как будто не валялся только что в сугробе, а просто остановился поглядеть по сторонам. Двое мальчишек на крыше автобусной остановки наклонили свои петарды под углом к земле, подожгли и продолжали держать их в руках, отвернувшись от шипения, а потом отпустили, и те, пролетев несколько метров, взорвались с такой силой и грохотом, что все обернулись.
– Слушай, Ян Видар, может быть, ты еще эту откроешь? – спросил я.
Он с улыбкой открыл протянутую бутылку. Наконец-то я что-то почувствовал, но это была не радость и не грусть, а скорее быстро нарастающее притупление всех ощущений. Я выпил, закурил сигарету, посмотрел на часы. Без десяти двенадцать.
– Осталось десять минут, – сказал я.
Ян Видар кивнул, продолжая говорить с Руне. Я решил подождать с поисками Ирены до двенадцати. Я знал, что до двенадцати все, кто был у нее в гостях, будут держаться вместе, чтобы ровно в полночь начать обниматься и поздравлять друг друга с Новым годом: старые знакомые, они давно дружили, это была одна компания, в гимназии своя компания была у каждого, но от этой я был слишком далек, чтобы затесаться в нее в эту минуту. А вот после двенадцати все разбредутся, кто-то останется допивать, по домам разойдутся не сразу, но уже скоро, и вот в это время общей расслабленности и спонтанности я как бы ненароком появлюсь рядом, перекинусь парой слов и якобы невзначай пойду с ними вместе.
Под вопросом оставался Ян Видар. Захочет ли он пойти со мной? Там будут сплошь незнакомые ему люди, с которыми у меня было больше общего, чем у него. Сейчас его, похоже, вполне устраивало общество его собеседника.
Ну так спрошу его, что он скажет! Не захочет – ну и ладно. Но что моей ноги в том полуподвале больше не будет, я решил твердо.
И тут я увидел ее.
Она стояла чуть выше, на холме, метрах в тридцати от нас, окруженная своей компанией. Я прикинул, сколько их человек, но, кроме тех, кто стоял совсем рядом с нею, трудно было разобрать, кто пришел с ними, а кто присоединился только сейчас. Человек десять-двенадцать своих было точно. Почти всех я знал в лицо, тут были те, с кем она общалась на переменах. Красавицей ее нельзя было назвать – толстоватые щеки и наметившийся второй подбородок, притом что в остальном она была совсем не толстая. Белокурая девушка с голубыми глазами небольшого росточка, она чем-то напоминала уточку. Но все это не имело значения, потому что она обладала другим, куда более важным свойством – всегда быть центром притяжения. Стоило ей куда-то прийти и заговорить, как она и ее слова становились предметом всеобщего интереса. В выходные она никогда не сидела дома, всегда находила куда пойти: в кино, еще куда-нибудь, иногда в гости, а не то уезжала в горы или в город побольше. И всегда со своей компанией. Я ненавидел эти компании, ей-богу, а слушая потом, как она разливается соловьем обо всем, чем развлекалась на этот раз, начинал, кажется, ненавидеть и ее самое.
Сегодня она пришла в темно-синем пальто до колен. Из-под него виднелось голубое платье и чулки телесного цвета. На голове у нее была – как это там называется – диадема? Прямо принцесса, да и только!
Градус общего ажиотажа достиг высшей точки. Отовсюду слышались хлопки, взрывались петарды, со всех сторон что-то кричали. И тут откуда-то сверху, словно сам Господь Бог решил выразить свою радость по поводу наступления Нового года, взвыли сирены. Раздались ликующие крики. Я взглянул на часы. Двенадцать.
Ян Видар встретился со мной взглядом.
– Двенадцать! – воскликнул он. – С Новым годом!
Он начал неуклюже пробираться ко мне.
Вот черт! Никак он вздумал со мной целоваться?
Нет, нет, нет!
Но именно это он и сделал, обнял меня и приложился щекой к моей щеке.
– С Новым годом, Карл Уве! – сказал он. – И спасибо за все хорошее в прошедшем.
– С Новым годом! – сказал я.
Его щетина царапала мою гладкую щеку. Он несколько раз похлопал меня по спине, затем отодвинулся.
– Эйвинн! – сказал он и двинулся к нему.
С чего это он вздумал со мной обниматься? Кому это нужно? Мы же никогда не обнимались. Мы же не из тех, что обнимаются, мы не такие.
Что за хрень!
– С Новым годом, Карл Уве, с новым счастьем, – сказала Лена.
Она улыбалась мне, и я потянулся и поцеловал ее в щеку.
– С Новым годом, – сказал я. – Какая ты красивая!
Ее лицо, отражавшее зыбкую игру настроения, внезапно стало сосредоточенным.
– Что ты сказал? – переспросила она.
– Ничего. Спасибо за прошлый год.
Она улыбнулась:
– А я слышала, что ты сказал. Это тебе спасибо.
Когда она отвернулась, у меня встал.
Этого еще не хватало!
Я допил остатки пива. В пакете оставалось только три бутылки. Надо бы их приберечь на потом, но требовалось чем-то занять себя, поэтому я вынул одну, открыл зубами и присосался. Вдобавок прикурил сигарету. Вот они – мои инструменты, всегда под рукой. Сигарета в одной руке, бутылка – в другой. Я так и стоял, прикладываясь то к бутылке, то к сигарете. Затяжка – глоток, затяжка – глоток.
В десять минут первого я хлопнул Яна Видара по спине и сказал, что увидел знакомого и отойду поздороваться, скоро, мол, вернусь, так что стой здесь! С этими словами я начал прокладывать путь к Ирене. Сначала она меня не заметила, она стояла ко мне спиной и была занята разговором.
– Привет, Ирена! – сказал я.
Она не ответила, вероятно, не расслышала меня в гуле голосов, поэтому пришлось хлопнуть ее по спине. Это было не лучшее начало, слишком уж прямолинейное. Хлопнуть человека по спине – это не то что случайно встретиться, но на худой конец и так сойдет.
Во всяком случае, она обернулась.
– Карл Уве? – удивилась она. – А ты что тут делаешь?
– Мы здесь поблизости празднуем в компании. А тут я вдруг увидел тебя и подумал, что надо бы поздравить. С Новым годом!
– С Новым годом! – отозвалась она. – У вас там весело?
– Еще как! А у вас?
– Конечно.
Наступила пауза.
– У тебя что – гости? – спросил я.
– Да.
– Где-то здесь?
– Да, я тут живу.
Она махнула рукой наверх.
– Вон в том доме? – спросил я, кивнув в ту же сторону.
– Нет. В следующем за ним. Отсюда его не видно.
– Можно я тебя провожу? – сказал я. – По пути поболтаем. Я бы с удовольствием.
Она покачала головой, иронически наморщив носик.
– Не стоит, – сказала она. – Это же не школьный вечер.
– Понимаю, – сказал я. – Но так, немножко, только поговорить? И все. Вообще-то у меня своя компания.
– Вот и иди туда! – сказала она. – Увидимся в школе в новом году!
Она от меня отвертелась – возразить мне было нечего.
– Рад был повидаться, – сказал я. – Ты мне всегда нравилась.
Я повернулся и пошел обратно. Сказать, что она всегда мне нравилась, оказалось не так-то просто, потому что это была неправда, но эти слова хотя бы отвлекали внимание от того факта, что я напрашиваюсь к ней в гости. Теперь она будет думать, что я к ней приставал. А приставал потому, что был пьян. С кем не случается под Новый год?
Сука! Сука и гадина!
Когда я вернулся, Ян Видар глянул на меня.
– С компанией не вышло, – сказал я. – Нам туда нельзя.
– А почему? Я думал, они – твои знакомые?
– Только для приглашенных. А нас не приглашали. Так что дрянь дело.
Ян Видар фыркнул.
– Пойдем обратно к ребятам. Там же здорово.
Я посмотрел на него отсутствующим взглядом и зевнул, давая ему понять, до чего там здорово. Но выбора у нас не оставалось. Звонить его отцу мы должны были не раньше двух. Не делать же это в десять минут первого! И вот я снова, уже во второй раз за эту ветреную новогоднюю ночь с 1984 на 1985 год шествовал впереди буднично одетой и прыщавой компании среднего школьного возраста мимо вилл Сёма.
В двадцать минут третьего к дому подъехал отец Яна Видара. Мы ждали его уже одетые. Я как менее пьяный сел на переднее сиденье, а Ян Видар, который еще полчаса назад скакал по комнате с абажуром на голове, на заднее, как мы договорились. К счастью, его к тому времени уже вырвало, и он, выпив два-три стакана воды и хорошенько сполоснув лицо под краном, оказался в состоянии позвонить отцу и сообщить ему, где мы находимся. Голос его звучал не слишком убедительно, я стоял рядом и слышал, как он, выдавив из себя первую половину слова, проглатывал его окончание, адрес он хоть и с трудом, но выговорил, а наши родители вряд ли всерьез думали, что мы в такую ночь вообще не притронемся к алкоголю.
– С Новым годом, ребята! – сказал его отец, когда мы сели в машину. – Хорошо повеселились?
– А как же, – сказал я. – Столько народу вышло на улицу! Шумно было. Ну, а как прошло у вас в Твейте?
– Тихо и спокойно, – сказал он и, положив руку на спинку моего сиденья, оглянулся, чтобы выехать задним ходом. – И у кого же вы собирались?
– У одного знакомого, Эйвинна. Помните, он был у нас в группе ударником?
– Да-да, – сказал отец Яна Видара, переключил скорость и поехал назад той же дорогой, которой только что приехал. Снег в некоторых садах был в пятнах от пиротехники. По дороге попадались бредущие пары. Иногда проезжало такси. А в остальном – покой и тишина. Мне нравилось ехать сквозь мрак, когда светится только приборная доска, а рядом мужчина, который спокойно и уверенно ведет машину. Отец у Яна Видара был хорошим человеком. Добрым, участливым, но никогда не навязывался, когда Ян Видар давал понять, что нас надо оставить в покое. Он брал нас с собой на рыбалку, выручал, когда надо. Однажды, например, я проколол шину на велосипеде, и он, не говоря ни слова, заклеил ее, и, когда я собрался уезжать, велосипед был снова в порядке, а собираясь в отпуск всей семьей, они приглашали меня с собой. Он спрашивал, как поживают мои родители, и мать Яна Видара тоже, а когда отвозил меня домой, что случалось нередко, заводил разговор с моим папой или мамой, смотря кто выходил меня встречать, и приглашал заходить к ним домой. Что мои родители так и не собрались там побывать, это не его вина. Однако он был вспыльчивый, это я знал, хотя сам ни разу его в таком состоянии не видел, и среди чувств, которые к нему испытывал Ян Видар, присутствовала и ненависть.
– Итак, настал 1985 год, – сказал я, когда мы свернули с Е18 на мост Вароддбру.
– В самом деле, – сказал отец Яна Видара. – Или как там полагают на заднем сиденье?
Ян Видар не сказал ничего. Не заговорил и тогда, когда отец вышел из машины, а продолжал, вжавшись в сиденье, таращиться куда-то в пространство. Я обернулся назад и посмотрел на него. Он сидел неподвижно, уставив взгляд в подголовник.
– Ты что, дар речи потерял? – спросил его отец и улыбнулся мне.
Сзади по-прежнему не доносилось ни звука.
– А твои родители, – спросил отец Яна Видара, – они встречали Новый год дома?
Я кивнул:
– С бабушкой, дедушкой и дядей. Лютефиск и «Аквавит».
– Рад, что не остался дома?
– Да.
Поворот на Хьевик, затем мимо Хаммерсанна, через долину Рюенслетта. Темно, тихо, тепло и покойно. Ехать бы так и ехать всю жизнь, подумалось мне. Мимо их дома, вверх по серпантину в сторону моста Крагебру, вниз по склону с другой стороны, и вверх, в гору. Тут было не расчищено, рыхлый снег лежал слоем сантиметров в пять. Последнюю часть пути отец Яна Видара проехал на малой скорости. Мимо дома, где жили Сюсанн и Элиза, две сестры, переехавшие сюда из Канады, с которыми никто еще не успел толком познакомиться, мимо поворота, за которым жил Вильям, потом под горку и снова вверх, к нашему дому.
– Я высажу тебя здесь, – сказал отец Яна Видара. – Чтобы не разбудить их – вдруг они уже спят? Хорошо?
– Хорошо, – сказал я. – И огромное спасибо, что подвезли! Всего хорошего, Дживс!
Ян Видар поморгал, затем широко раскрыл глаза.
– Ага, – сказал он. – Всего хорошего!
– Хочешь пересесть вперед? – спросил его отец.
– А смысл? – отозвался Ян Видар.
Я захлопнул дверцу, помахал рукой и, подходя по дорожке к дому, услышал, как машина разворачивается у меня за спиной. Дживс! Почему я так его назвал? Этого прозвища, намекавшего на товарищество совершенно избыточно, поскольку мы и так были товарищами, я раньше никогда не употреблял.
Света в окнах не было. Значит, они легли. Я обрадовался, не потому, что хотел что-то скрыть, а потому, что никто не будет меня беспокоить. Сняв в передней верхнюю одежду, я вошел в гостиную. Все следы вечеринки были убраны. В кухне негромко гудела стиральная машина. Я сел на диван, очистил апельсин. Огонь догорел, но от камина все еще шло тепло. Мама была права – хорошо тут сидеть. В плетеном кресле лениво поднял голову кот. Встретив мой взгляд, он встал, соскочил, потрусил к дивану и вскочил ко мне на колени. Я отодвинул подальше апельсиновую шкурку – вещь, хуже которой для него ничего не могло быть.
– Можешь полежать, – сказал я, погладив его. – Полежи пока. Но только не до утра, чтоб ты знал. Я скоро пойду укладываться.
Он помесил меня лапками и свернулся клубком. Голова его медленно опустилась, легла на лапу, а через несколько секунд он перестал жмуриться от удовольствия и заснул.
– Кому как, – сказал я, – а вот тебе действительно хорошо.
Наутро меня разбудило радио на кухне, но я решил еще поваляться, все равно вставать было вроде бы незачем, и вскоре снова заснул. В следующий раз я проснулся уже в половине двенадцатого. Я оделся и спустился вниз. Мама читала за кухонным столом и подняла глаза, когда я вошел.
– Привет, – сказала она. – Хорошо вчера повеселились?
– Да, – сказал я. – Круто!
– А вернулся когда?
– В половине третьего. Нас забрал на машине отец Яна Видара.
Я сел за стол и намазал себе бутерброд с печеночным паштетом, с нескольких попыток, изловчившись, подцепил вилкой соленый огурец, положил его сверху, взялся за чайник и увидел, что он пустой.
– Осталось там что-нибудь? – спросила мама. – Я могу вскипятить еще.
– Одна чашка, наверное, наберется, – сказал я. – Только он, кажется, остыл.
Мама встала.
– Сиди, – сказал я. – Я и сам справлюсь.
– Ну что ты! Я же сижу рядом с плитой.
Она налила в кастрюлю воды, поставила на горелку, и скоро вода зашумела.
– Чем вы там угощались? – спросила мама.
– Холодными закусками, – ответил я. – Наверное, мама девочки, у которой мы собирались, все приготовила. Там было… Ну, знаешь: креветки с зеленью в таком прозрачном желе…
– Заливное? – спросила мама.
– Да, заливное из креветок. И просто креветки. И крабы. Два омара. На компанию было маловато, но попробовать всем хватило. А еще, ну там ветчина и всякое такое.
– Звучит неплохо.
– Да, очень неплохо. Потом в двенадцать мы вышли и отправились на перекресток. Там все собрались пускать петарды. То есть не мы пускали, а другие.
– Познакомился там с кем-нибудь?
Я помедлил с ответом. Взял еще кусок хлеба, оглядел стол, что бы положить на бутерброд. Салями с майонезом, вот что будет в самый раз.
– Не то чтобы познакомился. Я больше держался с теми, кого уже знаю.
Я посмотрел на маму:
– А где папа?
– В амбаре. Сегодня он собирается к бабушке. Поедешь с ним?
– Нет, лучше не надо, – сказал я. – Вчера столько было народу. Мне бы побыть одному. Может быть, сбегаю к Перу. Но и только. А что ты будешь делать?
– Еще не решила. Может быть, почитаю. А потом начну укладываться. Завтра мне на самолет.
– Да, точно, – сказал я. – А Ингве когда приедет?
– Наверное, на днях. Когда вы с папой уже будете дома.
– Ага, – кивнул я.
Тут я обратил внимание на приготовленный бабушкой зельц: неплохо будет соорудить следующий бутерброд с зельцем. А потом с рулетом из баранины.
Через полчаса я уже был на крыльце у Пера и звонил в дверь. Открывать вышел его отец. Судя по одежде, он как раз собрался выходить – он был в зеленой, на меху, армейской куртке, из-под которой виднелся синий тренировочный костюм из блестящей ткани, в светлых ботинках и с поводком в руке. Их собака, старый золотистый ретривер, виляла хвостом, просунувшись у него между ног.
– Да это никак ты, парень! – сказал отец Пера. – С Новым годом тебя!
– С Новым годом! – ответил я.
– Все в гостиной, – сказал он. – Заходи.
Насвистывая, он прошел мимо меня во двор к открытой двери гаража. Я скинул ботинки и вошел в дом. Он был большой и просторный, недавно построенный, насколько я знал, самим отцом семейства; почти из всех комнат открывался вид на реку. Сразу за передней располагалась кухня, сейчас там хлопотала мама Пера, она улыбнулась мне и приветливо поздоровалась, дальше была гостиная, там сидел Пер с братом Томом, сестрой Марит и своим лучшим другом Трюгве.
– Что смотрим? – спросил я.
– «Пушки острова Наварон», – сказал Пер.
– Давно началось?
– Нет. Полчаса назад. Можем перемотать назад, если хочешь.
– Перемотать назад? – возмутился Трюгве. – Мы же не собираемся смотреть все сначала?
– Но ведь Карл Уве не видел, – принялся оправдываться Пер. – Это недолго.
– Недолго? Целых полчаса, – сказал Трюгве.
Пер подошел к видеомагнитофону и присел перед ним на корточки.
– Раскомандовался тут! – сказал Том.
– Ага, – сказал Пер.
Он нажал на «стоп», а затем на перемотку. Марит встала и направилась к лестнице, ведущей на второй этаж.
– Крикни, когда дойдет до того места, где было сейчас, – сказала она.
Пер кивнул. В устройстве что-то несколько раз щелкнуло, одновременно раздался какой-то гидравлический писк, прежде чем механизм заработал и лента, постепенно ускоряясь и все громче гудя, начала вертеться в обратную сторону, затем заглохла задолго до конца и крутилась еле-еле, словно самолет, который, подлетев на бешеной скорости по воздуху и промчавшись по посадочной дорожке, тихо и плавно выруливает к терминалу.
– Небось, целый вечер просидел дома с папой и мамой? – спросил я, взглянув на Трюгве.
– Да! – ответил он. – А ты, небось, в гостях был и выпивал?
– Нет, – сказал я. – В гостях я был, пить – пил. Но лучше бы я остался дома. У нас не было своей компании, куда можно было бы пойти, и мы поперлись в метель по дороге с пакетами пива. Пилили аж до самого Сёма. Но ничего, скоро настанет ваш черед таскаться как проклятые среди ночи с пакетами пива в руках.
– Готово, – сказал Пер.
– Круто будет, – сказал Трюгве, когда на экране замелькали первые кадры. За окном стояла такая тишина, какая бывает только зимой. И хотя день был пасмурным, а небо – серым, все вокруг сияло белизной. Помню, я подумал тогда, что не желаю ничего, кроме как сидеть здесь, в недавно построенном доме, в круге света посреди леса, и не беда, если я буду дурак дураком.
Наутро папа отвез маму в аэропорт. Когда он вернулся, буфера между ним и мной уже не было, и тотчас возобновилась привычная жизнь, которую мы вели всю ту осень. Он ушел к себе в амбар, а я сел на автобус и поехал к Яну Видару, там мы включили усилители, поиграли на гитарах, пока не надоело, а потом побрели в магазин; не обнаружив там ничего интересного, притащились обратно домой, посмотрели по телевизору соревнования по прыжкам с трамплина, послушали пластинки, поговорили о девушках. В пять я снова сел на автобус, папа встретил меня в дверях и спросил, не подбросить ли меня до города. Я сказал, что было бы здорово. По дороге он предложил заехать к бабушке с дедушкой: ты, мол, поди, голодный, заодно и поедим.
Бабушка выглянула в окно, когда папа парковался у гаража.
– А, это вы!
В следующую минуту она открыла нам дверь.
– Спасибо за вчерашний прием, – сказала она. – Мы так хорошо у вас посидели.
Она взглянула на меня:
– А ты, говорят, хорошо повеселился?
– Ну да, – сказал я.
– Дай я тебя обниму! Вон какой ты вырос большой, но с бабушкой-то все равно можно обняться!
Я наклонился к ней и почувствовал прикосновение ее сухой, морщинистой щеки к своей. От нее приятно пахло, ее обычными духами.
– Вы уже поели? – спросил папа.
– Только что пообедали, но я могу вам что-нибудь разогреть, это не трудно. Вы проголодались?
– Мы проголодались? – спросил папа, поглядев на меня с улыбкой.
– Я-то точно проголодался, – сказал я.
И услышал внутренним слухом, как, видимо, слышалось им: «Пьёголодался».
Мы раздевались в прихожей; я аккуратно поставил ботинки на дно открытого гардероба, повесил куртку на старый, с облезшей позолотой крючок, а бабушка все стояла у лестницы, глядя на нас, и все тело ее, как всегда, выражало нетерпение. Ладонь, скользнувшая по щеке. Голова, чуть повернутая в сторону, беспокойно переминавшиеся ноги. Как бы не замечая этих мелких движений, она вела разговор с папой. Спросила, как там у нас – столько же снега навалило, как здесь, или поменьше; когда уехала мама; когда вернется. «Да, точно, – приговаривала она каждый раз, услышав его ответ. – Да, точно».
– Ну а ты, Карл Уве? – заговорила она, обернувшись ко мне. – Когда тебе снова в школу?
– Через два дня.
– Ты же рад, правда?
– Ну да, правда.
Папа окинул себя взглядом в зеркале. Лицо у него было спокойно, но в глазах мелькала тень неудовольствия, они смотрели холодно и отстраненно. Он шагнул к бабушке, которая уже повернулась и начала подниматься по лестнице быстрым и легким шагом. Папа пошел за ней, тяжело ступая, а за ними я, уперев взгляд в черные волосы у него на затылке.
– А вот и вы! – сказал дедушка, когда мы вошли в кухню. Он сидел за столом, широко расставив ноги и откинувшись на спинку стула; на фоне белой рубашки с расстегнутым воротом чернели подтяжки. На лоб свесилась прядь волос, которую он как раз в этот миг отвел рукой. Изо рта торчал потухший окурок. – Ну, как дорога? – спросил он. – Скользко?
– Терпимо, – сказал папа. – Под Новый год было хуже. И машин на дороге раз-два и обчелся.
– Усаживайтесь, – сказала бабушка.
– Куда же, тогда тебе места не хватит, – сказал папа.
– Ничего, я постою. Мне же еще разогревать вам еду. Да я и так насиделась за день. Так что садитесь!
Дедушка поднес к окурку зажигалку и закурил. Несколько раз затянулся и выпустил изо рта струю дыма.
Бабушка отвернула горелки, как обычно барабаня пальцами по плите и тихонько, с шипением, насвистывая.
Папа великоват для этого стола, подумал я. Не физически – пространства для него там вполне хватало, скорее отец плохо с ним сочетался. Было что-то в нем самом или в том, что он излучал, нечто совершенно не подходящее к этому столу.
Он достал сигарету и закурил.
Может, ему больше пошло бы сидеть в столовой? Если бы мы сели обедать там?
Пожалуй, да. Там он смотрелся бы уместнее.
– Ну вот и наступил 1985 год, – произнес я, чтобы прервать затянувшееся на несколько секунд молчание.
– Да, подумать только! – сказала бабушка.
– Ну, а брат-то твой где пропадает? – спросил дедушка. – В Берген, что ли, уехал?
– Нет, – сказал я. – Он еще в Арендале.
– Да уж, – сказал дедушка. – Он у вас настоящим арендальцем заделался.
– И не говори! – сказала бабушка. – Он и здесь теперь не часто показывается. А ведь как мы с ним весело жили, когда он был маленький.
Она взглянула на меня:
– Зато ты наведываешься!
– И на кого же он там учится? – спросил дедушка.
– На политолога, что ли? – сказал папа и посмотрел на меня.
– Нет, – уточнил я. – Сейчас он перешел на медиаведение.
– Что же ты, не знаешь, где учится родной сын? – улыбнулся дедушка.
– Да прекрасно я знаю, – сказал папа.
Он загасил недокуренную сигарету в пепельнице и обернулся к бабушке:
– Мне кажется, мать, еда уже подогрелась. Не обязательно подавать ее совсем горячей.
– Да, конечно, – сказала бабушка и достала из шкафа две тарелки, поставила их перед нами, вынула из ящика приборы, положила рядом с тарелками.
– Сегодня у нас только вот такое, – сказала она, взяла папину тарелку и стала накладывать картошку, гороховое пюре и котлеты, поливая их соусом.
– И прекрасно, – сказал папа, когда она, поставив перед ним тарелку с едой, взяла мою.
Из тех, кого я знал, никто, кроме папы и Ингве, не расправлялся с едой так же быстро, как я. Не прошло и нескольких минут после того, как бабушка поставила перед нами тарелки, как они уже блестели чистотой. Папа откинулся на спинку стула и закурил сигарету, я встал и пошел в гостиную, посмотрел из окна на раскинувшийся за ним сверкающий огнями город, на серые, почти почерневшие кучи под стенами протянувшихся вдоль набережной пакгаузов, на дрожащие отблески фонарей на черной глади воды.
На мгновение меня захватило это ощущение белизны снега в контрасте с черной водой. Как скрадывает белизна все детали вокруг лесного озера или ручья, абсолютизируя противоположность воды и ландшафта, так что вода предстает чем-то глубоко чуждым, словно черная дыра в пространстве.
Я обернулся. Другая комната располагалась на ступеньку выше и была отделена раздвижной дверью. Сейчас дверь оказалась раздвинута, и я зашел туда без какой-либо особой причины, просто мне не стоялось на месте. Это была парадная гостиная, ею пользовались только в торжественных случаях, нам никогда не позволяли оставаться там без взрослых.
У одной стены стояло пианино, над ним висели две картины на ветхозаветные сюжеты. На пианино стояли студенческие фотографии трех сыновей. Папа. Эрлинг. Гуннар. Я каждый раз удивлялся, видя папу без бороды. Он улыбался, лихо сдвинув на затылок черную студенческую фуражку. Глаза сияли весельем.
Посреди гостиной стояли два дивана, между ними столик. В глубине белел камин, а рядом еще пара диванов – огромных, обитых кожей, – и старинный, расписанный розанами угловой шкаф.
– Карл Уве! – позвал из кухни папа.
Я быстро спустился в нижнюю гостиную и ответил:
– Нам пора?
– Да!
Войдя в кухню, я увидел, что он уже встал из-за стола.
– Всего хорошего, – сказал я. – До скорого!
– Ну, и тебе всего, – сказал дедушка.
Бабушка, как всегда, проводила нас вниз.
– Кстати, – сказал ей папа, когда мы одевались внизу в прихожей, – у меня кое-что для тебя есть.
Он вышел, хлопнула дверь машины, он вернулся и протянул бабушке сверток.
– С праздником, мама! – сказал он.
– Ну зачем ты! – сказала бабушка. – Господи, ну какие мне еще подарки!
– Вот такие, – сказал папа. – Разверни и посмотри!
Я не знал, куда девать глаза. В этом было что-то очень интимное, чего я раньше не видел и о чем даже не подозревал.
В руках у бабушки оказалась скатерть.
– Надо же, какая красота! – сказала она.
– Я подумал, она подойдет к обоям наверху, – сказал папа. – Верно?
– Какая красота! – сказала бабушка.
– Вот и хорошо, – сказал папа тоном, который исключал дальнейшие излияния. – Ну все, мы пошли.
Мы сели в машину, папа завел мотор, и на гаражные ворота хлынул поток света. Когда мы тронулись со склона, бабушка помахала нам с крыльца. А как только завернули за поворот, она-закрыла за собой дверь; когда мы выехали на шоссе, ее там уже не было.
Я несколько дней вспоминал этот небольшой эпизод и каждый раз испытывал одно и то же чувство: я видел нечто, чего мне видеть не полагалось. Но скоро оно прошло, мысли мои были заняты тогда не только папой и бабушкой, потому что в последовавшие недели произошло много чего другого. На первом уроке нового учебного года Сив раздала всем пригласительные билеты: в ближайшую субботу она устраивала вечеринку одноклассников, и это была хорошая новость, на общем празднике своего класса я имел полное право присутствовать, тут никто не мог обвинить меня, что я втираюсь в чужую компанию, к тому времени все в классе уже так свыклись друг с другом, что на занятиях я держался естественно и был самим собой, теперь же представился случай перенести эту привычку на другие сферы общения, на более широкий круг знакомых. Иными словами, я смогу пить, танцевать, хохотать, а то и потискать в уголке какую-нибудь девочку. С другой стороны, статус такой вечеринки был невысок как раз по той причине, что тебя приглашают не за твои собственные качества, а лишь за то, что ты часть некоего целого, в данном случае – нашего класса. Но я не позволил этой мысли погасить мою радость. Однако праздник – это не только праздник, но еще и проблема – та же самая, что возникала перед встречей Нового года: как достать выпивку, – и я подумал, не позвонить ли опять Тому, но потом решил сам попытать счастья. Мне хоть и было только шестнадцать, но выглядел я старше, и если держаться уверенно, то мне не откажутся продать. Если нет, придется, конечно, пережить неприятный момент, но и только, и в этом случае я всегда успею попросить Тома. Итак, в среду я отправился в супермаркет, положил в корзину двенадцать бутылок пилснера, добавил для антуража хлеб и помидоры, встал в очередь, выложил все это на ленту, протянул кассирше деньги, она их приняла, даже не взглянув на меня, и я ликуя помчался домой с позвякивающим пакетом в каждой руке.
Когда в пятницу я пришел из школы, то увидел, что без меня заходил папа. На столе лежала записка:
Карл Уве!
На выходные я еду на семинар. Вернусь в воскресенье вечером. В холодильнике – свежие креветки, в хлебнице – батон. Желаю хорошо провести время.
ПапаНа записке лежала купюра в пятьсот крон.
Это было просто замечательно!
Креветки были моим любимым угощением. В тот вечер я их ел, сидя перед телевизором, потом прогулялся по городу, прослушав на портативном кассетнике сначала «Lust for Life» с Игги Попом, а потом один из новых альбомов Roxy Music, отчего возникала так нравившаяся мне дистанция между внутренним и внешним; глядя на подвыпившую публику на открытых террасах кафе, я чувствовал, что мы с ними в разных измерениях, то же относилось и к проезжавшим мимо машинам, водителям на заправках, выходившим и снова садившимся в свои автомобили, продавцам за прилавками с их невеселыми улыбками и механическими движениями, и к собачникам на прогулке.
На следующий день я с утра заскочил к бабушке и дедушке, съел там несколько бутербродов, затем отправился в город, купил три пластинки и большой пакет сладостей, несколько музыкальных журналов и «Дневник вора» Жана Жене в мягкой обложке. Выпил две бутылки пива, пока смотрел футбольный матч из Англии, затем еще одну, пока принимал душ и переодевался, и еще одну, пока курил последнюю перед уходом сигарету.
Мы договорились с Бассе встретиться в семь у поворота с Эстервейен. Он уже был на месте и улыбался мне издали, пока я трусцой бежал к нему. Пиво у него было в рюкзаке, и я, едва увидев это, чуть не хлопнул себя по лбу. Ну разумеется! Вот он – лучший способ носить пиво!
Мы свернули на Кухольмсвейен, прошли мимо дома бабушки с дедушкой и затем поднялись в гору, в район вокруг стадиона, где жила Сив.
После нескольких минут поисков мы нашли нужный дом и позвонили. Дверь открыла Сив – с протяжным визгом.
Еще не до конца проснувшись, я уже знал – случилось что-то прекрасное. Словно чья-то рука протянулась ко мне на самое дно сознания, где я лежал, глядя на проплывающие надо мной картины. Я взял эту протянутую руку, она медленно подняла меня, я все больше и больше приходил в себя и наконец открыл глаза.
Где я?
Ах да! В комнате внизу. Я лежал на диване полностью одетый.
Я поднялся и сел, подпер гудящую голову руками.
От моей рубашки пахло духами.
Тяжелый, экзотический аромат.
Я обнимался с Моникой. Мы танцевали, потом отошли в сторону, стояли под лестницей, и я ее целовал. Она целовала меня.
Нет, не то!
Я встал и пошел на кухню, налил в стакан воды из-под крана и выпил ее одним духом.
Нет, не то!
Случилось что-то потрясающее, зажегся какой-то свет, но это была не Моника. Было что-то другое.
Но что?
Выпитый алкоголь разбалансировал организм. Но организм знал, что ему нужно для восстановления. Гамбургер, картошка фри, сосиски. Много колы. Причем немедленно.
Я вышел в прихожую, посмотрел на себя в зеркало, провел пятерней по волосам. На вид не так уж и страшно, только глаза немного покраснели; вполне можно показаться на люди.
Я зашнуровал ботинки, взял куртку, надел.
Но что же это было?
Значок?
С надписью «Smile!»?
Ну да, именно!
Вот что было хорошее!
Под конец я целый час разговаривал с Ханной.
Точно!
Мы говорили долго.
Она улыбалась и была такая радостная. Она ничего не пила. Зато пил я, потому что так мог быть вместе с нею там, где царит радость и легкость. Потом мы танцевали.
О, мы танцевали под «The Power of Love» группы Frankie goes to Hollywood.
The POWER of LO-OVE!
С Ханной, с Ханной!
Ощущать ее совсем рядом. Стоять, почти касаясь друг друга. Ее смех. Ее зеленые глаза. Ее носик.
Перед самым уходом, уже на пороге, она пристегнула мне этот значок.
Так вот что произошло! Не бог весть что, но этот пустяк был поразителен.
Я застегнул куртку и вышел. Над городом низко нависли тяжелые тучи, ледяной ветер насквозь продувал улицы, уносясь в море. Вокруг все было серым и белым, холодным и неприветливым. Но во мне все светилось. The POWER of LO-VE звучало и звучало у меня в ушах, пока я шел к сосисочному ларьку.
Так что же такое случилось?
Ханна была Ханной, она никак не изменилась, она оставалась все той же, что и прежде, осенью и зимой, какой я видел ее в классе. Она мне нравилась, но не более того. А теперь – так! А теперь – вот это!
Меня словно молния ударила. По нервам через равные промежутки пробегало ощущение счастья. Сердце трепетало, душа пылала. Я вдруг оказался не в силах дождаться понедельника, дождаться школьных занятий.
Позвонить ей по телефону? Пригласить ее куда-нибудь?
Машинально я заказал чизбургер с беконом и картошкой фри и большой стакан колы. Она говорила, у нее есть парень, он учится в третьем классе гимназии в Вогсбюгде. Они встречаются, и давно. Но то, как она при этом смотрела, та близость, которая вдруг возникла между нами, это же был не пустяк? Это же что-то значит! У нее был ко мне интерес, ее тянуло ко мне. Это точно.
В понедельник, в понедельник я снова увижу ее.
Но что же мне, черт возьми, делать до понедельника?
До понедельника еще ждать почти сутки!
Увидев меня, она улыбнулась. Я тоже заулыбался.
– Ты не снял значок! – сказала она.
– Нет, – сказал я. – Каждый раз, как взгляну на него, я думаю о тебе.
Она опустила глаза. Покрутила пуговицу на кофте.
– Ты был здорово пьян, – сказала она, подняв на меня глаза.
– Знаю, – сказал я. – Честно говоря, я мало что помню.
– Ты не помнишь?
– Да нет же, помню. Помню, например, Frankie goes to Hollywood.
В конце коридора показался Тённессен, молодой учитель географии с бородкой и мандалским выговором, наш классный руководитель.
– Ну что, ребята, хорошо повеселились на выходных? – сказал он, отпирая дверь, перед которой мы остановились.
– Мы собирались всем классом, – улыбнулась ему Ханна.
Какая же у нее улыбка!
– Да ну? А меня не пригласили? – сказал он, явно не ожидая ответа на свой вопрос, потому что даже не взглянул на Ханну, а прямо устремился к столу и положил на него стопку книг, которую нес в руках.
На уроке я не мог сосредоточиться. Я думал только о Ханне, хотя она и сидела в одном со мной классе. То есть что значит «думал»… Скорее меня до краев переполняли чувства, не оставляя места для мыслей. И так продолжалось всю ту зиму и весну. Я влюбился, и это была не легкая влюбленность, а великая любовь, какая случается раза три, может, четыре за жизнь. А может, и величайшая, поскольку она была первая и все в ней казалось так ново. Все во мне сосредоточилось на Ханне. Каждое утро я, проснувшись, с радостью спешил в школу, где будет она. Если ее там не оказывалось, потому что она заболела или куда-то уехала, все тотчас же утрачивало смысл, и тогда остаток дня сводился к тому, чтобы как-то его пережить. Но ради чего это все? Чего я ожидал? Во всяком случае, не жарких объятий и поцелуев взасос, поскольку такого рода отношений между нами просто не существовало. Нет, все, чего я ожидал и на что надеялся, – это разве что прикосновение, когда она мимолетно проведет ладонью мне по плечу, улыбка, что озарит ее лицо при виде меня или когда я скажу что-то забавное, поцелуй в щеку и дружеское объятие после уроков; разве что секунды, когда я, обнимая ее, ощущал ее щеку своей щекой и улавливал ее запах – легкий яблочный аромат ее шампуня. Ее что-то влекло ко мне, я это знал, но она держала себя в строгих границах, соблюдая четкие правила, что можно, а чего нельзя, так что ни о каком ухаживании не могло быть и речи. Возможно, я не был уверен, что ее влечет ко мне, возможно, ей просто льстило такое внимание и хотелось продолжать игру. Но я, несмотря ни на что, надеялся, а возвращаясь в свою студенческую комнату, пытался так и сяк истолковать все, что она сказала на протяжении учебного дня, и это либо повергало меня в глубины отчаяния, либо возносило на сияющие вершины счастья – середины не существовало.
В школе я стал перебрасывать ей записки. Короткие замечания, приветики, новости, которые я придумывал накануне вечером. Она отвечала, я читал ответ и посылал свой, а кинув записку, внимательно следил, как она ее читает. Если она бесповоротно закрывала открытую мною тему, все для меня меркло и окрашивалось в черный цвет. Если подхватывала ее, это отзывалось во мне так, что я весь звенел, точно колокол. Со временем записки сменились блокнотом, который мы передавали друг другу. Не слишком часто. Я не хотел, чтобы ей это наскучило. Три-четыре раза за день, и достаточно. Я часто спрашивал, не хочет ли она пойти вместе в кино или в кафе, на что она каждый раз отвечала: «Ты же знаешь, я не могу».
На переменах мы обсуждали разные темы: изредка политику, в основном религию, она была верующей, я – пламенный атеист, мои аргументы она сообщала молодому главе своей общины и в следующий раз передавала его ответ. Ее парень состоял в той же общине, так что я хоть и не представлял непосредственной угрозы их союзу, но все же несколько оттенял собой ее жизнь. Во всяком случае, наши короткие встречи на переменах, и не каждый день случавшиеся, стали происходить и во внешкольное время. Мы дружили, учились в одном классе, так отчего же нам было не забежать в кафе после школы выпить кофе? Почему не дойти вместе до автобуса?
Для меня в этом был смысл жизни. Короткие взгляды, мимолетные улыбки, легкие прикосновения. И – о! – ее смех! Когда мне удавалось ее рассмешить!
Ради этого я жил. Но мне надо было большего, гораздо большего. Я хотел видеть ее непрестанно, хотел, чтобы меня позвали к ней в гости, хотел познакомиться с ее родителями, быть с ней в одной компании, вместе ездить на каникулы, водить ее к себе домой.
«Ты же знаешь, что я не могу».
Поход в кино предполагал отношения, любовь, но другие вещи этого не требовали, и одной из них я однажды воспользовался в феврале, пригласив Ханну пойти со мной. Это было молодежное политическое собрание в каком-то центре. Я увидел в школе объявление о мероприятии и с утра написал ей, не пойдет ли она туда со мной. Прочитав записку, она оглянулась на меня с улыбкой. Что-то чиркнула на листке. Передала блокнот. Я раскрыл его и прочитал. Там было написано: «Да»!
«Да!» – думал я.
Да! Да! Да!
Я ждал, сидя на диване; около шести она постучала.
– Привет! – сказал я. – Может, зайдешь, пока я переоденусь?
– Ладно, – сказала она.
Щеки у нее разрумянились от мороза. На ней была белая, надвинутая на лоб шапочка, на шее большой белый шарф.
– Вот ты где живешь! – сказала она.
– Да, – ответил я, открывая дверь в гостиную. – Вот гостиная, за ней кухня. А наверху спальня. Вообще тут у дедушки была контора. Вон там, – я кивнул на дверь напротив.
– Не скучно жить одному?
– Нет, – сказал я. – Нисколечко. Я люблю быть один. И потом, я же постоянно бываю в Твейте.
Я надел куртку, на которой по-прежнему красовался значок «Smile!», замотал шею шарфом, надел ботинки.
– Забегу только в туалет, и пойдем, – сказал я.
Я заперся в туалете. Услышал, как она с той стороны двери тихонько запела себе под нос. Слышимость в доме была сумасшедшая, может, ее голос заглушит то, что тут происходит, только бы она продолжала петь.
Я поднял крышку и приготовился.
И в тот же миг понял, что не могу помочиться, когда за дверью она. Тут все так слышно, прихожая такая маленькая. Она даже услышит, что у меня не получилось.
О, черт!
Я натужился изо всех сил.
Ни капли.
Она пела, прохаживаясь из угла в угол.
Что она подумает?
Через полминуты я отказался от дальнейших попыток, отвернул кран, пустил воду на несколько секунд, чтобы Ханна думала, что тут что-то происходит, затем завернул кран, открыл дверь и вышел, она смущенно опустила взгляд.
– Ну, пошли, – сказал я.
На улице уже стемнело, дул ветер, как это часто бывает здесь зимой. По дороге мы мало разговаривали, перекинулись несколькими словами про школу, про школьных знакомых: Бассе, Молле, Сив, Туне, Анну. Почему-то она вдруг заговорила о своем отце, какой он удивительный человек. Он неверующий, сказала она. Я удивился. Так что же – она присоединилась к общине сама? Она сказала, что ее отец мне бы понравился. Неужели, задумался я. Да, сказал я. Похоже, он интересный человек. Лаконичный. «Что значит лаконичный?» – спросила она, вскинув на меня зеленые глаза. Каждый раз, как она это делала, меня точно взрывало. Я готов был перебить все окна вокруг, уложить на лопатки всех пешеходов и потом долго топтать ногами, пока не вышибу дух, вот какой энергией наполнял меня взгляд ее глаз. Или я мог бы обхватить ее за талию и кружить в вальсе всю дорогу, закидывать цветами всех встречных, распевать во всю глотку. «Лаконичный?» – спросила она. «Это трудно объяснить. Сухой и деловитый. Возможно, чересчур деловитый, – сказал я. – Такая характерная сдержанность. Нечто вроде английского understatement. Но ведь это в нем есть, правда?»
Собрание должно было состояться где-то на Дроннингенсгате. Ага, вот тут – на двери висели афиши.
Мы зашли.
Зал на втором этаже был заставлен стульями, впереди трибуна для оратора, рядом – проектор. Собралась кучка молодежи, человек десять – двенадцать.
Под окном стоял большой термос, рядом вазочка с печеньем и высокая стопка белых пластиковых чашек.
– Хочешь кофе? – спросил я.
Она улыбнулась и покачала головой.
– Но может, печенья?
Я налил кофе себе, взял два печенья и вернулся к Ханне. Мы сели в задних рядах.
Пришло еще человек пять или шесть, и началось собрание. Оно было организовано молодежным отделением Норвежской рабочей партии для вербовки новых членов. Во всяком случае, выступающий разъяснял политику Рабочей партии, а затем пошла речь о молодежной политике в целом: почему нужно в ней активно участвовать, сколь многого можно добиться общими усилиями, а под конец, в качестве небольшого бонуса, – какую пользу каждый может извлечь из этого лично для себя.
Если бы рядом нога на ногу не сидела Ханна, так близко, что я весь горел, я бы встал и ушел. Мне-то рисовалось нечто иное, нечто вроде митинга: зал, битком набитый народом, табачный дым, остроумные ораторы, взрывы смеха в зале, одним словом, мероприятие в духе Агнара Мюкле и мюклеанская публика – молодые люди и девушки, целеустремленные, одержимые идеей, социализмом, этим волшебным словом пятидесятых, – а не скучные парни в скучных свитерах и уродских брюках, которые что-то уныло бубнят собранию таких же, как они, ребят и девчонок, о разных скучных и неинтересных вещах.
Какое дело до политики тому, у кого в душе горит пламя?
Какое до нее дело тому, в ком пылает жажда жизни? Жажда живого?
Мне, по крайней мере, не было никакого.
После трех докладов предполагался небольшой перерыв, а затем по плану шло обсуждение и дискуссия по рабочим группам. Когда начался перерыв, я спросил Ханну: «Может, пойдем отсюда?» – «Да, пошли», – согласилась она, и мы снова очутились на темной, холодной улице. В зале она сидела, сняв куртку и повесив ее на спинку стула. Под толстым шерстяным свитером проступали округлости, от которых я сглатывал и сглатывал комок в горле: она была так близко, нас разделяло всего ничего.
По дороге домой я высказался о политике. Она сказала, что у меня на все есть свое мнение, и как это я успеваю во все вникать? Сама она призналась, что не в состоянии судить почти ни о чем. Я сказал, что тоже почти ничего не знаю. «Но ты ведь анархист!» – сказала она. «Откуда ты взяла? Я вообще не знаю, что такое анархист. А вот ты верующая христианка, – сказал я. – Почему вдруг? Родители у тебя неверующие. И сестра тоже. Только ты одна. И ты твердо на этом стоишь». – «Да, – сказала она. – Тут ты прав. Но мне кажется, ты все время погружен в свои мысли. Тебе надо больше жить». – «Я пытаюсь», – сказал я.
Перед моим домом мы остановились.
– Где ты сядешь на автобус? – спросил я.
– Там. – Она мотнула головой вверх.
– Проводить тебя?
Она покачала головой:
– Я дойду сама. У меня с собой магнитофон.
– Ну давай, – сказал я.
– Спасибо за этот вечер, – сказала она.
– В общем-то особо не за что, – сказал я.
Она улыбнулась, привстала на цыпочки и поцеловала меня в губы. Я крепко прижал ее к груди, и она тоже прижалась, прежде чем высвободиться. Какой-то миг мы смотрели друг на друга, а потом она ушла.
В тот вечер я не находил себе покоя, ходил туда-сюда по квартире, слонялся из угла в угол комнаты, поднимался наверх и снова спускался вниз заходил то в одну нижнюю комнату, то в другую. Было ощущение, словно я больше, чем целый мир, что я вместил его весь и мне уже некуда стремиться. Человечество стало маленьким, история – маленькой, земной шар – маленьким, да и Вселенная со всей своей бесконечностью стала маленькой. Все это я перерос. Ощущение было потрясающее, но оно наполняло меня тревогой, поскольку преобладало в нем страстное желание того, что я еще совершу, а не то, что я делал сейчас или раньше.
Как сжечь все это, переполняющее меня изнутри?
Я заставил себя лечь в постель, заставил лежать без движения, так, чтобы не дергался ни один мускул, сколько бы ни пришлось ждать наступления сна. Как ни странно, понадобилось всего лишь несколько минут, сон настиг меня неожиданно, как охотник ни о чем не подозревающую добычу, в этот момент я бы и выстрела не заметил, не дернись у меня стопа, заставив обратить внимание на мысли, весьма далекие от действительности, будто я стою на палубе корабля, а рядом в пучину стремительно погружается громадный кит, причем я вижу его с такого места, откуда это в принципе невозможно. Это уже начинается сон, догадался я, его рука втянула в себя мое «Я», сделав частью своего мира, потому что, когда я вздрогнул, все так и оказалось: я был сном, сон был мною.
Я снова закрыл глаза.
Не шевелиться, не шевелиться, не шевелиться.
На следующий день была суббота, и утром предстояла тренировка основного состава.
Многие не могли понять, за что меня туда взяли. Ведь особых успехов я не демонстрировал. В команде юниоров можно было насчитать шесть, а то и семь или восемь игроков, которые играли лучше меня. Но тем не менее во взрослый состав этой зимой перевели только двоих, меня и Бьерна.
Я-то знал, в чем дело.
У старшей группы появился новый тренер, он хотел посмотреть на всех юниоров, и каждому из нас дали возможность одну неделю потренироваться со взрослыми игроками. Было всего три возможности показать себя. Всю осень я много бегал и был теперь в такой форме, что меня отобрали в школьную команду бегунов на полтора километра, хотя раньше я легкой атлетикой не занимался. Так что, когда настал мой черед тренироваться с основным составом и я вышел на покрытую снегом дорожку у подножия Хьёйты, я знал: главное – бегать. Это был мой единственный шанс. Я бегал и бегал. На каждом круге я приходил первым. Каждый раз я выкладывался без остатка. То же самое, когда мы начали играть: я бегал и бегал, бегал изо всех сил, непрестанно, бегал как угорелый, и после трех таких тренировок понял, что все получилось, и нисколько не удивился, когда меня взяли в основную команду. Зато удивлялись в команде юниоров. На каждый мой пропущенный мяч, на каждый неудачный пас я слышал: на фига ты во взрослой команде? За что тебя туда взяли?
Я-то знал за что. За то, что я бегал.
Бегать – это было главное.
В раздевалке после тренировки, где все, как всегда, изгалялись над моим ремнем с заклепками, я попросил Тома подбросить меня до Саннеса. Он меня высадил возле почтовых ящиков, развернулся и скрылся за поворотом спуска, а я пошел к дому. Солнце стояло низко, небо было ясное и голубое, вокруг искрился снег.
Я не предупреждал, что приеду домой, и даже не знал, дома ли папа.
Я осторожно подергал дверь, она была открыта.
В гостиной играла музыка. Громко, на весь дом. Пела Арья Сайонмаа. «Я благодарю жизнь».
– Ты дома? – окликнул я.
Из-за громкой музыки он вряд ли меня слышит, подумал я, разулся и снял куртку.
Я не хотел заставать его врасплох и снова окликнул из коридора. Никакого ответа.
Я зашел в гостиную.
Он сидел на диване с закрытыми глазами и кивал головой в такт музыке. Лицо у него было мокрым от слез.
Я бесшумно попятился, вышел в коридор, торопливо оделся, пока не закончилась песня, и выскочил за дверь.
Всю дорогу до автобуса я бежал бегом – с рюкзаком за спиной и всем прочим. К счастью, автобус подошел уже через несколько минут. Четыре или пять минут, остававшиеся до Сульслетты, я мысленно спорил с собой, выйти мне на остановке, где живет Ян Видар, или ехать дальше до города. Ответ явился сам собой: мне не хотелось оставаться одному, хотелось поговорить, отвлечься, что вполне возможно дома у Яна Видара, чьи родители были внимательны и дружелюбны.
Яна Видара дома не оказалось, они с отцом уехали в Хьевик, но скоро уже вернутся, сказала его мама и предложила мне, если хочу, подождать его в гостиной.
Я согласился. Там я их и дождался через час, сидя с газетой, бутербродом и чашкой кофе.
Вечером, в сумерках, я снова пришел домой и отца уже не застал, да и мне тоже не захотелось оставаться. Днем при солнечном свете как-то меньше бросались в глаза грязь и запустение, сейчас я вдобавок обнаружил, что, оказывается, замерзли трубы. Причем давно, судя по всему: в доме уже появились ведра со снегом. В туалете стояло несколько таких, с подтаявшей снежной кашей, из которых отец, вероятно, сливал за собой в унитаз. Возле плиты тоже стояло ведро с подтаявшим снегом, который он, похоже, растапливал на огне, чтобы готовить пищу.
Нет, тут я не останусь! Не лежать же мне в пустой комнате пустого дома посреди леса, в грязи и без воды?
Пускай живет тут сам, если хочет.
Кстати, интересно, где он?
Я пожал плечами, хотя был один, оделся и пошел к автобусу сквозь пейзаж, словно завороженный лунным светом.
После того поцелуя у моего дома Ханна немножко отстранилась, теперь она редко отвечала мне на записки или когда мы разговаривали с ней, как бы невзначай сев рядом на перемене. Однако в этих изменениях не было ни логики, ни системы: в один прекрасный день она неожиданно согласилась пойти со мной вечером в кино, и мы встретились в фойе без десяти семь.
Когда она, войдя, стала искать меня глазами, я живо почувствовал, что значит быть с ней вместе. Тогда каждый день будет, как сейчас.
– Привет, – сказала она. – Давно ждешь?
Я покачал головой. Я знал, что хожу по туго натянутому канату: лишь бы не навести ее на мысль, что в кино ходят только влюбленные пары. Только бы она не пожалела о том, что пошла со мной и не начала оглядываться, нет ли поблизости знакомых. Ни в коем случае не обнимать ее за плечи, не браться за руки.
Фильм был французский, его показывали в самом маленьком зале. Предложил его я. Назывался он «Тридцать семь и два по утрам», Ингве уже смотрел его и остался в восторге, и сейчас, когда этот фильм пошел у нас в городе, я решил непременно его посмотреть: не так часто здесь показывали интеллектуальное кино, в основном крутят американские фильмы.
Мы сели, сняли куртки, поудобнее устроились в креслах. Мне показалась, Ханна несколько напряжена, нет? Она словно не рада, что пришла?
Ладони у меня вспотели. Все силы мои словно растворились в теле, провалились в него и исчезли, у меня ни на что не осталось энергии.
Начался фильм.
Трахающаяся парочка.
Нет, только не это! Нет, нет, нет!
Я не смел взглянуть на Ханну, но чувствовал, что она испытывает то же самое, не смеет взглянуть на меня, а сидит, вцепившись в подлокотники, и только ждет, скорей бы кончилась эта сцена.
Но она не кончалась. Там, на экране, они все трахались и трахались.
Черт!
Черт, черт, черт.
Весь остаток фильма я думал только об этом и о том, что Ханна, наверное, тоже об этом думает. Когда фильм закончился, я хотел только одного – поскорей бы домой.
Что казалось к тому же вполне естественным. Автобус Ханны отходил от автостанции внизу под горой. Мне надо было в другую сторону.
– Тебе понравилось? – спросил я, когда мы вышли.
– Да-а, – протянула Ханна. – Хороший фильм.
– Да, вполне, – сказал я. – Да еще и французский!
Французский у нас обоих был факультативным.
– Ты что-нибудь поняла, в смысле без титров? – спросил я.
– Немножко, – сказала она.
Пауза.
– Ну вот, – сказал я. – Мне вроде пора домой. Спасибо за сегодняшний вечер!
– До завтра, – сказала она. – Всего хорошего.
Я обернулся посмотреть, обернется ли она, но она не обернулась.
Я любил ее. Между нами ничего не было, она не хотела быть со мной, но я любил ее. Я ни о чем другом не мог думать. Даже когда я играл в футбол – единственная сфера, где меня не одолевали разные мысли, где участвовало только тело, – даже сюда иногда вторгалась она. Вот бы Ханна теперь на меня посмотрела, думал я, то-то бы она удивилась! Каждый раз, как у меня что-то получалось, например, удачная реплика, попав в цель, вызывала общий смех, я думал: видела бы это Ханна! Попадется на глаза наш кот Мефисто: вот бы Ханна его увидела! Наш дом, его обстановку. Подумаю о маме – вот бы Ханна увидела маму – видела бы она ее, посидела бы с ней, поговорила! Река рядом с домом – вот бы Ханна увидела реку! И мои пластинки. Вот бы она послушала их, все до единой. Но наши отношения развивались в другую сторону: она не стремилась заглянуть в мой мир, это я мечтал проникнуть в ее. Порой мне казалось, что этого не произойдет никогда, порой – что какой-то неожиданный поворот может все изменить. Я все время видел ее – не разглядывал, не наблюдал, речь совсем о другом, нет, я ловил промельк тут, промельк там, и мне этого хватало. Всегда оставалась надежда увидеть ее в следующий раз.
Посреди этих душевных бурь настала весна.
Пожалуй, нет ничего труднее, чем представить себе, что холодный заснеженный ландшафт, ледяной и безжизненный, через несколько месяцев раскинется перед тобой весь зеленый, пышный и теплый, весь наполненный всяческой жизнью, от птиц, что поют и летают с дерева на дерево, до насекомых, роящихся воздухе. Ничто в зимнем пейзаже не напоминает о запахе нагретого солнцем вереска и мха, об оживших соках под корой и об открытой воде, словно весна и лето напитают его своей влагой, – ничто не напоминает о том чувстве свободы, что охватит тебя, когда белыми останутся только плывущие по синему небу облака над синей рекой, медленно текущей к морю, с ее идеально ровной, холодно поблескивающей гладью, которую лишь кое-где нарушают то камни, то стремнины, то купальщики. Ничего этого пока нет, ничего такого не видно, все тихо и бело, и тишину нарушают только порывы холодного ветра да одинокий вороний крик. Но она придет… Она настанет… Однажды мартовским вечером снегопад незаметно сменится дождем и сугробы подтают. Однажды апрельским днем на деревьях набухнут почки и на буграх зеленоватыми пятнами по желтому проступит трава. Вдруг появятся нарциссы, белые ветреницы и голубые пролески. Внезапно на склонах между деревьями встанут столбы нагретого воздуха. По солнечным откосам распустится листва и зацветут вишни. В шестнадцать лет все это производит сильное впечатление, все оставляет след в душе, ведь эта весна – первая, про которую ты знаешь, что она – весна, которую ощущаешь всеми чувствами, и что она же – последняя, ведь что по сравнению с ней все следующие. Если ты к тому же еще и влюблен, тогда… тогда вопрос только в том, как все это вынести. Вместить всю радость, всю красоту, все надежды, заключенные во всем, что ты видишь. Я возвращался домой из школы и увидел на асфальте подтаявший сугроб, и мне словно острой иглой пронзило сердце. Я увидел ящики с фруктами под маркизой магазина; неподалеку ковыляла по земле ворона; я запрокинул голову и посмотрел на небо, такое прекрасное! Я шел мимо отдельных домов с садиками; хлынул ливень, на глаза мне навернулись слезы. Однако я продолжал делать, что всегда: ходил в школу, играл в футбол, встречался с Яном Видаром, читал книжки, слушал пластинки, время от времени виделся с папой – иногда случайно, как в тот раз, когда я встретил его в супермаркете и он как будто даже смутился, что я застал его врасплох в магазине, а может, дело было в странности самой ситуации, когда мы оба катим по проходу каждый свою тележку, не подозревая о присутствии другого, а встретившись, расходимся каждый своей дорогой, или как в то утро, когда я шел к дому, а он подъехал со своей сослуживицей, совершенно, как я разглядел, седой, но в остальном моложавой женщиной; но чаще всего мы виделись, заранее уговорившись: либо он заходил в мое городское жилье, и мы отправлялись обедать к бабушке и дедушке, либо у нас дома, где он, впрочем, по возможности меня избегал. Он как бы ослабил хватку, в которой держал меня, однако не до конца, и мог в любой момент сдавить тиски, как в тот день, когда я проколол себе оба уха, и он, столкнувшись со мной в коридоре, сказал, что у меня идиотский вид и он не понимает, зачем я хочу выглядеть идиотом, и ему стыдно, что он мой отец.
Как-то в марте, придя из школы, я услышал, как к дому подъезжает машина. Я спустился вниз и посмотрел в окно, это был папа с хозяйственной сумкой в руке. Выглядел он веселым. Я убежал наверх, чтобы не казалось, что я от любопытства плющу нос о стекло. Услышав, как он возится на кухне, я поставил кассету с The Doors, которую взял у Яна Видара после того, как прочел роман Соби Кристенсена «Битлз». Я достал пачку вырезок о деле Трехолта, которые собирал, уверенный, что такой вопрос будет на экзамене, и сел читать, когда на лестнице послышались шаги.
Я посмотрел на дверь, когда он вошел. В руке у него был листок, очевидно со списком покупок.
– Ты не сбегаешь в магазин? – спросил он.
– Могу, – сказал я.
– Что ты читаешь? – спросил он.
– Да так, – сказал я. – Уроки делаю по норвежскому.
Я встал. Через комнату протянулся солнечный луч. Окно было открыто, с улицы неслось пение птиц, они сидели на старой яблоне и щебетали в нескольких метрах от окна. Папа протянул мне список.
– Мы с мамой решили развестись, – сообщил он.
– Правда? – сказал я.
– Да. Но тебя это не затронет. В твоей жизни ничего не изменится. К тому же ты уже почти взрослый, тем более живешь отдельно.
– Это да, – сказал я.
– Окей? – сказал папа.
– Окей, – согласился я.
– Я забыл написать туда картошку. И может быть, взять что-то на сладкое? Впрочем, не надо. Вот тебе деньги.
Он протянул мне пятьсот крон одной бумажкой, я сунул ее в карман, спустился по лестнице, вышел на улицу и пошел по набережной к супермаркету. Я бродил между полок, наполняя корзину товарами. Ничего из сказанного папой не волновало меня настолько, чтобы от этого отвлечь. Разводятся, ну и пускай разводятся. Возможно, в детстве, лет в восемь или девять, думал я, для меня это что-то бы значило, а теперь нет, у меня уже своя жизнь.
Я отдал ему продукты, он приготовил обед, мы поели, ни о чем особенно не разговаривая.
Затем он уехал.
Я был этому только рад. Тем вечером Ханна должна была петь в церкви, она предложила мне прийти посмотреть, и я, разумеется, пошел. Там был ее жених, поэтому я к ней не приближался, но увидев ее там, такую чистую и прекрасную, я ощутил: она – моя, ничьи чувства не могли сравниться с моими. За дверями была пыльная улица, остатки снега еще лежали по темным углам и на тенистых откосах по обе стороны дороги; она пела, я был счастлив.
По пути домой я сошел на автовокзале и дальше пошел пешком, но беспокойство не проходило, меня переполняло столько чувств и такой силы, что я не мог с ними управиться. Придя домой, я лег на кровать и заплакал. Не от отчаяния, не от обиды или от горя, а от счастья.
На следующий день мы оказались одни в классе, все ушли, а мы остались, мы оба замешкались, она, может быть, потому, что хотела услышать, что я думаю о вчерашнем концерте. Я сказал ей, что она пела чудесно и она сама чудо. Она собирала ранец, ее лицо озарилось улыбкой. Тут вошел Нильс. Мне это не понравилось, его присутствие нависло над нами как тень. Мы вместе ходили на французский, этот парень был не то что другие, первого гимназического класса, – он водился с компанией гораздо старше себя, был независим в суждениях и в жизни. Он часто смеялся, поддевал всех, и меня тоже. В таких случаях я всегда чувствовал себя младшим, не знал, куда девать глаза и что ответить. А сейчас он заговорил с Ханной. Он закладывал вокруг нее круги, заглядывал ей в глаза, смеялся, приближался и вдруг оказался совсем рядом. Ничего другого я от него и не ожидал, и не это меня возмутило, а реакция Ханны. Она не отшила его, не высмеяла. Несмотря на то что рядом был я, она раскрылась ему навстречу. Радостно улыбалась ему, смотрела в глаза, даже развела за партой колени, и он приблизился к ней вплотную. Он словно околдовал ее. Мгновение он постоял, глубоко заглядывая ей в глаза, этот миг был полон напряжения и тревоги, затем рассмеялся своим недобрым смехом, отодвинулся, отступил на несколько шагов, бросил что-то убийственное, поднял на прощание руку и удалился. Охваченный бешеной ревностью, я смотрел на Ханну, которая вернулась к своему прерванному занятию, но не так, как будто ничего не случилось, она ушла в себя, но как-то совершенно по-новому.
Что такого произошло? Прежняя Ханна, светлая, веселая, задорная, вечно с каким-нибудь непосредственным, зачастую наивным вопросом на устах, – что с ней вдруг стало? Что это было, что я только что видел? То темное, глубоко скрытое, может, даже страстное – неужели в ней таилось и это? Она откликнулась, пускай на миг, но тем не менее! В тот миг я был для нее никем. Я был уничтожен. Со всеми моими записочками, со всеми рассуждениями и спорами, которые мы вели, со всеми моими непритязательными надеждами и ребяческими желаниями, я был никто – голос на школьном дворе, камешек в часовом механизме, автомобильный гудок.
Мог бы я так на нее подействовать? Так взволновать?
Взволновать хоть кого-нибудь?
Нет.
Для Ханны я был и оставался никем.
А она для меня – всем.
Я пытался свести все к пустяку, даже и перед ней, продолжая вести себя в точности, как прежде, и таким образом притворяясь, будто все в порядке. Что было неправдой, и я это прекрасно знал, даже не сомневался. Надеялся я только на то, что сама она этого не понимает. Но в каком же мире я тогда обретался? В какие грезы верил?
Два дня спустя на пасхальные выходные приехала мама.
По словам папы, развод был делом решенным и окончательным. Но когда приехала мама, я понял, что для нее это не так. Она подъехала к дому, где ее уже ждал папа. Вместе они провели два дня, между тем как я слонялся по городу, пытаясь как-то убить время.
В пятницу она приехала к моему городскому жилью. Я увидел ее из окна. Под одним глазом у нее был здоровенный синяк. Я отворил дверь.
– Что случилось? – спросил я.
– Я знаю, что ты подумал, – сказала она. – Нет, это не так. Я упала. Потеряла сознание – со мной, знаешь, иногда это бывает, – и неудачно упала, ударилась об угол стола. Стеклянного, наверху.
– Я тебе не верю, – сказал я.
– Это правда, – сказала она. – Я упала в обморок. Вот и все.
Я отступил в сторону, она шагнула в прихожую.
– Так вы уже развелись? – спросил я.
Она поставила чемодан на пол, повесила свой светлый плащ на вешалку.
– Да, – сказала она.
– Ты расстроена?
– Расстроена?
Она взглянула на меня с искренним недоумением, словно ей такое и в голову не приходило.
– Не знаю, – сказала она. – Наверное, мне горько. А тебе? Тебе-то как?
– Мне ничего, – сказал я. – Только бы не пришлось жить с папой.
– Об этом мы тоже поговорили. Только сперва мне бы чашечку кофе.
Я пошел за ней в кухню, смотрел, как она наливает воду в кофейник, затем садится на стул, поставив себе на колени сумку, достает сигареты. В Бергене она, похоже, перешла на «Барклай». Мама вынула сигарету, закурила.
Посмотрела на меня.
– Я переезжаю в наш дом. Мы с тобой будем жить там. А папа здесь. Вероятно, мне придется выкупить его долю, не знаю пока, как это получится, но что-нибудь придумаем.
– Да, – сказал я.
– А ты? – спросила она. – Как твои дела? Как ты понимаешь, я страшно рада с тобой повидаться.
– Я тоже, – сказал я. – Я же не виделся с тобой с самого Рождества. С тех пор столько всего случилось.
– Правда?
Она встала, вынула из шкафа пепельницу, достала заодно пакет с кофе и поставила на стол; вода в кофейнике тем временем зашумела, как далекий морской прибой.
– Да, – сказал я.
– Кажется, это что-то хорошее? – спросила она улыбаясь.
– Да, – кивнул я. – Я влюбился. Такие дела.
– Как здорово! Я ее знаю?
– Нет, откуда тебе ее знать! Она из нашего класса. Может, это как раз и глупо, но так уж вышло. Такие вещи не очень-то спланируешь.
– Ну да, – сказала она. – А как ее зовут?
– Ханна.
– Ханна, – повторила она, улыбаясь. – Когда же я ее увижу?
– В том-то и дело. Она выбрала не меня. У нее другой парень.
– Нелегко тебе, значит.
– Да.
Она вздохнула:
– Ну что ж, бывает. Но выглядишь ты хорошо. Вид у тебя счастливый.
– Я еще никогда не был так счастлив. Никогда в жизни.
По какой-то непонятной причине при этих словах на глаза у меня навернулись слезы. Не просто выступили, как если бы я растрогался от собственных слов, – нет, они покатились у меня по щекам.
Я улыбнулся.
– Вообще-то это слезы радости, – всхлипнул я.
Тут слезы хлынули градом, так что мне пришлось отвернуться. К счастью, как раз закипел кофе, и я мог повернуться к плите, снять кофейник, налить кофе в чашки, затем снова закрыть кофейник и поставить его обратно на плиту.
Когда я ставил чашки на стол, все уже прошло.
Спустя полгода, в конце июля, я поздно вечером вышел из автобуса на остановке возле водопада. На плече у меня был моряцкий рюкзак, я только что побывал в тренировочном лагере в Дании, затем, не заходя домой, съездил в шхеры на встречу одноклассников. Я был счастлив. Время шло к одиннадцати, и сумерки белой ночи уже подернули пейзаж сероватой дымкой. Подо мной шумел водопад. Я поднялся вверх по склону и зашагал по дороге, огороженной каменной стенкой. Вниз по склону к окаймляющим реку деревьям тянулась луговина. Выше стояла усадьба, распахнутые ворота заброшенного амбара зияли навстречу дороге. Огней в доме видно не было. Я прошел поворот, у которого стоял следующий дом; живший там старичок сидел в гостиной у телевизора. За рекой проехал трейлер. Звук мотора донесся до меня искаженно, на подъеме водитель переключил передачу, но я услышал это, только когда он уже был на вершине. Над верхушками деревьев, на фоне бледного неба, порхали две летучие мыши, и я вспомнил про барсука, который часто попадался мне на пути, когда я возвращался домой последним автобусом. Обыкновенно он спускался к дороге вдоль ручья, и я встречал его, поднимаясь в гору. На всякий случай я держал в каждой руке по камню. Иногда я встречал его и на дороге, он останавливался и глядел на меня, а затем улепетывал от меня своей характерной трусцой.
Здесь я остановился, сбросил рюкзак, уперся одной ногой в каменную изгородь и закурил сигарету. Мне не хотелось идти прямо домой, и я задержался на несколько минут. Мама, с которой я прожил тут всю весну и половину лета, была сейчас в Сёрбёвоге. Она еще не выплатила папе его долю за дом, и он, воспользовавшись своим правом, остался тут со своей новой подругой, Унни, до начала занятий в школе.
Над лесом показался большой самолет, он сделал медленный разворот и снова вышел на прямую как раз у меня над головой. Огни на концах его крыльев мигали, и он начал выпускать шасси. Я проводил его глазами, пока он не скрылся из вида, за ним некоторое время еще тянулся гул двигателей, становившийся все глуше и глуше, наконец и он умолк, когда самолет приземлился в Хьевике. Самолеты я любил с детства. Даже прожив три года там, где прямо над головой проходил воздушный коридор идущих на посадку самолетов, я продолжал ими любоваться.
В летних сумерках поблескивала река. Дым от сигареты не поднимался вверх, а ложился горизонтально и повисал, распластавшись в воздухе. Не было ни ветерка. А когда смолк гул самолета, не стало и звуков. Впрочем, нет. Звук издавали летучие мыши, он становился то громче, то тише, в зависимости от того, куда направлялся их полет.
Высунув язык, я потушил об него окурок и сбросил с откоса, закинул рюкзак на плечо и продолжил путь. В доме у Вильяма горел свет. Над следующим витком дороги кроны лиственных деревьев нависали так густо, что не было видно неба. С заболоченного участка между дорогой и рекой доносилось кваканье лягушек или жаб. Затем я уловил какое-то движение у подножия горы. Это был барсук. Он не заметил меня и побежал по асфальту, пересекая дорогу. Я шагнул к обочине, чтобы не стоять у него на пути, но тут он поднял голову и остановился. До чего же он был хорош, с этой черно-белой полосатой хипстерской мордочкой! Шубка у него была серая, глазки золотистые и настороженные. Я поставил занесенную ногу за ограждение дороги и остановился внизу за обочиной. Барсук зашипел, но продолжал на меня смотреть. Очевидно, он пытался оценить ситуацию, потому что раньше, когда я с ним сталкивался, он тотчас же поворачивал назад и убегал. Но на этот раз он вдруг потрусил дальше и скрылся, к моей великой радости, за горой. И лишь тут, снова выбравшись на дорогу, я услышал слабые звуки музыки, которая, вероятно, играла все это время.
Неужели из нашего дома?
Прибавив шагу, я спустился с горы и стал подниматься по противоположному склону, на котором всеми окнами светился наш дом. И правда, музыка доносилась оттуда. Наверное, из открытой двери гостиной, подумал я и понял, что там гости, потому что на лужайке тоже скользили какие-то тени, черные и таинственные в сумеречном свете летней ночи. В обычное время я бы пошел напрямик вдоль ручья к западной части дома, но раз в доме праздник и полно гостей, я не хотел вваливаться к ним из леса, а пошел кружным путем по дороге.
На лужайке вдоль всей подъездной дорожки стояли автомобили, возле амбара и во дворе тоже. Я остановился на холме, чтобы прийти в себя от неожиданности. Через двор, не замечая меня, прошел мужчина в белой рубашке. В саду позади дома слышался гул голосов. На кухне, как я заметил в окно, сидели за столом две женщины и мужчина, перед ними стояли бокалы с вином, они смеялись и чокались.
Я отдышался и двинулся к входной двери. В саду, ближе к лесу, был расставлен длинный стол. Белая скатерть светилась в глубоком сумраке под деревьями. За столом сидело человек шесть или семь, среди них и мой папа. Он глядел прямо на меня. Когда мы встретились взглядами, он привстал и помахал мне рукой. Я скинул рюкзак, поставил его у порога и пошел ему навстречу. Таким я его еще никогда не видел. На нем была белая свободная сорочка с вышивкой у треугольного выреза, синие джинсы, светло-коричневые кожаные туфли. Лицо его, почти черное от загара, озарено было каким-то внутренним светом. Глаза сияли.
– Так это ты, Карл Уве? – сказал он, положив ладонь мне на плечо. – Мы думали, ты придешь раньше. У нас тут, как видишь, веселье. Ты ведь побудешь с нами немного? Садись сюда!
Я сделал, как он сказал, и сел за стол спиной к дому. Единственной, кого я тут знал, была Унни. На ней была такая же светлая сорочка, или блузка, или как там оно называется.
– Привет, Унни, – сказал я.
Она тепло улыбнулась мне в ответ.
– Так вот, это – Карл Уве, мой младший сын, – сказал папа, садясь напротив, рядом с Унни.
Я кивком поздоровался с остальными пятью присутствующими. – А это, Карл Уве, – Будиль, – сказал он. – Моя кузина.
Я никогда не слыхал ни о какой кузине Будиль и бросил на нее, кажется, вопросительный взгляд, потому что она улыбнулась и сказала:
– В детстве мы с твоим папой много времени проводили вместе.
– И подростками тоже, – сказал папа. Он закурил сигарету, затянулся и с явным удовольствием выпустил струю дыма. – А еще тут у нас Рейдар, Эллен, Марта, Эрлинг и Оге. Мои коллеги.
– Привет, – сказал я.
Весь стол был уставлен бокалами и бутылками, блюдами и тарелками. Чем они угощались, было понятно по двум большим мискам с пустыми креветочными панцирями. Гость, имя которого папа назвал последним, Оге – мужчина лет сорока в больших очках в тонкой оправе, смотрел на меня, потихоньку потягивая пиво. Отставив его, он сказал:
– Ты ведь, кажется, был в тренировочном лагере?
– Да. В Дании.
– И где же именно в Дании? – спросил он.
– В Нюкёбинге.
– На Морсе?
– Да, – сказал я. – Кажется, там. На острове в Лимфьорде. Он засмеялся и оглядел присутствующих.
– Это же родина Акселя Сандемусе! – сказал он и обратил свой взгляд на меня. – А ты знаешь, какой закон он вывел, описывая город, в котором ты побывал?
Что это? Никак я попал на школьный урок?
– Да, – сказал я, опустив глаза.
Я не хотел подавать ему требуемую реплику. Этого он от меня не дождется.
– И он называется закон… – начал он.
– …Янте, – сказал я.
– Точно!
– Хорошо там было? – спросил отец.
– Очень, – сказал я. – Прекрасные площадки. Прекрасный город.
Нюкёбинг: я возвращался в школу, в которой нас поселили. Весь вечер и ночь я прогулял с девушкой, с которой недавно познакомился, она влюбилась в меня без памяти, другие четверо участников нашей компании давно ушли, и мы остались с ней вдвоем. Возвращаясь от нее, пьяный больше обычного, я остановился перед каким-то домом. Все подробности вылетели у меня из памяти, я не помнил, как уходил от нее, не помнил, как к ней пришел, но тут перед закрытой дверью в моем сознании вдруг ненадолго что-то всплыло. Я вынул изо рта горящий окурок, приоткрыл щель для почты и кинул его на пол в прихожую. Затем все опять подернулось туманом, однако мне каким-то образом, видимо, удалось добраться до школы, попасть в свою комнату и лечь в кровать. Через три часа меня разбудили: пора было завтракать и отправляться на тренировку. Про ту сигарету я вспомнил, только сидя в компании под раскидистыми широколиственными деревьями возле спортивной площадки. Похолодев от ужаса, я ударил ногой по мячу и бросился за ним бежать. Вдруг дом от нее загорелся? Вдруг там погибли люди? Кто же я после этого?
В последующие дни мне удавалось как-то вытеснять эту мысль, но сейчас, за праздничным столом в саду, в первый вечер дома, во мне снова всколыхнулся страх.
– За какую команду ты играешь, Карл Уве? – спросил кто-то из присутствующих.
– За «Твейт», – сказал я.
– А в каком дивизионе?
– Я играю в команде юниоров, – сказал я. – А основная команда – это пятый дивизион.
– Значит, все-таки не в «Старте»[7].
По выговору я понял, что он из Веннесы, так что парировать было нетрудно.
– Нет, – сказал я. – В «Виннбьярте»[8].
Все засмеялись. Я опустил глаза. У меня было ощущение, что я, кажется, злоупотребил всеобщим вниманием. Но кинув взгляд на папу, я увидел, что он смотрит на меня с улыбкой.
Ну да, глаза у него сияли.
– Хочешь пива, Карл Уве? – спросил он.
Я кивнул:
– С удовольствием.
Папа обвел глазами стол.
– Похоже, на столе пустовато, – сказал он. – Но на кухне стоит целый ящик пива. Можешь себе там взять.
Я поднялся. Когда я подходил к двери, оттуда вышли двое. Мужчина и женщина, в обнимку. На ней было белое летнее платье. Смуглые руки и ноги. Налитые груди, полные бедра. Какое-то сытое выражение лица, взгляд мягкий. Он, одетый в голубую рубашку и белые брюки, был с небольшим брюшком, хотя в остальном худощав. В нем, хотя он и улыбался, а хмельной взгляд его непрестанно блуждал, заметна была какая-то оцепенелость. Черты его застыли в неподвижности, сохраняя только след движения, вроде того, что остается в пересохшем русле реки.
– Привет, – сказала она. – Ты – сын?
– Да, – сказал я. – Привет.
– Я работаю с твоим отцом, – сказала она.
– Очень приятно, – сказал я, радуясь, что больше ничего не требуется говорить, так как они уже прошли мимо. Когда я вошел в прихожую, вдруг открылась дверь ванной. Из нее вышла маленькая, толстенькая темноволосая женщина в больших очках. Едва взглянув на меня, она прошла дальше, направляясь в одну из комнат. Я незаметно втянул запах духов, которым она меня обдала. Запах был свежий, цветочный. В кухне, куда я вошел через несколько секунд, сидели все те же трое, которых я видел в окно, подходя к дому. Мужчина, тоже сорокалетнего возраста, что-то нашептывал сидящей справа от него женщине. Она улыбалась, но вежливой улыбкой. Другая женщина рылась в своей сумочке. Доставая из нее пачку сигарет, она взглянула на меня.
– Привет, – сказал я. – Я только взять пива.
У стены возле двери стояло два полных ящика. Я взял бутылку из верхнего.
– Открывалки ни у кого не найдется? – спросил я.
Мужчина встал, похлопал себя по карману.
– У меня есть зажигалка, – сказал он.
Он поднял локоть, сначала медленно, как бы давая мне время приготовиться, а затем резким движением кинул мне зажигалку. Она угодила в дверной косяк и звякнула об пол. Если бы не это, я бы не придумал, как выйти из положения, потому что ничьего покровительства, даже выраженного в открывании для меня бутылки, я бы не стерпел, но сейчас инициативу взял он сам и потерпел неудачу, что перевернуло всю ситуацию с ног на голову.
– Я не умею открывать зажигалкой, – сказал я. – Вы мне не откроете?
Я поднял с пола зажигалку и протянул ему вместе с бутылкой. У него были круглые очки и лысина вполголовы, а там, где волосы росли, они вздымались вверх, словно волна, застывшая вдоль бесконечного берега, которого ей никогда не суждено достичь, что добавляло его облику некую обреченность. По крайней мере, так мне показалось. Пальцы, которыми он крепко обхватил зажигалку, были волосатые. На запястье болтались часы на серебряном браслете.
Пивная крышка отлетела с негромким хлопком.
– Вот, – сказал он, протягивая мне бутылку.
Я поблагодарил, прошел через гостиную, где танцевали четыре или пять человек, и вышел в сад. У флагштока стояла небольшая группа гостей, у каждого в руке был бокал, и они разговаривали, любуясь на речную долину.
Пиво оказалось потрясающе вкусным. В Дании я пил каждый вечер, а с вечера накануне – всю ночь напролет, так что сейчас мне пришлось бы сильно постараться, чтобы запьянеть. Я и не хотел этого. Напившись, я как бы присоединился бы к их миру, позволил ему поглотить меня целиком и тогда перестал бы ощущать разницу между ними и мной; возможно, меня бы потянуло на женщин этого мира. Вот уж чего я совсем не хотел.
Я стал смотреть вдаль. На реку, которая текла, огибая поросший травой выступ берега, на котором стояли футбольные ворота, сквозь строй лиственных деревьев на берегу, черных на фоне темно-серой, блестящей речной глади. Лесистые холмы, поднимавшиеся за рекой и тянувшиеся до самого моря, тоже казались совсем черными. Огоньки домов, стоявших между рекой и холмами, светились отчетливо и ярко, между тем как звезды на небе, сероватые у горизонта и голубые в вышине, были едва видны.
Группа возле флагштока над чем-то захохотала. Они стояли в нескольких метрах от меня, но их лица виднелись смутно. Из-за дома вышел мужчина с брюшком, казалось, он скользит по земле. Там, возле флагштока, мы фотографировались на память после моей конфирмации, я стоял между мамой и папой. Я глотнул из бутылки и пошел к остальным, которые сидели в дальнем конце сада, куда, кроме них, никто почему-то не добрел. Там я сел под березой, скрестив ноги. Музыка отодвинулась куда-то вдаль, голоса и смех тоже, а движения людей были едва различимы. Точно призраки, они скользили туда-сюда мимо освещенного дома. Я думал о Ханне. Она словно стала частью меня, обозначилась внутри как некое реально существующее место, в котором мне хотелось быть всегда. Ощущение, что я могу войти туда когда угодно, я воспринимал как благодать. Прошлой ночью мы сидели с ней на скалах у моря и разговаривали о пикнике одноклассников. Ничего кроме этого между нами не происходило. Пологая, обточенная морем скала, Ханна, усеянный островками залив, море. Мы танцевали, играли, спускались по лесенке с мостков и купались в темноте. Это было несказанно прекрасно. И несказанное было неистощимо, оно продолжало жить во мне весь этот день и жило сейчас. Я был бессмертен. Я поднялся, ощущая собственную силу каждой клеточкой тела. На мне была серая майка, бермуды цвета хаки и белые адидасовские баскетбольные кроссовки, больше ничего, но этого было достаточно. Я не был силачом, но был строен, гибок и красив как бог.
Могу я ей позвонить?
Она же собиралась сегодня вечером быть дома.
Но время уже подходило к двенадцати. И даже если она не против, чтобы ее поднял среди ночи телефонный звонок, остальным членам семьи это вряд ли понравится.
А вдруг ее дом сгорел? Вдруг кто-то его поджег?
Ё-к-л-м-н!
Силясь отогнать эту мысль, я побрел через лужайку, покуда взгляд мой скользил вдоль живой зеленой изгороди, поверх дома, над крышей, и дальше, в конец лужайки, где росли кусты сирени; их тяжелые, лиловые гроздья пахли так сильно, что запах чувствовался даже внизу, на дороге; допив на ходу остатки пива, я дошел до крыльца, где, аккуратно поджав коленки, сидели женщины, которых я уже видел за столом, – с пылающими щеками, зажав между пальцами сигареты, – мимоходом им улыбнулся, зашел в дом и через гостиную прошел на кухню, где теперь никого не было, взял новую бутылку, поднялся по лестнице в свою комнату и, сев на стул у окна, закинул голову и закрыл глаза.
Ну вот.
Динамики в гостиной находились прямо подо мной, а слышимость в доме была такая, что каждый звук доносился до меня отчетливо и ясно.
Что они там поставили?
Агнету Фельтског. Хит прошлого лета. Как же он назывался? В сегодняшнем папином наряде было что-то унижающее его достоинство. Какая-то сорочка, не то батник, или как там называется эта штука. Сколько я его знал, он всегда одевался просто, корректно, чуточку консервативно. В его гардероб входили рубашки, костюмы, пиджаки, часто из твида, брюки – териленовые, вельветовые, хлопчатые, шерстяные свитеры. Скорее университетский преподаватель старого типа, чем современный учитель средней школы, однако дело было не в старомодности. Главным было то, что обозначало разницу между мягким и жестким, между попыткой сгладить или подчеркнуть дистанцию. Речь шла о ценностях. Когда он вдруг стал появляться в таких изделиях народного промысла, как эта вышитая блуза, или в рубашках с рюшками, как было этим летом, или в бесформенных башмаках из кожи, которые составили бы счастье какому-нибудь лопарю, в этом сразу ощущалось глубокое противоречие между тем, каким он был и каким я привык его видеть, и тем, каким он хотел казаться теперь. Сам я был сторонником мягкости, противником войны и авторитетов, иерархий и всякого рода жесткости, восставал против школьной зубрежки, полагая, что мой интеллект имеет право развиваться своим естественным путем, в политике придерживался самых левых убеждений, меня бесило несправедливое распределение мировых ресурсов, я хотел, чтобы блага всем доставалтсь поровну, а потому капитализм и власть денег были для меня главным злом. Я считал, что все люди одинаково достойны уважения и что внутренние качества человека всегда важнее внешних. Одним словом, я был за глубинное против поверхностного, за все хорошее против всего плохого, за мягкое и против жесткого. Казалось бы, я должен был радоваться, что мой отец перешел в стан сторонников мягкости. Но нет – к тому, что выражало собой мягкость, то есть к круглым очкам, бархатным брюкам, мягкой, по ноге, обуви, вязаным свитерам я относился с презрением, потому что наряду с политическими у меня были и другие идеалы, связанные с музыкой, а они предполагали совсем другое понимание внешней крутости – как чего-то связанного с тем временем, в которое мы живем, и выражались не через списки хитов, пастельные тона и гель для волос, все это покупное, стандартное и развлекательное, а через новаторскую, но чтящую традиции, полную чувства, но стильную, интеллектуальную, но притом простую, эффектную, но искреннюю музыку, которая обращается не ко всем, не становится ходовым товаром, но тем не менее выражает опыт целого поколения, моего поколения. О, это новое! Я был на стороне новизны. А идеалом нового был Иэн Маккаллох из Echo & the Bunnymen. Пальто, куртки военного образца, баскетбольные кроссовки, черные солнечные очки. Это вам не папина вышитая сорочка и саамские башмаки! С другой стороны, дело, наверное, было не в этом, ведь отец принадлежал к другому поколению, для которого сама мысль о том, чтобы вдруг начать одеваться как Иэн Маккаллох, слушать британскую инди-музыку, интересоваться тем, что ставят на американской сцене, открыть для себя REMs или дебютный альбом Green on Reds, а то еще завести в своем гардеробе галстук-шнурок, казалась кошмарной. Но главное было то, что вышитая сорочка и саамские башмаки – это был не он. И то, что он как бы скатился во все это, провалился в нечто бесформенное и неопределенное, почти женственное, словно утратив власть над собой. Даже жесткость, которая раньше слышалась в его голосе, куда-то подевалась.
Я открыл глаза и повернулся так, чтобы видеть в окно стол на краю леса. Теперь там сидело только четверо. Папа, Унни, женщина, которую он назвал Будиль, и еще один гость. За кустами сирени, невидимый для них, но не для меня, мочился, глядя на реку, какой-то тип.
Папа поднял голову и посмотрел на окно. Сердце у меня заколотилось сильнее, но я не сдвинулся с места, потому что, если он действительно видел меня, в чем я не был уверен, это стало бы признанием, что я за ними подглядывал. Вместо того чтобы отвернуться, я подождал, чтобы наверняка убедиться, что он видит, что я вижу, что он меня видит, если он правда видел, и только затем отошел от окна и сел за письменный стол.
На папу лучше было не смотреть, он это всегда замечал. Он видел все, всегда все видел.
Я отхлебнул пива. Неплохо бы сейчас закурить. Он никогда не видел меня с сигаретой, и, возможно, это даст повод для разговора. Хотя с другой стороны, разве не он сам предложил мне только что взять бутылку пива?
Письменный стол, всегда, сколько я себя помню, такой же оранжевый, как и кровать, и дверцы гардероба в моей старой комнате, не считая подставки с кассетами, стоял совершенно пустой. После окончания учебного года я убрал с него все, и если приходил сюда потом, то лишь для того, чтобы переночевать. Я отставил бутылку и несколько раз повернул подставку вокруг собственной оси, читая собственноручно выведенные печатными буквами надписи на корешках. BOWIE – HUNKY DORY. LED ZEPPELIN – I. TALKING HEADS – 77. THE CHAMELEONS – SKRIPT OF THE BRIDGE. THE THE – SOUL MINING. THE STRANGLERS – RATTUS NORVEGICUS. THE POLICE – OUTLANDOS D’AMOUR. TALKING HEADS – REMAIN IN LIGHT. BOWIE – SCARY MONSTERS (Аnd super creeps), ENO BYRNE – MY LIFE IN THE BUSH OF GHOSTS, U2 – OCTOBER. THE BEATLES – RUBBER SOUL. SIMPLE MINDS – NEW GOLD DREAM.
Я встал, поднял прислоненную к маленькому усилителю «Роланд Кьюб» гитару и взял на ней несколько аккордов. Поставил ее на место, снова выглянул в сад. Они все еще сидели там в темной тени деревьев; свет керосиновых ламп ее не рассеивал, но все же как бы смягчал, в том смысле, что придавал цвет их лицам. Они были темными, почти медными.
Будиль, кажется, была дочерью другого дедушкиного брата, которого я никогда не видел. Его по какой-то причине отлучили от семьи еще в давние времена. Я впервые услышал о нем всего несколько лет назад, совершенно случайно; в семье праздновали чью-то свадьбу, и мама упомянула, что он на ней побывал и произнес пламенную речь. Он был у нас в городе светским проповедником в общине пятидесятников. Работал механиком. Он во всем отличался от двух других братьев, даже фамилию носил другую. Когда они, собравшись на совет под председательством своей статной матушки, решили ввиду академической карьеры сменить при поступлении в университет обыкновенную фамилию Педерсен на чуть менее обыкновенную Кнаусгор, он отказался последовать их примеру. Может, это и стало причиной разрыва?
Я вышел из своей комнаты и спустился вниз. В прихожей я увидел папу, он смотрел на меня из темноты гардеробной комнаты, в которой был выключен свет.
– Вот ты где, оказывается, – сказал он. – Не хочешь посидеть с нами?
– Почему же, – сказал я. – Разумеется, посижу. Я только зашел посмотреть, что тут делается.
– Прекрасная вечеринка, – сказал он.
Он тряхнул головой и поправил волосы. Своим привычным жестом, который из-за этой сорочки и джинсов, так контрастирующих со всем его обликом, показался каким-то женским. Словно прежняя консервативная и корректная манера одеваться заслонила и нейтрализовала этот жест.
– С тобой все хорошо, Карл Уве? – спросил он.
– Ну да, – кивнул я. – Никаких проблем. Пойду пока посижу.
Когда я вышел на крыльцо, потянуло ветерком. Деревья в лесу как бы нехотя шевельнули листвой, словно их разбудили от глубокого сна.
А может, все дело в том, что он пьян, подумал я. Потому что и это было для меня непривычно. Раньше отец никогда не пил. Впервые я увидел его нетрезвым однажды вечером два месяца тому назад, когда зашел в гости в квартиру на Эльвегатен, где жили они с Унни, и они угостили меня фондю – чего в качестве пятничного ужина в нашем доме я не мог себе даже представить. К моему приходу они уже успели выпить, и, несмотря на то, что он был само дружелюбие, я почувствовал угрозу – не прямую, разумеется, не то чтобы я сидел весь вечер и только и делал, что боялся, но латентную, потому что я перестал его считывать. Мне показалось, что весь опыт, накопленный мной с детства, благодаря которому я был готов к любому повороту событий, вдруг утратил силу. Что же в силе теперь?
Повернувшись, чтобы идти к столу, я встретил взгляд Унни, она улыбалась мне, и я улыбнулся в ответ. Снова пробежал ветерок, на этот раз посильнее. Кусты в человеческий рост у входа в амбар зашелестели листвой. На деревьях качнулись самые тонкие ветки.
– Как ты – с тобой все хорошо? – спросила Унни.
– Да, спасибо, – сказал я. – Только немного устал, так что скоро пойду лягу.
– А ты сможешь заснуть среди такой кутерьмы?
– Да какая же тут кутерьма!
– Знаешь, как тепло говорил сегодня о тебе твой отец, – сказала Будиль, наклонившись ко мне через стол.
Не зная, что на это сказать, я осторожно улыбнулся.
– Разве не так, Унни?
Унни кивнула. У нее были длинные, совершенно седые волосы, хотя ей было только немного за тридцать. Папа был ее руководителем, когда она проходила педпрактику. На ней были свободные зеленые брюки и что-то вроде той сорочки, какая была на нем. На шее – бусы, кажется деревянные.
– Весной мы тут как-то читали твое школьное сочинение, – сказала она. – Ты не знал? Ничего, что я прочитала? Понимаешь, он показал мне его с такой гордостью!
Ого! С какой стати она читает мои сочинения?
Но в то же время – что скрывать – я был польщен.
– Ты похож на папиного отца, Карл Уве, – сказала Будиль.
– На дедушку?
– Да. Та же форма головы. Тот же рот.
– А ты, значит, папина двоюродная сестра?
– Да, – кивнула она. – Ты непременно должен как-нибудь нас навестить. Мы ведь, знаешь, тоже живем в Кристиансанне!
Я этого не знал. До сегодняшней встречи я вообще не знал о ее существовании. Надо было ей это сказать. Но я не сказал. Вместо этого я сказал, что было очень приятно встретиться, и спросил, чем она занимается, а потом еще есть ли у нее дети. Про это она как раз говорила, когда снова подошел папа. Он сел за стол и стал внимательно слушать, как бы желая понять, о чем разговор, но затем вдруг откинулся на спинку стула, положа ногу на ногу, и закурил сигарету.
Я поднялся.
– Я пришел, и ты уже уходишь? – спросил папа.
– Что ты. Просто хотел достать одну вещь.
Я открыл оставленный у крыльца рюкзак, достал сигареты, одну на ходу сунул в рот, на секунду остановился закурить, чтобы сесть за стол с уже зажженной. Папа ничего не сказал. А хотел, я это понял по неодобрительной складке губ, но он только бросил на меня сердитый взгляд, и это выражение сразу исчезло, как будто он напомнил себе, что теперь стал другим.
По крайней мере, так я подумал.
– За ваше здоровье, друзья, – сказал папа, подняв бокал с красным вином. Затем взглянул на Будиль и сказал: – За Хелену.
– За Хелену, – сказала Будиль.
Они выпили, глядя друг другу в глаза.
Кто еще такая эта Хелена?
– У тебя нет бокала, чтобы выпить с нами, Карл Уве? – спросил папа.
Я отрицательно покачал головой.
– Возьми вон тот, – сказал он. – Из него никто не пил. Ведь так, Унни?
Она кивнула. Папа взял со стола бутылку белого вина и налил мне. Мы выпили вместе.
– Кто это – Хелена? – спросил я, обращаясь к ним.
– Моя сестра, – сказала Будиль. – Она умерла.
– Хелена была… Мы росли вместе, и очень дружили, – сказал папа. – В детстве. Потом, когда подросли, она заболела.
Я взял бокал и глотнул вина. Из-за дома показалась пара, которую я уже видел. Полногрудая женщина и мужчина с брюшком. Следом за ними шли еще двое мужчин, одного я тоже узнал, он тогда сидел в кухне.
– Вот вы, оказывается, где, – сказал мужчина с брюшком. – А мы-то вас искали. Что-то ты не очень за гостями ухаживаешь, скажу я тебе, – сказал он, положив руку отцу на плечо. – А мы выбрались в такую даль главным образом ради тебя.
– Это моя сестра, – тихо пояснила мне Будиль. – Элиса-бет. И ее муж Франк. Они живут в Рюене, в низине у реки, он риелтор.
Неужели все эти люди, эти папины знакомые, все время жили тут, совсем рядом?
Они уселись за стол, и все сразу оживились. Если поначалу, когда я только пришел, я не улавливал в их лицах ни смысла, ни содержания и соответственно различал в них только возраст и типажи, некий бестиарий сорокалетних со всем, что им положено, – вроде потухших глаз, поджатых губ, вислых грудей и колыхающихся животов, морщин и жировых складок, – то теперь я увидел личности, поскольку состоял с ними всеми в родстве, в их жилах текла та же кровь, что и в моих, и для меня вдруг стало важно, кто они такие.
– Мы тут говорили о Хелене, – сказал папа.
– Да, Хелена, – произнес тот, кого звали Франк. – Я ни разу ее не видел. Но много про нее слышал. Жалко, что так получилось.
– Я сидел у ее смертного одра, – сказал папа.
Я смотрел на него, не веря своим глазам. Что тут происходит?
– Я так ее ценил. Так ценил.
– Ты даже не представляешь себе, какая она была красавица, – так же тихо, как раньше, сказала мне Будиль.
– И вот – умерла, – сказал папа. – О-о!
Неужели он плачет?
Да, он плакал. Он сидел, упершись локтями в стол и сложив ладони на груди, и слезы заливали его лицо.
– Причем весной. Была весна, когда она умерла. В природе все цвело. О, о-о!
Франк опустил глаза и вертел в руке ножку бокала. Унни положила руку папе на плечо. Будиль смотрела на них.
– Ты ведь был самым близким ей человеком, – сказала она. – Она любила тебя больше всех.
– О! О! – стонал отец. Он закрыл глаза и прижал руки к лицу.
По двору пронесся порыв ветра. Свесившиеся со стола концы скатерти захлопали на ветру. Ветер подхватил салфетку и понес ее по участку. Листва над нами зашумела. Я поднял бокал и выпил, вздрогнув, когда кисловатый вкус разлился по нёбу, и вдруг снова ощутил то светлое, чистое чувство, когда хмель вот-вот ударит в голову, но еще не ударил, а затем, как всегда, – желание его поймать.
Часть II
Просидев несколько месяцев за писанием того, что, по идее, должно было стать моим вторым романом, в полуподвальной комнате в Окесхуве – одном из многочисленных городов-спутников Стокгольма, – где за окном в каких-то нескольких метрах проносились поезда метро, так что каждый день, когда спускались сумерки, вагоны вереницей освещенных комнат мчались через лес, я в конце 2003 года снял себе для работы офис в центре Стокгольма. Помещение принадлежало одному из друзей Линды, и оно подходило мне идеально. По сути дела, это была однокомнатная квартира с мини-кухней и душевой кабиной; помимо письменного стола и книжных полок там был даже диван-кровать. После Рождества я перебрался туда со своими вещами, то есть с пачкой книг и компьютером, и приступил к работе в первый будний день нового года. Роман был, в сущности, готов – странная вещица на сто тридцать страниц, небольшой сюжетик об отце и двух его сыновьях, отправившихся летней ночью на ловлю крабов, который затем перетекал в длинное эссе об ангелах, в свою очередь плавно перетекавшее в историю об одном из этих сыновей, теперь уже взрослом, как он несколько дней провел один на острове среди моря, предаваясь сочинительству и самоистязанию.
В издательстве обещали его опубликовать, и я соблазнился на это предложение, хотя в душе чувствовал неуверенность, особенно после того, как дал его прочитать Туре Эрику, а он позвонил мне поздно вечером и говорил странным голосом и странно выбирая слова, как будто немного выпил, чтобы высказать то, что хотел, а сказал он простую вещь: это не годится, это не роман. «Ты должен рассказывать, Карл Уве! – повторил он несколько раз. – Ты должен рассказывать!» Я и сам понимал, что он прав, и приступил к делу в первый рабочий день 2004 года, усевшись за новый письменный стол перед пустым экраном. Промаявшись полчаса, я откинулся на спинку стула и перевел взгляд на постер, висевший над письменным столом, – афишу выставки Питера Гринуэя в Барселоне, на которой я когда-то, в прошлой жизни, побывал с Тоньей; на ней были репродукции четырех картин: одну я долго считал писающим херувимом, другая изображала птичье крыло, третья – летчика двадцатых годов, четвертая – руку трупа. Потом я стал смотреть в окно. Небо над больницей напротив было ясное и голубое. Низкое солнце блестело на стеклах домов, вывесках, уличных решетках и кузовах автомобилей. Из-за морозного пара, вырывавшегося изо рта у прохожих, казалось, будто они горят. Все – плотно закутанные. Шапки, шарфы, варежки, толстые куртки. Движения торопливые, лица сосредоточенные. Я пробежался взглядом по полу. Пол был паркетный и сравнительно новый, его красновато-коричневый тон совершенно не сочетался с отделкой квартиры, выдержанной в стиле начала прошлого века. Как вдруг рисунок годовых колец и сучков в двух метрах от того места, где я сидел, сложился в изображение Христа в терновом венце.
Я никак не отреагировал, только отметил про себя, потому что такие рисунки, созданные неровностями пола, стен, дверей, плинтусов и карнизов, можно встретить в каждом доме: какое-нибудь пятно сырости на потолке в виде бегущей собаки или облезлая краска на крыльце, напоминающая заснеженную долину с грядой холмов на горизонте, из-за которой вылезают тучи, – но, как видно, что-то у меня в душе всколыхнулось, потому что, когда я через десять минут поднялся, подошел к чайнику и стал наливать в него воду, я внезапно вспомнил случай, который был со мной в детстве, когда я как-то вечером, много лет тому назад, увидел подобный образ на воде – по телевизору, в новостном репортаже о пропавшем рыболовном судне. За те несколько секунд, пока я наполнял чайник, у меня перед глазами встала наша гостиная, телевизор красного дерева, белеющие в сумерках за окном пятна снега на склоне горы, море на экране и внезапно проступившее на нем лицо. Вместе с этими картинами вернулось и тогдашнее настроение весны, поселка, семидесятых годов, семейных будней. А вместе с ним – отчаянная тоска по былому.
И тут зазвонил городской телефон. Я вздрогнул. Этот номер я вроде бы никому не давал.
Он прозвонил пять раз, прежде чем умолкнуть. Чайник зашумел громче, и я, как уже не раз, подумал, что этот шум похож на звук подъезжающей машины.
Я отвинтил крышечку банки с растворимым кофе, насыпал в чашку две ложки и стал наливать кипяток; коричневая жидкость начала подниматься по стенкам чашки, дымясь и чернея. Затем я оделся. Прежде чем выйти, я еще раз встал так, чтобы увидеть лицо на деревянном полу. Это действительно был Христос. Лицо повернуто чуть вбок, словно от боли, глаза опущены, на голове терновый венок.
Примечательным было не появление этого лица здесь и не то, что когда-то, в середине семидесятых, я тоже увидел лицо на воде: примечательным было, что я про это забыл, а тут неожиданно вспомнил. За исключением отдельных событий, о которых мы потом разговаривали с Ингве так часто, что они обрели почти что библейские масштабы, я почти ничего не помнил из своего детства. Я помнил все места, которые я повидал, все помещения, в которых бывал. Но что там происходило, не помнил.
Я вышел на улицу с чашкой в руке. Тут во мне поднялось некоторое чувство неловкости: чашка уместна в доме и неуместна на улице; на улице она кажется голой и беззащитной; и, переходя через дорогу, я решил взять завтра кофе в «Севен-элевен» и в дальнейшем носить с собой картонный стаканчик, предназначенный для улицы. Перед больницей стояло несколько скамеек, я направился к ним, уселся на обледеневшие рейки, закурил сигарету и стал глядеть на дорогу. Кофе уже остыл и был чуть теплым. Термометр за кухонным окном у меня дома показывал в это утро минус двадцать, и, несмотря на то что светило солнце, сейчас вряд ли стало намного теплее. Минус пятнадцать, наверное.
Я достал из кармана мобильный телефон – посмотреть, не звонил ли кто-нибудь. Точнее, известно кто: через неделю у нас ожидалось прибавление семейства, так что я был готов к тому, что в любую минуту может позвонить Линда и сказать, что уже началось.
У перекрестка на вершине пологого холма запикал светофор. Улица за ним была совершенно пуста – ни одной машины. Из больничных дверей вышли две женщины средних лет и закурили. Обе в белых халатах, они зябко ежились, прижимая руки к бокам, и все время переступали с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть. Я подумал, что они похожи на каких-то диковинных уток. Тут пиканье умолкло, и в следующий момент, точно свора гончих, из сумерек на освещенный солнцем склон вырвалась с холма группа машин. Шипованные шины стучали по асфальту. Я спрятал в карман мобильник и обхватил чашку обеими ладонями. От нее медленно поднимался пар, смешиваясь с паром от дыхания. На школьном дворе, зажатом между двумя зданиями, в двадцати метрах от моего офиса, внезапно смолкли звонкие крики детей, на которые я обратил внимание только сейчас. Прозвонил звонок на урок. Здешние звуки были мне незнакомы, как и то, в каком порядке они следовали, но скоро я привыкну к ним настолько, что перестану их замечать. Того, что мало знаешь, для тебя не существует. Как и того, что знаешь слишком хорошо. Писать – значит извлекать сущее из сумерек знакомых вещей.
Вот чем занимается писатель. Не происходящим «там», не событиями, которые «там» разворачиваются, а самим этим «там». Это цель, к которой он стремится. Но как до нее добраться? Этот вопрос я задавал себе, сидя на скамейке в Стокгольме и отхлебывая кофе из чашки, покуда мышцы сводило от холода, а над головой растворялся в бескрайнем воздушном пространстве сигаретный дымок.
Крики на школьном дворе повторялись через равные промежутки времени, образуя один из ритмов, в которых изо дня в день жил этот район, начиная с утра, когда улицы заполнялись машинами, и до того, как с приближением вечера их поток редел. Разнорабочие, с половины седьмого толпившиеся в кафе и кондитерских, обутые в берцы ребята с крепкими, пыльно-серыми руками, с торчащими из брючных карманов складными метрами и беспрерывно трезвонящими мобильными телефонами. Люди других, более сложно поддающихся определению профессий, заполнявшие улицы в следующие часы, чей ухоженный облик и качественная одежда указывали только на то, что они проводят дни в офисах, могли быть адвокатами, тележурналистами или архитекторами, – но с тем же успехом копирайтерами рекламных бюро или работниками страховых компаний. Средний и младший медицинский персонал, выходивший из автобуса на остановке перед больницей, – в основном люди среднего возраста, в большинстве своем женщины, среди которых изредка попадался молодой мужчина, – прибывал все более крупными партиями по мере того, как стрелки часов приближались к восьми, затем этот поток постепенно убывал, а под конец из автобуса выбирались только редкие пенсионеры с сумками на колесиках, пока к полудню не наступало затишье, когда на улице появлялись разве что мамаши и папаши с детскими колясками, а по дороге проезжали главным образом продуктовые фургоны, грузовики и пикапы, автобусы и такси.
В эти часы, когда в окнах напротив блестело солнце, а с лестницы переставали или почти переставали доноситься шаги, на улице иногда появлялись детсадовские малыши, росточком с овцу, все в одинаковых светоотражающих жилетах, часто серьезные, словно зачарованные необычностью предстоящего приключения, в то время как серьезный вид пасущих их воспитательниц скорее выражал скуку. В это же время звуки происходящих поблизости работ занимали достаточное место в пространстве, чтобы их отмечало сознание: когда, например, садово-парковая служба убирала пылесосом опавшие листья с газона или подрезала деревья, или дорожная служба отскребала от грязи асфальт в каком-нибудь тупичке, или владелец недвижимости производил капитальный ремонт дома, перед тем как сдать его внаем. Потом внезапно по улице прокатывалась волна офисных работников, до отказа наполняя кафе и рестораны: наступал обеденный перерыв. Когда волна так же внезапно откатывала, она оставляла после себя пустоту, напоминающую пред-полуденную, но имеющую свой отчетливый оттенок, потому что рисунок ее хоть и повторялся, но уже в обратном порядке: одиночные школьники, проходившие сейчас мимо моего окна, возвращались по домам, раскованные и оживленные, тогда как утром, по дороге в школу, в них чувствовалась сонная скованность и та врожденная настороженность, которую испытывает человек в ожидании того, чему еще только предстоит наступить. Сейчас солнечные лучи озаряли стену в оконном проеме, из подъезда доносился топот спускающихся по лестнице шагов, а на автобусной остановке перед главным подъездом больницы с каждым разом, как я выглядывал в окно, очередь ожидающих все удлинялась. На улице становилось больше легковых машин, на тротуарах, ведущих к высоткам, увеличивалось число пешеходов. Пик приходился на пять часов, потом все затихало, пока часам к десяти не начиналась ночная жизнь и на улице не появлялись компании – громкоголосые мужчины, смеющиеся женщины, – и это еще раз повторялось часа в два или три. В шесть утра возобновлялось движение автобусов, поток машин делался плотнее, из всех подъездов на улицу выходили люди; начинался новый день.
Жизнь здесь регулировалась такими строгими правилами и подчинялась такому четкому распорядку, что в равной мере могла трактоваться в категориях как биологии, так и геометрии. Трудно было даже вообразить себе, что она сродни кипучему, дикому и хаотическому началу, которое царит в жизни других видов, например, громадных скоплений головастиков, или рыбной молоди, или личинок насекомых, где жизнь словно бьет ключом из неиссякаемого источника. А между тем это так. Хаос и непредсказуемость в одно и то же время представляют собой необходимое условие жизни и угрозу для ее существования, одно немыслимо без другого, и, хотя почти все наши усилия направлены на преодоление хаоса, достаточно на миг опустить руки, чтобы оказаться в эпицентре его излучения, а не на окраине, как сейчас. Хаотическое начало – своего рода гравитация, и, возможно, сам ритм, сквозящий в истории цивилизаций, от их возникновения и до гибели, обусловлен именно этой силой. Примечательно, что в одном отношении обе крайности сходятся, ибо как для беспредельного хаоса, так и для строго регламентированного порядка жизнь есть все, а живая особь – ничто. Подобно тому как сердцу нет дела до того, чью жизнь оно поддерживает, городу нет дела до тех, кто выполняет в нем ту или иную функцию. Когда все, кто сейчас ходит по этим улицам, умрут, этак через полторы сотни лет, отзвук их дел и поступков по-прежнему останется вплетен в устройство города. Новыми будут только люди, которые его наполнят собой, но и то не слишком, ведь все они будут похожи на нас.
Я бросил окурок на землю и допил последний глоток кофе, уже совсем холодного.
Я смотрел на жизнь, а видел смерть.
Я поднялся со скамейки, вытер руки о штаны и пошел в сторону перекрестка. За проносящимися машинами взвивались снежные хвосты. С холма, скрежеща цепями и то и дело тормозя, съезжал огромный трейлер, он оказался у перехода ровно в тот момент, когда загорелся красный свет. Я всегда ощущал некоторую неловкость, когда из-за меня останавливался транспорт: возникало чувство дисбаланса, как будто я перед ними провинился. Чем больше машина, тем больше вина. Поэтому, проходя перед его капотом, я попытался вступить с шофером в визуальный контакт, чтобы кивнуть и тем восстановить нарушенный баланс. Но взгляд его был направлен туда же, куда тянулась его рука, чтобы снять что-то сверху, возможно карту, так как трейлер был польский, и меня он не видел, но теперь это уже не имело значения – очевидно, я не слишком досадил ему, заставив притормозить.
Я подошел к подъезду, набрал код и открыл дверь. Поднимаясь по короткой лестнице на первый этаж, где находился мой офис, достал ключ. Загрохотал лифт, так что я поспешил отпереть замок, зайти и закрыться в квартире.
От быстрого перехода с мороза в тепло зачесались руки и лицо. За окном, завывая сиреной, проехала одна из многочисленных машин скорой помощи. Я поставил воду, чтобы заварить новую чашку кофе, и в ожидании, когда вода закипит, просмотрел недавно написанное. Пылинки, парившие в широких косых лучах солнца, встревоженно взлетали от каждого движения воздуха. Сосед заиграл на пианино. Зашумел чайник. То, что я написал, мне не нравилось. Не то чтобы это было совсем плохо, но и не сказать чтобы хорошо. Я подошел к шкафу, отвернул крышку банки с растворимым кофе, насыпал в чашку две ложки, стал наливать кипяток; коричневая жидкость, дымясь, поднималась вдоль стенок чашки.
Зазвонил телефон.
Отставив чашку на письменный стол, я пропустил еще два сигнала, прежде чем поднял трубку.
– Алло! – сказал я.
– Привет, это я.
– Привет!
– Хотела только спросить, как дела. У тебя там все хорошо? Голос у нее был веселый.
– Еще не знаю. Ты же знаешь, я тут всего несколько часов.
Пауза.
– Ты скоро вернешься?
– Ну что ты меня дергаешь, – сказал я. – Приду когда приду.
Она не ответила.
– Что-нибудь купить по пути? – спросил я через некоторое время.
– Да нет. Я была в магазине.
– Окей. До встречи.
– Ага. Всего. Хотя знаешь? Какао!
– Какао, – повторил я. – Что-нибудь еще?
– Нет. Больше ничего.
– Окей. Всего.
– Ладно, пока.
Положив трубку, я долгое время сидел погруженный, нет, не в мысли и даже не в ощущения, а скорее в некое настроение, какое бывает в пустой комнате, которая тоже может иметь свое настроение. Когда я неосознанно поднес чашку ко рту, кофе был уже чуть теплым. Я шевельнул мышью, чтобы убрать скринсейвер с экрана и посмотреть, который час. Без шести три. Затем я еще раз перечитал написанный текст, вырезал и отправил в черновики. Я работал над романом уже пять лет, так что результат не должен был быть посредственным. А тут получилось что-то неубедительное. В то же время я знал: решение уже есть в самом моем тексте – в нем уже содержится то, что я стремился схватить. Казалось, там есть все, что мне нужно, только выраженное в слишком сжатой форме. Особенно важной представлялась идея, давшая начало всему тексту, что действие происходит в 1880-е годы, в то время как персонажи и весь реквизит принадлежат к 1980-м. Вот уже несколько лет я пытался написать об отце, но у меня никак не получалось, наверняка потому, что это было слишком тесно связано с моей жизнью и оттого никак не хотело укладываться в другую форму, между тем как в этом состоит главное требование литературы. Единственный ее закон: все должно быть подчинено форме. Если любой другой элемент, будь то стиль, сюжет, интрига, тема, начинает преобладать над формой, результат окажется слабый. Вот почему у сильных стилистов так часто получаются слабые книги. По той же причине слабые книги часто выходят из-под пера писателей, которые сильны тематикой. Чтобы произведение состоялось, необходимо сломить энергию темы и стиля. Вот эта ломка и есть литература. Писательство – это не столько созидание, сколько разрушение. Лучше всех понимал это Артюр Рембо. Самое примечательное в нем даже не то, что он осознал это так рано, а в том, что он перенес это правило на собственную жизнь. Для Рембо главным была свобода, и в литературе, и в жизни, – именно благодаря тому, что свобода была ему важнее всего, он смог, а скорее всего, вынужден был бросить писать, потому что поэзия тоже стала оковами и подлежала уничтожению. Свобода есть разрушение плюс движение. Другой автор, который это тоже знал, – Сандемусе. Но его трагедия в том, что движения он смог добиться только в литературе, но не в жизни. Совершив разрушение, он так и остался среди развалин. А Рембо уехал в Африку.
Какое-то подсознательное ощущение заставило меня поднять взгляд, и я встретился глазами с женщиной. Она сидела в автобусе прямо перед моим окном. Начинало смеркаться, и единственным источником света в комнате оставалась лампа у меня на столе, к которой из-за окна, как мотыльки, устремлялись взгляды. Заметив, что я гляжу на нее, она отвела взгляд. Я встал и подошел к окну, отвязал жалюзи и опустил их; в это же время автобус за окном тронулся. Ничего не поделаешь, пора возвращаться домой. «Скоро», – сказал я по телефону, а с тех пор прошел уже час.
Она позвонила в порыве нежности.
Меня охватило тоскливое чувство. Как мог я с раздражением ответить на любовь и беспокойство, которые переполняли ее?
Я замер посреди комнаты, словно надеясь, что острая боль, пронзившая мне тело, пройдет сама собой. Но так никогда не бывало. Чтобы ее победить, надо что-то предпринять. Исправить то, что я наделал. Сама мысль уже принесла облегчение, не только заключенной в ней надеждой на утешение, но и тем, что она требовала конкретных поступков, чтобы исправить случившееся. Я выключил компьютер, положил его в сумку, ополоснул чашку и поставил на сушилку, выдернул из розетки шнур, выключил свет и при лунном свете, лившемся с улицы в щели жалюзи, стал одеваться, а перед внутренним взором все время стояла картина, как она ждет одна в пустой квартире.
Стоило выйти на улицу, как мороз защипал щеки. Я натянул капюшон парки поверх шапки и зашагал вперед, наклонив голову от летящей в лицо мелкой снежной крупы. В хорошие дни я обыкновенно шел по Тегнергатан, затем по Дротнинггатан до площади Хёторгет, оттуда – по крутому подъему к церкви Святого Иоанна, а затем вниз, на Рейерингсгатан, где мы жили. Этот маршрут изобиловал магазинчиками, торговыми центрами, кафе, ресторанами и кинотеатрами, и народу там было не протолкнуться. Все прилегающие улицы кишели людьми всех видов и разновидностей. В ярко освещенных витринах были выставлены всевозможные товары, а внутри, за стеклом, скользили эскалаторы, словно колеса каких-то громадных таинственных механизмов, взмывали вверх и опускались вниз лифты, на телевизионных экранах призрачно двигались красивые люди, перед сотнями касс собирались очереди, потом растворялись, потом собирались снова в неуловимом для глаза ритме, подобно очертаниям облаков над городскими крышами. В хорошие дни мне это нравилось, и я с удовольствием смотрел на этот человеческий поток более или менее красивых лиц с глазами, выражающими то или иное настроение, пропуская его сквозь себя. В не самые хорошие дни тот же сценарий обладал обратным действием, и я по возможности выбирал другой, более безлюдный путь. Чаще всего я шел по Родмансгатан, затем по Холлендергатан до Тегнергатан, пересекал Свеавеген и по Дёбельнсгатан выходил к церкви Святого Иоанна. На этом маршруте преобладали жилые дома, одинокие прохожие спешили домой, а немногочисленные магазины и рестораны принадлежали к числу не самых посещаемых. Автошколы с закопченными от выхлопов окнами, секонд-хенды с выставленными на улице ящиками с комиксами и грампластинками, химчистки, парикмахерские, китайский ресторанчик, парочка захудалых пабов.
Сегодня был как раз такой день. Пригнув голову от летящей в лицо снежной крупы, я шел по улицам между высоких домов с заснеженными крышами, словно по маленьким горным долинам, иногда заглядывая в окна: то в пустой вестибюль небольшого отеля, с желтыми рыбками, плавающими туда-сюда по аквариуму с зеленым фоном, то на рекламные плакаты фирмы по производству табличек, брошюр, наклеек и картонных стоек, то на трех черных парикмахеров в африканской парикмахерской, стригущих трех черных клиентов, один из которых то и дело вертел головой в сторону трех подростков, которые сидели в глубине на ступеньках лестницы, а парикмахер, не выказывая ни малейших признаков нетерпения, каждый раз рукой поворачивал его голову обратно.
По другую сторону улицы располагалась Обсерваторская роща. Деревья, которыми порос весь холм, освещенные снизу окнами окружающих домов, казалось, раздвигали тьму, подпирая ее своими кронами. Их сень была такой густой, что сквозь нее не проникали огни самой обсерватории на вершине холма, построенной еще в восемнадцатом веке, в период небывалого расцвета Стокгольма. Теперь там было кафе, и, когда я в первый раз в нем побывал, меня поразило, насколько тут ближе ощущается восемнадцатый век, чем в Норвегии, особенно по сравнению с сельской местностью. Норвежская крестьянская усадьба постройки, скажем, 1720-х годов, выглядит древностью, в то время как все великолепные здания Стокгольма того же периода производят впечатление едва ли не современных построек. Помню, как однажды сестра моей бабушки с материнской стороны, Боргхиль, жившая в маленьком домике над тем местом, где когда-то стояла родовая усадьба семьи, рассказывала мне, сидя на веранде, что здесь вплоть до шестидесятых годов еще стояли дома шестнадцатого века, потом их снесли, чтобы освободить место для современных построек. Этот рассказ произвел на меня поразительное впечатление: ведь в Стокгольме встретить здание того же периода кажется самым обычным делом. Может, все дело в том, что это близко касалось моей семьи, а потому и меня? В том, что йолстерская старина затрагивала меня гораздо ближе, чем стокгольмская? Видимо, так и есть, подумал я и на несколько секунд закрыл глаза, чтобы прогнать ощущение, что я – идиот, раз мне пришла в голову подобная мысль, со всей очевидностью основанная на иллюзии. У меня не было своей истории, вот я и сочинил ее себе, как какой-нибудь идеолог нацистской партии из спального пригорода.
Я пошел дальше по улице, завернул за угол и очутился на Холлендергатан. Безлюдная и уставленная заснеженными автомобилями, она соединяла две главные улицы города – Свеавеген и Дротнинггатан, – оставаясь задворками из задворков. Я переложил сумку в левую руку, а правой потянулся к шапке, чтобы стряхнуть с нее нападавший снег, одновременно пригнув голову, чтобы не стукнуться об установленные посреди тротуара строительные леса. Где-то в вышине хлопал на ветру натянутый на них брезент. Когда я вышел из образованного этой конструкцией туннеля, передо мной вырос мужчина с таким выражением лица, что я невольно остановился.
– Перейдите на ту сторону, – сказал он. – Тут в доме пожар. Мало ли, вдруг там что-нибудь взорвется.
Он приложил к уху мобильный телефон, затем опустил его.
– Я серьезно говорю, – сказал он. – Давайте туда, на ту сторону!
– А где именно горит? – спросил я.
– Вон там, – сказал он, махнув рукой на окно в десяти метрах от нас.
Верхняя половина была открыта, и оттуда шел дым. Я вышел на мостовую, чтобы лучше видеть, частично выполнив тем самым настоятельное требование незнакомца. Внутри помещение ярко освещалось двумя прожекторами, оно было набито всяческими строительными принадлежностями и проводами. Ведра с краской, ящики с инструментами, дрели, рулоны утеплителя, две стремянки.
– Вы вызвали пожарных? – спросил я.
Он кивнул:
– Уже едут.
Он снова поднес к уху мобильный телефон, но в следующий миг опять опустил.
Я смотрел на причудливые клубы дыма, постепенно заполняющие комнату, покуда мужчина с мобильником возбужденно топтался на противоположном тротуаре.
– Я не вижу открытого пламени, – сказал я. – А вы?
– Это тлеющий пожар, – ответил он.
Я постоял еще несколько минут, пока не замерз, и, видя, что больше ничего не происходит, отправился домой. За светофорами на Свеавеген послышалась сирена первой пожарной машины, и вскоре она сама показалась из-за холма. Прохожие вокруг меня оборачивались. Тревожное завывание сирен, говорившее о спешке, странно противоречило той медлительности, с которой огромные машины спускались по склону. Тут зажегся зеленый свет, и я перешел через дорогу к супермаркету на другой стороне.
В ту ночь я не мог уснуть. Обыкновенно я засыпал через несколько минут, каких бы волнений ни принес прошедший день и какие бы волнения ни грозили мне завтра, и, не считая тех периодов, когда я ходил во сне, всегда крепко спал до утра. Но в тот вечер, едва опустив голову на подушку и закрыв глаза, я сразу понял, что мне не уснуть. Сна не было ни в одном глазу, и я лежал в постели, прислушиваясь к городским звукам, то нараставшим, то затихавшим в зависимости от того, что делали люди на улице и в квартирах, расположенных сверху и снизу; постепенно они умолкли, и под конец осталось только гудение вентиляции, а мои мысли текли сами по себе, переносясь с одного на другое. Рядом спала Линда. Я знал, что ребенок, которого она носит в утробе, воздействует на ее сны, ей часто снилось что-то тревожное, связанное с водой: громадные волны, накатывающие на низкий берег, по которому она идет; потоп в квартире, когда вода, заполняя все комнаты, сочится сквозь стены или выливается через край из переполненной раковины и унитаза; озера, возникающие среди города там, где на самом деле их нет, например перед вокзалом, на котором в багажной ячейке остался ее ребенок, а она не может к нему перебраться; или он вдруг от нее убегал, а она не могла его поймать, так как обе руки у нее были заняты чемоданами. Еще ей снилось, что она родила ребенка с лицом взрослого человека, или вдруг оказывалось, что никакого ребенка нет и во время родов из нее выходит только вода.
А мои сны? Что было в них?
Про ребенка мне ни разу ничего не приснилось. Иногда на меня из-за этого нападали угрызения совести, поскольку если считать образы, рождающиеся в неподвластных нашей воле областях сознания, более правдивыми, чем те, которыми мы можем управлять, – а я именно так и считал, – то отсюда со всей очевидностью следовало, что ожидание ребенка не было для меня чем-то особенно важным. Но, с другой стороны, то же самое можно было сказать и обо всем остальном. Почти ничего из того, что я пережил после двадцати лет, не вспоминалось мне во сне. В своих снах я как бы не повзрослел и по-прежнему оставался ребенком, жившим в тех же местах и среди тех же людей, которые окружали меня в детстве. И хотя события, которые происходили во сне каждую ночь, были разные, все они вызывали во мне одно и то же чувство. Это всегда было чувство унижения. После пробуждения мне порой требовалось несколько часов, чтобы от него избавиться. В то же время наяву я почти ничего не помнил из своего детства, а то немногое, что все-таки вспоминал, не вызывало во мне никаких ощущений; таким образом устанавливалась своего рода симметрия между настоящим и прошлым, в которой ночь и сны были связаны с воспоминаниями, а день и бодрствующее сознание с забвением.
Еще несколько лет назад дело обстояло иначе. До переезда в Стокгольм я ощущал свою жизнь как единое целое, протянувшееся от детства до настоящего времени, скрепляемое все новыми связями в сложный и осмысленный рисунок, каждый феномен которого мог пробудить воспоминание, вызывая в душе те или иные эмоциональные движения, причем некоторые я мог объяснить, а некоторые не мог. Я встречался с людьми из знакомых мест, у них были знакомые среди людей, которых я знал; это была сеть прочного и густого плетения. Но с тех пор как я переехал в Стокгольм, такие вспышки воспоминаний случались все реже, и в один прекрасный день вообще сошли на нет. То есть вспоминать я по-прежнему вспоминал, но это уже ничего не пробуждало в душе. Никакой тоски по прошлому, никаких желаний туда вернуться – вообще ничего. Только воспоминания и едва ощутимая неприязнь ко всему, что с ними связано.
Эта мысль заставила меня открыть глаза. Я лежал тихо-тихо, глядя на лампу в круглом бумажном абажуре, свисавшую с темного потолка, словно луна в миниатюре. О чем, казалось бы, тут жалеть! Ведь ностальгия не только бесстыдное, но вдобавок и предательское чувство. Ну что может дать человеку на третьем десятке тоска по собственному детству? По собственной юности? Она похожа на болезнь.
Я повернулся и посмотрел на Линду. Она лежала на боку, лицом ко мне. Живот у нее стал таким большим, что казался несоразмерным ее телу, хотя и оно тоже раздалось. Совсем недавно она, стоя перед зеркалом, сама смеялась, какие отрастила бока.
Ребенок в животе лежал головкой вниз и будет так лежать до самых родов. То, что он временами подолгу не шевелится, – явление совершенно нормальное, сказали в родильном отделении. Сердце бьется, и скоро, когда настанет время, он сам вместе с телом, из которого вырос, запустит процесс родов.
Я осторожно встал и пошел на кухню попить воды. На улице перед входом в концертный зал дворца «Нален» толпились кучками пожилые люди, занятые разговором. Раз в месяц там устраивали для них танцевальные вечера, и сюда стекались мужчины и женщины в возрасте от шестидесяти до восьмидесяти лет, нарядившиеся во все лучшее, что у них нашлось. При виде того, как они стоят в очереди, раскрасневшиеся и радостные, отчего-то щемило сердце. Один особенно произвел на меня впечатление. Однажды вечером в сентябре он впервые появился на углу улицы Давида Багаре, на нем был светло-желтый костюм, белые кроссовки и соломенная шляпа, но выделялся он не столько своей одеждой, сколько окружавшей его аурой: если другие пожилые люди представлялись мне частью некоей общности – стариками, собравшимися провести вечер вместе с женами, – и казались настолько одинаковыми, что исчезали из памяти, стоило отвести взгляд, то он был здесь один, даже когда заговаривал с кем-то на улице. Но самым примечательным в нем был волевой напор, выделявший его на фоне остальной публики. Когда он вклинился в толпу, собравшуюся в фойе, я вдруг понял, что он наметил какую-то цель, но не найдет того, что ищет, не только здесь, но и нигде вообще. Он упустил свое время, а вместе с ним и свой мир.
За окном к тротуару подъехало такси. Люди в ближайшей группе захлопнули зонтики и бодро отряхнули их от нападавшего снега. В дальнем конце улицы показалась полицейская машина с включенной мигалкой, но без сирены; царившая вокруг тишина придавала ее появлению какой-то зловещий оттенок. Вслед за ней показалась вторая. Подъехав, они сбавили скорость, и я услышал, как они остановились за квартал до нашего дома. Я поставил стакан с водой на рабочий стол и пошел к окну в спальне. Оба автомобиля остановились у тротуара перед салоном US VIDEO. Первый был обычной патрульной машиной, второй – минивэном. Задняя дверь захлопнулась в тот момент, как я подошел к окну. Шесть полицейских бегом направились к двери салона и скрылись в здании, двое остались ждать перед патрульной машиной. Проходивший мимо мужчина лет пятидесяти на них даже не взглянул. Я догадывался, что он собирался зайти в салон, но струсил при виде полиции. Сутки напролет в US VIDEO вереницей тянулись мужчины, и я, прожив тут почти год, в девяти случаях из десяти сразу угадывал, кто собирается туда зайти, а кто пройдет мимо. Их выдавал язык тела, у всех у них он был одинаков. Они приближались обычной походкой и открывали дверь движением, которое должно было изображать естественное продолжение предыдущего. Они так старались не оглядываться по сторонам, что сразу привлекали к себе внимание. На них крупными буквами было написано, что они стараются выглядеть нормально. Не только когда они зашмыгивали в магазин, но и когда выходили. Дверь открывалась, и они, не задерживаясь, плавно проскальзывали с тротуара в отрывшийся вход, как бы демонстрируя, что вот так и шли несколько кварталов. Это были мужчины разных возрастов, от шестнадцати до семидесяти, из разных слоев общества. Некоторые, похоже, туда направлялись специально, другие заходили по пути с работы домой, или рано утром, или во время вечерней прогулки. Сам я ни разу туда не заходил, но хорошо знал, как там все выглядит: длинная лестница вниз, расположенный глубоко под землей полутемный подвальный зал с длинным прилавком, напротив которого выстроился ряд черных будок с мониторами, большой выбор фильмов, рассчитанных на разные сексуальные вкусы, черные кресла, обитые искусственной кожей, рулоны туалетной бумаги на столе.
Август Стриндберг как-то заявил с той абсолютной серьезностью, которая так обескураживает читателя, что звезды на небе – это дырки в стене. Я порой вспоминал эти слова, глядя на нескончаемый поток живых душ, спускающихся в этот подвал по лестнице и усаживающихся в кабинки, чтобы там онанировать, глядя на светящиеся мониторы. Мир вокруг них замкнут в четырех стенах, и одним из немногих способов выглянуть наружу были эти окошки. Эти люди никому не рассказывали о том, что в них видели, это принадлежало к числу неназываемых вещей, несовместимых с тем, что происходит в обычной жизни, хотя ходили туда в основном обычные люди. Но закон неназываемости действовал не только в отношении мира, оставшегося наверху, но распространялся и на тех, кто был в подвале, по крайней мере судя по их поведению, по тому, что никто из них ни с кем не разговаривал, никто ни на кого не смотрел, но каждый солипсически двигался по своей собственной орбите: вниз по лестнице, к полкам с фильмами, к прилавку, в кабинку, а оттуда снова по лестнице наверх. Невозможно было не видеть невероятного комизма того, что происходило в подвале: сидящие в одном ряду мужчины, каждый в отдельной кабинке, которые кряхтят, стонут и тискают свой член, уставясь в экран, на котором женщины совокупляются с лошадьми или собаками, или мужчины – со множеством других мужчин, но они не могли в этом признаться, даже будучи наедине с собой, потому что смех несовместим с похотью, а их сюда приводила похоть. Но почему именно сюда? Все здешние фильмы имеются и в сети, то есть их можно просматривать в полном одиночестве, без риска быть застигнутым за этим занятием. Значит, было что-то в самой этой неназываемости, что влекло их сюда. Их влекло сюда либо то грязное, жалкое, низменное, что присуще этой ситуации, либо то, что скрывается за этим влечением. Что уж тут было, я не знал, для меня это неведомая территория, но не думать о ней я не мог, потому что, когда бы я ни посмотрел в ту сторону, кто-то непременно туда спускался.
В появлении полиции не было ничего необычного, но она, как правило, приезжала в связи с демонстрациями, постоянно происходившими тут на улице. Само заведение полиция не трогала, к великому неудовольствию демонстрантов. Им оставалось только стоять перед дверью со своими плакатами и выкрикивать лозунги, когда кто-то входил или выходил под бдительным присмотром полицейских в касках, которые, выстроившись перед дверью со щитами и дубинками, охраняли посетителей.
– Что там такое? – раздался у меня за спиной голос Линды. Я обернулся и посмотрел на нее:
– Ты проснулась?
– Ну да, – сказала она.
– Просто мне не спалось, – сказал я. – А там на улице приехала полиция. Ты спи.
Она снова закрыла глаза. На улице в доме напротив открылась дверь. Из нее вышли двое полицейских. За ними еще двое. Они вывели какого-то мужчину, зажав так плотно, что его ноги едва касались земли. Это выглядело жестко, но, видимо, было целесообразно, так как штаны у задержанного были спущены ниже колен. Выведя, они отпустили его, и он упал на колени. В дверях показались еще два полицейских. Мужчина встал и подтянул брюки. Один из полицейских завел ему руки за спину и надел на него наручники, другой отвел его в машину. Когда полицейские садились в машину, на улицу вышли двое работников заведения. Покуда они стояли, засунув руки в карманы, наблюдая, как машины, тронувшись с места, поехали прочь, пока наконец не скрылись из виду, их непокрытые головы под снегопадом становились все белее и белее.
Я перешел в гостиную. Фонари, висящие над улицей на высоте наших подоконников, слабо освещали стены и пол. Я немного посмотрел телевизор. Но все думал, что это может побеспокоить Линду, если она вдруг проснется и зайдет посмотреть, что тут делается. Любые нарушения заведенного порядка, любой выход за привычные рамки напоминали ей маниакальные причуды ее отца, с которыми она сталкивалась в детстве. Я выключил телевизор, достал с полки над диваном альбом по искусству и начал его листать. Это была недавно купленная мной книга о Констебле. Главным образом этюды маслом: виды облаков, ландшафтов, моря.
Стоило мне скользнуть по ним взглядом, как на глаза набежали слезы. Так сильно действовали на меня некоторые картины. Другие, напротив, оставляли равнодушным. В живописи я признавал только это мерило – какие она вызывает эмоции. Чувство неисчерпаемости. Чувство прекрасного. Собранные в одно мгновенное впечатление, они проявлялись настолько остро, что порой было трудно их выдержать. Вдобавок – их полная необъяснимость. Внимательно вглядываясь в картину, которая производила самое сильное впечатление, в этюд маслом, изображавший вид облаков шестого сентября 1822 года, я не находил ничего, что объясняло бы такую силу эмоционального воздействия. В самом верху – полоса голубого неба. Под нею – полоса беловатой дымки. Затем стена облаков. Белых – там, где их освещало солнце, светло-зеленых – там, где лежала легкая тень, темно-зеленых и почти черных – где они сгущались тяжелыми тучами и где сквозь них не пробивалось солнце. Голубой, белый, бирюзовый, зеленый, темно-зеленый, переходящий в черноту. Вот и все. В сопроводительном тексте говорилось, что Констебль написал эту картину в Хэмпстеде «в полдень» и что некто Уилкокс подверг сомнению ее датировку, поскольку другой этюд, сделанный в тот же день между двенадцатью и тринадцатью часами, изображает совершенно иное, ненастное небо, но этот аргумент опровергается тем, что погода, стоявшая в окрестностях Лондона в тот день, допускала оба вида облачного покрова, которые мы видим соответственно на первом и на втором этюде.
Одно время я занимался историей искусства и привык разбирать и анализировать живопись. Но вот о чем я никогда не писал, хотя только это на самом деле важно, так это о ее восприятии. Не столько потому, что не умел, сколько потому, что чувства, которые у меня вызывали картины, противоречили всему, что мне внушали о сущности и предназначении искусства. Поэтому я держал эти мысли при себе. Бродил в одиночестве по Национальной галерее в Стокгольме, или Национальной галерее в Осло, или Национальной галерее в Лондоне, и смотрел. Это давало ощущение свободы. Мне не надо было обосновывать свои впечатления, не требовалось ни перед кем в них отчитываться или кому-то их доказывать. Свободу – но не душевный покой, потому что даже картины, считающиеся идиллическими, вроде античных пейзажей Клода Лоррена, оставляли по себе некое беспокойство, поскольку то, что в них было заложено, самая их сущность, было неисчерпаемо и будило во мне чувство какой-то неутолимой жажды. Не знаю, как это лучше объяснить. Жажды самому погрузиться в неисчерпаемость. Так же было и этой ночью. Почти час я смотрел книгу о Констебле и то и дело возвращался к картине с зеленоватыми облаками, которые каждый раз пробуждали во мне одно и то же чувство. В моем сознании как бы возникало попеременно два рода восприятия, один – насыщенный мыслями и логическими рассуждениями, другой – основанный на чувствах и ощущениях, которые, существуя бок о бок, являли собой противоположные, взаимоисключающие подходы. Это была потрясающая картина, она вызывала во мне все эмоции, которые вызывают потрясающие образы, но, пытаясь найти объяснение, что же тут так поражает, я вынужден был беспомощно отступить. Картина вызывала в моей душе трепет, но перед чем? Она наполняла меня тоской, но о чем? Мало ли бывает облаков! Мало ли разных красок! Мало ли есть исторических моментов! Да и сочетаний того, другого и третьего тоже хватает. Искусство нашего времени, то есть искусство, которое, по идее, должно было бы служить для меня эталоном или точкой отсчета, не считает вызываемые произведением искусства чувства чем-то ценным. Чувства рассматриваются как что-то второстепенное, а то, пожалуй, и как нежелательный побочный продукт, своего рода отходы, а в лучшем случае – как некий материал для манипуляций. Натуралистическое отображение действительности тоже не ценится и считается наивным, давно пройденным этапом. Так что смысла в нем оставалось не слишком много. Однако стоило мне вновь взглянуть на эту картину, как все рассуждения меркли перед нахлынувшим на меня, словно волна, ощущением силы и красоты. «Да, да, да, – звучало в у меня в душе. – Вот чего я хочу, вот к чему стремлюсь». Но чему я говорил «да»? К чему стремился? Было четыре часа. Значит, все еще ночь. Не идти же ночью в офис? Или полпятого – это уже утро?
Я встал и отправился в кухню, сунул в микроволновку тарелку с фрикадельками и спагетти, потому что со вчерашнего обеда ничего больше не ел, пошел в ванную и принял душ, в основном чтобы чем-то заполнить время, пока греются фрикадельки, оделся, достал вилку и нож, налил в стакан воды, вынул тарелку из микроволновки, сел завтракать.
За окном стояла полная тишина. Этот час, с четырех до пяти, был единственным, когда город спал. В моей прежней жизни, в те двенадцать лет, что я прожил в Бергене, я всегда ложился как можно позже. Я никогда не задумывался почему, а просто поступал, как мне нравилось. Все началось как гимназическая мечта, исходящая из представления, что ночь неким образом связана со свободой. Не сама как таковая, а в своей противоположности дневному времени, с девяти часов до четырех, которое я и еще несколько человек считали мещанским и конформистским. Мы хотели свободы и не желали спать ночью. То, что я остался верен этой привычке и дальше, было уже связано не столько с идеей свободы, сколько со стремлением взрослого человека побыть одному. Оно, как я понял впоследствии, перешло ко мне от отца. В доме, где мы жили, у него было свое отдельное пристанище, вроде студенческого жилья, куда он удалялся каждый вечер, чтобы провести его в одиночестве. Ночь принадлежала ему.
Я ополоснул под краном тарелку, поставил ее в посудомоечную машину и зашел в спальню. Когда я подошел к кровати, Линда открыла глаза.
– Какой у тебя чуткий сон, – сказал я.
– Который час? – спросила она.
– Половина пятого.
– Ты так и не ложился?
Я кивнул:
– Пожалуй, схожу в офис. Ничего?
– Вот сейчас?
– Я все равно не сплю, – сказал я. – Так почему бы не использовать время, чтобы поработать.
– Ну пожалуйста… – сказала она. – Иди ляг.
– Ты не слышишь, что я говорю? – спросил я.
– Но я не хочу лежать тут одна, – сказала она. – Неужели ты не можешь пойти на работу утром?
– Сейчас и так уже утро, – сказал я.
– Нет, сейчас еще ночь, – сказала она. – И я могу родить когда угодно. Понимаешь, это может случиться хоть через час.
– Пока, – сказал я и закрыл за собой дверь.
В прихожей я надел куртку, взял сумку с компьютером и вышел из дома. На заснеженном тротуаре на меня повеяло холодом. В конце улицы показалась снегоуборочная машина. Тяжелый металлический скребок гремел об асфальт. Вечно она меня удерживает! С какой стати мне там быть, если она спит и все равно не замечает моего присутствия?
Черное небо тяжело нависало над крышами. Но снегопад перестал. Я двинулся вперед. Снегоуборочная машина, грохоча мотором, лязгая цепями и скрежеща скребком по асфальту, проехала мимо. Какие-то адские звуки! Я свернул на улицу Давида Багаре, там было тихо и безлюдно до самого перекрестка с Мальмшильнадсгатан, где в глаза бросалась вывеска ресторана «КГБ». У ворот дома престарелых я остановился. Она ведь права. Роды могут начаться в любой момент. И она не хотела оставаться одна. Так куда же меня понесло? Зачем мне понадобилось в офис в половине пятого утра? Чтобы писать? Сделать прямо сейчас то, что не смог сделать за последние пять лет?
Какой же я идиот! Она ведь ждет нашего ребенка, моего ребенка, как же можно бросить ее одну в такой момент!
Я повернул назад. Поставив на пол сумку, я начал раздеваться в передней и услышал из спальни ее голос:
– Это ты, Карл Уве?
– Да, – сказал я и вошел к ней в комнату.
Она посмотрела на меня вопросительно.
– Ты права, – сказал я. – Я не подумал. Прости, что я вот так ушел.
– Это ты прости, – сказала она. – Конечно же, тебе надо идти и работать!
– Еще успею попозже.
– Но я не хочу удерживать тебя. У меня все будет в порядке.
Обещаю. Иди спокойно. Я позвоню тебе, если что.
– Нет, – сказал я, ложась рядом с нею.
– Ну зачем ты, Карл Уве! – сказала она с улыбкой.
Мне было приятно, что она называет меня по имени. Всегда это нравилось.
– Ну вот, ты подумал по-моему, а я передумала по-твоему.
Я же знаю, что ты думал иначе.
– Сейчас ты меня совсем запутаешь, – сказал я. – Давай, может, лучше просто поспим? А потом вместе позавтракаем, перед тем как мне уйти.
– Хорошо, – сказала она и прижалась ко мне.
Она была горячая как печка. Я провел рукой по ее волосам и легонько поцеловал в губы. Она закрыла глаза и откинула голову.
– Что ты сказала? – спросил я.
Она ничего не ответила, а, взяв мою руку, приложила ее к своему животу.
– Вот, – сказала она. – Чувствуешь?
Живот под моей ладонью вдруг выпятился бугром.
– Ой! – вскрикнул я и отвел ладонь, чтобы поглядеть.
То, что только что бугром выпирало из ее живота, – пятка, локоть или кулачок – снова спряталось. Как будто что-то мелькнуло под водой и снова скрылось под тихой гладью.
– Ей не терпится, – сказала Линда. – Я это чувствую.
– Это была пятка?
– Мм…
– Она как будто пробовала, нельзя ли тут выйти, – сказал я.
Линда улыбнулась. – Это не больно?
Линда отрицательно покачала головой:
– Я это чувствую, но мне не больно. Только как-то странно.
– Еще бы!
Я придвинулся к ней поближе и положил ладонь на ее живот. В прихожей хлопнула заслонка почтовой щели. По улице проехал грузовик, должно быть большой, потому что в окнах задрожали стекла. Я закрыл глаза. Тут все мысли и образы, которые копились в моем сознании, начали разбредаться в разные стороны, а я как бы следил за ними, словно ленивая пастушья собака, и понял, что сон уже рядом и вот-вот придет. Оставалось только провалиться в его тьму.
Я проснулся от громкой возни на кухне, там уже хозяйничала Линда. Часы на каминной полке показывали без пяти одиннадцать. Черт! Называется, поработал!
Я оделся и вышел на кухню. Маленький кофейник исходил на плите паром. На столе стояла еда и сок. На тарелочке ждали ломтики поджаренного хлеба. В следующий миг еще один выскочил из тостера.
– Хорошо выспался? – спросила Линда.
– Ага, – кивнул я, садясь за стол. Масло, которое я намазывал на горячий ломтик, тут же таяло, впитываясь в пористую поверхность. Линда сняла кофейник и выключила плиту. Из-за большого живота казалось, что она все время перегибается назад, а когда она делала что-то руками, то они высовывались словно из-за невидимой стены.
Небо за окном было серое. Но снег на крышах, по-видимому, остался лежать, потому что в помещении казалось светлее обычного.
Она налила кофе в две чашки на столе, одну пододвинула мне. Лицо у нее припухло.
– Что, ты неважно себя чувствуешь? – спросил я.
Она кивнула:
– Все заложено. И температура.
Она грузно опустилась на стул, подлила в кофе молока.
– Как всегда, – сказала она. – Заболеть именно сейчас, когда нужны силы.
– Может, роды задержатся, – сказал я, – тело подождет с ними, пока не выздоровеет.
Она впилась в меня глазами. Я проглотил последний кусок и налил в стакан соку. Уж в чем я убедился на собственном опыте за последние месяцы, так это в том, что все, что говорят о переменчивом и непредсказуемом настроении беременных, чистая правда.
– Неужели ты не понимаешь, что это катастрофа, – сказала она.
Я поднял глаза. Отпил соку.
– Ну да, конечно, – сказал я. – Но все как-нибудь наладится, все будет в порядке.
– Как-нибудь, конечно, наладится, – сказала она. – Но речь не о том. Речь о том, что я не хочу оказаться больной и слабой, когда мне придется рожать.
– Я понимаю, – сказал я. – Но ты не будешь больной и слабой. До родов еще несколько дней.
Дальше мы завтракали в молчании.
Затем она снова на меня взглянула. Глаза у нее были потрясающие. Серо-зеленые, временами, когда она уставала, чуть косящие. Они косили и на фотографии в сборнике ее стихов, придавая ее облику некоторую ранимость, которая входила в противоречие с уверенным выражением, не разрушая общего впечатления. В свое время они произвели на меня гипнотическое воздействие.
– Извини, – сказала она. – Я разнервничалась.
– И напрасно, – сказал я. – Ты так подготовилась, что лучше не бывает.
Так оно и было на самом деле. Она целиком посвятила себя предстоящему событию; прочитала штабеля книг, купила и прослушивала каждый вечер специальную кассету для медитации, на которой гипнотический голос повторял, что боль – это не страшно, боль – это хорошо, боль – это не страшно, боль – это хорошо; кроме того, мы вместе ходили на курсы и побывали на экскурсии в отделении, где ей предстояло рожать. Она заранее готовилась к каждой встрече с акушеркой, составляя список вопросов и следуя полученным указаниям, добросовестно вела все графики и записывала в дневник данные измерений. Затем она, как положено, отправила в родильное отделение список своих пожеланий, в котором отметила, что ей свойственна тревожность и она нуждается в моральной поддержке, но в то же время у нее хватит сил, чтобы рожать без наркоза.
У меня от этого просто сердце сжималось. Ведь я посещал родильное отделение вместе с ней, а там – при всех стараниях создать в помещении, где будут проходить роды, атмосферу уюта, несмотря на все диваны, ковры, картины на стенах и CD-плеер, несмотря на телевизионную гостиную и кухню, где можно готовить собственную еду, несмотря на то, что после родов женщине отводили отдельную спальню с ванной, – все же только что рожала другая женщина, и, даже если помещение после нее отмывали сверху донизу, меняли постельное белье и вешали новые полотенца, все равно это происходило бессчетное число раз, и внутри навсегда поселился слабый металлический запашок крови и человеческих внутренностей. В прохладной спальне, которую нам должны были предоставить на сутки после рождения ребенка, на той же самой кровати только что ночевала другая пара с новорожденным младенцем, так что все, что нам казалось чем-то новым, знаменуя собой полный переворот в нашей жизни, для тех, кто тут работал, было вечным повторением. Акушерки всегда вели одновременно несколько родов, они то и дело приходили и уходили, сновали из комнаты в комнату, где разные женщины кричали, вопили, охали и стонали, в зависимости от фазы родов, и это происходило непрерывно, днем и ночью, из года в год, так что чего они не в состоянии были сделать, так это как раз того, о чем просила в своем письме Линда, – заниматься ею с полной душевной отдачей.
Она смотрела в окно, и я проследил за ее взглядом. На крыше противоположного здания, метрах в десяти от нас, стоял человек и, обвязавшись вокруг пояса веревкой, чистил снег.
– Все тут сумасшедшие, в этой стране, – сказал я.
– А разве в Норвегии этого не делают?
– Нет, ты что, с ума сошла?
За год до того, как я сюда приехал, здесь погиб мальчик, его убило глыбой снега, свалившейся с крыши. С тех пор все крыши неукоснительно чистили, едва выпадал снег, а когда наступала оттепель, почти все тротуары на неделю перегораживались красно-белыми лентами. Наступал всеобщий хаос.
– Во всяком случае, страхи способствуют занятости населения, – сказал я, запихал в себя остатки бутерброда, поднялся из-за стола и уже стоя допил последний глоток кофе. – Ну, я пошел!
– Ой, ты бы не мог по дороге взять в прокате несколько фильмов?
Я поставил чашку, отер рот рукой.
– Конечно могу. Все равно какие?
– Да. На твой выбор.
Я пошел в ванную, почистил зубы. Когда я вышел в переднюю одеваться, за мной последовала Линда.
– Чем сегодня займешься? – спросил я, одной рукой доставая из гардероба пальто, а другой заматывая шею шарфом.
– Не знаю, – сказала она. – Может быть, погуляю в парке. Приму ванну.
– А это ничего, можно? – спросил я.
– Можно, – сказала она.
– Окей, – сказал я, надел шапку и взял в руку сумку с компьютером. – Все, я пошел.
– Окей, – сказала она.
– Позвони, если что.
– Конечно.
Мы поцеловались на прощание, и я закрыл за собой дверь. Лифт поднимался вверх, и я мельком увидел соседку по этажу, глядевшуюся там в зеркало. Она была адвокатом, ходила, как правило, в черных брюках или черной юбке по колено, коротко кивала при встрече, всегда с плотно сжатыми губами, и всем своим видом излучала враждебность, по крайней мере ко мне. Иногда к ней приезжал пожить брат – худощавый, темноглазый, беспокойного и жесткого вида мужчина, довольно красивый; одна из подруг Линды в него влюбилась, они обручились, между ними, кажется, установились близкие отношения, основанные, похоже, на том, что он ее презирал, а она его боготворила. Жизнь в одном доме с ее подругой его, видимо, тяготила: когда мы при встречах останавливались обменяться несколькими словами, в глазах у него появлялось загнанное выражение, но, хотя я связывал это с тем, что я знаю о нем больше, чем он обо мне, причина могла заключаться и в чем-то другом – в том, что он, скажем, типичный наркоман. Но тут я ничего не мог знать наверняка, с этим и похожими мирами я не сталкивался и был, по словам Гейра, моего единственного друга в Стокгольме, в этом отношении таким же доверчивым простачком, как одураченный персонаж с картины Караваджо «Шулеры».
Спустившись в подъезд, я решил покурить, прежде чем продолжить свой путь, прошел по коридору мимо подвальной прачечной на задний двор, поставил на землю сумку и, прислонившись к стене, стал смотреть на небо. Прямо над моей головой был выход вентиляционной трубы, наполнявший воздух вокруг дома запахом теплого свежевыстиранного белья. Из прачечной доносилось завывание центрифуги, какое-то лихорадочно торопливое на фоне облаков, плывущих сквозь пространство высоко вверху. Там и сям между ними проглядывало голубое небо, словно день – это плоскость, по которой они плавно скользят.
Я отошел к ограде, отделяющей двор от расположенного за нею детского сада, где сейчас было пусто – дети в это время завтракали, – облокотился на нее и стал курить, глядя на две башни, вздымающиеся над Кунгсгатан. Они были выстроены в стиле необарокко в двадцатые годы, о которых напоминали своим видом и вызвали у меня, как это часто бывало, ностальгическое чувство. Ночью башни освещались прожекторами, и если дневной свет выделял отдельные детали, так что отчетливо просматривалось несходство материала стен с материалами, из которых были сделаны окна, золоченые статуи и покрытые патиной медные листы на крыше, то искусственное освещение связывало все воедино. Возможно, дело было в свете как таковом, в его объединяющем свойстве; как бы то ни было, ночью статуи «разговаривали». Не то чтобы они оживали – они как были, так и оставались мертвыми, но мертвое их выражение как бы менялось и усиливалось. Днем они были ничем, а ночью это ничто обретало выразительность.
А день был настолько наполнен всяким другим, что это рассеивало внимание. Скопище машин на дорогах, люди на тротуарах, на лестницах, в окнах, вертолеты, пролетавшие по небу, как стрекозы, дети, вдруг выбегающие на улицу и поднимающие возню в снегу, разъезжающие на трехколесных велосипедиках, скатывающиеся с большой горки посреди площади, влезающие на мостик «корабля» с полной оснасткой, играющие в песочнице, залезающие в домик на детской площадке, играющие в мяч или просто бегающие туда и сюда, и все это с криками и воплями с раннего утра до вечера, с перерывами только на еду, как, например, сейчас. Постоять где-нибудь на улице было просто невозможно, не потому, что там шумно – на шум я редко обращал внимание, а потому, что вокруг меня отчего-то начинали толпиться дети. В тех случаях, когда я пробовал постоять тут осенью, они начинали вскарабкиваться на загородку, разделявшую двор на две половины, и, повиснув на ней вчетвером или впятером, приставали ко мне с вопросами обо всем на свете, а не то перелезали через запретную черту и с громким хохотом принимались носиться вокруг меня. Самого настырного, как правило, забирали последним. Возвращаясь домой этой дорогой, я нередко заставал его одиноко копающимся в песочнице, иногда с другим таким же горемыкой, если только он в это время не качался на руках, повиснув на перекладине над калиткой. В таких случаях я с ним здоровался. Когда рядом не было никого, я даже брал двумя пальцами под козырек, а то и приподнимал «шляпу». Не столько ради него, потому что он глядел на меня всегда одинаково насупленно, сколько ради себя.
Иногда я воображал себе, что все мягкие чувства можно соскрести, как у спортсмена удаляют хрящ из поврежденного колена. Какое же это должно быть облегчение! Долой всю сентиментальность, все сочувствие и сопереживание!
В воздухе разнесся крик.
ААААААААААААААААААААА
Я вздрогнул. Хотя этот крик раздавался часто, я на него не обернулся. Квартиры в здании по другую сторону двора занимал дом престарелых. Мне казалось, это кричит человек, неподвижно лежащий в кровати и совершенно утративший всякий контакт с окружающей действительностью: ведь крик этот мог раздаться когда угодно – хоть ночью, хоть утром, хоть среди дня. Кроме этого крика и мужчины, который курил, сидя на веранде и заходясь кашлем, похожим на предсмертные хрипы, продолжавшиеся иногда по нескольку минут, дом престарелых жил своей закрытой жизнью. По пути в офис я видел в окно с другой стороны здания сиделок, у них там была комната отдыха, иногда встречал на улице кого-то из обитателей дома, чаще в сопровождении полицейских, которые отводили их домой, а несколько раз – без сопровождения, идущих по улице неизвестно куда.
Как же он кричит.
Все занавески были задернуты, в том числе и на приоткрытой двери на веранду, двери, из-за которой несся этот крик. Я помедлил, глядя на нее. Затем повернулся и пошел через двор назад, к своей двери. За окнами прачечной я увидел соседа снизу, он складывал белую простыню. Я взял сумку и зашел, как в пещеру, в тесный коридор, где стояли мусорные ведра, отпер металлическую решетку и, выйдя на улицу, зашагал в сторону «КГБ» и лестницы, ведущей к Туннельгатан.
Спустя двадцать минут я закрыл за собой дверь моего офиса, повесил пальто и шарф на вешалку, поставил на коврик ботинки, заварил чашку кофе, подключил компьютер и устроился перед ним пить кофе, ожидая, когда он включится и экран заполнится миллиардами светящихся точек.
«Америка души». Так называлась книга, и почти все в комнате указывало на нее или на то, что она пробуждала во мне. Репродукция известной, напоминающей подводный мир картины Уильяма Блейка «Ньютон» висела у меня за спиной, справа и слева – два взятых в рамку рисунка из экспедиции Черчилля XVIII века, купленных как-то в Лондоне, один – с мертвым китом, другой – с анатомированным жуком, на обоих объекты были изображены на разных стадиях препарирования. На торцовой стене – ночной пейзаж Педера Балке, весь черно-зеленый. Постер Гринуэя. Карта поверхности Марса из старого номера «Нэшнл джиогрэфик». Рядом две черно-белые фотографии Томаса Вогстрёма: на одной – мерцающее детское платье, на другой – черная вода со светящимися из-под самой поверхности глазами выдры. Маленький зеленый металлический дельфин и маленький зеленый металлический шлем на письменном столе, купленные мною однажды на Крите. И книги: Парацельс, Василий Великий, Лукреций, Томас Браун, Улоф Рудбек, Августин, Фома Аквинский, Альберт Себа, Вернер Гейзенберг, Реймонд Расселл и, разумеется, Библия, а еще книги по национальной романтике и о кабинетах редкостей, об Атлантиде, об Альбрехте Дюрере и о Максе Эрнсте, о барокко и о готике, об атомной физике и об оружии массового уничтожения, о лесах и о науке XVI и XVII веков. Дело было не в знаниях, а в излучаемой ими ауре, в том, откуда она исходила – из мест, лежащих за пределами того мира, в котором мы живем сейчас, из того амбивалентного пространства, в котором существуют все исторические предметы и представления.
В последние годы во мне усиливалось ощущение, что мир мал и мой взор охватывает все, что в нем есть, хотя рассудком я понимал, что дело обстоит ровно наоборот: мир беспределен и его невозможно целиком охватить человеческим взглядом, число событий бесконечно, а настоящее – это открытая дверь, которая хлопает на ветру истории. Однако чувство говорило иное. Оно говорило, что мир изучен весь, до конца исследован и описан, что в наше время уже невозможно двигаться в неизведанном направлении и больше ничего нового и неожиданного случиться не может. Я понимаю все, что касается меня самого, понимаю свое ближайшее окружение, понимаю все, что касается общества, в котором живу, а если какой-то феномен вдруг окажется мне неясным, то я знаю, что надо делать, чтобы в нем разобраться.
Понимание не следует путать со знанием, потому что я почти ничего не знал, но если, например, произошли бы столкновения на границе одной из бывших советских республик, где-нибудь в Азии, в городах, чьих названий я прежде никогда не слышал, с населением, мне совершенно неведомым, начиная от его платья и языка и заканчивая обычаями и религией, причем оказалось бы, что в основе этого конфликта лежат исторические причины, коренящиеся в событиях тысячелетней давности, то моя полная неосведомленность и незнание в этом вопросе не помешали бы мне понять, что там происходит, потому что категории мышления позволяют разобраться даже в самых далеких от тебя вопросах. Так же обстояло дело и со всем другим. Обнаружив насекомое, которое я раньше никогда не встречал, я сознавал, что до меня его уже кто-то видел и описал. При виде светящегося объекта на небе я понимал, что это либо редкое метеорологическое явление, либо летательный аппарат того или иного рода, возможно метеозонд, а если это что-то из ряда вон выходящее, то завтра об этом напишут в газетах. Если я забыл какое-то событие из своего детства, то, конечно, в результате вытеснения; если что-то меня бесило, это объяснялось проецированием, а в том, что я всегда стремился понравиться людям, с которыми встречался в жизни, виноваты были мой отец и мои с ним отношения. Нет такого человека, который не понимал бы своего мира. Тот, кто понимает мало, к примеру ребенок, просто существует в более ограниченном мире, чем тот, кто понимает многое. Но понимание многого всегда предполагало осознание его границ: признание того, что мир, лежащий вне этих границ, не только существует, но что он больше, чем тот, что умещается в их пределах. Иногда я думал, что со мной, в частности, произошло следующее: для меня мой детский мир, в котором все было знакомо, а если не знакомо, то ты всегда можешь положиться на других, которые всё знают и умеют, вовсе не кончился, а продолжал расширяться на протяжении всех последующих лет. Когда я в девятнадцать лет столкнулся с утверждением, что мир структурируется на основе языка, я отверг это положение, опираясь на так называемый здравый смысл, потому что это представлялось мне бессмыслицей: разве ручка у меня в руках – это язык? А окно, на котором играет солнце? А двор внизу, через который идут по-осеннему одетые студенты? Уши лектора, его руки? Слабый запах земли и листвы, исходящий от одежды той, что только что вошла в дверь и теперь сидит рядом со мной? Грохот отбойника у дорожных рабочих, которые поставили свою палатку перед церковью Святого Иоанна, ровное гудение трансформатора? Рокот города внизу – разве это рокочет язык? Кашель в передних рядах – неужто это кашляет язык? Нет, самая эта мысль – смехотворна! Мир – это мир, то, что я могу потрогать руками, на что натыкаюсь, что я вдыхаю и выплевываю, ем и пью, то, что выходит из меня, когда я поранюсь и когда меня рвет. Только много лет спустя я посмотрел на это иначе. В одной книжке по искусству и анатомии цитировался Ницше, там было сказано: «Физика тоже есть лишь толкование и упорядочение мира, а не объяснение мира»[9], и еще там говорилось: «Мы приписали миру ценности посредством категорий, пригодных только для измышляемого мира».
Измышляемого мира?
Да, мира как надстройки, мира как духа, невесомого и абстрактного, состоящего из той же материи, из которой соткана мысль, и потому представляющего собой среду, в которой она может беспрепятственно двигаться. Мира, который после трех веков развития естественных наук утратил свои мистерии. Все объяснено, все понято, все вмещается в горизонты человеческих понятий, от величайшего – Вселенной, чьи древнейшие из наблюдаемых источников света, на самой дальней границе сущего, относятся ко времени ее зарождения, так что их возраст составляет пятнадцать миллиардов лет, и вплоть до мельчайших – протонов, нейтронов и мезонов атомного ядра. Даже такие феномены, которые нас убивают, вроде бактерий и вирусов, что вторгаются в наше тело и поражают клетки, заставляя их расти или умирать, нам известны и понятны. Долгое время предметом тщательного абстрактного изучения была только природа с ее законами, но теперь, в наши иконоборческие времена, его объектами стали все места, где они действуют, и сам человек. Весь физический мир уже возведен в эту сферу, и всё, от джунглей Южной Америки и тихоокеанских островов до североафриканских пустынь и серых обшарпанных городов Восточной Европы, вошло в огромное царство умозрительных представлений. Наши мысли переполнены образами мест, в которых мы никогда не бывали, но которые тем не менее знаем, образами людей, которые нам хорошо знакомы и занимают прочное место в нашей жизни, хотя мы их никогда не встречали. В результате возникает чувство, что мир очень мал и так замкнут в себя, что не впускает в свои пределы ничего постороннего, – чувство почти инцестуозное, – и я, понимая, что на самом деле все совершенно не так, поскольку мы, в сущности, почти ничего не знаем, все же его не избежал. Неутолимая тоска, которая временами усиливалась до того, что я почти терял над нею контроль, рождена была именно этим ощущением замкнутости. Я и писать начал отчасти ради того, чтобы ее смягчить, чтобы отворить для себя границы мира, но это мне не удалось. Ощущение, что будущего не существует, что будет все то же самое, означает, что всякая утопия лишена смысла. Литература всегда была сродни утопии, поэтому, когда утопия стала бессмысленной, то и литература тоже потеряла смысл. Мои попытки, как, вероятно, и попытки всех писателей, – хотя откуда мне знать, – сводились к тому, чтобы бороться с фикцией при помощи фикции. А надо было признать то что есть, принять сложившееся положение вещей, то есть окунуться в мир, вместо того чтобы искать из него выход, потому что тогда моя жизнь несомненно стала бы лучше, но на это я был неспособен, у меня ничего не получалось, во мне что-то застыло, некое убеждение укоренилось во мне очень глубоко, и, хотя оно было эссенциалистским, то есть вневременным и романтическим, я не мог от него избавиться по одной простой причине: оно пришло ко мне не только через мысль, но и через ощущение, через эти внезапные – всем, вероятно, знакомые – вспышки озарения, когда тебе вдруг является совершенно иной мир, чем тот, в котором ты только что находился, когда он внезапно проступает у тебя перед глазами и, показавшись на краткий миг, так же внезапно исчезает, оставляя все таким, как прежде.
В последний раз я испытал такое несколько месяцев назад – в электричке между Стокгольмом и Гнестой. За окном, весь белый, расстилался заснеженный пейзаж под серым, набухшим небом, мы ехали через промзону: пустые железнодорожные вагоны, газгольдеры, фабричные здания – все было белым и серым, а на западе заходило солнце, красные лучи расплывались в тумане, а поезд, на котором я ехал, был не старым и потрепанным, какие обыкновенно ходят по этой ветке, а, напротив, новенький, все в нем блестело, и сиденье было новое, оно пахло как новое, передняя дверь открывалась и закрывалась бесшумно, и я не думал ни о чем, только о красном, огненном шаре на небесах, и внезапно накатившая радость ощущалась так остро, что казалась неотличимой от боли. То, что я тогда пережил, показалось мне исполненным чрезвычайного значения. Чрезвычайного. Этот миг миновал, но ощущение его значительности никуда не делось, а вот в чем она заключалась, я понять не мог: что именно было таким важным? И почему? Поезд, промзона, туман?
Я узнал это чувство; похожее я испытывал от некоторых произведений живописи. Одними из таких картин были старческий автопортрет Рембрандта в Лондонской национальной галерее, пейзаж Тёрнера с закатом на фоне старинной гавани из того же музея, полотно Караваджо «Христос в Гефсиманском саду». То же чувство вызывал Вермеер, отдельные картины Клода Лоррена, кое-что у Рёйсдала и других нидерландских пейзажистов, кое-что у Юхана Кристиана Клаусена Даля и всё кисти Ларса Хертервига… Но ничего из Рубенса, ничего из Мане, ни одна работа французских или английских художников XVIII века, за исключением Шардена, ни Уистлер, ни Микеланджело, и только одно-единственное полотно Леонардо да Винчи. Это чувство не ведало любимцев ни среди эпох, ни среди авторов, его могла пробудить какая-нибудь одна работа того или иного художника, а остальные не затронуть ни в малейшей степени. Не имело оно отношения и к тому, что принято называть «качеством»; я мог холодно созерцать пятнадцать картин Моне и вдруг почувствовать, как в душе поднимается тепло от картины финского импрессиониста, который мало кому известен за пределами Финляндии.
Что такого было в этих картинах, производивших на меня столь сильное впечатление, я не знаю. Однако характерно, что все они написаны до начала двадцатого века и выполнены в рамках той художественной парадигмы, которая никогда до конца не порывала с видимой реальностью. Им всегда свойственна известная объективность, то есть дистанция между реальной действительностью и ее изображением, и, по-видимому, как раз в этом пространстве и «случалось» то самое событие, о котором я говорю, то есть когда зримо представало то, что я видел, и за миром вдруг проступал мир. Когда ты не только видишь то, что в нем есть недоступного пониманию, а максимально к нему приближаешься. То безъязыкое, что невозможно выразить никакими словами и что, следовательно, всегда остается для нас недосягаемым, лежащим внутри, ибо оно не только нас окружает, но мы сами ему причастны, мы сами – его часть.
Выходило, что неведомое и загадочное имеет к нам отношение, и это наводило меня на мысли об ангелах – этих таинственных созданиях, причастных не только божественному, но и человеческому, тем самым лучше других образов выражавших двойственность природы неведомого. В то же время как в упомянутых картинах, так и в ангелах было что-то такое, что вызывало чувство душевной неудовлетворенности, потому что те и другие, по существу, принадлежали прошлому, то есть той его части, которая давно осталась для нас позади и уже не укладывалась в рамки созданного нами мира, где великое и божественное, возвышенное и святое, прекрасное и истинное перестало быть признанными ценностями, а напротив, ставилось под сомнение и даже казалось смешным. Следовательно, то великое, пребывающее за рамками нашего мира, которое вплоть до века Просвещения признавалось божественным и данным нам в эпоху романтизма, – олицетворялось с природой, причем откровение выражалось через категорию возвышенного, и теперь оказалось вовсе лишено своего выражения. Искусство отождествило эту запредельность с социумом, иначе говоря, с человеческой массой, внутри которой оно свободно оперировало своими концепциями и релятивными понятиями. В истории норвежского искусства этот перелом наступил начиная с Мунка; именно в его картинах человек впервые занял собой все пространство. Если вплоть до эпохи Просвещения человек занимал подчиненное место по сравнению с божественным, а в эпоху романтизма ему отводилось подчиненное место по отношению к изображенному пейзажу – могучим и величавым горам, могучему и бескрайнему морю, когда даже леса и деревья представляются могучими и величественными по сравнению с человеком, а люди всегда, без исключения, предстают на картинах маленькими, – то у Мунка мы уже видим совершенно противоположный подход. Человеческое начало как бы поглощает все остальное, присваивает себе все вокруг. Горы, море, деревья и леса – все окрашено человеческим началом. Не деятельностью и внешними проявлениями человеческой жизни, а его чувствами и внутренней жизнью. Стоило только человеку забрать такую власть, как оказалось, что пути назад больше нет, так же как у христианства не стало пути назад, к эпохе первых веков нашей эры, когда оно, словно лесной пожар, стремительно распространялось по Европе. У Мунка люди – это гештальты, их внутреннее содержание приобрело внешнюю форму и потрясло этим мир; стоило только открыть эту дверь, как полностью возобладал творческий процесс, гештальтунг: у художников после Мунка чувством насыщены сами краски, формы как таковые, а не то, что они изображают. В мире этих картин торжествует выражение как таковое, следствием чего, естественно, стало то, что в отношениях между запредельным и тем, что находится здесь, во внутренней сфере, исчезла динамика, осталась только разделяющая грань. На вершине эпохи модернизма грань между искусством и жизнью стала почти абсолютной, или, говоря иными словами, искусство оказалось отдельным, замкнутым миром. Решение о том, что допустить в этот мир, зависело, конечно, от суждения, и скоро само суждение сделалось сердцевиной искусства, которое, таким образом, могло – а в какой-то степени, чтобы не почить естественной смертью, было вынуждено принять в себя предметы реального мира, и сложившееся при этом положение, когда материал искусства вообще перестал играть какую бы то ни было роль, а решающее значение стало принадлежать исключительно тому, что оно выражает, то есть не то, что оно есть, а то, что оно думает, какие идеи в себе несет, привело к отказу от последних остатков всего, что выходит за пределы человеческой сферы. Искусством стала неприбранная кровать, несколько копировальных машин в комнате, мотоцикл на крыше. Искусством стала и сама публика, то, как она реагирует, то, что об этом пишут газеты; художник стал исполнителем. Так оно и есть сейчас. В искусстве больше нет запредельного, в науке нет ничего запредельного, в религии нет ничего запредельного. Наш мир замкнут в себе, мы заперты в нем, и из него больше нет выхода. Те, кто призывает обратиться к духу и духовности, ничего не понимают: проблема, напротив, в том, что дух заполонил все. Все стало духом, даже наши тела, они больше не тела, а идеи тела, нечто, обретающееся в облаках наших образов и представлений о нас, и там же проходит все большая часть нашей жизни. Разрушена граница, отделяющая нас от того, что с нами не говорит, от непостижимого. Мы все понимаем, но происходит это потому, что мы переделали все под самих себя. Весьма типично, что все, кто занимается вопросами нейтрального, негативного, нечеловеческого в искусстве, сегодня обратились к языку, отыскивая непонятное и чуждое именно в нем, словно оно должно находиться на периферии человеческого средства выражения, то есть на грани того, что нам понятно, и это в общем-то логично: где еще ему быть в мире, который больше не признает существования чего-то за своими пределами?
Именно в таком свете надлежит рассматривать ту странную, двусмысленную роль, которая у нас отведена смерти. С одной стороны, она у нас повсюду, на нас потоком обрушиваются известия о смерти, фотографии умерших; в этом отношении для смерти не существует границ, она масштабна, вездесуща, неисчерпаема. Но это – смерть как представление, смерть без тела, смерть как образ и мысль, смерть как дух. Эта смерть – то же самое, что смерть имени, того бестелесного, что мы имеем в виду, упоминая имя умершего человека. Ведь при жизни человека его имя относится к телу, в котором он находится, к тому, что оно делает, когда же со смертью человека оно отделяется от тела и продолжает существовать среди живущих, они под именем всегда подразумевают того, кем он был, а не то, чем он стал теперь – телом, истлевающим где-то в земле. Тот аспект смерти, что касается тела и существует конкретно, физически, материально, скрывают с какой-то исступленной тщательностью, которая имеет действенные последствия, – только послушайте, как выражают свидетели убийства или катастрофы свои впечатления: «В этом было что-то нереальное», подразумевая прямо противоположное: «Это совершенная реальность». Но мы живем в другой реальности. У нас все перевернуто с ног на голову, для нас реальная действительность – нереальна, а реальностью стало нереальное. А смерть – смерть есть последняя из великих запредельных вещей. Поэтому ее нужно скрывать. Потому что смерть лежит за пределами имени и за пределами жизни, но не за пределами мира.
Сам я впервые увидел мертвое тело, когда мне было почти тридцать лет. Это было летним днем в июле 1998 года, в одной из часовен Кристиансанна. Покойник был мой отец. Он лежал на столе посредине зала, небо было серое и пасмурное, в зале было темновато. По лужайке за окном, тарахтя, медленно ездила по кругу газонокосилка. Мы пришли вдвоем с братом. Агент похоронной компании вышел, оставив нас побыть наедине с покойным, мы глядели на него, остановившись на расстоянии нескольких метров. Глаза и рот были закрыты, сверху на нем была белая рубашка, снизу – черные брюки. Я подумал, что впервые в жизни могу беспрепятственно рассматривать это лицо, и эта мысль казалась невыносимой. Словно я совершаю что-то недозволенное. В то же время я испытывал ненасытную алчность, заставлявшую меня глядеть и глядеть на это мертвое тело, которое несколько дней назад еще было моим отцом. Эти черты были мне хорошо знакомы, я вырос рядом с этим лицом, и хотя в последние годы видел его уже не так часто, но чуть не каждую ночь оно являлось мне во сне. Черты были знакомые, но выражение другое, не то, которое они приняли сейчас. Темная, желтоватого оттенка кожа, утратившая к тому же эластичность, делала его лицо точно вырезанным из дерева. Эта деревянность исключала какое бы то ни было ощущение близости. Я смотрел уже не на человека, а на некое его подобие. Но прежде он был среди нас, и это его бытие все еще оставалось во мне, облекая мертвизну в пелену жизни.
Ингве медленно отошел к другой стороне стола. Я не смотрел на него, а заметив движение, только поднял голову и посмотрел в окно. Садовник на газонокосилке то и дело оборачивался, проверяя, правильно ли ведет ее по краю предыдущего круга. Короткие обрезки травы, не попавшие в мешок, кружились в воздухе у него над головой. Часть из них, вероятно, налипала на газонокосилку снизу, потому что время от времени с нее шлепались наземь влажные лепешки спрессованной травы, более темные по сравнению с той, что росла на лужайке. По гравийной дорожке позади него шла компания из трех человек, все трое с понуренными головами, одна женщина – в красном пальто, ярким пятном выделявшемся на фоне зеленой травы и серого неба. А позади них по дороге тянулась вереница автомобилей, направлявшихся в центр.
Вдруг тарахтенье газонокосилки ударило в стену часовни. Я так остро ощутил, что от этого резкого звука папа сейчас откроет глаза, что невольно отступил на шаг назад.
Ингве взглянул на меня и слегка улыбнулся. Неужели я действительно подумал, что мертвый проснется? Неужели я поверил, что дерево снова превратится в человека?
Это был ужасный миг. Но когда он прошел, а покойник, несмотря на весь шум и треволнения, по-прежнему остался неподвижен, я понял, что его здесь уже нет. С чувством освобождения, которое всколыхнулось в моей груди, было так же трудно совладать, как с предшествующими всплесками горя, и оно вырвалось наружу так же, как они: в следующий миг я невольно всхлипнул.
Встретив взгляд Ингве, я улыбнулся. Он подошел ко мне и встал рядом. Его близость заполнила меня до краев. Я был так рад, что он рядом, что мне пришлось напрячь все силы, чтобы не потерять над собой контроль и снова все не разрушить. Надо было думать о чем-то другом, направить свое внимание на какой-нибудь посторонний предмет.
В соседнем помещении кто-то что-то двигал. Звуки были глухие и нарушали воцарившееся между нами настроение, они были тут чужеродны, как чужеродны звуки, врывающиеся в сон из окружающей действительности.
Я опустил взгляд на папу. Вот пальцы сложенных на животе рук: на указательном – желтая каемка от никотина, вроде тех, что виднеются на грязных обоях. Непомерно глубокие морщины на костяшках, которые теперь казались искусственными. Потом лицо. Отрешенным оно не казалось, потому что при всей неподвижности и умиротворенности на нем не отпечаталась пустота, оно все еще сохраняло следы того, что я не могу назвать иначе, как воля. Мне вдруг подумалось, что я всегда пытался определить выражение его лица. Что при всяком взгляде на него стремился прочесть, что там написано.
Но теперь оно замкнулось наглухо.
Я обернулся к Ингве.
– Ну что, пойдем? – спросил он.
Я кивнул.
Служащий похоронного бюро уже ждал нас в соседнем помещении. Дверь за собой я оставил открытой. Понимая всю иррациональность этого чувства, мне все равно не хотелось оставлять папу там одного.
Попрощавшись за руку с агентом похоронного бюро и обменявшись с ним несколькими словами о том, что нужно сделать ко дню похорон, мы вышли на парковку и закурили по сигарете. Ингве стоял, прислонившись к автомобилю, я присел на каменную ограду. Чувствовалось, что собирается дождь. Деревья в рощице за кладбищем гнулись под порывами усилившегося ветра. На несколько секунд шорох листвы заглушил шум машин с дороги на другом конце долины. Затем снова наступила тишина.
– Да, странное ощущение, – сказал Ингве.
– Да, – сказал я. – Но я рад, что мы это сделали.
– Я тоже. Мне надо было увидеть это своими глазами, чтобы поверить.
– Теперь поверил?
Он улыбнулся:
– А ты разве нет?
Вместо того чтобы ответить, как я собирался, улыбкой на улыбку, я опять расплакался. Закрыл лицо ладонью, низко опустил голову. Я рыдал и всхлипывал. Когда приступ рыданий прошел, я поднял голову и улыбнулся ему.
– Прямо как в детстве, – сказал я. – Я реву, а ты смотришь.
– Ты уверен, – спросил он, стараясь поймать мой взгляд, – ты уверен, что дальше без меня справишься?
– Конечно, – ответил я. – Никаких проблем.
– Я вполне могу позвонить и сказать, что останусь.
– Поезжай домой. Сделаем так, как решили.
– Окей. Тогда я поехал.
Он отбросил сигарету, достал из кармана ключи от машины. Я поднялся и подошел к нему на несколько шагов, но не слишком близко, чтобы не создать ситуацию для рукопожатия или объятий. Он отпер дверцу, сел в машину и, глядя на меня снизу, повернул ключ зажигания, включая мотор.
– Ну, бывай, пока, – сказал он.
– Пока. Езжай осторожно. И привет твоим!
Он закрыл дверцу, тронулся с места, остановился и пристегнул ремень безопасности, включил передачу и стал медленно выруливать на шоссе. Я пошел за машиной. Внезапно на машине загорелись габаритные огни, и она задним ходом поехала назад.
– Лучше, если это останется у тебя, – сказал Ингве, высовывая руку за спущенное стекло. Это был коричневый конверт, который вручил нам агент похоронного бюро. – Мне нет смысла брать его в Ставангер, – сказал он. – Пускай лучше остается тут. Окей?
– Окей, – сказал я.
– Пока, увидимся, – сказал он.
Стекло скользнуло на место, и раздававшаяся на всю парковку музыка вдруг зазвучала как будто из-под воды. Я стоял, не сходя с места, пока его машина не выехала на шоссе и не скрылась из вида. Во мне говорило детское побуждение: если я уйду раньше, случится несчастье. Затем я спрятал конверт во внутренний карман куртки и зашагал в сторону города.
За два дня до этого мне в два часа дня позвонил Ингве. По его голосу я сразу понял, что он звонит не просто так, и первая мысль, которая пришла мне в голову: умер папа.
– Привет, – сказал он. – Это я. Звоню, чтобы тебе сообщить… Тут, знаешь, такое дело… Так вот, понимаешь…
– Да? – переспросил я.
Я стоял в прихожей, одной рукой опершись о стену, в другой держа трубку.
– Папа умер.
– О, – сказал я.
– Только что позвонил Гуннар. Бабушка нашла его сегодня утром в кресле мертвым.
– Отчего он умер?
– Не знаю. Наверное, сердце.
В прихожей никого не было, лампа под потолком не горела, немного света проникало только из кухни в конце коридора и немного с другой стороны, из открытой двери спальни. Из зеркала, куда был направлен мой взгляд, на меня словно откуда-то издалека смотрело темное лицо.
– И что нам теперь делать? В смысле – что конкретно.
– Гуннар считает, что мы должны заняться всеми хлопотами. Так что надо туда ехать. Вообще-то как можно скорее.
– Да, – сказал я. – Я как раз собирался на похороны Боргхиль, ты поймал меня на выходе. Так что чемодан уже собран. Могу выезжать. Встретимся на месте?
– Хорошо, – сказал Ингве. – Тогда я приеду завтра с утра.
– Завтра, – повторил я. – Дай-ка подумать.
– Может, тебе лучше вылететь самолетом? Тогда мы могли бы поехать вместе.
– Правильно. Так и сделаю. Я перезвоню, как только узнаю рейс. Окей?
– Окей. До скорого.
Положив трубку, я пошел на кухню и налил в чайник воды, достал из шкафа чайный пакетик и положил себе в чашку, прислонился к спинке стула и стал смотреть в окно на тупичок, на который выходил дом; сейчас от него видны были только отдельные пятна серого между зеленых кустов, тянувшихся густой стеной между садом и обочиной. На другой стороне росло несколько огромных лиственных деревьев, в их глубокой тени проходила дорожка, ведущая к магистрали, над которой величественно высилась больница Хаукеланн. Единственное, о чем я мог думать, – это о том, что я не в состоянии думать о том, о чем надлежит. Папа умер, думал я. Это большое и важное событие, оно должно целиком занимать мое внимание, но на деле выходит иначе: вот я стою и гляжу на чайник и нервничаю, почему он никак не кипит. Стою тут, глазею в окно и думаю, как нам повезло с этой квартирой, так я думаю каждый раз, когда вижу этот сад, потому что за ним ухаживает старушка-домохозяйка, а не о том, что папа умер, хотя значение имеет только это. Видимо, это шок, подумал я и стал наливать в чашку воду, не дождавшись, пока она закипит. Чайник – сверкающую дорогую модель – мы получили от Ингве в качестве свадебного подарка. Желтую керамическую чашку из Хёганеса уж не помню, кто подарил, помню только, что она была в списке пожеланий, который составила Тонья. Я пополоскал в чашке чайный пакетик, кинул его в мойку и с чашкой в руке перешел в столовую. Слава богу, хоть дома никого нет!
Я походил по комнате, пытаясь осмыслить, что папа умер, но безуспешно. Смысл не открывался. Я сознавал случившееся, принимал его к сведению, но смысл до меня не доходил, то есть не то чтобы я не понимал, что оборвалась жизнь, которая могла бы еще продолжиться, но этот факт оставался для меня всего лишь одним из множества других, вместо того чтобы занять в моем сознании подобающее место.
Я все ходил по комнате с чашкой в руке, за окном было пасмурно и тепло, открывающаяся из него местность со множеством крыш и пышных зеленых садов полого спускалась по склону. Мы поселились тут всего пару недель назад, переехав из Волды, где Тонья училась в институте на отделении радиожурналистики, а я закончил роман, который должен был выйти через два месяца. Это было наше первое настоящее семейное гнездо: квартира в Волде не в счет, она была временной, а эта будет постоянной, по крайней мере, задумывалось именно так. От стен еще пахло краской. Цвета бычьей крови в столовой, который мы выбрали по совету матери Тоньи. Она была художницей, но большую часть времени тратила на обустройство дома и приготовление пищи – то и другое на самом высоком уровне, – дом ее выглядел как картинка из журнала по дизайну интерьеров, а еда у нее всегда подавалась изысканная и искусно сервированная. Другие комнаты были белые, цвета яичной скорлупы. Но наша квартира отнюдь не производила впечатления картинки из дизайнерского журнала, слишком многое здесь – мебель, постеры и книжные полки – напоминало о студенческом быте, к которому мы привыкли. Роман я написал на учебный кредит; номинально я учился на отделении литературоведения; к Рождеству эти деньги подошли к концу, и мне пришлось обратиться в издательство за авансом, которого хватило до этого дня. Поэтому папина смерть случилась как нельзя кстати, ведь у него были деньги, не могло же не быть? Братья втроем продали дом на Эльвегатен и выручку разделили между собой. С тех пор не прошло и двух лет. Не мог же он их потратить за такое короткое время?
У меня умер отец, а я думаю о деньгах, которые после него получу.
Ну и что?
Мало ли что мне подумалось, ведь это от меня не зависит, так ведь?
Я отставил чашку на обеденный стол, отворил тонкую дверь и вышел на балкон, оперся одеревеневшими руками на перила и стал смотреть вдаль, вдыхая полной грудью теплый летний воздух, наполненный запахом растений, автомобилей и города. В следующий момент я уже снова был в комнате и оглядывался, соображая, что бы мне сделать: поесть, что ли, или попить? Пойти что-нибудь купить?
Бесцельно блуждая, я вышел в коридор, заглянул в спальню с широкой неприбранной кроватью, за которой была дверь ванной. Вот что можно сделать, подумал я. Принять душ. Это правильно, мне же скоро ехать.
Сбросить одежду, включить воду, погорячее, чтобы шел пар, и обливаться с головы до ног.
Подрочить, что ли? Черт! Нет! Папа же умер.
Умер, умер, папа умер. Умер, умер, папа умер.
Ничего не изменилось и тут оттого, что я постоял под душем. Поэтому я выключил его, вытерся большим полотенцем, намазал дезодорантом под мышками, оделся и, не переставая вытирать голову полотенцем поменьше, пошел на кухню посмотреть, который час.
Половина третьего.
Значит, через час придет Тонья.
Начинать все снова, с самого начала, когда она войдет в дверь, – об этом мне даже думать не хотелось, так что я вышел в коридор, кинул полотенце в раскрытую дверь спальни, взял телефонную трубку и набрал ее номер. Она ответила сразу:
– Тонья слушает.
– Привет, Тонья, это я. Все хорошо?
– Да. Вообще-то я занята редактурой, только зашла в кабинет взять одну вещь. Но как закончу – сразу домой.
– Хорошо, – сказал я.
– А ты что делаешь? – спросила она.
– Так, ничего. Звонил Ингве. Умер папа.
– Что ты говоришь? Умер?
– Да.
– Ой, бедный ты мой, Карл Уве!
– Все хорошо, – сказал я. – Нельзя сказать, что это неожиданно. Однако сегодня вечером я туда вылетаю. Сначала к Ингве, а завтра мы вместе поедем туда на машине.
– Хочешь, я с вами поеду? Я вполне могу.
– Нет, нет. Тебе же надо работать! Оставайся здесь, приедешь потом, к похоронам.
– Ах, бедный мой, – сказала она опять. – Я могу с кем-нибудь договориться, чтобы взяли у меня редактуру. Тогда я сразу приеду. Когда ты выезжаешь?
– Это не к спеху, – сказал я. – Я выезжаю через несколько часов. Не так плохо немного побыть одному.
– Точно?
– Да, да. Совершенно точно. Я вообще-то ничего не чувствую. Мы давно об этом говорили – что он скоро умрет, если будет продолжать в том же духе. Так что я был к этому подготовлен.
– Окей, – сказала Тонья. – Тогда я закончу работу, а затем сразу домой. Береги себя. Люблю тебя.
– Я тоже тебя люблю, – сказал я.
Положив трубку, я подумал о маме. Надо же ей сообщить. Я снова снял трубку и набрал номер Ингве. Оказалось, он ей уже позвонил.
Я ждал, сидя в комнате, совершенно одетый, и тут услышал на пороге Тонью. Она вошла в квартиру, живая и свежая, как летний ветерок. Я встал ей навстречу. Она двигалась деловито, глядела озабоченно и сразу обняла меня, сказала, что хотела бы поехать со мной, но я прав, лучше, если она останется здесь, затем я по телефону вызвал такси, и мы вместе подождали на крыльце; через пять минут пришла машина. Мы супруги, подумал я, мы – муж и жена, моя жена стоит на крыльце и машет мне вслед, подумал я и усмехнулся. Откуда это вдруг всплыла эта лакированная картинка? Что мы больше изображаем мужа и жену, чем это есть на самом деле?
– Чему ты улыбаешься?
– Просто так, – сказал я. – Просто мелькнуло в голове.
Я сжал ее руку.
– Вот оно едет, – сказала она.
Я посмотрел в конец улицы. Из-за холма, словно черный жук, выползла машина, замедлила ход, постояла на перекрестке, затем осторожно поползла вверх направо, на улицу с тем же названием, что у той, на которой мы ждали.
– Мне сбегать встретить его? – спросила Тонья.
– Нет, зачем? Это я и сам могу сделать, почему ты?
Я взял чемодан и стал подниматься по лестнице, ведущей к дороге. Тонья шла следом.
– Пойду к перекрестку, – сказал я. – И там его перехвачу. А вечером я позвоню, окей?
Мы расцеловались, а когда я обернулся на перекрестке, увидев спускающееся с холма такси, она мне помахала.
– Кнаусгор? – спросил шофер, когда я, открыв дверцу, просунул в нее голову.
– Совершенно верно, – сказал я. – Мне во Флеслан.
– Садитесь, а я погружу чемодан.
Я залез на заднее сиденье и откинулся на спинку. Такси… Люблю такси. Не те, на которых я возвращаюсь домой, а те, на которых еду в аэропорт или на железнодорожный вокзал. Что может быть лучше, чем сидеть на заднем сиденье, а такси через город, мимо пригородов увозит тебя в дальний путь!
– Тут у вас запутаешься, пока найдешь, – сказал шофер, сев за руль. – Я слышал, что дорога раздваивается, но сам никогда тут не бывал. Это за двадцать-то лет. Даже странно.
– Да, – сказал я.
– Я думал, что уже все объездил. Наверное, дорога сюда – единственная, где я еще не побывал.
Он улыбнулся мне в зеркальце:
– Поди, в отпуск едете?
– Нет, – сказал я. – Не совсем. Сегодня умер мой отец. Я еду его хоронить. В Кристиансанн.
Это положило конец его разглагольствованиям. Я сидел неподвижно, мимо мелькали дома, я сидел без определенных мыслей, только смотрел в пространство. Минде. Фантофт. Хуп. Автозаправка, автосалоны, супермаркеты, виллы, лес, вода, поселки. Когда мы выехали на последнюю прямую перед аэропортом и впереди показалась его башня, я достал из внутреннего кармана карточку и перегнулся через переднее сиденье, чтобы посмотреть показания счетчика. Триста двадцать. Недешевое удовольствие ездить на такси, на автобусе вышло бы в десять раз дешевле, тем более что как раз сейчас лишних денег у меня не было.
– Сделаете мне чек на триста пятьдесят крон? – спросил я, протягивая карточку.
– Чего же не сделать, – сказал он, выхватывая карточку у меня из руки, пропустил ее через считывающее устройство, которое, пощелкав, тут же выдало чек. Он положил его вместе с ручкой на блокнот и протянул мне, я подписал, он оторвал новый чек и отдал мне.
– Спасибо, – сказал он.
– Вам спасибо, – ответил я. – Багаж я возьму сам.
Хотя чемодан был тяжелый, я понес его в зал отправления, подняв за ручку. Я терпеть не мог колесики, во-первых, потому, что это женские штучки, а следовательно, недостойны настоящего мужчины, мужчина должен не катить, а нести; во-вторых, потому, что они порождали впечатление чего-то легко доставшегося, уловки, экономии, благоразумия – которое я ненавидел и которому сопротивлялся даже в мелочах и ерунде. С какой стати человеку жить в мире, не ощущая его тяжести? Разве мы только образы? И что, в сущности, мы сберегаем, когда экономим силы?
В крошечном зале отправления я поставил чемодан прямо на пол и стал смотреть в расписании время отлета. Рейс на Ставангер был в пять часов, на него я вполне мог успеть. Но был еще и другой, в шесть.
Я любил сидеть в аэропорту еще больше, чем ездить на такси, а потому выбрал шестичасовой. Я обернулся и посмотрел на стойку регистрации. Перед кассами, кроме трех средних, почти никого не было: тогда как там, в середине, собрались густые и длинные очереди; пассажиры в них почти без исключения были одеты легко, и все везли с собой огромное количество багажа и были в том радужном настроении, какое бывает только после парочки выпитых рюмок, значит, в этих окошечках обслуживались чартерные рейсы южного направления. Я купил билет, зарегистрировался и пошел к телефонам-автоматам в другом конце зала, чтобы позвонить Ингве. Он сразу снял трубку.
– Привет, это Карл Уве, – сказал я. – Самолет вылетает в шесть пятнадцать. Значит, я буду в Суле без четверти семь. Ты встретишь меня или как?
– Это можно.
– Ничего нового?
– Нет… Я позвонил Гуннару и сказал, что мы приедем. Он больше ничего не узнал. Я думаю, мы можем выехать пораньше, чтобы до закрытия заглянуть в похоронное бюро. Завтра ведь суббота.
– Да, – сказал я. – По-моему, это правильно. Скоро увидимся.
– Да, пока.
Я повесил трубку и пошел наверх, где находилось кафе, взял чашку кофе и газету, нашел столик с видом на зал внизу, повесил куртку на спинку стула, огляделся вокруг, нет ли кого знакомого, и сел.
Мысль об отце всплывала через равные интервалы, как это было все время после звонка Ингве, однако как трезвая констатация, не затрагивая чувств. Вероятно, так получилось потому, что я был подготовлен к такому повороту. С той весны, когда папа ушел от мамы, жизнь его покатилась по наезженной колее. Мы не сразу это поняли, но в какой-то момент он переступил некую границу, и с этого времени мы знали, что с ним может случиться что угодно, включая самое худшее. Или самое лучшее – это уж как посмотреть. Я давно уже желал ему смерти, но с того самого момента, как понял, что его жизни скоро может прийти конец, я ждал этого с надеждой. Когда по телевизору сообщали о происшествиях со смертельным исходом в той местности, где он жил, – при пожаре или в автомобильной аварии, – или о телах, найденных в лесу или выловленных в море, моим первым чувством всегда была надежда: может быть, это папа. Однако каждый раз это оказывался не он, он все еще был жив.
До сего дня, думал я, глядя на сновавших внизу по залу людей. Через двадцать пять лет треть из них уйдет из жизни, через пятьдесят – две трети, а через сто – все. И что же они оставят после себя, чего стоила их жизнь? Их, лежащих с отвисшей челюстью и пустыми глазницами где-то глубоко под землей?
Возможно, Судный день действительно настанет. И все эти скелеты и черепа, которые были похоронены за те тысячи лет, что человечество живет на Земле, гремя костями, соберут свои останки и поднимутся, скаля зубы на солнце, навстречу всемогущему Богу, который будет их судить с небесного престола, окруженного высокой стеной ангельских сонмов. Над землею, такой зеленой и прекрасной, грянет трубный глас, и из всех низин и долов, со всех берегов и равнин, из всех морей и вод восстанут мертвые, дабы предстать пред лицом Господним, и вознесутся к нему, где будут взвешены и низвергнуты в геенну огненную, взвешены и приняты в высях горнего света. Пробудятся к жизни и те, что ходят сейчас тут со своими чемоданами на колесиках и пластиковыми пакетами из «дьюти-фри», со своими покетбуками и банковскими картами, со своими дезодорированными подмышками и очками, со своими крашеными волосами и ходунками, и не будет разницы между ними и теми, кто умер в Средние века или в каменном веке, все они – мертвецы, а мертвец есть мертвец, и мертвые будут взвешены и судимы в Судный день.
Из глубины зала, где располагались багажные транспортеры, показалось человек двадцать японцев. Я положил сигарету в пепельницу и, попивая кофе, стал следить глазами за их группой.
То инородное и чужое в их облике, что выражалось не в одежде, а в манере поведения, было притягательно, и я долгое время мечтал о том, чтобы пожить в Японии, в окружении всего чужого, на которое смотришь, не понимая, иногда догадываясь о его значении, но никогда не можешь быть уверен, что угадал правильно. Сидеть в японском доме, простом и спартанском, с раздвижной дверью и бумажными стенами, рассчитанными на чуждое для меня, неуклюжего скандинава, чувство изящного, – это было бы удивительно. Сидеть там и писать роман, подмечая, как это окружение медленно и незаметно накладывает свою печать на форму того, что я пишу, ибо форма нашего мышления естественным образом тесно связана с конкретным окружением, частью которого мы являемся. Это и люди, с которыми мы разговариваем, и книги, которые читаем. В Японии или, например, в Аргентине, где все привычное, европейское приобрело новую окраску, переместившись в совершенно другое пространство, или в США, в каком-нибудь городке, скажем в штате Мэн с его природой, напоминающий наш Сёрланн, – что бы у меня написалось там?
Я отставил чашку и снова взялся за сигарету, повернулся в другую сторону и стал смотреть на выход на посадку, где уже собралась в ожидании часть пассажиров, хотя было еще только начало пятого.
Но сейчас речь о Бергене.
Меня вдруг пронизало ледяным ветром.
Папа умер.
Впервые за все время после звонка Ингве отец вдруг встал у меня перед глазами. Не тем, каким он был в последние годы, но тем, каким я видел его в детстве и отрочестве, когда мы с ним отправились на взморье в Трумёйе на зимнюю рыбалку, когда вокруг завывал ветер и в воздух вздымались брызги прибоя от могучих волн, которые разбивались внизу о скалы, а он стоял с удочкой и, улыбаясь, вываживал пойманную рыбу. Густые черные волосы, черная борода, лицо, немного асимметричное, усеяно водяными каплями. Синий непромокаемый костюм, зеленые резиновые сапоги.
Вот такая картина.
Что характерно – я увидел его хорошим. Мое подсознание выбрало такую ситуацию, в которой я испытывал к нему теплое чувство. Это была попытка манипулировать сознанием, очевидно, для того, чтобы проложить дорогу сентиментальным переживаниям, которые, хлынув в открытую дверь, безраздельно завладеют моим существом. Именно так работает подсознание, вероятно считая себя своего рода поправкой к тому, что несут в себе мысли и воля, оно подогревает все, что находится в оппозиции к главенствующему рассудку. Но папа получил по заслугам, и хорошо, что он умер, все голоса, которые говорят иначе, лгут. И это касается не только того, каким он был в моем детстве, но и того, каким он стал, когда в середине жизни оборвал все старые связи и начал ее с чистого листа. Он действительно переменился, в том числе и ко мне, но все было напрасно; того, кем он стал, я тоже не признавал. В тот год, когда он порвал с прежней жизнью, он начал пить и продолжал пить все лето, этим они с Унни и занимались – сидели на солнышке и пили, все долгие летние хмельные дни напролет, и, когда начался учебный год, они продолжали делать то же самое, теперь уже по вечерам после работы и в выходные. Они переехали в Северную Норвегию, работали в одной школе, тут-то мы и начали понимать, что с ним происходит. Однажды мы с Ингве и его девушкой прилетели их повидать, папа встретил нас на машине, он был бледен, руки у него тряслись, он почти не разговаривал, а когда мы пришли к ним в квартиру, он одним духом опрокинул на кухне три бутылки пива и тогда немного ожил, его перестала колотить дрожь, он отвел нас в гостиную, заговорил, и все продолжал пить. Были школьные каникулы, и все время, что мы там были, он пил каждый день, но сам то и дело напоминал, что это каникулы и сейчас можно себе позволить, тем более здесь, на севере, где всю зиму стоит темень. Унни ждала ребенка, так что он пил в одиночку. В ту весну он был назначен экзаменатором в одну из школ Кристиансанна и пригласил нас, меня, Ингве и его девушку, на обед в гостиницу, это была «Каледония». Но, придя в вестибюль, мы его там не застали. Прождав полчаса, мы спросили у портье. Нам ответили, что он у себя в номере. Мы поднялись наверх, постучали в дверь, никто не отозвался, вероятно, он спал, мы стали стучать громче, звали его – никакой реакции, и мы так и ушли ни с чем. Через два дня в «Каледонии» случился пожар, погибло двенадцать человек, я, в то время еще гимназист-второклассник, вместе с Бассе съездил туда в обеденный перерыв, мы смотрели, как пожарные тушили огонь. Если мой отец был там и в соответствующем состоянии, он, ясное дело, тоже должен был погибнуть, сказал я Бассе, хотя так же, как Ингве, по-настоящему не понимал, что с ним происходит, мы не имели опыта общения с алкоголиками, в семье таких не было, и мы, уже зная, что он пьет, так как сами успели побывать на пьяных застольях, заканчивавшихся слезами, скандалами, сценами ревности и полной утратой человеческого облика, однако это были короткие эпизоды, наутро все приходило в норму, с работой он справлялся и очень этим гордился, мы сознавали только, что остановиться он не может, да, кажется, и не хочет. В этом теперь была его жизнь, этим он увлекался, несмотря на то, что у них родился ребенок. Он мог опохмелиться с утра перед работой, но никогда не приходил в школу пьяным. Подумаешь, выпить днем пива, что в этом такого! Вон, посмотрите на датчан, они выпивают за обедом, и Дания же ничего, не погибла, верно?
Зимой они отправились на юг, в турфирму на них поступали жалобы, как я узнал из письма, которое однажды прочитал без спросу у них в доме. Письмо было связано с судебным разбирательством по поводу того, что папа с приступом попал по скорой в больницу, у него были сильные боли в груди и он подал в суд на турфирму, обвиняя ее в том, что из-за плохого обслуживания у него случился инфаркт, на что фирма сухо ответила, что это был не инфаркт, а приступ, спровоцированный алкоголем и бесконтрольным приемом таблеток.
Потом они снова переехали из Северной Норвегии в Сёрланн, и тут уж папа, растолстевший и оплывший, нарастивший огромный живот, стал пить беспробудно целыми днями. Теперь уже и речи не было, чтобы он мог воздержаться от выпивки и встретить нас на машине. С Унни они расстались, папа перебрался в небольшой городок в Восточной Норвегии, где получил работу, но через несколько месяцев ее лишился и остался ни с чем – без жены, без работы, да можно сказать, и без ребенка, хотя Унни хотела, чтобы тот виделся с отцом, и позволяла им общаться; впрочем, ничего хорошего из этого не получилось, со временем право на свидания было аннулировано, но отец, кажется, принял это безразлично. Только одно привело его в ярость, вероятно, потому, что оказалось затронуто его право, а свои права он теперь постоянно отстаивал где только возможно. Происходило что-то ужасное, и у папы только и осталось, что квартира в Восточной Норвегии. Засев в ней, он беспробудно пил, если только не выходил для разнообразия в паб, тогда он сидел и пил там. Он стал толстый как бочка, кожа его, по-прежнему смуглая, стала какой-то блеклой, словно подернулась серой пленкой; бородатый, волосатый, неопрятный, он выглядел каким-то дикарем, который рыщет в поисках спиртного. Однажды он вдруг исчез и как сквозь землю провалился на несколько недель. Гуннар позвонил Ингве и сообщил ему, что подал заявление в полицию, чтобы его объявили в розыск. Когда отец наконец нашелся, оказалось, что он лежит в больнице в одном из городов Восточной Норвегии, у него совершено отказали ноги. Однако паралич потом отпустил, он снова встал на ноги и, проведя некоторое время в наркологической клинике, взялся за старое.
Контактов в это время у нас с ним не было. Но он все чаще и чаще стал бывать у бабушки и гостил у нее с каждым разом все дольше. Под конец он окончательно к ней переехал и там забаррикадировался. Он распихал то, что у него осталось из вещей, в бабушкин гараж, выгнал помощницу по дому, которую выхлопотал для бабушки Гуннар, потому что та уже не могла как следует себя обслуживать, и заперся на замок. Так он и сидел с ней вдвоем до самой смерти. Гуннар как-то позвонил Ингве и рассказал ему, что там творится. Среди прочего упомянул и о том, что однажды, зайдя в дом, обнаружил папу на полу гостиной. Он сломал ногу, но вместо того чтобы попросить бабушку вызвать скорую помощь и ехать в больницу, он велел ей ничего не говорить никому, включая Гуннара, что она и сделала, а он так и лежал, обставленный немытыми тарелками, пивными бутылками, бокалами и крепкими напитками из его богатых запасов, которые бабушка принесла и поставила у него. Сколько он так пролежал, Гуннар сказать не мог: может быть, сутки, может быть, двое. Когда он позвонил Ингве и сообщил ему об увиденном, это могло означать только одно: он считал, что мы должны вмешаться и вытащить отца оттуда, иначе он так и умрет, мы обсудили этот вопрос и решили ничего не делать, пусть живет, как хочет, как ему нравится, а как ему умирать – это его дело.
И вот он умер.
Я встал и пошел к прилавку за новой чашкой кофе. Там мужчина в элегантном костюме, с шелковым шарфом на шее и перхотью на плечах как раз наливал себе кофе. Он поставил на красную подставку белую чашку, до краев полную черного кофе, и, слегка приподняв кофейник, посмотрел на меня вопросительно.
– Спасибо, я сам, – сказал я.
– Как хотите, – ответил он, ставя кофейник на другую подставку.
Я подумал, что он из университетских. Официантка, широкоплечая женщина лет пятидесяти-шестидесяти, – явно из бергенских, так как этот типаж встречался мне в Бергене постоянно на протяжении тех восьми лет, что я тут прожил, и повсюду: в автобусах и на улице, за прилавками магазинов, все с такими же коротко стриженными крашеными волосами и прямоугольными очками, которые могут нравиться женщинам только этого возраста, – протянула руку, когда я, показывая, приподнял перед ней чашку.
– Это вторая, – сказал я.
– Пять крон, – произнесла она на чистопробном бергенском диалекте.
Я вручил ей пятерку и вернулся за свой столик. У меня было сухо во рту, а сердце бешено колотилось в груди, как будто я был чем-то взволнован, но я не был взволнован, напротив – я сидел спокойно и вяло, уставив взгляд на самолетик, подвешенный под огромной стеклянной крышей, в которой, словно в ловушке, стоял дневной свет, я поглядывал то на расписание отправлений, часы на котором показывали уже четверть шестого, то на людей, которые выстраивались в очереди, расхаживали по залу, сидели с газетами, стояли и разговаривали. Было лето, одежда у людей внизу была светлая, тела загорелые, настроение хорошее, как всегда бывает у пассажиров, собравшихся в путешествие. Сидя так, я временами мог воспринимать цвета как чистые, линии как четкие, а лица как необыкновенно говорящие. Они были заряжены смыслом. Без этой осмысленности они, как я видел их сейчас, казались далекими и как бы мутными, неуловимыми, точно тени, только не черные, а цветные.
Я отвернулся и посмотрел в окно. Кучка только что, по-видимому, прилетевших пассажиров поднималась по телетрапу. Двери зала прилетов раскрылись, и в нее с перекинутыми через локоть куртками, сумками и болтающимися до колен пластиковыми пакетами хлынули прибывшие, одинаково задирая головы вверх, где светилось табло выдачи багажа, потом сворачивали налево и пропадали из вида.
Мимо меня прошли два мальчика с картонными стаканчиками колы со льдом. У одного на лице проступали намечающиеся усики и первый пушок на подбородке. Ему, должно быть, было лет пятнадцать. Второй был пониже, и поросли на его лице не наблюдалось, но это не значило, что он был младше. У высокого были толстые губы, незакрывающийся рот, что в сочетании с пустым выражением глаз придавало ему глуповатый вид. У того, что поменьше, взгляд был посмышленее, но это была смышленость двенадцатилетнего ребенка. Он что-то сказал, оба рассмеялись, а когда они подошли к своему столику, он, как видно, повторил те же слова для всех, потому что все дружно захохотали.
Я про себя удивился, какие же они маленькие, я не мог даже представить себе, что сам был таким маленьким в четырнадцать, пятнадцать лет. Но, наверное, таким я и был.
Я отодвинул чашку, перекинул куртку через локоть, взял чемодан и пошел к выходу на посадку, сел возле загородки, где стояли одетые в форму мужчина и женщина, уткнувшись каждый в свой экран. Я откинулся на спинку и на несколько секунд закрыл глаза. Передо мной снова возникло папино лицо. Оно ждало своей минуты. Одетый туманом сад, чуть утоптанная, грязноватая трава, стремянка возле дерева, папино лицо поворачивается ко мне. Он придерживает руками стремянку, на нем сапоги с высокими голенищами, толстый вязаный свитер. Рядом стоят на земле две белые бадейки, на самом верху лестницы висит на крюке ведро.
Я открываю глаза. Я не помню такого эпизода, это было не воспоминание, но тогда что же это было?
Ах, он же умер.
Я перевел дыхание и встал. У загородки выстроилась небольшая очередь. Пассажиры следили за каждым знаком персонала, и, как только уловили что-то, указывающее на начало посадки, все были тут как тут со своими телами.
Умер.
Я встал за последним в очереди, широкоплечим мужчиной на полголовы ниже меня ростом. Седые волосы на шее и в ушах. От него пахло лосьоном после бритья. За мной встала женщина. Я чуть обернулся, чтобы посмотреть на нее, и увидел напудренное лицо с тщательно наложенной губной помадой и румянами, подведенными глазами – больше похожее на маску, чем на живого человека. Но пахло от нее приятно.
Из самолета рысцой выбежала по телетрапу бригада уборщиков. Женщина в форме поговорила по телефону. Убрав его, она взяла в руки небольшой микрофон и сообщила, что теперь все готово к отправке. Я расстегнул наружный карман сумки и достал оттуда билет. Сердце опять забилось сильнее, как будто оно гуляло само по себе. Стоять тут стало невыносимо. Но что поделаешь – надо. Я переминался с ноги на ногу, вытянул шею, чтобы видеть взлетно-посадочную полосу за окном. Мимо проехала одна из маленьких машинок, которые возят за собой тележки с багажом. Прошел мимо мужчина в комбинезоне, с противошумовыми наушниками на голове, в руках у него были эти штуки, похожие на теннисные ракетки, которыми подают сигналы самолету, показывая ему, куда рулить. Очередь двинулась вперед. Сердце колотилось и колотилось. Ладони вспотели. Хотелось поскорее усесться, хотелось сидеть и смотреть вниз с огромной высоты. Коротышка передо мной получил свой отрывной посадочный талон. Я протянул свой билет женщине в форме. Принимая его, она почему-то пристально посмотрела мне в лицо. Она была красива какой-то строгой красотой, черты лица были правильные, нос, пожалуй, немножко островат, губы узкие. Глаза – ясные и голубые, радужка с необычайно отчетливой темной каймой. Я несколько секунд смотрел на нее, затем опустил глаза. Она улыбнулась:
– Счастливого полета!
– Спасибо, – поблагодарил я и вслед за всеми прошел по закрытому, как туннель, телетрапу в самолет, там пассажиров встречала стюардесса, женщина средних лет, она кивнула, и я двинулся дальше по проходу в самый задний ряд. Закинув багаж и куртку на полку, я уселся на тесное сиденье, пристегнул ремень, вытянул ноги и откинулся на спинку.
Ну вот.
Метамысли, что я сижу в самолете и лечу хоронить отца, думая о том, что я лечу в самолете хоронить отца, внезапно стали множиться. Все, на что я смотрел, – лица и тела, которые медленно продвигались по салону и, уложив на полку багаж, рассаживались по креслам, укладывали багаж и рассаживались, укладывали и рассаживались, – тенью сопровождала рефлексия, которая непрестанно рассказывала мне, что вот я сижу и думаю о том, как я на это смотрю и т. д. ad absurdum, причем само присутствие этих теневых, а вернее, зеркальных мыслей предполагало осуждающее отношение к тому, что я чувствую ровно то, что чувствую, и не более. «Папа умер», – думал я, и перед глазами вставал его образ, словно мне необходима была иллюстрация к слову «папа», а я, сидящий в самолете и собравшийся лететь на его похороны, все так же холоден, думал я. Вот, думал я, две девочки лет десяти садятся на свои места, а вот через проход от них, в том же ряду, наверное, их родители, подумал я, что думаю, что я думаю, и так до бесконечности. Мысли проносились в голове со страшной скоростью, все перепуталось так, что не найти ни конца, ни начала. Меня замутило. Какая-то женщина стала укладывать чемодан на полку прямо над моей головой, сняла куртку и положила ее сверху. Встретившись со мной глазами, она улыбнулась дежурной улыбкой, села рядом со мной. Ей было лет сорок. Доброе лицо, теплый взгляд, черные волосы. Она была небольшого роста, пухленькая, но не толстая. На ней была брючная пара, то есть брюки и пиджак одинакового цвета. Как этот наряд называется у женщин? Брючный костюм? И белая блузка. Я смотрел прямо перед собой, но внимание мое было направлено не на то, что находилось впереди, а на то, что я воспринимал боковым зрением; мое «я» было сосредоточено на ней, я смотрел на нее. Кажется, у нее были в руках очки, я сразу не заметил. Она надела их, водрузив на кончик носа, и стала читать.
В ней есть что-то банковское, нет? Мягкость и белизна кожи, конечно, тут ни при чем. Интересно, ее бедра, словно бы растекшиеся внутри брюк, когда она села, – как бы они белели в ночных сумерках какого-нибудь гостиничного номера?
Я попытался проглотить комок, но во рту пересохло, и слюна не дошла до горла. Перед нашим рядом остановился новый пассажир, пожилой мужчина с землистым лицом, угрюмый и худой, в сером костюме, он сел с краю у прохода, не взглянув на нас с ней.
– Boarding completed, – произнес голос из динамика.
Я немного подался вперед, чтобы видеть небо над аэродромом. На западе в тучах показался просвет, и низкорослый лесок невдалеке, озарившись солнцем, вспыхнул яркой зеленью. Включились моторы. Стекло в иллюминаторе завибрировало. Женщина рядом со мной оторвалась от книги и, заложив пальцем страницу, устремила взгляд прямо перед собой.
Папа летать боялся. В детстве я только в таких случаях видел, чтобы он пил. Как правило, он избегал самолетов. Когда надо было куда-то ехать, мы отправлялись на машине, неважно, в какую даль, но изредка ему все-таки приходилось лететь, и тогда он накачивался без разбору тем, что находилось в кафе аэропорта. Избегал он, кроме самолетов, еще много чего другого, но я об этом как-то тогда не задумывался и не замечал, ведь то, что человек делает, как бы заслоняет собой то, чего он не делает, и то, чего папа не делал, в глаза не бросалось, тем более что ничего невротического в нем не было. Так, он никогда не ходил к парикмахеру, а всегда сам стриг себе волосы. Никогда не ездил на автобусе. Никогда не ходил в ближний магазин, а всегда в большой супермаркет на окраине города. Все эти ситуации были связаны с необходимостью вступать в контакт с другими людьми или просто показаться им на глаза, и хотя он был по профессии учителем, а значит, каждый день появлялся перед классом и разговаривал с учениками, регулярно проводил родительские собрания, он тем не менее старательно избегал таких ситуаций. Что в них было общего? Может, все они предполагали участие в некой случайным образом возникшей общности? Что он предстанет там в таком свете, который не может контролировать? Что в автобусе, в парикмахерском кресле, перед кассой супермаркета он чувствовал себя уязвимым? Вполне возможно, что так. Но когда я был с ним рядом, я не обращал на это внимания. Только много, много лет спустя я вдруг удивился, что никогда не видел папу в автобусе. Что он никогда не участвовал в родительских мероприятиях, связанных с нашими с Ингве занятиями по интересам, я тоже как-то не замечал. Однажды он присутствовал на вечере в честь окончания учебного года, сидел у стенки и смотрел оттуда пьесу, которую мы разучили. Я играл в ней главную роль, но, к сожалению, не выучил текста. После прошлогоднего успеха мной овладела детская самонадеянность: зачем это я буду зубрить все реплики, и так сойдет, думал я, но, когда вышел на сцену, у меня отчасти, наверное, оттого, что в зале присутствовал отец, все окончательно вылетело из головы, я не мог вспомнить ни строчки, и на протяжении всего длинного спектакля про город, главу которого я представлял, мне приходилось повторять то, что суфлировала учительница. В машине по дороге домой он сказал, что ему еще никогда не было так стыдно и что он никогда больше не придет ко мне на школьный вечер. И он сдержал свое обещание. Ни разу он не ездил со мной и на бесчисленные футбольные матчи, ни разу, в отличие от других родителей, не показывался в толпе болельщиков, когда мы играли на своем стадионе, но я и на это как-то не обращал внимания и не видел тут ничего особенного: такой уж он есть, мой отец, и другие отцы такие же, ведь дело было в конце семидесятых – начале восьмидесятых годов, а тогда отцовство предполагало, по крайней мере в практическом отношении, нечто менее содержательное, чем теперь.
Впрочем, однажды он меня видел.
Это было зимой, когда я учился в девятом классе. Он взялся подбросить меня до стадиона в Хьевике, у нас предстоял тренировочный матч с какой-то командой из внутренних областей Норвегии, а ему надо было дальше, в Кристиансанн. Мы ехали, как всегда, молча, он – положив одну руку на руль, локоть другой высунув в окно, я – сложа руки на коленях. Тут меня вдруг осенило, и я спросил его, не останется ли он посмотреть наш матч. Нет, не могу, сказал он, мне надо в Кристиансанн. Я так и думал, сказал я. В моем тоне не было никакой обиды, ни малейшего намека, что мне на самом деле хотелось бы, чтобы он посмотрел этот матч, не такой уж и важный, – простая констатация, что я так и думал. И вот в конце второго тайма я вдруг увидел его машину у боковой линии, за метровыми снежными сугробами. За лобовым стеклом смутно виднелась знакомая фигура. Когда до конца матча оставалось всего каких-то несколько минут, я получил прекрасный пас с края от Харалда, оставалось только подставить ногу, я так и сделал, но не правую, а левую, которой владел хуже, удар пришелся по мячу немного неточно, и мяч улетел мимо ворот. По дороге домой он это прокомментировал. «Ты упустил шанс, – сказал он. – А такой был шанс. Не думал, что ты не забьешь». – «Ну да, – сказал я. – Но мы же выиграли». – «С каким счетом?» – «Два – один», – сказал я, мельком взглянув на него: сейчас он спросит, кто забил два мяча. К счастью, он спросил. «А ты забил?» – спросил он. «Забил. Оба мяча».
Самолет остановился у взлетной полосы, моторы набрали обороты, и тут я, уткнувшись лбом в стекло иллюминатора, заплакал. Откуда ни возьмись вдруг хлынули слезы. Я сразу понял, что это идиотизм, сентиментальность, глупость. Но все было напрасно, я провалился во что-то мягкое, смутное и безграничное и не мог из него выбраться, пока самолет через несколько минут не оторвался от земли и, ревя моторами, не стал набирать высоту. Тут наконец мысли у меня прояснились, и, наклонив голову, я вытер глаза, оттянув ткань футболки большим и указательным пальцами, и сидел уставившись в окно, пока не почувствовал, что внимание соседки ко мне ослабло. Тогда я откинулся на спинку и закрыл глаза. Но это был не конец. Я чувствовал, что все только начинается.
Едва самолет набрал высоту и лег на горизонтальный курс, как уже снова повернул носом вниз и пошел на посадку. Стюардессы носились по проходу с сервировочными столиками, раздавая пассажирам кофе и чай. Ландшафт внизу, сначала в виде отдельных картинок, мелькавших сквозь разрывы в облаках, был суров и красив: зеленые острова, синее море, крутые горные склоны и белоснежные равнины, но постепенно, когда не стало облаков, он точно сгладился и поблек, сменившись вдруг обычным ругаланнским пейзажем. В душе у меня все пришло в движение. Хаотическим вихрем на меня нахлынули, казалось бы, забытые воспоминания, которые я пытался отогнать, поскольку мне совсем не хотелось без конца обливаться слезами и все время анализировать происходящее. Но куда там! Я ничего не мог с собой поделать. Я видел папу, как мы однажды ходили с ним на лыжах в Хуве, мы петляли среди деревьев в лесу, и в каждом просвете нам открывалось море, серое, тяжелое и могучее, причем запах моря, запах соли и водорослей, чувствовался постоянно, он как бы сопутствовал запаху снега и хвои; впереди, метрах в десяти от меня или в двадцати, – папа. Его не спасало ни новейшее снаряжение – лыжи «Сплиткейн», крепления «Ротефелла», – ни синий анорак, ходить на лыжах он все равно не умел, а ковылял на них, точно старичок; лыжи у него не желали скользить и не мчали его вперед, и мне совсем не хотелось, чтобы меня ассоциировали с этой беспомощной фигурой, поэтому я всегда держался от него на некоторой дистанции, воображая невесть что о себе и собственном стиле катания, который, несомненно, когда-нибудь принесет мне невиданный успех. Одним словом, я его стыдился. Тогда я, конечно, и не догадывался, что он купил все это лыжное снаряжение и выехал со мной на окраину Трумёйи, чтобы стать ближе ко мне, но сейчас, сидя с закрытыми глазами и притворяясь, что сплю, я, слушая, как по громкой связи пассажиров просят пристегнуть ремни и поднять спинки кресел, почувствовал, как мысль об этом вызывает у меня новый приступ слез. Я снова наклонился и прислонился к борту, чтобы укрыться от посторонних глаз, но уже без особой надежды, понимая, что мои спутники еще при отлете наверняка заметили, что оказались рядом с плачущим молодым человеком. Горло саднило, и я уже ничего не контролировал, раскис, как кисель, но не то чтобы раскрылся настежь, навстречу внешнему миру, его я почти не замечал, а навстречу тому, что внутри, где сейчас властвовали чувства. Единственное, на что я был способен ради спасения последних остатков самоуважения, – это не издавать никаких звуков. Ни всхлипа, ни вздоха, ни жалобы, ни стона. Только слезы текли градом и лицо перекашивалось всякий раз, как сознание того, что папа умер, достигало очередного пика.
О-о… О-о…
И вдруг наступило просветление, словно развеялся мягкий и смутный туман, который заполнял мою душу последние пятнадцать минут, он схлынул, как отлив, и, ощутив эту дистанцию, я не смог удержаться от смеха.
– Хе-хе-хе! – вырвалось у меня.
Я поднял руку и рукавом протер глаза. Мысль о том, что сидящая рядом женщина видела, как я только что плакал и мое лицо то и дело искажалось гримасой, а теперь вдруг слышит, как я смеюсь, вызвала у меня новый приступ хохота:
– Хе-хе-хе. Хе-хе-хе.
Я посмотрел на нее. Ее взгляд не дрогнул и по-прежнему упирался в книгу. Позади на маленьких откидных сиденьях устроились две стюардессы и пристегнулись ремнями безопасности. За иллюминатором было зелено и светило солнце. Тень самолета, мчавшаяся за нами вдогонку по земле, все приближалась и приближалась, пока, словно пойманная на удочку рыба, не очутилась у него под брюхом, как только колеса шасси коснулись земли, и оставалась там, как привязанная, все время торможения и рулежки.
Люди вокруг начали вставать. Я полной грудью вдохнул воздух. Мной овладело чувство ясности. Я ощущал не радость, но облегчение, как бывает, когда гнетущая тяжесть наконец отпустит. Соседка с книгой, название которой я увидел только сейчас, когда она ее захлопнула, поднялась с сиденья, держа ее в руке, и привстала в проходе на цыпочки, чтобы достать с багажной полки свои вещи. Оказывается, она читала «Женщину и обезьяну» Петера Хёга. Я ее тоже читал. Замысел хороший, исполнение – слабое. Завел бы я с ней разговор об этой книжке в нормальных обстоятельствах? Если бы это вот так же само напрашивалось? Нет, не завел бы, но сидел бы и думал, что надо бы завести с ней разговор. А я вообще когда-нибудь заводил разговор с незнакомым человеком?
Нет, никогда.
И ничто не указывало на то, что когда-нибудь я это сделаю.
Я наклонился, чтобы посмотреть в окно на пыльный асфальт внизу, как сделал однажды двадцать лет назад с отчетливым намерением навсегда запомнить то, что вижу. Это было, как и сейчас, на борту самолета на аэродроме Сула, только тогда я летел не в Берген, а из Бергена – к бабушке и дедушке, маминым родителям – в Сёрбёвог. Каждый раз, путешествуя самолетом, я вспоминал то, что нарочно тогда решил запомнить. Сначала этим воспоминанием открывался роман, который я только что наконец завершил, сейчас он лежал в чемодане в багажном отсеке у меня под ногами в виде шестисотсорокастраничной верстки, которую мне предстояло просмотреть в течение недели.
По крайней мере, хоть что-то хорошее.
Радовала также и предстоящая встреча с Ингве. После того как он переехал из Бергена сначала в Балестранн, где повстречался с Кари Анной, с которой они родили первого ребенка, а затем в Ставангер, где родился второй, отношения между нами изменились, он перестал для меня быть тем, к кому можно заскочить от нечего делать, сходить вместе в кафе или на концерт, теперь я приезжал к нему погостить на несколько дней, погружаясь в то, что называется семейной жизнью. Но мне это нравилось, я всегда любил ночевать в семейных домах, где тебе отводят отдельную комнату со свежезастленной кроватью, полную чужих вещей, с заботливо выложенным на видном месте полотенцем, и затем окунаться в чужую семейную жизнь, невзирая на то, что, у кого бы я ни гостил, я всегда испытывал некоторую неловкость, потому что, как бы ни старались люди не показывать при гостях, что в семье существую какие-то трения, напряжение все равно ощущается, и ты не знаешь, вызвано ли оно твоим присутствием или существует и без тебя, а твое присутствие, напротив, его как-то сглаживает. Тут возможен, конечно, и третий вариант: что кажущаяся натянутость объясняется твоей собственной напряженностью и существует только у тебя в голове.
Проход между рядами почти опустел, я встал, взял свою сумку и куртку и двинулся вперед, в сторону кабины, а оттуда в коридор, ведущий в зал прилетов; он был невелик, но неудобен для обзора из-за бесчисленных выходов, киосков и кафе, меж которых туда и сюда сновали люди, останавливались, сидели, закусывали, читали газеты. Ингве я бы узнал с первого взгляда в любой толпе, для этого мне даже не надо было видеть его лицо, достаточно затылка или плеча, а то и их не нужно, потому что на тех, с кем ты вместе рос, кто был рядом с тобой в том возрасте, когда формируется или начинает проявляться характер, твое восприятие настроено особенным образом: ты воспринимаешь этих людей непосредственно, не задумываясь, без участия рассудка. Все, что ты знаешь о брате, ты знаешь интуитивно. Я никогда не знал, что́ Ингве думает, не всегда – почему он поступает так или иначе, и, кажется, мало когда разделял его взгляды, я мог о них только догадываться, так что в этом отношении он был для меня таким же незнакомцем, как все прочие.
Зато я знал язык его тела, его мимику, его запахи, все оттенки его интонации, а главное, откуда что идет. Объяснить все это словами я бы не смог, ведь рассудок не имел к этому отношения, но в этом была основа всего остального. Поэтому мне не пришлось обводить взглядом столики в пиццерии, разглядывать лица людей, сидящих на стульях перед выходами или проходящих по залу, потому что, едва войдя в дверь, я уже знал, где Ингве. Я сразу посмотрел в сторону фасада псевдостаринного псевдоирландского паба. Только глянул, и вот он стоит, скрестив на груди руки, одетый в зеленые, но не военного покроя брюки, белую футболку с принтом Sonic Youth Goo, голубую джинсовую куртку и коричневые кроссовки «Пума». Меня он еще не обнаружил. Я смотрел на его лицо, знакомое как ни одно другое. Папины высокие скулы и чуть искривленные губы, но форма лица была другая, а глаза и брови скорее походили на мамины и мои.
Он повернул голову и посмотрел на меня. Я хотел улыбнуться, но губы мои дернулись, на меня с непреодолимым напором нахлынули недавние чувства и прорвались всхлипом. Я заплакал. Поднял было руки, чтобы прижать к лицу, но тут же опустил, лицо снова скривилось. Никогда не забуду взгляда, каким на меня посмотрел Ингве. Он смотрел на меня с изумлением. Без осуждения, скорее казалось, что он увидел что-то непонятное, что-то, чего не ожидал и к чему был совершенно не готов.
– Здравствуй, – произнес я сквозь слезы.
– Здравствуй, – сказал он. – Я на машине. Пошли, что ли? Я кивнул и пошел вслед за ним. Мы спустились по лестнице и, пройдя через зал, вышли на парковку. То ли, когда мы вышли из закрытого помещения, подействовала особая свежесть вестланнского воздуха, которая ощущается в любую жару, то ли под впечатлением открывшегося перед нами простора, не знаю, – но, только когда мы подошли к машине и Ингве, теперь уже в солнечных очках, протянул руку, чтобы вставить ключ в зажигание, меня снова отпустило.
– Это что – весь твой багаж? – спросил он, кивая на мою сумку.
– Ой, черт! Сейчас я за ним сбегаю.
Ингве и Кари Анна жили в Стурхауге, немного в стороне от центра Ставангера, в конце ряда домов, где по другую сторону была дорога, а за ней на несколько сот метров, до самого фьорда, тянулся лес. Поблизости было садоводство, а за ним, в другом жилом районе, жил Асбьёрн, старый друг Ингве, с которым они недавно открыли дизайнерскую фирму. Их офис находился на чердаке, там стояло все оборудование, которое они закупили и теперь начали осваивать. Ни тот ни другой не имели профессиональной подготовки, не считая того, чему их научили на отделении средств массовой информации в Бергенском университете, не было у них и сколько-нибудь значимых связей в этой сфере. Но тем не менее они, засев за мощные «маки», работали над немногочисленными заказами, которые им удалось заполучить. Плакат ко Дню Хундвогена, несколько буклетов и рекламных листков – ничего больше пока у них не набралось. Они поставили на карту все, и что касается Ингве, я его понимаю: после окончания университета он несколько лет проработал в муниципалитете Балестранна в отделе культуры, а это совсем не такое место, которое открывает перед тобой все дороги. То, что они затеяли, было довольно рискованным предприятием; единственное, на что они могли опереться, – это на собственный безошибочный вкус, хорошо отточенный благодаря двадцати годам знакомства с самыми разнообразными явлениями поп-культуры, – от фильмов и обложек пластинок до одежды и мелодий, журналов и фотоальбомов, начиная с никому не известных и кончая самыми коммерческими, – причем неизменно с установкой на отсев качественного от некачественного, будь то старые вещи или новинки. Однажды мы как-то были у Асбьёрна и три дня пили, и тогда Ингве дал нам послушать Pixies, в то время еще совсем новую и малоизвестную американскую группу. Асбьёрн валялся на диване и хохотал от восторга – так ему понравилось то, что он услышал. «До чего здорово! – восклицал он, перекрикивая громкую музыку. – Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ну как здорово!» Когда я в девятнадцать лет переехал в Берген, они с Ингве в первые же дни навестили меня в моей студенческой квартире и беспощадно забраковали портрет Джона Леннона, который я повесил над письменным столом, и постер с хлебным полем, где на переднем плане так ярко и чудесно зеленела узкая полоска травы, и афишу фильма «Миссия» с Джереми Айронсом. Все это никуда не годилось. Портрет Джона Леннона был данью последним годам моей учебы в гимназии, где мы с еще тремя учениками обсуждали литературу и политику, слушали музыку, смотрели фильмы, пили вино, хвалили все содержательное и отвергали все поверхностное, так что Леннон висел у меня тогда на стене как апостол серьезности и глубины, несмотря на то что я с самого детства больше любил сладостнейшего Маккартни. Но тут битлы вообще не котировались, ни при каких условиях, так что очень скоро портрет Леннона был снят. Но безошибочность вкуса проявлялась не только в отношении поп-культуры; Томаса Бернхарда мне впервые посоветовал прочитать именно Асбьёрн, который прочитал «Бетон» еще в серии «Vita» издательства «Гюльдендал», где роман вышел за десять лет до того, как о его авторе заговорили все любители литературы в Норвегии, но я тогда, помнится, совершенно не разделял восхищения Асбьёрна этим австрийцем и только через десять лет, вместе с другими литераторами Норвегии, понял, что он великий писатель. Асбьёрн был одарен особенным чутьем, я никогда не встречал человека с таким безошибочным вкусом, как у него, но на что было употребить этот дар, кроме того, вокруг чего вращается вся жизнь студента? Суть чутья в том, что оно порождает суждение. Для того чтобы выработать суждение, нужно видеть вещь со стороны, а это не творческий подход. Для Ингве скорее было характерно противоположное, он был гитаристом в рок-группе, сочинял собственные мелодии и воспринимал музыку изнутри, вдобавок к этому он обладал академическими навыками анализа, которыми Асбьёрн владел не до такой степени, во всяком случае, пользовался ими реже. Так что графический дизайн стал для них во многих отношениях идеальным выбором.
Мой роман оказался принят издательством примерно в то же время, как они открыли фирму, и было бы странно не предложить им взяться за оформление обложки, тем самым открыв им дверь в книжный мир. Издательство, разумеется, смотрело на дело иначе. Их редактор Гейр Гюлликсен сказал, что свяжется с дизайнерским бюро, но спросил, нет ли у меня своих соображений насчет обложки. Я сказал, что хотел бы, чтобы обложку оформил мой брат.
– Ваш брат? А он дизайнер?
– Ну, можно сказать. Начинающий. Он открыл фирму на пару со своим товарищем из Ставангера. Они талантливые, уверяю вас.
– Сделаем так, – сказал Гейр Гюлликсен. – Они предложат эскиз, а мы посмотрим. Если получится хорошо, то пожалуйста, никаких проблем.
Так мы и поступили. В июне я поехал к ним и привез с собой книжку о космических полетах издания пятидесятых годов, она принадлежала папе, и в ней было множество рисунков в оптимистическом стиле пятидесятых. Я же предложил цвет обложки, сливочно-белый, как у книги Стефана Цвейга «Вчерашний мир». Затем Ингве раздобыл два изображения цеппелинов, которые, как мне казалось, подойдут к этой книге. И вот они в самый разгар летнего зноя засели у себя на чердаке на новеньких офисных стульях и принялись за работу, а я, устроившись в кресле у них за спиной, следил за процессом. По вечерам мы пили пиво и смотрели чемпионат мира по футболу. Я был в радужном и оптимистическом настроении, мною владело чувство, что один период жизни завершился и начался новый. Тонья только что окончила университет и получила работу на телеканале «НРК-Хордаланн», у меня вот-вот должен был выйти дебютный роман, мы только что переехали в свою первую квартиру в Бергене, городе, где мы с ней познакомились, Ингве и Асбьёрн, которые все годы моего студенчества были рядом со мной, впервые открыли собственную фирму, и их первой настоящей работой стала обложка для моей книги. Повсюду открывались новые перспективы, все звало в будущее, и такое, кажется, было в моей жизни впервые.
Эти дни дали хорошие результаты, мы смогли предложить шесть-семь вариантов обложки, я был доволен, но они хотели попробовать и что-то совершенно другое. Асбьёрн принес целый мешок американских журналов, посвященных фотографии, и мы их все просмотрели. Он показал мне несколько фотографий Джока Стёрджеса, это было что-то необыкновенное, ничего подобного я еще никогда не встречал, и мы выбрали одну, с длинноногой девочкой лет тринадцати, она стояла, обнаженная, у воды спиной к зрителю. Фото было красиво, но провокативно, невинно и в то же время рискованно, и при этом – эталонного качества. В другом журнале нам попалась реклама, где надпись на белом фоне была заключена в две синие ячейки, и мы решили стибрить идею, только выполнить в красном цвете, и через полчаса обложка у Ингве была готова. В издательство отправили пять вариантов, но лучшим, несомненно, был вариант со снимком Стёрджеса, и через несколько месяцев книга вышла с девочкой на обложке. Это грозило проблемами, вокруг Стёрджеса было много шума и споров, я читал, что в его доме побывали с обыском агенты ФБР и все там перевернули вверх дном, а когда я набирал его имя в интернете, то всякий раз всплывали ссылки на детское порно. В то же время ни один фотограф, включая и Салли Манн, не умел, на мой взгляд, так замечательно передать богатый мир детства. В общем, я был рад тому, что получилось. И тому, что сделали это Ингве и Асбьёрн.
В этот странный пятничный вечер по дороге в город из Сулы мы мало о чем говорили. Немного о практической стороне самих похорон, в чем ни у меня, ни у Ингве не было тогда еще никакого опыта. В лучах заходящего солнца крыши домов, мимо которых мы проезжали, горели огнем. Небо тут было высокое, вокруг лежала зеленая плоская равнина, и раскинувшийся перед глазами простор рождал у меня ощущение безлюдья, заполнить которое не смогло бы никакое скопище народа. Человечки, возникавшие под навесом автобусной остановки, и велосипедисты, пригнувшиеся к рулю, трактора в поле, покупатели, выходящие с автозаправки с хот-догом и бутылкой пива в руках, казались здесь совсем маленькими. Безлюдно было и в городе, улицы лежали пустынные, день закончился, а вечер еще не наступил.
В стереомагнитоле у Ингве пела Бьёрк. За окном все реже попадались магазины и учреждения, все больше становилось жилых домов. Маленькие садики, ручейки, плодовые деревья, дети на велосипедах, дети, прыгающие через скакалку.
– Сам не знаю, почему я вдруг разревелся, – сказал я. – Но, когда увидел тебя, что-то на меня накатило. До меня внезапно дошло, что он умер.
– Да… – сказал Ингве. – Я еще не знаю, дошло до меня или нет.
Он сбавил скорость на повороте, начался последний подъем. Справа была детская площадка. На скамейке сидели две девочки, кажется с картами в руках. Чуть выше, по другую сторону дороги, я увидел сад, в глубине которого стоял дом Ингве. Там никого не было, но раздвижная дверь в гостиную стояла открытая.
– Ну, вот и приехали, – сказал Ингве, осторожно въезжая в гараж.
– Я не буду вынимать чемодан, – сказал я. – Нам же завтра ехать дальше.
Входная дверь отворилась, и Кари Анна вышла с Турье на руках, рядом, держась за ее ногу, стояла Ильва и смотрела, как я, захлопнув дверцу, иду к ним. Кари Анна обняла меня, прикоснувшись щекой к щеке, я поцеловал ее, потрепал по волосам Ильву.
– Очень печальная новость про вашего отца, – сказала она. – Прими мои соболезнования.
– Спасибо, – сказал я. – Хотя нельзя сказать, чтобы это стало большой неожиданностью.
Ингве захлопнул багажник и подошел к нам с пластиковыми пакетами в обеих руках. Как видно, заезжал в магазин по пути к аэропорту.
– Пойдем в дом? – спросила Кари Анна.
Я кивнул и направился вслед за ней в гостиную.
– М-м, пахнет вкусно.
– Приготовила, что всегда, – сказала она. – Спагетти с ветчиной и брокколи.
Все так же держа на одной руке Турье, она свободной рукой передвинула кастрюлю с конфорки, выключила ее, нагнулась и достала из шкафа дуршлаг; в это время в кухню вошел Ингве, поставил на пол пакеты и принялся разбирать купленные продукты. Голенькая Ильва в одном подгузнике неподвижно стояла посреди комнаты, глядя то на родителей, то на меня. Затем вдруг подбежала к кукольной кроватке, стоявшей возле книжной полки, схватила с нее куклу и подбежала ко мне, протягивая свою игрушку.
– Какая у тебя хорошенькая куколка, – сказал я, присев перед ней на корточки. – Можно посмотреть?
Она крепко прижала куклу к груди и с решительным выражением повернулась ко мне боком.
– Ну, что же ты! Надо показать куклу Карлу Уве, – сказала Кари Анна.
Я выпрямился.
– Я выйду на минутку покурить, – сказал я.
– Я с тобой, – сказал Ингве, – вот только сперва тут закончу.
Я вышел в раскрытую дверь на веранду, прикрыл ее за собой и сел на один из белых пластиковых стульев, стоявших на каменной отмостке. По всей лужайке валялись раскиданные игрушки, на другом конце возле живой изгороди стоял пластиковый бассейн, наполненный водой, в которой плавали травинки и насекомые. Две клюшки для гольфа стояли прислоненные к наружной стене, рядом лежали две ракетки для бадминтона и футбольный мяч. Я вынул из внутреннего кармана сигареты, запрокинул голову. Солнце скрылось за облаком, и только что светившаяся всеми оттенками яркой зелени трава сделалась вдруг серой и тусклой, точно безжизненной. В соседнем саду тарахтела ручная газонокосилка, которой водили туда-сюда. Из дома доносилось звяканье тарелок и столовых приборов.
О, как мне тут было хорошо!
У нас в квартире все было наше, там не ощущалось дистанции: когда тосковал я, тосковала и квартира. Здесь же эта дистанция чувствовалась, вся обстановка не имела со мной ничего общего, ей не было до меня дела, и потому часть тоски она вбирала в себя.
За спиной у меня скрипнула дверь. Это вышел Ингве. В руке он держал чашку кофе.
– Тонья велела передать вам привет, – сказал я.
– Спасибо, – сказал Ингве. – Как она поживает?
– Все хорошо. В понедельник вышла на новую работу. В среду прошел ее репортаж в новостях. Про аварию с человеческими жертвами.
– Ты уже говорил, – сказал он, усаживаясь.
Что это он? Обиделся, что ли?
Некоторое время мы сидели молча. Высоко в небе над блочными домами слева от нас пролетел вертолет. Звук вращающихся лопастей доносился издалека, совсем глухо. Девочки с детской площадки перешли через дорогу. Из сада внизу кого-то окликнули. Мне послышалось имя Бьёрнар.
Ингве достал сигарету и закурил.
– Ты что, стал играть в гольф? – спросил я.
Он кивнул:
– Попробовал бы тоже. У тебя наверняка получится. Ты долговязый, к тому же играл в футбол, у тебя есть инстинкт побеждать. Хочешь разок-другой погонять? У меня там где-то валяются легкие тренировочные мячи.
– Прямо сейчас? Да нет что-то.
– Это была шутка, Карл Уве, – сказал Ингве.
– Чтобы я начал играть в гольф или чтобы попробовал прямо сейчас?
– Чтобы прямо сейчас.
Сосед, остановившийся возле живой изгороди, разделявшей оба сада, выпрямился и провел ладонью по вспотевшей лысине. На террасе сидела в кресле женщина в белых шортах и белой майке и читала газету.
– Ты что-нибудь знаешь, как там бабушка? – спросил я.
– Вообще-то нет, но это же она нашла его. Так что, надо думать, неважно.
– В гостиной, кажется?
– Да, – ответил он, загасил в пепельнице сигарету и поднялся. – Пойдем, что ли, в дом, поедим?
Наутро я проснулся оттого, что на площадке возле лестницы заходилась криком Ильва. Я приподнялся с подушки и поднял жалюзи, чтобы посмотреть, который час. Половина шестого. Вздохнув, я снова лег на подушку. Комната, в которой я спал, была забита не разобранными после переезда ящиками с одеждой и другими вещами, которые еще не обрели своего постоянного места в доме. У одной стенки стояла гладильная доска, заваленная сложенными вещами, рядом азиатского вида ширма, временно прислоненная к стене. Из-за двери слышались голоса Ингве и Кари Анны, затем их шаги по старинной деревянной лестнице. Внизу заговорило радио. Мы условились выехать в семь, тогда к одиннадцати будем в Кристиансанне, но ничто не мешает нам выехать и пораньше, подумал я, спустил ноги на пол, надел брюки и майку, наклонив голову, провел рукой по волосам и заглянул в зеркало на стене. На лице не заметно было никаких следов вчерашних переживаний; я просто выглядел усталым. Значит, все начинать сначала. Потому что в душе вчерашний день тоже не оставил следа. Чувства – как вода, их форму задает окружение. Даже самое большое горе не оставляет следов; когда оно кажется непомерным и длится так долго, это не потому, что чувства затвердели, – такого с ними не бывает, – а просто они замерли в неподвижности, как стоячая вода в лесном бочаге.
На хрен, к чертовой матери, подумал я. Эти слова выскакивали у меня в мыслях автоматически. Иногда вместо них: «На хрен, к чертям собачьим». Время от времени они неожиданно вспыхивали в сознании, и удержаться от них было невозможно, да и с какой стати их удерживать, никому же от них ни жарко ни холодно! Бред какой-то, подумал я и открыл дверь. Оказавшись прямо на пороге их спальни, я опустил глаза – там были вещи, о которых я не желал ничего знать, – раздвинул деревянную решетку и, спустившись по лестнице, вошел в кухню. Ильва сидела в своих ходунках с бутербродом, перед ней стоял стакан молока. Ингве у плиты жарил яичницу, а Кари Анна курсировала между столом и буфетом, накрывая стол к завтраку. На кофеварке светилась лампочка. Из фильтра в полную колбу докапывали последние капли коричневого напитка. Гудела вытяжка, яичница на сковородке шипела и шкварчала, по радио звучал джингл «Дорожных новостей».
– Доброе утро, – сказал я.
– Доброе утро, – сказала Кари Анна.
– Привет, – сказал Ингве.
– Карл Уве, – сказала Ильва, ткнув пальчиком на стул напротив себя.
– Мне сесть тут? – спросил я.
Она кивнула, старательно наклонив голову, я выдвинул стул и сел. Она походила на Ингве, у нее были его нос и глаза, и смотрели они удивительно похоже. Тело еще хранило остатки младенческой пухлости, ножки, ручки и все остальное было округлым и мягким, и, когда она морщила лобик и в глазах появлялось выражение в точности как у Ингве, смотреть на это без улыбки было невозможно. Ее это не делало старше, зато его делало моложе, ты вдруг видел, что какая-то характерная особенность его мимики появилась не в результате жизненного опыта, зрелости и нажитой мудрости, а была свойственна ему изначально и оставалась неизменной, независимой от его лица, с тех пор как оно сформировалось когда-то в начале шестидесятых годов.
Ингве лопаточкой снял со сковородки поджаренные яйца, выложил одно за другим на широкую тарелку, поставил ее на стол рядом с хлебницей, затем взял колбу и налил три чашки кофе. Я привык пить на завтрак чай и делал так с четырнадцати лет, но не решился напомнить об этом; я взял ломтик хлеба и лопаточкой, которую Ингве оставил на краю тарелки, положил на него яичницу.
Я обвел взглядом стол, но солонки не обнаружил.
– А соли нет? – спросил я.
– Вот, – сказала Кари Анна и протянула мне ее через стол.
– Спасибо, – поблагодарил я, откинул крышечку пластиковой солонки и стал смотреть, как крошечные крупинки погружались в желток, проникая сквозь поверхность внутрь, в то время как масло снизу растекалось, впитываясь в хлеб.
– А где же Турье? – спросил я.
– Наверху в спальне, еще спит, – сказала Кари Анна.
Я надкусил бутерброд. Яичный белок был снизу поджаристым, крупные коричневые хлопья похрустывали на зубах.
– Он все еще подолгу спит? – спросил я.
– Ну… Часов шестнадцать в сутки, наверное? Я даже не знаю. А как по-твоему? – спросила она у Ингве.
– Не имею понятия.
Я откусил часть желтка, и он теплой массой разлился во рту. Запил глотком кофе.
– Как же он испугался, когда Норвегия забила гол! – вспомнил я.
Кари Анна улыбнулась. Мы здесь у них смотрели второй матч чемпионата мира, а Турье спал в колыбельке в другом конце комнаты. Когда замолк поднятый нами ор, из колыбельки послышался пронзительный крик.
– Обидно как получилось с Италией, – сказал Ингве. – Мы с тобой об этом уже говорили?
– Нет, – сказал я. – Но они знали, что делали. Стоило только отдать мяч Норвегии, и все бы посыпалось.
– Еще и выдохлись, наверное, после игры с бразильцами, – сказал Ингве.
– И я тоже, – сказал я. – Видеть, как они бьют пенальти, – в жизни не помню ничего хуже этого! Я едва высидел перед экраном.
Этот матч я смотрел в Молде, у отца Тоньи. Как только он кончился, я сразу позвонил Ингве. Мы оба чуть не плакали. За нашими сиплыми голосами стояло все детство, прожитое при безнадежной национальной сборной. Потом мы с Тоньей пошли в центр; все дороги в городе были забиты гудящими машинами и людьми, размахивающими флажками. Незнакомые люди обнимались на улице, со всех сторон неслись песни и крики, народ носился как очумелый: Норвегия победила Бразилию в решающем матче чемпионата мира, и никто не знал, как долго все продолжится в том же духе. А вдруг до самого финала?
Ильва слезла со стула и потянула меня за руку.
– Пойдем, – сказала она.
– Карл Уве еще не покушал, – сказала Кари Анна. – Подожди, Ильва. Потом.
– Нет, ничего, – сказал я и пошел с ней.
Она притащила меня к дивану, взяла со стола книжку и уселась. Ее ножки даже не доставали до его края.
– Тебе почитать? – спросил я.
Она кивнула. Я сел рядом и открыл книжку. В ней рассказывалось про гусеницу, которая ела все, что ни попадется. Когда я дочитал до конца, Ильва подползла к столу и взяла другую. Эта книжка была про мышонка Фредрика, который, в отличие от других мышей, не запасал летом еду, а любил помечтать. Его осуждали, называли лентяем, но когда настала зимняя стужа и все вокруг стало белым-бело, то один только этот мышонок скрашивал и наполнял светом их жизнь. Вот какие запасы он собрал, а сейчас им так нужны были свет и краски.
Ильва замерла, прижавшись ко мне, и сосредоточенно глядела на страницы, время от времени тыкала во что-нибудь пальчиком и говорила, как это называется. С ней было хорошо сидеть, но в то же время скучновато. Мне больше хотелось посидеть на веранде с сигаретой и чашкой кофе.
На последней странице Фредрик уже выступал как смущенный герой и всеобщий спаситель.
– Очень славно и поучительно! – сказал я Ингве и Кари Анне, дочитав книжку.
– Эта книжка была у нас в детстве, – сказал Ингве. – Неужели не помнишь?
– Смутно, – соврал я. – Это та самая?
– Нет, та хранится у мамы.
Ильва уже снова отправилась к стопке детских книжек. Я встал и взял с кухонного стола чашку.
– У тебя есть кофе? – спросила Кари Анна.
Она уже вышла из-за стола и сейчас собиралась сунуть свою тарелку в посудомоечную машину.
– Да, – сказал я. – Спасибо за завтрак.
Я повернулся к Ингве:
– Когда мы выезжаем?
– Сперва мне надо принять душ. И собрать кое-какие вещи. Если через полчаса?
– Окей, – сказал я.
Ильва смирилась с тем, что чтение книг на сегодня закончилось, и вышла в коридор, сейчас она сидела там, примеряя мои ботинки. Я раздвинул дверь и вышел на веранду. Было пасмурно и тепло. Стулья покрылись капельками росы, я обтер их ладонью, прежде чем сесть. Так рано я еще никогда не вставал, обычно утро у меня начиналось часов в одиннадцать-двенадцать, если не в час, и теперь все, что воспринимали мои чувства, напоминало мне летние утра моего детства, когда я в половине седьмого отправлялся на велосипеде на работу к садовнику. В небе обычно висела дымка, дорога, по которой я ехал, казалась безлюдной и серой, встречный ветер обдавал холодком, и невозможно было даже представить себе, что к полудню на поле, на котором мы гнули спину, будет стоять такое знойное пекло, что в обеденный перерыв мы помчимся сломя голову на велосипедах на озеро Йерстадванн, чтобы успеть до начала работы разок окунуться.
Я отпил кофе и закурил. Нельзя сказать, чтобы я наслаждался вкусом кофе или затяжкой табачного дыма, я едва ощущал их, но вся соль была в том, чтобы произвести эти действия, – они стали ритуалом и, как во всяком ритуале, главным тут было соблюсти форму.
Как же я ненавидел сигаретный дым в детстве! Поездки в машине на заднем сиденье, где было жарко как в печке, с двумя дымящими как паровоз родителями на передних местах. Дым, который по утрам просачивался ко мне в комнату из кухни; пока я к нему не привык, он заползал мне, сонному, в ноздри, и я вздрагивал от отвращения, и так было каждый день, пока я сам не начал курить и стал к нему нечувствительным.
Не считая дыма папиной трубки.
Когда же он начал ее курить?
Сначала долгая возня с выковыриванием и вытряхиванием старого, дочерна перегоревшего табака из трубки при помощи особых гибких ершиков, затем набивка новым табаком и раскуривание: зажечь спичку, опустить над трубкой и «пых-пых», новая спичка и снова «пых-пых», затем откинуться в кресле, усесться нога на ногу и курить трубку. Почему-то у меня это связывалось с периодом, когда он увлекся вылазками на природу. Вязаные свитера, анораки, сапоги, борода, трубка. Долгие походы по диким местам за ягодами на зиму, иногда в горы за морошкой – царицей всех ягод, но чаще – в лес, оставив машину на дороге, с грабилкой в одной руке, ведерком – в другой, высматривая черничники и брусничники. Привалы на отведенных для этого местах где-нибудь у реки или на возвышенности, откуда открывается широкий обзор. Иногда на склоне горы над рекой, иногда на бревне посреди соснового бора. Завидев малинник, тормозим, и вперед с ведрами наперевес, потому что это Норвегия семидесятых, когда за придорожной малиной отправлялись целыми семьями, уложив в багажник вместительные прямоугольные пластиковые сумки-холодильники с провизией. Еще он тогда рыбачил, отправлялся на взморье с другой стороны острова – либо один после занятий, либо в выходные дни вместе с нами – ловить треску, которая зимой косяками собиралась у наших берегов. 1974, 1975. Хотя никто из моих родителей не участвовал в движении шестьдесят восьмого года, поскольку они уже в двадцать лет обзавелись детьми и с тех пор все время работали, да и идеологически отцу оно было чуждо, он в некоторой степени испытал на себе влияние духа времени, этот дух жил и в нем, так что, глядя, как он сидит с трубкой, бородатый, и если не длинноволосый, то все же с густой шевелюрой, в вязаном свитере и расклешенных джинсах, с улыбкой в светлых глазах, его, пожалуй, можно было принять за одного из тех папочек-лапочек, которые начали появляться как раз тогда – отцов, готовых выйти на улицу с детской коляской, перепеленывать младенцев, играть на полу с детьми. Между тем ничего подобного за ним не водилось. Единственное, что у него было с ними общего, – это трубка.
Ах, папа, неужели тебя больше нет?
Из открытого окна на втором этаже вдруг послышался плач. Я обернулся. На кухне Кари Анна, выгружавшая посуду из моечной машины, поставила на рабочий стол два только что вынутых стакана и бегом поспешила к лестнице. Ильва, катавшая на игрушечном грузовичке куклу, засеменила ей вслед. Тотчас же сверху послышался голос Кари Анны, утешавшей Турье, и плач постепенно смолк. Я встал, открыл дверь и вошел в дом. Ильва стояла перед решеткой у лестницы и глядела наверх. В стене потихоньку гудели трубы.
– Покатать тебя? – спросил я.
– Покатать! – сказала она.
Я нагнулся, подсадил ее себе на плечи и, держа за ножки, побегал с ней из кухни в гостиную и обратно, изображая лошадиное ржание. Она смеялась, а когда я в первый раз наклонился, делая вид, что сейчас ее сброшу, завизжала от страха. Через несколько минут я почувствовал, что с меня уже хватит, но для порядка пробежался еще несколько раз, прежде чем, присев на корточки, спустил ее на пол.
– Еще! – потребовала она.
– В другой раз, – сказал я и посмотрел в окно, там в конце улицы из-за угла вывернул автобус и подъехал к остановке, чтобы забрать горстку пассажиров, отправлявшихся на работу из многоквартирных домов.
– Сейчас! – потребовала Ильва.
Я посмотрел на нее и улыбнулся:
– Так и быть. Еще разок.
Я снова посадил ее к себе на плечи, пробежался взад и вперед, остановился и, заржав, сделал вид, что сейчас скину ее. К счастью, тут сверху спустился Ингве, так что игра сама собой прекратилась.
– Ты готов? – спросил он.
– Готов, – ответил я.
– А Кари Анна – наверху, что ли?
– Да. Турье проснулся.
– Вот только покурю, и пойдем, – сказал Ингве. – А ты пока присмотришь за Ильвой?
Я кивнул. По счастью, она как будто сама чем-то занялась, так что я мог плюхнуться на диван и полистать журналы. Но реклама новых дисков и интервью с различными группами как-то не могли занять мое внимание, так что я отложил журналы и взял в руки его гитару, стоявшую на штативе рядом с диваном перед усилителем и стеллажом с долгоиграющими пластинками. Это был черный «Фендер Телекастер», сравнительно новый, тогда как ламповый усилитель был старый, марки «Мьюзик Мен». Вдобавок к этой у него еще была хагстрёмовская гитара, но та стояла наверху, в офисе. Не думая, я взял несколько аккордов, это было вступление к «Space Oddity» Дэвида Боуи, и я начал тихонько себе подпевать. Теперь у меня больше не было гитары, за все эти годы я только и научился что самым простым приемам, на которые у четырнадцатилетнего подростка со средними способностями ушел бы от силы месяц, но ударные, стоившие мне дорогих судебных исков, все еще стояли на чердаке, и теперь, когда мы снова оказались в Бергене, они, возможно, могли пригодиться.
Надо бы попробовать, подумал я. Кажется, это Пеппи Длинныйчулок говорила: я ни разу не пробовала, значит, сумею. Я отставил гитару и снова взял рок-журнал папиных времен, тут по лестнице спустилась Кари Анна, неся на руках Турье. Он улыбался от уха до уха, болтая ножками. Я поднялся и подошел к ним, нагнулся, сказал «бу!» и сделал ему «козу» – действие для меня непривычное и чуждое, я почувствовал себя круглым дураком, но для Турье это, наверное, не имело значения, он заливисто захохотал, а нахохотавшись, с надеждой посмотрел на меня: он ждал повторения.
– Бу! – начал я.
– Ии-ха! Ии-ха! Ии-ха! – сказал он.
Не все ритуалы происходят как торжественные церемонии, не все ритуалы ограничены четкими рамками, бывают и такие, что совершаются среди серых будней и отличаются от них только той весомостью и эмоциональным зарядом, который внезапно принимает обыденная жизнь. Выйдя в то утро из дома и следуя за Ингве к машине, я вдруг ощутил, что вступаю в историю более величественную, чем моя собственная. «Сыновья, отправляющиеся в отчий дом хоронить своего отца» – вот название той истории, в которую я вступил в качестве персонажа, остановившись перед машиной со стороны переднего пассажирского сиденья и ожидая, пока Ингве откроет багажник, чтобы положить в него сумку, а Ильва, Кари Анна и Турье провожали нас, стоя на крыльце. Небо было серовато-белое и ласковое, в квартале царила тишина. Багажник захлопнулся, и этот щелчок, отразившись эхом от стены противоположного дома, прозвучал с почти вызывающей резкостью и отчетливостью. Ингве открыл дверцу и сел; перегнувшись всем телом, он открыл дверцу с моей стороны. Помахав рукой Кари Анне и детям, я залез на сиденье и захлопнул дверцу. Они помахали в ответ. Ингве завел мотор, оперся вытянутой рукой о спинку моего сиденья и выехал направо. Затем и он помахал, и мы тронулись вперед по дороге. Я откинулся на спинку.
– Ты устал? – сказал Ингве. – Если хочешь, можешь поспать.
– Точно?
– Конечно. Я только включу музыку, если можно.
Я кивнул и закрыл глаза. Услышал, как его рука нажала на кнопку магнитолы, затем порылась в бардачке в поисках диска. Негромкое гудение мотора. Затем мандолинное вступление в духе фолка.
– Что это? – спросил я.
– 16 Horsepower, – ответил он. – Тебе нравится?
– Приятная музыка, – сказал я и снова закрыл глаза.
Чувство величественной истории исчезло. Мы уже были не «сыновья, отправляющиеся хоронить отца», а Ингве и Карл Уве, и ехали не в отчий дом, а в Кристиансанн, хоронить не отца, а папу.
Поскольку я не устал, то и не заснул, но сидеть вот так было приятно, главным образом потому, что от меня ничего не требовалось. В детстве я мог сказать Ингве все, что в голову взбредет, у меня не было от него секретов, но в какой-то момент, может быть, еще когда я учился в гимназии, все изменилось: с тех пор я, разговаривая с ним, очень остро сознавал, кто он и кто я, непринужденность куда-то ушла, я либо продумывал каждую мою реплику заранее, либо анализировал задним числом, а чаще – и то и другое, и только когда выпивал, ко мне возвращалась былая свобода. Так у меня стало теперь со всеми людьми, за исключением Тоньи и мамы: я разучился разговаривать попросту, – потому что слишком пристально отслеживал ситуацию, и это превращало меня в стороннего наблюдателя. Я не знал, испытывал ли Ингве что-то похожее, думаю, вряд ли, судя по тому, как он вел себя с другими. Замечал ли он это за мной, мне тоже было неизвестно, но что-то мне подсказывало, что да. Оттого что я никогда не открывал карты, а всегда все продумывал и просчитывал, я часто выглядел фальшивым и неискренним. Меня такие вещи уже перестали волновать, став частью моей жизни, но вот сейчас, в начале долгой поездки, после папиной смерти и всего сопутствующего страшно хотелось уйти от самого себя или от того в себе, что держало меня под таким пристальным надзором.
Достала меня эта хрень, черт бы ее побрал!
Я оторвался от спинки и стал перебирать сложенные диски: Massive Attack, Portishead, Blur, Leftfield, Боуи, Supergrass, Merсury Rev, Queen.
Queen?
Ингве полюбил их с детства и сохранил эту любовь на всю жизнь, всегда был готов встать на их защиту. Я помню, как он у себя в комнате копировал одно соло Брайана Мэя нота в ноту на своей новой гитаре, черной копии «Лес Пола», купленной на деньги, подаренные к конфирмации, и карточку члена фан-клуба группы Queen, которая тогда пришла ему по почте. Ингве до сих пор ждал, когда мир образумится и группа Queen получит заслуженное признание.
Я улыбнулся.
Когда умер Фредди Меркьюри, моим самым большим потрясением стало не то, что он, оказывается, был гомосексуалом, а то, что он был индийцем.
Ну кто бы мог подумать?
Жилая застройка за окном становилась заметно плотнее. Движение на встречной полосе одно время сделалось оживленнее, поскольку близился час пик, но потом, когда мы выехали в безлюдные места между двумя городами, машин опять поубавилось. Мы проехали несколько широких желтеющих хлебных полей, несколько клубничных, несколько зеленых пастбищ, несколько свежевспаханных участков с темно-коричневой, почти черной землей. В промежутках мелькали рощи, поселки, встречались речки, озера. Затем характер ландшафта изменился и стал похож на высокогорный – зеленые, безлесные, невозделанные пространства. Ингве остановился у автозаправочной станции, наполнил бак, заглянул ко мне в окно и спросил, не надо ли мне чего, я отрицательно покачал головой, но он, вернувшись, все-таки сунул мне бутылку колы и батончик «Баунти».
– Перекурим? – спросил он.
Я кивнул и вылез из машины. Мы направились к скамейке в конце площадки. За нею протекал небольшой ручеек, который уходил под мост, видневшийся впереди на дороге. Мимо промчался мотоцикл, за ним трейлер, за ним еще один.
– А что сказала мама? – спросил я.
– Ничего особенного. Ей ведь нужно время, чтобы все обдумать. Но она огорчилась. Наверное, в основном из-за нас.
– Сегодня ведь как раз должны хоронить Боргхиль.
– Да, – сказал Ингве.
К заправке с запада подъехал трейлер, со вздохом припарковался с другой стороны, из кабины выскочил пожилой мужчина и, приглаживая на ходу растрепавшиеся от ветра волосы, пошел к дверям.
– В последний раз, когда я видел папу, он подумывал, не пойти ли в водители грузовика, – сказал я, улыбаясь.
– Да что ты, – удивился Ингве. – И когда же это было?
– Прошлой зимой, полтора года назад. Когда я засел в Кристиансанне писать роман.
Я снял с бутылки крышку и сделал глоток.
– А ты когда его видел в последний раз? – спросил я, вытирая губы рукой.
Ингве сидел, устремив взгляд на пустошь за шоссе, он затянулся несколько раз быстро догоравшей сигаретой.
– Кажется, на конфирмации Эгиля. В мае прошлого года. Ты же тоже там был?
– Черт! И правда! – сказал я. – Так это был последний раз. Или нет? – Я вдруг почувствовал неуверенность.
Ингве убрал ногу со скамейки, завинтил бутылку и пошел к машине; из дверей заправочной станции в это время с газетой под мышкой и хот-догом в руке вышел водитель грузовика. Я кинул недокуренную сигарету на асфальт и двинулся следом за братом. Когда я подошел к машине, мотор уже работал.
– Ну вот, – сказал Ингве. – Осталось еще часа два. Поедим, как приедем, согласен?
– Да, – сказал я.
– Что будем слушать?
Подъехав к трассе, он остановился, несколько раз посмотрел по сторонам, затем выехал на дорогу и увеличил скорость.
– Все равно. Так что выбирай сам.
Он выбрал Supergrass. Их диск я купил в Барселоне, куда ездил с Тоньей на семинар по местному радиовещанию в Европе, и, послушав эту группу вживую, я ставил его, чередуя с несколькими другими, все время, пока писал роман. Внезапно меня охватило настроение того года. Оказывается, оно уже превратилось в воспоминание, подумал я удивленно. Стало временем, когда я сидел в Волде и писал сутками напролет, переложив все житейские заботы на Тонью.
«Чтобы это было в первый и последний раз», – сказала она потом в наш первый вечер на новой квартире в Бергене, откуда мы на другой день собирались отправиться в отпуск в Турцию. – Иначе я от тебя уйду».
– А ведь я видел его еще после того раза, – сказал Ингве. – Летом прошлого года, когда я был в Кристиансанне с Бендиком и Атле. Он сидел на скамейке перед киоском, – ну, знаешь, возле Рюндинга, а мы как раз проезжали мимо. «Шельмоватый он у вас, как погляжу», – сказал Бендик, когда его увидел. И был вообще-то прав.
– Бедный папа, – сказал я.
Ингве посмотрел на меня.
– Вот уж кого бы жалеть, но только не его, – сказал он.
– Знаю. Но ты же понимаешь, о чем я.
Он не ответил. Молчание, которое в первые секунды было натянутым, стало спокойным. Я смотрел на придорожный пейзаж: в этой открытой всем ветрам местности природа была скудной, сказывалась близость моря. Разбросанные там и сям строения: то одинокий крашеный суриком сарай, то беленый жилой дом, то среди поля трактор с прицепным комбайном. Старая машина без колес, стоящая на дворе, желтый мяч, занесенный ветром в кусты, пасущиеся на откосе овцы, поезд, медленно проезжающий по насыпи метрах в ста от шоссе.
Что отношения с отцом у нас складывались по-разному, я догадывался давно. Различия были невелики, но, пожалуй, знаменательны. Откуда я это знал? Одно время папа сблизился со мной, я хорошо помню, это было в год, когда мама училась в Осло на курсах повышения квалификации и проходила практику в Модуме, а мы с отцом остались дома вдвоем. Казалось, он потерял надежду добиться чего-то с Ингве, которому уже исполнилось четырнадцать лет, но со мной еще на что-то рассчитывал. Во всяком случае, я должен был каждый день сидеть с ним на кухне, чтобы составить ему компанию, пока он готовил обед. Я сидел на стуле, а он стоял у плиты, жарил что-то и расспрашивал меня о разных вещах. За что меня похвалила учительница, что мы проходили на уроке английского, что я собираюсь делать после обеда, знаю ли я, какие английские команды играют в субботнем матче. Я отвечал односложно и только ерзал на стуле. В ту же зиму он ходил со мной кататься на лыжах. Ингве мог делать, что ему заблагорассудится, от него требовалось только сказать, куда он идет, и возвращаться домой в половине десятого. Помнится, я ему завидовал. Это продолжалось дольше чем год, пока мама отсутствовала, потому что и на следующую осень папа с утра брал меня с собой на рыбалку, мы вставали в шесть, за окном было темно, как в колодце, и страшно холодно, особенно в море. Я мерз и думал только, как бы поскорей вернуться домой, но тут командовал папа, он был главный, с ним бесполезно было спорить, и никакое нытье на него не действовало, так что приходилось терпеть. Через два часа мы возвращались домой, как раз вовремя, чтобы я успел на школьный автобус. Я ненавидел эти рыбалки, на море всегда было зверски холодно, я промерзал до костей, а ведь это мне приходилось вытаскивать кухтыли и вытягивать сети, папа управлял лодкой, а если мне не удавалось достать кухтыль, он ругал меня, так что там в Трумёйе скорее было правилом, чем исключением, когда я в осенней тьме со слезами пытался поймать болтающийся в воде чертов кухтыль, а папа подгребал то вперед, то назад, сверкая на меня бешеными глазами. Но я знаю, что он делал это ради меня и никогда не делал того же для Ингве.
С другой стороны, я знаю, что первые четыре года, когда родился Ингве и они жили в Осло на Тересесгате и папа учился в университете, подрабатывая ночным сторожем, мама – в медицинском училище на медсестру, а Ингве ходил в детский сад, были самыми лучшими в их жизни – и даже счастливыми. Папа был тогда веселый, и Ингве тоже жилось весело. Когда родился я, мы переехали на Трумёйю, поселившись сначала в Хове, в старом доме, построенном когда-то для военных, который стоял среди леса на самом берегу моря, а затем в поселке на Тюбаккене. Единственное, что мне рассказывали из того времени, – это случай, когда я упал с лестницы и у меня начался приступ астмы, я потерял сознание, и мама побежала со мной на руках к соседям звонить в больницу, потому что лицо у меня совсем посинело, и еще один – когда я так разорался, что отец в конце концов посадил меня в ванну и стал поливать из душа холодной водой, чтобы остановить этот крик. Про этот эпизод мне рассказала мама, она застала нас тогда в ванной и предъявила отцу ультиматум: если такое повторится еще раз, она от него уйдет. Такого не повторилось, и она не ушла.
Хотя папа и пытался сблизиться со мной, это не значило, что он меня не бил и не орал на меня в бешеной ярости или не изобретал для меня самые изощренные меры наказания; в результате у меня его образ сложился не таким однозначным, каким, по-видимому, у Ингве. Ингве ненавидел его сильнее, у него с этим обстояло проще. Какими были их отношения в остальном, я не знаю. Мысль о том, что и у меня со временем появятся дети, вызывала у меня душевную тревогу, а когда Ингве сообщил, что Кари Анна беременна, невозможно было не задаться вопросом, какой из него получится отец, сидит ли папино наследие у нас в крови или от него можно избавиться, причем без особых затруднений. Ингве стал для меня чем-то вроде пробного камня: если у него все пойдет хорошо, значит, получится и у меня. Все обошлось, и ничего папиного в Ингве не проявилось, у него все складывалось совершенно иначе, и дети стали органичной частью его жизни. Он никогда не отталкивал их, всегда находил для них время – когда это требовалось или когда они сами к нему приходили, – но и не навязывал им близости, чтобы восполнить нечто в себе или в своей жизни. Брат легко управлялся с Ильвой, когда она, например, начинала брыкаться, поднимала крик и отказывалась одеваться. Полгода он провел в отпуске по уходу за ребенком, и близость, которая тогда установилась между ними, сохранилась и в дальнейшем. Других примеров для сравнения, кроме папы и Ингве, у меня не было.
Ландшафт вокруг снова переменился. Теперь мы ехали через лесистую местность. Через сёрланнские леса, где лишь изредка среди деревьев попадались торчащие скалы, а в основном – то холмы, поросшие елками и дубами, осинами и березами, то темнели болота, то внезапно возникали луга или пески, поросшие сосняком. В детстве я часто представлял себе, как море наступает, заливает леса и холмы превращаются в острова, между которыми можно кататься на лодке и купаться. Из всех детских фантазий самой увлекательной была картина, как все уходит под воду, мысль о том, что там, где мы сейчас ходим, тогда можно будет плавать, – плавать над навесом автобусной остановки, над крышами домов, а нырнув, заплывать в дома, на лестницу, в какую-нибудь комнату. Или просто плавать по лесу, между крутых и пологих склонов, каменных осыпей и высоких деревьев. В какой-то период детства мы обожали строить запруды на ручье, чтобы поднявшаяся вода затапливала мох, корни, траву, камни, утоптанную тропинку сбоку от ручья. В этом было что-то гипнотическое. Как лед зимой, когда мы катались на коньках по ручью, а под ногами у нас виднелась трава, какие-то палочки, сухие веточки и мелкие растения, вмерзшие в прозрачный лед.
В чем заключалась притягательность этого зрелища? И куда она пропала?
Еще я любил воображать, как у машины вырастают по бокам две огромных пилы, которые перерезают все, что попадается навстречу. Не только деревья и фонарные столбы, дома и сараи, но также людей и животных. Если кто-то ждет на остановке автобуса, пила срезает его поперек живота, и верхняя часть туловища отваливается, как у спиленного дерева, а нижняя половина продолжает стоять на ногах, и из перепиленной середины на снег вытекает кровь.
Это чувство я помню как сейчас.
– Вон Сёгне, – сказал Ингве. – Я про него только слышал, но ни разу не бывал. А ты?
Я покачал головой:
– Там жили некоторые девочки из моего класса в гимназии. Но я туда не ездил.
Оставались последние мили пути.
Вскоре очертания местности начали совпадать с теми, что хранились в моей памяти, и стали узнаваемыми. Знакомых картин становилось все больше и больше, пока наконец то, что я видел в окно, не слилось окончательно с теми образами, которые отложились у меня в памяти. Ощущение было такое, как будто мы въехали в страну воспоминаний. Что все, мимо чего мы проезжаем, – это всего лишь декорация, в которой прошло наше детство. Вот мы въезжаем в Вогсбюгд, где жила Ханна, вот грязным пятном темнеет никелеобогатительный завод Хеннига Олсена, «Фолконбридж», окруженный мертвыми горами, а вот, справа, порт Кристиансанна, с автовокзалом, паромным терминалом, вот «Каледония» и элеваторы на острове Оддерёйя. Слева – район, в котором до недавнего времени жил папин дядя, пока старческое слабоумие не вынудило его переехать в дом престарелых.
– Перекусим сначала? – спросил Ингве. – Или сразу в похоронное бюро?
– Давай лучше сразу, – сказал я. – Ты знаешь, где оно находится?
– Где-то на Эльвегатен.
– Значит, надо искать с начала улицы. Ты знаешь, откуда на нее можно заехать?
– Нет. Но это ничего, как подъедем – увидим.
У перекрестка мы остановились на красный свет. Ингве сидел, подавшись вперед, и вглядывался в обе стороны. Красный свет сменился зеленым, он тронулся и медленно поехал, пристроившись в хвост маленькому грузовичку с кузовом, накрытым грязным серым брезентом. Ингве то и дело оглядывался по сторонам, грузовик прибавил скорость, и Ингве, обнаружив увеличившуюся дистанцию, выпрямился и тоже поехал быстрее.
– Они вон там, мы их проехали, – кивнул он направо. – Теперь нам придется в туннель.
– Ну и ничего! – сказал я. – Просто подъедем к ним с другой стороны.
Оказалось, очень даже чего. Когда мы выехали из туннеля на мост, справа появился дом, где я жил, когда учился в гимназии; проезжая, я увидел его из окна, а неподалеку от него на другом берегу стоял невидимый с дороги бабушкин дом, в котором накануне умер папа.
Папа все еще был тут, в этом городе, где-то в каком-то подвале лежало его тело, оставленное на попечение чужих людей, в то время как мы тут едем в машине, направляясь в похоронное бюро. На этих улицах, по которым мы сейчас проезжаем, он вырос, и ходил по ним еще совсем недавно, всего несколько дней назад. Одновременно во мне всколыхнулись собственные воспоминания, потому что вон там стояла моя гимназия, там – застроенный виллами район, через который я проходил каждый день утром и после занятий, до боли влюбленный, там был дом, где я провел так много одиноких часов.
Я заплакал, но без надрыва, просто по щекам скатилось несколько слезинок. Ингве даже ничего не заметил, пока не взглянул на меня. Я только махнул рукой, и был рад, что голос у меня не дрожал:
– Вон там сверни налево.
Мы проехали в направлении Торридалсвейен, мимо двух спортивных площадок, где я так упорно тренировался со взрослой группой в ту зиму, когда мне исполнилось шестнадцать, потом мимо Хьёйты до перекрестка с Эстервейен, затем выехали по ней на мост, а за ним снова свернули направо на Эльвегатен.
– Какой там номер дома? – спросил я.
Следя за номерами домов, Ингве медленно ехал по улице.
– Он вон там, – сказал он. – Теперь найти бы место для парковки.
На деревянном здании слева висела вывеска с золотыми буквами. Это похоронное бюро посоветовал брату Гуннар. Его услугами они пользовались, когда умер дедушка, и, думаю, наша семья всегда имела дело с этой конторой. Сам я тогда был в Африке, мы с Тоньей ездили туда к ее матери и должны были пробыть в гостях у нее и ее мужа два месяца; сообщение о смерти дедушки мы получили уже после его похорон. Оповестить меня взялся тогда папа. И не оповестил. Но на похоронах сказал, что говорил со мной и будто бы я сказал ему, что не могу приехать. Я жалел, что не попал на дедушкины похороны. Поспеть к ним было хотя и трудно, но все же возможно, да если бы и не получилось приехать, я предпочел бы узнать о дедушкиной смерти сразу, а не три недели спустя, когда он уже лежал в земле. Я был в ярости. Но что я мог поделать?
Ингве свернул в небольшой переулочек и припарковался у тротуара. Мы синхронно отстегнули ремни безопасности и синхронно открыли дверцы, взглянули друг на друга и улыбнулись, что так получилось. Погода стояла мягкая, но воздух был не так свеж, как в Ставангере, а небо – пасмурнее. Ингве отошел к автомату заплатить за парковку, а я закурил сигарету. Похороны бабушки с маминой стороны я тоже пропустил. Тогда мы с Ингве были во Флоренции. Мы поехали туда поездом и поселились в первом попавшемся пансионате, а так как мобильных телефонов еще не существовало, то связаться с нами никто не смог. О случившемся мы узнали от Асбьёрна только вечером за выпивкой в день своего возвращения. Так и получилось, что в похоронах я участвовал только один раз, когда умер дедушка с маминой стороны. Я был на кладбище, помогал нести гроб, похороны были достойные, кладбище располагалось на холме с видом на фьорд, светило солнце, я поплакал, когда мама выступала в церкви с прощальным словом и когда она, после того как все закончилось и гроб опустили в землю, остановилась над раскрытой могилой. Она стояла склонив голову, а вокруг зеленела трава, далеко внизу блестела синяя гладь фьорда, а с другой стороны мрачной громадой высилась гора, и черные комья разрытой земли лоснились на солнце.
Потом мы ели мясной суп. Пятьдесят человек, дружно хлебающих суп, потому что от сантиментов нет ничего лучше солонины, а от бури эмоций – горячего супа. Магне, отец Юна Улафа, произнес речь, но при этом так плакал, что никто ничего не разобрал. Юн Улаф сам попытался что-то сказать в церкви, но у него ничего не получилось, они были так близки с дедушкой, что он не мог выговорить ни слова.
Я немного прошелся, глядя перед собой, чтобы размять затекшие ноги. Вокруг было почти безлюдно, только впереди у перекрестка, где проходила главная торговая улица, кишел народ. Дым раздражал легкие, как всегда, когда я закуривал после долгого перерыва. Впереди, метрах в пятидесяти от меня, остановилась машина, и из нее вышел человек. Он наклонился и помахал тем, кто его подвозил. Черноволосый, курчавый, с небольшой лысиной, лет пятидесяти, он был в светло-коричневых вельветовых брюках и черном пиджаке, на носу сидели узкие прямоугольные очки. Я отвернулся в сторону, чтобы он, проходя мимо, не увидел моего лица, потому что я его уже узнал, это был наш учитель норвежского в первом классе гимназии, как бишь его? Фьелль? Берг? Что-то связанное с горами. Да какая разница, подумал я и, дождавшись, когда он пройдет, перестал отворачиваться. Он работал с увлечением и внимательно относился к ученикам, но уж больно бывал резок, эта резкость проявлялась нечасто, но в такие минуты в нем, по-моему, проглядывало что-то недоброе. Сейчас он приподнял руку, в которой нес сумку, чтобы взглянуть на часы, прибавил шагу и скрылся за углом.
– Мне бы тоже покурить, – сказал Ингве, вставая рядом.
– Только что прошел мимо мой бывший учитель, – сказал я.
– Да ну? – сказал Ингве, закуривая. – И что же он – не узнал тебя?
– Не знаю. Я, как увидел, отвернулся.
Отбросив окурок, я порылся в кармане в поисках жвачки. Вроде одна там еще оставалась. Так оно и было.
– Осталась только одна, – сказал я. – Было бы две, поделился бы с тобой.
– Не сомневаюсь, – сказал он.
Я почувствовал, что у меня опять подступают слезы, и сделал несколько глубоких вдохов, и поморгал, широко открывая глаза, чтобы прояснить затуманившийся взгляд. На крыльце дома напротив сидел алкаш, которого я сначала там не заметил. Он прислонился головой к стене и, казалось, спал. Лицо у него было темное, выдубленное, все в морщинах. Сальные волосы висели сосульками вроде дредов. Куртка – толстая, зимняя, хотя на улице было не меньше двадцати градусов, рядом – мешок с каким-то барахлом. На крыше над его головой сидели три чайки. Когда я перевел на них взгляд, одна задрала голову и крикнула.
– Ну что? – сказал Ингве. – Вперед и за дело?
Я кивнул.
Он щелчком отбросил сигарету, и мы двинулись в контору.
– А ты вообще-то договаривался, когда нам прийти?
– Нет, мы без предупреждения, – сказал он. – Вряд ли там толпы народу.
– Ну ничего. Наверное, можно и так, – сказал я.
Внизу в просвете между деревьями показалась река, а когда мы завернули за угол, перед нами открылись все вывески, витрины и машины, которыми полна была улица Дроннингенсгате. Серый асфальт, серые здания, серое небо. Ингве отворил дверь похоронного бюро и вошел. Я вошел следом, закрыв за собой дверь, а когда обернулся, то увидел перед собой прихожую, обставленную как приемная, там стоял диван, вдоль одной стены – стулья, у стены напротив – перегородка со стойкой. За стойкой никого не было. Ингве зашел за перегородку и, заглянув в комнату сзади, постучал в стекло, в то время как я остался стоять посреди прихожей. Дверь в торцовой стене была приоткрыта, я увидел, как за нею прошел человек в черном пиджаке, по виду молодой, моложе меня.
Светловолосая широкобедрая женщина лет под пятьдесят вышла в приемную и села за стойку. Ингве что-то сказал ей, слов я не расслышал, только голос.
Он обернулся ко мне.
– Сейчас кто-то подойдет, – сказал он. – Надо подождать минут пять.
– Как у зубного, – сказал я, когда мы сели на стулья лицом к пустой комнате.
– Только сверлить будут душу, – сказал Ингве.
Я усмехнулся. Вспомнив про резинку, вынул ее изо рта и, зажав в руке, стал оглядываться, куда бы ее бросить. Ничего подходящего. Я оторвал клочок от лежавшей на столе газеты, завернул жвачку и сунул в карман.
Ингве барабанил пальцами по подлокотнику.
Ах да. Я же был еще на одних похоронах. Как же я мог забыть? Хоронили молодого человека, настроение в церкви было истерическое, слышались всхлипы, возгласы, стоны и рыдания, а рядом вдруг смех и хихиканье, и все это пробегало волнами, какой-нибудь возглас мог вызвать целый шквал эмоциональных реакций, под высокими сводами штормило, и центром, откуда расходились волны, был белый гроб на возвышении перед алтарем, в котором лежал Хьетиль. Он погиб в автомобильной аварии, ранним утром заснул за рулем, съехал с дороги и врезался в изгородь; железный прут пробил ему голову. Ему было восемнадцать лет. Он был из тех, кто всем нравится, всегда веселый, никого не обижавший. Когда мы окончили среднюю школу, он поступил в ремесленное училище, как Ян Видар, потому-то и оказался в машине в столь ранний час – его работа в пекарне начиналась в четыре утра. Впервые услышав по радио про этот несчастный случай, я подумал, что погиб Ян Видар, и обрадовался, узнав, что это не он, но в то же время очень расстроился, хотя и не настолько, как девочки из нашего класса, они дали полную волю чувствам, я это знаю, потому что обходил вместе с Яном Видаром бывших одноклассников, собирая по списку деньги на венок от нашего класса. Я испытывал некоторую неловкость от той роли, которая мне досталась, потому что она как бы заявляла о каких-то особых дружеских правах, которых у меня не было, поэтому я старался не высовываться, затаился в машине, пока мы разъезжали с Яном Видаром, который излучал горе, злость и угрызения совести. Я хорошо помню Хьетиля, в любой момент могу представить себе его как живого, услышать внутренним слухом его голос, но за все четыре года, что мы учились вместе, мне по-настоящему запомнился только один-единственный случай, причем абсолютно незначительный: кто-то включил в школьном автобусе на стереопроигрывателе «Our House» группы Madness, и Хьетиль, стоявший рядом со мной, громко смеялся над тем, как громко поет вокалист. Все остальное я позабыл. Но в подвале у меня все еще лежит взятая у него книжка «Основы вождения. Справочник для экзамена на получение водительских прав», подписанная на титульном листе тем детским почерком, которым пишут почти все представители моего поколения. Книжку следовало бы вернуть. Но кому? Вряд ли его родителям будет приятно видеть ее перед глазами.
Их с Яном Видаром училище находилось в одном квартале от того дома, в котором сейчас мы с Ингве сидели в ожидании. С тех пор я почти не бывал в этом городе, не считая нескольких недель два года назад. Один год в Северной Норвегии, полгода в Исландии, с полгода в Англии, год в Волде, девять лет в Бергене. И за исключением Бассе, с которым я время от времени встречался, у меня здесь ни с кем не осталось связей. Самым старым моим другом теперь был Эспен Стуеланн, с которым я десять лет назад познакомился на отделении литературоведения в Бергене. Это не было сознательным выбором, просто так сложилось. Для меня Кристиансанн словно канул в пучину времен. Умом я понимал, что почти все, кого я знал в те времена, по-прежнему живут здесь, но чувств моих это не затрагивало: Кристиансанн перестал для меня существовать в то лето, когда я, закончив гимназию, распрощался с ним навсегда.
Муха, жужжавшая в окне с самого нашего прихода, внезапно устремилась вглубь помещения. Я проводил ее взглядом; она с жужжанием покрутилась под потолком, уселась на желтой стене, снялась с нее и, покружив рядом с нами, опустилась на подлокотник, по которому Ингве барабанил пальцами. Потерев передними лапками одна о другую, словно хотела что-то с себя смахнуть, она проползла несколько шажков, подскочила, взлетела, трепеща крылышками, и опустилась на лежащую руку Ингве, рука, разумеется, дернулась, и муха снова взлетела и принялась летать перед нами как заведенная. В конце концов она снова села на окно и принялась бестолково по нему ползать.
– Мы ведь даже не поговорили о том, как его хоронить, – сказал Ингве. – У тебя есть какие-нибудь мысли на этот счет?
– В смысле – заказывать ли нам церковные или светские похороны? – спросил я.
– Например.
– Нет, я как-то не задумывался. Это надо решить прямо сейчас?
– Прямо сейчас мы не можем. Но скоро, по-моему, придется. За приоткрытой дверью вновь мелькнул молодой человек в пиджаке. Я вдруг подумал, что там они и держат покойников. Что приносят их туда, когда обряжают для похорон. Где же еще им этим заниматься?
Как будто услышав мои мысли, кто-то в комнате плотно закрыл дверь изнутри. И одновременно, словно двери в конторе были подключены к какой-то общей системе, открылась другая, напротив нас. На порог вышел полноватый мужчина в возрасте между шестьюдесятью и семьюдесятью, в безупречном черном костюме и белой рубашке, и посмотрел на нас.
– Кнаусгор? – произнес он вопросительно.
Мы кивнули и поднялись на ноги. Он представился и по очереди пожал нам руки.
– Пойдемте со мной, – сказал он.
Мы прошли за ним в довольно большой кабинет окном на улицу. Он пригласил нас расположиться на стульях, стоявших напротив письменного стола. Стулья были темного дерева с черными кожаными сиденьями; стол, за который он сел, – широкий и тоже темный. Слева от него стоял лоток для бумаг в несколько ярусов, рядом телефон, в остальном столешница была пуста.
Впрочем, не совсем. С нашей стороны, у самого края стояла коробочка с бумажными салфетками «клинекс». Удобно, конечно, но до чего же цинично! При виде ее перед глазами сразу вставало все то множество людей, что проходит в слезах через этот кабинет в течение дня, и ты понимал, что твое горе неуникально и тем самым малозначительно. Коробочка «клинекса» давала понять: здесь обесцениваются и слезы, и смерть.
Он посмотрел на нас:
– Чем могу быть полезен?
Его загорелый второй подбородок темнел на фоне белого воротничка. Седые волосы гладко лежали на голове. На щеках и подбородке проступала темная тень. Черный галстук не болтался на шее, а покоился на круглом животе. Он был полный, но в то же время подтянутый, а не бесформенная квашня, весь – воплощенная корректность, плюс уверенность и спокойствие. Мне он понравился.
– Вчера умер наш отец, – сказал Ингве. – Мы хотели узнать, не возьмете ли вы на себя заботы о практической стороне. Похороны и что с ними связано.
– Да, – ответил похоронный агент. – В таком случае я сейчас для начала заполню бланк.
Он выдвинул ящик письменного стола и достал лист бумаги.
– Мы уже обращались к вам, когда умер наш дедушка. У нас остались самые лучшие впечатления, – сказал Ингве.
– Я помню, – сказал похоронный агент. – Он был аудитором, верно? Я был с ним хорошо знаком.
Взяв со стола ручку, которая лежала рядом с телефоном, он поднял голову и обратил взгляд на нас.
– Мне нужно получить от вас кое-какие сведения, – сказал он. – Как звали вашего отца?
Я ответил. Ощущение было странное. Не потому, что он умер, а потому, что я столько лет не произносил этого имени.
Ингве посмотрел на меня.
– Нет, – начал он осторожно. – Он же несколько лет назад сменил фамилию.
– Ах, я и забыл, – сказал я. – Ну конечно же.
Эта дурацкая фамилия, на которую он поменял прежнюю.
Какой же он был идиот!
Я опустил глаза и поморгал.
– У вас есть его личный номер? – спросил агент.
– Нет, к сожалению, – сказал Ингве. – Но родился он семнадцатого апреля 1944 года. Как там дальше будет его номер, мы потом уточним, если нужно.
– Хорошо. Адрес?
Ингве указал адрес бабушки. Затем взглянул на меня.
– Хотя, возможно, официально у него значился другой адрес. Умер он у своей матери. В последнее время он жил у нее.
– Это мы уточним сами. Мне нужны также ваши имена. И контактный телефон.
– Карл Уве Кнаусгор, – сказал я.
– И Ингве Кнаусгор, – сказал Ингве и дал ему номер своего мобильного.
Записав его, агент положил ручку и снова посмотрел на нас:
– Вы уже подумали, какие у вас будут пожелания насчет похорон? Когда вам удобно, чтобы они состоялись и в какой форме вы желаете их провести?
– Нет, – сказал Ингве. – Об этом мы еще не успели подумать. Но ведь обычно, кажется, похороны проводят через неделю после смерти?
– Обычно да. В таком случае вам, может быть, подойдет в пятницу?
– Да-а, – сказал Ингве и взглянул на меня. – Что ты скажешь?
– Пятница вполне подойдет, – сказал я.
– Ну, предварительно так и запишем. Что касается практических вопросов, то мы можем встретиться еще раз, так ведь? В таком случае, если похороны будут проходить в пятницу, я попросил бы вас подойти в начале следующей недели. Может быть, в понедельник. Вам это подходит?
– Да, – сказал Ингве. – Лучше пораньше.
– Пожалуйста. Вас устроит в девять?
– Вполне. Значит, в девять часов.
Похоронный агент записал это в свой журнал. Закончив писать, встал:
– Итак, мы всем этим займемся. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, то просто позвоните. Можно в любое время. Во второй половине дня я уезжаю на дачу и пробуду там все выходные, но я беру с собой мобильник, так что можете звонить когда угодно, не стесняясь. До понедельника.
Он протянул руку, и мы по очереди ее пожали, прежде чем выйти из кабинета. Он с улыбкой закрыл за нами дверь.
Выйдя на улицу и направляясь к автомобилю, я почувствовал, что что-то изменилось. Все, на что я смотрел и что меня окружало, виделось словно в тумане, как бы отодвинувшись на задний план, вокруг меня как будто образовалась зона, из которой выкачали всякий смысл. Мир ушел у меня из-под ног, такое было ощущение, но меня это не волновало, потому что ведь папа умер. Если похоронная контора запечатлелась в моем сознании совершенно живо и отчетливо, то городской ландшафт предстал бледным и смутным, чем-то, сквозь что я вынужден идти. Я не переменился в мыслях, мой внутренний мир оставался прежним, различие было только в том, что сейчас он требовал себе больше пространства и тем самым отодвигал от меня окружающую действительность. Иначе я не умею это описать.
Ингве перегнулся через сиденье, чтобы открыть вторую дверцу. Я обратил внимание на белую ленточку, привязанную к решетке на крыше машины, она глянцево блестела и напоминала ленточки, которыми перевязывают подарки, но здесь-то она при чем?
Он открыл мне дверцу, и я сел в машину.
– Вроде все в порядке, – сказал я.
– Да, – кивнул Ингве. – Ну что? Поехали к бабушке?
– Давай, – сказал я.
Он помигал поворотником и выехал на дорогу, свернул на первом перекрестке налево, затем еще раз налево и выехал на Дроннингенс-гате, и уже скоро с моста впереди показался дом бабушки и дедушки, он желтел на вершине холма, как бы венчая собой пейзаж с видом на акваторию порта с причалом для яхт. Подъем по Кухольмсвейен, и вот уже маленькая улочка, такая тесная, что надо сначала чуть спуститься вниз по склону и только тогда уже заезжать на нее задним ходом, чтобы свернуть на подъездную дорожку и припарковаться перед крыльцом. Отец производил этот маневр на моих глазах сотни раз, и одно то, что Ингве сейчас повторил в точности то же самое, подтолкнуло слезы к самому краю сознания, и потребовалось усилие, чтобы не дать им хлынуть.
Когда мы поднялись на вершину холма, с крыльца взлетели две большие чайки. Вся площадка перед въездом в гараж была завалена большими пакетами с мусором, они-то и привлекли чаек; в поисках чего-нибудь съедобного птицы уже успели раскидать вокруг всевозможную пластиковую дрянь.
Ингве выключил мотор, но не вставал с сиденья. Я тоже остался сидеть. Одичавший сад возле дома превратился в заросли. Трава, желтовато-серая, высилась по колено, точно на лугу, местами прибитая дождями к земле. Она проникла повсюду, заполонила все клумбы, я не разглядел бы цветов, если бы не знал, где они раньше росли, потому что сейчас они едва проглядывали там и сям маленькими яркими пятнышками. Возле ручья валялась опрокинутая набок ржавая тачка. Земля под деревьями была бурого цвета от усеявших ее гниющих груш и слив. Повсюду разрослись одуванчики, а кое-где я заметил даже маленькие деревца. Все выглядело так, словно мы попали на лесную поляну, а не в сад в городе Кристиансанне.
Придвинув лицо к окну, я посмотрел вверх на дом. Сливные доски прогнили, кое-где облезла краска, однако запустение здесь было не так заметно.
На лобовое стекло упало несколько капель. Дождь застучал по крыше и кузову машины.
– Гуннар, во всяком случае, еще не приехал, – сказал Ингве, отстегивая ремень безопасности. – Наверное, скоро будет.
– Должно быть, на работе, – сказал я.
– Конечно, сезон отпусков время дождливое, но вряд ли дожди заставят аудитора выйти на работу, – сухо произнес Ингве.
Он вынул из зажигания ключ и сунул связку в карман, открыл дверцу и вышел из машины.
Мне выходить не хотелось, но нельзя же было так и сидеть в машине, поэтому я тоже вылез, захлопнул за собой дверцу и посмотрел на кухонное окно на втором этаже, откуда на нас всегда смотрело бабушкино лицо, когда мы приезжали.
Сегодня в окне не было никого.
– Надеюсь, что тут не заперто, – сказал Ингве, поднимаясь на крыльцо по шести ступенькам, когда-то выкрашенным темно-красной краской, а сейчас серым. Обе чайки уселись на крыше соседнего дома и внимательно следили оттуда за каждым нашим движением.
Ингве нажал на ручку и вошел в дверь.
– Черт! Только этого не хватало, – сказал он.
Я поднялся по ступенькам, а когда вслед за ним вошел в прихожую, невольно отвернул лицо. Внутри стояла нестерпимая вонь. Пахло гнилью и мочой.
Ингве стоял посреди прихожей и озирался вокруг. Синий ковролин был усеян черными пятнами. Раскрытый стенной шкаф забит бутылками и пакетами с бутылками. Повсюду валялась разбросанная одежда. Остальные бутылки, вместе с вешалками, обувью, нераспечатанными письмами, рекламными листовками и пластиковыми пакетами, тоже с бутылками, были раскиданы по полу.
Но главное – этот смрад.
Откуда такая вонища?
– Он все разрушил, – произнес Ингве, медленно покачав головой.
– Что это так мерзко воняет? – спросил я. – Видимо, где-то что-то гниет.
– Пошли, – сказал Ингве. – Бабушка ждет нас.
С середины лестницы тоже стали попадаться пустые бутылки, по пять-шесть штук на каждой ступеньке, и чем ближе к площадке второго этажа, тем их становилось больше. Площадка перед дверью была сплошь заставлена бутылками и пакетами с бутылками, а на следующем пролете, ведущем на третий этаж, где раньше находилась спальня дедушки и бабушки, бутылки полностью занимали все ступеньки, и только посередине оставалась парочка дециметров для прохода. По большей части они были либо полуторалитровые пластиковые, из-под пива, либо водочные, но попадались и винные.
Ингве открыл дверь, и мы вошли в гостиную. На пианино стояли бутылки, а под ним – набитые бутылками пластиковые пакеты. Дверь в кухню была открыта. Бабушка всегда там сидела, так оказалось и на этот раз, она сидела за пластиковым столом, глядя на столешницу, с зажженной сигаретой в руке.
– Здравствуй, – сказал Ингве.
Она подняла глаза. В первый момент она посмотрела на нас отсутствующим взглядом, затем в нем что-то затеплилось, на лице отразилось узнавание.
– Так это вы приехали, мальчики? Я вроде бы слышала, как кто-то вошел в дверь.
Я сглотнул вставший в горле комок. Глаза ее глубоко провалились в глазницы, нос на исхудалом лице заострился и стал похож на птичий клюв. Побелевшая кожа покрылась сплошными морщинами.
– Мы выехали, как только узнали, что случилось, – сказал Ингве.
– Ох, это было ужасно, – сказала бабушка. – Но теперь вы тут. И то хорошо.
Платье на ней все было в пятнах и висело на изможденном теле, как на вешалке. Из верхней части груди, которую должно было прикрывать платье, так сильно выпирали ребра, что их можно было пересчитать. Лопатки и тазобедренные суставы тоже торчали наружу. Руки – кожа да кости. Вены на кистях проступали, как темно-синие провода.
От нее несло мочой.
– Попьете кофейку? – спросила она.
– Да, спасибо, – сказал Ингве. – Это неплохая мысль. Но мы сами поставим. Где кофейник?
– Если б я знала, – сказала бабушка, озираясь по сторонам.
– Вон он стоит, – сказал я, показывая на стол.
Рядом с кофейником лежала записка, я обернулся на нее и прочитал:
«Мальчики приедут около двенадцати. Я буду примерно к часу. Гуннар».
Ингве взял кофейник и пошел к мойке выливать гущу. Там громоздились грязные тарелки и бокалы. По всему рабочему столу валялись упаковки, в основном от полуфабрикатов для разогревания в микроволновке, часть из них – с недоеденными остатками. Среди упаковок стояли бутылки, в основном тоже пластиковые полторашки, некоторые с недопитыми остатками на дне, некоторые наполовину полные, другие еще не открытые, и стеклянные бутылки от крепкого алкоголя – в основном из-под дешевой водки, да несколько бутылок от виски «Аппер Тен» по 0,35. Всюду лежала засохшая кофейная гуща, засохшие остатки еды. Ингве отодвинул часть упаковок, вынул из мойки несколько тарелок и поставил их на рабочий стол, затем вылил из кофейника старую гущу и налил в него воды.
Бабушка сидела, как при нашем приходе, уставив глаза в столешницу, с теперь уже погасшей сигаретой в руке.
– Где у тебя кофе? – спросил Ингве. – В шкафу?
Она подняла взгляд.
– Что? – переспросила она.
– Где у тебя кофе? – повторил Ингве.
– Я и не знаю, куда он его поставил, – сказала она.
Он? Папа, что ли?
Я повернулся и пошел в гостиную. Сколько я себя помню, ею пользовались редко, только по торжественным случаям. Сейчас посреди комнаты стоял папин здоровенный телевизор, и к нему были придвинуты оба тяжелых кожаных кресла. Между ними стоял маленький столик, весь заставленный бутылками, бокалами, пачками табака и переполненными через край пепельницами. Я прошел дальше в глубину комнаты.
Там, где раньше был диванный уголок с креслами и столиком, перед диваном валялась брошенная одежда. Я разглядел две пары брюк, кофту, несколько трусов и носков. Запах стоял ужасный. Рядом валялись еще бутылки, пачки из-под табака, куски засохшего хлеба и всякий другой мусор. Я медленно подошел к дивану. Его покрывали испражнения, – размазанные и кучками. Я нагнулся к одежде. Она тоже была загажена. Лак на полу местами облез – большими пятнами неправильной формы.
От мочи?
Хотелось что-нибудь расколошматить. Схватить столик и швырнуть его в окно. Сорвать со стены полки. Но меня охватила ужасная слабость, едва хватило сил отойти и дотащиться до окна. Я уткнулся лбом в стекло и стал смотреть в сад. Сваленная там садовая мебель вся облезла. Казалось, вещи растут из земли.
– Карл Уве? – позвал с порога Ингве.
Я вернулся назад.
– Тут просто кошмар, – сказал я тихонько, чтобы не слышала бабушка.
Он кивнул.
– Давай посидим с ней немного, – сказал он.
– Ладно.
Я вошел в кухню, подвинул себе стул и сел напротив нее. Там что-то тикало, звук исходил от какого-то прибора вроде термостата, который, очевидно, должен был автоматически выключать плиту. Ингве сел к столу с узкого конца, достал пачку сигарет из куртки, которую почему-то не снял, войдя в дом. Тут я обнаружил, что и сам сижу в куртке.
Курить мне не хотелось, от одной мысли об этом делалось противно, но в то же время и без сигареты было невозможно, так что я не утерпел и достал из кармана пачку. Увидев, что мы сели за стол, бабушка оживилась, глаза у нее заблестели.
– Так что ж вы сегодня – ехали сюда из самого Бергена? – спросила она.
– Из Ставангера, – сказал Ингве. – Теперь я живу там.
– А я вот в Бергене, – сказал я.
За спиной у нас на плите задребезжал кофейник.
– Вот как, значит, – сказала бабушка.
Наступило молчание.
– Хотите кофейку, мальчики? – спросила вдруг бабушка.
Мы с Ингве переглянулись.
– Я уже поставил немножко, – сказал Ингве. – Сейчас будет готов.
– Ах да, и правда, – сказала она.
Она посмотрела на свою руку и резким движением, словно только сейчас обнаружила, что держит в ней сигарету, схватила зажигалку и закурила.
– Так вы сегодня приехали из самого Бергена? – спросила она и, сделав несколько затяжек, взглянула на нас.
– Из Ставангера, – сказал Ингве. – Это заняло всего четыре часа.
Она вдруг вздохнула:
– Ах да. Жизнь – это божба, сказала старушка, которая не выговаривала «р».
Она хохотнула, Ингве улыбнулся.
– Хорошо бы чего-нибудь съестного к кофе, – сказал он. – У меня в машине осталась шоколадка. Я сейчас принесу.
Мне хотелось сказать ему, чтобы он не уходил, но, конечно, было нельзя. Когда он скрылся за дверью, я встал, положил начатую сигарету на край пепельницы, отошел к плите и прижал кофейник поплотнее к конфорке, чтобы он поскорее закипел.
Бабушка снова погрузилась в себя, сидела, уставив глаза в стол. Она сидела ссутулившись, опустив плечи и тихонько покачивалась взад и вперед.
О чем она думает?
Ни о чем. Там не было никаких мыслей. Их не могло быть. Только холодная муть и тьма.
Я отпустил ручку кофейника и стал искать глазами коробку, в которой хранится кофе. На рабочем столе – нет, на столе напротив тоже не видно. Может быть, где-то в шкафу? Хотя нет. Ингве же ее достал. Так куда он мог ее поставить?
Вон она, черт возьми. На вытяжке, где стояли старые баночки с пряностями. Я снял коробку и отодвинул кофейник с конфорки, хотя вода еще не закипела, открыл крышку и насыпал в кофейник несколько ложечек кофе. Он был высохший и, похоже, выдохся.
Подняв взгляд, я увидел, что бабушка смотрит на меня из-за стола.
– А где Ингве? – спросила она. – Он что, ушел? Неужели уже уехал?
– Нет, что ты, – сказал я. – Он только пошел что-то взять из машины и сейчас вернется.
– Ах, вот как, – сказала она.
Я взял из ящика вилку и, помешав в кофейнике, поставил его, придавив несколько раз, на плиту.
– Ну вот. Теперь пускай немного настоится, и готово, – сказал я.
– Он сидел в кресле, когда я зашла к нему утром, – сказала бабушка. – Сидел совершенно неподвижно. Я пыталась его разбудить, но он не просыпался. А лицо у него было белое.
Меня замутило.
На крыльце послышались шаги Ингве. Я открыл шкаф, чтобы достать стаканы, но там ни одного не было. К тем, что стояли в мойке, мне даже прикасаться не хотелось. Я нагнулся и попил прямо из-под крана, в этот момент вошел Ингве.
На этот раз он был без куртки. В руках у него было два батончика «Баунти» и пачка сигарет «Кэмел». Он сел и снял обертку с одного батончика.
– Хочешь кусочек? – спросил он бабушку.
Она посмотрела на шоколадку: – Нет, спасибо. А вы кушайте.
– У меня никакого желания, – сказал я. – Но кофе готов, можно пить.
Я поставил кофейник на стол, снова открыл шкафчик и достал три чашки. Зная, что бабушка любит кусковой сахар, я открыл шкаф напротив, в котором стояли продукты. Две половинки хлеба, посиневшие от плесени, пакет с заплесневелыми булочками, несколько пакетиков супа, арахис, три готовых блюда со спагетти, которые полагается хранить в холодильнике, и бутылки со спиртным все того же дешевого сорта.
Ну и ладно, подумал я, вернулся за стол, взял кофейник и стал наливать кофе. Тот не настоялся, из носика полилась светло-коричневая струйка с кофейными крошками. Я снял крышку и вылил чашку обратно.
– Хорошо, что вы приехали, – сказала бабушка.
У меня полились слезы. Я глубоко, но с осторожностью вдохнул, закрыл лицо ладонями и стал тереть лицо, как будто не плачу, а просто устал. Но бабушка все равно ничего не заметила, она снова как будто ушла в себя. На этот раз так продолжалось минут пять. Мы с Ингве сидели молча, пили кофе, уставив глаза в пространство.
– Ох, – вздохнула бабушка, – жизнь – это божба, сказала старушка, которая не выговаривала «р».
Она взяла машинку для набивания сигарет, открыла пачку табака, «Петтерё» с ментолом, быстро затолкала табак в желобок, надела на его носик бумажную гильзу, защелкнула задвижку и резким движением протолкнула поршенек внутрь.
– Может, занесем в дом багаж, – предложил Ингве. И взглянул на бабушку: – Где нам устраиваться?
– Большая спальня внизу свободна, – сказала она. – Можете ложиться там.
Мы встали.
– Мы только сходим к машине, – сказал Ингве.
Я обернулся в дверях.
– А ты туда заходил? – спросил я.
Он мотнул головой. По дороге на лестницу на меня неудержимо накатили слезы. Скрыть их на этот раз нечего было и думать. Меня так трясло, что грудь ходила ходуном, я не мог вздохнуть, откуда-то из самых глубин рвались рыдания, лицо перекосилось, я совершенно не владел собой.
– О-о-о, – вырвалось у меня. – О-о-о-о.
Я чувствовал, что за спиной у меня стоит Ингве, и заставил себя спуститься по лестнице, пройти через прихожую и выйти к машине, а от нее я не останавливаясь прошел через узкий газончик между домом и оградой, отделявшей бабушкин участок от соседей. Я закинул голову назад, лицом к небу, и старался дышать глубоко и ровно; после нескольких вздохов трясучка улеглась.
Вернувшись, я застал Ингве склонившимся над раскрытым багажником. Рядом с ним на земле стоял мой чемодан. Я взял его за ручку, поднялся с ним на крыльцо, поставил в передней и обернулся на Ингве, он шел следом за мной с чемоданом в руке и рюкзаком за спиной. После нескольких минут на свежем воздухе вонища в доме показалась еще сильней. Я начал дышать ртом.
– Неужели мы там будем спать? – спросил я, кивая на дверь спальни, которой в последние годы пользовались бабушка с дедушкой.
– Надо посмотреть, что там делается, – сказал Ингве.
Я открыл дверь и заглянул в комнату. Там был разгром, то есть одежда, обувь, ремни, сумки, щетки для волос, бигуди и косметика валялись повсюду – на полу, на кровати, на комодах, все было покрыто слоем пыли и слежавшимися пыльными комками, но комната не была загажена, как наверху.
– Ну, что скажешь? – спросил я.
– Не знаю, – сказал он. – Как думаешь, где он лежал?
Он открыл боковую дверь в комнату, которая когда-то принадлежала Эрлингу, и вошел туда. Я последовал за ним.
Пол был покрыт мусором и одеждой. На полу у окна валялись обломки стола, по-видимому разбитого кем-то, и брошенные в одну кучу бумаги и нераспечатанные письма. Что-то засохшее, похожее на рвотные массы, расползлось на полу перед кроватью неровным желто-бурым пятном. Одежда была заляпана грязью и какими-то темными пятнами, похожими на кровь. Внутри некоторых вещей остались испражнения, от всего воняло мочой.
Ингве подошел к окну и открыл его.
– Выглядит так, как будто тут жили наркоманы, – сказал я. – Ни дать ни взять притон.
– Да, действительно, – сказал Ингве.
Комод у стены между кроватью и дверью чудом оказался нетронут. На нем стояли фотографии папы и Эрлинга в черных студенческих фуражках, сделанные, вероятно, когда они поступили в университет. Без бороды папа был поразительно похож на Ингве. Тот же рот, та же форма бровей и лба.
– Что же нам, черт возьми, делать? – сказал я.
Ингве ничего не ответил, он молча оглядывал помещение.
– Придется засучить рукава, – сказал он.
Я кивнул и вышел из комнаты. Открыл дверь прачечной, которая находилась в пристройке возле лестницы и примыкала к гаражу. Едва вдохнув воздух, я закашлялся. Куча вещей посреди помещения была выше моего роста, она почти достигала потолка. Затхлый, гнилостный запах шел, очевидно, оттуда. Я зажег свет. Они все выбрасывали сюда – полотенца, простыни, скатерти, брюки, свитера, платья, белье. Нижние слои были не просто грязные, они уже начали гнить Я присел на корточки и ткнул туда пальцем. На ощупь все вещи в куче были сырые и склизкие.
– Ингве! – позвал я.
Он подошел и остановился на пороге.
– Посмотри, – сказал я. – Вот откуда запах.
Вверху на лестнице послышались шаги. Я поднялся.
– Давай выйдем, – сказал я. – Чтобы она не подумала, будто мы что-то выискиваем.
Когда она спустилась, мы встретили ее в прихожей, как будто только что поставили тут свой багаж.
– Ну как? Поживете тут? – спросила она и заглянула в комнату, открыв дверь. – Если немножко прибраться, то будет вполне ничего.
– Мы подумали, что нам подошла бы чердачная комната, – сказал Ингве. – Ты не против?
– Что ж, можно и там, – сказала она. – Но я давно уже туда не заглядывала.
– Сейчас мы сходим и посмотрим, – сказал Ингве.
Чердачная комната, которая когда-то в давние времена служила спальней бабушке и дедушке, но потом, сколько мы себя помнили, использовалась только в качестве гостевой, единственная в доме осталась с тех пор нетронутой. Там все было по-прежнему. На полу лежала пыль, а от перин немного попахивало затхлостью, но не больше, чем в дачном домике, в который никто не заглядывал с прошлого лета, а после того кошмара, который царил внизу, это воспринималось как облегчение. Мы сложили багаж на полу, я повесил свой костюм на дверцу шкафа. Ингве подошел к окну и, облокотившись на подоконник, смотрел на расстилавшийся внизу город.
– Для начала можно вывезти все бутылки, – сказал он. – Собрать их и сдать. Заодно немного прогуляемся.
– Так и сделаем, – сказал я.
Когда мы снова спустились в кухню, снизу послышался шум подъезжающего автомобиля. Это был Гуннар. Мы, не присаживаясь, подождали, когда он подымется наверх.
– А вот и вы! – сказал он, улыбаясь. – Давненько же мы не виделись.
Лицо у него было загорелое, волосы светлые, сам – крепкий и жилистый. Для своих лет выглядел он неплохо.
– Хорошо ведь, что мальчики приехали, – произнес он, обращаясь к бабушке. Затем снова обернулся к нам: – Это просто ужасно, то, что здесь случилось.
– Да, – сказал я.
– Ну, вы тут уже огляделись? Видели, во что он превратил дом?
– Да, – сказал Ингве.
Гуннар возмущенно покачал головой:
– Даже не знаю, что и сказать, но для вас он отец. Мне очень жаль, что он так кончил. Но вы, вероятно, уже понимали, к чему все идет.
– Мы вымоем весь дом, – сказал я. – С этого дня мы все берем на себя.
– Это хорошо. Утром я здесь прибрался немного на кухне и выкинул мусор, но тут еще много что осталось сделать.
Он коротко улыбнулся.
– У меня там, на дворе, стоит прицеп, – продолжал он. – Как ты, Ингве, насчет того, чтобы выехать за ворота? Тогда мы поставим его на лужайке возле гаража. Эту мебель уже нельзя тут оставить, и тряпки, и все прочее. Отвезем все на свалку. Вы согласны?
– Да, – сказал я.
– Туве с мальчиками сейчас живут в летнем домике, так что я только заскочил ненадолго, чтобы с вами поздороваться. И чтобы завезти вам прицеп. Но я снова приеду завтра утром. И тогда мы все вывезем. Тут же просто ужас. Но что поделаешь. Ничего, как-нибудь справитесь!
– Да, конечно, – сказал Ингве. – Но ты ведь поставил свою машину позади моей? Так что сначала, наверное, тебе надо выехать?
Бабушка в первые секунды после того, как вошел Гуннар, смотрела на нас и улыбалась ему, но затем снова ушла в себя, и теперь сидела, глядя в пространство, как будто здесь, кроме нее, никого не было.
Ингве пошел вниз, а я остался, решив, что нужно побыть с ней.
– Тебе тоже надо пойти с нами, – сказал Гуннар. – Надо будет толкать прицеп, а он тяжеленный.
Я пошел вслед за ним.
– Она что-нибудь рассказывала? – спросил он.
– Бабушка? – уточнил я.
– Да. О том, что случилось.
– Почти ничего, – сказал я. – Только что застала его сидящим в кресле.
– Твой отец все время был тут с ней рядом, – сказал он. – Она еще не отошла от шока.
– Что мы можем сделать? – сказал я.
– Ну, что вы можете сделать! Тут только время поможет. Но как только пройдут похороны, ее надо отправить в дом престарелых. Ты же сам видишь, какая она. Ей нужен уход. Как только пройдут похороны, ее надо отсюда увозить.
Он повернулся ко мне спиной и вышел на крыльцо, щурясь от яркого света. Ингве уже сидел в машине.
Гуннар снова повернулся ко мне:
– Мы тогда устроили, чтобы ей дали помощницу, она приходила каждый день и ухаживала за ней. Но тут явился твой отец и выставил ее за дверь. Закрыл дверь и заперся на замок. Он и меня не впускал. Но однажды мать позвонила. Оказалось, он сломал ногу, лежит на полу и пьет. Он наделал себе в штаны. Представляешь себе! Лежал на полу и пил. А она его обслуживала. Так дальше не пойдет, сказал я ему, пока ждали скорую. Нельзя же так опускаться! Тебе пора взять себя в руки. И знаешь, что на это сказал твой отец? Тебе мало моего срама, Гуннар? Хочешь совсем меня растоптать? Ты затем и приехал, чтобы окончательно втоптать меня в грязь?
Гуннар покачал головой.
– Ты пойми, это же моя мать там сидит. Мы столько лет пытались ей как-то помочь. А он разрушил все. Дом, ее, себя самого. Все. Все.
Он торопливо положил руку мне на плечо.
– Но я знаю, что вы – хорошие мальчики.
Я заплакал, и он отвел глаза.
– Ладно. Теперь надо подогнать прицеп, – сказал он, сел за руль, запустил мотор, осторожно съехал влево по склону, погудел, что дорога свободна, и Ингве выехал за ним задним ходом. Затем Гуннар подал вперед, вышел из машины и отцепил прицеп. Я подошел к ним, взялся за дышло и стал тянуть прицеп в гору, Ингве и Гуннар толкали.
– Ну, вот подходящее место, – сказал Гуннар, когда мы втянули прицеп на участок и я опустил дышло на землю.
Со второго этажа на нас смотрела из окна бабушка.
Пока мы собирали бутылки, складывали в пластиковые пакеты и относили в машину, бабушка все время сидела на кухне. Она смотрела, как я выливаю в мойку пиво и водку из полупустых бутылок, но ничего не говорила. Может быть, она чувствовала облегчение, что они наконец исчезнут, может быть, толком не понимала, что происходит. Набив полный автомобиль, Ингве пошел к ней на кухню сказать, что мы только съездим в магазин и сразу обратно. Она встала и пошла за нами в прихожую, мы подумали, что она хочет проводить нас с крыльца, но, выйдя за дверь, она спустилась по ступенькам, подошла к машине, взялась за ручку, открыла дверцу и стала садиться.
– Бабушка? – окликнул ее Ингве.
Она остановилась.
– Мы собирались съездить одни. Кому-то же надо следить за домом. Мне кажется, тебе бы лучше остаться.
– Ты так считаешь? – сказала она, отступая на шаг.
– Да, – сказал Ингве.
– Ну ладно, – сказала она. – Тогда я останусь.
Ингве выехал на дорогу, а бабушка зашла в дом.
– Вот проклятье! – сказал я.
Ингве старательно отвел глаза, помигал левым поворотником и медленно выехал.
– У нее явно шок, – сказал я. – Я подумал, не позвонить ли мне отцу Тоньи и посоветоваться с ним? Он наверняка мог бы прописать ей какое-нибудь успокоительное.
– Она и так принимает лекарства, – сказал Ингве. – В шкафу на кухне у нее их целая полка.
Он снова отвел глаза, на этот раз чтобы посмотреть на Кухольмсвейен, по которой съезжали вниз три автомобиля. Затем посмотрел на меня:
– Но ты можешь сказать об этом отцу Тоньи, а он пускай и решит.
– Я позвоню, как только мы вернемся.
Мимо проехал последний из трех автомобилей, уродливая новая мыльница. На стекло шлепнулись первые капли дождя, и я вспомнил про прошлый дождь, который, едва начавшись, словно смутился и ограничился несколькими каплями.
На этот раз дождь разошелся всерьез. Когда Ингве, помигав фарами, выехал из-за гребня холма и стал спускаться вниз, мы уже включили дворники.
Летний дождь.
Ах, эти капли, падающие на разгоряченный, сухой асфальт! Первые из них испаряются или впитываются пылью, однако свое дело делают, потому что следующие капли уже попадают на подостывший асфальт и увлажненную пыль, и тут темные пятна начинают расширяться, затем они сливаются в одно целое, и весь асфальт становится мокрым и черным. Ах, этот теплый летний воздух, который сразу же холодает, так что капли, падающие на лицо, уже кажутся теплее, чем воздух вокруг, и тогда ты запрокидываешь голову, чтобы насладиться этим непривычным ощущением. Листья на деревьях вздрагивают от легкого прикосновения дождевых капель, издавая слабый, еле слышный звук, капли достигают земли на разной высоте: одни долетают до иссеченных складками скал у края дороги и до травинок в канаве у их подножия, другие попадают на крыши домов с другой стороны и до седла прислоненного к изгороди и пристегнутого на цепочку велосипеда, до гамака в саду и до дорожных знаков, до бетонного водосточного желоба и на крыши и капоты припаркованных автомобилей.
Мы остановились перед светофором, дождь припустил сильнее, теперь с неба падали уже крупные, тяжелые капли, и сразу помногу. За несколько секунд вся местность в районе Рюндинга изменила свой вид. На фоне потемневшего неба ярче засветились огни, а падающий дождь, отлетавший фонтанчиками от земли, размывал их свет. Машины ехали с включенными щетками, пешеходы, забывшие дома зонтики, бежали бегом, накрыв голову развернутой газетой или капюшоном, спеша поскорее спрятаться под ближайшей крышей, а те, что с зонтиком, важно шествовали как ни в чем не бывало.
Но вот зажегся зеленый свет, и мы поехали под уклон, направляясь к мосту, мимо старого музыкального магазина, – давно уже закрытого, куда мы с Яном Видаром наведывались каждое субботнее утро, совершая еженедельную пробежку по всем музыкальным магазинам города, – и дальше по мосту Люнндсбру. С ним связано мое самое первое детское воспоминание. Мы с бабушкой шли через этот мост, и там я увидел старого-старого старичка с белой бородой и белыми волосами, он был весь сгорбленный и шел с палочкой. Я остановился посмотреть на него, бабушка потянула меня за руку. В папином кабинете висел постер, и однажды, когда я там при папе и нашем соседе по имени Ула Ян, который работал с папой в одной школе и тоже, как папа, вел норвежский язык и литературу, я, указав на постер, сказал, что видел этого человека. Потому что на постере был тот самый белобородый, беловолосый и сгорбленный старичок. Я не находил ничего странного в том, что его портрет висит у папы в кабинете, мне было тогда четыре года, и для меня не было на свете ничего непонятного, все и вся было связано. Но папа и Ула Ян рассмеялись. Они смеялись и говорили, что такого не может быть. Это Ибсен, сказали они. А он умер почти сто лет тому назад. Но я был уверен, что видел этого самого человека, и я так и сказал. Они только покачали головами, а папа, когда я, указывая на Ибсена, снова повторил, что видел его, уже не смеялся, а выгнал меня за дверь.
Вода под мостом была серая и вся в кругах от падавшего на поверхность дождя. Но в ней проглядывал и оттенок зеленого, как всегда в этом месте, где пресная вода Утры встречалась с морской. Сколько раз я уже тут стоял, глядя на потоки внизу? Время от времени вода выходила из берегов и как река, закручивалась, образуя водовороты. Иногда вокруг опор моста сбивалась белая пена.
Сейчас водная гладь стояла спокойно. Две рыбацкие моторки, обе с отдернутым брезентом, тарахтели в сторону моря. У причала на другой стороне стояли два ржавых судовых остова, а за ними – сверкающая белизной яхта.
Ингве остановился на красный свет, который тут же сменился зеленым, и мы свернули налево, где находился небольшой торговый центр с парковкой на крыше. Мы въехали наверх по оборудованному датчиками света бетонному пандусу и очутились на крыше, где на нашу удачу, несмотря на субботу и сезон отпусков, нашли в глубине свободное местечко, чтобы поставить нашу машину.
Мы вышли из машины, я запрокинул голову, подставив лицо теплым струям дождя. Ингве открыл багажник, мы взяли столько пакетов, сколько могли унести, и спустились на лифте на первый этаж супермаркета. Бутылки из-под спиртного мы с собой не брали, решив, что сдавать их нет смысла, лучше мы их потом отвезем на свалку, так что наша ноша в основном состояла из пластиковых бутылок, это было не тяжело, хотя и неудобно.
– Ты начинай, а я пока схожу и поднесу еще, – предложил Ингве, когда мы встали перед автоматом для приемки пластиковой тары.
Я кивнул и принялся ставить бутылку за бутылкой на движущуюся ленту, между делом выбрасывая освободившиеся скомканные пакеты в предназначенный для этого мусорный ящик. Меня совершенно не волновало, что кто-то может увидеть меня и заинтересоваться, откуда у меня столько пивных бутылок. Мне все было безразлично. Зона, что образовалась вокруг меня, когда мы вышли из похоронной конторы, в которой все омертвело и утратило смысл, с тех пор разрослась и окрепла. Залитый ярким светом, набитый заманчиво поблескивающими, разноцветными товарами магазин я почти не замечал, с таким же успехом я мог бы стоять посреди какого-нибудь болота. Обыкновенно я был очень чуток к тому, как выгляжу в глазах окружающих, что люди думают обо мне; иногда это поднимало мне настроение и преисполняло гордостью, иногда вызывало подавленность и недовольство собой, но никогда не оставляло равнодушным. Со мной еще никогда не бывало такого, чтобы взгляды окружающих не имели для меня никакого значения или чтобы окружающая обстановка как бы переставала существовать. Но сейчас было именно так, на меня нашло какое-то отупение, и я ничего не воспринимал и не чувствовал.
Вернулся Ингве с новыми пакетами.
– Сменить тебя? – предложил он.
– Не надо, – сказал я. – Но ты можешь пока купить, что нам нужно. Нам понадобятся моющие средства, и резиновые перчатки, и черные мешки для мусора. Да и что-то поесть, в конце концов.
– В машине осталась еще одна партия. Сначала схожу за ней.
– Окей, – сказал я.
Сдав последние бутылки и получив квиток, я присоединился к Ингве, который был занят у полок с моющими средствами. Мы купили «Джиф» для ванной, «ДжифДжиф» для кухни, «Аякс» для уборки помещений, «Аякс» для мытья окон, «Хлорин», зеленое мыло, «Мистер Мускул» от въевшихся пятен, средство для чистки духовки, специальное средство для чистки диванов, железные мочалки, губки, кухонные тряпки и тряпки для пола, два ведра и к ним швабры, в мясном отделе – несколько упаковок фарша, в овощном – картошки и цветной капусты. Купили нарезки для бутербродов, молоко, кофе, фрукты, набор йогуртов, несколько пачек печенья. Все время, пока мы отоваривались в продуктовом отделе, я радовался, как мы наполним кухню этой новой, свежей, нетронутой и чистой едой.
Когда мы вышли наружу, дождь уже прекратился. Вокруг задних покрышек, под которыми в бетонном полу была вмятина, образовалась лужа. Наверху пахло свежестью, – не городом, а небом и морем.
– Что, по-твоему, там произошло? – заговорил я, когда мы поехали через темный парковочный туннель. – Она говорит, что нашла его в кресле. Значит, он просто уснул?
– Вероятно, так, – сказал Ингве.
– У него просто остановилось сердце?
– Да.
– Ну да. Неудивительно – при том, какую он вел жизнь.
– Да уж.
Дальше мы всю дорогу до дома ехали молча. Мы втащили покупки наверх, в кухню, и бабушка, которая смотрела из окна, как мы выгружаемся, спросила, куда мы ездили.
– В магазин, – сказал Ингве. – А теперь давайте-ка поедим.
Он начал выгружать покупки из сумок. Вооружившись парой желтых резиновых перчаток и рулоном мешков для мусора, я спустился вниз. В первую очередь надо было выкинуть гору сгнивших вещей, которая осталась в прачечной. Я надул перчатки, надел их на руки и принялся запихивать вещи в мешки. Я все время дышал через рот. По мере того как мешки наполнялись, я оттаскивал их во двор и укладывал рядом с двумя зелеными бочками у гаража. Я успел вытащить почти все, кроме нижнего, слежавшегося слоя, когда меня позвал Ингве, крикнув, что еда готова.
Он очистил рабочий стол от ненужных и грязных вещей, а на столе, где теперь тоже было прибрано, стояло блюдо с жареными котлетами, миска с картошкой, другая с цветной капустой и кружка с коричневым соусом. Он поставил на стол бабушкин праздничный сервиз, все эти годы простоявший без дела в гостиной.
Бабушка отказывалась, говорила, что ничего не хочет, но он все же положил ей на тарелку небольшую котлетку, одну картофелину и парочку соцветий цветной капусты и уговорил хотя бы попробовать. Я же был голоден как волк, и ел за троих.
– Ты, что ли, сливок в соус добавил? – спросил я.
– Угу. И немножко бурого сыра.
– Очень вкусно, – сказал я. – То самое, о чем я мечтал.
Покончив с едой, мы с Ингве вышли на веранду покурить за чашкой кофе. Он напомнил о звонке отцу Тоньи – это я начисто забыл. А возможно, и вытеснил, потому что звонить туда мне совсем не хотелось. Однако сделать это было нужно, и я отправился в комнату, достал из чемодана записную книжку с адресами и набрал его номер на телефонном аппарате в гостиной, пока Ингве на кухне убирал со стола.
– Здравствуйте, это Карл Уве, – сказал я, когда он снял трубку. – Я подумал, что, может быть, вы мне поможете в одном деле. Не знаю, говорила ли вам Тонья, но вчера у меня умер отец.
– Да, она звонила и рассказала мне, – сказал он. – Очень печальная новость, Карл Уве.
– Да, – сказал я. – Я сейчас в Кристиансанне. Нашла его моя бабушка. Она уже на девятом десятке, и похоже, что она в шоковом состоянии. Она почти не разговаривает, сидит и молчит. Вот я и подумал, вдруг есть какое-то успокоительное средство, от которого ей стало бы легче. Она, правда, и без того принимает лекарства, очевидно, среди них есть какое-то успокоительное, но я подумал… Ну, понимаете – ей очень тяжело.
– А ты знаешь, какие лекарства она принимает?
– Нет, – сказал я. – Но я могу это выяснить. Подождите, пожалуйста, я сейчас.
Положив трубку на столик, я пошел в кухню за коробочкой, где лежали ее лекарства. Среди них я как будто видел белые и желтые листки рецептов.
Листочек нашелся, но только один.
– Ты не видел коробки от таблеток? – спросил я у Ингве. – Упаковки от лекарств. Я сейчас разговариваю с отцом Тоньи.
– Они в другом шкафу, рядом с тем, где ты смотришь.
– Что ты ищешь? – спросила бабушка, не вставая со стула. Мне не хотелось показывать, что я решаю что-то за нее, – я и так, роясь в коробке, все время ощущал спиной ее взгляд, – однако сейчас было не до церемоний.
– Я разговариваю по телефону со знакомым доктором, – сказал я так, как будто этим все объяснялось.
Как ни странно, она успокоилась, и я вышел из кухни, сжимая в руке рецепт и упаковки с лекарствами.
– Алло? – сказал я.
– Я слушаю, – отозвался он.
– Я тут нашел несколько упаковок с лекарствами, – сказал я и прочитал ему их названия.
– Ага, – сказал он. – Она уже принимает препараты, подавляющие тревожность, но я могу выписать еще одно, оно будет кстати. Я сразу же позвоню в аптеку, как только мы закончим говорить. Есть там у тебя рядом какая-нибудь аптека?
– Да, в Люнне. Это район Кристиансанна.
– Я обо всем договорюсь. Береги себя.
Я положил трубку и снова вышел на веранду, обратив взгляд в сторону моря, над которым все еще висели тучи, но уже совсем другого оттенка, не такие мрачные. Отец Тоньи был хорошим и добрым человеком. Он никогда не поступил бы непорядочно и вообще не позволил бы себе ничего лишнего, он был человек интеллигентный и воспитанный, но вовсе не сухарь или педант, даже напротив, иногда загорался энтузиазмом, в котором было что-то ребяческое, а что ни в чем не заходил слишком далеко, то не потому, что не хотел или не мог, а только потому, что подобных поступков не было в его репертуаре, их для него, как мне представлялось, просто-напросто не существовало; для меня в этой благопристойности всегда было нечто обаятельное и при встрече всегда притягивало, при том что я прекрасно отдавал себе отчет в том, что она импонирует мне потому, что таким же был мой отец, и потому, что он был таким, каким был. Я и женился в двадцать пять лет, потому что хотелось эдакой буржуазной стабильности, устроенности, при том что этому противоречил и наш образ жизни, далекий от устроенности и буржуазной стабильности, и то, что теперь никто так рано не женится, – факт, придававший нам с Тоньей некоторый налет если не радикальности, то, во всяком случае, оригинальности.
Так я думал, а поскольку еще и любил ее, то однажды вечером на террасе в мозамбикском городе Мапуту, под угольно-черным небом, под звонкую трескотню кузнечиков и далекий бой барабанов, долетавший из деревни за несколько километров от города, пал перед нею на колени и спросил, согласна ли она выйти за меня замуж. Она ответила, но что, я не расслышал. Во всяком случае, это было не «да». «Что ты сказала?» – спросил я. «Ты спросил, согласна ли я выйти за тебя замуж? Это правда? Ты это спрашивал?» – «Да», – сказал я. «Да, – ответила она. – Я согласна выйти за тебя замуж». Мы обнялись, у обоих в глазах стояли слезы, и в этот самый миг на небе громыхнуло, гулко и мощно, раскат унесся вдаль, и Тонья слегка вздрогнула, затем хлынул ливень. Мы рассмеялись, Тонья убежала в дом за камерой, а вернувшись, одной рукой обняла меня, а другой, вытянутой, сняла нас обоих.
Двое детей – вот кто мы были.
В окно я увидел, как в гостиную вошел Ингве. Он направился туда, где стояли два кресла, остановился перед ними, поглядел, потом двинулся дальше вглубь комнаты и скрылся из вида.
Бутылки валялись даже на дворе перед домом, некоторые закатились под забор, другие застряли в ржавых и выгоревших на солнце шезлонгах, стоявших там самое меньшее с весны.
Тут опять показался Ингве, я не мог различить его лица, только силуэт, когда он тенью проскользнул мимо меня, возвращаясь на кухню.
Я спустился по лестнице и вышел в сад. Ниже бабушкиного участка домов не было, склон тут был слишком отвесным, но у подножия находилась пристань для яхт, а за нею – сравнительно небольшая акватория порта. С восточной стороны сад граничил с соседским участком. Тот выглядел таким же ухоженным, как в прежние времена, и рядом с аккуратностью и заботой, сквозившими во всем, от подстриженной живой изгороди и ровного газона до ярких цветочных клумб, наш производил чахлое впечатление. Проплакав несколько минут, я, обойдя вокруг дома, вернулся в прачечную и продолжил работу. Когда все до последней тряпки было вынесено, я побрызгал пол «Хлорином», вылив сразу полбутылки, отдраил его шваброй и, смыв все из шланга, спустил воду в сливное отверстие. Затем я вылил на пол все зеленое мыло и вымыл снова, на этот раз тряпкой. Еще раз полив все из шланга, я решил, что пока достаточно, и вновь вернулся в кухню. Ингве отмывал шкаф изнутри. Гудела включенная моечная машина. Рабочий стол был прибран и уже помыт.
– У меня перерыв, – сказал я. – Не хочешь составить мне компанию?
– Хочу. Вот только докончу тут, – сказал Ингве. – Может, поставишь кофе?
Я сделал, как он сказал. И тут вдруг вспомнил про бабушкино лекарство. Это не терпело отлагательства.
– Я только сбегаю в аптеку, – сказал я. – Тебе ничего не надо купить, – например, в киоске?
– Нет, – сказал он. – Хотя, впрочем, да. Купи колу.
Выйдя на крыльцо, я застегнул куртку. Куча мусорных мешков перед гаражом с нарядной дверью пятидесятых годов чернела, сверкая на солнце. Темно-коричневый прицеп с опущенным дышлом застыл сиротливо, словно в поклоне передо мной, – как покорный слуга, подумалось мне. Засунув руки в карманы, я пошел к дороге и, сойдя с тротуара, вышел на шоссе – оно уже высохло после дождя. Но на широком откосе оставалось еще много мокрых пятен, и яркая зелень травы сияла на темном фоне гораздо ярче, чем в сухую погоду, когда все вокруг запорошено пылью, цветовые контрасты становятся глуше, и все на свете выглядит одинаково неприметным, бесформенным, все открыто, все на виду в огромной зияющей пустоте. Сколько же таких зияющих пустотой дней я тут прослонялся? Видел эти черные окна в домах, видел, как из конца в конец проносится ветер, как светит сверху солнце, обнажая все мертвое и слепое? Ах, так это же было то время, которым ты больше всего дорожил в этом городе, время, которое тебе казалось тут лучшим из всех, когда все здесь было наполнено жизнью! Синее небо, жаркое солнце, пыльные улицы. Автомобиль с орущей стереоустановкой и откинутым верхом, двое молодых людей на переднем сиденье в одних плавках и солнечных очках едут на пляж… Старушка с собачкой, застегнутая на все пуговицы, на носу огромные солнечные очки, собачка рвется с поводка, ей надо к забору. Самолет с длинным полотнищем, которое он тянет за собой: завтра на стадионе матч. Все открыто, все пусто, мир мертв, а к вечеру все кафе и ресторанчики забиты загорелыми и радостными мужчинами и женщинами в светлой одежде.
Я ненавидел этот город.
Пройдя сто метров по Кухольмсвейен, я очутился у перекрестка, до аптеки было еще сто метров, она находилась в торговом центре. За перекрестком возвышался травянистый склон, наверху которого стояли блочные дома пятидесятых-шестидесятых годов. Через дорогу, на середине склона, располагались помещения для общественных мероприятий «Элевина». Может, поминки после похорон устроить здесь?
Мысль о том, что он умер не только для меня, но и для матери и братьев, дядей и теть, вновь вызвала у меня слезы. Для меня уже не имело значения, что я нахожусь посреди улицы, на тротуаре, по которому все время ходят люди, я их почти не замечал, только все время утирал тыльной стороной руки слезы, в основном из практических соображений, поскольку иначе мне не видно было дороги, и тут меня осенила внезапная мысль: поминки мы устроим не в «Элевине», а в доме дедушки и бабушки, который он разорил и угробил.
Я прямо загорелся этой мыслью.
Мы отмоем каждый чертов сантиметр каждой чертовой комнаты, выкинем все, что он испортил, отберем все, что осталось и годится к употреблению, приведем в порядок весь дом и всех туда созовем. Он сумел все разрушить, а мы все восстановим. Мы – порядочные люди. Ингве, наверное, скажет, что это невыполнимо и что такая попытка бессмысленна, но я буду настаивать. Я имею такое же право, как он, решать насчет похорон. И все, черт возьми, выполнимо. Главное, это все отмыть. Мыть, мыть и мыть.
Очереди в аптеке не оказалось, и, после того как я представил удостоверение личности, провизор в белом халате пошел к полкам и достал таблетки. Сделав надпись на этикетке, он положил их в пакетик и послал меня в кассу на другой стороне зала.
Ощущение присутствия чего-то хорошего, вызванное, может быть, тем, что воздух тут был чуть-чуть прохладнее, заставило меня остановиться и постоять на крыльце.
Серое, серое небо; серый, серый город.
Блестящие кузова машин. Освещенные окна. Провода, протянувшиеся от столба к столбу.
Нет. Не было тут ничего.
Я медленно поплелся к киоску.
Папа не раз заводил речь о самоубийстве, но всегда в отвлеченном смысле, как бы просто рассуждая на эту тему. Он считал, что статистика в этом врет, и на самом деле многие, а не то и все автомобильные аварии с одинокими водителями представляют собой закамуфлированное самоубийство. Он несколько раз говорил, что столкновение со скалой или встречным трейлером было только средством, к которому человек прибегает, чтобы не позорить себя откровенным самоубийством. Это было в то время, когда они с Унни переехали наконец из Северной Норвегии в Сёрланн и пока еще жили вместе. Папа стал почти черным от загара и растолстел как бочка. Он лежал, растянувшись на шезлонге, в саду за домом, и пил, сидел перед домом на веранде и пил, а по вечерам был так пьян, что у него, наверное, все плыло перед глазами, и он на кухне в одних трусах жарил отбивные. Ничего, кроме отбивных, он, насколько я видел, не ел, ни картошки, ни овощей, одни только дочерна подгорелые отбивные. В один из таких вечеров он рассказал, что Йенс Бьёрнебу повесился, привязав себя за ноги на чердаке. Ни мне, ни ему не пришло тогда в голову, что это просто невозможно было проделать без посторонней помощи, при том что он жил в Вейерланне совсем один. Самым приличным по отношению к окружающим в этом случае было, по словам отца, снять номер в отеле, написать письмо в больницу, где было бы сказано, где тебя можно найти, а затем, выпив спиртного, принять таблетки, лечь в постель и уснуть. Трудно даже поверить, что я не увидел за этими рассуждениями ничего, кроме досужих разговоров, думал я теперь, подходя к киоску возле автобусной остановки, однако так оно и было. Он так крепко впечатал в мое сознание свой образ, что я никогда не видел его иным: даже когда он стал совершенно не похож на себя прежнего ни внешне, ни характером и от былого сходства уже почти ничего не осталось, я продолжал видеть в нем того человека, каким он был прежде.
Я поднялся на деревянное крыльцо и зашел в киоск, где кроме продавца не было ни души, взял со стойки возле кассы газету, отодвинул стеклянную дверцу витрины, достал оттуда колу и выложил обе покупки перед продавцом.
– Газета и одна кола, – произнес продавец, подставляя их под сканер. – Еще что-нибудь?
Задавая вопрос, он не смотрел мне в лицо, очевидно заметив, что оно в слезах.
– Нет, – сказал я. – Это все, спасибо.
Я вынул из кармана смятую бумажку и посмотрел на нее. Это была купюра в пятьдесят крон. Я немножко разгладил ее, прежде чем протянуть продавцу.
– Спасибо, – сказал продавец.
У него были волосатые руки, но волос на них был светлый, белая адидасовская футболка, белые тренировочные брюки, наверняка тоже фирмы «Адидас». С виду он совершенно не походил на киоскера, – скорее всего, зашел подменить отлучившегося на несколько минут приятеля. Я взял свои покупки и направился к выходу; навстречу уже входили два десятилетних мальчика с зажатыми наготове деньгами. Их велосипеды валялись брошенные у крыльца. По дороге с обеих сторон тронулись вереницы автомобилей. Надо сегодня же вечером позвонить маме и Тонье. Я зашагал по тротуару, пересек улицу по «зебре» и снова очутился на Кухольмсвейен. Конечно же, поминки надо справлять у себя. Через… шесть дней. К этому времени все должно быть готово. До этого мы должны разместить в газете извещение, разработать план похорон, пригласить гостей, прибраться в доме, навести хотя бы относительный порядок в саду, договориться об угощении и обслуживании гостей. Если вставать пораньше, ложиться попозже и ничем другим не заниматься, вполне можно успеть. Осталось только уговорить Ингве. Ну, и Гуннара тоже. Хотя в самые похороны он не станет вмешиваться, но в том, что касается дома, у него тоже есть право голоса. Ладно, черт побери! Уж как-нибудь договоримся. Поймет же он, в конце концов.
Когда я вошел на кухню, Ингве железной мочалкой отскребал плиту. Бабушка сидела на стуле. Под стулом блестела лужица, должно быть мочи.
– Вот тебе кола, – сказал я. – Я оставлю ее на столе.
– Хорошо, – сказал Ингве.
– Что это у тебя в пакетике? – спросила бабушка, глядя на аптечный пакет.
– Это тебе, – сказал я. – Тесть у меня врач, и, когда я рассказал ему, что тут у нас произошло, он выписал тебе успокоительное. Думаю, это будет кстати. После таких-то переживаний.
Я вытащил из пакета четырехугольную картонную коробочку, открыл ее и достал из нее пластиковую упаковку.
– Что там написано? – спросила бабушка.
– По одной таблетке утром и вечером, – сказал я. – Примешь сейчас?
– Ладно, раз доктор велел, – сказала бабушка.
Я протянул ей упаковку, она открыла ее и вытряхнула таблетку. Оглядела стол.
– Сейчас я дам тебе воды, – сказал я.
– Не надо, – сказала она, положила таблетку на язык и поднесла ко рту чашку с остывшим кофе, дернула головой и проглотила.
– Ага, – произнесла она.
Я отложил газету на стол, обернулся к Ингве, который продолжал оттирать плиту.
– Хорошо, что вы приехали, мальчики, – сказала бабушка. – Может, ты немножко отдохнешь, Ингве? Ты и так совсем заработался.
– Пожалуй, да, – сказал Ингве, снял перчатки и повесил их на ручку плиты, несколько раз провел руками по футболке, вытирая ладони, и сел.
– Я подумал, что надо мне заняться внизу ванной, – сказал я.
– Может, лучше будем оба заниматься одним этажом? – сказал Ингве. – Чтобы не оставаться каждый сам по себе.
Я понял, что ему не хочется оставаться наедине с бабушкой, и кивнул.
– Тогда я примусь за гостиную.
– Вы так трудитесь, – сказала бабушка. – Это же совсем не обязательно.
Почему она это сказала? Потому что стыдится того, на что стал похож дом и что она не сумела содержать его в порядке? Или просто не хотела, чтобы мы от нее уходили?
– Немножко прибраться никогда не мешает, – сказал я.
– Конечно, не помешает, – согласилась она. Затем обернулась к Ингве: – Вы уже договорились в похоронном бюро?
У меня мороз пробежал по коже.
Неужели она все это время была в ясном сознании?
Ингве кивнул:
– Мы заезжали туда утром. Они обо всем позаботятся.
– Это хорошо, – сказала она.
Потом помолчала немного, посидела сгорбившись. Затем вдруг сказала:
– Я не знала, умер он или жив, когда увидела его. Я собиралась уйти к себе и лечь спать, а сначала пожелать ему спокойной ночи, а он не отвечает. Он сидел, как всегда, в кресле. И вдруг смотрю, он мертвый. И лицо все белое.
Я переглянулся с Ингве.
– Ты уже шла ложиться? – спросил он.
– Да, – сказала она. – Мы с ним весь вечер смотрели телевизор. А тут я собралась уходить, а он не двигается.
– За окном было уже темно? Не помнишь? – спросил Ингве.
– Вроде бы да, – сказала она.
Меня едва не вырвало.
– Но ведь когда ты позвонила Гуннару, то было уже утро, помнишь?
– Может, и утром, – сказала она. – Наверное, утром, раз ты говоришь. Да, так и было. Я поднялась наверх и увидела его в кресле. Там, в комнате.
Она встала и вышла из кухни. Мы пошли за ней. Она остановилась посреди комнаты и показала пальцем на кресло перед телевизором.
– Вон там он сидел, – сказала она. – Там он и умер.
Она на секунду закрыла лицо руками. Затем быстро вернулась на кухню.
Через эту пропасть уже никому не перейти, подумал я. Тут ничего не поделаешь. Можно таскать воду ведрами, мыть и мыть, но вымой я даже весь этот чертов дом, это уже ничем не поможет, куда уж тут! Даже мысль о том, чтобы одолеть этот дом и устроить в нем поминки, ничего не изменит. Что бы я ни сделал, все будет напрасно, я ничем не могу заслониться, – того, что было, уже не отменить.
– Нам надо поговорить, – сказал Ингве. – Давай выйдем на веранду.
Я кивнул и пошел за ним следом в другую комнату, а из нее на веранду. Стоял полный штиль. Небо было по-прежнему такое же серое, но над городом чуть посветлело. Из переулка возле дома донеслось урчание автомобиля, отъезжающего на первой скорости. Ингве встал у перил, опершись на них обеими руками и устремив взгляд на море. Я уселся в выцветший шезлонг, но тотчас же вскочил, сгреб бутылки, которые там стояли, и отодвинул их к стенке, поискал глазами пустой пакет, но ни одного не нашел.
– Ты подумал то же, что и я? – спросил наконец Ингве, оторвавшись от перил.
– Кажется, да.
– Его же никто не видел, кроме бабушки, – сказал Ингве. – Она – единственный свидетель. Гуннар его не видел. Она позвонила ему утром, и он вызвал по телефону скорую. Но сам его не видел.
– Да, – сказал я.
– Кто знает, может, он был еще жив. Откуда бабушке было понять? Она нашла его на диване, он ничего не ответил, когда она с ним заговорила, она позвонила Гуннару, и тогда приехала скорая, в доме полно врачей и санитаров, они кладут его на носилки и уносят, на этом конец. А представь себе, вдруг он еще не умер? Вдруг он был мертвецки пьян? Или вроде как в коме?
– Да, – сказал я. – Когда мы приехали, она сказала, что нашла его утром. А теперь говорит, что вечером. Одно это уже…
– У нее начинается маразм. Она же без конца задает одни и те же вопросы. Много ли она понимала, когда дом заполонили врачи и санитары?
– А тут еще хреновы лекарства, на которых она сидит!
– Да.
– Мы же обязаны это выяснить, – сказал я. – Чтобы знать наверняка.
– Черт! Подумай только: что, если он жив? – сказал Ингве. Меня охватил такой ужас, какого я не испытывал с раннего детства. Я заходил взад-вперед вдоль перил, остановился и заглянул в окно, чтобы посмотреть, там ли бабушка, обернулся к Ингве, который опять стоял опершись на перила и устремив взгляд за горизонт. О, черт, черт! По логике вещей получалось, что единственным человеком, кто видел папу, была бабушка, мы слышали только ее свидетельство, а можно ли ему верить, с учетом ее расстроенного ума? Гуннар приехал, когда все уже было кончено, папу уже увезли, и после этого никто больше не связывался ни с больницей, ни с персоналом скорой. В похоронном бюро тоже никто еще ничего не знал. Прошли всего сутки с тех пор, как она его нашла. А он тем временем мог лежать в больнице.
– Может, позвоним Гуннару? – спросил я.
Ингве обернулся ко мне:
– Ему известно не больше нашего.
– Надо еще раз поговорить с бабушкой, – сказал я. – А затем позвонить агенту из похоронного бюро. Наверное, он мог бы это выяснить.
– И я так подумал, – сказал Ингве.
– Ты позвонишь?
– Давай.
Мы вернулись в дом. От внезапного порыва ветра взлетели вверх занавески. Я закрыл дверь и вслед за Ингве поднялся в кухню. Внизу хлопнула входная дверь. Мы с Ингве переглянулись. Что происходит?
– Кто бы это мог быть? – спросила бабушка.
Неужели папа?
Вдруг он вернулся?
Я испугался как никогда в жизни.
Послышались шаги по лестнице.
Я так и знал – это папа!
Черт, черт! Сейчас он войдет.
Я бросился в комнату и направился к веранде, готовый выскочить за дверь, броситься опрометью через газон и прочь из этого города, чтобы никогда больше сюда не возвращаться.
Я заставил себя остановиться. Услышал, как шаги на лестнице словно бы повернули, дойдя до площадки, и, пройдя последние ступеньки, приблизились к гостиной.
Он, наверное, не помнит себя от злости. Что это мы вздумали рыться в его вещах, понаехали тут и влезаем без спроса в его жизнь?
Отшатнувшись, я увидел, как мимо меня на кухню прошел Гуннар.
Разумеется, это Гуннар.
– Вижу, вы тут уже здорово поработали, – раздался из кухни его голос.
Я поднялся к ним наверх. Дураком я себя не чувствовал, скорее испытал облегчение, потому что, если папа придет при Гуннаре, нам будет проще.
Они сидели за столом.
– Я подумал, что успею до вечера отвезти одну партию мусора на свалку – мне как раз по дороге. А завтра утром вернусь с прицепом и немножко тут помогу. Перед гаражом набралось, кажется, столько хлама, что уже свободного места не осталось.
– Да, действительно, – сказал Ингве.
– Можно наполнить еще несколько мешков, – сказал Гуннар. – Собрать одежду из комнат и что там еще валяется.
Он встал из-за стола.
– Ну, пошли, что ли? Это дело недолгое. Зайдя в гостиную, он окинул ее взглядом:
– Можно прямо начать с этих вещей, верно? А то вам на это все время смотреть… Поганое дело.
– Я сейчас все подберу, – сказал я. – Наверное, лучше в перчатках.
Натянув на ходу желтые перчатки, я запихал в черный мешок все, что лежало на диване. Зажмурился, когда рука прикоснулась к засохшему дерьму.
– Подушки туда же, – сказал Гуннар. – И ковер. Он неважно выглядит.
Я сделал, как он сказал, снес все это вниз и закинул в прицеп. Ко мне присоединился Ингве, и вместе мы покидали в прицеп стоявшие перед гаражом мешки. Свою машину Гуннар поставил с другой стороны дома, поэтому мы и не услыхали, как он подъехал. Когда прицеп наполнился, Гуннар и Ингве повторили уже знакомую комбинацию, выезжая по очереди со двора и заезжая задом, пока машина Гуннара не встала к прицепу багажником, так что оставалось подсоединить дышло к фаркопу. Когда Гуннар отъехал, а Ингве вернул свою машину на прежнее место перед гаражом, я сел на крыльцо. Ингве прислонился к косяку. Лоб у него блестел от пота.
– Я был совершенно уверен, что по лестнице поднимается папа, – сказал он, немного помолчав.
– Я тоже, – сказал я.
На той стороне сада снялась с крыши сорока и, распластав крылья, пролетела у нас над головой. Она несколько раз хлопнула крыльями; звуки, какие-то кожаные, казались нереальными.
– Он, конечно, умер, – сказал Ингве. – Иначе быть не может. Но мы должны знать это наверняка. Пойду позвоню.
– А черт его знает, – ответил я. – Нам же все известно только со слов бабушки. А с учетом вечного запоя и всего кошмара, какой творился в этом доме, вполне может оказаться, что он был попросту мертвецки пьян. Очень даже возможно. Это же для него обычное дело, правда. А что она сказала… Как такое вообще может быть, что она сначала якобы нашла его только утром, а потом вдруг говорит, будто вечером? Разве это можно перепутать?
Ингве посмотрел на меня:
– Может быть, он умер вечером. А она подумала, что он просто спит. А утром нашла его. Такое возможно. А ее это так мучает, что она боится признаться, как оно было. Вот она и придумала, будто он умер утром.
– Да, – согласился я. – Тоже может быть.
– Но главного это не меняет, – сказал Ингве. – Я пошел звонить.
– Я с тобой, – сказал я и отправился с ним на второй этаж. Пока он листал записную книжку, разыскивая визитную карточку похоронного агента, я, как мог осторожно, прикрыл дверь на кухню, где сидела бабушка, и вышел во вторую комнату. Ингве набрал номер. Я страшно боялся услышать, что сейчас скажут, но в то же время не в силах был уйти.
– Здравствуйте. Это звонит Ингве Кнаусгор. Мы приходили к вам сегодня утром, помните?.. Да, да, именно так. Так вот… Мы бы хотели узнать, где он сейчас? Тут, видите ли, не все ясно с некоторыми обстоятельствами… Когда его забрали, в доме не было никого, кроме бабушки. А она уже очень старенькая и не всегда вменяема. И вот мы толком ничего не знаем, как было дело. Могли бы вы помочь нам внести ясность? Да… Да… Да. Превосходно. Спасибо вам. Огромное спасибо. Да… До свидания.
Положив трубку, Ингве сверху посмотрел на меня:
– Он сейчас на даче. Но обещал позвонить в несколько мест и все узнать. Попозже он нам перезвонит.
– Прекрасно, – сказал я.
Я сходил на кухню, налил горячей воды в ведро, плеснул туда зеленого мыла, нашел тряпку и вышел в гостиную. Немного постоял, не зная, с чего начать. Мыть пол не имело смысла, сперва надо было выкинуть негодную мебель, да и натопчем мы тут порядком за ближайшие дни, пока будем перетаскивать вещи. Протирать подоконники и дверные рамы, двери и плинтусы казалось слишком мелкой и кропотливой работой, мне хотелось заняться чем-то, от чего был бы заметный результат. Лучше всего приняться за ванную и туалет внизу, там надо отдраивать каждый сантиметр. Вдобавок это было логично, раз уж я начал с прачечной, которая была напротив ванной и туалета. А главное, там я побуду один.
Вдруг слева я заметил какое-то движение и обернулся туда. За окном стояла большая чайка и глядела в комнату. Она постучала клювом в стекло, дважды. И не улетала.
– Ты видел? – громко спросил я Ингве, который находился на кухне. – Тут за окном стоит большущая чайка и стучит клювом в стекло.
Я услышал, как на кухне со стула встает бабушка.
– Надо ее чем-нибудь покормить, – сказала она.
Я подошел к раскрытой двери. Ингве вынимал содержимое шкафов, ставя тарелки и стаканы на рабочий стол. Рядом стояла бабушка.
– Вы видели чайку? – спросил я.
– Нет, – сказал Ингве. – Я в жизни не видел чаек.
Он улыбнулся.
– Она повадилась сюда летать, – сказала бабушка. – Выпрашивать еду. Вот. Это можно ей дать.
Она положила на блюдце котлету, облепленную застывшим соусом, и наклонилась, худенькая и скрюченная, с выбившейся на лоб прядкой черных волос, торопливо нарезая котлету на кусочки.
Я пошел вслед за ней в комнату.
– И она все время так прилетает? – спросил я.
– Да, – сказала бабушка. – Чуть ли не каждый день. Уже больше года, так что привыкла. Ей тут всегда что-нибудь перепадает, она это запомнила. Вот и прилетает сюда.
– Ты уверена, что это одна и та же?
– А как же! Я ее всегда узнаю. А она узнает меня.
Когда бабушка открыла дверь на веранду, чайка соскочила на пол и без малейшего страха подошла к поставленному блюдцу. Я остановился в дверях и смотрел, как она хватает клювом кусочки и запрокидывает голову, чтобы проглотить добычу. Бабушка стояла рядом и глядела на город.
– Вот так-то, – сказала она.
Из комнаты раздался телефонный звонок. Я отступил на шаг от порога, чтобы видеть телефон, и удостоверился, что Ингве взял трубку. Разговор оказался недолгим. Когда он клал трубку, мимо меня прошла бабушка, а чайка вскочила на перила и, постояв несколько секунд, расправила широкие крылья и полетела. В несколько взмахов она поднялась высоко над садом. Я проводил ее взглядом, наблюдая, как она улетает в сторону моря. Сзади подошел Ингве. Я затворил дверь и обернулся к нему.
– Он умер и лежит в подвале больницы. Мы можем посмотреть на него в понедельник после полудня. Кроме того, я записал номер врача, который приезжал по скорой.
– Я не поверю, пока не увижу его, – сказал я.
– Ну, вот и посмотрим, – сказал Ингве.
Через десять минут я уже был возле ванной с бутылкой «Хлорина» и бутылкой «Джифа». Поставив их на пол у порога, я несколько раз встряхнул принесенный с собой мешок для мусора, чтобы легче было его развернуть, и начал собирать в него скопившиеся в ванной вещи. Я начал с того, что валялось на полу: старые куски засохшего мыла, липкие втулки от туалетной бумаги, бутылочки от шампуня, пустые упаковки из-под лекарств из фольги и пластика, закатившиеся в угол таблетки, носки от разных пар, несколько бигуди. Покончив с этим, я открыл настенный шкафчик и выгреб из него все, кроме двух флаконов духов, которые, как мне показалось, были дорогие. Старые бритвы, станки для бритья, засохшие кремы и мази, сеточку для волос, шпильки, несколько кусков мыла, лосьон после бритья, дезодоранты, карандаши для глаз, тюбики губной помады, несколько растрескавшихся подушечек неизвестного мне назначения, вероятно служивших для нанесения косметики, отдельные волосы – одни короткие, курчавые, другие – более длинные и прямые, ножницы для ногтей, моток пластыря, зубную нить, несколько расчесок. Очистив шкафчик от содержимого, я увидел, что полки покрыты толстым слоем желтовато-коричневого налета: им я решил заняться в последнюю очередь. Поскольку кафельные стенки возле держателя для туалетной бумаги были сплошь в больших темно-коричневых пятнах, а плитка на полу стала липкой от грязи, они, как мне показалось, требовали первоочередного внимания. Я попрыскал на кафель «Джифом» и начал методически его протирать от потолка и до пола. Сначала правую стену, затем стену, где висело зеркало, затем стену над ванной и в последнюю очередь ту, где была дверь. Я оттирал каждую плитку в отдельности и в общем и целом потратил на это часа полтора. Время от времени я вспоминал, что как раз здесь шесть лет назад ночью упал дедушка; дело было осенью, он позвал бабушку, она вызвала скорую, а потом сидела и держала его за руку, пока та не приехала. Я впервые подумал о том, что все здесь вплоть до этого дня оставалось, как было при нем. Когда дедушка попал в больницу, выяснилось, что у него уже давно начались сильные внутренние кровотечения. Еще несколько дней, и он бы погиб, в нем почти не осталось крови. По-видимому, он понимал, что с ним что-то неладно, но к врачу идти боялся. Пока однажды не свалился тут в ванной, уже на пороге смерти. И хотя его вовремя доставили в больницу и спасли, он был уже так слаб, что стал потихоньку чахнуть и в конце концов умер.
В детстве я боялся этой ванной комнаты. Бачок, вероятно еще пятидесятых годов, с черным шаром на торчащем вбок металлическом рычаге, то и дело заедал после спуска и потом долго еще шумел. Этот шум из темноты, с этажа, где никто не живет и никого нет, с его чистым синим ковровым покрытием, с гардеробом, где были аккуратно развешаны мужские и женские пальто, со шляпной полкой, где лежали бабушкины и дедушкины головные уборы, и полкой для обуви, где стояли их ботинки, которые, как и вообще все вещи, в моей детской фантазии превращались в живых существ, а разинутый зев лестницы, ведущей наверх, наводил на меня такой страх, что мне только с великим трудом удавалось пересилить себя, чтобы войти в ванную. Я знал, что там никто не прячется, знал, что шум воды – это просто шум, пальто – просто пальто, ботинки – просто ботинки, а лестница – просто лестница, но, вероятно, это как раз и добавляло жути, потому что я не хотел оставаться наедине с этими вещами, я боялся, и мертвизна неживых вещей еще усиливала мой страх. Что-то от тогдашнего мировосприятия сохранилось во мне до сих пор. Сиденье унитаза походило на живое существо, как и раковина, и ванна, и мусорный мешок – черное прожорливое брюхо, развалившееся на полу.
Именно сегодня во мне снова пробудилось это неприятное ощущение, оттого, что тут упал дедушка, и оттого, что накануне в гостиной умер папа, – словно мертвизна неживых предметов соединилась с человеческой мертвизной – дедушки и папы.
Как от этого избавиться?
Да просто мыть, и все. Тереть и драить, отмывать и отскабливать. Смотреть, как плитка за плиткой очищаются и начинают блестеть. Думать о том, что все, что было разрушено, восстановится. Все! Все! И что я никогда, ни при каких обстоятельствах не дойду до такого, как отец.
Вымыв стены и пол, я вылил ведро в унитаз и спустил воду, снял желтые перчатки и повесил их на край пустого красного ведра, думая о том, что надо не забыть срочно купить туалетный ершик. Может, он есть в другом туалете? Я открыл вторую дверь. Так и есть, вот стоит. Придется воспользоваться им, в каком бы он ни был состоянии, а в понедельник купить новый. Направившись к лестнице, я остановился на полпути. Бабушкина дверь была приоткрыта, и я почему-то подошел к ней, отворил и заглянул внутрь.
О господи!
На ее кровати лежал голый матрас без простыни. Она спала на этой грубой подстилке, покрытой пятнами мочи. Рядом с кроватью стояло туалетное кресло, под ним – горшок. Повсюду валялись разбросанные вещи. На окне – засохшие растения. В носу защипало от аммиачного запаха.
Господи, до чего же все загажено! Это же черт знает что! Я снова прикрыл дверь, не до конца, как было, и поплелся на второй этаж. Перила местами совсем почернели от налипшей грязи. Я дотронулся ладонью и почувствовал что-то липкое. С верхней площадки доносились звуки телевизора. Когда я вошел в комнату, то увидел, что бабушка сидит перед ним в кресле и смотрит. Шли новости по второй программе. Значит, сейчас уже около семи.
Как она может сидеть в кресле рядом с тем, в котором он умер?
Желудок сжался, а слезы, которые так и брызнули, и конвульсивные подергивания лица далеко уступали в силе рвотному рефлексу, и это переходящее в панику ощущение дисбаланса и асимметрии словно разрывало меня изнутри. Если бы я умел, то бросился бы на колени и, простирая руки, взывал и взывал бы к Богу, – но я не умел, и пощады ждать было неоткуда: все худшее уже случилось, все было кончено.
Когда я вошел в кухню, там никого не оказалось. Все шкафы были вымыты и, хотя работы оставалось еще много – отмывать стены, пол, ящики, стол и стулья, – но дышать стало легче. На рабочем столе стояла одна из полуторалитровых бутылок с пивом. Этикетка была усеяна мелкими капельками воды. Рядом стояла тарелка с коричневым сыром и сырная лопатка, еще тарелка с желтым сыром и пачка спреда с воткнутым в нее столовым ножом, ручка которого лежала на краю тарелки. На столе лежала хлебная доска, на ней – батон пшеничного хлеба, наполовину высунувшийся из красно-белой упаковки. Перед ним – хлебный нож, отрезанная горбушка, крошки.
Я достал из нижнего ящика мусорный мешок, вытряхнул в него обе пепельницы со стола, завязал его и бросил в наполовину заполненный большой мешок, стоявший в углу, нашел тряпку и вытер стол от табачной трухи, сложил пачки табака и машинку для набивания сигарет на коробку с сигаретными гильзами и задвинул в угол стола под подоконник, открыл окно и поставил его на крючок. Затем пошел искать Ингве. Как я и думал, он сидел на веранде. В одной руке у него был бокал с пивом, в другой сигарета.
– Хочешь тоже? – спросил он, когда я вышел к нему. – Бутылка стоит на кухне.
– Нет уж, спасибо, – отказался я. – После того, что произошло в этом доме, никогда не буду пить пиво из пластиковых бутылок.
Он взглянул на меня и улыбнулся:
– Какой же ты чувствительный! Бутылка стояла нетронутая. Она была в холодильнике. Из этой он точно не пил.
Я закурил сигарету и прислонился спиной к перилам.
– Что будем делать с садом? – спросил я.
Ингве пожал плечами:
– Не можем же мы привести в порядок все.
– А я вот собираюсь.
– Ну да?
– Да.
Сейчас бы как раз изложить ему мой план. Но я так и не решился. Знал, что Ингве начнет возражать, а сейчас мне не хотелось ни затевать споры, ни в них участвовать. Конечно, все это пустяки, но разве не из них состояла вся моя жизнь? В детстве я восхищался Ингве, как все младшие братья восхищаются старшими, его признание было для меня важнее чьего бы то ни было другого, и, хотя он был настолько старше меня, что за порогом наши пути не пересекались, дома мы держались вместе. Разумеется, наши отношения были неравными, – как правило, он верховодил, а я уступал, – но все-таки мы дружили. Тем более что нас объединяло наличие общего врага – папы.
Конкретных событий из детства мне запомнилось не так уж много, но то, что сохранилось в памяти, говорит само за себя. Как мы без конца хохотали над разными пустяками, например во время поездки в Англию. Это было в 1976 году, лето стояло необычайно теплое, и мы жили в палаточном кемпинге. Однажды вечером мы поднимались на гору неподалеку от кемпинга, мимо проехала машина, и Ингве увидел, что парочка в ней тискалась, а мне послышалось, что он сказал «писалась», и мы несколько минут стояли, согнувшись пополам от хохота, и потом еще долго в тот вечер на нас ни с того ни с сего нападал смех.
Чего мне жаль из того, что ушло вместе с детством, так это, наверное, вот этого неудержимого смеха вдвоем с братом по какому-нибудь ерундовому поводу. Как во время той же поездки мы однажды целый вечер играли в футбол на лужайке возле палаток с двумя английскими мальчиками, Ингве в кепке с надписью «Лидс», я – «Ливерпуль»: солнце зашло, над землей опустилась тьма, из палаток доносятся негромкие голоса, я ни слова не понимаю из того, о чем речь, а Ингве с гордостью переводит мне сказанное. Как мы однажды утром, перед тем как двинуться дальше, отправились в бассейн, где я, еще не умея плавать, все равно полез на глубину с мячом, мяч у меня выскользнул и я стал тонуть, в бассейне мы были одни, но Ингве позвал на помощь, и подоспевший на его зов парень меня вытащил, а моей первой мыслью после того, как я откашлял хлорированную воду, которой успел наглотаться, было «только бы мама и папа об этом не узнали». Дней, когда случались подобные вещи, было бесчисленное множество, и они связали нас нерасторжимыми узами. Конечно, и издевался он надо мной, как никто другой, но это было частью наших отношений и по большому счету ничего не меняло, а если я порой ненавидел его, то моя ненависть была так мала, как ручеек по сравнению с морем, как огонь свечи по сравнению с ночью. Он в точности знал, что сказать, чтобы я вышел из себя от злости. Он спокойно смотрел на меня с язвительной усмешкой и подначивал, пока я не доходил до такого исступления, что уже ничего не разбирал, у меня в глазах чернело и я уже не отдавал себе отчета в своих действиях. Я мог тогда изо всех сил запустить в него чашкой, которую держал в руке, или бутербродом, если в руке в это время был бутерброд, или апельсином, а то и броситься на него, ничего не видя от слез и черной ярости, а он, ни на миг не теряя самообладания, крепко брал меня за руки и спокойно приговаривал: «Ладно тебе, ладно, дружочек. Ишь, как разозлился, бедный малыш!» Он знал все мои страхи, и, когда мама уходила на работу в ночную смену, папа – на заседание муниципального совета, а по телевизору повторяли «Безбилетного пассажира», которого обычно показывали попозже – как раз чтобы его не смотрели такие, как я, – он запросто мог выключить свет во всем доме, запереть дверь и, обернувшись ко мне, заявить: «Я – не Ингве. Я – безбилетный пассажир». Я кричал от ужаса и со слезами умолял его сказать, что он – Ингве: «Скажи, ну скажи, что ты – Ингве! Я же знаю, Ингве, что ты Ингве! Ты не безбилетный пассажир! Ты – Ингве!» Еще он знал, что я боюсь звуков, которые возникают в водопроводных трубах, когда включают горячую воду, тогда раздавался пронзительный вой, сменявшийся глухим бульканьем, от которого я спасался бегством: из-за этого у нас даже была договоренность, что он после умывания не будет вынимать затычку из раковины, и я, наверное, с полгода так и мыл по утрам лицо и руки в братниных помылках.
Когда он в семнадцать лет уехал из дома, изменились, разумеется, и наши отношения. После того как отпало все обыденное, образ его личности и той жизни, которой он живет, поднялся в моих глазах на новую высоту, в особенности после его поступления в Бергенский университет. По его примеру и я хотел жить такой же жизнью.
Осенью того года, что я пошел в гимназию, я навестил его в студенческом общежитии «Алрек», где у него была отдельная комната. Выйдя в центре города из аэропортовского автобуса, я первым долгом зашел в ближайший киоск и купил пачку сигарет «Принс» и зажигалку. Я еще никогда не пробовал курить, но давно это планировал и подумал, что подходящий шанс представится, когда я буду один в Бергене. И вот я стою под зеленым шпилем церкви Святого Иоанна, передо мной площадь Торгаллменнинг, полная народа, машин и стеклянного блеска. Над головой – голубое небо, рядом – поставленный на асфальт рюкзак, во рту торчит сигарета, и когда я, ладонью заслонив зажигалку от ветра, закурил, меня охватило могучее, всепобеждающее чувство свободы. Я – один, могу делать, что захочу, впереди у меня вся жизнь. Я немного закашлялся, потому что дым раздражал горло, но следующая затяжка прошла нормально, учитывая обстоятельства, все складывалось хорошо, чувство свободы не ослабло, и я, докурив, засунул красно-белую пачку в карман, закинул за спину рюкзак и отправился на встречу с Ингве. В Кристиансаннской гимназии у меня не было ничего своего, зато был Ингве, а все его было и моим тоже, поэтому я чувствовал не только радость, но и гордость, когда через полчаса, стоя на коленях в его комнате с закопченными выхлопом окнами, перебирал пластинки, занимавшие три ящика из-под винных бутылок. В тот вечер мы пошли в ресторан с тремя его знакомыми девушками, и я воспользовался его дезодорантом «Олд Спайс» и его гелем для волос. Прежде чем выйти из дома, он закатал рукава моей черно-белой полосатой рубашки, такой же, какую в то время, судя по фотографиям, носил Эдж из U2, и поправил мне лацканы. За девушками мы зашли на квартиру к одной из них, они ужасно веселились, узнав, что мне только шестнадцать, и решили, что лучше, чтобы я, проходя мимо швейцара, держался с одной из них за руки, я так и сделал, это был мой первый поход в заведение, в которое пускали начиная с восемнадцати лет. На следующий день мы ходили в кафе «Опера» и кафе «Галери», где у нас была назначена встреча с мамой. Она жила в квартире своей тетки Юханны на Сёндре-Скугвейен, которая через некоторое время перешла к Ингве и где я навещал его в свои последующие приезды в Берген. На следующий год я приехал с магнитофоном, чтобы взять интервью у американской группы Wall of Voodoo, которая в тот вечер выступала в «Пещере». Я не договаривался с ними о встрече, однако по журналистскому удостоверению меня пропустили во время саундчека, и мы стали ждать появления музыкантов возле выхода на сцену. Я стоял в белой рубашке с черным галстуком-шнурком и большим блестящим орлом, в черных брюках и берцах. Но когда группа вышла, я оробел и не решился с ними заговорить. У них был устрашающий вид шайки тридцатилетних наркоманов из Лос-Анджелеса, но тут меня выручил Ингве. «Hey, Мister!» – окликнул он их. Бас-гитарист обернулся и подошел к нам, а Ингве сказал: «This is my little brother, he has come all the way from Kristiansand down south to make an interview with Wall of Voodoo. Is that ok with you!»
«Nice tie», – сказал бас-гитарист, и вот я, весь красный, уже иду за ним в артистическую уборную. Он был во всем черном, плечи сплошь в крупной татуировке, сам черноволосый и в ковбойских сапогах, и оказался дружелюбнейшим человеком, он угостил меня пивом и обстоятельно ответил на все школьнические вопросы из моего списка. В другой раз я, сидя на мягком кожаном диванчике в кафе «Галери», брал в Бергене интервью у Блейна Рейнингера, который только что ушел из Tuxedomoon. Так что для меня было делом решенным и не подлежащим сомнению, что, окончив гимназию, я отправлюсь только сюда, в этот огромный город с его концертными залами, магазинами пластинок и кафе.
После концерта Wall of Voodoo мы посидели в «Пещере» и решили, когда я приеду, основать свою рок-группу. Приятель Ингве Пол будет бас-гитаристом, гитаристом – Ингве, я – ударником, а вокалиста подыщем, когда придет время. Музыку будет писать Ингве, я – сочинять тексты, и однажды, решили мы с ним, мы выступим здесь, в «Пещере». В то время для меня съездить в Берген значило почти что побывать в будущем. На несколько дней я покидал свою нынешнюю жизнь, чтобы заглянуть в будущее, прежде чем вернуться в свое настоящее. В Кристиансанне я был одинок и все должен был завоевывать сам, в Бергене у меня был Ингве, и все, что имел он, само текло мне в руки. Не только рестораны и кафе, магазины и парки, читальные залы и аудитории, но и все его друзья, которые не только знали меня, но и то, чем я занимаюсь, что у меня есть своя музыкальная программа на местном радио и что я пишу о новых пластинках и концертах в «Федреланнсвеннен»; после таких встреч Ингве всегда рассказывал, что они обо мне сказали, в основном находилось что сказать у девушек – мол, я красивый или выгляжу взрослее своего возраста, и так далее, но бывало, что высказывались и парни – особенно запомнилось замечание одного из них, Арвида, дескать, я очень похож на подростка из фильма Висконти «Смерть в Венеции». В их глазах я что-то значил, и это была заслуга Ингве. Он брал меня с собой в «Виндилхютту», где каждый раз встречал с компанией Новый год, а однажды летом, когда я в Арендале торговал на улице кассетами и у меня завелись лишние деньги, мы почти каждый вечер ходили куда-нибудь в ресторан, и как-то вечером Ингве, помнится, удивился, но в то же время явно был горд, что я, выпив пять бутылок вина, еще что-то соображал. Лето кончилось тем, что у меня завязались отношения с сестрой его девушки. В то время он часто фотографировал меня своей зеркалкой «Никон», все снимки черно-белые и ужасно постановочные, а однажды мы вместе пошли в фотоателье, чтобы сфотографироваться там и подарить наш портрет обоим дедушкам и бабушкам. Они получили этот подарок, но, кроме того, наша фотография попала на витрину кристиансаннского кинотеатра, где любой желающий мог полюбоваться на нас, одетых по моде восьмидесятых годов и с прическами того времени, старательно позирующих перед объективом: на Ингве в голубой рубашке с ремешочками на одном запястье, с волосами коротко подстриженными на макушке и длинными на затылке и на мой ремень с заклепками, мой черный пиджак с закатанными рукавами и черные брюки, на мою прическу – еще короче на макушке и еще длиннее на затылке, чем у Ингве, а в довершение всего – на болтающийся в ухе крестик. В то время я часто ходил в кино, чаще всего с Яном Видаром или кем-то еще из твейтских приятелей, и, глядя на эту выставленную в ярко освещенной витрине фотографию, отчего-то не воспринимал ее как что-то, имевшее отношение ко мне и к моей кристиансаннской жизни, обладавшей некоторыми внешними, объективными качествами, – в том смысле, что эта жизнь была привязана к определенным местам, таким как школа, спортзал, торговый центр, и к определенным людям – моим друзьям, одноклассникам, членам футбольной команды; для меня это фото принадлежало иному ряду, интимному и сокровенному, имеющему отношение в первую очередь к ближайшим родственникам и к тому, кем мне еще только предстояло стать, когда я наконец вырвусь отсюда. Если Ингве говорил обо мне со своими друзьями, то я о нем в разговорах с моими никогда не упоминал.
То, что внутреннее пространство было выставлено на всеобщее обозрение, казалось странно и неприятно. Но, не считая отдельных комментариев, особого интереса это ни у кого не вызывало, поскольку я мало кого интересовал вообще.
Закончив наконец в 1987 году гимназию, я, однако, по какой-то причине так и не уехал в Берген, а отправился в маленький поселок на острове в Северной Норвегии и там год проработал учителем. Предполагалось, что по вечерам я буду писать свой роман, а на скопленные из зарплаты деньги поеду на год в Европу; я купил книжку, в которой описывались все возможные и невозможные подработки, потому что думал, переезжая из страны в страну, из города в город, понемножку работать, понемножку писать роман и вести свободную и независимую жизнь, но тут меня за написанные в тот год тексты приняли в новооткрытую Академию писательского мастерства в Хордаланне, и я, польщенный признанием, поменял все планы и девятнадцати лет от роду отправился в Берген, где вопреки всем мечтам о вольной бродячей жизни провел следующие девять лет.
Начиналось все прекрасно. Светило солнце, когда я вышел на рыбном рынке из аэроэкспресса, и Ингве, прирабатывавший в выходные и в каникулы за стойкой в гостинице, встретил меня в хорошем настроении: через полчаса работа у него закончится, и тогда мы, купив креветок и пива, отпразднуем начало моей новой жизни. Мы сидели на крыльце перед его квартирой и выпивали под музыку Undertones, доносившуюся из стереосистемы в одной из комнат. К вечеру мы уже изрядно набрались, вызвали такси и поехали к Уле, одному из приятелей Ингве; выпив у него еще на дорожку, мы отправились в кафе «Опера» и просидели там до закрытия; к нашему столику то и дело кто-нибудь подходил. «Это мой младший братишка Карл Уве, – говорил каждый раз Ингве. – Он приехал в Берген, чтобы учиться в Академии писательского мастерства. Писателем будет». Ингве договорился о жилье для меня на окраине, в Саннвикенене. Девушка, которая там жила, собиралась на год в Южную Америку, и пока квартира не освободилась, мне пришлось пожить у брата на диване. Он все время делал мне замечания по мелочам, так повелось издавна, еще со времен «Алрека», когда я стал приезжать к нему на несколько дней. Брат бранил меня за то, что я режу бурый сыр чересчур толстыми ломтями, что забываю поставить пластинку на место, туда, откуда взял, такие же замечания он делал мне и теперь: что я после душа не вытер за собой насухо пол, что на полу после меня остаются крошки, что я недостаточно аккуратно ставлю иглу на пластинку. Так продолжалось, пока у меня наконец не лопнуло терпение. Мы стояли возле его машины, и он объяснял мне, что в прошлый раз, когда мы садились, я слишком резко захлопнул за собой дверцу. Я в бешенстве закричал, что хватит меня учить. И он перестал – с тех пор я никогда больше не слышал от него замечаний. Однако баланс наших отношений не изменился: это я вошел в его мир и в этом мире как был, так и остался младшим братишкой. Обстановка в академии оказалась непростой, новых друзей я там не приобрел, отчасти потому, что все были старше меня, отчасти потому, что я ни с кем так и не сумел найти никаких точек соприкосновения, поэтому я продолжал ходить хвостом за Ингве, названивал ему, спрашивал, есть ли у него планы на выходные, а так как планы у него были всегда, то нельзя ли мне присоединиться. Да, пожалуйста. Прослонявшись целое воскресенье один по городу или пролежав весь день в своем жилище с книгой на кровати, я к вечеру уже не мог устоять против искушения пойти к Ингве, хотя и говорил себе, что не надо бы этого делать, а надо самому придумать, чем себя занять, но в результате все равно оказывался у него на диване перед телевизором и провел там столько вечеров, что и не сосчитать.
Ингве через некоторое время переселился в дом-коммуну, и для меня это было плохо, потому что делало заметной степень моей зависимости от него; не проходило и дня, чтобы я не постучался к нему в дверь, а если его не оказывалось дома, то оставался в общей гостиной, где меня либо вежливо развлекал разговорами кто-то из соседей, либо сидел один, листая музыкальный журнал или газету, лузер лузером с паскудной карикатуры. Я не мог обходиться без Ингве, а он без меня – мог. Так уж сложилось. В его присутствии я, конечно, мог поболтать с его друзьями, оно создавало между нами какую-то связь, но один? Подняться наверх к кому-то из них? Это выглядело бы странным, и неестественным, и назойливым – нет, это невозможно. К тому же и мое поведение тогда, мягко говоря, оставляло желать лучшего, я слишком часто перебирал спиртного и под настроение вполне мог, придравшись к чему-нибудь, оскорбить человека. Прицепиться к его внешности или какой-нибудь забавной привычке.
Роман, который я написал во время учебы в академии, в издательстве завернули, и я поступил в университет, выбрав скрепя сердце литературоведение, сочинять свое стало некогда и от моего писательства осталась одна мечта. Зато очень сильная, – но много ли в университетской среде тех, кто не мечтал бы об этом? Мы выступали в «Пещере» с нашей рок-группой, Kafkatrakterne, в «Гараже», некоторые наши вещи взяли на радио, о нас появились хорошие отзывы в музыкальных журналах, и это было прекрасно, но я понимал, что меня держат в рок-группе только как брата Ингве, потому что ударником я был никудышным. В двадцать четыре года я вдруг понял, что это и есть моя жизнь, вот такая, как получилась, и другой она вряд ли когда-нибудь станет. Что пресловутые золотые студенческие годы, о которых человек на всю жизнь сохраняет самые радостные воспоминания, для меня свелись к унылой веренице тоскливых и одиноких дней. А что я не понял этого раньше, объяснялось надеждой, продолжавшей жить у меня в душе, всеми этими смешными мечтами, которые мы лелеем в двадцать лет, – о женщинах и о любви, о дружбе и радости, о скрытых талантах и внезапной славе. Но, дожив до двадцати четырех лет, я посмотрел правде в глаза. И я принял это как данность: все, дескать, нормально, есть и у меня тоже свои маленькие радости, не так ли, я же могу вынести сколько угодно одиночества и унижения – в этом я как бездонная бочка, а ну-ка, давайте, мои дни, подходите, кто кого, думал я. Я все приму, я колодец, я кладезь невезения, несчастья, ничтожества, муки, тоски и унижения. Валяйте! Плюйте на меня и поливайте грязью! Я все приму! Я вынесу! Я – сама выносливость! Что девушки, с которыми я пытался завязывать отношения, видели в моих глазах именно это, я нисколько не сомневался. Сплошь мечты, и ни на грош толку. А вот Ингве, у которого и так были и друзья, и занятия в университете, и рок-группа, не говоря уже о девушке, завоевывал всех с одного взгляда.
Что было в нем такого, чего не было во мне? Как получалось, что он всегда мог добиться успеха, а стоило мне заговорить с девушками, как они отворачивались, испуганно или насмешливо? Но как бы там ни было, я старался держаться к нему поближе. Единственным близким другом, который появился у меня в те годы, стал Эспен, поступивший в академию годом позже меня; мы познакомились с ним на отделении литературоведения, когда он попросил меня почитать его стихи. В стихах я ничего не смыслил, но почитал и наплел ему какую-то ахинею, которую он, не разобравшись, принял за чистую монету, после чего между нами возникли дружеские отношения. Эспен был из таких, кто еще в гимназии читал Беккета, он любил джаз и играл в шахматы, носил длинные волосы и отличался нервным и тревожным характером. Он замыкался, стоило собраться больше чем вдвоем, но обладал интеллектуальной открытостью и на второй год нашего знакомства дебютировал со сборником стихов, что вызвало некоторую зависть с моей стороны. Ингве и Эспен символизировали две стороны моей жизни и, что любопытно, не сошлись друг с другом.
Сам того не зная, потому что я всегда делал вид, будто мне почти все уже знакомо, Эспен ввел меня в мир продвинутой современной литературы, где пишутся эссе, посвященные какой-нибудь строчке из Данте, где все чем сложнее, тем лучше, где считается, что искусство должно заниматься высокими материями – не в смысле высокопарности, поскольку мы работали в рамках модернистского канона, но в смысле непостижимости; что точнее всего иллюстрирует «Взгляд Орфея» у Бланшо: ночь в ночи, отрицание отрицания, – того, что возвышается над тривиальностью и, говоря откровенно, ничтожеством нашей жизни, но тогда я также узнал, что и эта наша нелепо короткая жизнь, за которую мы не в состоянии создать ничего из того, чего желаем, в которой все оказывается за пределами наших сил и возможностей, – что и она причастна этому миру, а значит, и тому высшему, потому что ведь есть же книги, и их надо только прочесть, главное, чтобы я сам не закрыл для себя этот путь. Осталось его пройти.
Литература высокого модернизма со всей окружающей ее колоссальной машинерией представляла собой инструмент, форму познания; освоив ее, можно было отбросить ее выводы, не теряя при этом главного, что сохранялось в остатке, – формы, и, если применить ее к собственной жизни, собственным пристрастиям, они в результате представали в совершенно новом и значительном свете. Эспен шел этим путем, а я шел за ним, – как глупая собачонка, конечно, но шел. Я немножко полистал Адорно, почитал кое-что из Беньямина, несколько дней корпел над Бланшо, заглянул в Деррида и Фуко, понюхал Кристеву, Лакана, Делёза, одновременно обложившись стихами Бьёрлинга, Паунда, Малларме, Рильке, Тракля, Эшбери, Мандельштама, Эльдрид Лунден, Томсена и Хауге, на них я тратил по нескольку минут, читая их как прозу, как какую-нибудь книжку Маклина или Бэгли, и не вынес из них ничего, ничего не понял, но уже одно то, что я к ним прикоснулся, что их книги стояли у меня на полке, вызвало сдвиг сознания. Одно то, что я узнал об их существовании, обогатило меня и пусть не привело ни к каким прозрениям, зато подарило новые догадки и ощущения.
Конечно, такими вещами не козырнешь на экзамене или в дискуссии, но к этому я, король приблизительных представлений, и не стремился. Я искал обогащения. Скажем, чтение Адорно обогащало меня не тем, что я у него читал, а новым представлением о себе, его читающем. Я – человек, читающий Адорно! Но в том тяжелом, сложном, обстоятельном, точном языке, который словно стремится помочь мысли взбираться все выше и выше, в котором каждая точка была как крюк, забитый в скалу, присутствовало и нечто еще: этот особенный подход к настроениям реальности, тень, которую отбрасывали предложения и которая вызывала у меня смутное желание применить этот язык с его особым настроем к чему-то реальному, живому. Не к аргументу, а, например, к рыси, черному дрозду или к бетономешалке. Поскольку получалось, что не язык облекает действительность в свои настроения, а, наоборот, действительность сама возникает из них.
Но ничего такого я не формулировал словами: то были не мысли, а разве что смутные догадки, некое неясное настроение. Эту свою сторону я не показывал Ингве, поскольку его она не интересовала, да он и не верил в нее, так как специализировался на медиалогии и разделял принятый в этой дисциплине постулат, что таких вещей, как объективное свойство, в природе не существует, что все суждения относительны и что популярные и непопулярные вещи на самом деле равноценны; но постепенно это различие между нами и то, что я скрывал от него, приобретало для меня все большее значение и сделалось в моем представлении главным, что характеризовало нас как личностей, выявляя разделявшую нас с Ингве немалую дистанцию; соглашаться с ней я категорически не хотел и потому всячески затушевывал все, что с этим связано. О каждом поражении, каждой неудаче, каждом своем крупном промахе я незамедлительно ему сообщал, потому что все, что принизило бы меня в его глазах, мне было на руку, в то время как о своих достижениях я предпочитал умалчивать.
Оно бы все и ничего, если бы я в какой-то момент не начал эти вещи сознавать: теперь я постоянно думал о них в его присутствии и перестал вести себя естественно и импульсивно, я уже не мог запросто болтать с ним обо всем, что придет в голову, а стал говорить обдуманно и расчетливо, взвешивая каждое слово. Точно так у меня стало и с Эспеном, хотя в этом случае все было с обратным знаком: с ним я приглушал другую сторону моей жизни – легкую, ищущую удовольствий. В то время у меня появилась подружка, в которую я никогда не был влюблен, чего ей, разумеется, знать было ни к чему. Наши отношения длились четыре года. Так что приходилось постоянно играть роль – с одним одну, с другим другую. Мало того, я вдобавок еще работал в то время в организации, оказывающей помощь людям с задержкой психического развития, где я не только во всем поддакивал другим сотрудникам – профессионалам из числа младшего медперсонала, – но и принимал участие в их развлечениях, происходящих в таких местах, куда студенты обычно не заглядывают: в простецких пабах с пианистом и хоровым пением, – чтобы усвоить их взгляды, настроения и ход мысли. То немногое, что оставалось во мне моего, я отвергал или тщательно скрывал. Поэтому в моем характере появилась неискренность и уклончивость и ни капли той открытости и твердости, которые я с восхищением наблюдал у некоторых людей, с кем тогда общался. С Ингве мы были слишком близки, чтобы мне судить о нем с уверенностью, так как наше мышление, при всех его достоинствах, имеет один большой изъян: чтобы работать, ему требуется определенная дистанция. Все, что лежит ближе, оказывается во власти чувств. Из-за тех чувств, которые я к нему питал, я многим с ним не делился. Ингве не имел права ошибаться. Мама – имела, ничего страшного, и отец, и друзья, а уж тем более я сам, на это мне вообще было начхать, а вот чтобы ошибся Ингве – это было совершенно немыслимо, он не мог оказаться в дурацком положении или как-то проявить слабость. Но если такое случалось и мне приходилось стыдиться за него, то главным был не стыд, а то, чтобы он этого не заметил, не понял, что я вообще испытываю такие чувства. В таких случаях он, наверное, не мог не видеть, как я прячу глаза, чтобы скрыть эти чувства, бегающий взгляд, казалось бы, выдавал меня с головой, однако понять, в чем причина, было не так-то просто. Когда ему случалось сказать глупость или банальность, это не меняло моего к нему отношения, не роняло его в моих глазах: и переживания, которые я испытывал, были вызваны исключительно тем, что он мог подумать, что мне за него стыдно.
Так было и в тот раз, когда мы поздним вечером сидели в «Гараже», обсуждая издание давно задуманного журнала; вокруг собирался пишущий и снимающий народ, одинаково хорошо осведомленный что о составе команды «Ливерпуль» 1982 года и представителях франкфуртской школы, что об английских рок-группах и норвежских писателях, что о немецком экспрессионистском кино и американских сериалах, поэтому журнал для журналистов, всерьез охватывающий весь спектр подобных интересов – футбол, музыку, литературу, кино, философию, фотографию и искусство, – давно уже представлялся нам хорошей идеей. В тот вечер с нами были Ингар Мюкинг, занимавший в то время должность редактора студенческой газеты «Студвест», и Ханс Мьелва, вокалист нашей рок-группы, а до того – предшественник Ингве на посту редактора. Когда Ингве заговорил о журнале, я как слушатель поставил себя на место Ингара и Ханса. То, что он говорил, показалось мне скучным и самоочевидным, и я опустил глаза. Во время своего рассказа Ингве несколько раз поглядел на меня. Сказать то, что я думаю, то есть поправить его? Или плюнуть, отказаться от своего мнения и поддержать его? Но тогда Ингар и Ханс подумают, что мы оба стоим друг друга. Этого мне тоже не хотелось. Тогда я избрал золотую середину и не сказал вообще ничего, одновременно как бы соглашаясь и с Ингве, и с той оценкой его слов, к которой, как мне казалось, пришли Ингар и Ханс.
Трусил я часто – боялся кого-нибудь обидеть и держал свои мысли при себе, но на этот раз обстановка обострилась, во-первых, потому, что дело касалось Ингве, которого я хотел видеть на высоте, поскольку раз и навсегда отвел ему место выше себя, а во-вторых, потому, что в игру вступило тщеславие, то бишь публика, и я не мог ограничиться поддакиванием.
В большинстве случаев то, что мы делали вместе с Ингве, делалось на его условиях, а свои собственные занятия – чтение и писательство – я выносил за скобки. Но время от времени эти два мира встречались, что было неизбежно, так как Ингве тоже занимался литературой, хотя ставил себе другие задачи, отличные от моих. Так, например, случилось, когда я должен был взять интервью для студенческого журнала у писателя Хьяртана Флёгстада, и Ингве предложил сделать это вместе, на что я не раздумывая согласился. Флёгстад с его сочетанием народности и интеллектуализма, его теориями о высоком и низком, его недогматическими и независимыми левыми убеждениями и не в последнюю очередь с его игрой слов, был любимым писателем Ингве. Ингве и сам славился каламбурами и остротами, а в области литературной теории отстаивал идею, что ценность литературного произведения рождается в восприятии, а не существует сама по себе и что аутентичность в той же мере вопрос формы, что и неаутентичность. Для меня Флёгстад был в первую очередь великим норвежским писателем. Интервью с ним мне заказал маленький новонорвежский студенческий журнал TAL, для которого я уже раньше брал интервью у поэта Улафа Х. Хауге и у писательницы Карин Му. Над интервью с Улафом Хауге мы работали совместно с Эспеном и другом Ингве Асбьёрном, который делал фотографии, так что согласиться на совместную работу с Ингве было только естественно. Интервью с Хауге прошло удачно, несмотря на ужасное начало. Я не предупредил писателя, что мы явимся втроем, – он ожидал меня одного и, когда увидел, что в машине сидят трое, сначала вообще не хотел нас впускать в дом. «Ишь, да вы целой оравой», – заявил он с порога, и от этого сурового, рубленого вестланнского говора я вдруг почувствовал себя этаким развеселым, незадачливым, легкомысленным, восторженным, импульсивным, краснощеким эстланнцем. Хауге был насельник обители духа, он крепко врос в эту землю, я же приехал в его края туристом, взяв с собой знакомых, чтобы вместе поглазеть на этот феномен. Такое у меня сложилось ощущение, и, судя по хмурому, почти враждебному приему, такое же ощущение было у Хауге. Но потом он все-таки сказал: «Ладно уж, заходите» и первым зашел в дом, впустив нас следом. Мы тут же составили на пол сумки и футляры с фотоаппаратурой. Асбьёрн вынул камеру и направил ее против света, мы с Эспеном достали свои заметки. Хауге сел на лавку у стены и смотрел себе под ноги. «Не могли бы вы встать у окна, – попросил его Асбьёрн. – Там хорошее освещение, и мы могли бы сделать несколько снимков». Хауге взглянул на него исподлобья, на глаза ему свесился клок волос. «Какого черта тут снимать! Даже не вздумайте», – сказал он. «Извините, не будем», – сказал Асбьёрн. Он отошел в сторонку и послушно убрал камеру. Эспен сидел рядом со мной и с ручкой в руке листал свои записи. Зная его, я понимал, что он делает это не для того, чтобы сосредоточиться. Надолго воцарилось молчание. Эспен взглянул на меня, взглянул на Хауге. «У меня есть вопрос, – сказал он. – Можно его задать?» Хауге кивнул и отбросил свесившийся чуб легким и женственным движением, неожиданным на фоне маскулинной молчаливости и неподвижной позы. Эспен начал читать вопрос по записной книжке, тот был сформулирован сложно и включал в себя анализ одного из стихотворений. Когда он закончил, Хауге, не поднимая глаз, сказал, что не обсуждает свои стихи.
Я читал вопросы Эспена, они все касались стихов Хауге, а раз Хауге не обсуждает свои стихи, то все они отпадали.
Засим последовало продолжительное молчание. Эспен тоже помрачнел и замкнулся, как Хауге. «Что поделаешь, – поэты!» – подумал я. Рядом с их тяжелым молчанием я почувствовал себя легковесным дилетантом, который ничего толком не знает, кроме футбола, разве что имена каких-нибудь философов да поп-музыку самого простенького пошиба. Один из текстов, которые я написал для нашей рок-группы, назывался «Ты так плавно качаешься», вряд ли это можно назвать поэзией. Однако надо было вступать в разговор, так как стало ясно, что Эспен больше не произнесет ни слова, и я начал с того, что спросил Хауге про Йолстер, где жила моя мама и откуда родом был художник Аструп, к которому Хауге проявлял интерес и даже написал о нем стихотворение. Между ними существовало очевидное родство душ. Но об этом он говорить не пожелал, а завел речь о том, как однажды, давно, судя по всему в шестидесятые годы, посетил эти места, и все имена в ходе своего рассказа, во время которого так и сидел, не поднимая глаз от пола, он упоминал так, словно они всем знакомы. Мы их никогда не слыхали, так что рассказ прозвучал для нас невразумительно, как что-то сугубо личное, не представляющее общего интереса. Я задал вопрос о переводе. Асбьёрн добавил еще один, ответы были в том же отрешенном стиле, казалось, что он просто ведет беседу с самим собой. Или, вернее, с половицей, на которую был устремлен его взгляд. Не интервью, а катастрофа! Но тут, примерно через час после того, как мы начали в этом духе, вдруг подъехала еще одна машина. Это были представители местной радиокомпании NRK Хордаланн, которые приехали к Хауге записать несколько его стихов в авторском исполнении, они приступили к работе, но оказалось, что они забыли кабель, поехали за ним, и тут внезапно настроение Хауге совершенно переменилось, он вдруг исполнился к нам дружелюбия, стал шутить и улыбаться, мы теперь как бы пришлись кстати в качестве противовеса новым репортерам из NRK, лед был сломан, и дружелюбный настрой остался, даже когда NRK закончила запись и отправилась восвояси, был открыт и приветлив – не сравнить с началом нашего интервью. Потом пришла его жена с только что испеченным яблочным пирогом, а когда мы наугощались, он показал нам свой дом, сводил нас в библиотеку на втором этаже, которая служила ему рабочим кабинетом, я увидел на столе блокнот с надписью «Дневник» на обложке, он доставал с полок книги и говорил о них, среди прочих, помнится, была книга Юлии Кристевой, потому что я подумал: «Эту ты уж точно не читал (Хауге ведь не учился в университете), а если и прочитал, то ничего в ней не понял», и тут, когда мы спускались по лестнице, он вдруг сказал что-то очень значительное и глубоко прочувствованное о смерти, тон его был лаконичен, и в нем слышалась покорность судьбе, однако чувствовалась и скрытая ирония, и я подумал, что это надо будет запомнить, это важно, это надо сохранить в памяти на всю жизнь, но, когда мы проезжали вдоль Хардангер-фьорда, возвращаясь домой, я уже забыл, что он сказал. Мы тогда вышли из дома, я – впереди, он – на несколько шагов позади, Эспен и Асбьёрн уже ждали нас во дворе, пора было делать снимки. Пока Хауге сидел нога на ногу на каменной скамейке, а Асбьёрн, то приседая перед ним, то снова выпрямляясь, щелкал его в разных ракурсах, мы с Эспеном, отойдя в сторонку, курили. Стоял погожий осенний день, холодный и ясный; когда мы утром ехали сюда из Бергена, над фьордом поднимался ледяной туман. Кроны на горных склонах были желтые и красные, фьорд внизу – гладкий как зеркало, водопады – огромные и белые. Я был доволен – интервью закончилось, оно прошло удачно – но в то же время и взбудоражен, было в Хауге что-то такое, что наполняло меня беспокойством. Что-то такое, что никак не хотело успокаиваться, но откуда бралось это чувство, я не знал. Он был стар и одевался как старик – фланелевая рубашка, стариковские брюки, тапки и шляпа, – однако в нем самом не было ничего старческого, в отличие, например, от маминого отца или папиного дяди Алфа; напротив, когда он вдруг заговорил с нами открыто и принялся показывать нам разные вещи, в нем проглянуло такое детское простодушие и непосредственность, такое дружелюбие и в то же время такая ранимость, какая бывает у одинокого мальчика, когда кто-то вдруг проявит к нему интерес, – ничего похожего нельзя было даже представить себе у дедушки или у дяди Алфа, которые если и демонстрировали что-то подобное, то лет, наверное, шестьдесят тому назад. Впрочем, нет, он не то чтобы открылся перед нами, скорее это было его естественное состояние, которое он прятал за кажущейся нелюдимостью. Я нечаянно подсмотрел, чего мне не следовало видеть, потому что тот, в ком это вдруг прорвалось, не знал, как это выглядит со стороны. Ему было уже за восемьдесят, но в нем ничего не умерло и не закостенело, а жить так, как он, думается мне теперь, наверное, очень больно. А тогда это наполнило меня лишь неясным беспокойством.
– А можно сделать несколько снимков под яблонями? – спросил Асбьёрн.
Хауге кивнул, поднялся со скамейки и пошел за Асбьёрном к яблоням. Я нагнулся и загасил сигарету о землю, а выпрямившись, стал смотреть, куда бы выбросить окурок, не мог же я кинуть окурок у него на дворе, но так и не найдя ничего подходящего, сунул его в карман.
Окруженные со всех сторон горами, мы чувствовали себя словно под высокими сводами храма. В воздухе все еще чувствовались какие-то остатки ласкового тепла, как это часто бывает в Вестланне осенью.
– Как думаешь, можно попросить его почитать нам свои стихи? – спросил Эспен.
– Спроси, если хватит духу, – сказал я, глядя в сторону улыбающегося Асбьёрна.
Если для Эспена Хауге был поэт, то для Асбьёрна он был живой легендой, и вот ему довелось не спеша фотографировать этого человека. Закончив съемки, мы вернулись в комнату, чтобы забрать наши вещи. Я вынул книгу, купленную в магазине по дороге сюда – полное собрание стихотворений Хауге – и попросил, если можно, надписать его для моей матери.
– Как ее звать? – спросил он.
– Сиссель, – ответил я.
– А дальше?
– Хатлёй. Сиссель Хатлёй.
«Сиссель Хатлёй с приветом от Улафа Х. Хауге» – написал он и отдал мне книгу.
– Спасибо, – сказал я.
Он проводил нас до двери. Стоя к нему спиной, Эспен вытащил приготовленную заранее книгу. Внезапно обернувшись, он обратился к Хауге, лицо его светилось смущением и надеждой.
– Не могли бы вы прочесть нам стихотворение, а?
– Ну да, отчего же не прочитать, – сказал Хауге. – Которое вы хотели бы услышать?
– Может быть, про кошку? – сказал Эспен. – Кошка на дворе? Как раз подходит к месту, хе-хе-хе.
– Ну-ка посмотрим, – сказал Хауге. – Вот оно.
И он прочитал:
Кот сидел Посреди двора, Когда ты вернулся. Потолкуй с ним — Тут ему все виднее.Все заулыбались, и Хауге тоже.
– Стишок-то коротенький, – сказал он. – Хотите еще один?
– Да, пожалуйста! – сказал Эспен.
Немного полистав книжку, Хауге снова принялся читать:
Пора урожая Последние дни сентябрьского солнца, пора урожая. Еще осталась в лесу брусника, и ал шиповник вдоль прясел. Паутина провисла; черные гроздья светятся в ежевичнике, дрозды добирают остатки смородины, осы досасывают сладость из слив. Ближе к вечеру убираю в сарай корзину и лестницу. Исхудавшие ледники вдали уже подернулись новым снегом. Я ложусь и слышу грохот рыбацких моторок – пошла сардина. Я знаю: ночь напролет их фонари будут рыскать по глади фьорда.Когда мы стояли, опустив глаза, и слушали, как он читает, я подумал, что это великий, особенный миг, дарованный нам судьбой, но даже эта мысль не смогла задержаться надолго, потому что миг этот, освященный стихами, прочитанными их создателем там, где они создавались, был для нас слишком велик, он принадлежит бесконечности, – куда нам, таким молодым, понять его нашим воробьиным умом? Нет, мы были на это неспособны, и что до меня, то я переминался с ноги на ногу во время чтения. Это было почти непереносимо. Судьба подшутила над нами, придав, по крайней мере, форму той будничной действительности, которая нас окружала. О, прекрасное, как к тебе подступишься? Чем тебя встретить?
Хауге поднял руку, чтобы помахать нам на прощание, а когда Асбьёрн завел мотор и тронулся в сторону шоссе, он уже скрылся в доме. Я чувствовал себя так, как бывает, когда ты целый день провел летом на солнце, – отяжелевшим и обессиленным, хотя, казалось бы, ты не делал ничего, а только неподвижно лежал с закрытыми глазами на прибрежном камне. По дороге Асбьёрн завернул в кафе за своей подругой Кари, она просидела там все время, пока длилось наше интервью, ожидая его возвращения. Первые несколько минут мы говорили о своих впечатлениях, потом в машине воцарилось безмолвие, мы сидели, глядя в окна на удлиняющиеся тени, густеющие на глазах краски, дующий с фьорда ветер, который трепал волосы вышедших на улицу людей, на развевающиеся перед киосками газетные листы, на этих вечных ребят-велосипедистов, которых так часто видишь в маленьких поселках. Придя домой, я сразу же засел за расшифровку магнитофонной записи; зная по опыту, что сопротивление голосов и вопросов и всего материала со временем усиливается, я взялся за дело сразу, пока все впечатления относительно близки и тебя еще не одолели сомнения и стыд. Проблема, как я вскоре понял, оказалась в том, что все лучшее происходило за пределами магнитофонной записи. Оставался единственный выход – самому написать все, как было, передать наше первое впечатление: как он встретил нас цедящим слова интровертом, затем резкая перемена настроения, яблочный пирог, библиотека. Эспен написал вводную часть о творчестве Хауге и некоторые аналитические пассажи по ходу дела, которые создавали удачный контраст с моими наблюдениями. От редактора журнала TAL Ханса Мариуса Ханстеена – студента-философа, новонорвежиста и ученика Юханнесена – мы узнали, что Хауге остался доволен нашей работой; в разговоре с Георгом Юханнесеном он назвал интервью одним из лучших, какие у него когда-либо брали, но это вряд ли соответствовало истине – нам было всего двадцать лет, а что до суждений Хауге о других людях, то в них преобладала вежливость в ущерб правдивости; однако оно ему понравилось настолько, что мне потом позвонила его жена и попросила прислать еще несколько экземпляров для подарков друзьям и знакомым; это уже немало, подумал я позднее, почитав его дневники, в которых проступал не такой уж и лестный образ автора. Он сознавал, конечно, свою стариковскую брюзгливость, но ее словно не замечали на фоне всеобщего к нему уважения, – что он со своим правдолюбием, скрытым под многослойным покровом вежливости и добропорядочности, не всегда одобрял.
Спустя полгода пришел черед Хьяртана Флёгстада. Когда я позвонил ему по телефону, он сказал, что читал интервью с Хауге, и охотно согласился дать интервью для журнала TAL. Будь я один, я бы от нервозности и почтения прочитал все его книги, составил бы тщательно продуманный список вопросов, которых хватило бы для многочасовой беседы, и записал бы ее всю на магнитофон, так что какими бы глупыми ни оказались мои вопросы, это не отразилось бы на его ответах, – потому что они задавали бы тон в магнитофонной записи, невзирая на мои несовершенные высказывания. Но поскольку в интервью должен был участвовать Ингве, я нервничал меньше. Полагаясь на него, я не прочел всех книг, а вопросы набросал приблизительно; учитывая наши с Ингве отношения, я не хотел выглядеть в этом разговоре педантом, встревающим со своими поправками, – вдруг ему покажется, будто я считаю себя умнее его, – и в результате, когда мы ранней весной, то ли в конце марта, то ли в начале апреля, приехали в Осло, чтобы встретиться с Флёгстадом возле одного из кафе Бьёлсена, я был готов к предстоящему интервью менее, чем когда-либо до или после; ко всему прочему мы с Ингве еще и условились не пользоваться никакими диктофонами и магнитофонами и не делать по ходу интервью никаких записей, сковывающих и формализующих разговор: нам хотелось эдакой импрессионистской непринужденной беседы, ощущения «здесь и сейчас». Правда, выдающейся памятью я похвастаться не могу, зато у Ингве память была как у слона, а если записать потом сказанное по горячим следам, дополняя друг друга, то мы, как нам казалось, сумеем вдвоем восстановить всю картину. Флёгстад вежливо провел нас в кафе, выдержанное в темных, дымчатых тонах, мы уселись за круглым столиком, повесили пиджаки на спинки стульев, вынули листы с вопросами и сказали Флёгстаду, что собираемся обойтись без блокнотов и магнитофонных записей; услышав это, Флёгстад сказал, что наше решение заслуживает уважения. Однажды у него уже брал интервью журналист из шведской газеты «Дагенс нюхетер», он не делал никаких записей, но содержание передал безупречно, – по словам Флёгстада, такой профессионализм не может не внушать уважения. В ходе интервью я внимательно следил как за тем, что говорит Ингве, так и за реакциями Флёгстада, обращая внимание на то, что и каким тоном он произносит, а также на его жесты и мимику, в то же время стараясь следить за содержанием разговора. Мои вопросы касались происходящего как за нашим круглым столом, так и в его книгах, – больше на тот случай, если понадобится как-то дополнить или пояснить ситуацию. Интервью продолжалось час, и, когда мы на прощание пожали ему руку, выражая благодарность за то, что он согласился с нами встретиться, он ушел, направляясь, очевидно, домой, мы же остались в веселом и радостном расположении духа, – все ведь прошло как нельзя лучше, не так ли? Мы поговорили с Флёгстадом! Мы были в таком приподнятом состоянии, что ни у меня, ни у Ингве не было настроения сесть и сейчас же изложить на бумаге все, что было сказано, и мы отложили дело до завтра, тем более что была суббота и по телевизору скоро начиналась футбольная трансляция, можно было посмотреть ее в каком-нибудь пабе, а потом сходить еще куда-нибудь – не так уж часто мы бывали в Осло… На следующий день мы уезжали, тут снова оказалось не до того, чтобы что-то записывать, а вернувшись в Берген, мы разошлись по домам. Если дело можно было отложить на три дня, то отчего не подождать еще три? И еще три, и еще… К тому времени, когда мы наконец сели писать, в памяти уже мало что оставалось. Вопросы у нас, конечно же, сохранились, они стали хорошим подспорьем, мы более или менее представляли себе, что он на них отвечал, отчасти полагаясь на то, что запомнили, а отчасти на наши представления о том, что он мог бы сказать. Писать предстояло мне – редакционное задание было оформлено на меня, к тому же я по своей вине затянул работу, и вот, кое-как состряпав несколько страниц, я понял, что они никуда не годятся, все слишком смутно и неопределенно; тогда я предложил Ингве встретиться и позвонить Флёгстаду, чтобы задать ему по телефону несколько дополнительных вопросов. Мы засели за письменный стол на квартире у Ингве в Блекебаккене и набросали несколько новых вопросов. Сердце у меня бешено колотилось, когда я набирал номер Флёгстада, не легче стало и когда я услышал на другом конце его сдержанный голос. Но я как-то все же сумел объяснить нашу просьбу, и он согласился потратить на нас еще полчаса, хотя, судя по его голосу, он догадался, в чем дело. Я задавал вопросы, он отвечал, а Ингве сидел, ни дать ни взять секретный агент из романа, прижав к уху параллельную трубку, и записывал все, что говорилось. Теперь у нас было в руках что-то конкретное. Я вставил в свой смутный и приблизительный текст новые предложения, куда более содержательные, и они добавили окружающему тексту аутентичности. Когда я в придачу написал вступление, посвященное творчеству Флёгстада, и добавил ряд вставок фактологического и аналитического характера, то получилось в общем не так уж плохо. Флёгстад просил, чтобы ему дали прочитать интервью, прежде чем оно пойдет в печать, я послал ему текст, сопроводив несколькими любезными словами. Всегда ли он требовал интервью для предварительного просмотра или поступил так только с нами, самоуверенно решившими обойтись без записей, этого я не знаю, но, поскольку в конце концов мне удалось привести все в приличный вид, я и не стал ломать над этим голову. Правда, шевелилось в душе какое-то неприятное чувство при мысли о неточных пассажах, но я гнал его от себя; в конце концов, нет такого правила, чтобы передавать слова интервьюируемого дословно. Поэтому, когда через несколько дней пришло письмо Флёгстада и я достал его из почтового ящика, я был спокоен и не ожидал ничего плохого. Однако руки у меня все же вспотели и сердце забилось учащенно. Пришла весна, солнышко пригревало, и я в кроссовках, одетый в джинсы и майку, собрался ехать в консерваторию – брать очередной урок игры на ударных у товарища моего двоюродного брата. Наверное, лучше было, не вскрывая конверт, положить его дома, потому что времени у меня оставалось в обрез, но любопытство не давало мне покоя, и я вскрыл его на ходу, шагая к автобусной остановке. Вынул страницы с текстом нашего интервью. Он был весь испещрен красными чернилами, подчеркнутыми строчками и замечаниями на полях. «Этого я никогда не говорил», – увидел я. Дальше вижу: «Неточно». Затем: «Нет, нет». Далее: «???» Затем: «Откуда это взялось?» Почти в каждом предложении были те или иные пометки. Я застыл на месте, уставившись в текст. Казалось, я падаю. Проваливаюсь в какую-то тьму. Приложенное к тексту сопроводительное письмо я прочел как можно быстрее, в лихорадочной спешке, словно желая поскорее пережить тот позор, который закончится вместе с последним словом. Письмо заканчивалось словами: «Полагаю, что лучше всего, если это нигде не будет напечатано. С уважением. Хьяртан Флёгстад». Когда я сдвинулся с места на заплетающихся ногах, вновь и вновь пробегая на ходу глазами красные пометки, на душе у меня царило полное смятение. Пылая от стыда, я ехал в автобусе, который медленно полз к университетскому госпиталю Хаукеланн, и в голове у меня крутились одни и те же мысли. Я ничего не умею, я – не писатель и никогда им не стану. Все, чему мы так радовались после разговора с Флёгстадом, казалось теперь смешным и никуда не годным. Вернувшись домой, я позвонил Ингве, который, к моему удивлению, принял это довольно спокойно. «Жалко же так это бросить, – сказал он. – Ты уверен, что не можешь немного подправить и послать ему новый вариант?» Когда первые отчаянные переживания немного улеглись, я еще раз перечитал комментарии и сопроводительное письмо Флёгстада и увидел, что его комментарии касались также моих комментариев, как, например, сравнения с Кортасаром, а ведь это, кажется, уже не его компетенция? Вмешиваться в мое понимание его книг? Мои суждения? Я сказал ему об этом в новом письме, в котором я соглашался с тем, что интервью местами страдает неточностями, но некоторые вещи все-таки были им сказаны, я знаю это, потому что во время телефонного разговора делал письменные заметки, а кроме того, он оспаривает мои, то есть журналистские, комментарии, а значит, выходит за рамки своих полномочий. Если он хочет, я мог бы, отталкиваясь от его замечаний и добавлений, сделать еще одно, телефонное интервью и прислать ему новый вариант? Несколько дней спустя от него пришло вежливое, но решительное письмо, в котором он соглашался со мной в том, что некоторые из его комментариев относятся к моим мнениям, но это, мол, не меняет дела: интервью не должно пойти в печать. Когда я оправился от испытанного унижения, на что потребовалось приблизительно полгода, – в течение этих месяцев, стоило мне только увидеть лицо Флёгстада, его книги или статьи, я каждый раз испытывал чувство глубокого стыда, – то постепенно превратил этот эпизод в забавную историю. Брату не понравилось, что мы с ним выступали в ней в смешной роли, в нашем унижении он не видел ничего комического, а вернее сказать, не замечал унизительности. Вопросы мы задавали хорошие, беседа с Флёгстадом была интересной по содержанию – вот впечатление, которое пожелал вынести из этой истории он.
В Бергене у меня четыре года почти ничего не происходило, жизнь словно замерла на месте. Я хотел писать, но не мог, вот и все, что можно об этом сказать. Ингве набирал баллы за пройденные курсы в университете и жил как сам хотел, во всяком случае, так это выглядело со стороны, но в какой-то момент у него начался застой, он долго не мог закончить диссертацию, работая над ней без особенного усердия, – потому что почил на старых лаврах, а возможно, потому, что в это время в его жизни происходило много других событий. После того как диссертация о «звездной системе» в кинопроизводстве была наконец сдана, он некоторое время оставался без работы, я же тогда в качестве альтернативной службы стал работать на студенческом радио и постепенно вошел в другую среду, отличную от его окружения, а главное, я в ту зиму встретил Тонью, стремительно влюбился, и мы стали жить вместе. Я сам не заметил, как моя жизнь радикально переменилась, я по-прежнему видел себя в том образе, какой принял в первые годы своей жизни в Бергене, а тут Ингве внезапно покинул Берген, получив работу в отделе культуры в муниципалитете Балестранна; вероятно, это было не совсем то, о чем он мечтал, но начальства над ним там не было, так что практически он сам ведал всем отделом культуры; в коммуне действовал джазовый фестиваль, которым ему досталось заниматься, а со временем к нему присоединился его друг Арвид, которого взяли на работу в тот же муниципалитет. Ингве встретил Кари Анну, с которой они были знакомы еще по Бергену, она работала там учительницей, они поженились, и у них родился ребенок, Ильва, а через год они переехали в Ставангер, где Ингве очертя голову ринулся в доселе совершенно чуждую ему область, занявшись графическим дизайном. Я был рад за него, но в то же время мне было тревожно: плакат ко Дню Хундвогена и афиша к местному мероприятию – достаточно ли этого?
Мы никогда не касались друг друга, даже руку не пожимали при встрече, и редко заглядывали друг другу в глаза.
Все это жило во мне, когда мы с ним оказались на веранде бабушкиного дома тем теплым летним вечером 1998 года, я – стоя спиной к саду, он – сидя в шезлонге у стены. Думал ли он о моих словах, что я все возьму на себя, включая сад, или пропустил их мимо ушей, понять по его лицу было невозможно.
Я отвернулся и загасил сигарету о нижнюю сторону чугунной балюстрады. На бетон просыпалось немного крошек табаку и золы.
– А пепельницы тут нет? – спросил я.
– Вряд ли, – сказал он. – Вон бутылка. Можешь воспользоваться.
Я сделал, как он сказал, – засунул окурок в горлышко зеленой бутылки из-под «Хейнекена». Если я предложу проводить поминки здесь, на что он наверняка скажет, что это невозможно, различие между нами, которого я не хотел обнажать, проявится со всей отчетливостью. Он предстанет практичным реалистом, я же идеалистом, которым управляют эмоции. Папа был отцом нам обоим, но каждому по-разному, и то, что я хотел воспользоваться похоронами как поводом все восстановить, могло на фоне того, что я все время плакал, а Ингве пока не проронил ни слезинки, создать впечатление, будто я выказал больше сердечности, что, как мне казалось, могло быть понято как скрытая критика реакции Ингве на его смерть. Сам я этого так не воспринимал, но опасался, что такое восприятие возможно. К тому же подобное предложение послужит толчком к разногласию. Пустяковому, конечно, но в нынешней ситуации я не хотел, чтобы нас разделяло хоть что-то.
Тоненькая струйка дыма, клубясь, тянулась из горлышка бутылки к стене. Значит, огонь погас не до конца. Я стал озираться, чем бы прикрыть отверстие. Может быть, блюдцем, с которого бабушка кормила чайку? На нем еще оставалось два кусочка котлеты и немного застывшего соуса. «Сгодится», – подумал я и осторожно, чтобы не упало, водрузил его на горлышко.
– С чем это ты там возишься? – спросил Ингве, поглядев в мою сторону.
– Мастерю небольшую скульптуру, – сказал я. – Под названием «Котлета и пиво в саду». Или, если угодно: «Carbonade and beer in the garden».
Я выпрямился и отступил на шаг.
– Главное – это сочащийся из бутылки дымок, – сказал я. – Это ставит произведение в интерактивные отношения с окружающим миром. Это не просто скульптура. А остатки еды – это разложение. Тоже интерактивность, поскольку это процесс, нечто в движении. Возможно, движение как таковое. В противовес статическому началу. А пивная бутылка – пуста, она больше не выполняет никакой функции, ибо что такое сосуд, который ничего не содержит? Он ничто. Но ничто имеет форму, понимаешь? И эту форму я попытался здесь передать.
– Ага, – сказал Ингве.
Я вынул новую сигарету из пачки, которая лежала на ограде, и закурил, хотя мне уже не хотелось.
– Слушай, – сказал я.
– Да? – отозвался он.
– Я вот о чем думаю, и уже давно. А не устроить ли нам поминки здесь? Тут, в доме. За неделю мы, если хорошо постараться, вполне сумеем привести все в порядок. Это в том смысле, что он тут все разрушил. А мы не хотим с этим мириться. Понимаешь, о чем я?
– Да, конечно. Но ты действительно считаешь, что мы успеем? В понедельник вечером мне надо возвращаться в Ставангер. А сюда я смогу приехать не раньше четверга. Может быть, в среду, но скорее все же в четверг.
– Успеем, – сказал я. – Так ты согласен?
– Да. Вопрос только, как к этому отнесется Гуннар.
– А это не его дело. Это же наш отец.
Докуривали мы уже в молчании. Внизу вечер понемногу смягчал очертания ландшафта, постепенно скрадывая угловатую жесткость, в том числе того, что создано человеком. По фьорду скользили маломерные суда, возвращаясь в гавань, и мне вспомнилось, как там пахнет на борту: пахнет пластиком, солью, бензином – всем, что составляло такую важную часть моего детства. Над городом показался летящий с запада самолет, он шел на посадку так низко, что я смог прочитать логотип авиакомпании «Бротен» на фюзеляже: SAFE. С негромким рокотом он скрылся из глаз. В саду под нами на одной из яблонь чирикали прятавшиеся в листве птички.
Ингве осушил свой бокал и поднялся с шезлонга.
– Еще один рывок, – сказал он. – И хватит на сегодня.
Он посмотрел на меня:
– Ты много там успел?
– Отмыл всю прачечную и стены в ванной.
– Молодец, – сказал он.
Я вошел в дом вслед за ним. Услышав приглушенные расстоянием звуки включенного на полную громкость телевизора, я понял, что бабушка сидит в гостиной. Я ничем не мог ей помочь, да и никто уже не мог, но я подумал, что при виде нас, ей, возможно, станет хоть немножко полегче, поэтому вошел и остановился рядом с ее креслом.
– Может, тебе что-нибудь нужно? – спросил я.
Она тотчас вскинула голову и посмотрела на меня:
– Это ты? А где Ингве?
– Он там, на кухне.
– А, – сказала она и снова обратила взгляд на экран.
Ее живость никуда не делась, но в изможденном теле приняла иной вид, или стала проявляться иначе, – только в движениях, а не в поведении, как это было раньше. Раньше бабушка была живой и веселой, острой на язык, то и дело подмигивала одним глазом, чтобы обратить внимание на шутку, которыми она так и сыпала. А теперь ее накрыло сумрачное облако. На душе у нее было темно. Я это видел, этого нельзя было не заметить. Но может быть, эта тьма жила в ней и раньше? Может быть, она всегда наполняла ее душу?
Ее пальцы вцепились в подлокотники, как будто она мчалась на большой скорости.
– Я пошел вниз, мыть ванную.
Она обернулась ко мне:
– Это ты?
– Да. Я пошел вниз, мыть ванную. Тебе ничего не нужно?
– Нет, спасибо, – сказала она.
– Ладно, – сказал я и повернулся, чтобы идти.
– А вы с Ингве на ночь-то, – спросила она, – не пропускаете по глоточку?
Никак она решила, что мы тоже выпиваем? Что не только папа, но и его сыновья губят себя?
– Нет, – сказал я. – Это исключено.
Бабушка, судя по выражению лица, ничего сказать не хотела, и я спустился по лестнице в подвальный этаж, где все еще держалась сильная вонь, хотя источник запаха был уже убран, ополоснул красное ведро, наполнил его свежей водой, горячей, как кипяток, и продолжил мытье ванной. Я начал с зеркала, к которому так крепко пристал буро-желтый налет, что казалось, удалить его уже невозможно, пока я не принялся отскребать его ножом, сбегав за ним на кухню, а после прошелся по зеркалу грубой мочалкой; затем я занялся раковиной, затем ванной, затем подоконником над ванной, затем принялся за узкое, продолговатое, покрытое неровностями стекло, затем за унитаз, после этого за дверь, помыл косяки и порог, а под конец вымыл пол, вылил в унитаз темно-серую воду из ведра и вынес на лестницу мешок с собранным хламом; там я постоял несколько минут, глядя в летние потемки, которые больше были похожи на испорченный свет, чем на настоящую тьму.
Звонкие голоса, доносившиеся с улицы то громче, то тише, принадлежавшие, по-видимому, какой-то собравшейся в город компании, напомнили мне о том, что наступил субботний вечер.
А почему она спросила, не выпиваем ли мы? Оттого что ее волновала папина судьба или тут была какая-то другая причина?
Я вспомнил, как десять лет назад, после окончания школы, отмечал в этом городе выпускной: каким пьяным я был на праздничном шествии, а дедушка с бабушкой, которые стояли в толпе зрителей на тротуаре, подзывали меня оттуда и какие у них сделались напряженные лица, когда они поняли, в каком я состоянии. Пить я начал с Пасхи, когда в составе футбольной команды был на тренировках в Швейцарии, а затем продолжал в том же духе всю весну, для этого каждый раз находился и повод, и приятели, готовые составить мне компанию, тем более что человеку в абитуриентской форме дозволялось все. Для меня наступили райские деньки, чего не скажешь о маме, у которой я тогда жил и которая в конце концов выставила меня вон, но мне было хоть бы что, найти где переночевать ничего не стоило: я устраивался либо на диване у какого-нибудь приятеля в подвальной комнате, либо в арендованном для празднующих абитуриентов автобусе, а то и просто где-нибудь в парке под кустом. В глазах бабушки и дедушки абитуриентство было переходным периодом к академической карьере, так считалось во времена дедушки и во времена его сыновей, – это было торжество, которое я осквернял, напиваясь и накуриваясь до бесчувствия, а также своим членством в редакции абитуриентской газеты, которая в связи с делом о депортации мигрантов из Флеккерёйи поместила на первой полосе фотографию евреев, депортируемых из гетто в лагерь смерти. Тут я опять-таки посягнул на семейную традицию – отец также был редактором абитуриентской газеты, когда сам был абитуриентом. Так что и это я втоптал в грязь.
Но сам я, видимо, ничего такого не подозревал, – судя по дневнику, который я вел в те дни, единственным, что для меня имело значение, было тогдашнее ощущение счастья.
Потом я сжег все старые дневники и заметки, так что у меня не сохранилось почти никаких следов того, каким я был до двадцати пяти лет, – и правильно сделал, потому что ничего хорошего оттуда бы не вычитал.
Воздух стал чуть прохладнее, и я, разгоряченный работой, ощущал его всем телом, как он охватывает меня, обволакивает кожу, вливается внутрь через открытый рот. Как окружает деревья передо мной, дома, машины, горные склоны. Как перетекает из одного места в другое с падением температуры, – эти непрестанные лавины в небе, невидимые для нас, набегающие подобно огромным волнам, вечно движущиеся, медленно опадающие, закручивающиеся стремительными вихрями, вдыхаемые и выдыхаемые бесчисленными легкими, разбивающиеся обо все эти стены и выступы, вечно незримые и вечно сущие.
Но папа дышать перестал. Вот что с ним случилось – внезапно прервалась его связь с воздухом, теперь воздух только давит на него, как давит на всякую неживую вещь: на какую-нибудь деревяшку, бензиновую канистру, на диван. Папа больше не вторгается в воздушную стихию, как делаем это мы, когда дышим, – вторгаемся, снова и снова вторгаемся в мир.
Сейчас он лежит где-то в этом городе.
Я повернулся и ушел в дом в тот момент, когда в доме через дорогу открыли окно и оттуда вырвалась музыка и громкие голоса.
Хотя второй туалет был поменьше первого и не так загажен, на его уборку у меня ушло столько же времени, что и на первый. Закончив, я забрал с собой моющие средства, тряпки и ведро и отправился на второй этаж. Ингве и бабушка сидели за столом на кухне. Часы на стене у них за спиной показывали половину девятого.
– Ну что, видно, наработался за сегодня! – сказала бабушка.
– Ну да, – сказал я. – Рабочий день закончен.
Я взглянул на Ингве:
– Говорил сегодня с мамой?
Он отрицательно покачал головой:
– Мы вчера говорили.
– Я обещал ей позвонить сегодня. Но что-то мне никак. Да и поздновато уже, пожалуй.
– Позвони завтра, – сказал Ингве.
– Но с Тоньей поговорить необходимо. Пойду позвоню.
Я отправился в гостиную и закрыл за собой кухонную дверь. Посидел немного в кресле, собираясь с мыслями. Затем набрал домашний номер. Она сразу же сняла трубку, словно сидела и ждала у телефона. Я знал все оттенки ее голоса, и сейчас воспринимал только их, а не то, что она говорила. Сначала ее теплоту и сочувствие, затем – что она соскучилась, а потом все это собралось в маленький комочек, словно для того, чтобы поместиться внутри меня. Она придвинулась ко мне как можно ближе, а я к ней – нет, я не мог. Я вкратце описал, что здесь произошло, не вдаваясь в подробности, сказал только, что тут сплошной ужас и что я все время плачу. Потом мы немного поговорили о том, чем она там занимается без меня, хотя она поначалу отнекивалась, а потом обсудили, когда ей лучше приехать. Закончив разговор, я пошел на кухню, где уже никого не было, и выпил стакан воды. Бабушка опять сидела в кресле у телевизора. Я зашел к ней.
– Ты не знаешь, где Ингве?
– Нет, – сказала она. – Разве он не на кухне?
– Нет, – ответил я.
В нос ударил запах мочи.
Я постоял, не зная, что делать. Испражнения объяснялись просто. Он был так пьян, что утратил контроль над функциями организма.
Но она-то где была? Что она делала?
У меня возникло желание подойти к телевизору и пнуть экран.
– А вы-то с Ингве, поди, не пьете? – внезапно спросила она, не глядя на меня.
Я мотнул головой:
– Нет. То есть разве что изредка. И немножко. Помногу никогда.
– Неужто и сегодня?
– Ты что – с ума сошла? – сказал я. – Да мне бы такое и в голову не пришло! И Ингве тоже.
– Что там не пришло бы мне в голову? – раздался за спиной голос Ингве.
Я обернулся. Он поднимался на приступку в две ступеньки, которая отделяла верхнюю гостиную от нижней.
– Бабушка спрашивала, не пьем ли мы.
– Бывает время от времени, – сказал Ингве. – Но не часто. Ты же знаешь, у меня в семье двое малышей.
– Неужто двое? – удивилась бабушка.
Ингве улыбнулся. Я тоже.
– Да, – сказал он. – Ильва и Турье. Ильву ты уже видела. А Турье увидишь на похоронах.
Немного оживившись, бабушкино лицо снова угасло. Я переглянулся с Ингве.
– Трудный был денек, – сказал я. – Не пора ли нам на боковую?
– Выгляну-ка я, пожалуй, сперва на веранду, – сказал он. – Пойдем вместе?
Я кивнул. Ингве вышел на кухню.
– Ты по вечерам подолгу тут засиживаешься? – спросил я бабушку.
– Чего? – переспросила она.
– Мы скоро собираемся ложиться. А ты хочешь еще посидеть?
– Нет, нет. Я тоже скоро лягу.
Она посмотрела на меня снизу.
– Вы ведь устроитесь внизу, в нашей старой спальне, да? Она стоит пустая.
Я покачал головой, виновато округлив брови.
– Мы решили расположиться наверху, – сказал я. – На чердаке. Мы уже распаковали вещи.
– Ну и ладно, можно и там, – сказала она.
– Ты идешь? – спросил Ингве.
Он стоял в нижней гостиной с бокалом пива в руке.
Когда я вышел на веранду, он уже сидел на деревянном садовом стуле за таким же столиком.
– Где ты их отыскал? – спросил я.
– В чулане внизу, – сказал он. – Я вспомнил, что когда-то их там видел.
Я оперся на перила. Далеко внизу поблескивал огнями датский паром. Он выходил в открытое море. На всех маломерных судах были зажжены все огни.
– Надо будет достать где-то электрическую косилку или как там она называется. Обычным триммером тут не справиться.
– В понедельник отыщем по желтым страницам какую-нибудь прокатную фирму, – сказал он.
Затем посмотрел на меня:
– Поговорил с Тоньей?
Я кивнул.
– Да, народу наберется немного. Мы с тобой, Гуннар, Эрлинг, Алф и бабушка. Шестнадцать человек, считая детей.
– Да, всенародные похороны не получатся.
Ингве отставил бокал и откинулся на спинку стула. Высоко над деревьями, на фоне серого пасмурного неба пролетела, махая крыльями, летучая мышь.
– У тебя есть какие-нибудь новые мысли, как мы будем их проводить? – спросил я.
– Похороны?
– Ну да.
– Нет, ничего особенного. Только чтобы без этой идиотской гражданской панихиды.
– Согласен. Значит, отпевание.
– Да. А есть другие варианты? Хотя он ведь не был прихожанином Норвежской церкви.
– Разве? – спросил Ингве. – Я знал, что он не был верующим, но разве он подавал заявление о выходе?
– Да. Он как-то говорил об этом. Я подал заявление о выходе, как только мне исполнилось шестнадцать, и сказал ему об этом за ужином на Эльвегатен. Он рассердился. И тогда Унни сказала, что он и сам официально вышел из церкви и не вправе на меня сердиться за то, что я поступил так же.
– Он был бы недоволен, – сказал Ингве. – Он не хотел иметь никаких отношений с церковью.
– Но он уже умер, – сказал я. – А я, по крайней мере, хочу так. И не хочу никаких надуманных псевдоритуалов типа чтения дурацких стихов. Я хочу, чтобы все было как полагается. Достойно.
– Совершенно с тобой согласен, – сказал Ингве.
Я снова отвернулся и стал смотреть на город внизу, откуда доносился ровный шум, иногда прерываемый внезапным взрывающимся ревом мотора, как правило со стороны моста, где молодежь забавлялась, прибавляя скорость, а иногда со стороны длинной, прямой, как стрела, улицы Дроннингенс-гате.
– Пойду укладываться, – сказал Ингве.
Он удалился в гостиную, не закрыв за собой дверь. Я загасил сигарету об пол и последовал за ним. Увидев, что мы собираемся ложиться, бабушка встала с кресла, чтобы принести постельное белье.
– Мы все сделаем сами, – сказал Ингве. – Так что не беспокойся. Иди и ложись тоже!
– Ты точно уверен? – спросила бабушка. Маленькая и сгорбленная, она глядела на него снизу вверх, стоя на пороге перед лестницей.
– Точно, точно, – сказал Ингве. – Мы сами справимся.
– Ну вот и ладно, – сказала бабушка. – Спокойной вам ночи. И она медленно, не оглядываясь назад, стала спускаться по лестнице.
Меня передернуло от какого-то неприятного чувства.
Воды наверху не было, и мы, сходив наверх за щетками, вернулись на кухню и почистили зубы над раковиной, поочередно наклоняясь к крану, чтобы прополоскать рот. Как в детстве. Во время каникул.
Я отер рот рукой от пены после зубной пасты, а руку – о штанину. Было без двадцати одиннадцать. Уже много лет я не ложился так рано. Но позади был трудный день. От усталости у меня немели руки и ноги, и я так наплакался за день, что заболела голова. Но сейчас я уже не плакал. Может быть, выработался иммунитет. Я наконец привык.
Когда мы поднялись наверх, Ингве отворил окно и закрепил его на защелку, зажег бра над изголовьем кровати. Я зажег свое, а верхний свет погасил. Пахло затхлостью, но она была не в воздухе, запах шел от мебели, от ковриков и покрывал, которые пылились без употребления несколько лет, а может быть, и больше.
Ингве сел на двуспальную кровать со своей стороны и стал раздеваться. Я на своей стороне – тоже. Было что-то чересчур интимное в том, чтобы спать на одной кровати, мы этого не делали с тех пор, как перестали быть детьми, когда близость между нами носила совсем другой характер. Впрочем, у каждого было, по крайней мере, свое одеяло.
– Тебе не приходило в голову, что папа так и не прочитал твоего романа? – сказал Ингве, повернувшись лицом ко мне.
– Нет, – сказал я. – Как-то не задумывался об этом.
Ингве прочитал рукопись в начале июня, как только она была закончена. Первое, что он сказал после того, как прочел, было, что папа подаст на меня в суд. Именно так он и выразился. Я звонил из телефонной будки в аэропорту, собираясь лететь с Тоньей в Турцию на каникулы. Я не знал, будет ли он злиться или поддержит меня, не имел ни малейшего понятия о том, как написанное мною может подействовать на близких мне людей.
«Я понятия не имею, хорошо это или плохо, – сказал он тогда. – Но вот папа подаст на тебя в суд. В этом я уверен».
– Но ведь там есть фраза, которая то и дело повторяется, – сказал я теперь. – «Мой отец умер». Помнишь?
Ингве отогнул одеяло, закинул ноги на кровать и улегся. Затем приподнялся и поправил подушку.
– Смутно, – сказал он, ложась обратно.
– Там, где Хенрик бежит из поселка. Ему требуется какое-то объяснение, чтобы не чувствовать себя виноватым, и единственное, что ему приходит в голову, это: «Мой отец умер».
– Точно, – сказал Ингве.
Я стянул с себя брюки и носки и стал устраиваться на кровати. Сначала лег на спину, сложив руки на животе, но тут понял, что лежу, как покойник, и в страхе перевернулся на бок, теперь прямо перед глазами у меня очутилась моя брошенная на пол в кучу одежда. Черт, нельзя же, чтобы она так валялась, – подумал я, спустил ноги с кровати, сложил брюки и футболку и положил на стул, сверху кинул носки.
Ингве выключил лампочку на своей стороне.
– Ты как – еще почитаешь? – спросил он.
– Нет уж. Читать я точно не буду, – сказал я, нащупывая на проводе выключатель.
Выключатель нигде не нащупывался. Может, он под лампочкой? Ага, вот он.
Я с силой нажал на кнопку: старый механизм работал туго. Светильники были куплены, наверное, в пятидесятые годы. Как только дедушка с бабушкой сюда въехали.
– Ну, спокойной ночи! – сказал Ингве.
– Спокойной ночи.
Как же я был рад, что он здесь, со мной! Без него голову мне заполонили бы картинки мертвого папы, я бы только и думал, что о физической стороне смерти, мне мерещилось бы его тело, пальцы и ноги, невидящие глаза, волосы и ногти, которые продолжают расти. Комната, где он лежит, такое, скорее всего, похожее на ящик помещение, в каких лежат покойники из американских фильмов. А сейчас меня успокаивало дыхание Ингве рядом и то, как он шевелился во сне. Оставалось только закрыть глаза и ждать, чтобы пришел сон.
Через пару часов я проснулся оттого, что Ингве стоял посреди комнаты. Сперва он как-то нерешительно оглядывался, потом схватил одеяло, скомкал его, вышел с ним за порог и вернулся обратно. Когда он принялся повторять эти действия, я сказал:
– Ты ходишь во сне, Ингве. Ложись и спи.
Он оглянулся на меня.
– Я не во сне, – сказал он. – Одеяло надо три раза перенести через порог и обратно.
– Окей, – сказал я. – Раз надо, значит, надо.
Он еще два раза прошелся за порог и обратно, затем лег в кровать и накрылся одеялом. Несколько раз поворочал головой туда-сюда и что-то пробормотал.
Ингве ходил во сне не в первый раз. В детстве он был завзятым лунатиком. Однажды мама нашла его в ванной комнате, он сидел голый в ванне и наливал воду, однажды она перехватила его в последний момент на дорожке во дворе – он направлялся к дому, где жил Рульф, чтобы позвать его поиграть в футбол. Однажды он ни с того ни с сего выкинул одеяло за окно, а сам потом, это даже трудно себе представить, мерз всю ночь, ничем не укрытый. Папа тоже ходил во сне. Порой он среди ночи являлся ко мне в комнату, просто стоял там в одних трусах, возможно, пытался открыть шкаф и заглянуть внутрь, возможно, посмотреть на меня, – но взгляд у него был невидящий. Временами я слышал, как он гремит вещами в гостиной, передвигая мебель. Однажды он улегся в гостиной под столом, а когда встал, так стукнулся об него головой, что разбил ее до крови. Если он не бродил во сне, то разговаривал или кричал, либо просто скрипел зубами. Мама говорила, что это все равно что быть замужем за военным моряком. Сам я однажды помочился в шкаф, но вообще у меня дальше разговоров во сне не шло, пока я не стал подростком, и тут уж моя активность резко возросла. В то лето, когда я продавал на улице кассеты и жил у Ингве в Арендале, я как-то взял его пенал и совершенно голый вышел на улицу, там я останавливался перед каждым окном и заглядывал в него, пока Ингве не удалось достучаться до моего сознания и как-то меня остановить. Я упорно не признавал, что хожу во сне, в доказательство предъявляя пенал: смотри, говорил я, вот же моя записная книжка, я шел продавать кассеты. Сколько раз бывало, что я, глядя в окно, видел вдруг, как проваливается или вспучивается земля или нас заливает потоп. Однажды я стоял, подпирая стену, и кричал, чтобы Тонья поскорее уходила, пока не рухнул дом. А как-то мне вдруг вступило в голову, что Тонья лежит в шкафу, и я повыкидывал из него все вещи, пытаясь ее отыскать. Когда мне случалось ночевать у знакомых, то я их на всякий случай заранее предупреждал, а однажды, два года назад, во время поездки с товарищем – его звали Туре, и мы с ним снимали так называемую «писательскую» квартиру в большой помещичьей усадьбе, чтобы вместе сочинять сценарий для фильма, – такая предусмотрительность просто спасла положение: мы спали с ним в одной комнате, и я встал среди ночи, подошел к нему, сорвал с него одеяло и стал дергать онемевшего от страха приятеля за лодыжки, приговаривая: «Ты просто манекен». Но самым навязчивым сюжетом было у меня, что в пододеяльник забралась выдра или лисица, я швырял одеяло на пол и топтал до тех пор, пока не убеждался, что зверь мертв. Иногда ничего такого не происходило в течение целого года, а потом вдруг начинался период, когда я что ни ночь вскакивал с постели и бродил во сне. Я пробуждался на чердаке, в коридоре, на газоне, каждый раз делая что-то такое, что представлялось мне абсолютно разумным действием, а после пробуждения оказывалось столь же абсолютно бессмысленным.
Примечательным в ночных похождениях Ингве было то, что он во сне иногда начинал говорить на эстланнском диалекте. Из Осло он уехал, когда ему было четыре года, и вот уже около тридцати лет ему не доводилось говорить на этом наречии. Однако же во сне он на нем разговаривал, и в этом было что-то жутковатое.
Я посмотрел на него. Он лежал на спине, высунув одну ногу из-под одеяла. Нам всегда говорили, что мы с ним очень похожи. Очевидно, речь шла об общем впечатлении, если смотреть со стороны. Потому что если взять отдельные черты, то в них было мало сходства. Разве что глаза, этой частью лица мы уродились в маму. Между тем, когда я переехал в Берген, иногда случалось, что при встрече с дальними знакомыми Ингве они вдруг спрашивали: «Ты не Ингве?» Что я – не Ингве, было понятно уже из того, что они задавали этот вопрос. Если бы они и правда принимали меня за Ингве, то не стали бы спрашивать. Они спрашивали, потому что им бросалось в глаза наше сходство.
Он отвернулся в другую сторону, словно почувствовав, что на него смотрят, и не желая терпеть на себе чужой взгляд. Я закрыл глаза. Он часто говорил, что папа несколько раз растоптал его самолюбие, унизив его так, как был способен только папа, и это наложило свой отпечаток на целые периоды его жизни, когда он думал, что ничего не может и ничего не стоит. А в другие периоды все шло прекрасно, как по маслу, и без всяких сомнений. Со стороны заметно было только второе.
Разумеется, папа наложил свой отпечаток и на мое самовосприятие, но, возможно, несколько другого толка, потому что у меня никогда не бывало периодов сомнений, сменяющихся периодами уверенности, у меня то и другое всегда оказывалось перемешано, и сомнения, которыми была отмечена моя внутренняя жизнь, никогда не затрагивали главного, а всегда касались только мелочей, того, что относилось к сфере ближайшего окружения: к друзьям, знакомым, к девушкам, которые, как мне казалось, презирали меня, считали идиотом, это точило меня, точило ежедневно, но, когда доходило до главного, я никогда не сомневался, что смогу достичь всего, чего захочу, я знал, что это мне дано, – столь велико было мое стремление, и оно никогда не утихало. Да и с чего ему было утихать? Ведь иначе мне никогда не победить.
Когда я проснулся в следующий раз, Ингве перед окном застегивал рубашку.
– Который час? – спросил я.
Он обернулся:
– Половина седьмого. Для тебя рановато?
– Да пожалуй.
Он был одет в легкие штаны цвета хаки, укороченного фасона, чуть ниже колен, и рубашку навыпуск в серую полоску.
– Я пошел вниз, – сказал он. – Ты идешь?
– Сейчас, – сказал я.
– Так ты больше спать не будешь?
– Нет.
Когда на лестнице стихли его шаги, я спустил ноги с кровати и взял со стула одежду. С неудовольствием посмотрел на свой живот, на котором две поперечные складки добрались уже до боков, потрогал спину, но там, к счастью, пока еще не за что было ухватиться. Однако по возвращении в Берген надо будет обязательно начать бегать. И делать по утрам упражнения на пресс.
Взяв в руки футболку, я поднес ее к лицу и понюхал.
Нет, эта не годится.
Я открыл чемодан и достал белую майку с Бу Рэдли, купленную несколько лет назад, когда они выступали в Бергене, и темно-синие брюки с обрезанными штанинами. Хотя солнца не было, на улице стояла душная жара.
Внизу на кухне Ингве уже поставил кофе, выложил на стол хлеб и достал из холодильника продукты для бутербродов. Бабушка в том же платье, что и вчера, сидела за столом и курила. Я не был голоден и ограничился чашкой кофе и сигаретой на веранде, прежде чем, вооружившись ведром, тряпками и средствами для мытья, приняться за первый этаж. Сначала я заглянул в ванную – посмотреть вчерашнюю работу. Если отвлечься от покрытой пятнами, липкой от грязи занавески для душа, которую я почему-то не стал трогать, ванная выглядела вполне прилично. Давно не ремонтированная, но чистая.
Я снял рейку, протянувшуюся от стены к стене над ванной, отцепил занавеску и засунул в мешок для мусора, помыл рейку и оба крепления и вернул ее на место. Теперь надо было решить, за что мне взяться. Прачечная и обе ванные комнаты были вычищены. Внизу оставались бабушкина комната, прихожая, коридор, папина комната и большая спальня. Трогать бабушкину комнату я пока не хотел, чтобы не показалось, что я без спросу лезу не в свое дело, ведь она догадалась бы, что мы знаем, в каком она находится состоянии, и к тому же было что-то унизительное в ситуации, когда внук моет бабушкину спальню. За папину комнату мне тоже не хотелось приниматься, хотя бы потому, что там были бумаги и всякое другое, что сначала стоило бы разобрать. Коридору с ковровым покрытием предстояло подождать, пока мы не купили средство для чистки ковров. Значит, на очереди лестница.
Я налил воды в ведро, взял флакон «Хлорина», флакон зеленого мыла и флакон чистящего средства для полов «Джиф», и начал с перил: они стояли немытые уже лет пять, не меньше. Между прутьями наросло много грязи, истлевшие листья, какие-то камешки, высохшие насекомые, старая паутина. Сами перила были темного цвета, местами почти черные, кое-где покрытые чем-то липким. Я прыснул на них «Джифом», отжал тряпку и тщательно протер каждый сантиметр. Когда часть перил была таким образом отчищена и более или менее проступил их исконный темно-золотистый цвет, я намочил другую тряпку «Хлорином» и еще раз протер эти места. Запах «Хлорина» и синий флакон навели меня на воспоминания семидесятых годов, точнее, на воспоминания о шкафчике под кухонной раковиной, где стояли моющие средства. «Джифа» тогда еще не было. Тогда там стоял порошок «Аякс» в картонной упаковке красно-бело-синего цвета. Было там и зеленое мыло. Стоял под мойкой и «Хлорин», дизайн синей пластиковой бутылки с рифленой крышечкой, сделанной так, чтобы не могли открыть дети, с тех пор остался неизменным. Только тогда он назывался «ОМО». А еще там была коробка с чистящим порошком с изображением ребенка, держащего в руках такую же коробку, на которой, конечно же, тоже было изображение того же мальчика с такой же коробкой, и так далее и так далее. Кажется, он назывался «Бленда». Я часто задумывался тогда над этим уходящим вдаль, повторяющимся рядом, который появлялся и в других местах, например, в ванной, где зеркала без конца отбрасывали отражения друг друга, все меньшего и меньшего размера, докуда достигал взгляд. Но что происходило там, куда он не достигал? Они так и продолжали уменьшаться?
Между теми и нынешними торговыми марками пролегал целый мир, и когда я подумал о них, он возник передо мной со своими звуками, запахами и вкусовыми ощущениями, с той неотразимой силой, какая присуща всему утраченному. Запах коротко подстриженной, только что политой травы, когда летом сидишь на футбольном поле после тренировки, вытянутые тени неподвижных деревьев, визг и хохот ребятишек, купающихся через дорогу в пруду, резкий и в то же время сладкий вкус энергетика «XL+1». Или вкус соли, который неизменно появляется во рту, когда бросаешься в море, даже если ты, погрузившись под воду, сожмешь губы; хаос течений и бушующей воды, которые тебя там встречают, – но и свет сквозь водоросли и тину, и обнаженные скалы, гирлянды мидий и поля морских желудей, и все они словно светятся тихим и нежным блеском, потому что стоит лето и солнце сияет на безоблачном небе. Вода, стекающая по телу, когда ты вылезаешь, ухватившись за торчащий уступ скалы, капли, остающиеся в ложбинке между лопатками на несколько коротких секунд, пока они не испарятся под жаркими лучами, в то время как под трусами еще долго стекает вода, когда ты уже лежишь, растянувшись на полотенце. Летящие по волнам с неритмическим грохотом глиссеры; нос у них то и дело задирается и с грохотом опускается на воду; этот короткий звук прорывается сквозь рокот мотора; нереальность всего, ощущение нереальности того, что расстилается перед глазами, оно слишком громадно, слишком много простора, так что увиденное не успевает закрепиться в сознании.
Все это по-прежнему было тут. Сглаженные морем скалы оставались точно такими же, переваливающиеся через них морские волны катились, как тогда, и даже подводный пейзаж с его долинками, и бухточками, крутыми уступами, и склонами, усыпанными морскими звездами и ежами, крабами и рыбами, был тем же, что и раньше. По-прежнему можно купить слезинджеровские теннисные ракетки, треторновские мячи и россиньолевские лыжи, крепления фирмы «Тирока» и ботинки «Кёфлах». Дома, в которых мы жили, все до единого стоят на месте. С той только разницей, что действительность взрослого мира, в отличие от действительности детского, уже не несет в себе того эмоционального заряда. Футбольные бутсы «Лекок» – это уже просто футбольные бутсы. Встреть я сегодня кого-нибудь с такими бутсами в руках, это был бы только отзвук детства и ничего больше, само по себе это бы ничего не значило. То же и с морем и со скалами, то же самое и со вкусом соли, которым в детстве были пронизаны дни летних каникул, теперь это просто соль, end of story. Мир был все тот же, и в то же время не тот, изменился его смысл и продолжал изменяться, неуклонно приближаясь и приближаясь к бессмысленности.
Я отжал тряпку, повесил на край ведра и посмотрел на результаты своих трудов. Лак снова заблестел, хотя местами еще темнели грязные пятна, словно въевшиеся в древесину. Я отмыл примерно третью часть перил между первым и вторым этажом. Оставалась еще следующая лестница, ведущая на третий этаж.
Сверху послышались шаги Ингве.
Он появился с ведром в руке и рулоном мусорных мешков под мышкой.
– Ну как? Закончил внизу? – спросил он, посмотрев на меня.
– Ты что, очумел? Я вымыл тут ванные комнаты и прачечную. С остальным решил подождать.
– Я начинаю мыть папину комнату, – сказал он. – Похоже, что с ней будет больше всего работы.
– А кухня готова?
– Да. Можно сказать, что так. Надо еще разобраться в шкафах, но в остальном все выглядит прилично.
– Окей, – сказал я. – А я сделаю перерыв. Пожалуй, надо поесть. Бабушка на кухне?
Он кивнул и прошел мимо меня. Я отер руки, мокрые и сморщенные после мытья, о штанины шортов. В последний раз окинул взглядом перила и поднялся на кухню.
Бабушка сидела на стуле погруженная в себя. Она даже не взглянула, когда я появился на пороге. Я вспомнил про лекарство. Может быть, она уже сама его приняла? Наверное, нет.
Я открыл шкаф и достал лекарство.
– Ты это уже принимала сегодня? – спросил я, показывая коробочку.
– Это что? – спросила она. – Лекарство?
– Да, то, что тебе прописали вчера.
– Нет, не принимала.
Я достал из шкафа стакан, налил воды и протянул ей вместе с таблеткой. Она положила ее себе на язык и запила водой. Судя по ее виду, говорить она ничего не собиралась, и я, чтобы не угодить в ловушку молчания, требующего разговора, взял с собой вместо бутербродов, как собирался вначале, пару яблок, стакан воды и чашку кофе. День был теплый и серенький, как вчера. С моря дул легкий ветерок, над акваторией порта кружили кричащие чайки, откуда-то поблизости слышались металлические удары. Снизу доносился ровный гул уличного движения. В нескольких кварталах от нас, где-то в районе гавани, высился над крышами стройный силуэт подъемного крана. Он был желтый, с белой кабинкой наверху, или как там называется этот домик для крановщика. Странно, что я не замечал его раньше. По-моему, немногие вещи могут соперничать по красоте с подъемными кранами: скелетообразная конструкция, стальные тросы, протянувшиеся сверху и снизу вдоль стрелы, громадный крюк, тяжелые грузы, медленно раскачивающиеся в воздухе, пока их переносят с одного места на другое, и небо – всегдашний фон для этих механических устройств.
Я как раз успел доесть яблоко – целиком, вместе с зернышками и хвостиком, и уже принялся было за второе, когда в саду показался Ингве. Он шел ко мне с толстым конвертом в руке.
– Взгляни, что я нашел, – сказал он.
Я открыл его и заглянул внутрь. Он был набит тысячными купюрами.
– Ого! – удивился я. – Где он лежал?
– Под кроватью. Видимо, это деньги за дом на Эльвегатен.
– Черт! Так это все, что осталось?
– Очевидно, да. Он даже не положил их в банк, а просто сунул под кровать. И потихоньку пропивал тысячу за тысячей.
– Хрен бы с ними, с деньгами, – сказал я. – Но какой же дьявольской тоской была тут его жизнь!
– Да уж, не без того, – сказал Ингве.
Он сел. Я положил конверт на стол.
– Что будем с ними делать? – спросил он.
– Понятия не имею, – сказал я. – Наверное, поделим на всех?
– Я сразу как-то подумал про налог на наследство и все такое. Я пожал плечами. – Спросим кого-нибудь, – сказал я. – Юна Улафа, например. Он же адвокат.
Снизу, из переулка перед домом, донеслось гудение автомобильного мотора. Даже не видя машины, только по тому, как она остановилась, подала назад и снова поехала вперед, я понял, что это к нам.
– Кто это может быть? – спросил я вслух.
Ингве поднялся, взял конверт.
– Кто будет его хранить?
– Возьми ты, – сказал я.
– По крайней мере, проблемы с расходами на похороны теперь решены, – сказал он и прошел мимо меня в дом.
Я последовал за ним. В прихожей внизу слышались голоса. Это были Гуннар и Туве. Когда они поднялись наверх, мы встретили их, стоя между дверью, ведущей в коридор и дверью на кухню, застыв в немного неловких позах, как будто снова стали детьми. Ингве – с конвертом в руке.
Туве была все такая же загорелая и так же хорошо выглядела, как Гуннар.
– Ну, здравствуйте, – сказала она с улыбкой.
– Здравствуйте, – сказал я. – Давненько не виделись.
– Да, правда, – сказала Туве. – Печально, что встречаться приходится по такому поводу.
– Да, – сказал я.
Интересно, сколько же им лет? Под пятьдесят?
В кухне встала со стула бабушка.
– Это вы там пришли? – спросила она.
– Не вставай, мама, – сказал Гуннар. – Просто мы подумали, что надо помочь Ингве и Карлу Уве по дому.
Он подмигнул нам.
– Кофейку-то хоть выпьете? – сказала бабушка.
– Какой там кофе! – сказал Гуннар. – Нам скоро опять ехать. Ребята остались на даче одни.
– Ну-ну, – сказала бабушка.
Гуннар зашел в кухню.
– А вы тут уже основательно поработали, – сказал он. – Молодцы, ничего не скажешь.
– Мы решили провести поминки тут, – сказал я.
Он взглянул на меня.
– Но это же невозможно, – сказал он.
– Ничего, справимся. У нас еще пять дней впереди. Успеем. Он отвел глаза. Может быть, потому, что у меня на глазах проступили слезы.
– Ну, что же. Вам решать, – сказал он. – Раз вы считаете, что это возможно, значит, пусть так и будет. Но тогда надо нам всем поторапливаться.
Он повернулся и пошел в гостиную. Я – за ним.
– Надо выбросить все негодное. Что тут жалеть? Как с диванами? В каком они состоянии?
– Один еще ничего, – сказал я. – Его мы отмоем. А второй, мне кажется…
– Тогда мы его заберем, – сказал он.
Он подошел к одному краю большого трехместного дивана, я к другому, наклонился и подхватил его снизу.
– Вынесем его через веранду, – сказал он. – Откроешь дверь, Туве?
Когда мы несли диван через гостиную, в дверях встала бабушка.
– Куда это вы диван-то? – спросила она.
– Выбрасывать, – сказал Гуннар.
– Вы что, одурели? – сказала она. – Что это вы вздумали выкидывать мой диван!
– Он уже никуда не годится, – сказал Гуннар.
– Не ваше дело! – сказала бабушка. – Это же мой диван.
Я остановился. Гуннар посмотрел на меня.
– Понимаешь, иначе нельзя, – сказал он ей. – Давай, Карл Уве. Выносим его, и дело с концом.
Бабушка шагнула в нашу сторону.
– Как вы смеете, – сказала она. – Я тут хозяйка.
– Так и смеем, – сказал Гуннар.
Мы подошли к ступенькам, делившим гостиную на две половины. Я бочком прошел мимо, не глядя на бабушку, которая остановилась возле пианино. Ее возмущение обжигало меня. Гуннар ничего не почувствовал. Или почувствовал? Он тоже терзался этим чувством? Ведь она его мать.
Пятясь, он спустился по ступенькам и осторожно сошел на пол.
– Так нельзя! – сказала бабушка.
За прошедшие несколько минут она изменилась до неузнаваемости. Глаза ее сверкали. Тело, ранее совершенно пассивное, обращенное внутрь, развернулось вовне. Она подбоченилась и громко выдохнула:
– О-о-о!
Затем отвернулась.
– Нет, не желаю на это смотреть, – сказала она и удалилась на кухню.
Гуннар посмотрел на меня и улыбнулся. Я сошел со ступенек, ступил на пол и сделал несколько шагов в сторону, чтобы попасть прямо в дверь. Оттуда тянуло сквозняком, обнаженную кожу ног, рук и лица обдало ветром. Под его порывами раздувались гардины.
– Проходит? – спросил Гуннар.
– Вроде бы да.
Очутившись на веранде, мы поставили диван на пол и отдохнули несколько секунд, перед тем как дотаскивать его с крыльца через сад до стоявшего перед гаражом прицепа. Когда это было сделано и диван встал на место, торча с одной стороны наружу примерно на метр, Гуннар достал из багажника синий трос и стал его привязывать. Не зная, чем заняться, я стоял и смотрел на случай, если понадобится моя помощь.
– Не обращай на нее внимания, – сказал Гуннар, не отрываясь от дела. – Сейчас она сама не понимает, что это для ее же блага.
– Да, конечно, – сказал я.
– Ты тут лучше меня знаешь, где что лишнее. Что еще надо выкинуть?
– Из его комнаты – довольно много чего. И из ее комнаты тоже. И из гостиной. Но из крупного, вроде дивана, уже ничего не будет.
– Может, ее матрас? – спросил он.
– Да, – сказал я. – И его матрас тоже. Но если мы выкинем ее матрас, то надо заменить его новым.
– Пока сгодится старый из их общей спальни, – сказал он.
– Да, можно и так.
– Если она начнет возражать без меня, не обращайте внимания. Просто делайте, что надо, и все. Это же ради ее блага.
– Ну да, – сказал я.
Смотав лишнюю часть троса в кольцо, он закрепил его на прицепе.
– Ну, вот, вроде бы надежно, – сказал он, выпрямившись. Посмотрел на меня: – А в гараж, кстати, вы еще не заглядывали?
– Нет. А что?
– Там все его вещи. Все, что он с собой привез. Вам надо будет это забрать. А сейчас посмотрите. Там многое, наверное, стоит выбросить.
– Посмотрим, – сказал я.
– У нас там в прицепе места уже маловато. Но мы заберем, что сможем, и вывезем на свалку. А вы тут повыносите, что сумеете, и мы сделаем еще одну ездку. Думаю, этого хватит. А если что, так я на этой неделе как-нибудь заеду еще.
– Спасибо тебе, – сказал я.
– Нелегко вам тут сейчас, – сказал он. – Я понимаю.
Когда я встретился с ним глазами, он несколько секунд смотрел на меня, не отводя взгляда. Глаза на его загорелом лице были почти такие же голубые и прозрачные, как у папы.
Он так многого не признавал. Например, всего того, что переполняло меня до краев. Он положил руку мне на плечо.
Что-то во мне надломилось. Я зарыдал.
– Вы славные мальчики, – сказал он.
Я невольно отвернулся, согнулся и закрыл лицо руками. Меня трясло. Потом отпустило, я выпрямился и сделал глубокий вдох.
– Ты не знаешь, где можно взять в прокат технику? Ну, полотеры там, газонокосилки и всякое такое.
– Ты что – полы собираешься натирать?
– Нет, нет. Это я так, для примера. Но я хотел подстричь траву, а обыкновенный триммер тут не справится.
– Не слишком ли ты хватил? Может, ограничиться уборкой в доме?
– Да, наверное. Но если все-таки останется время…
Он наклонил голову и почесал в затылке:
– Есть одна прокатная фирма в Гриме. У них должны быть такие вещи. Да ты посмотри по «Желтым страницам».
На белой стене фундамента возле нас что-то блеснуло. Я поднял голову. В пелене облаков образовался просвет, и из него брызнули солнечные лучи. Гуннар поднялся на крыльцо и зашел в дом. Я последовал за ним. В коридоре перед папиной комнатой лежало два мешка, дополна набитые тряпьем и ненужным хламом. Рядом лежало на боку загаженное кресло. Посреди комнаты стоял Ингве и глядел на нас. На руках у него были желтые хозяйственные перчатки.
– Надо бы, наверное, выкинуть матрас, – сказал он. – Для него найдется место?
– Сейчас нет, – сказал Гуннар. – Мы заберем его в следующую ездку.
– Кстати, вот что мы нашли под кроватью, – сказал Ингве и, взяв конверт, который прежде положил на полочку, протянул его Гуннару.
Гуннар открыл конверт и заглянул внутрь.
– Сколько тут? – спросил он.
– Около двухсот тысяч, – сказал Ингве.
– Ну, они теперь ваши, – сказал Гуннар. – Только не забудьте сестру, когда будете делить.
– Само собой, – сказал Ингве.
Интересно, он об этом подумал?
Я – нет.
– Ну, а вносить их в декларацию или нет, это сами решайте, – сказал Гуннар.
Через четверть часа Гуннар уехал с полным прицепом, а Туве осталась. Все окна и двери в доме стояли нараспашку, и гулявший по комнатам ветер, солнечный свет на полу и запах моющих средств, который сильно чувствовался на втором этаже, вызывали ощущение, будто дом вдруг раскрылся и сквозь него потоком хлынул окружающий мир, – что я во тьме своего смятения заметил и одобрил. Я продолжил мыть лестницу, Ингве – папину комнату, а Туве занялась гостиной наверху, где и нашли папу. Подоконники, плинтусы, двери, полки. Через некоторое время я поднялся на кухню сменить воду. Когда я стал выливать грязную, бабушка подняла голову, но взгляд ее был пуст и равнодушен и скоро снова скользнул на столешницу. Завиваясь водоворотом, вода, серо-бурая и мутная, понемногу утекла из мойки, исчезла белая кайма из пены, и на дне блестящей металлической раковины остался только осадок из песка, волос и разного сора. Я отвернул кран и ополоснул струей края ведра, пока из него не вынесло весь сор, чтобы затем наполнить его свежей горячей водой. Когда я с ведром зашел в комнату, Туве обернулась ко мне с улыбкой:
– Да уж, видок тут – не приведи господи!
Я остановился.
– Понемногу дело движется, – сказал я.
Она положила тряпку на полку, торопливо провела рукой по волосам.
– Она никогда уборкой не увлекалась, – сказала она.
– Но вроде раньше тут все выглядело неплохо? – спросил я. Туве усмехнулась и мотнула головой:
– Как бы не так! Выглядело-то, может быть, ничего, а на самом деле… Сколько я ни бывала в этом доме, тут всегда было грязно. Не везде, конечно, а так – по углам. Под мебелью. Под коврами. Ну, словом, там, где не видно.
– Да что ты? – сказал я.
– Да, да. Хозяйка из нее была никудышная.
– Может, и так, – согласился я.
– Но того, что тут творится сейчас, она все-таки не заслужила. Мы-то думали, когда умер дедушка, что она поживет на покое. Мы же устроили, чтобы ей дали помощницу по дому, и та следила, чтобы в доме был порядок.
Я кивнул:
– Я знаю.
– Для нас это тоже было облегчение. Потому что помогали им мы одни. То одно, то другое. Они ведь давно уже состарились. А тут твой отец, с его характером, а Эрлинг где-то в Трондхейме, вот и получилось, что все легло на нас.
– Знаю, – сказал я, слегка разведя руками и приподняв брови, как бы показывая этим жестом, что сочувствовал ей, но сам ничего поделать не мог.
– Но теперь ее надо отправить в дом престарелых, где за ней будет уход. Это же ужасно, смотреть на нее в таком виде.
– Да, – сказал я.
Она опять улыбнулась.
– А как поживает Сиссель?
– Спасибо, хорошо, – сказал я. – Она переехала в Йолстер, и, кажется, ей там хорошо. Она еще работает в школе медицинских сестер в Фёрде.
– Передай ей от меня большой привет, когда увидишь, – сказала Туве.
– Непременно передам, – сказал я и улыбнулся в ответ.
Туве снова взялась за тряпку, а я пошел вниз, где мне оставалось отмыть еще половину лестницы, поставил на ступеньку ведро, намочил тряпку и брызнул на перила «Джифом».
– Карл Уве! – позвал Ингве.
– Да? – откликнулся я.
– Спустись-ка сюда ко мне. – Он стоял в коридоре у зеркала. На камине перед ним лежала толстая пачка каких-то бумаг. Повлажневшие глаза Ингве блестели. – Погляди-ка, – сказал он, протягивая мне один конверт. Он был адресован Ильве Кнаусгор, Ставангер. В конверте лежал листок, на нем было написано «Дорогая Ильва», больше ничего.
– Он писал ей письмо? Отсюда? – удивился я.
– Как видишь, – сказал Ингве. – Наверное, к ее рождению или какому-нибудь празднику. Начал и бросил. Понимаешь, он не знал адреса.
– А я-то думал, он вообще не помнил о ее существовании, – сказал я.
– Значит, помнил, – сказал Ингве. – И вот подумал о ней.
– Она же была у него первая внучка, – сказал я.
– Ну да, – сказал он. – Но это ведь папа. Может, это вообще ничего не значит.
– Черт, – сказал я. – Печально это все.
– Я тут нашел еще кое-что, – сказал Ингве. – Вот, смотри. На этот раз он протянул мне напечатанное на машинке официального вида письмо. Это было извещение от Государственного фонда образовательных кредитов о том, что ссуда, взятая на получение высшего образования, погашена.
– Взгляни на дату, – сказал Ингве. Я посмотрел: двадцать девятое июля.
– За две недели до его смерти, – сказал я, встретившись взглядом с Ингве.
Мы расхохотались.
– Хе-хе-хе, – хохотал Ингве.
– Хе-хе-хе, – хохотал я. – Вот она, свобода! Хе-хе-хе!
– Хе-хе-хе-хе!
Час спустя Гуннар и Туве уехали, и характер дома снова изменился. Когда в нем остались только мы с бабушкой, жилое пространство замкнулось вокруг случившегося, словно наших сил не хватало на то, чтобы снова его разомкнуть. Возможно, потому, что произошедшее касалось нас слишком близко и мы в большей степени, чем Гуннар и Туве, являлись его частью. Как бы там ни было, а ток жизни застыл, и все предметы в доме – будь то телевизор, кресла, диван, раздвижные двери между комнатами, черное пианино, висевшие над ним две барочные картины, неподвижные, тяжелые, со всем заключенным в них грузом прошлого, снова вступили в свои права. На улице снова сделалось пасмурно. Серовато-белая пелена на небе приглушила все краски пейзажа. Ингве разбирал бумаги, я мыл лестницу, бабушка сидела на кухне, погруженная в свою тьму. В четвертом часу Ингве поехал покупать продукты к обеду, а я под навалившимся на меня одного гнетом всего нашего дома мысленно молил судьбу, только бы бабушка не пустилась в одно из своих редких странствий по дому и не пришла бы ко мне, потому что моя душа или то во мне, на что так легко накладывают свой отпечаток окружающие, сделалась такой хрупкой и чувствительной, что уже не вынесла бы тяжести ее горестного, окруженного мраком присутствия. Однако мои надежды были напрасны, потому что вскоре сверху послышался скрип отодвигаемого стола, а затем ее шаги, сперва в гостиной, а затем на лестнице.
Она схватилась за перила, как будто стояла на краю обрыва.
– Это ты там, что ли? – спросила она.
– Да, – ответил я. – Но я тут уже почти закончил.
– А где же Ингве?
– Поехал в магазин, – сказал я.
– Да, правда, – сказала она.
Бабушка долго стояла, глядя на мою руку с тряпкой, которой я водил вверх и вниз, протирая перила. Затем она заглянула мне в лицо. Я встретил ее взгляд, и холодок пробежал у меня по спине. Мне показалось, что она смотрит на меня с ненавистью.
Она покивала. Убрав непослушную прядь, которая всегда выбивалась у нее на лоб, она сказала:
– Старательный ты. Уж такой старательный.
– Ага, – сказал я. – Но уж раз начал, хочется ведь довести работу до конца, правда?
Снаружи донесся рокот мотора.
– А вот и он, – сказал я.
– Кто? – спросила она. – Гуннар?
– Ингве, – сказал я.
– А разве он не тут? Я ничего не ответил.
– Ой, и правда, – сказала она. – Что-то я малость стала путаться!
Я улыбнулся, кинул тряпку в мутную воду, поднял ведро за дужку.
– Пойдем-ка лучше приготовим чего-нибудь поесть, – сказал я.
Войдя в кухню, я вылил грязную воду, отжал тряпку и повесил ее на край ведра, а бабушка уселась на свое обычное место. Когда я снял со стола пепельницу, она отодвинула краешек занавески и выглянула в окно. Я вымыл пепельницу, вернулся к столу и взял чашки, сложил их в мойку, развернул тряпку, побрызгал стол чистящим средством и принялся отмывать; тут в кухню вошел Ингве с пакетами в обеих руках. Поставив их, он стал выгружать покупки. Сначала то, что было куплено для обеда, – это он сложил на рабочий стол: четыре вакуумные упаковки с филе лосося для жарки, пластиковый мешок с черной от налипшей земли картошкой, кочан цветной капусты и упаковку замороженной фасоли, – затем все остальные продукты, часть которых он убрал в холодильник, а часть в шкаф. Полуторалитровую бутылку спрайта, полуторалитровую бутылку кристиансаннского пива, пакет апельсинов, молоко в картонной упаковке, картонную упаковку апельсинового сока, хлеб. Я включил плиту и достал из нижнего шкафчика сковородку, вынул из холодильника пачку маргарина и, отрезав кусок, положил на сковородку, набрал воды в большую кастрюлю и поставил ее на плиту, развязал пакет и высыпал картошку в раковину, включил воду и начал мыть клубни; маргарин тем временем таял и медленно растекался по черной поверхности сковородки. Меня снова поразило, как чисты продукты и как они поэтому поднимают настроение; их яркие цвета, например, бело-зеленая упаковка фасоли с красной надписью и красненьким логотипом или, например, белый бумажный пакет, в котором лежит хлеб и из которого, как улитка из домика, смотрит темная закругленная горбушка, или вернее, подумал я затем, монах из-под своего капюшона. Апельсины, оранжево выпирающие сквозь пластик. До чего же они в общей массе, когда шарообразность каждого отдельного плода скрывается за другими, похожи на модель молекулы из школьного учебника. И до чего же этот запах, распространяющийся по комнате, стоит их почистить или разрезать, вызывает в памяти папу! Так пахли комнаты, где он находился: табачным дымом и апельсинами. Когда я, придя в свой рабочий кабинет, чувствовал там этот запах, у меня всегда появлялось ощущение чего-то хорошего.
Но почему? И что было это хорошее?
Ингве сложил оба освободившихся пакета и сунул их в самый нижний ящик. Маргарин продолжал шипеть на сковородке. Струя воды из крана разбивалась о подставленные картофелины; вода, стекавшая по краям раковины, не успевала смыть с картофелин всю грязь, которая скапливалась над сливным отверстием илистым слоем, пока картофелины не очистились и я не вынул их из раковины, и тогда струя воды за считаные секунды унесла весь осадок, и мойка снова засияла чистотой.
– Да, да, – произнесла за столом бабушка.
Какие же у нее запавшие глазницы, какая тьма в светлых от природы глазах, как выпирают наружу кости!
Ингве стоял посередине кухни и пил колу из стакана.
– Тебе помочь? – спросил он.
Он поставил стакан на рабочий стол и рыгнул.
– Нет, сам справлюсь, – сказал я.
– Ну, я тогда немного пройдусь, – сказал он.
– Ладно, иди, – сказал я.
Я опустил картофелины в воду, которая уже начинала закипать: со дна кастрюли поднимались маленькие пузырьки; я отыскал соль, она стояла наверху на вытяжке в серебряной солонке в виде корабля викингов, у которого вместо весла была ложечка, посолил картошку, разрезал цветную капусту, налил воды в другую кастрюлю и опустил в нее капусту, затем открыл упаковку с лососем и вынул четыре куска филе, посолил их и положил на тарелку.
– Сегодня у нас рыба, – сказал я. – Лосось.
– Хорошо, – сказала бабушка. – Лосось – это вкусно.
Надо бы ей помыться и вымыть голову. Переодеться в чистое. Эта мысль давно не давала мне покоя. Но кто этим займется? Ничего такого она по собственной инициативе явно делать не собиралась. А напомнить ей мы не могли. Что, если она вдруг не захочет? Не заставлять же ее насильно.
Надо будет поговорить с Туве. По крайней мере, будет не так унизительно, если это скажет ей женщина. Которая к тому же на целое поколение ближе к ней по возрасту.
Я положил куски лосося на сковородку и включил вытяжку. Буквально через несколько секунд нижняя сторона посветлела, их темно-розовый, почти красный цвет сменился светлым, едва розоватым, и я наблюдал, как этот цвет распространяется вверх. Привернул кран горелки под картошкой, которая кипела вовсю.
– О-хо-хо, – вздохнула рядом бабушка.
Я посмотрел на нее. Она сидела точно так же, как раньше, и, кажется, сама не заметила, что у нее вырвался стон.
Папа был ее первенцем.
Не должно быть так, чтобы дети умирали раньше родителей, совсем это неправильно. Неправильно.
А для меня кем был папа?
Человеком, которому я желал смерти.
Так откуда же эти слезы?
Я разрезал пакетик с фасолью. Она была покрыта тонким слоем инея, и цвет у нее был почти серый. Вот закипела и цветная капуста. Я уменьшил температуру конфорки и взглянул на стенные часы. Пять часов двенадцать минут. Еще четыре минуты, и капуста будет готова. Или шесть. Еще пятнадцать минут на картошку. Надо было готовить что-то одно. Все-таки не праздничный обед.
Бабушка посмотрела на меня.
– А вы никогда не пьете пиво за едой? – спросила она. – Я смотрю, Ингве принес какую-то бутылку.
Так, значит, заметила?
Я отрицательно покачал головой.
– Случается иногда, – сказал я. – Но редко. Очень редко. Я перевернул лососевые филе. На светлом мясе проступили поджаристые полоски. Но оно не подгорело.
Я бросил в кастрюлю фасоль, посолил, отлил лишнюю воду. Бабушка подалась вперед и выглянула в окно. Я передвинул сковородку на край конфорки, уменьшил нагрев и вышел к Ингве на веранду. Он сидел в шезлонге и смотрел вдаль.
– Обед сейчас будет, – сказал я. – Через пять минут.
– Отлично, – сказал он.
– А пиво, которое ты купил, – спросил я. – Это ты к обеду?
Он кивнул и мельком посмотрел на меня:
– А что?
– Я насчет бабушки, – сказал я. – Она спросила, не пьем ли мы за обедом пиво. Я подумал, может, лучше не надо при ней. После той пьянки, какая тут шла? Ей не обязательно снова на это смотреть. Даже если всего стакан за обедом. Понимаешь, о чем я?
– Разумеется. Но ты преувеличиваешь.
– Возможно. Однако это не такая уж великая жертва.
– Это да.
– Значит, договорились?
– Да! – сказал Ингве.
Не услышать раздражение в его голосе было невозможно. Мне не хотелось уходить от него на такой ноте. Но чем это загладить, я так и не придумал. И, постояв несколько секунд навытяжку, я, глотая слезы, ушел снова на кухню, накрыл на стол, слил картошку и поставил, сняв крышку, подсушить, лопаточкой выложил жареное филе лосося вместе с фасолью на блюдо, затем достал миску, чтобы выложить туда картошку, и выставил все на столе. Нежно-розовое, светло-зеленое, белое, темно-зеленое, золотисто-поджаристое. Я наполнил водой кувшин и поставил на стол. Когда я расставлял стаканы, в кухню с веранды вошел Ингве.
– Красота, да и только, – сказал он, садясь. – Может, положить еще вилки?
Я достал их из ящика, дал каждому по вилке, сел и начал чистить картофелину. Горячая шелуха обжигала пальцы.
– Ты чистишь? Это же молодой картофель.
– Ты прав, – сказал я.
Воткнул вилку во вторую картофелину и положил себе на тарелку. Она развалилась, едва я коснулся ее ножом. Ингве поднес ко рту кусочек лосося. Бабушка старательно резала свой кусок на мелкие части. Я поднялся, достал из холодильника маргарин и положил кусок себе на картошку. Положив в рот первый кусок лососины, я по детской привычке задышал ртом. Ингве, похоже, относился теперь к рыбе спокойнее, по-взрослому. Теперь он ел даже лютефиск, который раньше был для нас самым страшным кошмаром. «С беконом и приправами это даже очень вкусно», – услышал я внутренним слухом его слова, глядя на то, как он молча ест рядом со мной. Таких вещей, как дружеский обед, за которым на стол подается лютефиск, в моем мире не существовало. Не потому, что я не брал лютефиска в рот, а потому, что меня не приглашали на такие обеды. Почему теперь это так, я не имею понятия. Да и не особенно об этом задумывался. Но когда-то было иначе, когда-то я страдал, что не вхож в такие компании.
– Гуннар сказал, что в Гриме есть прокатная фирма. Заедем туда завтра по пути из похоронной конторы? Хорошо бы сделать это до твоего отъезда. То есть пока мы при машине.
– Хорошо, – сказал Ингве, – можно съездить.
Теперь и бабушка принялась за еду. Ее лицо как-то заострилось, в ней появилось что-то от грызуна. При каждом ее движении я ощущал запах мочи. Ох, надо как-то уговорить ее помыться! Переменить ей одежду на чистую. И подкормить ее хорошенько. Продуктами попитательней: молоком, кашей, маслом.
Я поднес ко рту стакан и отхлебнул. Вода, такая прохладная во рту, слегка отдавала металлом. Ингве со звоном опустил свой прибор на тарелку. За приоткрытой дверью столовой с жужжанием кружила оса или, может быть, шмель. Бабушка вздохнула. Одновременно со вздохом она заерзала на стуле, как будто мысль мелькнула у нее не только в сознании, но и во всем теле.
В этом доме в сочельник всегда подавали рыбу. Для меня в детстве в этом было что-то чудовищное. Рыба в сочельник! Но Кристиансанн – приморский город, такова была старинная традиция, и треска в рыбных рядах к Рождеству продавалась отборная. Однажды я ходил туда с бабушкой, я помню атмосферу, которая встретила нас в рыбном павильоне: после яркого солнца, блестевшего на снегу, там казалось темно; большие рыбины спокойно плавали в больших чанах; помню бурые тела трески, местами отливающие желтизной, местами зеленью; рыбы медленно открывали и закрывали рты, снизу, на белом подбородке, виднелся отросток вроде бородки; помню их желтые, неподвижные глаза. Люди, которые там торговали, были в белых фартуках и резиновых сапогах. Один из продавцов большущим, почти прямоугольным ножом обезглавил треску и тут же, отодвинув в сторону здоровенную голову, вспорол рыбье брюхо. Внутренности сами вывалились ему на руки. Они были бледные и водянистые, и он кинул их в стоявшее рядом ведро для отбросов. Отчего они такие бледные? Другой продавец как раз завернул рыбину в бумагу и тыкал одним пальцем по клавиатуре кассового аппарата. Помнится, я заметил, что он делает это совсем не так, как продавцы в других магазинах; передо мной в уверенных, но в то же время неуклюжих движениях торговца из рыбных рядов как будто столкнулись два мира – благообразный и грубый, укрытый в домах и тот, что открыт всем ветрам. В торговом зале пахло солью. На витринах во льду были разложены рыбины и креветки. Бабушка в меховой шапке и темном, по щиколотку пальто встала в очередь перед одним из прилавков, а я подошел к ящику, доверху полному крабов. Сверху они были бурые, цвета прелой листвы, снизу – желтовато-белые, костяного цвета. Черные глазки с булавочную головку, усы-антенны, клешни, которые клацали, когда они лезли один на другого. Словно консервные банки, подумал я тогда, с мясом внутри. В том, что эти обитатели глубин оказались здесь, как и остальная морская живность, было что-то сказочное. Один из работников окатывал бетонный пол водой из шлага, вода, пенясь, сбегала в решетку водостока. Бабушка наклонилась и показала пальцем на плоскую, словно сплюснутую рыбину зеленоватого цвета со ржавыми крапинками, продавец достал ее с ледника и положил на весы. Затем переложил на лист бумаги и завернул, сверток засунул в пакет и отдал его бабушке, бабушка же протянула ему деньги одной бумажкой, вынув ее из своего маленького портмоне. Но все сказочное, что было в рыбе и окружало ее там, бесследно исчезало, когда она оказывалась на моей тарелке, белая, размякшая, соленая и набитая костями, так же как пропадало все сказочное в рыбе, которую мы с папой ловили на удочку или дорожку у побережья Трумёйи или в проливе между островом и материком, когда ее подавали дома на стол на коричневых обеденных тарелках.
Когда же это было, что я ходил с бабушкой в рыбные ряды?
В детстве я редко когда бывал у нее в будние дни. Значит, дело, скорее всего, было, когда мы с Ингве проводили у нее зимние каникулы. Когда мы без провожатых приехали в Кристиансанн. В таком случае Ингве тоже бы отправился с нами на рынок. Но в воспоминаниях его не было. А крабов вообще не могло быть; зимние каникулы бывают в феврале, в это время живых крабов нет в продаже. А если бы и были, то не могли находиться в деревянном ящике. Так откуда же взялась эта картинка с такими яркими деталями?
Да откуда угодно! Уж чего сполна хватало в моем детстве, так это рыбы и крабов, креветок и омаров. Сколько раз на моих глазах папа доставал из холодильника недоеденную рыбу, чтобы доесть ее вечером, стоя на кухне, или утром в выходной день. Но больше всего он любил крабов; когда лето подходило к концу и наступал сезон крабов, он после занятий отправлялся в Арендал на рыбацкую пристань, чтобы купить там несколько штук, а иногда и сам выходил на ловлю вечером или ночью на какой-нибудь островок в шхерах или к скалам на взморье. Изредка он брал нас с собой, особенно памятна мне одна такая вылазка, ночью под иссиня-черным августовским небом, возле Торунгского маяка, где на нас по дороге с катера через островок напали чайки, а потом, с двумя полными ведрами крабов, мы жгли в ложбинке костер. Языки пламени тянулись в вышину. Вокруг нас тяжело колыхалось море. Папино лицо светилось от счастья.
Я отставил стакан, отрезал кусочек рыбы и наколол на вилку. Темно-серая жирная лососина на трех зубцах была такая нежная, что просто таяла во рту.
Пообедав, мы продолжили уборку. С лестницей я управился, так что теперь принялся за то, чего не доделала Туве, а Ингве занялся столовой. На улице пошел дождь. Окна покрылись пленкой мороси. Наружная стена на террасе потемнела, а в устье фьорда, где лило, наверное, сильнее, тучи на горизонте стали полосатыми от дождя. Я вытер от пыли все безделушки, лампы, фотографии и сувениры, которыми были забиты полки, и составил их на пол, чтобы протереть шкафчик внутри. Масляную лампу, словно сошедшую со страниц «Тысячи и одной ночи», одновременно дешевую и драгоценную, всю в завитушках и позолоте; венецианскую гондолу, мерцающую, как лампа; фотографию бабушки и дедушки на фоне египетских пирамид. Разглядывая ее, я услышал, как бабушка на кухне встает из-за стола. Протерев рамку и стекло, я поставил фотографию на пол и снял с полки старомодную подставку с давнишними синглами. И тут передо мной явилась бабушка, она стояла, заложив руки за спину, и глядела на меня.
– Нет, знаешь, это уже лишнее, – заявила она. – Сколько можно возиться!
– Да это недолго, – сказал я. – Отчего ж не сделать заодно.
– Да, да, – покивала она. – Так оно, конечно, лучше.
Вытерев от пыли подставку, я поставил ее на пол, сложил рядом пластинки, открыл шкаф и вынул оттуда старый стереопроигрыватель.
– Так что же вы, так-таки никогда и не выпиваете на ночь пивка? – спросила она.
– Нет, – сказал я. – По крайней мере, в будние дни.
– Так я и думала, – сказала она.
В городе за рекой начали загораться фонари, а небо немного прояснилось. Который, интересно, час? Половина шестого? Шесть?
Я протер полки мокрой тряпкой и вернул проигрыватель на место. Бабушка, поняв, вероятно, что тут ее советов не спрашивают, повернулась и, тихонько пробормотав «да-да», ушла в другую комнату. Вскоре я услышал оттуда ее голос и затем голос Ингве. Зайдя в кухню за жидкостью для стекол и старыми газетами, я увидел в открытую дверь, что она села в комнате за стол, чтобы поговорить с ним, пока он работает.
Это пьянство сильно на нее подействовало, подумал я, достал из шкафа спрей для окон, оторвал несколько листов от лежавшей на стуле под настенными часами газеты и вернулся в гостиную. В общем-то, ничего удивительного. Своим пьянством он методически сводил себя в могилу, иначе не скажешь, а она была здесь и на все это смотрела. Каждое утро, каждый день, каждый вечер. Как долго? Два года? Три года? Только она и он. Мать и сын.
Я прыснул моющим средством на стеклянную створку шкафа, смял лист газетной бумаги и стал растирать мыльную жидкость по стеклу, пока оно не высохло и не заблестело. Огляделся вокруг, высматривая еще что-нибудь стеклянное, чтобы протереть его заодно, но не увидел ничего, кроме оконных стекол, а их я решил оставить напоследок. Тогда я продолжил разбирать шкаф: поставил на место все вещицы и принялся за то, что стояло в глубине.
Теперь полосы дождя рассекали воздух над акваторией порта. В следующий миг дождь забарабанил в мое окно. Крупные, тяжелые капли тотчас стекали по стеклу, оставляя на нем во всю ширину текучий узор. За спиной у меня прошла бабушка. Я не обернулся на ее шаги, но ее движения целиком заняли мое сознание: вот она остановилась, взяла пульт от телевизора, нажала кнопку и села в кресло. Я положил тряпку на полку и пошел к Ингве.
– И тут тоже полно бутылок, – сказал он, кивая на сервант, занимавший одну из стен. – Но сервиз и прочая посуда в полном порядке.
– Скажи, тебя она тоже спрашивала, выпиваем ли мы? – сказал я. – Меня, по крайней мере, она спрашивала уже раз десять, не меньше, с тех пор как мы приехали.
– Как же, спрашивала, – сказал Ингве. – Вопрос в том, дадим ли мы и ей немножко. Разумеется, она не нуждается в нашем позволении, но она явно просит. Так что… Что скажешь?
– А ты что скажешь?
– Ты еще не понял? – сказал он, посмотрев мне в лицо. Его губы чуть дрогнули в невеселой улыбке.
– Не понял – чего? – спросил я.
– Ей хочется выпить. Отчаянно хочется.
– Бабушке?
– Ну да. Так что ты скажешь – дать ей немножко?
– Ты уверен? Я думал, все как раз наоборот.
– Сначала и мне так показалось. Но если хорошенько подумать, то все понятно. Он жил тут долгое время. Как еще ей было это вынести?
– Так она – алкоголичка?
Ингве пожал плечами.
– Сейчас речь о том, что ей хочется выпить. И ей нужно наше разрешение.
– Только этого еще не хватало! – сказал я. – Это же черт знает что такое!
– Да. Но сейчас-то уж какая разница, выпьет она или нет. Она же фактически в шоке.
– Так что же нам делать? – спросил я.
– Да ничего. Просто спросим, не хочет ли она выпить стаканчик, и сами выпьем с ней за компанию.
– Окей. Но только не прямо сейчас.
– Но к вечеру мы управимся. Вот соберемся ужинать и спросим ее. Как бы невзначай.
Через полчаса я закончил со шкафом и вышел на веранду; дождь уже перестал, и воздух наполняли свежие ароматы сада. Стол был покрыт тонкой пленкой влаги, стулья тоже промокли и потемнели. Пластиковые бутылки, валявшиеся на каменном полу, снаружи были усеяны капельками. Их горлышки напоминали жерла маленьких пушек, наведенные куда попало. На чугунной решетке гроздьями висели капли. Время от времени одна из них отрывалась и почти неслышно шлепалась на каменный низ ограды. Просто не верилось, что всего три дня назад здесь был и папа, тоже ходил по дому, видел бабушку, как сейчас ее видим мы, думал о своем, в голове не укладывалось, что это было каких-то три дня назад. Точнее, что он был здесь, это я мог себе представить, а вот что он видел все это – не мог. Веранду, пластиковые мешки, свет в окнах соседнего дома. Хлопья желтой облупившейся краски, которые валялись теперь на красном плиточном полу веранды, под столом, возле его заржавленной ножки. В голове у меня не укладывалось, что он никогда больше ничего этого не увидит. Водосточную трубу, из которой на траву все текла и текла вода. Что он никогда ничего этого не увидит – вот чего я, как ни старался, не мог себе представить. Что он никогда не увидит меня и Ингве, это мне было понятно, это относилось к сфере эмоциональной жизни, а с нею смерть сочеталась совершенно иным образом, нежели с объективной, конкретной реальностью, которая меня окружала. Ничего. Вообще ничего. Даже тьмы.
Я закурил сигарету, провел несколько раз ладонью по мокрому сиденью и сел на стул. Оставалось всего две сигареты. Значит, надо сходить в киоск, пока он не закрылся.
Вдоль забора в конце лужайки кралась серая полосатая кошка, на вид старая. Она остановилась и замерла с поднятой лапкой, присела на траву и, немного посидев, побежала дальше. Я подумал о нашем коте, Нансене, на которого изливала свою любовь Тонья. Ему было всего несколько месяцев, он спал с ней под одеялом, высунув наружу только голову.
За весь день я не вспомнил Тонью ни разу. Что бы это могло значить? Звонить ей не хотелось, потому что рассказывать было нечего, однако придется – ради нее. Хотя я о ней не вспоминал, она-то обо мне думала, я это знал.
Высоко над гаванью в воздухе плавно парила чайка, направляясь в сторону нашей веранды, и я почувствовал, что улыбаюсь, это была бабушкина чайка, и она возвращалась, чтобы ее покормили. Но увидев, что тут сижу я, она не решилась опуститься, а села на крышу, и там, запрокинув голову, издала свой чаячий крик.
Наверное, надо дать ей немножко лосося?
Я загасил сигарету об пол и бросил окурок в одну из бутылок, затем встал и пошел в гостиную к бабушке, она смотрела телевизор.
– Твоя чайка опять прилетела, – сказал я. – Дать ей кусочек лососины?
– Что? – спросила она и повернулась ко мне лицом.
– Чайка прилетела, – повторил я. – Дать ей лососины?
– А-а, – сказала она, – Да это я и сама могу.
Она поднялась с кресла и, сгорбившись, направилась на кухню. Я взял пульт и уменьшил звук. Затем пошел в столовую, где никого не было, и сел там у телефона. Набрал свой домашний номер.
– Алло, это Тонья?
– Алло, это ты, Карл Уве?
– Привет…
– Привет.
– Ну, как ты там?
– Не то чтобы очень, – сказал я. – Тяжело тут находиться. Я почти все время плачу. Но сам не знаю толком о чем. О том, конечно, что папа умер. Но дело не только в этом…
– Надо мне было поехать с тобой, – сказала она. – Я соскучилась по тебе.
– Этот дом полон смерти, – сказал я. – Мы тут вязнем в ней по колено. А кроме того, тут скопилось все, что происходило, в смысле – раньше происходило, когда я был ребенком, все это тоже тут, и оно поднимается из глубин. Понимаешь? Оно как будто совсем рядом. То, каким я был в раннем детстве. Когда был жив папа. Всколыхнулись все старые ощущения.
– Бедный Карл Уве, – сказала Тонья.
На пороге двери, напротив которой я сидел, показалась бабушка, в руках у нее была мисочка с кусочком лососины. Она не заметила меня. Я замолчал и переждал, когда она пройдет в другую комнату.
– Нет, меня жалеть не стоит, – сказал я. – Это о нем надо жалеть. Под конец жизнь у него была собачья, ты даже не можешь себе представить насколько.
– А как бабушка?
– Не знаю. Она фактически в шоке. Впечатление, что она впала в старческое слабоумие. Она так исхудала, что просто страшно смотреть. Они тут сидели взаперти и пили.
– Что, и бабушка?
– Ну да. Ты не поверишь. Но мы решили навести порядок и проводить поминки здесь.
Сквозь стеклянную дверь мне было видно, как бабушка ставит миску на пол. Отойдя на несколько шагов в сторонку, она стала оглядываться.
– По-моему, это хорошая мысль.
– Не знаю, – сказал я. – Но это уже решено. Вымоем весь этот чертов дом и наведем в нем красоту. Купим скатерти, цветов и…
В дверь заглянул Ингве. Увидев, что я говорю по телефону, он округлил брови и удалился, в тот же миг с веранды в комнату вошла бабушка. Встав перед окном, она стала смотреть в сад.
– Пожалуй, я приеду на день раньше, – сказала Тонья, – тоже чем-нибудь помогу.
– Похороны в пятницу, – сказал я. – А как ты с работой – возьмешь выходной?
– Да. И приеду с утра. Я очень по тебе соскучилась.
– А что ты сегодня делала, а?
– Да так, ничего особенного. Побывала у мамы и Ханса, пообедала. Оба просили передать тебе привет, они помнят о тебе.
– Да, они прекрасные люди, – сказал я. – И что же было там на обед?
Мать Тоньи изумительно готовила, пообедать у нее в доме – выдающееся событие, если ты гурман. Но я не гурман и в еде неприхотлив, по мне, что рыбные палочки, что запеченный палтус, сосиски или говядина «Веллингтон» – все едино, у Тоньи же, когда речь заходила о разных блюдах, глаза начинали блестеть, у нее тоже был этот талант, и она любила возиться на кухне; и хотя она готовила разве что пиццу, но всякий раз вкладывала в это душу. Она была самым чувственным человеком из всех, кого я встречал. И ей, как нарочно, достался муж, который воспринимал ежедневные застолья, уют и близость всего лишь как необходимое зло.
– Камбала. Так что ты ничего не потерял. По ее голосу я понял, что она улыбнулась.
– Но знаешь, это было нечто восхитительное.
– Нисколько не сомневаюсь, – сказал я. – А Хьетиль и Карин тоже там были, или нет?
– Были. И Атле.
У них в семье, как и у других людей, бывало всякое, но оно не становилось предметом обсуждения, а если как-то проявлялось, то у каждого по отдельности или давало себя знать в оттенках общего настроения. Одной из особенностей, которые нравились во мне Тонье, было, как я понимаю, вот это пристальное внимание к всевозможным оттенкам человеческих отношений: оно явилось для нее чем-то новым и непривычным, и она с огромным интересом слушала, когда я ей об этом рассказывал. У меня это было от матери – с моего раннего отрочества мы вели с ней долгие беседы о знакомых или случайно встреченных людях, о том, что они сказали, почему именно так, а не иначе, что они собой представляют, где живут, кто их родители, дома – и увязывали это с вопросами политического, этического, морального, психологического и философского характера. Именно благодаря этим беседам в дальнейшем мой интерес в основном сфокусировался на том, что происходит между людьми, и я всегда старался истолковать их отношения; долгое время я также считал, что хорошо разбираюсь в людях, но это было не так, ведь на что бы я ни смотрел, я всюду видел только себя; возможно, однако, что вовсе не это, а совсем другое было главным в наших разговорах с Тоньей; главное было, что речь шла о нас с мамой – как мы сблизились через речь и рефлексию, благодаря которым крепли связывающие нас узы; точно так же я стремился укрепить свою связь с Тоньей. И это было правильно: она нуждалась в этом настолько же, насколько я нуждался в ее здоровой чувственности.
– Я скучаю по тебе, – сказал я, – но рад, что ты не здесь.
– Обещай, что не будешь скрывать от меня, что ты сейчас переживаешь, – сказала она.
– Не буду, – пообещал я.
– Я люблю тебя, – сказала она.
– И я тебя люблю, – ответил я.
Как всегда, после этих слов, я прислушался к себе – правда ли это. Мелькнувшее ощущение тотчас же ушло. Конечно же, это правда, конечно же, я ее люблю.
– Позвонишь завтра?
– Разумеется. Ну, всего хорошего, пока…
– Всего хорошего. И передай привет Ингве.
Я положил трубку и пошел в кухню. Ингве стоял там, прислонившись к рабочему столу.
– Это была Тонья, – сказал я. – Тебе привет.
– Спасибо, – сказал он. – И ей от меня передай.
Я присел на край стула.
– Ну что? На сегодня закончили?
– Да. Я, по крайней мере, уже наработался.
– Я только вот схожу в киоск, и тогда мы… ну, ты знаешь. Тебе ничего не надо?
– Может, купишь пачку табака? И заодно, может быть, чипсов или чего-нибудь вроде?
Я кивнул и поднялся, спустился по лестнице, надел куртку, оставленную в гардеробе, проверил во внутреннем кармане, на месте ли деньги, и взглянул на себя в зеркало, перед тем как выйти. Вид у меня был заезженный. И хотя в последний раз я плакал несколько часов назад, по глазам это все еще было заметно. Они не то чтобы покраснели, но казались мутными и какими-то водянистыми.
На крыльце я на секунду остановился. В голову вдруг ударила мысль, что нам многое нужно спросить у бабушки. До сих пор мы чересчур осторожничали. Например, когда приехала скорая? Сколько времени пришлось ждать после вызова? Как долго оставалась надежда его спасти? Приехали они вовремя или опоздали?
Они должны были въехать на гору с включенным маячком и воющей сиреной. Из машины выскочили водитель и врач, захватив оборудование, они взбежали на крыльцо к двери. А если дверь была заперта? Дверь здесь всегда держали на замке. Сообразила ли она впопыхах спуститься и отпереть дверь к их приезду? Или они звонили и ждали, пока им откроют? Что она сказала им, когда они пришли: «Он лежит там» – и провела их в гостиную? Сидел ли он все так же в кресле, когда они пришли, или лежал на полу? Пытались ли они его оживить? Массаж сердца, кислород, дыхание изо рта в рот? Или же сразу констатировали смерть, так как сделать уже ничего было невозможно, и они просто положили его на носилки и унесли, обменявшись с ней несколькими словами. Что она поняла из сказанного? Что сказала сама? И когда это произошло: утром, днем или вечером?
Не можем же мы уехать отсюда, так и не узнав, при каких обстоятельствах он умер, так ведь?
Я вздохнул и спустился вниз. Небо надо мной расчистилось. Если несколько часов тому назад оно все было затянуто сплошной пеленой туч, то сейчас тучи образовали горный ландшафт с протяженными долинами, крутыми обрывами и острыми пиками, местами белыми и пушистыми, как снег, местами серыми, как неприступные скалы, в то время как широкие равнины, озаренные заходящим солнцем, не столько сияли и горели, как это часто бывает, красноватыми отсветами, сколько казались размытыми, погруженными в некую влагу. Матово-красные, темно-розовые, висели они над городом, окруженные всевозможными оттенками серого. Зрелище какой-то нечеловеческой красоты. Казалось бы, все должны были высыпать на улицу, машины должны останавливаться, двери распахиваться, а водители и пассажиры – вылезать и, задрав голову, восхищенно любоваться тем, что делается вверху, гадая, что за явление разыгрывается у них над головой.
На деле же все ограничивалось разве что беглым взглядом. За которым следовал скупой комментарий, что «небо, дескать, сегодня красивое», потому что подобное зрелище не представляет собой ничего исключительного, а напротив, редкий день проходит без того, чтобы небо не наполнялось фантастическими облачными образованиями, каждое со своим уникальным, неповторимым освещением, а то, что видно всегда, мы, по сути, как бы не видим; мы проживаем свою жизнь под вечно изменчивыми небесами, не уделяя им ни единой мысли или взгляда. Да и с какой бы стати нам уделять им внимание? Если бы эти образования имели какой-то смысл, к примеру, содержали бы в себе обращенные к нам знамения или весть, которую необходимо понять и правильно расшифровать, то мы по понятной причине неизбежно внимательно следили бы за тем, что происходит вверху. Но поскольку этого нет, а очертания и освещение облаков, какой бы они ни принимали вид, ровным счетом ничего не означают, а возникают исключительно в силу случайности, то знаменуют они собой всего лишь отсутствие смысла в чистом виде и в самой ярко выраженной форме.
Я вышел на широкую дорогу, безлюдную, пустую, и зашагал к перекрестку. Там тоже царило воскресное затишье. Пожилая пара, прогуливающаяся по противоположной стороне, немного машин, направляющихся к мосту, светофор, переключающийся на красный свет, хотя останавливать ему было некого. У автобусной остановки рядом с киоском затормозил черный «гольф», из него вышел молодой человек в шортах с бумажником в руке и рысцой побежал к киоску, бросив свой «гольф» с включенным мотором. Я встретился с ним в дверях, когда он оттуда выбежал. На этот раз в руке у него было мороженое. Надо же, какой инфантилизм! Оставить машину с включенным мотором, чтобы сбегать за мороженым?
Молодого человека в тренировочном костюме сегодня сменила за прилавком девушка лет двадцати, полноватая и чернявая, в чертах лица у нее проглядывало что-то персидское, и я подумал, что она, должно быть, уроженка Ирака или Ирана. Несмотря на круглые щеки и полноту, она была хорошенькой. На меня она даже не взглянула. Все ее внимание было направлено на развернутую газету, которая лежала перед ней на прилавке. Я отодвинул дверцу холодильника, достал две бутылки спрайта, поискал глазами чипсы и, обнаружив их, взял две пачки и выложил на прилавок.
– И еще пачку «Тидеман гуль» с бумагой, – сказал я.
Она повернулась и достала табак с полки у себя за спиной.
– Вам «Ризлу»? – спросила она, по-прежнему не глядя мне в лицо.
– Да, пожалуйста.
Она вытащила оранжевую бумагу для сигарет из-под прилавка и положила рядом с табаком, одновременно выбивая свободной рукой чек.
– Сто пятьдесят семь пятьдесят, – объявила она с выраженным кристиансаннским акцентом.
Я протянул ей две стокроновые бумажки. Она пропечатала сумму и вынула из ящичка под кассой сдачу. Хотя я стоял перед ней с протянутой рукой, она положила деньги на прилавок.
Почему бы это? Неужели со мной что-то не так, а она это заметила и ей не понравилось? Или она просто туповата? Ведь обыкновенно продавцы все же смотрят в лицо покупателю, принимая деньги и вручая ему товар? А если человек протянул руку, то положить деньги рядом – это уже почти оскорбительно, и такой жест выглядит откровенно демонстративным.
Я посмотрел на нее:
– А пакет не дадите?
– Да, конечно, – сказала она и, чуть присев, извлекла из-под прилавка белый пластиковый пакет.
– Вот.
– Спасибо, – сказал я, сложил в него покупки и вышел.
Желание с ней переспать, проявившееся скорее в ощущении своего рода физической открытости и размягченности, нежели в его более обычной форме острого приступа, при котором все чувства завязываются одним жестким узлом, не покидало меня всю дорогу до дома, но не овладело всем моим существом, так как рядом все время маячила скорбь с ее серым и хмурым небом, которое, как я чувствовал, в любую минуту могло вновь накрыть меня своей пасмурной пеленой.
Они были в гостиной и смотрели телевизор. Ингве сидел в папином кресле. Когда я вошел, он обернулся и встал.
– Мы подумали, что не мешало бы немножко выпить, – сказал он, обращаясь к бабушке. – После того, как целый день трудились не покладая рук. Выпьешь с нами стаканчик?
– Ну, что ж, не откажусь, – сказала бабушка.
– Сейчас я намешаю тебе, – сказал Ингве. – Посидим, что ли, на кухне?
– Давай посидим.
У бабушки как будто и ноги задвигались порезвее, и в глазах, где все время стояла тьма, зажегся огонек. Или мне показалось?
Нет, так оно и было.
Один пакет с чипсами я положил на рабочий стол, содержимое второго высыпал в вазочку. Ингве достал из шкафа синюю бутылку «Абсолюта», она стояла там, где хранились продукты, и мы не заметили ее, когда выливали все спиртное, которое попадалось нам на глаза, снял с полки над рабочим столом три стакана, достал из холодильника коробку сока и начал смешивать. Бабушка сидела на привычном месте и наблюдала.
– Так, значит, вы тоже не прочь подкрепиться на ночь, – сказала она.
– А как же, – сказал Ингве. – Мы же весь день работали как заведенные. Так можно хоть вечерком немножко расслабиться.
Улыбаясь, он протянул ей стакан. И вот мы уже сидим все втроем за столом и выпиваем. Было уже около десяти. За окном темнело. Бабушка с несомненным наслаждением пила алкогольную смесь. В глазах у нее скоро появился прежний блеск, поблекшие щечки разрумянились, движения стали мягче, а когда она допила первый стакан и Ингве налил ей второй, у нее словно бы полегчало на душе, потому что вскоре она уже говорила с нами и смеялась, как в былые дни. Первые полчаса я сидел точно каменный, цепенея от неприятного чувства, потому что она оживала как вампир, наконец дорвавшийся до свежей крови. Я видел своими глазами, как это происходило: жизнь возвращалась к ней, постепенно вливаясь в жилы. Это было ужасно, ужасно… Но затем я и сам ощутил действие алкоголя, мысли мои размякли, сознание растворилось, и то, что она сидит тут, и пьет, и смеется через два дня после того, как нашла своего сына мертвым, уже не казалось таким чудовищным: ничего страшного, старушка, как видно, с утра об этом мечтала, а то сидишь тут целый день неподвижно на стуле, только изредка прерывая это сидение бестолковым хождением по дому в немом молчании, а тут хоть какая-то жизнь! Да и у нас тоже душа этого требовала. И вот мы сидим, бабушка рассказывает разные истории, мы хохочем. Потом подхватывает Ингве, мы хохочем снова. Они с Ингве всегда сходились друг с другом на почве врожденной склонности к игре слов, но никогда это не проявлялось так ярко, как в тот вечер. И вот уже бабушка вытирает глаза, насмеявшись до слез, а я, встретившись взглядом с Ингве, вижу в его глазах одну радость, хотя только что в них проскальзывало виноватое выражение. Мы отведали волшебного зелья. Эта прозрачная жидкость, сохранявшая свой резкий вкус даже после того, как ее развели апельсиновым соком, изменила условия нашего существования, вытеснив из сознания то, что тут случилось, и вернув нас к тому, какими мы были и что думали в обычное время, словно подсветив это изнутри: то, чем мы были и что думали, засияло вдруг теплым светом, и все преграды перед нами исчезли. От бабушки все так же пахло мочой, ее одежда все так же была заляпана липкими жирными пятнами, она была все так же ужасающе худа, все так же несла на себе следы долгих месяцев, прожитых в крысиной норе вместе с сыном, нашим отцом, умершим от беспробудного пьянства, едва успевшим остыть и по-прежнему лежащим где-то неподалеку. Но глаза ее светились, на губах играла улыбка. А ее руки, все время покоившиеся на коленях, если только не крутили пальцами вечное курево, теперь обрели способность жестикулировать. Прямо на глазах она превращалась в того человека, каким была раньше, – легкого, бойкого, постоянно улыбающегося и смешливого. Истории, которые она нам рассказывала, мы уже слышали раньше, но в этом как раз и была их главная прелесть, – во всяком случае, для меня, – потому что, по мере того как она их рассказывала, она превращалась в себя прежнюю, возвращалась та жизнь, которой жили в этом доме. Ни одна из этих историй не была забавна сама по себе, все дело было в том, как бабушка их рассказывала, в ее изложении они превращались в смешные благодаря тому, что она сама считала их такими. Она всегда подмечала в обыденной жизни забавное, и каждый раз смеялась от души. Сыновья тоже принимали в этом участие, в том смысле, что рассказывали ей мелкие эпизоды из своей повседневной жизни, которые ее веселили, а те, что ей приходились особенно по душе, подхватывала и включала в свой репертуар. Ее сыновья, в особенности Эрлинг и Гуннар, унаследовали от нее ту же страсть к словесной игре. Ведь послали же они Гуннара в лавку купить околесицу? И баклуши? Заставили же Ингве поверить, будто фланец и инжектор – это самые нехорошие слова на свете, и взяли с него обещание, что он никогда не будет их произносить! Папа иногда тоже принимал участие в этих забавах, но с его образом они у меня никак не вязались: меня скорее удивляло, что он может заниматься такими вещами. А чтобы он так же увлеченно рассказывал и смеялся, как бабушка, это вообще невозможно было себе представить.
Даже тысячный раз слышанные истории звучали в ее устах так, будто она рассказывает это в первый раз. Поэтому она и смеялась потом совершенно искренне, без малейшей нарочитости и расчета.
И вот, когда мы изрядно выпили и алкоголь развеял скопившуюся в душе тьму, а заодно затуманил нам глаза, так что мы потеряли способность взглянуть на себя со стороны, мы без труда последовали ее примеру. Взрывы смеха за нашим столом следовали один за другим. Бабушка так и сыпала рассказами, накопленными за восемьдесят пять лет, но на этом не останавливалась: по мере того как алкоголь отключал внутреннюю защиту, старые истории получали продолжение, а это кардинально меняло их суть. Так, например, мы давно уже знали, что в 1930-е годы она служила в Осло персональным водителем, это уже стало частью семейной мифологии, ведь в те времена еще редко какая женщина имела водительские права, а уж тем более работала шофером. Место, по ее словам, она нашла по объявлению – читала у себя дома в Осгорстранне газету «Афтенпостен», увидела объявление, написала письмо, была принята и переехала в Осло. Работодательницей оказалась пожилая, эксцентричная и очень богатая женщина. В начале двадцатых годов бабушка жила у нее на вилле и возила на машине, куда скажет хозяйка. У хозяйки была собака, которая обычно выставляла морду в окно и облаивала оттуда всех встречных. И бабушка со смехом рассказывала, как неудобно ей было перед людьми, когда она возила хозяйку. Однако, подчеркивая ее эксцентричность и, возможно, старческое слабоумие, бабушка упоминала еще одно обстоятельство. Эта дама прятала свои деньги дома в самых неожиданных местах. Пачки денег лежали у нее в кухонном шкафу в кастрюлях и чайниках, на полу под ковром, в спальне под подушками. Рассказывая это, бабушка обыкновенно смеялась и качала головой, напоминая нам, что она приехала тогда из захолустного городка, и это была ее первая встреча не только с большим миром, но и с миром богатых и образованных людей. На этот раз, когда мы сидели втроем у нее на кухне вокруг освещенного стола за бутылкой «Абсолюта», рядом с которым в потемневшем окне отражались наши лица, она вдруг риторически вопросила:
– Ну, и что мне было делать? Она же была такая богачка! И деньги лежали у нее повсюду. Так какая ей была разница, она же все равно не замечала, если что-то из них пропадало. Ведь для нее не имело значения, если я немножко возьму.
– Ты брала деньги? – сказал я.
– Да ясное дело, брала. Понемножку, она и не замечала. А раз не замечала, так какое это имело значение. И потом, она так мало платила. Сущие гроши! Я же не только возила ее на машине, а еще сколько всего другого делала, так что мне по справедливости причиталось больше.
Она хлопнула ладонью по столу. Затем рассмеялась.
– Ну, уж а ее собака – это вообще нечто! Мы являли собой редкостное зрелище, когда катили по Осло! Тогда еще машин было мало. Так что на нас обращали внимание, и еще как!
Она посмеялась. Потом вздохнула.
– Да уж. Жизнь – это божба, сказала старушка. Она не выговаривала «р».
Она поднесла к губам стакан и выпила. Я тоже. Затем взял бутылку и налил себе еще, взглянул на Ингве, он кивнул, я налил и ему.
– Тебе еще подлить? – спросил я, посмотрев на бабушку.
– Не откажусь, – сказала она. – Немножечко.
Когда я налил бабушке, Ингве стал подливать сок, но стакан не успел наполниться наполовину, как сок кончился. Он встряхнул картонку.
– Пусто, – сказал он, повернувшись ко мне. – Ты вроде бы купил еще спрайта?
– Ну да, – сказал я. – Сейчас достану.
Я встал и подошел к холодильнику. Кроме трех моих пол-литровых бутылок там стояла еще полуторалитровая, которую утром принес Ингве.
– Ты забыл про эту? – спросил я, показывая на бутылку.
– И правда, – сказал Ингве.
Поставив ее на стол, я вышел на лестницу и спустился в туалет. Вокруг зияла пустота больших темных комнат. Но воспламененное спиртным сознание не воспринимало окружающего, иначе меня затопил бы этот мрак, а так я пребывал если не в радостном, то все же в оживленном и приподнятом настроении, которого не могла нарушить даже мысль о том, что папа умер, – она присутствовала, но лишь бледной тенью без сопутствующих переживаний, оттесненная живой жизнью, образы, звуки и события которой, пробужденные опьянением, так и мелькали в моей голове, вызывая иллюзию, будто я нахожусь среди многолюдного общества, где царит веселье, и мне не терпелось поскорее продолжить в том же духе. Я знал, что на самом деле это не так, но так это ощущалось, а мною сейчас правили ощущения, даже когда я спустился с лестницы и ступил на потертый ковролин первого этажа, освещенный слабым светом, проникавшим через дверное оконце, и когда я вошел в туалет, который по-прежнему гудел и шумел так же, как это было на протяжении минувших тридцати без малого лет. Выйдя назад, я услышал доносившиеся сверху голоса и поспешил туда. Я прошел в гостиную, посмотреть на место, где он умер, в новом, более безразличном состоянии духа. И тут меня вдруг охватило ощущение того, кем он тут был. Я не то чтобы увидел его, – ничего такого, – но вдруг почувствовал его, все его существо, каким оно было в последние месяцы в этом помещении. Поразительное ощущение! Но я не захотел на нем задерживаться, да, наверное, и не мог, потому что продлилось оно какой-то миг, а затем в него вцепилась мысль, и я вернулся на кухню, где все оставалось так же, как тогда, когда я из нее выходил, кроме цвета напитков, которые на этот раз были бесцветными и в них играли мелкие пузырьки.
Бабушка продолжала свои рассказы о том времени, когда она жила в Осло. Эти истории тоже входили в круг семейной мифологии, но и они представали сейчас в неожиданном свете. До сих пор я знал, что сперва за бабушкой ухаживал Алф, дедушкин старший брат. Сначала все думали, что она выйдет за него замуж. Оба брата учились в Осло в университете, Алф на естественном отделении, дедушка – на экономическом. Разойдясь с Алфом, бабушка вышла за дедушку, и они переехали в Кристиансанн, туда же переехал и Алф, но уже женившись на Сёльви. Сёльви в юности перенесла туберкулез, в одном легком у нее остались каверны, так что она всю жизнь была слабого здоровья и не могла иметь детей, поэтому они в сравнительно немолодом возрасте удочерили девочку из Азии. Семьи Алфа и бабушки с дедушкой составляли для меня то окружение, в котором я рос, мы бывали у них в гостях, а они у нас, в разговорах часто упоминалось, что Алф и бабушка когда-то собирались пожениться, это не было секретом, а когда дедушка и Сёльви умерли, бабушка и Алф стали встречаться раз в неделю; по субботам бабушка днем отправлялась к нему в гости, навещала его на вилле в Гриме, и никто не видел в этом ничего плохого, хотя иногда кто-нибудь добродушно посмеивался: может, зря, дескать, они в свое время не поженились?
А тут бабушка рассказала, как она впервые встретилась с обоими братьями. Алф был более открытый и общительный, а дедушка весь в себе, но оба явно почувствовали интерес к девушке из Осгорстранна, потому что, когда дедушка смекнул, к чему идет дело у Алфа, который всячески ее обхаживал, пуская в ход все свое обаяние и остроумие, он тихонько шепнул ей: «А в кармане-то у него колечко».
Бабушка рассказывала это со смехом.
– И что же ты сказала? – спросил я, хотя уже хорошо знал, что она тогда сказала.
– «А в кармане-то у него колечко», – повторил он еще раз. «Какое колечко?» – спрашиваю я. А он мне на это: «Обручальное». Представляете себе! Он-то подумал, что я не поняла.
– Так что же – Алф тогда уже был помолвлен с Сёльви?
– Ну да! Но она жила в Арендале и все время прибаливала. Вот он особо ни на что и не рассчитывал. А оказалось, дошло до женитьбы.
Она опять отхлебнула из стакана. Отхлебнула и облизнулась. Возникла пауза, она снова погрузилась в себя, как это часто бывало с ней в последние дни. Сидит, сложив руки на коленях, и глядит в пространство. Я осушил свой стакан и налил по новой, достал сигаретную бумагу, положил на нее щепотку табаку, примял, чтобы лучше курилась, скрутил в трубочку, лизнул языком липкий край, оборвал торчащие табачные махры, засунул их в пачку, взял в рот кривоватую самокрутку и прикурил от зеленой, полупрозрачной зажигалки Ингве.
– В ту зиму, когда помер дед, мы собирались с ним съездить на юг, – сказала бабушка, – билеты были уже куплены, все готово.
Выпустив струйку дыма, я поглядел на нее.
– В тот вечер… Ну, знаешь, когда он упал в ванной… Я только услышала грохот за дверью и встала. Гляжу, он лежит на полу. Пришлось вызывать скорую. Позвонив, я села с ним рядом да так и держала его за руку все время, пока они не приехали. А тут он и говорит: «Все равно мы поедем на юг». А я и подумала: какой уж тут юг, не туда ты отправишься.
Она посмеивалась, но сидела опустив взгляд.
– Совсем не туда ты отправишься, – повторила она.
Наступило долгое молчание.
– Ох, – вздохнула бабушка. – Жизнь – это божба, сказала старушка, она, понимаете ли, не выговаривала «р».
Мы улыбнулись, Ингве передвинул свой стакан, опустил глаза. Мне не хотелось, чтобы она все время думала о дедушкиной или папиной смерти, и я попытался перевести разговор на другое, зацепившись за что-то, о чем она говорила раньше.
– Вы ведь не сразу здесь поселились, когда переехали в Кристиансанн, – сказал я.
– Нет, сперва не здесь, – сказала она. – Ближе к окраине, на Кухольмсвейен. Там было хорошо, одно из лучших мест в Люнне, глазам открывался такой простор – вид на море и на город. И так высоко на горе, что к нам в окна никто не заглядывал. Ну, а когда мы купили этот участок, тут стоял другой дом. Впрочем, дом – это слишком громко сказано. Хе-хе-хе! Не дом, а лачужка! Дело в том, что двое мужчин, которые тут жили, оба были горькие пьяницы. В первый раз, как мы к ним зашли, там повсюду валялись бутылки! В прихожей, прямо у входа, на лестнице, в гостиной, на кухне – везде. В некоторых местах их было столько, что ногу некуда поставить. Поэтому он достался нам очень дешево. Мы снесли этот дом и построили новый. Даже сада не было, одна халупа на голом склоне, вот что мы тогда купили.
– Ты ведь много сил положила, чтобы развести сад? – сказал я.
– Да уж, что правда, то правда. Сливы, которые там растут, я привезла с собой от родителей из Осгорстранна. Они уж совсем старые, засыхают.
– Я помню, мы всегда привозили от вас полные сумки слив, – сказал Ингве.
– И я помню.
– Они еще дают урожай?
– А как же, – сказала бабушка. – Может быть, не так много, как раньше, а все же дают.
Я взял бутылку, уже наполовину пустую, и налил себе еще стакан. Не так уж странно, что бабушка не замечает, что круг замкнулся, подумал я, вытер большим пальцем стекавшую с горлышка каплю и облизнул его, а бабушка, сидевшая напротив меня, открыла табачную пачку и набила себе сигарету при помощи машинки. Ведь как ни ужасно тут было в последние годы, для нее они составляли лишь малую часть прошедшей жизни. Глядя на папу, она видела его младенцем, маленьким мальчиком, подростком, взрослым мужчиной, этот взгляд вбирал в себя весь его характер, все качества, а потому, когда он валялся у нее на диване и ходил под себя, это был такой коротенький миг, а сама она была настолько стара, что подобная малость не могла перевесить огромного запаса прожитой вместе с ним жизни. То же самое, наверное, и дом, подумал я. Первый дом, полный бутылок, так и остался для нее «домом с бутылками», а этот был ее гнездом, в котором она прожила последние сорок лет, а то, что теперь и он оказался заставлен бутылками, не играло никакой роли.
Или дело в том, что от спиртного бабушка перестала ясно соображать? В таком случае она хорошо это скрывает, потому что, кроме внезапного оживления, по ее поведению почти незаметно было, что она пьяна. С другой стороны, я и сам был не в том состоянии, чтобы судить здраво. Подогреваемый сияющим светом алкоголя, высвобождающего мысли, я уже хлестал его стакан за стаканом, почти не разбавляя соком. И он уходил как в бездонную бочку.
Наполнив стакан спрайтом, я переставил на подоконник бутылку, мешавшую видеть бабушку.
– Ты что делаешь! – сказал Ингве.
– Кто же выставляет бутылку на подоконник! – сказала бабушка.
Весь красный от смущения, я схватил бутылку и вернул ее на стол.
Бабушка засмеялась:
– Надо же! Он ставит бутылку с водкой на подоконник!
Ингве тоже засмеялся.
– А как же! Пускай соседи видят, как мы тут выпиваем, – сказал он.
– Да ладно вам, – сказал я. – Просто я не подумал.
– Нет, это надо же! – сказала бабушка, отирая выступившие от смеха слезы. – Хе-хе-хе!
В этом доме, где всегда старались, чтобы никто не подглядывал за тем, что делается внутри, где так следили за внешней безупречностью, начиная от одежды и кончая садом, от фасада дома до автомобиля и поведения детей, выставить в освещенном окне бутылку было чем-то совершенно немыслимым. Вот над чем так смеялись они, а вслед за ними и я.
Свет над холмами по ту сторону дороги, еще различимыми сквозь отражение нашей кухни, в которой мы сидели, словно в подводной лодке, стал серо-голубым. Это было самое темное время ночи. Речь Ингве стала чуть менее отчетливой, чем обычно. Только хорошо зная его, можно было заметить это легкое изменение. Но я заметил, потому что так всегда бывало с ним, если он выпивал: сначала появлялась едва заметная смазанность, затем его речь становилась все более и более неясной, а затем, когда его одолевал хмель, он, прежде чем отрубиться, говорил уже так, что ничего невозможно было разобрать. Мне эта неразборчивость речи, следовавшая за выпивкой, казалась скорее его внутренним свойством, которое теперь проявлялось открыто, и это было проблемой, ведь раз по мне не заметно, до какой степени я пьян, потому что я двигаюсь и разговариваю почти как обычно, то для всего, что я скажу или сделаю, не найдешь потом уже никаких оправданий. Одурманенность продолжала нарастать еще и потому, что хмель не заканчивался сном или потерей координации, а переходил в беспамятство, в котором не было ничего, кроме пустоты и примитивных ощущений. Я любил это состояние, самое лучшее из всех, какие я знал, но оно никогда не приводило ни к чему хорошему, а на следующий день или спустя несколько дней ассоциировалось не только с безграничной свободой, но и с дуростью, что было мне глубоко ненавистно. Но когда я достигал этого состояния, будущее исчезало, как и прошлое, существовал только нынешний миг, чем оно мне так и нравилось: мой мир во всей его невыносимой банальности вдруг озарялся сияющим светом.
Я обернулся и посмотрел на стенные часы. Было без двадцати пяти двенадцать. Затем я взглянул на Ингве. Вид у него был усталый, глаза превратились в щелочки и покраснели по краям. Стакан перед ним был пуст. Только бы он не вздумал отправиться спать! Наедине с бабушкой я просто не выдержу.
– Еще налить? – спросил я, кивнув на стоящую посреди стола бутылку.
– Ну, можно, – сказал он. – Но это по последней. Завтра рано вставать.
– Да? – сказал я. – А чего ради?
– У нас завтра в девять встреча. Забыл, что ли?
Я хлопнул себя по лбу – жест, которого я не делал с самой гимназии.
– Ну и ладно. Чего тут такого! – сказал я. – Главное, не опоздать.
Бабушка глядела на нас.
Сейчас она спросит, с кем мы должны встречаться. Слова «с похоронным агентом» неизбежно разрушат чары. И мы опять окажемся в прежнем состоянии – мать, у которой умер сын, сыновья, у которых умер отец.
Однако спросить, не хочет ли она добавки, я не решился. Всему есть предел, это вопрос пристойности, а мы и так уже перешли все границы. Я взял бутылку и налил Ингве, затем себе. И тут встретил ее взгляд.
– Хочешь еще немножко? – услышал я собственный голос.
– Разве что чуточку, – сказала она. – Мы уж и так припозднились.
– Да, поздно на земле, – сказал я.
– Что-что ты сказал? – спросила она.
– Он сказал: поздно на земле, – объяснил Ингве. – Это известная цитата.
Зачем он так сказал? Хотел утереть мне нос? Черт меня дернул, дурака, сказать «поздно на земле».
– У Карла Уве скоро выйдет книга, – сказал Ингве.
– Правда, Карл Уве? – спросила бабушка.
Я кивнул.
– Ты сказал, и я сразу вспомнила. Кто же это говорил? Гуннар, что ли? Вот это да! Надо же! Написал книгу!
Она поднесла к губам стакан и отхлебнула. Я тоже. Что это? Кажется мне, или ее глаза и впрямь опять помрачнели?
– Так, значит, в войну вы жили не тут? – спросил я, делая новый глоток.
– Нет. Сюда мы переехали уже после войны, спустя несколько лет. Всю войну мы жили там, подальше, – сказала она, показывая пальцем назад.
– И как же тогда жилось, в смысле – во время войны?
– Как жилось? Да в общем как всегда. Были трудности с продуктами, а в остальном жизнь мало чем отличалась. Немцы были обычные люди, такие же, как мы. С одними мы познакомились. Мы ездили туда после войны и навещали их.
– В Германии?
– Да, да. А когда им пришлось уходить в мае сорок пятого, они позвонили нам, чтобы мы зашли, если можем, забрать кое-какие вещи, которые они оставили. Они отдали нам превосходные вина. И радиоприемник. И много чего еще.
О том, что они получали от немцев подарки до капитуляции, я уже слыхал и раньше. Но те немцы сами заходили к ним в гости.
– Они где-то сложили эти вещи? – спросил я. – И где же?
– В скалах, – сказала бабушка. – Они позвонили и подробно описали, где что лежит. Мы и отправились туда вечерком. Смотрим – все на месте, как они и сказали. Очень симпатичные были люди, это да.
Неужели бабушка с дедушкой в мае сорок пятого года карабкались куда-то по скалам в поисках вина, оставленного немцами?
По саду скользнул свет автомобильных фар, на пару секунд уперся в стену под окном, затем автомобиль свернул на повороте и медленно поехал дальше под гору. Бабушка привстала и выглянула в окно.
– Кто бы это мог быть так поздно? – спросила она.
Вздохнув, она снова села, сложив на коленях руки. Посмотрела на нас:
– Хорошо, что вы приехали, мальчики.
Наступила пауза. Бабушка снова отхлебнула из стакана.
– А ты помнишь, как ты жил у нас? – спросила она вдруг, обратив на Ингве взгляд, полный теплоты. – Папа тогда приехал за тобой уже с бородой, а раньше ее не было. Ты побежал от него наверх и кричишь: «Это не папа». Хе-хе-хе! «Это не папа!» Уж до чего же ты был забавный, просто сил нет.
– Я это хорошо помню, – сказал Ингве.
– А еще мы как-то слушали с тобой радио, там шел разговор с хозяином самой старой в Норвегии лошади. Помнишь? А ты возьми и скажи: «Папа, ты такой же старый, как самая старая лошадь в Норвегии!»
Наклонив голову, она хохотала и вытирала глаза костяшками указательных пальцев.
– Ну, а ты, – обратилась она ко мне. – Помнишь, как тебя оставили у нас в летнем домике?
Я кивнул.
– Как-то раз мы нашли тебя на крыльце, ты сидел там и плакал, а когда мы спросили, почему ты плачешь, ты ответил: «Мне так одиноко». А было тебе восемь годочков.
Дело было летом. Мама с папой уехали в отпуск в Германию. Ингве оставался в Сёрбёвоге у маминых родителей, а я здесь, в Кристиансанне. Что я об этом помню? Помню, что с бабушкой и дедушкой у меня не было настоящей близости. И внезапно я оказался вовлечен в их повседневную жизнь. Они неожиданно сделались непривычно чужими, и рядом не было никакого посредника, кто мог бы нас сблизить. Однажды утром мне в молоке попалось какое-то насекомое, я отказывался его пить, а бабушка сказала, чтобы я перестал привередничать: вынь, мол, насекомое, и дело с концом. Привыкай, раз выехал на природу. Она сказала это очень резко, и я выпил молоко, хотя меня едва не стошнило. Отчего мне запомнилось именно это? А не что-нибудь другое? Ведь было же и еще что-то? Было, конечно. Мама и папа прислали открытку из Баварии с видом Мюнхена. Как же я ждал ее и как обрадовался, когда она наконец-то пришла! А еще подарки, которые они привезли, когда вернулись: красно-желтый футбольный мяч для Ингве и сине-зеленый мне. Эти цвета… Какое чувство счастья они вызывали!
– А еще как-то раз слышу, ты зовешь меня с лестницы, – продолжала бабушка, глядя на Ингве. – «Бабушка, ты где, наверху или внизу?» Я отвечаю: «Внизу». А ты на это: «А почему не наверху?»
Она засмеялась:
– Да, с вами было весело. Когда вы переехали в Тюбаккен, ты ходил по соседям, стучался к ним и спрашивал: «У вас есть в доме дети?» Хе-хе-хе!
Отсмеявшись, она еще посидела, набила себе при помощи машинки сигарету. Кончик гильзы остался пустым, и сигарета так и вспыхнула, когда она поднесла к ней огонь. Крошечный листок пепла, медленно опускаясь, плавно сел на пол, затем огонь добрался туда, где был табак, и показался огонек, который вспыхивал сильнее при каждой затяжке.
– Теперь уж вы выросли, – сказала она, – и это так странно. Кажется, вчера еще вы были детьми.
Через полчаса мы отправились спать. Вдвоем с Ингве мы убрали со стола, сунули бутылку из-под спиртного в шкафчик под мойкой и высыпали из пепельницы окурки. А стаканы сложили в посудомоечную машину. Бабушка смотрела на нас, сидя за столом. Когда мы закончили, она тоже встала, со стула на пол закапала моча, но она не обратила на это внимания. Выходя, она хваталась за дверные косяки, – сперва на кухне, потом в прихожей на пороге комнаты.
– Спокойной ночи, – сказал я.
– Спокойной ночи, ребятки, – сказала она с улыбкой.
Я проследил за ней и заметил, как улыбка сбежала с ее лица, едва она отвернулась, ступив на лестницу.
– Ну вот, – сказал я через минуту, когда мы вошли в чердачную комнату. – Посидели.
– Да, – сказал Ингве.
Стянув через голову свитер, он повесил его на стул и стал снимать брюки. Размягченный алкоголем, я хотел сказать ему что-то приятное. Все шероховатости сгладились, все проблемы исчезли, и все стало просто.
– Ну и денек! – сказал Ингве.
– Да уж, – откликнулся я.
Он лег и растянулся на кровати, накрылся одеялом.
– Ну, спокойной ночи, – сказал он и закрыл глаза.
– Спокойной ночи, – сказал я. – Хороших снов!
Я подошел к выключателю у двери и выключил верхнюю лампочку. Присел на кровать. Спать совершенно не хотелось. В какой-то момент у меня мелькнула безумная мысль куда-нибудь пойти. До закрытия ресторанов оставалось еще часа два. К тому же было лето, везде полно народу, там могут оказаться знакомые.
Но тут накатила усталость. Внезапно пропали все желания, кроме желания спать. Я почувствовал, что едва могу шевельнуть рукой. Даже мысль о том, что еще надо раздеться, показалась невыносимой, и я лег на кровать как был, не раздеваясь, закрыл глаза и погрузился в ласковый внутренний свет. Каждое движение, даже самое малое, например если шевельнуть мизинцем, отзывалось щекотанием в животе, в следующий миг я заснул с улыбкой на устах.
Еще среди глубокого сна я почувствовал, что мне предстоит что-то ужасное. Поэтому, начав просыпаться, я попытался вернуться в сонное состояние и наверняка преуспел бы в этом, если бы не настойчивый голос Ингве и неумолимая мысль о том, что с утра у нас назначена важная встреча.
Я открыл глаза.
– Который час? – спросил я.
Ингве, уже полностью одетый, стоял на пороге. Черные брюки, белая рубашка, черный пиджак. Лицо немного припухшее, глаза щелочками, растрепанные волосы.
– Без двадцати девять, – сказал он. – Вставай, и поехали.
– Черт! – сказал я.
Сев, я почувствовал, что хмель еще не вышел из головы.
– Я пока вниз, – сказал брат. – Поторапливайся!
Обнаружив, что я проспал всю ночь не раздеваясь, я испытал неприятное чувство, которое усилилось при мысли о том, что мы сделали. Я попытался ее отогнать. Каждое движение давалось мне с огромным трудом; чтобы просто встать на ноги, требовалось усилие, не говоря уже о том, чтобы протянуть руку и снять со шкафа вешалку, на которой висела рубашка. Но что поделаешь – раз надо, так надо! Просунуть в рукав правую руку, просунуть левую, застегнуть пуговицы, сначала на манжетах, затем на груди. Какого черта мы это сделали? Как можно было додуматься до такой глупости? Я же не хотел, ну совсем не хотел напиваться, да еще здесь, да еще вместе с нею. Тем не менее именно это я сделал. Как такое вообще было возможно? Какого черта?
Позорище.
Опустившись на колени, я стал доставать из чемодана засунутые на самое дно черные брюки и надел их, сидя на кровати. До чего же хорошо, когда спокойно сидишь! Однако надо подниматься, чтобы натянуть их выше, достать пиджак и надеть, спуститься на кухню.
Я налил в стакан холодной воды и выпил, лоб сразу покрылся испариной. Я нагнулся и сунул лицо под кран. Холодная вода немного меня остудила, но часть попала на волосы. Несмотря на короткую стрижку, они были растрепанные, а теперь, намокнув, легли гладко.
С мокрым лицом, с которого стекали капли, и чувствуя себя тяжелым, как мешок, я потащился из кухни на лестницу, где меня уже дожидались Ингве и бабушка. В руке у него звенели ключи от машины.
– Нет у тебя жвачки или чего-нибудь в этом роде? – спросил я. – Я не успел почистить зубы.
– Сегодня не самый подходящий день, чтобы не чистить зубы, – сказал Ингве. – Так что давай – успеешь, если поторопишься!
Он был прав. От меня наверняка разило перегаром, а в похоронном бюро им лучше не благоухать. А вот поторапливаться было мне не по силам. На площадке второго этажа я вынужден был передохнуть, облокотившись на перила, и воля мне словно отказала. Сходив в комнату за зубной щеткой и пастой, которые лежали на столике возле кровати, я наскоро почистил зубы над раковиной в кухне. Казалось бы, там бы и оставить пасту и щетку и мчаться со всех ног на улицу, но что-то во мне говорило, что так не годится, зубной пасте и щетке не место на кухне, их надо отнести назад в спальню, на это ушло еще две минуты. Когда я вышел на крыльцо, было уже без четырех минут девять.
– Ну, мы поехали, – сказал Ингве, обернувшись к бабушке. – Мы ненадолго. Скоро вернемся.
– Вот и хорошо, – сказала она.
Я сел в машину, накинул ремень безопасности, Ингве сел рядом, вставил ключ в зажигание, включил, обернулся назад и начал выезжать вниз по склону. Бабушка постояла на крыльце. Я помахал ей рукой, она – мне. Когда мы въехали в переулок, откуда ее было не видно, я обернулся назад, на случай, что она, как всегда, не ушла, а осталась ждать на крыльце, потому что, выехав на улицу, мы снова попадали в поле зрения друг друга и могли еще помахать напоследок, только после этого она поворачивалась и уходила в дом, а мы выезжали на шоссе.
Она осталась стоять. Я помахал ей, она помахала мне и ушла в дом.
– Она и сегодня хотела продолжить? – спросил я.
Ингве кивнул:
– Придется выполнить обещание. Не задерживаться надолго. Хотя я бы и не прочь зайти потом где-нибудь в кафе. Или заглянуть в магазин пластинок.
Указательным пальцем левой руки он включил поворотник, одновременно нажав на газ и посмотрев направо. Путь был свободен.
– Ты как – в форме? – спросил я.
– Я вполне, – сказал Ингве. – А ты?
– Не очень, – сказал я. – Вообще-то еще не проспался после вчерашнего.
Он на мгновение взглянул в мою сторону.
– Да уж, заметно, – произнес он.
– Нехорошо вчера получилось, – сказал я.
Он улыбнулся, сбавил скорость, остановился вплотную у белой полосы. Через переход проходил пожилой седовласый мужчина, носатый и сухопарый. Уголки темно-красных губ опущены книзу. Сначала он посмотрел на склон справа от меня, затем на выстроившиеся в ряд магазинчики по другую сторону дороги, затем опустил взгляд себе под ноги, вероятно, чтобы вовремя заметить кромку тротуара. Все это он проделал так, как будто вокруг никого не было, как будто он не привык обращать внимание на то, как на него смотрят другие. Так изображал людей Джотто. У него они, кажется, тоже никогда не отдают себе отчета, что на них кто-то смотрит. Только он умел так передать ауру незащищенности, которая их окружала. Вероятно, это была особенность эпохи, потому что у следующего поколения итальянских художников – поколения великих – на картинах всегда присутствует осознание постороннего взгляда. Это делает их творения не такими наивными, но и не такими проникновенными.
На другой стороне к переходу уже спешила рыжеволосая женщина с коляской. На светофоре для пешеходов свет как раз сменился на красный, но она взглянула на автомобильный, где по-прежнему горела красная лампочка, и, решив, что успеет, бросилась рысцой перебегать перед нами дорогу. Ее ребенок, по виду годовалый, с толстыми щеками и маленьким ротиком, сидел выпрямившись в коляске и глядел вокруг с некоторым недоумением.
Ингве отпустил сцепление и, осторожно нажав на газ, выехал на перекресток.
– Уже две минуты десятого, – сказал я.
– Знаю, – сказал он. – Но это ничего, если мы быстро найдем, где припарковаться.
Когда мы выехали на мост, я взглянул на небо над морем. Оно было в облаках, местами таких тонких, что сквозь них проглядывала синева, как сквозь натянутую полупрозрачную пленку, а местами тяжелее и темнее, серыми клочьями, чьи края клубились по белому, точно струи дыма. Там, где стояло солнце, облака казались желтоватыми. Но не яркими, точно свет за ними был приглушен и шел отовсюду. Был один из тех дней, когда ничто не отбрасывает тени, держа все в себе.
– Ты сегодня вечером уезжаешь или как? – спросил я.
Ингве кивнул.
– А, вот и оно.
В следующий момент он свернул к тротуару, выключил мотор и поставил автомобиль на ручной тормоз. Похоронное бюро было через дорогу. Я бы предпочел, чтобы все было не так скоро и у меня осталось время собраться с мыслями, но что поделать, придется ринуться без подготовки. Я вышел из машины, захлопнул дверцу и пошел через дорогу за Ингве. Дама в приемной улыбнулась нам из-за стойки и пригласила пройти в кабинет.
Дверь была открыта. Толстый агент встал нам навстречу из-за письменного стола и поздоровался за руку – вежливо, но, с учетом обстоятельств, без радушных приветствий.
– Ну, вот мы и встретились снова, – сказал он и приглашающим жестом показал на кресла: – Садитесь, пожалуйста!
– Спасибо! – сказал я.
– Наверное, за выходные вы успели обдумать похороны, – сказал он, усаживаясь на место, подвинул к себе небольшую стопку бумаг, лежавшую на столе, и принялся ее листать.
– Да, мы обдумали, – сказал Ингве. – Мы решили проводить похороны по церковному обряду.
– Хорошо, – сказал агент. – Тогда я дам вам телефон пастората. Мы берем на себя все, что касается практической стороны, но вам бы неплохо самим поговорить с пастором. Ему ведь надо сказать какие-то слова о вашем отце, может, вы ему что-то подскажете.
Он поднял голову и посмотрел на нас. Над воротничком повисли кожные складки, словно у ящера. Мы кивнули.
– Все это может происходить по-разному, – продолжал он. – У меня тут список различных предложений. Речь о том, хотите ли вы, например, музыку, а если да, то в какой форме. Некоторые предпочитают живую музыку, другие – в записи. У нас есть даже специалист по церковному пению, его часто приглашают, вдобавок он владеет несколькими инструментами. Живая музыка, знаете, создает особое настроение, добавляет возвышенности или торжественности… Не знаю, вы уже определились?
Мы с Ингве обменялись взглядами.
– Наверное, хорошо бы? – спросил я.
– Да, разумеется, – сказал Ингве.
– Так вы за?
– Да, пожалуй.
– Тогда, значит, решено? – спросил агент.
Мы кивнули.
Он взял лист и протянул через стол Ингве.
– Здесь предлагается несколько вариантов музыкального сопровождения. Но если у вас будут особые пожелания, не входящие в этот перечень, это тоже решаемо, главное, предупредить нас за несколько дней до назначенного срока.
Я наклонился сбоку, а Ингве повернул листок так, чтобы я тоже мог заглянуть.
– Бах, наверное, подойдет? – предложил Ингве.
– Да, он любил его, – подтвердил я.
Впервые после прошедших суток у меня опять подступили слезы.
К черту его «клинекс», не буду я пользоваться его платочками, подумал я и, хорошенько отерев глаза рукавом, сделал несколько глубоких вдохов и медленно выдохнул. Заметил, что Ингве бросил на меня быстрый взгляд.
Ему неловко, что я тут плачу?
Нет, не может быть.
Нет.
– Все в порядке, – сказал я. – На чем мы остановились?
– Пожалуй, подойдет Бах, – сказал Ингве, обращаясь к агенту похоронного бюро. – Например, та соната для виолончели.
Он повернулся ко мне:
– Как ты, согласен?
Я кивнул.
– Значит, берем это, – сказал агент похоронного бюро. – Обыкновенно делается три музыкальные вставки. А к ним два-три псалма, которые поют хором присутствующие.
– «Земля прекрасна», – сказал я. – Можно этот?
– Ну конечно, – сказал он.
О-о-о, о-о-о, о-о-о!
– Ты как, Карл Уве? Все в порядке? – спросил Ингве.
Я кивнул.
Мы выбрали два псалма, которые исполнит певец, а третий – все хором, плюс пьесу для виолончели и «Земля прекрасна». Договорились, что надгробного слова никто говорить не будет, таким образом, с похоронным ритуалом разобрались, а все остальное относилось к церковной службе с ее установленным каноном.
– Цветов не желаете? Помимо венков там и прочего. Многим это нравится, создает настроение. Есть разные варианты, вот поглядите.
Он протянул Ингве новый листок. Ингве ткнул пальцем в один из предлагаемых вариантов и взглянул на меня. Я кивнул.
– Отлично, – сказал похоронный агент. – А теперь еще гроб. Вот тут у нас фотографии.
Еще один листок, протянутый через стол.
– Белый, – сказал я. – Как тебе кажется? Вот этот.
– Да, – сказал Ингве. – Этот подойдет.
Похоронный агент принял листок и сделал пометку. Затем поднял глаза и посмотрел на нас.
– Вы ведь сегодня договаривались о просмотре?
– Да, – сказал Ингве. – Хотелось бы уже днем, если можно.
– Можно, конечно. Но… Вы ведь знаете обстоятельства, сопровождавшие эту смерть? Что это было связано… с последствиями употребления алкоголя?
Мы кивнули.
– Тогда хорошо. Иногда бывает полезно заранее знать, чего ждать в такой ситуации.
Он собрал листочки, постучал ими по столу, чтобы выровнять пачку.
– К сожалению, сегодня днем у меня не будет возможности вас сопроводить. Но мой коллега будет вас там ждать. У часовни Одернесской церкви. Вы знаете, где это находится?
– По-моему, да, – сказал я.
– В четыре вам подойдет?
– Вполне.
– Значит, договорились. В четыре у часовни Одернесской церкви. А если у вас появится что-то новое или вы что-нибудь захотите изменить, просто позвоните. У вас ведь есть мой номер?
– Да, – сказал Ингве.
– Прекрасно. Да, еще одно! Желаете ли вы дать объявление в газете?
– Наверное, надо? – спросил я Ингве.
– Да, – сказал Ингве. – Надо дать объявление.
– Но тут, наверное, нужно немного подумать, – сказал я. – Составить текст, решить, кого упомянуть и тому подобное…
– Это можно устроить, – сказал похоронный агент. – Просто зайдите сюда или позвоните мне, когда все продумаете. Но хорошо бы не слишком с этим затягивать. В газете иногда надо ждать очереди несколько дней.
– Я могу позвонить вам завтра, – сказал я. – Устроит?
– Отлично, – сказал он и встал, держа в руке новый листок. – Вот телефон и служебный адрес пастора. – Кому из вас это передать?
– Дайте мне, – сказал я.
Когда мы вышли и остановились на тротуаре возле машины, Ингве вытащил из кармана сигареты и протянул мне открытую пачку. Я кивнул и взял сигарету. На самом деле мысль о куреве была мне сейчас противна, как всегда на следующий день после попойки. Потому что даже не вкус или запах, а само курение устанавливало связь между нынешним днем и вчерашним, некий мост ощущений, и вот уже ко мне устремлялся поток воображаемых образов, которые пронизывали собой все, что было видно вокруг: темно-серый асфальт, светло-серый бетонный бордюр по краям тротуара, светло-серое небо, парящих в воздухе птиц, черные окна и ряды домов, красный автомобиль, возле которого мы стояли, очертания отвернувшегося Ингве, но в то же время я жаждал или желал того ощущения разрухи и уничтожения в легких, которое вызывал дым.
– Ну что ж, все прошло благополучно.
– Осталось еще кое-что уладить, – сказал он. – То есть то, что придется уладить тебе. Например, объявление. Но можешь просто позвонить мне, когда я уеду.
– Угу, – сказал я.
– Кстати, ты обратил внимание, какое слово он употребил? – сказал Ингве. – Просмотр!
Я улыбнулся:
– Да. У них как у риелторов. Их работа в том и состоит, чтобы представить вещи в наилучшем виде и взять за них как можно больше денег. Видел, сколько стоят гробы?
Ингве кивнул.
– И не пожмотничаешь, раз пришел в эту контору! – сказал он.
– Это вроде как покупать вино в ресторане, – в смысле – если ты в этом не разбираешься. Если у тебя много денег, ты возьмешь что подороже. Если мало – что подешевле. Но только не самое дорогое и не самое дешевое. Наверное, так же и с гробами.
– Но ты как-то очень уверенно выбрал, – сказал Ингве. – В смысле – чтобы взять белый?
Я пожал плечами, бросил горящую сигарету на землю. – Чистота, – сказал я. – Видимо, я про нее подумал.
Ингве кинул свою сигарету на землю и придавил подошвой, открыл дверцу и сел в машину. Я сделал то же самое.
– Мне страшно, что я увижу его, – сказал Ингве. Одной рукой пристегивая ремень, другой он вставил ключ в зажигание и повернул. – Тебе тоже?
– Да. Но это нужно сделать. Иначе я никогда не осознаю, что он действительно умер.
– Вот и у меня то же самое, – сказал Ингве и посмотрел в зеркало.
Затем помигал поворотником и тронулся.
– Поехали домой? – спросил он.
– Мы еще хотели узнать насчет техники – пылесоса для ковролина и газонокосилки. Хорошо бы сделать это, пока ты не уехал.
– А ты знаешь, где это все?
– В том-то и дело, что нет, – сказал я. – Гуннар говорил, есть какая-то прокатная фирма в Гриме, но адреса я не знаю.
– Окей, – сказал Ингве. – Надо найти где-нибудь телефонный справочник и посмотреть в «Желтых страницах». Не знаешь, нет поблизости телефонного автомата?
Я покачал головой.
– Но в конце Эльвегатен есть заправка, можно там посмотреть.
– Очень кстати, – сказал Ингве. – Мне как раз нужно заправиться на дорогу.
Через минуту мы уже въезжали под навес заправочной станции. Ингве подрулил к бензоколонке, а я, пока он заправлялся, пошел в магазин. На стене висел телефон-автомат, а под ним – полка с телефонными справочниками. Отыскав адрес проката и выучив его наизусть, я подошел к кассе купить пачку табаку. Мужчина в очереди передо мной обернулся.
– Карл Уве! – воскликнул он. – Да ты, оказывается, приехал!
Я узнал его. Мы учились с ним в гимназии. Но имя я никак не мог вспомнить.
– Привет, – сказал я. – Давненько не виделись. Как поживаешь?
– Прекрасно, – сказал он. – А ты?
Я удивился такому сердечному тону. После выпускных я собрал гостей отпраздновать это событие, он тоже был среди них, развоевался и расколотил ногой дверь в ванную. А потом он отказался оплатить ущерб, и я ничего не мог с этим поделать. Потом он взялся вести автобус с выпускниками, я сидел на крыше, кажется вместе с Бьёрном, мы ехали в развлекательный фан-центр, и вдруг на горе за перекрестком, на Тименес, он поддал газу, нам пришлось лечь и цепляться за поручни; он ехал со скоростью не меньше семидесяти или восьмидесяти километров и только смеялся, слушая, как мы наверху ругаемся.
Так откуда вдруг такое дружелюбие?
Мы встретились взглядами. Лицо у него, кажется, стало чуть пухлее, а в остальном он остался точно таким же, как был. Но в его чертах чувствовалась какая-то застылость, неподвижность, которая от улыбки не исчезала, а скорее усиливалась.
– Что поделываешь? – спросил я.
– Работаю на Северном море.
– Ого, – сказал я. – Так ты хорошо зарабатываешь!
– Ну да. И много выходных. Так что все хорошо. А ты?
Разговаривая со мной, он посмотрел на продавца, указал на гриль, где жарились сосиски, и показал один палец.
– Все еще учусь в университете, – сказал я.
– А по какой специальности?
– Литература.
– Ну да, ты еще тогда ею увлекался, – сказал он.
– Да, – кивнул я. – Как ты – с Эспеном иногда встречаешься? А с Трондом? И Гисле?
Он пожал плечами:
– Тронд живет здесь, в городе. Так что с ним иногда встречаемся. С Эспеном – когда он приезжает на Рождество. Ну а ты? Общаешься с кем-нибудь из наших?
– Только с Бассе.
Продавец вложил сосиску в булочку, завернул в салфетку.
– С кетчупом и горчицей? – спросил он.
– Да, пожалуйста того и другого. И луку.
– Сырого? Жареного?
– Жареного. Нет, сырого.
– Сырого?
– Да.
Получив заказ, он снова повернулся ко мне.
– Рад был снова тебя увидеть, Карл Уве, – сказал он. – Ты совсем не изменился!
– Ты тоже, – сказал я.
Он открыл рот, откусил кусок сосиски, протянул продавцу пятидесятикроновую бумажку. Возникла неловкая пауза, пока он стоял, дожидаясь, когда ему отсчитают сдачу, потому что разговор был окончен. Он слабо улыбнулся.
– Да, да, – сказал он, зажимая в кулак полученные монеты. – Может, еще увидимся!
– Увидимся, – сказал я, купил табак и постоял несколько секунд перед газетной стойкой, будто чем-то заинтересовался, чтобы не столкнуться с ним снова за дверью, и тут вошел Ингве, чтобы заплатить за бензин. Он расплатился тысячекроновой купюрой. Я отвел глаза, когда он вынул ее из бумажника, чтобы не показать, что я понял – это деньги, оставшиеся после папы, и, пробормотав что-то невнятное, что вот, мол, нечаянно задержался, направился к выходу.
Запахи бензина и бетона в полумраке под навесом заправки – что может сравниться с этим по богатству ассоциаций! Моторы, скорость, будущее впереди.
А еще и сосиски и CD-диски с Селин Дион и Эриком Клаптоном.
Я открыл дверцу и сел в машину. Сразу за мной подошел Ингве, завел мотор, и мы молча поехали дальше.
Я расхаживал по саду и косил траву. Нам выдали механизм, который, как ранец, закреплялся на спине, а в руках я держал палку с вращающимся лезвием. В больших желтых наушниках, крепко притороченный к гудящему, вибрирующему механизму у меня за спиной, я ощущал себя чем-то вроде робота и, как робот, косил под корень все, что попадалось мне на пути: проросшие деревца, цветы, траву. Я плакал не переставая. Рыдания накатывали на меня волна за волной, я уже не боролся с ними, решив: пусть будет как будет. В двенадцать меня позвал с веранды Ингве, и я пошел поесть, он приготовил чай и подогрел круглые булочки на решетке плиты, как обычно делала бабушка, чтобы мягкая корочка подсохла и хрустела на зубах, крошась крупными хлопьями, но я не был голоден и скоро встал из-за стола, чтобы вернуться к работе. Расхаживая один по саду, я испытывал облегчение и вместе с тем удовлетворение оттого, что работа давала видимый результат. Небо затянули серо-белые тучи; они легли снизу, точно крышка, и тогда ярче проступила темная поверхность моря, а город, который при ясном небе выглядел кучкой игрушечных домов, незначительным пятнышком на горе, приобрел солидную весомость. А я нахожусь вот здесь и вот что я вижу. По большей части я глядел себе под ноги, на вращающееся лезвие и травинки, которые валились, как подстреленные солдатики, скорее серовато-желтые, чем зеленые; кое-где среди них ярко мелькали пурпурные цветочки наперстянки и желтенькие рудбекии, но время от времени я поднимал взгляд на грузную серую кровлю затянутого тучами неба и грузную темно-серую поверхность моря под ним, на скопище судов у причалов, на мачты и бушприты, контейнеры и ржавый металлолом, а затем на город с его красками и механическим движением, и эти картины дрожали в моих глазах сквозь слезы, которые струились по щекам, потому что тут вырос папа и он умер. А может быть, я плакал от чего-то совсем другого, от накопившихся во мне за последние пятнадцать лет горестей и переживаний, которые теперь вдруг вырвались наружу. Но это не имело значения, ничто не имело значения, я просто хожу по саду и кошу траву, которая чересчур разрослась.
В четверть четвертого я выключил чертову машину, поставил ее в чулан под верандой и пошел принять душ перед поездкой. Взял на чердаке одежду, полотенце и шампунь, сложил их на сиденье унитаза, закрылся на задвижку, разделся, залез в ванну, отвернул душ в сторону и пустил воду. Когда она согрелась, я вернул душ на место, и на меня полилась теплая вода. Обыкновенно это сопровождалось приятным ощущением, но не здесь и не сейчас: поэтому, наскоро вымыв и ополоснув голову, я выключил кран, вытерся и оделся. Выйдя на лестницу, я достал сигарету и закурил в ожидании, когда ко мне спустится Ингве. Мне было страшно; взглянув через крышу автомобиля на его лицо, я понял, что он испытывает то же самое.
Часовня находилась на территории гимназии, в которой я когда-то учился, сразу за спортзалом, и ехали мы туда той же дорогой, которой я ежедневно ходил, когда жил в дедушкиной квартире на Эльвегатен, но вид знакомых мест не пробуждал во мне никаких чувств, и, возможно, я впервые увидел их сейчас такими, какими они были на самом деле – не несущими в себе ни смысла, ни настроения. Какой-то деревянный забор, какой-то белый дом девятнадцатого века, несколько деревьев, кусты, зеленый газончик, шлагбаум, щит с дорожным знаком. Размеренно плывущие по небу тучи. Размеренно передвигающиеся по земле люди. Ветер, вздымающий ветви деревьев, заставляя тысячи листков шелестеть столь же непредсказуемо, сколь и неуклонно.
– Здесь можно заехать, – сказал я, когда мы миновали гимназию и за каменной оградой впереди показалась церковь. – Она там во дворе.
– Я уже бывал там, – сказал Ингве.
– Да? – удивился я.
– Когда-то на конфирмации. Ты ведь тоже там, кажется, был?
– Не помню, – сказал я.
– Зато я помню, – сказал Ингве и придвинулся к лобовому стеклу, чтобы лучше видеть дорогу. – Это, кажется, там, во дворе, за парковкой?
– Должно быть там.
– Мы рано приехали, – сказал Ингве. – Еще только без четверти.
Я вылез из машины и захлопнул дверцу. От ограды напротив в нашу сторону ехала газонокосилка. Ею управлял мужчина с голым торсом. Когда она, грохоча, поравнялась с нами, я увидел у него на шее серебряную цепочку с подвеской наподобие бритвенного лезвия. С востока, над церковью, небо нахмурилось. Ингве закурил сигарету, прошелся взад и вперед.
– Да, да, – сказал он. – Вот мы и на месте.
Я повернулся лицом к часовне. Над входной дверью горела лампочка, почти незаметная при дневном свете. Рядом стояла красная машина.
Сердце застучало.
– Да, – сказал я.
Высоко в небе, все таком же светло-сером, над нами кружили птицы. Нидерландский художник Рейсдал всегда писал высоко в небе птиц, чтобы показать глубину пространства, у него это было почти что фирменным знаком, во всяком случае, в книжке о Рейсдале я видел это почти на каждой картине.
Под деревьями напротив все было черно.
– Который час? – спросил я.
Ингве вскинул руку, так что рукав пиджака задрался, и посмотрел на циферблат:
– Без пяти? Пойдем, что ли?
Я кивнул.
Когда мы подошли к часовне метров на десять, дверь распахнулась. Навстречу нам вышел молодой человек в черном костюме. Лицо у него было загорелое, волосы светлые.
– Кнаусгор? – спросил он.
Мы кивнули.
Он по очереди поздоровался с нами за руку. Кожа возле крыльев носа у него была красная, раздраженная. Взгляд голубых глаз – отстраненный.
– Зайдем внутрь? – спросил он.
Мы снова кивнули. Зашли в притвор; он остановился.
– Это там, внутри, – сказал он. – Но прежде чем войдем, должен предупредить вас на всякий случай. Зрелище не очень благовидное, понимаете, крови-то было много. Ну, мы, конечно, сделали, что могли, однако все-таки заметно.
Крови?
Он посмотрел на нас.
Я весь похолодел.
– Готовы?
– Да, – сказал Ингве.
Он отворил дверь, и мы вошли в довольно большое помещение.
Папа лежал посередине на катафалке. Глаза были закрыты, лицо спокойное.
О господи!
Я подошел к Ингве и встал впереди него. Щеки у отца были красные, словно налитые кровью. Должно быть, она впиталась в поры, когда его обмывали. И нос был сломан. Я видел это и словно бы не видел, все детали растворялись в чем-то другом, что меня захлестнуло: в том мертвом, что он излучал, и с чем я раньше никогда не соприкасался, и в том, кем он был для меня. Он был мой отец, и это вместило столько живого смысла!
Только вернувшись в бабушкин дом и проводив уехавшего в Ставангер Ингве, я снова вспомнил про кровь и снова испытал потрясение. Как это могло случиться? Бабушка говорила, что нашла его мертвым в кресле, а из этих слов следовало, что у него просто отказало сердце, скорее всего во сне. Но похоронный агент сказал не просто «кровь», а что крови было много. А тут еще сломанный нос! Значит, все-таки была агония? Может быть, он встал от боли и упал, ударившись о камин? Или об пол? Но почему в таком случае не было следов крови на камине или на полу? И почему бабушка ни словом не обмолвилась про кровь? Ведь что-то же все-таки случилось, и, значит, он не просто тихо и мирно заснул, раз, оказывается, было столько крови. Что же тогда – она замыла следы и забыла? С чего бы это? Больше она нигде ничего не отмывала и не прятала, даже не пыталась. Не менее странно, что я сразу про это забыл. Хотя, может быть, и не странно, ведь тут хватало всякого, чем следовало заняться. Тем не менее надо будет сейчас же, как только я вернусь к бабушке, позвонить Ингве. Мы должны связаться с врачом, который его увозил. Тот сможет объяснить нам, что произошло.
Я заторопился, чтобы как можно скорее пройти наверх по отлогому склону вдоль зеленой проволочной изгороди, за которой густо росли кусты, как будто боялся опоздать, в то время как другое чувство побуждало меня как можно дольше тянуть время, пока я один, может быть, даже найти какое-нибудь кафе и почитать там газету. Ведь одно дело сидеть у бабушки вместе с Ингве, и совсем другое – с ней наедине. Ингве знал, как с ней разговаривать. Но тот легкий, шутливый тон, которым владели также Эрлинг и Гуннар, мне давался почему-то, мягко говоря, не просто, и в тот гимназический год, когда я, живя поблизости, проводил у бабушки с дедушкой много времени, на них моя манера поведения, кажется, производила неприятное впечатление, как будто во мне было что-то такое, чего они не могли принять, и эта догадка нашла свое подтверждение: однажды мне позвонила мама и сказала, что бабушка просит меня приходить немного пореже. В большинстве случаев я мог как-то пережить подобное, но не в том: ведь это были мои бабушка и дедушка, а коли даже они меня не принимают, это уже выше моих сил, – и я заплакал, прямо в трубку. Она, конечно, тоже была возмущена до глубины души, но что она могла поделать? Тогда я не понимал, в чем дело, и решил, что они меня просто не любят, но потом я начал догадываться, что им во мне мешало. Я совершенно не умел притворяться, не умел играть роль, а долго игнорировать ту гимназическую серьезность, которую я привносил с собой в этот дом, было невозможно: либо им надо было ее принять, со всеми вытекающими неудобствами, поскольку жаргон, которым они пользовались в своем обиходе, на меня совершенно не действовал, – либо поступить так, как они и сделали: позвонить маме. Мое присутствие всегда чего-то от них требовало, – либо конкретного, вроде еды, так как я заходил к ним между школой и тренировкой и иначе оставался бы до восьми или девяти вечера голодным, либо денег, потому что в вечерние часы, в отличие от дневных, автобусы уже не возили учащихся бесплатно, а заплатить за проезд я мог не всегда. Ни того ни другого – ни денег, ни еды – им для меня, конечно, было не жалко, но, очевидно, их раздражала жесткая обязательность такой помощи, не оставляющая им выбора: накормить меня и дать денег превратилось из добровольного поступка во что-то другое, и это другое в чем-то меняло отношения между нами, связывало нас новыми узами, которых они на себя налагать не хотели. Тогда я этого не понимал, а теперь понимаю. То же относится и к моему способу существования, когда я с ними близко соприкасался. Дать мне этой близости они не могли, да, очевидно, и не хотели, а я и это брал не спросясь. Вся ирония в том, что во время этих посещений я всегда думал о них, всегда старался говорить то, что, как мне казалось, они хотят услышать. Все, даже самое личное, я выкладывал потому, что думал, будто им приятно будет это услышать, а не потому, что мне хотелось высказаться.
Но хуже всего, думал я сейчас, проходя по аллее, ведущей в Люнн, вдоль вечерней вереницы автомобилей, мимо ряда деревьев с потемневшими от асфальтовой пыли и выхлопных газов стволами, тяжелыми и словно окаменевшими по сравнению с легкой зеленью крон наверху; хуже всего было то, что я в то время считал себя большим знатоком человеческих душ. Уж в чем, в чем, полагал я, а в этом я разбираюсь, сам оставаясь для них загадкой.
Какая глупость!
Я засмеялся. И тотчас же обернулся проверить, не смотрят ли на меня из какой-нибудь машины. Но нет. Каждый был занят своим.
За прошедшие двенадцать лет я, наверное, поумнел, но по-прежнему не умел притворяться. Не умел врать, играть роль. Поэтому я с радостью предоставял Ингве договариваться с бабушкой. А теперь придется самому.
Я остановился и закурил сигарету. Продолжив свой путь, я почувствовал, что на душе у меня почему-то полегчало. Может, этому способствовали белые, но потемневшие от выхлопов фасады домов, которые тянулись слева от меня? Или деревья на аллее? Эти неподвижные, зеленые, купающиеся в потоках воздуха создания с их несчетными листьями? Потому что стоило мне на них взглянуть, как в душу вливалась радость.
Я глубоко вдохнул на ходу, роняя на асфальт пепел с сигареты. Воспоминания, пробуждаемые окружающими картинами, не воспринятые мною, когда мы проезжали мимо этих мест по дороге к часовне, сейчас нахлынули с неожиданной силой. Моя память об этих местах относилась к двум периодам: первому, когда я еще маленьким приезжал сюда, в Кристиансанн, в гости к бабушке с дедушкой, и тогда каждая деталь городской жизни врезалась в нее как что-то необычайное, и второму, когда я жил тут подростком. Сейчас, после нескольких лет отсутствия, я с самого начала заметил, как поток впечатлений, исходивший от здешнего окружения, разделяется на два рукава: один относится к первому миру воспоминаний, другой – ко второму, и я, таким образом, как бы существую одновременно в трех разных временных измерениях. Увидев аптеку, я вспомнил, как мы с Ингве ходили туда однажды с бабушкой: на улице высились большие сугробы, шел снег, бабушка была в шубе и меховой шапке, она стала в очередь перед окошечком, за перегородкой ходили туда и сюда фармацевты в белых халатах. Время от времени она оглядывалась назад посмотреть, чем мы заняты. Пока она искала нас взглядом, выражение ее глаз было если не холодное, то, по крайней мере, как бы нейтральное, затем она улыбалась, и взгляд ее, словно по волшебству, наполнялся вдруг теплотой. Увидев холм, по которому шла дорога на Люннский мост, я вспомнил, как показывался на велосипеде дедушка, возвращаясь домой на обеденный перерыв. Легкое покачивание, вызванное пологим подъемом, для меня относилось не только к его езде, но как бы и к личности дедушки: он представал в моих глазах сначала просто пожилым кристиансаннцем в пальто и кепке, чтобы в следующий миг превратиться в моего дедушку. Увидев в конце дороги крыши жилого массива, я вспомнил, как бродил там по ночам шестнадцатилетним подростком, разрываемый переполняющими меня чувствами. Когда все, что я видел, – будь то выброшенная на задворки старая вешалка, опавшие яблоки, гниющие на земле, или накрытая брезентом лодка, из-под которого торчала мокрая корма и нос, а из-под них – желтая, полегшая на землю трава, – все так и пылало красотой. Увидев поросший травой холм за домами по другую сторону дороги, я вспомнил синий, холодный зимний день, когда мы с бабушкой катались с него на санках. Снег так сверкал на солнце, что освещение было как высоко в горах, а город под нами казался от этого таким удивительно открытым, что все, что в нем происходило, – проезжающие по дорогам машины и прохожие на улицах, человек, расчищавший от снега подъездную дорожку к общественному центру напротив, другие дети, катающиеся на санках, – словно парило в воздухе под открытым небом, не касаясь земли. Все это жило во мне, в то время как я шел по дороге; все эти картины и мысли пробуждались окружающим пространством, но только на поверхности, в самом внешнем слое сознания, ведь папа умер, и горе, вызванное его смертью, пронизывало собой все мои мысли и чувства, как бы их отменяя. Папа в этих воспоминаниях тоже присутствовал, но не играл в них ведущей роли; как ни странно, мысли о нем ничего такого не вызывали. Папа, идущий передо мной на несколько метров впереди в начале семидесятых годов, когда мы возвращались домой к бабушке с дедушкой, сходив в табачный киоск за ершиками для курительной трубки; вот он вскидывает подбородок и поднимает голову, улыбаясь своим мыслям, и как я от этого радуюсь; или папа в банке, вынув бумажник, свободной рукой проводит пятерней по волосам и смотрит на свое отражение в окошке кассы; или папа в автомобиле, когда мы уезжаем из города; ни в одном из этих воспоминаний папа не воспринимался как значимая фигура. Вернее говоря, воспринимался в то время, когда это происходило, но не теперь. А вот с мыслью о том, что он умер, дело обстояло иначе. В ней он царил безраздельно, но этим все и ограничивалось, ибо, шагая сейчас под легким моросящим дождичком, я словно находился в особой зоне. Все за ее пределами вообще не имело никакого значения. Я смотрел, воспринимал увиденное, думал, и тут же все, что я увидел и подумал, отменялось: оно не имело значения. Ничто не имело значения. Значимо было только одно – папа умер.
Все время, пока я так шел, в моем сознании стояла мысль о коричневом конверте, в котором лежали папины вещи, которые были при нем в момент смерти. Перед бакалейной лавкой напротив аптеки я остановился, отвернулся к стенке и достал его из кармана. Я увидел папины имя и фамилию. Они показались чужими. Я ожидал увидеть «Кнаусгор». Но все было верно, перед смертью он правда носил то нелепое и помпезное имя.
Пожилая женщина, катившая одной рукой сумку на колесиках, а в другой державшая беленькую собачку, взглянула на меня, выходя из магазина. Я отошел поближе к стене и высыпал содержимое конверта на ладонь. Его кольцо, цепочка с подвеской, несколько монеток, булавка. Вот и все. Самые что ни на есть обыденные предметы. Но то, что они были на нем, – кольцо сидело на пальце, цепочка была на шее в момент его смерти, – придавало этим вещам какую-то особенную ауру. Смерть и золото. Я повертел их в руке одну за другой, и меня охватило ощущение жути. Я вдруг испугался смерти так, как боялся в детстве. Не того, что сам умру, а мертвецов. Я вернул вещи в конверт, сунул его снова в карман, бегом перебежал дорогу между двумя машинами, зашел в киоск и купил газету и шоколадку «Лайон», которую съел тут же на ходу, за несколько сотен метров до дома.
Несмотря на все, что произошло в этом доме, в нем все еще витали остатки знакомых запахов, которые мне помнились с детства. Еще тогда я задумывался над этим явлением: почему в каждом доме, где я бывал, у всех соседей или знакомых, всегда держался свой особенный, специфический запах, который никогда не менялся. Во всех домах, кроме нашего. В нашем никакого особенного, специфического запаха не было. У нас не пахло ничем. Когда бабушка и дедушка приезжали к нам в гости, они привозили с собой запах своего дома; мне хорошо запомнился случай, когда бабушка приехала к нам без предупреждения; вернувшись из школы и почуяв знакомый запах, я подумал, что мне почудилось, потому что, кроме запаха, больше никаких признаков не было. Ни машины перед домом, ни одежды или обуви в прихожей. Только запах. Но мне не почудилось. Когда я поднялся наверх, то в кухне сидела бабушка в уличной одежде, она приехала на автобусе, решила устроить нам сюрприз, что было на нее совершенно не похоже. Странно, что запах в доме сохранился и сейчас, двадцать лет спустя, после всех случившихся с тех пор перемен. Можно предположить, что это связано с привычным укладом: люди пользуются одним и тем же мылом, одними и теми же моющими средствами, теми же парфюмами и лосьонами после бритья, готовят одну и ту же еду одними и теми же способами, каждый день приходят с одной и той же работы и занимаются одними и теми же делами в свободное время: если человек возится с машиной, то, конечно, в воздухе ощущается примесь машинного масла и растворителя, металла и выхлопных газов, если человек собирает старые книги, то, конечно, в воздухе чувствуется запах старой бумаги и кожи. Но в доме, где прекратились все прежние занятия, где некоторые обитатели умерли, а те, что остались, слишком стары, чтобы заниматься привычными делами, – откуда в таком доме быть прежнему запаху? Неужели то, что я ощущал, входя в этот дом, есть не что иное, как навеки впитавшиеся в эти стены сорок прожитых лет?
Вместо того чтобы сразу пойти к бабушке, я открыл дверь, ведущую в подвал, и ступил на узкую лесенку. Холодный, темный воздух, которым пахнуло мне навстречу, как бы сконцентрировал в себе все запахи, которые я помнил в этом доме. Туда, вниз, осенью убирали ящики с яблоками, грушами и сливами, и их запах смешивался с испарениями старых стен и земли, образуя ту основу, на фоне которой проявлялись остальные запахи. За все время я побывал там всего три или четыре раза; как и чердак, это помещение было для нас запретным. Зато я очень часто, стоя в коридоре, видел, как оттуда поднимается бабушка с полными сумками желтых сочных слив или красных, чуть сморщенных, но удивительно вкусных яблок.
Единственным источником света тут было маленькое, круглое, как корабельный иллюминатор, оконце. Оно выходило прямо в сад, который располагался ниже фасадной части дома. Открывающаяся из этого окна перспектива вносила путаницу в ощущения, разрушая пространственное восприятие; на какую-то секунду возникало чувство, что земля уходит из-под ног. Но в тот же миг, как я хватался за перила, все возвращалось на свои места: вот я здесь, вон там окно, за ним сад, а вон там крыльцо.
Я постоял немного, глядя в окно, ни к чему особенно не приглядываясь и без каких-либо определенных мыслей. Затем повернулся и вошел обратно в прихожую, повесил куртку на вешалку в гардероб, взглянул на себя в зеркало, висевшее на стене возле лестницы. Какая-то муть застилала глаза словно пленкой. Поднимаясь затем по лестнице, я нарочно громко топал, чтобы бабушке было слышно – я пришел. Она все так же сидела в кухне за столом, как при нашем уходе несколько часов назад. Перед нею была чашка кофе, пепельница и тарелочка с крошками от съеденного бутерброда.
Когда я показался на пороге, она окинула меня быстрым, птичьим взглядом.
– А, это ты, – сказала она. – Ну как – хорошо съездил?
Видимо, она уже забыла, куда я ездил, но уверенности в этом не было, и я ответил с той серьезностью в голосе, какой требовала ситуация.
– Да, – произнес я и кивнул головой. – Все прошло хорошо.
– Ну вот и ладно, – сказала она, отворачиваясь.
Я зашел в кухню, положил на стол только что купленную газету.
– Не выпьешь кофейку? – спросила она.
– Да, с удовольствием, – сказал я.
– Кофейник на плите.
Что-то в ее тоне заставило меня посмотреть на нее. Так она со мной еще никогда не говорила. Удивительно было то, что это меняло не столько ее, сколько меня. Так она, вероятно, разговаривала в последнее время с папой. Сейчас она обращалась не ко мне, а к нему. И к папе она бы так не обращалась, будь жив дедушка. Это был тон, которым мать разговаривает с сыном, когда рядом нет никого постороннего.
Не думаю, что она перепутала меня с отцом: она произнесла это по инерции: так корабль продолжает ход, когда двигатель уже выключен. И все же я внутри похолодел. Но вида показывать было нельзя, поэтому я достал из шкафа чашку, подошел к плите, потрогал рукой кофейник. Он давно остыл.
Бабушка что-то насвистывала и барабанила пальцами по столу. Так она делала всегда, сколько я ее помнил. Что было даже приятно, потому что во многом другом она сильно изменилась. Я видел ее фотографии, сделанные в начале тридцатых годов: она была красива, – не настолько, чтобы поражать воображение, но достаточно, чтобы выделяться на общем фоне, – во вкусе той эпохи: сильно подведенные глаза драматически выделялись на бледном лице, маленький рот, короткая стрижка. На фотографиях, сделанных позднее, которые запечатлели ее перед разными достопримечательностями во время поездок за границу в среднем возрасте, когда она уже стала матерью троих детей, все это по-прежнему присутствовало вполне явственно, но как бы в смягченном, менее броском виде, и ее по-прежнему можно было назвать красивой. Когда я подрос, а ей было уже под семьдесят а затем и за семьдесят, я, конечно, ничего этого не видел, для меня она была просто «бабушка», и никаких ее собственных, особенных черт я не замечал. Пожилая женщина из среднего класса, хорошо сохранившаяся и прилично одетая, – вот какое впечатление она должна была производить на окружающих в конце семидесятых годов, когда вдруг объявилась у нас на кухне, нежданно-негаданно приехав в Тюбаккен на автобусе. Живая, в добром здравии и ясной памяти. Такой она была вплоть до недавнего времени, еще два-три года тому назад. И вдруг с ней что-то случилось, и не старость ее одолела, не болезнь, тут было что-то другое. Ее отсутствующее выражение не имело ничего общего с тихой отрешенностью утомленного жизнью человека; в ней самой чувствовалась та же жесткость, та же изможденность, что и в ее телесной оболочке.
Я это видел, но ничего не мог поделать, не мог перекинуть к ней мостик, не мог ей помочь или утешить, мог только смотреть, это и вызывало то напряжение, которое я испытывал каждую минуту в ее присутствии. Единственное, что спасало, – это движение, – чтобы помешать тому, что я чувствовал в этом доме или в ней самой, закрепиться внутри меня.
Она сняла прилипшую к губе табачную крошку. Затем обратила взгляд на меня.
– Тебе тоже сварить? – спросил я.
– А чем этот плох?
– Он уже подостыл, – сказал я и отошел с кофейником к мойке. – Я поставлю свежий.
– Так он, по-твоему, подостыл?
Это мне замечание?
Нет. Она засмеялась и смахнула какую-то крошку с колен.
– Чего-то я опять путаюсь, – сказала она. – Мне-то казалось, что я только что его сварила.
– Он еще не совсем остыл, – сказал я. – Просто я люблю кофе погорячее.
Вылив гущу, я посильнее отвернул кран и подождал, пока струя не смыла в слив все остатки. Затем налил воды в кофейник, внутри он уже был весь черный, а снаружи заляпан жирными отпечатками пальцев.
«Путаться» было нашим семейным эвфемизмом для старческого слабоумия. Путался дедушкин брат Лейф, который постоянно уходил из пансионата для престарелых в дом, где провел детство; с тех пор прошло уже шестьдесят лет, но часто поздно вечером или среди ночи он приходил туда и принимался стучать и кричать под дверью, чтобы ему открыли. Другой дедушкин брат, Алф, в последние годы тоже начал путаться, у него это выражалось в том, что он перестал различать прошлое и настоящее. Путался под конец жизни и дедушка – садился по ночам в постели и принимался возиться с огромной связкой ключей, про которые никто не знал, от каких они замков и откуда взялись.
Это у них было семейное; их мать, если верить тому, что рассказывал мне отец, под конец тоже сильно все путала. Последнее, что она сделала, – это, по его словам, полезла, услышав сирену, на чердак, вместо того чтобы спуститься в подвал; если верить ему, она умерла, свалившись с крутой лестницы. Правда ли это, я не знал, отец мог соврать что угодно. Интуиция подсказывала мне, что это неправда, но узнать, что и как произошло на самом деле, уже не было никакой возможности.
Я отнес кофейник на плиту и поставил на конфорку. Громко, на всю кухню, затикал таймер. Затем зашипела вода на мокром донышке. Я стоял, скрестив на груди руки, и глядел на торчавший перед окном крутой холм с белым домом, высившимся на вершине. Меня вдруг поразила мысль, что я глядел на этот дом всю мою жизнь, так и не увидев рядом с ним ни одного человека.
– А куда подевался Ингве? – спросила бабушка.
– Ему сегодня надо вернуться в Ставангер, – сказал я, обернувшись в ее сторону. – К семье. Потом он снова приедет на по… к пятнице.
– Ах, вот что, – сказала она, покивав головой. – Ему надо вернуться в Ставангер.
Взяв пачку с табаком и машинку для набивания гильз, она, не глядя на меня, сказала:
– Но ты-то останешься?
– Да, – сказал я. – Я все время буду здесь.
Я обрадовался, когда она ясно дала понять, что хочет, чтобы я побыл здесь, хотя и понимал, что дело не во мне, а в том, чтобы кто-то был рядом.
Она провернула ручку машинки с неожиданной силой, вытащила из нее только что набитую гильзу и закурила, снова смахнула с колен нападавшие соринки и устремила перед собой невидящий взгляд.
– Думаю, я продолжу уборку, – сказал я. – А вечером у меня тоже дела, надо сделать несколько звонков.
– Хорошо, – сказала она. Затем посмотрела на меня: – Но ведь ты не настолько занят, чтобы не посидеть тут со мной немножко?
– Ну что ты! – сказал я.
Кофейник зашумел. Я прижал его поплотнее к плите; шум усилился, тогда я его снял, насыпал кофе, помешал вилкой, еще раз поплотнее прижал к плите и, подержав, поставил на край стола.
– Ну вот, – сказал я. – Пускай немножко настоится.
Среди отпечатков пальцев на кофейнике, которые мы не отмыли, должно быть, остались и папины. Я снова увидел никотиновые пятна по краям ногтей. В них было что-то унижающее его. Словно присущие жизни банальности не сочетались с торжественным величием, присущим смерти.
Или с тем, как я ее себе представлял.
Бабушка вздохнула:
– Ох, да: жизнь это божба, сказала старушка, которая не выговаривала «р».
Я улыбнулся. Бабушка тоже улыбнулась. Затем в ее глаза снова вернулось отсутствующее выражение. Я порылся в памяти в поисках темы для разговора и, ничего не найдя, стал разливать по чашкам кофе, хотя он оставался скорее желтым, чем черным, а на поверхности плавали кофейные крупинки.
– Тебе налить? – спросил я. – Он, правда, вышел слабый, но…
– Да, пожалуйста. – Она подвинула ко мне чашку. – Спасибо, – сказала она, когда чашка наполнилась до середины. Взяла со стола желтую картонку со сливками и подлила себе в кофе. – А где же Ингве?
– Он уехал в Ставангер, – сказал я. – К себе домой, проведать семью.
– Да, правда. Он же собирался. А когда он вернется?
– Наверное, к пятнице, – сказал я.
Я вылил ведро в сливное отверстие, набрал свежей воды, плеснул туда зеленого мыла, надел хозяйственные перчатки, в одну руку взял тряпку, другой поднял ведро и отправился в дальнюю часть гостиной. На дворе уже смеркалось. Слабая голубизна еще просвечивала на склоне, вокруг древесной листвы и стволов, вдоль кустов у ограды, отделявшей сад от соседей. Оттенок был такой слабый, что не приглушал краски, как это будет ближе к вечеру, а напротив, усиливал их яркость, поскольку свет уже не слепил глаза, и смягченные цвета как бы обрели фон, на котором они становились заметнее. Но в юго-восточной стороне, где виднелся стоящий на взморье маяк, по-прежнему царил дневной свет. На некоторых облаках лежал красноватый оттенок, и они светились как бы сами собой, так как солнца было не видно.
Вскоре пришла бабушка. Она включила телевизор и уселась в кресло. Звуки рекламы, всегда более громкие, чем основная программа, заполнили комнату, эхом отдаваясь от стен.
– Там что сейчас – новости? – спросил я.
– Ну да, – сказала она. – Не придешь посмотреть со мной?
– Приду, – сказал я. – Только вот докончу тут.
Закончив мыть облицовочную панель на одной стене, я отжал тряпку и пошел на кухню, где в окне проступило мое отражение в виде смутно темнеющих и светящихся пятен, вылил в раковину воду, положил тряпку на ведро, на секунду остановился перед шкафом, отодвинул в сторонку стоящие в нем рулоны бумажных полотенец и достал бутылку с водкой. Вынув из шкафа два стакана, я открыл холодильник и достал бутылку спрайта, один стакан наполнил до краев, а в другом смешал со спиртным, и с обоими отправился в гостиную.
– Я подумал, отчего бы нам не выпить немножко, – сказал я с улыбкой.
– Это ты хорошо придумал, – сказала она, отвечая мне тоже улыбкой. – Отчего же не выпить!
Я протянул ей стакан, где была водка, а сам взял тот, что со спрайтом, и сел в соседнее кресло. Ужасно! Это было ужасно! Меня разрывало на части. Но я ничего не мог поделать. У нее была в этом неодолимая потребность. Вот и все.
Если бы коньяк был под рукой или портвейн!
Тогда я мог бы подать ей рюмку на подносе с чашкой кофе, и это выглядело бы если не совершенно нормально, то все же не так неуместно, как эта бесцветная смесь водки и спрайта.
Я смотрел, как она открыла свой старушечий рот и опрокинула в него эту смесь. Недавно я говорил себе, что этого больше не повторится. И вот она сидит у меня со стаканом спиртного. Мне это было словно нож в сердце. К счастью, она не стала просить добавки.
Я поднялся с кресла:
– Пойду позвоню.
Она повернула голову ко мне.
– Кому это ты собрался звонить на ночь глядя? – спросила она.
И снова у меня появилось ощущение, что она говорит это кому-то другому.
– Еще только восемь часов, – сказал я.
– Разве только восемь?
– Да. Я думаю позвонить Ингве. А потом Тонье.
– Ингве?
– Да.
– А разве он не здесь? Ах да, верно, – сказала она.
Тут она отвлеклась на телевизор и стала смотреть его, точно меня и не было в комнате.
Я выдвинул стул из-под обеденного стола, сел и набрал номер Ингве. Он только что вернулся. Добрался нормально. В трубке слышались громкие крики Турье и голос Кари Анны, которая пыталась его успокоить.
– Я тут подумал насчет этой крови, – сказал я.
– Да. Что это было? – сказал Ингве. – Вероятно, случилось еще что-то, кроме того, что рассказывала бабушка.
– Наверное, он то ли упал, то ли что-то еще, – сказал я. – И ударился обо что-то твердое. Ведь нос был сломан, ты заметил?
– Да, конечно.
– Нам надо поговорить с теми, кто сюда приезжал. Лучше всего с врачом.
– В похоронном бюро, наверное, есть его телефон, – сказал Ингве. – Хочешь, я позвоню?
– Да. Ты бы мог?
– Завтра позвоню. Сейчас уже поздновато. Тогда все и обсудим.
Я хотел еще поговорить о том, что тут происходит, но в его голосе мне послышалось нетерпение. Ничего удивительного, ведь наверху его уже ждала двухлетняя дочка Ильва. А кроме того, прошло всего несколько часов с тех пор, как мы виделись. Однако он не подавал вида, что хочет закончить разговор, так что пришлось сделать это самому. Положив трубку, я набрал номер Тоньи. По ее голосу я понял, как она ждала моего звонка. Я сказал, что совершенно выдохся, и мы можем побольше поговорить завтра, к тому же она через пару дней приедет сюда. Наш разговор продлился всего несколько минут, но после него я почувствовал себя лучше. Зайдя на кухню и захватив со стола сигареты и зажигалку, я вышел на веранду. И в этот вечер бухта опять была полна возвращающихся с моря лодок. Теплый воздух, как всегда, когда ветер дует с юго-запада, был пропитан присущим этому городу запахом свежей древесины, ароматами расстилавшегося внизу сада и слабым, едва уловимым запахом моря. За окном гостиной мерцали отсветы телевизора. Встав возле кованой чугунной решетки, ограждавшей веранду, я закурил. Потом загасил сигарету о стену дома, и с нее звездочками посыпались в сад горящие искры. Вернувшись в дом, я в первую очередь проверил, где бабушка, и, убедившись, что она сидит в гостиной, поднялся к себе на чердак. Чемодан стоял у кровати раскрытый. Я взял из него картонный конверт с версткой, сел на кровать и оторвал с конверта скотч. Мысль о том, что моя рукопись уже стала книгой, которую издают, поразила меня с неожиданной силой, когда я увидел перед собой сверстанный титульный лист, который в корректуре выглядел совершенно иначе. Я сразу же переложил его в самый низ пачки, сейчас мне не до того, чтобы над ним размышлять, достал из кармашка в чемодане карандаш, взял лист с образцами корректорских значков и устроился на кровати спиной к изголовью, положив рукопись себе на колени. Верстка была срочная, и я рассчитывал работать над ней вечерами, чтобы сделать как можно больше. До сих пор для этого не находилось времени. Но сейчас, когда Ингве уехал в Ставангер, а на часах было только восемь, у меня оставалось для работы как минимум четыре часа, а возможно, и больше.
Я начал читать.
Два черных костюма, висевшие каждый на своей створке приоткрытого шкафа напротив кровати, мешали мне сосредоточиться, потому что, читая рукопись, я все время помнил об их присутствии, и, хотя знал, что это всего лишь костюмы, ощущение, что это живые существа, маячило тенью в глубине сознания. Через несколько минут я поднялся, чтобы их убрать. Держа в каждой руке по костюму, я стал оглядываться, куда бы их перевесить. На карниз над окном? Но там они еще больше будут бросаться в глаза. На дверную притолоку? Нет, мне же под ней проходить. В конце концов я вышел из комнаты, отправился в помещение, где обычно сушили белье, и повесил их там, каждый на отдельную веревку. Раскачиваясь, они еще больше стали походить на человеческие фигуры, но, если закрыть дверь, я их не буду видеть.
Вернувшись в комнату, я снова сел на кровать и продолжил чтение. Где-то далеко внизу, на улице, газанула машина. С нижнего этажа неслись звуки телевизора. В пустом, затихшем доме это звучало дико, словно здесь творилось какое-то безумие.
Я поднял глаза.
А ведь я писал эту книгу для папы. Сам того не зная, – но это так. Она адресована ему.
Отложив верстку, я встал и подошел к окну.
Неужели он действительно так много для меня значил?
О да. Еще как.
Я хотел, чтобы он увидел меня.
Ощущение, что написанное мною чего-то стоит, а не только выражает мое желание создать что-то значимое или, как минимум, претендующее на значимость, впервые появилось у меня, когда я писал пассаж о папе и при этом заплакал. Раньше такого никогда не случалось. Я писал о папе, а слезы так и струились у меня по щекам, я уже не различал ни клавиатуры, ни экрана и тюкал по клавишам почти вслепую. Я даже не знал о горе, которое, оказывается, жило во мне, не подозревал о его существовании. Отец был для меня идиотом, с которым я не желал иметь ничего общего, и мне ничего не стоило от него отстраниться. Да и отстраняться было не от чего, на самом деле ничего уже и не было, ничто нас не связывало. И при всем этом я пишу, а сам обливаюсь слезами.
Я снова уселся на кровать и разложил рукопись на коленях.
Но и это было еще не все.
Кроме прочего, я хотел показать, что я лучше его. Что я выше его. Или я просто хотел, чтобы он мною гордился? Хотел добиться его признания?
Он даже не знал, что я собираюсь издать книгу. Последний раз, когда мы встречались с ним с глазу на глаз перед тем, как он умер, полтора года тому назад, он все-таки спросил меня, чем я сейчас занимаюсь, и я сказал, что начал писать роман. Мы шли по Дроннингенс-гате, направляясь в ресторан поужинать, у него со лба градом катил пот, хотя на улице было холодно, и он спросил меня, не глядя, явно только чтобы поддержать разговор, есть ли надежда, что из этого что-то получится. Я кивнул и сказал, что одно издательство заинтересовалось. И тут он вдруг на ходу посмотрел на меня как будто откуда-то, где он оставался собою прежним и мог бы, если захочет, вернуться к тому, прежнему.
– Отлично, Карл Уве, что у тебя все складывается хорошо, – сказал он тогда.
Почему я это так четко запомнил? Обыкновенно я забывал почти все, что мне говорили даже самые близкие люди, и ничто не предвещало тогда, что мы видимся с ним в последний раз. Может быть, я запомнил эти слова, потому что он назвал меня по имени. В последний раз он так обращался ко мне года четыре назад, и по этой причине то, что он сказал, прозвучало неожиданно доверительно. Возможно, я запомнил это потому, что за несколько дней до нашей встречи писал о нем, испытывая при этом чувства, совершенно противоположные тем, которые вызвало у меня сейчас его дружелюбное обращение. А может быть, я запомнил это потому, что ненавидел его власть надо мной, которая и проявилась в том, как я обрадовался этой малости. Чтобы я что-то сделал ради него – да ни за что на свете, ни в плохом, ни в хорошем смысле! – сказал я тогда себе. Грош цена теперь этим словам.
Я отложил стопку страниц на кровать, засунул карандаш обратно в кармашек чемодана, нагнулся и поднял с пола картонный конверт из-под верстки, попробовал втиснуть ее туда, но она не влезала, тогда я положил всю стопку в чемодан, на самое дно, и тщательно накрыл сложенной одеждой. Оставшаяся на кровати картонная оболочка, над которой я остался стоять, будет напоминать мне о романе каждый раз, как я на нее взгляну. Взять ее, что ли, с собой и выкинуть в мусорное ведро на кухне? Это была моя первая мысль, но по зрелом размышлении я от нее отказался: не стоит превращать мой конверт в часть этого дома. Тогда я вынул вещи из чемодана и положил ее на дно рядом с рукописью, накрыл сверху вещами, защелкнул замки и только тогда вышел из комнаты.
Бабушка сидела в гостиной и смотрела телевизор. Шли какие-то дебаты. Ей, по-моему, было все равно, что смотреть. Она с одинаковым удовольствием смотрела днем молодежную программу на TV2 и на Норвежском телевидении, а вечером – документальные фильмы. Я так и не мог понять, что такого она находила в этой молодежной реальности с ее неутолимыми потребностями, которыми полнились и новостные программы, и дебаты. Что могла находить в этом она, человек, рожденный до Первой мировой войны, то есть представительница настоящей старой Европы, хотя и жившая на самой далекой ее окраине? Человек, чье детство прошло в 1910-е годы, юность в 1920-е, а к 1968-му уже достигший пожилого возраста? Но что-то, наверное, находила, раз каждый вечер исправно садилась перед телевизором и смотрела.
Прямо под нею стояла желтовато-коричневая лужица. Темный потек сбоку на кресле показывал, откуда она взялась.
– Привет тебе от Ингве, – сказал я. – Он доехал благополучно.
Она коротко взглянула на меня снизу.
– Вот и хорошо, – сказала она.
– Тебе ничего не нужно? – спросил я.
– А что мне нужно? – переспросила она.
– Ну, что-нибудь поесть или попить. Я могу приготовить, если хочешь.
– Нет, спасибо, – сказала она. – А ты возьми себе, если хочешь.
После зрелища папиного мертвого тела сама мысль о еде вызывала у меня отвращение. Но уж чашка чая вряд ли может ассоциироваться со смертью? Я вскипятил в кастрюльке воду и залил ею пакетик чая в чашке, постоял над нею, глядя, как от пакетика отделяется цветная струя, медленными спиралями расходясь по воде, пока та не сделалась полностью желтой; тогда я взял чашку и вышел с ней на веранду. Далеко в устье фьорда показался направляющийся к берегу датский паром. Небо над ним полностью прояснилось. В покрывшей все небо тьме по-прежнему можно было найти проблески голубизны, это придавало ему материальности, как будто это был гигантский платок, а звезды принадлежали скрытому за этим покровом свету, который проглядывал сквозь него в тысячи маленьких дырочек.
Я пригубил из чашки и отставил ее на подоконник. Тот вечер с отцом запомнился мне и кое-чем другим. На тротуарах буграми лежала наледь, почти безлюдные улицы продувало восточным ветром. Мы зашли в ресторан при гостинице, оставили в гардеробе верхнюю одежду и сели за столик. Папа тяжело дышал, он провел рукой по лбу, взял со стола меню, пробежал глазами до последней строчки и вернулся к началу.
– Похоже, тут не подают вина, – сказал он, встал и направился к метрдотелю. Папа что-то ему сказал. Тот покачал головой, папа резко повернулся, возвратился к нашему столику, рывком сдернул пиджак со стула и стал надевать, направляясь к выходу. Я поспешил за ним.
– Что случилось? – спросил я, когда мы вышли на улицу.
– Они не подают спиртного, – сказал он. – Господи! Оказывается, это отель для трезвенников.
Затем он повернулся ко мне и улыбнулся.
– Ведь какой же ужин без вина, – сказал он. – Но ничего. Тут рядом есть другой ресторан.
В конце концов мы пришли в «Каледонию», заняли столик у окна и принялись за бифштекс. То есть принялся я, а когда закончил, папина порция все еще лежала на тарелке почти нетронутая. Он покурил, допил последние остатки вина, откинулся на стуле и сказал, что собирается пойти в шоферы-дальнобойщики. Не зная, как на это реагировать, я только кивнул, не говоря ни слова. У дальнобойщиков хорошая жизнь, сказал он. Ему всегда нравилось водить машину, путешествовать, а если за это можно еще и получать деньги, то и раздумывать нечего.
– Германия, Италия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Испания, Португалия, – говорил он.
– Да, – сказал я. – Хорошая профессия.
– Но пора закругляться. Я заплачу. А ты иди. У тебя наверняка много дел. Приятно было с тобой повидаться.
И я сделал, как он сказал: взял пиджак, пожелал ему всего хорошего и пошел в вестибюль, а оттуда на улицу; подумал было, не взять ли такси, решил не брать и направился к автобусной остановке. Из окна я потом еще раз увидел его, он шел через ресторан к двери в другом конце зала, где располагались бары, и опять его движения, несмотря на располневшее, грузное тело, были поспешны и суетливы.
В тот день я видел его живым в последний раз.
Мне все время казалось, что он старается держаться. Что в эти два часа он употребил все оставшиеся силы на то, чтобы держать себя в руках, вести себя как разумный человек, который здраво воспринимает окружающее, быть таким, как раньше.
Мысль об этом преследовала меня, пока я ходил по веранде, глядя то на город, то на море. Я подумывал, не прогуляться ли в город, а может, и к стадиону, но нельзя было оставить бабушку одну в доме, да кроме того, не очень-то и хотелось. К тому же завтра утром все будет выглядеть иначе. Новый день приносит с собой не только свет. Как бы ни был ты измотан всевозможными переживаниями, ты не можешь не почувствовать бодрящего ощущения утра. И я, забрав с собой чашку, положил ее в посудомойку, отправил туда же все чашки, стаканы, блюдечки и тарелки со стола, засыпал порошок и включил машину, вытер стол мокрой тряпкой, отжал ее и повесил на кран, – хотя мятая, мокрая тряпка и смотрелась на блестящем хромированном кране как-то вызывающе неприлично, – пошел в гостиную и встал рядом с креслом, в котором сидела бабушка.
– Пожалуй, пойду ложиться, – сказал я. – Трудный был день.
– Разве уже так поздно? – спросила она. – Да, тогда и я тоже скоро лягу.
– Ну, тогда спокойной ночи, – сказал я.
– Спокойной ночи.
Я хотел было идти.
– Знаешь что, – сказала вдруг бабушка.
Я обернулся к ней.
– Неужели ты и сегодня собираешься спать на чердаке? Внизу тебе будет удобнее. Ну, в нашей старой спальне. Там и ванная рядом.
– Ты права, – сказал я. – Но я, пожалуй, все-таки останусь наверху. Мы там уже устроились.
– Да, да, – сказала она. – Делай, как тебе лучше. Ну, спокойной ночи тебе.
– Спокойной ночи.
Уже придя в комнату и начав раздеваться, я понял, что она предлагала мне лечь внизу не ради моего удобства, а потому что это нужно было ей. Я тотчас же надел только что снятую рубашку, забрал с кровати простыню, свернул одеяло, подхватил его под мышку, в другую руку взял чемодан и снова спустился вниз. На площадке второго этажа я встретил бабушку.
– Я передумал, – сказал я. – Ты была права, внизу будет лучше.
Я спустился вслед за ней по лестнице. В прихожей она обернулась ко мне:
– У тебя есть все что нужно?
– Да, все в порядке, – сказал я.
Тогда она открыла дверь к себе и скрылась за порогом.
В комнате, в которую я перебрался, мы еще не наводили порядок, повсюду – на ночных столиках, на матрасе, в раскрытых шкафах, на полу, на подоконнике – лежали ее вещи: щетки для волос, бигуди, украшения и коробочки от украшений, вешалки, ночные сорочки, блузки, белье, полотенца, косметички, косметика, но заниматься ими я был не в состоянии: я только освободил кровать от всего лишнего, застелил ее простыней, положил одеяло, разделся, погасил свет и лег спать.
Должно быть, я заснул мгновенно, потому что следующее, что я помню, – это как я проснулся и включил лампочку на ночном столике, чтобы посмотреть на часы; они показывали два. Из-за двери слышались шаги, кто-то шел по лестнице. Первое, что я подумал спросонья, навеянное, вероятно, чем-то, увиденным во сне, – что это вернулся папа. Не его призрак, а живой человек. Ничто во мне не воспротивилось этой фантазии, и мне стало страшно. Но затем, не внезапно, а как бы в продолжение того же мысленного ряда, я понял, что это нелепо, и вышел в коридор. Дверь в бабушкину комнату была приоткрыта. Я заглянул в нее. Ее кровать стояла пустая. Я поднялся наверх. Скорее всего, она просто пошла попить воды, а может быть, ей не спалось и она отправилась смотреть телевизор, но на всякий случай я все-таки решил проверить. Сначала на кухне. Там ее не было. Затем в гостиной. И там ее тоже не оказалось. Должно быть, ушла в парадную гостиную.
В самом деле – она стояла там у окна.
Почему-то я не дал знать о своем присутствии. Остановился в тени на пороге раздвижной двери и стал наблюдать.
Она была словно в каком-то трансе. Стояла неподвижно, глядя в сад. Временами шевелила губами, словно тихо шепталась сама с собой. Но из ее уст не вылетало ни звука.
Потом она неожиданно повернулась и направилась в мою сторону. Я так растерялся, что продолжал стоять на месте и смотреть, как она приближается. Она прошла мимо меня на расстоянии полуметра, но, хотя ее взгляд мимоходом остановился на моем лице, она меня так и не заметила. Она прошла мимо, словно я был неодушевленной вещью, одним из предметов, которыми обставлена комната.
Подождав, пока снизу не донесся звук закрываемой двери, я спустился следом за ней.
Охваченный страхом, я вернулся в комнату. Куда ни глянь – отовсюду смотрела смерть. Смерть была в прихожей – в моей куртке, в которой лежал конверт с папиными вещами, смерть осталась наверху в кресле, в котором папу нашли мертвым, смерть засела на лестнице, по которой его вынесли на носилках, и в ванной комнате, где дедушка потерял сознание с желудком полным крови. Стоило закрыть глаза, как меня, точно в детстве, одолевала неотступная мысль, что сейчас явятся мертвецы. Но глаза все равно надо было закрыть. А едва мне удавалось убедить себя в смехотворности этих детских страхов, как перед глазами возникал лежащий на катафалке мертвый папа. Сложенные руки с белыми ногтями и пожелтевшей кожей, ввалившиеся щеки. Эти видения проникали в мой неглубокий сон, а в его просветах, когда просыпалось сознание, невозможно было понять, наяву это или мерещится во сне. Один раз в таком просвете мне вдруг показалось, что его тело лежит в шкафу, я открыл его и перерыл все вещи на вешалках, перебирал их по одной снова и снова, а покончив с этим, снова лег и заснул. Во сне папа был одновременно мертвым и живым, и в настоящем и в прошлом. Он словно овладел мною целиком, полностью управлял мною, и, когда я наконец проснулся в восьмом часу, моей первой мыслью было, что он посетил меня, а второй – что я непременно должен еще раз его повидать.
Два часа спустя я закрыл за собой дверь кухни, где сидела бабушка, пошел к телефону и набрал номер похоронного бюро.
– Похоронное бюро «Андерес».
– Да, алло. Это Карл Уве Кнаусгор. Позавчера я был у вас с братом. Я насчет отца. Он умер четыре дня тому назад.
– Да, здравствуйте. Слушаю вас.
– Мы приходили вчера посмотреть на него. Я хочу спросить, нельзя ли мне посмотреть на него еще раз? Ну, на прощание, в последний раз.
– Ну, разумеется, можно. В какое время вам удобно?
– Ну, скажем… Скажем, сегодня часа в три или четыре?
– Давайте в три. Вам подходит?
– Да.
– Перед часовней.
– Да.
– Хорошо. Значит, договорились.
– Спасибо вам.
– Не стоит благодарности.
Успокоенный тем, что разговор прошел так гладко, я пошел в сад и продолжил косить траву. Небо было пасмурное, свет – мягкий, погода – теплая. К двум часам я закончил работу. Заглянул к бабушке и сказал, что пойду встретиться с товарищем, переоделся и отправился в часовню. Перед входом стоял тот же автомобиль, тот же человек открыл мне на стук. Кивнув, он распахнул дверь во внутреннее помещение, в котором мы были накануне, но сам не вошел; и вот я снова стою над папой. На этот раз я был подготовлен к тому, что увижу, и его тело, наверное еще более потемневшее за прошедшее время, уже не вызывало во мне тех чувств, которые терзали меня в предыдущий раз. Теперь передо мной лежало нечто безжизненное. И уже не существовало разницы между тем, что было когда-то моим отцом, и помостом, на котором он лежит, или полом, на котором стоит этот помост, или выключателем под подоконником, или проводом, протянутым к горевшему рядом светильнику. Ибо человек – всего лишь одна из форм наряду с другими формами, вновь и вновь порождаемых миром не только в живом, но и в неживом – в песке, в камне, в воде. А смерть, которую я всегда рассматривал как важнейшую составляющую жизни, темную, влекущую, была не более чем лопнувшая труба, сломанная ветром ветка, упавший с вешалки и лежащий на полу пиджак.
Примечания
1
Почки (лат.). – Здесь и далее прим. перев.
(обратно)2
Спинной мозг (лат.).
(обратно)3
Средний мозг (лат.).
(обратно)4
Здесь и далее стихи в переводе Е. Чевкиной.
(обратно)5
В норвежской старшей школе и гимназии используется десятибалльная шкала оценок, где десять – это наивысший балл.
(обратно)6
Зд.: Один хрен (англ.).
(обратно)7
«Старт» – футбольный клуб Кристиансанна.
(обратно)8
Футбольный клуб «Виннбьярт» базируется в городе Веннеса.
(обратно)9
Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. – Пер. Н. Полилова.
(обратно)










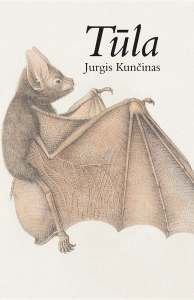
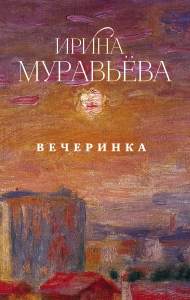
Комментарии к книге «Прощание», Карл Уве Кнаусгорд
Всего 0 комментариев