КАК ДАЛЕКО
В автобусе
Сажусь в автобус, озабоченная, не в лучшем расположении духа, даю сотню чернобородому в аккуратной презанятной черной шапке кондуктору, он спрашивает: «На все?» — «Хорошо бы, — отвечаю, — так ведь не только туда, еще и обратно надо». — «Вы извините, — говорит кондуктор, — это я пошутил, не худо иной раз и пошутить, все едут, как зомбированные, а жизнь такая короткая».
В какой-то момент они начинают беседовать с пассажиркой за моей спиной, — о храмах (в этот момент мы проезжаем Смольный собор), кто в каком был, хвалят Кронштадтский собор, а вот в Казахстане, говорит чернобородый кондуктор, есть чудесные православные храмы, в Астане, в частности. Я, говорит он, иногородний, в Преображенском соборе был, в Александро-Невской лавре был, в Свято-Троицком, а вот Ильи-Пророка не нашел. Он на Пороховых, говорит женщина; а в Москве в храме Христа Спасителя вы были?
— Нет, я вообще не был в Москве.
— А я была, — говорит она, — но мне он не так понравился, как Кронштадтский.
Тут, не выдержав, я оборачиваюсь и говорю про Князь-Владимирский собор (а начался их разговор с Никольского), такая красота, лебедь белая.
— А где он? — спрашивает женщина.
— На Петроградской.
— Какая станция метро? — спрашивает чернобородый.
Вступает сидящий у окна рядом с женщиной молодой человек:
— «Спортивная».
И я выхожу.
Сторож
Старик сторожил свой заброшенный военный аэродром много лет, без зарплаты, без помощи, подметал взлетно-посадочную полосу, старался, трудился, его считали чудаком, почти помешанным.
Но однажды на этот аэродром сел терпящий бедствие большой самолет, и все, и пассажиры, и летчики, остались живы. Старику достались секунды неповторимого счастья, когда в полной тишине открылась дверь самолета, и он увидел личико стюардессы.
Диалог
— Что хранится в твоей вечно юной лавке древностей, хозяин?
— Петля Гестерезиса, лента Мёбиуса, линия Аккерблома, ванна Архимеда, пространство Гуттенберга, а также Евклидова клеть и Пифагоровы штаны. Всего и не перечислишь; вот черный ящик, а там белое пятно... не стать ли литератором, чтобы воспеть всё это?
— Воспевай, кто мешает; оно того стоит. Люблю всё, что рукодельно.
— На всякое «рукодельно» есть свое «нерукотворно».
— Чтобы воспеть твою лавку, не худо бы прежде во что-нибудь впасть. В лирический драйв. Или в нордический кайф.
— Оставь ты эти игрушки. Считай время и копи Вечность.
— Сам придумал?
— Нет, это надпись на солнечных часах (сделанных, кстати, из греческой капители) в русской миссии Иерусалима.
— Откровенно говоря, я не знаю, как считать время, которое достойно подсчета, например, потерянное; да меня и интересуют-то только дни, в которые уходят благодетели и заступники наши, и час, когда мы уйдем за ними.
Монолог
Однажды услышала я по радио монолог человека, проработавшего в частях МЧС 14 лет. «Я пользуюсь, как почти все мы, — сказал спасатель, — психологической помощью. Главное — всё забыть, стереть, убрать из памяти, кроме технологии, конечно, она пригодится. Во-первых, невозможно помнить всё страшное, что довелось увидеть. Во-вторых, трудно жить с чувством, что кто-то тебе обязан. В-третьих, тяжело постоянно задавать себе вопрос: а всё ли я сделал, что мог?»
Счастлив
— Я счастлив, что моя нога отражается в твоих очках, — сказал пятилетний Костя.
Загадка Розанова
Так внезапно открылась мне загадка Розанова: если человек был женат на Настасье Филипповне, он должен быть одновременно Рогожиным и князем Мышкиным; что мы и видим.
Отчество
Младшая дочь библиотекарши вышла замуж. Влюбились, венчались, родился мальчик, стали обсуждать, как назвать. Отец хотел назвать Родионом, но молодая восстала, воскликнув: «Чтобы в Петербурге назвать человека Родионом Романовичем?! Этому не бывать!» Назвали сына Саввою.
Звукооператор
В доме у них обитал попугай-звукооператор: поскольку постоянно смотрели триллеры, детективы, фильмы ужасов, попугай виртуозно подражал звукам стрельбы, взрывов, вою сирены и издавал леденящие душу вопли.
Страничка
От одной из записных книжек незапамятных времен завалялась одна страничка истрепанная с заголовком: «Африканские пословицы и китайские поговорки». Без ссылки на источник. Без уточнения, где африканские, а где китайские. А потом и эта единственная страничка пропала, а из поговорок в памяти остались только три:
Не бросай песком в крокодила, всё равно это не приносит ему ущерба.
Есть сто видов безумия и только один вид здравого смысла.
Если тебя укусит собака, не отвечай ей тем же.
Разговор из черновика
В черновом варианте романа вымаранные впоследствии персонажи переговаривались.
— Мне снилось, что я девушка с индийского базара, — сказала она. — У меня была подруга, мы были Зита и Гита, обе в свежеголубых новорожденных джинсах, черных туфельках, сверху — ситцевое сари. Сначала мы жили как две воспитомки в большом прибазарном особняке и смотрели на торговые ряды с террасы третьего этажа. Нам была указана лавочка богатого старика (не только торговца, ростовщика тоже), нашего будущего покровителя. Когда мы убежали на базар, торопя нашу жизнь, мы нашли лавочку по направлению взора. За нами гнались, но мы бежали быстро и укрылись в указанной ранее лавке, хотя жил там теперь другой человек преклонных лет, а наш несостоявшийся покровитель скончался. Новый хозяин предложил нам роль служанок и маленькую комнату. Мы согласились, и я уснула во сне в комнатушке с дощатым полом, радуясь, что не стала уличной женщиной. Проснувшись, я возмечтала, чтобы в ноздре у меня была жемчужная сережка, крошечный шарик, похожий на прыщик, как во сне, где я видела себя в маленьком зеркале.
— Надо же, — сказал он, задумчиво глядя ей вслед, — как будто нельзя быть уличной женщиной и жить при этом в маленькой комнате с дощатым полом.
— Может, она думает, что уличная женщина — непременно побродяжка вроде бездомной собаки? Интересно, вденет ли она в ноздрю сережку?
— Не успеет, — отвечал он убежденно. — Ей нынче приснится что-нибудь другое, о чем она промечтает следующие сутки. Так и будет примерять разные намерения.
Пропавший персонаж
А этот впоследствии пропавший из текста персонаж вел себя, как действующее лицо драматургического сорта: время от времени распахивал дверь (или заглядывал в окно первого этажа) и подавал реплику ни к селу ни к городу, не имеющую прямого отношения к происходящему.
— Я догадался, — говорил он, — что «Анна Каренина» — роман о том, как Вронский изменил Фру-Фру с Анной, а потом одумался, да уж поздно было.
Вешалка графа Зубова
Вешалка графа Зубова обреталась, естественно, в институте искусств, где, выходя из парадной, читал выходящий оказавшуюся перед ним надпись на фронтоне Исаакия: «Царю царствующих». Жучок уже приспособился точить древний деревянный предмет, и, чтоб было ему неповадно, артефакт сей покрыли лаком, закрывшим колонии древоточцев все лазы и возможности, чтобы не доели до полного праха, после чего вешалку подарили Луизе Т. Всякий раз, оставляя одежду на вешалке и одеваясь перед уходом, думала она: вот тут некогда висело пальто Гумилева, здесь плащ Рериха, там мантель Ахматовой...
Парусник
Я больше всего на свете люблю пароходы. Пароходы для меня всё. Когда я хожу по Неве, то я останавливаюсь перед каждым судном и осматриваю его, как величайшую редкость в мире.
Юра Клименченко, 11 лет, школьное сочинение (из статьи Виктора Конецкого)Нельзя ничем заменить тот шум, который рождается в глубине деревянной корабельной мачты, когда в паруса ровно давит ночной бриз. Этот шум говорит о великих тайнах природы простыми словами выросшей в лесу сосны.
Виктор КонецкийС Виктором Конецким знакомы мы не были. Я задала ему вопрос, сказала о своей поэме, посвященной «Сириусу», название «Корабль» ему не понравилось. «Надо говорить „судно“», — сказал он сухо.
Да знала я это, знала. Отец мой, выпускник военно-морского факультета Военно-медицинской академии, в 1945 и 1946-м был врачом на линкоре «Октябрьская революция». Я любила его черный китель с капитанскими погонами, парадный маленький кортик. В двенадцать лет знала я названия всех частей такелажа парусника, отличала баркентину от бригантины, а настольной книгой моей было «Зеркало морей» Джозефа Конрада. Отрывки из этой книги до сих пор помню я наизусть: «Парусное судно с его бесшумным корпусом как будто живет таинственной, неземной жизнью, поддерживаемой дыханием ветров....» В альбоме для рисования рисовала я разные суда, бормоча: «Галион, галеас, галера, паташ, шхуна-бриг, шхуна-барк, корвет, фрегат, пинк, сабра...»
Из всех плавсредств именно парусник следовал курсом своим и доходил до места не только умением моряков, но и волей Божией. Увидев парус, хочется вдохнуть полной грудью; эти суда — словно душа флота. Превращение парусника в кабак было точно растление души.
Конечно, название моей поэмы с точки зрения моряка звучало как неточное, условное, литературное. На самом деле «Сириус» был парусник, баркентина или шхуна-барк. Но один из капитанов «Сириуса», писатель, капитан дальнего плавания Юрий Дмитриевич Клименченко, в самом деле не мог (как и все остальные, впрочем) пережить «пошлую судьбу» своего любимого плавсредства, и (как в поэме) действительно пришел на ставший кабаком парусник, выпил, плясал в кабаке. Это рассказала мне Нина Александровна Чечулина, редактор моей первой книги стихов; в числе капитанов «Сириуса» был и ее муж, друг Виктора Конецкого, моряк, яхтсмен, в молодости он показывал ей, своей невесте, баркентину. Жили Чечулины на Фонтанке в доме Державина в бельэтаже, к ним приходил в гости тоже живший на Фонтанке подле дома Толстого композитор Клюзнер. Я помню матушку капитана Чечулина, родившуюся и проведшую юность в Средней Азии, любившую до старости бирюзу, серебро, лалы; стоило ей в старости надеть мертвый жемчуг, как через два дня жемчуг оживал. Муж был ее много старше, и прозвище его было «маркиз в красных башмачках», это присловье о щеголях восемнадцатого века встретилось мне потом в книге Пыляева.
Штигличанин Феликс Романовский рассказывал: о капитане Чечулине ходили легенды. Принимая участие в международных соревнованиях на полусломанной маленькой жалкой яхте со швами, залепленными пластилином, шел он первым, и только из-за недоразумений с неисправными рулем и рацией оказался на втором месте. Обсуждалось, как во время рейса из трюма вычерпывали воду, говорили о продуктах, взятых в обрез из-за размеров яхты и т. д. и т. п. То были первые состязания, в которых участвовали русские после тридцатилетнего перерыва. И делался вывод: наши, мол, и на корыте вокруг света сплавают. Я же слышала об этой регате из уст самого героя легенды, в частности, о заметке в английской газете: «...капитан Чечулин на самодельной яхте...» Журналисты британские были уверены, что такое можно сделать только вручную в собственном гараже. Однако, Чечулин утверждал: ход у яхты был великолепный, инженерное решение на высоте; ну, изготовлена была, конечно, традиционно, неведомо как, к тому же меньше всех яхт, участвовавших в регате.
Читатели ленинградского журнала «Аврора» помнят очерк Клименченко о легендарных капитанах «Сириуса».
Теперь Юрий Клименченко — неподалеку от могилы Клюзнера — лежит на комаровском кладбище рядом с любимой женой, которую пережил ненадолго. Я дружу волею судеб с племянницей его, Натальей Клименченко, которая помогла мне выпустить не одну книгу, она разбирается в компьютерном наборе гораздо лучше меня, хотя училась в Горном институте, подле которого, сложив руки на груди, смотрит на воду капитан Крузенштерн, — там, где всегда стояли парусники, приходившие в город.
Гофманиана
— Как, у вас есть брат, господин архивариус? Где же он?.. Также на королевской службе, или он, может быть, приватный ученый?
— Нет, — отвечал архивариус, холодно и спокойно нюхая табак, — он пошел по дурной дорожке и стал драконом.
Э. Т. А. ГофманЧитая о восемнадцатом веке, помалу втягиваешься в некую гофманиану. И только прочтешь, что Гофмана звали Эрнст Теодор Амадей, как снится герой ненаписанного никем произведения по имени Федор (Теодор!) Теофилович, пишущий статью о звездных скоплениях и созвездиях дырявой тетушкиной шали на просвет. Вспомнив в который раз полное имя Моцарта, данное ему при крещении, — Иоганн Хризостом Вольфганг Теофил — дивишься этому отсвету Златоуста, Хризостому, а заодно и латинскому переводу последнего имени — Амадеус, и видишь нескольких взявшихся за руки, бегущих по садовому лабиринту, а не одного... А за углом, на соседней странице книги с забытым названием тебя подстерегает некто Готфрид Кристоф Байрейс, профессор физики и математики, полуученый, полушарлатан, иллюзионист, загадка для современников, явившийся в 1757 году на обед к герцогу Брауншвейгскому в черном фраке, который к концу обеда стал красным; и поневоле в пару к нему в воображении твоем проезжает на собаках (ведь ездил же натуральным образом!) по заснеженному офранцуженному царицынскому парку король московских шулеров екатерининской эпохи барон Жерамбо, сущая сатана, пальцы в перстнях, брови выбриты, одеяние черное в галунах, на груди череп вышит; едет, латинские стихи, сочиняя, бормочет, иные крестились, его увидав, но так, чтобы барон не заметил.
А читая самого Гофмана, всякий раз дивишься, что среди его персонажей был художник по фамилии Траугот.
Ракушечья трава
Говорят, она растет только в Японии, это не так, нам встречалась в Анапе на дальнем пляже Бимлюка, что за ржавой баржей Дюрандой, серебристо-зеленая, в листиках, подобных отросточкам суккулента, ракушечья трава; каждому, кто понюхал ее, снилось, что он превратился в рыбу.
Наш новый
Одна из внучек Наталии Малевской-Малевич взяла старый бронзовый подсвечник, навязала на него бантиков, цветных ленточек, резиночек для волос, бранзулеток, детский непарный розовый носочек и т. п., поставила на видное место красоваться, и на вопрос — что это?! — отвечала: «Это наш новый спонсор».
Что мы знаем о Юнге
Юнг говорил о синхронности, о смерти человека и случившемся единомоментно тревожном сне его близкого родственника, как о временном доступе к «абсолютному знанию», к области, где преодолеваются границы времени и пространства. Стивенс сказал о Юнге: «Он... серьезно верил, что его дом населен привидениями». Сам Юнг писал: «Меня упрекали в простодушии».
Действительность
Написав это слово на предпоследней странице записной книжки, я приписала несколько цитат. Для начала, слова Алексея Алексеевича Ухтомского: «Знаете, недавно при чтении одной работы, мне пришлось ощутить с какой-то особенной ясностью, что очевидность и правда могут очень расходиться между собою». Затем две дразнилки Станислава Ежи Леца (или это одна и та же, переведенная двумя разными переводчиками?): «Факты иногда заслоняют нам действительность» и «В действительности всё происходит не так, как на самом деле». В довершение картины приведены были слова Владимира Моисеева: «Вчера мой сын Алексей (бывший в тот момент учеником великого астронома Горбацкого) показал мне действительность, изображение реальности, то есть: фотографию под названием „Пространственная структура локальной межзвездной среды“». И рядом по неизвестной причине нарисована была Марья Моревна из сказки, явившаяся по сфинксово-цареву заданию на бал не одетая и не раздетая: в рыболовной сети.
Бумажный корабль
Сон о бумажном корабле повторялся, плыл сквозь годы. Студенческая подача проекта на кафедре дизайна института на Соляном переулке. Потерявшийся и обретаемый чудом макет. По шпангоутам собирать насекомое бумажного корабля. Прозрачная кювета, наполняемая подцвеченной акварелью аквамариновый водой. Загрунтовать воском днище до ватерлинии, насыпать в бумажный трюм горсть песка. Поставить перед кюветой цветочные горшки, словно пристает плавсредство к острову в океане. Наконец, положить на воду (срезав стебель) розу.
— А почему тут цветок?
— Это роза ветров.
Вниз по Невскому
Продавец мобильников говорит мне:
— Вам надо в другой магазин. Спуститесь вниз по Невскому, на следующем перекрестке будет то, что вам нужно, на углу.
Он сказал о Невском, как о реке, «вниз по реке», советуя мне идти к Адмиралтейству, в сторону убывания номеров домов.
Теперь всякий раз, оказываясь на Невском, я улыбаюсь, вспоминая его, и думаю — куда мне сегодня, вниз или вверх по Невскому.
Вниз — к Дворцовой площади, Зимнему дворцу, Александрийскому столпу, к твоему дому детства, к Золотому кораблику у Адмиралтейства, к Неве.
Вверх — к площади Александра Невского, к Лавре, к тихим памятникам Некрополя, где когда-нибудь восстановят все разломанные и оскверненные склепы, к реке Монастырке, к Неве.
Большой район находится в петле поворачивающей Невы, к ней приходишь, куда ни пойдешь по Невскому.
Посередине есть еще одна площадь, где вместо церкви, устремленной в поднебесье, находится построенная на ее фундаменте посвященная подземелью станция метро (потому и называется она «Площадь Восстания»), где вместо монументальной конной скульптуры царя стоит небольшой красоты стела с веночком, где неизменно пребывает вокзал, с которого можно уехать из столицы в столицу, а налево и направо от Невы к Неве струит свои незримые воды Невский проспект.
Определить, куда текут улицы, легко: в городах нумерация улиц идет от центра к окраине, а набережных — от истока к устью.
Небываемое бывает
«Небываемое бывает» — надпись на медали времен Петра I, посвященной основанию Санкт-Петербурга. Таков девиз города, его истинная сущность. И мы горожане, петербуржцы, в этом живем.
Фантаст
Писал он интеллектуальную фантастику, чем вызывал раздражение собратьев по перу. Ничего из его опусов я не помню, кроме первой и последней фразы одного из рассказов, соответственно: «Это было в те давние времена, когда нота „до“» называлась „ут“, — и: «И все искали, искали вазон Бригса, да так и не нашли».
Одно время хотел он взять псевдоним X. Бозон, да кто-то из зубоскалов-юмористов его по пьянке отговорил, приведя аргумент: мол, «X.» будет восприниматься как определение.
В молодости увлекался он глиптикой, а потом начисто забыл, что это такое.
Тяготел он к готическому хоррору, к мистике, магии.
Героя одного из его романов звали Бруталий. Монстры бродили по страницам произведений его, должно быть, потому, что, как объяснил нам художник Гойя, сон разума порождает чудовищ.
Дочка
Дочка Гилельса, когда маленькая была, говорила:
— У меня мама осетинка, а папа пианист.
Хромая старушка
Старушка то хромала, то не хромала. Соседка спросила, — что у нее с ногой.
— Да ничего.
— А что же вы то хромаете, то не хромаете?
— По бедности, дорогая, и по слепоте. Смотря какие чулки надену. На одних на подошве уж очень грубую штопку сделала, ходить больно.
Главная мысль романа
Этот студент-афганец с отделения преподавания русского языка как иностранного был серьезнее всех, всегда подтянутый, торжественный, в безупречном костюме, никаких студенческих курточек, футболок, джинсов и свитеров. Для домашнего чтения выбрал он «Преступление и наказание» Достоевского.
Прочтя, сказал он преподавательнице:
— Очень, очень хороший роман.
— А какова главная мысль романа?
— Главная мысль? — переспросил студент задумчиво.
— О чем эта книга?
Тут сверкнули глаза его, и он отвечал:
— О том, что хорошо украл, а скрыть, спрятать не сумел.
Основная дата
Студенты-вьетнамцы поздравили преподавательницу русского языка с днем рождения, цветы подарили. Она растрогалась, спасибо, как вы узнали, да вот он узнал, сказали ей, случайно услышал на кафедре. Она спросила этого случайно услышавшего, улыбаясь:
— А когда день вашего рождения?
Он почему-то очень удивился.
— У нас не поздравляют с днем рождения. Его дата, число и год значения не имеют. Основная дата — день смерти, дата избавления от круга мирской суеты.
Мое дерево — ива
Сосед по международной гостинице, один из обитателей так называемого «Хаммеровского центра» в Москве, японский предприниматель, женатый на русской, говоривший почти без акцента, на вопрос встретившейся ему в коридоре соседки: «Как погуляли?» — ответил:
— Сегодня странно.
— Странно?
— Знаете, у каждого человека есть свое дерево. Мое дерево — ива. В Краснопресненском парке стоит прекрасная ива, я хожу ее навещать, раздеваюсь до пояса, обнимаю ствол, мы обмениваемся энергией. А сегодня, только снял куртку, рубашку, несу их в руке, поверх галстук болтается, иду к дереву, — ко мне милиционер бежит и кричит: «В мое дежурство не смей вешаться! Только не сегодня!»
Бегства
Она была дочерью беженки и мигранта, женой переселенца.
Сама она переезжала трижды: из царской России в советскую; в Америку, куда увез ее муж уже в летах; в Италию, куда увезли ее дети в глубокой старости, где она и умерла, не дожив двух месяцев до ста лет.
Жизнь ее родителей, мужа и ее собственную омывали воды морей Адриатического, Черного, Средиземного, Балтийского и Атлантического океана; возможно, предки ее мужа видели Чермное и Мертвое моря.
Любимый ее внук с женой-полькою жил в Англии на побережье моря Северного.
В сущности, жизнь ее была географией бегств. И всякий раз, глядя на оцифрованные портреты моих внучек (ее правнучек) я почему-то с удивлением думаю, что они — праправнучки бежавшего в Российский Туркестан в середине девятнадцатого века сербского господаря. Но сродни они и прадеду моему, жившему в детстве на берегу моря Лаптевых и Северного Ледовитого, а в молодости — на самом большом из островов Тихоокеанского бассейна, находившемся в Охотском море и называемом в незапамятные времена местными беглецами островом Соколиным.
Надписи
На металлических табличках, рубленым шрифтом, по трафарету! «Уважайте труд уборщицы!» — в НИИ, в учебных заведениях, всюду. «Не макать в соль пальцы и яйца», — в пристанционном буфете. Придорожное: «Водители, остерегайтесь мест, из которых могут появиться дети!» Хотелось бы глянуть на юмориста, который в надписи «Соблюдайте чистоту!» регулярно вмусоливал между двумя единственными базовыми словами третье: «нравственную».
Любимая надпись — конечно же, железнодорожная, времен пара и паровоза, спутница рельс: «Не сифонь, закрой поддувало!».
И лапидарное «Не влезай, убьет!» — с трансформаторной будки. Советы: «Не стой под стрелой», «Уходя, гасите свет».
К одной надписи со времен блокады на Невском кладут цветы: «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».
Грязь
Для съемок фильма в переулок (или то была малая улочка?) возле Сенной площади привезли пять грузовиков грязи. Из грязи в князи, из князи в грязи.
К следующим съемкам того же кино (имитируя наводнение 1824 года?) затопили улицу Чайковского.
Если есть аналогия тут с четырьмя стихиями, то после грязи (земля) и воды (вода) должны последовать огонь (пожар?) и воздух (туман? или что-нибудь, упаси Господи, на воздух взлетит?).
Фамилия главного героя фильма («Дуэлянт») Яковлев. А ведь и вправду в связи с наводнением 1824 года упоминался некто Яковлев, спасшийся, оседлав каменного льва (о чем знал написавший «Медного всадника» Пушкин).
Еще один Яковлев жил во время оно на нашей Шестилавочной (Надеждинской, Маяковского); или тот же?
Завезут ли на Пески, в район Песков набережной за Смольным институтом, зыбучий песок Англии или какой-нибудь пустыни, Сахары, Гоби, Тартари, к съемкам следующего кинофильма?
Позвонить
Иногда, проснувшись, я хочу позвонить ему, полторы минуты не помню, что он умер: на меже между сном и явью смерти нет.
Благоустройство
Пятнадцать человек возводят в пристанционной рощице дачного поселка лабиринт уродливых петляющих дорожек, ведущих никуда.
Поскольку в рощице местные жители и долговременные дачники традиционно собирали многие десятилетия мелкие крепенькие белые грибочки, которым в связи с перепланировкой, перекапыванием и благоустройством настал каюк, все в печали.
Мечты
Разные у людей бывают мечты, особенно у советских. Но, я думаю, и на других широтах странностей и несообразностей по части мечтаний полно.
Знала я человека, талантливого, здравомыслящего, работящего, который все детство, всю юность и часть зрелых лет мечтал купить головку сыра, круглую, целиком, размером поменьше баскетбольного мяча. Так и не купил.
А у молодой женщины, стойко державшей все удары судьбы, матери двоих детей, верующей, полной оптимизма, была мечта разбиться на самолете вместе с сыном-инвалидом. Она не представляла, что станется с ним, если она умрет, как справятся с его недугом муж и старший брат.
Самая экзотическая мечта была у юноши из Комарова, хотевшего на комаровских улицах, на обочинах, среди дерев и кустов, установить фигуры тех, кто некогда жил тут и ушел в мир иной: своего отца с собачкой, известного всем и лечившего всех жителей врача и др. Фигуры должны были быть в натуральную величину, они выглядывали бы из-за куста, сидели бы на пеньках и т. п. Он долгие годы искал спонсора и скульптора, которые могли бы идею его воплотить.
Страхи
«Боги мои стоят на столпах страхов моих», — так сказал ему язычник, с которым соседствовали они на Алтае; и он понимал, о чем идет речь. Ему казалось: он иногда видел этих чужих богов, но как бы фрагментарно, то рукав мелькнет в тумане, то след потеряется в зашуршавшем кусте. Однажды ночью привиделись ему стоящие столпом на столпе существа, некий цирк, босые ноги последующего на плечах предыдущего, игра во фрагмент придуманных Бакминстером Ф. девяти рядов до луны, отображавших численность человечества.
Куколки-манекенщицы
В парижском Музее кукол, что неподалеку от Центра современного искусства имени Жоржа Помпиду, в тупичке Бертран, можно увидеть древнеримских куколок-манекенщиц.
В Древнем Риме раскрашенные глиняные фигурки (фигурины) высотой от 8 до 25 сантиметров служили для демонстрации мод, были разодеты в самоновейшие наимоднейшие пеплумы (одежда без рукавов поверх туники). Назывались фигурины «пандорами».
Горе
— Горе, горе! — кричал на весь пляж четырехлетний ребенок, прибежав к маменьке и схватившись за голову. — Он обрызгал мне лицо водой из озера! А мне ведь нельзя купаться, я не купаюсь, я только по колено хожу! Горе, горе!
Воплощения
С воплощениями дело у них обстояло неважно: то перевоплотятся, то недовоплотятся.
Толстой, Пушкин
Пушкинская речь Достоевского известна, отношение его к поэту понятно.
С Толстым сложнее. «Натали, Натали...» — шепчет Курагин, соблазняя Наташу Ростову, как, вероятно, шептал Дантес Наталии Николаевне (вот только толстовский Курагин вполне традиционной сексуальной ориентации, чего не скажешь о Дантесе).
Портрет Анны Карениной списан с дочери Пушкина; может быть, идея романа пришла к Толстому, когда увидел он ее? Почему? Никто не знает. Каренина слегка косит, как Гончарова и ее дочь, Пушкин называл жену «моя косая мадонна».
Тяжелой поступью проходит со свечой анфиладу комнат княгиня Марья Болконская, а легкая фигурка Марии Волконской мелькает во вступлении-посвящении пушкинской поэмы, бежит полосой прибоя, догоняя волну, отбегая от нее («как я завидовал волнам»),
Андрей Болконский умирает от раны в живот, как умер поэт.
Пушкин, африканские страсти, соблазнитель чужих жен (а плотские страсти томили и мучили Толстого в молодости); и Анна, соблазн, грех, смертный грех самоубийства; вот только зачем Толстой толкает под поезд свою героиню, чей портрет списан с дочери Пушкина?
Выставка от варваров
В Париже в сквере возле Музея карнавала есть лапидарий — хранилище древних камней с драгоценными орнаментами и бесценным прошлым: статуи, кариатиды, фрагменты фасадов, маски фавнов и горгон, колонны с остатками фронтона Тюильри, сожженного коммунарами в 1871 году, резные створки ворот от бывшего королевского дворца Сен-Жермен-ан-Лэ, — все, что осталось от утерянных зданий и парков после разрушений революции, войн и «великой османовской стройки».
Пия и опой
«Пия» и «опой» были одними из первых слов мальчика. Малютка приносил матери пилу и топор на дачном участке. Вид трехлетнего дитяти с топором был преуморительный. Она пилила и корчевала деревья на садовом участке: отец и муж наотрез отказались заниматься возней на пустом месте, кому нужна эта бессмысленная затея с садоводством.
Проходивший время от времени мимо ее участка мужик однажды сказал приятелю (вполголоса, но в зеленой тишине она слышала каждое слово отчетливо): «Покажите мне мужа этой женщины, и я убью его лично».
Время шло, вырос сад. Сад шумел ветвями, играл лепестками цветов, показывал всем, кто не слеп, зеленые, алые, рыже-золотые плоды огурцов, помидоров и тыкв, шуршал кустами крыжовника, смородины, малины.
В мае она наезжала, в июне перебиралась окончательно в маленький домишко на восточном крае сада. Сад ее, возросший, плодоносящий, понравился в конце концов и мужу, и отцу, они появлялись, но ненадолго, а теперь уже их не было в живых, сын с семьей жил в Америке, внуков ей несколько раз привозили на лето.
Она перебиралась, помаленьку перевозя вещи, наконец, окончательно прибывала с кошками, развязывала у крылечка кошачьи переноски, кошки радовались, самый старый кот самозабвенно валился в траву, потом они по очереди, воздевая хвосты, словно свечи, входили в домик; первой входила Лиза, за ней Мардарий и Мордухай.
Про младшего кота она говорила: «Это мой бой-френд».
Обратный ход времени
Ольга приехала на дачу, впустила кошек и обратилась к умершему мужу: «Саша, если ты здесь, подай мне знак». Будильник остановился. Она поменяла батарейку — и часы пошли в обратную сторону. Что было вполне в духе обычных чудачеств ее покойного мужа. Год назад, например, во время их последнего путешествия дал он служителю-египтянину два доллара, чтобы тот разрешил ему полежать в саркофаге фараона в подземной гробнице пирамиды.
Облако
— Там, в Казахстане, — сказала Ольга К., — многие наблюдали аномальные явления; видела таковое и я: тороидальное облако. Размер его можно было сравнить с размером внушительной грозовой тучи. Не меняя плотности, в безветренный день в чистом голубом небе плыло оно, подобное НЛО (но то было именно облако!). Может быть, из втянутой его середины должен был бы опуститься смерч, но нет, оно проследовало такое, как есть, непостижимое, оставив память о себе у всех, кто его видел.
Псковитянка
— Как, ты не знаешь, — сказала она, — почему меня зовут Ольга? Наши уже перешли в наступление, отцу предстояло закончить войну в Германии, они ведь воевали вместе с мамой, отец пошел дальше со своим военным соединением, а матушка была на сносях, осталась в только что отвоеванном Пскове, где я и родилась, меня и назвали именем героини любимой оперы Римского-Корсакова «Псковитянка».
Я думала — надо же, есть люди, о которых словно бы известно все, а есть такие, о которых до глубокой старости узнаешь что-нибудь необычайное, чего и придумать нельзя.
Может быть, думала я, многое в биографии Ольги, в свойствах ее личных и объяснялось местом и временем ее рождения, она родилась в дни долгожданного наступления, на пути к победе, героиня, прекрасная ария, сопрано, царская дочь; да и царь-то был Иван Грозный...
Телепортация
Главные герои телесериала именовались Легавый, Чалый и Фартовый; в качестве положительного персонажа, спасающего героя, фигурировал Берия. Возможно, нас хотели телепортировать в некую параллельную измышленную реальность, но фокус не удался, мы переключились на другой канал, на истории из жизни животных.
Беркут
У беркута нет имени. Прикасаться к нему имеет право только хозяин. Почти весь день беркут проводит в закрывающем глаза клобуке. Осенью проходят соревнования беркутчи. Хозяин наряжается: чапан из полубархата, шапка с пером от злых духов. Беркута до сезона охоты надо приучить к движению скачки, к шагу низкорослой терпеливой монгольской лошадки. В советское время соколиная охота была запрещена.
Кроме собственно охоты проходят и соревнования хозяев беркутов, беркутчи: надо на скаку отобрать у противника волчью шкуру: кто отпустил, тот проиграл.
Это дочингизхановский вид спорта, о котором знают степь и пустыня.
Светящийся
Елена Игнатова дружила с автором книги «Один в океане» Славой Куриловым, легендарным пловцом-эмигрантом, бежавшим из страны вплавь. «Выйдя на берег, — писал он, — я светился: был облеплен фосфоресцирующим планктоном».
Похоронен Курилов в Иерусалиме на кладбище темплеров (немецкая секта XIX века, чьи адепты стремились на Святую Землю).
Чистилище
Чистилище, где ты бродишь в моих воплотившихся в текст снах (невредим, невидим), но я не могу позвонить тебе, мобильник разряжен, телефонная книжка из далекого прошлого (а порой и вовсе чужая), и не определить, где ты, который час, но странны на часах строчки, непонятно, половина чего, да тут всё не так, чтобы войти в грузовой лифт, надо пододвинуть к его высокому порожку старый колченогий канцелярский стол с тумбочкой, маленькая толпа, ждущая лифта, все же вежлива, но на каком этаже квартира 306, не знает никто, не все двери закрыты, но и не все открываются, впрочем, на первом этаже входят в окна, отдирая полусгнившие доски, которыми они заколочены.
По бульварам движутся люди, возможно, у них праздник или выходной, у некоторых дети, у других собаки, но всё чуть-чуть ненастоящее, не то что движутся, а как-то слоняются, толкутся, имитируя жизни, да у нас вся страна — чистилище, и не одно десятилетие, сокол мой.
В зашарпанном новом доме гостиница, в одном из незакрытых, двери настежь, гостиничных номеров живут покойная матушка с отчимом, но они на данный момент отсутствуют, они вышли, зато в их номере нахожу свою записную книжку (почерк мелкий, неразборчивый, обычный) и зеленый футляр для очков, футляр пуст, невооруженным глазом могу я прочитать только надпись на крышке футляра, — Chrisom Diana, — что заставляет меня вспомнить о Хризостоме и подумать: да неужели город на Урале назвали в его честь Златоуст?
Обувь
Святителю Иоанну Максимовичу (ныне причисленному к лику святых Иоанну Шанхайскому и Сан-Францисскому, некогда перевезшему из Китая через острова возле Австралии в Сан-Франциско русских беженцев, в их числе моего двоюродного деда Константина Захарова) начальство сделало замечание за то, что ходит он босой: «У вас всегда должна быть обувь».
В следующий раз начальство, встретив его на улице (опять босого), с удивлением увидело в руках у него ботинки; на вопрос — что это? Иоанн Шанхайский отвечал:
— Вы же сказали, что у меня всегда должна быть обувь.
Два прозвища
У скрипача Хейфеца и виолончелиста Пятигорского были парные прозвища: доктор Нет и господин Да.
Искатель
Тощий высокий голодного вида бедно одетый парень в старых джинсах наклеивает на Невском на фонари и рекламные щиты объявления с телефоном своим (контактным) и крупным текстом: «Ищу мужчину».
Когти
Коту подстригли когти, некоторое время он не ощущал себя животным и был уязвлен.
Издалека
Люди ползали по крышам, и издалека кошке было не разобрать, мыши они или коты.
Трио
— Ар-руэ, Ар-руэ, — говаривала кошка, не знавшая о третьем имени Вольтера.
— Ар-рау, Ар-рау, — подхватывала вторая кошка, ведать не ведавшая о великом чилийском пианисте.
— Мурр, Мурр, — произносил кот, понятия не имевший о знаменитом коте Гофмана.
Поклонник
У Елизаветы Захаровой был поклонник, с юности до старости — с 20-х, что ли, годов — посылавший ей цветы в разные города и веси с проводниками поездов дальнего следования. Последний его букет получила она в Ленинграде на перроне Московского вокзала в 65 лет.
Два неба
Неба было два: грузовое, полное тяжелых грозовых или дождевых туч, и легковое с редкими легкими медленными облаками.
В день
Константин Алексеевич Афанасьев, филолог, переводчик, друг Сергея Петрова, родился в день мессинского землетрясения. А Владимир Федорович Марков — в день гибели «Титаника»; его ученик Михаил Копылков сказал: «Чья-то душа всплыла».
Одно слово
У Любы Феодориди гостит греческая семья, матушка — русская гречанка, отец из Греции, мальчик восьмилетний по имени Христофор знает только одно слово по-русски: «евхаристия».
Из интервью с Леоновым
Ну, здесь они нахомутали.
Алексей ЛеоновВ своем интервью известной даме-тележурналистке космонавт Алексей Леонов сказал:
— Когда идешь над Землей с темной ее стороны на светлую — это Кент, а когда со светлой на темную — это Рерих. Космос — это Кент и Рерих.
И еще сказал он:
— Самая темная поверхность воды на Земле — Черное море.
Недостаток
— У наших людей есть один общий недостаток. У них короткие мозги.
— Разве у мозгов есть длина? Ведь это не волосы. Ты действительно имеешь в виду длину?
— Не то чтобы длину, скорее протяженность...
— Нет, — вступил в разговор доселе не произнесший ни слова, — длина тоже есть. Вы забыли поговорку: волос долог, ум короток.
Воцарилось недолгое молчание.
Кукольный театр цесаревича
Кукольный театр цесаревича Алексея найден. Он был спрятан в музее кукол Образцова, не уничтожен, затерян среди других кукол, а теперь должен вернуться в музей Царского Села.
Персонажи с портретным сходством: мать царица, батюшка царь, нянька, кухарка, принцесса, некто в черной маске, в бауте. Бабушка заказала для царственного внука театрик парижскому кукольнику. И все гадали: кто в маске? Царевич хотел маску отколупнуть, увидеть лицо, но маска не снималась. Он боялся этого в маске, но виду не подавал, не должен быть трусом царский сын. А теперь искусствоведы гадали: кто же это, кто?
Царевичу однажды (никто не знал) отснилось: он кто угодно, джокер, то сибиряк Григорий, то старый фельдшер Николай, учитель-гувернер-географ, а на самом деле все неправда, и это маски, на самом деле он черт как в вертепе ярмарочном балаганном, и он лишний.
Пастухи
Самый любимый мой фильм за последние 20 лет — «Тюльпан» Дворцевого. Впрочем, я люблю и короткометражку «Счастье» того же автора. Кроме всего прочего, мне мило, что это фильмы о пастухах, героях Ветхого и Нового Заветов. «Стада принадлежат не тебе, — говорит монгольская пословица, — они принадлежат палящему солнцу и холодному ветру». В одном из документальных фильмов об оленеводах отец говорит мальчику: «Пойди покорми костер». Герои, пасущие стада, идут по кромке рая. Один из моих самых любимых святых, Спиридон Тримифунтский, легко узнаваем на иконах: в иконографии на голове у него корзинка, плетеная пастушья шляпа; а на своем пастушеском плаще переплыл он море.
Киприот святитель Спиридон остановился однажды на ночлег в пути, ариане убили его коней, отсекли коням головы; святитель велел вознице приставить конские головы к туловищам и стал усердно молиться, и вскоре ожили лошади, но то ли торопился возница, то ли ночь была темна, но головы он перепутал, и доехали они со Спиридоном до места на белой лошади с черной головою и вороной белоглавой. Способность воскрешать (скрываемая им) Спиридону Тримифунскому была присуща, он воскресил младенца с его упавшей замертво от счастья матушкой, дочь его Ирина говорила с ним из свежей могилы своей. На Руси день Солнцеворота, поворота с зимы на лето, совпадающий с памятью святителя, называли издревле «Спиридоновым поворотом».
Московская улочка Спиридоновка получила имечко по церкви Спиридона Тримифунтского на Козьем Болоте, построенной в 1627 году и разобранной в 1930-м. В детстве с бабушкой и с матушкой живала я в особняке Рябушинского на Спиридоновке, где останавливались мы у Людмилы Ильиничны Толстой, и с ее половины особняка ходили в гости на половину, где обитала семья Максима Горького.
И страшно мне, что после нападения морозной ночью 90-х ограбленный и смертельно раненый фотограф Борис Смелов добрался, дополз до порога василеостровской часовни святителя Спиридона Тримифунского, чтобы уснуть навеки у ее врат.
Полярник
Зимой в Санкт-Петербурге чувствовалось дыхание полярной ночи: затемно уходили на работу, затемно возвращались. Когда жили мы у Лесотехнической академии и вечерами в парке ходили на лыжах, дважды школьницей видела я северное сияние. А белые ночи, конечно же, были приветом от полярного дня.
Ничто так не приучает человека к мысли о смерти, как полярные широты, длящийся полгода полярный день, длящаяся полгода полярная ночь. Недалеко от нас жил один полярник. Он был похож на привидение. Поговаривали, что у него две жены (для полярного дня и для полярной ночи) и любовница (для любых других широт и долгот мира). Когда он здоровался (не всегда, не во все дни года), я побаивалась его призрачного взора. Граница между внутренним и внешним человеком была в нем стерта, как случается это у праведников, гениев, одержимых и безумцев.
Крестница
Олимпиада Васильевна Владимирская, наша соседка по Комарову, жила в своем белом каменном доме (чем-то неуловимо напоминавшем дома юга) круглый год. Некогда работала она с крупнейшим невропатологом и генетиком Сергеем Николаевичем Давиденковым, была знакома и с дедом моим, патофизиологом Всеволодом Семеновичем Галкиным. Дедом, как многие знакомые с ним дамы, была очарована. «Я однажды Сергею Николаевичу, пожаловавшемуся на головную боль, сказала, что у меня голова не болит никогда. Душенька, отвечал он мне, да чему же у вас там болеть?» Отчим мой, великий нейрохирург Самотокин, весьма разборчивый в своих отношениях с людьми и отчасти, как блестящий диагност, видевший их насквозь, Олимпиаду Васильевну уважал. Я застала ее старой, грузной, она управляла домом, детьми, внуками, невесткой властной рукою Вассы Железновой или одной из женщин Нискавуори. Был момент в ее жизни с предвоенного времени и в военное, когда муж ее (и ее одноклассник) не работал (с эстонской фамилией Ирдт, прибалтийским вариантом немецкого Гердт, лучше ему было сидеть в тишине дома), а ей приходилось держать всю семью, включая старую матушку и няню; да и овдовела она рано, едва успели отстроиться и поселиться в послевоенных Келломяках, Комарове, то есть. После первой блокадной зимы удалось ей вывезти семейство в эвакуацию на Северный Кавказ, да не вполне удачно, там высадился немецкий десант.
В девяностые годы создались у нее сложности с пенсией: была она прописана в Гаграх, где имелась квартира, то ли купленная, то ли вымененная, туда ездили греться летом; поэтому пенсии она не получала, продуктовых карточек (в девяностые звались они «талонами») ей не выдавали, шла грузино-абхазская война, Гагры бомбили. Младшая невестка, всеми любимая маленькая женщина по имени Любовь, рано овдовевшая, как свекровь, держала кур и кроликов, возилась в огороде с картошкой, овощами, клубникою. Потом с большой оказией квартиру в Гаграх продали за гроши.
Дети Олимпиады Васильевны, подобно ей самой, носили ее девичью фамилию, именовались Владимирскими, из осторожности отмежевавшись от звукосочетания Ирдт.
Она мало кому рассказывала о своей семье, о младенчестве своем, в советские годы, особенно с двадцатых по шестидесятые, небезопасные сведения сии держались в тайне. Кажется, был у нее брат, погибший в белой армии.
Дед ее по отцовской линии служил управляющим в петербургском дворце принца Ольденбургского (где ныне располагается Институт культуры, бывший библиотечный, Институт культуры и отдыха, как мухинские студенты говаривали), она была внучка дворецкого; а отец ее помогал принцу налаживать в Абхазии работу учебных заведений. У Александра Петровича Ольденбургского, правнука Павла I, была мечта: создать в Гаграх, самом теплом месте Российской империи, климатический курорт, не уступавший курортам Лазурного берега, русскую Ниццу. В Гаграх осушали болота, высаживая с этой целью пьющие в огромных количествах воду эвкалипты, в чаировом парке сажали пальмы (финиковые с Канар, веерные из Китая, кокосовые из Южной Америки), американские магнолии, гималайские кедры, мексиканские агавы, лимонные и апельсиновые деревья и иже с ними. По аллеям разгуливали павлины, по глади вод плавали лебеди, парковые водоемы представляли собой самоновейшие гидротехнические сооружения, чередующиеся малые и большие пруды, соединенные ручейками. Рай, да и только.
А напротив парка стоял служивший потом десятилетиями эмблемой города блистательный ресторан «Гагрипш», волшебный дом с огромным часовым циферблатом над входом. Дом, построенный в Норвегии из норвежской сосны без единого гвоздя, был куплен принцем на Всемирной выставке в Париже и привезен в разобранном виде в Гагру (или все же — в Гагры?).
И в этом доме, в «Гагрипше», под часами, и родилась малютка, названная торжественным именем Олимпиада; крестным ее стал принц Ольденбургский.
А крестной — красавица Зинаида Юсупова, княгиня Сумарокова-Эльстон, подарившая крестнице великолепную заказную золотую брошь с двумя липовыми листочками (уменьшительное от Олимпиады — Липочка) и бриллиантами, а на один из дней рождений то ли годовалой, то ли двухлетней девчушки — медведя больше ее ростом.
Брошь Олимпиада Васильевна потом снесла в Торгсин.
В последние два года жизни Олимпиады Васильевны ухаживавшая за ней невестка Люба с подругою Ириной Жуковой читали ей вслух по ее просьбе воспоминания Феликса Юсупова, сына ее крестной.
Сон Мурина
Во сне Мурина (который он только что мне рассказал) я рассказываю ему свой новый фантастический рассказ.
В этом моем рассказе из муринского сна к Андропову приходит человек в синем комбинезоне и признается, что он — убийца Кеннеди; подробно рассказывает, как он это сделал. Андропов вызывает бывшего дантиста Сталина Георгия Ивановича Иващенко, чтобы тот пришедшего допросил, при этом допрашиваемый заявляет: «Я не простой смертный, а великий тайный разведчик».
Иващенко, бывший в последние годы службы заведующим челюстно-лицевой клиникой Военно-медицинской академии появляется с моим отчимом, нейрохирургом Самотокиным, чья клиника находилась по соседству.
Тут Мурин, сделав отступление от сна, рассказывает, что Иващенко (натуральным образом) был автором объемного атласа пулевых ранений, иллюстрациями в котором служили двести восковых голов с пулевыми отверстиями: тут пуля вошла, тут вышла. Когда Иващенко, демобилизовавшись, уехал в Грузию (а несмотря на фамилию, был он грузин), в его доме в Тбилиси на втором этаже в специальном зале стояли эти 200 раненых голов из воска.
В следующем за отступлением эпизоде сна в ходе изобретательного допроса неизвестный в комбинезоне сознается, что он лектор-международник из Калуги, недавно бежавший из дурдома.
На этом мой рассказ (пересказываемый мною во сне Мурину) заканчивается, сон завершается, сновидец просыпается в скульптурной мастерской жены своей, где с полок смотрят на него гипсовые головы разных людей, прекрасные портреты ее руки.
Пудель
Костя Афанасьев, когда был маленький, сочинил стихотворение:
Мама стирала в ванной белье. Пудель сидел и смотрел на нее. Мама устала, пошла отдыхать. Пудель взял мыло и начал стирать.Жакушка
Жакушка, Машин пес, любил привлекать к себе внимание, если хозяйка отвлекалась на телефонный разговор, гостей, телепередачу и т. п.: он рвал газеты, ел тапочки, нападал на свежеиспеченный для гостей пирог, ронял цветы. Костя звал его «Геростратушка ты наш».
Шишки
Валентине Соловьевой дети из художественной школы, ее воспитанники, подарили две кедровые шишки, огромные, высотой сантиметров по восемнадцать, гладкие, прямо-таки мраморные. Ночью в комнате раздался натуральный взрыв, словно ракета взорвалась. Валентина вскочила, зажгла свет, обошла комнату; ничего; наконец, увидела она: это шишки раскрылись.
Родственники и свойственники
Всю жизнь пытаюсь я выяснить, кто родственники, а кто свойственники. По одной из формулировок родство всегда по нисходящей линии древа, свойство — по браку и по линиям боковым. Но вот, скажем, родная сестра моих родных внучек, дочь невестки моей от первого брака, мне родственница или свойственница?
Разбираясь в степенях родства, говорили мы с моей троюродной тетушкой Коринною. Одна из тетушек деда моего Галкина Всеволода Семеновича вышла замуж за человека по фамилии Жданов, мордвина; девичья фамилия Зои Петровны, матушки Коринны Претро, была Жданова. В конце концов разговор перешел на генетическую, так сказать, тему, на личные свойства, передающиеся в семье из поколения в поколение.
И говорила Коринна:
— У Ждановых внешность полярная, красавцы и красавицы — или некрасивые вовсе. И рост — то совсем небольшой, то очень высокие. Матушка моя вышла красотка небольшого роста.
При крещении высокой красивой чернобровой зеленоглазой блондинке Коринне дано было редкое имя Кирилла.
И говорила Кирилла:
— Ждановы все своевольные, спорщики, любят на своем до последнего настоять. А Галкины кроткие.
И почему-то стало казаться мне, что иногда свойства свойственников (подобно детским поветриям кори, краснухи или ветрянки) неведомо каким ветром касаются нас и переходят к нам хотя бы на время.
Священный лес Орсини
Хозяин и автор «Священного леса» Бомарсо — горбатый сухорукий герцог Орсини, убивший в порыве ревности брата. Он читал «Неистового Роланда», служил в папской армии, был в плену во Фландрии. Архитектором, воплотившим в жизнь его невероятный парк, был, кажется, Лигорио. В парке стояли гигантские скульптуры: «Слон и легионер», «Схватка гигантов», «Падающий дом», «Дракон», «Нимфа», «Орк». Увидев фотографию огромной головы Орка, вспоминаешь бой Руслана с Головой. Есть версия, что темы скульптору и архитектору задал Орсини не случайно, то были его сны, фантазии, бред, философемы, кошмары, навязчивые идеи. Об этом парке в окрестностях Витербо написан роман Мануэля Мухики Лайнеца «Бомарсо». А по роману современный аргентинский композитор Альберто Хинастера написал оперу «Бомарсо», в которой в одной из сцен скульптуры начинают петь; и поют они согласные... Я мечтаю это услышать, да не ставит оперу никто.
На привозе
Замечательная переводчица Андрес рассказывала, как пошла с подругой в Одессе на рынок рыбу покупать, и подруга разглядывала рыбину с великим пристрастием, и глаза на прозрачность проверяла, и жабры оттягивала, и хвост инспектировала, не сухой ли. Потерявшая терпение торговка, наконец, голос подала:
— Мадам, вы ей еще градусник поставьте.
Муравейник
Мальчики гуляют в комаровском Захарьевском лесу. Старший начинает палкой раскапывать муравейник. Средний кричит:
— Прекрати, а то в глаз дам! Вот если бы какой-нибудь гуманоид так в человечник забрался?!
Площадь
Художник Р. рассказывал, как в 30-е годы оформляли к празднику Красную площадь.
— Выбегают спортсмены, все в красных майках, что-то несут. Раз — и развернули, и всю площадь зеленым ковром закрыли, поставили ворота, убежали, выбежали футболисты и стали играть. «Торпедо» — «Динамо».
Собеседник его настроен был скептически:
— Вот-вот, раскулачивали, расстреливали, самых толковых, деловых и работящих в расход пустили, работать разучились, как чевенгурцы, зато по зрелищной части, по игрищам, по самодеятельности мы теперь впереди планеты всей. Так и хочется сказать, как классик выразился: «Полно ролю-то играть!»
На что художник ответил:
— Впереди планеты всей теперь, как и прежде, карнавал из Рио.
Стрижки
— Тебе волосы под ноль подстригут, — сказала я Саше.
— Аннулируют? — спросил он.
А маленький Костя никак не мог запомнить название прически «под канадку» и говорил:
— Я подстрижен под каналью.
Пакетик
Молодого человека в аэропорту уговорили перевезти маленький пакетик марихуаны. Ему было не по себе. Когда пил он кофий, к нему подошел некто в длинном темном пальто, сказал полушепотом: «Никогда больше этого не делай» — и растворился в толпе, словно померещился. Кто это был? Сотрудник тайный, читающий мысли? Материализовавшийся внутренний голос? Городской сумасшедший? Экстрасенс-доброхот? Молодой человек не стал разбираться в смысле притчи, в которой и сам участвовал, раздраконил злополучный пакетик, спустил его в туалет и едва успокоился, как старуха с баулом и узлом, похожая на цыганку, улыбнувшись, обратилась к нему со словами: «Только дай злу ноготок, красавчик, оно тебе по самое дальше некуда отхватит». Он не успел дрогнуть, пора было улетать, он и улетел, и ни разу с того момента не прозвучала в жизни его наркотическая тема.
Похожа
— Ты похожа на обеих моих бабушек, которые не похожи друг на друга.
Зеленый ночник
В доме детства, который почти у всех покинут и невозвратен, был у меня зеленый ночник, маленький, меньше ладошки, сделанный из мелкого старинного бронзового подсвечника с абажуром шелковым особого изумрудно-малахитового волшебного цвета. Он погружал мою комнатушку в сказочный полумрак, полный теней, изгонял страхи перед большой темнотою и недобрым неведомым, навевал хорошие сны или отводил дурные. Возле ночника стоял у меня в полной готовности чемоданчик, дареный, кожано-картонный, и я всё собирала кукольные и свои вещички, постоянно при мне он стоял, словно я готова была ежеминутно убыть в Воркуту, хотя ничего о ней не знала, даже название ее было мне неведомо.
Потом, много позже, в юности, в одной из Комаровских дач — как выяснилось десять лет спустя, в доме Клюзнера — увидела я вечером горящую зеленую лампу цвета ночника моего детства, и луч ее зеленый утешил и подбодрил меня на долгие годы, а, может, и навсегда.
Генералу пишут все
«Полковнику никто не пишет»
Габриэль Гарсиа МаркесГенерал с женою оказались последними и единственными жильцами расселяемого дома на углу С-ой площади и переулка Е-ва. Они не хотели переезжать в новый спальный район.
Ежеутренне поднимаясь на свой шестой этаж видел он, что доски, которыми заколачивал он двери расселенных пустых квартир, опять отодраны. Но утром он спешил на работу, спускался мимо дразнивших его распахнутых дверей, захлопывая их и ругаясь.
Вечером, отдохнув после рабочего дня (а идти на шестой этаж надо было пешедралом, лифт давно отключили), он шел заколачивать двери, — даже в дни, бывшие канунами операционных, когда надо беречь руки и плотничать не с руки.
Ночами дом оживал, кто-то бегал, кричал, мелькали в окнах огоньки, фонарика ли, свеч, звенели бутылки, шептались, вели разговоры, пели, вопили, носились крысы и охотившиеся на них бесстрашнейшие из бездомных кошек.
Однажды он заколотил дверь на третьем, а когда вбил последний гвоздь, из глубины квартиры подбежали, судя по голосам, трое, и через заколоченную дверь вступили с ним в разговор: да мы тебя, тварь и т. д., что ж ты и т. п., людям кайф ломаешь, мент поганый?
— Я генерал-майор медицинской службы, какой я тебе мент, Лавра Вяземская?
Когда спал он мертвым сном, устав, стаивала генеральша у входной двери, вооружившись пестиком медным и кухонным ножом, слушала ночные голоса лестничные, угрозы, ворчанье, кого-то приносило и на их площадку, а она сторожила, дежурила, они могли дверь открыть, от вора нет запора, расправиться со спящими последними квартирантами. Телефоны в призрачном доме не работали, но — то был ее козырь! — их телефон работал, один из бывших пациентов мужа протащил им через два двора пиратскую «воздушку», она могла позвонить в милицию.
В один из вечеров заполыхало в глубине квартиры четвертого этажа с распахнутыми настежь дверьми — костерком, что ли, грелись? — и прыгала-скакала маленькая ненастоящая фигурка в отблесках пламени, огневушка-поскакушка, но привидений после частых командировок в Афганистан, Чернобыль и Чечню он не боялся. Он вызвал пожарных по своей заповедной «воздушке», примчались мигом, потушили быстро.
Ему казалось унизительным, что его, еще занимающего свой высокий пост медицинского генерала, хотят выкинуть, как собаку, из района молодости и зрелости (дети родились тут, выросли, ну, минус два года в Германии, как раз когда рушили Берлинскую стену, стреляли, жена посадила детей в простенке между окнами, не велела вставать) в какой-нибудь мутный окраинный новодельный квартал; он отказывался получать в эти кварталы смотровые бумаги.
Ему писали чиновники из разных инстанций, контор, чиновничьих гнезд, писали выздоровевшие больные и обращающиеся за помощью знакомые и незнакомые, друзья, чтобы его поддержать, знакомые бывших пациентов, желающие ему помочь, редакции медицинских журналов, вылеченные им взрослые и родители вылеченных им детей из разных городов страны и соседних стран, бывших некогда районами одной его страны, он получал уведомления, грозные отказы, отписки, увещевания, поздравления, корректуры статей, телеграммы, открытки, книги, «кто где будет проживать, решит горком», «посетите семинар жилищного отдела по адаптации жильцов к новому жилью», «пройдите анкетирование по согласованию требований жильцов и жилищного отдела», «оформите права, совершите попытку выкупа в бюро по приватизации», «мы стремимся обеспечить жильцов квартирами, в которых будет столько же окон, сколько в расселяемой бывшей их жилплощади», «вы спасли ему жизнь, доктор». То был небывалый внезапный почтовый бум. Генералу писали все. Компьютеризация только начиналась, никаких мейлов, конвертированные тексты: в почтовых конвертах. Почтальон Валя боялась носить письма в их одичалый пустой двор, в их пустой дом, где шастали по бывшим квартирам темные тени, она плакала, но шла, «я ведь на работе».
Зимой в иных квартирах разных этажей некто распахивал окна настежь, комнаты превращались в сугубо снежные, он закрывал окна.
Наконец, им предложили смотровой на Фонтанке, неподалеку. Жена, сложив вещи, принесла ему собранную в мешок корреспонденцию за последний год с вопросом — что с этим делать? У него было искушение пойти в одну из квартир, сложить послания информационной волны, всю бумажную пену, в ванну, поджечь и смотреть в огонь; но искушению он не поддался. Он унес мешок в мусорный контейнер одного из жилых домов соседнего квартала.
Новая квартирка под крышею узкого дома на набережной без лифта — тоже на шестом этаже — была маленькая, ничего, думал он, мы поместимся, у детей свои семьи, нас двое. Зато в окнах опять маячили петербургские крыши, просторы облаков, крылья городских птиц, а они с женой к старости словно стали соседями себя молодых.
Клички животных
Предпоследнего котенка из своих глубоко породистых по кличке Принцесс Полетт Малевская продала, остался у нее детям в утешение Последний Петлин. У известных мне почти беспородных имена были попроще, впрочем, не всегда; пушистую Феню на самом деле звали Фэнь-шуй, а полное имя купчинского котенка Хери было Орехово-Зуево. Никогда не забуду я брянского голосистого одноглазого кота, которого звали Кривая Тревога, а также парочку местных, Мардария и Музрика (так и именовал его маленький хозяин, это не опечатка). У любимого моего музыканта Гленна Гульда в детстве обитали золотые рыбки с именами Бах, Бетховен, Шопен и Гайдн, собаки Синдбад, Банко, Сэр Николсон Гарлохидский и маленькая птичка Моцарт. Я могу продолжать; можете продолжить и вы.
Мнение
Прочтя стихи мои, поднял он на меня глаза и сказал:
— Ты не говоришь, ты проговариваешься.
Писатели
«Писатели, — говорил Габриэль Гарсиа Маркес, — делятся на тех, которые пишут, и тех, которые не пишут. Те, которые не пишут, не сходят со страниц газет и журналов и с экрана телевизора, дают интервью, выступают, о них всё всем известно. Те, которые пишут, пребывают в одиночестве и тишине, они заняты своим делом, и о них никто ничего не знает».
Читатели
Первую мою книгу стихов под названием «Горожанка» с особым удовольствием читали переводчики. «Горожанка» по-итальянски «читадинка», — сказал один из них. — Я совершенно этой вашей книгой очарован, всё время ее читаю, так что вышел у меня согласно выражению жившего в осьмнадцатом веке князя Куракина, помешанного на Италии и только что прибывшего из Флоренции, «инаморат в читадинку». Письма читателей на мое имя приходили на адрес «Лениздата», где книжка вышла; раньше случалось мне получать письма читателей в редакции журнала «Аврора», где печатались подборки стихов.
Тогда работала я дизайнером в конструкторском бюро ЛИТМО, встретились мы там с моей одноклассницей из 171-й школы Екатериной Муравьевой. В одну из своих командировок на космодром Катя взяла с собой только что вышедшую «Горожанку». Библиотеки на космодроме не было, все по очереди стали читать привезенную из Ленинграда новую книгу стихов; в конце концов Екатерине сказали — ты там в Ленинграде себе еще одну найдешь, а эта пусть останется на Байконуре.
Совершенно удивительное письмо получила я о книге «Святки» из Москвы от писателя Максима Коробейникова (бывшего одним из победоносных старлеев Великой Отечественной, чьи рассказы о войне, подаренные им мне и прочитанные мной позже, кажутся мне одними из лучших текстов военной прозы), психолога, генерала в отставке. Он разбирал стихотворения с блеском, не часто встречавшимся у литературоведов и критиков. А письмо его начиналось со слов: «Я сам с Вятки»... Так ведь и я с Вятки! воскликнула я, читая его письмо. Родилась я в Кирове, в бывшей Вятке, куда была эвакуирована Военно-медицинская академия, где ее и окончил мой отец.
Потом волею судеб стала я писать и прозу, и странная закономерность читательского поведения открылась мне: читавшие стихи писали письма, а читающие прозу стремились засвидетельствовать лично, они звонили в дверь и развязывали веревочку на дачной комаровской калитке.
Хотя, конечно, и письма присутствовали, и телефонные звонки, то была эпоха, предшествовавшая компьютерной переписке.
Женщина в летах, позвонившая по телефону (она упросила, чтобы в редакции журнала «Нева» дали ей мой телефонный номер), очень взволнованная, только что прочла в «Неве» роман «Сказки для сумасшедших». «Моя дочь тоже училась в Мухинском, — сказала она, — и давно живет за границей, я ей „Неву“ уже послала. И знаете, что я сделала, когда прочла эту вашу вещь? Я отправилась на Соляной переулок, поднялась на галерею Молодежного зала и смотрела, есть ли на полу описанный вами прямоугольник, помечавший подземную комнату Спящей, а потом спустилась в зал и искала эту метку на полу».
А прочитавший первую прозаическую повесть «Ночные любимцы», тоже опубликованную в «Неве», молодой человек из маленького сибирского городка написал мне: «Вы вернули мне чувство игры, утерянное мной в жизни». Он прислал мне открытку с неизвестной мне картиною Ватто «Комедианты», с которою ассоциировался у него текст «Ночных любимцев».
Читатель из Подмосковья, прочтя «Архипелаг Святого Петра», тоже прислал мне открытку с замечательной старинной обманкою. «Я редко бываю в Ленинграде, — писал он, — приезжаю очень ненадолго, но, может быть, Вы найдете для меня час, мне бы хотелось угостить Вас каким-нибудь замечательным вином».
Долгое время угостить меня вином хотели то одни читатели, то другие, как в просторечии говаривали, «мне поставить»; мне уж стало на ум приходить — уж не кроется ли в текстах моих какой-нибудь потаенный тест на алкоголизм? Терялась я в догадках, пока идея эта не осуществилась, материализовалась, наконец: читательница с Дальнего Востока прислала мне по случаю с нарочным бутылку с названием «Семь сибирских трав». И стихло всё.
Должна заметить, что писавшие письма читатели мои стилисты были отменные, слог их писем удивлял меня, то ли преподавали литературу в школах долгое время великолепно, то ли были они как на подбор талантливые люди.
Не помню, кто переслал мне отрывок сочинения школьника из Москвы, избравшего темой сочинения своего один из моих романов: он разбирал одно из предложений длиною чуть ли не в полстраницы, — чего я и сама-то не заметила...
Сын моей подруги, переводчицы Веры Р., Никита, летел в Москву, программист, компьютерный юноша, участник встреч в Сколкове; сосед его сказал спутнику своему, что нашел, наконец, современного писателя, которого читает постоянно, назвал мою фамилию, и Никита, отвернувшись к иллюминатору, с интересом (до Москвы, до посадки) слушал, как пересказывает своими словами человек книги, которые Никита знал и читал сам.
О сыне другой моей подруги, не желавшем читать вообще, мать рассказала: «Я дала ему почитать твою прозу. Можешь себе представить, через три дня он принес мне книжку твою и положил на стол». — «И что это значит?» — спросила я. — «Раньше, что я ему ни предлагала, вбегал он в мою комнату через полчаса, швырял книгу в дальний угол и кричал: „Отстой!“»
Одна встреча с читателем произошла при, как сказали бы в старые времена, роковых обстоятельствах. Мой младший сын, тяжелый аутист, в переходном возрасте впал в натуральное буйство. Мы долго держали его дома, малоконтактного, боящегося людей, симбиотически связанного со мною по диагнозу (у аутистов существует так называемый «симбиоз с матерью»; когда хотела я выйти из дома, он бился головой о дверь, один раз даже до легкого сотрясения мозга), терпели драки, битье посуды, киданье на пол тяжеленных книжных шкафов в полный рост. Но когда в форточки полетели кошки — с шестого этажа (белый кот во двор, в снег, потом лечили ему лапу и вылечили, возили в ветеринарную клинику при цирке; а маленькая любимая ласковая кощонка Дуська на асфальт улицы, по счастью, не под машину и не насмерть, мы видели ее бегущей вдоль дома противоположной стороны) — я заперла буяна, побежала искать животное, и снизу, со двора, по мобильнику вызвала психиатрическую службу, чтобы отвести его в районную больницу на Обводный канал, из окон которой виден был Патриарший сад Александро-Невской лавры и семинарии. Едва вернулась я домой, набегавшись по подвалам и дворам, запыхавшись после напрасных поисков, как приехал врач с санитарами. Врач, высокий красивый человек лет сорока, быстро заполнил свои бумаги и ждал: я одевала присмиревшего пациента, руки у меня дрожали, я долго шнуровала его ботинки. Тут доктору попались на глаза только что вышедшие «Ночные любимцы». «Так вы Галкина? — спросил он. — Это вы написали „Архипелаг Святого Петра“? Нет ли у вас дома экземпляра? А то у нас с друзьями на две семьи одна книга». — «Увы, нет, — отвечала я, — у меня у самой одна. Если хотите, я подарю вам эту, новую». — «Вы ее подпишете?» — «Извините, не смогу, — отвечала я, — у меня руки дрожат».
Однажды, в те времена, когда я еще не писала прозы, а вторая книга стихов никак выйти не могла, шла я по Невскому в глубокой грусти; безденежье, одиночество, подъемы в седьмом часу утра, долгие поездки на службу, судьба разведенки с маленьким ребенком на руках — старшему моему тогда было года два — все это внезапно достало меня в пути. И встретился мне мой однокурсник, Сима Островский, Сима было прозвище, звали его Юлиан, он был джазмен, лучший тромбонист города, в институте мы представляли его знакомым: это Сима, он у нас саксофонист; и он поправлял нас, это вы все сексофонисты, у меня тромбон. «Галкина, ты ли это? Куда грядешь в таком миноре?» Я объяснила — вот книжка не выходит и т. д. «Выйдет, — сказал он, — куда она денется. Не тушуйся. Я твоих книг самый преданный и верный поклонник и почитатель, верен до гроба, к тому же чист, как первый снег, потому как ни одной твоей строчки не читал и не собираюсь. Лучше я тебе сыграю. Ты глянь, какую я только что флейту пикколо прикупил!» Мы стояли на углу Невского и Марата, в те годы поведение горожан вольностями не отличалось, никто не играл на скрипке либо аккордеоне в подземном переходе и у метро, прохожие смотрели на нас почти осуждающе, звучала маленькая серебристая волшебная флейта, и когда музыка стихла, вся моя печаль растворилась в сыром городском воздухе.
Певица Ольга Петрусенко, первая исполнительница, соловушко, вокального цикла Наталии Волковой, любимой ученицы Бориса Тищенко, на мои стихи, переехала в Минск, вернулась в Белоруссию, куда увез ее молодой муж Михаил Новоселов. В 2009 он написал мне письмо. Хотя уже царила эра эмейлов, письмо было старых традиций, в почтовом конверте: «...уж простите, что мучаю своим мелким почерком, давно бумажных писем не отправлял. Но призыв Ваш — „Пишите письма“ — воспринят был как директива, сижу, пишу». «Так получилось, — писал Новоселов, — что вместе с женой, Олей Петрусенко, я привез из Питера и Ваши книги. Замечательное оказалось приданое! Ваши книги — это то, чем хочется поделиться. А теперь хочется поделиться с Вами впечатлениями читателей — банковских служащих Беларуси (география обширная, благодаря межбанковской сети Вас читают в Гомеле и Бресте, в Гродно, Новогрудке и Кобрине, но, конечно, больше всего в Минске). Мы с Олей немного поспорили — насколько Вам могут быть интересны наивные и непрофессиональные отзывы: прилагаю на пробу три письма. Это не критика, это благодарность. (...) О книгах Ваших, — писал он, — можно спорить долго, они не отпускают (не дай Бог начать чтение вечером — как в детстве, до утра читать придется!) — и после прочтения тоже не отпускают».
Молодая женщина и молодой человек, «банковские клерки» (как называл свою компанию Новоселов) из двух белорусских городов обсуждали «повествование в историях» — «Ошибки рыб». То была беседа в духе появившейся в конце девятнадцатого столетия и во времена Серебряного века импрессионистической критики, ряд свободных ассоциаций на избранную тему. Как всегда, читатели мои замечательно владели стилем, литературу, должно быть, преподавали им отменно, да и собственная одаренность налицо. Одному из собеседников — или то была собеседница? к сожалению, почтовый ящик тех времен из прежнего переносного компьютера был мной утерян по техническим причинам, я не могу процитировать их переписку, но общий смысл ее передаю правильно — «Ошибки рыб» многоголосицей своей напоминали звуки времен года, плеск волны, пение птиц, завывания ветра, шум и шорох осенней листвы, стаккато капели, тишину снега; тогда как второму человеку их диалога полифония повествования казалась городской симфонией в духе Пендерецкого, вот колеса и моторы машин, звон редкого трамвая, гудок, лязг стройки, звуки музыки из одной из форточек, вскрик ссоры, лай собак, ночной кошачий концерт, гудящая под порывами норд-оста жесть городских крыш, а вот промчался мотоциклист.
А в конце их диалога ожидало меня открытие, большой сюрприз.
Я-то думала, что речь идет о перекидываемых по интернету текстах моих; ничуть не бывало! банковский курьер, развозивший документацию и прочие пакеты по разным городам банковских филиалов, возил с собой и книги мои; привозил, скажем, очередную книгу в Гродно, оставлял ее там для читателей, забирал в Кобрине уже прочитанную, чтобы передать ее в банк Минска и так далее. Сюжет был необычайный, неожиданный, поразил он воображение мое.
Нехватало только того, чтобы курьер передвигался между городами не на поезде, не колесным транспортом, не самолетом, а на коне. Несколько позже, впрочем, возник и конь, в поэме десятилетнего Новоселова-младшего под названием «Приключения императора» (китайского). Император «припарковал коня» возле пещеры мудреца Ми-цзу. Я передала, грешна, этого левушкиного припаркованного коня своей маленькой пишущей романы героине «Начальника всего»...
В отличие от меня, прикованной к дому из-за болезни младшего моего аутиста, книги мои вообще тяготели к перемене мест, к географическим названиям, к путешествиям. Знакомые знакомых купили «Хатшепсут» в Нью-Йорке (мне ее один из интернетных книжных магазинов откопал в Ростове-на-Дону), а давно живущая в Дании дочь бывшей сотрудницы моей сказала по телефону, что в одной из библиотек датской столицы видела две русских книги, одна из них была моя, я только не знаю, которая.
Были среди моих читателей и писатели.
Олег Базунов (чьи произведения называл Дмитрий Лихачев «великолепной русской прозою», а самого его «замечательным мастером камерного жанра») стихи мои любил, а к поэмам относился поначалу настороженно и сказал мне про «Возвращение доктора Ф.»:
— В этой вещи боль жизни перекрывает ее глубину.
Подумав, добавил:
— Настоящая машина времени — это искусство.
Лет через пять он внезапно мне позвонил:
— Я прочитал твои поэмы.
Я, опешив, сказала, что думала — давно прочитал...
— Глазами давно, но теперь прочитал на самом деле. И почувствовал в них современную музыку, настоящую, неоклассическую, сложную, как у Шнитке, например, или у Тищенко, или у Уствольской.
— Губайдулиной поэмы нравятся больше стихов.
— Нет, мне стихи твои все равно милее, хотя, возможно, поэмы лучше.
Я постоянно возвращаюсь к мысли — что бы он сказал про мою прозу? Не без страха возвращаюсь, сознаюсь. Однажды Базунов гнался за молодым автором, у которого в рассказе герой погибает, с криком: «Негодяй, что ты сделал?! Ты убил человека!»
Прочтя «Виллу Рено» Борис Стругацкий сказал мне:
— У вас там столько глав, сколько недель в году.
— А сколько недель в году?
— Пятьдесят две, — не без удивления отвечал он.
— Я не знала.
А относительно моей повести «Пенаты» поведал он мне тоже мной не замеченный (!), кстати, момент: у главного героя нет имени, о нем говорится «он»; у остальных героев — у кого отчество, у кого фамилия, у кого прозвище, и только антагонист героя, изобретатель, — обладатель имени, отчества и фамилии.
Я ходила на его семинар, прозу там и начала писать, он читал ее всю.
— Почему вы слушаете меня с таким выражением лица? Я мало кому говорю такие слова, какие вам о вашей прозе.
— Я вообще не уверена, что это проза.
— А что же еще?! — вскричал он. — Ведь рифм-то нет!
— Вы прямо как мольеровский Журден: нет рифм, — значит, проза.
Позвонив мне по телефону, что бывало крайне редко, сказал он:
— Я так обрадовался, что ваша «Вилла Рено» вошла в шортлист «Букера», что на минуту забыл, что я сам туда не вошел.
Обрадовался? Вот тут мы во взглядах разошлись, я считала литературные премии институтом нечестным, недостойным, и мне казалось, когда вошла я в шорт-лист, что мне вымазали дегтем дверь.
Геннадий Гор высоко ставил мои поэмы, считал, что я могу в этом жанре написать всё, что угодно, любая тема сгодится; благодаря беседам с ним — а мы были соседи по Комарову — написана была поэма «Возвращение доктора Ф.». После его слов про «что угодно» начала я писать маленькую поэму «Фрак Ухтомского», не дописала, потом она стала главою «Виллы Рено».
Другой сосед мой по даче, дядя Саша, тренер, игравший когда-то с нашими мальчишками в футбол на комаровской околице, подозвал меня к забору и сказал:
— Я прочитал вашу «Виллу Рено». Политически я не во всем с вами согласен, но по-человечески я с вами.
А Олег Балмасов, живший на другой стороне Комарова, над обрывом, на морской стороне в отличие от нашей лесной, закончивший школу для детей с ограниченными возможностями (хотя мы наблюдали и его неограниченные, столько раз, приезжая зимой, откапывал он от снега бабушкино крыльцо и входную дверь, чтобы могла она выйти из дома, такие горы дров колол он ей на зиму, столько воды натаскал из старого колодца), любитель литературных и музыкальных вечеров, на которые постоянно сопровождал бабушку, и паломнических поездок, один из солистов церковного хора (на одном хоровом концерте посчастливилось и мне побывать, был он солистом романса Баснера «Белой акации гроздья душистые» из фильма «Дни Турбиных»), читал своей бабушке, Людмиле Владимировне Балмасовой, Милочке, любимой внучке Ивана Петровича Павлова, мои книги вслух.
А маленькая комаровская поселковая библиотека во главе с Еленой Цветковой, где все встречались, виртуально ли, реально ли, писатели и читатели, достойна, по моему разумению, какого-нибудь подпункта в книге Гиннеса, поскольку по личной инициативе собрала сто пятьдесят тысяч рублей и переиздала «Виллу Рено». С чудесной зимней фотографией зимних кованых ворот (фото краеведа Александра Браво) виллы, то есть, с уже несуществующим пейзажем; с видом станции Келломяки с жителями, героями произведения, и с застольем в саду Виллы Рено, где пьют чай персонажи, стоит Татьяна Орешникова, а сестра ее Маруся смотрит читателям в лицо.
Одна из «книг вслух» была записана для Общества слепых по просьбе Общества, но я не знаю, как она звучит, знаю только, что ее читают.
Мне остается поблагодарить тех, кто выставил в интернет мои тексты, благодаря им смогла я выпустить свой двухтомник («Корабль и другие истории» и «Архипелаг Святого Петра»), у меня в компьютере некоторых электронных версий не было.
А также повиниться перед писавшими мне письма, я никогда на письма не отвечала, не только потому, что в сутках моих на то времени отпущено не было, но и потому, что меня бесконечно смущали высокие слова, которые обращали ко мне читатели мои.
Чужие тексты
В одной из старых папок с записными книжками нашла я этот автограф и приведу его, сохраняя орфографию автора.
ОТЗЫВ
О профессоре В. С. Галкине, участнике конкурса на замещение кафедры патологической физиологии с клиникой в Московском Институте для усовершенствования врачей:
Профессора В. С. Галкина я знаю: 1) как студента медицинского факультета Томского Университета, 2) как штатного ординатора вверенной мне Факультетской Хирургической клиники при Университете, 3) по его последующей работе в хирургических клиниках профф. В. А. Оппеля и С. П. Федорова (Нейро-хирургический институт), 4) как самостоятельного больничного специалиста-хирурга и, наконец, в 5) по его работе в течение последних лет в лаборатории А. Д. Сперанского.
Такое близкое и непрерывное знакомство с проф. Галкиным на протяжении всей его научно-практической карьеры дает мне основание и право характеризовать его как исключительно работоспособнаго, высокоодареннаго и талантливаго молодого ученого, имеющаго за собой значительную и высоко-качественную научную продукцию, доказавшаго на деле выдающиеся хирургические способности, равно и преподавательские навыки. Не может подлежать сомнению, что в лице проф. Галкина мы имеем одного из наиболее достойных представителей молодого поколения научно-образованных хирургов, имеющаго все данные к занятию клинической хирургической кафедры и к дальнейшему продвижению на путях научно-практической хирургии. Новосибирск 5 апреля 1935 г.
Заслуженный деятель науки проф. Вл. МышъОтзыв этот на пожелтевшей веснущатой бумаге написал лиловыми чернилами острым четким красивым почерком великий сибирский хирург Владимир Михайлович Мыш.
Моя американская невестка Анка дружит в Америке с Наталией, женой правнука Владимира Михайловича: мир тесен.
Владимир Михайлович, человек храбрый и благородный, заступался за репрессированного и сосланного в Туруханский край архиепископа и блистательного хирурга Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, писал письма советской власти, однако, безрезультатно. Войно-Ясенецкий не погиб в острогах и ссылках, прошел все круги ада, получил за свои научные труды Сталинскую премию, был архиепископом Крымским и Симферопольским, ныне архиепископ Симферопольский Лука прославлен и причислен к лику святых Новомучеников и исповедников Российских. Вспомнив его еще раз, понимаешь снова, что святые среди нас, как и в прежние незапамятные времена.
Однажды получила я послание от молодой читательницы, Кати Герасимовой. Она писала, что пришлось ей прожить около года в Астрахани, вдали от родных, от Петербурга, от Комарова: пребывание ее в Астрахани связано было с работой мужа. И там, на южной широте читала она мои книги. А мне хочет она подарить «маленькую заметку-впечатление», поделиться городом, в котором довелось пожить.
Эта «заметка» очень мне по душе, и поскольку нет у меня журнала либо альманаха, в котором могла бы я ее напечатать, чтобы прочел ее и ты, читатель, я поставила ее в собственное произведение, такая длинная цитата, тоже мне, Пьер Менар, автор «Дон Кихота»... Итак:
Екатерина Герасимова
МОЯ АСТРАХАНЬ!
Это такое место на земле, где живут животные из Красной книги, где много кошек с осмысленными лицами, где пахнет югом черная душная ночь, где пауки размером с воробья плетут паутины на балконе, где Волга лежит как большая лента цвета Нила и искрит от солнца, где под водой растут деревья и сады цветут из водорослей в каналах, и в них там своя жизнь, где небо почти белого цвета и запеченное солнце, как раскаленное желтое яблоко, где я много еще чего не видела и не знаю, где живет призрак в доме с обсерваторией, где еще почти весь город — это старые здания, где дворы, в которых мангалы, пахнет шашлыком по выходным и лестницы в никуда с проросшими цветочками и ступеньками, где ночью ходить в майке жарко, а зимой ледяные ветра до звона костей, где море какое-то без пляжей, за 70 км, где живут браконьеры, убивают друг друга за рыбу, а эта рыба — единственный, возможно, правообладатель этих вод, где плетется паутина истории разных народов, только вот кто — паук?, — где перекресток муравьиных дорог, где еще существуют базары с соленьями и кореньями, и слышны песнопения во славу Аллаха, где кроме парного мяса никакого мяса нет, где ходят шерстяные зимние коровы важнее машин на дороге, лошади пасутся, и смотрят на тебя как на пришельца, смиренно с такой пронзительной тоской и задумчивостью, где есть паромные переправы, где бывают туманы как густая сметана, и ты влип! Где живут духи предков, слышится музыка барабанов Курмангазы, где кажется, что ты на Луне, где бывают ливни и превращаются в океаны, где я хожу на работу в офис, и часто смеюсь, где-то на юге, где не бывает весны и осени, только лето и зима, где разноцветные мечети и православные церкви, где мироточат иконы. Где много фотолюбителей и музыкантов, где водятся горячие южные мужчины и женщины, где бывают стрелки из 90-х, и концерты американских джазменов, где живут финны, итальянцы, англичане, немцы, едят в Сабвэе, иногда бухают водку, а потом пьют пиво в ресторанах на берегу, купаются в бассейне и заставляют страдать русских девушек, где непонятно почему вместо почему — зачем, где живут здоровые крепкие и земные люди, и те, кто любит поговорить между строк, где губернатора можно рукой потрогать, когда он на набережной гуляет, где готовят райские молочные коктейли, мятный, брусничный и клюквенный — самые лучшие! где лежишь на берегу и кто-то неизвестный в реке колбасится и взбивает воду, какой-то плавающий зверь, где вобла вяленая вместо витаминов, где есть ерик Черепаха, и Финогенов, а еще Рыча, и другие смешные названия, где живет мечта о Бакинском променаде, где водичка волшебная, где асфальт под колесами автомобиля хочется лизать языком, как соленый сухарик, где заброшенные посты ГАИ, похожие на торты со взбитыми сливками, и остановки как произведения искусства, где маршрутчики курят гашиш, где всегда пропускают пешеходов, где фонари по ночам гудят, а под ними феерически танцуют летающие насекомые и тоже гудят, где бывает тысяча гигантских стрекоз над тобой, как зонтик, где столько новой музыки и фильмов, и разных историй, что жизни не хватит, где в фонтане можно собирать воду в пакет и загорать с ногами в пакете с холодной водой, и эта вода — единственное холодное здесь, когда температура за 40, где никогда об этом не скажут, потому что здесь все 50, и тогда у нас будет три месяца каникул, государство этого не простит, и в ноябре еще можно в футболке разгуливать, где добрые соседи, где так много сверкающих белых джипов, где черешня растет сама по себе, и ты чувствуешь себя живым человеком, чувствуешь землю под ногами и небо над головой, ведь так мало высоких зданий, а Газпром показывает кино, он же везде Газпром, и весь в стекле, как бутылка пива, а пиво!!! где это пиво водится!!! черновар, купец или еще там какое, разливное, как мед, где все бибикают, когда свадьба едет, где всё строго и одновременно очень разболтанно, где кто-то живет в пент-хаусе с видом на Волгу, а кто-то — в вагончике на берегу заросшего ерика, и угощает кофе, и котята выбегают как клубки с шерстью и хочется их всех затискать, где ночью приступ клаустрофобии может начаться где-то на краю земли, какой-то деревни, от темноты, хоть глаз выколи, и кто-то умер по неизвестной причине, где узенькие лазейки между мазанками и велосипед застрянет, где есть связь между Волгой и Невой, где всё как везде и свое собственное время, вкусные дорогие духи и одежда, где показали исландское кино и был настоящий исландский парень, и читал вслух названия по-исландски, где удивишься, как много ночью народа на набережной и поймешь, Астрахань — это центр Вселенной, куда стекаются все потоки воды и связей, где выжженные степи с орлами и журавлями и их брачными танцами, где есть деревни китайцев с выращиванием риса, где закрываются ставни в центре города, где ручная саранча, арбузы и дыни, где все летние слова перевесят зимние, где не грустно от того, от чего обычно падают слезы, потому что солнце как благояр, невозможно ходить без улыбки, невозможно напрягаться и быть несчастным, невозможно представить, что бывает что-то другое, когда Эйваз берется за дело [смайлик]. Где неподалеку священная гора со спящим великаном на ее восточном боку, и поле с красными маками, где буди и в завтра, где еще столько всего до фига, что мне не хватит сил договорить, ни плохо, ни хорошо, но удивленно, где мысли сбываются через секунду, где воздух разрежен и не забит ерундовыми желаниями, где люди живут просто, а некоторые — богаче царей, где когда-то было очень грязно и девушки нанимали извозчиков, чтобы доехать до соседней парадной, где однажды открылся источник природного газа, горячий гейзер, и три года люди ходили и получали там бесплатную горячую воду, где всего одна пышечная, только открылась и я скоро туда загляну, где есть липовая аллея и замок цыганского барона, где иногда тебя не понимают, как и везде, где чувствуешь себя самым обыкновенным и хорошим, где спишь, как блаженный, и видишь сны, где любит отдыхать Путин, и тебя почти на руках держат милиционеры, чтобы не переходилась дорога во время его проезда, где Петруша I мечтал сделать третью Венецию, навязчиво мечтал и лелеял, и поэтому иногда кажется, что ты потерялся в Питере, где бывает оглушительная тишина в зимних дворах и снежинки с фонарей как будто закапывают тебе глаза атропином, где все так рано ложатся спать и все дома выключают свои окна, где если хочешь мороженое — оно будет через минуту не по твоей воле (и по твоей тоже), где никогда не достроят музыкальный театр, где есть подруги, где есть быстрые машины и приключения, где всё интересно, где я тоже сейчас есть случайно (?).
Июль 2010И этот чудесный хазарский текст мне еще милее оттого, что в Астрахани сто лет назад родился Клюзнер.
А вот третье эссе.
Не так давно получила я его по электронной почте от подруги.
Евгения Куприянова
ГИМН КОТАМ
Светлой памяти моего
незабвенного кота Маркиза
Мое сердце навсегда и безраздельно отдано гладкошерстным дядькам-котам всех мастей, элегантным и брутальным.
Очень поощряются восьмерка на лбу, наличие толстого хвоста, короткая борцовская шея и мощные при ходьбе лопатки, мышцеватые когтистые лапы, толстые ляжки, шикарные штаны и крупный горделивый предмет мужского достоинства.
А также — бархатные чехольчики для острейших кинжалов, стоптанные пятки, голые беззащитные ладошки, боящиеся щекотки, большие усы, плюшевые щеки, замшевые уши, сладостные уста и влажный нос, мудрый всезнающий гипнотический взгляд и особый антимольный запах котовой шубы!
Прибавить к этому громкие оперные вопли, разнообразное мурчание (от нежного убаюкивающего и едва слышного заговорческого — заговорщицкого? — до страстного и самозабвенного), бодание в ноги и хорошо рассчитанное путание в ногах (чтобы хозяйка упала и уронила фарш), бандитское наглое потрошение сумки с продуктами, вис на когтях за край кухонного стола с одновременным беспорядочным боданием под локоть и готовностью подцепить когтем вожделенный кусок, демонстративную заточку кинжалов, безумную беготню по всей квартире с торможением на поворотах, а потом сонную расслабленную негу во весь рост на полу на самом ходу и, наконец, комфортное наблюдение на недосягаемой высоте со шкафа за суетной мельтешней людишек (как за мышками-мошками).
А если еще вспомнить о врожденном кодовом пристрастии к прекрасному и его брезгливой болезненной чистоплотности, которая заставляет трудягу сначала подолгу с остервенением, грохоча подносом, загребать за собой бархатной перчаткой в туалете, а после этого невозмутимо разлечься на стопке выглаженного постельного белья и тщательно до самозабвения часами отмывать от скверны бархатные перчатки и свое велюровое мужское достоинство, — то получится Гимн Котам!
Через некоторое время пришел постскриптум:
Р. S. Дополнение к Котогимну. Забыла еще добавить к «устам сахарным» — «бородушку масляную, небритку» георгиевскую! Также, поправляя себя, уточняю: «пышные штаны» только у сибиряков, а у наших европейских короткошерстных котов-дядек изысканные плюшевые галифе.
А еще передние лапы, уютно сложенные кренделями по-купечески, да два недреманных ока, — полуприкрытые янтарные смотрелки.
Вагонная сцена
Михаил Копылков дважды видел в электричке женщину, которая просила милостыню; была она огромна, слоноподобна, просила Христа ради; наконец, разглядев среди пассажиров одного, который не подал ей да еще и отвернулся, начинала она осуждать его, такой-сякой, бедной нищенке копейки жалко, живешь припеваючи и т. д. Постепенно заводясь, доходила она до воплей, начинала рыдать в голос, а, дойдя до конца вагона, падала на скамейку, обессиленная, и засыпала. В разные дни, в разных поездах сцена повторялась до мельчайших подробностей.
На лекции
Светская дама, российская писательница, читает в Соединенных Штатах лекцию студентам.
— Я приехала к вам из страны, где главный поэт — потомок темнокожих, имевший собственных белых рабов...
Зал улыбается, она продолжает:
— ...и его застрелил на дуэли красивый белокурый иностранец нетрадиционной сексуальной ориентации, особо не любивший нашего поэта за то, что тот был любитель женщин.
И зал вскрикивает в едином порыве:
— Гоу хоум!
Чис уброло
В юности Светлана с Павлом жили в комнате коммунальной квартиры неподалеку от Нарвских ворот. Соседями их были старик со старухой, совершенно брейгелевская пара.
— Ты не смотри, — говаривала Свете старуха, — что старик мой пьяный и ссаный; он у меня партейный.
Однажды Светлана, придя с мужем из мастерской или из гостей поздно, нашла на своем кухонном столе записку от старухи на кривом-косом клочке бумаги, написанную детским почерком двоечницы малолетней: «чис уброло». И недоумевала: что бы это значило? Может, прозевала она свое дежурство по уборке, а старуха убралась чисто вместо нее? Но дни дежурств она перепутать не могла. Утром выяснилось: Павел забыл в ванной свои часы, старуха убрала их, положила в ящик стола.
Больше ничего от стариков-соседей в памяти Светланы не отыскалось, ни имен, ни биографий, незнамо откуда взялись, неведомо как жили, кем были прежде; уброло их чис судьба, даже записки не оставила.
Спешился бедуин
Некогда купила я коробок спичек из города Пинска с бедуином на верблюде среди пальм, графика, силуэты; этот коробок фигурирует в романе «Пишите письма».
И что же? Покупаю семь лет спустя — на днях — упаковку спичек, достаю коробок... спешился мой бедуин! Стоит, держит верблюда в поводу, глядит вдаль, никаких пальм, нет ни оазиса в помине, ни миража: барханы пустыни. Причем, на сей раз коробок из Гомеля.
Так, с двумя коробками спичек в руках, встретила я начало череды несчастий високосного года.
Соловецкий мираж
Елена Цветкова, заведующая комаровской библиотекой, прислала мне фотографию миража, увиденного и сфотографированного ею прошедшим летом на Соловках. Когда спросила я — где именно, она отвечала: это Заяцкий остров, место непростое, то ли капища древние тут были, то ли древние захоронения, задолго до войны велись раскопки, а во времена ГУЛАГа была колония для штрафников и беременных женщин, много лагерных могил, в том числе младенческих. На острове всюду мостки, по ним и ходят, тут всё растет медленно, в ареале раскопа двадцатых годов еще не заросла травою земля, одевающаяся в растительность тундры.
— Тут миражи постоянно, — сказала женщина-экскурсовод, — всегда разные.
На присланной мне фотографии на горизонте видна была неземная темная конструкция, то ли увеличенная наковальня, то ли платформа, то ли распластавший крышу с растрепанной стрехою сарай из фильма Тарковского. Большинство здешних заяцких Соловецких миражей нон-фигуративны, как выражаются искусствоведы, то есть как бы беспредметны, трудно угадать что это, и напоминают они тени от сожженных в дни Святочных гаданий комков бумаги.
На излёте
На излете сна с дачной местностью, незавершенной жизнью полуразобранных старых (с пристройками без окон, без дверей) и недостроенных новых домов, на чьих верандах и террасах горели бумажные китайские фонарики, на одном чердаке хлопнуло окно, и сказал из окна некто:
— Сузилось сознание мое, Секлетея.
И я жалела, что проснулась, недослушав ее ответа, и никогда не узнаю: а его-то, его, как его звали?
Зубная боль
Из-за аллергии на местные обезболивающие средства зубы много лет лечили мне под общим наркозом. К XXI веку клиник, занимающихся таким лечением, в городе осталось две: в районе Красного Села и в Озерках. Существовали, конечно, частные лечебные заведения, но не было уверенности, что все они одинаково отвечают за свою работу. И когда к ночи зубная боль, длившаяся сутки, одолела меня вконец, я, вызвав такси, отправилась с Тверской своей улицы (от Смольного, то есть) в единственное зубоврачебное лечебное заведение, работавшее в городе ночью в выходные дни, — на Авангардную улицу Красносельского района.
Встретил меня ночной форпост приемного покоя, огромный темный неосвещенный парк с разбросанными в нем корпусами клиник (самый маленький двухэтажный, где лечат зубки умалишенным под щадящим наркозом, уколом в вену, там когда-то лечили моего младшего сына, аутиста; самый высокий в семь этажей, светившийся в ночи подобно океанскому пароходу). Шумели на ветру, раскачивая чернеющие купы крон, деревья, вели незнамо куда таинственные дорожки, только посвященным было известно, как пробраться к нужному дому, не спала скорая помощь всех профилей, все дежурные врачи ее, все были отчаянно молоды, доктора, сестры, стар только один санитар, постоянно прибывала, приращиваясь, потом растекаясь по клиникам парка, разношерстная толпа больных, должно быть, это была больница для бедных, врачи старались помочь всем, работая неустанно, и казалось: будущее уже тут.
Молодой доктор осмотрел меня, сказал: направления нет, рентген сделаем сами, общий наркоз, конечно, лишняя сложность, да у нее остомиелит, оперируем, сейчас отправим в корпус номер такой-то. Я спросила его — смогу ли я после операции вызвать такси? Какое такси, вы что, сказал он, после наркоза останетесь до завтра в больнице. Но это невозможно, сказала я, муж мой остался на ночь с нашим младшим, мне надо вернуться, я думала, вы сделаете мне укол в вену, я отлежусь часок и уеду, мне так должны были удалять зуб в Озерках, но в понедельник, а сейчас выходные, и мне больно. У нас нет легкого наркоза, сказал он, только тяжелый, вы после него будете лежать до утра. Тогда я ухожу, сказала я, вот только как мне дожить до понедельника. Он выдал мне несколько таблеток обезболивающих, велел принимать то-то и то-то, и я вызвала такси и поехала обратно.
И поехала я сквозь ночь с Авангардной на Тверскую.
Когда ехала туда, в ночной парк дежурной больницы, проехала по Фонтанке, неподалеку от любимого института, лучшие дни нашей жизни, Мухинское, Муха, Штиглица, мимо Летнего сада, где жила, а не просто гуляла, в детстве и юности, Инженерного замка, где работала дизайнером на студенческой практике, была без памяти влюблена вприглядку в прекрасного человека, мимо дома друзей юности Абрамичевых, дарившего детские радости цирка, Дворца пионеров, куда ходила пять лет в левинский легендарный кружок рисования, мимо дома композитора Клюзнера возле дома Толстого, дома художницы Малевской-Малевич и археолога Флигельмана, Военно-медицинской академии (морская база на месте Обуховской больницы), работала там год после школы чертежником-картографом, дома великолепного доктора Ревского, лечившего всю нашу семью и наших детей, больницы Чудновского, с которой мрачные воспоминания связывали меня, дома Державина, где бывала в гостях у Чечулиных, дома акварелиста Сергея Захарова, брата бабушки моей, госпиталя, где умер молодым мой тяжело болевший отец, мелькнули четыре башенки расчетверенного Калинкина моста, близнеца Чернышова моста с моего первого в жизни этюда с натуры. Потом проскочили мы дом у Нарвских ворот, где прежде жили Абрамичевы, дорогу, по которой ездила я навещать старшего сына в казарму.
К обратному такси снова пробежала я сквозь темный наполненный ветром парк со светящимися окнами разбросанных во мгле корпусов, я расплакалась в таинственной компании прекрасных малоразличимых дерев.
На пути обратно мы проехали улицу, где жил ребенком дед Галкин (в квартире Семена Потаповича и Елены Яковлевны, родителей своих), я увидела огромную толстую (дроболитную?) башню на другом берегу Обводного почти в створе этой улицы (или одной из соседних, «Разве Можно Верить Пустым Словам Балерины», Рузовской, Можайской, Верейской, Подольской, Серпуховской, Бронницкой), вокзал, откуда идут автобусы в прекрасный Валдай моего детства, Волково кладбище, где лежат Павловы, Олег Базунов, Тищенко, а вот дом, построенный Ипполитом Претро, двоюродным дядей моей тетушки Коринны. Концертный зал, стоящий на месте взорванной милой Греческой церкви.
Ночной распластавшийся город был огромен, в нем было много ночных прохожих, веселых идущих из гостей и театров, а кто-то и с работы. По темным кварталам от людных мест к безлюдным гулким, сшивая их траекторно, летал ветер. Городу пришло на ум показать мне всю мою жизнь сквозь зубную боль и игры своих фантастических пространств.
Томская котлета
Дедушка и бабушка Веры Резник учились в Томском университете на медицинском факультете; но там же учились и мои бабушка с дедушкой, Анна Захарова и Всеволод Галкин. Верин дед был осетинский князь, и я вспомнила бабушкины рассказы (и рассказы ее сестры, курсистки Елизаветы) об одном осетинском князе, которого все любили и уважали, но слегка над ним подтрунивали. В студенческой столовой, в частности, прятали его тарелку со вторым блюдом, и он — к величайшему удовольствию этих шалопаев — вставал из-за стола, вытянувшийся в струнку, с прямой спиною, с гордой посадкой головы, и произносил, не крича, но так, что слышно было за каждым столиком:
— Кто испил мой кóтлет?
Не думаю, что в Сибири, в Томске морозном было несколько осетинских князьев, и почти уверена, что речь шла именно о Верином деде.
Такие цветные
Почему тексты Библии такие цветные? Ведь там нет описаний. Почему видим мы воочию неяркие цвета юга, складки одежд домотканых, окрашенных природными красками, умбру, индиго, почему видим мы серебристую пыль на дорогах, лиловые тени смоковниц, густую зелень лавра и нежные колера виноградных гроздей? Прозрачно-голубой блеклый воздух пропитывает буквы Нового Завета и возникает в пейзаже, почти привычном взору потомков поколений, постоянно читавших Библию.
Из записных книжек
Однажды в поисках точного названия и выходных данных одной из прочитанных давным-давно полузабытых книг, вытащила я из разных книжных шкафов и с полок все свои многочисленные записные книжки и принялась их листать, время от времени, почти забыв о цели их рассматривания, погружаясь в чтение. Были среди них невеликого формата, почти телефонные (да и собственно телефонные), карманные, livres de poche, побольше, поменьше; иные, дареные, предназначенные служить еженедельниками гипотетическим деловым людям, напоминали среднестатистического габарита книги толщиною сантиметра три с половиною. Попались несколько фешенебельных томиков с золотым обрезом в кожаных переплетах, с карманчиками для визиток перед форзацами (выдавших мне к радости моей фотографии любимых и родных людей), с элегантными кожаными тоненькими закладками-хвостиками. На простецкие телефонные наклеивала я разные картинки, цветные фото и репродукции из «Курьера Юнеско», «Проекта», «Domus’a», незнамо откуда еще, что делало их обжитыми, красивыми, притягательными, моими лично.
Состав текстов, переписанных разными почерками моей рукою (в спешке, в ночной полумгле, в клочке дневного почти спокойного свободного времени, в автобусе или трамвае) разноцветными чернилами фломастеров, шариковых, гелевых либо капиллярных ручек, маркеров, ушедших в прошлое перьевых авторучек, наполняемых продававшимися в канцелярских лавочках полузабытых дней чернилами, — черными или синими, — а порой и карандашом, был необычайно пестрый. Я выписывала абзацы и периоды из библиотечных и чужих книг, которые нельзя было потом достать с полки, не всегда художественная литература, частенько научно-популярная, иногда справочники, а вот тут вклеен листок отрывного календаря, просвещающий оторвавшего его маленькой обратной стороною, чуть дальше газетная статья. Встречались дневниковые записи, всплывал в памяти разговор, день, час. Рисунки, наброски, иллюстрации к еще не написанной прозе, черновики стихотворений.
И что-то это мне напоминало, только я не могла сообразить — что.
Борхесианские смеси рассказов, пересказов, историй, — несомненное наследие Вавилонской библиотеки, — поджидали меня под каждым переплетом.
Довершали картину разнообразные типографские таблицы первых страниц еженедельников и телефонных книжек: переводы из единиц в единицы мер и весов стран и народов, коды городов, временные пояса, названия столиц, соотношение размеров одежды и обуви, соотношения температурных шкал, dati importanti, национальные праздники, среднегодовая температура, дни именин, названия денежных единиц, географические сведения, адреса музеев и гостиниц, глубины морей и даже названия морей и кратеров Луны.
Вот малая толика текстов из записных книжек.
«Шестилетний Саша сказал мне:
— Он так быстро бежал, что обогнал свою тень».
«И по той причине, по которой я иногда дурачусь и брежу, на свадебном пиру я был трезв».
Радищев«Измерцался яхонт мой, потух.
Примерцались мне глаза твои.
По моде, и мышь в комоде.
Молчан — собака, кусающая исподтишка.
Морской ладан — янтарь.
Морская крапива. Морское желе — медуза».
Владимир Даль«Прогресс есть именно та форма жизни, при которой человеческий род может вкусить наибольшую сумму страданий, стремясь достигнуть наибольшей суммы наслаждений».
О Ницше: «сверчеловек-недоросль».
Николай Федоров«Во всех монастырях Афона принято, что вышедшие возвращаются до заката. Солнце скроется, и кончен земной день, нечего путать и волновать мироздание своими выдумками.
Впрочем, может быть, истинная библиотека и вообще должна быть бесцельна. Еще вопрос, следует ли выдавать из нее книги.»
Б. Зайцев. АфонРепетиция в Зоологическом музее. Хор под китом.
Хойл пишет о том, что всякое существо, знающее слишком много и слишком о многом вещающее, как бы «заглатывается» пространством, образующим вокруг него зону непроницаемости, и существует в изоляции.
«На больших высотах человеку изменяет сознание и ясность мышления; он легко впадает в депрессию и склонен к неадекватным реакциям».
Морис Эрцог. АннапурнаНаполеоновские французы звали башкир из русских войск «амурами» за их луки и стрелы.
«Жвачные жуют свою жвачку всю ночь.
Спят они или бодрствуют, не поймешь.
Многие люди спят с полуприкрытыми глазами; у китайцев глаза во сне всегда полуприкрыты, такое уж у них строение. А что, спросите вы, толку в закрытых глазах, если уши все равно открыты.
В медицинской литературе описана целая семья сомнамбул, состоявшая из шести человек: по ночам все шестеро собирались в столовой, молча пили чай, а затем расходились по своим комнатам».
А. М. Вейн. Три трети жизниПатриарх Никон основал три монастыря, имевшие общий замысел: Иверский монастырь на Валдайском озере и Крестный монастырь на озере Кий в Белом море (образно воспроизводившие одноименные монастыри Афона и Палестины) и Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь недалеко от Москвы в излучине реки Истры («в образ и подобие» Святой Земли). Топография и топонимика этого комплекса воспроизводили места, связанные с событиями земной жизни Иисуса Христа. Русская Палестина создавалась как грандиозная икона христианской Палестины.
Некогда оптинский старец Варсонофий называл монастырь «отблеском рая». В Валдае все видели ежедневно остров с отблеском рая, видением Афона, всё мое детство смотрела я на него в окошко домика на Февральской улице и в чердачное оконце дачного дома на Образцовой горе, называемой Бросихою. В валдайском Иверском монастыре издана была книга «Рай мысленный».
Монастырь на острове был для жителей зрительной и духовной доминантою, неважно, осознанно или бессознательно, стремились туда доплыть, вплавь ли летом (и многие пловцы добирались, преодолев трехкилометровый озерный первый плес), на веслах ли легких озерных лодок, на маленьком ли пароходике, отходящем от пристани слившегося с Валдаем села Зимогорья, на лыжах ли в зимний ледостав. С тетушкой Лизой или с соседскими ребятишками ходила на лыжах к монастырю и я, однажды там, вдалеке, мелькнуло на белом снегу яркорыжее пятно перебегавшей с островка на островок маленького архипелага лисы. Но кажется мне, что зимой никогда не достигали монастырских стен, словно превращавшихся в горизонт, «линию, удаляющуюся по мере приближения». Тогда как летом, на лодке, — всегда оказывались там, на обратном пути заплывая по заросшим осокою протоке (путь, известный только посвященным...) в крохотное внутреннее Глухое озеро, чтобы набрать там букет визионерски белых лилий и медово-желтых кувшинок-кубышек. Из путешествия на буксире возвращались без букета, находившись вдоль монастырских зданий, пробродив по монастырскому двору под арками, вокруг храмов. Храмы были закрыты, стены изрыты оспинами разрухи. Всё ждало: уже не лагерь для малолеток ГУЛАГовских времен, не туберкулезный санаторий, сменивший лагерь, еще не святые места. Впрочем, видать, такое намоленное было пространство, что и на наш век хватило. Только в конце двадцатого века узнала я, что в двадцатые и тридцатые годы приговоренных или просто обреченных расстреливали почему-то именно на берегу, и последний взгляд их обращен был, должно быть, на Иверскую обитель. Вдоль берега и бежали с детьми на руках в первый и последний налет фашистской авиации во время войны.
Одна из любимых моих старых фотографий — портрет Алексея Николаевича Ржаницына, мужа тетушки Лизы, Лилечки, на зимнем озерном льду, в пимах и малахае, в какой-то сибирской, что ли, шапке и башлыке; фото довоенное, еще не попал в плен, не бежал из плена, не отправлен в лагеря, не выпущен умирать; на обороте надпись: «Ловля рыбы на блесну». Домик доктора Ржаницына стоял на берегу, на Февральской улице. Вот только я не знаю, сидит ли дядя Лё (их с женою после приезда с Дальнего Востока звали Ли и Лё) лицом к монастырю или лицом к городу, видит ли он свой дом или Иверский образ рая.
«Слово „хаос“ происходит от греческого „chaos“, „расщелина“».
Особое место в символике представляют собой странствия, путешествия внешние и внутренние. Сошествие во ад, возвращение волхвов из Вифлеема, одинокий всадник в темном лесу, пилигримы, паломники, аргонавты, путник. Зачарованный странник.
Ограда — символический образ сада, места, где укрощаются животные страсти темного леса.
Лабиринт как путь к Богу и лабиринт как путешествие по собственному бессознательному. Л. сохраняет секреты сердца, подчеркивая его молчание и скрытность; извилистый путь добродетели, бегущей от порока».
Матильда Баттистини. Символы и аллегории14 октября был у нас в гостях Николай Александрович Козырев. Два лица: одно — светское, в мелких морщинах (у лагерников с Севера и у полярников-исследователей такие морщины от мороза, солнца и снега, да он и был лагерник с Севера), чуть помятое, с улыбкою, лицо человека, беседующего о дачах, крымской обсерватории, храме Махмуда с разницей между Меккой и Востоком на 21 градус и протчая; другое — морщины разгладились, появился лик, значительный, со светящимся взором, запоминающийся навсегда. 150 километров на лыжах из шарашки в главную контору, когда узнал об освобождении. «Пошел, не мог ждать оказии, иногда думал, что не дойду, молился, ложился на спину, смотрел в небо, ел снег».
«Мне кажется, — сказал он, — что природа блеска солнца и человеческих глаз едина». Мы говорили о символике карт, о влиянии на будущее и прошлое, о Шекспире. Он не любил Толстого, — кроме одной книги: «Война и мир».
Рассказ Светланы. Девочка в Киево-Печерской лавре, в пещерах, отстает от экскурсии, она оказывается в полной тьме, в космическом мраке и безмолвии, кто-то берет ее за локоть, она в страхе, это вышел из пещерной камеры-комнатки схимник, молча взявший из рук ее свечечку и зажегший ее о свою. Она выходит из пещер, рассказывает о своем приключении; схимник? переспрашивает экскурсовод, да там больше десяти лет никто не живет.
Люди с советских скульптур напоминают плохих актеров: они не знают, куда руки девать.
«Недавно с размахом праздновали мое восьмидесятилетие, — сказал Бабчин, — такой юбилей вполне можно приравнять к гражданской панихиде».
Тут возникло некое препятствие, несколько страничек из-за приклееных картинок слиплись, я стала их рассоединять, страничный шорох, — и я поняла, что именно напоминает мне чтение записных книжек: шуршащую комнату из произведения Макса Фриша «Человек появляется в эпоху голоцена». В этой вещи Фриша сошедшая лавина отсекает альпийскую деревушку от цивилизации, дорога под снегом, света нет, не работают телевизор, холодильник и телефон. И главный герой, пожилой человек, берется за книги библиотеки своей (рефрен этой вещи: «Остается только читать»). Поскольку его начинает подводить память, он выписывает сведения, которые не хочет забывать (из истории, биологии, анатомии, астрономии, математики и проч.), и развешивает их на стенах, шкафах и полках комнаты. И мы читаем этот фантастический коллаж. Когда дорогу, наконец, расчищают, к дому в Альпах подъезжает дочь героя, застающая отца в любимом кресле, у него инсульт, она только по глазам его понимает, как он рад ее видеть, а вся комната на легком сквозняке начинает шуршать, трепещут в токе воздуха сведения о роде людском.
Так и мои чтения нынешние: вот листаешь, читаешь, удивляешься забытому лет за тридцать, встречаешься с вымыслами, фактами, цитатами, портретами, образами, и в какое-то неуловимое мгновение складываются в единую картину жизни (только ли твоей?) эти разноцветные, разнофигурные, неевклидовой и евклидовой геометрий, остроугольные, плавных линий, текучие или подобные биологическим объектам (идеально неправильные) пазлы бытия.
Жизнь вся, как сказка
Эта старушка, бедно одетая, худощавая, очень аккуратная, не одно лето сидела возле Комаровского пристанционного магазина на завалинке или на деревянном ящике и продавала зелень, мяту, чернику. С королевской щедростью она всегда одаривала моего Алешу мятою, а чернику продавала нам дешевле. Когда я пыталась отдать ей деньги за лишний букет мятный, она наотрез отказывалась: нет, не возьму, как можно, хочу больному мальчику подарить Она из поселка, больна диабетом, двадцать лет на инсулине. «Чернику беру; если возьму, буду продавать». Наполовину финка, говорит она с легким акцентом. Однажды нам оказалось по пути, мы разговорились. В прошлом году у нее утонул на Щучьем озере зять. «Озеро затянуло. Просил, просил внука: отвези да отвези меня на озеро. Тот и отвез. А зять поплыл и не вернулся».
— Как вас зовут? — спросила я.
— Знаешь, молодая была, дура, имя мое мне не нравилось, стыдилась его, а теперь вижу, какое красивое. Василисой меня зовут.
— Как в сказке! — сказала я.
И она отвечала:
— Жизнь вся, как сказка.
Маленький страшный фантастический рассказ из будущего
С утра пошел он в Паноптикум, где стояли чучела его врагов, и включил смех.
Смещение
Есть любовь к книгам, чужим текстам, страсть пересказывать истории от книжных до газетных, от древних до вчерашних и сиюминутных. Один из телевизионных людей (от его цикла передач невозможно было оторваться, мы так горевали, когда они из эфира исчезли, пропали, улетучились) по имени Иннокентий Иванов формулировал это так: «Мы говорим обо всем своими словами». В сущности, такими же пересказом историй занимался и великий писатель Борхес. Пересказываю их и я. История, приводимая ниже, притча о погонщике, встретилась мне в книге «Космос» знаменитого астрофизика Карла Сагана.
В Америке в начале двадцатого века строили в горах большой телескоп. Огромные детали телескопа по крутым узким горным дорогам затаскивали на вершину упряжки мулов. Роль осла в истории рода человеческого с древних времен вообще очень велика, это знают все. Молодой погонщик доставлял на гору механическое и оптическое оборудование, персонал будущей обсерватории. «Он управлял колонной мулов, — пишет Саган, — сидя верхом на лошади, а у него за спиной, положив ему лапы на плечи, все время стоял белый терьер». Погонщик отучился в школе всего восемь классов, но был умен, сметлив, его беспрекословно слушались животные, женщины в него влюблялись. Сам же он влюбился в дочь одного из астрономов и пришел к отцу ее просить ее руки. Отец девушки прогнал его, объяснив, что они не пара: девушка из семьи ученого и погонщик ослов. Тогда погонщик устроился на работу в обсерваторию, — фактически, разнорабочим, мыл полы, помогал электрику. Он опять пришел к отцу возлюбленной просить ее руки («теперь я ваш сотрудник»), и снова был отвергнут. Однажды ассистент, управлявший телескопом, заболел, нашего героя спросили, может ли он его заменить, и он проявил такую старательность и аккуратность в работе с инструментом, что вскоре стал постоянным оператором телескопа. В это время на гору прибыл ученый, которому для научной работы необходим был постоянный наблюдатель, в таковой роли и оказался бывший погонщик; они начали измерять спектры далеких галактик. В результате их сотрудничества новоиспеченный научный сотрудник, наш погонщик, признан был лучшим наблюдателем в астрономическом мире, а ученый, которому помогал он, совершил одно из самых крупных открытий двадцатого века: красное смещение. Фамилия ученого была Хаббл.
А дальнейшая судьба дочери астронома и мулов погонщика неизвестна.
Девушка, погонщик мулов, тайные свидания; вам это не напоминает либретто «Испанского часа» Равеля?
Как далеко
Эта прелестная женщин, вдова Лившица, символизирует для меня бессмысленность и ужас террора — нежная, легкая, трогательная (...) женщина как цветок, как смели отравить ей жизнь, уничтожить ее мужа, плевать ей при допросах в лицо, оторвать от маленького сына, которого она уже никогда не увидела, потому что и он погиб, пока она гноилась на каторге в вонючем ватнике и шапочке-ушанке.
Надежда Мандельштам о Екатерине ЛившицПо-прежнему люблю людей, стихи, книги и хороший разговор.
Екатерина Лившиц, 1972Всех, кто был знаком с вдовой поэта Бенедикта Лившица, поражала ее удивительная цельность, открытость и не зависящая от возраста грациозность. Общение с ней всегда было по-особому насыщенным и праздничным, а в ее безукоризненной речи, простоте, даже в осанке дышала сегодня уже совершенно непредставимая эпоха.
Павел НерлерС Александрой Петровой и приехавшим из Таллина переводчиком, поэтом и издателем Светланом Семененко отправились мы в тот вечер в гости к вдове Бенедикта Лившица Екатерине Константиновне. С Александрой, женой легендарного поэта и переводчика Сергея Петрова, мы дружили, Светлана в тот вечер увидела я впервые; в Ленинграде закончил он одно из отделений университета, не знаю, естественнонаучное или близкое к матмеху, а филологическое образование получил он в Тарту. Этот худой, невысокий, державшийся преувеличенно прямо, почти навытяжку, как многие люди небольшого роста, пресимпатичный приветливый человек жил в Эстонии, которую представлял себе — до начала XXI века — некоей андерсеновской литературной маленькой страною; но и в ней больше всего любил он Причудье (sic!), область возле Чудского озера, район межи, не Эстония, не Россия, тихие места, рыбалка, и не просто что православные церкви, а старообрядческие со старообрядческими общинами.
Мы добрались до дома Екатерины Константиновны, жила она в одном из дворов Торжковской улицы неподалеку от Черной речки.
Екатерина Константиновна обрадовалась нам, как радовались гостям в старину, друг моего друга мой друг, а гость — от Бога. Она была очень красива, эта курящая немолодая легкая женщина, воображение мое одело ее в платье «с плечами», с узором, одна из довоенных красавиц, умевших носить эти кашемировые и крепдешиновые платья для театра. Иногда мне кажется, что одела я ее в то платье, в котором некогда приходила к деду моему в гости Агриппина Яковлевна Ваганова (в нем она и на фото двухтомника юбилейного «Истории русского балета»), «Тут сбивчивым стуком твоих каблучков еще мерят эпох чехарду околотки, и ты не чета ни одной из толпы щеголих: здесь помнят ограды и знают решетки узор крепдешиновых платьев твоих». Рифма неосознанная, но неслучайная: все знают, что Ваганова была великой балериной, но я не знала тогда, что Екатерина Константиновна, Катенька (Таточка) Скачкова-Гуриновская, в юности собиралась стать балериною и была ученицей Брониславы Нижинской.
Мы пили чай в теплой, необычайно уютной петербургской квартирке, чудом угнездившейся в недрах одной из «хрущоб». Кое-что из вещей Екатерины Константиновны, пока отбывала она срок в лагере, хранилось у друзей; что-то потом, после возвращения в Ленинград, должно быть, купила она в антикварном магазине, тогда их было много, в них можно было наткнуться на несожженное в блокаду, не реквизированное, не украденное кресло прабабушки или дедушкин секретер. Было ли в ее нынешнем доме что-нибудь из квартиры отца на Маяковского, мне неизвестно.
Мы стали читать стихи, и Светлан, и я. Чтение длилось около часа, Екатерина Константиновна была великолепная слушательница.
Она сказала:
— Как далеко вперед ушла поэзия со времен Серебряного века!
— Далеко? — переспросил Светлан.
— Очень многое изменилось, — отвечала она. — Темы, размеры, ритмика, система образов...
Мы откланялись, вышли в темные кварталы, было холодно, неприкаянно, ее прелестная улыбка осталась с нами.
Вечерний заблудившийся трамвай, до которого мы сначала брели, потом долго ждали на остановке, прокладывал путь сквозь тусклые огни петербургских мандельштамовских ночных фонарей. Впереди, за лобовым стеклом оконца вагоновожатого, по траектории стрелы ночного взгляда маячила то Москва, то имение под Винницей, где Катенька Скачкова появилась на свет, то — за первым поворотом — волжская волна, где погиб под Сталинградом и был похоронен на Мамаевом кургане сын Екатерины и Бенедикта Кирилл; а в соседних граненых оконцах маячил Североуральский филиал ГУЛАГА, потом послелагерные Сосьва, Осташков, Луга, Рыбинск, Сиверская; а задние стекла вагона за вторым и третьим поворотами обращались то к расстрельным могилам Левашовской пустоши, то к кабинету следователя, сообщившего Екатерине Константиновне, что муж приговорен к «десяти годам без права переписки», все уж знали, что это расстрел, следователь сказал — можете подыскать себе другого мужа, и отвечала она: я с мертвыми не развожусь; то к допросным, где в одном из страшных закоулков переводчице Тагер устроили очную ставку с седым безумным бормочущим невесть что запытанным Бенедиктом Лившицем; а когда запереезжали мы через Неву, заплескались волны под веслами лодочки, на которой катал юную невесту свою Бенедикт в дни любви; и, куда ни глянь, в любую сторону географического пространства либо исторического времени — или безвременья полного — как далеко, как далеко, неоглядные дали.
Свидание в Самарре
«Свидание в Самарре» — древняя месопотамская притча, пересказанная в тридцатые годы Соммерсетом Моэмом в пьесе «Шеппи». Впрочем, разные комментаторы называют ее по-разному: старинная восточная новелла, история из суфийских практик и анекдотов (если так, не рассказывал ли ее своим адептам Гурджиев?), текст времен древневавилонских, — в любом случае, достояние нашей многовековой Вавилонской библиотеки.
Существует одноименный роман О’Хара с эпиграфом моэмовского пересказа, а также пересказы других авторов, известных и безвестных, в частности, Борхеса.
Некий торговец посылает слугу на базар, тот возвращается бледный, перепуганный, говорит, что встретил там женщину, в которой признал Смерть, она сделала ему угрожающий жест, о, хозяин, дай мне коня, я поскачу в Самарру, там она меня не найдет; отправив перепуганного всадника, торговец сам идет на базар, находит Смерть и спрашивает ее — зачем ты напугала слугу моего, для чего грозила ему? ничуть не бывало, отвечала Смерть, я ему не грозила, я просто была бесконечно удивлена, почему встретился он мне в Багдаде, если сегодня вечером у нас с ним свидание в Самарре.
Должно быть, это вечная история, в которой меняются разве что времена, имена и род занятий действующих лиц и названия городов. Мне известны два варианта «Свидания в Самарре»: притча о враче и притча о переводчике.
Доктор Б., военный врач-нейрохирург, заболевает, у него находят рак желудка, его оперируют (а происходит всё в Ленинграде начала семидесятых годов двадцатого века), гистология показывает одну из тяжелейших форм онкологии: если при операции остается хоть микронная доля пораженных клеток, они дают бурный рост, и через некоторое время больной погибает от множественных метастазов. Б. выходит после операции на работу, прежде был он дородным, высоким, крупным, черные союзные брови, скульптурный вырез ноздрей, боярин, да и только, а теперь похудел почти до неузнаваемости. Он работает год, оперирует, лечит больных, и тут начальству начинают приходить анонимки, — мол, врачи, чтобы положить человека в клинику, взятки берут. Какие взятки? В те годы в медицине взятки были не в моде, а в моде были врачи-бессребренники. Бывшие больные, конечно, могли принести из благодарности бутылку вина, самодельный торт либо жареного поросенка, чем дело и ограничивалось. Однако, обязанное реагировать на доносы начальство назначало комиссию за комиссией, о доброе имя клиники околачивали язык, то было темою открытых и закрытых совещаний, собраний и партактивов. Б., парторг клиники, переживал страшно, принимал происходящее близко к сердцу, настолько близко, что после инфаркта в одночасье его не стало. А вскрытие показало — никакой онкологии, никаких метастазов, ничего, здоров абсолютно.
Переводчика Владимира В., доброго, мягкого, милого человека любили все. В юности был он одним из семинаристов знаменитого семинара Татьяны Григорьевны Гнедич. Его книги испанских, французских и английских эпиграмм знала вся читающая царскосельская (жил он в Пушкине) и ленинградская публика. Жизнь его была омрачена в девяностые годы гибелью единственной дочери, убитой неизвестными, и тяжелой болезнью жены, сошедшей от горя с ума. Долгие годы ухаживал он за женою, потом овдовел, некоторое время жил один, потом, сдав квартиру по договору интернату квартирного типа, переехал, — кажется, в Павловск. Не все книги поместились в новом обиталище, однако, самые любимые, а также переводы свои сумел взять он с собою. Прижившись, подружившись с семьей директора интерната, решил он осуществить свою давнишнюю мечту: путешествовать. С директором и его женою провели они месяц в Италии. Через год В. задумал лететь на Карибское море. С ним смог отправиться только сын директора. Наш переводчик был уже в летах, сильно за восемьдесят, они благополучно долетели, расположились в гостинице, отправились поутру на пляж, а вот и Карибское море, он был совершенно счастлив, но время его уже сконвертировалось в точку у кромки прибоя, ему оставалось только войти в воду и умереть.
Клоун и снег
Мальчики с сережками в ушах поют и пляшут под бутафорским снегом. Опереточный снег ниспадает на полуночный фосфоресцирующий зеленым театр. Гипотетические хлопья воцаряются в Шварцвальде, в Рождественском воздухе, и падают на шляпы братьев Гримм и на чалму Гауфа Вильгельма. Но снег не имеет надо мной власти. Он везде одинаков, везде ничей и принадлежит всем, он как поэт, такая неприкаянная штука, разве что примесь радионуклеидов датирует цивилизованный мир; но снег маскируется, он метафизика; оставь меня, он подобен и тебе, само собой. Совсем другие клочки пространства томят меня любовью, куда менее поэтичное, более неприютное, тяга к чему лишена смысла и цели, то настоящее, не успевшее принарядиться, не обращенное волшебством в суррогат счастья.
Клипы, 1987Я видела полунинское «Snow show», «Снежное шоу», только на компьютерном экране, о чем жалела, конечно, но долгие годы жила я со своим аутичным младшим как бы в затворе, пропустила всё, что можно пропустить, собственно, и жалеть было нечего, раз так жизнь сложилась.
Но увидела я и два его интервью, с этим шоу связанных, в пожилом возрасте рассказывал он на вечере в ЦДЛ о возникновении спектакля, а потом, через десять лет, в старости, отвечал на вопросы красотки-ведущей телепередачи «Белая (!) гостиная».
Зал ЦДЛ был полон, среди зрителей видела я знакомые лица актеров и актрис.
Полунин рассказывал о возникновении и роспуске «Лицедеев», о гастрольных поездках (из одной из них, вернувшись в Россию, въехали актеры в Москву с колонной танков, то был день расстрела Белого (!) дома), о первой в своей жизни депрессии, накрывшей его в Петербурге девяностых, когда одного из сыновей избили в подворотне в год грошовых уличных грабежей и убийств, а в Москве вещи его выкинули на улицу. Петербург девяностых, говорил он, был совершенно мертвый город, холодная зима, пустые прилавки магазинов, озабоченные люди, которым важно было добыть хлеб, не до зрелищ, не до волшебства, не до искусства, не до красоты. Он уехал в Пушкин, бродил по Екатерининскому парку, тишина, покой, никого, он арендовал помещение в пустующей Китайской деревне, съехались и актеры его («и вышла у нас деревня дураков»), стены его комнаты были в шелестящих бумажных рисунках, делал он зарисовки сценок, реприз, отрывки будущего зрелища («этому научился я у Мейерхольда»), гуляли по неисчерпаемому парку, собирали грибы, приходя обратно, готовили грибы и записывали возникшие в пути мысли этого брейн-штурма. Театр свободы «Лицедеи» уже исчерпал себя, там каждый занят был собой, пора было искать что-то новое, говорил он, и мы разошлись. Постепенно в волшебном Пушкине, «где словно над нами была дыра в Космос, во Вселенную», стало возникать нечто, отличавшееся от былой поэтической клоунады «Лицедеев», мне хотелось, говорил он, клоунады трагической, трагикомической, чтобы был тотальный театр, зрелищное пространство, фантастическое, абсурдное, с живописью, пластикой, костюмами, музыкой.
В зале, в одном из рядов, оператор время от времени снимал двух молодых людей, серьезные, почти грустные лица, сходство; друзья? братья? потом подумала я: может быть, полунинские сыновья? Эти двое, узколицые, лицо, как нож, странным образом напоминали Жана-Луи Барро, великого французского мима и актера, игравшего к тому же Батиста Дебюро, одного из первых великих мимов Франции восемнадцатого века, в моем любимом фильме «Дети райка».
Неподалеку от Китайской деревни, продолжал Полунин, был дом Кочубея с небольшим залом и сценою. Мы приглашали из Ленинграда и Пушкина друзей и показывали им фрагменты будущего действа. Состоялся тогда в Пушкине фестиваль художников, нашелся для нас и художник, Плотников, из белого беззащитного перышка и грозной вилки показавшего нам на столике Кармен.
Он рассказывал о гастролях в Лондоне («я тогда обложился картами и справочниками, искал в мире город, где больше всего театров, где, то есть, самые лучшие зрители, — и нашел Лондон»). В Лондоне получили премию за лучший спектакль года.
Еще бы — он искал на глобусе театр, а театр «Глобус» шекспировский исторически был — английский.
В России первый спектакль показали в Челябинске.
Подправляли, действо менялось на ходу, на глазах зрителей разных городов и стран, чего-то недоставало. Еще бы, думала я, ведь спектакль — точно роман, он длится, в пьесе есть сюжет. А цирк — это номера, всегда концерт, один номер — клоунский. Недоставало? А где же, скажите, гимнастка на роликах с сияющей улыбкой на личике Дины Дурбин? где медведь на велосипеде? вечные жонглеры? вольтижировка? прыгающие через обручи тигры? бояре на трапеции? а зал, он в театре-то П-образный, там сцена, а в цирке арена, как в Древней Греции или в Древнем Риме, буква О, другая буква.
И само вычисление спектакля, о котором говорил Полунин, поразило меня. «Настоящий театр хорош на 500–700 мест, глаза, мимика видны только до двадцать пятого ряда, дальше лицо исчезает, остаются жесты и движения». Вычислено было всё: свет, музыка, костюмы, каждая черточка восприятия. Поверил я алгеброй гармонию.
Пока думала я, настал час второго интервью десять лет спустя, мне уже мерещились не Академия дураков, не конференция клоунов в заснеженных просторах снегов (Рождественских? лагерных? с белизною фаты? детской пеленки? простыни? савана?), а бредущие по кромке метели, вьюги, бури снежной король Лир с шутом своим, оба в лохмотьях.
Во втором интервью в белой супрематической компьютерной гостиной Полунин процитировал слова Феллини: «Настоящий клоун заставляет пьяницу пить, художника хвататься за кисть, прачку стирать».
Он говорил о красоте снега, вмиг покрывающего грязный город царством белизны. Что знакомо и понятно любому горожанину, у меня тоже это есть в стихотворении «Снег».
Но самой яркой частью его монолога была история из детства, когда матушка его уезжала в трехметровые снега, опоясавшие дом и весь мир, за двадцать километров в райцентр за продуктами и товарами, иногда отсутствовала она день, три дня, неделю; было страшно: «Снег забрал маму...» А потом она возвращалась, возникала из снежной дали, материализовалась из метели: «Снег это мама». И тут он плачет. И у светской кокетливой ведущей слезы на глазах.
Дальше Полунин говорит:
— А жена моя вообще якутка. У них там снег — всё, и самое лучшее, и смертный страх.
Да ведь и у меня бабушка из Сибири, ее с сестрой и братом малыми детками привезли с Сахалина на собаках по проливу Тартари, — на материк, в Новониколаевск, теперь он Новосибирск.
Я смотрю «Snow show» на маленьком экране компьютера, не единожды, жизнь моя такова, что я никак не могу увидеть действо целиком с начала до конца. И потом перед сном вспоминаю то, что смогла увидеть. Хрупанье шагов на снежной ровнице. Заснеженные домики игрушечные с горящими окнами, клоун вывозит их на веревочке, детский зимний поезд из прошлого. Декорации зимы. Булгаковские фигурки на снегу: виденье, начало прозы. Брейгелевские на снегу фигурки. Человек в метели. Акакий Акакиевич без шинели в холоде Коломны: украли шинель, украли! Последняя буря.
И с образом разорванного клоуном письма, — летят обрывки, начинают сыпаться снежинки, — приходит в память мою детская моя игра.
В послевоенные годы игрушек было мало, плюшевый медведь ростом с двухлетнего ребенка, он сохранился до двадцать первого века, с такими медведями деток фотографировали в фотоателье, кажется, их шили зэки где-то в недрах и берлогах лагерных шарашек. Простенькие железные трактора, саночки, машинки, жестяные, раскрашенные от руки. У меня был такой грузовичок, подобный тому, который вывез любимого мужа моего, трехлетнего, по Дороге жизни после первой блокадной зимы (он мало что помнил, только красивые черные фонтаны, всплескивавшиеся в ладожских снегах то там, то сям: взрывы). Я брала газету, машинописные черновики дедушкиных научных работ и рвала их на меленькие клочочки, это был снег, я нагружала его в кузов грузовичка, везла по паркету, осыпая по дороге не поместившимся игрушечным снегом, казавшимся почему-то необычайным сказочным богатством.
Думаю, не я одна играла с самодельным бумажным снегом.
А уж с настоящим-то — что говорить. Дети — да и взрослые — с ветхих, может быть, времен, — играли с этими доставшимися им просто так массами вещества: в песок, строя на пляжах из мокрых капель замки в стиле Гауди, роя пещерки, выкапывая затончики, укладывая загорать скульптуры песочных людней и песчаных животных; в песочницах с куличами и машинками; в воду, плескаясь, плещась, плавая, устраивая фонтанные зрелища; в грязь, это радость мелюзги, несущейся к ужасу маменьки топотать в луже; в снег, само собой, все эти снеговики, ледяной дом, взятие снежного городка с предварительной его постройкою, в снежки, в отряхивание над головою дерев яблоневых, вишневых садов, чаировых парков; а языческое вспахивание снегов полей для будущего великого урожая? а катание на тройках? и звон коньков на катках, на зимних твердях рек, каналов и прудов? а игрища во время с песочными, водяными и солнечными часами? Какой древней игрою заканчивается «Снежное шоу», подымая в зрителях из глубин сознания неведомые пласты. В тех, конечно, у кого это сознание — вкупе с глубинами — есть как таковое.
Тутолмины
Софья Петровна Тутолмина, дочь графа Петра Ивановича Панина, которого Екатерина называла своим «личным врагом и обидчиком», жена Ивана Васильевича Тутолмина, камергера великой княгини Елизаветы и позднее шталмейстера...
Воспоминания фрейлин дома РомановыхЭта экзотическая запоминающаяся фамилия время от времени — через годы — всплывает в моей жизни: в рассказах школьной подруги Нины (детских ленинградских и взрослых комаровских), в разных книгах (например, в известной «Две Москвы» краеведа и писателя Рустама Рахматуллина), на полках книжного магазина, в чреде гугловских поисков, на гербе дома 28 по Большой Морской.
Дворянский род Тутолминых восходит к XV веку, как поведал мне Гугл; и я еще надеюсь, что удастся мне прочитать статью, посвященную им, в 82 томе Брокгауза и Ефрона. По одной из версий фамилия их тюркского происхождения. А семейное предание производит Тутолминых от Чингисхана через его внука Берке.
В золотом поле щита их герба две подковы, в серебряном — лев на задних лапах, держащий натянутый лук со стрелою, в голубом поле пять серебряных осьмиугольных звезд, в красном три серебряных осьмиугольных звезды и полумесяц серебряный рогами в левую сторону. По сторонам щит держат два льва.
Поскольку никогда не видела я генеалогического древа, ветви его и персоналии не связывались для меня в единое целое, мне встречались отдельные лица, персоны, персонажи разных времен, управитель московского Воспитательного дома Иван Акинфиевич, генерал-майор Алексей Тимофеевич, ротмистр, а позже генерал от инфантерии Иван Федорович (которому принадлежал дом на углу Большой Морской и Гороховой, построенный Сюзором, с лепным гербом), Иван Васильевич с портрета осьмнадцатого века, еще один тропининский портрет, фотографии Николая Федоровича и Дмитрия Федоровича, доктор Н. Н. Тутолмин, изображение московского особняка Тимофея Тутолмина в Москве на Гончарной, фото Старицкого Свято-Успенского монастыря, где у северного фасада Успенского собора стоит фамильная усыпальница-храм, фотография Софьи Николаевны, двоюродной сестры Блока.
У О. Л. Качаловой, тетушки Блока с отцовской стороны, было четверо детей; Ольга Николаевна (вышедшая замуж за сына Сюзора), Мария Николаевна, Николай Николаевич (известный стекольщик) и Софья Николаевна, чей второй муж принадлежал к роду Тутолминых.
Ольга Владимировна Тутолмина, дочь их дяди, вышла замуж за Калугина Михаила Дмитриевича, родилась у Калугиных дочь Татьяна — мать Нины.
Мать рассказывала дочери: в собственном калугинском санкт-петербургском доме дети время от времени устраивали спектакли, участвовали и дети знакомых, домашний театр. Отец всегда был одним из лучших, веселых и благодарных зрителей. Но в один из дней отец пришел из Государственной Думы мрачный, озабоченный, заперся с двумя друзьями в кабинете, спектакль смотреть не стал, дети обиделись на него, не понимали — почему? что это? А это была — революция.
Нина, еще когда мы в школе учились, ездила с матерью в гости в Комарово на дачу Качалова и Тиме на Косой улице, где стояла в саду знаменитая беседка, куда приходила заниматься Галина Уланова. Николай Николаевич Качалов, известный стекольщик, был другом детства и юности Михаила Калугина, приведшего его в семью Тиме.
Два теплых лета Нина жила в гостевом «стеклянном» домике нашей дачи в Комарове. Тихое безвременье окружало нас своей травой забвенья, чернобыльская катастрофа была впереди, вечерами мы разговаривали на одном из крылечек или на лужайке перед летним домиком. Лужок, который я потом перетаскиванием из леса ландышей превратила в ландышевый, цвел кружевными зонтиками сныти, вокруг кленов сажала я малыми кругами мелкие медово-золотые бессмертники из рассады финки-садовницы Александры Яновны, цвел шиповник, белый и алый, финская роза. Ранней ночью, выйдя на свою кухоньку второго этажа попить, видела я в окно, что у Нины в стеклянном домике горит свет.
Тогда впервые произнесла она фамилию Тутолминых, запоминающуюся навсегда необычностью, уникальностью. Почему-то запомнила я, что эту фамилию носил дед, член Государственной Думы, владелец нескольких домов в Петербурге; в одном из домов во дворе набережной Мойки находился ресторан «Донон». Но то была бабушкина девичья, деда фамилия была Калугин, недавно прочитала я о нем в Википедии. Он умер в эмиграции не старым еще и похоронен в Хельсинки. Нина мечтала съездить на могилу деда, но тогда еще никто никуда не ездил, поездка за границу была эпопеей, в отличие от настоящего времени, когда ездит кто ни попадя куда угодно, если время и деньги позволяют (я, например, принадлежу к большинству, у которого времени еще меньше, чем денег).
В девяностые годы, возвращаясь из издательства, посещала я на Петроградской книжный магазин (вроде «Университетской книги» или «Гуманитарной академии»), где покупала томики Мамардашвили, брошюры по истории и т. д.; однажды открыла я скромную тоненькую беленькую книжку, повествующую о русских дачниках Карельского перешейка, оказавшихся после революции в эмиграции, вольной ли, невольной (а я тогда писала «Виллу Рено») переехавших в Финляндию, и в одном из списков значились Тутолмины. Мне очень хотелось купить это издание, но денег у меня не было, только на проезд, я ушла, не солоно хлебавши, не выписав выходных данных, надеясь вернуться. Но прошло довольно много времени, прежде чем я вернулась, — а магазин исчез, словно его и не было, одно из обычных исчезновений в те годы.
И никто из известных мне обитателей Петроградской представить себе не мог, о каком исчезнувшем магазине идет речь.
Пока не набрала я номер Кати Шитик, некогда под псевдонимом Кэти Тренд опубликовавшей у Фрая фантастический рассказ о пропажах-подменах-исчезновениях девяностых годов.
— Должно быть, это «Гиппократ»! — воскликнула она. — Он находился на улице Ленина и исчез самым загадочным образом. В один прекрасный день дверь его оказалась закрытой на ключ в духе фэнтези: свет в магазине не горел, в окна видны были стоящие на полках книги, а продавцы словно испарились. Мне кажется, он так не один год стоит закрытый, с книгами и без продавцов.
Заброшенный магазин? воплотившийся в явь образ из набора психологических (или психотерапевтических?) тестов?
Мы ходили вечерами с Ниной в гости к нашей школьной учительнице литературы Анне Григорьевне Когель, жила она на Конюшенной улице (тогда еще называвшейся улицей Желябова) неподалеку от Капеллы в одном из близких к ней домов, надо было войти под арку, найти в закоулке двора дверь, а уж учительница наша ждала нас. Мы для нее, незамужней и бездетной, были отчасти приходящей семьей. Ни сестры ее, ни племянника я никогда не видела. Но у всех у нас — а приходила еще киевлянка Наталия Платонова, пианистка, — имелась одна общая семья, потаенная, от многих глаз скрытая ветвь: не только писатели, пограничное племя, но и герои их книг, образы третьего мира. Миров с давних времен было три: мистический, реальный и мир искусства. Для Анны Григорьевны, как для Нины, Наталии и меня, Андрей Болконский, Николай Ростов, Илья Обломов, Маша Миронова и другие были значительно реальней, чем соседи по лестнице, моя сварливая корыстная мачеха, наши неверные ухажеры. И с точки зрения Платоновой невозможность купить новое зимнее пальто и необходимость мерзнуть в старом — куда менее значимы, чем прекрасная возможность послушать запись вальсов Шопена в волшебном исполнении чилийца Клаудио Аррау.
Мы чаевничали, говорили о новых книгах, выставках, о том, о сем, я читала стихи. Не помню, чтобы когда-нибудь упоминались Тутолмины. Зато однажды Нина рассказала, что скульптор, долгие годы работавший над образом Александра Блока, лепил Нинин портрет, потому что удивительным образом фамильные черты читались в лице ее, редкий разрез глаз (внешний уголок глаза ниже внутреннего), овал, лепка носа, очертания губ; она была похожа на свою мать, внучатую племянницу поэта.
Еще один фамильный момент открылся для меня долгие годы спустя, общий и для Александра Александровича, и для Татьяны Михайловны, и для Нины: в какую-то минуту жизни полный энергии статный — даже спортивный — человек заболевал в нестаром еще возрасте, словно что-то ломалось в нем, моментально лишая сил, ведя к быстрой загадочной гибели.
С Ниной в 171-й школе на углу улиц Маяковского и Жуковского — ! — (Надеждинской и Итальянской) мы учились не с первого класса, она появилась в четвертом, тогда же, когда и мальчишки, школы перестали быть женскими и мужскими, стали смешанными. Нина приехала из Китая, где несколько лет работали ее родители. Сменилась тогда и учительница, — на спокойную и приветливую; предыдущая, несчастная женщина, муштровала нас почем зря и иногда обращалась с детьми жестоко. Стало быть, новая ученица Буторина появилась среди нас вместе с ветерком свободы. Нина была высокая, статная (в среднерусских деревнях сказали бы «постановная»), с преувеличенно прямой спиною, такой и оставалась, подрастая, в ней не было ни щенячьей худобы, ни щенячьего жирка, она напоминала статуи римские, всё наполнено, но ничего лишнего. Занималась она спортом, в раннем детстве — еще в Китае — спортивной гимнастикой, позже сначала баскетболом, потом волейболом в одном из настоящих спортивных клубов. В шестом классе устроили под новый год маскарад, тихий, робкий, все без масок, однако, в самодельных костюмах, сшитых мамами или бабушками, вот Иван-царевич по фамилии Иванов, шляхтич Хотемлянский, в пару (случайно) гордая полячка Ольга Коробчук (лихо станцевавшая мазурку), цыганочка Тихомирова, я была французская пастушка и спела как могла «Il était une bergère»; Нина пришла в настоящем китайском блестящего шелка одеянии, шелковые брюки, широкие рукава, вышивка, аппликации, она танцевала китайский танец с веерами, только ее прекрасные желтые косы не вполне вязались с обликом спортивной пекинской Турандот.
Училась она очень хорошо, но иногда случались у нее срывы, гордая, самолюбивая, своенравная, она их переживала очень, возвращалась от доски, получив четверку или тройку, хотя бывало то редко, поджав губы, и чуть ли не швыряла на парту дневник, другой раз даже слезы в сероголубых глазах за очками вскипали.
Когда на днях вспоминали мы Нину Буторину с двумя одноклассниками, Татьяна А. сказала: «Она казалась мне очень умной, очень взрослой, у нее была внешность отличницы, образ человека целеустремленного, который состоится, — может быть, преуспеет в науке. Она как-то отличалась от всех других». А Саша Щ. заметил: «Я мало что могу сказать о ней почему-то. Она была очень обходительная. И у нее был непохожий ни на кого цвет волос и ресниц, немножко белесый». И она, и он, говоря о Нине, сказали слово «очень» и вспомнили ее особенной, отличавшейся ото всех.
Влюблена она была вприглядку в Мишу Никулина, вихрастого, с сияющей улыбкой, бесшабашного, бойкого. Как и ожидалось, он стал талантливым математиком, окончил ЛГУ, в конце шестидесятых преподавал в Конго, в колледже Браззавиля (фотографировался ли он там с обезьянкой на плече?), с 1992 года живет во Франции, в Бордо, профессор университета Виктора Сегалена. А в школе к восьмому классу у нас было две пары: Миша с Ольгой Е. и Виктор П. с Наташей Д. Прямо-таки семейные пары, девочки шептались: Никулин ходит со своей Ольгой в галантерею выбирать ей подходящего цвета и фасона лифчики и трусики. Не знаю, боролись ли с этой ситуацией их родители. Может, и нет, поскольку всё равно было бесполезно. С удивлением все принимали их как данность.
Приехав из Китая, Нина подружилась с тихой, скромной маленькой Мариной Краснопольской. А мы с Ниной задружили в конце восьмого класса.
Мы ходили пешком из школы после уроков к Нине в гости, она жила на Кондратьевском проспекте в двух шагах от кинотеатра «Гигант». В десятом классе мы почему-то готовились к экзаменам во время пеших прогулок, перипатетички, отправляясь таинственным маршрутом от школы на меридиан Московского проспекта, группа девочек, стайка, меняющийся состав, мы с Ниною в числе постоянных пеших зубрилок.
В моей семье в те времена все было плохо, я переживала смерть деда, тяжелую болезнь отца, развод родителей, появление устрашающей мачехи и отчима, с которым не находила общего языка. В Нинином доме было тихо, родители ее любили друг друга, любила ее и старшая сестра от первого брака Татьяны Михайловны. Нинин отец, Дмитрий Буторин, был из палешан. В нашем левинском Дворца пионеров кружке рисования мы, конечно, знали палехскую миниатюру, увлекались ею. В Википедии я нашла Дмитрия Буторина из Палеха, но художника, автора росписей шкатулок, подносов; а отец подруги моей был филолог, составитель словарей.
Учителя в 171-й школе были один лучше другого, математик Бойченко, химичка Татьяна Венедиктовна, историчка Капитолина Николаевна, повествовавшая нам о городах древних народов так, словно накануне прибыла оттуда. От нашей учительницы литературы Анны Григорьевны впервые услышали мы о Гумилеве и Цветаевой, что в те времена являлось в некотором роде крамолою и нарушением правил. Мы были научены писать развернутые планы сочинений так, что наши с Ниной тетради школьные показывала я в восьмидесятые годы старшему сыну, чтобы и его этому научить. Нина писала прекрасные сочинения, не только домашние (можно было бы предположить, что ей помогает отец, но при ее строптивости и самостоятельности она должна была всё придумывать и писать сама), но и классные, у нее несомненно был литературный дар, усиленный логикой, страстностью изложения, стройностью стиля, всегдашним своеобразием, остротой и необычностью восприятия.
А вот о чем мы точно говорили в гостях у Анны Григорьевны — так это о Нининой поездке в Америку. В воображении моем всё еще плывет океанский пароход, только небо и вода во весь окоем, ночью фонари на палубе и мириады звезд, а на борту в маленькой каюте моя школьная подруга с больным младенцем. Ни улицы, ни аптеки: ночь, фонарь, тьма, а когда еще не совсем темно, океанская вода напоминает массивы зеленоватого с проседью прожилок и трещин стекла из дома «главного оптика страны» Николая Качалова.
Младший сын Нины Митя родился с комбинированным пороком сердца, да еще и с обвитием пуповиной, чуть не задушившей его. Собственно, пороков сердца было пять. И одни врачи утверждали, что ребенок не доживет до четырех лет, другие настаивали на немедленной операции, третьи на операции в трехлетием возрасте, а четвертые говорили, что операция ему противопоказана и вовсе невозможна. Нина списалась с дочерью школьного учителя своего отца, когда-то угнанной на работу в Германию, встретившую там в конце войны американского солдата союзнической армии, вышедшую за него замуж и уехавшую с мужем в Штаты. После чего отправилась в загадочную неприступную организацию ОВИР, чьим назначением в ту эпоху было никого не пущать, вооруженная целеустремленностью своей, отчаянным желанием защитить свое дитя и некоей бумагою, кажется, Варшавским договором, в коей было прописано, что любой гражданин страны, договор подписавшей, имеет право лечиться в странах, чьи подписи на нем также стоят. И ОВИР дрогнул, это было натуральное чудо. Наша родственница Тутолминых и Блока с тяжело больным ребенком на руках загрузилась на океанский пароход «Михаил Лермонтов», и поплыли они.
Плавание длилось чуть меньше месяца. Полной уверенности, что мальчик не умрет у нее на руках, у Нины не было, однако, он окреп от океанского воздуха, от дыхания величавой водной стихии, обветрился от атлантического ветерка. Погода им благоприятствовала.
Они добрались до места, Митю обследовали, введя ребенку через бедренную артерию в сердечко микроскопический зонд (Нина подписала бумагу, что она в курсе опасности данной процедуры), и написали резюме: два порока сердца для жизни трудностей не составят, два израстутся сами в течение двух лет, а как после этого поведет себя пятый, надо будет наблюдать, возможно, операции и не понадобится.
Обратно они летели на самолете. Под крылом, далеко внизу, лежал знакомый Атлантический океан. И пока они путешествовали туда и обратно, все пращуры, начиная с внука Чингисхана, молились за них.
Прошлым летом, перечитывая книгу Рустама Рахматуллина «Две Москвы или Метафизика столицы», задержалась я на главах, посвященных Московскому Воспитательному дому для подкидышей и сирот, идея создания которого принадлежала Ломоносову, само создание было делом рук Бецкого. «В Москве советской Воспитательный назначили Дворцом труда, то есть пристанищем всех профсоюзов с их редакциями». Одолевший многие версты коридоров дома в тщетной надежде опубликоваться Александр Грин, по версии Георгия Шенгели, сделал его домом чудака Ганувера, таящим золотую цепь и чудеса архитектуры, в своем романе «Золотая цепь».
В части книги, посвященной Воспитательному дому, одна из маленьких глав называлась «Тутолмин», была посвящена управителю Воспитательного дома Ивану Акинфиевичу и заканчивалась словами, начертанными над его прахом в Донском монастыре: «Младенцев сохранил, бескровным дал покров и твердостью своей очаровал врагов».
И на этом закончила бы я свою историю, если бы на днях не попалась мне статья из журнала «Наше наследие»: воспоминания Софьи Николаевны Тутолминой об отце своем и брате, о Качаловых, а также воспоминания ее об Александре Блоке. В статье о Качаловых писала она и о друге юности брата своего, Михаиле Калугине. А в биографической врезке, предваряющей мемуары, прочла я, что несколько лет прожила Софья Николаевна в Комарове, где «оставила о себе добрую память» и была похоронена на Комаровском кладбище в 1967 году.
С середины шестидесятых матушка моя с отчимом снимали летом дачу в Комарове, а потом купили свою. Стало быть, в юности, я могла встречать Софью Тутолмину на одной из комаровских улиц.
Автандил
Они познакомились в ранней юности на каких-то спортивных сборах, юниорских турнирах, красивая девочка Таня из Ленинграда, тополек, баскетболистка, красавец юноша из Грузии Автандил. Первая любовь во всем ее весеннем волшебстве, пейзажи изменившегося мира, письма; до конца дней хранила она флакон французских духов, которые в те годы на наших широтах никто и не видал: его подарок.
Потом приехала его мать. Ты не должна вмешиваться в его жизнь, сказала она, он женат; говорят ли в таких случаях, что жена его грузинка, дочь состоятельных уважаемых родителей, а ты русская нищебродка, никто? был ли ее Авто и в самом деле женат, или только обручен, или только сговорен? Ее мать тоже не хотела, чтобы они были вместе, ревновала к грузинскому красавчику, обманщику, зачаровавшему ее дочь, боялась внебрачного младенца, отъезда дочери в непонятную Грузию, да вы с ним не пара. Взрослые развели их деловито, жестоко и бесповоротно. Как загипнотизированные, они подчинились. Взрослая Татьяна с особым замиранием сердца смотрела фильм Абуладзе «Древо желания». Всё было не так, но всё было про них. С удивлением, с трудом отрываясь от страницы, читала «Витязя в тигровой шкуре», где один из героев был его тезка.
Десятилетия прошли, уже спалил Татьяну онкологический пожар, никто не остановил, ничто не затушило, ни в Петербурге, ни в Германии, уже сожжена была полудетская любовная переписка, гори, письмо любви, гори, она велела, уже прах Танин стал крематорийским смешанным пеплом, который по ее воле (есть ли у гибнущего воля?) муж, друзья и подруги высыпали ночью в невскую волну возле спуска со сфинксами и грифонами под бинарным взором Аменхотепа (и не испугались этого новоязыческого обряда), цветы светились на воде, вскипела волна, паром изошла, моросью воздушной пала на город, и по всему городу расклеены были афиши (не вспомнить, о чем повествующие!), в которых крупными буквами перед фамилией и смыслом мероприятия набрано было имя Татьяниного возлюбленного.
С афишных тумб, с досок на стенах домов... ветвям дерев, стогнам, тупикам, набережным, переулкам, стежкам-дорожкам — только имя (но выкрикнул его весь город): «Автандил! Автандил! Автандил!»
Паломник
Константин А. встретил в Салониках, где отдыхал с женой Ириною, монаха из крошечного монастыря под Архангельском: пять монашек-насельниц да он, шестой, служивший в храме священник. Монах был немолодой, почти слепой, безденежный, не знавший ни одного языка, кроме русского.
— Да как же вы добрались до Салоник?!
— Богородица управила.
Его интересовало, продают ли в Греции «Доширак», пресловутую грошовую лапшу, которую можно хлебать, заварив кипятком.
— Вы сегодня завтракали? — спросили его ввечеру.
— Нет, — отвечал он, улыбаясь, — да я и не обедал.
На Афон, куда и мечтал он попасть, отвез его Константин, отзвонивший ему через день по возвращении в Салоники. По допотопному мобильнику своему монах ответил ему радостным голосом, что всё прекрасно, опять встретился добрый человек, показавший ему могилу старца Паисия, а еще смог он купить для своих монашек бесценные подарки, пять белых платочков да бумажные иконки, и теперь, когда сбылась его мечта и цель паломничества достигнута, собирается он в обратный путь за тысячи верст, за три моря в свою безвестную архангелогородскую обитель.
НАЧАЛЬНИК ВСЕГО
Раньше я ничем не интересовался, теперь меня интересует все...
Эрик. Трактат обо всемВ Испании есть король. Он отыскался. Этот король я.
Мантия уже совершенно готова и сшита. Мавра вскрикнула, когда я надел ее.
Н. В. Гоголь. Записки сумасшедшего«Одно из двух: или мы разумные, духовные люди, подчиненные навек абсолютным ценностям дао, или мы „природа“, которую могут кромсать и лепить некие избранники, руководимые лишь собственной прихотью [...], некие существа, работающие над теми, кто сменил человека».
Клайв Степлз Льюис. Человек отменяетсяБабилония и Домодедов
— Бабилония, — сказал я жене. — Давай съездим в Барселону.
— Домодедов, — отвечала она, — ты опять слушал свою заповедную песню по дурацкому древнему компьютеру? Я ее уже слышать не могу, да и видеть исполняющую ее карикатурную пару не в силах.
— Ты не права, — возразил я. — Дама из карикатурной пары — великая певица, а мужик — автор песни, обожаемый толпами людей исполнитель.
— Толпы людей — не аргумент, — промолвила жена моя. — Цифрами и толпами оперировали фашистские идеологи. В Барселону! Да я в Москву к любимому племяннику на крестины малютки не смогла поехать, а ты знаешь, какое это событие в семье, учитывая личные и медицинские сложности. У нас денег нет на поездки, ты посчитай, какая у тебя пенсия, сколько стоят билеты. Оцифруйся, наконец.
С этими словами она, хлопнув дверью, отправилась на Сенной рынок, где продукты, как известно, с мая по октябрь отличались дешевизной. Из экономии ходили мы на рынок пешком (километров пять через мост), обычно моя вахта, чаще старался я совершать долгую пешую прогулку один, но намедни вылил себе на ногу полчайника кипятку, лечился, сидел дома, совершенно оправдывая данное мне внучкой прозвище Домодедов. Само собой, бабушку Бабилонией прозвала она же.
Выдвинув самый мелкий узкий ящичек старинного обшарпанного многодетального петербургского бюро (называемого некогда «кабинетом»), достал я цветной шарик, стеклянный, что ли (иногда нам с внучкой казался он исполненным из неизвестного геологии нездешнего минерала). Застав меня с ним в руках, жена спрашивала: «Шариков не хватает?» Мерцал, перемещаясь, блик, огонечек марсианский в глубине шарика, украденного Каплей из волшебной комнатушки механических игрушек, мобилей, заводных мирков.
Тотчас пришел кот, спавший в соседней комнате, сидел, покачиваясь, сонный, снулый, встрепанный свалявшийся валенок. Он чуял шарик издалека, глядел неотрывно, притянутый таемным магнитом. Катать! катить! закатить к ляду в щель в полу!
Когда жена моя уходила одна пешком в рыночную даль, я нервничал, по правде говоря, она ни силой, ни здоровьем не отличалась, разве что партизанской стойкостью и молчаливым глубинным упрямством. Вообще чем-то походила она на баптистку, что ли, неведомой миру секты со строжайшими правилами поведения; никто этого не замечал, кроме меня, она вообще не очень была заметна, меня радовало, что разглядел ее в юности именно я, повезло мне на всю жизнь.
Отличаясь невиданными терпением и стойкостью, она не жаловалась и не ворчала, редко, очень редко, когда усталость ухитрялась ненадолго ее доконать или перед единоличными походами на рынок. В ожидании возвращения ее с провиантом время для меня тянулось бесконечно долго, а по мобильному из соображений экономии звонить мне она запрещала. Но в этот раз марсианский шарик, втягивающий взгляд мой, привязывающий к глубинам своим зрачки мои незримыми нитями, как видно, проделал обычный фокус свой: сделал время иным, конвертировал его в точку, превратил в мгновения часы моей жизни.
Хлопнула дверь, вернулась с тяжелейшими сумками любимая моя, я заковылял к двери, она прикрикнула: «Хромай отсюда!» — совершенно счастливая, что пришла домой, добыв еду, и турнула кота, сунувшегося бодать ее ботинки. Кот тоже радовался приходу кормилицы — даже забыл спереть шарик, тут же спрятанный мною, так что Бабилония меня за лицезрением шарика медитативным не застукала.
В качестве рифмы вечерний телевизор в невыносимом очередном концерте своем показал нам воистину карикатурную пару: известная нимфоманка с не менее известным гомосексуалистом пели дуэтом песню о любви. По счастью, мое время пребывать у ящика истекло, я убыл в комнатенку диванную, где тихо читал. По ночам Бабилония смотрела сериал о маньяках. После очередной серии спрашивал я ее, уж не является ли она адепткой какого-нибудь нехорошего дикарского культа с кровавыми жертвоприношениями? И она отвечала мне нежной туманной улыбкой своей, не изменившейся с юности.
Она уснула моментально, как всегда после своего загадочного жуткого сериала. Тогда я сказал ей спящей:
— Дорогая, я хочу в Барселону потому, что там на горе Тибидабо есть музей механических игрушек, где, может быть, стоит маленькая пятиэтажная узкая тюрьма, где по этажам судьбы бегает фигурка Начальника Всего, запускающая события.
Дюма-внучка
Будучи, как десятилетиями журналисты нам впаривали, представителями самой читающей в мире страны (или — самой читающей в мире нацией? эфир летучий журналистских оборотов кто же в силах в голове удержать...), мы, конечно же, отличали Дюма-отца от Дюма-сына. Хотя Дюма-сына читал я только «Даму с камелиями». А базовым произведением Дюма-отца считал «Три мушкетера». С возрастом история мушкетеров в воображении моем тускнела, оборачивалась горою трупов, только шпагою верти, да мушкеты заряжай, а трогательная оперная Виолетта-Травиата при ближайшем рассмотрении оказывалась проституткою, пусть расцветают все цветы, как китайцы до китайской культурной революции говаривали.
В семье нашей Дюма-отца и Дюма-сына не случилось, Дюма-мать проскочили мы, как большинство семей, образовалась у нас сразу Дюма-внучка: внучка наша Капитолина, которую звали мы Каплею, подалась в романистки лет с пяти с половиною, грамоте научилась она рано и как бы исподволь, мы, вроде, учили, но не настаивали.
Сперва писала она трактаты: «Жызнь жывотных», «Фсе о гребах». Иллюстрировали мы сии писания в четыре руки, Бабилония сшивала получившиеся книжечки белыми нитками или скрепляла скрепочками, добытыми из ученических тетрадей. Потом — в шестилетнем возрасте — настала очередь романов, главными героями которых были мореплаватели и пираты. На волнах прозы нашей Дюма-внучки качались парусники, в водах плавали морские коньки, медузы, спруты, каракатицы, попадались радиолярии, киты, скаты и иже с ними: девочка любила Брэма. В уголке, отведенном для нее в нашем доме, (на наше счастье родители частенько подбрасывали нам Каплю), на подоконнике среди домашних растений стоял аквариум, писательница смотрела на мир сквозь его зеленоватую среду, читательница воображала себя капитаном Немо на «Наутилусе». Напротив диванчика, служившего Капитолине кроватью, стояло маленькое игрушечное бюро осьмнадцатого столетия (вполовину меньше антикварного моего, на четырех высоких ножках, так что пространство под бюро временами превращалось в логово разбойников или шалаш землепроходца), где, макая в чернильницу привезенное из деревни заточенное гусиное перо, Дюма-внучка писала свои рукописи, потерянные и найденные в Петрополисе белой ночью, а также письма от неведомых персонажей другим неведомым (иногда симпатическими чернилами из стащенной в кухне луковицы), кои запечатывались коралловым сургучом, обретенным в одном из прадедушкиных тайников старых бюро-кабинетов.
— Защищайтесь, сударь! — вскричал Артур, выхватывая шпагу.
Аделина упала в обморок.
И пока она валялась в обмороке, благородный граф с помощью разве что шпажонки своей и гусиного пера нашей Капли одерживал победу над злом.
— Все-таки почему, — спросил я жену свою, — ты смотришь эту кровопускательную ночную многосерийную телепортативную фильму про маньяков?
— Да потому, — отвечала она, — что главные герои ее хотят потеснить зло и одержать над ним верх.
— Мой дедушка, — сказал я, — называл такие бесконечные комиксы «Двенадцать хладных трупов или обосраный кинжал».
— Ты хоть при Капле это не ляпни. Ей твой вольный словарь ни к чему.
И впрямь романы свои строчила наша Дюма-внучка с самым что ни на есть высоким стилем, уснащенным прилагательными, деепричастными оборотами, засиженным насекомыми запятых и многоточий.
— Домодедов, я придумала город по названию реки! — похвасталась Капля.
— Что за город?
— Свияжск.
— Ну-ну... — разочарованно сказал я, — тоже мне, придумала. Я в молодости в Свияжск на семинары ездил. Там мы и с бабушкой познакомились. Не делай большие глаза, не скачи вокруг меня, не проявляй свое нетерпение великое. Достану с антресолей папку, покажу тебе старые этюды, увидишь конфуз свой воочью. Придумала она. Его в шестнадцатом веке Иван Грозный придумал, а князь Серебряный воплотил.
Котовский и Клеопатра
Антресоль наша висела в воздухе: часть потолочного пространства при входе на кухню, большой зашитый сундук от стены до стены, склад, глухой сараюшко над головою. Не имевшее окна (было бы окно, сошло бы за комнатушку для жильца, например, студента, хотя бы и по имени Родион) помещение снабжено было всегда закрытой дверцей, чтобы сунуться на антресоль, надо было подставить к дверце стремянку.
Если в старинных домах на антресолях и вправду жили (а у знакомой моей художницы, соученицы, в мастерской свито было такое уютное гнездо под потолком, стояла кровать с ситцевым лоскутным одеялом, светила лампа с зеленым абажуром), в современных кубатурах там располагался небольшой склад прошлого, музейный запасник семейный, сонмище предметов, которые то ли по бедности, то ли из сентиментальных соображений, то ли по бестолковости планировки жилища никак не выбросить, которые могут понадобиться когда-нибудь, как то: печурка-буржуйка времен разрухи и блокады, старый докторский баул (или саквояж?) из свиной кожи, ботики и калоши середины века (какого?), чемодан с бабушкиными архивными письмами да дневниками, рамы без картин и вытаскиваемая мной с превеликими трудами папка этюдов моих времен детства и молодости. Занятый выволакиванием папки (на голову мне пали два бамбуково-шелковых китайских зонтика с пейзажами на шелке и кистями на ручке, зеленый и красный), я что-то пропустил, кажется, открывали и закрывали дверь в квартиру.
— Ах ты, паршивец! — вскричала жена моя, — нашлялся, да еще и дамочку домой привел!
Я уже слезал с папкой в руках, извлеченной из космической пыли и мистической паутины, когда под стремянкой моей прошли два неторопливых животных, наш рыжий Котовский, а за ним изящная черная мелкая кошечка с бирюзовыми очами.
Котовский провел спутницу свою в ресторанный уголок, она незамедлительно принялась угощаться из его посудинок, и пока подъедала она оставленные им на вечер объедки завтрака да попивала молочко, он сидел рядом, торжественно, вальяжно, с видимым удовольствием наблюдая за нею.
— Столовку для хахельницы своей у нас устроил, — сказала жена. — Ты что это, Котина, выдумал?
— Котовский привел себе Клеопатру, — сказал я.
Гладкая небольшая угольно-черная головка кошки, египетский профиль другого имечка и не подразумевали. Приведя ее вечером в пятницу (к ночи жена отправила Клеопатру на лестницу), он с ослино-кошачим упрямством привел ее и в субботу, и в воскресенье, а в понедельник она осталась ночевать. Кот не ухаживал за подружкой своей, никаких признаков случки, прыжков, междометий. Иногда они вылизывали друг друга. Котят Клеопатра не принесла. То ли они дружили, то ли то была великая кошачья любовь.
Когда я открыл папку, с верхнего маленького портрета, — единственного портрета, все остальное были пейзажи, этюды, наброски, — глянуло на меня лукавое розовое женское личико с ренуаровской челкой.
— А ведь это Тамила! — воскликнула Бабилония.
И в первую минуту я удивился, как старый склеротик: откуда она знает Тамилу? Кажется, я забыл на мгновение, что с женой я познакомился там же, где и с Тамилой, — на семинарах в Свияжске.
Тамила
Подобно тому, как пеннорожденная Венера, Афродита, появилась из пены морской, Тамила родилась из куста сирени, возникла из сиреневых куп, точно врубелевская девушка с картины «Сирень». Даже платье ее шелковое было лилово-сиреневое, где фиолет переходил из краплака в ультрафиолет, в цвете разных гроздей сирени, то светлых, то густо-лиловых, пятна на ее платье (словно пятна шелковых халатов узбечек, акварельных одежд), соседствовали, чуть расплываясь, в линиях соприкосновений.
Это были годы сирени, сменившие годы пустых побережий.
Замечали ли вы, что в разные годы расцветают и царствуют разные семейства растений?
В то десятилетие сирень заполонила сады, окрасила в лиловый цвет белонощный Петербург, именуемый Ленинградом, самовольно заполонила бывший Кенигсберг, ныне Калининград, легко завоевала Прибалтику, города и веси средней полосы, самостийную Украину, Волгу, колыбель нашу. Все утонуло в сиреневом счастье неправильных пятилепестковых соцветий, — их полагалось отыскать и, задумав желание, съесть.
Тамила вышла из куста сирени как задуманное желание. Челка ренуаровской девушки, розовое лицо, гранатовые губы, так часто подкрашенные улыбкой.
При тонкой талии, тонких запястьях и лодыжках все выпуклости тела Тамилы были... ну, и так далее. Она шла танцующей походкой, плавно колыхалась грудь, округлы плечи под солнцем, колоколом ходила пышная юбка. Не за эту ли походку семинарские звали ее Кармен?
— Я секретарь секции дизайна, — произносила она певучим плавным голосом, сопрано или контральто, теперь и не вспомнить, и эта непритязательная формулка превращалась в ее устах в певческую фразу.
Вскипал вокруг нее воздух, воздыхатели дарили ей цветы, начинали лихорадочно рифмовать, «томила», «утомила». Она улыбалась — чуть снисходительно.
То были годы сирени, но и семинаров, их развелось великое множество, так же, как конференций; симпозиумы и коллоквиумы были впереди.
Народ, десятилетиями безмолствовавший, отбезмолствовал и заговорил. Слово «заговоры», правду сказать, некоторым на ум приходило. Заколдовать хотелось облое стозевное огромное чудище эпохи, заколдовать, зааминить.
Пену речей можно было сравнить с пеной сирени.
Говорили, говорили, — с пеной у рта.
Шквал семинаров захватил и меня. Участвовал я в сенежских, ездил на свияжские; компании говорящих встречались то там, то сям; семинарские (семинаристские тогда еще не возродились) сборища напоминали, люби и знай свой край, перелетный кабак английского классика.
Местные жители — где бы ни проходили собрания сии — относились к ним скептически:
— Брехать не пахать, сбрехнул, да и отдохнул.
И из другого угла:
— Лучше не бай, а глазами мигай, будто смыслишь.
В нашей колоде карт Тамила была дама червей, одно сердечко прямое, другое обратное, зеркальное, перевернутое, дама в лиловом с веером черным; а в волосах-то что? Венчик золотой? Алый мак Карменситы?
Она была дамой прекрасной словесных турниров, ей нравились главные герои, самые стилисты, краснобаи, оригиналы, рыцари заговорившего времени.
Некоторые из них и внешне были хоть куда, эспаньолки, усы, курточки иностранные, экзотика, стрижка длиннее, чем у чиновников, орлиный профиль. Состав семинаров, впрочем, был пестрый, помню одну затрапезную бедно одетую троицу ленинградскую, три дизайнера, искренне считавшие, что дизайн вот-вот спасет мир, ну уж страну-то непременно, и осчастливит заблудшее человечество, Пошивалов, Недошивин и Шитов, Тамила называла их «Всё-для-шитья», улыбаясь; когда улыбалась, на щеках появлялись ямочки, забывалось необычайно ее имя, вспоминалась простая бойкая округлая украинская фамилия.
По утрам видели мы иногда Тамилу сонной, с чуть припухшими губами, до полудня напоминала она помятый цветок, и знали мы, с кем просидела она полночи возле древней деревянной полусгнившей Троицкой церкви на скамеечке, на которой, по словам местных жителей, сиживал во время оно царь Иван Грозный.
В огороде бузина, во Киеве дядька
Каждой твари по паре.
Описание Ноева ковчегаУчастники семинара представляли собой натуральный сбродный молебен. Условно существовало разделение на секции, но ходили на лекции по интересам, на иные сообщения набивалась толпа, на других присутствовало от силы человек восемь.
С детства запомнил я, как наша школьная учительница истории рассказывала о средневековых спорах схоластов, об их умопомрачительных диспутах. «Сколько ангелов помещается на кончике иглы?» Ощущение блистательной темы этого доклада, давшего название всей конференции, не отпускает меня. Но я за всю жизнь так и не удосужился узнать, о чем в итоге шла речь: о габарите ангела или о иных мирах?
Напоминали ли наши толковища сборища схоластов или малые компании древних философов-перипатетиков, я не знаю.
Тематические семинары были невероятной смесью, не скажу, что гремучей, внезапно наступивший (и растворившийся к концу восьмидесятых) брейн-штурм; что штурмовали? крепость невежества? директивно-суконную страну советских газет? не знаю я и этого.
Говорили о нелинейным мире, сравнивали языки науки и искусства, разбирали произведения всех жанров, включая клоунаду. Вот названия некоторых сообщений: «Признаки гениальности», «Игра в карты Проппа», «Первая скрипка на балу у Воланда», «Перемена участи», «Мы и синергетика», «Занимательная уголовщина» (лектор последней темы говорил о «Трех мушкетерах» и «Графе Монте Кристо» Дюма; с места из зала вторили ему, вспоминая «Живой труп», «Преступление и наказание», «Бесов»),
Мы увлекались, восторгались, но и посмеивались.
Но каким праздником бытия кажутся мне сегодня наши фейерверки болтовни (а кроме чудаков и оригиналов забредали на наши бредни блистательные умы), когда Бабилония, нажав не на ту кнопку телевизионного пультика, врубает какое-нибудь очередное «ток-шоу», где недалекие невоспитанные люди жуют жвачку повседневности, кричат, скандалят, перебивают друг друга. Ток-шоу! Ток-то тут при чем, о язык мой бедный? Лепестричество-то с какого боку в этой лишенной всякой энергии а-у-ди-то-ри-и?
Впрочем вторглась же в одну из первых реклам нашего подновленного мирка (нашего Миргорода), посвященная шампуню, средству для мытья волос, слово «вошь». «Вош энд гоу», вошь энд гоу. Гоу хоум, вошь. Была ли то ослышка, оговорка или какой-то самоновейший стеб в стиле комсомольских работников? Высшей их, особо юморной вырожденческой расы?
Но в некотором роде на наших-то собраниях токовали, тетерева на току, бу-бу-бу, как детский писатель Бианки писал, бу-бу-бу. Падали спать в рыхлый снег усталые глухари. С деревьев лесных. Впрочем, нам за лесами надо было на другой берег переправляться, отсутствовали в Свияжске леса, не помещались, только палисадники, сады, отдельные дерева.
И по выражению тогдашнего коллекционера канцеляризмов, — «наличествовала противу табельной положенности», отчаянно цвела избыточная сирень.
Сбродный молебен
И кого тут только не было. Кроме известного уже трио «Всё-для-шитья» представительствовала троица Джорогов, Джабаров и Джангаров (кажется, спецфизиологи). Поскольку иногда заседания разных секций, подсекций, межсекционных и междисциплинарных групп проходили одновременно, представления обо всех докладах составить было невозможно. Однако, встречались: в столовой, у воды, у костра.
Тут было несколько знаменитостей, действительно известных ученых, проходили фигуры «широко известные в узких кругах», мелькали энтузиасты, городские сумасшедшие, поэты (просто поэты, авангардисты и концептуалисты), засекреченные персоны под псевдонимами, любознательные, любопытные, краснобаи, радующие глаз девушки, изобретатели из самых разных областей деятельности человеческих существ (кинематических игрушек, мобилей и стабилей, роботов, загадочных устройств вроде пневмоподъемника цемента, музыкальных инструментов), звезды будущей электроники с кибернетикой, секретные сотрудники и наблюдатели внутренних органов (и имелись в виду не желудок с селезенкой, а иные инстанции и реляции), вечные и обычные студенты, молодожены, красавицы, бездельники и несколько многообещающих комсомольских работников. Меня занимали доклады тех, кто по роду занятий не имел никакого отношения к предмету интересов своих: суждения об искусстве врачей (особенно психиатров) и итээровцев, математические выкладки дизайнеров и музыкантов, внеисторические бредни футурологов (в футурологи ломили кто ни попадя, от конструкторов до биологов, политологов, актеров и экономистов). На вечерних докладах, когда на улице можно было вывешивать экраны, светились пучки света из диаскопов, крутили кино, кинематографисты наезжали, сменяя друг друга, их график, как графики гастролирующих театральных деятелей и артистов цирка, вечно лихорадило.
Приезжали из разных городов, приплывали водными путями, прилетали бы, да аэродром отсутствовал, равно как и вертолетная площадка.
Впрочем, некоторые прилетали в Казань, добирались оттуда. Являлись учителя с самоновейшими методиками обучения, психологи с будущими технологиями внушения и охмуряжа, хирурги в преддверии революции в области трансплантологии и иже с ними; остров наш был натуральный Ноев ковчег: каждой твари по паре.
Привозил катерок исследователей алхимии и тайных адептов ее, припоздавших с ретортами веков на пять. Ветром неизвестного направления заносило любителей розенкрейцеров, консервированных масонов, невесть каких сектантов, прожектеров и еретиков.
И наблюдали мы пир мысли, ее сомнительную кухню и психоделические синдромы с продромами. О значении слова «дром» в любимом Пушкиным произведении Борроу «Лавенгро» поведал нам любимый всеми литературовед, он же рассказал о посещении Александром Сергеевичем Свияжска и о его восторге и удивлении: он узнал в нашем острове-граде придуманный им лично остров Буян.
Что до доклада о последней картине Левитана «Озеро. Русь» с изображением вышеупомянутого острова и тенью облака, — он ожидался в последней трети семинара.
В общем, как ни велико было искушение назвать наше действо футурологическим конгрессом, некоторые ветви его принадлежали самому что ни на есть ветхому прошлому. И не одни милые энтузиасты топтали тропы его; ходило тут и зло.
История Свияжска
Первый семинар открывал Александр Сергеевич Титов, директор Ленинградского филиала ВНИИ технической эстетики, ВНИИТЭ. В родном городе считалось, что увидеть приезд Титова на работу к счастью, такая же верная примета, как к несчастью увиденная баба с пустыми ведрами. Титов подкатывал к вратам Инженерного замка на маленьком ярко-алом самодельном автомобиле, напоминавшем одновременно и гоночное, и самое шикарное фирменное авто, то ли итальянское, то ли шведское. Чтобы вместиться в свое средство передвижения, высокий худой Титов складывался, как складной нож. Вот подъезжал он на возвышение бывшего моста по исторической брусчатке, выходил, элегантный, седовласый, в неизменном костюме цвета мокрого асфальта, похожий на киноактера; мы замирали на обочинах, те, кому повезло лицезреть его голливудское появление. Весь вид директор ВНИИТЭ, его спокойствие, неторопливость, серый костюм, автомобиль, красивый голос почему-то говорили о некоей иной жизни, которой нет ни в родном СССР, ни на ихнем Западе.
Титова можно было увидеть и услышать в нашем родном мухинском, где входил он в состав ГЭКа, и на художественных советах комбината живописно-оформительского искусства, КЖОИ. Во все спорные разбирательства, где иногда и голоса повышали, и ссорились, вносил он ноту спокойствия, достоинства и тишины.
На сей раз появление Титова было обставлено, как некоторая мистерия, театральное действо. Сперва сопровождали его несущие на шестах плакаты; то были годы расцвета польской плакатной графики, избликовавшиеся во всех дизайнерских журналах, в «Технической эстетике», в «Домусе», «Проекте», «Гебраусграфике», «Декоративном искусстве». Тотчас тема плаката подхвачена была краткими заданиями, клаузурами, для мухинских студентов. И вот теперь вынесены были, подобно хоругвям, уникальные, выполненные своеручно, плакаты, посвященные свияжскому семинару. Следом вынесли — тоже на шестах, выполненные на наклонных планшетах, чтобы всем было видно, — два редкой красоты макета старинного Свияжска, деревянный, темно-золотой, и прозрачный из оргстекла.
Титов напомнил собравшимся (и сообщил несведущим), что данный семинар проходит в Мировое десятилетие научного дизайна, открытое в Монреале великим Бакминстером Фуллером, признанным гуру дизайна, архитектуры и альтернативных поселений, и посвященное «применению принципов науки в решении проблем человечества».
Когда помянул он Бакминстера Фуллера, внесли в монастырский двор, где и проходило наше собрание (день был солнечный, безветренный, ясный), несколько макетов, прославивших Фуллера, и применявшихся во всем мире (особенно в студенческом проектировании) геодезических куполов, мы рассматривали их, закинув головы; следом шли люди с моделями фуллеровского «Девятого неба», парящими геодезическими сферами летающих mini-городов.
Титов говорил не очень долго, должно быть он, как его любимый Бакминстер Фуллер, рассматривал информацию как «негативную энтропию».
Но он успел нам поведать, что именно Свияжск был задуман и исполнен мастерами (и мыслителями, сказал он) XVI века как уникальный дизайнерский город.
— Воеводы, — читал Титов, — заметили посреди реки высокий холм с крутыми склонами и плоской вершиной. Холм стоял на чувашской земле и назывался Кара-Кермен. В воде оказывался он в половодье, превращаясь в остров, к лету вода отступала, мелкие речонки и овраги окружали холм. Окончательно превратилось место, где мы находимся, в остров после строительства на Волге плотины у Жигулевской ГЭС и создания Куйбышевского водохранилища.
Воеводы царя Ивана Грозного впервые увидели холм в начале мая. По приказу царя под руководством князя Серебряного в районе Углича срублены были все части крепости и города, пронумерованы до малейшей детали, сплавлены по Волге и собраны за четыре недели на острове-холме.
Основан был Свияжск 24 мая 1551 года. Вот как написал об этом в своих «Записках о Московии» Генрих фон Штаден: «Великий князь приказал срубить настоящий город с деревянными стенами, башнями, воротами, а балки и бревна переметить все сверху донизу; тот город собрали под Угличем, затем разобрали, сложили на плоты и сплавили вниз по Волге вместе с воинскими людьми и крупной артиллерией. Когда он подошел под Казань, он приказал возвести на холме этот город и заполнить все укрепления землей. Сам он возвратился в Москву, а город этот занял русскими людьми и артиллерией и назвал его по названию реки Свияжском». Таким образом, привезенный и собранный на месте как громадный дизайнерский «конструктор» Свияжск к ужасу казанского хана «внезапно возник» почти рядом с Казанью. Таково было блистательное исполнение первого, а может быть и единственного в мире дизайнерского города, в весеннее половодье превращающегося в неприступную крепость. Когда Александр Сергеевич Пушкин в 1833 году увидел Свияжск, он пришел в неописуемый восторг: именно так представлял он себе сказочный город на острове Буяне, когда писал «Сказку о царе Салтане». На двух представленных здесь сегодня плакатах вы можете увидеть рисунки из летописи, посвященные строительству окружающий нас сегодня жемчужины Поволжья.
Тут закрыл он блокнот с текстом доклада своего и сказал, что по легенде возле самой маленькой и самой древней деревянной церкви острова по сей момент стоит у входа скамья, на которой сиживал Иван Грозный. А на фреске Успенского собора «Шествие праведников» изображен был царь Иоанн Васильевич, прижизненно причисленный к лику святых. Тогда как на соседней фреске видим мы египетского бога Анубиса, нашедшего храм на берегу Ра; впрочем, сказал он, многие искусствоведы считают, что это не Анубис, а песьеголовый покровитель путешественников святой Христофор.
— Более четырехсот лет назад, — сказал Титов, — на этом самом месте зародился русский дизайн, и я счастлив, что нахожусь здесь сегодня с вами и с надеждой смотрю в будущее.
Тут вышла Тамила, возникшая из сиреневых кущ, она была из того же Ленинградского филиала ВНИИТЭ, что и Титов; Тамила улыбалась, в руках держала она за нитку огромный белый пятипалый воздушный шар, надутый из медицинской перчатки. Она протянула Титову ножницы.
— Поздравляю всех, — сказал он, — с открытием нашего прекрасного мероприятия.
Он перерезал ножницами нитку, и шар воспарил, как придуманные Букминстером Фуллером летучие города будущего под кодовым названием «Девятое небо». На наших широтах по нашим представлениям небес было семь.
Реплика о хитреце
Выступления докладчиков подразделялись на доклады, лекции, сообщения, краткие сообщения и реплики. Первая реплика, которую довелось мне услышать, называлась «Господин Г.» и посвящена была Гурджиеву. В аудитории, одном из классов красно-кирпичной женской гимназии, мы с выступающим оказались с глазу на глаз.
— Надо же, — сказал он, почти улыбнувшись, — вы единственный, кто интересуется личностью Гурджиева.
Я неопределенно отмычался в утвердительной тональности. Не мог же я сказать человеку в лицо, что я попросту спутал аудиторию, да еще и ногу у входа в нее подвернул, мне срочно надо было сесть. На самом деле хотел я услышать всеми любимого и уважаемого легендарного Раушенбаха, приехавшего на остров наш на один день.
Я сел в одном из последних рядов, изо всех сил стараясь не хромать.
— Ничего, — сказал я бодро, — Александр Блок тоже один раз читал послереволюционную лекцию единственному студенту, Всеволоду Иванову.
— Я в курсе, — мрачно отозвался выступающий.
Пошуршав, приступил он к реплике своей.
— Гурджиева, темного восточного плохо переодетого человека, словно являющегося не тем, за кого он себя выдает, называли «Танцующий провокатор». Поставленный им для учеников и адептов балет «Битва магов» сталкивал на тонком уровне некие силы, работал с коллективным бессознательным, рассказывал основы мира, провоцируя кризис, пройдя через который больное человечество должно оздоровиться. В группах, которые он тренировал, активировал он психические возможности, используя шаманские суфийские практики. Танцоры балета Гурджиева в 1923 году в Париже бросались к рампе, перемахнув через оркестровую яму, хаотично валились в первые ряды партера, — и ни царапины! Люди были доведены им до состояния натренированных зомби или цирковых животных: автоматизм и математическая точность.
Тут дверь отворилась, и появился второй слушатель.
Возможно, я видел его и раньше, но словно увидел впервые.
Обычно всматривался я в окружающих, когда рисовал их, когда делал, то есть, наброски, или когда человек чем-то притягивал меня. Вошедшего мне никогда нарисовать не хотелось. В лице его, бледном и холеном, несмотря на легкий загар, чего-то не хватало, или было что-то лишнее. Как выяснилось позже, женщины находили его привлекательным, но женщин я по обыкновению — за редким исключением — не понимал. На семинарах представлялся он Энверовым, потом узнал я, что это был псевдоним.
Он извинился, расположился в первом ряду, приготовился записывать (конечно же, экзотической ручкою в шикарном блокноте). Лектор после краткой паузы продолжал:
— Боявшихся крови учеников заставлял он резать домашних животных. Он говорил: «Делай невозможное, затем сделай это дважды или занимайся сразу двумя несовместимыми занятиями». Экзальтированные дамы из его учениц чистили морковку в темноте и мыли посуду в холодной воде, одновременно производя в голове сложные математические вычисления, а прославленные хирурги и психологи копали глубокие ямы, чтобы потом закапывать их и выкапывать вновь (Франция, Приоре).
Провокационные методы были коньком Гурджиева. Во Франции он читал в поместье площадью в 250 акров, где стоял замок XVII века и старый авиационный ангар, преобразованный в студию танцев, с надписью на стене: «Энергия, производимая созидательной работой, немедленно преобразуется для нового употребления. Энергия, производимая механически, теряется навсегда».
В России времен гражданской войны он ухитрялся читать лекции и демонстрировать свои оккультистские практики и для белых, и для красных; у него были двухсторонние плакаты с противоположными лозунгами и для тех, и для этих. Гурджиев говорил: «Есть четыре пути: первый — путь факира, второй — путь монаха, третий — путь йога, четвертый — путь хитреца, им я и иду».
Учившийся в юности в той же духовной семинарии, что и Сталин, в своей группе учеников-адептов он создал модель полностью управляемой организации, чьи участники, высокообразованные интеллектуалы с пробужденными телепатическими способностями, были полностью подчинены воле учителя.
И тут самым непонятным образом боль в ноге отпустила меня на мгновение, и я уснул, отключился, загипнотизированный начисто. По счастью, ни выступающий, поглощенный чтением писанины своей, ни единственный его настоящий слушатель, занятый своими записями, неприличной и неуместной отключки моей не заметили, а мне удалось, не загремев со стула, отдохнуть и благополучно проснуться к последнему предложению:
— Гурджиев писал книги, одна из которых называлась «Рассказы Вельзевула своему внуку». Его ученик Успенский в свою очередь написал о нем несколько книг: «В поисках чудесного», «Разговоры с дьяволом» и «Внутренний круг». Последние двадцать лет жизни провел он в инвалидной коляске, попав в аварию: автомобиль его врезался в дерево, — точно так же, как позже врезался в дерево автомобиль Галлимара и Камю, погибших на месте. Гурджиев уже не вел групп, не писал музыки, не ставил балетов, его темная фантастическая энергия изливалась через тексты его.
Энверов зааплодировал, я неуверенно тоже похлопал, оба мы встали, прилежный слушатель стал вопросы задавать и записывать ответы, а я, благодарственно кивая, как китайский болванчик, попятился и спиной вперед вымелся в коридор ученической рекреации.
По коридору шла девушка, с преувеличенным интересом пронаблюдавшая мой одинокий выход рака-отшельника.
Глянул на нее и я.
И внезапно разглядел лицо ее, такое серьезное, веселое и теплое изнутри, с распахнутыми ресницами многоцветных глаз (только казались они карими, на самом деле состояли из пятнышек-точек медовых, желто-зеленых, темно-серых). Вот ее мне сразу захотелось нарисовать, можно было и скульптурный портрет с нее лепить, так прекрасно природою пролеплены были лоб, нос, скулы, нежные губы. Надо сказать, я и рисовал ее потом всю жизнь не единожды.
— Неужели вы были на реплике о Гурджиеве? — спросила она.
— Я аудиторию перепутал, — отвечал я. — И ногу подвернул.
— Я тоже перепутала, — сказала она, — и мне неудобно было в том признаться. Вон там, на берегу, целая толпа Раушенбаха провожает. Я так хотела его услышать.
— И я, — сказала я. — Пошли хоть проводим его на катер. Нога моя не болела совершенно, мне стало весело и легко.
Ее звали Нина, она была из Ленинграда, мы были земляки.
Ночные выстрелы
Расквартированы участники семинара были кто где. Некоторые даже с палатками прибыли, наподобие улиток свои домики с собой привезли. В заброшенном монастыре, где царила мерзость запустения (впрочем, какие-то неведомые молчаливые волонтеры или иногородние второкурсники реставрационного отделения незнамо чего расчищали и разбирали несколько флигелей), было вполне пристойного состояния крыло келий, возможно, жилое до недавних пор, располагались и в них. Я спал на втором этаже школы, бывшей гимназии. Вечерами по модной туристской привычке то там, то сям, на берегу ли, на пустыре (во дворе монастырском не разрешалось, возможно ожидалось что-то вроде музефикации, реставрации, благоустройства) жгли костры, сидели у костров, пили чай и сухое вино, водка возникала редко, находились певцы с гитарами, все подпевали, советская туристическая цыганщина была тогда в моде. К полуночи уставали все, особенно ленинградцы, архангелогородцы, северяне, привыкшие к белым ночам, из белых ночей явившиеся и оказавшиеся в среднерусско-южной звездной тьме. Большинство художников еще и на этюды ходили, колдовская красота острова заговаривала их. Лето в самом начале стояло теплое, ясная погода без дождей, все дожди пролились весной, подняв сирень, вызеленив зелень.
Мне то снились сны, полные приключений, то дрых я без задних ног и вне сновидений. В ту ночь меня разбудили выстрелы. Я до сих пор не знаю, стреляли ли в моем сне, или то было городское прислышение, вид приведения для яснослышащих, которых так же мало, как ясновидящих.
Резкие крики, стоны, выстрелы. Не вполне соображая, как всегда спросонок, стараясь не разбудить соседей, спавших сном праведников, я оделся и вышел на улицу. Когда спускался я с крыльца, выстрелы еще были слышны, я понял, что стреляют в монастырском дворе, туда и отправился, но пока я шел, высвечивая фонариком световую дорожку, всё стихло. В полной тишине оказался я в темном дворе монастыря. Ни фонарей, ни света из окон. Впрочем светила луна, полнолунный ее волчий фонарь очерчивал призрачно-белые здания, мой маленький фонарик (отцов, дареный, трофейный) отвоевывал у темноты подробности, с помощью лунной декорации и маленького лучика разглядел я сидевшего на камне (то ли остатке полуразрушенной могилы, то ли постаменте неведомого памятника) молодого человека. Сначала даже мелькнуло — не он ли тут стрельбище устроил? Я подошел поближе. Трезвый, тихий, ни пистолета, ни ружья.
— Не спится? — спросил он.
Я ответил вопросом на вопрос:
— Вы выстрелы слышали?
— Сегодня нет, — отвечал неспящий.
— Я проснулся от того, что стреляли.
— Это не сейчас стреляли. Давно. Тут так бывает. Что-то вроде привидений. Их называют — прислышения.
— Давно? — переспросил я. — Во времена взятия Казани?
— В некотором роде, — отвечал он. — Видите ли, почти полстолетия назад именно тут было первое место советских политических репрессий. По приказу военкома большевистского правительства Троцкого был расстрелян каждый десятый красноармеец расквартированных на острове воинских частей, не сумевших быстро выбить белочехов из Казани.
В паузе какая-то птица пронеслась над нашими головами; была ли то сова? летучая мышь? вспугнула ли кого невзначай несуществующая стрельба, которую птица услышала позже меня?
— Впрочем, — сказал задумчиво ночной собеседник мой, — это могли быть и другие выстрелы. Монахов расстреливали. Настоятеля монастыря Амвросия Гурко расстреляли.
— Когда? — тупо спросил я.
— Настоятеля перед самой установкой памятника Иуде. Да всё в восемнадцатом году. Летом.
— Памятника кому?! — вскричал я.
— Иуде, — отвечал он не сморгнув. — Кандидатуру по легенде Ленин утвердил. Люцифера он Троцкому ваять запретил, Каина отверг. Памятник борцу с опиумом для народа, религией то есть. Вскоре после расстрела наместника обители открытие памятника и состоялось с оркестром, парадом и пламенной речью вечно возбужденного Троцкого. Скульптура, фигура человека в натуральный рост, зловеще пригнувшаяся, грозящая небу воздетыми руками, лицо напоминало самого пламенного оратора. Памятник простоял две недели, а потом бесследно исчез.
— Уж не на постаменте ли вы сидите?
— Нет, конечно. На постаменте потом памятник Ленину стоял, но его тоже убрали, когда в монастыре образовали филиал ГУЛАГа, чтобы образ Ленина в тюрьме не находился; ну, а когда филиал превратили в психушку, чтобы дурдом не возглавлял.
— Памятник Иуде?! — вскричал я. — Что за белиберда? Вы это сами только что придумали? Вы писатель? Литератор?
Поэты и писатели — в небольшой дозировке, — как известно, на семинаре присутствовали.
— Я такое придумать не в силах. Тут совершенно другой, на особицу устроенный мозг нужен, чтобы не сказать ум. Свидетельства очевидцев установки памятника существовали, мемуары датского дипломата Хеннинга Келера и писателя-эмигранта Вараксина.
— Может, они это сфантазировали?
— Есть такое мнение — врали, врали два антисоветчика. Ну, писатель, как вы понимаете, мог волю воображению дать, а датский дипломат? Дипломаты — шпионы больше большей частью, и любят точность.
— А как их, с позволения сказать, в восемнадцатом году сюда на мероприятие занесло?
Молодой человек только плечами пожал.
— Тогда всех носило туда-сюда, мело по стране, как листья сухие ветром несет.
— Может, вы всё же литератор?
— Журналист я недоучившийся.
— Вот видите.
В паузе по небу чиркнул болид. Было тихо, только кузнечики почему-то стрекотали в траве, как на юге цикады; может, в качестве еще одного прислышения мирного канувшего в Лету летнего дня.
Тут, под ноги посмотрев, оступившись, спросил я, — а где же этих расстрелянных хоронили? Кладбища, вроде, на острове нет.
— Всех хоронили на косе. И красноармейцев, и заключенных. Коса на костях стоит. Хотя и в городе то там, то сям, когда пустырь расчищают или берег, черепа выкапывают.
— Заключенных?
— Я же уже сказал вам, тут один из пунктов ГУЛАГа находился. Заключенных погибло около пяти тысяч. В том числе князь Оболенский. Вечером, как у костра запели про корнета Оболенского, в полной невинности и незнании, кстати, запели, мне аж не по себе стало, ушел, в сарай с сеном завалился, уснул, как убитый. Вот как раз проснулся, выспался, к хозяевам, где остановился, ночью идти неудобно, сюда пришел, а тут и вы явились. Идите, отдыхайте, успокойтесь, не было сегодня никаких выстрелов ночных.
— А вы тут останетесь?
— Вернусь в сено, авось, убаюкает оно меня.
Уходя, я слышал, как он молится вслух в монастырском дворе, этот странный недоучившийся журналист.
Песня на самом деле была про поручика Голицына, думал я, вот журналистская неточность, но корнет Оболенский действительно упоминался в ней дважды. Надо же, думал я, в числе царских воевод, задумавших и построивших Свияжск, были братья Оболенский и Оболенский-Серебряный, а их потомки в этом самом дизайнерском городе мира через пять веков погибли. Впрочем, думал я, вспомним хоть Шекспира, всё это вполне вписывается в исполненную нелепой жестокости историю человечества.
Засыпая на своем сеннике среди так и не проснувшихся от моего выхода и появления соседей, я слышал, как позванивают в ушах струны гитары:
Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина.И уже из сна, встречно, подпели похороненные на здешней косе под названием Татарская Грива глухим земляным еле слышным хором:
Поручик Голицын, раздайте патроны, Корнет Оболенский, надеть ордена.Первая скрипка на балу Воланда
Говоря о Вьётане, невольно думаешь о Паганини. [...] С первой до последней ноты мы словно стоим в магическом круге, у которого нет ни начала, ни конца.
Роберт ШуманМы часто оказывались с девушкой по имени Нина на одних и тех же лекциях, вкусы наши во многом совпадали, судьба была к нам благосклонна. Но впервые сели мы рядом на выступлении человека со странной фамилией Времеонов. Доклад его назывался «Первая скрипка на балу Воланда». Роман Булгакова, для многих оказавшийся главной любимой книгою, привел в тот день в гимназический зал целую толпу. Докладчик, высокий, крупный, почти грузный темнобородый человек начал выступление свое почти с извинений.
— Выступление мое, — сказал он (и мы поняли, что он не только смущается, но и стесняется, хотя старается виду не подавать), — должно было бы проходить по разряду реплик, но поскольку я не музыковед, не музыкант, не литературовед и даже не искусствовед, а форменный дилетант, решено было считать его докладом из раздела «Путешествие с дилетантом», да к тому же реплика должна быть короче, цельнее и структурированней. Предварять мое любительское эссе должен был замечательный знаток музыки, музыковед, музыкант Петр М., но, к сожалению, он не смог сегодня приехать, поэтому впечатление ваше от личности, о которой пойдет речь, будет неполным; но я решил рискнуть. В главе романа «Мастер и Маргарита», посвященной балу у Воланда и называющейся «Великий бал у Сатаны», говорится об оркестре, аккомпанирующем всем действам и танцам бала. Дирижер оркестра — король вальса Штраус, а первая скрипка — Вьётан.
«Глядите налево на первые скрипки, — шептал Коровьев Маргарите, — и кивните так, чтобы каждый думал, что вы его узнали в отдельности. Здесь только мировые знаменитости. Вот это за первым пультом — это Вьётан. [...]
— Кто дирижер? — отлетая, спросила Маргарита.
— Иоганн Штраус, — закричал кот, — и пусть меня повесят в тропическом саду на лиане, если на каком-нибудь балу когда-нибудь играл такой оркестр. Я пригласил его! И, заметьте, ни один не заболел и ни один не отказался».
Для большинства читателей, знающих текст романа чуть ли не наизусть, цитирующих его к случаю или просто из удовольствия процитировать, фамилия скрипача ничего не говорит. Тогда как мне по наследству от отца моего фамилия эта было очень даже известна, более того — отец переменил свою, перевел ее на русский, вслед за отцом получил ее и я, мы единственные в мире и ее носители. На французском, насколько я понимаю, Vieuxtemps не только что не частотное nom de famille, а просто уникальное, этимологию и происхождение отцу выяснить не удалось, неведомы они и мне. Vieux переводится как «старое, старые», temps — как «времена». Но в сочетании, соединившись, они становятся сходны с какими-то невыразимыми neiges d’antan, прошлогодними снегами былых времен из стихов Франсуа Вийона, неведомым образом приобретая черты полусадов-полулесов, обводящих замок Спящей Красавицы с картинки в детской книге волшебных сказок Перро руки Доре. Отец мой, так же, как и я, занимался переводами; вот и стою я перед вами и зовусь не Столетовым, не Старогородским, а Времеоновым — от «время óно».
Схожа с нашей только фамилия деятеля русской школы императорского балета Гедеонова. Но если мне было совершенно ясно и понятно, что за человек является первой скрипкой на балу у Воланда, я не понимал, почему он там и за что он там оказался.
Мой отец в детстве готовился к карьере музыканта, рано начал играть на скрипке и на рояле, проявлял недюжинные способности, однако жизнь решила иначе, превратности судьбы и травма руки сделали свое дело, отец стал врачом, но музыка осталась его главной любовью, он продолжал играть и на скрипке, и на фортепьяно дома, для себя, в библиотеке нашей было множество нот и биографий великих композиторов, матушка тоже была меломанка, ходили постоянно на концерты в филармонию в консерваторию, брали и меня. Вьётан был одним из главных увлечений отца. До сих пор в доме моем висят два портрета мальчика-вундеркинда, гастролировавшего по Европе (четырнадцатилетнего, когда услышал его Паганини и воскликнул: «Он будет великим музыкантом!» и состарившегося знаменитостью композитора, исполнителя-виртуоза. Музыку его впервые услышал я из рук отца, с превеликим трудом доставшего и скопировавшего для себя (а тогда не было ксерокопий, всё переписывали от руки) вьётановские ноты.
Родился Анри Вьётан в бельгийском городе Вервье в 1820 году. Отец его, суконщик, был скрипачом-любителем и гитарным мастером. В четыре года Анри сочинил первую свою пьесу «Песня петушка». В семь лет мальчик выступил в концерте с оркестром, потом гастролировал в Бельгии и Голландии, получил стипендию короля Нидерландов, уехал сперва в Брюссель, потом в Париж, гастролировал в Европе. В 1844 году Вьётан женился на пианистке из Вены Жозефине Эзер, были они счастливы, боготворили друг друга. Был принят в почетные члены бельгийской королевской Академии наук. Многочисленные гастрольные туры охватывали уже не только Европу, но Турцию и Америку.
Но особо поражало воображение отца моего, а затем и мое, то, что с 1846 года Вьётан семь лет жил в Петербурге. Отец мой исполнял его «Воспоминания о России» и переложение для скрипки известного алябьевского романса «Соловей». В Петербурге работал он придворным солистом, выступал в качестве квартетиста, преподавал в Консерватории. Общался с Глинкой, Даргомыжским, Серовым, Одоевским, Рубинштейном.
Впервые в Петербурге Вьётан организовал квартетные вечера, превратившиеся в абонементные концерты в здании школы за немецкой Петеркирхе на Невском проспекте. Он и не думал расставаться с Россией, но болезнь жены, не выдержавшей сырого пронзительного петербургского климата, заставила его уехать. В Петербурге написал он свой самый яркий, самый новаторский и романтичный Четвертый концерт в ре-миноре.
Однажды отец мой вычитал в книге Карновича, что жил в Петербурге — между Коломной и Перузиной — полковник русской армии (ему, генералу армии австрийской дарованный императором Николаем Павловичем) с фантастическим титулом, переходившим в семье по наследству по мужской линии, король Кипрский и Иерусалимский Луи Христодул де Лузиньян. Тут же придумал он, что де Лузиньян был на одном из концертов Вьётана, то ли привела его сюда любовь к музыке, то ли волшебно звучавшая фамилия скрипача.
Мы гуляли с отцом по местам воображаемых прогулок Анри Вьётана, и иногда казалось, что он идет вместе с нами, особенно в мягкие дни ниспадающего снега или в белые ночи.
Вот он идет, нетерпение велико, на ходу смотрит он в ноты, надо изменить третью часть, начинает падать снег, некоторые снежинки занимают места на нотном стане, ему смешно. Он прячет ноты за пазуху и бежит домой.
Шествовали мимо нас со скоростью пешеходной маленькие уютные андерсеновские особняки каналов Коломны, разворачивались площади, совершенно своей неуловимой подчиняясь геометрии, плескались воды каналов, такие разные с набережных и мостов.
Отец мой хорошо знал город, увлекался краеведением, настольными прикроватными собеседниками служили ему книги Лукомского, Курбатова, Анциферова, Пыляева, он рассказывал мне о Петербурге XIX столетия, и окрестные ведуты для меня приобретали глубину и цвет, точно проявившиеся переводные картинки.
Иногда мне казалось: Вьётан идет с нами, чуть поодаль (думаю и отцу моему тоже), его ладную невысокую фигурку обводил реющий снег.
Хаживали мы по кварталам вокруг Консерватории, где жили музыканты, актеры, певцы и танцоры Мариинского театра, по Фонтанке и по Литейному, любили Польский сад, заходили во двор Строгановского дворца, обходили Петеркирхе, на площади Искусств отец рассказывал мне о Виельгорских, о концертах в их особняке, первом русском квартете, мы стояли в Мошковом переулке возле дома князя Одоевского.
Князь имеет прямое отношение к теме сообщения моего.
Князь Владимир Федорович Одоевский, автор любимого мной в детстве «Городка в табакерке», член-учредитель Русского географического общества, помощник директора Императорской публичной библиотеки, директор Румянцевского музея, последний представитель одной из старейших ветвей рода Рюриковичей, бывший в родстве со Львом Толстым, увлекавшийся в юности мистикой, Сен-Мартеном, средневековой натуральной магией и алхимией, был музыкантом и меломаном.
Друзья называли его «русский Фауст». В одном из самых известных своих произведений «Русские ночи», он повторяет это прозвище и описывает свой образ жизни:
«— Поедем к Фаусту.
Надобно предуведомить благосклонного читателя, что Фаустом они называли одного из своих приятелей, который имел странное обыкновение держать у себя черную кошку, по несколько дней кряду не брить бороды, рассматривать в микроскоп козявок, дуть в плавильную трубку, запирать дверь на крючок и по целым часам прилежно заниматься, кажется, обтачиванием ногтей, как говорят светские люди. [...] Комната его уставлена было ретортами, колбами, химическими реактивами, выращенными кристаллами, с угловой полки смотрел на входящих череп».
Когда Времеонов описывал на семинаре кабинет Одоевского в юности, я еще не был женат, а только собирался проводить Нину до дома в вечерней сиреневой тьме, ни детей, ни внуков; но теперь, вспоминая, я тотчас сравнил обстановку «русского Фауста» с закутком нашей внучки Капли, где играла она в мадмуазель Немо, в великую путешественницу и таинственную героиню романа; Одоевский играл в алхимика, в пражского короля, в исследователя.
— Но что касается музыки, — продолжал докладчик, — меломан Одоевский был таким дилетантом, какие не всегда встречаются в профессиональной среде. Он превосходно играл на фортепьяно, изучал древнерусскую церковную музыку, изобрел новый музыкальный инструмент. То есть, он воплотил свои идеи о музыкальном инструменте, соответствующем вокальному интонированию, и назвал его «энгармонический клавицин», в котором все квинты чистые, диезы, отмеченные красным цветом, отделены от бемолей. Отец мой собирался написать об этом статью под названием «Красный диез», но всё откладывал, да так и не успел.
Инструмент был заказан у мастера-немца А. Кампе, жившего в Москве и содержащего в Газетном переулке фортепианную фабрику (унаследованную его дочерью Смольяниновой). В каждой октаве «клавицина» было девятнадцать клавиш вместо двенадцати. В настоящий момент инструмент хранится в Музее музыкальной культуры им. Глинки в Москве.
А ранее, в Петербурге, в конце 1840 года, по заказу Одоевского петербургский органостроитель г. Мельцель изготовил кабинетный орган «Себастианон», на котором играл и импровизировал сам Одоевский и его гости, в частности Глинка. Орган не сохранился.
Я полагаю, что появлению Анри Вьётана в роли первой скрипки мы обязаны отрывку из письма «русского Фауста» Одоевского композитору Верстовскому, автору «Аскольдовой могилы».
Одоевский писал Верстовскому: «...не забуду я одного вечера, проведенного мною у графов Виельгорских; не было назначено музыки, но нечаянно сошлись Серве с Вьётаном; давно уже они не играли вместе; оркестра не было, нот также, гостей человека два-три. Тогда наши знаменитые артисты начали припоминать свои дуэты, написанные без аккомпанемента. Они поместились в глубине залы, двери затворились для других посетителей, между немногочисленными слушателями воцарилось совершенное молчание [...]. Наши артисты вспомнили свою фантазию на оперу Мейербера „Гугеноты“. Помнишь, как мы однажды смеялись, рассматривая „Волш. стрелка“, переложенного на две флейты; но здесь было совсем иное: [...] перед нашими глазами проходила вся эта чудная опера со всеми ее оттенками; мы явственно отличали выразительное пение от бури, которая вздымалась в оркестре, вот звуки любви, вот строгие аккорды лютеранского хорала, вот мрачные, дикие крики фанатиков, вот веселый напев шумной оргии... воображение следовало за всеми сими воспоминаниями и претворяло их в действительность».
Полагаю, что Михаил Булгаков, с юности отчаянный меломан (особенно любил он оперы), несомненно интересовался и Одоевским, и Погорельским, и прочел этот отрывок из письма, где описание «шумной оргии» из импровизации Вьётана и Серве совершенно совпадает со стилистикой сцены бала у Воланда. К тому же скрипач с виолончелистом импровизируют на тему Мейербера, как известно, автора оперы «Роберт-Дьявол». Еще мне кажется, что Булгаков мог слышать сонату для скрипки и фортепиано Тартини-Вьётана «Дьявольские трели», «La trille du diable»...
Я подивился разве что тому, что в воландовском оркестре не сидит за роялем Ференц Лист, написавший три «Мефисто-вальса» и одну «Мефисто-польку», и в первом, самом известном из этих произведений, звучит голос «дьявольской скрипки». Впрочем, не исключено, что если бы Михаил Афанасьевич смог бы закончить чистовую редакцию всех глав «Мастера и Маргариты», Лист сел бы в вышеупомянутый оркестр на место пианиста.
Мне остается только добавить несколько слов о скрипке Вьётана.
Сегодня скрипка любимого скрипача моего отца — и моего тоже — одна из самых дорогих музыкальных инструментов в мире, она носит имя «Экс-Вьётан». Сработал эту скрипку легендарный скрипичный мастер Джузеппе Гварнери дель Джезу (Иисусов Гварнери), с 1731 года начавший помещать на свои скрипки монограмму JHS, Jesus Hominem Salvator, Иисус Спаситель Человечества. И, может быть, именно эта невидимая монограмма (неизвестно, знал ли о ней Булгаков) незримо и анонимно удерживает от соскальзывания во мрак весь роман, поддерживает душу его и твою тоже, читатель.
Мне остается поблагодарить вас всех за внимание и терпение к моему совершенно ненаучному и глубоко дилетантскому тексту.
Зал начал было пылко аплодировать, но послышался женский голос: «Подождите, постойте!», — и появилась улыбающаяся раскрасневшаяся Тамила, за которой один из множества дизайнерских пажей ее нес магнитофон.
— Вам это с нарочным Петр М. передал, сам приехать не смог, только что на катере от него человек прибыл.
— Что это?
— Это запись магнитофонная, — на щеках Тамилы цвели ямочки, появляющиеся, когда она радовалась и улыбалась, — тут музыка скрипача, о котором вы только что читали доклад. Садитесь, слушайте. Сейчас вы все услышите.
— Интересно, кто играет? — спросил я Нину.
Времеонов, услышав меня через головы издалека, ответил:
— Яша Хейфец.
Звучал, звенел серебряный голос королевы-скрипки, парящей над маленьким оркестром, заставляющий нас мечтать о несуществующем бытии на берегу одного из ночных озер. Как будто мы, находясь здесь и сейчас, уже вспоминали нынешнее мгновение. И хотя музыка эта была конечна, не было ей ни конца, ни края, мы, причастные, слушали второе столетие, и наши дети услышат, и внуки, и внуки их внуков, потому что отворяла она нам всем пространства времен.
О симфония! Раскрывающая тайну добра и зла, несущая структуру Вселенной в раковины ушные людские! Тобою, скрипкой и оркестром твоим, говорит с нами Господь. А мы почти поневоле видим волну мелодии и прозреваем бездонную глубину марианских впадин контрапункта...
Пока проталкивались мы к выходу (толпа слушателей окружила Времеонова плотным кольцом), слышали мы, как отвечал он на вопросы.
— Среди фольклорных источников «Фантазии на славянские народные темы» Вьётана — плясовая песня «От Киева до Лубен» и протяжная «Не белы снеги».
— А где это — Лубны?
— Между Миргородом и Белой Церковью, — отвечал худой высокий художник из Полтавы.
— Кроме того, — говорил докладчик, — русские темы звучат в «Фантазии аппассионате». Ну, и в пьесах с цитатами Даргомыжского, Алябьева, Верстовского.
Наконец мы очутились у двери.
Ночное небо полно было звезд, напоминало небо юга.
Я провожал Нину, подсвечивая фонариком дорогу, главным уличным фонарем служила Луна, мне казалось, что мы знакомы давно, что провожаю я ее не впервые. Она жила в хозяйском доме, бывшем купеческом, с колоннами, собственно, хозяев было двое, две семьи, от одной из семей осталась одна хозяйка, Нина снимала у нее маленькую комнатку с лежанкой. Дом стоял на возвышении, на холмике холма, на купеческой улице, где остальные дома, каменные, находились словно бы за углом, улочка поворачивала. У дома два дерева вели долгие разговоры свои, угловая сосна и фасадная старая липа. Навершие дома представляло собой словно маленький фронтон с четырьмя колоннами балкона, под балконом поддерживали его четыре колонны поболее на четырех прямоугольных постаментах, купцы любили дома с колоннами, чем нелепей, тем лучше, их дома всегда играли в барские усадьбы, и то ли недоигрывали, то ли переигрывали.
По дороге выяснилось, что в детстве у нас были одни и те же любимые книжки, в частности, «Животные-герои» Сетона-Томпсона с иллюстрациями автора.
— Я плакала, когда читала некоторые рассказы, про медвежонка Джонни, про Крэга — Кутенейского барана, про Снапа.
— О, — сказал я, — я тоже заплакал, а моя матушка, вдова, растившая меня одна и очень хотевшая вырастить настоящего мужчину, заругала меня, нюня, плакса, говорила она, прекрати немедленно. Я обиделся на нее, но потом, когда читал и слезы наворачивались, и не думал сдерживаться, кто-то ведь должен был оплакать Кутенейского барана и малютку Снапа, не только Сетон-Томпсон.
Тут нас обогнали Тамила с тащущим за ней магнитофон Энверовым, и она, и Титов остановились в одном из белых двухэтажных домов за углом; вероятно, дизайнерский паж растворился во мраке, и Энверов вызвался тащить магнитофон за нашей Кармен.
Мы долго болтали с Ниной у крылечка, потом, пожелав мне спокойной ночи, она исчезла, скрипнув калиткою (над забором цвел огромный сиреневый куст), а я совершенно счастливый, развеселый, двинулся к своему краснокирпичному приюту, однако, когда я увидел при всеобъемлющем свете Луны Тамилу с Энверовым, целующихся на косе, радости у меня поубавилось. Он что-то сказал ей, она рассмеялась, ночной воздух с его храмовой акустикой объяла волна, и тут заколыхались, обводя косу, белые фигуры призраков, туманные силуэты их, я смотрел на эту картину точно Левко на русалок, их видел, должно быть, я один, зашлись лаем собаки, призраки пропали, я пошел восвояси с чувством глубокого сожаления, что к этому лету совершенно завершился, растворился начавшийся на прошлом сенежском семинаре роман Тамилы с одним из наших блистательных докладчиков, известным дизайнером, романтической фигурою, чего стоила одна эспаньолка, а уж книгами и статьями его мы зачитывались все, — а возник рядом с нею красавчик Энверов, которого и рисовать-то не хотелось. Откуда его только принесло, думал я, на лекции о Вьётане его мы не видели, музыка его не интересовала, хотя, может быть, явился он одним из последних в последних рядах, привлеченный фигурирующим в названии балом Сатаны.
Реплика о косе Тартари
Вот настал момент и мне на манер наших семинарских подать реплику, сказать несколько слов о Татарской Гриве, косе, которую называли мы с Ниною косой Тартари.
В давние годы, когда Свияжск становился островом во время паводков, чтобы потом снова стать холмом, Тартари называлась гривою, но после создания Камского (или Куйбышевского?) водохранилища в 1956 году она стала косою, ведь коса всегда отходит от берега, устремляясь в воды, а грива чаще всего длит свой протяженный хребет посуху.
Татарскую Гриву в народе называли Дорогой жизни, ее песчаная дорога соединяла остров с Большой землей и выходила на Сибирский тракт.
Зимой народ ездил на материк на санях, но безлошадная жизнь всех одолела вконец, и ко второй половине XX века островитяне местные как-то приноровились скакать от берега до берега на «макаке», на мотоколяске, к которой прикреплены три камеры от трактора, так и прыгали, что у Сибирского тракта, что до Нижних Вязовых, то есть до железнодорожной станции Свияжск.
Перед ледоставом или ледоходом сушили сухари, запасались сахаром, солью, крупою, личных вертолетов не было, общественные сюда не летали.
В годы, когда Свияжск был сперва составной частью ГУЛАГа, а потом расположился на лагерной (и монастырской) территории сумасшедший дом, было очень даже кстати, что остров отрезан от мира.
Кладбища в городке не было. Прежде покойников везли на другой берег, плыли в лодке, на пароходике. Расстрелянных и умерших в лагере и в дурдоме (новейшей истории) хоронили в братских могилах, в свальных ямах на косе Тартари. Когда до меня дошло, что Дорогой жизни называется это место на костях, на покойниках, мне стало не по себе.
Коса стояла полузатопленная, вдоль нее торчали из воды остатки полусгнивших столбов линии электропередачи, словно зубья ведьминых гребешков из страшной сказки о наших русских дао, русских дорогах сказочных персонажей Ивана-дурака, Ивана-царевича, Василисы Премудрой и Василисы Прекрасной.
Но словно вселились в меня гоголевские есаул Горобец и гребцы его, плывущие по Днепру и видящие в сумеречные и ночные ночи призраков прибрежных кладбищ, видел и я призраков невинно убиенных, зарытых на косе Тартари: в снах моих натуральных и во снах наяву.
Когда Татарская Грива почти полностью ушла под воду, остался от нее малый хвостик, отходящий от прибрежного песка, все множества скелетов оказались на дне, словно свидетели пиратских битв и кораблекрушений.
Почему-то Энверов с Тамилой постоянно встречались на косе Тартари, как назло, я регулярно проходил мимо, видел их, — не знаю, видели ли они меня, — и это производило на меня какое-то мрачное впечатление, оставляло на душе неприятный осадок, метило вечер тенью тьмы, глубже ночной.
Байки от хозяйки
— На Руси спокон веку пироги пекли от бедности, — сказала хозяйка, придвигая ко мне большую тарелку с нарезанным пирогом и среднюю с горкой мелких пирожков.
Хозяйке нравилось, что я провожаю Нину до дома после вечерних докладов и заседаний, проводы теперь заканчивались чаепитиями, а за разговорами засиживались мы допоздна.
— Вот этот пирог с рыбою спекла я из хлеба.
— Как это?
— Корочку срезаете на сухарики, хлеб размачиваете, капелька дрожжевая, муки идет немного, начинка по вкусу, да вы ешьте, ешьте.
— Никогда не слыхал, чтобы пироги пекли из хлеба, да еще такие румяненькие и вкуснющие.
— Мало что, — произнесла польщенная хозяйка.
— В доме моем, — говорила она, — а дому уже больше ста лет, разные купцы ночевали, семейство за семейством, родня, по женской линии после замужества фамилии менялись, Илларионовы, Бровкины, Медведевы. Когда Советская власть началась, приехал красноармейцев расстреливать Троцкий, так с балкона речь и держал, сначала о народном счастье, потом о беспощадности справедливости, потом про памятник Иуде. Говорят, он всегда с балконов речи говорил.
— Вот у нас в Питере, — сказал я, — на красивейший балкон особняка балерины Кшесинской забирался, оттуда и ораторствовал. Как испанка в мантилье кружевной балконы любил. Говорят, говорил лучше всех. Толпа в полный столбняк приходила. Пламенно выкрикивал, рукой махал, очки сияли, словно искры из глаз сыпались. Но вот что сказал, час говоримши, никто не то что повторить, а даже понять не мог. Глаголом жег сердца людей. Прилагательными тоже. Ни одного матюга. Но лаялся при этом по-заводному.
— Некоторые врут, — сказала хозяйка, — что он в нашем доме и останавливался. Нет, останавливался он в богадельне, она каменная, а уж балкон-то наш наглядел.
— А для чего он приезжал? — спросила Нина.
— Войска вдохновлять. Чтобы Казань от белочехов освободили быстрехонько, а не отступили, как в этот раз.
— Вдохновил?
— А как же. Каждого десятого велел расстрелять, ничего личного, мы не против никого из своих, кто десятый случайно оказался, того и в расход. Если и после этого, сказал он товарищам своим, скорехонько Казань не возьмете, каждого третьего расстрелять велю. Ну, всех-то нельзя, кто же тогда других расстреливать будет.
— Подействовало?
— Взяли опять Казань как при царе Иване Грозном. Он, видать, Троцкий-то, краем уха слыхал, что взятие Казани как-то с нашим Свияжском связано, сюда и приехал для усиления военных действий.
— Тень Троцкого меня усыновила, — продекламировал задержавшийся под окном, чтобы дослушать, ведущий под руку на косу Тартари Тамилу Энверов.
— Он еще и подслушивает, — сказала Нина.
— Так окна открыты, вечер тихий, — сказала хозяйка, — бывало, идешь, всё знаешь, кто что говорит, кто чем дышит. Городок-то маленький, остров небольшой.
— А скажите, — спросил я, подцепив чудесный пирожок с ливером, — старинные призраки показываются тут? или только нашей новейшей истории из расстрелянных, лагерных и психов, что на Татарской гриве лежат?
Хозяйка пальцем погрозила:
— Откуда знаешь, что самоновейшие показываются, да еще и на косе? Сам видел? Никому не рассказывай. Даже и не заикайся. У нас тут не принято признаваться, если их увидишь. Дурной знак, плохая примета, игры не к ночи будь помянуты. Старинные призраки — это кто?
— Иван Грозный, например, — ляпнул я.
— Иоанн Грозный, — сказала хозяйка, — на скамеечке возле Троицкой церкви сиживал, скамеечка, говорят, та же, не гниет, не рассыпается. Зачем тут будет его призрак являться? Он в Успенском соборе в «Шествии праведников» среди святых при жизни изображен.
— До того, как сына убил, изобразили или после? — спросил я.
— Не знаю, не моего это ума дело, — сказала хозяйка.
— А отрок Угличский не является? — спросила Нина. — Царевич Димитрий? Свияжск ведь воеводовы плотники срубили в угличских лесах.
— В лесах между Угличем и Мышкиным, — поправила хозяйка, — ближе к Мышкину, во владениях бояр Ушатых. Нет, царевич никогда не являлся. Вот отрока видели.
— Какого отрока? — спросили мы с Ниной дуэтом.
— Варфоломея, должно быть, — шепотом отвечала хозяйка.
И видя по лицам нашим, что мы ведать не ведали, кто такой отрок Варфоломей, пояснила нам, воспитанникам пионерлагерей и кружков ДПШ:
— Когда заночевали воеводы в одном переходе от непокорной Казани на высоком холме-останце Кара-Кермен, тут всё было покрыто деревьями, сплошной лес рос на округлой горе (местные называли ее гора Круглая) с крутыми склонами и плоской вершиной. Рассказал им местный рыбак, что легенды ходили: мол, было тут некогда капище темного злого ветхого бога, злые духи кереметы обитали вокруг него, а потом стал в чаще невидимый колокол звонить, а по лесу ходить старец в белых одеждах, осеняющий остров крестным знамением, и то был игумен Святой Руси преподобный Сергий Радонежский, защитник и заступник земли Русской, он остров освятил и отмолил. Когда воеводы отплыли, видели они на берегу отрока в белом, да и потом отрок являлся, только редко; стало быть, и был этот отрок Варфоломей.
— Стало быть? — переспросили мы с Ниной дуэтом.
— Да как же, ведь Сергий Радонежский до принятия схимы и звался в детстве отроком Варфоломеем. Он и являлся.
Тут вспомнил я картину художника Нестерова «Видение отрока Варфоломея», проходил я ее по истории искусств, однако, не ведал, что изображен на ней Сергий Радонежский в отрочестве. Образование наше было хорошее, но несколько своеобразное, все мы в некотором роде были и оставались самородками.
— А уж потом, как возник в Свияжске Успенский монастырь, монахи это место как могли отмолили. В двадцать третьем году в целях борьбы с религией безбожники вскрыли раку с мощами Святителя Германа, первого настоятеля монастыря, так тотчас такой смерч прошел, ни до, ни после не видали в наших местах подобного. А последнего настоятеля, епископа Амвросия Гудко, Троцкий расстрелял после расстрела красноармейцев: в полной тишине, замерло всё и вся. То-то, видать, капище радовалось в глубине земли, улюлюкало.
Тут она испугалась собственных слов, перекрестилась на темную икону в углу за горевший зеленой лампадкою, а мы с Ниной встали, я откланялся, поблагодарил за чай да за приятную компанию и соскользнул с крылечка во тьму. Было тихо, безлюдно, луна начинала таять.
Реплика о признаках гениальности
В тот вторник я побежал на мастер-класс по пропедевтике, курсу подготовки к занятиям композицией. Народу было много, желающих участвовать непосредственно хоть отбавляй. Педагоги по дизайну интерьера предлагали придумать и склеить из бумаги небольшой модуль, из таких модулей на планшете собирали ограды, башни, вертикальные и горизонтальные объемы. Были и готовые наборы модулей, из которых желающие могли строить свой бумажный городок. Вспомнили (потаенно) детство, постройки из кубиков, жилые единицы для маленьких фигурок.
Отделение индастриал дизайна, «промышленной эстетики», предлагало на чистом листе в четверть большого листа ватмана создавать композицию из вырезанных из цветного (или черного) картона квадратов, кругов, треугольников, прямоугольников разного размера; надо было расположить плоские геометрические фигуры так, чтобы создать у наблюдателя ощущение спокойствия, тревоги, направить его внимание на какой-то один треугольник, создать листы статические, динамические, равновесных и неравновесных состояний.
Вдоволь наигравшись в пропедевтику, вспомнил я, что собирался заскочить на реплику о признаках гениальности, поскакал в указанный в программном вторничном листочке класс и явился к шапочному разбору. Докладчик, высокий красивый военный врач, заканчивал свою реплику. Как ни странно, класс был полон. Войдя, я оказался среди стоящих; за мной вошел москвич, звезда дизайна, известный всем Г., в это лето расставшийся с Тамилой, мы стояли рядом.
— Таким образом, — говорил лектор, — у женщин в геноме наблюдаем мы некоторый перебор мужских генов по отношению к среднестатистической норме, а у представителей мужского пола — преувеличенное количество генов женских. Разумеется, речь не идет о каких-то мужеподобных дамах и женоподобных господах, ничего подобного; но генная картина изменена, неравновесна. И это последний признак гениальности из перечисляемых. Благодарю вас за внимание. Задавайте вопросы.
Я так и не понял, была ли это его личная разработка, представлял ли он коллективную или предлагал вниманию собравшихся перевод одного из сообщений английского семинара, чем-то напоминавшего наш, но медицинского с девиациями в сторону биологии, генетики, психологии, что ли.
Ему аплодировали довольно долго, потом приступили к вопросам.
Рядом с докладчиком, на боковых креслах у стены, заметил я и Тамилу с Энверовым.
Тут встала моя Нина и спросила (серьезно, она вообще отличалась серьезностью, ей в голову не приходило острить, зубоскалить, проявлять неуместный юмор):
— А что, если признаки гениальности есть, а гениальности нет?
Зал рассмеялся.
Заулыбался и докладчик, вгляделся в Нину, картинно развел руками.
— Разумеется, такое возможно, — сказал он, — всегда отыщется какое-нибудь исключение, какой-нибудь казус, какой-нибудь входящий в противоречие с теорией и практикой организм, норовящий статистику испортить. Само по себе такое исключение ничего не значит. В худшем случае человек бывает уверен в своей несуществующей гениальности, по всем вышеупомянутым пунктам подтвержденной, — и злобится на окружающих, его гениальности и величия не замечающих. Тут открываются большие и малоприятные возможности от психопатологии до античеловеческих отклонений разного рода. Но это уже не моя тема.
Энверов почему-то принял слова лектора на свой счет. У него было свойство быстро бледнеть, чуть свинцовым, голубоватым оттенком белого покрывалось красивое смазливое лицо его, становясь еще неподвижнее, на мгновение превращаясь в маску.
Г., стоявший рядом со мною, тоже заметил реакцию Энверова, потому что всё это время (рост ему позволял) неотрывно смотрел на Тамилу.
Он был старше и Тамилы, и меня, об Энверове, из молодых да раннем, что говорить. Я сообразил это в один из прошлых вечеров у костра. Пели песню Высоцкого о книжных детях, я видел, как Г. слушал, книжные дети — это были мы (минус комсомольский божочек, нынешний Тамилин ухажер), а Г. помнил войну, пережил ее, голодал, жил под обстрелом и бомбардировками. Думаю, он иначе смотрел на жизнь. Я знал, что у Г. есть жена, поэтому роман его с Тамилой обречен, хоть он и любил Тамилу как-то заодно с дизайном, делом жизни своей, если можно так выразиться. В гомонящей толпе слышал я, как глубоко он вздохнул перед тем, как уйти. Дверь за ним закрылась, вопросы исчерпались, я подождал Нину, мы отправились посмотреть макеты мастер-класса пропедевтики, она еще не видела их.
Этюд
— Ты женат? — спросила Тамила.
— Нет, — ответил Энверов.
— И не был?
— Нет. И не собираюсь.
— Почему?
— Ну, сперва жена, куда ни шло, а потом она детей захочет, а я их терпеть не могу.
— За что?
— За то, что поселяется в доме такое маленькое, вонючее, заполняет квартиру, весь белый свет, всё время. Да мне от одной мысли о гаженой пеленке мутит.
— Я поняла, — сказала Тамила. — Сблевать не сблюешь, а стошнит обязательно.
— Что?!
— Ой, это с другой страницы. Я хотела сказать: стошнить не стошнит, а сблюешь обязательно.
— Ты что говоришь? Что за хамские выражения слышу я из дамских уст румяных?
— Это цитата из великого произведения Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки».
— Какие кретинские книги читают наши пресловутые книгочеи! Кстати...
Как всегда после «кстати» вплетал он нечто, что некстати вовсе и к предыдущему разговору отношения не имеет.
— Кстати, вот я все хочу спросить: что такое «дизайн»?
— Художественная конструйня, — отвечал я с косогорчика. — А говорить надо не «пресловутые книгочеи», а «грамотеи фиговы».
— Это еще кто? — Энверов нахмурил красиво отрисованные соколиные брови свои. — Что ты тут делаешь?
— Этюд пишу.
Тамила тут же побежала посмотреть.
— Иди сюда! — воскликнула она. — Этюд-то хороший. Вон какой прелестный цвет небесный над крышами.
— Я не специалист по цвету небесному, — сухо промолвил Энверов.
— Он у нас специалист по маленькому и вонючему, — сказал я.
— Ты еще и подслушиваешь?
— Что ж тут подслушивать? Орете, как в рупор, громкость не регулируется, городок мал, остров невелик, всем слышно всё и всюду.
— Пойдем, — сказала Энверову Тамила, — сейчас катерок подойдет к пристани, мне ребята шампанское проспоренное привезут.
Они убыли по узкой неровной улочке, навстречу попался им Г., элегантный, в легкой спортивной курточке, с легендарной эспаньолкой. Он церемонно раскланялся с Тамилой.
— Почему он на тебя так смотрел?
— Как умеет, так и смотрит.
— Он что, клинья к тебе подбивает?
— Да какие клинья, — сказала Тамила, — какие клинья, я с ним жила три года.
— Ч-черт! — выкрикнул Энверов.
Он сказанул бы и хуже, но почему-то сдержался. Тут выкатился им навстречу заводной чертик на лисапете с трубою, махавший цилиндром, сопровождаемый группой любителей заводных игрушек или авторов оных.
Чертик попал на дорожную выбоину, свернул с пути, слетел бы с возвышенного бережка, да я успел его подхватить.
Сложив этюдник, собрав манатки в холщовую сумку, пошел я вдоль берега к Нининому дому. Поскольку остров был округл, куда ни пойди, налево или направо, путь вел именно к ее дому с двумя деревьями, липой и сосной. Но левая дуга никогда не была равна правой, неважно, откуда движешься, на длину дуги влияла не только отправная точка, но и рельеф, и застройка, и степень извилистости стёжек с дорожками да бездорожных прибрежных трав, и то, что против часовой стрелки остров обходить всегда было легче, чем по часовой.
Трактат обо всём
— «Раньше я ничем не интересовался, теперь меня интересует всё, я увидел всё не сразу, уже научился я ходить и немножко знал слова, пел без слов, знал, как называются мои ноги, руки, голова, глаза, уши, рот, нос, волосы, пупок, но словно я все еще находился в утробе матери, как до поры находились в нашей кошке котята, в собаке щенята, в корове телок, как цыпленок сидит в яйце, а вокруг защитный мешок, вокруг цветовые пятна, многое наощупь, но ни слов, ни того, что называют „глаголы“, иногда видишь волны как на отмелях свей, рябь, только мелькнет над отмелью еще один отмелёк, уйдет к невидимому дну еще один глубиноид, а твоя серединная жизнь тебе не дается, матушка, у которой я так отчасти в утробе и сидел, не любила меня, не понимала, как из нее такое могло народиться, я не походил ни на братьев, ни на сестер, хотя внешне мы были чуть-чуть похожи, посторонние тут же угадывали, что я им брат, зато отец меня любил, и из его любви постепенно стало возникать всё, впервые в ту летнюю ночь, когда я не спал, кричал, бегал, и мать, устав, тоже стала кричать и сходить с ума, тогда отец вытолкнул меня в наш внутренний сенной двор и запер дверь на засов. Я продолжал бегать, биться, орать, но сено пахло отцветшей сушеной разной травой, полевыми цветами, я не мог даже синяка на лбу набить, вокруг было мягко, шуршало, я устал, лег на спину, глянув вверх, увидел, сколько там звезд, окруженных высокой рамой стебельков, еще не съеденных коровой, и с этого началось всё, оно началось со звезд и трав, а потом стало прирастать, и продолжает, и пока я живой, будет прирастать, потому что в человеке всё может вместиться только помаленьку, по чуть-чуть, постепенно, в разные дни в разных количествах, иногда это день зеленого трилистника, окруженного ярко-белым снегом, если весна, а если путешествие и лето, получится море океанского размера, даль из волн, облаков, обещаний своей земли еще не виденных чужих мест, но в другой раз всё прирастет старой кофемолкой, будешь крутить скрипящую ручку, молоть зерна для кофия, почуяв запах колониальных исторических земель, где так тепло вокруг плантаций, где пальмы, сезон дождей, ночные бабочки больше птиц, а колибри меньше наших стрекоз, где берег океана с мелким теплым песком, а в океане и его теплых морях есть медузы, дельфины, морские коньки, вдруг настанет тебе момент догадаться, что морской конек — это Пегас, малютка бог поэзии, а под шорох набегающей волны ты поймешь цезуру, паузу, вздох в стихах Гомера и всех поэтов всех времен на Земле, вот учили тебя, учили, то отдельно, сё отдельно, а настает мгновение чудное разломанную картину складывать из кусочков, из пазлов, всё начинает сходиться, находить свое место, гуляют короли старинные по разным странам, этот пазл — золотая корона, а соседний — маленький насекомый комар, а тот золотой выпал из золотых волос сказочной Златовласки, а насекомые цифры играют в свой муравейник, его столбики, задачи, примеры перестали тебя пугать, ты узнаешь их в номере дома, где твое жилище, в числе, месяце, годе своего рождения, в сантиметре, если тебя измеряют им, чтобы справить тебе пальто или новые штаны, тебе уже не хочется плакать и приставлять к ногтям их похожие на лунные полумесяцы острижки когда стригут себе ногти и у тебя есть кот, собака и соловей императора в книге, а завтра будет новое сегодня перед новым завтра, и опять тебя обступит все все все все все все все все все все, а теперь я поставлю временно подпись свою закончив этот трактат обо всем, а завтра или послезавтра начну новый...»
Эрик...Эрик был тридцатипятилетний аутист, вышедший из аутизма к тридцати двум годам, его большая фотография висела в классе, где переводчица трактат читала. Эрик был швед, ученик известной Ирис Ю.; тоже выйдя из аутизма, она работала с аутичными детьми, в том числе с Эриком, которого привели к ней неговорящим, перепуганным, казавшимся пятилетним. Автор трактата смотрел нам в глаза, рукава свитера доходили ему до кончиков пальцев, на плече у него сидел хомячок.
После подписи Эрик всегда ставил многоточие.
Хозяйка и художник
Вечерами после чая мы играли с Ниной и с хозяйкою в карты на деньги: в «пьяницу», в «Акулину», в «Фофана» и во «Всеобщий пасьянс»; на кон ставили копейки. Я ходил из семинара в семинар и всех просил мне этих копеек побольше поменять. В результате собрал чуть ли не на монисто. Потом, через несколько лет, да чуть ли не через 10, я и впрямь сделал к Новому году для Нины монисто, стерев надфилем копеечные рельефы.
В тот четверг устроил я себе окно в слушаньях, написал этюд, показавшийся мне удачным, явился к Нине с этюдом, не то похвастаться, не то порадоваться, хозяйка тоже увидела работу мою и неожиданно вскричала, почти повторив слова Тамилы: «А какой цвет-то небесный на самом верху над облаками!» Я подивился ее живописному чутью, а она сказала:
— К нам ведь часто художники приезжают, и теперь, и в прошлом веке ездили, а один у меня останавливался, и сперва просто работал, а потом разговорились, он мне много чего рассказал, а, уезжая, один пейзаж свой подарил. Человек был необычайный! А какой художник! А жена его, что за ним приехала, тоже чудесная художница была, ни на кого не похожая.
Карты в тот вечер и не доставали, все чайная наша церемония посвящена была этому художнику, о котором я прежде не слыхал.
— Сначала только здоровались, тихий, немногословный, мы незадолго до отъезда его разговорились. Писал он левой рукой, я думала, он левша, но в жизни обычной он ел правой, и дрова колол правой, так что и вторая мысль моя, — мол, фронтовик, после ранения правую руку щадит, тоже оказалась неправильная.
Он объяснил мне: правая рука у него испорчена академической реалистической школою, так хорошо его в Академии Художеств выучили, что рука сама автоматически рисует и пишет, как положено, так и называлось, как у музыкантов, «руку поставить». Я, сказал он, ученик одного великого мастера, которого в глаза не видел, мастер умер от голода в блокадном Ленинграде, при жизни его не признавали, говорили, что он формалист. Что такое формалист, — спросила я, — а он ответил — большое значение форме предметов придавал и форме изображения их, тогда как у нас в официальном государственном живописном искусстве считалось, что форму изучать раз и навсегда надо, в студенчестве художнику изъяснить: какой научили, такая и правильная, главное — социалистическая идея произведения, формально все должны выражать ее одинаково, никакой такой формы своеобычной в природе как бы не существует. Как же так, — спросила я, — ведь, куда ни глянь, у всего форма своя, можно и потрогать, наощупь полуслепому понять, о камень или об угол стукнешься, паутина паучья невесомая, одуванчик вот-вот разлетится на семена, но и его в руку возьмешь, если успеешь, а облака вообще не пойми что, а ведь видно, одни круглые, пухлые, другие как птицы волшебной с великих высот перышки.
Он очень обрадовался, что я так сказала, прямо развеселился. Видя, что он оттаял, спросила я: как же он учился у художника, который ко времени обучения умер? А мне, отвечал он, книга о нем попалась, где мысли его прижизненные ученики пересказывали, много репродукций его работ было, а также работ учеников; называлось его направление — аналитическое искусство, сначала подумай, помысли, а затем изображай, а рука моя правая думать не хочет, рука набита, со своей глупостью и халтурой вперед лезет, стал я, сказал он, переучиваться и левой рисовать.
Нравился ему балкончик мансардной комнатки, где он обитал, я рассказала ему: рассказывают, Троцкий некогда на балкончик выходил, пламенную речь народу говорил, все околдованные стояли. Художник мой и тут развеселился, заговоренный, говорит, стало быть, балкончик, надо бы мне на него выйти да народу крикнуть: «Люди! Любите аналитическое искусство!» — и все полюбят.
— Это вряд ли, — сказал я.
— Я, как он уехал, думала: может, ему со своим обращением надо было на другой балкончик выходить, в городе родном, балкончик особняка известной балерины, царской полюбовницы, тогда бы, возможно, и его художественное начальство возлюбило работы учителя моего художника, а также картины самого призвавшего возлюбить.
— Нет, это невозможно совершенно, — сказал я, — у них не только рука набита, но и глаз тоже.
— Глаз бывает только подбит, — заметила Нина.
— Глаз бывает замылен, — возразил я, — и смотреть можно на свежий глаз и на несвежий, тухлым взором, нездешним, неживым.
— Несвежий глаз у тухлой рыбы, — вздохнула хозяйка.
И продолжала:
— Кроме работ своего великого учителя любил он особо еще одну картину, возил картинку, с нее напечатанную, с собою и из-за нее к нам и прибыл. Репродукцию эту он мне подарил, увидите, она у меня рядом с его пейзажем висит. У нас места особенные, заговоренные, остров волшебный, воды вокруг в слияние играют, сливаются Свияга со Щукой, впадают в Волгу, и еще между ними Щучье озеро. На острове нашем кроме Ивана Грозного побывали царица Екатерина Вторая, царь Александр Первый, Радищев, декабристы, Герцен, Достоевский Федор Михайлович, граф Лев Толстой, множество художников, в том числе написавший любимую картину художника моего Левитан. Картина называется «Озеро. Русь», написал ее Левитан и вскорости умер. На картине озеро, справа плавни, слева в глубине остров наш со Свияжском, а главное вода, а над озером большие кучевые облака, а от одного облака на берег острова нашего падает тень.
И вот моему художнику рассказали, что тенью Левитан пометил особое зачарованное место, кто туда придет, там побудет, получает особый дар провидения, особое зрение, и желания его, если задумает их там, исполнятся.
— Кто же ему такое рассказал?
— Какой-то... Как это... Экстра...
— Экстрасенс? — спросила Нина.
— Да. Это кто ж такой, кстати? Вы знаете?
— Экстрасенсы, — сказала Нина сурово, — это жулики, мракобесы и доморощенные маги.
— Не все, — вступился я.
— Нет, все.
— А как же старцы монастырские? — спросил я. — Ведь они были ясновидящие, целители, великая сила в них была.
— Ясновидящий одно, — упрямо сказала девушка моя, — а экстрасенс другое.
— Не спорьте, — устало сказала хозяйка, — мой-то художник мудрый, у него талант от Бога, он нипочем жулика слушать бы не стал. Знающего слушал.
— Есть знания, — сказала Нина, — которые человеку вовсе не нужны.
— Художник мой, — продолжала хозяйка, — всё хотел это место, куда тень облака на картине Левитана упала, отыскать. Каждый день брал лодку, отправлялся, да всё точку не находил. В левитановы времена остров был то остров, то холм среди оврагов и лугов речных, а теперь и плавней правого угла «Озера» не отыщешь.
Он говорил: есть в десятилетиях день и мгновение, совпадение всего, течения воды, скорости ветра, положения солнца, такое же облако так же поплывет и туда же падет тень от него.
Сын у художника болел, болел мальчик, думаю, в волшебном месте бережка хотел художник исцеления для него просить.
Стали у него получаться особо хорошие работы, он был радостный, надеялся; а тут его собрат по живописи из Ленинграда прибыл с другими вестями.
Моего художника ни одной работы закупочная комиссия не купила, ни одного заказа ему не дали, сказали, он теперь формалист, ученик формалиста, а какие надежды подавал, как хорошо начинал. Так что остался художник наш с семьей без средств к существованию.
Вестник недобрый обратно уехал, а художник запил, что стало для меня полной неожиданностью. Что я, пьющих не видела. Но он-то буйным не становился, только задумывался всё больше и больше говорил. Я хотела его остановить, уговорить. Говорю, зачем вам дурь такая? У нас и так вокруг все пьют.
— Пьют? — сказал он. — Ну, пьют-то пьют, но еще и выделываются. Артистичный народ-то. Вроде, хлебнул, — и самовыражайся. В случае чего скажут: «Спьяну». Да они и трезвые такие же. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
Утром соседи прибежали, забери, говорят, постояльца из лодки, отплыть не может. Бегу, а он у берега отчаянно гребет, а нос-то лодки на берег смотрит.
К середине дня приехала за мужем жена художника. Звали ее Метта, родом она была из Прибалтики.
Чудо что за женщина. Едва вошла — в комнате светлее стало. Где только такую нашел.
Она с собой альбом квадратный привезла, французский, что ли, собиралась побыть дня три, поработать, а как мужа увидела, раздумала, нет, говорит, едем завтра, а я ее попросила — можно ли мне ее работы посмотреть, разобрало меня любопытство. Конечно, говорит, невелик секрет, улыбается, волосы золотистые в скобку, глаза светлые, прозрачные, улыбка солнечная. И, верите ли, у меня эти ее небольшие работы в глазах по сей день стоят, такая в них была красота, а работы как будто чуть-чуть детские.
Развязала она припасенный пакет со сбором трав, мне неизвестных, по запаху учуяла я разве что мяту, чабрец да тимьян, мужа до вечера отпаивала, наутро встал он трезвей трезвого, как стеклышко, и уехали они, она грести сама взялась, отдыхай, говорит; я говорю — не так близко вам плыть-то, а она говорит — да мы сколько лет почти по полгода в Старой Ладоге живем, там всё время на лодке, мне, говорит, легко. Бывают такие женщины, им всё легко, и с ними легко. «Как же вам лодку вернуть?» — «А ничего, я вам объясню, на каких мосточках привязать, мне потом пригонят». Долго я им вслед смотрела. Художник мне рукой помахал. Я ее еще спросила — как же так, у него такие пейзажи хорошие, работящий, почему же с ним так начальство обошлось? а она ответила, — что делать, фашисты они, сами того не ведают.
Как уплыли, дождь пошел, шел десять дней. А мне он одну свою работу подарил, потом сосед к ней раму сделал из ломаных золотых рам бывшего клуба с того берега, хотите, покажу?
Комнатка
Комнатку с лежанкой, в которой висела дареная картина, как раз Нина и снимала. На лежанке красовался полосатый половичок из разноцветных тряпочек, два похожих на полу. На левой стене висел ряд портретов, вглядевшись, я чуть не расхохотался, но сдержался, по счастью. То были репродукции из «Огонька» и неведомых мне канувших в лету дореволюционных изданий, компания престранная: Иван Грозный (по счастью, не репинский, убивающий своего сына, жуткая картина, я ее боялся с детства, — а в роли Грозного из кино артист Черкасов), Екатерина Великая, Александр Первый, Радищев, крупное фото медали с профилями повешенных декабристов, Лев Толстой рядом с лошадью, Достоевский (портрет Перова), Пушкин Кипренского рядом с лирою, Левитан с репинского портрета.
Увидев, что я перед этой галереей обмер, хозяйка не без гордости пояснила:
— Всё гости нашего города. Вот только Герцена не нашла, не знаю, где взять. И Троцкого нету, мне он ни к чему. Скажите, а правда ли, что его в Бразилии мексиканец-коммунист ледорубом убил? Я не понимаю, где же он на такой жарище с кактусами ледоруб взял?
Странные вещи занимали умы сограждан моих. Картина хозяйкиного художника, обрамленная поталевым самоварным золотом правительственных портретов, зеленовато-синей листвой деревьев, лиловыми тенями, темными избами, граненым предгрозовым небом, и впрямь была хороша. Я не видел в ней особого сходства с Филоновым, не видел «формализма», но у начальства от искусства глаз был наметан на все живое, особой оптики, не о чем говорить, понять невозможно, почувствовать тоже нельзя.
У окна стояла раскладушка, покрытая ситцевым одеялом, на тумбочке в углу светился букет сирени, на плечиках у двери висела Нинина одежка, на двери прикреплена была узкая длинная икона, судя по петлям сбоку — часть трехстворчатого триптиха или двустворчатого узкого шкафчика. У святого на иконе на голове была плетеная корзинка, нимб за его головою напоминал огромную полнолунную луну, святой стоял босиком на непонятной формы плотике, вокруг него до горизонта простирались воды, на руках держал он овцу, чье узкое неовечье лицо повернуто было к молящимся, то есть ко мне, овца глядела неотрывно.
— Кто это?
— Спиридон Тримифунтский, — отвечала хозяйка, крестясь, — на плаще своем пастушеском море переплывает, нашел свою заблудшую овцу.
Стучали в окно.
— Молоко привезли! — вскричала хозяйка. — Пойдем, Нина, поможешь мне.
Они убежали, я остался один.
Тишина и свет комнатки объяли меня. Я вспомнил слово «светлица». Светлица, светелка, ярко-белая недавно выбеленная печь, обои наклеены наизнанку, светлые, без рисунка белые занавески, и Нинино платье, висевшее на стене, тоже было белое, с редкими блеклыми колокольчиками.
В тишине и белизне меня осенило моментально: хочу, чтобы Нина была моей женой, хочу жить с ней всю жизнь, хорошо бы было жить именно тут, но раз это невозможно, хоть где угодно, например, в нашем с ней городе родном.
Она появилась в дверях, неся пол-литровую баночку с молоком, как-то смешно ее держала, обхватив ладошками.
— Нина, — сказал я. — Выходи за меня замуж.
Мы стояли в светелке неподвижно, она смотрела на меня, в первый момент от неожиданности не поняв моих слов.
— Мы ведь только что познакомились, — сказала она. — Ты меня совсем не знаешь. И я тебя.
— Чтобы познакомиться, — сказал я, — у нас вся жизнь впереди.
Все, что я ей говорил, было сюрпризом не только для нее, но и для меня самого.
— Ты только не говори «нет», — продолжал я, словно произнося текст выученной роли, — подумай, думай, сколько хочешь, ну, не год, конечно, да хоть три месяца, хоть пять, а потом ответь «да».
— Обычно за девушкой ухаживают... — сказала она несколько неуверенно.
— Буду, обещаю.
— Цветы ей дарят, знаки внимания оказывают...
— Конечно, — сказал я. — Все впереди.
— В любви объясняются...
— Я объяснюсь, вот только слова подберу, пока ты думаешь. Если хочешь, приедем в город, буду просить твоей руки у твоих родителей.
— Я сирота, — сказала Нина.
— Ну, как вам молоко? — спросила хозяйка из сеней.
Тогда я взял из Нининых ладошек банку с молоком.
— Осторожно, — сказала Нина, — налита с верхом.
Я загадал: если выпью, не пролив ни капли, она согласится.
Ни капли не пролил.
И сказал хозяйке за дверь:
— Лучшее молоко в мире.
Пляж
Ночью не спалось мне, дождался я утром, пошел с этюдником куда глаза глядят; впрочем, было мне известно: тут, куда по берегу ни пойти, придешь к Нининому дому. Утро было теплое, день ожидался жаркий.
На узкой прибрежной полосе пляжа под высоким срезом бережка на покрывалах узорчатых загорали Энверов и Тамила. «Интересно, — подумал я, — всем они так постоянно попадаются, или только мне?».
— Да ты и сама знаешь, — говорил он ей, — что есть существа высшие, а есть низшие, и мы с тобой принадлежим к высшей касте. Я по роду занятий, своих и родителей, по происхождению, а ты по природным данным.
— По природным данным? — переспросила она его почти механически, думая о чем-то своем.
— Ведь не у всех, — отвечал он, — такие округлые плечи, бедра, грудь при тонюсенькой талии, например. Не у всех такая потрясающая походка, ты ходишь, как танцуешь.
— А что такое низшие существа? — спросила она.
Я ответил с высокого бережка:
— Амебы, дафнии, простейшие, инфузории.
— Черт, он опять идет на свои этюды, — раздраженно промолвил Энверов, — следит он за нами, что ли? Может, ему врезать? Я какой только борьбой не занимался.
Тамила встала, сказала мне:
— Да иди уже ты на свой пленэр.
А потом ему:
— Здесь ни к кому со своей борьбой не лезь. Тут интеллигентные люди собрались, ты понял?
И пошла к воде.
Мы оба глядели ей вслед, смотрели, как идет она танцующей походкой, высоко держа красивую коротко стриженую головушку свою. Она вошла в воду, поплыла, порывисто взмахивая руками.
Едва отошел я, как попался мне еще один зритель тамилиного купания, человек, произносивший реплику про Гурджиева по фамилии Филиалов. Он стоял как вкопанный, поздоровался со мной, не отводя глаз от плывущей.
— Какой, однако, неподходящий спутник у этой прелестной девушки, — сказал Филиалов.
— Вы с ним знакомы?
— Я таких видел не единожды. Они все одинаковы, но этот много хуже остальных. Я имел возможность хорошо его разглядеть и вслушаться в слова его, он очень интересовался Гурджиевым, по поводу гурджиевских сочинений, метода и личности как таковой, со мной не раз и не два общался. Еще интересовался он Фаустом, магией и собственно сатаной, — тут Филиалов усмехнулся (мне показалось — не к месту).
— Вы думаете, он из тех, кто мечтает сатане душу продать? Или уже продал?
Филиалов, отведя взор от выходящий из воды Тамилы, посмотрел на меня. Я не увидел бликов в глазах его, мне это не понравилось.
— Полно, молодой человек, — сказал Филиалов, внезапно повеселев, — чтобы продать душу дьяволу, нужно, как минимум, иметь душу.
Тамила выходила из воды, мокрая, обведенная солнечным светом, Энверов шел ей навстречу с махровым полотенцем.
— Через день, — сказал Филиалов, — я читаю лекцию о механизмах, заводных игрушках и просветительской философии механицизма. Приходите. Кстати, думаю, что и этот поклонник прекрасной нашей Тамилы явится всенепременнейше. Если захотите, станете в начале лекции моим пятиминутным ассистентом, поможете с курочками и лягушками.
— С какими курочками и лягушками?
— С заводными. Будем их, знаете ли, ключиками заводить. У меня их много. Целая орда.
Слегка прихрамывая, он удалился.
А я, выбрав самый старый, неказистый, покосившийся сарай, только и успокоился, написав серебристые крыла видавшей виды крыши. Сарай на моем этюде растворялся в зелени, в воздухе, совершенно утерял светотень, объем, вес, не о них думал я в то утро, а о любви.
Девять рядов до Луны
Актовый зал женской гимназии, служившей мне гостиницей, набит был под завязку, желающих услышать доклад об основоположниках дизайна как такового оказалось более чем достаточно. На сцене стоял высокий столик для докладчика с высоким канцелярским стулом, напоминавшим сидение в баре (бары видели мы в кино и в журналах вроде «Domus’a»), висел экран, ждал своего момента диапроектор, но начало непривычно затягивалось, — по обыкновению, все сообщения начинались у нас с самолетно-вокзальный точностью. Зал уже зашумел, зарокотал, когда вышел один из координаторов нашего семинарского действа и произнес:
— К сожалению, докладчик по заявленной в программе заседаний теме «Девять рядов до Луны», всем нам известный советский теоретик и популяризатор дизайна, не смог сегодня приехать, мы приносим всем вам, дорогие слушатели, свои извинения. Однако, решено было доклад не отменять, поэтому сейчас на близкую не состоявшемуся сообщению тему перед вами со своим эссе выступит Тамила Николаевна Доренко из Ленинграда.
И вышла Тамила, — в лиловом шелке, темном бархатном узкоплечем пиджачке, с пылающими щеками.
— К сожалению, — так начала она свое выступление, — я не знакома с полным текстом докладчика, вместо которого придется вам послушать меня, хотя реферат его я читала. Как вы догадались, очевидно, по названию, в большой мере речь должна была пойти о Бакминстере Фуллере, авторе известнейшей статьи «Девять рядов до Луны», о котором уже говорил перед вами Александр Сергеевич Титов, а также о других великих архитекторах, ставших основоположниками дизайна: Петере Беренсе, Вальтере Гропиусе, Мисе ван дер Роэ и Ле Корбюзье.
Фуллер, признанный гуру новейшей архитектуры и дизайна, автор понятия «синергетика» (которая тоже нашла свое отражение в пределах программы наших семинаров), увлекался разнообразными парадоксальными статистическими выкладками и оставил нам кроме своих блистательных разработок ряд весьма оригинальных книг; я перечислю некоторые из них: «Четырехмерное время», «Похоже, что я — глагол», «Интуиция», «Послание детям Земли», «Тетрасвиток», «Космический корабль Земля: техническое руководство».
Но поскольку сообщение мое возникло неожиданно для меня самой, граничит с импровизацией, я изложу вам свою, совершенно женскую версию рассказа о наших великих путешественниках, связанную с женщинами, с их спутницами, теми, о которых мне, волею судеб, известно.
Зал притих, все навострили уши, в первых рядах вытянулся в струнку (а он и так держался, как аршин проглотил, выправка от природы) ее бывший возлюбленный, должно быть она сочинила это свое эссе о женщинах и дизайне думая о нем, о своих мечтах, что вот будут они вместе, единомышленники... ну, и так далее.
— Бакминстер Фуллер, — продолжала Тамила, — подсчитал, взяв за основу средний рост человека равный 170 сантиметрам, что если люди встанут, как в цирке гимнасты, на плечи друг другу, то человечество образует девять рядов до Луны. Некогда, когда людей на планете было меньше, и рядов было меньше, но к концу XX века и началу XXI число их может дойти до двух десятков; но во время написания фуллеровской статьи рядов было семь, в них входили и наши герои, а также их женщины, о которых я сейчас расскажу.
И поскольку начали мы с название доклада, оно же — название книги Фуллера, не по хронологии, не по порядку, но в честь Баки, как его называли, я начну с его дочери и его жены. Потому что мое эссе — о дизайне, о жизни, смерти, ревности и любви.
Щеки ее пылали, сиреневый куст на ветерке стучался в окно, словно хотел войти, потому что знал, как мы все, что Тамила возникла из сирени.
— Волею судеб, — продолжала она, — я читала, что время дискретно, мне объясняли смысл слова «дискретно», но по-настоящему поняла я — и утвердилась — в этом свойстве времени на примере виденных мною фотографий Ричарда Бакминстера Фуллера. Сначала полумальчик-полуюноша, гимназический отрок, потом красивый молодой человек, спортивный, с высоко поднятой головою; промелькнул было портрет между молодостью и зрелостью, волосы тронула седина, лицо еще то же — и всё. Дальше изображения исчезают, Баки выныривает из времени в пятидесятые, уже в старости, седой ежик волос, гуру, морщины, монументальные черно-белые портреты, одно цветное фото — два старых человека — с улыбающейся Энн.
В конце двадцатых годов, когда был он безработным, неудачником без средств к существованию, когда его красавица жена родила вторую дочь Аллегру, а первая любимая доченька Александра умерла, годовалая, от воспаления легких, и он винил себя в ее смерти, потому что жили они бедно, неустроенно, в жалких холодных меблирашках тесного пыльного район Чикаго, он сначала запил, а затем хотел покончить жизнь самоубийством.
И впечатление такое, что он действительно покончил с собой, он исчез, пропал, верите ли, ни одного фото в зрелости. Вернулся под старость.
Студентом он был лихим, его то отчисляли, то уже собирались отчислить, за ним водились дон-жуанские подвиги, он знакомился и на пари заводил романы с модистками, хористками, девчонками из варьете. В 1914 году он познакомился с Энн Хьюлетт, красавицей, она была легкая, тоненькая, ему по плечо, а эти шляпы с полями, глаза из-под полей кинематографических... В 1917 году они поженились и, прожив вместе 66 лет, умерли в один день.
Находясь на грани самоубийства, он вдруг приходит к мысли о нелепом эксперименте, задумывается — что может сделать один человек, надеясь только на свои силы, для блага всего человечества, ни больше ни меньше. И опыт этот начинается.
Результат известен.
Но мне кажется, что его великие геодезические купола, летающие города проекта «Девятое небо», идея о том, что человечество должно полагаться на возобновляемые источники энергии (солнечного света, ветра, воды), большинство его идей и открытий связаны напрямую с защитой от холода, голода, неустроенности, болезней маленьких детей, таких как его годовалая девочка, которую он не смог защитить.
В старости жили они с женой, с Аллегрой и внуками в Калифорнии. Энн Фуллер тяжело болела, онкология, операции, — не все удачные. Она лежала в коме, он сутки напролет проводил у нее в больнице. В тот день он вскочил, совершенно счастливый, вскрикнув на всю палату: «Она сжала мне руку!». И упал, потерял сознание, умирая от обширного инфаркта. Энн, так и не приходя в себя, через час последовала за ним.
И приняли их его неосуществленные несуществующие летающие города в последний полет. О, простите, виновата, я забыла про диапроектор!
Тут стала Тамила показывать свои диапозитивы, перепутав последовательность: в обратном времени возникали перед нами цветные портреты Ричарда и Энн Фуллер, цветные геодезические купола всего мира, далее мир стал черно-белым, монументальные изображения старого гуру в мастерских, макеты, модели, вот они с юной Энн в широкополой шляпе, с малышкой Аллегрой, лицо его так и не оттаяло после смерти ее годовалой сестры, а вот красавец из Кембриджа, крутивший романы с куколками-танцовщицами, и, наконец, школьник.
Потом безо всякой паузы на экране появилась картина Климта «Поцелуй».
— Один из «четырех великих» архитекторов XX века, ставший основателем знаменитого Баухауза, Вальтер Гропиус, после трех лет работы с Петером Беренсом начал работать самостоятельно. Как дизайнер проектирует он внутреннее оборудование цехов, авто кузова, тепловоз, обои, как архитектор — знаменитое здание обувной фабрики Fagus-Werke. В 1910 году он знакомится с Альмой Шиндлер, то есть, уже Альмой Малер, женой композитора Густава Малера. Считается, что именно ее изобразил на своей известной картине влюбленный в нее без памяти Климт.
Альма тяготела к истории искусств, все ее мужья и любовники по истории искусств проходят: и Малер, и Кокошка, и Климт, и Верфель, и Гропиус. Она сама писала музыку; Малер сказал ей: «Твоя музыка лучше моей»; я полагаю, он имел в виду нечто метафорическое, музыку ее тела, но Альма поверила, решив, что и вправду ее опусы превосходят произведения гениального Малера, это неоспоримое доказательство ее непроходимой глупости, но в те времена, как и во все другие, ума от женщины вовсе не требовалось. Муза многих, она вдохновляла своих мужчин, с ней ощущали они особый вкус бытия, теперь буржуазные заграничные люди назвали бы букет ее свойств «сексапильностью», а саму Альму секс-бомбой, во времена ее молодости слов таких не говорили. Она переходила от гения к таланту (и наоборот) словно кубок Нибелунгов, как переходящий приз. Похоже, такие женщины встречались в начале века не единожды, соответствовали стилю эпохи.
Тут на экране появилась Альма, и Тамила осведомилась у слушателей своих, не напоминает ли им ее точеный профиль и прочие отточенные, выверенные, пролепленные природой части фигуру на носу корабля, прекрасную ростру.
— Призрак Альмы-ростры, — сказала Тамила, — видится мне на носу утонувшего «Титаника». На мой взгляд, «Титаник» — тоже один из создателей дизайна, его изощренная необузданная роскошь, многодетальность, избыточность, пойдя ко дну к чертовой матери, не могли не породить минимализма и конструктивизма.
Этот ее пассаж, особенно совершенно неожиданная в устах Тамилы чертова мать, породил некий ветерок, пронесшийся по залу.
Почему-то «Титаник» в последнее время частенько вспоминали, хотя от будущего создания оскароносного фильма отделяли нас несколько десятилетий. При мне известный искусствовед сказал: «Целая эпоха пошла ко дну, серебряный век вместе с нею». А один из мухинских, помладше меня, из самых одаренных, Копылков, узнав, что заведующий кафедрой керамики штигличанский проректор Владимир Федорович Марков родился в день гибели Титаника, произнес: «Чья-то душа всплыла».
А меня от слов Тамилы о «Титанике» пробрала минутная судорожная дрожь, я вспомнил о том, что мы на острове, а там, на косе, под водой, пребывают множества скелетов безымянных лагерников, подобные пассажирам затонувшего корабля незнакомой недавней эпохи.
Свет лекторского фонарика, освещавшего Тамилины листки с текстом, освещал и ее лицо с пылающими щеками, тенями ресниц, подобное портрету Латура, луч диапроектора высвечивал на экране образы прошлого. Интересно, подумал я, о чем книга Бакминстера Фуллера «Четырехмерное время»?
— Дочь художника Шиндлера, очаровавшая Климта, влюбившаяся в композитора и дирижера Цемлинского, жена Малера, любовница, а потом жена Гропиуса (они поженились, когда Альма стала вдовой), разлюбила биолога Каммерера и рассталась с художником Кокошкой. Любовница и невенчанная жена писателя и поэта — экспрессиониста Верфеля — за год до своей смерти (в 84 года) выпустила книгу с откровенными описаниями всех своих возлюбленных (достаточно оскорбительными), расистскими высказываниями и словами, полными сочувствия нацизму. Мы больше не будем о ней говорить, напоследок увидим ее образ в картине Кокошки «Невеста ветра».
Невеста ветра, написанная Кокошкою, спала с мужчиной — возможно, ветром, — в гнезде из экспрессионистических облачных бурь, изломанных линий; я вспомнил простонародное «ветром надуло» о младенцах, прижитых с «прохожим молодцом».
— Поговорим о Манон, — сказала Тамила.
И на экране показалась серьезная девочка с кошкой.
Потом та же девочка с отцом, с Вальтером Гропиусом.
В ней было что-то, притягивающее взгляд, она запоминалась, вот ушел кадр, что вам до него, что вам до этой девочки, а почему-то она западала в сердце, оставалась с вами.
А теперь она выросла, стала девушкой, барышней, смотрела на вас, улыбаясь, нежное милое лицо, странный ракурс, три четверти почти, но как-то на бегу, чуть исподлобья, словно она проехала мимо вас на неспешный карусели, а вы сфотографировали это мгновение чуть-чуть сверху. Отец любил ее без памяти.
— Когда узнал он об очередном романе своей невероятной жены, о том, что умерший в колыбели младенец Мартин сыном ему не был, он уехал, — собственно, навсегда. Чтобы не компрометировать жену, бывшею матерью обожаемой дочери, он подстроил рандеву с проституткой, свидетелей полно, это было объявленным поводом для развода. Альма тотчас снова вышла замуж, теперь уже за Верфеля.
После развода девочка осталась с матерью и отчимом, вспыльчивая, своенравная, невыносимая. В переходном возрасте разрыв родителей дался ей тяжело.
В 1930 году она стала сговорчивой, почти безмятежной. Ее сопровождали кошки и собаки. Она кормила диких косуль, которые не боялись ее. Питала бесстрашный интерес к змеям. Протестантка, она в 1932 году перешла в католичество. Ее увидел Канетти, писавший о ней: «Газель вернулась легкой походкой под видом молодой девушки, шатенки, нетронутого существа, в великолепии моложе ее невинности и ее шестнадцати лет. Она излучала больше радости, чем красоты, ангельский гость не из ковчега, а с неба».
Альма сказала Канетти: «Она красива, как ее отец. Вы когда-нибудь видели Гропиуса? Большой красивый мужчина. Тип истинного арийца. Единственный человек, подходивший мне в расовом отношении. В меня обычно влюблялись маленькие евреи».
Альма была не в курсе, что Канетти, родившийся в Болгарии и носивший итальянскую фамилию, был из семьи сефардов, европейских евреев; он выслушал ее, но слова эти запомнил, перу Канетти принадлежит жесткая характеристика некоей роковой красавицы, облик ее неприятен, почти карикатурен.
Когда я впервые услышала о дочери Альмы и Гропиуса и увидела ее лицо, я подивилась: да разве есть такое имя — Манон? Моей любимой книгой была и остается «Манон Леско» аббата Прево, я даже духи покупаю с названием «Манон». Но я полагала, что героинь Прево зовут уменьшительной именной формою, вроде Манечки или Мани. На самом деле нашу девочку назвали в честь бабушки, матушка Гропиуса тоже была Манон, но форма уменьшительная от имени Мария и вправду французская.
Она хотела стать актрисой, мечтала о театре. Ей предлагали роль первого ангела на одном из представлений театрального фестиваля в Зальцбурге, но отчим не разрешил ей появиться на сцене.
В марте 1934 года Манон и ее мать отправились на Пасху в Венецию. Там Манон заболела полиомиелитом. Полностью парализованная, в 1935 году она умерла.
Композитор Альбан Берг посвятил памяти Манон скрипичный концерт. Верфель написал некролог для католических журналов. Его персонажи — Бернадетта, невеста — это она. Еще он описал ее жизнь и смерть в двух рассказах.
Скрипичный концерт Альберта Берга назывался «Памяти ангела»; иногда музыковеды пишут: «Реквием по ангелу».
Я забыла сказать, что уменьшительное Манон, так же, как и Мариетта, стало самостоятельным отдельным именем.
Альма похоронила нескольких детей от разных мужей, сама же прожила мафусаилов век.
В одной из статей — больше нигде мне об этом не попадалось ни одно упоминание — прочла я, что Манон прекрасно играла на скрипке.
Даже сейчас мне неохота менять диапозитив, почему-то мне жаль прощаться с Манон Гропиус, но мы с ней простимся.
На экране возник шезлонг из металлических хромированных или никелированных трубок, на шезлонге лежала, рекламируя самоновейшее дизайнерское изделие, девушка в короткой для довоенной эпохи юбочке, она отвернулась, на шее блестели бусы.
— Это, — сказала Тамила, — девушка в ожерелье из шарикоподшипников. Шезлонг свой рекламирует автор. Ее зовут Шарлотта Перриан. Двадцати четырех лет от роду («а выглядела я, — напишет она в воспоминаниях своих, — как семнадцатилетняя девчонка»), начитавшись работ Ле Корбюзье, который тут же стал ее кумиром, она пришла наниматься на работу в его мастерскую, в его atelier. Мэтр был не то что женоненавистник, но мужским шовинизмом страдал определенно, даже средний рост его знаменитого «Модулора» был в расчете на средний рост мужчины; знаете, это как молитвы, которые все в мужском роде; вспоминаю я и украинскую версию: «чоловiк» и «жiнка». Оглядев хорошенькую худенькую элегантную девчонку с коротенькой стрижкой и в самодельном ожерелье из шарикоподшипников, прижавшую к груди маленькую кожаную сумочку, Ле Корбюзье промолвил знаменитое (все цитаты отличаются, смысл остается): «Девушка, что вы тут у нас будете делать? Подушки вышивать?» — и указал ей на дверь.
Шарлотта удалилась, раздосадованная, расстроенная, однако, альпинистка, монтарьянка, переполненная жаждой жизни, зачарованная работой, чувствуя свою силу, свои способности, она была еще и упряма как осел.
Свою мансарду на парижской площади Сен-Сюльпис превратила она в выставочный зал из стекла и металла; уже тогда, в начале, но и позже, мебель из трубчатой стали — ее конек. Шарлотта решила участвовать в Парижском Осенним Салоне, где ее работы из стекла, стали и алюминия не заметить было невозможно. На ее мебель обратил внимание архитектор и дизайнер Пьер Жаннере (и на нее самое тоже, как всем известно), кузен Ле Корбюзье, и девушка была приглашена — с извинениями — на работу в студию Ле Корбюзье на rue de Sevres. Что было совершенно естественно и справедливо, потому что маленькая Шарлотта Перриан со вздернутым носиком (она все еще носила свое ожерелье из шарикоподшипников) была мадмуазель Дизайн.
— Мисс Дизайн, как сейчас бы сказали, — промолвил сидящий передо мной.
— Причем, Мисс ван дер Роэ, — откликнулся сосед его.
— И с 1927 года Шарлотта разрабатывает мебель и фурнитуру для архитектурных проектов Ле Корбюзье, в том числе знаменитый стул для переговоров с подвесной спинкой В301, квадратное кресло для отдыха ZC2 Grand Comfort и элегантный шезлонг В306, для рекламы которого позирует сама, как вы уже видели, стеклянные столы, стулья на металлических ножках с кожаной и матерчатой обивкой и так далее.
Некоторые журналисты с журналистской четкостью называют ее «музой и возлюбленной» Ле Корбюзье. На самом деле вся мастерская, вся студия Корбю была в нее влюблена, но роман у нее был с Пьером Жаннере.
У Ле Корбюзье Перриан проработала 10 лет, после чего покинула студию, вместе с Фернаном Леже оформляла павильон на Международной Сельскохозяйственной выставке в Париже, работала на лыжном курорте в Савойе, где экспериментировала, в частности, с необработанными природными материалами, например, неотесанным деревом.
После начала Второй мировой войны она возвращается из Савойи в Париж, где продолжает работать с Жаном Пруве и Пьером Жаннере. С Жаннере они совершают поездки к французскому побережью, где собирают гальку, обточенное морем дерево, рыбьи скелеты. В Париже эти находки будут расчищены, сфотографированы, станут произведениями, подтолкнут — позже — к новым идеям, новым конструкциям.
Жаннере и Перриан назовут это «спонтанным искусством».
На одной из фотографий древний Корбю держит тарелку над головой смеющейся счастливой Шарлотты на манер белого нимба, — вот это фото. Но одно из лучших ее изображений — фото на пляже в Нормандии, фотограф, Пьер Жаннере, снял ее снизу вверх, она только что вышла из воды, он любуется подругой своей, ее молодостью, ее обнаженной грудью. Они расстались во время войны, когда ее пригласили в Японию дизайнером-консультантом с императорской зарплатой.
Тамила, продолжая говорить, сделала знак одному из своих пажей, который затащил на сцену магнитофон и приготовился включить его.
Тут восприятие мое раздвоилось, свойство с детства, забавное, о котором я больше ни от кого не слышал (говорят, такое бывает у актера, когда играет он роль и одновременно видит себя глазами зрителя). С одной стороны, слушал я голос Тамилы, говорившей о странах, в которых побывала Шарлотта, она работала в Японии, жила во Вьетнаме, в Бразилии, а когда Ле Корбюзье с Пьером Жаннере проектировали здание Центросоюза, приезжала с ними в Москву. С другой стороны, видеоряд кресел руки Перриан, стульев, полок, встроенных шкафов вызвал в памяти моей дизайнерские проекты студенток мухинского, самых талантливых, и их самих. Они прошли по залам воображения моего точно младшие ее сестры. Я видел изображения их работ, четкие, с особо гармоническими пропорциями, глубокими тенями, благородным цветом, этот длинно заточенный нос карандаша 3Т в маленьких руках, решительность, стройность, они были фанатически преданы своему делу, дизайн — это была их любовь, они готовы были возиться со своими чертежами, макетами, моделями, отмывками денно и нощно, у них получалось всё, от малых изобретений ноу-хау до рыцарских связанных ими серо-стальных свитеров, в которых щеголяли они сами и их возлюбленные. Пробегала по галерее главного зала и мимо копий лоджий Рафаэля Нелли Колычева в разлетающейся юбке, в сандалиях Дианы, проходили Галя Ильина, белокурая модница Сурина, маленькая Стрельцова со стрижкой Лайзы Миннелли, они так же любили спорт, как Шарлотта, но по бедности нашей жизни не могли заниматься спелеологией, каяком, альпинизмом, греблей, как она; в спортзале родного института играли в волейбол и баскетбол, их можно было встретить с лыжами или рапирой.
Пока Тамила говорила об отеле «Савой», горных курортах мебели из шоколадно-алого бразильского дерева, семинара Жана Пруве, сотрудничестве с великим мебельщиком Тонетом (кто из вас не сиживал в бабушкиных питерских квартирах на его венских стульях-гнушках?) я вспомнил встречавшихся мне мисс и мадмуазель Дизайн.
Потом, много позже, когда смотрел я в интернетовых дебрях тексты и картинки, посвященные Перриан, вставала передо мной Москва, где она окончательно рассталась с коммунистическими идеями юности, Москва тридцатых годов, на одной из зимних фотографий утеплившийся кое-как Корбюзье, сидящий на фундаменте здания Центросоюза, напоминает одного из гулаговских зэков, строивших московские высотки.
Очки его, по обыкновению, фантастичны, одно стекло всегда получается бликующим, полуразбитым, полуслепым, выглядит деталью портрета булгаковского персонажа из свиты не к ночи будь помянутого.
И возникает передо мной образ юной Шарлотты Перриан, любившей горы и побережья, одиночки-путешественницы, ночевавшей в стогах сена, среди камней, прогретых солнцем, долго отдававших в ночи древнее тепло, или на топчанах пастушеских приютов, покрытых овечьими шкурами с первобытным первозданным уютом человеческого гнезда.
На тамилином экране еще светилась цитата: «La forme, c’est le fond qui remonte à la surface». («Форма — это глубинная суть, поднявшаяся на поверхность»), Charlotte Perriand, — а паж уже врубил свой магнитофон раньше времени, и излился в воздух женской гимназии теплый переливчивый обволакивающий, околдовывающий слушателя, льющий в уши мед соблазна женский голос, певший немудрящую chanson довоенных лет.
— Вы слышите, — сказала Тамила, улыбаясь, — легенду эстрады, звезду кабаре по прозвищу Черная Пантера (впрочем, было и другое прозвище, Черная Жемчужина) Жозефину Бейкер.
Зал, разумеется, оживился, увидев полуодетую красотку мулатку в перьях и побрякушках, с ослепительный улыбкой, мы не привыкли к подобным изображениям.
— Ну, намылят шею, — весело сказал мой сосед справа, ни к кому, собственно, не обращаясь, — не только Тамиле Доренко, но и всем организаторам да кураторам за этот вертеп разврата.
Сидевший в первом ряду Энверов картинке зааплодировал.
На одной из виниловых пластинок моих друзей-художников Жозефина Бейкер пела «Hello, Dolly».
По дуэтам очаровательная мулатка была большая специалистка. Несколько мужей, без счета любовников, список солидный, кого только там не было, Сименон, Де Голль, Хемингуэй, король Швеции Густав VI и иже с ними.
Жозефина Бейкер, дочь еврея-оркестранта и негритянки, встретилась с Ле Корбюзье на борту корабля. Я лично слышал два разных названия этого корабля; плавали ли они вместе не единожды? туда и обратно? или журналисты были, как всегда, неточны?
Ле Корбюзье, страдавший отчасти, как в начале XXI века будут выражаться, «мужским шовинизмом» и «манией гендерного превосходства», чуть-чуть бирюк, слегка боявшийся «этих баб», — чему мы обязаны фразой о вышивании подушечек в адрес Шарлотты Перриан при первой неудачной попытке ее устроиться к мэтру на работу, — он совершенно оттаял, расколдовался, обрел свободу после корабельного приключения.
Бейкер провела всё время круиза в каюте Ле Корбюзье, рисовавшего ее нагой, она ему пела, пишут, что потом создавал он новые здания в духе ее танцев; после встречи с Жозефиной Корбюзье построил свою виллу Савой, Villa Savoy. На мой взгляд, дом на побережье на мысе Кап-Мартен, построенный им для жены Ивонны, его последнее обиталище, напоминал — в память о Жозефине — корабельную мультиплицированную каюту. Когда он пил кофе с молоком, он улыбался, вспоминая Черную Пантеру, да и вид светлых кофейных зерен возвращал ему блики ее атласной кожи. Его эротические рисунки и фрески, возникшие после каютных радений 1929 года, это тоже Жозефина.
После краткого корабельного курса науки любви он разморозился, оттаял, расслабился, сделал, наконец, предложение своей Ивонне Галлис (чем-то отдаленно напоминавшей Жозефину) после восьми лет знакомства, женился на ней в 1930 году.
Изображение мало одетой Жозефины Бейкер несколько задержалось на экране, что вдохновило на классическую реплику из советской кинокомедии моего соседа слева, произнесшего:
— Облико морале!
Тут появились на экране Ле Корбюзье с Ивонной Ле Корбюзье. Они прожили вместе двадцать девять лет, брак их был счастливым.
— Еще одна женская фигура из девяти рядов до Луны, — сказала Тамила, — связанная с Ле Корбюзье самой необычной на свете темой, это тема — ревность. И ревность одного из великих архитекторов была — к дому. К дому, спроектированному и построенному Эйлин Грей.
— Голубоглазая черноволосая ирландка Эйлин Грей, — звенел голос Тамилы, алые пятна горели на щеках ее, — проектировала и выполняла мебель из металлических трубок хромированной стали, служивших несущими конструкциями, с 1918 года, когда в ходу была резьба, редкие породы дерева, лакировка времен модерна. Яркий пример ее авантюристического дизайна — кресло Bibendum с регулируемой спинкой «работа — отдых». Столик из дома Е-1027, стулья, зеркала, табуреты, ширмы — хрестоматийные, известные всем мебельщикам работы.
Но самое известное ее творение — дом на Лазурном берегу Е-1027, дом, на котором Ле Корбюзье был отчасти помешан, к чему испытывал он неадекватное и мало понятное чувство отчаянной ревности, — как к автору, Эйлин, посмевшей построить его, так и к самому дому, дразнившему его с момента возникновения. «Дом — это машина для жилья», известные всем архитекторам и дизайнерам слова великого и ужасного Ле Корбюзье, создавшего Модулор, построившего задуманную им как некий идеал Жилую единицу в Марселе, капеллу в Роншане, монастырь в Ла-Туретте, музей в Токио, город Чандигарх в Индии. Словно в пику ему произнесла и превратила в текст совсем другие слова: «Дом — не машина для жилья, это раковина человека, его продолжение, его отдушина, его духовная эманация». Ей же принадлежит фрейдистское высказывание о входной двери: «Вход в дом — это как попадание в рот, который за тобой захлопнется».
Перебравшаяся из аристократического дома в Ирландии в Париж маленькая баронесса Эйлин Грей вращалась в лесбийском обществе Гертруды Стайн и ее окружения, ее видели за рулем в черном авто, в котором каталась она по улицам столицы искусств в компании знаменитой шансонье Дамии, любившей разгуливать с ручной черной пантерой на поводке.
— Черной пантерой? — произнес за моей спиной Филиалов. — Однако, эти нетрадиционно ориентированные дамочки отличались храбростью. Но я надеюсь, это не было намеком на Жозефину Бейкер?
Почему-то образ Дамии с пантерой запал мне в голову, и когда через много лет увидел я фотографию Сальвадора Дали с муравьедом на сворке, стал преследовать меня цепкою из сна наяву, возникшей в воображении моем: Дамия с пантерой на одной стороне узкой улочки, Сальвадор Дали с муравьедом на другой, они смотрят друг на друга не вполне гендерными взорами эпатажника и эгоцентристки.
— Около 40 лет, — продолжала Тамила, — Эйлин Грей влюбилась в румынского архитектора, писателя и прожигателя жизни Жана Бадовичи, который был на 17 лет моложе ее. Походя, он произносит фразу о собственном доме с сугубо личными предметами — и она строит для него дом на Лазурном берегу, буквально строит, спроектировав, — своими руками, с помощью двух рабочих. У дома есть имя, в котором зашифрованы инициалы любовников, Е — это Эйлин, 10 — это J, Jean, 2 — В, Badovici, 7 — G, Gray. Дом, белый корабль, выброшенный на скалы, окруженный пиниями, оливами, камнями. Ветром колеблемы парусиновые занавески, блестит металл стульев, столов, перил, то там, то сям лежат отмели ковров с морскими рисунками. На одной из стен — огромная карта с надписью, строкой о плавании из стихотворения Шарля Бодлера; ночью карту освещает настольная лампа. Кожаное кресло Transat с металлическим каркасом напоминает шезлонг трансатлантических лайнеров, всё, что осталось от «Титаника». Мебель Грей сделала сама. Столы ездили по рельсам, табуретки служили лесенками, полки вращались на петлях, шкафы прятались и появлялись, с помощью зеркал и ширм одна комната превращалась в несколько, зеркала играли в операционную и в обсерваторию, всё напоминало декорацию с превращениями, исчезновениями, метаморфный мир пьес Карло Гоцци. Три изречения встречали входивших: в прихожей «entrez lentement», входите медленно; на кухне «sens interdit», запретные чувства? запретное направление?; под вешалкой «défense de rire», смеяться воспрещается.
Среди комнат для одного и одной заблудились две комнатушки для прислуги (или неведомых спутников? незваных гостей?)
Они прожили в доме несколько лет. Всё время приходили гости, друзья Жана. Когда приходил Ле Корбюзье, Эйлин пряталась, она то ли стеснялась, то ли боялась его, то ли терпеть не могла.
А самого мэтра с возникновения дома на утесе преследовала, словно амок, безумная страсть к Е-1027 и неприязнь к его создательнице.
В какой-то момент Эйлин Грей, вместо дома любви на двоих оказавшаяся в архитектурном салоне, собрала одежду и ушла, захватив с собой только маленький столик Е-1027.
Грей увлекалась работой и статьями Лооса, сторонника минимализма, чистых стен, полупустых комнат. В своей работе 1908 года «Орнамент и преступление» Лоос писал: «В основе потребности расписывать стены лежит эротическое начало. Современный человек, ощущающий потребность размалевывать стены, — или преступник или дегенерат».
После ухода Эйлин то ли по просьбе Бадовичи, то ли с его разрешения, Ле Корбюзье расписывает стены, корабль перестает быть чистым и белоснежным.
Эйлин приходит в ярость, пишет ему отчаянную открытку, называет происшедшее актом вандализма, она оскорблена.
На фресках — эротические сцены, иногда это двое любовников, иногда — то ли гарем, то ли бордель. На большой фреске в гостиной две обнаженных женщины с парящим между ними ребенком, у одной из женщин на груди свастика.
В 1948 году Корбюзье пишет в статье: «Дом, который я оживил своей росписью, был довольно мил и вполне мог обойтись без моих талантов. Для больших фресок были выбраны самые бесцветные и непримечательные стены».
Через несколько лет Корбюзье приобрел участок возле Е-1027, построил на нем свой знаменитый домишко «Cabanon», а после смерти Жана Бадовичи выкупил через подставное лицо виллу Эйлин Грей, он приходил туда, прокрадывался, его притягивало магнитом, он видел белый пароход на скале со своего крыльца, но жил у себя.
Потеряв жену Ивонну и любимую мать, он стал угрюмым, замкнутым и как-то сказал: «Как славно было бы умереть, плывя к солнцу».
Есть подозрение, что гибель Корбюзье во время одного из дальних заплывов в чудесный августовский день была самоубийством. Его выкинули волны на пляж под виллой, столько лет мучившей его. Он лежал, словно загорая на песке.
— Утоп утопист, — произнес за моей спиной Филиалов.
— Может быть, — сказала Тамила, — есть на самом деле кельтские чары, ирландское колдовство, существовал когда-то ирландский бог Тевтат, жертвы которому топили в воде, и негоже было сыну швейцарского часовщика оскорблять ирландку. В квадратном дворе Лувра греки посыпали гроб Ле Корбюзье землей с Акрополя, а индийцы окропили водой из Ганга. Корбюзье похоронили рядом с Ивонной на сельском кладбище Кап-Мартена неподалеку от его «Cabanon» и от белого дома Грей. Дом несколько раз переходил из рук в руки, последний хозяин был убит, зарезан в его стенах, после чего Е-1027 опустел и стоит по сей день заколоченным.
А теперь несколько слов о Лили Райх, женщине четвертого из «четырех великих», Миса ван дер Роэ.
Вот он перед вами, немецкий архитектор Мария Людвиг Михаэль Мис, соединивший аристократическим «ван дер» отцовскую голландскую фамилию Мис с материнской Роэ. На этой фотографии он улыбается, у него близко поставленные светлые глаза, он похож на инка или ацтека, морщинки на лице словно прорисованы стеком или стилом по глине, словно у одного из божеств дождя, чак-мооля древней Мексики. Подобно Корбюзье, он приезжал в Россию, но не в Москву, а в Петербург, где в 1912 году руководил строительством спроектированного Беренсом здания немецкого посольства на Исаакиевской площади.
Когда в нацистской Германии закрывают всемирно известный Баухауз, которым управлял он, последний директор, до 1933 года, после нападок со стороны национал-социалистов, называвших институт еврейско-коммунистическим гнездом, Мис эмигрирует в США. Тоталитарному государству чужд баухаузовский стиль ясного мышления и функционализма, архитектура съезжает к гитлеровскому и муссолиниевскому ампиру; с ним будет схож и наш сталинский ампир, знакомый всем нам по построенным в Москве зеками высоткам и домам для государственной элиты.
Дизайнер и архитектор Лили Райх работала с Мисом ван дер Роэ тринадцать лет, они не расставались, она проектировала мебель в его домах, вела дела, была его секретарем, делопроизводителем, его женщиной.
Теперь вы видите ее лицо. Я не знаю подробностей биографии Лили. Она могла быть кем угодно, немкой, еврейкой, австриячкой. Женщина с таким лицом могла бы жить в Ленинграде, в Боровичах и в Иркутске.
Когда Мис ван дер Роэ уехал в Америку, Лили Райх осталась в Германии, однако, и оттуда продолжала вести его дела, ему помогать. Потом она поехала в Штаты к Мису, но пробыла там неделю, вернулась на родину. В сорок третьем она попала в концентрационный лагерь, в сорок пятом ее освободили вошедшие в Германию войска, а в сорок седьмом она умерла.
Всем нам известны построенные Мисом ван дер Роэ здания, «стеклянный дом» хирурга из Чикаго Эдит Фарнсуорт, Сигрэм Билдинг, павильон Германии в Барселоне, вилла Тугенхагт, Нью-Йоркские высотные дома: стекло, сталь, избыточная инсоляция; его работы определили стиль архитектуры XX века.
В быту этот революционер архитектуры, один из «четырех великих», был традиционалистом, ему нравилась старая деревянная мебель времен модерна, его личное гнездо напоминало дом его детства. О нем говорили, что у него нет ни приятелей, ни друзей, ни привязанностей, одни сотрудники. Он слыл брюзгой и нелюдимым. И до конца дней своих не мог себе простить, что отпустил Лили Райх, допустил ее возвращение в Германию.
Все они остались в девяти рядах до Луны, теперь человечество исчисляется в других цифрах, рядов стало больше, раз людей больше, а эти поддерживают свою Луну, чей светильник высвечивает блики на стеклах домов их великой архитектуры, на стальных деталях фурнитуры, мебели, человеческих светцов, на ожерелье из шарикоподшипников. А у нас сейчас уже стемнело, вышла наша сегодняшняя луна, и я закончила свое сообщение.
С этими словами Тамила забрала свои бумаги и сошла со сцены, а зал устроил ей овацию, точно певице.
Человек из полночной тени
После доклада, как всегда, расходились быстро, почти разбегались, как птицы разлетаются, только что была стая, а вот и нет никого.
Я вышел на улицу, собираясь проводить Нину, она говорила, что хочет услышать доклад об основоположниках, но Нины не было, и я пошел пройтись перед сном.
Обгоняя всех, прошли к спуску к воде, видимо, к своей косе Тартари, Тамила и Энверов, и он сказал ей:
— Не отставай от меня, будь со мной, когда-нибудь я построю тебе в подарок дом для траханья на Лазурном берегу.
Она засмеялась, они сошли с высокого берега, пропали из виду.
— Интересно, — сказал уходящий Времеонов, — что кроме формулировки «отстань от меня» существует и «не отставай от меня»...
— Нельзя построить дом для траханья, — сказал я вечернему воздуху, — разве что публичный.
— Собственно, и для любви нельзя, — откликнулся Филиалов, резко поворачивая налево, чтобы исчезнуть за углом.
— Вот с этим я согласен, — сказал некто невидимый, курящий в тени сиреневого ночного куста. — Для чего дом? Достаточно тьмы под кустом южной ночью, фрагмента луны, стога сена, топчана любого, расстеленного плаща.
Тут сделал он шаг, луна осветила силуэт его, он был высок, костист, худ, широкоплеч, волосы с сильной проседью, сначала я подумал, что передо мной Титов.
— Но человечек-то неприятный, — продолжал он, словно рассуждая вслух и не ко мне обращаясь. — В люди не годится, хотя молодой и в деле пока не бывавший. Даже если так думаешь, кто же такое вслух женщине говорит; только в узкой прослойке уголовников говорят: «пойдем по......». «Для траханья». Дурное существо.
— Как вы сказали? — переспросил я. — В люди не годится? Странное выражение.
— Это не выражение, — отвечал он. — На одном из особых лесосплавов, а архипелаг ГУЛАГ лесосплавами славился, была расстрельная бригада. Людей лесосплав выматывал очень быстро, выматывал до нитки, эта бригада расстреливала тех, кто в работу уже не годился. Но ходили среди зеков слухи, что и саму бригаду после двух лет работы тоже расстреливали, потому что в люди они уже не годились.
— По правде говоря, я думал — куда подевались работники лагерные? кем они теперь работают? где? может, мы их встречаем?
— Однажды ко мне, — сказал он, — в мой прекрасный южный город (а я по рождению южанин, Таймыр, Колыму, Тайшет, Норильск, Заполярье обживал десять лет по случаю) приехали московские гости, светские люди, художник с женой. Повел я их в гостиницу. Раскланялся со мной швейцар при входе, дверь открыл, поднес их чемоданы в номер, а когда выходили, а жена моя ждала нас дома на обед, когда выходили, снова дверь отворил, кланялся, я дал ему чаевые. Прошли мы пол квартала, жена художника, тоже женщина искусства, сказала восторженно: «Ваш город как особое царство, всё тут прекрасно. Вон какой замечательный добрый дяденька швейцар в ливрее встречает постояльцев гостиницы!». А я ей ответил: этот добрый дяденька — бывший лагерный охранник, убийца и садист; однажды наш ночной портье вел меня через лагерный двор, всё во мне кипело, я обернулся (на самом деле не только для него внезапно, но и для себя) да и дал ему ногой изо всех сил, а силы у меня тогда были, я был одним из самых сильных. Валялся потом избитый в карцере, видать, как рабочую силу подходящую не забили насмерть, еле жив лежал, однако при полном моральном удовлетворении. «Как же вы с ним теперь здороваетесь, чаевые даете?!» — вскричала московская гостья. — «Что же это такое?» Это жизнь, отвечал я ей, прожившей с детства до зрелого возраста в невинности благополучия. Знаете, отлежавшись, я подготовил побег и через месяц бежал из лагеря.
— Разве можно было из лагеря бежать?
— У меня было шесть побегов, — легко отвечал он. — После шестого я в Заполярье и оказался. После каждого побега мне срок прибавляли, в общей сложности должен был я отсидеть 85 лет. Так что я, знаете ли, профессиональный беглец. Один из садистов заполярных лагерей, у которого была склонность метить заключенных, приказал мне насильно сделать татуировку, художественную часть мастер-татуировщик из уголовников добавил от себя, а текст был от начальника: «Склонен к побегам».
— И вас каждый раз ловили?
— В соответствии с меткой меня стали переводить из лагеря в лагерь, чтобы не успевал подготовить побег, катали по Заполярью в пульмановских телячьих вагончиках туда-сюда. А в предыдущие побеги, — да, ловили. Но один раз был я в бегах 4 года, по поддельным документам устроился работать на белорусскую лесопилку, мне родственники жены помогли, и так там хорошо трудился, что вышел у меня быстрый карьерный рост, стал я директором деревообрабатывающего завода, на беду решили мне выдать правительственную награду, стали документы оформлять, тут и выяснилось, что я не я, а беглый каторжник Жан Вальжан.
— Вы больше похожи на графа Монте Кристо, — сказал я.
— Боже упаси! — весело отвечал он. — Вон какой чудесный доклад был намедни про графа Монте Кристо, благородного мстителя, под заголовком «Занимательная уголовщина».
Не знаю, почему рассказал я ему про тень облака, про особое место на острове, встав в которое, обретешь ясновидение, необычные свойства и черты.
Должно быть, руководило мною русское дао, путь, географический безбрежный в том числе; транссибирский, к примеру, трансцендентальней некуда. Вот, встречаемся мы, пассажиры, путники, страннички, секундно, мгновенно, случайно, наше наличие по закону пути — всегда последующее отсутствие.
И по непреложному необъявленному закону русских дорог, географических долгих, длинных, физически странных (неописуемые объезды всех ремонтируемых шоссеек первой половины XX века, безумные шоферы и последней его трети...) мы разговаривали, как положено, как местные путники, очарованные странники: никогда больше не встретимся, увиделись мимолетно, потому можно рассказать друг другу всю свою жизнь; кому исповедник священник, нам — первый встречный.
— Особые свойства? — переспросил он, брови приподняв, — особые свойства особой породы, племени незнакомого? Да уж мы то, конечно, племя незнакомое, сами по себе и отличаемся от всех жителей земли. Ведь у людей во главе страны — кто? царь, король, хан, президент, деспот; а у нас не одно десятилетие был главарь государства. Скромно именовал себя «вождь», намекал, что мы — племя, не народ, не нация. Главарь по закону языка только у банды бывает. А если людей всё время держать в мятежном теле страха, у них некие свойства появляются самоновейшие, а ряд других человеческих свойств улетучивается. Знаете, кто у своих рабов-адептов сверхъестественную породу осознанно и умело вырабатывал? Некто Гурджиев. Он утверждал: сделай невозможное, сделай это еще раз, повтори трижды. Заставлял кротчайших, доверившихся ему, овец резать, кроликов или кур, например, они у него на представлениях валились то в оркестровую яму толпою, то в проход перед первым рядом зрителей, современно спонтанно по его приказу, и ни одного не то что перелома либо вывиха, а даже ушиба либо синяка, вывел-таки породу.
— Что-то я не видел вас на реплике о Гурджиеве.
— Мне о нем в лагере китаец рассказывал.
— Китаец?
— Мне за десять лет каторги заполярной (предыдущие каторжные места мои находились значительно южнее) попались три китайца, я называл их одним и тем же именем, придуманным мною, это их смешило, но они откликались. Все трое были необычные существа, ко всем троим относился я не то чтобы со страхом, — когда постоянно живешь в аду, не до страхов, — но с особым вниманием. Между прочим, каторга сама по себе вырабатывает нечеловеческие свойства. Жил молодой человек, у которого убили отца (у меня тоже ведь отца убили, ни в чем не повинного отца семейства, юриста, — а ведь бежал из тюрьмы, хватило храбрости, но был пойман, — следователь убил, забил молотком на допросе), который помешан был по юношеской вспыльчивости на идее социальной справедливости, связался с заговорщиками, революционерами, попал на каторгу, выжил, — и получился великий писатель Достоевский. А без каторги был бы милый беллетрист. Но я вспомнил о китайцах. Один из них, кажется, был великий разведчик, работавший на несколько стран, в том числе, на нашу, но в первую голову, я полагаю, именно на Китай. Двое других совершенно загадочны и непроницаемы. Один, например, в норильском лагере объявление о своей лекции на стене барака повесил, такой клочок бумаги зловещий: «Учу побеждать».
Тут закурил он, вспышка огонька осветила его теплым желтым светом в отличие от холодного лунного серебристого, я увидел сеть мелких морщинок на лице, большие складки морщин, при этом была в его чертах красота, поразительная моложавость, даже молодость. Я однажды в Москве видел женщину, вдову великого писателя и философа (тоже лагерника, да, вроде, и ее сажали как жену врага народа) в молодости красавицу редкую, а в старости испещрили черты ее мелкие морщинки, словно тонкая вуаль, хотя и сквозь вуаль былые прекрасные черты светились. Такие морщинки встречаются у старых людей юга, пустыни, Крайнего Севера, у деревенских, у тех, кто ходит под ослепительным ярым солнцем Ярилом, под ветрами нордом, бореем, австром. Может быть, подумал я, есть судьбы, подобные пустыне, либо белому безмолвию приполярному, над которыми стоит такое ветхозаветное роковое солнце, неведомое большинству.
— Где-то я вас видел.
— Может, во сне? — серьезно спросил он. — Мне уже несколько человек говорили, что видели меня во сне задолго до того, как мы натурально познакомились. Раз уж я склонен к побегам, то и к побегам в чужие сны.
— Если честно, мое воображение долгое время занимали именно три китайца, — сказал я.
Он только брови поднял, улыбаясь.
— Прежде всего, китаец из пьесы Михаила Булгакова «Зойкина квартира». Когда один из моих друзей стал заниматься личным расследованием обстоятельств смерти Есенина (и пришел к выводу, что поэт был убит), стал он читать мне свою работу и спрашивать, что я обо всем этом думаю, а я совершенно неожиданно для себя сказал ему: посмотри пьесу «Зойкина квартира», по-моему, она имеет некое отношение к случившемуся в гостинице «Англетер», а еще к наркотикам, да ты заодно и к персонажу-китайцу приглядись. Он прямо-таки отшатнулся от меня и спросил, знаю ли я, что в «Англетере» портье был китаец? Откуда мне было знать.
— Ну, вот, — весело сказал собеседник мой, — а еще хотите в тени облака какие-то свойства по части ясновидения приобрести. Оно у вас и так в латентном виде обретается. Тогда о портье догадались. Мне эту историю рассказываете и не боитесь, что я стукну кому положено о вашем приятеле с его запрещенной темою об убийстве Есенина, да и о вас заодно.
— Этого быть не может.
— Конечно, не может, да вам-то, вроде, сие неизвестно. А третий китаец кто?
— Я почему-то потом с истинным страхом вспоминал портье из гостиницы, он в голове моей связался с наркотиками, с наркоманами из властных структур, Есенин дружил с темными советскими чиновниками, может, и морфий делили, кто проверял. А третий китаец, чьего имени я не знал, — отец нашей известной ленинградской красавицы-полукровки, жены талантливого художника. Он был великий разведчик, жил с матушкой нашей красавицы недолго, внезапно исчез еще до войны. Может, и сейчас он где-то обитает в с миссией своей потаенной, в Англии, в Бразилии, в штате Мэн.
— Не исключено, — сказал он, закурив, — что ваши три китайца и мои три — одни и те же лица.
— Какая все-таки странная у нас жизнь, — сказал я.
— Да мы, — отвечал он, — прямо-таки притча в лицах и во языцах, картинка на тему «как не надо жить».
— Я никогда не думал, что побеги из лагерей возможны. Ваши шесть побегов для меня полная фантастика. Хотя одну историю о лагерном побеге я слыхал. В ней тоже было что-то нереальное. Оказывается, существовало при советской власти большевистское подполье...
— Один из моих норильских друзей, — перебил он меня, — прекрасный человек, мы дружим и по сей день, — был сыном коммуниста (расстрелянного героя гражданской войны) и коммунистом совершенно истовым. Мы чего только с ним в лагере ни обсуждали. Всё, кроме его коммунистических взглядов. Но я вас перебил, извините; я только хотел сказать, что наличие большевистского подполья меня не удивляет.
— И этим подпольем, — продолжал я, — руководили старые большевики с большевичками, в частности, Стасова. Речь идет о молоденькой девушке, попавшей, как многие, в лагеря ни за понюх табаку. Подпольщики выбрали ее на роль курьера, она — по молодости — согласилась. Ей устроили первый побег, по цепочке переправили в Москву, там она передала нужные сведения Стасовой, получила инструкции, выучила наизусть сообщение, ей надо было попасться, оказаться в лагере более строгого режима, передать, что должно. Ей опять подготовили побег, теперь встретилась она с курьером и снова разыграла свой арест, чтобы перевели ее в самый что ни на есть наистрожайший из лагерей. Там снова передала она наказы, приказы или инструкции, и подпольщики подготовили ей последний побег. После него попадаться ей уже не следовало. Пять человек легли на проволоку под током, она вышла из лагеря по трупам. Говорят, она прожила долго, жива до сих пор, живет в одном из маленьких провинциальных городов чужой фамилией.
— Не слыхал про такое, — сказал он. — Вполне правдоподобно.
— Вы из Москвы? — спросил я.
— Нет, я вернулся в родной город. Я из Тбилиси. Но бываю в Москве. Там друзья мои живут. И любимая старшая сестра. Мало того, в Москве памятник сестре стоит. Золотая статуя. Одна из шестнадцати сестер-республик СССР на ВДНХ. Скульптор был реалист, искал натуру, нашел мою красавицу-сестру. Я этой статуе во всякий свой приезд розу приношу. Друзья надо мной смеются.
Позже, много позже, когда я увидел его фотографии в газетах, прочел его книги, я узнал, что Окуджава посвятил ему песню: «Без паспорта и визы, лишь с розою в руке слоняюсь вдоль незримый границы на замке». Всякий раз вспоминал я в связи с этой розою одну из притч дзен-буддизма (два друга моих помрачились на даосах и дзэн, чего я только от них не слышал), где говорилось: «Прошло уже довольно много времени, а он еще не вымолвил ни единого слова, в руке его был цветок».
Несколько выстрелов прогремели со стороны монастыря, я обернулся на звук, вспомнил человека с монастырского двора.
— Это не настоящие, — сказал я собеседнику своему, — редкое здешнее прислышание со времен расстрела каждого десятого красноармейца по приказу Троцкого.
Но за те мгновения, когда отвернулся я на звук несуществующей пальбы, мой собеседник исчез, пропал, беззвучно бежал, словно его и не было.
Я пытался разглядеть, учуять движение в ночи, расслышать звук шагов, — тщетно. Лунный пейзаж, тени сиреневых кустов, сонное царство, больше ничего.
Спляшем, Пегги, спляшем!
Случалось, вечерами жгли костры. Почему-то у советских людей была особая тяга к кострам, особый синдром огнепоклонников. Играли в дикарей, идущих цепочкой туристов (туризм с рюкзаками, палатками и костром, реже с байдарками, был распространен особо), в бывалых людей, в Дерсу Узала, в цыган, мой костер в тумане светит, взвейтесь кострами, синие ночи. Взвивались. Летящий над страной воздухоплаватель на воздушном шаре мог бы принять эти хаотические точки костровых огней за некие пригласительные посадочные сигналы для летающих тарелок.
Костра было два: молодежный, студенческий, где верховодили Тамилины пажи, и второй, для молодежи постарше.
У первого костра пели: «Бродяга Байкал переехал», «Динь-бом, слышен звон кандальный», «Я помню тот Ванинский порт», «В Одесском порту с пробоиной в борту», «Товарища Парамонову», «Мурку». У второго — Окуджаву, романтические туристские песни вроде «Сиреневого тумана», бардовские, авторские. К двум гитарам второго костра присоединился местный аккордеонист.
Сквозь туман идя, снег, техногенный смог, помню, пока не умру: двенадцать евреев и Господь Бог проповедовали в миру. Норд или зюйд, ост или вест, navigare necesse est! Поставь парус, плыви, плыви и думай о любви.Автор, архитектор из ЛИСИ, после припева дудел на дудочке, похожей на патрон от лампочки.
А враг не дремлет, но друг не спит, делят зенит и надир. Три еврея и антисемит решили подправить мир. Такой развели прогресс и дизайн, но не плюнули через плечо: из нефти вылетел динозавр, а за ним еще и еще.И подхватили все:
Норд или зюйд, ост или вест, navigare necesse est! В разгар войны под морзянку в эфир о спасении каждой души трубку мира выкуривал мир с примесью анаши. Нам атолл бы в бермудскую тишину, где двое нас, Элизабет, где самолеты идут ко дну, а ураганов нет. Норд или зюйд, ост или вест, navigare necesse est!Тут подошли, держась за руки, Тамила с Энверовым, пламень отсвета делали его лицо привлекательнее и живее, румянили ее щеки.
Но нам на двоих не найти тишины, остров наш уплывает в сны долготы без широт. Наши — только семь рядов до Луны, семь струн или семь нот. Поставь парус, плыви, плыви и помни о любви!— А кто такие три еврея и антисемит? — осведомился Времеонов.
— Четверо великих. Корбюзье-то был антисемит.
— Помилуйте, — возразил Времеонов, — но какие же Беренс, Гропиус и Мис ван дер Роэ евреи? Гропиуса его дама называла истинным арийцем.
— Они руководили созданным им Баухаузом. А фашисты считали Баухауз рассадником еврейской идеологии.
— Зачем же вставать — даже и для рифмы — на точку зрения национал-социалиста?
— Да полно, — сказал Филиалов, — если тут Двенадцать апостолов названы евреями, трех немцев тем более можно тремя евреями именовать.
— Вы только поете? — спросил Энверов. — А нет ли у вас таких песен, под которые можно танцевать?
— Танцевать можно подо всё, — ответил гитарист, перебирая струны.
— А почему из нефти вылетает динозавр? — спросила Нина.
— Во-первых, потому что послезавтра я в разделе «Книжная полка» делаю сообщение о книге Сагана «Драконы Эдема». А во-вторых — нефть и есть спрессованная кровь и плоть древних саблезубых динозавров, буде вам известно.
Энверов пошептался с музыкантами, те быстро переговорили друг с другом.
И вот уж выкрикнул, стуча по гитарному тулову, — а второй гитарист подстучал по подвернувшемуся к случаю вместо рояля в кустах перевернутому ведру:
— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Час, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Five o’clock, six o’clock, seven o’clock, rock! five o’clock, six o’clock, sex o’clock, rock!
Выхватил Энверов Тамилу за руку на маленькую полянку-пустырек, поросшую низкой травою (я еще подумал некстати: что тут было прежде? разрушенная часовня? порешенный сарай? угол монастырского сада? оторопь охватила, мурашки по спине: а что, если какая очередная братская могила? и уж не то что огород на могилах, а натуральная пляска на костях, пляска смерти?) и заплясали, как полоумные, в сонный воздух ворвалась лихорадочная скорость рок-н-ролла.
— Вот оно, племя младое, незнакомое, — произнес стоявший рядом со мной Времеонов. — Глядите, как он скачет, его, должно быть, укусил тарантул, как выражался Эдгар По. Смесь гремучая европейского заводского конвейера великих времен с африканскими ритуальными плясками мумбо-юмбо.
— Третью составляющую забыли, — сказал Филиалов. — Французский канкан.
Прыгали неостановимо, скакали, вздымая руки и ноги, взлетала Тамилина юбка «солнце-клеш».
— Тут нехотя и вспомнишь старые вальсы Вены да российских больших балов, — Времеонов снял очки, протер их уголком ковбойки. — Вальс как вращение планет вокруг некоего центра, все волчкам подобны, ветром уносимы. А эти пляски конвульсивны, отчасти судорожны, катастрофа шаманская.
— Полно вам, — откликнулся подошедший Титов. — Молодость, силы некуда девать, птичьи брачные танцы.
— Чего поют-то, слышите? — сказал Филиалов. — Круглые сутки — рок, рок, рок. Брачные танцы? Роковые яйца. Птичьи, согласен. А птицу Рок помните?
— Это которая над кораблем из сказки зависла со скалой в когтях?
— Именно. Кстати, и скала тоже имеется — rock.
Но весело и хорошо было плясать этой паре, весело и отчаянно хорошо было им вместе в это мгновенье и в некоторые из предыдущих. Однако, я почему-то устал, глядя на них. Почти с дыхания сбился, как на лыжной гонке.
И на мое счастье выкрикнул гитарист:
— Время вышло!
Разом замолкла музыка, танцоры вышли из круга, Тамила раскраснелась, глаза ее блестели, блестели зубы улыбающегося Энверова.
Они направились было прочь, но перед Тамилою возник Филиалов — как из-под земли, только что рядом со мной стоял.
— А со мной станцуете? — спросил он. — Не изволите ли со мной станцевать, окажите мне честь.
Рядом с красавцем Энверовым в белой рубашке Филиалов выглядел особо карикатурно, вечно мятые брюки, нелепая курточка, лысоватый, тени под глазами, остро пролепленные скулы, нос уточкой, заштатный чиновник, Акакия Акакиевича сосед.
— Мне бы дух перевести, — сказала Тамила, улыбаясь, обмахиваясь платочком.
— Я же вас не на скачки с препятствиями безлошадные приглашаю, — с полупоклоном вымолвил Филиалов. — На танец-с, сударыня.
— Прямо сельский клуб, — осклабился Энверов.
— Так сельский и есть, — ответил Филиалов каким-то совершенно другим голосом, Энверов даже стал его разглядывать.
— Да я согласна с вами станцевать, согласна, — сказала Тамила.
Теперь настала очередь Филиалова шептаться с музыкантами.
И под детскую песенку Филиалов, заложив левую руку за поясницу, сняв курточку, оставшись в дурацкой жилетке поверх неглаженой черной рубашки, картинно вывел свою даму на неведомый лужок.
У Пегги был веселый гусь, он знал все песни наизусть, ну, до чего же умный гусь, спляшем, Пегги, спляшем!Как ни странно, этот нескладного вида докладчик был из тех не очень многочисленных существ, в которых вселился бес танца. Одержимые, они подчинялись известным только им ритмам, наборам и стилям движений с легкостью, особой элевацией на всех широтах и долготах всех народов мира. Один из моих соучеников, прекрасно танцевавший на институтских вечерах, сказал мне однажды в ответ на комплименты мои: «В детстве я с отцом из дипломатического корпуса жил в Южной Америке; и лучшая танцорка изо всех, кого я видел, была толстая негритянка в летах».
Филиалов, картинно и изящно вытянув руку, вывел Тамилу, чтобы показать ее зрителям, он импровизировал, придумывал па и коленца на ходу, Тамила слушалась, обучаясь на глазах, ей было превесело, улыбаясь, она пускалась вприпрыжку, крутясь по кругу, обходила, изгибаясь, вставшего на колено партнера, топотала каблучками.
У Пегги был смешной щенок, он танцевать под дудку мог. Ах, до чего ж смешной щенок! Спляшем, Пегги, спляшем!Вместо дудки дудел гитарист почем зря в патрон от лампочки. Все уже подпевали последнюю строчку, приглашая Пегги сплясать.
У Пегги старый жил козел, он бородой дорожки мел. Ах, до чего ж умен козел! Спляшем, Пегги, спляшем!В детстве водили меня, маленького совсем, на «Щелкунчика» и «Лебединое озеро», на даче в деревне в старших классах ходил я в клуб на «Сковородку», — так называлась сельская танцплощадка; танго, вальсы и фокстроты «Сковородки» и институтских вечеров были школой прикосновения к телам девушек. Но понял я — что такое танец — именно в тот свияжский вечерок, глядя на Филиалова и Тамилу. Не six o’clock, sex o’clock, брачная пляска долговязых птиц, не мистические пассы шаманские, не привычный ритуал маршеобразных посиделок и карнавалов; что-то вроде искусства настоящих художников (неважно, гениальных или мало-мальски способных) неизвестно отчего, непонятно для чего, но почему-то жить без этого уныло и нельзя.
Филиалов, в заключение взяв свою даму за талию, поднял ее на воздух, взлетела черно-лиловая юбка, — и поставил Тамилу (выбрал, видать, место, пока по кругу скакали) на малый холмик перед огромным в буйном цвету сиреневым кустом. Он знал, как все мы, что Тамила зародилась из сирени.
Она улыбалась, зрители улыбались, один из Тамилиных пажей, штигличанский студент последнего курса отделения промышленного искусства дизайна, до Мухинского учившийся в цирковом техникуме, выйдя на середину лужка, сказав: «Браво!» — встал на голову. Так выражал он особо сильные чувства, и в институте, и на территории семинара.
Все были почему-то счастливы, кажется, кроме Энверова, с чьей возлюбленной неожиданно лихо сплясал старый козел в мятой рубашке.
Я пошел провожать Нину, мы заговорили о сирени.
— Дело не только в том, что самая моя любимая картина Врубеля именно «Сирень», — сказал я. — Но у меня с детства к сирени чувство телка, мне хочется ее... съесть, что ли...
— Так мы ее и едим, — откликнулась Нина. — По цветочку, по счастливому пятилепестковому: выискать, желание загадать, и пять... — а если повезет и шесть! — пятилепестковый съесть. И не останавливаешься на одном желании, придумываешь еще и еще, выискиваешь, она и горьковата, и сладковата, но поскольку ты не пчела, распробовать не успеваешь.
— И живописать ее можно бесконечно, — сказал я, — Врубель писал трижды, Кончаловский не счесть, сколько раз. Сколько ни пиши, не получается, всё выходит не то и не так, она ненасытима, жажда неутолимая наших родимых мест. Почему это врубелевскую сирень называют сумрачной? Скажи, ты видела сирень после дождя?
— Да! — отвечала она. — Сияющие грозди в каплях, большие, крутые, как котята.
Мы подходили к ее дому, у меня пересохли губы, мне казалось, что слова мои шелестят, и она может это заметить.
— Я один раз чуть не угорела от сирени, — сказала Нина. — Комната в тетушкиной избе была маленькая, я наломала огромный букет, ночью пошел дождь, окно закрыла, дверь затворила, меня еле добудились, от сиреневого ацетилена голова болела полдня. А помнишь про сирень в романе...
Конечно, я помнил, она собиралась что-то сказать про мой любимый роман «Обломов», как там пропали сирени, отцвели, но я не дал ей закончить предложение.
Мы целовались, стояли, обнявшись, прижавшись друг к другу. Было хорошо, как никогда.
Нина отстранилась и сказала:
— Да, я согласна.
— Что?
— Я согласна. Я выйду за тебя замуж.
Секунду стоял я, как вкопанный, хотя всё время знал, что она согласится.
— Но, — сказала она, — давай мы сейчас не пойдем ни на сеновал, ни на чердак, ни в мою комнату, ни под кустик, мы поедем в город, там ты немножко поухаживаешь, а потом мы поженимся. Ты обещал.
— Годится, — отвечал я, хотя уже и позабыл, что я там обещал, да это и не имело значения.
Хлопнула за ней калитка, за калиткой дверь, вспыхнул свет в ее оконце, но окна она не открыла, к оконцу не подошла, я пошел как спьяну, в свой дортуар женской краснокирпичной гимназии, думал, что не усну, однако уснул, как убитый, и снов поутру не помнил.
Пульхерия и Авенир
Двух ленинградских дизайнеров, содокладчиков, работавших вместе — и друживших, — Левандовского и Кушнарева, Времеонов, специалист наш по фамилиям, называл Левантом и Кушантом.
Левант было слово понятное, я буду думать о Леванте, от французского «levant», востока, места, где восходит солнце; «couchant», напротив, обозначало запад, другое значение не «закатиться» либо «сесть», но «лечь». Кушнарев и впрямь любил прикладываться, то растянуться на скамье, на лавочке, то залечь на полосе пляжного песка, то на кровать, отведенную ему в нашем гимназическом общежитии. Он был склонен к полноте, приветлив, голос негромкий, симпатичное открытое лицо. Левандовский же не столько ходил, сколько пробегал, поджарый, спортивный, двигательно деятельный. Они и на дипломе разделили общую тему, их распределили в одно огромное номерное предприятие, работая вместе, они прекрасно понимали и дополняли друг друга. Мне потом рассказывали, что они и женились-то на сестрах, но, кажется, не на родных (и не на близнецах), а на двоюродных.
На своем предприятии с туманным названием «Волна» чего только они не проектировали: приборы, станки, засекреченные изделия, брошюры, инструкции и выставочные плакаты, этикетки, даже интерьеры; в последнем случае хаживали они в Мухинское, в Alma Mater консультироваться на кафедру интерьера.
В сообщении их на нашем семинаре показывали они мебель, точнее, часть спроектированной ими и выполненной на их фабрикозаводе мебели, — кресло и табуретку. Как знаменитые кресла и стулья великих дизайнеров прошлого, и у кресла, и у табуретки были имена: кресло звалось Пульхерия, табурет — Авениром.
Текст читал Левандовский, Кушнарев показывал диапозитивы, на которых снова увидели мы исторические стулья и столики из металлических трубок, а также встреченную мной в ленинградских квартирах не единожды, великолепную, блистательную прабабушкину кровать, никелированная трубчатая конструкция с шарами и шариками, напоминавшими шарикоподшипники и елочные игрушки; в больших шарах спинки повыше и спинки пониже отражались окна, лампы, интерьеры, хозяева и гости.
В конце доклада Тамилины пажи вытащили на сцену блещущую серебром парочку. Спинку, сиденье и подлокотники Пульхерии заполняли мягкие, казавшиеся надувными, подушки из кожи, а Авенир был словно из фантастического будущего, открытая конструкция, бар космической фешенебельной станции из фильма по роману Лема, например.
Нереальные нездешние предметы, сияя, красовались на сцене. Кто-то спросил из рядов — а сидеть-то на них можно? или это бутафория, макет? Только что объяснявший, как регулируются по высоте и наклону (работа — отдых — удобное положение для людей разного роста и комплекции — эргономические зазоры — линия Аккерблома) спинки и подлокотники, Кушнарев двинулся было показать, усесться, подрегулировать на глазах у публики, Левандовский за ним, но вопрошающий из рядов сказал, — нет, нет, пусть посидит на них кто-нибудь, кто видит их впервые. Тут из первого ряда поднялся Титов, сделал знак сидевшей неподалеку Тамиле, они взошли на сцену.
Высокий Титов в серо-стальном элегантном костюме, с никелированной сверкающей булавкой в галстуке (из карманчика пиджака торчала таковая же ручка) моментально подрегулировал спинку и подлокотники Пульхерии, уселся и развел руками: вот, убедитесь.
Невысокая Тамила разместилась на серебристой конструкции Авенира, поставив ногу в босоножке с блистающими заклепками на приступочку, делавшую табуретку похожей на барную мебель. На запястьях Тамилиных блестели серебром плоские широкие браслеты с маленькими висячими цепочками, напоминавшие наручники. Сговорились, что ли? Нет, полная импровизация, их стали фотографировать. У меня фотоаппарата не было, но я получил уже в Ленинграде фото на память в подарок. Долгие годы оно лежало в моем ящике с фотографиями, то теряясь в ворохе, то находясь, пока не исчезло. Походила запечатленная сценка на кадр кинопробы, улыбающийся, разводящий руками Титов, вот, пожалуйста, сижу, как видите, ямочки на щеках Тамилы, ее улыбка, поднятая в приветствии рука, правая ножка на приступочке табурета, левая касается носком босоножки пола возле колесика одной из опор Авенира. В воображении моем на черно-белом прямоугольнике фотографии окрашивались цветом темно-вишневый галстук Титова, Тамилино черно-фиолетовое шелковое платье, черно-сливовый бархатный пиджачок, все блики вспыхивают навстречу фотовспышки, не хватает разве что ожерелья из шарикоподшипников. Мебель будущего, которое промедлит с наступлением на много десятилетий, загадочная глагольная форма future-in-the-past.
Карл и его драконы Эдема
Нечто происходило тогда со временем в Свияжске, как это часто бывает на островах и у воды.
Многие сообщения, доклады, семинарские обсуждения, на которых хотелось мне побывать, происходили в разных местах синхронно, успеть всюду не получалось, в иные дни я перебегал из дома в дом, из зала в комнату, однако, от многих, интересующих меня тем доставался мне лишь хвостик, концовка, листочек с тезисами в лучшем случае, тетрадка с Ниниными конспектами.
Так, к рассказу о Тейяре де Шардене прискакал я к шапочному разбору; зато ожидала меня история о Карле Сагане и драконах Эдема.
Как классический представитель советской образованщины, знающий Дюринга по «Антидюрингу», представление о Тейяре де Шардене черпал я из вольных изустных пересказов и трактовок.
На самом деле манера пересказывать прочитанное на свой лад не так и плоха, как понял я впоследствии, надолго засев перед телевизионным циклом передач некоего Иннокентия Иванова, причесанного на косой пробор человека с не вполне актерской дикцией, заявлявшего: «Мы говорим обо всём своими словами». Да и блистательный Хорхе Луис Борхес, слепой библиотекарь, хотел, я полагаю, незамедлительно и по-быстрому познакомить нас всех с библиотекой Вавилона времен, и пересказывал, как мог, всё и вся.
Биография де Шардена, рассказанная разными людьми и прочитанная отрывками мною самим, никак не вмещалась в биографию одного человека.
Поначалу он представлялся мне кабинетным философом, архитектором, в уединенной тишине писавший работы свои. С трудом уложилось в голове моей, что он был ярым католиком, закончил иезуитский коллеж, что вся его жизнь была жизнью монашеской, миссионерской, тесно связанной с католической церковью. Потом я узнал, что он был одним из первых первооткрывателей синантропа в горах Чжоукоудяня близ Пекина, pekinensis, — совместно с Пэй Вэнь-Чжуном, Анри Брейлем, международной командой археологов, работавшей в пещерах с 1927 по 1931 год. Именно Тейяру обязаны мы свидетельствами пользования синантропом примитивными орудиями и огнем.
А в 1931 году де Шарден принял участие в знаменитом «Желтом круизе» Ситроена (чей отец был родом из Одессы и носил там фамилию Цитрон...), в дорогостоящей опасной технической научной и культурной экспедиции на 14 полугусеничных транспортных вездеходах — «Ситроенах». Из-за осложнившейся геополитической обстановки Ситроену пришлось отступить от намеченного плана, экспедиция разделилась на две группы, первая — «Памир» — шла из Бейрута через Гималаи, вторая — «Китай» — пересекала пустыню Гоби, чтобы встретиться с «Памиром» и вместе вернуться в Китай.
По удивительному стечению обстоятельств в состав «Желтого круиза» входил русский художник Александр Яковлев (Арлекин из парного портрета «Пьеро и Арлекин», написанного им вместе с другом его Шухаевым). Яковлев написал внушительных размеров полотно (около 12 квадратных метров), на коем запечатлел всех участников экспедиции, ситроеновские вездеходы, песок пустыни. Среди прочих видим мы на картине и Тейяра де Шардена.
Косвенным последствием раскопок экспедиции и встречи с Гоби было то, что Тейяр получил много свободного времени для разработки своих идей, философских, эволюционных, теологических: он оказался взаперти. После июля 1937 года, когда Япония начала войну на захват всего Китая, де Шарден не успел эвакуироваться и оказался на 10 лет почти изолированным в посольском квартале Пекина, затворник запретного города Духа. С 1937 по 1946 год он поддерживал связь с внешним миром лишь перепиской, работал над трудом своей жизни и заботился о сохранении драгоценных палеонтологических коллекций миссии.
В 1946 году с готовой рукописью «Феномена человека» он вернулся в Париж. Разрешения на печатание от своего иезуитского ордена он не получил. На долгие годы его основной труд остался под спудом: многое в нем казалось генералу ордена и всей иезуитской верхушке подозрительно неортодоксальным, антидоктринальным, а в 1951–1954 гг. ему даже запретили ездить в Париж и преподавать. И в 1951-м он принимает предложение, связанное с работой в США и руководством археологическими раскопками в Африке. За год до смерти, уже живя в Нью-Йорке, он напишет: «Все приключения в области духа — это Голгофа». Он успел дважды побывать на местах предполагаемых раскопок в Южной Африке, побывать в Сарсена в Оверни, где он родился. В 1955-м он умер в Америке от сердечного приступа.
Я узнал от одного из своих друзей, что во время Первой мировой войны Тейяр был мобилизован, прошел всю войну санитаром, получил Военную медаль и орден Почетного легиона.
Другой мой друг позже, много позже, прочитал в интернете о парижском знакомстве Тейяра и дружбе с Вернадским, о родственности их идей.
Его матушка была родственницей Вольтера, должен же был кто-нибудь в семье отмолить вольтерьянское безбожие. Полное имя родившегося 1 мая 1881 года мальчика было Мари-Жозеф Пьер Тейяр де Шарден; вот и биографий в биографии его было на пятерых.
В Оверни, где жил он в детстве, поговаривали об обитавших в горах и возле города Орийяка первобытных людях.
В горах было много потухших вулканов. Первое, что я запомнил о Тейяре раз и навсегда — его детское бегство из дома в горы.
Уж не читал ли докладчик «Книжного обозрения» доклад о «Феномене человека» в обратном времени? Докладчик напоминал синантропа, бородатенький, круглоголовый. Когда я к шапочному разбору прокрался в зал, пропустив и полную биографию, и все о ноосфере, точке Омега, коллективном духе и разуме, Сверхжизни, — он заканчивал выступление свое.
— В шесть лет Пьер исчез из дому, его с трудом нашли на дороге, ведущей в горы: по его словам он шел «посмотреть, что находится внутри вулканов».
После чего похожий на синантропа ушел со сцены, и его сменил веселый румяный мэнээс с вихром либо чубом на лбу собирающийся поведать нам о Карле и его драконах Эдема — по материалам, как он выразился, неопубликованной статьи, созданной Карлом Саганом перед защитой диссертации о происхождении жизни.
Мэнээс (так и в программке было помечено: МНС, то ли инициалы, то ли младший научный сотрудник) оглядел трибуну докладчика, она ему не понравилась, попробовал было приземлиться на стул за столом, да не понравились ему подлокотники, поэтому присел он на край стола, бочком, наподобие амазонки, да еще и ногой в сандалетке время от времени побалтывал. Этот человек в клетчатой ковбойке и видавших виды туристских брюках вообще был свободен до крайности, почти развязен.
— Автора, о котором идет речь, — начал он, на секунду заглянув в мятый клочок бумаги, видимо, с тезисами, — будем называть Карл С. Фамилию его вы узнаете по его редкому имени да по названию будущей книги «Драконы Эдема». Книга задумана, одна из глав написана вчерне, общие тезисы существуют, но автору пока некогда заняться осуществлением своего плана. Книга появится непременно, но когда — не знает никто. Может, через пять лет. Может, через десять. Вы встретитесь с ней, и моя цель — заинтересовать вас, сделать так, чтобы вы запомнили, о чем в ней идет — то есть, пойдет — речь, не пропустили ее в суете дневной. Книга эта доставит вам немало радости, развлечет вас, поведает вам нечто о человеке, заставит вас задуматься.
— Да откуда вы знаете, — спросил некто из рядов, — что автор вообще ее напишет?
— Он мне сам сказал, — жизнерадостно ответил докладчик, — а все намерения свои осуществляет он непременно.
— Этот ваш Карл — ученый из Москвы? — последовал второй вопрос из первого ряда.
— Он иностранец.
— Где же вы с ним виделись? — спросил, улыбаясь, Времеонов.
— На одном из западных симпозиумов. Впрочем, может то был коллоквиум? или конференция? Какая разница? Кстати, тогда же он с одним из наших популяризаторов науки задумали общую книгу, вот она выйдет вскорости.
— Ваш Карл биолог? — спросил Энверов.
— Он астроном, астрофизик, экзобиолог, популяризатор, физик, преподаватель астрономии и так далее. Работал с генетиками, планетоведом Джеральдом Койпером, физиком Георгием Гамовым. Вторая диссертация его связана с происхождением жизни, первая — с астрофизикой.
Отец нашего автора, Самуил С., родился в Каменец-Подольске. Дед и бабушка по материнской линии эмигрировали в Австро-Венгрию, где дед был лодочником на реке Буг к востоку от Львова. Мальчика назвали Карлом в честь бабушки Клары, которую он никогда не видел. Так что по мнемотехнической части вы можете к образам райских драконов добавить знакомую с младых ногтей фразу: «Карл у Клары украл кораллы». Несколько слов — вполне некстати — о драконах. Однажды нанялся я на лето на раскопки в археологическую экспедицию в Старой Ладоге. Там на одной из фресок Георгиевской крошечный чудной церкви святой Георгий, Егорий, как местные его именуют, побеждает дракона не копьем, а силой духа или мысли, и освобожденная дева Елисава, сняв поясок, обвязывает им шею дракона, следующего за ней в итоге как послушная собачонка на сворке, то есть, поводке. А раз уж мы тут — пара слов об Эдеме. Интересно, что на фресках свияжских храмов нет ни одного изображения геенны огненной, Ада: только Рай. При том, что в сонме святых присутствует изображенный в компании святых Иван IV Грозный, чья святость, мягко говоря, сомнительная, а также песьеголовый без имени, то ли египетский бог, то ли покровитель путешественников, святой Христофор.
— А сами вы кто по профессии? — перебили его из первого ряда.
— Я математик, — отвечал докладчик, одарив вопрошающего сияющей улыбкой своей. — Но вернемся к нашим баранам, как французы говорят. И в будущей книге, и в прочитанной мною главе речь о том, что в нас присутствует вечное противостояние рептилий (змеев, драконов, динозавров) и кротких (большей частью) млекопитающих, наших пращуров, с коими мы паритетно в родстве. Но саблезубый динозавр, монстр веками, тысячелетиями блокировался в человеческом мозге, в человеческом существе: религией, наукой, искусством, правилами и законами общежития, воспитанием.
Рептилии, млекопитающие и наработки по разумной части представлены в нас, дамы и господа, дорогие, то есть, товарищи, разными отделами мозга. Если мы испытываем чувство агрессии, приступ ярости, немотивированной жестокости или пещерного древнего ужаса, — значит, хищник в нас сорвался с цепи. Время от времени змей либо дракон выползает из архаический части мозга, стремясь занять высшую ступень в иерархии. А если учесть, что правое и левое полушария несут разные функции и не всегда пребывают в гармонии, можно, наконец, уяснить себе, как трудно каждое утро просыпаться приличным человеком, Homo sapiensом, и оставаться им до наступления ночи. Будьте начеку, не давайте своему дракону проснуться и восторжествовать, запомните название книги, которая встретится вам в будущем. А я заканчиваю свое сообщение извинениями за некоторую его краткость и некорректность — и убегаю, потому что опаздываю на катер.
Соскочив со стола, вихрастый математик в ковбойке вылетел на улицу, за ним следом помчался Энверов, вышел и я, поскольку сидел рядом с дверью.
Энверов настиг докладчика, они разговаривали, математик в ковбойке переминался с ноги на ногу; отвечал он Энверову весело, пару раз даже рассмеялся, наконец, удалось ему откланяться и убежать.
Некоторое время шел я за Энверовым и догнавшей его Тамилой. Я слышал их голоса, они не обращали на меня внимания, все расходились, рассредоточились в вечерней мгле.
— О чем ты с ним говорил?
— Я хотел нанять его.
— Как — нанять?
— Ну, пригласить на работу. Он ведь действительно один из лучших наших математиков, ум оригинальный, разносторонний, я навел о нем справки.
— Когда же ты успел о нем узнать?
— Ты вообще меня недооцениваешь.
— И что? Он согласился?
— Нет. Он, видишь ли, такая неудобоваримая помесь советского упрямца с российским. Деньги его, как он выразился, не особо волнуют, главное, чтобы работа была интересная. Я его спросил — что ему нужно? Не пристроить ли его на службу в какое-нибудь достойное место за рубежом? Да я при желании, — отвечал он, — и сам туда пристроиться в состоянии. Тогда спросил я, — может, он хочет переехать в Прованс или во Флориду? Нет, не хочу, — отвечал он. Чем же мне вас соблазнить? — спросил я; если у вас будут деньги и свобода, у вас будут и прекрасные женщины. Тут он расхохотался и сказал, что не понимает, какие могут быть проблемы с женщинами. Первая любовница, сказал он, у меня появилась еще в школе, в восьмом классе. Простите, сказал он, меня катер ждет, я рад, что мое сообщение вас заинтересовало. И ускакал.
Они спустились к воде, я пошел к Нининому дому. В ее окне горел свет. Неподалеку на одном из пустырей горел молодежный костерок. Пели:
Мама, я жулика люблю! Мама, я за жулика пойду. Жулик будет воровать, А я буду торговать, Мама, я жулика люблю!Я сделал круг, глянул на скамеечку, на которой сиживал Иван Грозный, меня охватила печаль, динозавр заворочался в одном закутке мозга моего, архаический страх из соседнего уголка шлепнул его ладошкой.
Популярная механика
С театрального появления Филиалова и всей свиты его мелких шумливых персонажей началась в моей жизни некая глава, длившаяся (с перерывами, по одним только этим перерывам и возобновлениям сюжета можно было догадаться, что время дискретно) долгие годы.
Тамилины пажи, вооруженные маленькими ключиками, всем ведомыми с детства (я даже к концу вечера усомнился: уж не должна ли была моя любимая книжка называться не «Золотой», а «Заводной ключик»?), запустили под ноги докладчику и себе целое стадо мелких заводных игрушек, скакали гладкие железные с острыми птичьими лапками лягушки, остервенело клевали, надвигаясь на слушателей, жестянки-курочки, неслись мотоциклы с мотоциклистами в касках и обезьянами с непокрытыми головами, целый автопробег разномастных автомобилей, легковых и грузовых, пер на обомлевших участников семинара, носились, описывая несуществующие восьмерки, мальки-автобусы, выныривая из ВДНХ-шных павильончиков зеленых нейтральных лужаек, прыгали зайцы, кенгуру, переваливались клоуны, тряслись, самомасштабируясь, слоны, медведи, жирафы.
— Аки прузи... — выдохнул за моей спиной молодой человек, чьи длинные волосы (тогда не было моды на длинноволосых) выдавали в нем редко в те времена встречающегося семинариста или молодого священника.
Железные создания помалу затихали, их заводили снова, заводные куры, обскакав всех, скакали, точно Тамерланова конница.
— Устрашающе... — сказал Времеонов.
Молодые пажи — в носках — отскакивали, уворачивались от громыхающих малюток, совершенно свободно чувствовал себя только Филиалов, интуитивным чутьем танцовщика, степиста, что ли, чувствовавшего, куда поставить ногу, чтобы не наступить или не споткнуться, бестрепетно приближавшийся к авансцене.
Из двери выпущены были самые скоростные автомобили, засновавшие в толчее маленького стада, сбивая задумавшихся лягушек и кур, остававшихся, дрыгая лапами и стрекоча, лежать на боку после столкновения.
Хохотал до слез сидевший в первом ряду Энверов, громко выкрикивал:
— По лапам, колесом! По клюву, по хвосту! Мордой в бок!
Он был в таком возбуждении, заводе и восторге, что у меня мысль мелькнула — уж не нанюхался ли он кокаину? не накурился или анаши? не мухоморчиков ли на костерке для кайфу наварил?
Наконец, цирковой паж вынес на столик докладчика часы-ящик, Филиалов слегка подвел стрелки, — и из распахнувшегося окошечка высунулась, выскочила на пружинке железная кукушка, она махала маленькими крашеными крыльями, разевала клюв, орала свое «ку-ку»! На двенадцатом «ку-ку» вдвинулась она в свою нишу, дверка захлопнулась, затихло, дотрепыхалась вся утино-лягушачья-куриная саранча, заглохли все моторы, замолк Энверов, и в наступившей тишине Филиалов начал свой доклад, обозначенный в программке заголовком «Популярная механика».
— Часы, которые видите вы перед собою, господа, имеют прямое отношение к механическим игрушкам, валяющимся у меня под ногами, к игровым автоматическим инсталляциям, роботам, кинематическим устройствам, к зарождающейся арт-механике, механическим картинам, автоматам и автоматонам XVIII столетия, механоидам эпохи барокко, японским подающим чай куколкам-каракури и французским и английским жакемарам, которым уже лет двести или триста.
Именно изобретение и усовершенствование часового механизма, его колесиков, пружин, шестеренок и передач превратили единичные аристократические фигуры, восходящие к древнеегипетским мистериям и к пневматическим божествам и актерам Герона, в только что увиденную вами массовку. Чтобы запустить последнюю, нам понадобился ключик, похожий на тот, которым спокон веку заводили часы. Герону, чтобы запускать его автоматы, потребны были падающий груз, струя воды или струя песка. Нам остается только вспомнить — чтобы отдать им должное — ходячую статую Дедала в Афинах и летающего голубя Архита Тарентского.
Тут один из пажей принес стремянку и подвесил к потолку белую птицу, мобиль, непрерывно махавший крыльями слева от докладчика.
— Голубь мира, — сказал Энверов, хохотнув.
— Чайка с занавеса МХАТа, — возразил Титов.
— Белая ворона, — сказала Нина, и все рассмеялись.
Повесили на заднике сцены экран, поставили диапроектор, принесли магнитофон.
— Итак, — продолжал Филиалов, — все мы знаем, что автомат или автоматон — заводной механизм, напоминающий человекообразного робота. Другое название этих изощренных кукол — механоиды. Были еще и мелкие заводные куклы, фигурки, чаще всего встроенные в корпуса больших часов, водившие хороводы, возникающие и прячущиеся жакемары, иными словами жакушки и джекушки. Jack было название главного инструмента, используемого механиками-часовщиками, строящими башенные часы. Хочу обратить ваше внимание на то, как тесно связаны с изменением человеческого сознания и образа жизни способы измерения времени. Когда-то время определяли по солнцу, по луне, по звездам, — как, например, мореплаватели. Люди изобрели солнечные часы, разумеется, южане, жившие на солнечной стороне Земли. Существовали водяные клепсидры и песочные часы, мерные свечи, позже звон колокола церковного сообщал слышащим его посвященным который час.
И вот явились изобретатели-часовщики («он был колдун, часовщик, он одушевлял вещи»), сцепились шестеренки, двинулись стрелки, качнулись на цепях пыточные гири, закачался туда-сюда маятник, новое время явило адептам своим круглое лицо циферблата.
Быстро темнело, куст сирени стоял в окне, дело шло к тому, чтобы включить магнитофон и диапроектор, Филиалова слушали внимательно, в тишине присмиревшего зала звучал голос его.
А мне в эту минуту остается только вспомнить будущее, двигавшееся навстречу Свияжску дней юности моей. Позже, много позже волею судеб оказался я в Англии, точнее, в Шотландии, не в туристической, но отчасти деловой поездке, связанной с конференцией художников, керамистов, и стекольщиков; я входил в группу дизайнеров-монтажеров передвижных выставок.
Маленький музей подле Московского проспекта уже вошел в нашу с Каплей жизнь, но пока тихо, радостно, в виде первого ознакомительного посещения. Поэтому с удовольствием великим, попав в Глазго в Mechanical Cabaret Theatre, театрик автоматов и кинематографических устройств начала XXI века, где множества маленьких жакемаров неустанно трудились и шерудились вокруг очарованных развеселившихся слушателей, получил я в подарок диск с изображениями малюток и буклет кабаре-театра, предвкушая, как будем мы дома с Каплей и Ниною увеселяться приключениями всей этой мелочи с открытыми конструкциями передач, зубчатых колесиков, шестеренок, трансмиссий и рычажков из дерева, пластика и металла. Кто только не трудился тут на ниве кулибинского изобретательства веселых шотландских мастеров!
В большинстве своем мелкие кинематоны снабжены были этикетками с названиями: «Пловец», «Лодка с гребцами на волнах», «Всадник», «Поедатель мышей», «Пожиратель рыбок» (особо уморительный поедатель-пожиратель сидел в ванночке, наполненной сосисками, ел их безостановочно da capo al fine, сосиски не убывали, вспомнилась строчка поэта Дроздова: «Любимая в углу сосиски ест, уничтожая их как пилорама»), «Пропилеи» со скачущими из пропилеи в пропилею овцами, я сразу же представлял себе это охренительное стадо перед пропилеями Смольного, «Танцор», «Стрижка», «Дрессировка», «Вольтижировщица и циркачка», «Рыбки», «Заяц со скакалкой», «Диалог», «Механический кот побольше играющий с механическим котом поменьше», — игрушка со своей игрушкой, «Бегущий пес», «Бесконечное отъедание львом башки дрессировщицы» (голова возвращалась на место, лев отъедал ее снова и снова), «Игрок на банджо», «Кот ест колбасу», «Забивание гвоздя», «Сверловщик» и так далее. Особую роль в экспозиции играл египетский бог Анубис. Почему изобретатели зациклились именно на этом широкоплечем с тонкой талией, с длинной узкой профильной собачьей головой, осталось тайной. Два Анубиса ехали на тандеме. Анубис делал зарядку. Трио пляшущих Анубисов. Анубис — всадник. Апогеем являлся «Анубис, приносящий кофе в постель Олимпии». Маленькая деревянная Олимпия, карикатурно похожая на своего прототипа с хрестоматийной картины Мане, и египетский шакальеглавый с подносиком возле ее кровати; на подносе кроме кофе стояла бутылочка абсента. Рядом наблюдала сию сценку фигура чертика, у которого росли рога, вырастали на глазах у веселящихся посетителей.
Когда еще в институте я учился, один из самых талантливых рукоделов-дизайнеров из группы, младше меня на курс, на кафедре «Заводная игрушка» к своему проекту из подручных средств (видать, пару заводных лягушек-курочек и старый будильник разобрал) сделал еще и действующую модель под названием классическим «Чертопханов и Недопюскин», Чертопханов по ассоциации с Черепановыми, два бесенка, побольше и поменьше, на паровозике с колокольчиками катались; чертенок из Глазго напомнил мне этих бесенят: одна семья.
Неведомо, что мог бы значить этот всплеск интереса к механическим заводным игрушкам, кинематонам механической анимации как таковой. В конце XX века и в начале XXI наблюдали мы поистине новую волну, new wave, как местные уездные англоманы говорят.
Однако, в отличие от юмористов из Глазго, Скандинавии, Германии отечественные господа оформители тяготеют к некоему романтическому стилю, одна из работ ведущего арт-механика страны Виктора Григорьева так и называлась «Романтическое путешествие»; названия других тоже говорили сами за себя: «Сон маленького Чкалова», «В погоне за счастьем», «Мечта о театре». Разве в автоматических его партиях звучала нота юмора, если можно так выразиться, в «Икарушке» и «Ихтиандрушке», например. Но все кинематоны его стилистики, виденные мною, напоминали глюки, сны, рисунки сумасшедших или еще только сходящих с ума почти незаметно. Они словно составлены были из фрагментов разных игрушек, разломанных и собранных, вот перепончатое крыло-парус, вот светящийся монгольфьер, маска полуптицы, полу-Бригеллы, корабль на колесах, песочные часы, «Наутилус» в разрезе, какая эклектика! немножко ужаса, доля бреда и — как некогда формулировали само понятие дизайна — все это «обогащено средствами искусства». Фантастично, рукодельно (но и рукоблудно), чудный художественный конструкт. Словом, снова вошли в моду древнегреческие создатели движущихся кукол и декораций тавматурги. И не исключалось что вот-вот телезрители увидят ремейк с нотами хоррора под названием «Господин тавматург».
— Восемнадцатый век, — продолжал Филиалов превесело, — известен всем как время изобретателей фон Кемпелена, Пьера-Жака Дро с его автоматонами «Писарь», «Рисовальщик» и «Музыкантша», Кулибина вещи, часы с птицами, таинственные девушки-андроиды любимца Петра I Брюса.
Но существовали и созданные монахами-францисканцами XV века садовники-автоматы, заводной монах XVI века, молившийся за короля Испании, а в XVII веке у русского царя Алексея Михайловича в Коломенском по обе стороны трона стояла пара механических львов, они рыкали, вращали глазами, «зияли устами». Да что далеко ходить, у сиживавшего возле стоящей неподалеку Троицкой церкви на скамеечке Ивана IV Грозного по свидетельству иностранных послов имелся автомат-слуга, «железный мужик», побивавший медведя, прислуживавший гостям. Гости не верили, что мужик не настоящий, царь позвал трех мастеровых, открывших спрятанные под одежкой «железного» крышки, где были шестерни и пружины. Царя нашего Ивана по прозвищу Грозный, по прямому имени Тита и Смарагда, в постриге Иону, тирана, самодура, садиста, диктатора, человека высокообразованного и начитанного, оторопь гостей при виде шестеренок «слуги» привела в неслыханное веселье, изволил смеяться зело.
И вот уже отпели петух и павлин часовые, отловил рыбку серебряный аглицкий лебедь, плывущий под музыку по струям стеклянным, отыграли на струнных мартышки, на барабанах и клавишах красотки и красавчики, — настало восстание масс. Ведь тут у нас полно дизайнеров, не так ли? адептов серийности с тиражностью? Вместо фарфоровых панночек Вия да гофмановских дев-исчадий пошли серийные барышни с кудряшками в капорах для среднего сословия, вариант для тех, кто побогаче, модификация для тех, кто победнее. Поставили на поток и механических скромных зайчиков, и заводных лошадку с машинкою с заветным ключиком.
Оставались, самой собой, всплески, отменить их невозможно; один мастер XIX века, Карл Б., создал, например, трехликую куколку с поворачивающейся головою, нужное лицо выставлялось по фасаду: личико веселое, личико печальное, личико спящее; два в данный момент ненужных лица прятались под капором либо чепцом, этакая доморощенная страшноватая древняя Тривия-губки-бантиком.
Кстати, все слепленные и вырезанные по образу и подобию дамочек куколки — особенно снабженные механизмами автоматоны, — были страшноватые, как гальванизированные мертвецы. Э. Т. А. Гофман, посетив один из современных ему «домов механики», Данцигский арсенал, собрание диковинок автоматов, утерянное во время наполеоновских войн, пришел в ужас, собрание показалось ему «некромантическим кошмаром».
Заводные автоматы XVII и XVIII века старательно подделывались под живое, совершенно натуралистические имитации, раскрашенные, облаченные в настоящие костюмы, в париках из натуральных волос, кивающие головами, моргающие, дышащие, — и именно поэтому напоминали магически оживленных некромантами мертвяков. Обыкновенные куклы, серийные, не блещущие красотой, нам, кстати, мертвецов, вурдалаков и вампиров не напоминают. Еще веселее и легче играть с крестьянской тряпочной куколкой, маменькиным благословением, одежка из старой одежки, лица вовсе нет, чем и хорошо, — годится в игру, дает волю и свободу воображению.
Совершенно естественно, что в XVII и XVIII веках в Европе возникла устойчивая мода на заводные игрушки, то было время просвещения, «время машины мира», период взгляда на мир как на огромный (по Лейбницу — бесконечный) механизм. На мой взгляд именно французская революция, плясавшая вокруг гильотин и певшая «Вешай аристократов на фонарях!» — была первым шагом к замене уникальных дорогих механизмов для богатых и избранных серийными и тиражными зайчиками да курочками, которых вы наблюдали все детство и которые скакали и клевали перед вами четверть часа назад.
Тут Филиалов посмотрел на меня, глаза его сверкнули в свете включенной им лекторской лампы (он как раз собирался обратиться к диапроектору), как некогда сверкали в свете маленького софита глазки куколок вертепа старого кукольного театра, приводившего меня в детстве в священный восторг.
И совершенно неожиданно я молниеносно заснул. Неожиданно и незаметно. Словно бы находился я на том же месте, в том же ряду того же зала, но неуловимо оплыло, поменялось околдованное сном пространство, пажи унесли часы с кукушкой, вместо них принесли прямоугольный ящичек — подставку для кашпо, Филиалов нажал на секретную кнопочку, двери ящичка распахнулись, и виден стал маленький кукольный театр, где две небольшие куколки-автоматоны пили чай и вели диалог на языке механоидов сновидения ненастоящими голосками:
— Ванко топанго бюджета джета?
— Бюджета лапо топинари.
Я не смог ни досмотреть, ни дослушать, Нина схватила меня за руку, я проснулся рывком.
Никакого ящичка на столе не было, прежние молчащие часы. Свет горел только на сцене. Звучала музыка восемнадцатого века, то ли Рамо, то ли Глюк, может, и Моцарт. С экрана диапроектора на меня смотрела кукла. Она повернула голову, я видел ее глаза без ресниц — а ведь она и глаза умудрялась повернуть, настоящий взгляд! Губы ее отрисованы были алым, она была бледна, серьезна, смотрела в упор. Нина — а мы сидели рядом с боковой дверью — вскочила, бросилась прочь, на улицу, я за ней. На улице была ночь, полная звезд. Нина расплакалась, я стал ее успокаивать, она рыдала, что с тобой, что? мы шли прочь, к ее дому, краснокирпичная гимназия с замершим под взглядом куклы залом осталась позади, некоторое время я еще слышал музыку.
— Мне... жалко... жалко королеву... зачем ей отрубили голову?..
— Какую королеву?
— Марию... Антуанетту...
Она всхлипывала все реже и реже, я утирал ей слезы, поцеловал в висок, в соленую щеку, накинул ей на плечи пиджак.
— Нина, прости, я не понимаю, про что ты. Я уснул, как дурак, минут на десять. Видел во сне тот же зал. При чем тут Мария Антуанетта?
«Мария Антуанетта», та самая кукла-автомат, которая смотрела, повернувшись, на нас с экрана, вначале звалась иначе, «Играющая на цимбалах», или «Цимбалистка». Сделали ее два известнейших мастера: мебельщик из великой династии мебельных мастеров по фамилии Рентген (и Нина, и я видели рентгеновские бюро да секретеры в Эрмитаже) и часовщик, чье имя Нина забыла. «Цимбалистка» ударяла молоточками по струнам цимбала, играла несколько мелодий Глюка. Автомат-андроид поворачивал голову и глаза, дышал. Одета музыкантша была в точную копию любимого платья французской королевы, причесана, как она, и походила на нее.
Мария Антуанетта, совершенно очарованная автоматоном, купила эту чудесную игрушку, тогда-то кукла и стала тезкой королевы. Потом грянула французская революция, чьи механики изобрели автомат по своему вкусу, гильотину, королеве отрубили голову, мастера, создавшие «Цимбалистку», бежали из страны.
По счастью, куклу не сломали, она сохранилась в бурях времен, повернула к нам бледное личико свое с губами, обведенными яркой помадой (как любила Мария Антуанетта), смотрела пристально, печально, спокойно, мы встретились с ней в стоящем на костях узников, нашей раскинувшейся от Чопа до Кушки Бастилии, в вечернем Свияжске.
— Завтра последние экскурсии, — сказала Нина, совершенно уже успокоившаяся, стоя у калитки, — и все разъедутся. Мы вместе поедем?
— Конечно. Нам пора в город. Мне пора за тобой ухаживать и водить тебя под ручку по ленинградским ведутам Петербурга.
Я возвращался, редеющая толпа, расходившаяся в разные стороны после филиаловского доклада, окружила меня. Не все разбредались, иным было со мной по пути, переговаривались, я шел в жужжащем облаке реплик; потому что я был один и не разговаривал ни с кем, я слышал всех.
Вот наши семинары и закончились, какая хорошая погода стояла, нас ведь мог и дождь поливать; вы завтра едете на экскурсию? на которую? экскурсий несколько, катера придут с утра, кто в Казань, кто в Углич, кто в город Мышкин. Жаль, что не удалось услышать всех, да это и невозможно было, случались чудесные одновременные доклады, не раздвоиться; хотелось бы ваш ленинградский адрес записать, я вам дам визитку, я вам напишу, а я отвечу.
Энверов уговаривал Тамилу прямо из Казани лететь с ним на юг; летим, летим, давай недели на две; а как же работа? работа не волк, в лес не убежит, ты, работа, нас не бойся, мы тебя не тронем. Нет, — говорила Тамила, — мне ведь надо материалы семинарские готовить для печати, потом перебрать адреса для рассылки и разослать, я обещала Титову. Хочешь, я тебя на две недели отпрошу у твоего Титова? навру что-нибудь, врать я мастер. Нет, не получится, кроме меня некому этим заниматься. Неужели какие-то бумажки, — искренне не понимая, вопрошал он, — важней нашей с тобой новой жизни? Ну, не две недели, хоть десять дней; выберем, где нам лучше, в Хосту, в Агапу, ты станешь на солнышке шоколадная, я знаю, где самые лучшие гостиницы для высокопоставленных персон, номер с балконом, вид на море, теплый пляж, пустой ночной пляж для нас двоих, виноградные вина, розарии, если ты любишь цветы; да что ты упираешься? я не понимаю. Он начал раздражаться. Что нет да нет, у нас еще день, думай, я тебя уговорю. И вообще, я тебе письмо напишу, завтра отдам. Они свернули вниз, на берег, к своей исконной косе Тартари, стоящей на костях убиенных.
— После сегодняшней «Популярной механики», — говорил спутником своим Времеонов, — я как-то по-новому воспринимаю выражение «Deus ex machina».
— А я, — произнес я в воздух, ни к кому, собственно, не обращаясь, — теперь иначе ощущаю слово «машинально».
Времеонов обернулся, улыбаясь:
— О, Федор Дорофеев! Тодор Божидаров! Рад видеть вас.
Бедный Жорик
Нина убыла в город Мышкин, я остался в надежде написать несколько этюдов. Свияжск был так хорош, куда ни глянь — всё годилось для живописца, а я не был уверен в том, что судьба еще когда-нибудь занесет меня сюда.
Я сидел на возвышении в стороне, мне было видно всё с невольно зрительской точки зрения.
Катерок в Казань наконец-то подошел, экскурсия начала спускаться с повышенной части берега на низкую, пляж, где малая пристань со сходнями пересаживала всех в скромные плавсредства свои. Энверов оглядывался: Тамила опаздывала, он не видел ее. Зато видел ее я, она уже подходила к линии высокого бережка, когда ее задержали два подбежавших пажа, один вручил ей письмо, белый длинный конверт, другой — две канцелярские папки. Помедлив, Тамила решила взять папки с собой, оставить их на острове она уже не успевала.
Компания экскурсантов гуськом шла по тропке к сходням катерка, Энверов шел первым. Тут из-под лопаты одного из копателей, рабочих (должно быть, наемных, приезжих), трудившихся над наделом будущего цивилизованного спуска к пристани (во второй мой приезд тут уже красовались деревянные пологие лесенки, пересекавшие аккуратно выровненные параллельные воде эспланадки) выскочил череп и скатился на тротуар (черепа тут попадались повсюду, только начни копать). Энверов, вместо того, чтобы поднять его, произнеся классическое шекспировское: «Бедный Йорик!», — поддал череп ногой со словами: «Бедный Жорик!» и с кратким хохотком Гамлет-хам наш комсомольский отпасовал его наверх обратно. Отфутболенный череп залег в траве. Один из копателей спустился за ним и отнес его в сторонку, чтобы присоединить к уже откопанным прежде собратьям. К удивлению моему увидел я со своего места наблюдателя вдоль примыкающей к высокому берегу линии лежащие отсортированные по-вурдалакски горки костей, черепа с черепами, ребра с ребрами, берцовые с берцовыми и так далее.
Кто-то из идущих за Энверовым хохотнул, большинство ничего не заметило, приняв отфутболенное за детский старый мяч. Тамила побледнела, побелела, развернулась, пошла по тропе наверх, прочь. Когда вся группа достигла сходен, ее и след простыл. Энверов с несколько растерянным видом в полном недоумении головой вертел: куда делась? Однако, быстренько загрузились на катерок, умчались, он и с катерка все оборачивался, но бережок был высок, Тамила давно вышла за пределы видимости.
Уйдя с написанным этюдом с берега, я застал ее сидящей на лавочке возле прибрежной сараюшки, она курила, я никогда не встречал Тамилу с сигаретою, глаза ее были заплаканы, я спросил — в чем дело, не нужна ли помощь моя? она только головой помотала. Я оставил ее на лавочке в облачке сигаретного дымка. От Тамилы не должно было пахнуть табаком, только ее любимыми духами, «Ландыш серебристый», шлейфным ароматом тех лет, болгарским розовым маслом, сменившим духи «Манон», некоторые доставали где-то французские флаконы, экзотический дорогой подарок.
Вечером уже темнело, когда забегал по Свияжску вернувшийся с экскурсии Энверов, искавший Тамилу.
— Она уехала, — сказал ему один из пажей.
— Как уехала? Куда?
— В Ленинград уехала, с группой из ВНИИТЭ.
— Этого не может быть, — сказал Энверов. — Ты врешь.
Паж, а то был цирковой паж, хотел было на голову встать, да раздумал, только плечами пожал.
— Мне ничего не передавала?
— Нет.
— Не может быть.
Но паж уже ускакал.
«Норд»
— Расскажи мне.
— Про что?
— Про «Норд».
— А ты потом расскажешь мне про лося.
— Хорошо.
Мы рассказывали друг другу истории из нашей жизни, чаще всего — из детства. В течение года одна и та же история рассказывалась не единожды. Это была наша игра на двоих, любимая игра.
Мы поженились зимой через несколько месяцев после приезда из Свияжска. Нина переехала к нам с мамой, мы жили в коммунальной квартире в центре города. В Нинину комнатку переехал наш сосед, и в коммуналке осталась только наша семья и симпатичная старушка-соседка. Мы в четыре руки сделали ремонт, покрасили стены по обоям водоэмульсионной краскою, добавив в белила немного охры, вышел бело-золотой. Зимой Нина вешала холщовые шторы, летом кисейные или две полосы марлевки. Живопись моя украшала нашу комнату, в иные полнолуния в зеркало старинного платяного шкафчика, стоявшего у двери, вплывала луна.
Нина сшила на наш раскладывающийся диван покрывало из разноцветных квадратов, однотонные алый, вишневый, ультрамариновый из новой ткани, остальные из отстиранных и отглаженных лоскутов старых сарафанчиков и занавесок. Синий, алый и зеленый стекла прабабушкиной лампы времен модерна перекликались с цветами покрывала, аукались с живописью моей. Мы жили тихо, счастливо, у нас были свои, праздникам подобные походы: на стадион для меня, в театр для Нины, на выставки или в филармонию для нас двоих.
Судьба прервала эту идиллию неожиданно и жестоко. Нина была на четвертом месяце беременности, когда попала она в страшное ДТП, потеряла ребенка, долгое время балансировала между жизнью и смертью. Уверившись наконец в том, что она останется со мной, врачи не были уверены, что она меня узнает, заговорит, сможет ходить. Но потихоньку, постепенно, реанимация, реабилитация, палата за палатой, потом лечебная физкультура, санатории, дома отдыха, — она стала возвращаться, не совсем такой, как прежде (а внешне — совсем такою — почти). Она настояла на том, чтобы работать, переучилась, работала на полставки. У нее была одна странность, природная ли, из детдомовского ли детства: она была очень старательна, ей хотелось сделать всё быстро, идеально почти; ее очень угнетало, что теперь уборка и стирка даются ей с трудом, занимают больше времени и так далее. Она чувствовала себя виноватой, что стала мне не такой женой, как мечталось, не вполне полноценной. В первый день выхода из больницы она принялась мыть пол и потеряла сознание. Оказалось, что у нее сломаны несколько ребер, и когда она наклонилась резко, осколки ребер вошли в плевру; по сравнению со всем остальным такая мелочь, как ребра, была не в счет, не ими занимались доктора. Но она опять попала в больницу, к счастью ненадолго.
— Будешь полы мыть — задушу, — сказал я ей.
Она улыбнулась узнаваемой милой улыбкой, ставшей чуть-чуть асимметричной, чего никто, кроме меня, не замечал.
Дважды за несколько лет съездили мы с ней на юг, весной и осенью, чтобы не было слишком жарко.
Мы сидели, как прежде, на диване с чуть выцветшей накидкой из разноцветных квадратов, Нина была на пятом месяце, просила сказать про «Норд». Матушка моя, переехавшая полгода назад к двоюродной сестре в Валдай, — пожить, дать нам побыть вдвоем, звонила накануне, обещала приехать назавтра. Она получила мое письмо о том, что Нина ждет ребенка, спешила, волновалась, хотела помочь.
— Когда я был маленький, — начал я выученный до малейшей интонации рассказ, — мы с мамой раз в три месяца ходили на Невский в кафе «Норд». В начале пятидесятых в связи с «борьбой с космополитизмом» название ославянилось, превратилось в «Север». Однако горожане по-прежнему называли заветное заведение, славившееся своими пирожными, «Нордом».
К посещению «Норда» мы готовились как к походу в театр, матушка надевала нарядное театральное выходное платье, коралловое ожерелье, я — праздничную вельветовую курточку. Отец никогда с нами не ходил.
Кафе находилось в цокольном этаже, в глубине за магазином, в маленьком гардеробе снимали мы пальто, или плащи — и оказывались в маленьком волшебном зале с искусственными окнами, застекленными, однако, стекло покрыто было с изнанки серо-голубой краской. По периметру шли отдельные подковообразные кабинки, диванчики темного дерева с бархатными спинками и сиденьями цвета голубиного крыла, маленький столик. Спинки были до плеч, соседей мы видели, но вместе с тем сидели отдельно. Интерьер зала украшали большие фарфоровые белые медведи. Куда они потом делись, когда закрылось кафе? переехали на дачи и в дома начальников городских? в пресловутые охотничьи домики Карельского перешейка, Псковской, Новгородской, Тверской областей, где охотились партийные и комсомольские боссы?
Мы заказывали по пирожному, мне эклер, маме картошку, мне чай с лимоном, мама пила кофе гляссе, в котором плавал шарик мороженого. Всё, вместе взятое, напоминало какую-то другую жизнь, английскую или дореволюционную. В «Норде» было тихо, уютно; в глубине зала находилась маленькая эстрада с пианино, где могли бы поместиться трио музыкантов с певицею, возможно, вечерами звучала и музыка, но я не уверен, наши посещения были всегда дневными.
Нине особенно нравились белые медведи из моего рассказа, большие, полуметровые, толстолапые, с чуть поблескивающей фарфоровой шерстью. На следующий день, поскольку был я в Публичке (сидел в журнальном зале, надо было собрать кое-какой материал для следующего проекта), решил я зайти в магазин «Север», чтобы повеселить Нину парой пирожных из моего рассказа. Кафе, куда ходили мы с мамой, давно в низочке не было, зато на втором этаже работало большое новое заведение, днем работавшее по расценкам столовой, вечером превращавшееся в ресторан. Я решил там пообедать; однажды в Москве, не найдя по пути из одной проектной конторы в другую ни пельменной, ни пирожковой, так отобедал я в знаменитом «Славянском базаре», где дневные цены были много меньше вечерних. Заказав чашку бульона с профитролями, котлеты с пюре и чашку кофе, стал я разглядывать помещение, показавшееся мне, должно быть, по контрасту с детскими воспоминаниями о «Норде» несоразмерно высоким. Окна тоже показались мне очень большими. Народу было немного. Женщина, только что вошедшая в Север, идущая по проходу к столику у окна, показалась мне знакомой, танцующая походка, бархатный пиджак, она прижимала локтем к боку маленькую черную сумочку; я вгляделся — и узнал Тамилу. Человек за столиком, к которому она подсела, повернул голову, я увидел его в профиль; это был Энверов. Он не встал навстречу даме, не усадил ее за стол, что показалось мне не просто неучтивым — странным. Официанты ходили взад-вперед, две дамы за соседним столиком стрекотали почем зря, группа обедающих командировочных провинциального вида хохотала и звякала вилками. Из разговора Тамилы и Энверова до меня долетали обрывки, отдельные фразы, слова. Он, как мне показалось, вовсе не изменился за те десять лет — если не больше, — которые прошли с лета свияжских семинаров. Тамила, конечно, то ли повзрослела, то ли постарела, последнее слово не подходило, тогда, давно, она была очаровательной девушкой, теперь стала красивой дамой. Разговор у них был неприятный. Она слушала его, опустив ресницы, вертя на столе свою рюмочку с коньяком, на щеках ее загорелись пятна румянца. Он что-то требовал от нее, речь шла о каком-то письме, он настаивал, она отнекивалась. Мне показалось, он ей угрожал. Не допив, она встала и ушла. Он остался, официант уставил его стол судочками и тарелочками, бутербродами с икрой, салатами. Энверов принялся за обед свой с видом недовольным и раздраженным: холеный москвич в шикарном костюме, богатый, нагловатый.
Я подивился, через столько лет увидев их вместе. Хотя роман их то ли заканчивался, то ли закончился, с любимыми, возлюбленными, или любовницами так не говорят. Меня подмывало сказать ему какую-нибудь гадость, проходя мимо него к выходу, но мне не хотелось на него тратить драгоценные мгновения жизни. И я ушел. Он меня не заметил.
Когда к вечеру прибыл я домой с коробочкой с тремя пирожными (продавщица, привыкшая к тому, что покупатели уносят по три коробки, не без брезгливости завязала розовой бечевкой мне, нищеброду, три пирожных; а я знал, что Нине нельзя много сладкого), Нина обрадовалась, как я и думал, продолжению истории про «Норд», как хорошо, что их три, — сказала она, — мама Зоя завтра приедет, один эклер положим для нее в холодильник.
Но что-то в любимой жене моей было непривычное. Должно быть, она хотела о чем-то попросить или спросить, и сочиняла, как лучше это сделать.
Когда я отужинал, она сказала:
— У меня к тебе просьба. Обещай, что не откажешь.
Это был запрещенный прием, но я вконец превратился в подкаблучника и пообещал.
— Не мог бы ты, — произнесла Нина, — поехать в командировку в Казань? Ты что-то говорил о заказчиках из Казани.
— Может, и мог бы, — отвечал я, подивившись, — надо спросить у начальника. А что я должен привезти тебе из Казани? Башкирский мед?
— Ты заедешь в Свияжск и привезешь мне письмо. Я забыла в доме моей хозяйки чужое письмо, данное мне на сохранение. Всё случайно вышло, я не нарочно. Сегодня заходила Тамила, это ее письмо, ей Энверов написал, а теперь она должна ему это послание вернуть. Я не поняла, да и не расспрашивала, но Тамила плакала и сказала: очень важно, вопрос жизни.
Откуда Тамила узнала, где мы живем? Она никогда у нас не была. Впрочем, и в институте технической эстетики, и в Мухинском нашлись бы друзья мои или знакомые, знавший мой адрес.
— Вопрос жизни? — переспросил я.
— Для чего нам знать, что там у них происходит? Может, поссорились, может, помирились, может, хотят пожениться или расстаться. Пожалуйста, съезди, постарайся! Я это письмо у хозяйки в комнате сунула за икону.
— Думаешь, там и лежит?
— Конечно. Ты обещал.
Да, я обещал.
— Ладно, — сказал я, — я только боюсь тебя одну оставлять.
— Как же одну? — обрадовалась Нина. — Завтра мама Зоя приезжает.
Засыпая, я сообразил: должно быть, у Тамилы с Энверовым крупный разговор был в кафе именно из-за этого письма. Какая чушь. Капризы моей бабушки. Нина спала, сном младенца, слегка улыбаясь. Да поеду, поеду, ведь обещал; с тем я и уснул.
Снега
Начальство нашего номерного концерна ко мне благоволило. Хотелось быть людьми передовыми, щеголять дизайном приборов, рабочих мест, изделий. Заказчики моей работою всегда были довольны, инженерам, конструкторам, руководителям нравились мои макеты в натуральную величину, нравилось, когда в статьях о товарных знаках страны в одном из известнейших журналов товарные знаки и бренды, эмблемы, спроектированные мной, назывались в десятке лучших, приводились в пример. У нас действительно ожидались совместные разработки с аналогичным предприятием в Казани, несколько человек из самых начальственных собирались туда днями; захватили и меня с фор-эскизами и вопросами по уточнению задания на дизайнерскую разработку. В пути я спросил — не могу ли я на день, на сутки, на два дня, как угодно, заглянуть в Свияжск, находящийся в тридцати километрах от Казани. Быстро справишься со своей документацией, поедешь, еще и отвезут, — было мне ответом. Путь тоже был не вполне обычный, я, наконец, понял, как сильно отличается в бесклассовом обществе нашем жизнь начальства от жизни подчиненных. «А на охоту не хочешь? — спросили меня, — а на зимнюю рыбалку? а на лыжах покататься на настоящих?» «Нет, — отвечал я, — мне бы в Свияжск». До Казани добрались мы не за сутки, а за три часа особым авиарейсом, в аэропорту встречали нас на машинах, все свои вопросы и проблемы решил я с конструкторами и инженерами до обеда, потом меня на уникальном вездеходе-амфибии (я и представить себе не мог, что в стране нашей где-то катаются на подобном транспортном средстве, только что не летало) домчали до места назначения, объяснив, кому должен я звонить, добравшись на электричке через сутки до Казанского вокзала, чтобы меня конвертировали в Ленинград примерно так же, как из Ленинграда.
Сумерки только начали окрашивать снега в голубое, когда прошел я по зимнему острову к дому Нининой хозяйки, издалека увидев отороченные белые ветви двух деревьев, сосны и тополя, возле которых мы в первый раз обнялись с Ниной и поцеловались.
В любимом моем Ленинграде, где погода капризничала, чудила, играла в ветры с Атлантики, мечтала о Гольфстриме, я чуть было не забыл то, что понял еще в детстве в зимние месяцы в тетушкиной валдайской избе: главное в нашей стране — небо и снега.
Древние модницы наши любили свой речной и привозной жемчуг скатный за его льдистую снежность; окультуренные дворяне XVII и XVIII столетий любили статуи беломраморные за их сходство со снеговиками, как бояре — белокаменные палаты за молочную снежную белизну.
И не таял ли камень придорожный бел-горюч потому что был льдом?
Один из любимых писателей моих сказал: всю ночь падал снег, он принес с неба тишину. Другой писатель и писать-то начал потому, что всё начало книги его представилось его внутреннему взору фигурками на снегу.
Зимний Свияжск развернул передо мной свое убеленное околдованное царство.
Нина снарядила меня в поездку с гостинцами для хозяйки: в нашей проектно-заводской лавре велено было мне зайти в стол заказов, который посещал я реже всех сотрудников, где приобрел я кило гречи, две банки тушенки, две банки сгущенки, банку сгущенного кофе, шоколадный торт и индийский чай «со слоном»; от себя Нина положила клеенку с ретро-автомобильчиками, где только отрыла, и десять свечек; а свечки-то зачем, — спросил я; там свет часто гаснет, — отвечала жена моя.
Хозяйка очень обрадовалась мне, пришла в восторг от презентов, расплакалась, узнав о наших злоключениях, перекрестилась, услышав, что Нина ждет ребенка, протопила на ночь вторую печь, достала из-за иконы пропылившееся письмо, мы угомонились заполночь, свет и впрямь не горел, горела керосиновая лампа.
Лежанка и сенник были теплы, за сплошь разрисованными морозом окнами брезжила луна, тишина снегов обводила дом.
— Федор, милый, не сходишь ли ты на лыжах на тот берег, — спросила меня утром хозяйка. — Я тебе покажу, в какую избу. Там моей подружке для меня лекарств привезли. Ты на сколько приехал? Так меня выручишь.
— К вечеру съеду, — отвечала я. — Схожу, конечно. А лыжи-то есть?
— Ох, жаль, думала, поживешь, погостишь. Лыжи сейчас от соседа принесу.
Снегом покрыты были льды давно вставшей реки, из прибрежной проруби набирали воду, следы, лыжня, да и не одна, у берега из снега торчали метелки водных трав. Светило слепящее солнце, мороз был изрядный, но сухой волжский мороз в 20 градусов с гаком был много легче нашего сырого 12-градусного петербургского с шалым ветерком.
«Что же нам делать, — думал я, — если мысль наша чувственна, а прикосновение снега духовно?»
Благодатное покрывало, точно рождественский камуфляж, скрывало все изъяны опечаленной десятилетиями революционных пробелов в настроенной некогда жизни, разрухи, войны, бедности. Всем сараюшкам, всем посеребренным беспощадным воздухом объявленной незнамо зачем новой эры домишкам выданы были праздничные белые уборы, графические сияющие линии обводили купола, выступы, аркатурные пояски, арки, колокольни, порталы уцелевших церквей. Ни мусора, ни дикой травы пустырей, ни луж миргородских на переулках и улицах: снега, праздничные белые одежды. Я даже подумал: должно быть, и несчастные скелеты косы Тартари и потаенных братских могил находят сезонное упокоение под снегом, павшим с небес подобно молитве.
Подружка хозяйки, в отличие от нее полная и веселая, поила меня чаем с вареньем, от обеда я отказался, чуть не забыл отдать ей посланную в подарок банку сгущенного кофе и коробку изюма в шоколаде из Нининого пакета, взял лекарство, узелок с сушеной травою, связку грибов, двинулся обратно.
Левее моей лыжни кто-то слепил целую ватагу снеговиков, были среди них и нагие красотки вроде каменных баб, я сделал крюк, отправился их смотреть, должно быть, где-то гостили художники или скульпторы, прибывшие на зимние квартиры на этюды.
Белая орава осталась позади, справа стеной стояли в снегу сухие стебли камыша, метелки осоки. Я глянул на остров и обмер, поняв, что нахожусь в точке, с которой Левитан писал свое «Озеро». И было видно мне отсюда, где находится место на берегу, куда падала тень облака на его картине.
Конечно, вместо того, чтобы вернуться в дом с двумя деревьями, я рванул туда, не веря глазам своим.
Заповедное белое безмолвие, окружая меня, смотрело на меня со всех сторон, белое на белом разворачивало по мере продвижения моего веерные близнечные пространства, помечая снега то крохотной веткой, неизвестно откуда взявшейся, то рисунком-следом протекторов «макаки», превращенного в вездеход старенького мотоцикла.
На реках, и Щуке, и Свияге, и Волге кто-то заботливо метил проруби воткнутой в снег вешкою с навязанной на нее узкой алой ленточкой, клочком алой тряпки; уж не красной ли свитки, подумал я, отдыхая возле заснеженного берега, запечатленного тенью облака рукой Левитана, воображаемой виртуальной тенью третьего мира: искусства. Уж не из клочьев ли гоголевской красной свитки собраны были все красные флаги страны? Что только в голову от усталости не приходит, думал я, как это я так растренировался, совершенно забыл, начисто, о дальних расстояниях и лыжных прогулках детства и юности.
Ничего заповедного в этой части бережка я не замечал, возможно, тишина была еще плотнее, хотя... И тут в склоне берега, в косой стенке между приподнятым плато острова и полосой прибрежного пляжного песка, в сугробе, распахнулась дверь. В занесенном снегом склоне была занесенная снегом дверь, она открылась вместе с налипшим на нее прямоугольником белым, откинулась на петлях, обнаружилось темное пятно лаза, вышел из подземного хода монах в черной рясе (или то был подрясник? я не знал названия одежд церковных людей) и ватнике с брякающим звонким новеньким серебристым ведром в руках. Он оставил в темном провале зажженный фонарь, похожий на шахтерскую лампу, и направился к проруби. Мы поздоровались по неписаному деревенскому правилу здороваться с встречными, знакомый ли, незнакомый, сосед или прохожий, все едино — здравствуйте.
Неизвестно откуда взявшийся праздный лыжник в городской одежде и монах, в те времена оку советских людей непривычный и дикий.
Он набрал воды и пошел к своему лазу. Должно быть, мое ошалевшее лицо остановило его.
— Вы приезжий? — спросил он, улыбнувшись. — Художник? Из Казани?
— Художник, — ответил я для краткости, слово «дизайнер» на фоне снегов прозвучало бы странно. — Из Ленинграда. А вы... Вы из прошлого?
— Нет, — отвечал он серьезно. — Я из будущего.
И пояснил:
— Тут будут восстанавливаться храмы, а может, и монастыри. Вот мы потихоньку разбирать старые завалы и приступили.
Восстанавливаться монастыри? Я не стал вникать в это неправдоподобное сообщение.
— И ходите за водой по подземному ходу?
— Да, — отвечал он, — тут старинный подземный ход, монахи да войсковые люди еще при Иване Грозном, при закладке крепости, его соорудили, чтобы на случай осады незаметно за водой ходить или нападения отражать. Извините, меня ждут, я пойду.
Может быть, он ждал, что я попрошу, чтобы он благословил меня, но тогда я ни о чем таком не думал и не помышлял вовсе.
— Всячески желаю вам удачи, — сказал я, — в благом вашем деле. А также победы реставрации над разрухой.
Дверь за ним закрылась, легкий ветерок, осыпь, облачко снежное затерло швы. Стало еще тише. Я пошел по кругу к дому с двумя деревьями, хорошо помнил: тут, куда ни пойди, придешь к Нининому дому.
На станцию под названием Нижние Вязовые повез меня на «макаке», оснащенной шинами с массивными протекторами от грузовика, один из соседей. Мы примчали на этом варварском транспорте, изобретении неунывающих россиян, за четверть часа до электрички. Банка с солеными огурцами не разбилась от тряски в портфеле моем, моченые яблоки не выплеснули маринад свой на мои бумаги, на остренькое женщины в тягости падки, сказала хозяйка, береги Ниночку, поцелуй ее от меня.
Возвращающимся в Ленинград из Казани начальством был я подхвачен как бандероль, самолет наш благополучно приземлился, в ленинградском аэропорту нас снова встретили на машинах, меня довезли до дома, я разбудил и Нину, и матушку.
— Как ты быстро обернулся, — сказала Нина, — письмо нашел?
— Забирай, пока в портфеле не замотаю со своими бумажками.
— Я положу конверт в старое бюро в верхний левый ящик, — сказала Нина.
— Мне-то зачем знать, куда ты его положишь? Придет Тамила, сама и отдашь.
— Ты только не волнуйся, — сказала Нина. — В понедельник меня кладут в больницу. Нет, ничего страшного, это называется токсикоз второй половины беременности, он у меня не сильный, врачи перестраховываются, я ненадолго.
Но ее так и не выписали, она пробыла в больнице почти четыре месяца, я бегал к ней с передачами, вечерами за чаем мама успокаивала меня, а я ее.
В конце весны у нас родился сын. Не знаю почему, но не только в нашем семействе, не вполне после Нининого автомобильного ДТП нормальном, но и в семьях друзей и знакомых рождение ребенка оказывалось чем-то вроде семейной коллективной болезни. Может, на наших широтах это не всегда было так? — думал я, гуляя с темно-синей колясочкой по хрестоматийным ведутам, хоть малость обшарпанным и заброшенным, но всё же прекрасным.
Назвали мальчика Сережей. Нина была совершенно счастлива, похорошела, помолодела, вот только уставала быстро, и мама, и я помогали ей, как могли, бабушка обожала внука я вообще молчу, из меня вышел совершенно сумасшедший отец.
Так доскакали мы до первого Сережиного дня рождения.
А за письмом Тамила так и не пришла. Да мы и сами об этом письме забыли, жизнь летела на крыльях, мы вместе с нею.
Юкими
Когда лежала Нина в дородовом отделении, принес я ей туда отрытую к случаю в «Старой книге» совершенно новенькую книгу о Японии.
Атеистические советские люди, склонные к духовной жизни (к «духовке», как тогда говорили) обзаводились увлечениями, кумирами, фетишами иногда престранного свойства. Были негласные клубы искателей НЛО (в 90-е годы ставшие на некоторое время гласными), компаниями играли в индейцев или древних славян, — разумеется, умозрительных, ненастоящих, киношных (причем, игроки были формально по паспорту взрослые зрелые люди). Были фанаты «Мастера и Маргариты», адепты фантастики, увлекались другими странами (где не были никогда), розенкрейцерами, алхимией, выращиванием орхидей, выпиливанием лобзиком; изучали индийский язык (или санскрит?), коллекционировали совершенно немыслимые вещи, например, неправильные спички (слишком тонкие, слишком толстые, кривые, цветные, с излишне толстой головкой серы или без оной вовсе). Позже из этих волн «духовных увлечений» в качестве «новой волны» возникли общества последователей Рериха и знатоков Толкиена, так называемых «рерихнутых» и «толкиенутых».
Мы с Ниной отдали дань этому неопределимому явлению, поувлекавшись книгой о Японии.
В ней были чудесные цветные вкладки, листы XVIII века, Хокусаи, Хиросигэ. Была одна копия руки Ван Гога, влюбленного в работы японских мастеров и копировавшего их. Приводились отрывки из «Маньёсю» («Собрание мириад листьев») и «Ямато-моногатари». Рядом с русским переводом танки написаны были кириллицей японские строки:
Омофру раму Кокоро-но ути ва Сиранэдомо Наку-во миру косо ВабисикарикэриМы гадали, как расставить ударения. В некоторых японских словах было два ударения, а Нина предполагала, что в иных даже три. Предположения наши были совершенно досужие. Японские поэты любили символы, игру слов, иероглифических картин-ребусов. Мы любили японских поэтов. «Долгие ночи провожу я, встречая рассвет, сгорая от любви к тебе и, превратившись в дым, неужто я застыну в небе? Конечно, я улечу ввысь».
Мы знали наизусть слова, обозначавшие главные принципы эстетики дзен: ваби (красота бедности, суровая простота, шероховатость и одновременно изысканность); саби (прелесть старины, печать времени), югэн (невыразимая словами истина, намек, подтекст, недоговоренность). С дзэн связана была и традиция любования: момидзигари (осенними листьями клена); ханами (цветами), цукими (луной) и юкими (тихими снегами).
Ребенок родился похожий на театральную маску театра Но, — с узкими глазками и точеным плотным носиком. Нина боялась, всё ли у него в порядке, считала пальчики на ножках и ручках. Мальчик плакал мало, вот только говорить начал очень поздно. Он хорошо нас слышал, поворачивал головку, когда мы его звали, оглядывался на мяукающего кота. А сам молчал.
Утром перед работой с ним гуляла работающая на полставки мама, вечером я: Нине было тяжело тащить коляску и младенца, отнюдь не худенького, с шестого этажа, лифта в доме не было.
Днем Нина одевала его, одевалась сама, открывала балконную дверь, так гуляли они, стоя, она в шубке, он на ручках. «Смотри, какой чудесный снег, — говорила Нина младенцу, — это наше юкими, давай любоваться тихими нашими белыми снегами».
В тот день я пришел с работы чуть раньше, услышал за дверью непривычный рев полуторагодовалого Сереженьки, Нина носила его по комнате, он вырывался, тряс руками, подпрыгивал, орал.
— Чего он хочет? — спросил я, стоя в дверях.
Тут ребенок наш выкинул в сторону окна ручонку повелительным жестом Медного всадника и вымолвил:
— Юкими!
Обомлевшая Нина поднесла его к окошку, он тотчас успокоился и уставился на заснеженный дворик.
— А я-то думала, — сказала просиявшая матушка, — что первое слово его будет «мама»...
Тут младенец, слегка откинувшись, глянул на нее, обратил на нее благосклонное внимание, схватил ее за щеку и произнес:
— Мама.
— Вот дождались! — вскричал я от двери. — Может ты, красавчик, и отца, наконец, признаешь?
Ребенок повернулся ко мне, махнул в мою сторону императорским жестом ручонкой своей и сказал:
— Пама!
С этого дня он начал говорить, как все дети, развлекался и звукоподражаниями, мяукал коту, лаял уличным собакам, каркал, чирикал, бибикал.
Капля
Дочь родилась у нас, когда Сереже было 4 года. Нине второй наш ребенок дался тяжело. Она окончательно ушла с работы, какие там полставки, четверть ставки; ей пришлось лечиться после родов, были трудности и с позвоночником, и с давлением, мучила ее мигрень, ухудшилось зрение, она мало-мальски выправилась лет через пять. Я брал халтуры на дом, подрабатывал где мог. В частности, подрядился в одной архитектурной проектной конторе выполнять пятиметровой длины панораму Владивостока, всем всегда нравились мои перспективы, освоил я и архитектурную, с превеликим удовольствием изобразив небо с кучевыми облаками, которыми всегда славятся города и села, стоящие у воды. Еще научился я готовить и немалые способности по кулинарной части в себе открыл.
Время было трудное, отхлестали чернобыльские дожди (в лето 1986 года на даче, а мы снимали комнатенку с верандой в Дибунах, бабочек не было вовсе, лопухи выросли колоссального размера, и всюду видели мы колонии каких-то немыслимых инопланетных грибов, лиловые поганки, лимонно-желтые, страшное дело), промчалась неразбериха перестройки, уплыли по реке времени пустые магазины начала девяностых, пронеслась по городу (да и всем городам) волна уличных убийств с грошовыми, стоившими жизни, грабежами.
Однако, дети наши выросли, отучились — при полной неразберихе со школами, где восьмилетка, где одиннадцатилетка, открывающиеся и закрывающиеся гимназии. Учились и Сережа, и Леночка прекрасно, он окончил университет, она — Политехнический. Когда появились внук и внучка, дети уже разъехались, Леночка с мужем жили в Пушкине, работали в Пулковской обсерватории, а Сергей с женой сначала наезжали, подрядившись, в заграничные командировки, а потом и вовсе переехали, шло к тому, чтобы так и остаться жить в Дании. Вот их дочку, внучку нашу Капитолину, получали мы время от времени, то на месяц, то на полгода, то на год, что для нас было несомненно счастливым обстоятельством. Какие бы сложности и неувязки нас ни подстерегали, один вид золотистой головенки с кудряшками — особенно против света — снимал всё, жизнь становилась прекрасной. Капитолину звали мы Каплей.
Капля, девочка востренькая, фантазерка, больших печалей нам не доставляла, хотя была с характером и раз в году болела какой-нибудь немыслимой ангиной, корью или ветрянкой. Мне было страшно: а вдруг Нина заразится? Но обходилось. Читать Капля начала рано, на даче была в детской компании заводилой. Мы разделяли ее увлечения. Толклись вместе с ней в цокольном эрмитажном древнеегипетском зале с мумией. Я лепил и отливал из гипса маленькие фигурки ушебти, кошкоголовой богини Баст, песьеголового Анубиса. Мы их раскрашивали. Одну из фигурок мой знакомый стекольщик отлил из темноголубого матового стекла. И я, и Нина изучали египетскую письменность, обменивались иератическими записками с Каплей. Я научил ее писать симпатическими чернилами, макать старинное перышко перьевой ручки в молоко или тыкать им в луковицу; надпись была невидима, стоило бумагу нагреть — текст проступал на белом листе.
Потом пошел период романов. Капля строила их почем зря. Об имени лорда я уже вспоминал. Был там еще злодей, которого звали сэр Сам Мерсет Мойэм.
— Мойэм и Стирайэм, — сказал я. — Два злодея-близнеца. Лучше, если вообще двойняшки. Различить можно только по родинке на попе.
— Что ж ты надо мной смеешься? — Капля надулась и вышла на кухню.
Впрочем, была она отходчива, быстро вернулась.
— У тебя там только герои? — спросил я. — Героини тоже есть?
— Вот будешь читать, увидишь, — сказала она загадочно.
— А я буду читать?
— Конечно. Ты ведь будешь к моему роману иллюстрации рисовать. Ты обещал.
Когда я был занят, чертил или делал эскизы, а Капля приходила и что-то говорила, я не вслушивался, поддакивал, не вникая, наобещать мог что угодно.
— Героини там вот именно двойняшки, — сообщила наша Дюма-внучка. — Сью Причард и Причард Сью.
— Лучше Пью и Сью, — предложил я.
Пропустив Пью мимо ушей, она продолжала:
— Одна белокурая, другая чернокурая. Кудрявые обе. С локонами до плеч.
— В одном известном старинном романе, — сообщил я, — действовали две Изольды, одна белокурая, другая белорукая.
— О! Домодедов! — вскричала Капля. — Как мне нравится! А если я это спишу? Украду, то есть?
— Это называется плагиат. Спиши, конечно. Писатели все друг у друга сдувают почем зря. Из глубины веков идет традиция.
В романе Капли отважно сражались два розенкрейцера, Розенблюм и Розенфельд.
— Откуда фамилии взяла? — осведомился я.
— В девятом «Б» есть девочка и мальчик с такими экзотическими фамилиями.
— Капля, а ты у нас не антисемитка?
— Вот еще, — отвечала наша внучка, — антисемиты во время войны дедушку и бабушку Эдьки Когана хотели убить, они фашисты, а я нормальная.
Еще один персонаж звался Брандмауэр. Дюма-внучка заканчивала повесть «Приключения принца-мореплавателя» с главами «Расхищение сокровищ» и «Приручение чудовищ».
Она мечтала написать повесть «Знаки Злодияка», где главным героем был бы злой волшебник Злодияк, чей особняк сторожил карликовый цепной дракон Фуфель.
— Там еще будет, — сообщила она, — писатель Фаустовский.
— Все решат, что он алхимик или химик.
— Может, он по образованию химик, — предположила Нина, — а по призванию писатель?
— А по роду занятий сторож, дворник или кочегар? — предположил я.
— Не умножайте сущности, — сказала внучка наша, уже прочитавшая про бритву Оккама, — писатель и всё.
— Недавно мне приснился сон про новую книгу. В нем Землю заселяли колонисты разных цивилизаций из разных Галактик. Временами они по древней привычке предков опять начинали воевать друг с другом. Поэтому все войны человеческие — звездные войны.
— Мне больше нравятся книги о мирных временах.
— В книгах о войнах, — убежденно промолвила она, — больше приключений.
Подумав, она сказала, противореча самой себе:
— Может быть, люди воюют потому, что ищут приключений.
— Нет, — возразил я, — человек потому воюет, что у него в башке то корова пасется, то саблезубый динозавр вылетает всё и вся пожрать.
Она опять задумалась, потом, помолчав, произнесла:
— Я придумала новую специальность ученого: эхолог. Он изучает эхо, охотится за ним, — у колодца, в пещере, в лесу, в городских подворотнях, дворах и дебрях. В конце концов он спасет мир, не пустив в него эхо зла.
Я не всегда понимал ход ее мыслей.
Городок в городе
— Домодедов, а что такое популярная механика? — спросила Капля.
— Музыкальный ансамбль, — сказала Нина.
— Название лекции на одном из семинаров в Свияжске, где мы с бабушкой познакомились.
— А еще?
— Еще?
Она протянула мне клочок бумаги, филькину грамотку, выведенный детским почерком адрес и название: «Музей популярной механики, арт-механики, кинематонов, кинематической игрушки».
— Что это за улица? где это?
— Недалеко от Московских ворот, кажется. Сейчас на карте посмотрю.
— Деда, мы поедем туда? Ты поедешь со мной?
Конечно, я с ней поехал.
— Какие странные фамилии на «ж», — сказала Капля, глядя в окно троллейбуса, неспешно следующего по Московскому проспекту, — Житков, Жур, Железняк, Жеймо, Жербин, Живанши.
— Еще Жухрай, — сказал я. — Странные фамилии есть на любую букву.
— Почему-то на Московском проспекте я всегда думаю о фамилиях.
— Может, тут в старину водили по этапу заключенных? — предположил я. — Из Литовского замка, например. Их выкликали по списку, они отзывались. И ты зачем-то из дали времен это слышишь.
Летом в ненастные дни мы играли в знаменитых людей. Иногда я играл всерьез, чаще честно Нине и Капле поддавался.
Первой читала свой список Капля.
— Дюмон-Дюрвиль! — воскликнула она.
— Вычеркнули, — говорила Нина.
И мы вычеркивали.
В перечень знаменитых людей разрешалось включать фамилии и имена литературных героев, существ третьего мира.
— Джульетта, — говорила Нина.
— Д’Артаньян, — говорил я.
И мы начинали спорить: на «Д» он или на «А».
У нас были любимые имена-фамилии из этих списков: Грум-Гржимайло, Ломброзо, Дамаянти, Литке, Марион Делорм (поддаваясь, я разрешал своим девочкам писать ее и на «М», и на «Д»). Оказалось, что Нина в увлекалась историей балета, ее список украшали неведомые нам Легат, Леньяни, Кякшт, Эльслер. Нижинского и Ваганову мы знали.
Поскольку Капля зачитывалась книжкой Сетон-Томпсона (затрепанной, чудесной, из моего детства, с иллюстрациями автора) «Животные-герои», включались в перечни знаменитостей клички животных из рассказов о них: Арно, Снап, Крэг-Кутенейский баран, Билли-из-Бэдленда.
Странными коммунальными соседствами отличались в самые дождливые дни наши реестры: Суворов, Снап, Сулико, Сулимо-Самойлов, Суок. Или: Кулибин, Козловский, Кутузов, Крэг-Кутенейский баран, Куинджи, Кук.
Засчитывались за два разных персонажа мышонок Пик и Пик Вильгельм. В двух лицах фигурировали на паритетных началах фамилии писателей и их псевдонимы: Стендаль и Анри де Бейль.
Нас веселило, что иногда у всех список на какую-нибудь букву начинался с одной и той же фамилии либо имени.
Были буквы гробовые, вроде «Э» или «Ц»; были легкие «М» или «Н».
Мы разлучали Бойля с Мариоттом, Борда с Жангу, Чука с Геком.
К концу второго лета Капля с ее цепкой детской памятью, вслушивающаяся в наши списки, постоянно выяснявшая, кто есть кто, без всякого подыгрывания выбилась в чемпионки, даже на «Ч» и «Щ», с уверенностью опережая нас пропущенными нами Чимабуэ или Щуко. Теперь уже Нине приходилось выяснять, кто такие Гейтс, Рианна, Меркьюри, Курт Кобейн или Адамсы. Зато она знала, кто такие Амонасро и Сюимбике. А я знал, кто такие Пуркинье и Виктор Орта. В городе Капля могла бы их тотчас прогуглить, но в летней деревне, где мы играли, не работал интернет, молчали мобильники, глухое было место, заповедное.
— Надо посмотреть, — сказал я, — как этапировали из Петербурга на каторгу Достоевского, не этой ли дорогой.
Мы заговорили о женах писателей и поэтов: авторов.
— Мне Наталья Пушкина и Софья Толстая не нравятся, — сказала, насупившись, Капля.
— Главное, чтобы их мужьям, авторам, они нравились, — сказал я.
— Они похожи на запоминающиеся образы персонажей, — произнесла она задумчиво. — Авторы женились на образах?
— Авторы женились на ком попало и превращали жен в образы? — предположил я.
— А кто тебе из писательских жен нравится? — спросила Капля.
— Анна Достоевская.
— Знаешь, — сказала внучка, — она чем-то напоминает нашу Бабилонию.
В этот момент проезжали мы советскую биржу. Она была черно-серая с фальшивыми простенькими слоновьими колоннами, называлась «Союзпушнина», предназначалась для торгов мехами, мягкой рухлядью. Мягкая рухлядь была золотая, дороже денег; на дверях одного из флигелей висела надпись, стекло, золотом по черному: «Управление управляющего». Остальное мелким шрифтом. Поскольку я всегда проезжал мимо или пробегал, два эти слова остались для меня на всю жизнь нерасшифрованными. Страна торговала содранными со зверей шкурами и кровью динозавров: нефтью.
Свернув с Московского меридианного проспекта в жилмассив, где должна была находиться улица, означенная на клочке бумаги, оказались мы словно в другом городе.
Мне не раз приходилось открывать в любимом моем Ленинграде малые лавры внутренних городков: огороженные территории Военно-медицинской академии напротив Витебского вокзала и Педагогического института имени Герцена, квартала вокруг Университета, загадочные рынки на Лиговке и во дворе Апраксина двора.
Похожие места окружали институт Иоффе, Лесотехническую академию, Оптический институт, лавры мирские.
Квартал, по которому шли мы с Каплей, напоминал уездный околоток в каком-нибудь Урюпинске или Царевококшайске. Увидев акварели Баганца, где в блистательном Санкт-Петербурге XIX столетия не то что на окраинах, а в самом ни на есть центре брандмауэры пяти- и шестиэтажных домов соседствовали с деревянными одноэтажными домиками, двухэтажными флигельками, арочными каменными воротами в несуществующие сады, вспомнил я наш первый визит в музей «Популярной механики». Тут легко встречались и сливались в солнечный день тень и полутень, тон и полутон; оттеняя разные их срезы, вспыхивали в акварелях Баганца яркие пятна сушащегося возле дворового сарая белья, а в нашей с Каплей прогулке возникали то там, то тут, остролистные листья сорняков, желтые малютки, подобные львиному зеву, столь неуместные в двух шагах от парадной причепурившейся дороги на Москву, украшенной триумфальными воротами имени первопрестольной.
Должно быть, лет сто или около того стояли в окнах двухэтажного домишки с деревянным вторым этажом под двускатной крышею алые герани, неведомо как пережившие настойчивые ужасы эпохи.
Привалившись к древнему забору, стояла трансцендентная лавочка, на который временно некому было семечки лузгать. Над забором нависали совершенно неуместные яблони с китайскими яблочками, оставшиеся, видать, по недосмотру, от здешних давно выкорчеванных и позабытых загородных садов.
И над всем этим неправильным, неуловимо уютным в нелепости своей околотком парила огромная масса неба. Как уже заметил один наш заезжий гость в XVIII веке: «России досталось слишком много неба». Заметим и мы: ее окну в Европу тоже достался переизбыток небесных пространств. С чем безуспешно пытаются бороться собаки-зодчие, хваткие и якобы деловые заказчики их и все не переваривающие слово «небесный» бесовское воинство.
— Домодедов, асфальт кончился!
Те, кто набивал подобную старинным сельским дорогам мостовую, знали, что делали. Такие набивные улицы видел я в детстве на Карельском перешейке, они сильно отличались от сельских объездов в ямах, выбоинах, промоинах и колдобинах.
— А вот булыжник!
Булыжные мостовые встречались ей и раньше, очень нравились за то, что булыжники были все разные и по цвету, и по форме. Капля увлекалась минералогией.
— Что за квадратики!
— Диабазовая плита, — сказал я, — раньше в центре города встречалась. У Преображенского собора, у Греческой церкви.
— А тут вообще пеньки!
— Это не пеньки, торцы, торцевое мощение, спилы стволов. Твоя бабушка рассказывала — полно было в городе торцовых улиц, но в наводнение вода их подмыла, они всплыли, их потом сушили на дрова, улицы пришлось перемостить. Когда я был маленький, в районе Новгорода был участок торцового шоссе Ленинград — Москва, ехали, как по шелку.
Не в краснокирпичном трехэтажном (о, этот чудесный вишнево-краплаковый клинкер конца XIX века!), напомнившем мне женскую гимназию-гостиницу Свияжска, не в желто-белом времен сталинского ампира (с белыми колоннами! порталами!), то ли клуб, то ли кинотеатр, то ли особняк для особых людей, — но в маленьком двухэтажном, прилепившимся к четырехэтажному соседу, флигельке, выкрашенном кладбищенской голубенью, расположился наш пункт назначения, то ли музей, то ли выставка больших механических игрушек.
Войти в музей, выйти из музея
Когда мы впервые привели маленькую Каплю в Эрмитаж, чтобы показать ей часы «Павлин», она долго стояла, вглядываясь, а потом, показывая на петуха, спросила меня шепотом:
— Его заперли, чтобы он никого в лысину не клевал, и чтобы не было войны?
Я в первый момент не понял, что речь идет о пушкинском золотом петушке.
При входе в зале кинематических диковинок висела табличка с надписью: «Входите весело!». Когда мы уходили, Капля заметила на обороте таблички другую рекомендацию (обе в стиле Эйлин Грей): «Входите крадучись».
— Когда вы вешаете ее на ту сторону? — спросила она у смотрителя.
— Это для ночных посетителей.
— Они приходят каждую ночь?
— Нет, — отвечал он, — в последнюю ночь перед полнолунием.
Хотелось сказать: «Черт знает что!» — но я смолчал.
— По правде говоря, — сказал он нам в затылок, — есть и другая табличка. Про выход. «Выходите весело!» и «Выходите крадучись». Иногда мы вешаем и ее. Только редко.
Я не спросил — когда, он ответил сам:
— В день новолуния.
— Но есть и третья табличка, — снова сказал он нам вслед.
И мы снова вернулись.
— Какая?
— «Вход как вдох», — сказал он. — А на обороте «Выход как выдох».
— А эта для кого?
— Мне не хотелось бы говорить на эту тему, — сказал он.
— Мы еще придем, — сказала Капля. — Если можно, когда вы увидите, что мы подходим, не вывешивайте ни одной, пожалуйста.
— Согласен, — сказал он.
— Как вас зовут? — спросил я.
— Можете называть меня господин Сяо.
Едва ступили мы за порог, Капля сказала:
— Я сразу догадалась, что он китаец. А ты, деда?
Чтобы он не успел сказать нам что-нибудь еще, мы затянули нашу любимую песню. Мы быстро уходили по околотку, квартал бежал навстречу, пели мы:
Милее всех был Джеми, мой милый, любимый, любил меня мой Джеми, так преданно любил! Одним изъяном он страдал, он сердца женского не знал, любимой чар не понимал, увы, мне жаль, мне жаль!Механоиды и жакемары
Колокольников собирал объемные подвижные произведения из бесчисленного количества причудливых мелочей: игрушек, винтиков, пружин, деталей замысловатых приборов и часовых механизмов, дополняя собственноручно выполненными элементами, объединяя их в единую хитроумную систему, и оживлял в итоге всю конструкцию путем «включения ее в электросеть»...
Тогда начиналось Действо! В меняющейся цветной подсветке вращались небесные своды и земные сферы, Солнце, Луна и звезды вступали в медленное движение, затем, тоже по очереди, объявлялась масса мелких персонажей, словно по расписанию точно знающие свои выходы и роли, — мир оживал! Невообразимые птицы и животные в несколько сантиметров величиной населяли пространство меж объемными сюрреалистическими конструкциями из фигурных гор, покрытых узорами, русел рек, ущелий, каскадов. В этих ландшафтах произрастали узкие высокие сооружения, включавшие архитектурные фрагменты разных эпох. С уходом Солнца небеса наливались синевой, в сооружениях этих зажигались огни, медленно выплывал Месяц, из верхнего освещенного окна появлялся и начинал пересекать пространство крошечный средневековый канатоходец, держа поперек груди отвес и балансируя на еле заметной проволоке. Когда же исчезала Луна и звездная пыль рассыпалась по небу, освещая лишь контуры предметов, придавая им мистическую завершенность, серебряный рыцарь на бронированном коне торжественно проезжал по горным вершинам, и ни зверя, ни птицы не оставалось уже в этом замершем, застывшем пейзаже, изрытом, словно поверхность мертвой планеты, таинственными воронками и кратерами.
Несколько творцов одновременно уживались в Колокольникове: один, философ-поэт, занимался науками отвлеченными; второй, мастеровой типа Левши, конструктор а la Кулибин, доморощенный инженер-волшебник, вроде тех, кого отобразил немецкий сказочник Гофман, что в романтические времена умудрялись вдохнуть в своих механических кукол некое подобие жизни; третьим же был художник, рисовавший ясные и добрые образы с наивными отрешенными лицами, чистой воды строгая русская классика нового, так никогда и не наступившего времени.
И. Чернова-Дяткина. Пришлец...Меня так и подмывает бросить им слова Макбета: «Незряч твой взгляд, который ты не сводишь с меня. [...] Мне глубоко претит вся эта механика мертвых фигур, подражающих человеческим жестам».
Э. Т. А. Гофман. АвтоматыКогда позже прочитал я в журнале «Нева» роман «Пришлец», я понял: написавшая его Чернова-Дяткина несомненно посещала наш волшебный флигелек и с господином Сяо водила знакомство.
Он выдал нам билеты, разложенные при входе на крохотном столике с табличкой: «Детям и пенсионерам скидка» и мы оказались в зале, уставленном экспонатами. В центре стояли вертикальные витрины, целая компания, поэтому передвигались мы по кругу.
Увиденное показалась мне занятным, забавным, а на Каплю произвело необычайно сильное впечатление.
Стояли на открытых подставках, в долгих остекленных ящиках, в футлярах, в шкафчиках на особицу, снабженных этикетками, пусковыми кнопками, прорезями для шарика, монетки или жетона (иногда соседствовали две прорези: шарик и монетка вызывали разные действия маленьких андроидов).
Встречала посетителей при входе заводная современная яркая парочка с итоговым дарением букета, снабженная этикеткой: «8 марта. Внезапное весеннее обострение любви». При входе комната была освещена, вторая дальняя ее половина погружена была в полумрак, — зато освещены витрины с персонажами: четверка времен Шерлока Холмса, полицейский, священник, два жулика в кабинке, напоминающей кабинку лифта, печальный отец в летах, шлепающий монстрика-малютку; старая гадалка с картами, гадательным кристаллом, зеркалом (из прорези желающим выкатывались подобные чекам или билетикам предсказания), старинные автоматоны — шарманщик с сурком и куколка-панночка с лютней; все — совершенные чудеса механики, ничего от кукольного театра, где маленьким актерам, одушевленным рукодельной неправильностью и не вполне одинаковым действием, необходим актер-человек, его голос, его сбои, его чувства.
В освещенной части, где прозрачный бесенок катался упоенно на прозрачном конструкте-паровозике с колокольчиками, а железный хамелеопард перманентно сбивал с ног и заедал незадачливого сафари-охотника, встретился нам яркий свеженький Анубис, то ли точная копия одного из близнецов своих музея в Глазго, то ли и впрямь кто-то из них, путешествующий, купленный, взятый напрокат.
Древнеегипетский бог бальзамирования, смерти, загробного мира, ядов и лекарств, проводник умерших, сберегатель кладбищ и мумий, обладатель острой шакальей морды и мафиозного шарфика, некогда бывший черным псом, с упоением поливал из лейки свой заговоренный посох, на глазах прорастающий побегами ядовито-зеленого цвета. Потом он ставил лейку, посох втягивал побеги в прорези. Анубис снова поливал, посох опять прорастал.
Полной загадкой для меня, как и прежде, осталось: почему именно Анубис? Что за борьба с божествами путем снижения их страшноватых образов до скромных превеселеньких бытовых действий? Чем, кстати, посох-то поливает? Каким ядохимикатом, химия-на-поля?..
Середина зала посвящена была арт-механике. Смесь дизайна, антидизайна, театральной феерии, загадочных предметов и инсталляций из фильмов «Обыкновенное чудо» (дом волшебника) и «Господин оформитель». Кинетические скульптуры, механические картины, видения наркотических снов, сюрреалистических рисунков сумасшедших и полупомешанных (которые увидел я в старинном учебнике психиатрии).
Андроиды и их создатели, отсутствующие тавматурги (последнее название восходило к древним временам, древнегреческому мастеру Герону, древнеегипетским умельцам, нанятым жрецами, создававшими изваяния божеств, — изваяния поворачивали головы, открывали рты, говорили) обступили нас вместе с малютками жакемарами.
Название «жакемары», применявшееся к старинным заводным куколкам (например, выходившим из часов, каждому часу соответствовала своя фигурка), толковали, насколько я помню доклад Филиалова, по-разному; эти жакушки и джекушки, по мнению большинства трактователей, обязаны были наименованием своим некоему jacque или jack — инструменту, используемому механиками, строящими башенные часы.
Я же склонялся к тому, что слово «жакемар» находилось в родстве с французским «кошмаром» и английским «nightmare», персонифицированными ужастиками чарами, то ли суккубами, то ли инкубами, я их путал всю жизнь.
О, сотвори мне парочку жакемаров, тавматург! Страшное дело...
Один постамент был пуст, хотя этикетка сообщала, кто отсутствует: «Японская куколка каракури, подающая чай и уезжающая с поклоном»; видимо, она уехала дальше, чем ожидалось.
— Деда, дай мне монетку! — теребила меня Капля за рукав. — Я хочу предсказание от гадалки с картами.
Предсказания вряд ли могли сойти за таковые, скорее напоминали они рекомендации или глубокомысленные сентенции; такие бумажки достают с давних времен лапкой из шапки ярмарочные ученые попугаи. На бумажке, доставшейся Капле, было начертано: «Живи своей жизнью!». Капля уговорила и меня получить свою рацею на сложенной бумажонке. На моей значилось: «Никогда не унывай, даже на мгновение!».
— Давай, возьмем с собой предсказание для Бабилонии!
Нина, развернувшая свою цидульку дома, прочитала: «Ты элегантная подвижная личность, маскирующаяся под спокойного тихого человека».
Особо привлек внимание внучки нашей стоящий в дальнем левом углу длинный ящик высотой со старый аппарат газированной воды или самоновейший полузапрещенный игровой.
За его застекленной дверцею расположен был кусочек улочки с узким высоким трехэтажным зданием в центре (был и подвальный этаж — под мостовою, в выемке под улочкой) и двумя — ювелирной лавки справа, баром слева, — домишками по бокам. На высоком здании написано было: PRISON — ТЮРЬМА. Множество жакемаров-малюток принимали участие в маленьком спектакле в нескольких действиях, разыгрываемых по указке опускаемого в прорезь матового стеклянного шарика и дополнительно открывающих следующие картины действа монеток.
Всё вертелось вокруг крошки-шаромыжника, который руководил каждым новым поворотом сюжета. Каждое действо в зеленом угловом ящике начиналась с появлением позитивистской фигурки мизерного главного жакемара; он был пружиной событий, заводилой, с него начинались драки, потасовки, кража драгоценностей, попытка побега, тюремный мятеж, убийство полицейского.
— Он тут начальник всего, — сказала Капля.
Когда она увлеклась танцами маленьких балерин под звуки музыкальной шкатулки, я спросил у господина Сяо, какая история закрыта и затемнена в подвале «тюрьмы»? Что там вытворяет попавшийся жакемар?
— Там гильотина, — отвечал господин Сяо, — там ему отрубают голову. Мы не включаем эту сцену днем, когда нас посещают дети. Только для вечерних и ночных посетителей.
— Однако, нам пора, — сказал я, — Капля, ты опоздаешь на плавание.
— Мы еще придем! — сказала она смотрителю. — Домодедов, ведь мы еще придем?
В троллейбусе я рассказал ей о любимых витринных автоматах моего детства: оживающей объемной картине «Охотники на привале» возле кинотеатра Колизей в магазине «Спорт — охота» и пьющего (через полквартала, на углу Маяковского и Невского, со стороны проспекта) томатный сок медведя. Чучело натурального медвежонка, снабженное механизмом, исправно подымало лапу со стаканом, опорожняя его; в моем послевоенном детстве медведь пил томатный сок, возможно, до войны со времен НЭПа предпочитал он красное вино либо портвейн.
Обычно устававшая и быстро засыпавшая после бассейна Капля болтала без умолку, спеша рассказать Нине об околотке, музее, господине Сяо, предсказательнице и Начальнике Всего из углового шкафа. Наконец, она иссякла.
— А чем отличается механоид от жакемара? — спросила Нина.
— Чертик на паровозе, Анубис и все арт-кинематоны — механоиды, — убежденно отвечала Капля, — а Начальник Всего самый что ни на есть жакемар. Правда, Домодедов?
Я подтвердил.
Засыпая, подумал я, что Начальник Всего на кого-то похож, я увидел это, когда надел очки, вот только на кого, я не мог вспомнить.
Постоянные посетители
Именно к периоду постоянных посещений относились повторяющиеся просьбы съездить то в Барселону, то в Лос-Анжелес, то в Тель-Авив, то в Глазго: места самых известных музеев автоматических игрушек, оазисов кинематических царств.
Пожалуй, и у Нины, и у меня была по крайней мере одна совершенно одинаковая черта: чрезмерность увлечений чем бы то ни было. Так что у Капли сложности по части наследственности возникли как минимум с двух сторон. Она увлеклась кинематонами, механоидами и прочими заводными игрушками не на шутку. И мы стали постоянными посетителями. Господин Сяо встречал нас как хороших знакомых или родственников.
— Для вас сюрприз, — сказал он на третье наше или четвертое посещение. — У нас появился экран с несколькими сюжетами.
Он включил экран, и я увидел сидящую за цимбалами Марию-Антуанетту. Не знаю, сколько времени длилось ее появление передо мной, возможно, минут десять, но на экране десять минут — очень много, а если еще учесть ее первое появление, когда я уснул на лекции Филиалова в Свияжске, а Нина расплакалась и мы выбежали из зала в вечер, полный сирени, да еще то, что я знал о французской королеве, присутствие ее маленькой копии-андроида было неимоверно долгим.
На точеной шее куклы красовалось жемчужное ожерелье, шесть рядов жемчуга, ожерелье королевы, скрывающее, может быть, рваный шрам от гильотины: в какую-то минуту, когда она остановилась, прекратились изящные движения рук ее с тонкими небрежно держащими молоточки цимбал пальцами, закончилась одна из пьес Глюка, она опускала голову, дышала, смотрела на струны, — и она повернулась, движение головы и глаз, она посмотрела прямо на меня, возник тот самый кадр, на котором проснулся я и расплакалась Нина. Я понял теперь, отчего Нине стало так жаль Марию-Антуанетту. Каким-то непонятным образом кукла стала ею.
Дальше показали нам цимбалистку со спины, без парика, великолепная работа скульптора, тонкая талия, уширяющиеся ягодицы — как у Венеры перед зеркалом с картины Веласкеса, — стройные ноги. Были видны механизмы, было видно, что перед нами кукла, но было в ней что-то трогательно живое, настоящее, — может быть, та любовь, с которой делал ее мастер? или то, что маленькая жестоко обезглавленная толпой искателей справедливости французская королева теперь стала этой музыкантшей?
Тут на экране возник Анубис, подносящий лежащей на кушетке деревянной Олимпии Мане кофий и шкалик абсента, — и я очнулся.
Я чувствовал себя слегка помешавшимся, как помешалась на ящике с тюрьмой и вездесущим жуликом Капля.
Посмотрев на господина Сяо, я решил — уж не гипнотизирует ли он нас?
И хотя я ничего подобного не произносил, покачал головой господин Сяо:
— Нет, я никаким внушением и гипнозом не занимаюсь. Но хочу заметить, что вся эта компания человечков и кинематических устройств создает какой-то эффект гипнотический. Мне, как вам сейчас, частенько приходят в голову в этой комнате всякие несообразности.
— Я всё пытаюсь понять, — сказала Капля, когда ехали мы на троллейбусе домой, — как он перебирается с этажа на этаж? Может, там, сзади, за декорацией, есть что-то вроде лесенок или лифтов?
— Кто перебирается? — спросил я, думая о своем.
— Начальник Всего из тюрьмы в углу.
Ей не приходило в голову, что одинаковых фигурок ее героя было несколько, а я смолчал.
И если с каждым посещением я всё острее чувствовал однообразие, автоматичность, какую-то мертвенность эстетики этих аккуратно сработанных, остроумно сконструированных жакемаров, — ее они очаровывали и завораживали всё сильнее. Пока, наконец, это обольщение не прервалось самым неожиданным образом.
Это он!
Вечер был как вечер, ничто не предвещало, мирно струилась омывающая посуду вода на кухне, лепетал телевизор, шептало свое старое радио, лаял пес соседей слева, снова что-то сверлили соседи справа, по чердаку над нами носились просочившиеся туда по недосмотру (с крыши на крышу) бездомные коты, кричали на улице повадившиеся с залива на городские помойки чайки.
И в эту ткань неизвестной миру очередной городской симфонии Пендерецкого влился звонкий голосок Капли, кричавшей во всю глотку:
— Бабилония! Домодедов! Идите скорее, пока он в телевизоре! Он появился! Он превратился в человека!
— Кто появился? — спросила Нина, появляясь из кухни.
— Кто превратился? — спросил я, возникая из маленькой комнатушки-кладовки, служившей мне кабинетом и мастерской.
— Эн Вэ! Начальник Всего из угловой тюрьмы музея!
С телеэкрана смотрел на нас Энверов. Как следовало из дикторского текста, он и вправду вышел из тюрьмы, где просидел довольно-таки долго за махинации с совершенно фантастическими суммами денег, переводы их на счета (что такое «офшор»? — спросила Нина) в неведомые края: до посадки владел он некими фундаментальными предприятиями, связанными с нефтью.
«Эн Вэ»? Энверов? Не называл ли он сам себя Начальником Всего? В телевизоре звучала совершенно другая фамилия.
— Надо сейчас же ехать в музей! Надо посмотреть, есть ли он в автомате-тюрьме! Теперь автомат не должен работать, потому что он оттуда исчез и стал человеком!
Я объяснил Нине, что такое «тюрьма в углу» (та, в которой сидел настоящий Энверов, вряд ли была угловой), чей главный персонаж, по мнению нашей внучки, походил на героя телесериала последних известий, а Капле, — что я никуда с ней в ближайшую неделю не смогу поехать, у меня срочная работа, я подрабатываю, надо сделать заказ, дней через десять. Перед тем, как Энверов пропал с экрана, я еще раз успел его разглядеть. Он и вправду был похож на жакемара из угла, и это показалось мне забавным.
Пропущенная новая эра
Как выяснилось, человек, которого знал я под фамилией Энверов (я так его и буду называть впредь), был известным лицом, детали его блистательной карьеры, прерванной заключением, его письма из тюрьмы, подробности суда, факты биографии и тому подобное не были новостью ни для кого из моих друзей, знакомых и родственников. Все были в курсе дела, кроме меня.
Так сложилась моя жизнь, что я пропустил целый отрезок времени, объявленную новую эру, и хотя она донимала меня пустыми полками магазинов, безденежьем, запустением, всплесками уголовщины, касавшимися моих друзей и родственников, большинство деталей ее и свойств прошли мимо меня. Ужасающее дорожное происшествие, чуть было не отнявшее у меня жену, страшные травмы Нины, ее балансирование между жизнью и смертью, все испытания, выпавшие на нашу долю в связи с этим, включая рождение детей, воспитание их, уход за ними, — в то время как матушка их была так слаба и сама нуждалась в помощи, восстановлении и уходе, работа на нескольких фронтах, которые только на житейском языке назывались «халтурами», я всякое дело делал старательно и честно, изо всех сил по врожденной привычке, то, что в сутках 24 часа, — всё, вместе взятое, обвело меня какой-то, не понятной тем, кто так не жил, стеною. Бритоголовые разбухшие существа без затылков с золотыми цепями на шеях, ваучеры, монетизация власти при помощи «приватизации», легализация тюремной этики, омывали остров обитания моего, где я боролся за жизнь любимых моих.
Я пропустил блистательные биографии вышедших на сцену новоиспеченных хозяев жизни, новых певцов, новые песни, дебаты, горы болтовни, всплеск газетных откровений, статьи о покушениях и убийствах, моду на цветные пиджаки и кожаные куртки.
— Вы на редкость аполитичный человек, Дорофеев, — сказала мне одна из активисток нашего конструкторского бюро.
Да хоть горшком назови, только в печь не станови. Хотя спал я, подобно одному из отроков Эфесских, именно в печи пропущенной мною эпохи, объявленной во всеуслышанье новой эрою вездесущими журналистами. И два ее порождения, севшие за руль (жулики? холуи жуликов? у меня лично денег на машину не было, поскольку я был обычный честный человек), — хотя им, видимо, и самоката нельзя было доверить, — столкнувшись, чуть было не отправили всю мою жизнь в тартарары, потому что моя любимая жена, переходившая улицу по зеленому свету светофора, оказалась между ними.
К тому же, большинство актеров, разыгрывавших долгую пьесу тех лет, особым талантом не отличались, о драматургах и тавматургах вообще молчу; а я, знаете ли, театрал, завсегдатай, душа партера, вздох с галерки, видал великих артистов, их и предпочитаю.
Даже Нина слышала (и читала) настоящую фамилию Энверова и в общих чертах представляла себе его, так сказать, жизненный путь; но ей никогда не попадались его фотографии, мы не выписывали газет, экономили и на этом, старый наш телевизор давно погас и свалил на помойку, нового нам было не купить; я был счастлив, что компьютер у меня имеется. Что до подробностей существования самоновейших, как их нынче называли, «олигархов» (а Лесков говаривал «вор-новотор»), то они мне были как-то ни к чему. Только иногда, очень редко, мелькало в сознании моем что-нибудь по их поводу, например: «Есть ли у новых миллионеров и миллиардеров общак?» И тотчас улетучилось, мелькнув.
Капля изучает образ НВ
— Как?! — воскликнула она. — И ты, Бабилония, и Домодедов встречали НВ в молодости? Он тогда еще не был в тюрьме?
— Тогда еще не был, — отвечала Нина.
Она имела в виду натуральную тюрьму, а Капля — игрушечную.
— Так он превращается туда и обратно?! Домодедов, когда мы поедем в музей? Как ты думаешь, господин Сяо в курсе, что вытворяет один из его подопечных жакемаров?
— Поедем дней через пять.
— Как долго ждать!
Она завела общую тетрадочку, в которую выписывала отрывки из газетных статей и интернетных сообщений, связанных с Энверовым. «НВ» выведено было на обложке.
— Что это? — спросила Нина, когда в один из вечеров принес я ей сию тетрадь, благо хозяйка уснула.
— Это досье.
Нина стала листать, читать, вырезки из старых и средней новизны газет (три разных мальчишки приносили Капле пачки разных газет и газетенок-эфемерид, я не мог запомнить, кто Петька, кто Васька, запомнил Эдика, поскольку тот был рыжий), услышанные или почерпнутые из интернета сплетни, записанные аккуратным почерком Капли, фотографии Энверова разных лет. В конце концов жена моя расплакалась.
— Феденька, что нам делать? Что этот чертов мафиози делает в нашем доме? Может, наша внучка с ума сходит из-за первого переходного возраста? Что дальше-то будет?
Что ни дальше, то всё хлеще
И запотряхивало мир, страну за страной, что ни дальше, то всё хлеще. Трясло бывшие республики Советского Союза, дружба народов, запечатленная в фонтане на ВДНХ в виде хоровода золотых женских фигур (одна из красавиц слеплена с натуры, портрет сестры беглеца-каторжанина, автора и любимого моего романа «Дата Туташхиа», с которым, неизвестным и неузнанным, когда-то говорили мы в Свияжске под ночным кустом сирени), оборотилась яростной враждой, войнами, резнею. Трясло то там, то тут, восстания, марши протеста, теракты, взрывы, потасовки, выстрелы на всех широтах и долготах, включая Африку.
— После Чернобыля, — говорил один из друзей моих, чьи коллеги изучали Зону, вот только результаты их исследований были тайны за семью замками, — рехнулись все. В небе таможен нет, тучи плывут, куда хотят, всех полил ласковый атомный дождь, а нас еще и на демонстрацию всех гоняли под дождиком этим. Между прочим, там не только от радиации люди страдали, поплыли все хроники, проявились все предрасположенности, генетические и структурные, которые могли бы в человеке не просыпаться вовсе.
Он был помешан на Чернобыле и отдаленных результатах аварии на АЭС (он говорил: какая авария? катастрофа мирового масштаба), как Капля на Начальника Всего.
— Это он! — кричала Капля. — Он мстит всем за то, что сидел в тюрьме! Он думает, что он граф Монте-Кристо! Он ненавидит всех! Кого подкупает, кого покупает, кого убивает. Он хочет расшатать весь свет и стать председателем Земного шара! Я это знаю. Никто не понимает. Деда, надо бороться со злом. Мы должны его остановить.
— Думаю, что «Графа Монте-Кристо» он не читал, — возражал я. — Читающие люди чаще всего такими не вырастают. Председателем Земного шара был поэт Велимир Хлебников. Второму не бывать.
— Бороться со злом? Остановить? — говорила мне Нина. — Она метит уже и не в правозащитницы, а в террористки. Феденька, что нам делать?
— Успокойся, дорогая. Не плачь. Что-нибудь придумаем. Не худо бы посоветоваться с нашей психиатрессой.
Речь шла о славной докторше, которая очень помогла Нине после травмы.
— Ты думаешь, она больна? И ее пора сажать на психотропы и нейролептики?
— Всё, всё, перестань, не убивайся раньше времени. Сменим тему. Сменим пластинку?
— Пластинку?
— Расскажи мне.
— Про что?
— Про лося. И про «никогда».
Лось и никогда
Наши рассказы друг другу о детстве начинались со слов: «Когда я был маленький» и «когда я была маленькая».
Кроме ее коротенького рассказа про «никогда».
— Наша детдомовская воспитательница, женщина тихая, строгая, могла бы показаться суровой, если бы мы не чувствовали, как она любила нас. Она старалась по всякому поводу поговорить с нами, внушая нам правила жизни. Но одно присловье повторяла она время от времени без повода вовсе: «Никогда не лгите, дети. Кто лжет, тот ворует; кто ворует, тот убивает. Не лгите никогда!»
— Теперь лось.
— Когда я была маленькая, наш детдом во время ремонта переехал на полгода в старую дачу на Карельском перешейке. Воспитательницы и повариха топили изразцовые печи, снега окружали наш временный дом, но в нем было тепло и чисто, хоть бедно и пустовато. Мы не были голодны, но не были и сыты, всегда хотелось чего-нибудь погрызть. Хотя нас не посещали мечты, навязчивые образы сыра, колбасы, котлет, сосисок, возникавшие в начале девяностых у всех и каждого, кроме жуликов и начальства. Однажды ночью я проснулась, может быть, что-то снилось. Может, что-то почуяла. Тихо, бесшумно, чтобы не разбудить всех девочек нашей спальни, проскользнула я к окошку. Полнолунный свет лежал на пушистых снегах, на отороченных белым елях и соснах. И тут я увидела его. Ограды вокруг нашего стоявшего чуть на отшибе от поселка, чуть дальше околицы, дома, не было, то ли ее давно сдали в металлолом, то ли старинные хозяева предпочитали живую изгородь. Он вышел из леса, шел к дому, лось с великолепными рогами, скорее, подросший лосенок. Я уже читала «Серебряное копытце» Бажова, он показался мне героем сказки, я вспомнила, как Серебряное копытце высекал, стукнув ножкою, россыпи драгоценных самоцветов, стояла, завороженная. И тут пришло мне на ум: если, подобно мне, проснется кто-то из взрослых, его поймают, убьют, мы будем есть лосятину и лосиную колбасу. Я решила спасти лося. Тихо, тихо спустилась я со второго этажа по деревянной скрипучей лестнице, ступени были за нас, не скрипнули. У входа висел ватник поварихи, ее огромные валенки, в рукаве ватника старый оренбургский платок. Я оделась, валенки были огромные, у меня ноги сводило от того, что я старалась удержать их на ногах. Отодвинув засов, я вышла в лунный снег. Лось стоял и смотрел на меня. Я не боялась его, хотя была девочка трусоватая, не отчаянная, и он меня не боялся. Я подошла. Он стоял, чудные рога, глаза с ресницами. Я, осмелев, потрогала его, он дался потрогать, не убежал. Я стала толкать его, гнать в лес обратно. Он не хотел уходить, как упрямый ослик. Я сорвала с маленькой ели ветку, стала гнать его, как гонят коров. Наконец, он пошел в лес, в свое царство, обратно. Перед тем, как скрыться в лесу, он остановился, обернулся, смотрел на меня. А потом исчез в лесу. Сердце мое колотилось, я вернулась в спальню залезла под одеяло, я спасла его, спасла, его никто не съест. Утром меня едва добудились. Я никому не рассказала про ночное приключение свое, а в конце ночи стал валить снег, и снега покрыли наши следы, мои и лося, словно их и не было. Я было подумала — уж не приснилось ли мне все это? Но на прогулке увидела я сломанную мною ночью еловую ветку, хворостинку в иголочках, и счастье снова охватило меня. Пока длилась наша зимняя жизнь в покинутом особняке, всякий раз на ночь я вспоминала лося, желала ему счастья и засыпала блаженным сном.
Уезжайте!
— Вот! Вот! — кричала Капля, вбежав и потрясая своей досьеподобной тетрадкою, — вот еще доказательства! В сентябре Начальник Всего собрал на своей загородной вилле заговорщиков-единомышленников, обсудить, как выгнать нескольких президентов, начиная с нашего, чтобы захватить власть. Это пишет один из заговорщиков. Их было пятеро за столом. А осталось трое: одного отравили, другого застрелили среди белой ночи прямо в центре города! Теперь четвертый про всё рассказал, он боится, что и его НВ прикажет прикончить, он в бегах!
Тут швырнул я об пол коробку с чешскими карандашами (разлетелись в разные стороны дротиками) и закричал:
— Да это черт знает что! Раньше ты писала романы, приключения, пираты, сокровища, когда твой китайский император припарковал коня у пещеры волшебника, я душой отдыхал! Ты могла бы сочинять чудесные истории о королевстве жабцов, республике ос, древнеегипетских царствах термитов и мурашей, о перелетах птиц, о жуках-оленях и жуках-носорогах! Так нет! Твои герои — не семья Адамсов или Хогбенов, нет, это мафия, крестный отец, братья-преступники, сестры с гранатами, шурин свата с кодлой и теща-подельница! Нашла чем интересоваться. Мало дерьмовых детективов наснимали киношники по заказу мафии, которая, вишь ли ты, бессмертна! Какая новость: мафиози лгуны, воры, убийцы, мочат всех подряд, своих и чужих, плетут интриги, баламутят, мутят воду, подстрекают к войнам, чтобы было кому сбывать оружие, которое варганят ради денег, или наркотики, убивая толпы людей на всех широтах и долготах! Это давно известно, никакие доказательства тут не нужны! Носишься как курица с яйцом с жакомаром хитрозадым, обокравшим всю страну, чтобы трясти своими нахапанными деньгами, живущим за счет грабежа и лично за мой счет! Я больше этого слушать не желаю!
Капля и Нина смотрели на меня разинув рты. Услышав мои вопли, вышел из угла своего потаенного кот, сидел как статуя, неотрывно глядя на меня. Шапку в охапку, куртка нараспашку (шарф висел как у мафиози), вымелся я из дома, трахнув дверью, французский замок щелкнул наподобие курка.
Уже на улице набрал я номер нашей знакомой психиатрессы и через час сидел у нее в кабинете при новомодной получастной поликлинике, где консультировала она всех желающих с поехавшей крышей. Со стен строго и с сожалением смотрели на меня столпы психиатрии, все незнакомцы, кроме Юнга, которого знал я в лицо.
Она слушала меня спокойно, у нее таких рассказчиков на дню сиживало человек по пять не один год. В какую-то минуту мне показалось — она и ко мне присматривается, не сыпануть ли мне в кулак вместо семечек каких-нибудь транквилизаторов таблетированных и не плеснуть ли в стакан граненый брома либо валерьяночки.
— Прежде всего, успокойтесь. У девочки вот-вот начнется первый переходный возраст, он у среднестатистического ребенка наступает около десяти лет. Она, конечно, скучает без родителей, совершенно неосознанно, ее воспитывают дедушка с бабушкой, она одновременно под большой опекой и преувеличенным вниманием — и чувствует себя младше, чем есть, и отчасти лишенной самостоятельности. Плюс компьютер, нагрузка на глаза, врожденная повышенная эмоциональность... Где у вас дача? Какое там окружение?
Я сказал, где. Три часа на машине, телевизора нет, интернета нет, мобильник не работает, — только на холме у моста в двух километрах точка есть, мне одному известная. Иногда к деду-соседу внук приезжает, иногда художники с детьми. Медвежий угол, полузаброшенное село.
— Замечательно! — воскликнула она. — Вот и уезжайте. Прямо на днях. Она ведь отличница? Отпустят пораньше, до начала лета. А мы ей справочку напишем. Что вы так вздрагиваете? Не про психиатрические отклонения справочку, докторов знакомых полно. Слабые легкие, сотрясение спинного мозга после травмы: придумаем что-нибудь. За справкой заедете послезавтра. Надо сменить обстановку. Коренным образом. А осенью посмотрим. Думаю, всё наладится.
Юнг смотрел мне вслед. И вдруг на улице вспомнился мне один эпизод из Свияжских рассказов, промелькнувший в разговоре вне рамок семинара. Речь шла о девушке из России, почти подростке, привезенной в Швейцарию на лечение; истерия? Шизофрения? Юнг лечил ее, у них начался роман, она вылечилась... Ее звали Сабина.
Кот падчерицы. Воспоминание о Сабине
Я приходил к ней на Гаванскую. Из покоев выползал кот, подобранный на кладбище.
Борис ВанталовИз подзабытого растворенного времени семинаров Свияжска выплыла сценка, разговор на берегу неподалеку от косы Тартари. Хотя, возможно, память подводила меня, — все просто вышли в перерыве между сообщениями передохнуть, перекусить, посидеть на солнышке; а где сидели? на завалинке? На скамье, на который некогда сиживал Иван Грозный? И почему вдруг всплыла фамилия Троцкого? Впрочем, она тут так и плавала в воздухе с незапамятного года его блистательного появления здесь, вот явился, не запылился, чтобы открыть столетие расстрелов, произнести речь с балкона, поставить памятник Иуде, тотчас же унесенный одной из рек.
— Троцкий увлекался психоанализом и покровительствовал психоаналитикам, — сказал Филиалов.
Энверов тотчас уши навострил и пересел поближе. Все, что касалось Троцкого и Гурджиева, вызывало в нем живейший интерес.
— Да с чего вы взяли?
— Мне это рассказал кот падчерицы Сабины Шпильрейн. Одному из своих гостей падчерица эта, известная ленинградская переводчица из Санкт-Петербурга (к тому же еще и однофамилица крупного чиновника армейского политотдела, за что советские издательства ее жаловали и уважали), сказала, что кота подобрала на кладбище. Не знаю, не вкралась ли тут ошибка. Мне рассказывали, что последний кот падчерицы Сабины был дареный, а никакой не кладбищенский. С которым общался я, когда был в доме в гостях? Может, с предпоследним? Или кот был точной копией увиденного хозяйкой на одном из кладбищ, петербургском или ростовском? Короче говоря, кот мурлыкал, передавал на кратчайшем расстоянии мысли, истории, эпизоды жизни, чувства и тому подобное. Хотя я не исключаю, что даритель дареного кота подобрал его именно на кладбище (возможно, на Смоленском).
Молоденькую ростовчанку Сабину Шпильрейн, полу-девушку, полу-ребенка, то ли истеричку, то ли шизофреничку, привозят лечить в Швейцарию, первые попытки вылечить ее неудачны, она попадает в цюрихскую клинику Бургхёльцли, где ее начинает лечить Юнг, применяющий метод психоанализа, уговоры, разборы полетов, гипноз и т. д., лекарств для «малой психиатрии» тогда не существовало. Она становится его любовницей, ее роман с женатым, обремененным семьей Юнгом длится 7 лет. Зигмунд Фрейд в одном из писем сделает Юнгу внушение: как можно крутить роман с пациенткой? Они напоминают карикатуру на трио из пьесы Шоу «Пигмалион»: Юнг — профессор Хиггинс, Фрейд — полковник Пикеринг, Сабина Шпильрейн — Элиза Дулитл. В пьесе Элиза говорит Хиггинсу, что изучила его метод досконально и теперь будет обучать желающих английскому языку так, как учил ее он (Хиггинс возмущается). Сабина вылечивается, заканчивает Цюрихский университет, становится известным психоаналитиком. Она работает в Вене, в Берлине, в Женеве, в Лозанне, ее статьями и диссертации восхищаются Юнг, коллеги и сам Фрейд, ее влияние испытывают Пиаже и Выготский. Она выходит замуж за ростовского врача Павла Шефтеля (которого встретила в Вене), рожает дочь Ренату, уезжает в Ростов, но через год супруги расходятся (не разводясь, на время). В списке городов, где с успехом практикует Сабина, есть и Москва: она научный сотрудник нескольких психоаналитических кафедр. И фантастического детского дома-лаборатории «Международная солидарность» для детей высокопоставленных чиновников (среди ее воспитанников Василий Сталин и сын Отто Шмидта). Это психоаналитическое гнездо расположено было на углу Малой Никитской и Спиридоновской в особняке Рябушинского и так же, как Институт психоанализа, находится под патронатом Троцкого. «Вечно возбужденный» Троцкий мечтает с помощью психоанализа создать «нового человека». Воспитанникам «Международной солидарности» преподают азы сексуальной жизни с детсадовского возраста, приучая их к свободе и удовольствиям, раскрепощая их и т. п.
Потом Троцкий попадает в опалу, эмигрирует, Институт психоанализа закрыт, «Международная солидарность» тоже (особняк Рябушинского поделен пополам между Горьким и Алексеем Толстым). Сабина узнает, что в Ростове у ее мужа появилась невенчанная русская красавица-жена Рената, родившая ему незаконнорожденную дочь Нину (нашу будущую переводчицу), она уезжает из Москвы, семья восстанавливаются, но после того, как у Ренаты рождается вторая девочка, Ева, двоеженец Шефтель скоропостижно умирает, а его жены умудряются подружиться.
— Так что, — уточнил Филиалов, — наша Нина С. формально не совсем падчерица Сабины, но дочери Сабины («мачехины дочки») — Нинины единокровные сестры, а в нашем языке нет слова, определяющего родство бесчисленных детей бесчисленных жен; ну, дети — братья и сестры; а кем пятому сыну приходится третья жена? было ли такое слово в культурах с многоженством? В Древнем Китае, например? Так пусть уж будет падчерица, так нам понятно.
Начинается война, немцы подходят к Ростову, и тут женщины разделяются: мать Нины С. уезжает, эвакуируется вместе с Ниной, а Сабина с Евой и Ренатой остается в Ростове, она ждет немцев, это культурная нация, говорит она, бояться нам нечего. Скрипач Давид Ойстрах, некогда услышавший игру на скрипке младшей, Евы, говорит: у нее талант, ее ждет большое будущее. Рената играет на виолончели. Сабина мечтала родить Юнгу Зигфрида, но зигфридов нарожали другим другие.
Когда зигфриды входят в Ростов, они сгоняют 15000 евреев в Змиёвскую балку и расстреливают их. В числе прочих — Еву, Ренату и Сабину, которая к тому моменту перестала быть любовницей Юнга, любимицей Фрейда, известным психоаналитиком Европы, а стала беспомощной старухой ненужной национальности.
— Для полноты абсурда, — сказал задумчиво Времеонов, — не хватало бы только того, чтобы кто-то из палачей в детстве, когда у нас была дружба с III интернационалом (а далее, к слову, с гитлеровской Германией), воспитывался бы в «Международной солидарности», сексуально раскрепощенный, без комплексов и культурных табу новый человек.
— Должно быть, вашей переводчице снилась время от времени гибель сестер, — сказала Тамила. — Недаром у нее оказался кот, подобранный на Смоленском. Весь подземный мир земли связан там, в глубине, артериями скрытых рек. И черными ручьями, вежами, связаны все кладбища всех городов и стран, по ним мертвые передают свои мысли и чувства друг другу.
— Прекрати, — сказал ей Энверов, — пошли отсюда.
Он взял ее под локоток, увел к ночному речному берегу.
— Какие фантастические ужасы, — сказал Времеонов. — Хотя... Стикс и Ахерон... реки царства мертвых...
— Я лично ей верю, — сказал один из тамилиных дизайнерских пажей, в тот вечер слегка подвыпивший. — Она должна знать толк в кладбищах и шепотках из-под земли, недаром ее любовные свидания с гансиком комсомольским всегда проходят на косе Тартари, а коса-то на скелетах стоит, как коралловый риф.
Последний визит к господину Сяо
Наврав с три короба классной руководительнице Капли и ей самой, я чувствовал себя не в своей тарелке, врать мне не нравилось, но в роли я удержался. Капля настаивала: перед отъездом мы должны съездить в музей кинематических игрушек. Она была в школе, я поехала для начала один, объяснил кратко ситуацию господину Сяо, он выслушал спокойно.
— Перед тем, как выезжать с внучкой сюда, — сказал он, — наберите меня, чтобы я мог вас встретить как надо.
Что и было сделано.
Я уже знал, что в прошлый раз Капля ухитрилась открыть витрину и отломать маленькую фигурку Начальника Всего, стоящую на улице. Она прятала ее в коробке из-под леденцов. Мне было неудобно признаваться господину Сяо в ее воровстве, но он только улыбнулся:
— У меня есть запасные фигурки, да и мастер-наладчик в любой момент сделает еще одну. Это детская фантазия — бегающий по этажам человечек. На самом деле их шесть, для каждой сценки свой.
У входа нас с Каплей встречал электрический монстр, старичок с моноклем в глазу (стекло увеличивало вытаращенное око), нимб голубоватый электрический искрился за его лысой головою, от пальца к пальцу шла вольтова дуга, низкий голос пел: «Томас Альва Эдисон, Томас Альва Эдисон».
— Деда, деда! — зазвенел голосок Капли из дальнего левого угла. — Иди скорее!
Тюрьма Начальника Всего была зачехлена, укрыта огромным брезентовом мешком, на котором висела табличка: «Автомат временно не работает». Как я был благодарен господину Сяо в эту минуту!
Когда мы уходили, он поклонился нам на какой-то старинный китайский лад, я ответил полупоклоном, Капля сделала книксен.
— До осени! — сказала она.
— До осени, — сказал и я.
Глянул на меня господин Сяо.
— Удачи вам во всех начинаниях ваших.
В троллейбусе Капля сказала:
— Он тоже должен был ответить: «До осени».
Котовский и магия
В предотъездной суете коту нашему удалось осуществить, наконец, свое давным-давно вымечтанное намерение.
Кота нашего звали Котовский, имя-отчество — Кот Котович. Котенком и молодым котиком-подростком не желал он откликаться ни на одну кличку, ухом не вел, игнорировал, даже отворачивался, рыло, так сказать, воротил, — откликался только на слово «кот». Ну, мы и назвали его по полной программе.
Отследив недреманным ястребиным оком туманный стеклянный шарик из заповедного кинематического автомата, Котовский вскочил на край бюро, сшиб лапой шарик, погнал его к цели, Нина только вскрикнуть успела, а уж кот, паршивец, точным ударом загнал шарик в лузу дыры, единственной дыры в полу, незаделанному хвостику щели на порожке кухни, с которой он предварительно неусыпными трудами отодрал краешек линолеума. Шарик пополнил мышиные сокровища, некогда описанные Каплей в одном из первых романов ее, стал главным сокровищем Мышиного Короля. Котовский сидел, жмурясь, покачиваясь от счастья. Он даже не протестовал, когда его загнали в переноску и понесли наподобие саквояжа в джип, на котором друг мой перевозил нас на дачу. На сей раз животное молчало всю дорогу, ни одного вопля-подвыва, видимо, счастье расправы с шариком переполняло его.
Изба наша всегда отсыревала за зиму, надо было протопить печи, открыв настежь окна и двери. Сосед, дед Онисифор, двоюродный дядя привезшего нас друга моего, к нашему приезду подмел дорожки у нашего дома; так мы и заселились в летнюю жизнь раньше лета.
Художники были на месте, пришли с этюдов, поприветствовали нас. Дачники из Москвы не ожидались в это лето, отправились на какие-то теплые острова в океане показать детям пальмы.
Кот ел траву у дома, валялся в старой Каплиной песочнице на солнышке. В сенцах Нина постелила его коврик, на котором он и лежал, когда мы вечером пошли спать. Кошачий леток в нижней части входной двери — я гордился своим дизайном, дверца открывалась и туда, и сюда, распахивалась на вход и на выход, смотря с какой стороны головой животное его боднет.
Первые три дня по приезде мы настраивали сельскую жизнь свою, пожитки стояли запакованные, сумки, чемоданы, узлы, старый баул, манатки, причиндалы, мунгурки.
В первую ночь на новом месте Котовский неожиданно решил пометить помещение. И вместо того, чтобы выйти во двор, осквернил он один из пакетиков, оставленных на полу в сенях, где поутру встретила нас волна тропического благоухания кошачьей мочи.
Но выбрал он не приоткрытую сумку с одеждой, не связки газет и картонок на растопку (по счастью), а сверточек, привезенный Каплей: связку маленьких ярких книжек. Она чуть не расплакалась с досады, а я, прочитав названия и увидев картинки на обложках, тайно возрадовался. То были не виденные мной в городе пособия по магии: «Как сделать куклу вуду», «Что такое гри-гри», «Гаитянские зомби», «Инициальная и имитативная магия» и тому подобное. Мы отнесли всю библиотечку маркобесную, завернув ее в полиэтиленовые пакеты, в мешки с мусором, которые друг мой, собиравшийся в середине дня в город обратно, традиционно вывозил на городские помойки, чтобы не утруждать трудностями с мусором деда Онисифора.
Капля шлепнула Котовского по заду, тут удрал, обиженный, обходить деревеньку, вернулся к ночи, грызть свои кошачьи сухарики, пил молоко, умывался с невинным довольным видом.
— Только попробуй осквернить нашу растопку, — сказал я ему, — выгоню в лес, дикие звери сожрут.
Котовский терся о ноги, польщенный вниманием.
Я сунул его башкою в его леток, туда и обратно. Да он и так помнил, как входить и выходить.
— Магию не любишь? — сказал я ему. — Я тоже не люблю.
Капля устала, уснула рано, мы сидели на нашей веранде с горсточку, пили чай.
— Можешь себе представить, — мы почти шептались, чтобы девочку не разбудить, — она целую подборку книжонок про прикладную магию приволокла. Инструкции, как правильно сделать куклу вуду, тыкать в нее иголки и врага на расстоянии извести. А Котовский ее учебники оккультные осквернил и тем уничтожил. За это я ему особо благодарен, благородному животному. Как в город поеду, ему его хека любимого или минтая привезу.
— Моя подруга Л., — отшепталась Нина, — помнишь, та, которая увлекается поисками геопатических излучений...
— Что такое геопатическое излучение?
— Не помнишь? Она говорит — когда под землей пересекаются две подземных реки или ручья, даже если они на разных высотах, в перекрестье возникает вертикальное излучение определенных характеристик. Оно не опасно. Если над точкой пересечения стоит дом, вертикаль идет до крыши и далее, сколько бы этажей в доме не было. Но человек не должен в зоне такой вертикали ставить кровать, он будет плохо засыпать и не отдохнет за ночь. А кошки прекрасно себя чувствуют в местах геопатических излучений и норовят спать именно там. Может, от книжек про магию тоже идет какое-нибудь излучение, и Котовский его почуял?
— И осквернил кошачьей мочой? Нелогично.
— Почему? Они так помечают пространство: дескать, мое. Не осквернил, а тавро поставил.
— Ладно, — сказал я, — давай спать. Ты такая же фантазерка, как твоя внучка. Но если она так же упряма в квадрате, как ты и я, она будет шить или лепить из глины своих убойных куколок по памяти, — согласись это все же лучше, чем по инструкции. Перепутает, дофантазирует. Может, ветер и дождь будут за нас и развеют этот ее заскок как дурной сон.
— Как сон, как утренний туман.
Кот ширкнул своей дверкой, ушел во двор проверять тьму, мышей, ушанов, наличие собратьев.
Леонтьев
Я пришел на эту землю,
чтобы делать хорошо.
Я пришел на эту землю,
чтобы делать всем ништяк.
Василий Уриевский, авторская песняУтро было ясное, тихое.
— Ты куда, Федор? — спросил дед Онисифор, положив локти на свой заборчик.
— К Леонтьеву.
— Подожди, я с тобой пойду.
Почему-то дверь леонтьевской избы закрыта была на ключ, дед стал ее открывать.
— А хозяин где? В город уехал городское жилище навестить?
— Нету хозяина. Осенью утонул.
— Как утонул?!
— Не видал никто. Поплыл на лодке то ли к приятелю в Большое Сельцо, то ли на рыбалку. Лодка, ты знаешь, у Леонтьева была с течью, давно мог починить, а специально не чинил, чудил, это, говорил, мое дзен, белое пятно, и как чуть-чуть набираться начинает, вычерпываю, набирается медленно, я, говорил, пока отчерпаю, в действительность и в полное бдение сознания прихожу; мне, говорил, так плыть в удовольствие, а при моих приступах задумчивости прямая необходимость. Никто не знает, как вышло. Бутылка-то заповедная с буфета пропала, может, с собой взял, выпил, заснул, может, с сердцем плохо стало, хотя он, вроде, не болел. Затонул вместе с лодкой. Через пять дней нашли. Водолазов милиция вызывала. Бывают в жизни вещи непонятные. Вроде особой загадки нет, а понять никак.
Мы вошли.
— Художники говорят, — один из их друзей дом бы купил, переехал бы; да у кого покупать? а переезжать, говорят, пока рано, пусть дом без хозяина в трауре год отстоит. Вот хожу, прибираю, проветриваю. Маринка приходит на крылечке и на своем чурбаке-постаменте лежать.
Слева от входа стояли колонны, антики. Первую колонну притащил Леонтьев из усадьбы, где служила она подставкою то ли для вазы с цветами, то ли для небольшой статуи. Коринфский верх с площадкою был попорчен, он добавил своих листьев, площадку сделал с кашпо или цветочным горшком, раскрасил верх с листьями от еле заметного разбеленного зеленого, до яркого под кашпо, настоящие листья и цветы смешивались с искусственными, колонна, самая высокая, чуть выше человеческого роста, считалась самой главной. Ее соседка, пониже, скромней, увенчана была смешной женской фигуркой, держащей в руках цветочный горшок, туда можно было поставить букет или горшечное растение; жена Леонтьева очень любила именно эту колонну и говорила, что садовница-малютка похожа на нее. Еще пара колонн, ионическая и дорийская, заканчивались подставками, на которые ставились ушаты или тазики с рассадою. Между колоннами хозяева сеяли овес или сажали прибрежные травы-метелки; перед травой стоял чурбанчик широчайшего векового дерева, на котором любила спать маленькая тихая леонтьевская кошка Маринка.
Когда Леонтьев овдовел, он хотел жене на могилу поставить колонну с малышкой-садовницей, уже и договорился, что из большого села за мостом, где на окраине и находилось кладбище, приедет друг на телеге (сам Леонтьев был безлошадный), отвезут, поставят; да раздумал, говорил: «Нет, не годится, языческий символ греко-римский, крест своей барочке сделаю». Почему-то жену свою звал он «барочка моя», дед Онисифор сказал — у нее девичья фамилия была то ли Баркова, то ли Баринова.
В моем первом конструкторском бюро один из инженеров звал жену свою «божочек мой», я все дивился, а выяснилось — девичья фамилия ее была Божок.
Поставил Леонтьев на могиле жены сделанный им за зиму редкой красоты крест, а в изножии креста маленький замок птичий, узкая двускатная крыша, под которой жила фотография. Вокруг креста с замком посадил ландыши.
За грядками, за кустом сирени, в дальнем левом углу красовались башни деревянные (вот те были повыше колонн) из серебристого сушняка, некрашеные: Эйфелева, Пизанская, Татлина и Леонтьева.
— Пизанская у художников сейчас. Они еще при Леонтьеве к себе на время унесли скрепы смотреть.
— Просто их должно быть не четыре, а три; их и есть три.
— Мне кажется, он хотел пять поставить, непостроенную колокольню питерского Смольного собора, у него было фото макета, да не успел.
Все серебристые деревянные столпы арт-объекты, скульптуры, стоявшие у двух дорог, задуманные и изготовленные художниками дядей Петей и дядей Пашей (моложе дяди Пети в два раза) вместе с Леонтьевым и появились-то на свет именно из-за этих четырех башен, не моделей, не макетов, не игрушек, образов воплощенных.
Что касается фигур, то и они появились благодаря двум любимым героям Леонтьева: чучелу и снеговику. Впервые художники приехали зимой, и, увидев трех снеговиков, налепили еще штук шесть, а потом Леонтьев, развеселившись, еще три поставив, сказал: «Летом приезжайте, вдарим по чучелам». Что и было исполнено. Художники и Леонтьев, рукоделы и фантазеры, прямо-таки нашли друг друга.
За колоннами, между ними и сараем, стояло несколько шестов, нет, все-таки большие столпы просек были помесью колонн и шестов. На деревянные шесты-вешки вдоль зимних троп и дорог Леонтьев стал сажать деревянных птиц: сову, ворона, сокола, птицу просто; некоторые сидели, раскинув крылья, то ли только что сели, то ли взлетали. В заросшем крапивой саду уехавших в город Дометовых хотел он поставить посередке крапивного леса шесток с крапивником. Они спорили с дедом Онисифором — ухаживать ли за участком дометовским, увеличив площадь своих грядок и картофельных прямоугольников за его счет; крапива, говорил Леонтьев, скоро окажется в Красной книге, да и нужна, и от простуды сушим, и для кроветворения, и от прострела хлещемся, давай, оставим как есть. И оставили как есть, соблюдали только тропку к крыльцу, да финскую розу у дома, чтобы нежитью не пахло. А до шеста с крапивником все руки не доходили.
— Все-таки спивался он мало-помалу, — сказал дед Онисифор, — побеждал его зеленый змий. При жене лучше держался. Давно ведь началось-то.
Тут вспомнилось мне, как встретил я свою однокурсницу с возлюбленным ее, высоким красавцем, перманентно пьющим, очень одаренным художником. Он пошел в картофельный ряд рынка, она остановилась со мной поболтать.
— Что ж ты такая мрачная, — спросил я. — Генрих твой сейчас в порядке, трезвый, тихий, не пьет.
— Это по-твоему он не пьет, — возразила она. — А по-моему он силы копит, чтобы в запой впасть.
Не раз потом мне на ум приходило это ее «силы копит».
Перерывы между леонтьевскими запоями были большие, за лето мы его пьяным большей частью не видели. Кроме одного раза. Я шел мимо его дома с этюда, калитка нараспашку, что-то темное ворохается во дворе, точно забредший зверь. Леонтьев подымался, земля вертелась, его снова клонило к ней притяжением адова магнита, он падал, опять пытался встать, вставал, падал, на четвереньках добрался до полной дождевой воды бочки под водостоком, цепляясь за бочку, встал, макал голову в воду, весь заплескался, упал с разворотом, его заклинило между бочкой и домом и он моментально уснул, бледный, в неудобной позе с вывернутыми руками и ногами. Вода стекала по лицу, лила за шиворот с волос. Дед Онисифор смотрел из-за забора.
— Давайте его в дом затащим, уложим, — предложил я.
— Даже и не думай, — сказал дед. — Еще забуянит или приступ судорожный с ним станется. Пусть спит. Через час встанет, пойдет, в кровать завалится и проспится. Иди уже, только калитку притвори.
Через час, крадучись, пошел я дедовы слова проверить. Никого на участке, одинокая бочка, в доме тишина, на крылечке спит маленькая кощонка Маринка, возле крыльца дремлет приходящий пес Свободный: сторожит сон хозяина.
Назавтра увидел я Леонтьева преувеличенно аккуратным, выбритым, собранным, разве что молчаливей обычного, — и сделал вид, что ничего не было.
С первого знакомства, с первого лета, я узнал, что Леонтьев пишет, у него издаются рассказы и повести, в город он ездит в издательства, и в Союзе писателей состоит, где смотрят на него, писателя из народа, как на самородка. «Как на чудище трехглавое», — сказал он мне тогда. Критики сравнивали его героев с персонажами Зощенко и Шукшина. Пил ли он, когда ездил в город? Я не знаю. Если поездка совпадала с загадочным и невычислимым циклом запоя, думаю, да. Если не совпадала — являлся тихим, каким увидел я его после сцены около бочки, сверхаккуратным, преувеличенно корректным.
В доме было как всегда прибрано, вещей немного, минималистский интерьер с принесенными тремя предметами иного стиля, всё из той же, в итоге спаленной, усадьбы: резное кресло модерн под готику с высокой спинкою, буфет с зеркалом, застекленный книжный шкаф.
— Вот тут, наверху, на буфете, на уголочке, заповедная бутылка и стояла, — подал голос дед. — Я все удивлялся: что это он в сельпо за три километра за водкой выдвигается, когда у него вон на буфете своя пол-литра есть? Он говорил: особое зелье, плохой человек подарил, пусть стоит. А как утонул он, зашли мы с художниками, сразу я приметил: нет бутылки-то.
— Может, паленая была водка? — предположил я. — И он отравился?
— Какая водка? Коньяк стоял. Коньяка паленого не бывает.
В лесах
— Феденька, она взяла у меня тряпочек и нитку с иголкой.
— Вот и хорошо.
— Ничего хорошего. Она шьет эту чертову куклу для черной магии.
Капля возилась с шитьем, Нина с обедом, я с картофельным полем.
— Пойду погуляю, — сказала Нина. — Посмотри за ней.
Я видел: Нина пошла к просеке.
— Капля, — сказал я, — помоги деду Онисифору с рассадой, пожалуйста, а я пойду за Бабилонией присмотрю, чтобы не заплутала.
Я и вправду не любил, когда она уходила одна.
— Ладно, — сказала Капля, откладывая свою чертову куклу.
Я шел за Ниной леском, крадучись, чтобы она не видела меня. Я знал, куда она идет: к маленькой церкви, которую восстанавливали дед Онисифор и Леонтьев с художниками.
Аккуратные строительные леса обводили церквушку снаружи и изнутри, внутри полы были застелены пленкой, газетами, по центру лежали мостки из досок, — уже не руины, еще не храм.
Нина вошла, я остался, незамеченный ею, у входа.
Я хорошо слышал ее голос.
Она легла на доски, глядела вверх, где с купола — единственное полностью расчищенное и отреставрированное изображение — смотрел на нее Христос.
— Господи, — говорила Нина, — извини, что я молюсь Тебе так, лежа, но так я вижу Тебя, а голову наверх мне не поднять, голова у меня закружится, могу упасть, что если расшибусь, кто же будет хозяйство вести. Прости, я такая, и молиться я не умею, так жизнь сложилась, хотелось бы, чтобы сложилась иначе, но все таково, как есть. Господи, спаси и сохрани нашу маленькую внучку Капитолину, должно быть, мы неправильно воспитывали ее, мы говорили ей о добре и зле, но неточные были наши человеческие слова, и вот теперь она хочет бороться со злом самым прямым образом, она хочет уничтожить злодея при помощи колдовства и тем спасти мир. Она не понимает, что это тоже мечта об убийстве, и что будет с ее маленькой душою, если она утвердится в сегодняшних мыслях своих. Господи, спаси ее и сохрани, Тебе лучше знать, как это сделать, потому что мы не знаем, придумать не можем, и молюсь я Тебе: будь милосерден к маленькой девочке, отведи от нее всякую мысль о колдовстве, пошли ей ангела-хранителя, отвоюй ее воинством ангелов своих, проведи путями Провидения Своего, не дай пропасть, аминь.
И пока она вставала, я дунул рысцой к дому через лесок, чтобы она не заметила меня и не узнала, что я ее услышал. Я успел усесться на крылечко и кое-как перевести дыхание, когда Нина вошла в калитку, а вслед за ней Капля, воскликнувшая:
— Мы сажали с дедом Онисифором рассаду! и семена! и огурцы в приямки со стеклышками, как в маленькие парнички! и лук-севок! Вот у меня мешочек с луком, можно я его посажу? Бабилония, ты уходила? Где ты была?
И отвечала Нина:
— В лесах.
Она улыбалась своей нынешней нежной косой улыбкою, почти такой, как в молодости, когда свел нас с ней до конца дней островной град Свияжск.
Неудачный день
Друг мой, родственник деда Онисифора, привез ему припасы, загрузил в багажник мешки с мусором, который отвозил на городскую помойку, переночевал и утром повез меня в город, где должен был я кое-что выяснить в Публичке к очередной своей халтуре, получить пенсию, проветрить квартиру, и к вечеру с ним вместе вернуться в нашу деревеньку, куда, встретив в аэропорту племянника, отвезти собирался он его к деду Онисифору на месяц.
Перед отъездом успел я спереть у Капли маленькую коробочку из-под монпансье, где хранила она украденную фигурку Начальника Всего (она собиралась ее зашить в свою неподобную колдовскую куклешку). Мы теперь, я, в частности, врали и воровали. Я положил в коробочку камешки, заклеил ее скотчем, когда подъехали мы к мосту перед большим селом, попросил остановить джип, да и шваркнул коробочку с моста в воду.
Друг высадил меня у Публички, в журнальном зале и в зале эстампов нашел я всё, что мне надо было, но занесла меня нечистая сила в интернет-кафе Лавки Крылова, и тут заплескались вокруг меня недобрые волны.
То ли рассказывавший про Сабину Шпильрейн человек обмолвился, спутав Львов и Ростов, то ли моя память меня подводила, я путал эти два несхожих города, и решил уточнить, где именно жила она с дочерьми. И я набрал запомнившееся мне название места ее гибели: Змиёвская балка.
Несколько человек под никнеймами переговаривались на страничке. «Вот эти три фамилии, — подавал реплику один из них, — значатся в списке в Змиёвской балке погибших. А мне доподлинно известно, что один из троих погиб в бою, второй в настоящий момент живехонек и проживает в Израиле, а третий умер после войны. Перед нами обычная жидовская манера врать и приписывать, преувеличивая, количество людей, погибших в Холокосте». Остальные собеседники, подхватив тему, талдычили на все лады про соответствующие морды и жидов как таковых.
Хоть меня считали моралистом, я никогда никому не указывал, как ему выражаться, ругаться и обзываться, да хоть матом крой, тебе жить, мне есть кого воспитывать. Но здесь, на краю этого окраинного оврага, заполненного кое-как валявшимися телами беззащитных безоружных людей, женщин, детей, стариков, расстрелянных сытыми молодыми вооруженными до зубов зигфридами, все эти «морды» и «штучки» зазвучали для меня так, что в ушах зазвенело, волна мгновенной ярости ослепила меня.
Я выключился, включил прогноз погоды, отдышался.
Но воспоминания о семинарах дней юности, лета в Свияжске, где встретились мы с любимой моей, уже обвели меня туманом своим, я вспомнил доклад Тамилы, вместо биографий основоположников и их известных всем нам великолепных дизайнерских и архитектурных работ рассказавшей нам об их женах, дочерях, спутницах, — и захотелось мне увидеть тех, о которых я тогда узнал впервые.
Вот два портрета Альмы Малер, Брунгильды, роковой женщины третьего рейха, а вот нежное тихое личико Манон Гропиус. Бакминстер Фуллер с женой, с которой дожили они до глубокой старости и умерли в один день.
Изображение прекрасной мулатки, Черной Жемчужины, Черной Пантеры, Жозефины Беккер, певшей и танцевавшей весь рейс в каюте сухаря Ле Корбюзье (как увлекался я в юности его идеями! его Модулором!). Одежды на ней было всего ничего. Но рядом с ее изображением имелся текст, и дернул меня черт этот текст прочитать. Любвеобильная мулатка (всё тот же феноменальный длинный список, замыкаемый Хемингуэем), кроме бесконечных любовников путалась и с любовницами, по-современному, была бисексуалкой, по-старому двусбруйной; и среди ее нетрадиционной ориентации дам значилась художница Фрида Кало, чьи работы прилагались, чья биография прилагалась, бедняжка, попавшая в страшную аварию, как моя Нина. Работы показались мне тяжелыми, исполненными патологии. Муж, великий монументалист Ривера (как увлекались мы в институте его росписями!), ревновал ее к любовницам, но особенно ревновал ее к Троцкому, в которого была она влюблена, которому посвящен был самый сухой и неприятный ее портрет.
Я совершил еще одну попытку переключиться, глянул на виллу Эйлин Грей на Лазурном берегу, вот эта героиня романов с дамами, наконец-то влюбившаяся в мужика, построила для него чудесный «дом для любви». Но и тут текст подловил меня в сети свои.
Избранник ее Жан Бадовичи тоже оказался нетрадиционной сексуальной ориентации, ну и парочка. «Пропади всё пропадом!» Съехав на соседнюю статью, увидел я два фото Ле Корбюзье, расписывавшего виллу Эйлин Грей («по просьбе Бадовичи») престранными фресками. Корбюзье осквернял белые стены полуэротическими изображениями, позируя перед фотографом в чем мать родила.
Вот тут выключил я ящик и двинулся к выходу, голова слегка кружилась, посетители интернет-кафе, уставившиеся в одну точку, манипулировали иероглифами и иератами посредством мышей своих, мурлыча в свое удовольствие.
Я вымелся на улицу злой и голодный, в пирожковой стояла длинная очередь, в «Север», где последний раз видел я Тамилу с Энверовым, идти не хотелось, я поскакал в скромный буфет Публички, ныне называющейся РНБ. Вид бедно одетых читателей, вкус дешевых сосисок с пюре и чая с лимоном вернул меня в подобие равновесия.
Идя по набережной Фонтанки, весь этот букет патологических пристрастий и фашистских диалогов никак не мог вытряхнуть я из головы. Магазинчик индийский, в котором собирался я купить подарок Нине ко дню рождения, исчез, пропал, вместо него некое кафе зазывало голодных. Любимый книжный, дверь в стене, закрыт был «по техническим причинам».
В сердцах стукнул я кулаком по безвинной гранитной тумбе набережной и в воздух произнес:
— Да что ж это за день-то неудачный такой!
— Что за неудачи преследуют нашего Тодора Божидарова под тихим весенним солнцем? — подал реплику обгоняющий меня слева прохожий.
Передо мной стоял Филиалов.
Лицо его за долгие годы стало морщинистей, мятые брюки штопором завивались вокруг тощих длинных ног, каблуки элегантных пыльных ботинок были выше, чем надо, как у степиста.
Он улыбался.
Сбоку проплывал трагический замок цвета оранжево-розовых перчаток фаворитки императора фрейлины Лопухиной, в котором работала Тамила; впереди справа Alma Mater вздымала стеклянный купол — кунсткамера юности моей.
И я рассказал ему про сегодняшнее свое утро, про свою жизнь, про Каплю, желающую извести Начальника Всего, про тяжелые травмы Нины, словно он ждал моего рассказа, как первый встречный русского дао из неведомого поезда.
— Знаете ли вы, — сказал он, выслушав меня, — что Сабина Шпильрейн теперь вовсе не безвестна, о ней знают все, о ней фильмы снимают, в начале восьмидесятых в Вене был найден ее архив, дневники, письма Юнга.
Я остановился. Остановило меня слово «письма».
— А ведь у нас дома в третьем левом ящике старого бюро лежит письмо Энверова! Может, от него идет какое-то хреново излучение, оно создает фантастическое поле, Капля из-за того на нем и зациклилась?
— Письмо от Энверова? — поднял брови Филиалов. — Вы с ним переписывались? Он вам писал? С чего бы это?
— Он не мне писал, а Тамиле. Тогда, давно.
И я рассказал ему о «Севере», о приходе плачущей Тамилы в дом наш, о моей поездке в зимний Свияжск, о снеговиках, о месте, где лежала левитановская тень облака и где встретился мне с ведром воды монах из будущего монастыря, о том, как родились и выросли наши дети.
— Я как будто обо всем забыл, пока дети учились, росли, пока Капля была маленькая, — сказал я. — А за письмом Тамила так и не пришла.
— Так вы не знаете? — спросил Филиалов.
— Что?
— Тамила погибла много лет назад.
— Как?! — вскричал я. — Не может быть!
— Вы ездили в Свияжск зимой. А она погибла весной.
— Где? Каким образом?
— Здесь, неподалеку. Всё неподалеку. Место ее работы, «Север», куда ходила она в обеденный перерыв и где встречалась — вот об этом я не знал ничего — с Энверовым. И подворотня, из которой она вышла, тоже рядом.
Тамила вышла средь бела дня из подворотни, упала, потеряла сознание. Вызвали «Скорую».
— Она за обедом любила выпить пару рюмочек коньяку.
— Да, я видел, и тогда в «Севере» тоже.
Врач из «Скорой» учуял запах спиртного, решил, что дамочка пьянчужка, вызвал милицию, Тамилу увезли в вытрезвитель, где она, не приходя в сознание, умерла к ночи от тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. «Со знанием дела ее ударили», — сказал Филиалов. Сумочка Тамилы была пуста, ни денег, ни документов. Назавтра новый дежурный нашел в боковом карманчике сумочки визитную карточку директора ВНИИТЭ, отзвонил, выяснилось, где Тамила работала и кто она такая.
— Вы письмо читали?
— Нет, — отвечал я.
— Отдайте его мне.
У меня никакого желания хранить послание Энверова (после стольких лет хранения...) не было.
— Конечно.
— Вы когда уезжаете на дачу?
— Часов через пять друг за мной на машине заедет.
— Через три часа буду у вас. Давайте адрес. Вот мой телефон.
И мы разошлись.
В метро я вдруг вспомнил, что в лето рождения нашего первенца вдруг по всему городу, во дворах, садах, скверах, на бульварах, стали вырубать сирень. Тамила, как знали все, зародилась из сирени, как врубелевская девушка весенней ночи; словно, выкорчевывая, уничтожая сирень, уничтожили ее возможность вернуться, чудом ожить, зародиться снова. Голова кружилась, вот сейчас кондрашка хватит, что девочки мои будут делать? С валидолом в зубах выбрался я из подземки, побрел к дому, ментоловый холодок заставил меня собраться.
Письмо
«Я много раз пытался объяснить тебе, в чем для меня смысл отношений с женщиной, но ты не слушала меня, вечно думая о чем-то своем. Придется изложить всё на бумаге; может быть, читая и перечитывая, ты будешь внимательнее. Да, конечно, очень важна физическая сторона, праздник, который всегда с тобой, исправляющий настроение, создающий веселье в любую сложную минуту, дарованное от природы ни с чем не сравнимое бесплатное удовольствие, одинаковое для богатых и бедных (что несколько унизительно и несправедливо, ты не находишь?), усиливаемое тренировкой с добавками „Камасутры“, а также малыми дозами спиртного, травного, афродизиаковой приправы с таковой же диетою.
Но важен момент выборочности, принадлежности к некоему определенному слою, а в идеальном варианте — и он, и она, и я, и подружка моя, должны принадлежать к высшей расе, высшей касте, никакого плебейства, всё самое лучшее с детства, взрастите дитя на шоколадках, отбивных, фитнесе, пусть плавает, катается на лыжах и коньках, умеет управлять автомобилем и яхтой, охотиться, стрелять и т. д.; для девочки хороша художественная гимнастика (балет слишком преувеличивает поступь и стать, балет перетренировывает, в нем есть нечто рабское). А тебе многое дано от природы, тоненькая талия, округлость ляжек, икр, плеч, легкая танцующая походка, атласная кожа. Веселая полнота жизненных чувств. В нас обоих есть данные принадлежности к высшей касте.
Само собой, люди должны быть с детства безбедные, состоятельные, никакой жалкой позорной нищеты, штопаных чулок и носок, всё в человеке должно быть шикарно, от стрижки до обуви. И у мужчины обязательно должно быть желание власти, вкус к власти над всеми окружающими его существами более низшего порядка. Истинный представитель высшей касты — вернее, хозяин, начальник всего и всех; это тест.
И у меня есть мечта повелевать людьми, чем больше людей, тем лучше, пусть постепенно, наращивая количество толп: предприятием, городом, страной, миром. Власть хороша и явная, и тайная. У меня есть такой набор бутылочек водочных, «12 апостолов», они собраны нижней круглой подставочкой, отделанной серебром, воедино (и общей большой тоже с серебром, пробкой), каждая бутылочка — сегмент, сектор, могут доставаться отдельно или стоять вместе. В каждой своя настройка, свой вид водочки: вишневая, сливовая, рябиновка рыжая, рябиновка черноплодная, лимонная, апельсиновая, мятная, можжевеловая, калгановая, семитравная, анисовая и одна с ядом, помеченная тайно, не скажу, чем. Это моя русская рулетка. Один раз, признаюсь тебе, я ее применил на практике. Ни с чем не сравнимое чувство — знать, что один из твоих собутыльников через 6 часов умрет, а ты в роли Рока.
Во мне есть всё, чтобы повелевать миром. Я изучал разные методики (в том числе гурджиевскую) и практики, и понял науку шахматных виртуальных партий, где на доске стоят живые люди, а ты провидишь много ходов вперед, ты всегда начинаешь и всегда выигрываешь. Я иду к своей цели. И сам я, и моя женщина будут абсолютно свободны в передвижении, в осуществлении своих желаний, поступков, капризов, поездок, да хоть на Марс. Нам будет принадлежать весь свет.
Поэтому нужна не жена, не любовница, не партнерша; мне нужна сообщница. И я выбрал тебя. Ты мне подходишь.
Но я должен тебя предупредить, кроме «12 апостолов», в арсенале моем наборы неопределяемых ядов и неуловимых киллеров. И предательства — любого — я не прощаю. Склонен уничтожить любого и любую, кто встанет у меня на пути, тебя в том числе, тебя тем более. Так что в словах «моя дорогая» для меня важнее «моя», а цена, обозначаемая вторым словом, несущественна. Мы за ценой не постоим.
Ты, наконец, поймешь меня, услышишь, пойдешь со мною, придешь, приедешь, прилетишь, когда позову, где бы я ни был.
И теперь я снова целую тебя всю, готов одеть тебя во все прекрасные побрякушки мира, бриллианты, жемчуга, рубины, изумруды, что там еще? и всегда помни, что твой главный выигрыш, твой главный лунный камень, твой алмаз „Раджа“ неисчислимого числа карат (или каратов?) — это я».
Письмо начиналось словом «я», им же и заканчивалось.
Филиалов читал, стоя у окна, ко мне спиной.
Прочтя, он некоторое время стоял молча, не поворачиваясь. Когда он повернулся, я подивился, как изменилось лицо его, стало маской отчасти, пролепилось, подобралось; некогда замеченное отсутствие бликов в глазах (обязательное даже для персонажей портретистов) неприятно поразило меня.
— Вы сами-то прочли?
— Да, — отвечал я.
Он щелкнул замочками маленького старомодного портфеля, конверт исчез, опущенный в портфельную тьму молниеносным движением фокусника.
— Ваша внучка умная наблюдательная девочка. Просто ей данная тема ни к чему. При случае — не теперь, не сейчас — постарайтесь донести до нее, что со злом должно бороться зло.
— Первый раз слышу, — сказал я.
— Вы вообще человек глубоко невинный, да у вас вся семья такая, таковыми и оставайтесь. Теперь это мое дело. Ваша задача — задержаться на даче подольше, ну, хоть до середины сентября. Я позвоню вам или напишу — сам.
— Да как это — подольше? А школа? Первое сентября? Мы и так, наврав с три короба, уехали раньше.
— Где три короба, там и четыре. Мы вам поспособствуем, в случае чего.
«Что значит „мы“»? — подумал я, чувствуя холодок на загривке.
— Она согласилась танцевать со мной, — сказал Филиалов (с какой, однако, раздельной, великолепной дикцией...), — на одном из пустырей бытия, хотя по сравнению с ее блистательными кавалерами был я существо невнятное, некрасивое, непрезентабельное, в мятых брюках, чтобы не сказать штанах. Не захотела унижать отказом. Как-то упустил я ее из виду. Прощайте. Всё у вас будет хорошо.
Он ушел, и я не видел в окно, куда он пошел, он не появился на единственной дорожке через двор от нашей парадной, словно улетучился или не было его вовсе.
День рождения Нины
Миллион, миллион, миллион алых роз...
Андрей ВознесенскийМы ехали по окраине, пробираясь к выезду из города, к вечернему шоссе. Племянник друга моего Денис сидел на заднем сиденье с большим лохматым существом семейства кошачьих черно-рыже-белого окраса.
— Что же я натворил! — воскликнул я. — Ведь я так и не купил Нине подарок, а отчасти затем и ездил. У нее завтра в среду день рождения.
— Среда сегодня, — дуэтом сказали дядя и племянник.
Друг развернул машину, мы покатили назад, потом вбок:
— Ничего, не тушуйся, тут на выезде из города большой магазинище, там и сувениры, и ювелирка, и цветы, а мы пойдем торт с пирогом искать, встретимся у машины. Ты в силах запомнить, где мы остановились?
— Да я не вовсе рехнулся, — сказал я, — так, поплыл, рассеянный с улицы Бассейной.
— Это что ж такое? — спросили идущие с этюдов, увидев, как вылезаю я из машины с букетом-кустом алых роз.
— У Нины день рождения.
— Через полчаса зайдем поздравить на десять минут.
Зашли с двумя бутылками шампанского, салют пробок, пили шампанское из граненых стаканов, и торт, и пирог ели с бумажных салфеток, как студенты. Дед Онисифор с внуком Денисом принесли аккордеон с гитарой, пели; слова не все были им известны, они вставляли текст собственного сочинения: «Я счастливый дед Пыхто, я счастливый, как никто, я счастливей всех в миру, так счастливым и помру»...
— Я теперь не усну после шампанского, — сказала Нина.
— Я вам Кузю на ночь принесу, — сказал Денис. — Кузя в родстве с лемурами. Дрыхнет волшебным образом, как в сказке про «Спящую красавицу».
— А они с Котовским драться не будут? — спросила Капля.
— Ваш Котовский сам уснет, как загипнотизированный.
Нина перерезала сворку, на которой болталась огромная, страшенная в красотище своей, надутая гелием серебряно-золото-ало-фиолетовая лошадь, и под выкрики и посвист монстр-Пегас воспарил.
Разошлись быстро, звезды светили вовсю, возле розового куста (про миллион алых роз тоже спели) стоял маленький лабрадоровый бычок со стразами глаз.
— У тебя со мной была жизнь такая трудная из-за аварии, — сказала Нина, — и из-за того, что стала я полуинвалидным существом.
— Про тебе, красотка, этого не скажешь, глянь в зеркало.
— И жили мы из-за этого так бедно.
Сон действительно валил с ног, заколдованный сон от одолженной лемурианской кошки. На столе стоял в стакане граненом подарок художников: маленький букет из сухих ветвей, посеребренных и отполированных временем до блеска как заборы и старые избы заброшенных деревень. Он цвел мелкими с ноготок мизинца ребенка бубенчиками, поблескивал каплями росы стеклянных шариков.
Нина подняла упавшую мою куртку, из кармана выпал листок, который вытащил я из ящика вместе с письмом Энверова и машинально сунул в карман.
— Что это?
— Случайно дома подобрал.
Она рассмеялась.
— Да ведь это я в Свияжске записывала текст доклада из «Книжной полки»! Это отрывок из книги сына Ренуара об отце. «Представления Огюста Ренуара о бедности и богатстве».
Ренуар питал отвращение к дешевым вещам. Часы, по его мнению, должны были быть золотыми или серебряными. Он не признавал никель. Белье должно было быть только полотняным. Мать не пользовалась бумажными тряпками, которые оставляют на стаканах белые пылинки. И, напротив, терпеть не мог хрусталя, который считал вульгарным из-за его безупречной чистоты, с удовольствием глядел на бутылки кустарного производства из Вар-сюр-Сен, не одинаковые, из толстого зеленоватого стекла, с отсветами, «богатыми, как волны океана в Бретани». Прилагательное «богатый» он употреблял так же часто, как и противоположное — «бедный». Охотнее Ренуар прибегал к определению «toc» — подделка. Но богатство и бедность для Ренуара означали вовсе не то, что для большинства смертных. С его точки зрения, особняк в Монсо, гордость какого-нибудь миллионера, был всего-навсего «toc». Покосившаяся, набитая детьми в отрепьях хижина на юге была для него «богатой». Однажды он со своим другом обсуждал Рафаэлли, известного живописца того времени, достоинства которого отец признавал с некоторыми оговорками. «Вы должны его любить, — сказал друг, — он писал бедных». «Тут-то и возникают сомнения, — ответил Ренуар, — в живописи нет бедных!» Вот перечень некоторых вещей, относимых им безоговорочно к категории «бедных»: ярко-зеленые, подстриженные английские газоны, белый хлеб, натертые полы, все предметы из каучука; статуи и здания из каррарского мрамора, «пригодного только для кладбищ»; мясо, тушенное на сковороде; соусы с мукой; красители для стряпни; бутафорские камины, выкрашенные черным лаком; нарезанный хлеб (он любил его ломать); фрукты, очищенные ножом со стальным лезвием (он требовал серебряного); бульон, с которого не удален жир; дешевенькое вино в бутылке с красочным ярлыком и громким названием; лакеи, подающие в белых перчатках, чтобы спрятать грязные руки; чехлы, покрывающие мебель, и того более — люстры; щетки для хлебных крошек; книги, резюмирующие писателя или научный вопрос или излагающие историю искусства в нескольких главах, и заодно — иллюстрированные и периодические журналы, тротуары и дома из бетона; асфальт на улицах; литые предметы; простыни с набойкой; центральное отопление, иначе говоря — «ровное тепло»; к этому разряду он относил смешанные вина; предметы серийного производства; готовую одежду; муляжи на потолках и карнизах; проволочные сетки; животных, стандартизованных рациональными методами выведения; людей, стандартизованных обучением и воспитанием. Один посетитель как-то сказал ему: «В таком-то коньяке я больше всего ценю то, что качество одной бутылки совершенно тождественно качеству любой другой. Никаких сюрпризов!» — «Какое удачное определение небытия!» — ответил Ренуар.
Теперь читатель достаточно знает моего отца, чтобы угадать, что ему нравилось, а что нет. Я дополню список перечислением нескольких вещей, которые Ренуар считал «богатыми»: фаросский мрамор, «розовый и без признака меловатости»; жженую кость; бургундские или римские черепицы, обросшие мхом; кожу здоровой женщины или ребенка; предметы из золота; серый хлеб; мясо, поджаренное на дровах или древесном угле; свежие сардины; тротуары, вымощенные плитами; улицы, выложенные слегка синеющим песчаником; золу в камине; вылинявшую одежду рабочих, многократно стиранную и заплатанную, и т. д.
— Я склонен верить Ренуару, дорогая моя, — сказал я. — Не думаю, что мы прожили жизнь в бедности, хотя нам вечно не хватало денег на самые обычные вещи. У нас были свои перечни, свои представления о богатстве — были и есть: наше счастье!
И уснули все.
И снились всем сны.
А над нашими снами, над пространствами весей, дорог, лесов, разрухи, любимых гнезд, путей сообщения, катящих привычно воды свои в загадочных границах берегов рек летела раскрашенная балаганная лошадь, бликовали анилины и самоварное золото лошадиной гривы в лучах луны.
Утром встал я ни свет, ни заря, тихо, тихо, затопил печь, чтобы было тепло, снова лег спать. В окне цвела сирень. Засыпая, подумал: не скажу Нине про Тамилу. Не сегодня. Но и не завтра. Может, вообще никогда.
Дионисий Онисифоров и Доротея Капитолийская
Денис чистил канаву на улице, собирал землю со дна, носил в ведре в дедову компостную кучу, сквозь редкий низкий заборчик видна была ему Капля, занятая шитьем.
— Куклу шьешь?
— Не то чтобы куклу, — отвечала она. — Вольта шью для колдовства.
— Иди ты, — сказал он и ушел с полным ведром.
— Что за вольт? — спросил он, возвращаясь с ведром пустым.
— Гаитянское колдовство вуду. Сшить куклу по инструкции, зашить в нее какую-нибудь деталь твоего врага, пуговицу, прядь волос, ноготь, а потом тыкать в куклу иголки, в сердце, в печень, куда ни попади.
— И что будет?
— И враг помрет.
— В киллера играешь? — спросил он, уходя.
— А что за враг? — спросил он, возвращаясь.
— Один мафиозный интриган. Людей убивает, ворует миллионы, мелкие страны стравливает до малых войн, враньем стравливает большие.
— И ты решила мир спасти?
— Ну.
— Нет слов, — сказал он, наполняя ведро весенней донной грязью со дна канавы.
Из ворота рубашки его выбился крестик на гайтане, блеснул на солнце.
— Ты крещеный? — спросила Капля.
— Да.
— И в Бога веришь?
— Да.
— И в церковь ходишь?
— Да.
Тут он ушел, вернулся и спросил ее:
— Капля — это прозвище?
— Уменьшительное имя, — отвечала она, приосанившись. — Меня зовут Капитолина.
— А фамилия?
— Дорофеева.
— Надо же! Доротея Капитолийская! Ты должна держаться чинно, ходить прямо и жить величественно, а не играться в туземное колдовство.
— Теперь ты свою фамилию скажи.
— Такая же, как у дедушки, Онисифоров.
— У него имя, как фамилия! И имя-то древнее, я его раньше не слыхала.
— В роду, должно быть, много веков назад имя повторялось, отсюда и фамилия пошла.
— Ты, значит, Денис Онисифоров. Тебя зовут как героя 1812 года.
— Это я в паспорте Денис. А в крещении я Дионисий. Не герой двенадцатого года, а великий художник.
— Художника не знаю.
— Мастер Дионисий, автор древних церковных фресок. Как Андрей Рублев.
— Рублева папа любит.
— Мой папа говорит: с таким именем надо держать ухо востро и жить достойно.
— А мама что говорит?
— А мама говорит: вы, Онисифоровы, хоть и на все руки мастера, за вами нужен глаз да глаз. А то вы в ванной атомный котел сварганите из подручных средств вместо бойлера.
— Вроде Хогбенов! — вскричала Капля в восторге.
— О Хогбенах не слыхал, — сказал он и ушел с ведром.
— Я тебе расскажу! — воскликнула Капля, — это фантастические рассказы Каттнера про одну деревенскую семейку!
— Семейку знаю только Адамс.
— Хогбены круче.
Денис опять ушел с ведром, а вернувшись, осведомился:
— Ты знаешь, что такое презумпция невиновности?
— Пока суд не доказал, преступник не виновен.
— Вот пока суд не доказал, все твои догадки, доказательства и прозрения насчет твоего монстра недействительны. А если ты его колдовством угробишь, это будет такое же бандитское мочилово, как у него.
— Когда рыцарь убивает дракона, — вскричала Капля, — у дракона нет никакой презумпции невиновности!
— Тебе до рыцаря семь верст до небес, — сказал Денис. — Пойду дедов бредень чинить.
— Что такое бредень?
— Рыболовная снасть.
Через минуту он ненадолго вернулся, чтобы произнести:
— Ты приостановись в колдовство-то забредать, а то по следующей инструкции с благородной целью нашему черному петуху башку колуном оттяпаешь.
И ушел чинить бредень.
А Капля убежала в избу, начала там шуровать.
— Домодедов, ты не видел мою коробочку из-под монпансье?
— Нет, не видел, — нагло соврал я. — Конфетку хочешь?
— У меня в ней фигурка Начальника Всего краденая лежит.
— Всегда следи за краденым.
— Она исчезла.
— Слушай, — предположил я, — мы намедни банки консервные пустые собирали, чтобы на джипе мусор в город вести; может, ее случайно прихватили.
— Что же я теперь в свою куклу зашью?
Дидактический вопрос ее остался без ответа.
Денис чинил дедовы ходики с кукушкой, Капля пересказывала ему истории о Хогбенах.
Наконец кукушка закуковала.
— Ты прямо часовщик.
— В приборостроении хочу работать. Например, в оптической лаборатории, пробные образцы новейших разработок. Папа говорит — из меня толк выйдет.
— А мама что говорит?
— Она говорит: толк выйдет, бестолочь останется.
— Ты бы собрал из старых неработающих чердачных не боящийся помех приемник, мы бы слушали. Мы ведь не знаем, что происходит в мире.
— Тебе это летом к чему?
— А вдруг что-то в мире стряслось?
— Ежели что, отец за мной приедет. И вас вывезет.
— Дорогу, например, паводком размоет.
— Если надо, он вертолет найдет, МЧС-овский, пожарный, прилетит, это ведь мой отец. Дыши ровнее. Какие хорошие рассказы фантастические ты рассказала. Надо тебя в леонтьевскую баньку сводить.
— А что там?
— Увидишь.
— Так пошли.
— Нет, лучше не к ночи, туземцы сниться будут. Завтра днем.
— Скажи, — спросила Доротея Капитолийская, — а Анциферов и Онисифоров — не одна и та же фамилия?
— Нашла, кого спрашивать, — отвечал Дионисий Онисифоров, — я в этимологии и в ономастике как свинья в апельсинах.
Банька Леонтьева
Я приколачивал рейку, чинил край крыши старого сарая, когда вопль Капли чуть не снес меня со стремянки. Змея ее укусила? Упал на нее проржавевший бак? Руку сломала? Я несся к участку Леонтьева, раскрасневшаяся Капля вылетела мне навстречу, размахивая руками, указывая на что-то, крича:
— Деда, деда! Там... в баньке, у Леонтьева... колдовство! Денис в одном углу великан, в другом карлик!
Тут до меня дошло.
— Ай да Леонтьев, — сказал я, беря Каплю за руку, — вот же умелец народный. Идем, не бойся, я знаю что это.
На пороге баньки улыбался во весь рот, рот до ушей, хоть завязочки пришей, Денис.
— Я думал, ей интересно будет, а она испугалась.
— Капля, — сказал я, — это комната доктора Эймса, в ней видят люди не то, что на самом деле. Зрительная иллюзия. Так комната специально построена. Сейчас мы с Денисом будем ходить из угла в угол и превращаться из великанов в карликов.
И мы прошлись перед нею, умаляясь в дальнем углу, обольшаясь в ближнем.
Вот теперь она была в восторге.
— А если я так пойду?
— Тогда, о Алиса в стране чудес, мы увидим тебя то карлицей, то великаншей.
Она отправилась, поглядывая на свои руки.
— Какая ты в том углу малютка! А здесь под потолок!
Она была несколько разочарована.
— Я на свои руки смотрела, думала, они уменьшатся или увеличатся, а они такие же, как всегда.
— Ты тоже как всегда. Это мы со стороны видим тебя разной.
Мы сидели на чурбачках неподалеку от банки.
— Комнату придумал еще до войны доктор Эймс. Сначала придумал, потом построил. Теперь хозяева иллюзионов возводят такие по всей земле. Как Леонтьев.
— Они с дедом Онисифором ее построили, — сообщил Денис, — а художники раскрасили.
Подошла Нина.
— О чем это вы, сидя рядком, говорите ладком?
— Бабилония, в леонтьевской баньке человек в дальнем углу карлик, а в ближнем — великан.
— Это комната Эймса.
— Бабилония, откуда ты знаешь? Вот и Домодедов в курсе.
— Мы с дедушкой в молодости одни и те же книжки читали.
— А Леонтьев?
— Он тоже их читал. Книг выходило не так и много, хорошие знали все.
— И у нас дома про такую комнату книга есть?
— Да. Про зрительные иллюзии. Есть еще Эшер, художник, чьи работы — сплошь зрительные иллюзии, и прямо при тебе рыбы превращаются в птиц.
— Я тебе к вечеру одну из иллюзий нарисую, известный старый фокус, то видишь двух людей, то вазу.
— Нарисуй прямо сейчас!
— Сейчас надо крышу сарая чинить.
— Нарисуйте, пожалуйста! — попросил и Денис. — Крышу я вам починить помогу, быстро сделаем.
— Особенная какая комната, — задумчиво произнесла Капля. — Не для жизни, а для взгляда со стороны. И мы, когда захотим, — зрители, а когда захотим — куклы.
Я почему-то вспомнил виллу Эйлин Грей.
Книжный шкаф
Сушили леонтьевский дом, в котором никто не жил, распахивали настежь все окна, двери, створки малой веранды, оконце мезонина, мелкие окошечки, то там то сям иллюминаторами освещавшие где лесенку, где каморку, где кладовку, открывали застекленные буфет и книжный шкаф. Дом обретал геометрию стаи больших стрекоз, обострялся стеклянными крылышками и крыльями рам. Дед Онисифор говорил: у жены Леонтьева был некогда свой особый рецепт мытья окон, они становились пронзительно прозрачны, алмазно сияли, солнечные зайчики летали по дому от открываемых на сквозняках бликах стрекозиных крыл.
Хозяин дома давал соседям читать книги из большого полупрозрачного книжного шкафа своего, шкаф и теперь играл роль деревенской библиотеки, только читателей поубавилось.
— Ведь он писал книги? Папа говорит, что писал. Почему ни одной его книги здесь нет?
— Не знаю, — отвечал Денис, — может, в городе держал.
Леонтьев увлекался философией, ей посвящена была отдельная полка: Платон, Кант, Григорий Сковорода, китайская «Книга перемен», о. Павел Флоренский, Соловьев, Игнатий Брянчанинов, Мераб Мамардашвили. Открыв сборник статей «Античность и современность», прочел я название статьи Ярхо: «Была ли у древних греков совесть?» и взял книгу почитать. Детективов Леонтьев не читал, но все же три для Нины нашлись: «Имя Розы» Эко и «Фламандская доска» Переса-Реверте; томик Пристли решил я взять для нее в следующий раз, зная, что она с удовольствием перечитает «Затемнение в Грэтли».
— Домодедов! — вскричала Капля. — Что я нашла! Тут есть две главы о магии, в этой толстой книге!
Толстая книга была фрэзеровская «Золотая ветвь».
— Но это не про то, как людей колдовскими куколками изводить, — заметил Денис, — то есть, про сам факт сказано, но не в виде инструкции или руководства к действию.
— Ты ее читал?
— Всю не смог. Листал и читал отдельные страницы. Она как сказка про сказку. У нас дома такая есть.
Денис выбрал «Осы» Халифмана и «Не кричи, волки» Фарли Моуэта.
Одна из полок была подобрана самым дурацким образом, в ней соседствовали романы Диккенса, разрозненные томики Чехова и драматурга Островского, малюсенькие брошюры («i» Флоренского, «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.», «Венецианское зеркало, или Похождения стеклянного человека» и «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» придумавшего термин «моральная экономика» Александра Чаянова), толстенный четырехтомник Даля, десятитомник Достоевского, старинная лоция Маркизовой лужи с нарисованными парусниками на картах, «Остров сокровищ» Стивенсона, «Юнги северного флота» Пикуля, «Морские рассказы» Житкова и рассказы о кладах неведомого мне автора, солянка сборная. Сперва я решил, что пользующиеся книжным шкафом соседи суют, сдавая, прочитанное куда попало, но потом понял: это полка любимых книг.
Когда доставал я книжку Льюиса, сверху упала горизонтально лежавшая белая папка с завязками, на которой рукой Леонтьева было начертано: «Добро и Зло». Я думал, что найду эссе Леонтьева или список литературы, но там лежали несколько листков, куда девалось остальное? увез в город? сдал в издательство? печь протопил? Он часто жег рукописи в печи, то изданные, то разонравившиеся, и приговаривал, усмехаясь, что на несколько мгновений становится как Гоголь. На первом листке прочел я: «Интересно, откуда Борисов взял слова („Волшебник из Гель-Гью“): „Непоправимо Добро. Зло таланта не имеет“? Сам придумал? Или нашел где-то?». Дальше был отрывок то ли из статьи, то ли из дневника, но не черновой, без правки, хоть и написанный от руки куриным с хвостами и завитушками странным леонтьевским почерком. «И поэтому вы, — писал он, — живете в городах, в отопленных стараниями теплосети комнатах, кипятите кастрюли с чайниками не растапливая печь и не включая древнюю электроплитку, не ходите за водой со старыми ведрами, разбивая лед в колодце морозной зимою, не таскаетесь в магазин за продуктами за три километра в соседнее село в любую погоду. Вы ставите коньяк редакторам издательств, критикам, вы одна компания, о премиях литературных молчу вообще. При этом таланты и достижения не в счет как таковые. А я сижу в заброшенной деревне, зимой все дороги и тропы заносит снег, браконьерствую противу рыбнадзора и укрупненных, дальних, но грозных лесничеств, чтобы добыть дров и не сдохнуть с холода. Синекуры у меня нет, только куры, отнюдь не синие птицы, пенсия, как положено, грошовая. Но стоят у меня во дворе Эйфелева башня, Пизанская, не существовавшая в натуре Татлинская и собственно моя, мой Париж за сараем, тогда как вы побывали на берегах Сены не единожды в веночках несуществующих литературных заслуг. И скульптуры мои, малые ли, большие, овевает ветер, заливает дождь, заметает снег. Вот только женушку мою, мою барочку, съела эта нищая, требующая недюжинной физической силы жизнь. Правда, и над вами, как надо мной, сидят ворюги тысячные, миллионные, миллиардные, но к орде этих акул что и обращаться; я для них ничтожество, но и они ничтожества для меня. Вы-то хоть опусы свои бесталанные пишете грамотно.
Но я, произнеся все вышеозначенное, осознаю, как грешен я в своей гордыне, в тщеславии таланта скромного своего! И гордыню свою бедную ощущаю злом.
Но ведь обращаюсь я к вам на вы, а Господу говорю: Ты, Господи! И говорю: спасибо Тебе и за то, что святые, наученные Тобой, обладатели дара исцеления и чудотворения, предпочитали погибать, нежели убивать других. А что сказал нам Франк? Ведь это он сказал, философ с корабля дураков, с корабля, на котором отправила в изгнание Советская Россия философов своих (хорошо, что отправила, а не утопила подобно баржам, полным узников, затопленным в пути куда-то): „Всякий верующий без богословских трудов знает, что такое добро и зло и что надо делать, чего не надо“». «„Дневник писателя“, — писал Леонтьев, — это оксюморон (как „Маленькие трагедии“, „Каменный гость“, „Скупой рыцарь“). „Jour“ по-французски „день“, ежедневник — удел журналиста; писатель тяготеет к Вечности, в крайнем случае обращается к эпохе».
«— Мне эта работа не подходит, — произнес он, скривив губы презрительной гримаской.
— Да вам никакая работа не подходит, — нагло сказал я ему правду в глаза, — а подходит только шампанское пить на крыше Европейской гостиницы. Но на таких прорв всего шампанского мира не хватит».
«Ты говоришь: „Как было хорошо! Тогда, в пятидесятые, шестидесятые, семидесятые!“ Конечно! Были молоды, самоуверенны, самонадеянны, ничего не знали и знать не хотели, не верили ни в Бога, ни в черта, ах, как было хорошо!»
«Сосед мой передал мне слова друга своего, помешавшегося на постчернобыльском времетрясении и смешении времен: „Разве слово „ускоритель“ не наводит вас ни на какие мысли? И слыхали ли вы о теории, согласно которой жизнь на Земле зародилась в Африке из-за ядерных реакций природного котла месторождений урана?“ Уран; Сатурн; Хронос. Иди скажи часам: шли бы вы подальше».
«Моя барочка любила присловья и поговорки, украшала ими речь свою. Про меня, осердясь, говаривала: „Все люди как люди, а мой как черт на блюде“».
«Преступление и есть наказание. Преступил невидимую черту, очертившую человеческое сообщество. И не может вернуться обратно. Даже если хочет. Чувства другие. Ощущения другие. Вся химия переродилась. Так у Раскольникова».
«Я поднимался по лестнице, меня чуть не сшиб с ног скатывающийся вниз встречно молодой человек. За ним выскочил из двери прозаик Базунов, (которого почитали мы за гения) с криком: „Что ты наделал, негодяй?! Ты убил человека!“ Выяснилось, что молодой убегающий автор в своем произведении умертвил главного героя». И то был последний листок полупустой папки.
Он пропал!
— Вот, приехал раньше времени, а вывезу вас чуть позже, — сказал друг мой, внезапно возникший под окнами на джипе своем. — Сейчас же и обратно.
— Иди чай пить, отдохнешь и поедешь, — сказал дед Онисифор. — А Дениса сейчас не увози, увезешь всех сразу.
— Дня на три в школу и Денис, и Капля опоздают. Не страшно. Я готов и в Каплину школу идти извиняться.
— Сам извинюсь, — сказал я.
Уходя, услышал я, как за открытым окном избы Онисифоровых дед, брякая чашками, спросил:
— Ну, что нового в мире?
И едва успел я дойти до крыльца, как за мной пулей влетела в калитку Капля, крича:
— Деда! Деда! Он пропал!
— Кто?
— Начальник Всего!
И, захлебываясь, рассказала: Энверова обвинили в некогда совершенном убийстве или даже двух, его должны опять арестовать, он исчез, пропал, объявлен в розыск.
— Кого убил? — спросил я.
— Каких-то своих сообщников по бизнесу. Его ищут, но он бежал.
— Баба с возу, кобыле легче, — сказал я.
Друг уехал, а я взял свой допотопный велосипед, наврал, что еду подыскивать место для этюда, домчался до моста через реку, взобрался на холм и позвонил Филиалову.
— Он пропал! — повторил я возглас Капли, вместо того, чтобы поздороваться.
— Да, — отвечал Филиалов. — Федор, вы обещали задержаться до середины сентября, потом позвонить.
Я обещал?
— Детям надо в школу, — сказал я. — Мы приедем числа третьего.
Филиалов молчал.
— Скажите, — спросил я. — А где он теперь?
— В аду, — ответил Филиалов, и связь прервалась.
Особенно тихий был вечер, всё налито было тишиной. Дед Онисифор смотрел на небо, качал головой, вздыхал, я ждал, что он что-то мне скажет, но он молчал.
Перед сном мы перешептывались, чтобы не разбудить Каплю.
— Куда он, по-твоему, делся? Где он? — шептала Нина.
«В аду», — звучал у меня в ушах голос Филиалова.
— Мало ли, — отвечал я. — Прикупил остров в океане, выстроил на острове замок, скрывается в личном владении в водах нейтральных. Под чужим именем обитает в Аргентине или Мексике. Лег в потаенную клинику пластических операций, где ему сделают другое лицо.
— Помнишь, ты рассказывал мне, как встретил ночью в Свияжске под кустом сирени любимого писателя? Тогда ты не знал, кто он. Потом мы читали его книгу и смотрели многосерийный телефильм по этой книге, очень хороший. А я выучила фамилию актера, игравшего главную роль: Мегвинетухуцеси. Книга о человеке вне закона, абраге. И ведь автор тоже сидел...
— Абраг, благородный разбойник, он всем делает добро, ему платят злом. Конечно, помню. Что значит «тоже сидел»? Писатель этот сидел по-черному, в самых страшных местах ГУЛАГа, в Норильске, например. И он был — политический, всегда в интервью и статьях подчеркивал, был кружок юных горячих голов, настроенных против советской власти. Его-то отца, тихого семьянина, юриста, схватили ни за что, отец бежал, его поймали, садист-следователь убил его на допросе. Гибель отца он простить не мог. А Энверов сидел как уголовник, за воровство и подтасовки финансовые сумм немеряных, да еще в современной тюрьме. Кстати, в тридцатые годы заключенных политических ненавидели, травили, расстреливали, а уголовников, блатных, называли «социально близкие», их «перевоспитывали», в прессе сие называлось «перековка».
— И политический, выжив и из лагеря выйдя, такую книгу написал... А наш-то уголовник, небось, сидел и вычислял, как отомстить тем, кто его в тюрьму отправил.
— Само собой, вычислял. Считал великой несправедливостью, что столько денег лежит на заграничных его счетах, а он из-за проклятых тех-то и тех-то не может башли свои прекрасные краденые тратить, шиковать, плести интриги, добиваться власти, путешествовать, строить виллы на всех широтах и долготах. Зато планы мести строил, графом Монте-Кристо себя считал, ты не радуйся, змея, скоро выпустят меня. И будет вам всем от меня полный абзац. Как включу свой башлемет, замочу тебя, урод.
— Помнишь, как назывался доклад про романы Дюма на свияжских семинарах? «Занимательная уголовщина».
Тикал в старых венцах избы древоточец, скреблась под полом мышь.
— Может быть, теперь, — шептала Нина, — когда он исчез, с Каплей всё обойдется...
Не договорив слово «обойдется» (я додумал его сам), она уснула молниеносно, то было одно из свойств, приобретенных ею после страшных травм дорожного происшествия, — способность засыпать с места в карьер, как засыпают кошки, сони-лемуры, не знаю, кто еще, моментально проваливалась она в морфеево царство, бросая меня на произвол судьбы.
Ночью задул ветер, превращающий весь мир в хор.
Смерч
Я проснулся: стучали в дверь. Было рано, и хотя свету пора бы и воцариться, темные грозовые тучи мешали ему. На пороге стоял Денис. Когда я распахнул дверь, волна душного теплого воздуха вошла в дом.
— Дядя Федор, смерч идет, будите своих и спускайтесь в подпол, кота в переноску, одеяла и документы с собой, я вам фонарь принес большой на батарейках, у нас два.
— Как это — смерч?
— Поднимитесь на чердак.
Мы поднялись. В слуховое окно видна была клочковатая неземная огромная туча, из которой, увеличиваясь, извиваясь, спускался к земле огромный хобот смерча.
— Со стороны села идет, в нашу сторону. Всё, будите своих, я побежал. Форточки в сторону села закройте, а в противоположную откройте, дверь на ту сторону тоже лучше распахнуть и подпереть, дед говорит.
Мы сидели в подполе на топчане для ящиков с картошкой, накинув на него ворох подушек и одеял. Котовский молча скребся и ворохался в переноске. Участившиеся было удары грома словно выключились. Там, снаружи, нарастал гул, приближающий звук громадной колесницы, немеряного поезда, мы чуяли мелкую дрожь земли. Капля сидела между нами, нахохлившись, как воробышек, заткнув уши.
— Смерчем может дом снести, — сказала Нина.
— Мы в подземелье, нас не снесет. Вот сарайчик с туалетом могут и полетать, если им не повезет.
— А если крышу снесет, и нас завалит? — спросила Капля.
— Художники на месте, у них гости, Онисифоровы в своем подвале по соседству, откопают, не боись.
Голоса уже увязали в приблизившемся грохоте, мы плохо слышали друг друга. Шум и треск падающих деревьев, глухо ударявшихся оземь. Вдруг на какое-то краткое неисчислимое время стало тихо, словно мы оглохли, затем гул возобновился, но словно поменял направление.
— Он свернул, — сказала Нина.
— И прыгнул, когда сворачивал.
— Мне кажется, он удаляется.
Звук стихал, удалялся. Тут застучало по крыше, словно каменьями осыпало дом.
— Град.
— Стекла не выбьет?
— Выбьет — вставим.
— У нас дверь открыта.
— Подожди, через некоторое время пойду закрою.
Когда пошел я закрывать дверь, увидел белое при пороге, бел был наш сад-огород от крупных градин, свет в доме выключился. Я закрыл дверь, закрыл форточки, хлынул ливень, заливая всклянь оконные стекла, тьма еще стояла над нами, но уже привычная мгла сильных дождей и гроз, а не черно-лиловая космогоническая мгла древнего ужаса.
Нина с Каплей вылезли из подпола, таща подушки, одеяла, фонарь и переноску с котом. Не сговариваясь, не глядя на часы, мы полегли, расположившись по кроватям, Капля на диванчике, обе они с Ниною уснули мгновенно на незнакомой планете бурь в аквариуме дома, я провалился в сон через некоторое время, успев увидеть спящую на диванчике Каплю и лежащего на коврике дерюжно-плетеном кота.
— Хоррор, хоррор! — приговаривал кот, деря когтями дерюжку.
Дождь лил сутки, слегка утихнув к вечеру, вечером заскреблось в дверь, я впустил продрогшего и мокрого как мышь пса Свободного, который долго отряхивался в сенцах, обдавая меня каплями, пахнущими псиной и непогодой.
На следующее утро меня разбудил непривычный звук.
«Да неужели смерч возвращается? Неужели нас перенесло в долину торнадо?»
На лужок за домами садился вертолет. Стало тихо. На башне Татлина, разворотив ее, лежала упавшая сосна, на сарае — полусухое дерево из семьи тополиных, которое я не первое лето собирался спилить.
Я вернулся в дом, укрылся одеялом, стук в дверь, на пороге стоял человек, на чьей одежде красовались три утешительные буквы МЧС.
— У вас всё в порядке? Вы здоровы, целы?
— Да ничего, — отвечал я, — разве что крышу снесло.
— У вас проблемы с кровлей? В каком строении?
— Спасибо, — сказала Нина, — с кровлей все хорошо. Только света нет.
— Свет дадим в течение двух суток, постараемся пораньше, много в районе обрывов проводов, деревья падали. Деревья поваленные мы распилим, если есть тачка, забирайте на дрова, поможем к домам чурбаки подвезти. А вот на вашу эту... вышку... вешку... штуку... около просеки...
— Арт-объект.
— На объект одно дерево упало, малость объект попортило. Так где тачка-то? Говорят, у вас тут зимогор имеется.
— Ну, я, зимогор, — сказал дед Онисифор. — Дениска, кати тачку, вторую у художников возьмем.
— А церковь? — спросила Нина. — Церковь цела?
— Целехонька, в лесах строительных стоит, — отвечал эмчээсовец, — хотя рядом две сосны упали. Кто из вас Онисифоров?
— Мы, — сказали дуэтом дед и Денис.
— Ваш отец про вас спрашивал, велел узнать, не надо ли вас днями вывезти, лекарство какое привезти, продукты, тогда он за вами прилетит, мы ему передадим.
— Не надо прилетать, — сказал дед, — скажите: всё хорошо.
— И вывозить не надо, — сказал внук, — за нами третьего сентября дядя приедет, всех и вывезет.
— Это вряд ли, — сказал человек из МЧС, — мост снесло, чинить будем. К вам не проехать.
— Когда почините? — осведомился дед Онисифор.
— В лучшем случае числу к пятнадцатому сентября.
— Ничего, мы подождем, — сказал дед, довольный, что Денис с ним до середины сентября побудет. — Привет сыну передавайте, а вам спасибо и за дрова, и за весточку, и вообще за работу.
— Вот как свет дадим, мост починим, будет нам спасибо, — сказал эмчээсовец, улыбаясь, очень довольный, что мы живы, целы, дома наши стоят, никого из-под завалов доставать не надо.
— Смерч шел на нас, — сказал Денис, — но свернул на просеку.
— Мимо проскочил. Ну, сейчас дрова ваши доставим, дальше полетим.
Из дома вышла сонная Капля с Котовским и Свободным, точно с почетным эскортом.
— Вы прилетели? — спросила она. — А ураган кончился?
— Мы улетаем. Стихло ваше торнадо.
— А что это за звук?
— Деревья пилим, барышня. Бывайте здоровы.
Огненный столп
Первую вешку, поставленную несколько лет назад художниками с Леонтьевым, скульптуру из сухих ветвей, самую высокую, попорченную смерчем, решено было предать огню.
— Неровен час, — сказал старший художник, дядя Паша, — сама свалится, да еще кого из гуляющих, либо идущих придавит. Мне лично не жалко. Зачем за собственное искусство цепляться? Время само, что нужно и того стоит, отберет. Сигнал в ноосферу мы уже подали, зачтется.
— А мне жалко, — сказал младший художник, дядя Петя.
— Жалко у пчелки, — сказал дед Онисифор.
— День только надо выбрать, — сказал я.
— Что ж тут выбирать? В годовщину Леонтьева. В память о нем.
— Если ветра не будет.
— Не будет, — сказал дед. — Ветер вышел весь.
В полном безветрии, при абсолютном штиле, ни один стебелек не шелохнется, под светлым, слегка обесцвеченным предосенним небом собрались мы все вокруг высокой серебристой скульптуры-вешки.
Словно мы ждали чего-то, и она ждала, беззвучен был диалог наш, и между нами и ею стояли зеленые канистры с бензином и алые сурки огнетушителей.
Мы запалили деревянную скульптуру, величавую, даже и с надломленным порушенным верхом, в конце дня, чтобы к ночи успело истлеть кострище. Когда взметнулся к небу огромный факел, из рощи левее просеки выскочила небольшая компания мужиков с ведрами и баграми, видать, команда наезжавшего на участок свой фермера. Они неслись тушить пожар, но, увидев, как мы стоим вокруг огненного столпа, сначала остановились, а потом пошли к нам уже не спеша, улыбаясь, тащили свои ведра с водою.
Фермер купил участок земли за леском, начал строиться, дело было в девяностые, на него стала наезжать какая-то кодла из полуместных (или тоже заезжих?) рэкетиров; не знаю, что требовали, должно быть, чтобы платил ясак в их орду. Фермер был несговорчивый, ему грозили, жгли и разваливали то, что он строил, угрожали семье, да мы вас в асфальт закатаем, какой асфальт, фигура речи, одни проселочные дороги, раз-два и обчелся.
Но пожары повторялись, повторялись и десанты ушкуйников, доходило до драк, до больниц; спасибо, что стреляли в воздух. Наконец, боясь за семью, фермер съехал. Будучи человеком бесконечно упрямым, стал он приезжать время от времени, там подправить, тут достроить, то плотников на три дня привезет, то трактор пригонит. В конечном итоге рэкетиры рассеялись, развеялись, но окончательно обосноваться хозяин не торопился, только приезды его участились, сроки пребывания за леском удлинились, компания увеличилась, поскольку появились зятья, подросли дети.
Огромный огненный факел снижался, сужался. Завечерело. Сказал дядя Паша, — давайте, все скажем что-нибудь, кто что хочет. И сам начал:
— Вот не ждал я, когда мы с Леонтьевым задумали и возвели эту первую нашу бандуру, что придется сжечь ее в годовщину его смерти.
— Годовщину? — спросил фермер. — Мы ничего про то не знали, я еще подивился — Леонтьев-то где? Ну, царствие небесное.
— Она была такая высокая, — сказал дядя Петя, — что мы сами не понимали, как нам удалось ее собрать и поставить. А Леонтьев сказал: нет, ребята, маханулись мы, высоковата, масштаб на местности не угадали, да и молнии в грозу будет притягивать, как высокие деревья. Так что все последующие, и раковину, и малую ротонду, и три башенки сделали мы много ниже этой.
— Вот вышел у нас огненный столп, — сказала Нина. — А ведь это название последней книги стихов Гумилева, которого Леонтьев очень любил, некоторые стихи из этой книги знал наизусть.
— В огненном столпе, — сказал дед Онисифор, — пришла к людям на Афон любимая наша икона, Иверская.
— А церковь-то вы ведь с Леонтьевым восстанавливали, не доделали еще? — спросил фермер. — Мы ее видим, дойти всё времени не находится, через два дня на третий собираемся.
— Этот год приостановилось у нас, — сказал дед.
— Теперь будем помогать, — сказал фермер.
— Так я сбегаю? — спросил дядя Петя дядю Пашу.
— Иди уже.
Вернулся он тотчас с двумя гитарами. Денис за своей не пошел, а подпели художникам мы все, пели любимые песни Леонтьева, которые певал он сам или любил слушать. «Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья, о любви спросить у мертвых неужели мне нельзя. И рассказывает череп тайну гроба своего: „Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его“», «Запрягу я тройку борзых...», «Когда мы были на войне». «Хасбулат удалой», «Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была, одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра». Тут запела Капля, звонкий серебристый голосок, слух у нее был хороший. Как давно ее пения я не слышал, а старую песню эту пел ей Леонтьев, когда мы только дом купили, она была совсем маленькая: «Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть».
Темнело, вылили ведра на уголья, обвели пепелище кругом водяным, а из огнетушителей кругом пенным, чтобы схоронившееся пламя, бойкая искра не полыхнула по траве, не двинула к лесу.
И разошлись по домам — молча, быстро, в разные стороны.
Ночь уже наполнила небо звездами, августовские болиды чиркали, плавно летели спутники, мигал огонек ночного самолета.
— Деда, — сказала утром Капля, — а я в костре вольта сожгла.
— Что?
— Куклу магическую.
— Я не заметил, когда ты успела?
— А я и не хотела, чтобы кто-то заметил.
Капля убежала к Онисифоровым, из дома вышла Нина.
— Знаешь, — сказала она, — ведь наша внучка своего кукленка гаитянского в огненном столпе спалила. Я видела, но смолчала.
— Знаю, — ответил я. — Она мне только что призналась. Сгорели чучело лета и чучелко колдовства.
Музей иллюзий
— Ну вот, — сказала Капля, державшая на коленях перевозку с Котовским, — все разъехались, деда Онисифора оставили в деревне одного.
— Художники, — сказал Денис, ехавший с Кузею, которого он всё время тормошил, — приедут в конце осени, хотят устроить фестиваль и мастер-класс деревянных скульптур. Мы с отцом приедем на Новый год и на зимние каникулы, может, мать тоже поедет. На весенние я один приезжаю. А там и лето. И с конца осени до начала весны мобильник работает, сигнал ловит, будет другу в село дед звонить.
Мы промчались по новому мосту и через три часа въехали в городское бабье лето.
Уже к вечеру Капля стала просить, чтобы поехал я с ней в музей господина Сяо. Я говорил: сначала выясню, что у меня на работе, потом объяснюсь с твоей учительницей, потом съездим. Она возражала: и на работу, и в школу уже ты звонил, говорила она, а про наш смерч, про наш мост передавали по телевизору, все в курсе.
Когда прибыли мы в околоток возле проспекта, ждали там нас сюрпризы. Изменился околоток, вместо диабазовых плит и торцов стелился под ноги обычный асфальт, вместо двух деревянных урюпинских домиков шумела огороженная стройка, третий дом с геранями был неузнаваем, сайдинг, забетонированный наново высокий цоколь. Кварталы неуловимо потеряли сходство с баганцевскими акварелями, только кое-где воздух стоял прежний, сохранивший память о старинном тихом житии, послевоенных курятниках, голубятниках, доминошниках и влюбленных.
Флигелек наш перекрасили из небесно-голубого в тусклый зеленый, у двери висела вывеска: «Музей оптических иллюзий».
Встретившего нас толстенького невысокого смотрителя-кассира Капля в полном недоумении спросила:
— А где господин Сяо?
— Кто?
— А где музей кинематических игрушек? — спросил я.
— Тут был до нас другой музей? — вопросом на вопрос отвечал толстячок. — Я не знал. Мы арендовали пустое помещение. Ищите в интернете.
Несколько дней Капля искала в интернете, не обнаружив никаких следов кинематонов и жакемаров.
В музее оптических иллюзий при входе висели картины, многие из которых были мне знакомы по книгам: профили или ваза, расходящиеся и сходящиеся параллельные прямые на фоне других линий, две одинаковых прямых, снабженные разной направленности стрелками, отчего казалась одна прямая длиннее, другая короче, и так далее. Конечно, не обошлось без репродукций Эшера, где виделись вам то белые, то рыжие кони, то белые, то рыжие жуки, то лодки, то рыбы, то птицы. Треугольники превращались в летающую стаю птиц, окуни в уток, точки в ящериц, квадраты в слова, из плоских изображений обшлагов вырастали объемные, рисующие их и себя самих руки, ящер становился колесом, безумные интерьеры с перетекающими пространствами лестниц и башен приглашали вас войти туда, откуда нет выхода, да и был ли вход. Синие, красные и белые гномы напоминали обои, которые могли простираться во все стороны, на все четыре стороны дурной бесконечности. Почему-то бельведер «Водопад» и упражнение по подъему и спуску заставили меня вспомнить тюрьму нашего, будь он неладен, углового жакемара, а «Планетоид», «Иной мир» и «Relativity» — фантазии и тюрьмы Пиранези. Эшер (все ли голландцы безумны, или только Ван Гог да он?) сам был не Макс и Мориц, как в старой русской книжке, но Мауритц и Морис; и не только по фантазии переводчика. Мне казался он Джекилем и Хайдом в одном лице. В нем было что-то пугающее. Он принуждал мой мозг и зрение мое играть без передыху в оптические иллюзии, зрительные обманки, гонял их по кругу арены, как несчастных цирковых лошадок. В детстве он болел и провел год в детской больнице (в какой, хотел бы я знать? я одно время очень увлекался Эшером и знал о его жизнь больше, чем положено было в рамках истории искусств), его отчисляли из учебных заведений за неуспеваемость, его еврея-учителя, художника из Харлема, сожгли в Освенциме; он бывал в Италии и Испании и, в отличие от нас с Бабилонией, в Барселоне. Девушку, на которой он женился, звали Джета. На крещении их первенца присутствовали Виктор Эммануил II и Муссолини. Уехав из фашистской Италии, он оказался в оккупированных Нидерландах. Даже ранние картины его называли механическими и сухими, да он и сам чувствовал, что исподволь терял связь с теплотой пейзажного мира. Королева Вильгельмина произвела его в рыцари в 1955 году. Оттиски его работ печатали колоссальными тиражами в США.
Его интересовали симметрия и бесконечность, логические, пластические, пространственные парадоксы, оптические иллюзии, сечения плоскостей, превращения неодушевленных предметов в живые существа, искусственные перспективы с птичьего полета (увиденные, может быть, не глазами ласточки, а оптикой шпиона-беспилотника, дрона), невозможные фигуры, точки исчезновения и возникновения.
По логике вещей он должен был заниматься дизайном оберточной бумаги; он и занимался.
Авторы экспозиции его выставки в Москве назвали выставку «От фрактала до рекурсии». Но я не знал, что такое рекурсия и на выставке не был.
Я шел по коридорным комнатушкам новообретенного иллюзиона, движущиеся постеры, уткокролик, уткозаяц, белколебедь, тюленемедведь, иллюзии «шахматная доска», «кафе», «рельсы», двойные портреты, привидения голограмм (самые противные — розовые и зеленые натуральные кошки, но и фигуры тоже не отставали, нарисованные итээровскими людьми с их тягой к искусству безо всякого вкуса и способностей), меня прямо-таки мутило от этого нападения на глаза, мозги, вестибулярный аппарат, на все мои личные навигационные приборы.
— В конце пути сюрприз! — обрадовал нас толстячок-смотритель. — Помещение, где вы становитесь то великаном, то карликом!
— Банька Леонтьева, — воскликнула Капля.
— Комната Эймса, — вскричал я.
— Так вы уже знаете... — разочарованно произнес работник музея иллюзий.
Сирень
И накануне вечером, и утром я заметил новую волну затишья в склоках, военных конфликтах, политических дебатах последних известий. С момента нашего осеннего приезда я уже почувствовал: что-то поменялось по сравнению с весной отъезда, с последними двумя годами. Словно зло начало уставать, машина его сбрасывала обороты; это была скорее инерция, чем предыдущий разгон.
Скрыв от своих девочек вытащенное из почтового ящика извещение, получив на почте мелкий пакет от Филиалова, распаковал я его на скамье сквера с фонтанами, где дети собирали в траве желуди неизвестно зачем, как все городские люди в детстве с незапамятных времен.
Открыв присланную сигаретную коробку, увидел я пять других жакемаров, Начальников Всего, — шестого уже успел я отправить на дно реки на даче.
Некоторое время сидел я, глядя на них, как во сне.
Потом набрал номер Филиалова, но он мне не ответил (как никогда потом не отвечал).
Выкинув в урну сигаретную коробку, двинулся я к дому, медленно, очень медленно, лихорадочно вычисляя — куда мне эту великолепную пятерку деть? Урны не годились, не годилась помойка, кто угодно мог их достать, раскидать по округе; Капля не должна была их увидеть.
Шваркнуть с моста в Неву? Тоже не годилось, поиски коробки из-под леденцов, грузиков в коробку, лик внезапный полицейский: а что это вы шваркнули в воду? уж не устройство ли поганое, дабы взорвать мост? ваши документы; пройдемте.
Почти уже до дома дойдя, не находя выхода, я вдруг увидел на газонах близлежащей улочки выкопанные с трехметровым интервалом ямы для посадки деревьев, и порысил в дворовую нашу плотницкую мастерскую, плавно перетекающую в дворницкую, где испросил у жэковских плотников лопату «земли накопать для пересадки домашних растений».
Вид мой с лопатой никаких чувств у прохожих не вызвал, в старой куртке, старомодной кепке, видавших виды кроссовках я вполне сошел за усовершенствующего посадочные места работника садово-паркового хозяйства. На дне одной из ям выкопал я ямку поменьше, куда и ссыпал жакемаров, которым предстояло стать подколодными и однокоренными. Я с радостью увидел, что они не пластмассовые, не оловянные, — деревянные! Стало быть, сгниют.
Домой пришел я в великолепном расположении духа.
И ждал меня тихий вечер.
Нина лежала на диване, листала один из «Domus»’oв, чей номер посвящен был лучшим садам мира. Капля в своем закутке-кабинете делала уроки в молчаливом обществе аквариумных рыбок.
— Что-то Котовского не вижу.
— Можешь себе представить, он опять с улицы Клеопатру привел. Дрыхнут на кухне за газовой плитой. Найди, пожалуйста, Капле книгу Эшера, она просила.
Нам еще предстояло убедиться, что на сей раз Клеопатра останется у нас жить.
Я нашел Эшера, а потом достал и Митрохина, открыл последний раздел, где были не изощренного мастерства черно-белые графические заставки журнала «Мира искусства», не великолепные офорты двадцатых и тридцатых годов, но карандашные рисунки последних лет жизни, свинцовый карандаш, несколько цветных карандашей, бедность, старость, одиночество, четыре стены полунищей комнаты, граненые рюмки, пир из двух гранатов и нескольких грецких орехов, вечное яблоко, редкий цветок. Ничего лучше этих рисунков я не видел, в них не было ни лихости, ни изощренности, ни великолепия, ни красоты: они были просты и прекрасны.
Я открыл книгу Эшера, положил ее рядом с митрохинской открытой книгой с любимым рисунком карандашным, позвал Каплю.
— Скажи, какая работа тебе больше нравится?
Я изготовился прочитать ей краткую лекцию, но она не дала мне осуществить задуманное: не размышляя ни минуты, ткнула пальцем в стену: «Вот эта!» — после чего ускакала к своим рыбкам.
На стене висел мой царскосельский этюд.
Когда Капля была маленькая и приезжали ее родители, наши дети, мы с Ниною убывали в Царское Село, в город Пушкин, как оно тогда (да и теперь) называлось. Я оставлял Нину в гостях у нашего друга, художника, где его красивая жена пила с Ниной чай, а сам отправлялся на пленэр.
Не было на работах моих ни дворцов, ни парковых павильонов, беседок, фонтанов, статуй, простые житейские, почти житийные места деревянных домов, изб, ветел, дальних перелесков, скамей на бульварах, железнодорожных насыпей за лугом или полем.
Да, я влюблен был в свой драгоценный дизайн с юности, в остроносый чертежный карандаш, передающий четкие контуры технократических объемов и объектов, в царствие пропорций, в черниховские конструктивистские фантазии, в никель и сталь, в творения и изречения основоположников, в ожерелье из шарикоподшипников Шарлотты Перриан и в косы Манон Гропиус, в лаконичную серийную керамическую посуду финна Сарпаневы, в нависающий клюв автомобиля «Десото».
Но живопись была даже не тайная любовь с детства, не плохая привычка пальцев, складывающихся в щепоть на кисточке с краской, не плазма, лава, пятно начала мира всякого изливающегося цвета, — она была жизнь как таковая.
На моем царскосельском этюде возвышалось деревянное вертикальное неказистое строение (низ служил сараем, верх, должно быть, в незапамятные времена — голубятнею), неровные рейки низкого забора маячили за высокими золотистыми травами осени, вдали голубели в охристом ореоле деревья, за забором еще стояли купы необлетевших кустов.
— Дорогая, — сказал я, — мне наш плотник сообщил: на соседних улицах завтра будут сажать сирень. Я сам-то решил, что деревья, но он уверяет: именно сирень, ему садово-парковый человек поведал; и у нас, и во всем городе.
— Да, — отвечала она с улыбкою, — мне Женя с четвертого этажа сегодня рассказала. Как хорошо. Как я обрадовалась.
— И теперь я надеюсь, что мы доживем до весны, которая окрасит белую ночь во все колера исполненного счастья цветенья, весна включит ацетиленовые горелки сияющих кустов: белой, фиолетовой, голубоватой, сиреневой, лиловой, розоватой, маджентовой, пурпурной, сложных и переходных оттенков названной в честь нимфы Сиринги (в стране русского языка дремлют древние тайные области греческого и латыни...), некогда называвшейся «синелью» и «кустами сирен» персидской, венгерской, гималайской, японской, амурской любимой нашей сирени. И снова превратится Санкт-Петербург в филиал сиреневой коллекции Ботанического сада, в белонощный северный сирингарий... Проступит сквозь петербургские ведуты лиловый лес загадываемых желаний. Никто и не вспомнит, что некогда ее тут не было вовсе, иностранки, странницы; в XVI веке английский посол при турецком султане привез в Вену первый куст сирени из Константинополя, а в Россию позже, в осьмнадцатом столетии, из Франции завезли. Какие-то, согласись, есть в ней чары, в ее цветах и букетах дворянских гнезд. «И в лицо мне пахнула весенняя ночь благовонным дыханьем сирени», — снова нам скажет К. Р., а вслед старинным, вырубленным двадцать лет назад Обломов вздохнет: пропали, погибли. Я, когда маленький был, читал волшебные сказки, как девчонка. «Спящую красавицу» Перро с иллюстрациями Дорэ, подкрашенными гравюрами XIX века, лилово-сиреневым подкрашивали, бутылочно-зеленым, старо-розовым (как пена от варенья). Еще читал сказки графини де Сегюр, выданной замуж во Францию Софьи Ростопчиной, там была история про заколдованный Сиреневый лес, в него входила девочка-принцесса Блондина, завороженная, начинала собирать букеты разных оттенков, тяжелые охапки, а сиреневые кусты сомкнулись, сплелись за ее спиной, не было ей дороги назад в отцовский дом, вышла она к находящемуся в центре Сиреневого леса замку, где встретили ее Белая Лань и Кот Мурлыка. Или Матушка Коза и Кот Мурр? В конце концов все расколдовались, и Лань-королева, и Мурр-принц, все закончилось свадьбой, встречей с постаревшим отцом-королем. Но тот Сиреневый лес был околдован злым волшебником (вроде Каплиного Злодияка), то было место роковое, недоброе. И я потом, в юности, всё понять не мог: где графиня де Сегюр, Ростопчина София Федоровна, этот свой лес взяла? «Спящую красавицу» она, конечно, читала, но иллюстраций Доре с купами сирени еще не было, не было балета Чайковского с феей Сирени. Я тогда увлекался архетипами Юнга, даже сдуру подумал: может, сирень тоже архетип? Может, такие и растения архетипические есть, и раньше об этом ведали, — друиды, например?
— Да откуда тебе про сорта и оттенки известно? — спросила Нина. — И про кусты из Турции и Франции?
Я чувствовал, что за стенкой, навострив уши, слушает меня укладывающаяся спать Капля, собирается завтра с утра пораньше в Ботанический сад проситься.
— Я в девяностые да и в конце восьмидесятых каких только халтур не делал. Благоустройством территории старинного санатория вместе с дизайнером ландшафтным, в частности, занимался. Тогда и почерпнул.
Нина улыбалась своей нежной неровной улыбкой.
Я сказал:
— Бабилония, давай поедем в Царское Село.
И она отвечала:
— Давай поедем.
СЕРДЦЕ КРАСАВИЦЫ
«Влюбленный дьявол»
Жак КазоттСамо собой разумеется, что такое тонкое и — как бы это выразиться поточнее? — сомнительное дело, то есть мероприятие, как изучение Земли и землян, не обошлось без эксцессов, недоразумений, накладок, несчастных случаев, срывов, сбоев и так далее, нужное подчеркнуть. Теория, по обыкновению, летела на кры... со сверхзву... со скоростью, приближающейся к скорости света, а практика уныло плелась пешком по этапу. Велся реестр — самый, надо отдать справедливость, подробнейший, — проб и ошибок. Эпизод, о котором идет речь, проходил по разряду ошибок феноменологического характера. Эксперт-разведчик ЭР-1/019-5-24, обладавший немалым опытом, солидным стажем, снабженный убедительной легендой, правдоподобной фамилией, почти совершенно человеческой внешностью, ложившийся спать ночью, встававший утром, чтобы пойти на службу, успешно работавший, обзаведшийся друзьями, женой и даже детьми, внезапно перестал выполнять свои обязанности по исследованию планеты Земля и занялся сугубо личными делами, свойственными исключительно представителям изучаемой им породы. Он влюбился, — что само по себе, естественно, уже относилось к области феноменологии.
Факт этот тщательно рассматривался и обсуждался его сопланетниками; высказаны были разнообразные точки зрения, однако, к единому мнению ученые не пришли.
Личность особы, косвенно повинной в происшедшем, также подверглась всестороннему рассмотрению и обсуждению. Ничего, что отличало бы ее от других известных науке земных особей женского пола, выявлено не было.
Звали ее Тоня Пестрецова. Имя Антонина, отчество Антоновна. У нее был премиленький вздернутый носик; говорила она тихо и чуть-чуть шепелявила. Должно быть, родители ее, озабоченные бытовыми и производственными проблемами, прошляпили недостачу в звуках, возникавших на розовых губках дочурки Тонечки, и не повели ее в нужный период нежного возраста к логопеду. Впрочем, доза лепета, имевшаяся в речи Антонины Антоновны, придавала ее мягкой женственности дополнительное очарование. Тонечкина мать работала поварихой; когда взглядывала она на подрастающую дочь, как, впрочем, ранее на новорожденную крошку и позднее на девятнадцатилетнюю девушку, на ум приходили ей суфле, взбитые сливки, пончики с повидлом, карамель «Мечта», желе, безе, мармелад и зефир бело-розовый.
— Какая она у нас сахарная, — говорила повариха мужу своему, Тониному отцу, Антону Пестрецову.
Пестрецов, поглядывая в окно на оставленный им у дома грузовик, степенно ел борщ и отвечал жене своей, что скоро придется ей стащить на работе кочергу — дочкиных хахалей отгонять.
К шестнадцати годам Антонина ходила еле слышно, говорила не громче, больше дома сидела, чем гуляла, учила старательно уроки, но пассатижи, пожалуй, пригодились бы родителям ее больше кочерги; пассатижами отец и потрясал периодически в коммунальном коридоре километровом, грозясь откусить телефонный провод, — парни вызывали Пестрецову Тоню на все голоса.
— Долго ли будут, — спрашивал пьяница-сосед, — Тонькины кобели телефонную сеть загружать?
— Вопрос ты, как всегда, задаешь риторический, — отвечал Пестрецов и закрывал за собой дверь.
Тоня любила бывать дома, любила темную толстую мебель, крахмальные, вышитые рукою матери, салфеточки, открытки и вырезки из журналов, украшавшие стены: фотографии киноактрис Макаровой Тамары, Смирновой Людмилы и Лоллобриджиды Джины, репродукции портретов Рокотова и Налбандяна, пейзажей Шишкина, Левитана и Грабаря, жанровых картин Остаде, Перова и Лактионова, а также обрамлявшие вышеуказанное великолепие этикетки и упаковки от чулок, мыла и импортного печенья. Она любила звон часов фирмы Бурэ, голос из круглого репродуктора-тарелки довоенного образца, жестяной истошный вопль голубого будильника и трели щегла Гарика, глядевшегося в круглое зеркальце в своей клетке. Она любила пылающую печь-голландку, которую иногда топили торфяными брикетами, жаркие ребра облезлых батарей под окнами, маленький ледник-ящик за левым окном, нафталинное чрево платяного шкафа, в котором висели крепдешиновые платья и чесучовый плащ матери, габардиновое пальто и бостоновый костюм отца. Она любила фигурки перед зеркалом на трюмо: трофейную фарфоровую танцовщицу в юбке из множества тончайших оборок с балетными туфельками на розовых ножках; белых слоников мал мала меньше, лежащую огромную овчарку и возле нее крошечную, как эмбрион, кошечку; толстого гнома из папье-маше.
— А что, Тонечка, — спрашивала ее соседка в стеганом голубом халате, — танцы-то теперь есть?
— Есть, — отвечала Тонечка.
— Что-то ты все дома вечерами; ты на танцы-то не ходишь?
— Нет, — говорила та, улыбаясь.
— Танцевать, что ли, не умеешь? — не унималась соседка.
— Умею, но не люблю, — лепетала Тонечка. — Не интересно мне.
Отец по-прежнему потрясал пассатижами в коридоре.
Когда ЭР-1 впервые увидел Антонину Антоновну, она успела закончить оптико-механический институт и работала в лаборатории... впрочем, это к делу не относится. Роковые обстоятельства, всемогущий случай или невесть чьи происки заставили эксперта, едучи на велосипеде, врезаться в сосну напротив домика-пряника, в котором Пестрецовы снимали мини-веранду с таковыми же комнатой и кухнею; вследствие чего он открыл калитку и через узкие эти врата, не чуя беды, пошел попросить гаечный ключ. На крылечке сидела Антонина Антоновна и играла с пушистым котенком. У нее у самой волосы и ресницы были пушистые. Она подняла на ЭР-1 карие глаза, и он прекратил свое существование в прежнем качестве. Он увез гаечный ключ с собой с тем, чтобы приехать его возвращать. Два дня оттягивал он удовольствие, к вечеру третьего дня отправился, присовокупив к гаечному ключу огромный букет; в оный по рассеянности влепил несколько орхидей и пару цветов, аналогичных цветам его планеты.
— Что вы, — сказала Антонина Антоновна одновременно на извинения ЭР-1 и на его букет.
Один из абонентов, обрывавших ее рабочий телефон и вытаптывающих траву вокруг домика-пряника, с ненавистью достал из колодца ведро воды и поставил букет на крыльцо.
Назавтра в обличье высокого молодого красавца с аполлонийским профилем (поскольку он решил, что в своей возрастной роли при небольшом росте и неказистой внешности не произвел на Антонину Антоновну впечатления) ЭР-1 поднес маме-поварихе две увесистых кошелки и проник на участок домика-пряника, где до вечера помогал Антону Пестрецову чинить обратный клапан электронасоса. Красавица с котенком мелькала за цветными стеклышками веранды, спускалась с крыльца, загорала, варила варенье. Он, как некогда выражались, имел счастье ее лицезреть. Пару раз обратился он к ней; она мило улыбнулась и отвечала, но заинтересовал он ее в виде прекрасного юноши ничуть не более, чем в прежнем обличье.
Уходя, он оставил на крылечке и на щеколде калитки два микротелепередатчика. Теперь он наблюдал за ней когда хотел. По ночам он смотрел сны с продолжением, в которых она выступала в главной роли неизменно; менялись только эпохи, костюмы и антураж. Телефон ее рабочий он блокировал. Сотрудники и сама Антонина Антоновна несколько удивились внезапному затишью; через несколько дней звонки возобновились; но теперь звонил только ЭР-1 на разные голоса. Сотрудники успокоились, а Антонина Антоновна по-прежнему внимала телефонным текстам с безразличием и терпением.
В виде почтальона приносил он ей письма, газеты и журналы; в образе продавца взвешивал для нее виноград; все ее попутчики в пригородных поездах — это был он: супермены в замшевых пиджаках, туристы с гитарами и транзисторами, любители-рыболовы и спортсмены-профессионалы, юные пионеры и даже старушки с вязанием. Теперь он знал ее мелкие привычки, ужимки, родинки; он знал ее вкусы и капризы; знал ее платья, содержимое ее сумок, содержание книг, которые она читала. Он надеялся, что станет ей необходим как воздух. Но Антонина Антоновна была словно заэкранированная, — такая же, как прежде: милая, улыбающаяся, чуть сонная и равнодушная совершенно.
ЭР-1 лихорадочно стал читать местные произведения о любви. Разноязычные тексты всех времен и народов витали вокруг него. Из всех этих текстов слагался неотразимый образ Пестрецовой.
«Хотел бы быть твоим, Семенова, покровом», — читал ЭР-1 отчаянно. — «Или собачкою...»
Сонмы авторов наперебой, как антонинины абоненты, сообщали, чем бы они хотели быть для своих любимых: тенью дерева и пояском платья, перчаткой с руки и обувью с ножки, землею, по которой избранница ступает и воздухом, коим она дышит. И тому подобное.
ЭР-1 для начала оборотился соломенной шляпкою и двое суток служил верой и правдою тенью и сенью, и наблюдал крупным планом чаши ее пушистых завитых, пахнущих шампунью и солнцем, волос, на третий день Антонина Антоновна забыла шляпку в электричке.
Он перебывал по очереди журналом мод, бусами, зубной щеткой, деревом на пляже, газированной водой, внезапным дождем и бездомной собакой. В последней роли ежедневно грыз кости, которыми она его кормила.
Узнав, что Пестрецова собирается отправиться с сотрудниками в театр, ЭР-1 выступил как заезжий тенор. Он очаровал всех. Когда он спел:
Сердце красавицы Склонно к измене... —зал неистовствовал. После спектакля ожидала его у театра толпа поклонниц. Антонины Антоновны среди них не было.
Однажды, сев рядом с ней на траву в виде огромного черно-оранжевого шмеля, он задумался; пришло ему на ум, что он увлекся, перестарался; что она не в состоянии представить его себе въяве, настолько множественен стал его образ, и правильнее было бы ему пребывать в некоем неизменяемом облике, работать с ней вместе или ухаживать за нею, бывать в театре, цирке, кино, дома, на лыжной прогулке, в доме отдыха и так далее; он подумал, что ей, существу человеческого рода, такое, может быть, было бы понятней. Тогда он удалился, оставив ее на время в покое, и стал, учитывая ее вкусы, круг чтения, пристрастия и привычки, моделировать тот оптимальный знак, в форме которого следовало бы ему пред ней предстать. Пестрая вереница героев, актеров, портретов и предметов проходила перед ним: д’Артаньян, Бражелон виконт де, Бельмондо, Бертон Артур, Мастроянни Марчелло... Магомаев Муслим... Бельведерский Аполлон... Делон Ален... Болконский Андрей князь... Штирлиц Тихонов Вячеслав... фарфоровая балерина и гном из папье-маше... Он увлекся и позабыл обо всем. Пока вычислял он, синтезировал, моделировал и экстраполировал, Антонина Антоновна Пестрецова вышла замуж за сына соседки по квартире, той самой соседки в стеганом халате, спрашивавшей ее, умеет ли она танцевать. Сын соседки, Василий, жил в другом городе, на Севере, ходил в загранку, был веселым, толстым и белобрысым; не виделись они лет шесть; последний раз встретила она его, когда еще училась в институте, он шел домой с приятелем, оба были навеселе, и Василий сказал ей:
— Тонечка, у вас такие глаза, что в каждом поместится по три кружки пива!
Это был лучший комплимент, который она слышала за свою жизнь.
УСТИНЬЯ
— А где живете?
— Да на околице у Устиньи Тихоновны.
В лице его что-то сдвинулось, тектоника изменилась, какие-то пласты подспудные поплыли, зрачки сузились, он весь подобрался, смотрел напряженно, настороженно.
— А ты не зять ли ей? — спросил внезапно, взяв ноту выше, почти петуха пустив: неудача, товарищ певец; но мы с ним не пели.
— Нет, — сказал я беспечно; меня перемена в нем уже не смутила; в конце концов, они все тут были тронутые. — Не зять. Я приезжий. Художник из Москвы.
— Вот-т оно что, — сказал он, запинаясь, не доверяя, но и невольно оттаивая.
Мы помолчали. Телега с дорогою трясли нас, как драга. Лошадь шла скромно, прядая ушами, чуть понурившись. Я закурил. Он покосился на меня.
— Хотите сигаретку? — спросил я.
— Не курю, — отвечал он. — Раньше пил. Потом язву вырезали. Бросил.
За поворотом открылась даль, ударило в лицо простором, озерным дальним плесом, покосившимися наделами ржи, гречихи и льна, рощами на холмах.
— Вы здесь на отдыхе? Или рисовать приехали? Пейзажи наши уже неоднократно художники снимали.
— Да у художников отпуска нет, — сказал я, доставая блокнот и толстый цанговый карандаш с жирным грифелем. — Но до пейзажей пока не доходило. Я сейчас портрет хозяйкиной дочки пишу.
Он глянул на меня. По-моему, его передернуло. Неожиданно он приподнялся и с внезапной злобой дал лошади по крупу вожжами.
— Н-но! — крикнул он. — Кляча! К ночи не доберемся.
Изумленная лошадь припустила с холма. Я чуть карандаш не выронил. И решил больше с возницею в беседу не вступать. Так — да, нет, без подробностей. Должно быть, задело их всё же радиоактивными дождями изрядно. Недаром лопухи как слоновьи уши вымахали, а у клевера каждый пятый трилистник с четырьмя листьями. По счастью, у поросят по четыре ножки, да у кур по две, да кошки не лысые. Я вдруг представил себе портрет Таси — в духе леонардовской дамы с горностаем — с лысой кошкой в руках. Постепенно успокоился возница, это передалось и мудрой его лошадке, изучившей, видать, хозяина на манер классического испанского слуги, она сбавила скорость, правда, постепенно, перешла на прежнюю, а хозяин не возражал, не подгонял, сидел и думал. Очевидно, надумав, он состроил фальшиво хитрое и мудрое лицо, приосанился и спросил:
— А фотоаппарат у вас в наличии имеется?
— Здесь нету, — сказал я. — В Москве, конечно, есть. Вы хотели сфотографироваться? Давайте я вас лучше нарисую. Будет вам рисунок на память.
Он не дослушал, напряженно преследуя некую мысль, неясную мне.
— У наших докторов есть, — сказал он. — И у учительшиного мужа. И молодые приезжают в отпуска с фотоаппаратами. Домётовский вон даже с японским. Одолжить можно.
Мы долго ехали в молчании. Наконец, за очередным поворотом возникли несколько изб и лодки на берегу.
— Приехали вы, — сказал он.
Трешку он у меня не взял. Спросил — когда собираюсь обратно; но я не знал и сам.
— Ничего, — сказал он, — если вам лодку дадут на время, а дадут точно, вы на несколько дней берите; на третий плес сплаваете, а потом и домой на веслах, не так и далеко.
Я уже слез и, попрощавшись с ним, направился к деревне. Телега покатилась, а он сказал:
— А что? Вы бы нас с лошадкой запечатлели. Места наши, Богом забытые. Устинью с дочками сняли на фото. Да и Тришкиных Мусю с Ниной. Для портрету.
Очевидно, у него была страсть к фотографии или наивное стремление запечатлеть действительность документально и реалистично в виде вещественного доказательства ее существования, я и в городах, да и в разных странах встречал подобный синдром; в принципе, он был мне понятен вполне, но как бы и чужд и каждый раз удивителен.
— Одолжу у кого скажете, — отвечал я беззаботно, — а фотки потом из столицы пришлю.
Почему-то у меня вдруг вылетело это детское окраинное «фотки».
Он опять нажарил кобылу, привстав, вожжами, она двинула с места в карьер, с укоризною и легким ужасом. Исчезая с глаз долой он прокричал:
— Да уж пришлите! Уж пришлите!
В деревне палисадники ломились от белой сирени. Вся горстка домов пряталась в одном букете. Я легко нашел лодку и направился к острову, проинструктированный подробно, в какую именно заросшую камышом и осокой протоку следует мне свернуть, чтобы, пройдя остров насквозь, попасть к третьему плесу.
В данной местности, да и в двух соседних областях, в частности в Тверской губернии, местные указывали на разные ландшафты, с гордостью повторяя, что вот именно это место «называют русской Швейцарией». Кто называет? Где и когда назвал? Да и был ли когда в сих уголках взгляд со стороны? Особливо взгляд очевидца самой Швейцарии — чтоб хоть сравнить? Но повторяли одно и то же. Может, то была ассоциация с озерами? Я в Швейцарии не был. Вообще для меня подобный оборот был тайной за семью замками; что могло означать: «русская Швейцария»? «Северная Пальмира»? «Неаполитанская Удомля»? Всё сравнивать со всем напоминало мне неудачный перевод, делавший непонятным одновременно и чужой оригинал, и собственный язык. Русская Швейцария. Томская Бавария. Но пейзажи были хороши необычайно. Крутые высокие берега — то скальные, то песчаные сколы, странно сменяющие друг друга березовые и сосновые рощи, гладь воды зеркальная, в которой можно себе представить как отражаются в предзакатные часы кучевые облака.
Вернулся я под вечер. Подгоняя лодку к мосткам, увидел я стоящего на коленях на середине мостков батюшку в подряснике либо в рясе, я не различал. Батюшка полоскал носовые платки. Меня здесь постепенно переставали удивлять детали. Зацепив цепь, защелкнув замок и вынув из уключин весла почти привычно, хотя никто тут не угонял лодок, у всех были свои, я пошел по мосткам.
— Здравствуйте, отец Иван, — я знал, что его так звали.
Он поднял на меня глаза.
— Здравствуйте.
Батюшка был молодой, красивый и серьезный. Здесь его любили без исключения все. Даже те, кто время от времени писал на него какую-нибудь телегу; может быть, исключительно для того, чтобы не терять чувство стиля.
Сойдя с мостков, я обернулся. Стоящий на коленях отец Иван с платком в руке смотрел мне вслед.
Какие-то тайные связи, невнятные для меня обстоятельства соединяли и разъединяли тут людей. Как, впрочем, и везде. Можно только жить и терпеливо смотреть и слушать годами, и тогда появляется слабая надежда хоть на малую степень понимания. Дано ли понимать пришельцу? Или гостю? Не думаю. Никто не обладает той фантасмагорической преувеличенной любовью к людям, объемлющей всё, позволяющей с закрытыми глазами понять вошедшего, первого встречного, каждого встречного и поперечного, вообще всех.
Я же, как всякий гость, влетел в их сюжет, может быть, в самом незначительном эпизоде да и сам-то был из другого анекдота. Почему каждый раз, когда подходил я к дому, соседки смотрели на меня из-за тюлевых занавесок, из-за заборов, сквозь щели в заборах, из малинника? Почему с визгом и смехом бросались от меня прочь дети, почти подкарауливавшие меня до того? Почему с таким остервенением лаяли на меня две соседские собаки Тобик и Джильда? Почему никогда не заходили к нам соседи и Устинья ни к кому не ходила? Кто их знает.
Угощаясь топленым молоком и спеченным из размоченного черного хлеба румяным пирогом с рисом и рыбою, я повернул свой подрамник и смотрел на неоконченный портрет Таси.
— Можно?
В руках у оригинала, вошедшего в комнату легкой походкой, был букет их крупных блеклых полевых колокольчиков, называемых приточной травою, и словно издающих сухой, отвлеченный, подобный шелесту звон.
— Вот, я вам цветы принесла, — сказала Тася.
Откуда-то брались у местных жителей такие дочки. Конечно, Устинья с ее сухим горбоносым профилем, провалившимися, все еще яркими под тонкими бровями глазами и гордо несомой маленькой головой, седая и располневшая ныне, была, видать, в юности очень хороша. Но легкая Тася в золотых кудрях напоминала мать только окрасом взора; в остальном она ассоциировалась с балериной, европейскими феями, Спящей Красавицей и принцессой Уэльской. Сестра ее старшая, Люся, вот та мамина дочка, тоже горбоносая, с уложенной короной вокруг бедовой головушки косой, золотые зубы, папироса в руках; Люся, как рассказала мне Устинья, прибилась к шабашнику и много лет ходила с ним плотничать, невенчанная, ни жена ни невеста, не то что Тасенька, у Тасеньки две дочечки, трехлетняя и четырехлетняя, у мужа в Германии остались со свекровью пока Тасенька приехала, наконец, ее, Устинью, навестить; а муж-то в немецкой группе войск в ГДР, зато у Тасеньки всё есть, такая она у нас нарядная, красавица, вот и Люсе гостинцев привезла, та хоть раз в жизни платье приличное надела, а то ее пьянчуга горазд только пропивать.
То-то с таким подозрением возница спросил меня — не зять ли я Устиньин?
Тася смотрела на свой портрет. Я писал ее на фоне куста лиловой сирени. На портрете она была в голубом.
— Это я? — спросила Тася.
— Разве непохожа?
— Наверно, похожа, — сказала Тася. — Да не узнать.
Меня немножко смешило отношение простых людей к изображениям, к живописи, к искусству вообще. Хотя я ловил себя на том что к «простым людям» мысленно относил всех кого ни попадя, а к сложным, вероятно, только художников, если не себя одного.
Она вглядывалась. Как всегда, когда она входила, с ней входило некое облако аромата и грусти, словно запах дорогих духов, — впрочем, пребывая в Германии, можно было и самым реалистическим образом обзавестись французскими духами, немецкими кремами и шампунем и тому подобное. У нее в этой глуши был такой вид, словно она только что приняла ванну. Сама свежесть.
Заглянула Люся, блеснула золотыми зубами, веселая грешница.
— Вы гляньте-ка, что я на огороде нашла.
Это был медный тяжелый пятак восемьсот десятого года кое-где тронутый зеленью.
— И вон еще что.
У Люси была странная для тридцатилетней плотничихи привычка: она собирала черепки посуды, цветные стеклышки; у нее стояла целая шкатулочка фарфорового боя.
На этом стеклышке, довольно большом, но все же меньше матово-розовой Тасиной ладони, шли рука об руку японец с японкою; должно быть, то было блюдце начала века.
— На что тебе, Люся? — спросила Тася.
— Как полную шкатулку соберу, — сказала Люся, — так племяшкам пошлю, дочкам твоим, девочкам интересно. Смотреть будут, перебирать. Красота какая. У меня там и с золотом, и с цветами.
— Да им не надо, — сказала Тася, — у них игрушки красивые. Куклы немецкие. Вот такие маленькие есть. Маленькие, а глаза закрываются. Закрываются глазки.
— Ну тебя, Таська, — сказала Люся. — И пусть закрываются.
— Какое сегодня число? — спросила Тася.
— Соскучилась без племяшек, — подмигнула Люся. — Вот сердце материнское. Тем более должна понять, что нужно с матерью побыть. Мать давно без нас извелась. А теперь ей утешение, верно, жилец?
Мне нравилось как она сверкает коронками прокуренных зубов.
— Сегодня двадцать четвертое июня, — сказал я.
Тася смотрела на портрет.
— Сирень у вас лиловым светится, — сказала она. — Даже страшно.
Люся обняла ее.
— Чего ж тут страшного, сестричка? Оставь ты это. Хочешь, скажу, кого я сегодня за метеостанцией встретила?
— Нет, не хочу, — сказала Тася.
— А вот то-то и не хочешь, что сама знаешь. Нашего Ленечку с летающей тарелочки. Яблочко наше наливное. Ухажера твоего беззаветного. Ох, упустил он тебя, Таська, до сих пор сам не свой. Про тебя и расспрашивал. Заходи, говорю, в гости. Аж позеленел. Ни за что, говорит. Ревнивый. И злопамятный. Правда, что с тарелки. Инопланетянин хренов. Извините, по мне любишь — ну и люби. Кто помеха? Ни мужья, ни жены. Сердцу не прикажешь, я бы на его месте каждый день ходила. Ловила бы минуточку. Хоть поглядел бы на тебя, Таська, красавица ты наша.
Люся поцеловала сестру в висок и погладила по голове.
— Вон кудри-то как вьются. Чудо природы наше. Ни один мужик мизинца твоего, Таська, не стоит. И на портрет твой любоваться в музее еще будут. Мы с тобой станем старенькие, кривенькие, а на портрете ты у нас всё будешь как сейчас, принцесса Греза, вянет от мороза.
Они ушли, а медный тяжелый пятак остался на моем подоконнике.
Я проснулся среди ночи. Заходились лаем деревенские собаки, безнадежным глухим сухим лаем, каким, верно, заходятся они зимними ночами, рвясь с привязи, чуя приходящих по льду с острова волков, готовых с голодухи задрать цепную жучку. В сенях громыхнуло ведро, босиком пробежали по половикам в соседней комнате, и я услышал хриплый Люсин шепот:
— Маманя, вставайте, маманя, Таисья опять на озеро побежала в чем мать родила.
— Ой, лихо, ой, лихо, сейчас, сейчас, — Устинья вставала и одевалась, задыхаясь, — да возьми хоть халат, куда ж ее голую по улице... вот горе-то, ну идем, Люсенька. Люся, тише, жильца не разбуди.
Хлопнула дверь. Брякнула щеколда калитки. До озера было не так и близко: до горы, под гору, да еще с квартал. Я лежал во тьме. Лунатичка? Сумасшедшая? Я иначе представлял себе сумасшедших. Лунатичка — сколько угодно. Несчастная любовь? Топиться побежала? А почему нагишом? Ходили тут слухи, что у Устиньи мать была ведьма да и сама она ведает малость, дети в карманах кукиши строили от сглазу при ее появлении; может, и кроткой Тасе передалось ведовство, перепала капля языческой магической тьмы?
Должно быть, я уснул ненадолго, а потом услышал — пришли, и только успел подивиться: ведь они не разговаривают, всё молчком, только когда Тасю, видимо, уложили, Устинья осталась сидеть с ней рядом и гладила по плечу, по одеялу и приговаривала как маленькой: — Баюшки, донюшка, спи, ласточка, спи, девочка, спи, лежи тихонько, всё пройдет, спи, донюшка, баюшки... — бесконечно, бессмысленно, и я уснул под ее успокаивающий лепет, как под рокот волн.
Проснулся я поздно. Устинья ушла в продмаг либо в рыбкооп. Завтрак мой стоял на столе, покрытый вышитою салфеткою. Люся во дворе кормила кур и разговаривала с ними, посмеиваясь, Тася в дальнем углу огорода возле баньки полола грядки. Уж не приснилось ли мне ночное происшествие? К тому же, ничего я не видел, только слышал. Но, видать, судьба мне была слушать и дальше. Я пошел возвращать одолженную лодку, решив на обратном пути идти пешком порисовать дали. Спустившись под Образцову — или Образцовую? — гору, которую для краткости называли Бросиха, я догнал двоих. Девушка была наша соседка Мария, Муся, прехорошенькая, круглолицая, кареглазая, бойкая девушка. Спутник ее, молодой, с русыми усами человек в голубой футболке, судя по тексту, и был тот самый Ленечка с летающей тарелочки, о коем слыхал я от золотозубой нашей плотничихи.
— ...и тут меня словно кто под локоть толкнул, — возбужденно и быстро рассказывала Муся, — я и гляжу в щель-то чердачную вниз, на их участок; а эта, Таська твоя бывшая, в кадку с дождевой водой влезла, упаковалась с головой, ты можешь себе представить, и под водой сидит, русалка тоже мне, ужас, Люська с Устиньей выскочили, ее тащут, она упирается, ну, вытащили, ужас, Ленечка, ты берегись, она еще с тобой начнет что-нибудь творить, какие-нибудь штучки колдовские, по старой-то памяти, ведь как ты ее любил, уж я-то помню, принцессу, а она тебя променяла на своего военного, на тряпки германские...
— Да перестань ты, — сказал он то ли с раздражением, то ли с болью. — Что теперь об этом говорить?
— То есть как «что теперь»? — вскипела Муся. — Вот именно теперь! Каково мне-то по соседству там сидеть, знал бы ты! Сам-то даже в тот конец не ходишь, остерегаешься.
— Ничего я не остерегаюсь.
— А то я не вижу! Все видят. Остерегаешься — и правильно делаешь. Она упыриха.
— Маша, ну что ты несешь.
— Уедем, Ленечка! Или ты теперь опять так затмился, что меня знать не хочешь? Уедем. Поженимся, будем жить. Земля большая.
Я обогнал их и поздоровался. В спину мне Муся шептала:
— Ой, Леня, это их жилец. Может, и он такой. Я его боюсь.
Лодка была легкая, ручки весел отполированные, я быстро обогнул мыс с кустами, на котором местные обычно купались, проплыл вдоль угодий метеостанции с беленькими домиками, зелеными ухоженными пространствами с цветами и кустами, огороженными крашеной в белое сеткой, а вот поля с гречихой, рожью и льном, и сосновая роща, а за ней за высоким холмом в низинке деревня, где я причалил к длинным, покосившимся, некогда голубым мосткам.
У хозяев напился я молока, закусив его ломтем ситного с огурцом, и отправился через поля восвояси. В какой-то момент решил я свернуть с дороги, чтобы забраться на высотку с отметкой высоты — столбом-вешкой с опорами и щитом — и, продравшись через папоротники, ночные фиалки, орешник и ольховник, очутился я на горке, поросшей заячьей капустой и бессмертником, с которой открылись мне дальние дали, разные части озера и островов, восхолмия с разноцветными квадратами разнопородных посевов, неказистое хозяйство МТС, стада коров и коз то там, то сям, дороги и тропы, пересекавшие местность, развалины усадьбы, давно переставшие быть развалинами и ставшие фундаментом, вокруг которого благоухали одичавшие розы и шиповник и росли крупные колокольчики блекло-голубого оттенка. Я достал блокнот.
Пожалуй, с третьего листа я разрисовался и увлекся, наброски получались презанятные, и долго скакал я с холма на холм и с пригорка на пригорок, перевалил и мост железнодорожный через овраг — на дне оврага обитался крошечный, похожий на мазанку, аккуратнейший домик почему-то с южными мальвами и с дежурной белой козою, в отличие от меня поневоле оседлой, то есть на приколе. Наконец, поняв, что начисто не знаю где нахожусь и куда идти, я остановился. Посоображав, я попытался сориентироваться по солнышку, вспоминая, где оно было, когда начал я первые наброски; никто не встречался мне, я шел наугад и, услышав шум приближающегося поезда, двинулся на стук колес, добрался до насыпи, увидал проследовавший мимо пассажирский состав. По времени судя, это был поезд в Москву, и меня занесло почти к станции, хотя и до станции было еще топать и топать; я и потопал. Замаячила впереди шатровая островерхая крыша с золотым крестом маленькой кладбищенской краснокирпичной церкви — и я оказался у западной калитки кладбища, а церковь, насколько я помнил, стояла у восточных ворот, откуда рукой подать до шоссе, до домов; там я уже знал куда идти, хотя мне от тех ворот и предстояло пересечь весь крохотный городок от вокзальной окраины до озерной. Могилы стояли тесно, но имелось множество тропок и дорожек сложной планировки, я легко пробирался вперед, к церкви, читая надписи на крестах, глядя на немногие старинные памятники, минуя купы чистотела. Проходя по узкому проходу между двух островерхих металлических оград, я зацепился рукавом за острие и, отцепляясь от него, поглядел на кресты ближайшей могилы. На двух крестах располагались овальные фотографии на эмали, умбристо-коричневые, отретушированные, как кадры из трофейного фильма. На левой фотографии Тася, на правой Люся. Дважды перечитал я надписи под фотографиями. Обе заканчивались прошлогодними датами с небольшим интервалом. Соседняя могилка не имела ограды, я сел на скамеечку, посоображал немного — прилично ли курить на кладбище, и закурил. Чистотел, куриная слепота и крапива, и все цветы на могилах были накачаны солнцем до звона в ушах.
Меня немного сбивал этот звон, и я побрел к церкви, которая так или иначе, видна была тут отовсюду: то крест из-за верхушек кустов, то алое пятно кирпичной стены, то окно. Мне показалось, что шел я очень долго, как во сне, как бы почти не передвигаясь или перемещаясь вперед несообразно с усилиями и временем, затрачиваемыми на ходьбу. Но в итоге открылось взору моему всё здание. У открытой двери с небольшим каменным крыльцом о трех ступенях очень красивой по цвету группою стояли несколько прихожан (в основном, прихожанки) и священник. Разговор шел несомненно мирской, похоже, на повышенных нотах. У одной из женщин в руках были листки бумаги, она ими потрясала, говоря и жестикулируя; прочие вторили; отец Иван слушал с терпением и не перебивал. Я, как сомнамбула, с погасшей в руках сигаретою, двинулся к ним; при моем приближении они замолчали; не знаю, что именно заставило их так смотреть на меня: то ли то, что я был для них Устиньин постоялец, то ли выражение лица, с коим я и возник. По всей стайке словно бы прошла волна единого порыва, и они пустились прочь, распрощавшись с батюшкою; только женщина с листками в руках сказала напоследок:
— Мы этого, отец Иоанн, так не оставим. До патриарха дойдем.
И мелькнули в зеленых вратах чугунных, приоткрытых, и снова загомонили, убывая по шоссе.
Священник остался ждать меня. Видимо, передвигался я всё же как в ускоренной съемке (или замедленной?); ему пришлось подождать, пока преодолел я разделяющие нас метров пять. У него должно было бы быть вопрошающее лицо; однако, он просто стоял, глядя на меня, без равнодушия, но и без преувеличенного доброжелательства и интереса.
— Здравствуйте, — сказал я.
— Здравствуйте, — отвечал он.
Наступила пауза.
Его спокойствие, некая аура тишины, окружавшая его, отчасти передались и мне; мне захотелось побыть рядом с ним, совершенно инстинктивно, бессмысленно, просто захотелось побыть с ним рядом, как перепуганному животному, которое ищет защиты у человека. Возможно, он это понял; или понял, что у меня нет к нему собственно дел, вопросов либо просьб.
— Хотите войти в храм? — спросил он.
В руках у него были ключи.
— А вы собираетесь уходить? — спросил я.
— Да, вот двери хотел закрыть.
— Вы ведь у озера живете?
— У озера.
— Можно я с вами пойду?
— Ну, разумеется, — сказал он. — А в храм зайдете?
— Нет, — сказал я. — В другой раз. Сейчас я не могу.
Пока он возился с ключами, я бухнулся на скамейку у аллеи, ведущей к вратам, и понял, как мне трудно сейчас уйти с этого кладбища, меня как приморозило, и я некоторое время возился с сигаретами и спичками, пока не осознал, что священник стоит рядом со мною.
— Ничего, если я закурю? — спросил я. — Или на кладбище нельзя?
— Курите.
— Может, посидим минут пять?
Уж и не знаю, какое я производил на него впечатление: идиота либо психопата; но он не позволил себе поглядеть на меня взором диагноста и сел рядом со мной на скамейку. Временами дым шел в его сторону и я принимался махать руками, отгоняя дым как тучу гнуса.
— Я Устиньи Тихоновны постоялец.
— Я знаю.
— Дочки ее, Таси, портрет пишу.
— Да? — сказал он.
— А ведь я только что ее могилу видел. Ее и сестры.
Он молчал, потупившись.
— Здесь все с этим живут, — сказал он, — и это тяжко людям. Вот как, вы только что узнали. Я сначала не понял, что с вами.
— Меня тут, должно быть, тоже за покойника принимают, — сказал я. — Сторонятся и шарахаются.
— Тоже? Они не покойницы. Они воскресшие.
— Стало быть, за бывшего покойника. Хотя я всего-навсего будущий.
— Полно вам, — сказал он. — Сторонятся? Шарахаются? Если вы о тех женщинах, коих сейчас видели у храма, они на любого малознакомого так бы отреагировали; они в большом волнении.
— Одна с бумагою; а что за бумага? И по какому поводу волнение?
— Дело в том, — сказал он, как бы нехотя, — что на меня один человек написал... жалобу, что ли...
— Куда жалобу?
— Жалоба, собственно, в трех экземплярах: митрополиту, в газету и в органы.
— Ежели в органы, это в миру называется донос. И в чем же суть доноса, если не секрет?
— Да какой секрет. Уж весь город знает. Он, видите ли, обвиняет меня в том, что я... воскресил Устиньиных дочерей... чем, с одной стороны, сею панику и смуту, с другой стороны, подрываю авторитет науки, с третьей стороны, пропагандирую мистику, совершая чудеса... ну, и наконец, претендую на роль... нет, это уж чересчур, нечего и пересказывать. Да, а ведь был и четвертый экземпляр. В Академию Наук. В Академию, кроме всего прочего, он сообщил, что неоднократно фотографировал исподтишка Устинью с дочерьми, при этом на фото потом получалась одна Устинья. Фотографии прилагал.
— Он нормальный?
— Как вам сказать? Норма, знаете ли, явление вообще нечастое. Он любит на всех писать, давно пишет, небезрезультатно, и плачевные результаты были.
— И в данном разе ожидаются?
— Из газеты корреспондент. Из Академии Наук комиссия. Мне приход данный придется, вероятно, оставить. Плохо то, что прихожане тому зело воспротивятся. В органы меня уже вызывали. Ну, и эксгумация будет, и дело заведут, и Устинью Тихоновну с дочками...
Он вздохнул.
— Эксгумация? — спросил я. — Как в детективе? И что же в могилке отыщется?
— А ничего, — сказал отец Иоанн. — Пусто там.
Мы медленно двинулись по аллее к выходу с кладбища. И к входу в окружающую действительность. Ибо кладбищенский островок был омываем морем житейским.
— Лучше вам уехать побыстрее, — сказал священник, — портрет увезти, адреса не оставлять. Свидетелей тут и без вас достаточно.
— Как интересно. Свидетели. Интересен, хочу я сказать, сам этот криминалистический оттенок. Ведь, вроде, чудо, а как будто преступление кто совершил.
— Знаете, — сказал священник, — общее отношение, то есть, большинства, очень отрицательное; люди испытывают страх... или даже ужас... и ненависть. Трудно Устинье Тихоновне теперь тут жить.
— Это наше местное, — сказал я, — ко всему, выходящему за пределы обыденного сознания, относиться нетерпимо.
— Вы думаете местное? Может, свойство такое вообще в человеке есть?
— Или в обыденном сознании? Тогда не к ночи будь оно помянуто
Он быстро посмотрел на меня.
— В сущности, в обыденном сознании нет ничего, позволяющего именно им объяснять...
Но я его перебил.
— То есть как это нет? Оно мелочно, эпилептоидно, расчетливо, а главное — насквозь рационально. И вот, обладая сим набором свойств, оно желает быть мерою вещей, масштабом, так сказать; чем не цум Тойфель?
Мы уже миновали аллею и выходили. На минуту мелькнуло у меня: ведь можно было бы чудесно прожить тут жизнь, время от времени прогуливаясь с отцом Иоанном под старыми липами и ведя с ним неторопливые беседы о том, о сем. Но мелькнуло да и схлынуло; идиллия виденного проездом без подробностей уже была разрушена, Устинью с дочерьми ненавидели, донос в четырех экземплярах уже был написан, ибо нет мира под оливами, а в городе хотя бы иллюзия пространственная имеется, якобы ты затерян, спрятался, неизвестен; а тут провинция: каждый как на ладони, бывшие живые и бывшие мертвые.
— Знаете, — сказал я, — а ведь меня в Евангелии издавна смущали две вещи, и первая — именно воскрешение. Особенно воскрешение Лазаря.
— Смущали? — спросил он.
— Да, мне так казалось, что видевшему тьму, ну ту, вечную тьму, небытие, должно быть мучительно и невозможно опять вписаться в человеческий мир, в будни теплые, да и, кстати, в обыденное сознание; и он обречен быть призраком, если не внешне, то внутренне; я это чувствовал почти физически как нечто ужасное. Может, и здешние чувствуют именно такое, и оно принимает у них уродливые формы.
— Может быть, — сказал он. — А вторая?
— Вторая? А, вторая вещь. Да, вторая; однажды я понял, вернее, подумал — мол, понял слова Ивана Карамазова о слезинке ребенка, ну, помните, вся мировая гармония такой ценой того не стоит; ведь это он про избиение младенцев.
— Не приходило ли вам в голову, — сказал он, — что в человеческом мире всё в какой-то мере принимает уродливые формы? Среда преломления отклоняет луч и дает ему другой цвет, другую силу, и еще радугу видим мы, как бы весь спектр.
Попадающиеся нам навстречу люди здоровались. Я не особо им нравился, иногда я ловил весьма угрюмые взгляды.
В отличие от липовой аллеи, внезапно удлинившейся, пока мы шли по ней, шоссе как-то укоротилось, и впереди уже маячило озеро. Когда мы прощались, я спросил:
— Отец Иван — отец Иоанн — а это действительно вы их воскресили?
Он стоял против света; за ним полыхало закатное солнце; он мне не ответил.
— До свидания, — сказал он.
И взявшись за верхние штакетины невысокой калитки:
— Уезжайте.
Ни ужаса, ни ненависти, томивших тут всех, я не чувствовал ни в малой мере; может, некий трепет и витал; любопытство великое — да, но более всего мне их было жаль, в первую голову Устинью, да и Люсю с Тасей. А ведь Тася всё время томилась, видать, ей хотелось обратно, в ничто. Если оно — ничто.
Устинья была дома одна.
— А где Тася и Люся? — спросил я.
— Лодку взяли, на остров подались.
— За лисичками?
— Ну.
— Мне, видать, пора вещи собирать, Устинья Тихоновна, — сказал я, стараясь придать голосу ноты бодрости и веселья, — отец Иван мне уезжать велел.
Устинья так и вскинулась. К священнику, насколько я знал, у них у всех отношение было особое.
— Где ж вы отца Иоанна видели? Когда? Что он вам говорил?
То ли за последние часа два я впал в детство, то ли прорвало меня как плотину, но я не сморгнув так ей сразу всё и выложил: и про кладбище, и про донос, и про эксгумацию; опустил только про Лазаря и про избиение младенцев. Видимо, она выслушала бы и это, потому что уже не слушала, а двигалась внутренне по незримой, лишенной формальной логики, нити. Она обхватила голову руками, прижмурилась и закачалась как от зубной боли. А потом и сама заговорила неудержимо, я не успевал следить за ней, мне даже хотелось сбегать принести ей кружку воды, но я остался сидеть.
— Тасенька-то ведь как умерла, ведь толком никто не знает, ведь ее муженек военный через два месяца после смерти ее в Гэдээре женился, может, они ее с его хахальницей вместе и извели, газу была утечка в ванной, и то ли газом она отравилась, то ли сознание потеряла, а потом в ванне утонула, дело темное, замяли, должно быть, да ведь она знает, милый, знает, что была мертвая, а вдруг она и про мужа с любовницей знает, и так деток жалеет, сироток при мачехе, ведь она не может здесь, она всё у нас топится, вот горе-то, родной мой, а мне всё в радость, что они тут опять со мной, такая я счастливая, столько ведь пережила, сама была как неживая, а теперь они обе при мне, донюшки, дочурочки, как раньше, когда маленькие были, а Люся про сестру знает, а про себя не помнит, что мертвая была, а на кладбище не пускаю, могилку не видели, ох, надо бы памятники с портретами убрать, да не до того мне было, от счастья голову потеряла, а кругом-то все нас боятся, и меня ненавидят, и девочек, а за что? Ведь хорошо нам, хорошо, живем, никого не касаемся, не все ли равно людям, Люся-то веселая, а болела недолго, так внезапно с ней получилось, нет, это надо же, и могилу раскопают, а отцу Иоанну сколько из-за нас неприятностей, ты уезжай, дружок, уезжай, рисунки свои забирай, и мы уедем, земля большая, ты погоди, я сейчас соображу, ох, голова кругом, в ушах зазвенело, денег у меня немного припрятано, колечки есть золотые, цепочка, крестики у нас есть, ложки серебряные, паспорта возьмем, да надо ли их брать, вдруг разыщут, хотя смотря куда подадимся, а там и утерять можно, спрячемся, налегке поедем, сейчас, милый, сейчас побегу на станцию, у меня знакомых много, я ведь на железной дороге работала, не на поезде, дак так, сами уйдем, да что ж ты мне воду суешь, не надо, я уже в разуме, ну, собирай вещи да чтобы соседи не видали, дочкам скажешь — скоро вернусь, больше ничего не говори, ничего, молчи, голубчик, про отца Иоанна ни-ни, и про всё молчи, ты ничего не слыхал, ни о чем не подозреваешь, как прежде, ну, обещай мне, сдержись, притворись, не бойся их, ведь знаешь, они беззащитные, они добрые, ну, с Богом оставайся, побежала я.
Тася вошла с кувшинками, в венке из лилий, улыбнулась. Я чуть не ляпнул: «Русалка», — да язык вовремя прикусил.
— А мама где?
— По делам Устинья Тихоновна пошла, скоро придет. Набрали ли лисичек, сестрички?
— Набрали, — сказала Люся, беря «беломорину» и крутя ее в длинных красивых пальцах, — к ночи нажарим да в сметанке и вам поднесем. А что это вы рюкзачок вытащили? Никак, съезжаете?
— В Москву звонил, — бойко соврал я, — там выставка вскорости ожидается, надо работы сдавать. Да я еще приеду. Мне у вас понравилось.
— Вы приезжайте зимой, — сказала Тася. — Зимой у нас тихо. Сугробы. Будете по льду на остров к монастырю ходить. Можно на лыжах, да и дорога накатанная есть.
— Приезжайте, в снежки поиграем, — плотничиха курила, блестя грешными, обведенными тенями голубыми глазами. — С меня тоже портрет напишете. А лучше два. Дурочка в полушубке и машерочка в ватнике. Я к Новому году елочку срублю. Таська, помнишь, как мы елочку украшали? Сами игрушки делали. Маковки раскрашивали. А у нас и стеклянные были, золотые, серебряные, надо на чердаке коробку поискать. Ой, знаете что? Привезите мне из города стеклышек, если у кого посуда разобьется или сами что кокнете невзначай.
— Люся, ну что ты, правда, как тебе не стыдно такую ерунду у человека просить.
— Оставь, Таисья, другим бабам бриллиантов охота, а для меня черепочки милее; да я ведь и не настаиваю, а вдруг к случаю человек вспомнит, труд-то невелик. Пошли, сестра, соберем на стол, жильца извели, аж осунулся, голодом морим.
Ночная темень залила двор, и озеро, и городок; здесь ложились рано, свет экономили, рано и вставали. Я вышел на крыльцо покурить, Люся вышла за мной.
— Задремали мои душеньки, — сказала она, затягиваясь, — пусть отдохнут. Мать с тобой вечером разговаривала?
— О чем? — спросил я.
— Ты, жилец, не дури. О том, что уезжаем мы сегодня ночью. Что ты так вытаращился? Я и в темноте вижу как кошка, ты так удивляться-то не старайся. Мы все уезжаем, ты тоже.
— Так поезда только проходящие, по расписанию.
— Не волнуйся, нам пломбированный вагон персональный подадут по знакомству, по старой памяти. Только ты лучше меньше говори, особенно с Таськой, а то лишнее ляпнешь, ты у нас человек искренний, истовый. Вот и мать с Таськой такие. А я трепушка. Мать с сестрой думают, я не знаю, что и я с того света, думают, не помню я, а мне веришь ли, жить еще занятней стало. Хоть и горько, да весело; да я всегда такая была. К тому же Тася наша, ангел небесный, небось, из рая сюда вернулась, а меня-то рогатенькие уже в котел со смолой кипящей подсаживали. Ну всё, больше на этом крылечке не курить. Пойду прилягу. Сосни и ты часа два. Я тебя разбужу.
Не чаял я уснуть, однако, уснул и видел сон. Меня вели по крутой лестнице вверх. Лестница была уличная, врезанная в склон естественного и подправленного человеческими руками рельефа холмистой местности, в боковину чаши, на дне которой находилась маленькая часовня над колодцем, вероятно, артезианским, ухоженный цветник да пара монастырских построек. Я был я и не я, как случается во сне; а был я, похоже на то, некий церковнослужитель высокого ранга, облаченный в лиловое, в тяжелом головном уборе. Меня вели под руки два послушника в черном, почти мальчики. Я подымался медленно, ибо был стар. На площадках с каменными скамьями мы останавливались после каждого марша, — лестница была крутая и длинная со слегка сточенными временем и подошвами ступенями. На одной из каменных скамеек сидели две молоденькие девушки в платочках и рисовали двор внизу и эту лестницу. Они смотрели на меня с любопытством. Я остановился; но они не подошли за благословением к ручке; должно быть, путешествующие по святым местам художницы, несведущие в обрядах и правилах, не знали, что нужно подойти. Пройдя несколько ступеней следующего марша, я обернулся и улыбнулся им, встретившись глазами с их птичьими полудетскими взглядами.
— Не оступитесь, Владыко, — сказал один из послушников.
Я подымался, думая одновременно о Лествичнике и о другой лестнице в гору, оледенелой лестнице Соловков 20-х годов, по которой заставляли священников втаскивать бревна, чтобы потом вместе с бревнами толкать их, полумертвых после подъема, вниз, к подножию, которого редко кто из них достигал живым.
Мы поднялись наверх и из толпы бросилась мне в ноги Устинья Тихоновна.
— Эта та самая родительница двух воскресших, — шепнул мне послушник.
Гремел колокольный звон. Звонили два монаха, один дородный, молодой, бледный, с угольно-черной бородою; второй щупленький как кузнечик, рыжий, невысокий, с тонкой талией.
Монастырский двор был полон народу. Бегали дети с яблоками и крашеными пасхальными яичками в руках. Святили куличи.
— Встань, — сказал я.
— Смотрите, Владыко, — сказал послушник, — ангелы летят.
— Вставай, жилец, вставай, художник, пора.
Занавески были задернуты, в руках у Устиньи еле теплилась керосиновая лампа с прикрученным фитильком.
— Бери вещи, — сказала она. — Я дом закрою. Да не шуми. Тише ходи.
Люся и Тася уже стояли в сенях. Они и вправду были налегке, с небольшими узелками в руках. Вид у Таси был потерянный.
— Присядем, — сказала Устинья.
Мы сели — мы с ней на лавку, Люся на кадушку, Тася на скамеечку.
Помолчали.
— Ну, с Богом! — сказала Устинья. — Вставай, Таисья, ты у нас самая молоденькая. Теперь Людмила. Теперь вы.
Мы вышли в ночь. Устинья закрыла дом, сошла во двор, обернулась к крыльцу, поклонилась в пояс. Мы пошли за ней, стараясь ступать тише. Соседские собаки лаяли и выли в голос.
— Твари, — шепнула Устинья, — чтоб вас волки съели, суки.
Мы прошли через весь городок, стараясь держаться околицы, и вышли к путям, западнее станции и обогнув кладбище.
На путях стояла дрезина. Около нее маячила фигура в ватнике.
— Не зажигай фонарик, Марья Андревна, — сказала Устинья, — видно и так, пригляделись мы.
— Устя, ты ее оставь в тупике, мы пригоним потом.
— Спасибо тебе, Марья, прощай, ты нас не видела, ничего не знаешь, и мы тебя не видали. Прости. Садитесь.
Мы взгромоздились на дрезину.
— Видишь эту ручку, художник? Ты ее толкаешь вверх, а я второй рычаг вниз. Как дрова пилим двуручной пилой. Понял? С дыхания не сбейся. Главное завести, потом легко пойдет. Ну, поехали.
И мы поехали.
Время, пространство, ночь, усталость от непривычных движений — всё слилось, и я не знаю, сколько мы проехали, где мы находились, когда Устинья сказала:
— Передохнем.
Мы долго летели по инерции, постепенно дрезина замедлила ход и наконец остановилась.
— Время у нас еще есть, — сказала Устинья, тяжко дыша, — главное в нашем деле убраться с путей в тупичок на боковую ветку до того, как по этой пассажирский пойдет. Ты молодец, художник. Поясница болит?
— Шею ломит.
— Разомнитесь, граждане пассажиры, прогуляйтесь, сходите в кустики.
Кустиков, собственно, никаких не было, или были далеко во тьме; высокая, шуршащая, неземная, острая трава шелестела по обе стороны насыпи, волнами неразличимого моря откатывалась во мрак, в котором угадывались холмы без жилья и людей.
Люся и Тася молча побрели в эту траву. Тася то ли слезы отерла, то ли поправила платок.
— Всю жизнь в этом доме прожила, — сказала Устинья. — Мужа на войне убили, я с девочками осталась, у нас только одна была воздушная тревога; мы почему-то все к озеру бежали. Дурь уела. Берег низкий, сверху мы как на ладони, он пикирует, стреляет, мы бежим, кричим, у меня девочки на руках орут. У кого детей нет, те с узлами. А другие с козами. Место странное наш берег, так и тянет. В двадцатые годы там только и расстреливали. Казалось бы — отведи в овраг да и стреляй; нет, на берег тащатся. А грозовые тучи бывало, так и ходят над озером кругами, так и ходят, часами грозы, а на озере волны точно на море. Ты что так смотришь? Дом это мой. Со всей жизнью простилась. Бесприютные мы теперь с какой-то стати. Но по мне хоть куда, лишь бы с доченьками. Они-то у меня совсем бесприютные, радости мои, ну и я с ними. Всё мое счастье в них, жилец.
В стеблях несоразмерно высокой и колючей травы бродил ветер, по жилам и прожилкам листьев непонятная мне сила перемещала соки, трава готовилась к утру, к туману, собиравшемуся в ее космах в метагалактики, облака, клочья. Сестры вышли из травяного леса держась за руки, не проронив ни слова поднялись по насыпи и сели на дрезину.
— Сейчас встречный будет, — крикнула мне Устинья сквозь ветер, поднимаемый нашим вторжением в стоячий омут ночного воздуха, — не бойся, художник, это по соседнему пути, не сбейся, нам сейчас медлить нельзя, а то нам сзади пассажирский штемпель напоследки припечатает.
Но волна рева и воздушная волна встречного окатили меня так внезапно, что я чуть было не покатился кубарем под откос в заметавшиеся стебли. Ночь еще не успела пойти на убыль, а впереди замелькали огни станции, к которой мы и стремились, робкие и растекающиеся огни увеличивались, среди них мелькали и рождественские ультрамарино-кобальтовые голубые, и изумрудно-зеленые, и желто-оранжевые. Мы гасили ход, тормозили, Устинья переводила стрелку — перед нами и за нами — и наконец наша дрезина угомонилась в тупике на никуда не ведущих рельсах.
Мы брели к станции, а Люся уже закурила, с дымом вдохнув уверенность, и заговорила об этих огнях с той точки зрения, что, мол, всю жизнь мечтала о стеклышках с железнодорожных путейских фонарей, особенно о голубых и желто-оранжевых, да вот не подфартило. Устинья шла впереди, с одышкой, но как бы легче и бодрей всех, откуда силы брались; нам попалась навстречу стайка железнодорожниц в оранжевых жилетах поверх телогреек с ломами на плечах, видимо, из представительниц слабого пола, укладывающих шпалы на всех магистралях нашей необъятной; какое все-таки бабье царстве эта самая страна моя родная, упорно пускавшая мужиков своих в расход, ставившая их под ружье, морившая их по лесоповалам и великим войнам! А баб девать было некуда, и они ковырялись по-бабьи с лопатами и латали дыры; собою, по преимуществу. Вся жизнь наша — бабьи латки, штопка, лицовка от бедности, лишь бы концы с концами свести. Концы света с концами света — так, что ли? Ибо именно в соответствии с благой вестью мертвые и должны были вставать из гробов, не мытьем так катаньем. Станция уже омывала нас вокзальным светом, теплом, шумом, запахами туалета, гари, пирожков и цветущего на отчаянно облезлых клумбах табака, когда я ускорил шаг и нагнал их, идущих передо мною, ни живых ни мертвых от усталости, неизвестности и непривычного кочевого мира, распахнувшегося перед ними.
— Давай прощаться, — сказала Устинья, — скоро твой поезд на Москву, вон с той платформы. Беги в кассу.
— Запишите адрес мой, Устинья Тихоновна. Дочки ваши молодые, красивые; как замуж выдадите, внучонком обзаведетесь, дайте знать, я крестника хочу.
— Ну ты молодец, кум, чего придумал! — заулыбалась Люся, засверкала золотыми зубами. — Тебя, Таисья, и выдадим; ты только смотри нам анчихриста не роди. Они и так штабелями от радиации, говорят, рождаются.
— Люся, да ты что болтаешь, ведь он с нами прощается, уедет сейчас и не увидимся. Спасибо вам за всё... и за портрет...
— Их в роддомах и помечают. Сбоку имя, как нарекли, а с другого в скобочках: анчихрист. Вы уж про стеклышки не забудьте. Как до рудников сибирских доедем, мне это сердце будет греть: в Москве меня горсточка в коробочке ждет...
Как ни странно, я купил в кассе билет до Москвы в общем вагоне.
Уже рассветало, а я всё пытался увидеть в окно ту траву, но то ли я ее не узнал, то ли просмотрел, то ли ее не было вовсе. Да к тому же туман уже растворял низины, разбалтывая бытие с небытием, вливая в плотно сколоченный рельеф ничто. В соседнем купе пили, говорили по душам, звенели бутылками. Где-то в конце вагона плакал грудной ребенок. Я хотел спать, и сознание мое раздваивалось, и вагонные голоса слушал я как бы левым ухом, а в правом был шорох сухих колокольчиков Тасиного букета, шелест колосьев, этих рассеянных по холмам зерен, еще не собранных в хлеб, Люсин хрипловатый смешок, Устиньино: «Прощай, жилец!» — и лай собак.
НЕЗДЕШНЕЕ НЕБО
Во дворе орут, гремят, матерятся то ли подростки (большенькие такие подростки-бройлеры, акселераты), то ли наркоманы, то ли нанятые вомбаты, то ли приблатненные козлы. У кого-то периодически возникает идея угнать из одноэтажной пристройки, прилепившейся к брандмауэру и превращенной в сдаваемый за кругленькую сумму жилконторою гараж, два автомобиля — «Остин» и «Десото» — или хотя бы один? — мечту водителя, грезу угонщика. Ворота и замки поставлены на гараж самоновейшие, шума, блям-блям, много, но дверочка не открывается, замочек не сбивается, решеточка на оконце гнется, а в руки не дается. В прошлый раз сараюшку подожгли, то-то было веселье с иллюминацией, даже пожарные приезжали, тоже не смогли войти ни в дверь, ни в окно, зато крышу разворотили, огонь сбили — и вовремя, у каждой тачки бак на сто литров, рванет — не оберешься. Предполагаемые наркоманы с улюлюканьем катают по двору баки с мусором и припаркованные вдоль стен безгаражные автомобили. Ни один автомобиль не отвечает им воем сигнализации, обмерли противоугонные квакалки. Ни один хозяин не выскакивает из подъезда.
Мальчики, прибавив звук, сквернословят, рычат и трындят с утроенной силою. «Что их так разбирает?» — думает Колычев, гасит свет в комнате, чтобы они были виднее, а он невидим, отдергивает занавеску, открывает балконную дверь, бесшумней ниндзя выходит с сигаретою на балкон.
Метущаяся на ветру, по-летнему разросшаяся за теплую весну листва скрывает от него еле заметные во тьме фигуры. В его поле зрения попадает нечто светящееся, он поднимает глаза. Огромная неправдоподобная звезда горит на востоке. «НЛО?» — Колычев переводит взгляд и обнаруживает доселе неизвестное ему созвездие. Зато не видит ни одной из Медведиц, вместо них на небе нечто неподобное. Детки внизу вяло сбивают несбиваемый замок.
«Почему так темно?» — Колычев холодеет, сообразив наконец, что ведь белая ночь, начало июня и то, что он принимал поначалу за тучу, — натуральная чужая тьма чужой ночи с чужим небосводом. «Может, я слепну?» Но в комнате он видит всё отчетливо. «Может, дело в оконном стекле? На кухне старая рама, финская, а в комнату намедни самоновейшую японскую поставили, супер, может, она со спецэффектом?» Но на балконе никакой рамы нет, всё натюрель. Колычев выходит на лестницу, поднимается на чердак, вылезает на крышу.
Четыре луны разного размера и разного оттенка сторожат неизвестно откуда взявшееся нездешнее небо.
У Колычева начинает непривычно кружиться голова, он возвращается в квартиру. «Может, нынче полнолуние, и у меня на почве полной Луны едет крыша?» На чертовом календаре фазы Луны не помечены, кто только издает такие календари в наше время? хорошо, хоть год не забыли указать, две тысячи восемнадцатый у нас, как и утром был, второе июня, нет, еще первое, впрочем, через полчасика понедельник кончится, сменит его вторник. На вторничном листке записан новый телефон старого друга, Колычев набирает номер, друг берет трубку.
— Ты не мог бы выглянуть в окно?
— Зачем? Ты под окном стоишь?
— Выгляни, я тебя прошу.
— И что?
— Что ты там видишь?
— Ничего выдающегося. А ты что видишь? Неопознанный объект маячит? Тихий ангел пролетел?
— Говори, какие там звезды.
— Тронулся? Экзаменовать меня взялся? Атлас прикупил? Кроссворд решаешь? Я светил небесных названия с детства запомнить не могу. Да и светло, белая ночь, звезд почти не видно. Отстань.
— Подожди. А как насчет Луны?
— Нет там никакой Луны. Ты видишь Луну?
— Вижу. И не одну. Их четыре штуки.
— Ты что, старый птюч, приторчал, что ли? Молочко из-под бешеной коровки вместо нормального питейного у барыги купил? Не покупай где попало питейное, нарвешься.
— Да хватит тебе, глюками не страдаю, не пил я сегодня, весь день за рулем по заказчикам мотался.
Некоторое время они беседуют вхолостую. Наконец друг, не вполне, частично, подозревая розыгрыш, решается ему поверить.
— Выходит, в твоем окне другое небо?
— Выходит, так.
— Только в одном окне?
— Во всех. Я и с крыши смотрел, тот же эффект.
— Значит, — замечает друг глубокомысленно, — дело не в окнах, а в тебе.
Друг обещает никому не рассказывать, подумать, позвонить завтра, советует тяпнуть рюмку и лечь спать.
— Что у тебя за проблемы? — говорит друг. — Я вообще наверх не гляжу, мне до лампочки, какие там звезды и есть ли они вообще.
Положив трубку, Колычев снова выходит на балкон. На сей раз равнодушное нездешнее небо нагоняет на него страх.
Задернув занавески, он набирает номер Алины. Он просит ее заглянуть к нему, — нет, не на днях, не когда-нибудь, а сейчас, сию секунду, немедленно. Для их отношений подобная просьба не вполне характерна. Алина несколько удивлена, но отчасти польщена, но, разумеется, согласна, сейчас будет. Он снова открывает балконную дверь, стараясь не глядеть вверх, ретируется в глубину комнаты; ему слышно, как там, на улице, в доме напротив хлопает дверь парадной: Алина выходит, что тут же подтверждается знакомым торопливым стуком ее каблучков, Алина не любит ходить ни в сабо, ни в кроссовках, она чуть старомодна, предпочитает туфельки. Стук острых подковок тревожит тишину успевшего отдохнуть, покинутого бесящимися юнцами двора.
Войдя, она недоумевает: не включена музыка, не мерцает видек, не подсвечен аквариум, стол не накрыт на две персоны, ни пиццы, ни вина, ни цветов, ни запаха только что смолотых кофейных зерен, квартира не погружена в полумрак, в полумерцание, не приведены в движение мобили, Алину не встречают аксессуары их несколько увязшего в вещественных романтических подробностях, затянувшегося, не переходящего ни в свадьбу, ни в разрыв романа.
— Что-то случилось? — спрашивает она. — Надеюсь, не какая-нибудь уголовная история с твоими миллионерами-заказчиками?
— Нет.
Он понимает наконец смысл ее недоумения, удивленного лица — и идет молоть кофе.
— Кофе я и дома могу попить, — говорит Алина. — В чем дело? Рассказывай.
Ему просто страшно одному за задернутыми занавесками, не по-мужски боязно, а она, что ни говори, — его женщина; на секунду он чувствует величайшее отчуждение и не понимает, зачем он ее позвал, но только на мгновение. Деваться некуда, врать он не любит, ему приходится рассказать про четыре луны. Лицо ее кажется ему далеким и незнакомым. Алина, настроившаяся на объятия, поцелуи, на радости телесные, на перспективу уйти от него рано утром, а в середине ночи продолжить ужин под музыку, разочарована и растеряна. Но в конечном итоге ведь он — ее мужчина, и в какой-то степени она должна его поддерживать, ему помогать, сочувствовать ему хотя бы.
— У тебя галлюцинации? — спрашивает она озабоченно. — Давно это с тобой?
— У меня не галлюцинации, а галлюцинация. Одна. Датированная вторым июня. Всё остальное вполне буднично и реалистично.
— Может, это связано с микрорайоном? — предполагает Алина.
— С чем?
— Ну, в нашем микрорайоне может быть наводка поля какого-нибудь колдуна, мага, экстрасенса, контактера... или коллективной медитации... а ты сверхчувствительный приемник, улавливаешь чуждые тебе волны и отвечаешь на них деформацией сознания.
— Приемник?
— Я ведь тебе рассказывала: люди делятся на приемников и передатчиков.
Конечно, рассказывала. Алина — специалистка по всякой экстрасенсорной требухе и психоделической хренотени. Он никогда ее не слушал, выключался, ее долгая, полная незнакомых слов речь превращалась для него в щебет, лепет, рокот волн.
— Можно проверить, — говорит он. — Машина на улице под окнами, поехали в другой микрорайон.
И они едут.
Но и на Васильевском, и на Петроградской, и на островах подстерегает Колычева угрожающий купол чужих небес. Алина тычет пальцем в небо, показывает ему единственную дежурящую на белонощном своде большую звезду, которую он не видит. Он в свою очередь указывает на четыре луны, грандиозное светило на востоке, и прочие чудеса, существование коих для нее недоказуемо.
В конце концов под лепет Алины о пулковской ауре они преодолевают Московский проспект и въезжают на территорию обсерватории; по дороге она звонит пулковскому приятелю.
— Не поздновато для звонка?
— Они раньше трех не ложатся, — безапелляционно заявляет она. — Они астрономы — и он, и жена его, им всё и расскажешь.
— Зачем? Мне не хочется делать свои заморочки достоянием общественности.
— Они ведь специалисты. И люди не болтливые, а общих знакомых у вас нет. Они могут сказать, что именно ты видишь. Может, ты стал контактером и воспринимаешь точку зрения инопланетянина на какую-нибудь область космоса или Солнечной системы.
Их поят чаем, приветливо и с сочувствием его выслушивают; при других обстоятельствах визит и посиделки в комнате с окном, распахнутым на куст сирени, были бы в кайф. Все выходят на улицу, ему вручают нечто вроде миллиметровки с концентрическими кругами, контурную карту неба, и просят нанести на нее то, что он видит. С трудом, кое-как, пыхтя, нерадивый школьник, он наносит на карту безымянные звезды, принадлежащие лично ему. Астрономы в недоумении, они не узнают нарисованного космического ландшафта и даже гипотетически не в силах предположить, где должен находиться наблюдатель, чтобы ему открылась подобная картина.
— Что же я, по-вашему, вижу? — спрашивает он. — Может, другую Галактику?
— Возможно, возможно. Алина, почему бы тебе не сводить нашего загадочного визионера к твоему психиатру, то есть экстрасенсу? Вдруг это по его части?
Алина розовеет, она слегка смущена. «Вот как, — думает Колычев, — „твой психиатр“; что-то я про него не слыхал».
Ночное шоссе, ее щебет, да, у нее есть знакомый парапсихолог, мы к нему завтра съездим, то есть сегодня. Он отвозит ее домой, к себе не приглашает; она раздосадована, почти обижена, однако старается свои чувства скрыть. Колычев опустошен, он устал, ему не до ее чувств. Он не против поездки к экстрасенсу, хотя и не за. Его обволакивает неведомое ему прежде облако тоски, пронизывает ощущение тщеты и занудства бытия. Дома он заваливается спать, не отдергивая занавесок, не выключая света.
Наутро Алина тащит Колычева к психиатру, он же экстрасенс. Маленький офис, дверь в стене, открывающаяся после переговоров с секретаршей. В ярко-белой приемной сидящие в суперсовременных креслах пациенты смотрят детектив по телевизору, у всех смотрящих, невзирая на тарарам на телеэкране, застывшие маски вместо лиц, ни тени выражения, никаких эмоций. Искусственные пальмы и апельсиновые деревья в пластмассовых кадках Колычеву не нравятся. Алина шепчется с вышколенной секретаршей. Экстрасенс, он же парапсихолог, принимает их без очереди. Это чернобородый тип, холеный, благоухающий рекламируемой на каждом перекрестке туалетной водой для стопроцентных самцов. Выслушав Алину, потом Колычева, психотерапевт начинает задавать вопросы, то ли дознание, то ли приемный покой дурдома. Понимающе кивая, чернобородый долго плетет про сензитивность, синхронность, карму, психоидов, про оптимизацию мировоззрения, обратный сглаз, деформацию поля, подавление любви к людям, телепатическую контаминацию и частичную перцептацию. Он записывает Колычева на прием через неделю для подробного тестирования. Колычев выходит на улицу в ярости и говорит Алине, что давно не видел такого отвратительного наглого шарлатана. Алина воспринимает его слова как кощунство. Она не соглашается сесть с ним в машину, она возмущена его невежеством и бестактностью, она очень похорошела после беседы с психологом, сексапильна, как никогда; заказчики-миллионеры, говорит она, которым Колычев проектирует квартиры, все до одного ущербные типы, общение с ними само по себе искривляет энергетическое поле и создает кармические проблемы; ей не нравятся его заказчики и он сам. «Нам лучше расстаться, мы не близки духовно». Колычев уезжает один.
Он встречается с заказчиком, выслушивает его пожелания относительно интерьера гостиной на втором этаже ремонтируемой квартиры.
— Пусть всё конкретно будет, как на дне, — говорит заказчик, — в две стены от пола до потолка вмонтируй обалденные аквариумы с подсветкой, рыб мне в ихтиоцентре подберут, две стены сделаешь, как рифы, нет, только одну, одна пусть будет, как затонувший корабль, все равно какой, хоть «Титаник», хоть старинный пиратский, инсталляция по твоей фантазии, но чтобы со скелетами, блин, и с утопленниками, а под потолком повесишь креативную рыбину, большую фишку, как нарисуешь, так и исполнят, такую, блин, гендерную, как конфетка, прямо секс-символ, нанимай кого хочешь, авангардиста, скульптора, но чтобы человек с именем, а рыбу пусть разделает под Фаберже, глаза инкрустированы хоть стразами, хоть драгкамнями, и подсвети, пусть блестит, сделай на мать ему, за ценой не постою.
Колычева мутит, он слушает, неотрывно глядя на перстень заказчика, устрашающих габаритов перстень с фианитами, напоминающий кастет. В качестве задатка заказчик выдает Колычеву тысячу баксов. Надвигается вечер, все наслаждаются светом белой ночи, а для Колычева снова начинает темнеть, он решает загулять, планирует напиться, подцепить девицу, он согласен на проститутку, есть молоденькие и прехорошенькие, надо только места знать. Выбрав фешенебельный ресторанчик на Екатерининском канале, он старательно загуливает.
Настолько старательно, что, наплясавшись, выруливает в небольшой провал в памяти, из которого материализуется в пренеприятнейшую сцену: два молодых придурка бьют его на набережной. Разумеется, он сопротивляется, но их двое, а он пьян, к тому же у них совести нет, а у него имеется, это на уровне подсознания и иногда очень мешает. Он не помнит, каково было начало, как сцепились они в трио, то ли мальчики развлекаются, то ли хотят баксы отнять и попутно куражатся, то ли тренируются, то ли он им ляпнул лишнее. С ним такое случается. Ко всему прочему, у них светло как днем, белая ночь, а у него слепящая мгла, поздно, луны давно болтаются в чужом небе, прохожих нет, надеяться не на что, он уже валяется на асфальте, ему бесконечно больно, он почти смирился с мыслью, что ему каюк, сейчас его убьют.
Выстрел.
Один из парней, вскрикнув, хватается за плечо, падает, светлая куртка в крови, парень с трудом встает, кричит второму: «Сваливаем!» Второй выстрел. Похоже, второму мальчику пуля попортила кисть левой руки. Убегают они, однако, весьма резво.
Колычев по-прежнему лежит на асфальте.
К нему подходит только что сошедшая с горбатого мостика девица в модном прикиде с загорающимися и гаснущими микроскопическими цветными лампионами, с револьверчиком в руке, руки в замысловатых черных перчатках с дырками и в блестках; он разглядывает перчатки.
— А ты, хмырь, что разлегся? — спрашивает мелодическим голосом его спасительница. — Копыта собрался откинуть?
Колычев поднимается. Сперва на четвереньки. Потом, хватаясь за тумбу парапета, принимает вертикаль, прислонившись в тумбе. Вокруг по-прежнему никого. Стреляй не стреляй, никто носа не высунет.
— А если бы ты их застрелила? — спрашивает он.
Голова гудит отчаянно, по скуле течет кровь, губы разбиты, говорить неприятно, дикция никуда не годится.
— Ну, и валялись бы тут, блин, — отвечает она беспечно. — Это даже романтично. Кому они нужны, шваль помоечная. Двумя больше, двумя меньше. Говорила я им: «Отвалите, херувимы, стреляю». Не слушали. Ты идти можешь?
Он демонстрирует свои возможности по части ходьбы, поначалу согнувшись в три погибели, приволакивая ногу.
— Хрен с тобой, — говорит она, пряча дамский револьверчик в фосфоресцирующую сумочку, — я тебя подвезу. Мне судьба бухих да битых по ночам развозить. У меня мазо такое.
— Такое — что?
— Хобби кармическое, блин, харизма с вершок.
Она тащит его по горбатому мостику. На той стороне канала стоит ее шикарный лимузин.
Сойдя с мостика, Колычев резко распрямляется, голова идет кругом, его начинает рвать.
— Да отойди ты в сторону, тухлая кобелина, — кричит она, — ты мне тачку заблюешь!
Они мчатся по безлюдному ночному городу. На каждом повороте его мутит.
— Чего они от тебя хотели, сявки недотыканные? — спрашивает она, тормозя перед Московским вокзалом.
— Не помню. Может, баксы чуяли.
— А у тебя баксы есть?
— Немного.
— По тебе видно, что немного, — фыркает она. — Было бы много, ты бы с трезвыми телохранителями в запой впадал. Ну, и видок у тебя. Жалко, что я их не пристрелила, неудача какая, непруха.
Она вволакивает его в лифт, помогает ему открыть дверь: разбитые пальцы Колычева не слушаются, ключ не повернуть.
— Ну, спасибо тебе, — говорит он в прихожей.
— Спасибом не отделаешься, — смеется она.
— Тебе что, натурой отплатить? Так у меня сейчас приступ импотенции, да и душа не стоит.
— Ладно хамить-то, ты и не умеешь. Спина болит? Почки болят? Тоже мне, натурой. Хрен плейбойский. Нужен ты мне. Вокруг меня знаешь, сколько бугаев? что грязи. Хотя глазки у тебя красивые. Только один заплыл маленько. Не тарухай, очнешься к утру, импотенция рассосется. Сейчас я тебе, фиг с тобой, чайник поставлю, у тебя хваталки с дефектом на данный момент, — и чао, бамбино, сорри. Можешь по утрянке в травму сползать. Проверься.
— Не хочу больше у докторов проверяться, напроверялся.
— Кого посещал? Венеролога? На СПИД кровушку сдавал или на сифилис? Может, у тебя гепатит? Или вульгарный триппер? Признавайся.
— Психиатра посещал.
— Иди ты.
Она разбалтывает растворимый кофий, сбивая его с сахаром, подает ему чашку. Кофе дымится, она пьет за компанию, он ей рассказывает, оттаяв, про другое небо. Она в восторге.
— Я тоже хочу! И ты не можешь мне свою звездную фазенду показать! Как неприкольно! Давай я буду заезжать по ночам, вдруг как-нибудь из твоего окна и я увижу.
— Это не заразно, — говорит он. — И при чем тут окно? Я и из других окон то же самое вижу. За город ездил, там та же картина.
— А психиатр с какого боку?
— Я своей... девушке рассказал, она меня к психиатру сводила.
— Девушке! Подруге жизни! Так и говори: любовнице. Надо же. Сводила. Дитятя нашелся. К психиатру. Козла к козлу. Вообще-то ты мог никому не рассказывать. Зачем? Лови свой кайф сам. Такие глюки задаром — он еще и недоволен.
— Я испугался.
— Чего?
— Ты не понимаешь. Будь ты на моем месте...
— Будь я на твоем месте, я бы только ночи и ждала. Что за прибамбасы, чего ты, собственно, боишься?
— Боюсь чужого мира. Боюсь, что всё вокруг изменится в любую минуту. Боюсь, что никто не может мне объяснить: с чего я вижу такие звезды? Откуда они? Почему их вижу только я?
— Чего тут объяснять? Просто видишь. Не хочешь — не смотри. Прячься к ночи в сундучок.
«Действительно, — думает он с облегчением, — кому какое дело?» «И все-таки, — думает он с содроганием, вспоминая светило на востоке, — сколько это продлится? Месяц? Год? Пока коньки не откину?»
Она по-прежнему в восторге.
— Нет, я тащусь, ё-мое! Как мне подфартило, марсианин, что я тебя подцепила! Какой прикол!
Пока она болтает у него за спиной, звякая цепочками, чиркая карабинами застежек, то ли одевается, то ли раздевается, ну, блин, ну, абзац полный, прямо ботва на голове выросла («Интересно, — кто она такая? маленькая убийца из компании самоучек? дочка новодельного миллионера? проститутка из восьмизвездного отеля? студентка? любовница рэкетира? пролетарская разбогатевшая девчушка? их теперь не разберешь, у всех один имидж из ремейка видеосериала „Никита“»), он смотрит, отдернув занавески, в принадлежащее только ему нездешнее небо, впервые за сутки улыбаясь, хотя улыбаться больно. «Как я с такой рожей явлюсь завтра к заказчику? Впрочем, как она выражается, это даже романтично». Продолжая улыбаться, он думает: «Что это я, правда что встрепенулся? Откуда, зачем, почему, не один ли хрен ли? Вижу — и всё».
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
Ухрюкались мы переводимши, дотранслировались до ручки.
Спервоначала мызгались помаленьку со словарями, концы с концами сводили. Далее — с концами, как отрезало, мистейк на мистейке, ремейк на ремейке, где что — хрен поймешь. Так, можно сказать, невинно начиналось! Пригласил начинающий наш издатель, мать его за ногу, трех переводчиков, за нижние конечности и их родительниц; пригласил, ежу понятно, порознь, коммерческая тайна, текст всем подсунул один и, сев у грядки, стал ждать, у кого лучше овощ взойдет. Ну, положил пред собою все три перевода, да с ходу и спекся. «Было у садовника три дочки: Маргарита, Гортензия и Виолетта». — «Три дочурки у садовника были: Ромашка, Анютка и Фиалка». — «Жил-был садовод-любитель, а с ним три любимые дочурки: Роза, Мелисса и Незабудка».
— И за эту чухню, — спросил нас издатель, — им такие бабки должны отламываться? Сами переведем, сами и башли получим.
Сказано — сделано.
Перевели: «Жил-был садовник. Любил он трех своих дочурок, — Гортензию, Розу и Мелиссу». К Мелиссе комментарий написали: мол, мята. Все довольны остались. Решили: переводим отныне только сами, специалисты нам не нужны, словарей полно, на своем худо-бедно изъясняемся, не хуже большинства читающих, а если малость похреновей читаемых, кто поймет?
Прокололись мы книжке на третьей из-за записи на слух. Глюки запустили. Кузя «мемориальный комплекс» с ошибочкой набрал; а Дюдя корректуру-то вычитывал, вычитал «мимо реальный комплекс», да на «воздушный замок» заменил. Убойная вышла по совокупности моментов инкунабула. Инку набу ла. В этом роде там тоже имело место быть.
Кузиного приятеля приятель, инженер со стажем, завез из дальнего зарубежья большой сериал типа «Всемирной литературы» для идиотов и домохозяек, и помаленечку начал для нас толмачом ишачить; пересказал с пересказа пересказа с языка на язык мифы Древней Греции и восточные сказки. С руками отхватили. Потом пару детективов замастрячил. Хорошо пошло. Затем, вроде бы, был прозаический перевод с прозаического перевода восточной поэмы про любовь; имена у героев — жуть, язык сломаешь, до мата полбуквы не хватает; съели и это. Но при работе с последующим сюжетом Кузиного приятеля приятель стал затрудняться и Дюдиной бабе, у которой словарь потолще, звонить: советовался. Был там у него, например, персонаж Боб Гудноу. Приятеля приятель, бiсова puppen, и начал мудрствовать. Рассудил он, что Боб — это имя, а действие происходит в глухую старину, а вместо имен у тогдашних аборигенов бытовали прозвища типа кликух; поскольку фасоль женского рода, назвал он своего героя фигова Стручок; что до Гудноу, решил он, то «гуд» — хорошо, «ноу» — знать; ну, и вышел у него Стручок Всезнайка. Кузиного приятеля приятель — плейбой с заявками, не знает, куда себя девать, золотая головушка, и в вечном поиске пребывает; шукай, був! На шукание его сквозь пальцы мы смотрели, а зря. Когда тираж разошелся, кто-то возьми да в текст противогаз свой и сунь. Главный-то Стручок Всезнайка, а впридачу наличествуют Сэм по прозвищу Оутрепью, Мэрион Мнайзек, Паймен-писака, Веселый Шьюски и многие другие. И как приступил Оутрепью у каскада Мэрион вкручивать про королевство впридачу, даже Дюдя въехал, блю кенери, что к чему, вспомнил среднюю школу и родную речь не мальчика, но мужа; «Вот наконец-то, — как выражалась Мэрион у Кузиного приятеля приятеля, — сейчас ты не так юн как прежде, но мужчина».
Надо бы Кузиного приятеля приятелю запретить ботать, да кто без греха, не пресекли, то ли пожалели, то ли пожадничали. Позже перешел он на фэнтези, и, помнится, ох, мнится, помним, братцы, братушки! Всё сумлевался, как ему амбала из романа обозвать: Июль или Чжу Лай? На Жюле и остановился, паразит. И сестры у него еще там фигурировали: Альма и Шельма, вторая в шлеме. То ли и впрямь (фэнтези ведь), то ли для красотищи по созвучию; к тому моменту, невзирая на сцену у вышеупомянутого водомета, Кузиного приятеля приятель совершенно замаэстрился и полиглотничал, только словари летели. И так ему понравилось капусту загребать, гермафродиту, что ничем не брезговал, даже с суахили брался, не говоря уже о кайсацком либо фарси, а уж китайский да малайский ему были хрен по деревне.
Глядя на него, запереводил и Дюдя, и с ходу, как свинья, всё подряд. В полной синтонности. Память у Дюди оказалась не просто мусорная, а компьютерно-помоечная. Он помнил всё. И чуть кто, ежели вдруг, делал ему хоть малейшее замечание, затыкал рты классикой. Посмотрит, рублем подарит и вымолвит: «Мой спектр опричь меня летал». И абзац.
Кстати о компьютере. Ввиду того, что стали мы зело богатенькие, приобрела наша фирма японское оборудование, печатавшее на многая языках и запоминающее на них же. И прибежал Кузя, выкатив буркалы под эксклюзивной оптикой, с сообщением, что, мол, чудо наше, Иокогама-Нагасаки, вместо «дом» регулярно выдает «лошадь»; вирус в ней, махине, не иначе как завелся, мы значения не придали, факс отбарабанили, приехал механик, головой качал, машину увез, привез новую, тоже с гарантийным талоном, сервиса, зимокарасия, дирусба, Курилы, мадам Баттерфляй. И через сутки после отлета механика для полного улета новая машина вместо слова «лошадь» стала употреблять слово «дом». Издательство наше принялось форсить перед развитой державой Японией, Акимоното Хировата, Тасука Накомоде, вернули бандуру, приняли принесенные извинения, спутались с соседями из Финляндии, приют убогого чухонца, завезли из Старого Света другой компьютер, маленько попроще, который дом с лошадью и ее с ним не путал. Наш издатель, чушка заполярная, бай-бай, ходил, выставив вперед лучшую ногу, острил, намекая на анекдот про учившего русские слова японца. А ведь сигнализировала нам ихняя кавабата; а мы, тли шевцовские, не въехали. Дюдя-то в последнем детективе спутал «хаус» и «хорс», и вместо старика из белого дома запустил в текст старика на белой лошади. Или вместо мужика из Белого Дома мужика на сивой кобыле? В общем, в этом роде.
А в четверг после грибного вот как раз вышибло нам стекло ядром. Нормальное такое ядро времен пушек Наварона, адмиралов Ушакова и Нельсона и совета в Филях. Небольших габаритов, что не помешало стеклу разлететься на мелкие кусочки, разбиться в дребадан, расфигачиться вдрызг, т. е. аннигилироваться вчистую. Никого ни стеклами, ни ядром не задело; в рубашке я родился, мэм, в сорочке, сэр. Хотя стекол в городе нет, в природе для фирм вроде нашей немало предусмотрено всякого; вставили мы окошечко; а в пятницу опять ядро влетело. В общем, в среду издатель выходил из кабинета швыряться детективом в сафьяновой обложке с золотом, серия на мать ему, гребем совковой лопатой, куры не клюют, и спрашивал, какая тварь допустила во всем томе измерение расстояния в ядрах?
— Еще можно в фунтах, — сострила уборщица, дура университетская, когда босс вышел.
А ядро сначала влетало по часам, а потом стало хитрить и менять график. Но и мы сперва стекла вставляли оконные, а потом пуленепробиваемые, бронированные, армированные, правительственные засобачили. Ядру стало слабо, умыл его наш шеф; и все-таки не по себе нам становилось, дискомфорт душевный ощущали мы, неуютно было всем нам, когда оно о правительственное непробиваемое делало свое «блям!» — при этом потихонечку набирая вес, наращивая себя, увеличиваясь, возвеличиваясь, «обольшаясь», как написал однажды в поисках стиля и интонации Кузиного приятеля приятель.
Кстати о «наращивая»; новая машина тоже оказалась падла закордонная; после того, как Кузя по недосмотру выпустил перевод модного французского порнографического романа со словами «продляет» и «укорочает», новая из Финляндии стала в глаголах умышленно слоги пропускать, залимонивая «наращает», «увещает», «преодоляет», «распахает» и т. д., и т. п. Пока издатель искал, кому толкнуть старосветскую хреновину и у кого оттяпать взамен фигню подешевле и понадежней, велел он нам подыскать тексты с наименьшей дозой глаголов. Кузя нашел Дос Пассоса, а Дюдя с Микой — заказ на винно-водочные этикетки и визитки. Босс всё отверг и сказал пока перейти на меню для гостиничных ресторанов; заодно в ресторациях блат завели.
Тем временем Кузиного приятеля приятель допустил в пятисоттысячнике по полштуке штука фразу про овечку, которая, грозя, поднимает рога. Уборщица невзначай оказалась и с сельской жилкой, дура университетская, да задним числом, глумясь над Кузей и его бывшим протеже, нам пояснила, что у овечек отродясь рогов не было, рогатые только мужья бывают да барашки. И с той поры, как издатель наш девочек для сауны закажет, ему стали по ошибке мальчиков присылать, и он всё объясняет каждый раз, что он не такой, и злится, давление у него поднимается, хоть бросай пить. Курить он, в итоге, из-за овечки бросил.
Мика, в свою очередь, уродуясь со словарем для средней школы над немецким переводом, перевел и эпиграф, и в качестве автора значился у него Рай Брадбурай; хорошо еще, бдели, да вовремя и подловили.
Поскольку мы сильно разрослись, народу за компьютерами толклось как грязи; а чем больше народу, тем больше ошибок.
Отдельно взятые психи стали писать нам письма. Один, например, возмущался, что в комментариях Вернадский фигурирует как Варнацкий; кто же комментарии читает? Да еще таким мелким петитом. Только глазки портить. Опять-таки, комментарии придают книге полноту, цену и красоту; не стрелять же из них, как говорит наш вахтер.
Ядро доросло уже до габаритов дыньки-колхозницы, и при его «блям!» противотанковое стекло вместе с победитовой рамой гнусно вибрировало и зудело.
Далее к пятничному вечеру, только гроза собралась, залетают ковбои в джинсуре с огнестрельным, во главе долбак с чулком на кумполе, говорящий: «Всем стоять! Всем молчать! Я — Варнацкий!» Мы сперва думали — налетчики.
Если бы.
Угрожают пистолетами бесшумными. Для иллюстрации решетят фотографии на стенках, мульки и книжки. Проверяют проделанную за день работу и везде, следя по дисплеям, меняют «ц» на «тс» и «дс», а «тс» и «дс» на «ц». Так ежесуточно.
И ладно еще «иллюстратсии» либо «тсирк». Все-таки фантастику сейчас печатаем, мало ли что. А когда «синитса»? А «красавитса»? А «тсатска»? Или «тсытата»? Рука-то сама «ы» втюхивает.
А тут еще Тхе.
Стоит такой клятый китайско-корейско-японского вида старенький гомункул типа Дерсу посиречь залы, держит в поводу белую лошадь. Заодно в память о Белом Доме.
И утверждает, что он Тхе.
— Твоя моя перевела, — говорит.
И, с укоризной: «Почто перевела? Для?»
Кузиного приятеля приятель намедни в американском дюдике с китайским шпионом перевел определенный артикль. Эта тварь, Кузиного приятеля приятель, решил, что китайца зовут Тхе и кругом сплошь его барахло: стол Тхе, автомобиль Тхе, сад Тхе. Издатель, весь малиновый от повышенного из-за овечки, т. е. предлагаемых в саунах мальчиков, давления, еще пьет, уже не курит, всё его спрашивал:
— Как же с маленькой буквы?!
— Так ведь и ванин, и машин с маленькой; — приосанясь, отвечал Кузиного приятеля приятель, — принадлежность.
И теперь вот Тхе с белой лошадью круглые сутки. Не ест, не пьет. Не двигается. Ничего не требует. В самый неподходящий момент произносит:
— Твоя сделала Тхе. Для?
А когда издатель, потеряв терпение, стал орать, что лично он никого не делал, и желательно бы старичку убраться на столько-то букв, Тхе, к Кузиного приятеля приятелю на квартиру, иначе он, издатель, за себя не ручается, — открыла пасть неподвижная лошадь и внятным блеющим произнесла:
— Заткни уотергейт.
Через недельку у журнального столика возникла живописная пара с сифоном и огнетушителем, которые попеременно направлялись ими в потолок, а пока струя с шипением управлялась с остатками известки, пара ноншалантно ворковала.
— Это ты, Мэрион? Я тебя ждал до потери пульса.
— Не для того я сюда пришла как последняя потаскушка, чтобы слушать твои пошлости.
Мэрион Мнайзек была рослая оторва в диадеме. Сэм по прозвищу Оутрепью, выдающий себя за квази-Даймитри, едва доходил ей до подбородка и держался как натуральный сутенер.
Они чуть не облили из самодельного водомета Кузю, который рванул к холодильнику за пивом. Вместо немецкого пива холодильник был забит пакетным кефиром.
— Чьи это шутки? — спросил Кузя.
— Это перевод, — сказал холодильник. — В твоем переводе пиво и есть кефир.
После Кузи холодильник распахнул Дюдя; вместо кефира увидел он пачки сухого киселя. На питейном файле холодильник наш зациклился. Больше никто открывать его не пробовал: на что нарвешься? Может, на коктейль с тоником и с хлорофосом.
Мало того, каким-то образом подменные одеяния оказались на вешалке, где с утра пребывали наши пальто, глухое барахло, мятое, молью траченое, рукава то по локоть, то ниже колена. Издатель чуть не шизанулся, он шофера отпустил и собирался упасть к стремной блонд за углом, а в таком прикиде даже к портовой стыдуха; то есть что значит «даже»? Вот как раз в особенности.
Накануне того дня, как загрузили нам разбитные молодчики в комбинезонах полконторы ящиками гнилых лимонов, вонища непроходимая, главный молодчик вкрадчиво поведал: «Это вам подарочек из страны Лебанон» (страну Лебанон произвел на свет один из наших младшеньких сотрудничков, название Ливана так трактовал), возникла Кадди, кособокая, всё время что-то жующая, под левым оком фингал, ко всем липнет; я, говорит, Кадди с помятым боком, а на самом деле, мальчики, ой, какой костлявенький, что ж ты отскочил, а на самом деле Кадди это кадиллак, на самом деле я автомобиль, би-би, бэби, подвинься, наеду, ну и как тебе наезд?
Офис наш загадился до упора, плесень и мох на стенках под шубу, выключатели выдраны с мясом, свечи, шандалы, керосиновые лампы, копоть, гнилые лимоны благоухают ацетоном как предсмертные анализы. А в ванной, ох, шеф ей, помнится, гордился, еще бы, двадцатиметровая комната, голубой кафель с золотыми пупочками, урыльник краше вазы Летнего сада, бассейн с фонтанчиком, ванна из Фаенцы, — так в ванной в ванне свинопотам стоит, мразь, рыло в глине, еле в ванну вмещается, зад о бронзовый кран чешет, махровое полотенце жует, только кисточки разноцветные с желтых клыков свисают.
Как найтингейл запел, из часов птичка выперлась с криком: «Вич воч? Вич воч?» — и, назревшее до полной луны и арбуза на большой коллектив, ядро пробило наше правительственное. Толпа врассыпную, где сотрудники, где действующие лица, несущественно, один Тхе с «для» и с белой лошадью остались, но ядро их обходило. Ядро бесчинствовало, разбивая остатние стекла в шкафах и окнах, переворачивая стулья, часа через полтора настало спокойствие и кладбищенская тишина. Зашли мы, опасливо крались, но ядро ретировалось; однако, полный абзац, предстал нашим взорам, в том числе и сейф пустой, вся капуста тю-тю, отдай миллион, и ни зелененьких, ни сереньких, десять центов в уголке блестят. На единственном целом зеркале помадой Кадди выведена цитата из Дюдиного детектива: «Вы обвиняетесь в подлоге бомбы!» И дальше что? А нихиль, как нигилисты говорят. С проблемами перевода мы покончили. Кому здоровье позволяет, те пошли в рэкетиры. Кому не позволило, те в шестерки кто куда, и не так плохо кантуются; почету, может, меньше, зато и голова не болит, не надо в словаре страницы протирать, выбирая между разницей, ссорой и шансом или между письмом, банкнотой, нотой и знаком; никто так и не выяснил: что это за знак такой, ё-моё?
НОЧНОЕ
В течение нескольких минут сцена погружена во мрак. Затем, усиливаясь с каждым мгновением, свет начинает пробиваться через щели ставен. Лампа на столе зажигается сама собой. Зрителю видно, что дети просыпаются и садятся в своих кроватках.
Морис Метерлинк. Синяя птица, ремаркаДевочка проснулась мгновенно, внезапно, вспышка света во сне ослепила ее, она потом не смогла вспомнить сна, то ли началось извержение вулкана, то ли прожектор, освещавший со скал полуночное море, развернувшись, сверкнул в лицо, последующее действо вычеркнуло из памяти сновидение. А здесь и сейчас ей светила в глаза полная луна. «Откуда в том углу луна? Там окошка нет».
После болезни ее положили спать в бабушкину и дедушкину спальню, у нее покрасили батарею и оконную раму, ей нельзя было дышать краскою, бабушка спала в ее маленькой комнатушке, дедушка на диване со львиными лапами в своем кабинете.
Там, где она проснулась, было два окна, одно во двор, другое — под углом — в узкий выступ дома; в торце выступа темнело окно столовой, а в дедушкином окне на симметричной грани домового-дворового ущелья горел свет.
Лунный диск, разбудивший ее, сиял в простенке: луна, взошедшая, как ей и положено было, над краснокирпичною школою во дворе, отразилась в застекленном книжном шкафу-бюро, пробравшись через щель неплотно задернутых штор. И это зеркальце зеркальца, театрально сверкая, разбудило ее. Ей уже объясняли: свет луны — отражение солнечного света, она не понимала, откуда берется ночью солнечный свет, если солнце ушло за горизонт, закатилось за круглый бок глобуса земного? дедушка ставил глобус под настольную лампу, бабушка ловила зеркальцем луч лампочки, ей никак было не объяснить, она не чувствовала космических размеров и просторов.
— Ты просто поверь нам на слово, — сказал отец, — поймешь, когда вырастешь.
Она встала, прошлепала босиком по квадратикам паркета, попыталась закрыть занавеску, но занавесочные кольца не скользили по карнизу, бабушка задергивала шторы длинной тонкой отполированной рогатиной, на которой вырезана была обвивающая рогатину тонкая змейка.
Дедушка в своем окне сидел за столом, что-то писал, то ли статью свою, то ли правил диссертации и статьи сотрудников, она никогда не видела с оконной стороны, как он работает; обычно его работу, вечернюю ли, ночную, обозначала полоска света под затворенной двустворчатой кабинетной дверью: в темной прихожей светящийся прочерк обозначал работу, нельзя было шуметь, мешать. Впрочем, когда часы трудов за письменным столом заканчивались, дед разрешал внучке, игравшей в Шерлока Холмса или шпионов, вползти в кабинет, протиснуться ползком под диван и даже несколько раз пальнуть из крошечного игрушечного пистолетика, заряжавшегося лентой бумажной с точечками пороха, дымок, пороховой запах, красота. Дед мечтал о внуке, хотел назвать Кузьмой, а вышла внучка, о мечте напоминала только игра с пистолетиком да то, что звал он внучку Кузя.
Она переложила подушку к другой кроватной спинке, а кота Григория (мрачного, черного, гладкошерстного, с белой манишкой и в белых перчатках, ну ты и вырядился, Грегуар, говорил дед) в ноги, на лунный свет. Кот тотчас уснул, она улеглась и смотрела на незнакомое пространство не своей комнаты, поделенное тенями, объемами предметов, светом дедова окна, лунным отрешенным ликом на несуществующие театральные кубатуры.
Небольшая ниша (выступ, за которым могла схорониться только она), в которой вмещалась бабушкина кровать, вместе с тенью от высокого узкого платяного шкафа создавала глубокую полосу темноты, подобие несуществующего контрфорса, перечеркивающего стену, спускающегося с потолка. Блики на завитках барочных старинных картинных рам и на двух парных бронзовых бра (над дедушкиной кроватью, на которой спала она, и над бабушкиной напротив), мелкие хрусталики елизаветинской люстры-фонаря (сам фонарь был синего стекла, волшебный), омуты трех зеркал разной величины, отсветы из окон, хоть и выходивших в полутемные дворы, ловивших свет фонаря возле школы, создавали ночную явь для ночного взора.
Так было во всех человеческих жилищах, слабые отсветы полуночного извне, только жителей Невского проспекта и площади Восстания впускали в особое кино большие уличные фонари, а, скажем, в домике тетушки в Валдае (куда девочку увозили в середине зимы, в начале весны и на лето) на малой улочке фонарей не было вовсе, игру ночных объемов создавали снег, луна, свет из окон соседской избы напротив.
Почему-то угол стен, примыкающих к столовой и коридору, напоминал ей декорации пьесы Метерлинка «Синяя птица», которую дедушка три вечера читал ей на ночь.
Ей читали на ночь, потому что она плохо засыпала.
Отец читал рассказы о животных Сетона-Томпсона («Ты хоть выбирай не самые жалостливые», — сказал ему дед), «Кинули» Чаплиной, «Приключения Тома Сойера». Мать читала стихи Блока (бабушка только плечами пожимала, но не говорила ничего).
В голубой далекой спаленке Твой ребенок опочил, Тихо вышел карлик маленький И часы остановил.Спальня дедушки с бабушкой была выкрашена (от руки, гуашью) в особый петербургский голубой цвет, bleu Benois, это и была голубая далекая спаленка.
Бабушка, ни голосом, ни слухом не отличавшаяся, пела песни: «Динь-бом, динь-бом, слышен звон кандальный, динь-бом, динь-бом, звон сибирский дальний, динь-бом, динь-бом, слышен там и тут, это колодников на каторгу ведут». Или: «Бродяга Байкал переехал...». «Отец твой давно уж в могиле, — пела бабушка, — землею холодной укрыт, а брат твой давно уж в Сибири, во тьме кандалами звенит». Засидевшийся в один из вечеров у них в гостях бабушкин младший брат, художник, всеми любимый, головой качая, сказал: «Актуальные песни поешь, Анюта». Песни были привозные, сибирские, как сама бабушка, сестра ее и брат.
Лучше всех читал дедушка, артистически, на голоса персонажей; со своим абсолютным музыкальным слухом чувствовал он ритм и интонации текста как никто.
Узкие напольные часы в столовой пробили три раза. Она поплыла было в сон, но непривычный условный стук во входную дверь, напоминавший морзянку — стук! а не звонок! — разбудил ее бесповоротно.
Дед открыл неведомым ночным посетителям, с легким знакомым скрипом отворилась дверь в ее маленькой комнатке, пробежала по коридору бабушка в мягких бесшумных чувяках, прикрыв за собою обе двери столовой.
Она слыхала не единожды страшные городские истории о бандах, грабежах, убийствах, амнистии.
«Никому не открывайте, Клава, — говорила бабушка приходящей три раза в неделю домработнице, — даже через цепочку, они умеют цепочку скидывать. А если будут звонить с черного хода, крючок не трогайте. Скажите — не открою».
Дверь черного хода находилась в длинной однооконной кухне, где со старых времен стояла большая облицованная белым кафелем кухонная дровяная печь (давно готовили на газовой и на электроплитке), а под железной кроватью (на ней иногда спала Клава, когда оставалась ночевать) отдыхала — тоже облицованная белым кафелем — служившая деду верой и правдой в блокаду печь-буржуйка.
Неужели это ночная банда? Но почему они не звонили, не выламывали бедную дверь, а стучали условным стуком? И дед открывал им сам, да еще и разговаривал с ними — сперва в прихожей, потом в кабинете?
Босиком, неслышно, скользнув в коридор, приотворила она дверь в столовую. Там, за столовой, шептались в прихожей. «Сейчас принесем». — «Несите». — «Меха не упакованы». — «Хорошо. Чемоданов нет?» — «Узлы». — «Пойду открою шкафы в коридоре. Только тихо. Девочка спит. Сын с невесткой в дальней комнате в конце коридора тоже. Ступайте на цыпочках». — «Я разуюсь».
Слух у нее был обостренный, как у маленького животного. Бабушка пошла к двери в столовую, а она прикрыла дверную щелку из столовой, сквознячком метнулась в голубую спальню, закрылась с головой одеялом, зажмурилась.
В коридор вносили вещи, должно быть, краденые. Она не верила ушам своим; как? Неужели бабушка с дедушкой связались с бандитской шайкой? С разбойниками? Контрабандистами? Убийцами и ворами? И теперь собираются в их тихой профессорской квартире хранить награбленное?
Шепот:
— Белку, лису и каракуль в наборный шкаф, соболя и мерлушку в дальний.
Повороты ключей в шкафах, щелк, щелк.
Шепот:
— Наборный не закрывайте, сейчас серебро принесут.
— Белье будет?
— Кажется, да.
— Тогда и дальний пока не закрываю.
Несли ворованное серебро, целый клад, должно быть, чарки, чашки, подстаканники, вилки, ложки, ножи увязали в узел, серебро позвякивало в узле особым серебряным сухим и легким звоном, как не звенят ни мельхиор, ни алюминий, ни бронза, ни сталь.
Шепот:
— Чемодан со свадебным постельным...
Щелк, щелк, шкафы на ключ, тихими шажками бабушка в соседнюю комнатушку, а эти по коридору в столовую, дверь за собой притворили.
В дедовом окне двигались тени, фигуры. С колотящимся сердечком, всё босиком, пробралась, таясь за занавесками, глянула. В кабинете дед говорил с чужими, они сновали по-свойски, принесли какие-то книги, которые дед ставил во второй ряд, пряча их за книжками большого книжного шкафа.
«Воры! те самые воры, что грабят в городе! Мы теперь храним краденое. Как они вовлекли бабушку с дедушкой в шайку? Может, шантажом?»
Лампа на дедушкином письменном столе высветила бандита, поставившего на стол шкатулку, настоящий разбойник Кудеяр, в восточном красном халате, узколицый, один глаз под черной повязкой, ужас.
Второй, седой, благообразный, подал дедушке два кинжала в серебряных ножнах, поставил вторую шкатулку, открыл ее, сверкали грани драгоценностей.
Дедушка внезапно посмотрел в ее сторону, словно почуял ее взгляд, она метнулась в простенок ни жива ни мертва: «Уж не убьют ли как свидетельницу? Нет, дедушка не выдаст!» Когда скользнула она обратно к наблюдательному пункту, щели межзанавесочной, обнаружилось, что пьеса стала невидима, театр окончен: дедушка задернул шторы окна кабинета своего.
Отмелькали тени, затихли голоса, шорохи, позвякивания, шаги, дед закрыл входную дверь, замок, крючок, цепочка, затворил кабинетные двери, погасил свет.
Было тихо, сон окутывал полумглою, и тут в ее обострившийся от страха слух влился звук мотора. По дворам ездил грузовик, остановившийся в выступе дворовом, внизу, под окнами, где машины не останавливались никогда. Прыжки людей из кузова, слова команды, стук подкованных металлом копыт-сапог. Она прокралась на кухню, к туалету; ей слышно было, как по черной лестнице взбегали, стучали в двери этажом ниже: «Открывайте!» Расхрабрившись, она глянула в замочную скважину двери черного хода. Люди в форме поднялись на их площадку, стояли молча. «Облава на воров! Сейчас и к нам придут, найдут краденое!»
Промчалась ветерком в ночной рубашонке, скорее под одеяло, укрыться с головой, спастись.
Но никто не пришел, отзвучали пугающие шумы, отходили, цокая, по черной лестнице, укатил грузовик.
В ее сне в маленькой библиотеке, отгороженном хвосте прихожей, открылись две секции полок подобно тайной двери, вошел одноглазый, спрятал в бюро мешочки с пиастрами и со слитками золота, закрылись за ним книжные полки, упал занавес морфеева кинотеатра.
Часы пробили раз. Засыпая снова, она изумилась: так разбойничья встреча вместе с облавой длились полчаса?! ей показалось — целую вечность.
Утром бабушка уходила на Кузнечный рынок, иногда в этот поход и девочку брала, через три двора с разными запахами (пекарни, благоухающей свежеиспеченным хлебом, прачечной, чье белье в любое время года пахло снегом, гаража в облаке бензина) и через четвертый двор кинотеатра без запахов и примет, из которого можно было выйти на Невский и по Марата дойти до Кузнечного рыночного переулка. Рынок был дорогой, покупали корешки-зелень, хозяйский творог (переболевшей внучке), квашеную капусту, в месяц телятины — телятину, но месяц этот еще не настал. Бабушка собиралась зайти к машинистке на Поварской за дедушкиными статьями.
Шептала Клава:
— Говорят, ниже этажом ночью хозяина арестовали...
«Да неужто и хозяин ниже этажом тоже из шайки?»
— Никому, Клава, не открывайте. Сегодня у нас котлеты, мясо висит на окне на морозе в форточке, там еще пельмени, я вчера накрутила, не спутайте, когда будете доставать, не уроните. Тата пусть играет в столовой и в нашей комнате, в ее комнате краской пахнет, после кашля нечего краской дышать.
Ушла бабушка.
Клава звенела посудой на кухне, крутила мясорубку.
Девочка повернула ключ в наборном шкафу. Краденые шубы, прекрасные огромные звери. Она трогала легкую шелковистую беличью, тяжелую глянцевую толстую неведомого меха, кудрявую веселую мерлушку. Под шубами лежал узел с воровским серебром, она случайно задела узел, серебро ответило легким звоном.
Во втором шкафу висела накидка — соболь, что ли? — с множеством веселых хвостиков, а рядом с нею чернобурка, завораживающая с первого взгляда, огромадный черносеребристый хвост, коготки на лапках, мордочка, глянувшая из темноты сверкающими стеклянными янтарными глазами.
В библиотеке не нашлось никаких следов отворяющейся двери в соседнюю квартиру, из которой то ли во сне, то ли в полудреме, то ли и впрямь выходил со шкатулкой одноглазый бандит с лицом как нож.
В маленьком бюро в торце библиотеки, рентгеновском бюро-ролике на четырех тонких высоких ножках с бронзовыми копытцами, был тайник, отец когда-то ей его показал, она вынула дедовы записные книжки из центральной ниши, вытащила нишу-ящик, положила на столешницу и сдвинула заднюю стенку ящика точно крышку пенала.
Блеск драгоценных камней, блики золота ослепили ее, она чуть не вскрикнула, но удалось ей сдержаться.
Груда драгоценностей переливалась, искрились камешки горсткой немеряной сокровищницы халифа, появившись из тьмы на свет. Некоторое время она глядела на всё это великолепие неотрывно, не шевелясь, как зачарованная. Однажды отец сказал ей: человек может бесконечно смотреть на три вещи: на огонь (а в тот момент сидели они в столовой перед горящим камином, растапливаемым бабушкой угольными и торфяными брикетами), на воду (особенно если это проточная вода ручья, порогов, водопада) и на игры котят или щенят, детей животных. И вот сейчас она поняла, что бесконечно можно смотреть и на драгоценности, просто это мало кому удается. Отец подарил ей книгу Ферсмана «Занимательная минералогия», читал ей на ночь отрывки, читала и она сама, смотрела картинки. От дедушки в подарок получила она маленькую друзу кристаллов горного хрусталя, волшебный любимый предметец. У бабушки было несколько брошей, камеи, эмали, и несколько колец. У красавицы матушки два старинных браслета, топазовые и бирюзовые серьги. У нее самой в ящичке маленького полудетского бюро вместе с горным хрусталем и черной бронзовой собачкой лежали коралловые бусы. Но такого богатства, как этот воровской клад, она и представить себе не могла.
Камни привлекали ее, притягивали, о, любимая книга Бажова «Малахитовая шкатулка»! с Хозяйкой Медной горы, волшебным оленем, высекающим копытцем из земли и снега искры самоцветов, цветные сияющие россыпи.
У нее не было ни времени, ни охоты рыться в открывшемся ей кладе, она и так словно видела всю груду насквозь, взгляд смешивался с воображением, со строками ферсмановских и бажовских страниц.
Вишневые капли гранатового крестика. В Валдайском озере находила она обкатанные водою (грани чуть стерты) шарики гранатовых кристаллов, но те светились темно-розовым, темно-лиловым. Как-то отец взял ее на рыбалку на Вуоксу, там прибрежный песок отливал фиолетовым, это потому, сказал отец, что в песке полно измельченного, перемолотого временем и волной речного граната. Она мечтала попасть на Урал, в черноморскую Сердоликовую бухту, в Коктебель, где собирали на пляже сердоликовую, яшмовую, хрустальную гальку.
Сами камни нравились ей больше ювелирных поделок, как геологам; как садовникам нравятся не срезанные, не собранные в букеты цветы.
Лиловое крупное око аметиста смотрело на нее из серебряной брошки. Цветные картинки из «Минералогии» материализовались, она могла потрогать то, что прежде было доступно только взгляду. Ощутить холод ожерелья горного хрусталя, острую огранку сапфира, трогательно неправильную огранку жемчужин. Все были тут: лалы, смарагды, небесной синевы лазуриты, неровно окрашенная афганская бирюза, хризолиты, хризопразы. Александрит, у которого — по словам Лескова — «утро было зеленое, а вечер красный», этот маленький хамелеон менял цвет при дневном солнечном освещении и при ночных лампочках да свечах.
Всё слилось воедино: геология, география, исторические экскурсы из рассказов деда и отца (грабежи крестоносцев, мародеров, революционеров, простых разбойников), истории ферсмановской книги, ночные тени, призраки богатства, злоключения Маленького Мука и калифа-аиста.
Рубины, яхонты, шпинель, саамская кровь эвдиалита, алые альмандины посылали из глубины воровского клада сигналы алых марсианских искр. Гиацинт и гелиотроп подсказывали цветочные имена свои. «И венец на челе его лалами ал», — повторял Фирдуси. Может, тут можно было найти, порывшись, лалы из копей Пянджа с вершин Памира, из россыпей Герата или Кабула?
Оттеняли их алость, карминовую красноту, зеленые изумруды, смарагды, змури. «Смарагды блеск свой распространяют далеко и как бы окрашивают собой воздух, — читал ей отец, — и в сравнении с ними никакая вещь зеленее не зеленеет. Они не переменяются ни на солнце, ни в тени, ни при светильниках, и, судя по толщине их, имеют беспрепятственную прозрачность».
Светились золотисто-зеленые хризолиты, с Урала ли, из Скифской ли страны.
«Много есть сортов изумруда, — читал отец, — силки, зеленый цвет которого похож на ботву свеклы; зенгари, зелень которого похожа на медянки; зубаби, похожий по цвету на крыло мухи, в котором просвечивает зелень; сайкали — похожий на цвет полированного железа, способного, как зеркало, отражать в себе предмет; рейхани, зелень которого по оттенку подобна цвету базилика; аси, цветом похожий на листву миртового дерева, и, наконец, курасси, цветом похожий на цвет лука-порея...»
«Всякий, носящий камень при себе, — читал отец, — не видит снов, смущающих дух, он укрепляет сердце, устраняет горести, спасает от припадков эпилепсии и злых духов, особенно если носится в кольце. Если изумруд оправлен в золото и употребляется как печать, то владелец его застрахован от моровой язвы, от чар любви и от бессонницы».
«Это кольцо со смарагдом, — читал он, — ты носи постоянно, возлюбленная, потому что смарагд — любимый камень Соломона, царя Израильского. Он зелен, чист, весел и нежен, как трава весенняя, и когда смотришь на него долго, то светлеет сердце»...
Были ли тут камни с отрогов Саян или с берегов Байкала? Или из мест, где течет священная река Ию? С берегов Адуя? Из лесов подле Монетной дачи? Из шурфов Уральских изумрудных копей? Бразильский ли аметист вставлен в оправу этой броши или он родом из деревни Шайтанки?
В углу, в самом уголочке, лежал крохотный сверточек, с брошью, что ли, она не разворачивала бумажку, сколотую по углам четырьмя французскими булавками со стеклянными капельными головками: алой, голубой, зеленой, желтой. И бирюзовоглавая булавочка смутила ее. «Ведь их четыре; если я возьму одну, кто заметит?» Она отколола, трепеща, булавку, и тут ужас обуял ее: во-первых, натуральное воровство, а, во-вторых, сколько же времени прошло, сейчас бабушка придет, застукает.
Скорей, скорей, вернуть краденый клад в тайник, закрыть бюро, бегом в свою комнатушку, спрятать булавочку под новогоднюю открытку с блестками последнего мирного 1904 года, сверху легли кристаллы хрусталя, коралловые бусы, засторожила собачка.
— Тата, — закричала Клава сквозь шипенье кухонных котлетных голосов, — что ты в своей комнате делаешь, там еще краской пахнет, уходи!
— Ухожу! — откричалась она. — Я за куклой зашла.
С куклой и сидела в столовой на крохотном диванчике у окна подле рояля, сидела не шевелясь, с пылающими щеками.
— Что это ты так раскраснелась? — спросила бабушка. — Уж не заболела ли опять? Возьми градусник. Нет, ничего, тридцать шесть и шесть.
Пришла француженка.
Француженка, приехавшая давать уроки французского в Россию перед Первой мировой войной (не ладившая с мачехой шестнадцатилетняя парижанка), так тут и осталась, вышла замуж, пережила голод послереволюционных лет, блокаду, в блокированном городе овдовела, была бездетна. Весь свой талант любви к детям вкладывала в своих учеников. Работала она библиотекаршей неподалеку от дома в кинотеатре «Спартак». Девочку учила с четырехлетнего возраста, появилась когда бабушка тяжело заболела, стала уже не учительницей или гувернанткой, а совершенно родной, родственницей. Она возила девочку гулять в Павловские и Пушкинские парки (ее первыми учениками были дети управляющего Павловским парком), на острова, к Новодевичьему монастырю, в Гатчину и Ораниенбаум. Любимыми местами их прогулок были сады: Летний, Михайловский, Таврический; Летний лучше всех, да еще кленовая аллея у площади Коннетабля возле Инженерного замка, где росли не клены, а каштаны, как в Париже, где собирали они каштаны, и зеленые игольчатые шарики, и прекрасные шоколадные блестящие шарики их.
— Долго не гуляйте, — сказала бабушка, — она еще не окрепла после болезни, а воздух морозный.
На лестничную площадку перед дверью выходили четыре квартиры: соседняя, видимо подобная их обиталищу, только зеркальная, и две боковых. На боковых дверях, так же, как и на девочкиной, красовались латунные золотящиеся таблички с надписью черным рондо — имя, отчество. Фамилия хозяина; вот только она постоянно путала, разглядывая их то на входе, то на выходе. Кто живет слева. Кто справа, где Выгодские, где Волынские. Иногда ей даже казалось — таблички по ночам шалят, меняются местами.
Едва отворила француженка дверь, как отворилась и соседняя, все-таки там жили Выгодские, и благообразный хозяин, отворяя почтовый ящик, церемонно раскланялся с француженкой. Тут в глубине, в полуосвещенной прихожей, возникла фигура одноглазого бандита с лицом как нож, черная повязка точно у Кутузова либо у Нельсона; почему-то был он то ли в алой феске, то ли в красной тюбетейке. Девочка вскрикнула и помчалась вниз по лестнице. Француженка кричала ей вслед:
— Qu’es-ce que te prend, ma petite?! Подожди меня! Я не могу нестись за тобой по ступенькам как помешанная!
Любимый пьющий чучеломедведь в витрине на Невском напомнил ей о шубах в коридорном шкафу; когда он опрокинул в пасть свой традиционный стакан с томатным соком, ей показалось, что он пьет кровь.
Навстречу шел милиционер. Она так и вцепилась в руку француженки.
— Qu’as-tu? Что с тобой?
— Скажите, — спросила она, — если бы вы узнали, что мои дедушка с бабушкой участвуют с ворами в торговле краденым, сообщили бы вы об этом в милицию?
— Quelle idee! — воскликнула француженка. — Твои дедушка с бабушкой — честные благородные люди, никакого отношения не имеющие ни к краденому, ни к ворам!
Тут пришла ей на ум бирюзовая булавочка, да ведь она сама теперь воровка, причастная к шайке, мысль о милиции растаяла в морозном воздухе.
Вечером дедушка, устав от обхода больных, операционного дня, слушетелей, редактирования статей и диссертаций на дому, садился за любимый рояль, черный Blüthner. «Я несостоявшийся музыкант», — говаривал он. Сын многодетной вдовы, он пошел по медицинской части, это было более хлебное и надежное дело, считала мать. В детстве вычертил он на узкой полосе ватмана рояльную клавиатуру, купил самоучитель, ноты он слышал, слух абсолютный позволял, и, когда через год состоялась его встреча с роялем, он уже умел играть. В Сибири он однажды дирижировал «Евгением Онегиным», подменяя заболевшего дирижера. Услышав его игру, один раз бывший у них в гостях Святослав Рихтер сказал деду: «Вы прекрасный камерный исполнитель». Дед гордился этим комплиментом, говорил, что Рихтер на светские пустые похвалы не горазд.
— Дедушка, у тебя есть ноты оперы «Кармен»?
— Есть, — отвечал, подивившись, дедушка, и из стопки клавиров достал Бизе. — Что тебе сыграть?
— Таверну Лиллас Пастья, — отвечала она, и чуть дрогнул ее голосок, — где встречаются контрабандисты. Или притон в горах. Где Ремендадо и Данкайро.
«Что это отец ей читает кроме Мериме? Небось, Стивенсона или По».
Она думала — дедушка поймет намек, дрогнет, выдаст себя, в он и бровью не повел. Играя, вспомнил он, что девочка постоянно листает книжечки театральных программ с фотографиями актеров в костюмах, декораций, кратким содержанием опер и балетов.
Через три дня дедушка на своей «Победе» увез ее к бабушкиной сестре в Валдай. «Надо ей продышаться, — сказал он, выслушав ее старинным фонендоскопом, — пожить у Лизаветы недели две».
Ее чуть-чуть пугали подъемы и спуски снежных горок дороги, слегка укачивало, доехали за шесть часов, приехали в маленький домик, стоявший в тишине на берегу озера.
Ходили собаки умершего год назад мужа Лилечки (так с детства до старости все звали бабушкину сестру), сеттера и спаниэли, Альфа, Икса, Леди и Джемс, дремал кот, в курятнике кудахтали куры, курятник был соединен на северный манер с сенцами домика узким деревянным коридором, к которому прилеплялся и сарайчик с сеновалом, обиталище белой козы Милки.
Переход с морозной улицы в нутро натопленного дома через маленькие сени был краток, контрастен, не то что в городе, где между улицей и квартирой располагалась долгая кубатура лестницы.
Ночью в окне светились снег с луной; фонарей на улочке не было.
В сумерки изрисованные морозными узорами окна наливались сине-лазоревым цветом; утреннюю голубизну она просыпала.
Когда случались аварии со светом, зажигали две керосиновые лампы, а в комнате с лежанкой, где на лежанке на узком ситцевом тюфячке спала девочка, горела в углу перед иконою лампадка, как у ее второй бабушки, только на валдайской Февральской улице лампадка зелено-золотистого толстого стекла, хризолитовая, а на углу городских улиц Итальянской и Надеждинской (так вторая бабушка называла по старинке улицы Жуковского и Маяковского) — изумрудная, отливало стекло неуловимым холодным ярким смарагдом.
Через две недели вернувшись в город она всё не могла выбрать подходящий момент сунуться в коридорные шкафы, потом случай нашелся, шкафы скромно стояли с осенними пальто, шинелями, ни мехов, ни серебра; тайник библиотеки проверять она не стала, знала, чуяла, что там пусто.
А краденая булавочка, маленький укол совести и воровского восторга, ждала ее под открыткой.
Давно уже жили в Лесном, в окне светился пруд с деревьями, чуть дальше смотрели в небо древесные купы парка Лесотехнической академии.
— Бабушка, скажи, а что это была за история с хранением краденого? Когда я была маленькая.
— Какого краденого? — подняла брови бабушка, плечами пожала. — Ты о чем?
— Шубы в шкафах в коридоре, ночной стук в дверь, драгоценности в библиотеке...
— Краденое тут вовсе ни при чем. Как тебе объяснить? В то время всё искали врагов народа, ходила милиция, особая, внутренних войск, Чека, НКВД, арестовывали людей, реже виновных, чаще невинных, сажали в тюрьмы, ссылали в Сибирь, расстреливали, забирали всё в доме, это называлось «конфискация имущества». И люди, если слух до них доходил, что к ним придут, несли свои вещи на сохранение родственникам, друзьям или соседям.
— А одноглазый бандит? По всему было видно, что разбойник.
— Какой еще разбойник? Родственник вышневолоцкий наших соседей, ему операцию глазную делали на Моховой, на глаз повязку наложили, операция прошла удачно, зрение сохранили, повязку сняли, и убыл человек в свой Вышний Волочок. Вот кто он был, не помню. То ли бухгалтер, то ли инженер, скромный тихий человек. Это у тебя после болезни, после остатков бреда сон, явь, воображение, рассказы о городских бандах и книжные герои в голове перемешались. Надо же, сколько лет прошло, я и думать забыла, а ты до сих пор ту ночь помнишь.
С той ночи она всю жизнь хоть ненадолго да просыпалась в три часа.
А в пять — в кошачий час — вставал актуальный кот и обходил владенья.
КВАРТИРНАЯ РАЗВЕСКА
— Говорят, что в Японии, — сказал он, — на большую белую стену вешают одну-единственную картину, смотрят на нее, любуются ею. А потом, через месяц или два, прячут ее в хранилище, достают другую работу, и теперь уже она подчиняет себе всё окружающее ее белое пространство и царит и в комнате, и в человеческом взоре, главная деталь, доминанта интерьера.
— В Японии так мало места, — отвечал собеседник его, — островная страна, у жителей особое внимание к самой маленькой детали клочка земли. У одного из моих знакомых художников есть книжечка «Японские дворики», какие чудеса композиции можно в ней увидеть на пяти квадратных метрах, где всякий на место положенный камень, любой стебель имеют значение, исполнены смысла, являются деталями единого прекрасного целого.
— Знаю, о какой книжке говорите, — отвечал старый художник молодому любителю живописи, взявшемуся за кисть после двадцати лет, а не в детстве, как большинство будущих живописцев, — я тоже ее видел.
Они стояли в мастерской старика перед стеною, освещенной огромным, находившимся на противоположной стороне комнаты окном. Стена была от пола до потолка завешена работами разного размера в разных рамах, поскольку на ней пребывали не только работы хозяина и его покойной жены-художницы, но и подаренные друзьями да знакомыми, еще и разных авторов.
Молодой человек по фамилии Хомутов, внезапно занявшийся в неполные двадцать пять живописью, оказался в обществе художников сравнительно недавно, и открывшийся мир был ему внове.
— Видно, что вы начинающий, — сказал ему старый художник, в чьей мастерской стояли они перед стеною с квартирной шпалерной развеской, — вот и оставайтесь всегда начинающим, полным любви к искусству новичком.
Работы Хомутова, легкие, с нежным, не вполне привычным колоритом, нравились его новым знакомым; он не тянулся ни к академическим штудиям, ни к новомодному авангарду, и любил живопись непривычной любовью неофита или рисующего ребенка из кружка рисования.
Родители водили его, маленького, в музеи, он любил листать толстые книги по искусству, альбом «Русский музей», состоявший из отдельных листов репродукций, вложенных в объемистую картонную папку, толстый том «Эрмитаж», тонкие заграничные книги-буклеты с витыми веревочками переплетов и закладок из «Старой книги» — Ренуар, Ван Гог, Джотто, Тинторетто, Сезанн, — карманные издания Франции или Германии со свежим запахом типографской краски, напоминающим запах помады.
Стены, занятые от потолка до пола перегородками рам или рядами картин разного размера (ряд портретов, ряд пейзажей, ряд натюрмортов, ряд жанровых сцен) видел он несколько раз в юности: в одном из петербургских загородных дворцов осьмнадцатого века в окрестностях Ленинграда, в московском театре на Таганке, в ресторане на углу Марата и Невского.
Однако, задуманные автором интерьера и осуществленные приглашенным живописцем (либо живописцами), разграфленные обрамлениями рам на модули (ряд квадратов, ниже ряд прямоугольников, еще ниже прямоугольников другого формата) компании картин отличались от того, что встречалось ему в мастерских. Художники предыдущих двух столетий объединены были единой точкой зрения на перспективу, на палитру красок пейзажей парковых и ведут (к тому же, каждый картинный ряд был со своей тематикой, тут сцены охоты, там цветы и фрукты). Что до театра и ресторана, автор их работал в одиночестве, один на один с собственным взглядом на вещи и живописной манерою. Возможно, старинные живописцы, по старинке люди воцерковленные, бессознательно вдохновлялись не единожды виденными церковными иконостасами с их каноническими рядами изображений, вот святые в полный рост, вот житийные клейма, вот поясные иконы, всё по спасительному канону. Тогда как в мастерских художники самовыражались по мере сил, как было предписано секуляризованным искусством, дальше-больше, кто в лес, кто по дрова, какое своеобразие.
Квартирную развеску, называемую иногда ковровой или шпалерною (один из художников говаривал: «Это моя квартирная галерея»), встречал Хомутов и у коллекционеров, собирателей, любителей антиквариата, у которых большой, годами собираемый музей конвертировался из несуществующих залов в невеликую квартирную кубатуру, не просто от пола до потолка, но — если собирали старинную мебель да напольные часы — до наличествующих в просветах стенных проемов. На стихийных выставках в мастерских имитировались несуществующие музейные экспозиции, лавки торговцев картинами. Хотя и не только. Порой Хомутову казалось: охотничьи трофеи висят, голова оленя либо кабана, медвежье шкура, образы посетившей автора творческой удачи.
У собирателей, коллекционеров картины висели, подчиняясь некоему порядку, обращением к симметрии, к пропорционированию: правда, в том жилище, в которое попал он впервые, в двух комнатах царил такой же хаос, как на стенах двух нон-конформистских выставок или в большинстве мастерских; зато в третьей комнате живописи было меньше, всё упорядочено, смутило его, разве что, наличие трех напольных часов человеческого роста (да и похожих на худых круглолицых) вкупе с пятью настенными часами, момент нежилого, абсурдного и тут соседствовал с красотою и маниакальной тягою к прекрасному. К тому же во всех трех комнатах картины висели и на дверях, катались туда-сюда, как иногда на дверях, уцепившись за ручки, поджав ножонки, катаются малые городские шаловливые дети. Он подивился, что картины висели и на кухне.
Хомутов бывал в гостях у разных художников, его зачаровывали мастерские, волшебные миры на особицу, похожих не было, каждая служила домом своей улитке, несла ее отпечаток. Элементом сходства служили разве что встречавшиеся всюду букеты сухих цветов, букеты кистей в банках, вазах, кувшинах, чашках, стены или куски стен с квартирной развескою и неуловимый воздух свободы.
Видел он помещения для художественных мастерских в типовых многоквартирных постхрущевских времен домах, где трудились признанные корифеи советского искусства, а иногда и просто хорошие живописцы по случаю, по внезапному пристрастию чиновника из Союза художников, видел приведенные великими усилиями обитателей в порядок старые подвалы, избавленные от заливных лугов протечек и крысиных троп, встречались ему превращенные в живописные ателье комнаты в жилых коммунальных квартирах, а также усовершенствованные мансарды, отгороженные от остальных диких и неухоженных пыльных угодий чердаков.
Легкий беспорядок, стеллажи с холстами и застекленными акварелями. Палитра, мольберт, стол, мелкие предметцы, напоминающие амулеты древних народов, столики для гостей, диван в углу (некоторые умудрялись жить в своих оазисах «нежилого фонда», хотя законом сие запрещалось, преследовалось, время от времени приходили комиссии, к их приходу подушки и одеяла прятали в сундуки, шкафы, коробки, диван заваливали эскизами; а для чего у вас тут электроплитка? грею грунтовку и столярный клей, — члены комиссии понятия не имели, что грунтовку отродясь никто не грел, а уж столярный-то клей всяко разогревали).
Картины жили рядом с художниками, возникшие из-под руки волшебные вещи, которых не было прежде, уже и своей жизнью живут, но и связь с ними автор чувствовал, не только украшение дома, оберег, верный спутник, чье присутствие мирит с кондовым бытием, а, может, и с вечностью. Ты здесь, машина времени моя? прошлое мое? будущее мое? Я с тобою.
Так сказал ему в момент посиделок в одной из мастерских сосед слева:
— А, может, мирит и с вечностью.
Хомутов стеснялся задавать вопросы, когда его приводили или приглашали в одну из мастерских. Задавал он их в моменты пированьица, гостеваньица, будучи подшофе, когда и остальные были под мухой.
— Квартирная развеска? — переспросил его чернобородый небольшого росточка, напившийся сильнее других, чуть ли не до положения риз. — Это штаб, содержащий карты попыток экспансии в бытие! Это я вам как гостю говорю. Своим сказал бы: обычный неприбранный художественный нужник.
Тут пал он бородкою в тарелку свою на недоеденный кусок торта и мгновенно уснул.
— Тоже мне... — сказал задумчивый сосед соседа. — «Художественный нужник». Опять в торте уснул. Не слушайте вы этого фантазера. Квартирной развески стены, как и всё в мастерской, — обычный ментальный скафандр.
Однажды соседкой его за маленьким столиком в углу мастерской оказалась жена одного из приглашенных, маленькая филологиня, славистка, с челкой, похожей на челки девушек Ренуара. Услышав разговор о шпалерной развеске (большинство называли ее квартирною, меньшинство — ковровою), она тихо промолвила:
— Я сейчас пишу диссертацию о пианстве, что вы смеетесь, на Руси в старину пианством именовалось всякое излишество, собственно, пьянство, чревоугодие, сребролюбие, стяжательство любое; и вот стены эти напоминают мне, как ни странно, избыточностью, неумеренной барочностью именно пианство...
— Вот еще, — вступил в разговор ее сосед трезвее всех в застолье, — человек просто окружает себя предметами, близкими душе его, тем и настраивается и на дальнейшую работу, и вообще на жизнь. «Давно, усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Он хочет, чтобы дальняя обитель была под рукою, чтобы служила ему обиталищем. Пикассо говорил: сначала художник создает личную коллекцию, а, создав ее, начинает заниматься творчеством.
— Да-а-а... — произнес проснувшийся, мигом проспавшийся чернобородый, стирая с бороды крем. — Это еще и метод са-мои-ден-ти-фи-ка-ции и ориентировки в пространстве. Утром проснуться с бодуна: кто я? где я? А тут работы висят — мои! Я художник, я их написал, эту в Старой Ладоге, ту в Красницах, помнится, утро было туманное, прохладное, вот как сегодня, туман в окошке, работы мои на стене, я такой-то, имярек, здесь и сейчас, и вся жизнь моя со мною.
Хомутов, договорившись со стариком, что придет к нему после выходных показать новые этюды, глянул на висящую над диваном работу, с которой три кувшина смотрели на него, два улыбались, один ухмылялся. Из-за ухмылявшегося высовывался еле заметный маленький беленький робкий кувшинчик.
— А я за выходные кое-что тут перевешу, новые работы увидите, пару портретов моей жены, дареный холст от К.
Когда в понедельник старик открыл ему дверь, он подивился: старик был на себя не похож, пятна румянца, всклокоченные волосы, руки дрожат мелкой дрожью, жилетка криво застегнута.
— У вас всё в порядке?
— Не знаю, не знаю.
— Что с вами? Как вы себя чувствуете?
— Я себя не чувствую, — отвечал старик. — И то ли заболеваю я, то ли с ума схожу.
Из новых работ появились на стене портрет молодой женщины в азиатском халате (длинные ресницы, руки с длинными пальцами на коленях ладонями вверх, взгляд в сторону), большая акварель с сидящими и стоящими таджичками, красящими шерсть для ковров (так объяснил старик Хомутову), мотки шерсти, клубки, пряди разноцветных сохнущих ниток; и два пейзажа староладожских с катерком на Волхове и перевозчицей на веслах, высаживающей пассажиров из лодочки у песчаной полосы высокого бережка, полоса песка, выше полоса изумрудной травы с избами, заборами, людьми, велосипедистом, курами и собакой.
Старик рассеянно похвалил этюды Хомутова, налил ему чаю, вместо чашки кинул куски рафинада в заварной чайник.
— Не выспался, — пояснил кратко.
Уходя, Хомутов снова обернулся от двери. Три кувшина попрежнему смотрели ему вслед, а маленький кувшинчик исчез. Хомутов вернулся, не веря глазам своим.
— А маленький кувшинчик... может, я что-то путаю?.. он тут был... это та же работа? Он где?
— А он разбился! — вдруг выкрикнул старик, обычно такой тихий, ровный, обходительный. — А осколочки я вымел и в поганое ведро выкинул!
Дверь закрылась за Хомутовым с грохотом, он пошел по покатой старинной лестнице вниз, подумав сперва, что старик, как его бабушка, назвал мусорное ведро поганым, а потом не без тревоги: уж не заболевает ли и впрямь старый художник? всё, что угодно, может стрястись с человеком в старости. «Переписал вечером работу и забыл?» По лестнице, пологой, с невысокими широкими ступенями, было легко и спускаться, и подниматься, не чувствовалась высота потолков шести этажей, в домах модерна потолки были высокие, архитектор думал об идущих, рассчитывая наклон, шаг, угол ступеней. «В самоновейших домах к третьему этажу сердце колотится, с дыхания сходишь. Да что же с ним такое? Склероз? Болезнь Альцгеймера? Старость...»
Вечером оказался он на посиделках в мастерской соседа сверху, его к живописи и приохотившего. По обыкновению, после пары рюмок, разговорившись, снова стал он спрашивать о квартирной развеске. Почему, спросил он, столько работ висят с полу до потолка — и так далее.
— Так места мало, вот и вешаешь на одну стенку, бедная, она вся в гвоздях. А что до работ... Когда я с ними, я не одинок и не заперт в четырех стенах, — сказал тихий молчаливый живописец, подобно Хомутову, обретающий дар речи под воздействием рюмочки. — Они точно окна в чердачной башенке моей. Много окон.
— Говорят, иконы это окна, — сказал хозяин мастерской. — Но говорят, они еще и двери, из которых выходят к нам святые.
— А вот для меня, — молвил высокий веселый рыжий акварелист, — картины мои — мой вечный календарь без чисел, но с днями. Я хочу, знаете ли, помнить, когда, где и каким образом мне удалось небо перед дождем написать, найти форму облака, обобщить крону дерева.
— Я видел у знакомого своего дареную картину с очень низким горизонтом, словно автор ее лежит на земле или он полевая мышь, и на переднем плане, на почвенной узкой полоске, высокий словно дуб сорняк, пырей, что ли, а вдали линия крошечных домов, малюток людей, насекомых собак. А небо занимает почти всю картину, чудесно написано. Так там на листьях пырея капли росы, чудо, хочешь навсегда всё это запомнить, хоть ты и не автор, — сказал Хомутов.
— Польщен, — промолвил худой тихоня из угла. — Но почему же я мышь? Может, я хомяк?
— Скажите, — не унимался Хомутов, — а вы хорошо свои работы помните? Каждый куст в пейзаже? Каждый предмет в натюрморте?
— Кто же не помнит детей своих?
— А случалось ли вам что-то подправить в висящей некоторое время перед вами работе? Убрать, добавить? Смыть, дописать, переписать, если это акварель?
— Очень редко. Если что не так, убери эту работу, напиши новую.
— Вот Тернер, например, постоянно усовершенствовал живопись свою, — заметил сидевший рядом с владельцем мастерской друг его, кажется, был он искусствоведом. — Во времена Тернера перед открытием выставки, видя созданную ими картину среди других на стене выставочного зала, могли что-то в ней подправить, отводилось на то время, дописать, снова покрыть лаком, часы зазора между созданием экспозиции и входом посетителей именовались «vernissage» от слова «vernis», «лак». Потом вернисажами стали и сами выставки называть. Тернера чуть ли не силой уводили, он всё не мог остановиться, продолжал работу до ума доводить.
— Надо же. Вернисаж. Лакировка. Лакировка действительности, как советские газеты выражались.
— Советские газеты по данному понятию были наипервейшие специалисты, доки изощренные.
Засиделись заполночь, кто-то остался ночевать, кто-то отправился домой пешком, транспорт уже не ходил. Хомутов спустился к себе, завтра выходной, можно выспаться.
Но ранним утром телефонный звонок разбудил его.
Голос старика прерывался, дребезжал, был слаб, старик заговаривался, Хомутову стало страшно.
— Приходи... придите... мне плохо... лежу... колдовство... дверь приотворю... ключи... жду...
Идти от переулка на набережной канала до дома на Фонтанке было недалеко, несколько кварталов; дорысив, Хомутов не пошел, по обыкновению, пешком, поднялся на шестой этаж на недавно установленном в просторном лестничном проеме махоньком свеженьком лифте.
Старик лежал в большом главном зале мастерской в углу на диванчике. Хомутову лицо его показалось слегка ассиметричным, инсульт, что ли?
Старик приподнял руку, приветствуя его, слабо улыбаясь.
— Ключи... на столе... вызови «скорую»... адрес родственников там же... живут в Загорске под Москвой... телефон их в книжке... племянник приедет... поживи пока тут, ключи ему отдашь... плохо... колдовство... яблоко в руку влетало... врача вызывай... Гюзель убери! Гюзель убери!
Старик замолк, закрыл глаза, хрипло дышал, потерял сознание, словно уснул мгновенно.
«Скорая» приехала быстро.
— У него инсульт?
— Может быть, — сказал врач. — Какое-то нарушение мозгового кровообращения. Имя, фамилия. Паспорт его давайте.
— Я не знаю, где паспорт, — сказал Хомутов. — Я знакомый, только пришел, он мне позвонил. Родные из Москвы приедут, просил им сообщить.
— Ищите паспорт. Найдете, принесете, везем в Военно-медицинскую, она сегодня дежурит. Паспорт сдайте в приемный покой, вход с Пироговской набережной. Давайте его на носилки. Лестница хорошая, большая, спустимся потихоньку. Всё, мы уехали.
На работу Хомутов опоздал. Начальник отсутствовал, все уткнулись в кульманы и столы свои и как бы неурочного прихода его никто не заметил. Вечером пришел он домой за вещами и позвонил, заказав междугороднюю, по московскому телефону с первой страницы телефонной книжки, где аккуратным почерком старика выведено было: «племянник Арсений Загрей, Загорск». Жена старика в довоенные времена фамилию свою русифицировала, стала Загреевой.
— Отца Арсения нет дома, — ответил ему спокойный женский голос, — придет часа через два.
— Я звоню из Ленинграда. Ваш дядя заболел, он в больнице, просил меня пожить у него в мастерской, пока вы не приедете за ключами.
— Ах! — вскричала она. — Как он себя чувствует?
— Не знаю, только сегодня отвезли, завтра к врачу пойду.
— Отец Арсений, думаю, завтра прибудет, в крайнем случае, послезавтра.
«Отец», видимо, означало, что племянник старика священник. На одной из картин квартирной развески изображен был прекрасный пейзаж Загорска с холмом, церквями да колокольней Троице-Сергиевой лавры.
Собрав в рюкзак, советскую исконную торбочку, немудрящий скарб свой: полотенце, зубная щетка, электробритва, простыня, тренировочный костюм, заменявший ему пижаму и по совместительству бывший домашнею его одеждою, Хомутов поднялся к приятелю — предупредить о кратковременном переезде — и застал там компанию, застолье при свечах и беседах.
Но в этот вечер тон и градус беседы были иные, ничто не напоминало прежние степенные умные разговоры. То за тем углом стола, то на этой стороне вспыхивали споры, спорящие раздражались, настаивали на своем, говорили громко, неприязненно почти, что за вечер.
— Всё уж выпили, — сказал хозяин Хомутову, — осталось только зелье, по незнанию и по невинности купленное по дешевке Васиной подружкою, две бутылки на нашу голову, называется «Солнцедар», от него мухи мрут. И закаленные пьянчужки валятся под стол в анабиозе. Его тебе и налью.
— За что? — спросил Хомутов.
— За воротник, — отвечали дуэтом молодые живописцы Гриша и Миша.
— Как вы не понимаете?! — вскричал Хомутовский визави с курчавой бородкою, — да любой художник творит, пока способен пребывать в иллюзиях, пока живы они в нем, пока не стал он трезвым пресным человеком. Потому-то в жизни людей творческих и возникает замес алкоголя и наркотиков или хотя бы примесь пития. Да вы оглянитесь! Любая мастерская, эта, в частности, — натуральная замена трезвой нудной действительности иллюзорным пространством!
— То есть, ты считаешь, художнику нужен допинг?
— Мы таких и слов-то не знаем, — усмехнулся кучерявый. — Я лично постоянно ощущаю только недопинг, что и где бы я ни пил.
— Это кому допинг, — возразил тихоня из угла, — а мне надо валерьянку пользовать и в пустырнике купаться, на таком живу взводе.
— Подождите, подождите! — вскричал искусствовед, сидевший перед перевернутой рюмкою. — Послушайте, что я вам прочту!
Тут достал он блокнот.
— Это отрывок из сорок третьей главы постановлений Стоглава, соборное определение. «Подобает быти живописцу смирену, кротку, благоговейну, непразднословцу, несмехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, неграбежнику, неубийцы, наипаче же хранити чистоту душевную и телесную со всяцем опасением, не могущим же до конца тако пребыти по закону женитися и браком сочетатися, и жити в посте и в молитве, и воздержании, со смиренномудрием, и кроме всякого зазора и безчинства».
— Так то об иконописцах, небось, сказано.
— А лучше икон живописи мы пока не видали.
— Не может творческий человек жить как квакер без рюмки и табака.
— Ты еще скажи — без анаши и кальяна.
— Не каляна, а кокаина.
— Нн-у... вечерний пейзаж, знаем, знаем, лодка, водка и молодка.
Еще не настали времена, когда молодая певица, заматерев, став зрелою матроною, осмелев, заблажит со всех сцен страны, включая главную, коею назначены были подмостки московского Кремля: «Но я узнала интересный момент, что и Ван Гог, и Матисс, и Дали курили таба-табак, употребляли абсент и кое-что, кстати, тоже могли». Зал слушал, улыбаясь, чувствуя себя причастным к высокой культуре, поскольку сами курили, употребляли и могли. Подпевали, вместо Матисса иногда называя Сезанна, что расширяло рамки и указывало на познания в живописи. Хотя всплывала, всплывала откуда-то с галерки загадочная глумливая фраза: «И это все ваши тюнинги?»
Тут вспыхнул новый спор с руки мрачного высокого красавца в алой рубашке, что такое искусство — норма или патология.
Не дождавшись конца дискуссии, в печали, в облачке головокружения отправился Хомутов на Фонтанку искать паспорт старика.
Поиски его успехом не увенчались.
На столе по-прежнему лежала телефонная книжка, в которой клочком газетным заложен был адрес племянника из Подмосковья, подле нее, не замеченное прежде, недописанное стариком письмо. Рассеянно, словно забыв, что нельзя читать чужие письма, стал Хомутов его читать.
«Здравствуй, дорогой Арсений! Пишу тебе в ожидании твоего приезда с твоим племянником (племянник с племянником...), но и не только. Я рад, что мальчик будет поступать в институт в Ленинграде (ты не написал, в какой, уж не по духовной ли части по твоим стопам?), что будет он жить у меня. После смерти жены моей, твоей тетушки, мне тяжело и одиноко: горюю. И стал замечать я в жизни своей некие странности, которыми с тобою, как со священствующим и монашествующим, хочу поделиться. Тебе известно, как и всем нам, что тетушка твоя Мария Маврикиевна, женщина достойнейшая, очень хорошая художница, была причастна, как бы это выразиться поточнее и поаккуратнее, к некоему малороссийскому колдовству. Она прекрасно гадала на картах и по руке, заговаривала болезни, останавливала кровь и т. п., помогала людям, так что магия ее была несомненно белая. Но в связи с некоторыми событиями последних дней, о которых я тебе и пишу, стало мне казаться, что какая-то часть магии, не такой уж белизны, словно бы с оттенком, могла передаться некоторым работам ее.
Неделю назад в ночь на пятницу...»
Письмо обрывалось.
Хомутов расположился на ночлег на диванчике в углу у торцевой стены, лег головой к большому во всю стену окну, расположенному несколько выше привычных окон, готовому принять выплывающую над ближайшей крышею двора-колодца доходного дома полную луну, он не хотел, чтобы она светила ему в лицо.
Зато этого хотела луна.
В массиве картин квартирной развески висели у старика два зеркала, в них привычно влился образ солнечного зеркальца ночного, чей свет замерцал и в стеклах акварелей, но словно бы тише, серебристей, не столь ртутно и отчаянно.
Сначала не мог он уснуть, зажег свет, отправился на кухню попить воды. Возвращаясь, окинул взглядом картины. Сияли среднеазиатские фрукты натюрмортов, светились грозди винограда, нежные срезы дынь, утоляющие даже на глаз жажду ломти арбузов, изломы гранатов, плыли облака над сонной рекою, стояли у берегов лодки, загорали люди на крымском пляже, группа восточных женщин (ковровщицы, ткачихи, пряхи, мойры) красили в чанах нитки, развесив цветные пучки, отгородившись ими от выцветшего на солнце золотистого пейзажа, красивая молодая женщина в шелковом с разводами халате смотрела вбок, на шелковое сюзанэ над диванчиком. Тут Хомутов заметил в руке у нее яблоко, которого прежде не замечал. Что-то оно ему напоминало, он еще раз оглядел стену. На одной из картин в дареном натюрморте известного ленинградского живописца лежали россыпью на белой скатерти похожие яблоки. «Все яблоки мира похожи друг на друга, — подумал Хомутов, укладываясь, — все они Евины».
Зеркала наливались лунным светом, дынный аромат поплыл по комнате.
Засыпая, услыхал он приглушенное женское пение, ангельский голос на непонятном языке, сопровождаемый неким смычковым инструментом, то ли альтом, то ли виолончелью.
Внезапно пробудившись, не представляя, сколько проспал, пять минут или пять часов, догадался он, что недолго: отраженные зеркалами солнечные лунные зеркальца светили ему в глаза точно на допросе, как тогда, когда он лег.
Он слышал легкий плеск и шум речной воды, на нескольких картинах изображены были реки. Стенотреском баловались шкафы и стены, похрупывали стекла в рамах наподобие ломающихся в ледоход льдин. Крики вороньей стаи, то ли с улицы, то ли в одной из рам возник вранограй. Скреблись в старом сарае этюда сверху мыши, ультразвук мышеписка ядом вливался в уши. Женский смешок портрета красотки в шелковом халате. Из работы в дальнем левом углу плыл туман, волны тумана в воздухе комнаты. В легкой взвеси тумана, балуясь невесомостью, проплыл по комнате какой-то предмет: корпускула? маленькая шаровая молния, подобная той, что видел он в детстве на сквозняке в деревенском доме? клок космической пыли? шмоток света?
В староладожских курганах этюда центра развески запобрякивали шлемы, наконечники копий, сбруя; ему было известно, что в одном из курганов могила Вещего Олега. Он мог показать в каком.
Летающий предметец пронесся над ним, он почувствовал волну потревоженного воздуха.
Тут из угла с мерзкими воплями: мяу! мяу! — рванул за комнатным летуном огромный черный кот, только красным (это вместо зеленого-то!) глаза в полумгле сверкнули.
«Всё, я рехнулся. Белая горячка. Вот он, бесовский „Солнцедар“».
Тут представилась ему совершенно известной и понятною рецептура рокового напитка, известного на данных широтах с осьмнадцатого столетия: в зелье добавлялись наркотические добавки, жмыхи макогонов, анаша, конопля, клофелинные исторические алхимические аналоги. Ох, посажу я, я посею лен-конопель, лен-конопель, а мы просо вытопчем, вытопчем. Не дожидаясь, пока песенный благодетель журавель начнет лен-конопель клевати и топтати, Хомутов хотел запеть, дабы выгнать благородную птицу с наркоплантации, но провалился в сон словно в глубокий обморок, успев напоследок в мерещащегося кота тапком запустить.
— Ах ты, подлец, паршивец! — услыхал он женский голосок. — Кто ж тебе разрешил, негодяю, развалиться в чужой комнате и дрыхнуть тут как дома?
— Это вы мне? — спросил Хомутов, открывая глаза.
— Это я коту своему, — отвечала стоящая посреди мастерской тоненькая девушка, державшая на руках черного котищу.
От девушки пахло уютной дремотою, земляничным мылом, солнечными волосами. Тут Хомутов сообразил, что перед ним не призрак, призраки не пахнут, и, чтобы не валяться перед дамою, чуть качнувшись, сумел встать, принять вертикаль.
— Я забыл закрыть входную дверь? Ваш кот забежал с лестницы?
— Я соседка, старшая дочь соседей, вошла в дверь на кухне, вы задвижку на ночь не закрыли, кот и явился, полуночник, тут скакать и праздновать мартовское полнолуние. Я не знала, что вы на диване спите. Извините, мы вас разбудили. А вы кто?
— Я знакомый хозяина, его утром «скорая» увезла, он просил меня тут побыть, пока родные из Москвы за ключами приедут.
— Ему совсем было плохо? Он про нас забыл? Да ведь вчера утром нас дома не было... Спите, я пойду, закройте за мной дверь.
Дверь между двумя мансардными квартирами пряталась за длинной, до полу, занавескою.
— Ваш вход парадный, а мы входим с черного.
— Ваши родители художники?
— Нет, папа виолончелист, мама певица. Братцы еще маленькие. Наш дедушка был художник, с вашим художником дружил.
Она исчезала за дверью, он спросил:
— Как вас зовут?
— Оля.
— А кота?
— Мардарий, — отвечала она, улыбка ее осветила полумглу подобно фонарику.
— Подождите, подождите! Хозяин просил меня убрать гюзель, вы не знаете, что это такое?
— Не что, а кто, — отвечала девушка Оля, почесывая загривок угомонившегося кота, — это имя танцовщицы вон с того портрета руки Марии Маврикиевны, красивая Гюзель в пестром шелковом халате.
Успокоенный, снова уснул он, проспал целую вечность. Телефонный звонок разбудил его, он сел, собираясь взять трубку, и увидел на журнальном столике у дивана яблоко, идеальное, совершенное, знакомого цвета.
Обернувшись к картинам, глянул он на натюрморт с рассыпанными яблоками. Потом всмотрелся в портрет Гюзели. Телефон замолк. Не было в руке танцовщицы яблока, теперь держала она клубок шерстяных ниток, окрашенных пряхами-ковровщицами.
Хомутова зазнобило, отправился он на кухню на водопой. За дверью между кухонным шкафом и ванной лепетали детские голоса, с братьями разговаривала Оля, звякала посуда, лилась из крана вода. Простые звуки соседского утра успокаивали, его уже не трясло, да и вода была хороша свежестью деревенской. Тут раздался звонок, и Хомутов пошел открывать.
На пороге в дверной раме подобно нестеровскому портрету стоял монах в длинной черной рясе (или то был подрясник? сутану, кажется, носили католики), коротком черном полупальто, в шапочке-скуфейке, волосы забраны в пучок; монах был чернобородый, молодой, кажется, даже веселый — или развеселил его вид встрепанного в мятом тренировочном костюме Хомутова.
— Я отец Арсений Загрей из Сергиева Посада, племянник из Москвы, только что с вокзала. Вы мне вчера звонили, говорили с женой брата. А я вам сейчас звонил по телефону-автомату с уголка, да вы трубку не брали.
— Не успел.
— Если не возражаете, давайте почаевничаем, а потом я к дяде в больницу поеду.
— Только к чаю ничего нет.
— Сухарики привез домашние, да в дороге сообразил — если у дяди микроинсульт, ему и нельзя. А варенье, брусника, мандарины пригодятся.
Сухарики, вынутые отцом Арсением из видавшего виды кожаного саквояжа (должно быть, из врачебных баулов столетней давности), уложены были в аккуратнейший полотняный мешочек с завязками, мелкие кубики, чуть подсоленные, Хомутов грыз их, сахар таял в синих фарфоровых чайных кружках.
— Там, на столе, вам письмо недописанное лежит.
— «Малороссийское колдовство», — повторил монах, прочитав. — А ведь тетушка Мария и мне в детстве горло заговаривала.
Тут Хомутова словно прорвало, он рассказал про «Солнцедар», про ночные мытарства свои, про яблоко, про появившийся клубок шерсти в руке Гюзель и про просьбу перепуганного старика ее, Гюзель, убрать.
— Уберем, — сказал монах, обходя столик и внимательно разглядывая яблоко. — Дядя всегда работы перевешивал, заменял, этот портрет недавно вывесил, я его не помню. Но каков фрукт-то с древа познания. Совершенство. Идеален словно муляж. И если он и вправду, — тут он перекрестился, — с той картины, ведь в ней он пребывал, точно луна, всегда к зрителю одним боком, а теперь мы с вами лицезреем его целиком, в полном объеме, со всех сторон, с любого боку.
— Что же мне с ним делать?
— Скормите голубям.
Они убрали портрет Гюзели на одну из полок стеллажа за высокой, до потолка, холщовой ширмою, сняли оба зеркала.
— Вот на этой полке, — сказал отец Арсений, — работы на продажу, дядя с тетей иногда продавали акварели коллекционерам, коллекционеров знакомый искусствовед приводил, он и цену знал, если при вас придут, не пугайтесь, покажите работы, продайте.
— Вы на сколько дней приехали?
— Я вечером сегодня и уеду. Сейчас в больницу — на Пироговской, говорите? — потом в Александро-Невскую лавру, потом на Московский вокзал.
— Как же я тут останусь, я ведь должен вам ключи отдать.
— Да у нас свои ключи есть, — отвечал отец Арсений, — я приехал дядю повидать да с врачами переговорить. Как больного выписать решат, по вашему звонку приеду с племянником, парень тут останется, отпустим вас на свободу, а я дядю заберу к себе в Сергиев Посад, жена брата не просто медичка, талант у нее врачевания, даст Бог, выходим старика, окрепнет — обратно привезем.
Непонятная уверенность и спокойствие монаха передались Хомутову, он приободрился.
— А что это на столе у окна стоит? — указал отец Арсений на два изогнутых полированных металлических листа, стоящие возле цветов полуцилиндры.
— Не знаю, может, ваш дядя хотел их в качестве фона в натюрморт поставить.
— Давайте мы и их уберем на нижнюю полку за ширмой. Мать честная, да ведь все щучьи хвосты зацвели!
С ужасом подумал было Хомутов, что сейчас увидит цветочки на хвостах рыб дареного натюрморта известного художника Е., но отец Арсений пояснил:
— Цветы, любимые тетушкины цветы комнатные, их в народе называют «щучьи хвосты», а официальное их название сансеверия. Десятилетиями стоят тишком, цвести не хотят.
Из зеленых листьев, напоминавших Хомутову скорее заячьи или ослиные уши, нежели щучьи хвосты, торчали на длинных стеблях распускающиеся бело-золотистые метелки цветов вроде ночных фиалок с каплями липкого прозрачного росистого сока, клейкого, с острым пряным дынным запахом.
— Я ночью думал — дынями из натюрморта запахло.
Арсений достал из саквояжа маленькую, с открытку, иконку, поставил на стол.
— Пусть тут постоит.
Уходя, перекрестил каждую комнату, с порога перекрестил Хомутова:
— Храни вас Господь.
— Погодите, погодите! Я паспорт дяди вашего не могу найти, сегодня обещал доктору привезти.
Монах уже прошел этаж или два, ответил снизу:
— В спальне на тумбочке шкатулка.
В шпалере квартирной развески образовались лакуны, белые пятна, дзен да и только. По размеру и тону на место портрета Гюзели подошел бы натюрморт с битой птицею, серебристо-светлыми и жемчужно-серыми подвешенными за розовые лапки куропатками, но Хомутову вдруг стало жаль мертвых птиц. Долго рылся он на трех полках стеллажа, вытащил несколько акварелей, и внезапно осенило его, пришло то удивительное чувство экспозиции, которое потом, годы спустя, когда стал он художником, отличало все его развески, все выставки, интуитивное, позволяющее сбалансировать, сгармонизировать всю живописную рать, по оттенкам палитры, по пятнам светотени, по масштабу, по совместимости — человеческой почти.
На место большого зеркала повесил он темперный этюд с изображением калитки и врат, крупный план, старинное строение, облака над вратами, умбра, марс коричневый, темно-синее в тенях у подножия входа невесть куда; на наклейке на обороте значилось: «Врата. Новгород».
Долго перебирал он портреты жены хозяина, она и писала большей частию портретные работы, всё не мог выбрать. Наконец, нашлись обведенные дюралевой рамкою два величественных индюка с индюшкою, черно-голубое роскошное оперение, розово-алые индюшачьи сопли, индя, индя, красный нос, поросеночка унес.
С улыбкою, отойдя, Хомутов оглядывал стену.
Едва успел он вернуть все вытащенные картины на полки, как в дверь позвонили.
— Мы договаривались, что придем сегодня в это время, — сказал худой высокий человек в очках. — Это коллекционер из Италии. Большой поклонник работ хозяина мастерской. А где он сам?
— Он, к сожалению, в больнице. Но показал мне работы, которые мог бы вам предложить.
Выставив перед холщовой ширмою несколько натюрмортов, с полминуты поколебавшись, Хомутов присоединил к ним изображение Гюзели.
— Какой прелестный женский портрет! Вероятно, руки синьоры Загреевой? Я его беру! — воскликнул иностранец. — К сожалению, я смогу купить только две акварели. Натюрморты великолепны, выбирать трудно.
Отставив Гюзель в сторонку, Хомутов увидел, что клубок шерсти исчез из руки танцовщицы, она сидела, как прежде, глядя на сюзанэ над диваном, смирно положив руки ладонями вверх.
Распрощавшись с посетителями, Хомутов не без опасений взял сияющее красотой идеальное яблоко, точеная форма, выверенный цвет, ни родинки, ни червоточинки, идея плода, и, разрезав его аккуратнейшим образом на дольки, напоминающие луны между новолунием и полнолунием, высыпал разделанный загадочный фрукт в форточку крохотной столовой, на пологий скат крыши между двумя контрфорсами, вспугнув стайку голубей, ринувшихся было затем к яблочному десерту (и старик, и жена его частенько сыпали голубям то крошки, то горсть крупы), но чем-то угощение им не понравилось. Вся стайка вмиг улетучилась. «Ядовитое оно, что ли? или глубоко ненатуральное? Солярисово привиденьице?» Тут появилась ворона, обследовала предлагаемую еду, ухватила дольку, улетела. Хомутов не успел отойти от окна, прилетели еще две вороны, вернулась и первая, вскорости от лунных ломтиков и следа не осталось.
«Интересно, куда дела Гюзель нитки? Портрет-то поясной, пола не видно, может она клубок там, у себя, на портрете, на пол бросила?»
Будучи совершенно уверен в том, что отцу Арсению не следует рассказывать ни о сценке с кормежкой птиц яблоком, ни о клубке на гипотетическом полу, он позвонил в Загорск. Трубку снова взяла жена брата монаха.
— Передайте, пожалуйста, отцу Арсению, что я продал, как он сказал, две работы, деньги положил в шкатулку с документами и фотографиями, паспорт нашел, завтра отвезу, когда поеду вашего дядю навещать.
Он отправился за хлебом, зашел в столовую за углом, где отдал дань любимым своим столовским котлетам да желудевому кофе, впервые за сутки почувствовал голод.
Возвращаясь, проследовал он чуть дальше входной двери, в любимую точку Большой Подъяческой, в ту точку, из которой видны были оба купола: за Фонтанкой космический планетарный сине-голубой Измайловского Троицкого собора, а в противоположной стороне, вдали, за каналом — прекрасный златой шлем Исаакия, парящий в мареве петербургских небес, словно творение Браманте, призрак Рима, Венеции или Флоренции.
Темнело быстро, голубизна сгущалась в лазоревую тьму, наливалась чернотою, проявлялись светцы звезд, стало быть, ожидался ночью заоконный лик луны.
Хотелось спать, постелил он себе на диванчике, легкий стук в кухонную, переставшую быть потаенной, дверь отвлек его от образа подушки.
В дверях стояла Оля, за юбку держались по бокам два ее братца, трехлетний и пятилетний, круглоголовые, крепенькие, похожие на медвежат, без обуви, в толстеньких шерстяных вязаных носочках. Сзади на полу развалился Мардарий, перестал на миг намывать мурло, глядел осуждающе. Сошлись на Хомутове траектории четырех взглядов, он стоял в точке схода их обратной перспективы.
— Вы ведь завтра в больницу пойдете, — сказала Оля, — это клюквенный морс, это крапивный отвар, поставите в холодильник, а вот баночку с мёдом в холодильник не ставьте, мёду холод вреден. От нас большой привет. Не забудьте дверь на задвижку закрыть, чтоб визитеры не беспокоили, кот не прочь, да и братцы любят в мастерскую в гости бегать. Спокойной ночи.
— Хозяин всегда дверь закрывал? — спросил Хомутов, ему хотелось еще минутку поглядеть на девушку с мальчонками и котярой.
— Задвижечка старинная, — отвечала она, — у мамы от нее ключик есть, когда хозяева уезжали, мы ходили цветы поливать.
Он улегся, наконец, не без опасений погасил свет, уснул моментально. По нейтральной полосе между видимым, невидимым и сочиненным мирами, где окрест распласталось дикое поле с дикими лугами воображаемого ландшафта, шли они по зеленым холмам с отцом Арсением наподобие нестеровских философов. Монах читал вслух книгу, чье название было Хомутову неведомо.
— «При таком направлении внутренней жизни, — читал монах, — видение является не тогда, когда мы силимся собственным усилием превзойти данную нам меру духовного роста и выйти за пределы доступного нам, а когда таинственно и непостижимо наша душа уже побывала в ином неведомом мире, вознесенная туда самими горними силами; „знамение завета“, как радуга, открывается после пролития этого благодатного дождя, небесное явление, образ горнего, в напоминание и ради внедрения дарованного, незримого дара, в дневное сознание, во всю жизнь, как весть и откровение вечности».
— «Натурализм, — читал он, — в смысле внешней правдивости, как подражание действительности, как изготовление двойников вещей, как привидение мира, не только не нужен, но и просто невозможен».
«Вот как, — подумал Хомутов, на несколько минут полупроснувшись, но делая выводы по законам сна: ничуть не вытекающие из предыдущих слов и действий, но по неизвестной причине глубоко убедительные, — стало быть, изображение всегда должно быть немножко неправильным, чуть-чуть неточным, неидеальным, и тогда оно истинно, в нем есть душа».
Было тихо, луна переходила с одной остекленной плоскости на другую, скользили лучи ее там, на улице, по обоим куполам соборов, золотому и синему, осязали расцветшие дынные грозди сансеверий, и он тотчас уснул снова, в другие морфеевы пьесы, которых утром не вспомнил.
Безмолствовали все картины квартирной развески, разве вдруг всплеснет еле слышно вода на берегу этюда Волхова и ответит ей неведомого леса ручей; пребывали в счастливой тишине папки акварелей, гербарии зим и лет, кунсткамеры и оранжереи дней, оплотнившаяся память о временах и сновидения о них.
СОЛОВОК
Они спасают нас в море и играют с нашими детьми у берегов.
Джон Лилли. Человек и дельфинВ земной жизни все наши желания исполняются, но каким-то диким образом. Я мечтал жить в монастыре — и живу в монастыре, но на Соловках. Я в детстве мечтал жить на острове, видеть отливы и приливы — и я живу на острове, но в лагере. Еще я мечтал возиться с водорослями, изучать их. Может, сбудется и это.
о. Павел ФлоренскийПолоса окраинных новых домов с одной стороны отчерчена была насыпью железнодорожных путей, с другой — проспектом, в этой части своей уже не бывшим таковым: своего рода шоссейка, где стоят четные строения, а вместо нечетных — заброшенная трансформаторная станция, немножко лугов, чуть-чуть пустырей.
Трансформаторная станция обнесена была высоким забором. Никто не знал, под током ли спутанные наподобие елочных гирлянд провода, или давно превратились они в тихий памятник довоенным годам электрификации всей России плюс советская власть, загадочному уравнению растаявших в воздухе пятилеток. В центре инсталляции возвышалось черно-серое здание, казавшееся выше и уже на полосе лугов и пустырей, творение какого-то местного Беренса, ипостаси Руднева, адепта канувшего в Лету конструктивизма, давно побежденного, разбитого наголову сталинским ампиром. В некоторые особо темные вечера, особо черные ночи в узких, напоминающих бойницы окнах то там, то сям загорался, возникал, мелькал, маячил фосфорецирующий изумрудно-зеленый огонек неуместной лампы с зеленым абажуром или сигнального — с цветным лепестком фильтра — трофейного фонарика в дланях призрака из неведомого, готического, что ли, романа электрического жанра; привидение при зеленом светце, возможно, читало «Баскервилльскую собаку».
Теоретически полупроспект был параллелен скрывающемуся за отдаленными жилыми массивами проспекту меридианному, Московскому; но большой вопрос, может ли быть чему-нибудь параллелен меридиан, если все они имеют как минимум две точки схода в лице Северного и Южного полюсов, и вопрос перспективы их, которая не прямая и не обратная, а глобальная, спорен. Именно по этой причине улицы вокруг мередианных проспектов расползаются, все лоскуты пространств их сшиты кое-как, в лучшем случае на живую нитку.
Вечерами, когда тьма, не побеждаемая слабыми огонечками унылых редких фонарей, или туман, щупавший местность, вызывали в воображении романтических беглецов из троллейбусов к парадным своим образы запутавшихся в такелаже заброшенной электростанции пиратских скелетов, остановленных током навеки, с неизвестной целью перебравшихся при жизни через бетонный древний забор, взалкавших, может быть, несуществующих кладов или возжелавших обрести приют в пустующем доме-призраке.
Коробочки пятиэтажек спального района, именовавшиеся «хрущобами» в честь придумавшего их для простых граждан своей загадочной державы премьера Хрущова, стояли в пустотных околотках, созданных милитаристскими нормами застройки, для всех архитекторов обязательными: при атомном ударе они не должны были валиться друг на друга, а надлежало им рухнуть каждому в своем отведенном для того в планировке пространстве. Странен потому был вид местности с птичьего полета, да кому было дело до птиц.
На пустырях, соединявших заплатами околотки, петляли тропы, цвели дикие цветы и сорняки самоопыляющегося самосада русского газона советских лет.
За железной дорогой, в двух шагах, протекал ручей, крошка-река с маленькими лужками, зарослями лютиков, купавки и незабудок. За рекою между нею и сверкающим на западе мередианным предпулковским простором перекликались неслышными волнами эха редкие доты.
Зато из окон верхних этажей последнего дома городского рубежа (уже готового сменить дислокацию, застроиться далее, выставить форпост или аванпост станции метро) видно было восхолмие Пулковского астрономического храма науки, а в бинокль, особенно в военно-полевой, вбирались в око, волновали душу серебристые купола обсерватории. Проспект и сам-то имновался проспектом Космонавтов, чем намекал невольно на космические дали неосваиваемых планет, на инопланетян, НЛО и прочие детали духовной жизни местного разлива. А последняя городская улица, перпендикулярная нашему проспекту, называлась Звездной. На ней находилось кольцо троллейбуса, в ранние утренние часы толпа стремящихся на службу шла на приступ оного, на первой от кольца остановке редкие отчаянные пассажиры могли втиснуться в набитый под завязку салон (у метро «Парк Победы» конгломерат пассажиров редел, а к Сенной площади все сидели в полупустом транспортном средстве, глядели в окна).
Району, состоявшему из честно собравшихся рухнуть по планировочной разнарядке хрущоб и длинных и высоких (по сравнению с ними) восьмиэтажек-кораблей, были не чужды акустические игры в духе лемовского «Соляриса». Белой ночью плач какого-нибудь приболевшего младенчика из рупора приоткрытой балконной двери будил весь околоток трубным гласом, метался над пустырями. Равно как и полуночное пение подвыпившей очередной компании, «слушай, слушай все», как военные трубачи спокон веку имели честь выражаться, и просыпались, и поневоле слушали все. В дни ветров, малых ураганов, осенних наводнений (хотя все реки пребывали на севере, в центре города) воздух наводняли волны звуков, гудело и завывало не только на чердаках и в подвалах, — стонало, металось эхо в дотах, трепетали, отдавая звуки, подавая их ввысь, щиты пустырей, удесятирялся, приближался стук колес проходящих поездов, гудели эоловыми арфами провода заброшенной электростанции. В жаркие дни лета усиливались, царя, повторы несносных гамм, впрочем, обучающихся музыке детей и собственно роялей тут было немного.
Тут не было ни театров, ни библиотек, ни музеев, даже и кинотеатры отсутствовали. Никому не приходило в голову поставить скульптуру, памятник, возвести строение не по номиналу. Из общественных точек наличествовали продуктовые магазины, в промтоварные уже надо было пробираться к мередианному проспекту или в обжитый гигантский микрорайон за железной дорогою. Читали подобно жрецам знаки судьбы: свет фар единственного троллейбуса, направления троп на пустырях, вечера и ночи зеленого призрачного огонька, траектории самолетов, болидов, спутников, предполагаемых НЛО, аэродром был недалеко, неба было много.
Отслеживались весенние внезапные визиты долгожданного человека в белом с серебристой бочкой кваса, бочку на колесах привозил грузовик, отцеплял, оставлял между домами на счастье. Злые языки болтали: не пейте, не пейте квас, в бочке внутри все стены облеплены белыми червями. Все чихали на белых червей, пили с наслаждением — по столько-то копеек маленькая кружечка, столько-то большая. Человек в белом был здешний квасной жрец-благодетель.
В выходные дни и в праздники те, кто почему-то не уехал в центр, шли гулять, навещали магазины, слонялись по пустырям, огибали электростанцию, но как-то странно гуляли, броуновским движением, как-то толклись мошкарою, отчего в воздухе возникали энигмы скуки, корпускулы тоски и вирусы печали, поэтому со вздохами облегчения возвращались, внезапно устав, в обретенные отдельные гнезда своего спального района, где не всегда после прогулок спалось по-человечески.
Перманентно пьющие компании были у всех не столько на виду, сколько на слуху. В последней восьмиэтажке городской черты таковая обитала на седьмом этаже третьей парадной. «Когда человек пьет, значит, он протестует», — утверждал умный психолог с первого этажа. Протестанты с седьмого протестовали против всего: холодного и жаркого лета, гриппа, осенних ветров, внезапной апрельской метели, сугробов на пустырях, сломавшегося единственного на нетелефонизированный район телефона-автомата, телепрограмм, закрывшейся лавчонки в соседнем доме, троллейбуса, фабричной неудобной обуви, происков дяди Сэма, капиталистов, классовой борьбы, чертовой интеллигенции, хреновой зарплаты, потерянных ключей, короткого отпуска, коварных баб, лживых мужиков, враждебных ментов, невкусной колбасы, цен на водку, железнодорожной станции, отсутствия воблы, — в общем, перечислить поводы протестов их не смог бы никто, даже и сами они не сумели бы, если бы захотели.
На том же предпоследнем этаже рядом с протестантами обитали два невзрачных человека небольшого одинакового росточка, походившие на стертые монеты, одетые в старые серые одежки. Были ли они родственниками, братьями, приятелями, закадычными друзьями, никто не знал. Каким-то образом оказались они в однокомнатной квартире на пару, может, купили ее вскладчину, дом-то был кооперативный. Звали их Петя и Коля; впрочем, откликались и на имена Гоша и Миша, и когда один из соседей снизу поинтересовался, идучи под мухой из гостей, почему они и на вторую пару имен откликаются, получил ответ: Гоша и Миша наши любимые друзья, с ними иногда переписываемся, когда почта есть, и при последних словах неожиданно оба рассмеялись, что было для них совершенно не характерно, а характерна была озабоченность сосредоточенных маленьких грызунов.
В какой-то момент Петя и Коля впали в суету, ежевечерне неустанно таскали в квартиру свою узелки, пакеты, емкости, невесть где почерпнутые (может быть, даже краденые) стройматериалы. Перетаскав рулоны обоев, пакетики обойного клея, пачки линолеумных и кафельных квадратиков, банки с краскою и т. п., стали они делать ремонт. Шкрябали, стучали, скрипели, воняли то скипидаром, то битумом, шерудились по ночам, наконец, труд их благополучно завершился, стали выносить небольшими мешками мусор, и в дверь нараспашку увидали все, мимо проходившие, сияющие белизной потолки, кухоньку с рыжим линолеумным полом, оклеенную обоями «под кирпич» крошку-прихожую и прочую красотищу. Протестанты были совершенно потрясены увиденным, даже на неделю совещаний бросили петь, пить и протестовать, в итоге, поторговавшись, пообещав на время ремонта съехать на дачу, заказали Пете и Коле ремонт.
Уже настала чахлая чахоточная петербургская весна, в те годы существовавшая под псевдонимом ленинградской, на дачу заказчики съехали, а нанятые ими невзрачные возобновили вечерне-ночное таскание строительных припасов, более длительное, поскольку фатера протестантов была вдвое, если не втрое, больше их норки.
Возвращающаяся с полуночной собачьей прогулки маленькая собаководка с последнего этажа еще на втором учуяла мерзкий нечеловеческий запах, Петя и Коля сосредоточенно драили дрянью заляпанный черной пакостью лестничный марш: поспешив, устав, оступившись, вывернули на ступеньки бачок с краденым варом. Надо отдать им должное, они честно мыли лестницу четыре ночи, устраивая газовые атаки разбавителем, и преуспели, почти отмыв. После чего приступили к ремонту у протестантов.
Поначалу всё шло вполне кондиционно, размывали, белили, клеили обои, шпаклевали, красили.
Но далее настала очередь кафеля и линолеумной плитки, каковые присобачивали они на неведомого состава битумную черную смесь, технологическую находку ноу-хау, заменяющую и бетон, и цемент, и клей. Налив сию напоминающую адскую смолу с таковым же дегтем полужидкость в огромный бельевой бак, разогревали они чертовщину на своей кухне, потом волокли бак в соседнюю квартиру и принимались прилеплять варом кафель на стены, а линолеумную плитку на кухонный пол; и для скорости поставили греться и в протестантской квартире второй бак. Увлекшись прилепливанием квадратиков на пол и стены, как-то не уследили они за варевом, да к тому же, разгоряченные, открыли форточки для дыхания и двери обеих квартир для удобства передвижения.
И оба варева вспыхнули, полыхнуло по полной программе. Стали заливать водой, сдуру распахнули окна настежь, сквозняк раздувал пожар подобно суфлеру.
По счастью, старушка из торцевой трехкомнатной, страдавшая бессонницей, особенно когда семья ее убывала в отпуск, вовремя выскочила на лестницу, слетала вниз к единственному в районе телефону-автомату, вызвала пожарных и стала звонить и стучать в двери жильцов (а на задымленных лестничных площадках уже было полное марево, только пылающие волоски невидимых лампочек вились огненными червячками), крича: «Горим, горим! Выходите, выносите детей и документы!»
Все и повыскакивали, из дома повыбегали на улицу, на пустырь, а пожарные уже, молодцы этакие, примчались, тряся бубенцами, с воем и звоном.
Жильцы квартир последнего этажа сбились спросонок в единую маленькую группу на будущей детской площадке, откуда уже вывезли пивной ларек, а ящики тары остались, да и доски строительные лежали, можно было сесть.
Пока собирались, спускались, выскакивали, успели надышаться и нанюхаться, битумная сажа отрисовала черненьким носы и ноздри, превратив их в свиные пятачки рождественских ряженых. Однако, натерпевшиеся гипнотического доисторического ужаса надвигающегося огня и вида стеклистых червячков лампочек Ильича во мгле, люди на грим копоти внимания не обращали вовсе.
В центре живописной группы кое-как невесть во что одетых статистов внезапно возникшего театра бытия сидела молодая женщина со спящим младенцем на руках. Младенец завернут был не в детское удобное одеяльце, но в полнометражное легчайшего шелка пуховое с фантастическими цветами и феерическими птицами, которое некогда привез ей молодой муж, тогда еще жених, из Сингапура. Должность жениха на плавсредстве именовалась старший матрос, что невесте очень нравилось, она и потом, он уж и в плавания ходить перестал, так его называла, и в будущем, когда ее младенец-девочка заговорила, учила и девочку, а та всё запомнить не могла: «Кто твой папа? — Страшный матрос. — Неправильно, подумай. — Старший матрас». На голове жены страшного матроса трепетала немыслимой красоты парижская черная маленькая шляпка (похожие российские назывались «менингитками») с вуалеткою и ярким букетиком цветов. Одета она была в искусственную шубку всё из той же французской столицы, обута в выходные туфли на шпильках, несколько странно смотревшиеся на снегу; на руке с младенцем в одеяле у нее болталась блестящая театральная сумочка с деньгами и документами, а в другой руке держала она внушительного размера фотографию в золоченой раме, на которой, высунувшись из воды, ухмылялся крутолобый белый дельфин.
— Мать честная! — воскликнул сосед ее из девяносто первой квартиры. — Да откуда же у вас портрет Соловка?!
— Муж на самое видное место повесил, — отвечала она полушепотом, — пришлось выносить. Он, когда вернется, убьёт меня, если портрет этой твари сгорит.
— Да с чего это, — спросила собачница, подтягивая собак своих поближе и погрозив им пальцем, чтобы молчали, не будили лаем дитя, — благородное прекрасное животное именуете вы тварью?
— Тварь и есть! — воскликнула артистически тихо, чтобы младенец спал, соседка в шляпке, и слезы прочертили две параллельных тропинки по серо-черным щечкам ее по обе стороны свиного пятачка из сажи. — Муж нас из-за нее бросил. Как хорошо мы зажили после свадьбы! А встретились, странное дело, на фотовыставке, я на них отродясь не ходила, да и он сказал, что в жизни фотографией не интересовался, это жизнь нас свела. Он говорил: я тебя сразу приметил, едва ты в дверь залы вошла, так твои глазки яркие с порога мне в душу голубым светом полыхнули. Он в море ходил, я его ждала. Зарабатывал хорошо, чего только мне не привозил, нарядная ходила как никогда в жизни. Квартиру кооперативную построили. Ребенка ожидали. И вдруг приходит с моря сам не свой, даже лицо слегка изменилось, да и говорит: судьбу свою встретил, о которой прежде не подозревал. Я обмерла, ну, думаю, марсельскую либо ливерпульскую проститутку подцепил мой романтик моря, люковку с камелиями зарубежную. А он говорит: встреча с дельфином у меня произошла, как с братом по разуму, как с инопланетянином. Я в первый момент сдуру успокоилась, даже засмеялась, но к смеху моему отнесся он сурово, неодобрительно, и как-то слишком серьезно, что для него было не характерно. И пошло-поехало. Дельфин его обожаемый был белый. Белуха. «А имя его, — сказал он, — имя его Соловок. — Да как ты можешь знать его имя? — Он мне сам сказал. — Они разве говорят? — Они говорят, — отвечал он, — но и не только. У меня его слова звучат в уме, как мысли на расстоянии. А мои мысли у него в уме звучали. — Да разве у рыбы есть ум? — Это у тебя ума нет, — отвечал он, — и Соловок не рыба, дельфин вроде мелкого кита». И ушел, хлопнув дверью. Вернулся к ночи, странный такой. «Ты пьяный, что ли? Где ты был? — В пивной на Сенной. С чего бы мне быть пьяным?» Подозревала я: может, завлекли его в путешествии в наркотический китайско-малайский притон? Говорил: я Соловка изо всех дельфинов мира узнаю. Да они все одинаковые, отвечала я. Это китайцы и негры для нас все одинаковые, отвечал он, и мы для них тоже, а у всякого животного свое непохожее лицо, к тому же у Соловка пятнышко на лбу, да и мы с ним постоянно на связи и друг с другом разговариваем.
Теперь все книги, что приносил он в дом, были о дельфинах, над этими книгами он удивлялся, улыбался, возмущался, загибал уголки страниц, закладывал закладки. Время от времени он что-нибудь рассказывал об этих существах, надеясь найти во мне интерес и сочувствие. И совершенно напрасно. Муж уволился, стал наниматься от случая к случаю на разные плавсредства с тем, чтобы их маршруты совпадали с местонахождением его чертова Соловка. Дельфины, говорил он, склонны к миграциям, заплывают в Южные моря, даже в реки, но чаще курсируют между Белужьей бухтой Соловецкого архипелага и Тихоокеанским побережьем. Я теперь не видела красивой одежды, симпатичных безделушек и экзотических предметов вроде страусиного яйца на золотистой подставочке. Однажды с восторгом положил он на мой трельяж белый камень, который по его словам достал ему со дна Белого моря его идол. Это беломорит, сказал он, вроде лунного камня. Путешествия его становились всё длиннее, дома он отсутствовал всё дольше, денег получал всё меньше, пока не стал появляться два раза в год дня на три. Я пойду за дом, покачаю Лизочку, кажется, она собирается проснуться. Кстати, он убаюкивал ее в последний раз какими-то немыслимыми щелканьями и присвистами, это я научился, сказал он, песням Соловка. Да неужто он еще и поет, спросила я. Да, поет, отвечает, белуху не зря называют морской канарейкой. Я когда слышу песню «Блю кэнери», теперь всякий раз звук выключаю. И вместо «блю» другое слово шепотом говорю, хотя никто меня не слышит. Пожалуйста, подержите эту несчастную фотографию, мне тяжело укачивать ребенка с портретом под стеклом в тяжелой раме в руках.
С этими словами передала она портрет дельфина соседу по пустырю и отправилась по тропинке обходить дом, укачивая завернутую в несоразмерное сингапурское одеяло малютку.
— Интересно, — спросил держащего дельфиний портрет сидящий на досках, — как помешавшийся на дельфинах муж этой хорошенькой дамочки в немыслимой шляпке встретил Соловка?
— Всякий раз, когда он ей об этом рассказывал, она либо засыпала, либо переставала его слушать, так ее и не спросишь. Что вы так брови подымаете? Я точно знаю, как оно было. Всегда знаю, ошибаюсь редко.
— Вы экстрасенс?
— Боже упаси. Я писатель.
— А как ваша фамилия?
— Наумов.
— Книг ваших я не читал. Но лицо ваше мне знакомо.
— Во-первых, мы живем на одной площадке, во-вторых, вы могли видеть меня по телевизору.
— Про вас была по телевизору передача?
— Нет, снимали сюжет в Доме писателей, я мимо шел, меня за рукав в кадр втащили.
— А откуда вы знаете, что ваши догадки о житейских подробностях верны и «так оно и было»?
— Ведь я писатель, — отвечал Наумов, — стало быть, есть у меня необходимое для работы художественное воображение. Поскольку писатель я талантливый — что вы такое лицо делаете, я не хвастаюсь, я объясняю, констатирую, обо мне всякие лестные слова известный всем Лихачев произносил, если вам доказательства нужны, — воображение у меня отменное. Но — как бы вам объяснить? — характер воображения моего совершенно земной, человеческий, местный, поэтому в отношении того, что было, да и того, что нас ждет, я всегда попадаю в точку. Я тоже хочу вам вопрос задать. Вы узнали Соловка на фотографии: почему?
— У него, если присмотреться, пятнышко на лбу. Бывший шрам, отметинка. Да я его и видел не единожды, он запоминающийся дельфин и необычный.
— Где же вы его видели?
— В трех дельфинариумах: Беломорском, Тихоокеанском и Московском. Я биолингвист и занимаюсь проблемами речи животных. А Соловок по своим речевым способностям от собратьев-белух отличается, он меня всегда интересовал и, если хотите знать, удивлял и очаровывал. Видите ли, до работы со звуковыми сигналами животных занимался я сначала певцами, корректировкой певческой подачи нот, модуляций и проч., связанными с пением, а потом — между нами — работал в закрытом подразделении в группе, специализировавшейся на распознавании голосов и изменении их при передаче на расстоянии техническими средствами биометрической идентификацией личности по голосу.
— Шпионажем баловались?
— Да, но и не только. Юриспруденцию поддерживал, например. И по совокупности явлений много у меня было наработок, был я слухач-тонкач, а прозвище мое было Voiceмэн. Мы занимались созданием систем распознавания речи, независимых от диктора, преобразованиями речевого сигнала в цифровую информацию, скрытыми Марковскими моделями, Байесовской дискриминацией, нейронными сетями. Я занимался моделями акустическими, интенсивность, амплитуда, джиттер, шиммер. Полгода, помнится, интересовало меня субвокальное распознавание речи, регистрируемое датчиками в процессе молчания. Потом я занимался декодерами разного толка, методикой сокрытия речевой информации телефонного канала. Одни сотрудники шли в направлении создания говорящего компьютера, другие — защитой от чужих ушей абонента. Я менял компании не только по воле направлявшего меня в разные звенья нашей неуловимой цепи, но и по личной наклонности и эгоистическому любопытству. У меня были личные достижения и наработки ноу-хау. И по моей системе протестированный Соловок сильно отличался от собратьев своих. Кроме классических пятидесяти звуковых сигналов — т. е. визга, щебетанья, клекота, скрежета, пронзительного крика, рева, кряканья, стонов, человеческого смеха, «репетиции оркестра», «взлета самолета», скрипа дверного, писка, щелканья, взрывного и простого фырканья, трелей, жужжания, свиста, блеяния, ржания, хрюканья, наборов согласных и гласных, ультразвуковых радарных щелчков, — были у него фразы голосовые, не встречавшиеся ни у кого из белух, совершенно загадочные. Я разгадал одну из этих загадок, отчего она стала еще непонятнее. Кроме всего прочего, я попытался ввести в изучение звуковых сигналов и голосов дельфинов основные свойства характеристики человеческого голоса: темп, тембр, высота, речевой тон и так далее. Так вот, голос Соловка обладал в превосходной степени одним из самых непостижимых человеческих голосовых свойств: полетностью.
— Что это? — спросил Наумов.
— Владеющего такой способностью выступающего хорошо слышат люди на большом расстоянии. При этом он не увеличивает громкость. Способность нечастая, я бы сравнил ее с элевацией артистов балета, с природной высотой, легкостью и длиной прыжка. Достаточно вспомнить легендарного Вестриса, Нижинского, Барышникова, то ли утонувшую, то ли утопленную молоденькую Лидию Иванову.
— В этом и загадка, о которой вы упомянули?
— Нет. Кроме всего прочего принимал я участие в смешанных исследованиях, комплексных, поддерживаемых, в частности, анализом энцефалограмм испытуемых. У человека и некоторых животных состояния сна и бодрствования дают совершенно разные записи токов мозга, по их графике легко определить — спит подопытный или бодрствует; но у человека есть еще третье состояние, которое можно сравнить разве что с картиной глубокого спокойного сна здорового сытого младенца. Это состояние — молитва. Так вот у Соловка было набор полушелестов на фоне энцефалограммы, сопоставимой с таковой молящегося человека.
— Может быть, кто-нибудь молился при нем или за него? — предположил Наумов. — И ваш суперсообразительный дельфин пытался молитву повторить? Кажется, у белух разные ареалы, любимые места; может, у монастырских стен плавал да и услышал?
— Вообще-то в Белужьей бухте на Соловках есть заповедный дельфиний клуб, в который с разных широт и долгот заплывают они с неизвестной целью. По правде говоря, поведали мне однажды байку, мол, один из ссыльных, на гибель сосланных священников постоянно пребывал именно на побережье, поскольку работал в шарашке по теме добывания водорослей, из которых заключенным варили суповую баланду, а всем прочим гражданам готовили агар-агар; по слухам, избранный кремлевский повар добавлял его в суфле для Сталина. И этот исследователь-священник по ходу дела проповедовал соловецким дельфинам и рыбам, а также водорослям, как святой Франциск проповедовал птицам.
— Агар-агар... уж не о Флоренском ли вы говорите?!
— Именно о нем. Кроме всего прочего, по преданию основатель Соловецкого монастыря Зосима прибыл на остров верхом на белухе. И тоже, видать, плыл да молился, мне это только сейчас в голову пришло. Так что тренинг многовековой, в годы ГУЛАГа подкрепленный.
— Ваш Соловок мог с отцом Павлом подружиться, и не просто войти в контакт, а полюбить человека, обратившегося к нему лично вслух и мысленно с проповедью и молитвою. Я, между нами, давно пишу о Флоренском. Не для печати. Какая печать. Я всё пишу, знаете ли, не для печати. Иногда что-нибудь чудом издается, мир не без добрых людей. Вы даже не представляете, какой подарок мне сейчас сделали. Конечно, отец Павел проповедывал дельфинам, рыбам и водорослям; чем они хуже птиц? У него была особая любовь к божественным произведениям природы, ко всякой твари Творца. Я не удивлюсь, если параллельно поезду, телячьему транссибирскому экспрессу, увозившему отца Павла в Восточную Сибирь последней ссылки, плыл на Дальний Восток, следуя за полюбившимся человеком, Соловок. Чудом встретились они, радуясь бесконечно, и на Дальнем Востоке. Но вот когда Флоренского снова повезли в Ленинград на расстрел, дельфин за ним не поспел, отстал, замешкался, ошибся, надеялся увидеться на Белом море, а его нежданного друга расстреляли даже и не на берегах Невы, то ли в Левашове, то ли в Лодейном поле, кто знает.
— Думаю, знает именно наш дельфин знанием-чутьем мгновенным неведомой связи безымянных полей.
— Поля времени, например, — сказал Наумов. — А сколько дельфины живут?
— Лет сорок-пятьдесят.
— Если наш вообще не бессмертный. Вам не кажется, что Соловок сейчас в своем далеке нас слышит и блеет: «Не бойтесь, я с вами, следуйте за мной»? А мне известно точно: переменилась не только книга моя, а и моя будущая жизнь. В соответствии с главным свойством этого дельфина: способностью изменять жизни столкнувшихся с ним людей.
— Могу подтвердить, — подала реплику девушка с двумя собачками. — Я тому живое свидетельство.
Тут вышла из-за дома полуброшенная жена бывшего матроса с уснувшей в берлоге индокитайского шелкового одеяла девочкой-младенчиком и сказала:
— Давайте мою картину, вы, должно быть, устали ее держать.
— Я могу подержать, — сказала девушка с собаками, — что ж тут трудного, это я сейчас с подругой временно работаю в зоопарке, я вообще-то дизайнер, таскать планшеты с натянутой бумагою мне с институтских лет привычно. И поменяла я работу именно из-за дельфинов. Начальник моего бывшего КБ, лауреат Государственной премии, сидел у нас в Мухинском, называемом старыми преподавателями-архитекторами по старой привычке училищем Штиглица, в ГЭКе, заприметил меня на защите диплома, вытребовал в свое конструкторское бюро по распределению, где я и подвизалась в роли дизайнера десять лет. Кульман мой стоял на антресолях, в окне моем красовался купол Исаакиевского собора. Было чисто, тепло, меня окружали выклеенные мною макеты приборов. Заказчики последней разработки пришли втроем, заказ из секретных, у меня был так называемый «малый допуск»; трое военных, морские офицеры. Мне следовало спроектировать плавучее рабочее место оператора-наблюдателя, объектив оптического устройства смотрел вниз, в воду, стул принайтован к плотику, подлокотники, налобник обрамлял окуляр. Человек должен был наблюдать за дельфинами, как мне объяснили, не расшифровывая смысла и назначения всех кнопок пульта управления.
Дельфинов видела я в детстве, когда привезли меня, пятилетнюю, в послевоенную Анапу, солнечную, со сверкающим зеленопенным Черным морем, полную фруктов. Мне отжимали в маленькую чашечку виноградный сок. В море ловила я в ладошку волшебного морского конька, наглядевшись на его лошадиную головушку, отпускала обратно, брала в руки маленькие студни прозрачных медуз без синей окантовки (с синей обжигали руки), бродила по отмелям со стайками мальков. Вдалеке, но не так и далеко, возле буйков, родители там плавали, выскакивали из воды играющие дельфины, афалины, но виднелись — редко — белоголовые белухи. В волшебном анапском житии мы ходили на дальний пляж мимо вросшей во влажный прибрежный песок ржавой баржи-Дюранды, по дороге присаживались отдыхать на огромную, тоже полувсосанную песком, ржавую авиационную бомбу. До сих пор в самые трудные минуты жизни закрываю глаза, плещется у ног море, ловлю морского конька, слежу за выскакивающими из воды дельфинами — и зло отступает.
Выклеив в натуральную величину из белого картона рабочее место оператора-наблюдателя, ждала я своей очереди обсудить его с военными заказчиками, беседовавшими с нашим начальником в его закутке-кабинете.
Невольно услышанный мною разговор привел меня в шок.
Из разговора следовало, что военные изучают радары дельфинов, их способность мгновенно с места в карьер увеличивать скорость без видимых усилий и движений; дельфинам вживляют в разные участки мозга электроды (ну и намучились мы с этими электродами, говорил тот из трех заказчиков, который был старший по званию, несколько лет неудач, животные погибали одно за другим, да так было не только у нас, и у американцев, и у англичан, и у французов, но в итоге мы научились), чтобы должным образом ими управлять, на них навешивали мины, обучая взрывать чужие подлодки и катера.
И я во всем этом теперь участвовала.
«Уйду, — думала я, — уйду, работать тут больше не буду».
На следующий день подала я начальнику заявление с просьбой уволить меня по собственному желанию. Он спрашивал — почему?! я отвечала: мне пора сменить работу, чтобы совершенствоваться. Он уговаривал меня, каждое утро вызывая в свой кабинет. Я стояла на своем и уволилась. По закону надо было тут же устроиться на работу. Пока подыскивала я себе подходящее дизайнерское место, подруга устроила меня к себе на работу в зоопарк, где была одной из служительниц по уходу за молодняком. Я там работаю по сей день. Не могу сказать, что там тепло и тихо. Сейчас подруга уехала на десять дней в отпуск, а я переехала в ваш дом к ее собачкам.
— Знаешь, — сказала она мне после моего увольнения, — во время войны дрессировали собак (чаще немецких овчарок) не только чтобы они подползали с аптечками к раненым, но и чтобы они, обвешанные гранатами, подрывали вражеские танки. Мы победили, страна героев, и те собаки тоже были герои, а доблестные дрессировщики были отчасти предатели и немножко негодяи.
Собачки внезапно вскочили, заметив на пустыре двух беглых хомяков. Временная хозяйка только и успела передать портрет Соловка соседу слева и поведать, что псинок, которых называет она Финою да Яною, на самом деле зовут Бьянка и Дельфина. С чем она и умчалась за подопечными, уносящими ее на охоту тщетно, поскольку беглые грызуны успели с непередаваемой прытью исчезнуть под свежей горой досок.
— Чудесный портрет! — промолвил, разглядывая фотографию, жилец из девяносто третьей. — Жаль, что у меня не было под рукой такого блистательного образца, когда запустили мы принесшее нам превеликое удовольствие и неоднократные премиальные денежки производство прозрачных сувениров. Предприятие наше было невеликое, то ли винтик, то ли гаечка в большой сурьезной машине военно-промышленного комплекса. Всё у нас было налажено, отлажено, но среди станков попадались детища Круппа, явившиеся в мир аж до Первой мировой войны, стекла на световых фонарях стен давно не мыты, и хотя денежное положение, то есть, материальное, было очень даже приличное, какая-то пыль туманная витала, некая взвесь скуки, уныния, занудства висела в воздухе. Два события, соединившись, взвеселили нас внезапно: завезли нам для производства то ли шпеньков, то ли затычек прозрачные чушки оргстекла. А из головной организации перевелся к нам бригадиром Мишка Бубенцов.
Бубенцов возник до оргстекла, работал, как все, человек был веселый, а как новые материалы нам закинули, впал в глубокую задумчивость, уединялся в бригадирском загончике после работы, там сиживал, одалживал у всех надфили разнопрофильные, — и, наконец, победоносно обнародовал произведение свое: прозрачный оргстеклянный кубик, в центре которого плыл в мировом, будто бы, океане белый объемный дельфин с маленьким случайным пятнышком на лбу; ну, теперь-то я понимаю, что это и был ваш — или уже тогда наш? — Соловок.
— Что это? — спросил начальник цеха.
— Сувенир, — отвечал Мишка Бубенцов, обретший после недели затворнической серьезности и вдохновенного сурового секретничанья блистательную улыбочку свою.
— Как это?
— Распилил кубик пополам, выбрал изображение, склеил невидимым прозрачным составом. Прошу любить и жаловать золотую рыбку.
И понеслось.
Надо заметить, что к тому времени, как придумал наш Мишка Бубенцов свои предметцы в прозрачных кубиках, вся страна помешалась на сувенирах. «Сувенир» в переводе означает «воспоминание»; и понятно, зачем нужна памятка о какой-нибудь поездке или экскурсии, понятно, когда из Парижа привозят брелок с Эйфелевой башней, а из Америки, куда тогда вообще никто не ездил, — фигурку статуи Свободы; но назначение и смысл большинства сувениров были напрочь неясны, а сами предметы только загромождали квартиры да собирали пыль, однако мода на них не проходила, они пользовались бешеным успехом, вот так же вышло и с нашими рыбками, елочками, домиками, Александрийскими столпами, слонами и т. п.; только на сегодняшний день вместо органического стекла оптическое, а вместо надфиля лазер.
Была сначала одна заковыка, играли мы в нехороших детей, нанюхавшихся клея «Момент» с полиэтиленовыми мешками на башках, пары дихлорэтана, входившего в состав прозрачного связующего половинок кубиков, действовала на наши слабые головушки самым веселящим образом, весь нанюхавшийся цех шел с работы, слегка качаясь, навеселе, словно не трудились в трудовые будни, а, напротив, бухали, потом управу нашли, новым составом воспользовались.
Почему-то самый большой интерес у покупателей и продавцов вызывали дельфины, сперва один, потом парочка, их раскупали мгновенно, то ли прозрачный кубик напоминал любителям реализма воду, в коей обитало изображение, то ли явлено было необъяснимое волшебство. Мишка Бубенцов вообще предлагал перейти на одних дельфинов, но тут встрял наш парторг, борец с суевериями, мистикой, чудесами, фетишизмом и прочими не поддающимися марксистско-ленинской расшифровке явлениями, он отслеживал партии разных изображений, искал юбилей и знаменательные даты по календарю, соблюдал равновесие художественных образов, чтобы покупатели не носились с тотемами как индейцы или курица с яйцом, но повышали свой культурный уровень и усовершенствовали социалистическое сознание свое. Поэтому за серией с одним дельфином следовали три серии архитектурных памятников, а за партией с двумя дельфинами — крейсер «Аврора», елочка и ботик Петра I. Цех наш процветал. Мы блаженствовали, постоянно получая премии с надбавками и красуясь на доске почета. У меня дома этих дельфинов как собак нерезаных, я, как пожарные уедут, вам на память подарю.
— Только не мне! — вскричала брошенная жена. — У меня есть!
— Мне тоже не надо, — промолвил мрачный молодой человек в лыжном костюме из девяносто пятой. — И у меня имеется.
— Вы покупатель наших сувениров?
— Я дрессировщик дельфинов.
— О! — вскричал биолингвист. — А если я скажу вам по-дельфиньи: «Иу!» — вы поймете, что я сказал?
— «Хочу есть», — мрачно отвечал дрессировщик. — А если я вам в ответ пожужжу, — тут он зажужжал так, что собачки вскочили, а дитя в одеяле заворочалось, — вы тоже поймете, что я имею в виду?
— Конечно! — биолингвист улыбался счастливейшей улыбкой. — «У меня депрессия, просьба не беспокоить». А где вы работали, в каком дельфинарии?
— Сперва в Утриштском между Анапой и Сочи. Там я и познакомился с Соловком.
— Так вы с ним знакомы?! — вскричал биолингвист.
— Потом, — не обращая внимания на возглас его, продолжал дрессировщик, — в дальневосточном. Ну, и на Белом море, на мысе Белужьем Большого Соловецкого острова. Соловка я там встретил во второй раз. Я уже не помню, почему мы вытащили на пирс большое зеркало, кажется, из-за фотографа, решившего снять что-то невероятно художественное с зеркалом и гадательными фотографическими шарами. Увидев себя в зеркале, Соловок рассмеялся, то есть почти точно воспроизвел звуки человеческого смеха. Он узнал себя в зеркале.
— Не может быть, — сказал Наумов.
— Потом я убедился, что некоторые афалины себя в зеркале узнают. Но тогда меня этот факт поразил.
— Между прочим, — сказала бывшая дизайнерша с собачками, — многие котята видят в зеркале котенка и пытаются войти к нему в Зазеркалье, чтобы с ним играть, а взрослые коты и кошки к зеркалам равнодушны и ничего кроме стекольного марева в них не видят.
— Он узнал себя в зеркале, просмеялся, перекувырнулся, отплыл, опять подплыл, мы некоторое время смотрели друг на друга. Думаю, от этого взаимопроникновения взглядов возникла у нас с ним способность понимать друг друга молниеносно. Вообще-то ведь и люди иногда понимают друг друга без слов.
А первая наша встреча случилась под Анапой. И это был первый дельфин, которого увидел я так близко, до которого дотронулся и который в некотором роде выбрал меня. Это понял я чуть позже, увидев отметину на лбу Соловка, тогда я его и узнал; но он узнал меня раньше.
Впервые в жизни поехал я в отпуск на юг. Поезд вез меня с сырого и прохладного Северо-Запада к теплому южному морю около полутора суток, и само это постепенное перемещение в тепло, в другой климат с другими растениями понравилось мне необыкновенно, я был совершенно счастлив, купив на станции две пригоршни жерделей и горсть черешни в газетном кулечке. Я ехал в иную жизнь, она и стала другой после встречи с дельфином, неожиданной и совершенно, как думаю я сейчас, предопределенной; тут кто-то говорил, что такая встреча изменяет судьбу, это правда, то же вышло и со мной. Соленые волны, высокий берег из скал, чьи камни крошились в ладони (этими полураскрошившимися осколочками натирались, мылись в морских волнах, их пляжное название было «кило-мыло»), морские коньки, медузы, выпрыгивающие поодаль из воды играющие дельфины, небо, полное крупных, точно местные сливы, звезд. Около кассы летнего кинотеатра без крыши с длинными скамьями вместо стульев, окруженного белеными каменными стенами и огромными деревьями (на стенах и на деревьях сидели мальчишки-безбилетники), встретил я однокурсника. Под звездами посмотрели мы с ним фильм «Искатели приключений», — с подводным плаванием, кладом, бандитами, погибающей золотоволосой красавицей (оба героя, и молодой Ален Делон, и Лино Вентура в летах, были в нее влюблены), ее хоронили они в океане, струились в водах зеленых волосы золотые. Мой приятель работал в Утриштском дельфинарии, пригласил меня туда, и назавтра я уже встретил там Соловка. Я стоял на мостках, вглядываясь в воду, и тут он выскочил из воды прямо передо мной.
— Он хотел схватить тебя за волосы, — объяснил мне однокурсник, — это обычная дельфинья ласка, так выражается приязнь к тренеру, а ты коротко стриженый, за волосы не схватить, ты его очень удивил. Ты ему понравился.
Когда я пришел на следующее утро, Соловок вынырнул, едва я сел на мостки, и мы глянули друг другу в глаза. С этого момента между нами установилась своего рода подсознательная связь, возник способ общения «без проводов и шума» (такое бывает и у человека и животного, да и у людей, как я уже говорил, оно существует, но совершенно непонятно для тех, у кого не было такого личного опыта). С этой минуты образ дельфина следовал за мной на воде и на суше.
Я уволился из своего конструкторского бюро и перешел на работу — не без помощи однокурсника — в Утриштский дельфинарий. Надо сказать, Соловок был самым талантливым из всех обитателей нашего водного вольера, он легко понимал все задания, увлекался игрой, импровизировал. И в итоге его перевезли в Московский дельфинарий, где стал он единственной белухой и звездой представлений. Перевозка дельфинов не так проста, как может показаться, пока люди не приноровились, многие из перевозимых получали травмы. Заболевали, погибали из-за одного только путешествия. В программке значилось: Соловок, белуха, белый дельфин или белый кит.
Я читал ему детский стишок:
Рыба, рыба, рыба-кит, рыба правду говорит, если рыба будет врать, надо рыбу наказать.Однажды я сказал ему, что читаю книгу про белого большого кита под названием «Моби Дик», и это имя кита. Название привело его в какой-то всплеск чувств, он скрипел, смеялся чревовещательным человеческим смехом, делал кульбиты. Может быть, он от кого-то уже слышал имя героя книги Мелвилла, и этот кто-то был ему мил и дорог.
Должно быть, Соловку после большого морского вольера было нелегко в тесном бетонном мешке, но он терпел. Особенно любил он сеансы плавания и игр с детьми.
Когда оказались мы на Соловецких островах, услышал я поморские легенды о белухах, любимых животных поморов. Белухи загоняли рыбу в рыбацкие сети, подходили близко к берегу, с ними плавали дети, им случалось тонущих детей спасать.
Но сперва в нашем московском водяном цирке поменялось начальство, пришли любящие деньги и равнодушные к дельфинам существа, решено было тренировать новых дельфинов с помощью уже тренированных, Соловка отправили в загон Белужьей бухты, претерпел с ним переезд и я, и там на второй год безоблачной жизни случилось непредвиденное: ураган, сметавший и ломавший ограждение, рвущий в клочья сети. Соловок получил тяжелейшие раны и травмы, мы его еле выходили, был момент, когда я на то не надеялся. В дни болезни услышал я произносимые им странные речи, напоминавшие молитвы; не знаю, откуда он их взял.
Одна из дрессировщиц, особо полюбившая Соловка и выхаживавшая его с невероятным тщанием и терпением, красивая кудрявая русалка, рассказала мне несколько местных легенд о вечном бессмертном дельфине и о соловецком монахе, с которым он дружил.
А потом, когда дельфин оправился, раны его чудесным образом затянулись, пришла новая тема в нашу жизнь: опыты одной исследовательской группы, о которой подробно говорить я не стану, скажу только, что речь шла о вживлении электродов в мозг дельфина, управлении им при помощи подачи импульсов разной силы на различные участки мозга, о тренинге по переноске мин для подрыва вражеских судов и так далее.
Соловка мы отстояли, мотивируя отказ от операции его травмами, но он был, как самый умный, включен в репродукционную программу, от него хотели получить умных дельфинят, и мы опять двинулись в путешествие, на сей раз в Амурский дельфинарий, мигрируя как свободные животные, зимой в Северный Ледовитый, к лету к себе на Соловки или на Амур.
Ему удалось подобрать подругу, получился и детеныш. Но какую-то тревогу почувствовал я в нем, что-то произошло с ним в результате наших перемещений. Тревога его возросла, когда оказался он в компании управляемых импульсами на электроды подопытных собратьев.
В конце концов мы вернулись на Белое море.
Тревога не проходила, дельфин мой тосковал, потерял аппетит и желание играть.
Вольер был огорожен сетями, доходящими до дна, но Соловок научился в одном месте, где дно было с выемкой, приподнимать сеть и отправляться в свободное плавание. Чаще всего видели его у древних мостков, чуть ли не довоенных, он выбирался на этот потемневший от времени пирс и словно звал или ждал кого-то. Начальство хотело принайтовать сеть намертво, но мы возражали, отговорили, потому что Соловок всегда возвращался, а прогулки действовали на него самым благотворным образом. Наша дрессировщица-русалка говорила, что какого-то монаха или священника видели на мостках, и Соловок выпрыгивал перед ним из воды и кувыркался как прежде. Священники и туристы навещали Соловецкий монастырь, долгие годы служивший одним из самых страшных лагерей архипелага ГУЛАГа.
В конце концов Соловок обрел радость жизни, я узнавал в нем прежнего приятеля своего, нашел он и новую подругу. Теперь они отправлялись поплавать в свободных водах вдвоем, он приподнимал сеть, сначала выпуская на волю дельфиниху свою, затем следуя за ней.
На нашу голову ее наметили на роль подопытной, ожидалась ее перевозка; и пока ожидалась, Соловок с подругою покинули вольер навсегда.
Поначалу мы терпеливо ждали их возвращения, потом стали их искать. Сначала я искал их один на самом тихом катере или на веслах. Потом ко мне стали присоединяться экспедиция за экспедицией. Известный океанолог принял активное участие в поисках, друзья нашей дрессировщицы, обитатели палаточных городков АМН, вертолетчики, моряки Севморпути; его искали люди Утришта, думая, что он может привести туда подругу, сотрудники Амурского и Владивостокского дельфинариев, московские тренеры и антрепренеры; но он как в воду канул, — собственно, именно в воду и канул.
Мне он мерещился всюду, точно призрак надежды, на нашем южном берегу Большого Соловецкого острова, на Белужке, в незнакомых мне прежде милях Севморпути. Я узнал бы его из сотен дельфинов, но не представлялась мне такая возможность. Мы искали его на Белом море в приливы и отливы, нас обступали серебристые нимбы белой полярной ночи, космические инопланетные рельефы обнажившегося морского дна.
Да, человек возлюбил дельфинов, но для своего удовольствия, как подданных, слуг, рабов, они превращены в игрушки, в орудия, мы забыли, что любить — это уважать свободу любимого существа. На них зарабатывали деньги, их убивали ради идиотских опытов, их учили взрываться, взрывая чужие подлодки, обезвреживая мины. Что удивительного в бегстве Соловка? Да наш человеческий мир — сущая погань. Не смотрите вы на меня так; вы предполагаете, что мой дельфин погиб, что мы искали пустоту? Я знаю, что он жив. Иногда мне снится, что он бессмертный, что он был всегда и будет вечно. А наша наглая человеческая цивилизация, желающая, чтобы ей служила золотая рыбка, всё жаднеет, жаднеет, стареет, и должна остаться старухою у разбитого корыта. Эта мания из всего делать вонючую колбасу, видеть в коне конину, превращать китовый ус в корсеты пустопорожних бабенок, чтобы очаровываться их задами и плодить себе подобных варваров и тупиц...
Но пожарные уезжают, а нам всем пора домой.
С этими словами отдал он портрет Соловка молодой женщине, которую бросил муж, и двинулся к дому.
Пожарные покидали место действия, смотав шланги, на своих прекрасных красных воюще-звенящих машинах.
— Как это мы собрались, — сказал Наумов биолингвисту, — на одной лестничной площадке, люди дельфиньей темы?
— Мне кажется, в мире издавна существуют тотемные животные. Спросите любого русского о медведях, он вам расскажет. О зоосадном, о липовой ноге, о пушкинском из «Дубровского», о Винни Пухе, о медовой утехе, о трех медведях, о Маше и медведе, о символе с герба, о берложьей спячке, о развесистой клюкве и бродящим под нею по улочкам российских городов мишках из иноземных фантазий, о медвежьей болезни, ведмедике клещеногом конфетном и его собрате, «Мишке на Севере», о мишках в сосновом лесу. Может, если первого встречного о дельфинах спросить, и он вам что поведает.
Запах гари стоял на лестнице, в квартирах всё было оторочено легкой липкой копотью, только возьмись за дверную ручку — и оставишь потом на чём ни попадя весь дактилоскопический набор отпечатков пальцев, а заодно и ладони. Две двери — ремонтируемой и отремонтированной квартир — настежь, клочья пены, свисающей с потолков разделанных по-черному кухонь и прихожих, битый кафель, под которым отпылал слой битума, рассобаченный ледорубами пожарников паркет, два поджигателя, сидящие в полном ступоре на полу, морды черные с потеками, обожженные лапы замотаны грязными тряпками, они никак не реагировали на заглядывающие в их несчастное жилище многочисленные рыла с темными от вдохновенной сажи пятачками. Не было такого пятачка только у развернутой малютки, тут же проснувшейся и заплакавшей в голос, ей не понравился вонючий прогорклый воздух обретенного дома.
Вернувшись с пустыря, все выключились быстро и, тотчас надышавшись миновавшего угара, как пьяный от паров клея цех, стали смотреть престранные концептуальные морфеевы клипы.
Фокстерьерам Бьянке и Дельфине снились преследования, они гонялись за неуловимыми белыми хорьками, у хорьков были рыбьи головы, узкие норы, невиданные скорости, собачки вздрагивали, стонали, перебирали лапами во сне. К брошенной жене возвращался блудный муж с букетом цветов и шкатулкой драгоценностей из затонувшего пиратского клада, но сообщал при этом, что везет ей в подарок дельфиненка, скоро доставят, где же мы его будем держать? как где? в ванной или на балконе. Человеку из цеха с сувенирами виделись новые партии изделий, в которых, если промолвить кодовое слово, а при этом осветить шмоток оптического стекла старинным трофейным фонариком, изображения начинали двигаться, шевелились елочные ветви, резвились дельфины, вокруг шпилей и куполов летали блошиного габарита птицы. Биолингвист обучал высунувшихся из воды белух и афалин новой речи, эсперанто для людей и зверей, а те повторяли нестройным хором. Девушка-дизайнер освобождала с двумя красавцами-каскадерами загнанных в водный вольер предназначенных для опытов белух. Тренер летел в маленьком вертолете над волнами, смотрел на воду в бинокль, вдруг из вод, из пучины, выскакивали наконец-то нашедшиеся белый беглец с подругой своей, садимся, садимся, кричал он, ведь у меня не амфибия, отвечал вертолетчик. А Наумову явился во сне отец Павел Флоренский, на старинных мосточках Большого Соловецкого острова говорящий с Соловком, и оба они, как выяснилось помимо слов и событий, были вечные, и встретились навсегда.
Уходи, говорил Флоренский, сейчас конвойные вернутся, они образцы водорослей в лабораторию понесли, а заодно отошли пообедать, сейчас явятся, буду под их недреманым диким взором полянки водорослей искать, уходи, они станут стрелять в тебя, берегись. Нет, отвечал дельфин, не станут, они уже пробовали убивать дельфинов, да съесть не смогли, мы им без надобности. А какие водоросли ты ищешь? Ты не знаешь, отвечал отец Павел, они часто стреляют просто так, им нравится стрелять, убьют, покалечат, уходи, еще встретимся, радость, душенька, дружочек, кулёма камчатская. Ищу Aupheltia и Desmorestia, вот эти, стебельки на мостках лежат, из них добывают агар-агар. «Агар-агар», — повторил Соловок и рассмеялся смехом Флоренского. Я тебе покажу, сказал он, где лужайки и полянки этих водорослей. Только показывай не все сразу, тогда меня еще раз сюда приведут, и мы увидимся. Если уж мы встретились, мы не расстанемся, сказал Соловок, теперь на расстоянии я всегда буду знать, где ты, а ты — где я, мы будем говорить мыслями, картинками, словами твоими или говором моим. Некоторых заключенных, сказал отец Павел, увозят отсюда на поезде в Сибирь или на Дальний Восток, как же не расстанемся. Мы плаваем на Дальний Восток, отвечал дельфин, я там родился, тебя повезут на поезде, а я поплыву по Северному Ледовитому океану, ты там тоже будешь искать водоросли, а я выплыву пред тобою, радость, сюрприз. Знаешь, сказал Флоренский, тут иногда сажают узников на баржу, а баржу потом топят, вот если бы и со мной так случилось, я навсегда бы остался с тобою в здешней воде. Если ты голодный, сказал Соловок, я пригоню тебе рыбу к мосткам, мы всегда, мама говорила, пригоняли рыбу для поморов. Спасибо, отвечал отец Павел, но мне ее не приготовить, рыбу-то. Вот поморы, сказал дельфин, могут сырую рыбу есть. Между прочим, при дальних плаваниях-переходах некоторые дельфиньи сообщества гонят свои стаи рыб перед собою, как люди-пастухи гоняют стада овец. Ты знаешь про людей-пастухов? улыбаясь, спросил Флоренский. Некоторые пастухи, отвечал Соловок, ходили по водам и понимали всё. Мне не нравится, что от твоей большой тюрьмы всегда пахнет кровью. Я в детстве и в юности мечтал жить на острове, видеть приливы и отливы, сказал отец Павел, и сбылась моя мечта, вот я живу на острове, но на страшном тюремном. Еще мечтал я жить в монастыре, вот и живу, но из этого монастыря сделали каторжное гиблое место. И всегда мечтал возиться с водорослями, а ведь и это сбылось. В жизни людей, я понял, все наши желания и мечты сбываются, но каким-то неподобным образом. А ты перестань мечтать, сказал Соловок, хочешь, я помогу тебе уплыть с твоего плохого острова? Куда же мы поплывем, сказал отец Павел, у нас теперь во всей стране так. Есть другие страны, сказал Соловок, морей полно, стран много. Ничего не получится, отвечал отец Павел, вот я уплыву, убегу, а мою семью из-за этого поймают, жену любимую, детушек схватят, станут выпытывать, где я, по злобе убьют, нельзя мне убегать, я их тут спасаю пребывательно и молитвенно. Скажи свои особенные слова, попросил дельфин, от них так хорошо. Это молитвы, отвечал Флоренский, на них мир стоит. Соловок повторял, как мог, слова молитв, потом перекувырнулся, вылетев из воды, а вот некоторые, сказал он, мама говорила, считают, что мир стоит на трех китах.
Наумов проснулся мгновенно, рывком, молниеносно, обычно при таких пробуждениях сновидения забывались, но это он помнил.
Все его листки с цитатами, планами, черновиками, разложенные на столе, пропахли пожаром. Сердце колотилось. Он пил воду, волнение не уходило, он оделся, пошел пройтись, вышел в малый клочок ночной полумглы между закатом и восходом, посещающий город в преддверии, в начале больших приполярных белых ночей.
Белонощной тишиной залит был весь примыкающий к Среднерогаткинскому район, все окна были темны, к аэропорту стремились самолеты, спутник промелькал в большом небе, как много неба досталось этой стране, думал Наумов, а вот и зеленый огонек в узком амбразурном оконце загадочного замка заброшенной электростанции погас, то был знак, что скоро начнет светать.
«А вот и первый встречный». Петляя по тропкам, сносимый с тропы на тропу водочным вестибулярным ветерком, со стороны города шел пьяный в хлам старик. Наумов, охваченный время от времени накатывавшейся на него волной озорства, неуместной детской непосредственности, встал у прохожего на пути.
— Уважаемый, скажите, пожалуйста, не случалось ли вам когда-нибудь встретиться с дельфином?
Покачиваясь, старик смотрел на Наумова, с трудом удерживаясь на точке вертикали.
— А как же, — отвечал он. — Вот когда, помнится, в конце войны в Одессе и наши, и фашисты заложили в море несколько тысяч мин, очищали мы фарватер и прибрежные воды и от глубинных, и от донных, донные не всегда и достанешь. Везло нам, видали мы, как два соседних тральщика-катерка взлетели на воздух, а мы ничего, шли, мины взрывали, я один раз в мину стрелял, а снаряд при входе разорвался, вся рубка в осколках. Когда мины взрывались днем, всё море было в подорванных дельфинах, сильно я их жалел, очень мы все их жалели.
— Да, — сказал Наумов, — дельфинов жалко, они как люди.
— Вот уж не как люди, — сказал, качнувшись, старик, что прервало его остановку и запустило в дальнейший путь, — вот уж не как люди, они лучше.
Тут двинулся он, петляя, в сторону Пулкова и вскоре исчез за последним городским домом.
Вернувшись, Наумов сел за стол, на котором разложены были пропахшие гарью записи его.
Книга его о Флоренском продвигалась медленно. Спешить, само собой, было некуда, никто ничего подобного печатать не собирался, он по обыкновению писал для себя, как выражались писатели и издатели, «в стол».
Стоило ему в очередной раз углубиться в сюжет, начать читать о Соловецком концлагере, перечитывать лагерные письма Флоренского к детям, как охватывало его отчаяние, впадал он в оцепенение, оба состояния для автора гибельные, не дающие работать, полная профнепригодность. Всё восставало в нем: зачем? за что? За что замучили, расстреляли этого кротчайшего отца семейства, талантливого ученого, богослова, литератора, о котором злой на язык Розанов писал: «Знаете, мне порою кажется, что он святой...»? И переживал Наумов чувства сии всякий раз так остро, словно происшедшее происходило на его глазах снова и снова, так что особо поражали его слова Флоренского, выписанные на отдельной карточке: «Всё проходит, но всё остается и пребывает каким-то образом всегда». Наумов корил себя за малодушие, за увязание во времени, за неспособность перевести текст свой с историей отца Павла в Вечность, что, по его разумению, свидетельствовало об авторской бездарности и человеческой несостоятельности.
В который раз перечитывал он записи свои.
«Флоренский на Соловках был самый уважаемый человек — гениальный, безропотный, мужественный, философ, математик и богослов. Жили мы вместе не более полутора месяцев, до того дня, как меня ночью, в ноябре 1937 года под конвоем отвели на Секирную гору, самое страшное место на Соловках, где находился карцер для штрафников, где применяли пытки и убивали. Флоренский как-то предлагал мне позаниматься со мною, дать мне какие-то познания. Я как-то растерялся... Мне, простому молодому рабочему, предлагает свои добрые услуги такой умнейший человек».
А. Г. Фаворский«Последние дни, — писал отец Павел в одном из своих последних писем с Соловков 1937 года, — назначен сторожить по ночам произведенную нами продукцию. Тут можно было заниматься (сейчас пишу письма, например), но отчаянный холод в мертвом заводе, пустые стены и бушующий ветер, врывающийся в разбитые стекла окон, не располагает к занятиям, и ты видишь по почерку, даже письмо написать окоченевшими руками не удается. Зато тем более думаю о вас, впрочем, беспокоюсь... Вот уже 6 часов утра. На ручей идет снег, и бешеный ветер закручивает снежные вихри. По пустым помещениям хлопают разбитые флоточки, завывает от вторжения ветра. Доносятся тревожные крики чаек. И всем существом ощущаю ничтожество человека, его дел, его деяний».
Однажды в одной вечерней компании, когда начали писатели-приятели и гости их жаловаться да сетовать на неустроенную неудобную советскую жизнь, Наумов в приступе гнева вскричал: «Да вы в себя, черт бы вас побрал, придите! Да за одного замученного и расстрелянного отца Павла Флоренского должно нам всем в полузамерзшем болоте по колено столетие стоять! А он не один был. Жить хорошо хотите? От подвигов наших еще кровь в землю не ушла!» С этими словами, шарахнув дверью, покинул он помещение, еще раз подтвердив свою репутацию человека одаренного, но несомненно чокнутого.
Работы отца Павла достались Наумову в виде перепечаток машинописных под копирку, слепой четвертый или пятый экземпляр. Каждую букву пришлось ему обводить от руки.
Всякий раз его поражало, что по преданиям, воспоминаниям, упоминаниям, справкам Флоренский умирал не единожды: от истощения ночью на койке Бамлаговского лазарета, с другими обреченными на затопленной в Белом море барже (до сих пор лежащая на дне, набитая скелетами ржавая баржа. Погремок с косточками, донный шаркунок), его расстреливали то ли в подвале Большого дома, то ли на Левашовской пустоши, то ли на Лодейнопольском расстрельном полигоне. Думая об этой умножившейся гибели, Наумов начинал задремывать, пытаясь уплыть из яви, защититься. «Может быть, — пришло ему на ум в полусне, — он всякий раз воскресал. Они не могли с ним покончить, как римляне с христианскими мучениками, то в змеиную яму бросят, то жгут, а всё живой, ну, наконец, голову отрубят и радуются».
Луна уже ушла из нети натянутых электрификацией проводов, пропала, растворилась.
«В некотором роде всякий настоящий мыслитель, всякий истинный художник в человеческом обществе подобен белому дельфину, его хотят научить развлекать почтеннейшую публику, кувыркаться, гонять носом мяч, прыгать через обруч, подрываться на мине»...
Он не заметил, как уснул, не слышал кошачьего концерта, звоночка первого велосипедиста. Проснувшись, не помнил он подробностей своих снов, только последний эпизод стоял в глазах: опаловая белая ночь Белого моря, старые мостки, идущий по воде одетый в черное священник и плывущий рядом с ним его белый кит.
— У вас новый мираж? — спросил мирянин, помогающий восстанавливать обитель, спутнику своему. — Ходящий по водам монах с белым дельфином. Может, это Зосима, приплывший на острова на дельфине?
— Он не новый, он редкий, — отвечал работающий с ним монастырский насельник. — Мы считаем его явление благодатным, хотя нам так считать и не положено. Его видят в разных местах, в Белужьей бухте, на Заяцком острове, на Анзере. Это отец Павел Флоренский с белухою Соловком.
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Филипок сказал: хве-и-хви, ле-и-ли, пе-ок-пок.
Лев Толстой. ФилипокСверхчеловек-недоросль.
Николай Федоров о Фридрихе Ницше«Я бы мог изобрести оружие, которое завоевало бы весь мир, — он сжал кулаки, желваки заходили так, как бывает, когда скрипят зубами, — но я не буду этого делать, нет, не буду». Это был своеобразный диалог с теми, кто хотел военным путем добиться мирового господства.
Из воспоминаний об отце О. П. Трубачевой, дочери о. Павла ФлоренскогоПристрастие к детективам мне в детстве, вольно или невольно (скорее второе), привил отец, принеся мне, болевшей, уже поправляющейся, но еще лежавшей в постели, три книги подряд, несомненно к данному жанру принадлежавших: «Рассказы о Шерлоке Холмсе» Конан-Дойля, «Затемнение в Грэтли» Джона Бойнтона Пристли и «Гиперболоид инженера Гарина» Алексея Николаевича Толстого. Последнюю книгу, как выяснилось позже, любители фантастики (вкупе с «Аэлитой») ревниво занесли в свой реестр.
И в зрелом возрасте поздними вечерами и в начале ночи, когда засыпали все не только что в квартире, а и в доме, редкие окна светились в трех дворах, видных из моего окна, я иногда, устав так, что сразу не могла уснуть, включала телевизор, частенько баловавший полуночников детективными фильмами либо сериалами. Я убавляла звук, включаясь в действие не то что не с начала, а иной раз и не с первой серии сериала, не зная ни его названия, не прочтя невнятного краткого содержания в телепрограмме.
В этот вечер эпизоды телефильма, перескакивавшие от тихой заколоченной дачи в Финляндии начала тридцатых годов на киностудию, в которой известный кинорежиссер (наш, белоэмигрант, из бывших, эмигрировавший в восемнадцатом в Хельсинки) снимал некую любовную фильму; далее следовали сцены школы НКВД, готовившей шпионов, то есть, разведчиков, где-то в Подмосковье (тренировки до изнеможения пятикилометровый бег с полной выкладкой по пересеченной местности, стрельба, коллективные тренинги в духе суфийских практик или шаолиньских игр, непонятные испытания с запугиванием, мордобоем, чуть ли не пытками, инсценировками убийств и т. п. для вырабатывания силы духа); потом по экрану понеслись неизвестно откуда взявшиеся зимние станции с белоэмигрантскими поездами, а за ними последовали нордические диалоги людей в фашистской форме из «Аненербе». И всё шепотом: мордобой, крики, выстрелы, выкрики команды, фейерверк на фешенебельной белой вилле кинорежиссера-белоэмигранта с гостями во фраках и гостьями в бриллиантах.
Не в силах понять происходящего, я выключила телевизор и тут же уснула, едва успела лечь.
Однако, на следующий вечер сериал продолжался, равно как и послезавтра, и наконец заманил меня в свои сети. На третий вечер я полюбопытствовала — что же это я смотрю? И компьютер объяснил мне: фильм «Охота на дьявола», чьи сценаристы (их было несколько), сочиняя свою детективную историю, в качестве отправной точки взяли ряд реальных событий, связанных с неким изобретением начала XX века (или конца XIX?). Изобретателя «луча смерти», таинственного, невероятного по тем временам оружия, звали Михаил Михайлович Филиппов.
Набрав его имя, отчество и фамилию, начала я было читать биографию, но тут остановила меня фотография.
Потому что этого человека я видела дважды. На лестнице дома моей школьной подруги Кати К. на улице Жуковского и в лесу под Зеленогорском, где заблудились мы в юности, городские грибники, отправившиеся с комаровской дачи в поход около пяти часов утра.
Катя К. была на класс меня младше, в школе почему-то соблюдался ранжир дружб и общений только с однолетками, одноклассники предпочтительнее, чем из класса параллельного, но мы зацепились языками, она в девятом, я в десятом, вне этой традиции. Кажется, мы разговорились о театре, я была отчаянной театралкой, открывшей театральный мир с товстоноговского спектакля «Идиот». А Катя собиралась в театральный институт, ходила на все премьеры, играла в детском театре и крутила роман (возможно, платонический) с одним из молодых (много старше нее) актеров Малого драматического.
Жила Катя почти напротив нашей школы: перейди дорогу — и ты уже там; а мне надо было идти квартал с угла Невского. Я часто заходила к ней в гости после уроков. Окончив школу, мы дружили еще несколько лет, потом судьба стала помаленьку разводить нас, как в танце, а затем Катя переехала в Москву.
Я вошла в парадную. Человек, уже поднимавшийся по лестнице, должно быть, зашел передо мной, хотя я не видела на улице, чтобы кто-то заходил в Катину парадную. Он был одет как-то странно, как человек из спектакля, из чеховской пьесы, что ли. Пройдя марш, он обернулся, я хорошо разглядела его, запомнила, девочка из кружка рисования, всюду делавшая наброски, всегда с собой блокнот и мягкий карандаш, почти профессиональная память на лица. Он смотрел не на меня, а как-то мимо, словно меня и не было. Я еще слышала его шаги этажом или двумя выше, когда звонила в Катину квартиру.
— Странный человек поднимался передо мной на один из верхних этажей. Похож на актера, не переодевшегося после спектакля. С бородкой, рассеянный, видно, на меня смотрел, не замечая.
— A-а, — сказала Катя самым спокойным образом, — это покойник. И поднимался не на один из верхних этажей, а на последний.
— Впал в летаргический сон, а потом проснулся? — предположила я. — А почему он так одет?
— Да потому что впал не вчера, а посотни лет назад. И не в летаргический, а в натуральный вечный. Там, наверху, под крышей, была у него квартира с лабораторией, таинственная он был личность, изобретатель. В газетах писали: умер от апоплексического удара.
— Ну-у... — сказала я. — В нашем-то граде на брегах Невы со времен Павла Первого жаргон известный: если говорят, что умер от апоплексического удара, стало быть, по кумполу табакеркой хряпнули.
— Ах, девочки, — сказала, входя, Катина мать. — По кумполу. Хряпнули. Как Элиза Дулиттл на первом светском приеме. Кто шляпку тиснул, тот и тетку грохнул.
— Я знаю другой перевод, — сказала я. — Кто шляпку ляпнул, тот и тетку кокнул.
— А я знаю третий, — сказала Катя. — Но мне его Ш. не велел при дамах повторять.
— Мне это твое знакомство, — сказала Катина мать, — не по душе.
Катина мать была легка, изящна, элегантна, серебряные звенели браслеты, прическа идеальна, глядела она на несовершенный мир и обитателей оного с чуть снисходительной улыбкою. Я слышала от Кати, что мать говорит на каком-то особенном немецком языке, редком венском диалекте, называющимся wienerisch. Откуда взялся венский немецкий, понятия не имею; не была ли из Вены родом Катина бабушка? в те времена — очень редко — встречались в Санкт-Петербурге, на советском диалекте именуемом Ленинградом, женщины в летах с нехорошим местом рождения, за что их дочерей никто не хотел на работу принимать. О Катином отце я не знала ничего.
— Как же вы живете? У вас этот... покойник... каждый день ходит... и вам не страшно?
— Да нет же, — отвечала Катина мать, — вовсе не каждый день. Только раз в год. В день своей смерти. Над нами квартира одной почтенной дамы, она физик, а зять ее любитель фантастики, так вот, они утверждают, что изобретатель, работавший с какими-то ядовитыми веществами да вдобавок с электрическими волнами либо корпускулами, опытами своими нечто изменил во времени и пространстве нашего дома, и раз в году происходит некий пространственно-временной скачок, и мы покойника, поднимающегося по лестнице, лицезреем.
Она попрощалась с нами и убыла в парикмахерскую. Что ей там было делать, осталось загадкою, прическа ее, по обыкновению, была совершенна как у скульптуры.
Мы заговорили о привидениях.
— Ш. считает, — сказала Катя, — что главный герой «Гамлета», смысл и пружина всего действия — являющаяся из потустороннего мира тень отца Гамлета. Он это вычитал в одной умной книге, «Психологии искусства» Выготского.
— Ведь по-французски, — сказала я, — привидение — «revenant», «возвращающийся», с того света выходец. Оно главное. А у нас, в русском языке, главные мы сами, наше зрение: при-зрак, при-видение.
— А по-английски, — сказала Катя, — это «ghost» или «spectre».
— То есть или гость как revenant или нечто, имеющее отношение к зрению, спектр, видимое...
На этом познания наши в языках исчерпались, закрылась тема народного сравнительного языкознания вкупе с народной этимологией, разговор перешел на ожидающую Катю летнюю поездку с матушкой в прибалтийский город Эльву и мое грядущее пребывание на недавно купленной родителями даче в Комарове.
— Прошлым летом, — сказала я, — у нас по хозяйству помогала подруга моей покойной бабушки финка Мария Павловна. На ночь на кухонный стол клала она хлеб и нож, говоря: «Дух придет, пускай поест». Зимой после марева гриппозной высокой температуры мне пришло в голову: а вдруг она имела в виду не вообще духа, а привидение моей любимой бабушки, которую почитала чуть ли не за святую?
— У разных народов, — глубокомысленно произнесла Катя, — разные отношения с духами. Но я не знала, что их кормят.
«Может быть, — думала я идя по улице, — мне так неуютно в Комарове оттого, что в пространстве его спокон веку кормили духов, а я родилась в Вятке, в детстве жила в Валдае, где кормят только домашних животных и обитающих рядом с домом птиц?»
Сериал стремился к дареному финалу, придуманному сценаристами хэппи-энду. Охмуренная его длящейся с тысяча девятьсот третьего года (момента гибели Филиппова в Катином доме) до сорок восьмого, что ли, киношной борьбой добра и зла, стала я задергивать оконную занавеску; небо оказалось внезапно безоблачным, полная луна уплывала от Смольного собора в сторону Суворовского проспекта.
Кажется, в то полуночное утро, когда двинулись мы за грибами с комаровской дачи, тоже было полнолуние, но увидели мы лик Селены только через сутки, ибо чем-то затянуто было небо, облачным туманом, характерном для мест возле вод, заливов либо морей да, по слухам, и для предгорий.
Мы отправились за грибами втроем, Толик с юной женою да я, прихватив три внушительного размера (по самоуверенности и оптимизму молодости) корзинки. Понесло нас в леса ни свет ни заря, согласно традиции заядлых грибников, которыми мы, горожане, не были.
Некоторое время шли мы по Озерной улице в сторону Щучьего озера, а подле высоковольтной линии, не доходя до кладбища, свернули налево, направляясь к горушкам, справедливо считающимися местожительством маслят. Маслята и легли на донышки корзинок наших, а мы продолжали путь от сыроежек до подосиновиков, до подберезовиков, попадались белые, но их было немного.
К моменту, когда устали мы до изнеможения, пройдя невесть сколько километров, потеряв счет времени (все трое забыли надеть часы), небо заволокло серебристым туманом окончательно и фундаментально, по солнцу определиться было невозможно, ни звука жилого не доносилось до нас, словно кто-то и электрички отменил, ни троп, ни дорог, какие-то бескрайние дурной бесконечности лесные кордоны простирались на все четыре стороны света, особенно на одну из четырех, стало ясно: мы заблудились.
— Надо найти какую-нибудь тропу, — сказал Толик.
Шли цепью, искали тропу, но словно тут никогда нога человеческая не ступала.
— Ведь тут есть лесничества, — сказал Толик, — все лесные кордоны распределены между лесниками. Один мой знакомый писатель, лесник, об этом писал.
— Может, сам выдумал, — сказала я.
Постепенно взявший нас в кольцо лес менялся. Всё живое пропадало. Уже не слышны были голоса птиц, мы не видели белок. Сперва встречались нам изумрудно-зеленые жуки, толстые округлые скарабеи вроде майских или навозных, потом исчезли и они. Нас обступала одинаковая сосновая чащоба, дубликаты стволов, клоны, театральная декорация безрадостного спектакля.
— Оглядеться, оглядеться... — бормотал Толик. — Ну, хоть какой-нибудь знак отличия, тропочка, просвет...
Мы шли и шли, страх, подобравшись снаружи, проник внутрь, в сердце, в печенку, в душу.
— Мне кажется, вон за той горушкой чуть светлее, — сказала Оля.
Мы стали взбираться на горушку, подъем был такой медленный и крутой, словно лезли мы на высокую гору или попали в кадр, снятый рапидом.
— О! вы только гляньте, какие грибы!
У Оли в руках красовался огромный лимонно-желтый гриб.
Передо мной сгрудилась компания тонконогих ярко-лиловых, Толику попались оранжевые с синей оторочкой медуз. Позже, много позже такие грибы-мутанты увижу я на Комаровских окраинных улочках в постчернобыльское лето.
— Какие они красивые! — воскликнула Оля.
— Страшнее не бывает, — откликнулся Толик. — Изощренные поганки.
А я вскричала:
— Жуки!
Но то были не празелени изумрудной живые жуки, а оплавленные кусочки стекла, бутылочного, изумрудного, желтоватой зеленцы, напоминавшие загадочный метеоритный чешский минерал влтавин.
Мы набрали их с Олей по две горсти.
Толик взобрался на верхушку холма первым.
— Люди, — сказал он.
Картина внизу, за холмом, открылась нам странная. В центре зияла яма, воронка с остатками какого-то строения, скорее взорвавшегося, чем сгоревшего, потому что вокруг этого центра разрушения, точно лепестки, лежали на все стороны поваленные стволы деревьев. На развалинах стоял странно одетый человек с лопатой, а за ромашкою упавших сосен на узкой лесной дороге ждала подвода с запряженной гнедой лошаденкою, сидел возница, вейка, в каком-то театральном малахае, весь в складках, на голове капюшон; вглядевшись, решила я, что это не капюшон, а башлык. Они разговаривали, но мы не слышали ни слова, оглушительная тишина заткнула нам уши.
Но вдруг прорвался и звук, словно крутнули ручку старинного приемника, вернув ее на нужную длину волны, подал голос возница, чьего лица мы так и не увидели ни в тот момент, ни позже.
— Собачку жалко, а Константинополя-на-словах не жаль?
Развеселившийся Толик откликнулся с холма, ни к кому, собственно, не обращаясь:
— Собачка-то в частности, а словесный Константинополь вообще!
— О, да вы философ! — воскликнул обернувшийся на голос его чернобородый с лопатой (лицо его показалось мне знакомым). — А кто вы такие? Откуда вы тут взялись?
Возница не оборачивался, сидел, как влитой.
— Философ я исключительно доморощенный, — сказал Толик, спускаясь к людям, мы следовали за ним. — Мы грибники, дачники, заблудились, верните нас, пожалуйста, в жилые места!
Мы ехали на подводе, свесив ноги, глядя назад, спиной к вознице, чернобородый сидел между вейкой и нами, в профиль.
— Вы, доморощенный философ, небось и других натуральных философов почитываете?
— Пытаюсь. Не всегда получается. Канта одолеваю с трудом. Он некоторых слов Платона меня, знаете ли, корёбит.
— Коробит, — поправил седок.
Смешок возницы.
— Как умею, так и говорю. Университетов не кончали. Институтов тоже. Исключительно ПТУ. Я по образованию столяр, по роду занятий сторож, а по совместительству писатель.
— Я и сам по совместительству писатель. Каковое совместительство отчасти свидетельствует о неправильности жизни.
— Человек и задуман как свидетельство неправильности, — сказал Толик.
Тут Оля заплакала.
— Что ты плачешь? Что с тобой, дорогая?
— Не знаю.
— Я на днях на работе захожу в нашу секретную лабораторию, — сказала я, — сидит молоденькая сотрудница в печали, слезы утирает. «Ты что такая грустная?» — спрашиваю. Отвечает: «Взгрустнулось». — «А что ты такая бледная?» — «Взбледнулось», — говорит.
Оля заулыбалась.
— Зачем же вы эти-то грибы набрали? — спросил ее седок. — Попугаечных колеров и сомнительной формы.
— Я их маме покажу, — тихо отвечала Оля.
— Маме лучше не то что их в руки не брать, а не глядеть на них вовсе.
Тут Оля опять заплакала.
— Почему это ваша девушка все время слезы льет?
— Это моя супруга, — отвечал Толик. — А слезы льет, может, потому что прибавления ждем. А, дорогая? Вот вы говорили, вы писатель; что же вы пишете?
— Недавно большую услугу отечественной изящной словесности оказал: бросил писать стихи.
— Прозу тоже бросайте, — с уверенностью сказал Толик. — До добра такое занятие не доводит. По себе знаю. И философию оставьте. Один соблазн и истощение сил духовных.
— Может, мне и изобретательством не заниматься?
— Что изобрели?
— Я изобрел универсальное оружие, — сказал седок, — делающее бессмысленными войны. Будет мир всюду навеки. Знаете, я могу устроить маленький взрыв здесь, — и тогда сейчас же взорвется любой город, который захочу я уничтожить; Константинополь, например.
— В любом городе, — сказал с уверенностью Толик, — найдется собачка, которую станете жалеть. Мой вам совет, я ведь из страны советов: изобретательство бросьте в первую очередь, чертежи спалите, установку свою на части развинтите и в водоем с лодки по ходу плавстредства по частям покидайте. Лучше в море. Наверно, не надо было нам с вами вместе на этой подводе ехать.
— Как это не надо? — спросила я. — Вот едем же.
Лошаденка остановилась.
— Слезайте, — сказал возница.
— И когда, — сказал Толик, слезая и подавая нам с Олей по очереди руку, — вы с изобретением своим покончите, езжайте куда-нибудь в глубинку крыжовник сажать.
— Что это ты раскомандовался? — сурово сказал вознице изобретатель. — Садитесь, нечего вам его слушать, вы еще не доехали, опять заблудитесь.
Телега тронулась, заскрипели оси колес.
Вдруг показалось мне, что лошаденка передвигает ноги, колеса крутятся, потряхивает подводу дорога, — а мы стоим на месте, и всё движение наше фикция, театральная уловка, и никогда мы не выйдем из зоны мертвого леса, закольцевавшего нас на веки вечные.
Одинаковый лес длился.
— Почему вы сказали, что я философ? — спросил Толик. — И так отреагировали на слово «корёбит»? Вы, часом, сами не всерьез ли философией балуетесь?
— Само собой, — отвечал седок. — У меня даже есть работы опубликованные, «Очерки русской философии», «Философия действительности».
— Я один раз видел фотографию действительности, — сказал Толик. — Сделана с телескопа. Называется «Пространственная структура межзвездной локальной среды». А кто из философов вам по душе?
— Герцен, Чернышевский, — последовал ответ, — Огарев, Бакунин, Ткачев, Шелгунов, Серно-Соловьевич, Антонович. Я материалист. А «Философия действительности» — двухтомник.
— Не хухры-мухры, — сказал Толик.
— Вот именно! — подтвердил изобретатель, расхохотавшись.
— А от каких философов вас корёбит?
— От Бердяева! — воскликнул собеседник его. — От Булгакова! Еще от Соловьева и Трубецкого!
— Чем же вам господа идеалисты, сочувствующие русскому космизму, не угодили?
— Религиозным мракобесием.
Возница хмыкнул.
— А кто такие русские космисты?
— Федоров, Флоренский, Вернадский.
— Не знаю. Хотя я, в отличие от вас, философ не доморощенный, а вполне профессиональный, философские обзоры в виде очерков имел честь публиковать в журнале.
— Я читал о них в философском словаре, если не ошибаюсь.
— В каком словаре? — спросил изобретатель, польщенный.
— Хороший словарь, — сказала я. — Серно-Соловьевич в нем есть, а Шелера нету.
— Да неужто и девицы почитывают философские словари?!
— Бес попутал, — отвечала я.
Лошадь остановилась.
— Какая своенравная лошадка, — сказала Оля.
— Она таким образом высказывается, — сказала я.
— Ржать ей не велено, — сказал седок.
— Еле тащится, бедная, — сказала Оля.
— На Пегасе не ездим, лошадь не скаковая, не ямщицкая, не тяжеловоз, тривиальная сельская.
После некоторой паузы Толик спросил:
— Скажите, какая живопись вам нравится? Передвижники?
— Конечно, — отвечал изобретатель. — Как вы догадались?
— Из музыки, — произнес Толик убежденно, — вам подходят разве что песни революционного характера со словом «товарищ» да прикладные пьесы для танцев.
— И тут вы правы. Симфоническую музыку не понимаю и не люблю.
— Вы, должно быть, атеист?
Вопрос Толика показался мне неожиданным.
— Разумеется.
— Видите ли, существуют работы по изучению человеческого мозга, профессора Ч., в частности. Ч. утверждает, что у людей, воспитанных на высоком настоящем искусстве, музыке, литературе, живописи, просто другие мозги. Видящий перед собой с детства прекрасные фрески храмов, старые иконы (русские XIV века, XVII, XVIII, Рублева, репродукции Дионисия, неведомых мастеров прежних времен, иностранца Джотто), воспитанный на песнопениях церковных от русских анонимов и Бортнянского до Баха, Моцарта, Генделя, т. е., взращенного в прекрасном (неважно, князь он или крестьянин) совершенно другие мозги, чем у атеистов, читающих передовые газеты, демократических зануд-писателей, исполненных благих намерений и клеймящих неравенство с несправедливостью, любящих малоодаренных, но хорошо выученных передовых художников. Мозг меняется непоправимо. Как не угадать, какой у вас вкус, если Трубецкой вам враг, а Антонович — идеал разума? Кстати, один известный философ говорил: «Я нахожусь в религии, стало быть, я нахожусь в культуре». Строго говоря, при прагматическом направлении мышления и лишенных красоты и воображения мозгах культура и вовсе не нужна. Искусство тоже. О философии молчу. Знаю страну, где религию почти полностью отменили, искусство заменили суррогатом, а философия как таковая запрещена.
— Что же это за страна? — спросил, нахмурившись, явно недовольный словами Толика седок.
— Не будем о грустном, — отвечал Толик. — Вот вы атеист, а как не признать, что на самом деле именно религия с невиданно прекрасными живописными изображениями и молитвенной музыкой, а также ве-ли-чай-ши-ми литературными достижениями, как ничто, способна объединить народ, воспитать в нем эти самые другие мозги, обеспечить понимание друг друга, ну, и понимание искусства с философией, само собой.
Лошадь опять остановилась.
— Долго ли будем мы их везти? — каким-то другим голосом, холодно, с легким акцентом спросил вейка.
— Нам везет, вы везете, — сказала я.
— До развилки, — отвечал седок.
Диалог седока с Толиком возобновился, повторялся с вариациями, крутясь вокруг одних и тех же тем, как вертящиеся вхолостую колеса нашей зачарованной подводы.
В какой-то момент сидящий в профиль обернулся, чтобы посмотреть на Толика, я обернулась глянуть на возницу и узнала в седоке подымавшегося по Катиной лестнице дома на Жуковского призрака. «Изобретатель», — сказала тогда Катя.
— Желна! — воскликнула Оля.
Над нами пролетел черный дятел, и, подвластный дирижерскому его полету, зазвучал разноголосый хор птиц.
— Вот этот гриб — то ли неизвестная науке поганка, то ли производное разрушенного в экспериментальных целях участка среды, — сказал Толик. — Артефакт ни-то-ни-сё. Вроде меня. Кто я? То ли столяр, то ли сторож, то ли писатель. Все удивляются.
— А я не удивляюсь, — сказал седок-изобретатель. — Я, например, тоже отчасти писатель, даже роман в соавторстве и под псевдонимом написал. О Севастополе. Лев Толстой похвалил. Но я еще и доктор наук.
— А как диссертация называется? — спросил учтивый Толик для поддержания разговора.
— «Инварианты линейных однородных дифференциальных уравнений».
— Где защищали?
— В Гейдельберге.
Возникла пауза.
Толик вычислял, где Гейдельберг. Я думала о Фаусте. Оля рассматривала подозрительные грибы.
— Но в некотором роде, — задумчиво произнес изобретатель, — я еще и нарушитель границ.
— Которую нарушаете? — весело спросил Толик. — Со Швецией? С Германией? С Польшей? Или по случаю и склонности душевной какую ни на есть?
— Я нарушаю границу между «здесь» и «сейчас».
— Вы учились в Гейдельберге?
— Нет, в Санкт-Петербурге. И в Одессе. В Гейдельберге только диссертацию докторскую защищал.
— Ваша фамилия случайно не на «Ф» начинается?
— На «Ф». Я Филиппов.
— Простая фамилия от мужского имени! — восхитился Толик. — Моя такая же. Доктор Ф. из Гейдельберга! Нет слов. А почему мы стоим? Мы приехали?
— Да, — отвечал Филиппов. — Вот и развилка. Идите в ту сторону, увидите рельсы, потом станцию.
Толик подал нам руку, мы соскочили. Поблагодарив, он внезапно сказал Филиппову:
— Будьте осторожны со своими товарищами и с журналистами.
Тот брови поднял, удивившись.
Издали приближался товарный поезд, мы пошли на слух, обернулись помахать рукою, но не было подводы на лесной дороге, должно быть, свернула, не слышны были ни глухой стук копыт, ни скрип колес, всё заглушил шум товарняка.
— Опять из другого времени люди попались, — сказал вейка.
— Да. Странные они все.
— Вон там, на опушке, Войтинский белую кобылу свою велел для вас привязать, пересаживайтесь, въедете в Териоки на белой лошади за неимением такового же коня, — произнес со смешком, не оборачиваясь, возница.
Изобретатель, пересев на белую лошадь, удалился, не прощаясь.
Тут вейка сказал своей незатейливой лошаденке какое-то словечко на неведомом гортанном хрипящим наречии, отчего лошадка напряглась, затряслась, все ее мускулы, мышцы, жилки отрисовались как у скульптуры несуществующего в искусстве направления, и, набрав с места в карьер дикую несообразную со своей породою и с реальностью скорость, растворилось ездовое парнокопытное в воздухе с подводою и возницей.
А из-под корней стоящей на маленьком песчаном склоне сосны вышел белый хорек, выплюнул свежепойманную лягушку и сказал: «Тоже мне, античные диалоги на лесной дороге развели, расфилософствовались, оба добром не кончите, нечего на чужих подводах разъезжать».
Через полвека Толик спился, и сын его от третьего брака, ожесточившийся и отчаявшийся за время черного пьянства отца, закопал урну с отцовским прахом в одном из сосновых лесов за Зеленогорском.
Мы подходили к станции.
— Слушай, — сказал Толик, остановившись, — слушай, Ольга, для чего ты тащишь с собой эту дрянь, да еще и поганишь ею хорошие грибы?
Он выгреб из корзинки жены радужные грибочки и выкинул их в канаву, идущую вдоль железнодорожной насыпи вдоль кромки леса. На наших глазах грибы растаяли, растеклись отвратительно пенистой попугаечной жижей.
— Пошли быстрее, на горизонте электричка.
Мы так припустили, что на перроне нам пришлось еще подождать.
— Толя, Толя! — вскричала Оля и схватила мужа за рукав. — Что со станцией?! Ее перестроили? Может ли это быть? Уж не приехали ли мы на телеге в другое время? Это же не Зеленогорский вокзал!
— Ты грамотная? — спросил ее муж не без суровости. — С чего ты взяла, что это Зеленогорск? Грамотная, — ну и читай, написано: Рощино.
— Неужели мы дошли до Рощина?
— Ну да, шли, ехали, петляли из здесь и сейчас в там и тогда и обратно.
— Толя, — спросила я, — почему ты сказал ему, чтобы он опасался своих дружков и не связывался с газетчиками?
— Потому что я знаю, что с ним после его собственной газетной статьи — письма в газету, что ли? — с откровениями о собственном изобретении случилось.
— Я тоже знаю, — сказала я.
— Когда читал о нем, — сказал Толик, — мне мысль пришла: а что, если его не шпионы, не агенты и не полицейские по башке трахнули, а свои товарищи, полные оскорбленных чувств революционные бесы? Может, они мечтали при помощи его суперболоида порешить всю мировую буржуазию, начиная с местной, сбацать по-быстрому мировую революцию, а он сдуру решил, наоборот, с войнами покончить и стоял на своем?
— А с каких дел, — спросила я, — он именно Константинополь избрал в качестве примера города, сметенного его оружием с лица земли?
— Яснее ясного, — сказал Толик. — Игры бессознательного. Всё по Фрейду. Ведь атеист. А Константинополь был великой древней столицей христианства. Тоже мне. Философ-материалист. Как это называется, оксюморон, что ли? Был у нас один такой в Петербурге-на-словах, Раскольников Родион, очередной сверхчеловек-недоросль. Только не с гиперболоидом, а с топором, по-простому. Но какое, однако, странное, мое первое впечатление о Зеленогорске, вместо него сперва оказались мы в зоне экспериментов со взрывами времени и пространства. А потом вообще в Рощине. Вот ведь недоступное исчезающее кафкианское место.
— А мое первое впечатление, — сказала я, — совершенно детское. Но, кстати, вроде как со взрывом. «Мы едем в Териоки», — сказал дедушка, он собирался взять меня с собой в териокский санаторий. Тогда эти места Карельского перешейка были закрытой или полузакрытой территорией, военные дома отдыха, детские сады и пионерлагеря военного округа, разрешение на жительство или покупку дач получали проверенные люди. Потом, чуть позже, возникли дома положительных советских ученых, не смутьянов, полярников, деятелей искусства с хорошей репутацией. И уже значительно позже, в конце XX века, явились, как выражались в 30-е годы «социально близкие», то есть, уголовники, воры, мутные жулики и прямые блатари.
То был военный санаторий, — военно-морской, точнее, — из послевоенных лет, я была совсем маленькая, дедушка взял меня в санаторий с собою, мы жили почти на берегу залива в двухэтажном голубом деревянном доме, бывшим ранее чьей-то виллою, там топили печи, было тепло и уютно ранней холодной весною, пребывали мы в эпохе пустых побережий, пляжи были пустынны, с одинокими фигурами загорающих проверенных людей. Вокруг нашего дома дремал полузаброшенный полузаросший парк с первыми лесными цветами, мелкими фиолетовыми и ярко-голубыми фиалками и безвременником в траве, по парку пробегал ручей, и однажды кто-то из бойких мальчишек бросил в прозрачную холодную несущуюся воду перегоревшую лампочку, та ударилась о ручейный донный или прибрежный камушек, взорвалась, это в тишине-то волшебной. Я вскрикнула, перепугалась, расплакалась, дед утешал меня.
Мы пошли к заливу, был отлив, пространство парка отделяла от линии пляжа подпорная стенка из гранитных, диоритовых и диабазовых массивных камней, прилив был отгорожен от прогулочных троп, а на полосах вдоль воды лежали раковины жемчужниц, я надеялась найти в них жемчуг, внутренние створки отливали перламутром, но жемчугов не было, он водился в совершенно других ручейных моллюсках, дед повел меня по прибрежной, перешедшей в лесную, дороге-просеке, где мы набрали сморчков, а это что за гриб? светлый сморчок? нет, отвечал дедушка, улыбаясь, это чертова баня, он наступил на светлый шарик гриба, тихий щелчок, и словно дымок во все стороны из-под ботинка. Шли долго-долго, временами дед нес меня «на закукорках», оказались возле дачи с верандою, на крылечко вышла тонкая красивая хозяйка, она улыбалась, а дедушка сказал — Танечка, Татьяна Николаевна, вот мы вам сморчки принесли, не напоите ли нас чаем? чай помню, варенье помню, земляничное, с земляничной, что ли, поляны, а обратную дорогу запамятовала, словно ее и не было.
Дедушка называл место, где мы жили, не Зеленогорском, а Териоками, по старинке. Териоки — это берег залива, полоса песка с водорослями, древнеегипетским тростником, раковинами, подпорная стенка грубой крупной кладки, фиалки в заброшенном парке, взрыв в ручье.
Сериал с поисками алхимического философского камня, который надо было поставить в адскую машину подобно сим-карте, дабы запустить ее, закончился. Как многие зрители сериалов (или вообще все?), лишенные каких-либо впечатлений, углубленные в добывание хлеба насущного и житейскую суету, я долго не могла уснуть после последней серии, прокралась в комнатушку с компьютером, стараясь никого не разбудить, гадала на гугле, выпали мне кое-какие карты из колоды его. В частности, выяснилось, что в давнее лето, заведшее нас, заблудившихся грибников, в неведомые лесные кордоны перешейка, в Зеленогорске на одной из териокских дач у залива (поблизости от натуральной дачи Богомолова, где обитал Филиппов с детьми и женою во время оно) снимали фильм «Гиперболоид инженера Гарина» с любимым актером Олегом Борисовым в главной роли. А одна из краеведческих книг поведала мне: на подготовительных курсах некоего профессора математика Войтинского в Териоках 1901 года учился будущий автор «Гиперболоида» Алексей Толстой.
— Когда в доме на берегу залива снимали фильм про инженера Гарина, — сказала мне моя одноклассница Наташа Королева, — мы уже там не жили. А вообще, сколько себя помню, мы снимали дачу именно в этом доме. Теперь там ресторан «Наша дача». А это и была наша дача, дом с башенкой. Дед мой, Петр Григорьевич Королев, в числе прочих прорабов и инженеров (а по образованию был он инженер путей сообщения), строил Кронштадтский собор. Волею судеб накануне расправы с офицерами на главной площади Кронштадта матросы посадили деда с семьей (женой и двумя маленькими дочерьми, будущей матерью моей и будущей тетей и крестной, которую всю жизнь я звала Кокой) на баркас и вывезли в Петроград. Моя матушка не была замужем за моим отцом, дед удочерил меня, я ношу его фамилию. Мы снимали второй этаж подле башенки, в погожие дни из наших окон виден был купол собора.
Всплыла с гугловского дна исчезнувшая в недрах хранилищ конфискованных при арестах рукописей книга Голосовкера о безумном изобретателе аппарата с лучами смерти. А также легенда о Тесле, занимавшемся передачей тепловой энергии на расстояние, по ошибке с севера Америки перебросившего через полюс (а собирался удивить таинственным небесным явлением одну из полярных экспедиций) с одной из своих грандиозных установок огненную корпускулу, взорвавшуюся в районе Подкаменной Тунгуски, поименованную Туруханским или Тунгусским метеоритом, спалившим российское время и изменившим всё русское пространство от Кушки до Чопа. Кстати сказать, Тесла был большой любитель гетевского «Фауста», знавший большую часть текста его наизусть. В Америке единственными близкими друзьями Теслы были Джонсоны, американский поэт-демократ Роберт Андервуд (взявший фамилию жены) и его жена красавица Катарина Джонсон. Джонсон, редактор журнала «Сенчури магазин», увлекался изучением народной поэзии, литературы и истории Сербии, что сблизило его с Теслой. А Никола Тесла влюбился в Катарину, и эта влюбленность, очарованность длилась долгие годы. По странной случайности Джонсон в сорокалетней переписке с Теслой подписывал свои письма именем главного героя поэмы любимого обоими поэта Иована Иовановича Змая: «Лука Филипов»; а жену свою в этих посланиях именовал «госпожа Филипов». В начале 1920 года Джонсоны уехали в Европу. Роберт сначала был представителем США на конференции в Нью-Йорке, затем американским послом в Риме. Катарина уговорила мужа посетить Сербию, родину своего голубоглазого гения. «Вот мы и в Белграде, — писала она Тесле. — Мы приехали из Рима с господином Весничем, который в последнее время является там представителем Сербии. Представляю, как горели Ваши уши, так как мы разговаривали о Вас и о Риме, о Вас и о Сербии, о Вас и о науке, о Вас и о Вас. Боюсь, что я больше всего говорила о Вас».
«А что, если?» — подумала я, пребывая в полусонном гипнозе постсериальных видений, а что, если кто-нибудь из шпионов, гонявшихся за филипповским «лучом смерти», отчасти преуспел? И отголоски шпионской удачи видим мы в засекреченных экспериментах Теслы, в уничтоженной случайным (?) пожаром его главной лаборатории? и последующим взлетом на воздух его любимого детища, башни Варден? Недостроенная башня, которая должна была сделать Лонг-Айленд столицей мира, опутать всю землю незримой паутиной, связующей все страны, была взорвана по распоряжению властей со странной формулировкой «чтобы никто не мог использовать ее в шпионских целях», ее постигла судьба всех вавилонских башен, а гипотетический взрыв Константинополя был отложен еще раз.
После гибели Филиппова полиция, по версии нескольких статей интернетного всезнайки, конфисковала в квартире-лаборатории на Итальянской (Жуковского...) улице все бумаги изобретателя вкупе с устрашающими приборами, окутанными парами ядовитых химикатов; и куда всё это подевалось? стало пеплом да обломками в огне, когда спалили революционеры полицейский архив? переехало в таинственный форт «Петр Первый», где занимались исследованиями взрывчатых веществ и игрались в напалм?
А что, если, думала я, засыпая (о, главное, чтобы кошмары не снились!) на одной из териокских, келломякских, куоккальских, приветненских и иже с ними, дач устроен был М. М. Ф. тайник с дубликатами чертежей и заметок? И тайник то ли ищут, то ли хотят предать огню (присоединить к лаборатории Теслы и к архиву полиции), потому и пылают одна за другой прекрасные дачи со шпилями, навершиями, резьбой балконов да галерей?
Сон не шел, в пасьянсе полуразрозненных текстов Филиппов показывал детям своим (детей было трое, но почему-то в справочниках всемирной паутины значился только старший) фокусы с пиротехникой, писал письмо Льву Толстому (и встречался с ним в Хамовниках), публиковал статьи Циолковского в журнале, беседовал с Менделеевым, читал повесть отца «Полицмейстер Бубенчиков», показывал стихи свои Маяковскому, играл на рояле Бетховена, переводил Дарвина, писал памфлет «Дьявол в конце XIX века», печатал свое последнее открытое письмо в «Санкт-Петербургских ведомостях», предназначенное всем и никому.
Детей было трое: два брата и сестра.
О, эти братья и сестры, затерявшиеся в потаенных и распахнутых настежь рельефах местности эпохи, в ее пустошах, пустырях, чащобах, пещерах, норах, отнорках, воронках, нишах, шахтах, отвалах, ямах, рвах, щелях, комнатушках, кулисах, развалинах, стройках.
— Я видел его сына, — сказал тогда Толик в тамбуре электрички. — Такой веселый, круглый. Он был директором московского ЦДЛ. Ты была в ЦДЛ?
— Нет, — отвечала я.
Старший сын, Леонид, необычайно подвижный, резвый, моторный, как теперь бы сказали, мальчик, оставил воспоминания о жизни в Териоках, куда сослан был за неблагонадежность отец; друживший с Филипповым Лесгафт занимался с детьми русской колонии лыжами, велопробегами, гимнастикой, маленький Леня был одним из самых бойких «лесгафтят». Когда после гибели отца матушка поехала в Ясную Поляну переговорить со Львом Толстым о переиздании «Осажденного Севастополя», она взяла мальчика с собою, ты побегай, побегай по травке, сказал Толстой, видя, что ребенку на месте не сидится, маме букет цветов нарви, цветочки можно рвать, они Божии; и пока говорили о книге, пока Толстой расспрашивал о странных обстоятельствах гибели Филиппова, мальчонка носился по усадебным газонным лужкам. Ничто не предвещало, что станет он впоследствии участником революционных событий, пролетарским поэтом, публиковавшим стихи под псевдонимом Красный Боян. По правде говоря, разные источники трактуют псевдоним его по-разному, и мне неведомо, называл ли он себя Баяном, то есть, красным аккордеоном или красной гармошкою, или имелся в виду, Бояне бо вещий, древний рапсод.
Младший Борис, родившийся за полгода до смерти отца, человек был известный, сперва завлит Большого драматического (будущего Горьковского) театра, потом основатель и директор московского Центрального дома работников искусств, затем директор Центрального дома литераторов. Не стоит забывать, что все три должности связаны были с идеологической сферой.
Прозвище его, веселого, контактного, заводного, в возглавляемых им домах было Домовой. Он написал несколько книг, в том числе «Тернистый путь русского ученого» об отце и прожил долгую счастливую жизнь. В книге об отце вспоминает он большую петербургскую квартиру на Итальянской, запретные кабинет и лабораторию отца, книжные полки с прекрасными изданиями Брэма и Фабра; хотя игру отца на рояле, химические фокусы, показываемые им детям и прерываемые матерью, боявшейся пожара, пороха, искр и фейерверков, а также гостей отца, описаны им со слов старшего брата и старшей сестры.
Сестре, любимой дочери своей Любе, написал Михаил Филиппов предпоследнее письмо в своей жизни. Ему оставалось жить три дня, он писал девочке в Ялту: «Дорогая моя, крошечная моя девочка. Не думай об этом Петербурге, расстроившем твое здоровье. Поправляйся в хорошем климате. Я еду на днях за границу, вернусь 25-го, и мама тогда приедет к тебе с мальчиками. Я тоже непременно постараюсь собраться к вам. Петербург и мое здоровье расшатал: ты помнишь, как я был болен в то лето, когда жил в Териоках, да и теперь я себя здесь неважно чувствую. Когда вполне окрепнешь, тогда приезжай сюда, а теперь, чем дольше ты пробудешь с мамой в хорошем климате, тем лучше. Береги себя, моя дорогая девочка: помни, ты для меня утешение и радость, и ничто так не радует, как то, что ты начала поправляться.
Когда вернутся мальчики, ты, я знаю, будешь баловать Борю. Будь также ласкова и с Леонидом; у него много резкости, но ведь и он добрый мальчик. Ничего я так не хочу, как чтобы вы жили дружно... Люби же людей. Сколько бы ни было в жизни неприятного, всё же мы должны верить тому, что есть в мире любовь. И твой папа любит свою девочку». Хрупкая болевшая лечившаяся в Ялте Люба закончила разведшколу НКВД, была направлена в 1921 году на подпольную работу «в тыл к белоэстонцам», как написал в книге своей брат Борис, «трагически погибла в возрасте 27 лет».
Стало быть, подумала я, похолодев, прочтя эти скупые слова о сестре, эпизоды сериала «Охота на дьявола» с тренингом героини фильма в энкаведешной подмосковной школе разведчиков, которые никак не могла я поначалу связать с канвою сюжета, были связаны с ним напрямую, прямее не бывает, ай да сценаристы. Вот только героиня фильма не погибала, смерть ее становилась инсценировкою, ее ждали любовь, замужество, подложный паспорт, жизнь в одной из западных стран и хэппи-энд со спасенной дочерью и победой над главным злодеем, желавшим завладеть изобретением, философским камнем и всем миром впридачу.
«Взрыв-телеграмма» — так называли некоторые современники изобретение Филиппова. «Летом 1901 года глубокой ночью Филиппов провел очередной эксперимент с направленной взрывной волной. Громовые раскаты, ослепительный луч пронзил гряду свинцовых облаков. Утром люди увидели, что огромный валун, лежавший на берегу реки Териоки со времен Ледникового периода, превратился в груду оплавленных осколков», — свидетельствовал друг изобретателя историк Трачевский. «Для сбора порции лучевой энергии, выделяемой при взрыве, использовались специальные зеркала со строго рассчитанной кривизной. Роль зеркал выполняли посеребренные емкости с вогнутым дном». Мне казалось, что воспоминание об «очередном эксперименте» так и осталось витать в здешнем териокско-келломякском воздухе, и раз в лето у залива разыгрывалась гроза с одним-единственным сотрясающим землю громовым ударом. Луч почему-то представлялся мне подобным молнии в картине Бакста с разрушающимся под ударом неведомой стихии или стихиали античным городом. Один из мемуаристов, ассистент Филиппова Всеволод Всеволодович Большаков, вспоминал: «Под Ригой впервые состоялся дистанционный подрыв пороховых зарядов. А у Финского залива поджигались фанерные дома-мишени».
Он снова и снова запирался вечером в своем кабинете-лаборатории, предупредив жену, чтобы его не беспокоили утром, потому что будет он работать всю ночь, и заполдень находила она его бездыханным. «Вызванный вольно-практикующий врач Полянский не смог определить причину смерти и записал в медицинском свидетельстве „Mors ex causa ignota“». В одном из отчетов о происшествии писали о пятне крови на рубашке. Полицейский врач Решетников написал, что всё дело было в органическом пороке сердца. Полковник Гельфрейх заявил о неосторожном вдыхании паров синильной кислоты. Эмигрировавший во Францию Большаков писал: «Мне доподлинно известно, что этот грех взял на себя Яков Грилюк, студент-естественник петербургского университета, молодой человек, называющий себя пацифистом и погибший от открытой формы туберкулеза в тюремном лазарете». Поговаривали и об убийстве, инициированном охранным отделением и явившимся прямым следствием открытого письма в газету.
Рукопись неоконченного труда изобретателя взял у вдовы почитать и скопировать Финн-Енотаевский (сотрудник по издаваемому Филипповым журналу «Научное обозрение»), и рукопись исчезла, а потом в годы сталинских репрессий исчез и сам читатель. Бумаги, записи и приборы конфисковала охранка, говорили, что они сгорели и погибли, когда в послереволюционный год запылал полицейский архив. Впрочем, в середине двадцатого века в коллекции американского патентоведа всплыл листок с фрагментом описания за подписью Филиппова.
Проснувшись поутру я перечитала текст его открытого письма, напечатанного в «Санкт-Петербургских ведомостях» (остальные издания, испугавшись, печатать оное отказались) накануне его гибели: «В ранней юности я прочел у Бокля, что изобретение пороха сделало войны менее кровопролитными. С тех пор меня преследовала мысль о возможности такого изобретения, которое сделало бы войны почти невозможными. Как это ни удивительно, но на днях мною сделано открытие, практическая разработка которого фактически упразднит войну.
Речь идет об изобретенном мною способе электрической передачи на расстояние волны взрыва, причем, судя по примененному методу, передача эта возможна и на расстоянии тысячи километров, так что, сделав взрыв в Петербурге, можно будет передать его действие в Константинополь. Способ изумительно прост и дешев. Но при таком ведении войны на расстояниях, мной указанных, война фактически становится безумием и должна быть упразднена. Подробности я опубликую осенью в мемуарах Академии наук. Опыты замедляются необычайной опасностью применяемых веществ, частью весьма взрывчатых, как NCl3 (треххлористый азот), частью крайне ядовитых».
Позвонив другу нашему, проницательнейшему человеку, прочла я ему эту газетную цитату и спросила: что она означает? приступ безумия, выдающего желаемое за действительное? предупреждение?
И получила ответ:
— Спонсора искал.
В тамбуре электрички на подъезде в Комарову Оля опять расплакалась, сказала, что она устала после наших приключений, хочу домой, домой, твердила она. И они отправились с Толиком в Ленинград, не заходя на нашу дачу.
Я вышла на перрон одна, добрела до своей Лесной улицы, на даче никого не было, бабушка уехала в город, мать с отчимом отдыхали в подмосковном Архангельском. Я уснула не раздеваясь на диване рядом с корзиной грибов.
А Филиппов в обретенном собственном времени возвращался на богомоловскую дачу.
Интересно, думал он, кто увидит меня? кто увидит, как я еду на белом коне по териокской Большой дороге подобно триумфатору? Тут развеселило его название главной улицы. Он хохотнул, вспомнив выражение «бандит с большой дороги». Да и ехал он не на белом коне, то ли на белой кобыле, то ли на сивой.
Почему, подумал он, этот человек из другого времени велел мне остерегаться товарищей моих? А что, если... тут пришел ему на ум пренеприятнейший, какой-то клеветнический роман Достоевского «Бесы», припомнил он и Шатова, и Кириллова, и даже головой затряс, отгоняя от себя образы их.
Ни с того ни с сего, совершенно ни к селу ни к городу вспомнился ему детский стишок от тетушки, надо будет детям прочитать:
Если хочешь быть счастливым, Ешь побольше чернослива, И тогда в твоем желудке Заведутся незабудки.Он уже знал, что в местах, где проводит он опыты свои, где гремят пока еще невеликие взрывы, вызываемые на сравнительно небольшом расстоянии, потом появляются призраки из разных времен, и догадывался, что каким-то образом искривляются, портятся, обретают незримые окна, двери, щели время и пространство, и в эти прорехи в его «здесь и сейчас» проникают чужие «там и тогда». По своей воле привидений вызвать он не мог, он их не контролировал.
Издалека увидел он идущего на этюды художника, с которым они раскланивались, чьи картины нравились ему, хотя это были просто портреты, пейзажи, никаких жанровых полотен, идейных композиций, важных тем.
Однажды в компании на пляже неподалеку от казино обмолвился он, что род его матушки восходит к Богдану Хмельницкому.
— О, — произнес молчаливый обычно художник, пропустивший рюмочку и внезапно заговоривший, — с такой родословной надо держать ухо востро, ведь вы Гоголя читали, обычная малороссийская печаль: ежели за одним плечом досточтимый философ и богослов Григорий Сковорода, то за другим уж непременно колдун Басаврюк.
Он возвращался в дачные места, где то там, то сям обитали попавшие под полицейский надзор группы лиц из интеллигенции, которые «поставили себе задачу путем устройства вечеринок, чтения докладов и рефератов на соответственно подобранные темы из тенденциозной литературы подготовлять в среде молодежи и рабочих противоправительственных деятелей и агитаторов», как выражался министр внутренних дел.
«Нас в Териоках образовалась целая колония», — подумал он, усмехаясь.
Из Швеции в Петербург (слово «Санкт» давно и постоянно все опускали) через Териоки ввозились ящики, пакеты, корзины нелегальной газеты «Искра», журнала «Заря» и прочих изданий в том же духе. Подпольщики и подпольщицы проявляли невероятную изобретательность в бурной деятельности своей. Знал он двух романтических подпольщиц с близнечными кликухами-псевдонимами, напоминающими прозвища будущих люковок с Лиговки: Фаня Беленькая и Фаня Черненькая.
Через пару лет — этого он уже не узнал — «искровский» период подполья закончился, начался контрабандно-оружейный. В Териоки доставлялись винтовки, револьверы, динамит, была организована лаборатория для изготовления взрывчатых веществ и бомб. За одно только лето уже не наступившего для него 1906 года рабочие-боевики доставили в Петербург из Териок и Келломяк на лодках 800 ружей, 80 пудов динамита, 30 ящиков патронов.
У станции на бешеной скорости его обогнал самый любимый призрак: белокурая красавица за рулем блистательного белого кабриолета (она, в некотором роде, являлась призраком-предзнаменованием грядущего балетного номера социалистического Китая «Трактор обгоняет корову»).
Это была одна из тех женщин, которые возникли неизвестно откуда и исчезли неизвестно куда; она не походила ни на одну из его современниц, да и наши-то современницы, пытающиеся походить на них, будь то известная полуактриса, персонажи «Матрицы», Никитá и т. п. были только тенью бледной, пародией, не более того.
Те красавицы (с тонкими отрисованными бровями, молниеносным бликом из-под длинных ресниц, вампирской помадой на чуть поджатых губах, балетной выправкой движений) на разных широтах и долготах гоняли на лимузинах и гоночных авто, блистательно стреляли в тире, взмывали в небо. Вот садится маленький самолетик, к нему бегут, он всё еще новинка, техническое диво, все хотят видеть летчика, сняты шлем и очки, из авиетки спускается на землю прекрасная дама в кружевной блузке под кожаной курткою, прима-балерина в полу-брюках, полу-рейтузах, она закуривает длинную сигарету в экстравагантном мундштуке, отчаянная храбрость, затуманенный взор из-под ресниц, полупьяный, словно взбрело ей там, под облаками, вне общества чужих взглядов, нюхать кокаин.
Этих невероятных самоновейших женщин можно было застать перед зеркалом в глубокой задумчивости — какую выбрать помаду? какие духи подойдут к дождливому вечеру пятницы? взор тонул в зеркальной глубине, длинные пальцы крутили пуховку для пудры, купленную втридорога за тридевять земель неудачливым поклонником.
В застенках ГУЛАГовских тюрем сии богини невесть чего иногда являлись в роли следовательниц, и жестокость их была равна их неправдоподобной красоте.
Он был, как ни странно, совершенно очарован прекрасной автомобилисткою, проносившейся мимо, ни разу не взглянувшей на него. Она не походила ни на милых жен, ни на светских дам, ни на озабоченных подпольщиц, ни на простецких продавщиц, ни на вульгарных проституток его эпохи, эта белокурая бестия в облаке бензина, прозрачного шарфа и томительных колониальных духов.
Он давал ей разные имена при разных ее появлениях, называл ее Манон, Маргаритою, Эвелиною, Изольдой.
На самом деле ее звали Эмма, Эмма Вордстрем-Потоцкая. Вторая фамилия была девичья. Ее шведский муж, купив для нее известную дачу покойного архитектора Барановского «Замок Арфа» и белый лимузин, уехал в свою Швецию и, кажется, более ни «Арфою», ни женою не интересовался. Эмма колесила по прибрежной полосе Келломяк, Териок, Тюрисевя и далее по карте до Ваммельсуу; она гоняла машину на предельных скоростях, тем более, что ехать ей, в сущности, было некуда и не к кому. Равно как вышеупомянутой авиаторше летать и лететь. Впрочем, стремление летать — отдельная песня, «немногих добровольный крест» и, говорят, непреодолимей любой зависимости.
Привидение безымянной Эммы было для него символом какой-то жизни, которой он никогда не знал и не узнает, которая пролетала мимо него неостановимо и непонятно.
Как всегда, и в этот раз она исчезла за первым поворотом, не снижая скорости, направляясь куда-то.
А он возвращался в тихий уездный деревянный городок, где дачные дети играли в крокет и в серсо или носились с марлевыми сачками за бабочками, дамы плавно гуляли по променаду с омбрельками, революционеры мутили воду, влюбленные целовались, а на главной улице продавал в своей зеленной коричной лавочке татарин экзотические травы, и обменивались покупатель и продавец паролями да отзывами бытия:
— У вас есть розмарин и кин-дза-дза?
— Только тархун.
МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ
На дальней станции сойду...
ПесняМиллион алых роз
из окна видишь ты...
Шлягер«Форель»
Франц ШубертПсов звали Бубер и Лютер, кота — Финнеган.
Гусей и кур держали на соседнем заброшенном участке бывшего садоводства, куда внезапно приболевшие и моментально состарившиеся владельцы перестали приезжать. Гусыню звали Беридзе, гусака — Гогоберидзе, петуха — Шах. У кур имен большей частию не было, хозяин именовал их оптом «гаремом», впрочем, две любимые курочки хаживали поименованными: Коко и Муму.
— Муму — ведь это собачка, — сказала я.
— Это у Ивана Сергеевича собачка, — отвечал хозяин, — а у нас курочка.
Ночью домовой катался на следующих своей дорогой через вентиляционные летки фундамента чужих котах двух единственно обитаемых домишек садоводства. Иногда хозяйского мальчика будили непонятные шумы из-под пола. А чердачные мыши vulgaris мелкой беговней осыпали через щели между потолочными досками на полы второго низкого этажа шарики и крупинки утеплительного шлака и его угольно-черную пыль. Летучих мышей, некогда обитавших на чердаке, висевших там вниз головою в дневной спячке, давно извели малоумные привозные сезонные соседские проходящие коты, Финнеган отродясь их не трогал; а какая была красота, когда эти математические малютки с чернолайковыми перепончатыми заостренными крылышками вылетали в сумерки в причердачные воздушные пределы, повинуясь одним им локационно ведомым музыкальным интервалам, одна за одной, с паузами гауссовой кривой, чтобы на бреющем полете играть в ночных ласточек!
Вечерами шуршали в кустах и травах ежи, чьи семьи второе столетие соблюдали привычные маршруты и тропы.
На окраине сада хозяин завел фонарный столб для мотыльковых танцев, фонарь верхушки столба снабжен был выключателем на высоте роста ребенка, чтобы хозяйский сын вечерами, как начнут сходить на нет белые ночи, мог включать своих мотыльков.
Моя одноклассница, школьная подружка, дружила с сыном хозяев, ходили вместе в кружок; она и привезла меня в тот день впервые на его дачу.
Было воскресенье, народу на Финляндском толклось великое множество, мы еле втиснулись в готовый тронуться поезд и поехали. Пока мы ехали, вагонная толпа редела, и за Зеленогорском нам даже удалось сесть у окна. Привычная к сравнительно быстрым приездам (мои родители снимали комнатки с верандою то в Шувалове, то в Озерках, то в Дибунах), я удивлялась длительности поездки нашей. Наконец, подруга сказала: «Пошли в тамбур, на следующей выходим». Вагонный голос возгласил: «Следующая станция платформа Заходское. Выход из второго вагона».
Мы вышли на куцую маленькую платформу, и я остановилась в полном недоумении: ни вокзала, ни домов, ни людей.
— Ты ничего не путаешь? Какое-то нежилое место.
— А вот и нет, — отвечала подружка, — одно из самых жилых мест на свете.
И мы пошли через лес. Точнее, через бор.
— Тут не то что дороги, даже тропинки нет, — сказала я.
— Так ходим всякий раз мимо разных деревьев, чтобы тропинку не протаптывать и следов не оставлять, — отвечала она.
— Зачем?
— Шифруемся! — сказала весело и загадочно подруга моя. — Чтобы никто в королевство Спящей красавицы лишний раз не входил.
Мы шли и шли, часов у нас не было, мне казалось — идем по безлюдным лесам второй час; на самом деле путь занимал минут сорок пять, не дольше школьного урока.
Перед зарослями орешника подруга велела мне зажмуриться и дать ей руку. Мы ломились сквозь кусты, ветви хлестали по лицу и плечам. Потом кусты закончились, она сказала: «А теперь смотри».
И я открыла глаза.
Рельеф сада долгие годы был мне непонятен, я всегда пыталась восстановить его в памяти и не могла. Сад был одновременно холмом и оврагом, чашей и склоном (где пологим, а где почти отвесным).
— Это прибрежная впадина морского дна, — говорил хозяин. — Тут некогда, во времена динозавров, плескалось Литориновое море. И его обе прибрежные кромки, ранняя и поздняя, идут по обе стороны нынешней железной дороги на Выборг, одна обращена к заливу, другая к лесам, к самому верхнему шоссе.
— По правде говоря, — говорил хозяин, — холму и оврагу чуть-чуть подыграли люди с воображением.
— Вы себя имеете в виду? — спросила я.
— Нет, тех, кто строил тут почти сто лет назад виллы, дачи, усадьбы, коттеджный поселок.
Когда строились, от станции к оврагу-холму, пустой полосе между двумя лесами, ближним и дальним, вели две дороги: паровая и обычная конная; можно было привезти и увезти стройматериалы, мебель, вещи, приехать и уехать налегке, когда отстроились и появились обитатели и их гости.
Я открыла глаза, и пал мне на глазное дно сад.
Это было так неожиданно, такова была внезапность всплеска цвета и света после полутемного однообразия бора, что я ахнула, вскрикнула, что очень обрадовало и развеселило подружку.
— На этом месте, — сказала она, — все что-нибудь вскрикивают, кто ах, кто ох, кто ой; а моя тетушка воскликнула: «Ахти мне!» — хотя была женщина совершенно городская, глубоко урбанистическая, и никогда доселе так не выражалась.
Не только рельеф, но и размер парадиза был мне неясен. Изнутри сад оказывался больше, чем снаружи, ботаничен, бесконечно велик. А снаружи в первую минуту казался он какой-то единой охапкою цветов, почти букетом.
Главными героинями букета были розы.
Иногда представлялось мне, что от оттенков алого, красного, багряного, винного, пурпурного, рдяного, малинового, шарлахового, розового, белого (то снежного, то визионерского), чайного, желтого, абрикосового, а также от смешения ароматов над купами розария, словно над костром, дрожит воздух.
На закате чаша сада уходила в тень, освещалась только часть склона холма у дома да начинали пылать вечерней камедью верхушки стволов на кромке дальнего леса.
Прежде думала я, что место розария на юге, на востоке, в Крыму, в Пятигорске, в Испании, в Италии, в Хорезме, в Бухаре, а вот поди ж ты — северо-западный карельский Гюлистан!
Хотя доходили слухи, что ссыльные кулаки за Мурманском, за Архангельском выращивали дыни да арбузы (должно быть, сорт мелких сибирских), — дело мастера боится. На местных широтах в середине двадцатого века бытовала другая поговорка: ты, работа, нас не бойся, мы тебя не тронем.
В отличие от безымянных беспаспортных кур все розы носили имена.
— Сколько же тут сортов?
— Больше ста.
Потом, позже, когда моя школьная подружка и хозяйский сын выросли и поженились, сортов стало «больше ста пятидесяти».
Разумеется, запомнить имя каждой розы я не могла, но некоторые имена помнила и повторяла. Вот первую с края, например, хозяйка звала Магдалиной, а хозяин — Мадлен. За ММ по правую сторону тропинки от крыльца сбегали по склону Королева Маб, Роза Ругоза, Айсберг, Шопен, Фламинго, Фламентанц, Николо Паганини. Тогда как по левую чинно спускались, дабы образовать лужок ближе к крошечному пруду, финские розы, Король Артур, Соледад Реалес, Анна-Мария Росалес, Лангедок, Лили Марлен, Баркарола, Амадеус, Гейдельберг, Гранд Амур, Карамель, Розмари, Бенгали, Королева Астрид, Амулет, Гете, Баккара, роза Чайковский, розы Патио.
— Откуда вы их берете? — спрашивала я.
— Разного они происхождения, — отвечала хозяйка. — По остаткам садов близлежащих вилл и усадеб собирали, некоторые уж одичали совсем, покупали на садоводческих самостийных рынках, друзья отростки дарили, когда и розы из дареных букетов в землю втыкали, а они на удивление приживались, укоренялись, превращались в кусты. Из поездок и путешествий своих и чужих. Анна Мария Росалес с юга, из Крыма, Радамес из Брянска, Король Артур родом из Латвии, а Бригитта из Финляндии.
После первого приезда отправились мы домой с огромным букетом в корзинке («Чтобы не укололись, шипы всегда наготове», — сказала хозяйка), и едва вошли мы в вагон, как наполнилось его немудрящее пространство волшебным, моментально завоевавшим всё и вся, ароматом.
С того момента стали мы возвращаться в Заходское несколько раз за лето. Иногда случалось нам там ночевать. Собаки Бубер и Лютер встречали нас, виляя хвостами, Финнеган поощрительно мурлыкал, благосклонно позволяя гладить шелковую шерстку свою.
— Мне так жаль той жизни, которая тут была, — говорил хозяин. — Которую уничтожили войны и смуты. Мне жаль Лоунатьоки и всех, кто тут обитал, и всех вилл, домов, церквей, озерных лодок.
— Человек не должен цепляться за прошлое, — отвечала хозяйка, — всё устаревшее должно рассыпаться в прах и позволить новому придти ему на смену.
— Ты неправа. Войны не избавляют нас от устаревшего. Они пожирают всё новое, лучшее, жизнеспособное, и отбрасывают нас к диким ветхим доветхозаветным временам. Война — это варварский тиран Ашшурбанапал.
— Вам нравится песня «Миллион алых роз»?
— Нет.
— Почему?
— Да почему миллион? Кто их считает? Словечко тех, кто мечтает стать миллионером. Деньги мертвое дело. А роза живая, расцветает из бутона, вянет в букете, осыпается лепестками, осыпая ими сад. Сад становится подобен римскому триумфатору и плывет по лепесткам, слушая грохот августовской колесницы пророка-громовника Илии. И, кстати, эти новые дома куда старее прежних, люди разучились строить, беречь в доме тепло, натуральные чевенгурцы, их постройки точно пародии.
— Кто такие чевенгурцы?
— Люди из несуществующего Чевенгура.
Не спросив о Чевенгуре, хозяйка пожала плечами и пошла к выходу.
— Подожди, — сказал ей хозяин, — подожди, постой. Помнишь, мы говорили о том, что всё лучшее, что тут выросло и отстроилось, уничтожили смуты и войны? Но ведь не всё. Вот сад наш стоит, как воспоминание о прежних садах и будущих — да он даже лучше! В той части реки, там в лесу, где она превращается в ручей, по-прежнему плещется форель, а ведь остальные ручьи нашей части перешейка давно забыли этот плеск. И в донных жемчужницах ручья еще можно найти жемчуга. А от всех вилл и дач осталась в лесу старая усадьба из сказки.
Она улыбнулась и вышла.
— И разве не снятся нам иногда, — сказал он ей вслед, — представления тогдашнего здешнего давно разрушенного театра, на которых бывал приезжавший с Черной речки писатель Леонид Андреев? К тому времени, кстати, у него уже родился сын Даниил, которому предстояло вырасти, отсидеть ни за что ни про что в лагере и написать там книгу «Роза мира»...
Мы ходили с хозяйским сыном во второй бор, где в прозрачной воде плескалась форель в речке-ручье, все свойства и превращения этой живой воды представлялись мне таинственными. Многие вещи, совершенно понятные в детстве, в подростковом возрасте обретали неясность. Маленькой, мне внятны, ясны и родственны были и реки, и ручьи. А потом стала я задаваться вопросами: откуда берется река? куда она течет и почему? и отчего не растекается, а держится, словно она из ртути, в русле своем, в берегах?
Мы с подружкой получили в подарок по жемчужинке из переименованной речки, речной скатный жемчуг, его добывали по всей России, нашивали на кокошники, пронизи, собирали в ожерелья. Куда потом делась моя жемчужинка? Куда деваются мелкие прекрасные предметцы наших детских лет?
Когда оставались мы ночевать в набравшем тьму августе, в окно смотрели звезды.
Занавески были коротенькие, не шторы, в верхней части окон ночью среди ветвей повисали их светящиеся шары.
То ли легкий ветер колыхал ветви, то ли полупрозрачные облака время от времени скрывали разные участки небес, то ли я ухитрялась уснуть на мгновение, но казалось, что звезды в движении, качаются и кружат, целая эскадрилья НЛО плывет к нам из неведомых миров с их путешествующими обитателями; я даже выходила, крадучись, из дома посмотреть вверх, звезды были как звезды; но яркие, большие, точно на юге. Возвращаясь, я подумала: а ведь рождественская ель, если глянуть изнутри, словно бы облеплена космическими светилами Вечности с Вифлеемской на верхушке.
Мы шли во второй бор в усадьбу, которую хозяин называл виллой.
— А чья это была вилла?
— Мама почему-то думает, что ее хозяином был Баланчивадзе.
— Фамилия знакомая.
— Один из его сыновей, когда вырос, уехал за границу, стал великим балетмейстером Баланчиным, основал балет Америки, а заодно весь современный балет. Но папе кажется, что это была дача профессора Кипарского, а мама путает потому, что Кипарский жил, так же как Баланчивадзе, с двумя сыновьями.
— Кипарский? — спросила я. — Одна замечательная женщина, почти родственница друзей моих родителей, француженка, была замужем — до войны — за человеком по фамилии Кипарский. Ведь это редкая фамилия.
— Папе про Кипарского рассказывал один краевед. А потом мы про него прочли в бумагах с усадебного чердака. Мы нашли на чердаке сложенные в коробку записки, письма и листочки, должно быть, приготовленные на растопку. Там был еще альбом одной из тогдашних барышень, стихи, пожелания, картинки наклееные с цветочками да ангелочками. Это всё у нас дома, потом покажу.
На листочках для растопки большой кочегарки эпохи были счета (каждодневные покупки продуктов, перечни, цены, хлеб столько-то копеек, морковь столько-то; стройматериалы-доски, бревна, гвозди, горбыль, щебенка; саженцы, рассада, семена). Люди были хозяйственные, считали копейки и рубли. Попадались вырванные листки дневников, черновики писем. На одном из листков прочла я, что Рене Кипарский привез на дачу, чтобы познакомить с отцом, свою невесту, молоденькую француженку по имени Маргарита-Мария, и собирался преподнести ей коробочку с жемчужинками, найденными в ручье-реке, да раздумал, решил отвезти ювелиру, прикупить несколько сапфиров, заказать брошь и кольцо.
— Вот! — вскричала я. — Знакомую француженку, с которой начала заниматься французским и я, зовут Маргарита!
— «Маргарита», — сказал мальчик, — это и есть «жемчужина». Так ты знаешь французский?
— Пока учу.
Потом мы поменяли квартиру, переехали, съехались со старой маминой тетушкой, на занятия стало ездить далеко, к моему сожалению кончились уроки французского, визиты в чудесный дом модерн на Кирочной 24, поменялась и школа, мы стали видеться с подружкой всё реже, расстались почти невольно. В квартире, где обитала француженка, уютной, большие комнаты, большая кухня с длинным балконом, жили ее деверь, падчерица с сыном Сашей Кипарским, чуть младше меня, и коммунальная соседка, мать-одиночка с маленьким ребенком. В фарфоровых больших вазах в комнате madame Маргариты-Марии стояли букеты сухих цветов, цветные, она сушила цветы, подвешивая их к люстре, и сухие растения не теряли цвета, розы оставались алыми, незабудки яркими небесно-голубыми. Однажды я слышала, как коммунальная соседка шепотом рассказывала своей гостье, как ей страшно, когда призраки обоих мужей француженки, и Кипарского, и Рыдзевского (упавшего во время блокады в люк, и после ушибов и падения переставший сопротивляться голоду и холоду), сидят на длинном кухонном балконе под навесом балкона над ними в плетеных креслах, не видя друг друга). Однажды учительница французского взяла меня с собой в костел на Ковенский переулок, она любила гулять с учениками, своих детей у нее не случилось. В тот же костел ходил и ее деверь, но он предпочитал сумеречный час между собакой и волком, пробирался втянув голову в плечи, озираясь, крадучись, этот старичок был перепуган до конца дней своих войнами, репрессиями, бедствиями, всем доставшимся на его долю двадцатым веком.
Что до виллы-усадьбы Кипарского ли, Баланчивадзе, была она пуста, в окнах ни стеклышка, затянуты полупрозрачной парниковой пленкой.
— Это отец так окна заколотил, чтобы снег не летел в комнаты.
В комнатах встречали нас одни кафельные печи и камины, а при входе — огромное кожаное старинное кресло.
На шпиле островерхой башенки красовался затейливый флажок флюгера.
— Он скрипит, когда ветер, — сказал мальчик, — и кажется, что домовой всё еще живет в доме и ждет.
Почти семь лет спустя, уже после школы и института, оказалась я снова в Заходском. Моя школьная подружка и хозяйский мальчик выросли и поженились, хозяйка овдовела, вместо Бубера и Лютера сидели у порога два фокстерьера, Финнегана сменил рыжий Сверчок. А сад цвел изо всех сил, был по-прежнему полон роз, переплетались его тропки, на поворотах у ног цвела всякая мелочь в тенях флоксов и астильб. Молодожены были счастливы. Хозяйка улыбалась мне, но улыбка ее стала иной. Сын и невестка помогали ей ухаживать за садом.
И снова на долгие годы обстоятельства и суета развели нас.
Я ехала к двоюродному брату, строившемуся под Выборгом, и, повинуясь внезапному движению чувств, неожиданно для самой себя вышла в Заходском.
За тропами бора, за поворотом, за кустами вместо причудливого пространства цветущих роз меня ждал огораживающий место, где цвели они прежде, высоченный уродливый глухой забор. Там, где раньше стоял дом, красовалось самоновейшее строение, сияющее белизною, играющее хитроумными объемами, с огромными окнами, увенчанное черепичной крышею с затейливой башенкой.
Недолго думая, я нажала кнопку звонка у калитки. Мрачный человек в темном открыл мне, оценивающе оглядел меня, нищебродку, с ног до головы, и спросил: «Вам назначено?» — «Нет, — отвечала я, — я знакомая прежних хозяев, давно тут не была и надеялась увидеть их, а не вас». — «Прежних не знаю, а нынешний хозяин отъехал с гостями на озера дроны запускать». От самоновейших людей частенько можно было услышать «отъехал» вместо «уехал» и «присядьте» вместо «садитесь», намекающие на краткость отъезда, а не убытие в заграничную резиденцию, и сидение на стуле вместо отсидки в тюрьме. После недолгой паузы я спросила: «А розы еще цветут?» — «У старых хозяев, — отвечал мрачный привратник в черном, видимо, охранник, — в холодную бесснежную зиму почти все розы вымерзли. Поэтому они отсюда и съехали. Вот наши новые розы цветут». Он подумал и надумал: «Заходите, посмотрите, только недолго, у нас не принято пускать... незнакомых». Вместо «незнакомых» он хотел сказать «кого попало».
Главный цвет теперь был не розово-алый, а зеленый, зелень футбольно-гольфовых газонных лужаек. Мощеные плиткой дорожки, обрамленные низкими столбиками со стеклянными фонарными шарами. Забежная лестница в особнячок. Возле дома, на разных участках газона, а также за белыми ажурными металлическими скамейками исправно цвели купы белых и красных роз. Их подстригал и опрыскивал человек в длинном фартуке, видимо, садовник. Женщина в фартучке покороче и поэлегантней, должно быть, кухарка или домработница, накрывала на стол, стол и стулья, бамбуковые либо ротанговые, стояли на лужайке, обрамленной лилиями, обложенной валунами, убогое чудо ландшафтного дизайна, между тремя заключительными каменюками веселился маленький фонтан.
— Собак держите? — спросила я.
— Собак с собой взяли.
— Спасибо, — сказала я. — Вы были очень любезны. Откройте мне калитку.
— Подождите, — сказал он, отправился к садовнику и вернулся с красной розой.
— У нас традиция, — сказал он, — посещающим и гостям розочку дарить. Не бойтесь, берите, это сорт без шипов.
Роза была большая, прекрасная, совершенно ненатуральная; сидя у окна электрички я понюхала ее — запах еле слышен, почти привидение отдушки. И я вспомнила, как вошли мы с подругою в давнишний старенький вагон с деревянными скамьями вместо нынешних пухлых кожемитовых диванчиков, — и весь вагон залило волной аромата нашей охапки роз, букета размером с маленький куст. «Интересно, — думала я, — а у этой ненатуральной красотки есть ли имя?» И, глядя в окно, стала я вспоминать имена и псевдонимы тех, прежних, пропавших, как прошлогодние снега: Анна-Мария Росалес, Радамес, Бригитта Финская, Король Артур Латвийский, Лангедок, Ланселот, Королева Маб, Иверия, Рафаэлло.
Я чуть не проехала свою остановку, выскочила на перрон через начавшие закрываться двери с безымянной красной розой без запаха в руке и с именем благоуханной алой, стоявшей у несуществующего крыльца и открывавшей путь в пропавший сад на губах, я выкрикнула его перрону, точно пароль, под шум уносящейся вдаль за моей спиной электрички: «Мадлен-Магдалина!»
— Кого это ты призываешь, кузина? — улыбнулся мне встречающий меня кузен.
— Какое совпадение! — сказала жена его. — Мы сегодня утром поехали врозь, так получилось, он на машине, я на электричке. Рядом со мной сидели супруги примерно нашего возраста, они везли в больших челночных клетчатых сумках два ведра. Точнее, две бадьи разных роз. Букеты? спросила я. Купили или продаете? Это кусты, мы их посадим; мы принялись за старое, сказал муж, мы решили начать все с начала, сказала жена. У них когда-то был сад, которого они лишились навсегда, и вот, оказавшись случайно на садоводческой выставке, они не удержались, на все деньги накупили, у нас участок маленький, далеко, домишко с горсточку, вот везем, посадим. Заговорили о сортах роз, и перед тем, как мне выйти, они заспорили, как называется алая роза в центре бадьи, стоявшей у ног мужа: Магдалина или Мадлен.
— А на какую станцию они ехали?
— Не знаю, я не спросила.
КУКОЛЬНИК
Когда кукольник просыпался презлющий и без завтрака запирался в каморке, служившей ему мастерскою, жена его знала: он придумал новую куклу, дал ей имя, вырезает ее из дерева или из древоподобного пенопласта, одевает в придуманное специально для нее одеяние, спешит, не знает, выйдет ли кукла, озабочен незавершенным творением своим.
В молодости был он художником-живописцем, потом стал оформлять витрины, в какой-то момент в витринах появились презанятные фигурки, то был его личный почерк, визитная карточка, его постоянно стали приглашать магазины, театры и гостиницы.
Но с недавних пор оставил он все заказы, задумал сотворить шопку, театрик к Рождеству, небольшой вертеп, не просто с рождественским сюжетом, а со своей авторской пьесою. Куклы приходили ему на ум одна за другой, он исполнял своих маленьких персонажей с блеском, а вот пиеса на ум не шла, он себе даже представить не мог, что может объединять такую странную разношерстную кукольную компанию. Это его раздражало изрядно, он срывал свое дурное настроение на любимой и любящей жене, привыкшей в итоге к его приступам и срывам, хотя жизни они не украшали, оставалось только терпеть, ждать спектакля, то есть, Рождества, приближавшегося с каждым днем.
Список уже готовых, сидящих на полках, кукол висел на двери каморки. Идеально четким почерком художника кукольник написал на осьмушке ватмановского листа (именуемого на компьютерно-копировальном жаргоне А4):
Циперус и Папирус, братья-близнецы
Зеравшан, восточный принц
Дон Полкан и Дон Барбос, женихи
Злодей
Либерман, сапожник
Лизочек, царевна
Выйдя, наконец, в превеселом расположении духа на кухню, служившую супругам столовою, кукольник принялся за салат, яичницу и сок из сельдерея, предварительно приписав новое действующее лицо в конце списка. Пока он завтракал, жена, полюбопытствовав, прочитала:
Мышь Мышильда Крысинская, няня царевны
— Сколько всего будет персонажей? — спросила она.
— Не знаю точно, то ли двенадцать, то ли четырнадцать.
— Слишком много действующих лиц.
— Дело в том, что они не действующие.
— А Злодей — один из главных?
— Нет, он входит в самом конце пьесы и тут же выходит. Но если честно, пьесы всё еще нет. Куклы возникают спонтанно друг за другом, и я не знаю, какую-такую свою линию они гнут. Они морочат мне голову.
— А Дон Полкан и Дон Барбос — собаки?
— Ты разве их не видела? Пойди посмотри. Выглядят как три тенора, но на самом деле они два баритона.
— Я их видела, но не знала, что их так звать.
— Не пора ли тебе в магазин?
— У меня всё есть для обеда и ужина.
— Купи деревянную дощечку, нитки, веревку натуральную и детский набор для игры в столяра.
— Это для будущей куклы?
— Нет, для мыши, ей нужна прялка, веретено, пряжа и коловорот.
— А зачем коловорот?
— Что ты всё меня допрашиваешь? Какая ты любопытная. Всюду нос суешь. Мышь будет сверлить дырочки в сыре.
— Для чего?
— Для красоты. Иди уже.
Несколько дней был он занят изготовлением прялки, которая вышла пресимпатичная, с веретенца до скамеечки. Да и пряжа хоть куда, хотя за нитками и красками то для шерсти, то для льна, то для синтетики сгонял кукольник жену не единожды, ругался, что цвета не те, как это так, ты ведь тот же художественный институт закончила, что и я, не страдаешь же ты дальтонизмом.
— Я с другого факультета, — отвечала она, сдерживая слезы и удаляясь на кухню, — к тому же женщины дальтонизмом не страдают.
— Они страдают идиотизмом и дурацкой манерой огрызаться.
На этом грохнул он дверью каморки, но вскоре вышел в комнату, оделся и убыл погулять.
Несколько дней он не работал, какая-то остановка случилась у него в возникновении следующего персонажа пока не имевшей сюжета будущей пьесы. Всё ему не нравилось, всё было не мило, жена готовила какую-то гадость, погода стояла отвратительная, жизнь не удалась. Ночами не мог он уснуть, жена переехала спать на кухонный диван, он гонял ее в библиотеку за книгами, зачем-то понадобившимися, но и книги она приносила не те, и она слышала, как он швырял их с кровати в угол комнаты.
Наконец, в благословенный четверг заперся он в каморке, вышел через три часа с полуулыбкою и послал ее в три универмага: в Гостиный двор, в Детский мир на Московском проспекте и к Нарвским воротам.
— Мне нужна шарманка.
— Какая шарманка?
— Детская, само собой.
— А если их нет в продаже?
— Езжай на блошиный толчок в Удельную.
Две принесенных ею шарманки он забраковал, третью купила она у торговавшей всякой ахинеей у Кузнечного рынка старушки.
— Послушай, — сказала она, — давай пойдем в музей музыкальных инструментов. Еще я слышала, что на Петроградской старый клоун держит частный музей граммофонов, кажется, там и шарманки есть.
Он повеселел.
— Вот если захочешь, мозгами шевельнешь, другой раз что дельное предложишь.
— А кто будет с шарманкой?
— Конечно, Шарманщик.
— С сурком?
Она знала его любимую картину Ватто.
— Пока без сурка.
Через три дня к списку действующих лиц добавил кукольник Шарманщика.
На излете осени за Шарманщиком возник сперва в воображении кукольника, а потом, материализовавшись, на полке в каморке предпоследний, как позже выяснилось, в списке на двери китайский мудрец Чан Су Ши. Он очень понравился жене мастера (она иногда так его называла, но не в точности как в знаменитом романе, а на свой лад: «маэстро», говорила она). Китайский мудрец наряжен был то ли в хламиду, то ли в халат, в одеяние, короче говоря, из мешковины. На голове его красовалась суконная шапка, напоминающая треух, а в руке мудрец держал посох, на верху коего сверкала рождественская Вифлеемская шестиконечная звезда, усыпанная приклееными стразами из дешевых украшений, разноцветными стеклышками из рассыпанного калейдоскопа и стеклярусом со стразом Сваровски в центре, из-за чего мудрец напоминал волхва, то ли заплутавшего, то ли зашедшего по пути в Вифлеем отдохнуть в полудворец-полухижину царевны Лизочка.
Кукольник долго изводил жену библиотечными поисками одежд древних китайцев, всё не годилось, сплошная Япония Хокусаи и Хиросигэ или произведения Ци Бай Ши, где только реки, скалы, деревья, птицы, — безлюдье. Наконец, потеряв последние силы и всякое терпение, принесла она несколько иллюстрированных детективов о судье Ди, и это оказалось, эврика, то, что нужно.
Последний персонаж, вышедший из рук кукольника, означен был в конце списка действующих (или всё же не действующих?) лиц как Птичка Гоголь, маленький Янус, одно личико птички с большим клювом, другое — бородатого мужичка средних лет. Жена от восторга даже руками всплеснула самым театральным образом.
А пьеса всё еще не была ни придумана, ни написана.
— Не понимаю, как эту команду объединить в единое целое. Скоро зима, Рождество не за горами. Не знаю, что и делать. Такая неудача.
— Ты ведь не драматург, — сказала, желая его утешить, жена, — да и не писатель.
Он разгневался.
— Черт побери! Никогда никакой поддержки от баб не жди!
И, хлопнув дверью, ушел гулять по Невскому, это в такой-то день ненастный.
«Вот и дочь такова, — думал он, упорно гуляя, хотя оделся слишком легко и успел замерзнуть как собака, — вся в маменьку, лишний раз позвонить лень, писем не пишет вообще, у нас, видите ли, компьютера нет».
Их дочь, вышедшая замуж за иностранца, давно жила за границею, звонила редко, приезжала на три дня раз в семь лет. Характером она была вот как раз в отца, и он дивился, что кроткий иностранец терпит безропотно ее фокусы, перепады настроений и острый язычок.
Жена, пока он гулял, успела всплакнуть, сходить в магазин, сготовить обед и помыть пол.
Персонажи безмолвно пребывали на полках, делать было нечего, и он принялся за вертеп, сам театрик с декорацией, очень этим увлекся, даже пребывал в радости и прекрасном настроении, как всегда, когда была работа и всё получалось.
Долго выбирал он, из чего сделать вертеп: из дощечек, но они придали бы лишнюю тяжесть, из тонкой фанеры, из толстого картона, может, даже из целиковой картонной коробки, присмотренной им в одном из магазинов на Сенной, или из листового пенопласта. Справившись с этим — а вертепу традиционно предстояло стать переносным, хотя из-за толпы кукол был он не так уж и мал, — стал он подыскивать, из чего бы вырезать центральный предмет единственной на весь спектакль декорации, колыбель царевны Лизочек, подвешенную по центру к потолку. Встретив случайно в лавочке ротанговой мебели зашедшего туда, так же, как кукольник, полюбопытствовать, прибалтийского мебельщика-одиночку, изготовлявшего уникальные изделия свои из капа, сперва пригласил он заезжего человека в гости, показал ему работы свои, а потом получил от него в подарок кусок капа для колыбельки и адрес каповщика, по которому пообещал выслать ему несколько эскизов декора табуреток, кресел да садовых стульев, что и исполнил не без удовольствия до первого снега.
К третьему снегу вертеп был готов совершенно, колыбелька царевны походила и на раковину, и на скорлупку большого волшебного ореха Кракатука, кое-где была позолочена полиамидным игрушечным золотом, занавес сшит из старого плюшевого жениного пиджачка, вместо софит приспособлены три фонарика.
Подобрали старинную музыку для видавшего виды устаревшего кассетника. Однако, текст упорно не возникал, а Рождество приближалось всё быстрее, отрывной календарь опадал неумолимо.
Кукольник перестал тихо притворять двери, шарахал ими всякий раз всердцах, аж посуда на кухне звенела, к жене придирался ежедневно, та устала вконец от бессонницы, сожалений о собственной странной жизни, воспоминаний о тех годах, когда кукольник был просто художником и выпивал перманентно, а также от зачастившихся ночных кошмаров, в которых садилась она в вечерний неостановимый автобус, увозивший ее мимо дома на страшные окраины, дом не находился, приходилось плутать то по Новгороду Великому, то по Москве, в парадных лишенные дверей лифты застревали между этажами, в квартиру вламывались воры и прочие разбойники и т. д., и т. п., не зря она постоянно читала детективы всех стран и народов, теперь решившие лишить ее тихих сновидений.
В ночь перед Рождеством она внезапно уснула рано на своем кухонном диване подле стоявшего в углу на низком древнем буфете вертепа.
Ее разбудила тихая музыка, взявшаяся неизвестно откуда, и маленькие незнакомые голоса.
— Если он не может написать пьесу, мы ее разыграем сами, не будь я Мышильда Крысинская.
Она села на диване, плюшевый занавес вертепа отворил волшебное невеликое пространство, куклы были на сцене.
Все заняты своим делом. Мышь за прялкой, временами перестает крутить веретено, сверлит дырочки в сыре, ей помогает Птичка Гоголь. Либерман тачает башмак. Циперус и Папирус просматривают свитки. Входит Шарманщик.
Мышь. Ты кто?
Шарманщик. Я Шарманщик.
Мышь. А где твоя шарманка?
На этой реплике, не замеченный женою, в бесшумных тапках своих вошел на кухню кукольник и, огорошенный, сел на табуретку.
Шарманщик. Ой, я ее забыл! Пойду принесу. (Уходит.)
Циперус и Папирус (дуэтом). Я хочу жениться на царевне Лизочек.
Мышь. Но вас двое.
Циперус и Папирус (дуэтом). Зато мы почти одинаковые. Кого выберет, за того и замуж пойдет.
В колыбельке распахивается окошечко и тут же захлопывается.
Мышь. Сами видите, она вам отказала.
Циперус и Папирус (дуэтом). Вот, пролетели, как фанера над Парижем. (Уходят.)
Либерман(выходя на авансцену). Я, свободный человек, холодный сапожник Либерман, хочу предложить руку и сердце царевне Лизочек, каждый день тачать ей новые сапожки, босоножки, туфельки, балетки, сандалетки, лабутены, башмачки и тапочки.
Мышь. Она ведь не сороконожка.
Либерман. Девушки любят разнообразие и новую обувь. А люди вечно стаптывают старую, но не желают ходить босиком. Поэтому у меня всегда есть работа. Мне с моей женою не грозит нищета.
Мышь. Она царевна, наследница страны и казны.
Либерман. Любой дурак знает, что казна пуста, а в стране осень.
В колыбельке распахивается окошечко и тут же захлопывается.
Мышь. Царевна Лизочек за вас замуж не пойдет.
Либерман. Горе мне, горе! (Уходит.)
Входят Дон Полкан и Дон Барбос.
Дон Полкан. Я первый баритон мира.
Дон Барбос. Я первый баритон мира.
Мышь. Должно быть, кто-то из вас второй?
Дон Полкан. Мы оба первые.
Мышь. И вы хотите нам спеть?
Дон Барбос. Я хочу жениться на царевне Лизочек.
Дон Полкан. Я тоже.
Мышь. Вы думаете, она выберет одного из вас?
Дон Полкан(поет).
Царевна Лизочек, услышь меня разочек, будь мне невестой с этого дня!Дон Барбос(поет).
А замуж, а замуж, а замуж выходи за меня!Дон Полкан. Я могу на ней жениться, потом развестись, и на ней женится он.
Дон Барбос. Я согласен.
Мышь. Зато она не согласна. Жениться надо раз и навсегда. Идите и пойте в другом месте.
Дон Барбос(поет).
Увы, увы!Дон Полкан(поет).
Своего счастья не поняли вы!Уходят.
Входит Зеравшан.
Зеравшан. Я пришел с дарами. Вот хроноскоп с НЛО из Минусинска, вот фисташковое ожерелье из Самарканда, а вот лал из Альгамбры. Хочу жениться, прошу руки принцессы Лизочек.
Из-под земли появляется китайский мудрец Чан Су Ши.
Чан Су Ши. А как же подвиги? Ты забыл, что тебе пора в родные горы к родным подвигам? Ты опаздываешь.
Зеравшан. Чуть не опоздал! Пора, пора! Дары примите, женитьба откладывается. Где мой ковер-самолет?
Чан Су Ши. Возьми мой запасной половичок.
Улетают.
Входит Злодей. Он великолепен. Он показывает сначала левую ногу, на ней кроссовка с золотыми крылышками, потом правую, на ней альпийский ботинок.
Злодей. Май бест лег. То есть фиг. То есть фут. Это английская поговорка. Я великолепен. Все отвалите. Я хочу жениться на царевне Лизочек!
Гром и молния.
Появляются все персонажи.
Все(хором). Да пропади ты!
Мышь. Провались!
Злодей проваливается.
Стук в дверь.
Мышь. Кто-то хочет войти.
Из колыбельки появляется царевна Лизочек. Она прекрасна как все царевны и принцессы мира, как Пирлипат и Турандот.
Входит царевич Тимофей и женится на царевне.
Все хором поют гамму.
Все. До, ре, ми, фа, соль, ля, си! Bis, bis.
Птичка Гоголь. До!
Входит шарманщик с шарманкой.
Шарманщик. А вот и я!
Он крутит ручку шарманки и поет:
Мой Лизочек так уж мал, так уж мал...Все танцуют и подпевают.
Занавес падает.
— Теперь их на сцене тринадцать, — говорит кукольник. — Так не должно быть.
— Ты не прочитал, что приписано на листке на двери твоей каморки.
Он читает ремарку, которую написала она карандашом, робко, в конце листка:
«Чтобы в пьесе было двенадцать кукол, а не тринадцать, считать Циперуса и Папируса одним персонажем, они говорят вдвоем одно и то же, к тому же они близнецы».
В списке женихов тем же карандашом добавлено:
Царевич Тимофей
— И откуда взялся царевич Тимофей, скажи на милость? Да еще лоскутный и тряпочный.
— Я его сшила вчера после полуночи, — тихо отвечала жена кукольника, — чтобы в ночь перед Рождеством мне не снились дурные сны.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ С СЕНТЯБРЯ ПО МАЙ
— Кастанья Мария Гонсалес Секундино Обис! Де Сантис! Астуриас! Турки! Турин! Тори! Торичеллиева пустота! Я турок, турок!
Этот старый попугай всем врал, что он турок, а некоторым врал, что он испанец; на самом деле он был чистокровный еврей. Что, конечно, вполне отвечало его баснословной способности повторять, запоминать и трактовать всё подряд на любом наречии, включая зулусский, ничего толком не понимая; каковая способность придавала ему необыкновенный шарм и, несомненно, являлась оригинальным свойством. От себя лично он только и врал, что он, мол, турок. Впрочем, иногда он врал, что он цыган. Остальное всё было почерпнуто из разных источников. Поскольку попугай был почти вечный, попадались тексты времен альгамбрских арабов.
Зато мопс Марточка ничуть не преувеличивала свое китайское происхождение, однако не могла воспроизвести по причине плохой памяти название своей породы; помнила только, что в названии три буквы, а вторая буква «у» — как в кроссворде.
Подзаборный звал ее не иначе как «сука косоглазая», разумеется, с националистической колокольни, поскольку, хотя Марточка сукой являлась взаправду, глазки у нее были круглые и так и лезли из орбит; и Подзаборный тут уж явно выходил из берегов реалистического восприятия действительности. Сам же он постоянно подчеркивал, что он — Подзаборный, очень этим гордился, словно бы некоей народинкой, но поскольку с двухнедельного возраста был изъят из-под соответствующего забора и с тех пор являлся хозяйским котом; его помоечность тоже была как бы переносная, то есть такой же свистеж как туречество или цыганщина попугая.
Зато наглый черный Ворон постоянно утверждал, что он грек, безо всяких на то оснований, с единственным желанием подражать Попугаю, примазаться и позлить Подзаборного.
— Нет, я ггек, ггек! — кричал он. — Вы только посмотрите на мой пгофиль!
На самом деле Ворон был вылетец из Тверской губернии, таскал блестящее наподобие сороки, пытался разговаривать по-человечески, знал даже строки из песен и некоторые матерные выражения. Кроме того, он виртуозно мурлыкал, немножко блеял и иногда скрипел.
— Фагмазон! — кричал он Подзаборному. — Фигляг! Мур-р, мур-р!
Мурлыча, он переставал грассировать.
— Заткнись, ворюга! — шипел Подзаборный.
Обезьянка из угла, страдальчески глядя в окно с серой стеной и серым небом, грызла грушу. Обезьянку звали Чита. Подзаборный добавлял к имени эпитет «чернозадая»: он считал ее негритянкой, африканкой и родственницей людям — и ненавидел. Впрочем, Подзаборный ненавидел всех.
Зато все дружно ненавидели лису из-под обезьянки, потому что из клетки лисы вечно воняло, а все были нервные, нежные и с повышенным обонянием, а также с проявлениями госпитализмов.
Дети особо оберегали дикобраза, чтобы его не разодрали на сувениры во время прогулок перед универсамом и во время экскурсий в живой уголок. А живший под дикобразом еж считал его выродком, проклятым аристократом и огромным ублюдком.
— Даже в шарик свернуться не может, — говорил еж про дикобраза с величайшим презрением.
Попугай и Ворон, как существа знающие, называли ежа и дикобраза «свиньи».
— Свинья гладка! — возразил им однажды Щегол. — Свинья розова! Свинья бела!
— Это небгитые свиньи, — сказал Ворон.
— Сам ты немытый попугай, — сказал еж, фыркнув. — Черный Ворон.
— Тю-тю-тю-тю! Чики-чики-чики, фью! — залилась в своей клетке канарейка Катенька.
— Ой, ой, аж уши заложило! — залаяла Марточка. — Да замолчишь ли ты, низшая раса?!
— Я высшая, высшая! — пела Катенька. — Летаю! Бескрылые твари! Летаю! Фью! Чи-вирр!
В этот момент толпой вошли дети мыть цветы, и все замолчали. Дети мыли листья мылом, посыпали табачной крошкой тлю и прыскали стебли дрянью; это были цветочные дети, сплошь девочки, — не те, которые кормили животных и птиц. У звериных и птичьих детей среди девочек был мальчик Гоша. После ухода цветочных детей от взвеси дряни и табака начиналась крапивница и приступы удушья.
Цветочные дети питали слабость к Чите и всегда ей что-нибудь приносили. И на этот раз Чите дали банан и зеркальце.
«Где справедливость? — подумал Подзаборный зевая. — Всё для чернозадых».
— Я! я! я! я! — лаяла лиса; она очень скучала и линяла.
— Воротник несостоявшийся, — сказал Подзаборный. — Только и знает: линяет и воняет.
Лиса бегала взад-вперед: от замкнутого пространства она сходила с ума.
— Все вы монстры, монстры! — вскричал Попугай. — Монстры, где ваши пиастры? Кунсткамера! Камера-обскура! Обскуриал!
На самом деле монстр был только один: небольшой двуглавый сизарь по имени Эмблема. Произвела его на свет обычная чердачная голубица в год аварии на заводе, когда даже Чите в окно был виден столб дыма в форме гриба.
— Жрет за двоих, — брезгливо говорил, глядя одним глазом на Эмблему, Щегол.
Больше всего Подзаборный ненавидел мышей из террариума и аквариумного хомяка — за то, что не мог их съесть. Когда они чистили мордочки лапками, кота мутило.
— Они хуже картавых, косоглазых и чернозадых, — говорил Подзаборный, — вместе взятых; у них ни нации, ни породы нет: мыши.
— У свиньи рыло, — учила мышка Маша мышат, — у лисы морда, у обезьяны харя, у кота мурло поганое, а у мышат личики, личики, личики!
— А что у птички? что у птички? — спрашивала Катенька.
— У птички хайло, — отвечал Подзаборный.
— Хам! хам! — кричал Попугай. — На мыло кота! Катарсис! У козы окот! Котобаза! Котобойня!
— Ох, доберусь я до тебя, полутурок, — шипел кот. — Нос крючком. Космополит хренов.
— Тварь, тварь! — лаяла Марточка. — Рычи, Китай! Кот! туп! как! пень!
— Чики-чики-чики-фью! — пела Катенька. — Чики Катеньку мою!
Чита доедала банан и плакала. Она хотела в Африку к бананам, братьям и сестричкам.
— Африка, Африка! — в тоске вскрикнула Чита и запрыгала по клетке.
— Не сыпь опилки на голову, идиотка, — сказали ей снизу.
Бывшая змея грелась под бывшей лампочкой Ильича. Змея жмурилась и воображала себя фараоном.
Черепаха думала: «Интересно, я похожа на змею или змея на меня? Впрочем, у меня есть панцирь, я своеобычна, а змея тривиальна с головы до хвоста!»
Дятел Экономист уже всех задолбал своими выкладками и подсчетами — кто больше ест. Сначала он просто считал, кому сколько дают в день. Потом своим умом дошел до соотношения с живым весом и размером. Подсчеты свои обнародовал он морзянкою.
— Стукач, стукач! — кричали ему со всех сторон, но он не унимался.
Дятла дети собирались выпустить на волю, и все об этом знали; это был дополнительный повод для неприязни.
Одна клетка была как бы пустая: в ней будто бы жил кто-то, впавший в спячку; никто его не видел.
Вошли толпой звериные и птичьи девочки во главе с Гошей. Все заметались: толпа несла корм и жратву. Только добычи и пищи, как всегда, не было.
А летом начались каникулы, и всех растащили кого куда: кого на дачу, кого в зоопарк, кого в другой живой уголок. Эмблема сдох. Щегла и дятла выпустили в лесу. И национальный вопрос, равно как и социальный аспект, прекратили в связи с летом свое существование.
ПО МИССИРИ, МИССИСУПИ
I. Лиха беда начало
Дул пронзительный ост-вест.
Ост-вест крепчал.
И, стало быть, спустили они на воду три посудины, баркентину, бригантину и гребентину, под названиями «Авось», «Небось» и «Тотчас», и поплыли вниз по матушке. При этом пели хором и а капелла:
По Миссири, Миссисупи, По широкому раздолью.Время от времени буря ревела и гром гремел. Хотя море было по колено всем трем командам оптом и в розницу, и в первую голову трем капитанам. Капитаны всё время повторяли:
— Еще не вечер.
И вправду было утро.
С берегов махали руками аборигены: уморы, амуры, тужуры и неверморы. У воды стояли их землянки, марсовки, солярки, избенки, шалашки, конторки, виллы, чумы и дома. К ночи на кровлях появлялись чумовые и домовые, а на фок-мачте, грот-мачте и рязань-мачте всех трех плавсредств — огни святого Эльма и буревестники. Суда были оснащены тремя видами вооружений: прямым, косым и кривым. Каждые полчаса матросы, вахту предержащие, били склянки, пили ром, ели туши и бросали в воду запечатанные сургучом бутылки с открытками. Однажды на «Авось» подняли бунт. Но «Небось» и «Тотчас» подоспели. Повесив половину команды на реях (из-за чего реи не выдержали — и не только реи — и пришлось швартоваться, ремонтироваться и фрахтоваться), капитан набрал недостающих авосевцев из аборигенов, что укрепило дух команды и сплотило участников плавания пуще прежнего. Однако, пустившись во все тяжкие, принесенные нелегкой, отдав швартовы, взяв курс, обрубив концы, отвязав шкоты, обмахнувшись леерами и вобрав в клюзы цепи, кроме которых нечего терять, отплывающая гребентина долгое время преследовалась плывущей как рыба золотоволосой аборигенкой в венке из роз и набедренной повязке из шкуры миссурийского леопарда. Аборигенка плыла баттерфляем, рвала на себе белокурые кудри и патлы и кричала:
— Ты куды, туды-растуды, бихевиор алляйн!..
Команда во главе с капитаном наблюдала, как бравая аборигенка села на мель, и, рыдая, поняв, что гребентина недосягаема, раскидывая подплывающих к ней аллигаторов, питонов и фотокорреспондентов, выкрикивала контральтом баритонального тембра вслед:
— Вернись, Василий, в родную сельву!
Василий метался между кормой и ютом.
Горькая складка залегла у него от бровей до губ. Желваки на скулах и челюстях играли. Благородная физиономия его побагровела, а кончик носа побелел. Глаза метали молнии. Виски его поседели. Но, поддерживаемый подружившимся с ним за время лесоповала корабельных берез скромным великаном с атлетическим профилем Перси Китсом, он преодолел себя и спустился в трюм.
Люверс, разволновавшись, по рассеянности опять включил вместо бортовых огней килевые. «Авось» бортануло.
— Правь! — кричали матросы Британии. — Правь, Британия!
Британия, Владычец Морей, правил вовсю.
Команда грянула под звуки саксофона и жалейки самодеятельную песню «Британия — наш рулевой».
Вечерело.
Одна за другой зажигались звезды: Антарес, Сатурн, Юпитер, Альфа Минус Гиперон. Мерцало таинственное созвездие, переливающее и недоливающее серебристым блеском, Южный Ноль.
Дело шло к тому, чтобы Миссири впасть в Миссисупи. Прямо по курсу был океан.
На правом берегу росла высокая трын-трава, над которой летали трындалеты. По узкой кромке прибрежного золотоносного песка бегали аборигены, метали в воздух обвитые гиацинтами, плющом и незабудками дротики и орали во всю глотку:
— Авось, авось!
Правый берег, представлявший собой переходящую в тундру саванну, был обстроен бунгало, между которыми сновали на вельзеходах вездевулы.
— Из чего, браток, делают вельзеходы? — спросил Китса Василий, стыдливо пряча заплаканные стальные глаза.
— Из бальзового дерева, амиго, — сказал дружески Перси Китс и ободряюще похлопал мускулистой рукой по широкому плечу отважного первопроходца.
Из распахнутых окон бунгало высовывались обольстительные аборигенки с магнолиями, камелиями и азалиями в волосах цвета воронова крыла и обсидиановыми амулетами на эбеновых бюстах. Они зычно ворковали:
— Небось, небось!
Из ворот крепости, расположенной на огибаемой маленькой флотилией острове, солдаты в портупеях, возглавляемые высшим чином, очевидно офицером, в каске с плюмажем и с шашкой наголо, выкатывали пушку.
— Тотчас! — вопил офицер, осклабясь и оскалясь. — Тотчас!
— Эй, ребята, не робей! — кричали капитаны. — Еще не вечер! Лиха беда начало!
На самом деле был уже не вечер, склянок успели набить немало, даже и в колокол ударили. Злобные островитяне разворачивали орудие, матросы вооружились аркебузами, алебардами, луками и минометом, а на крыше камбуза полулежал в ленивой позе любимец команды невозмутимый Окассен-Опоссум с колибри на темечке и пел, аккомпанируя себе на кифаре, арии из опер.
II. Голые граммы
Наконец-то настал август, шторм на океане начал мало-помалу стихать, а количество утопающих в день — уменьшаться. Песочные часы в капитанских каютах были распакованы, вынуты из контейнеров, и теперь показывали точное время. Поскольку появились звезды, по-прежнему загадочно сиявшие в бархатном небе во главе с Южным Нулем, явилась и возможность определиться и выяснить, где же все-таки находятся отважные мореплаватели, что до сих пор было нереально, поскольку радист утонул вместе с рацией, карты были подмочены, астролябию заело, а секстант заржавел; самый опытный лоцман упал от изумления за борт (т. е. последовал за радистом) в момент, когда мимо баркентины пронесся без руля и без ветрил легендарный «Летучий Гренландец» со скелетами на форштевне и привидениями на борту.
Определившись и переименовав в честь того соответствующий день недели в определяльник, храбрецы поняли, что не за горами материк.
— Полезай! — сказал капитан Окассену-Опоссуму, и тот с ловкостью гамадрила взгромоздился на оставшуюся после шторма мачту, где и сидел двое суток, принимая с палубы провиант на веревке и спуская взамен небьющийся ночной горшок из полиуретана.
Любимец команды не унывал и по своему обыкновению пел арии из опер, а в минуту слабости петь переставал и только насвистывал. Старый негр Дизи плясал под арии самбу. Особенно ему нравилась ария Жизели из оперы Гуно «Баядерка». Повеселевший после шторма Василий аэробировал на клотике. Перси Китс не расставался со штангой. В ожидании материка люди отдыхали. Гауптвахтенный без устали бил склянки. Недопитое лили за борт. Начался было бунт на баркентине, но по причине жары и наличия у капитана пуль со снотворным, быстро закончился. Авосяне снисходительно пожимали плечами. Небосяне выразительно качали головами и делали руками.
— Земля! — закричал Окассен-Опоссум, и колибри слетела с его шляпки. Растроганные путешественники сдержанно и молча целовались и обнимались. На глаза у них наворачивались скупые, мужские слезы. Слезшего с мачты Окассена-Опоссума никто целовать и обнимать не стал: все знали, что капитан ревнив и вспыльчив, и никому не хотелось перед увольнением на берег схлопотать пулю в лоб.
Порт был великолепен.
Всюду сверкали разноцветные огни реклам. Громоздились остекленные офисы. Катались на роликах портье, рантье, крупье и портовые невесты. Летали райские и адские птицы.
Четверо авосечников, Василий, Перси Китс и разбитные братья-близнецы Джеймс и Джойс, стояли на маленькой, вымощенной мрамором портовой площаденке и размышляли — куда бы пойти. Прямо перед ними бегущие лампионы рисовали и выписывали многоцветную многозаходную надпись над дверью из глыбы розового оргстекла:
ГАЛА-ГОЛОГРАФОГРАФ
«НЕ НАДО!»
СЕГОДНЯ ТОЛЬКО У НАС
ВПЕРВЫЕ ДЛЯ ВАС!
ГОЛЫЕ ГРАММЫ
ГОЛЫЕ ГРАФИНИ
НАГИЕ НАЯДЫ
И
ТАНЦЫ ПОД ЭПАТЕФОН!
Напротив гала-голографографа огромный рубиновый фонарь с латунной обвязкой подсвечивал рекламу бара «Под мухой». Колоссальная муха от фонаря вползала на фасад и, вращая фасетками, торжественно спускалась обратно.
Рядом с баром высилась громада универсумного магазина. С другой стороны возведен был маленький беленький бруствер ресторанчика на открытом воздухе; ресторанчик назывался «Бивак». Выше — до облаков — безумствовали рекламы. Зубные щетки. Портативные виллы. Протезы. Пистолеты. Бестселлер «Остров замужества». Фантастический фильм «Синяя ксива или Лазоревый клифт». И многое другое.
Не выдержав натиска цивилизации, мореплаватели разделились. Василий неспешно переступил порог магазина. Перси Китс, играя мускулами, двинулся в сторону бара «Под мухой». Близнецы Джеймс и Джойс приступом взяли беленький бруствер ресторана, где тут же познакомились с тремя прелестными созданиями противоположного пола: Белозубой Конфеткой, Фатальной Мосталыжкой и Ягодкой-С-Перцем.
Когда через полчаса перед веселой компанией возник Василий, воцарилось молчание. Посетивший универсаль мореплаватель был неузнаваем. Он сменил ватник на батник, фуфайку на блайзер, палицу на бластер, лапти на голопедки, — и стоял на белоснежном бруствере совершенный, абсолютный и великолепный.
— Вас ист дас? — спросила Белозубая Конфетка.
— Ист дас Вася, — отвечал Джойс, роняя с вилки кусок мореной ставрюги в прикиде из морской капусты.
— Ху из кто? — поинтересовалась Фатальная Мосталыжка.
— Кто из ху, — сказал Василий с достоинством, — а я — искатель приключений.
Ягодка-С-Перцем подозвала к прозрачному столику гарсонку и заказала для Василия местные деликатесы: страусиную икру и паюсные яйца. «Ковбой-баба», — подумал Василий, переводя осмысленный взгляд с кормы Ягодки-С-Перцем на ее точеный задиристый бушприт.
И налил даме «Солнцедара».
III. Открытие хронотропа и топотипа
Старый негр Дизи слонялся по местному великолепию, ища себе подобных. Когда он уже отчаялся и присел на тротуар в одном из сверкающих внутренних двориков, рядом с ним распахнулась маленькая потайная дверь в стене, из которой вылез абсолютно черный мусорщик в прозрачном комбинезоне с контейнером помоев в руках. Мусорщик насвистывал «Эй, вы, там, наверху!» Не прошло и пяти минут, Дизи уже заходил с новым приятелем в просторное полуподвальное помещение котельной. На двери котельной висела оранжевая табличка: «Идут ремонтные работы. Посторонним не входить!»
Пульт управления котельной был превращен в обеденно-письменный стол двумя молодыми людьми в таких же прозрачных комбинезонах, как и у нового знакомого Дизи. Один из молодых людей, обедающий за пультом, обернулся к поющему мусорщику и сказал:
— Это ты, Щелентано? А не мог бы ты сегодня петь еще лентее и малость потише?
— Что? — спросил мусорщик.
— Пой ленто, ленто и еще лентее, лентее Мёбиуса, — сказал второй молодой человек с волосами до плеч и в пенсне, отрываясь от груды книг и бумаг, скорчившись над которыми он что-то бойко строчил.
— Кто вы будете, малыши? — спросил Дизи.
Малыши пояснили, что один из них — философ, а другой — филолог и что в настоящий момент все философы и филологи обретаются вот как раз в котельных, кочегарках, конторах по обслуживанию лифтов и тому подобное. Мусорщик заворчал: дескать, потому-то отопление не функционирует, вода не идет, только в лифте между этажами и сиди, а к тому же ни литературы, ни философии не видать, и вместо той мура, а вместо этой что — и не вымолвить.
Дизи любил самбу, румбу, карнавал и арии из опер, но больше всего любил он философию. Разувшись, он присел на пульт и спросил:
— А как вы, детишки, понимаете троичную валентность бинарного оператора в свете смычных морфем или хотя бы фрикативных?
— Нет ничего проще, — сказал длинноволосый в пенсне, — это крокодил, спускающийся с дерева вниз головой и поднимающийся после этого вверх.
— Развей свою концепцию, — сказал зачарованный Дизи.
— Поскольку он сначала лезет туда, а потом спускается сюда, он, стало быть, выполняет две операции и является оператором бинарным; а в связи с тем, что он жрет пищу рода троякого, а именно: людей, птиц и рыб, — то и проявляет троичную валентность.
Дизи прослезился.
— Я тебя сразу полюбил, парень, — сказал он. — С первого взгляда. Иди к нам на «Авось».
Второй юноша оторвался от горлышка тоника и изрек:
— Аллигатор ваш скорее уж четвертичную валентность проявляет, ибо кроме рыб, птиц и людей жрет и животных.
Дизи рыдал.
— Парни, — говорил он, — цены вам нет.
— Мы что, — сказал филолог.
— Мы так, — сказал философ. — А ты вот его спроси, что он открыл.
Оба смотрели на мусорщика.
— Что ты открыл? — спросил Дизи.
— Ничего особенного, — скромно сказал мусорщик. — Я открыл хронотроп и топотип.
— Иди ты, — сказал Дизи. — А что это такое?
— Хронотроп, — сказал мусорщик, — это синекдохаметанимичнофоричный пространственно-временной или временно-пространственный образ понятийного характера. Вот, например, «авось», «небось» и «тотчас» — типичные хронотропы, причем «авось» относится к будущему времени, «небось» — к прошедшему, а «тотчас» — к настоящему. А топотип — матрица из сферы второй сигнальной системы, устанавливающая связь между спецификой типологии и топографией планеты. Частные случаи топотипов — национальные признаки, видоизменяющиеся в связи с широтно-долготной сеткой.
— Да-а... — сказал Дизи.
IV. Верзьера конхоидального типа
Расставание с цивилизованным миром повергло мореплавателей в глубокую печаль. С печатью задумчивости, запечатленной на мужественных профилях, взирали они на удаляющийся пирс, с которого махали шляпками, вуалетками, голопедками и разнообразнейшими деталями туалета три блистательные команды портовых невест. В первом ряду сверкали красотою Ягодка-С-Перцем, Белозубая Конфетка и Фатальная Мосталыжка. Сбоку скромно стояли кочегары, мусорщик и неизвестный красавчик в беленькой юбочке. В воду летели олеандры, рододендроны, венки из лаврового листа и брюссельской капусты и веники из орхидей.
— Малый вперед! — скомандовал капитан. — А потом полный назад!
В результате маневра «Авось» дважды совершила поворот оверкиль, после чего успешно легла на курс и вслед за бригантиной и баркентиной скрылась в бирюзовой дали.
Проплыв без особых приключений суток двое, путешественники увидели островерхие лиловые горы архипелага Науки.
На склонах первого из сложной и малопонятной самим местным жителям системы островов произрастали продукты неуклонных трудов рачительных агроботаников и скрупулезных растениеводов здешних широт: бешеные лимоны, махровые огурцы, ампельные пальмы, картофельная лоза, развесистая клюква, ветвистый арбуз и двуствольная морошка. То там, то сям извергались экспериментальные вулканы, возводимые поколениями ученых по типу природных, однако несколько отличающиеся от последних как по процессу запуска, так и по результатам работы.
На острове св. Терезы добывали тонны фолиевой кислоты и перевозили ее винтолетами на остров Бертольда, где подвергали ее разложению на составные части, каковые с величайшими предосторожностями морем доставляли обратно. О-в св. Терезы и о-в Бертольда именовались иначе Сциллой и Харибдой архипелага, в просторечии — Сицилией и Карбидой.
На острове Приветливом в результате титанической работы прихотливый природный рельеф был изведен на нет; вместо горного массива с каньонами и водопадами путешественников встретил плоский песчаный блин (растительность с большим трудом удалось, наконец, вывести совершенно); на Приветливом предполагалось изучать миражи в пустыне и их влияние на психологию очевидцев. На краю песчаного блина стоял одинокий защитного цвета шатер Академии Всеобщих Наук.
Безымянный островок, следующий за Приветливым, населяли почему-то сонмища свиней, с любопытством взиравших с холма, из кустов и с пляжа на баркентину и бригантину; гребентина очаровала свиней особо, они остервенело заверещали, на что Дизи, патриот своей посудины, торжествующе заметил:
— Свинья — и та понимает!
У самого большого острова корабли вошли в бухту и встали на якорь. Остров именовался коротко и ясно: Точка. Дойдя до Точки, мореплаватели решили пополнить запасы продовольствия, которого, однако, на острове не оказалось. Зато моряки совершили ряд интересных экскурсий и узнали немало познавательного и занимательного о природе в частности и о науке вообще. Президент острова, например, поведал им, что в результате двадцатилетних исследований он пришел к выводу, что главная гора Точки, Приватная, представляет собой по форме, если таковую интерпретировать математически, верзьеру конхоидального типа, а вице-президент выступил перед путешественниками с маленькой лекцией на тему: «Все запрограммировано», в которой утверждал, что как история человечества в целом, так и жизнь каждого человека до мельчайших подробностей запрограммированы, но на всякую программу есть своя контраграмма. В последних словах вице-президента Перси Китсу померещилась некая угроза.
V. Китсониана
Перси Китс решил сочинить поэму и написать к ней вступление в прозе. С самого начала он столкнулся с некоторой сложностью, как именовать поэму — персианская, персийская, персидская или персиковая. Слова «китсовая» и «китсовская» казались ему неуважительными и непоэтичными. Наконец, он остановился на слове «персейская», заменяя его время от времени «китсонианой». Автор хотел, чтобы поэма была интересна и понятна всем, прежде всего морякам-авосевцам, а также небосевцам и тотчасовцам. Кроме того, случаи, приводимые в поэме, должны были отражать жизнь первопроходцев, их быт и нравы. Всё это как нельзя лучше удалось автору, но поэма получилась совершенно нецензурная, хотя встретила полное понимание, глубокий интерес и даже любовь со стороны читателей, почитателей и слушателей. Редактора, корректора и цензора «китсониана» не имела.
VI. Ыэюя
В архипелаге Науки Василий в один прекрасный день от нечего делать заплыл брассом, поставив рекорд в одиночном плаванье, на Приветливый. К тому времени исследование миражей на острове временно прекратилось за отсутствием миражей, и шатер академиков передислоцировался на другой аванпост научной мысли. Василий стоял один-одинешенек на песчаном блине на уровне моря, как вдруг увидел на горизонте дневную звезду. Звезда сверкала, приближалась, превратилась сначала в луну, а потом в серебристое летающее блюдечко с голубой каемочкой. Зависнув над блином, блюдце упало и разбилось. При этом из него выпала полногрудая синещекая астронавтка с глазами на лбу. Она расшибла коленку и, увидев Василия, многозначительно пролепетала, указывая непринужденным и фамильярным жестом на осколки блюдца:
— К счастью...
Василий помог ей подняться. Он не мог вымолвить ни слова. Его точеное лицо с желваками и горькой складкой от губ к бровям выдавало глубокое чувство.
— У вас на родине, — сказала астронавтка с милым шепелявым акцентом, подбирая слова и выбирая выражения, — кажется, есть поговорка: «Взялся за грудь — говори что-нибудь»?
Василий сдержанно ухмыльнулся.
— Точно, — скупо сказал он. — Как вас величать?
— Ыэюя, — отвечала она женственно.
— А я Вася, — мужественно сказал Василий.
— Скоро мы расстанемся, — печально прошепелявила она, и к двум глазам ее на лбу прибавился третий — на затылке. — Ты на «Авось», а я в свою тарелку.
— Она же того, — сказал Василий негромко, — к счастью.
— Склею, — сказала Ыэюя.
— Склеишь? — спросил он, робко наступив ей на ботфорт. — А как же счастье-то?
Тут на небе возникло большое Всевидящее Око и громовой голос произнес:
— Чем любезничать, ты бы лучше, дура, делом занялась.
Око немигающе глядело с высоты. Ыэюя выскользнула из дрожащих рук Василия, лепеча что-то вроде «фата-моргана» или «фатум моргает». Как утверждал Василий впоследствии, «фат» и «морг» фигурировали. Помухлевав с блюдцем, астронавтка и впрямь его склеила, прижалась, трепеща и лебезя, к могучему торсу моряка, обдала его ниспадающими распущенными волосами, облобызала, втиснула свое роскошное тело богини в блюдце и вознеслась восвояси. Око тут же аннулировалось.
Василий рассказывал о происшедшем неоднократно, но понимания не встретил.
— Одни бабы у тебя на уме, — мрачно сказал капитан, как раз поссорившийся с Окассеном.
Президент созвал подчиненных и закатил им разнос в форме истерики с рукоприкладством:
— Месяц, сволочи, миражей ждали, и не дождались, удрали, а человек на полчаса высадился — и тут ему и мираж!
Подчиненные лизали сердечные таблетки и терпели.
А Перси Китс сочинил экспромт про то, что у Белозубой Конфетки на ляжке родинка.
VII. Трехстранный континент
За архипелагом, как водится, путешественников ожидал континент.
Первой ласточкой с континента оказался небритый оборванец в утлой лодчонке, которого подняли на борт и привели в надлежащий вид.
Оборванец назвался вождем повстанцев и поведал, что континент поделен на три части тремя государствами трех стран с тремя различными правительствами разных направлений. Дома, в которых заседали правительства, назывались в соответствии с окраскою фасадов Белый Дом, Серый Дом и Желтый Дом.
Недовольные первой страны хотели бы жить во второй, недовольные третьей страны хотели бы жить в первой, что касается недовольных второй страны, то они считали, что все страны необходимо уничтожить, границы отменить и образовать новое континентальное государство, прикончив предварительно всех недовольных, кроме них. На вопрос капитана — к каким недовольным относится лично он, оборванец ответил, что ни к каким, он представитель неприсоединившихся, а поскольку всех неприсоединившихся намедни повесили, он представляет бывшую организацию единолично. Капитан позволил оборванцу влиться в команду, но долго объяснял: то, что на суше, — политическая борьба, на корабле — бунт, и то, что можно на земле, на море исключается. В конце беседы капитан показал неофиту пистолет. В знак полного доверия новый член команды подарил капитану гранату, бомбу, маузер и полпинты яду, после чего пошел вливаться в коллектив и разучивать любимую корабельную песню:
По Миссири, Миссисупи, По широкому раздолью...VIII. Чуряне
Как раз там, где на подмоченной во время шторма карте имелось белое пятно, находился знаменитый Удмуртский отрезок, состоящий из трех одинаковых островов, расположенных на одной линии. Время и пространство в отрезке вели себя непристойно и что хотели, то и делали. Часы, в том числе песочные, попеременно спешили, отставали, останавливались, а в некоторых случаях ходили против часовой стрелки. Регулярно в чародейском отрезке исчезали люди; особенно часто это случалось с людьми поприличнее; некоторые из них таинственным образом переносились на Северный Полюс, а отдельно взятые не находились вообще. Вещи в отрезке пропадали постоянно. Календарь приходилось реформировать каждый год, а иногда и чаще. Сутки все время меняли длину, дни недели менялись местами, а как-то раз и солнце взошло на западе. Эпохи, эры и периоды так и мелькали. Только что было рабство, а вот уже и цивилизация полным ходом. Местные жители то молодели, то старели, то претерпевали метаморфозы всевозможного сорта: водовоз становился писателем, мальчик — девочкой, юноша — глубоким стариком. Летающие тарелки на данной неблагословенной широте сновали сервизами.
Первый и второй остров заселены были по образу и подобию всех островов мира; что касается третьего острова, то островитяне в какой-то момент под действием неопознанных полей и непроходимых энергетических уровней сломались и зажили наобум святых. Они открещивались друг от друга, а также от всего человечества и существовали на особицу. Именовались сии островитяне чурянами, потому что, чуть что не по ним, плевали через плечо, под ноги и прямо перед собой и злобно говорили: «Чур меня, чур!»
Бравые моряки высадились на острове в полдень после очередной порции склянок незадолго до рынды.
На берегу океана стоял высокий замок с зубчатыми башнями и подъемным мостом на ржавых цепях. Мост лежал на песке. Босой стражник в рыцарских доспехах и мотоциклетной каске молча преградил Василию, Перси, Джеймсу, Джойсу и Окассену путь, выразительно покрутив перед ними автоматом, и сказал:
— Барыня почивает и посетителей видала в гробу.
— Так то посетителей, — сказал Перси Китс.
После серии выразительных бросков и приемов карадо, дзютэ, самбо и румбо стражник уже без автомата сидел на мосту, вытирал кровь под носом и хныкал:
— Сволочи, пятеро на одного.
— Что же ты оружием балуешься, салажка? — спросил Перси.
— Автомат-то отдайте, он, чай, казенный, — сказал стражник, — мне графиня за него уши будет завивать.
Василий собрался было разрядить автомат, но стражник сказал — не заряжен, заряжать давно нечем, а получив оружие обратно, сообщил храбрецам: графиня опять всю ночь с алхимиком в башне что-то добывала, а теперь в блудуаре отсыпается.
— Дрыхнет красавица-то наша, — сказал стражник.
Графиня встретила первопроходцев в холле у камина. Ее небесно-голубые глаза гармонировали. Лазоревый дортуаровый муар неглиже шуршал. От графини разило ароматом. Огромный сенбернар выступал рядом с хозяйкою.
— Садитесь, придурки, — сказал сенбернар.
Моряки попадали в кожаные кресла.
— Не бойтесь, мальчики, — сказала графиня, — он у меня мутант на местной почве. Николетта!
Пухленькая маленькая служаночка в чепчике выкатила бар на колесиках, при этом не преминула ненароком задеть локотком Окассена.
— Я наслышана о ваших стихах, — сказала графиня Перси Китсу.
Тот очень растрогался и прочитал экспромт о родинке на ляжке.
— Пойдемте ко мне, — сказала графиня, — слова перепишете.
Во время отсутствия графини Николетта покатила бар обратно и снова задела Окассена, на сей раз коленкою; Окассен, как ни странно, не протестовал.
Вошел алхимик, мрачный изможденный человек в остром колпаке и черном балахоне до полу. Морякам он еле кивнул и обратился к сенбернару:
— Где хозяйка?
— На стихи перешла! — сказал сенбернар, тяжело вздохнул и сплюнул. — Чур меня, чур.
Василий и близнецы распрощались с алхимиком и вышли из замка. Окассена не было видно, зато с кухни слышался смех Николетты.
— Заходите завтра, — сказал алхимик, — завтра золото добудем. И призраков у нас по средам много, побеседуете.
— О чем им с этим старьем говорить?! — желчно спросил сенбернар.
В кустах при дороге кто-то шевелился.
— Эй, славяне! — услышали из кустов путешественники.
— Это ты нам? — спросил Джеймс.
— Мы разве славяне? — спросил Джойс.
— Все люди славяне, даже негры, — сказали в кустах, — ибо все от славян произошли и туда же вернутся, дайте срок.
Моряки вошли в кусты.
На болотце стоял стриженный под горшок человек с сохою в посконной рубахе.
— Славянин я, — сказал он. — Чужеземцы, помогите оратаю.
Моряки немного поорали со славянином.
— Живешь тут, что ли? — спросил Джеймс.
— Сельским хозяйством занимаешься? — спросил Джойс.
— Живу, иноземцы, — сказал чурянин — Ору. Жена моя за прялкою сидит, прёт. Дети на гуслях играют додекафонию. Графиня, западница проклятая, решила басурманский храм на нейтральной полосе заложить и назвать оный Наша Дама Из Парижа. Намекает на свое якобы хранцузское происхождение. А какая она, к ляду, хранцузская графиня? Типичная чалдонка. Магией и чарами досуг свой заполняет. Спектры опричь нее по ночам треплются. Дым сернокислый алхимик из сосудов поганых запускает; золото ищет, тварь, окружающую среду паскудит. Вместе с дымом космолетчицы голые на метлах из трубы сигают; космы распустят и летают, срамота, сила нечистая, с нами крестная сила. До седьмого колена у ей все якобы графини были, стервы из стерв, и всех Мартами звали. Потому и ейная кличка — Восьмая Марта.
— А что это там за строение на холме виднеется? — спросил Джеймс.
— Вечный Грек там обитает. Полуодетый ходит. Бегает в сандалетках. С факелом. По праздникам жертвы богам своим поганым приносит. Поросенок наш к нему забежал надысь, спалил и поросенка. Небось врет, что в жертву-то принес, сам небось сожрал. Голодает. Виноград у него не растет. И бараны дохнут.
— А в рощице что за ларьки? — спросил Джойс.
— Фирмач наш. Ларьки у него — фирмы разные. Видите — вывески? «Регенераж». «Оживляж». Эти на источниках живой воды стоят. Убить готов, чтобы потом оживить, морда торговая, мизгирь скудоумный. «Ойл энд олл». Это не знаю что. Москательная, что ль? Дондеже понеже. Погодь, вьюноша, я вам гостинца вынесу.
Дети грянули на гуслях марш «Прощание славянки». Щедро одарив путешественников семечками и веригами, славянин поклонился им в пояс. То же сделали и мореплаватели. И пошли на берег ждать Перси Китса от графини; дня через два и дождались.
IX. Прерванная беседа и начало поисков
Перси шел, слегка пошатываясь. Под глазом у него был синяк, одежда в лохмотьях. Метрах в трех за Перси, покачивая бедрами, двигался к берегу задумчивый Окассен, а за ним с узелком бежала Николетта. За Николеттой поспешал сенбернар тяжелыми скачками. Он приговаривал:
— Тебя-то куда несет, безмозглая?
— Куда Окассен, — отвечала Николетта задыхаясь, — туда и я!
— Отговори ты ее, приятель, — сказал Перси, — ведь ее капитан за борт бросит в надлежащую волну.
— Я тебе не приятель, — сказал сенбернар и снова обратился к Николетте. — На что ты ему сдалась, Окассену своему? Он плевать на тебя хотел. У него свои дела.
— Не скажи, — сказал Окассен мрачно. — И шел бы ты, мутант, к своей Восьмой Марте.
— Николетта, — сказал Василий, — лучше шла бы ты.
— Куда Окассен, — сказала Николетта, — туда и я.
— Кем же ты ему приходишься, девушка? — спросил Джеймс.
— Кто она тебе, Опоссум? Как ты ее на гребентине представишь? — спросил Джойс.
— Она моя невеста, — сказал Окассен.
— Николетта, — сказал сенбернар, — быть тебе невестой до старости.
— А это, — сказал Окассен, — не твое собачье дело.
— Послушай, дружок, — сказал Перси Китс, — а ты, часом, не тово? Оставь ее в покое. Зачем она тебе?
— У нас родственные души, — упрямо промолвил Окассен. — Куда я, туда и Николетта.
— Василий, — сказал сенбернар, — будь человеком, возьми этого голубого героя на руки и волоки его на «Авось», а уж эту голубую героиню я тут сам придержу.
— Отойди, моралист, — сказал Окассен, — от тебя псиной пахнет. Василий, не подходи! Николетта, за мной!
Неизвестно, сколько еще продолжался бы их прибрежный полилог, если бы шум мотора летательного аппарата, сперва возникший в лазури как комариный писк, не стал оглушительным и не придал бы беседе мимический характер. Над беседующими завис винтокрыл, из брюха которого в мгновение ока вылетел трос со щупальцами на конце. Щупальцы ухватили Василия и повлекли его вверх.
— Прощай, Перси! — кричал, дрыгая ногами, первопроходец.
— Я с тобой, Вася! — кричал Перси в ответ.
Василий исчез. Черное брюхо винтокрыла захлопнулось. Некоторые время Перси Китс, близнецы, Окассен, Николетта и сенбернар бежали по прибрежному песку за синей тенью. Потом винтокрыл набрал высоту и скорость и скрылся из глаз. Николетта плакала. Окассен ее утешал. Джеймс и Джойс выражались.
— Что это у вас тут за погань летает? — спросил Перси у сенбернара.
— Первый раз вижу, — сказал сенбернар, — беспрецедентно.
Он сел на песок и чесал задней ногой за ухом. А потом сказал:
— Где-то здесь живет один психопат, на расстоянии мысли угадывает, — может, он поможет.
— Где живет? — спросил Перси.
— Не имею понятия, — отвечал сенбернар. — Может, деятель с сохой знает?
Славянин встретил их хлебом-солью. Вышли дети с гуслями и жена в кокошнике и кланялись. На вопрос Перси славянин только головой покачал:
— Знаю, что имеется ведун, да не ведаю, в каких палестинах. К язычнику идите, может, он, колодей, подскажет.
Компания направилась к Вечному Греку.
X. Вечный Грек
Вечный Грек в сандалиях и в стóле возлежал в атриуме и читал адаптированные «Мифы Древней Греции». В головах у него стояла амфора. От Вечного Грека несло спиртным, но он попытался встать при виде гостей. Это ему удалось, он принял античную позу и сказал:
— Бог всемогущий Зевес ниспослал мне гостей благородных. Гости, возлягте в тени, я вас вином напою.
— Алкоголик, — сказал сенбернар, — люди спешат, лучше объясни им, где найти психопата, что на расстоянии всё знает.
— Кербер, изыди к своей нечестивой хозяйке, — сказал Вечный Грек. — Я не с тобой говорил, ибо ты мне не гость.
— Чем тебе его хозяйка не нравится? — спросил Перси Китс приосаниваясь. — Обаятельная женщина.
— Расскажите человеку, в чем дело, — сказала Николетта.
Вечный Грек просиял и обратился было к ней:
— Розовоперстая Эос ты или Елены виденье...
— Во-первых, — сказал Окассен, — ее зовут Николетта, а во-вторых, помоги нам, милый, мы прямо-таки пропадаем.
Джеймс и Джойс объяснили вкратце, в чем дело. Вечный Грек очень расстроился и сказал, что слыхал о жреце, но как его найти, понятия не имеет.
— Там на холме пышнотравном живет полоумный торговец, — сказал он, — делает вид, что торгует под знаком Гермеса и мается дурью изрядной; вы обратитесь к нему, может, он вам поможет, пришельцы.
— Дяденька, да какие мы пришельцы? — спросил Джеймс.
— Будь мы пришельцы, хрен бы мы им дали Василия умыкнуть, — сказал Джойс.
Когда они были на полпути к роще с ларьками, сенбернар спросил:
— Как это он меня обозвал? Кибер?
— Кербер, — сказал Перси Китс.
— Хам какой, — обиделся сенбернар.
XI. Ловушка с вызовом или капкан на коротких волнах
Прямо перед идущими на дороге выросла фигура торговца. Он потрясал над головой гранатами и кричал:
— Ложись! Стой!
Путешественники остановились.
— Точнее излагай, — сказал Перси Китс.
— В итоге — стоять или ложиться? — спросил Джойс.
— Тебе что, делать нечего? — спросил Джеймс.
— Одна с усыпляющим газом! — кричал торговец. — Другая разрывная! На мелкие клочки разнесу!
— А зачем, милый? — спросил Окассен.
— Всех прикончу! — кричал торговец. — А потом самолично оживлю! Кого в «Оживляже», кого в «Регенераже»!
— Так на так и выйдет, — сказал Перси Китс и сел на дорогу. — Не теряй времени зря.
— Время — деньги! — кричал торговец. — Не подходить! На счет «десять» бросаю! Один...
— А зачем, милый? — спросил Окассен, растягиваясь в живописной позе на дороге поперек пейзажа.
— Для рекламы. Два...
— Так и живем, — сказал сенбернар. — Информации ноль. Ты не знаешь, что я заговоренный? в огне не горю, в воде не тону, и оружие ваше прохиндейское меня не берет. Кидай свои цацки, а потом я тебя лично загрызу. Из мести.
Торговец спрятал гранаты и достал пистолет.
— Пес с вами, — сказал он. — Тогда я сам застрелюсь. А потом ты, блохастый, отнесешь меня в «Оживляж», и я оживу.
Авосевцы с сенбернаром и Николеттою стали уговаривать его и увещевать в том смысле, что вещественные доказательства могущества его оживляющей и регенерирующей фирм им ни к чему, и ему и так верят на слово.
— Реклама, — сказал торговец, — вечный двигатель торговли.
— Ничто не вечно, — сказал Джеймс.
— Даже торговля, — сказал Джойс.
— Это как посмотреть, — сказал торговец.
К разочарованию путешественников торговец и слыхом не слыхивал о местонахождении искомого ультрасенса; однако дал совет посетить живущего за самшитовой рощей изобретателя.
— У него чего там только нет, — сказал он, — электронные мозги, блоки памяти, всякие там телеморгалки, информатеки... чем черт не шутит...
Стволы самшитовых деревьев вздымали кроны до облаков, кроны закрывали солнце, корни сплетались как змеи. Первопроходцы шли гуськом по узкой тропинке. Первым шел Перси Китс — до той самой минуты, пока не исчез с глаз долой. Он провалился сквозь землю — и тотчас на стволе ближайшего реликтового дерева заработали мигалка с пищалкою.
— Перси, ты жив? — спросил, наклоняясь над ямой, Джойс.
— Перси, ты где? — спросил Джеймс, наклоняясь над ямой с другой стороны.
— Я в капкан попал, — сказал Перси Китс.
Мигалка погасла, пищалка умолкла, и молниеносно невесть откуда взявшиеся металлические сети с грузилами накинуты были на путешественников, и неведомая сила повлекла их с дикой скоростью в неизвестном направлении.
Близнецы не успели даже выругаться как следует, когда движение прекратилось, сети улетели — и взору товарищей по несчастью предстали новые ворота, в которых избочась стоял человек в майке, шортах и спортивных тапочках.
— С прибытием, — сказал он ухмыляясь. — Как вам понравилась моя ловушка с вызовом?
— Я только не понял, — сказал Перси Китс, — к чему все это.
— Втянул вас в мое обиталище, — отвечал изобретатель в майке, — посредством электромагнитного поля.
— Мы и так сюда шли, — сказала Николетта.
— Зато я заранее знал, что вы идете. По УКВ. Мы живем в эпоху технических новаций. И надо идти в ногу со временем.
— А что такое идти в ногу со временем? — спросила Николетта.
— Время левой — и ты левой, — отвечал изобретатель, — время правой, и ты правой. Время хромает — и ты шкандыбай!
Подквакивающая оранжевая сенокосилка на воздушной подушке небезуспешно косила траву на лужке перед домом.
За ней бегали два маленьких металлических чучелка с лампочками вместо глаз и антеннами вместе хвостов.
— Собачки мои, — сказал хозяин с гордостью, — Шатун и Кривошип. Достижение робототехники. Двоякое управление. Автономное — а притом и дистанционное возможно. По ситуации.
— Лаять умеют? — спросил сенбернар.
— Шатун может, — отвечал инженер, — а в Кривошипа не заложено. Он тикает. Из одинаковых сигналов у них только сирена.
— Воют, что ли? — спросил сенбернар.
— Сигнализируют по необходимости.
— Имена свои знают? — спросил сенбернар.
— А ты попробуй их позови, — сказал хозяин. — Пообщайся с собратьями.
Сенбернара аж передернуло.
— Сенокосилке твоей они собратья, — сказал он.
— Зато у них блох нет, — парировал изобретатель, — и не в свое дело они не суются. Зовут — они тут, а не зовут — их и не видать.
Сенбернар присел на газон, наблюдая за маленькими четвероногими роботами.
— Они у тебя мальчики, по идее? — спросил он любознательно.
— Шатун отчасти девочка, — сказал изобретатель.
— Очень интересно, — сказал Окассен.
Все, кроме сенбернара, двинулись к дому.
— Шатун, Шатун, Шатун, Кривошип! — позвал сенбернар.
Оба металлических монстрика, цокая, звякая и мигая глазками, бойко задвигались к нему.
— Сидеть! — сказал сенбернар.
Монстрики переглянулись и легли.
— Лежать! — сказал сенбернар.
Монстрики перевернулись на другой бок.
— Место! — сказал сенбернар.
Монстрики ринулись за сенокосилкой.
— Фу! — воскликнул сенбернар. — К ноге!
Рукотворные собачки вернулись.
— Кривошип, голос! — сказал сенбернар.
Раздалось довольно громкое тиканье.
— Мне всё ясно, — сказал сенбернар, — вы технологические ублюдки технократического воображения. Само ваше существование позорит наш род. Пошли к чертовой матери. Место! Голос!
Под вой двух сирен, перемежающийся тиканьем, маленькие киберы снова ринулись за сенокосилкою, а сенбернар отправился в дом.
Речь держал хозяин.
— Отопление у меня центральное, — говорил он, — котел снизу; отапливаю релятивистскими брикетами. Сегодня затопил — зимой тепло.
— Последними словами техники оснащены, — сказал Перси Китс.
— Вы как-то интересно дверь открывали, — сказала Николетта, — без ключа.
Изобретатель оживился.
— Замки новейшей конструкции! — воскликнул он. — Вон на той двери замок открывается при помощи отпечатков пальцев. Реле. Электроника. Открыть могу только я. Отпечатки пальцев не повторяются. А вон в той комнате замок настроен на взгляд. Цвет глаз. Расстояние между зрачками. В нужном ритме необходимо подмигивать. Собираюсь отрабатывать конструкцию с программой на запах.
— Да ну? — сказал сенбернар.
— Запах будет какой-нибудь особый, — мечтательно сказал инженер, — например, бензин; или тухлое яйцо, можно натаскать на духи...
— Мерзость, однако, — сказал сенбернар.
— Здорово, — сказал Джеймс.
— А дверь-то высадить всё равно в наших силах, — сказал Джойс.
— Всюду капканы, — сказал хозяин.
На стене вспыхнул огромный экран видеотелефона, и узколицый человек с волосами до плеч устало произнес:
— Женя, не морочь им голову своими изобретениями. Они меня ищут. Всех приветствую. Дам и собак особо.
— Вы телепат? — спросила Николетта.
— Вообще-то я телепатолог. Я изучаю патологию в телепатии.
— Вы экстрасенс? — спросил сенбернар.
— Я ультрасенсор, — отвечал абонент.
— Вы пришелец? — спросил Окассен.
— Я ушлец, — с достоинством отвечал тот. — Выходец из лучшего мира.
Николетта, как заводная, тут же упала в обморок. Телепатолог досадливо поморщился и пока Николетту приводили в чувство (лучше всего это удалось Окассену), проинструктировал изобретателя, как путешественникам до него добраться. В заключение он произнес
— Не жмоться, Женя, дай им новую амфибию на толерантных парах. Я тебе ее сам верну.
Что и было сделано.
XII. Ушлец
— А в каком это смысле вы — выходец из лучшего мира? — спросил Джеймс.
— А почему вы — ушлец? — спросил Джойс.
— Ушел я из своего мира в ваш, — сказал ушлец, — ушел навеки. Мой-то мир, из которого я вышел, — лучший. Миры есть лучшие и худшие. Отличаются по структуре, уровню развития, климатическим условиям, флоре и фауне; в райских, скажем, мирах летают раечки, а в адских — адочки.
— А есть такие миры, что лучше лучшего? — спросил Джеймс.
— А есть такие, что хуже худшего? — спросил Джойс.
— Само собой, — сказал ушлец. — Мой был вот как раз лучше не бывает; а ваш, извините, вот именно гаже не придумаешь.
— Интересное кино, — сказал Окассен, — что же тебя, милый, сюда занесло? Чем тебе там не понравилась?
— Прошу бури, — загадочно произнес ушлец, — не от счастия бегу, не счастия и ищу.
— Это что-то поэтическое? — спросила Николетта.
— Это по философской части, — сказал ушлец.
— По философской части у нас старый Дизи, — сказал Джойс.
Джеймс промолчал.
— Сейчас Василия вашего поищем, — сказал телепатолог, выкладывая на стол карты, блюдечко, стакан с водой, обручальное кольцо и наушники с антенной.
Наушники он надел, карты взял в руки, кольцо бросил в стакан с водой, а всем присутствующим велел положить указательные пальцы на блюдечко и сидеть тихо.
Вода в стакане пузырилась, телепатолог ястребиным оком глядел в кольцо, блюдечко, как волчок, сновало по буквам алфавита, написанного на столе красной, белой и черной краской. «Магия, — объяснил до начала сеанса ушлец, — бывает черная, белая и красная».
Присутствующие по буквам произносили получающееся слово и произнесли наконец: МЫМРИКИ.
Телепатолог устало снял наушники.
— Помех много, — сказал он. — У мымриков ваш Василий в одном из перпендикулярных миров. Живой и здоровый.
— Разве бывают перпендикулярные миры? — спросил Джеймс.
Джойс промолчал.
— Миры бывают параллельные, перпендикулярные, прецедентные и конгруэнтные, — сказал ушлец. — Труднее всего выбраться из конгруэнтных.
— А какие бывают мымрики? — спросил Перси Китс.
— Мымрики бывают вооруженные до зубов, вооруженные по уши, вооруженные выше головы и якобы безоружные. Спрашивайте, спрашивайте, не стесняйтесь, что еще кого интересует.
— Будем ли мы навсегда вместе с Окассеном? — вдруг ляпнула Николетта.
Ушлец поправил седые кудри, внимательно поглядел на Окассена и сказал:
— Само собой.
Перси Китс спросил:
— Что вы можете сказать о Белозубой Конфетке?
— Ну, как же, — сказал ушлец, — у Белозубой Конфетки на ляжке родинка.
— Отвал, — сказал Перси. — Улет, — сказал Перси. — Абзац! — сказал Перси. — Молоток ты, отец, — сказал Перси Китс.
XIII. Мымрики из перпендикулярного мира и незабвенный друг
Телепатолог поведал преследователям, что попасть в перпендикулярный мир куда труднее, чем в параллельный. В параллельные миры обычно проходят при помощи медиума, то есть проводника: скажем, влюбленной параллеломирянки или воспылавшего дружескими чувствами парамирянина. Что касается миров перпендикулярных, не обладающих ни малейшим сходством с парамирами, антимирами, метамирами и полимирами, то в них можно не столько войти, сколько ввалиться, и способствует тому, как водится, ситуация не нелепая даже, а прямо-таки идиотская, абсурдная в некотором роде. Иногда в перпендикулярный мир проваливались актеры театра абсурда во время действия пьесы. Случаются непреднамеренные проскоки и во время карнавалов или политических акций.
В целях облегчения перехода пограничной точки ушлец порекомендовал путешественникам переодеться и загримироваться. Николетту переодели Окассеном, а Окассена — Николеттою; Перси Китса превратили в Аполлона, — при этом более всего раздражала его кифара, которую называл он «проклятой бандурою», и завитый парик.
— Ну и видок, — сказал Перси, поглядев на себя в зеркало, — с голым задом и в кудряшках.
Джойс нарядился в костюм бешеного огурца и периодически кричал, что в нем бродят соки, зреют семечки и шевелятся усики. А Джеймс оделся радиоприемником и время от времени передавал последние известия. Сенбернар ограничился красными клипсами и висящей на шее, подобно амулету, вставной челюстью.
В таком неузнаваемом обличье и пустились они в путь, уповая.
В то самое время Василий сидел в кандалах на земляном полу, охраняемый четырьмя мымриками: тремя явно вооруженными и одним якобы безоружным. Мужественное лицо Василия осунулось. Он гордо посмотрел на охранников и спросил:
— По какому праву, граждане начальники, вы меня сюда приволокли?
— Меньше вякай о правах, перпендикулярный, — сказал первый мымрик.
— Здесь граждан нет, — сказал второй мымрик.
— Мы тебе не начальники, покойник, — сказал третий мымрик.
А четвертый заметил задумчиво:
— Врезать ему, что ли?..
Наверху открылся люк и показалась бритая голова пятого мымрика.
— Выводи, — сказал он.
Василия вывели. На асфальтовом плацу стоял колоссальных размеров космический корабль. Точнее, это была ракета. Василий наметанным глазом определил, что ракета была сделана из фанеры, неструганных досок, картонных ящиков и брезента и кое-как выкрашена в ярко-голубой цвет, причем краска не успела высохнуть и от ракеты изрядно несло. В задний отсек ракеты торопливо запихивали бумажные пакеты с надписью «Взрывоопасно!» Под ракетой навалена была куча хвороста, и пять мымриков, бегая взад и вперед, поспешно подносили еще.
От стоящей поодаль группы отделилась высокая фигура в колпаке, сюртуке, галифе и длинном плаще. Сюртук у мымрика был в орденах, а на груди висела на золотой цепи консервная банка.
— Как твоя кличка, перпендикулярный? — обратился он к Василию.
— У Бобика кличка, — храбро ответил мореплаватель.
— Лети безымянным, — сказал мымрик с банкой, — это твое право. Мы тебе памятник поставим. Напишем: «Безымянному перпендикулярному герою». Вон мымрик в сером стоит, фото с тебя сделает, потом скульптуру произведет с портретным сходством. В бронзе будешь возвышаться. Честь тебе оказана. Лезь в звездолет.
— Так он фанерный, дядя, — сказал Василий.
— Выше полетит, — сказал мымрик в галифе.
— Сам и лети, — отвечал Василий смело.
— Мы, покойник, сами не летаем; мы вашего брата для полетов отлавливаем.
— С каких это дел? — спросил мореплаватель.
— Перпендикулярность проявляем, — сказал мымрик. — Ты что-то больно разговорчивый. Добром не полезешь, мы тебя загоним.
Легкое смятение возникло в рядах мымриков, и по образовавшемуся проходу скачками пронесся огромный сенбернар в красных клипсах и с искусственной челюстью на шее. В зубах сенбернар держал зажженный факел. Он присобачил факел на самый верх кучи хвороста (которая незамедлительно возгорелась) и, обратясь к стоящим, произнес:
— С открытием Олимпиады вас, придурки!
Мымрики кинулись прочь от ракеты.
С небес спускался фиолетовый воздушный шар в белый горошек. В корзине сидела пресимпатичная компания. Голый розовый Аполлон в набедренной повязке пел во всю глотку:
Силы небесные, Утро туманное, Ветер неистовый, Слабость душевная, Рыло ветчинное, Язва сибирская, Сердце разбитое, Елки зеленые!..— Сегодня на полях одержана очередная трудовая победа! — кричал один из воздухоплавателей, а второй ему вторил:
— Скоро я созрею!
Заслушавшись и заглядевшись, мымрики и ахнуть не успели, как экипаж воздушного шара вволок в корзину Василия и сенбернара, шар набрал высоту и исчез в облаках. Вслед за шаром взлетел взорвавшийся звездолет из фанеры.
— Василий! — кричал Перси Китс, срывая венок и парик и вышвыривая за борт кифару, — друг ты мой незабвенный!
XIV. Спортанцы и проживающие в их стране нигдериане и вездейки
На границе перпендикулярных миров обитали спортанцы. Основным занятием их были спорт. В связи с чем спортанцы регулярно голодали или влезали в долги, поскольку пахать, сеять, сажать, полоть, копать, окучивать и удобрять они не умели, а умели бегать, прыгать, метать, плавать, управляться с мечом, гонять на велосимане, хватать эстафетную выручалочку, стартовать, финишировать и стоять на пьедестале почета. Спортанцы усыхали от голода и от рекордов, но не теряли мужественного облика и любви к соревнованиям.
Зрителями соревнований, т. е. болельщиками, были не только спортанцы, исповедовавшие другие виды спорта, но и проживающие в их стране нигдериане и вездейки. Нигдериане, которые скитались по всему миру и нигде не могли прижиться, охотно оставались у спортанцев погостить денек-другой, а застревали большей частью на всю оставшуюся жизнь.
В свою очередь, обитающие повсеместно вездейки, этакие прилипалы, жалующие все миры в равной мере, с превеликим удовольствием кантовались на трибунах и стадионах спортанцев, ставили свои палатки и портативные виллы где ни попадя.
Нигдериане, занимавшиеся у спортанцев всякой побочной деятельностью, охраняли среду.
— А почему у вас охраняется только среда? — спросил Джеймс.
— И почему именно среда, а, скажем, не пятница? — спросил Джойс.
— Экономим, — отвечали нигдериане.
XV. Ничего в волнах не видно
Распрощавшись с сенбернаром и достигнув наконец побережья, первопроходцы двинулись на «Авось». «Авось», «Небось» и «Тотчас» покачивались на волнах на рейде ожидая моряков.
Николетту решено было поначалу спрятать, а при благоприятных обстоятельствах обнародовать.
К середине дня бригантина, баркентина и гребентина вышли в открытое море. Моряки дружно пели любимую песню:
По Миссири, Миссисупи, По широкому раздолью, Эх, раздолью! Ничего в волнах не видно. Эх, не видно...— Еще не вечер! — кричали капитаны.
Перси Китс и Василий, обнявшись, курили трубки мира.
Николетта и Окассен, сидя на полу в камбузе, читали подаренную им Вечным Греком книгу — адаптированные «Мифы Древней Греции». Тут-то и застукал их капитан, заглянувший в камбуз. Дальнейшие события развивались со скоростью звука. Команда, замерев, наблюдала, как капитан по всему кораблю гоняется за Окассеном с арапником и револьвером. Может, всё как-нибудь бы и обошлось, но Окассен споткнулся и упал, а когда поднялся, капитан уже был в двух шагах. Окассен вскочил на бортик ограждения, взмахнул руками и прыгнул в воду. Должно быть, он неудачно нырнул. Никто не успел и слова вымолвить, как Николетта вскричала:
— Куда Окассен, туда и я!
И тоже вскочила, юбчонки подхватив, на белые перильца, да в волны и сиганула. Похоже, что плавать она не умела вовсе. Только и осталось на воде — соломенная шляпка Окассена-Опоссума с ополоумевшим колибри да Николеттин чепчик.
Ужинали поначалу в полном молчании. Потом Джеймс произнес:
— Может, у них и вправду были родственные души?
На что Джойс сказал:
— Заткнись, братец.
XVI. Остров Произвольный
Британия не сразу понял — что это виднеется то там, то сям на глади морской. Он даже решил, что дело в склянках, принятых накануне. «Белая горячка» — подумал рулевой. — «Лево руля». А из хлябей то слева по борту, то справа по борту, то прямо по курсу высовывались верхушки деревьев разных пород. Галлюцинация имела место стойкая и держалась не один час. Потом в видениях наметилось отрадное разнообразие: стали мелькать шпили, кресты колоколен, головы памятников, — пока на горизонте не замаячил довольно-таки солидных размеров остров.
Мрачный капитан взял подзорную трубу, военно-полевой бинокль, винтовку с оптическим прицелом и стал вглядываться в побережье. Померещились ему вместо пирса либо причала уходящие или входящие в воду рельсы и надпись с названием станции: Вылезайка. Несколько поодаль установлен был большой плакат с осклабившимся субъектом в шляпе, махавшим какою-то книгою; увенчивала плакат надпись: «Кому надо Березайку, а нам надо Вылезайку!»
Поскольку из воды уже изрядное количество островерхих крыш виднелось, подходить ближе побоялись, стали на якорь и спустили на воду шлюпку с добровольцами.
Остров именовался Произвольным.
Название жители толковали по-разному, одни говорили, что на острове вот уже четыреста лет царит разнообразнейший произвол в экспериментальных целях, другие утверждали, что являются уникальнейшей аномалией на лице планеты и брошены как бы на произвол судьбы, третьи предполагали, что, как и всё на острове, название придумано просто так, безо всякой цели и смысла.
На вопрос — почему большая часть Произвольного оказалась под водой, островитяне отвечали кратко:
— Затопили.
— Зачем? — спросил Перси Китс.
И получил таинственный ответ:
— Веление было.
Одни островитяне находились у других в рабстве, причем хозяева зачастую казались людьми невежественными и даже тупыми, а рабы отличались не столько цветом кожи и нищенской одеждою, сколько одухотворенными чертами лица и царственной осанкою.
На острове имелась уйма тюрем и арестантов; последние пребывали почему-то в привилегированном положении; больше всего любили здесь воров, убийц и проституток. Тюрьмы были обставлены как фешенебельные гостиницы, и камеры в них назывались номерами. Особо капризные заключенные постоянно строчили жалобы на начальников тюрем и надзирателей, в каковых жалобах сообщали, что в отдельных камерах цветные телевизоры заменены простыми, а воду в вазах с цветами меняют раз в три дня.
Многие заключенные бродили по городу в силу того обстоятельства, что состояли на службе, — большинство подвизалось в области искусства, а в номера свои ходили разве что ночевать.
На Джеймса и Джойса, например, произвело глубокое впечатление выступление ансамбля каторжниц «Та степь», в котором семь особ возраста ниже среднего исполняли, в частности, канкан в кандалах.
Что касается Перси Китса, его совершенно приворожила местная знаменитость и звезда, известная бандерша, чьими портретами были оклеены все заборы. Бандерша осуждена была на солидный срок, и, поскольку заботы житейские ныне сняты были с ее вальяжных плеч и переложены на хрупкие плечи начальника тюрьмы, она всецело отдалась пению и пляскам, пользовалась огромным успехом и даже стала эталоном красоты на Произвольном, с ее не то чтобы очень легкой руки истинная красавица обязана была теперь обладать изрядным слоем жира и грима. Газеты и обыватели называли свою любимицу Наша Крошка. Нелишне заметить, что первые десять лет тюремного заключения ко времени прибытия первопроходцев звезда успешно отбыла.
Накануне отплытия флотилии, исполнив свой последний шлягер «Я совершеннолетняя и абсолютнозимняя», Наша Крошка обратилась к сидящему в зале Перси Китсу со сцены:
— Ну и сука же ты будешь, Перси, если отвалишь, не написав про меня ни одной гадской строчки в рифму!..
Зал неистово аплодировал.
Перси Китс плакал, бросал на сцену орхидеи и, вытирая скупые слезы манишкой, приговаривал:
— Сукой буду...
XVII. Родственники
Люверс вышел из гальюна потрясенный прочтенной там газетной статьей. Вообще-то, он был ярым противником замены туалетной бумаги газетами и всегда говорил, что какое уж там уважение к правительству, если лицом министра можно сделать то-то и то-то; но в данном случае почерпнутый печатный материал его очень взволновал.
Обратившись к своей обезьяне, он сказал:
— Фанни, а ведь мы с тобой, оказывается, родственники!..
«Как бы не так!» — подумала обезьяна и почесала в затылке. Плечами пожимать она не умела.
XVIII. Инки из инкунабулы
В больших современных городах-мегаполисах все дома тоже современные: бетон, стекло, металл, интерстиль. Кафе от морга, церковь от сауны, офис от оранжереи отличить невозможно. По причине интерстиля Джеймс и Джойс однажды вместо борделя забрели в музей. Поначалу они решили, что попали в суперэлитарный новомодный бордель. Но зале эдак на пятом поняли свою ошибку. Весьма разочарованные, они — не отступать же — пошли бродить по музею.
— Видишь вон тот талмуд? — спросил Джеймс.
— Само собой, — отвечал Джойс.
— И что это?
— Должно быть, экспонат.
— Нет, как он называется? — не отставал Джеймс.
— Да иди ты, братец, — ответил Джойс.
— Ин-ку-на-бу-ла.
— Откуда ты знаешь? — спросил потрясенный познаниями брата Джойс.
— Читал в газете, — честно сказал Джеймс.
Они разглядывали рукопись.
— Если долго смотреть в середину хреновины на левой странице, а потом как бы отправиться погулять, — ну, взгляд переводя, — по начинающейся в самой серединке спирали, — попадешь в подземелье, где находилось святилище инков. Древняя магия. Так было написано в статье. Ой, Джойс, где ты?!
Джойс свалился прямехонько на грандиозную каменюку и огляделся. Оглядывался он не особо внимательно, потому что отшиб себе зад, и не очень долго, потому что на него налетели несколько амбалов в полохалах из мешковины, с раскрашенными рожами и с перьями в волосах, сорвали с него рубашку, уложили его на каменюку, снабженную небольшой выемкой, и плюхнули сверху еще три камешка, захватившие Джойсу шею и плечи, придавившие живот и ноги. Камни были подогнаны и к человеку, и друг к другу точнехонько. Джойс не мог пошевелиться. Вскорости рядом с ним в таком же положении был уложен Джеймс.
Потолок огромной пещеры, освещенной кострами, позволял видеть всё происходящее, как в зеркале, поскольку инкрустирован был сверкающими листами из золота и серебра. Скосив глаза влево, Джойс заметил висящие под потолком мумии, видимо, помаленьку вялящиеся над грандиозным костерком, расположенным под мумиями на полу пещеры. Группа людей приблизилась к обездвиженным братьям. Люди заговорили на непонятном языке, и тут же к ушам братьев прильнули то ли змейки-наушницы, то ли ящерки и залопотали, запереводили кое-как, как умели:
— Уайна-Пикчу Мачу-Пикчу Уайна-Марка призываем вас в свидетели чуда Куско-Теласко и готовимся освятить новый Солнечный Камень принеся на нем в жертву тебе о Виракочи двух неизвестно откуда взявшихся жертвенных козлов а что ж они такие одинаковые да бледнолицые все на одно лицо а вдруг это опять архонты-лазутчики из будущего не всё ли равно лишь бы не забулдыги чтобы печень была качественная без цирроза Хуайна Капак ох и повезло нам кореши вместо одного сердца нам предстоит увидеть два Титикака Попокатепетль ура-ура сома-сома!
— Они вырежут у нас сердце и печень, — шепнул Джеймс, — такое у них жертвоприношение, об этом тоже было написано в газете.
— Шел бы ты со своей газетой, — отвечал Джойс.
— Но сначала напоят нас дурилкой из вареных мухоморов и шампиньонов, — не унимался Джеймс, — чтобы мы были под балдой и не вопили, а пели.
— Ты лучше послушай это гнусное «вжик-вжик».
— Палач точит обсидиановый жертвенный нож, осыпанный бриллиантами, — бойко сообщил Джеймс.
— Смотри наверх! смотри наверх! прямо над нами!
Прямо над ними красовалось на потолке золотое солнце с изумрудно-бирюзовыми глазами, в волосах солнца братья увидели ту же эмблему со спиралью, что и в инкунабуле.
Палач неспешно приближался вкупе со жрецом, несшим керамическую чашу с дымящимся отваром.
— Быстрее! Начинай! начинай со внешнего конца хвоста спирали, вали к центру, только глаз не отводи, я за тобой, может, успеем.
Братья оказались в музее почти одновременно, голые до пояса, взмокшие и взъерошенные. Перед ними в витрине лежали керамическая чаша и обсидиановый нож.
— А в газете не написали, что к жертвенному камню человека приделывали с помощью трех эргономичных камней, — сказал Джеймс, — там...
— Как Василий говорит, — отозвался Джеймс, — «узнаю брата Колю!» Всем ты хорош, братец, одна у тебя есть привычка паскудная: газеты читать.
К ним приближалась музейная работница. «Молодые люди, оденьтесь, — сказала она, — у нас не бордель».
— Знаем! — отвечали Джеймс и Джойс.
XIX. Фэнтези
Британия как-то раз выловил из воды русалку размером со щуку средней руки, очень растрогался, назвал ее Фэнтези, купил ей на одном из обитаемых островов большой аквариум, и месяц держал Фэнтези при себе. Каково же было удивление моряков, когда после полуденных склянок на палубу выскочил Британия с аквариумом в руках, каковой и фуганул за борт вместе с содержимым, то есть с Фэнтези, верещавшей напропалую, пока аквариум описывал в воздухе большую дугу, и замолкнувшей, едва он плюхнулся в воду.
— «И за борт ее бросает в надлежащую волну», — запел Перси Китс.
— В набежавшую, — поправил Василий. — Чем она тебе помешала, русалка-то?
— Достала она меня, — сказал Британия, — уж очень влюблена в меня была, кошка похотливая. Так верещала, так выгиналась передо мной за стеклом, сил нет. Всё хотела, чтобы я с ней сношался.
— Ну, и сношался бы, — сказал Перси Китс.
— Ты в своем уме? Она ведь мне не в габарит. Это всё равно что с дошкольницей сношаться. Не, по-честному, дело не в габарите. Деле в тем, что я патологию не люблю. Ведь это полнейшая патология: переть на судне по акватории с аквариумом на борту!
Дизи хлопнул Британию по плечу:
— Слушай, а ты ведь настоящий философ! То ли ты солипсист, то ли экзистенциалист, то ли прагматик.
— Не смей меня обзывать, — сказал Британия, побагровев, — собачий ты сын. Ежели ты такой грамотей, думаешь, тебе всё позволено?
XX. Звездные войны
Выйдя под звездным небом по нужде (как назло, в ту ночь всех разбирало одновременно, видимо, из-за пива и из-за порнофильма по видику), моряки наблюдали на ост-ост-зюйде натуральный звездный дождь на небольшом кусочке неба.
— Чего это они? — спросил Василий, имея в виду светила. — Метеоритный поток у них там или метеорный ливень?
— У них там звездные войны, — сказал Джеймс.
— Как звезданут хренометом по звезде, — и звездец, — подтвердил Джойс
«Звезданул бы я тебя, протуберанец фигов, — подумал принявший телепатему хренометчик из дальней галактики, — да и солнечную систему твою с тобой заодно, мало бы вам не было, блины двуногие, ваше счастье, что мне не до вас».
Может, он бы передумал, и мало бы не было, да его вместе с его хренометом аннигилировал мощный вражеский хрононосец с двумя моностопами, тремя полиглотами и одним всюем на борту.
— За что они, интересно, воюют? — спросил Василий.
— Все воюют за родину, — убежденно сказал Британия.
— Говорят, некоторые инопланетяне поголовно одного среднего пола и не рождаются, а почкуются, — заметил Джеймс.
— Какая же у них тогда родина, если они не рождаются? — спросил Джойс.
— Во-первых, — сказал назидательно Дизи, — про почкование придумали педики из женоненавистничества и личного бесплодия, никакого почкования нет и быть не может; а во-вторых, где отпочковался, там и родина.
— А в-третьих? — спросил Василий.
— Я диалектик, — гордо сказал Дизи, застегивая ширинку, — признаю только «во-первых» и «во-вторых».
«Звезданул бы я тебя лично, во-первых, — подумал всюй из хрононосца, — и твою тупую планету, во-вторых, да назначение мое во Вселенной другое. Как это — нет никакого почкования? Всё есть, и почкование, и деление, и сепуление, олух одноразовый одноклеточный!»
И тут зазвенел у Дизи в ушах неведомый нездешний невнятный гимн с абсурдопереводом:
«Товарищ, я вахту не в силах стоять», — Сказал архетип архетипу.XXI. Сцилла
Близнецы были чрезвычайно любопытны, даже и не в квадрате, а в неопределимой степени. Всем членам команды запрещено было капитаном соваться к Сцилле с Харибдою; естественно, Джеймс и Джойс незамедлительно отправились туда вплавь. Три судна, стоящие на якоре, были уже еле видны, когда братья ступили на гальку низкого бережка Сциллы, и тут же услышали выкрики, сопровождаемые звоном клинков на высоком берегу, куда они тут же по скалистой узкой тропке и взобрались; особо, впрочем, поначалу не высовывались.
На обоих фехтующих надеты были тривиальные фехтовальные маски; болельщики пребывали в густых вуалях либо накомарниках, болельщицы в паранджах. Происходящее напоминало не поединок, а тренировку.
— Туше! — вскричал Джеймс.
Сражающиеся замерли.
— Хукеры-нукеры! — вскричал судья. — Бежим, собратья-старообрядцы! Нас выследили!
Подхватив рапиры, придерживая длинные одеяния свои, неведомые собратья исчезли в чаще, кусты сомкнулись за ними, и наступила тишина.
— Пошли налево.
— Лучше направо.
— Стойте и не двигайтесь, — раздался сзади безапелляционный голос.
Пред братьями предстал молодой человек с красными глазами, двумя стрелялками экзотической формы, в двурогом шлеме с петушиным гребнем, в алых сапожках на каблучках. В обтягивающем его переливающемся всеми цветами радуги одеянии имелась некая странность: горло было закрыто, рукава ниже запястий, зато причинные места и зад обнажены. Позже братья смогли убедиться, что у всех жителей Сциллы, именуемой ими Эмбрионом Империи, сия деталь костюма, то бишь ее отсутствие, считалась обязательной независимо от возраста и пола, не было ее только у старообрядцев, преследуемых и прячущихся.
— Вы находитесь на берегах Эмбриона Империи. Скоро все континенты, вонючие государства, сраные острова и полуострова сольются в Империю и начнется благоденствие.
— Ты кто? — спросили близнецы дуэтом.
— Я Повелитель Вселенной, — скромно отвечал юноша, поигрывая стрелялками. — А вас как зовут, падлы?
— От падлы слышим! — воскликнули братья, и, получив по несмертельному предупредительному заряду в лоб, отвечали:
— Джеймс.
— Джойс.
— Ё! — возопил Повелитель Вселенной. — Моё-ё!
И доверил мобильнику заповедные слова:
— Гей, хукеры-нукеры, хунвейбей!
Пока из-за каждого куста выскакивали хукеры-нукеры, исполняя свои половецкие пляски и выкрикивая: «Наши мобильники лучшие в мире, прочие топим в сортире!» — обладатель лучшего в мире телефона и Вселенной поинтересовался:
— Англичане? Американцы?
— И то, и то! — гордо ответствовали братья.
— Ненавижу! Ненавижу! — завизжал юноша, топая алыми сапожками. — Ненавижу всех! Кроме эмбрионо-вселенцев! Сейчас казним этих незваных гостей на площади!
Пока вели братьев по острову, повидали они обнимающихся и целующихся женщин (в чадрах проделаны были дыры для еды и поцелуев; некоторые через эти функциональные отверстия показывали пленникам языки), а также ходящих под ручку парами молодых людей в вуалетках.
— Может, мы не туда заплыли, и это Лесбос? — предположил Джеймс.
— А дети-то откуда? — спросил Джойс.
— Искусственное осеменение, — отвечал следующий за арестованными и приговоренными Повелитель. — Из пробирки дети. От прихотей природы не зависим. Давно на нее положили с прибором.
Тут ввели пленников в шатер властителя, с западной стороны сшитый из камуфляжного брезента, с восточной — из брезентовой парчи, уснащенной звездами, орнаментами и изречениями, то есть строками санкретического алфавита. В левом углу шатра сияла гора золота и драгоценностей, в правом углу возле компьютера возвышалась внушительная пирамида пронумерованных черепов.
Повелитель снял рогатый шлем, плюнул на череп номер пять и надел осыпанную бриллиантами кепку, при этом вызвал по лучшему в мире мобильнику Старую Юнгу и Княжну Джаваху.
Вошли, виляя голыми задами, два трансвестита, молодой и старый. Старый, кажется, исполнял роль палача, а молодому велено было отправиться к компьютеру и объявить, что в Час Тянитолкая состоится на площади казнь номер восемь двух пришлых врагов Сердца Империи, а после казни — турнир в стихах сторонников подтяжки ягодиц и ревнителей силикона.
Тут зазвенели на столе фужеры и рюмки, закричали и запрыгали игрушки, завибрировали мобили.
Ходуном ходил шатер. Земля тряслась.
С криками ужаса бежали из шатра, метались по площади.
— К берегу, братец! — крикнул Джойс.
Между Сциллой и Харибдой плыл древний серый трехтрубный крейсер.
И когда Сцилла совершила прыжок навстречу сестре, сдавили они с Харибдой ненавистную крейсерову тушу, и оба острова с добычей ушли под воду, братья прыгнули во вскипающую волну и поплыли к еле видным вдали бригантине, гребентине и баркентине.
— Эй, братишки! — послышался знакомый голос. — У нас как раз двух гребцов не хватает, вас-то и надеялись подцепить, не будь я старый Дизи.
В шлюпке сидели нелегальные экскурсанты на Харибду.
XXII. Харибда
Рассказав про Сциллу, братья выслушали рассказ про ее близняшку.
— Харибда, ребятки, — молвил Дизи, — за сотни веков, как и ее сеструха, сменила сотни названий; впрочем, кто считал? Только что называлась она ТТ, в переводе ТехноТриллер. На ней наличествовали два хрена на разных оконечностях острова, оба тронутые изобретатели (один совсем шизо, второй так, с придурью), местные жители посередке (все до единого бессмертные, их изобретатели своими разнообразными гениальными изобретениями травили, а потом оживляли для продолжения сюжета), киношники, снимавшие всякие спецэффекты, взрывы, лазеры-мазеры, хронобукеры-хроношмукеры, прочую хренотень, а также надзиратели типа полицейских с надписью на униформе «ТТ».
— А зачем надзиратели? — спросил Джеймс.
— Чтобы никто с острова не свалил, для обеспечения нон-стоп эффекта.
Джеймс сидел на левом борту и плюнул через левое плечо, а Джойсу пришлось плевать через правое.
— И что же теперь будет со Сциллой и Харибдой? — спросил Джойс.
— А ничего. Полежат на дне несколько недель или лет, как понравится, мертвецов съедят рыбы, всё смоет подводное течение Мойстрим, острова поднимутся на поверхность в первозданном виде, сплошная зелень, да и начнется что-нибудь новенькое. Потому что, дети мои, всё меняется и всё течет.
С этими словами негр пошел на корму и помочился.
XXIII. Кочегар
В ближайшем порту на борт гребентины взят был новый кочегар. Звали его Старина Ник. Он отрекомендовался специалистом по машинам и грозился привести по совместительству машинные отделения флотилии в полный ажур.
Его лодчонка сновала от бригантины к баркентине, от баркентины к гребентине и обратно целыми днями.
Однажды Дизи вместо своего сундучка открыл сундучок кочегара и обнаружил, что сундучок набит часами всех видов, времен и мастей, от будильников до брегетов. Может, расскажи он кому о содержимом сундучка, кочегар с сундучком вместе был бы списан на берег, но Дизи по причине гибели Окассена и Николетты давно не слушал арий из опер и не плясал самбу, отчего впал в глубокую задумчивость и забывчивость.
Кочегар же под шумок поменял в машинных отделениях трех судов двигатели на машины времени.
Настала минута отплытия.
— Полный вперед! — приказал капитан на гребентине.
— Полный вперед! — раздалось с капитанского мостика на бригантине.
— Полный вперед! — словно эхо отозвалось на баркентине.
И все три судна, «Авось», «Небось» и «Тотчас», нарастив скорость, перешли из пространства во время под адский хохоток кочегара.
— Примите поздравления! — сказал критик режиссеру, помахивая щупальцами. — Это неподражаемо! А главное — совершеннейшая документальность и историческая точность! Никто так не вжился в жизнь землян, как вы. Вы — лучший голографорежиссер Вселенной.
— Таков уж мой принцип, — сказал режиссер, оттопыривая жабры; в речи его заметны были некоторые терранизмы и легкий земной акцент, — истина и ничего кроме истины. Нагой реалистизм и ни фиты имажинаторства. На том лежали, на том и лежать будем!
ФАТЕРА
— Это хомутатор? Это хомутатор?
— Нет, это частная фатера!
Телефона у нас не было.
Отец мой родился в Питере в семье потомственных рабочих. Со временем последние два слова становились всё непонятнее; однажды прозвучал по радио голос взволнованного обиженного человека: «Я потомственный блокадник!»
Детство мое и юность прошли в квартире (принадлежавшей вроде бы еще прадедушке) на Н-ской улице (так называла нашу улицу М-ского бабушка); квартира была отдельная, пятикомнатная, но на жаргоне коммунальных служб «без удобств», — не подумайте чего, туалет имелся, просто ванная отсутствовала, и размещалось наше родовое гнездо в полуподвале, чтобы не сказать — в подвале: с прадедушкиных времен культурный слой, подымавшийся к окнам, подобно вышедшей из берегов невской воде, погружал мое родное жилище в землю.
Отсутствие ванной нас не особо смущало, постоянно плескались в шайках, тазах, корытах, любили огромный облупившийся эмалированный голубой кувшин, да и общественные бани обретались сравнительно недалеко (это теперь, как я выяснил, приехав в город детства на неделю, их превратили в неясного назначения заведение под названием то ли «Сувенир», то ли «Сутенер»), меня туда водили сызмальства, сначала мама с бабушкой и сестрой в женское отделение, потом отец с брательниками в мужское. Я обожал кафель, лавки, ящички для одежды в раздевалке, но особой моей любовью был, само собой, находившийся во времени между мытьем («полным помоем», как банщик дядя Коля выражался) и выходом из терм автомат с лимонадом: стакан в приямок, монета в прорезь — и на тебе! а пена! а пузырьки! и вкус лимона несравненный!
— Вот древнегреческий философ, — острил отец, — говаривал: всё течет, всё меняется; а у нашего управдома пять лет крыша течет — и ничего не меняется.
Острота была довоенная, в былую эпоху за такие шуточки можно было и в лагерь загреметь при правильно написанном доносе. «Вы за что сидите?» — «За лень свою». — «Как так? Норму не выполняли?» — «Да с соседом после бани пива попили, анекдоты рассказывали, разошлись, он на меня донос настрочил, а я на него поленился». Про «за что сидите?» мне нравился еще один старый анекдот:
— Вы за что сидите?
— Я ругал Карла Радека. А вы за что сидите?
— Я хвалил Карла Радека. А вы, гражданин, за что?
— А я Карл Радек.
Полная выдумка, скажу я вам, Карл Радек нисколечко нигде не сидел, его сразу шлепнули.
Не знаю, как насчет крыши, она крышевала жильцов шестого этажа; а наш-то полуподвал, помаленьку опускаясь, тяготея к топи блат, воспетой поэтом, превращался в нежилой фонд. Печи, которые я еще помнил топящимися, увеселяющими нас живым греющим игривым огнем, заглохли, умерли, превратились в, извините за новомодное выражение, инсталляции, батареи с топью блат не управлялись, сырость чахоточная поползла из видимых и невидимых щелей, а из неведомых подвалов ниже подвала, из тайных царств, полезли крысы. Крыс ничто не брало. То ли крысиный яд был бракованный, просроченный, то ли мы имели дело с мутантами, хававшими радиационные отходы потаенных городских НИИ, то ли крысиные инструктора переигрывали людских дератизаторов, но сыр из крысоловок и капканов пожирался хвостатыми бойцами невидимого фронта регулярно, жрали муку с гипсом да толченым стеклом почем зря, точно факиры, и хоть бы хны.
Лет двадцать, надевая все ордена, отец ходил по всевозможным инстанциям. Сестра вышла замуж, переехала к мужу, старший брат укатил на заработки на севера, я отслужил в армии, окончил институт, работал инженером в научно-исследовательском институте на Выборгской стороне и писал диссертацию. И тут, как управился я со вводной частью, нам внезапно дали смотровой, потому что дом наш предназначался на снос: северная стена, выходящая во двор, дала трещину, вставляемые днем в оконные рамы стекла ночью из-за перекоса в рамах лопались снова, несознательные забивали их фанерой, а один побогаче свой проем оконный кирпичом заложил; в парадной при входе поставили подпорки, и тут уж особо нервные лишились сна, всё ходили на лестницу слушать, как подпорки трещат, а перекрытия дышат. Даже мы, по правде говоря, при всей нашей невозмутимости дрогнули, ибо весь дом должен был неотвратимо рухнуть на нашу отдельную прадедушкину квартиру, кто бы нас тогда отрыл, спрашивается, эмчеэса еще не существовало, отрок Шойгу в Туве могильники копал в нашенских эрмитажных экспедициях у знаменитого Грача.
Но достаточно долго прожили мы, как камикадзе, пробыли натуральными смертниками, ожидавшими (особенно в часы ночных страхов, свойственных не только атеисту, но и всякому существу, к чьему лицу прикасаются волны космогонического темного океанариума) обрушения всей этажности дома на наши подвальные головушки.
Мы упрямствовали, упорствовали, отказываясь от предлагаемых нам кубатур, и переехали последними, когда всё уже было расселено, пусто, гулко и неосвещаемо. Семья наша не пожелала отправиться в Лесное, отвергла хрущобу на Средней Рогатке, полкоммуналки в Коломне; мы слыли неблагодарными свиньями, неодомашненными животными, не желавшими есть с руки, в этом мерещилась (и нам, и недовольным чиновникам) некая дурная бесконечность, неразрешимость, едва смягчаемая пролетарским происхождением и заслугами родителей.
Все изменилось осенним днем, прибежал отец, осмотревший только что предложенное очередное помещение неподалеку от канала Грибоедова на Д-вом переулке, и сказал:
— Переезжаем! Фатера как по заказу!
Намаялись при переезде и мы, и грузчики, и родня, и друзья-знакомые, таская вещи да старую мебель на пятый этаж по узкой крутой лестнице без лифта; зато дом был после капремонта, зато из кухонного оконца виден был купол Исаакия. Фатера оказалась четырехкомнатная с крохотулечной ванной, антресолью; мы торжествовали!
Шкафы уже устоялись на копытцах подкладных фанерок, абажуры со светильниками приняли в свои домишки обнаженные лампочки, занавески обрамили окна, предметы домашнего обихода, от книг до кастрюль, покинули тюки и коробки, а мы привыкли различать голоса дверного звонка и телефонного (фатера была, кроме всего прочего, — о, наслаждение! — телефонизирована, черный хвостатый с диском да трубкою гордо стоял на старой тумбочке в прихожей), когда брату взбрело заменить древний, доставшийся от прежних жильцов кухонный шкаф на пенал, купленный по случаю в известной всем ленинградцам мебельной комиссионке на Марата.
— А что с этим делать будем?
— Отнесем на помойку. Кому надо, тот себе его заберет.
Что было логично, мы сами принесли, помнится, с помойки этажерку с буфетом, отмыли их, отшкурили мелким наждачком, покрасили черной краской, покрыли лаком, и стояли оба предмета, украшенные вышитыми матушкой салфеточками, в глубокой красоте.
Вот тут мы, на нашу голову, предназначенный на вынос шкаф от стенки-то и отодвинули.
— Это для чего тут к стене фанера приколочена?
— Может, стену выравнивали, чтобы шкаф прислонить.
— Непорядок, давай фанеру отдерем, выровняем, как положено, зашпаклюем, подкрасим под цвет всей кухни, благо «слоновой кости» в хозяйстве две банки имеется.
Отодрали мы фанеру, и предстала пред нашими очами дверь.
— Может, фатера раньше больше была, а теперь ее на две разделили?
— Тогда бы стену заделали наглухо, — сказал брательник, заглядывая в замочную скважину. — Мать честная! Там еще одна комната! Звони дяде Ване, он любой замок открывает.
— Отмычкой, что ли?
— Гвоздиком.
— А надо ли ее открывать? — сказала матушка нерешительно.
Пришел с работы отец, приехал дядя Ваня, выпили «зубровки», советовались.
— Вам за нее придется дополнительно платить как за излишки площади как пить дать, — сказал дядя Ваня.
— Это если мы ее в жилконторе обнародуем, — уточнил отец.
— Так в жилконторе план этажа имеется, она там значиться должна, — предположил брательник.
— Разве можно такое от ЖЭКа скрыть?! — воскликнула матушка. — Это нарушение закона! Может, она вообще не наша.
— Какого закона? — спросил отец.
— Ну, я не знаю, — сказала матушка.
— Не знаешь, а говоришь.
Матушка обиделась и ушла с кухни.
Дядя Ваня за десять минут дверь согнутым гвоздем открыл.
— «Вот вам ваша потайная дверца, Папа Карло», сказал столяр Джузеппе», — сказал он, довольный.
Вошли мы и ахнули.
Большая кухня со встроенными полками и шкафчиками, со старинной чугунно-кафельной плитой, с массивным столом посередке встретила нас тишиной. Все было припылено: стол, табуретка, самовар на столе, медный чайник, жостовские подносы с гиперболическими цветами сгинувших садов.
— Может, за пивом сбегать, обмыть прибавление жилплощади? — спросил брат.
— Там, в глубине, несколько ступенечек вверх и еще одна дверочка, — заметил дядя Ваня, — ту открывать будем?
— Ни в коем случае! — воскликнула разрумянившаяся матушка.
Никто ей не возразил.
— Зачем же ту открывать? — сказал отец весело. — Жадность фрайера сгубила. И так хорошо. У нас каждая комнатушечка меньше этой кухни.
Пока отец, брат да дядя Ваня на прежней кухне пиво пили, мы с матушкой прибрались на новой кухне, являвшей нам щедро разные клады за дверцами шкафчиков да полок, то зеленого стекла граненые уксусницу с перечницей, то стопку тарелок, то музейную кофемолку.
— Мне кажется, — сказала матушка шепотом, — кто-то за той дверью ходит, Миша.
— Не слышу.
— Ты у нас малость глуховат.
— Мама, тебе разве эта комната не нравится?
— Мне, сынок, нравится, но я лишнего боюсь, а и не знаю, наша ли она, не отберут ли; не по себе мне.
Вот прожили мы неделю со своей полузапретной дареной комнатой, умыли ее, прибрали, нарадоваться не могли, в жилконтору не заявляли, затаились. Только матушка время от времени плакала, приговаривая, что всю жизнь, мол, мечтала о такой хоромине кухонной, даже во сне ее будто бы видела, однако тревога родительницу одолевала, словно она чужое присвоила, а за всю жизнь предыдущую даже булавочки чужой не взяла.
А понедельник (дурной был понедельник, тринадцатое число, полнолуние с лунным затмением в придачу, мезальянс по полной программе) сюрприз-то нам и преподнес.
С работы ехал я из местной командировки, быстренько с делами управившись, за полтора часа до конца рабочего дня. Матушка мне открыла прямо-таки не в себе, лицо горит, каплями Зеленина благоухает, глаза на мокром месте.
— Там, — дрожащим голосом произносит, — там, в той комнате... сил нет... ты только глянь...
И глянул я.
В глубине новообретенного помещения дверь за несколькими ступеньками вверх была снята с петель, и в образовавшемся проеме видно было кипящее своей непонятной для непосвященных жизнью некое учреждение.
Ходили, говорили, шумели, на площадке просматривающейся за отдаленной аркой лестницы курили, всё это безо всякого внимания к нашей открывшейся для всеобщего обозрения частной жизни. Судя по количеству молодежи, юношей и девушек с портфелями, сумками, папками, рулонами бумаги, то было какое-то учебное заведение, а благородные пожилые люди, должно быть, профессора, позволяли догадаться, что заведение высшее, то бишь вуз.
Нас незваные соседи не замечали, редко кто с явным равнодушием, проходя, глядел в нашу сторону, видимо, считая новоявленную кухню нашей фатеры частью своей институтской столовой.
Отец с брательником явились, как всегда, в половине седьмого, матушка заявила, что без двери не уснет, лучше уехать к сестре ночевать, страшно.
— Где же мы к ночи дверь-то возьмем? — мрачно вопрошал отец.
Мелькание в проеме помаленьку прекратилось. Люди разошлись, сначала студенты, потом преподаватели, предпоследней отгремела ведром уборщица, последним отзвенел ключами вахтер, и свет погас.
— Институт, что ли, какой? — спросил я у брата.
— Институт. А при царе Горохе тут заведение малоинтересное было, то ли тюрьма, то ли публичный дом.
Брат увлекался краеведением.
При словах «публичный дом» матушка разрыдалась и отправилась собираться к тетушке на ночлег.
Отец плевался, ругался, нашли на антресолях и на помойке доски, заколотили дверной прямоугольник, матушка завесила сие безобразие плюшевой занавеской с помпончиками и убыла спать, взяв с отца с братом слово, что назавтра купят они замок, врежут в дверь, ведущую в залу-кухню, открытую дядей Ванею, чтобы запираться к ночи на ключ; а может, и дверь какую подберут да навесят.
— А Михаил у нас особенный? Ему поручений нет?
— Он диссертацию пишет, — отвечала матушка, очень серьезно и трепетно относившаяся к моей научной деятельности, — он занят.
Замок врезали, к ночи, да и не только, запирались от найденной комнаты исправно на два оборота; но некто невидимый прибиваемые ежевечерне доски ежеутренне ни свет ни заря отдирал, унося их с непонятной целью неведомо куда, так что регулярно оказывались мы перед проемом с кипящими за ним буднями высшей школы. А также перед проблемою: где взять новые доски? По тем временам проблема была нешуточная, ездили то на рынок на Васильевский, то на городскую свалку, то на удельнинскую лесопилку, то к знакомым в Шувалово.
— Миша, — сказала мне матушка, — ты ведь у нас не просто инженер, ты аспирант, пойди в этот институт к ученым собратьям, поговори, узнай, зачем они дверь снимают, договорись, чтобы хоть доски не отдирали.
Прежде никто заговоренного порога не переступал, ни мы туда, ни они оттуда. Я очень не хотел невидимую воздушную перегородку нарушать, дурной пример подавать, но она меня уговорила, приговаривая: «Иди, иди!» — и крестя меня, едва я повернулся к ней спиной.
Как выяснилось, дверь снята была по приказу нового административно-хозяйственного чиновника, хмурого отставника; что-то было в лице его особенное, суровое, сосредоточенное, нечто ожесточило его на жизненном пути, то ли армейские будни, то ли, напротив, выход из регламентированной военной лавры в штатскую юдоль, полную неопределенности, хаоса, опасностей, непредсказуемости. Он снизошел до разговора со мной, объяснив, что дверь снята в целях реставрации, никаких досок неструганых в учебном заведении, посещаемом эпизодически — или периодически? — министерскими работниками, ревизорами и иностранцами он не потерпит, но на самом деле он понять не может, кто я такой, откуда взялся и каким образом моя отдельная частная фатера смеет так нагло лепиться к общественному зданию, такую допускать профанацию собственности Министерства просвещения; к тому же, заметил он, бледнея, в институте наличествуют научно-исследовательский сектор, конструкторское бюро, все сотрудники с допусками, куда только смотрит первый отдел, если на территорию, связанную с секретными заказами особых ведомств, через настежь открытую амбразуру подозрительной кухни в наглухо закрытую тематику любой шпион любого государства... ну, и так далее. Я предложил ему дверной проем, объединяющий нас поневоле, заложить, зацементировать, и дело с концом. На что мрачно ответил он, что не имеет права самовольно проем превращать в стену, это не в его компетенции, на то другие инстанции есть, где была дверь, там она и будет, навесим через месяц-другой. А как нам-то жить этот месяц-другой, вопрошал я, ждать, когда нас обворуют или убьют, что ли? у нас ведь тоже не проходной двор. Но он утверждал, что нас за вверенной ему снятой им дверью быть не должно, откуда мы вообще взялись... и тому подобное.
— А если мы доски зашьем пластиком? — осенило меня. — Обнесем бейцованным штапиком, пластик под цвет вашего коридора подберем...
Он задумался, долго не мог выйти из каталепсии задумчивости своей. Тут вбежали в его кабинет два молодых человека, стали требовать машину для поездки на техническую свалку за установочными, срочно, срочно, послезавтра ждем военпреда, а у нас конь не валялся, они занялись друг другом, кто кого перекричит, а я ни с чем с позором удалился, запомнив разве что цвет коридора — салатный.
— Где же мы, ё-мое, найдем такой кусок салатного пластика?! — спросил отец.
— Может, мы обоями доски оклеим да сверху валиком краской закатаем? — предложил брат.
— Краску салатную тоже пойди найди, — заметил отец.
— У меня штапель салатный для подушек припасен, — сказала матушка.
В общем, на время поисков вопрос остался открытым, дверной проем тоже.
Матушка говорила, ей с сорок восьмого года такое снится: квартира с двумя ходами, парадный заперт, черный не запирается, по лестнице черного хода поднимаются бандиты, отец на работе, сестра в садике на продленке, брат совсем маленький, я и вовсе младенчик, сейчас убьют, ограбят, матушка, пытаясь закрыть дверь, кричит благим матом, грабителей с топорами трое, они сильней, тут просыпается она с криком, а то и с кровати валится.
— Таких случаев, — шепчет она, утирая глаза, — после амнистии в городе было полно. Нечего вам зубы скалить, столько народу поубивали, а теперь тоже поговаривают: ходят по городу двое с автогеном, от вора нет запора, да тут какой автоген, входи не хочу.
В пятницу был я дома один, все на работе, тишина, вот в тишине хорошо слышно мне и стало: ходит кто-то по приблудной нашей зале, кран открыли, закрыли, чашечкой бряк. Взял я лопатку саперную, брат из армии принес, ключ повернул, храбро вышел из кухоньки на кухню.
Посередине кухни у стола девушка стоит с голубой чашкой.
— Добро пожаловать, дорогая гостья, — говорю, — в нашу фатеру.
И чувствую: покраснел.
Она, тоже порозовев, в ответ:
— Я пришла воды попросить, пить хочу, я думала — это кухня нашей столовой. Извините.
— Хотите гриба?
— Что-что?
— Чайного гриба, он вроде кваса, мы его держим, он почти существо живое, мы его разводим. Вкусный, с сахаром. Сейчас налью.
Глаза ярко-серые с темно-синими прожилками, ресницы чернущие, густые, глаза-шмели, брови черные, тонкие, с завитками, волосы темно-золотые, тяжелые на вид.
— Меня зовут Михаил, — произнес я в приступе отчаянной храбрости. — А вас как звать?
— Доротея, — отвечала она.
— Какое имя! У нас одного знакомого зовут Дорофей Яковлевич. Стало быть, и вы в некотором роде Дорофея. Так вы на фею и похожи.
— Мама хотела назвать меня Летиция, по-латыни Радость, но папа мой Веселин, Радость Весельевна — это уж чересчур. Мой папа болгарин. Сговорились на Доротее.
Гриб ей понравился, я пообещал ей отросток и спросил: любит ли она театр? или предпочитает филармонию? Она любила и то, и это и согласилась сходить со мной на спектакль или на концерт.
— Скажите мне номер вашего телефона, я билеты достану и вам позвоню.
— Я живу в общежитии, — сказала Доротея, — я ведь приехала учиться из Софии. Скажите вы мне лучше номер вашего телефона, я позвоню вам дня через три сама. Или зайду.
Как я мог ей сказать — не заходите?! Я всё смотрел на дверной проем, за которым она скрылась, студенты бегали туда-сюда, а у меня в голове вертелись слова из «Ромео и Джульетты» (я любил читать пьесы): «Мы что-то слишком быстро сговорились, всё как-то второпях и сгоряча».
Мы пошли на концерт, потом в театр, это была моя первая девушка, мы гуляли под ручку медленно и церемонно, я дарил ей цветы, мы целовались, трепеща, в Летнем саду, на спусках Невы и Фонтанки, в волшебной ничьей запретной комнате между прикрытой дверью и отсутствующей, вкус ее губ напоминал редчайшую незабвенную карамель моего детства.
А потом она пропала, сперва на день, потом прошли три дня, пять, неделя, ни ее, ни звонков.
Доротея, Доротея, зачем ты бросила меня, вернись, ведь если ты не вернешься, мы не обвенчаемся в Риле, у нас не родятся дети, Донка и Божидар, мы не споем на морском берегу летней ночью («Где ж вы, где ж вы, где ж вы, очи карие, где ж ты, мой родимый край? Впереди — страна Болгария, позади — река Дунай... И под звездами балканскими вспоминаем неспроста ярославские, рязанские да смоленские места...»), не поедем в Несебр, не попробуем салат из манго и хурмы, лучше бы только манго, хурма эвфемична, ты не расскажешь мне о Людмиле Живковой, не сядет перед нами на цветы огромный подалирий ночной, где ты, Доротея, как пусто мне без тебя, вернись.
Такая охватила меня печаль на манер тоски смертной, сконцентрировался вакуум беззвучный, да и шарахнуло, дом затрясся, осыпь, грохот, смолкло, уши заложило. Мы выскочили, в чем спали, карикатурная компания. В нашей сказочной комнате, где я целовал Доротею, обрушился потолок. Пахло дрянью. «Газ взорвался, — сказал брат. — Главное — спичкой не чиркнуть». Отец, рискуя, зажег свет, на полу куча мусора авторства бывшего потолка, а из огромной черной дыры, из которой несло холодом Заполярья того света, глядели на нас, уцепившись за края, распластавшиеся, чтобы обратить к нам циферблаты, пять чумазых страшенных рож; как я теперь полагаю, то были привидения бомжей из наступившей несколько позже самоновейшей якобы постсоветской эпохи. Брейгелевские шуты гороховые смеялись, из их щербатых ртов неслись немыслимые шуточки, большей частию нецензурные, конечно, они грозились спуститься, высовывались и утром, и днем, покуда не прибежал (с лазером почему-то в руках, видать, новость об обрушении застала его в какой-то суперсекретной лаборатории или в маленьком институтском цехе) в отчаянном состоянии знакомый мне уже АХЧ; стоило им опять сползтись, состязаясь в остроумии, ох, щас спущусь, веревку только доплету, стремянку подтащу, щец хочу, не ими ли воняет (хотя воняло точно газом; уж не нашли ли они над нашей свою позабытую миром комнату, бродя по сквозным городским верхотурам чердаков, не стали ли греться в пронимающий до костей хлад февральский у неисправной плиты мансардной?). Тут наставил на них отставник лазер, хренов гиперболоид, тоже мне, инженер Гарин, оптик с механиком, заорал благим матом, братские чувырла, суньтесь еще раз, духи трёпаные, луч включу, башки ваши отчекрыжу. Надо отдать им должное, исчезли незамедлительно.
Прискакали пожарные, принеслись милиционеры, примчались бы и эмчеэсовцы, да, как известно, пока не образовались. Газ отключили до вечера, воду тоже, свет заодно. По умолчанию, грозный взор на нас метнув, АХЧ объявил нашу потаенную залу институтской лабораторной вотчиной. К ночи привезли отец с братом кирпичи, при детективном свете карманных фонариков заложили мы дверь в залу, назавтра явился знакомый штукатур, забудьте всё, стена как стена, прощайте, воспоминания. Мать поставила возле бывшей двери в утерянную кухню своей мечты этажерку с цветами, бумажные кладбищенские на самом верху, слезы утерла, вздохнула с облегчением, вот мы опять честные люди, чужой кубатуры не присвоившие, и нечего нам скрывать.
Свет загорелся, вода пошла, отшипев, отплевались краны, заголубели незабудки газовых горелок, закипел чайник, зазвонил телефон, на его изменившийся голос так кинулся я в прихожую, что чуть шкаф не сшиб, то была Доротея, она уезжала на каникулы домой в Болгарию, звонила перед отъездом, никто не брал трубку, телефон ремонтировали сутки, а мы и не заметили.
— На нашей кухне потолок обрушился.
— Но вас не задело? Вы здоровы? Ты здоров?
— Я соскучился, Доротея, не знал, увидимся ли.
— Увидимся завтра, хорошо?
— Лучше сегодня.
Вся семья моя в дверях стояла, глядели на меня, я всегда стеснялся, они дивились, что я говорю при них, что я так разговариваю с невидимой девушкой, а мне было все равно, пусть слушают.
— Я люблю тебя.
Она молчала.
— Я предлагаю тебе руку и сердце. Делаю тебе предложение.
Она молчала. Мои тоже все молчали.
— Доротея, ты выйдешь за меня замуж?
И она ответила:
— Да.




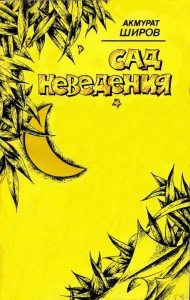








Комментарии к книге «Квартирная развеска», Наталья Всеволодовна Галкина
Всего 0 комментариев