Дойна Галич-Барр Колокола и ветер
…Со дна праокеана – слышу, – канув, гудят колокола.
Момчило Настасиевич. МысльПроза нашего времени
Доjна Галиħ Бар
ЗВОНА И ВЕТАР
Колекциjа српске књижевности
Коллекция сербской литературы
© П. Р. Драгич-Киюк, текст, 2006
© А. Базилевский, перевод, 2009
© Издательство» Вахазар«, серия, 2004
© Издательство «Этерна», серия, 2009
© Издательство «Этерна», оформление, 2009
1 Иисусовы слезы
Утром, на заре, я слушала музыку, доносившуюся из вашего дома. Аккорды словно вдруг приходили с дождем и ветром и быстро обрывались. Почему вы тоскуете? Вы тоже скрываете свои чувства. Ведь ваше лицо, интонация вашей речи, кажется, полны священным покоем, которого не затронуло страдание жизни. Или вы, как большинство людей, любите слушать чужие исповеди, сами не раскрывая душу? Иногда мне кажется, что вы здесь, рядом со мной, лишь для того, чтоб убедиться в моей слабости. Может быть, именно в этом причина, что вы упорно, как дух, молчите.
Звуки композиции Сибелиуса, – записала я в дневнике, – особенно духовых инструментов, разлетались по лесистым холмам. Листья трепетали, пшеница на полях в долине, словно под музыку, плясала на ветру, а он сливался с финским ветром, который Сибелиус заколдовал в своей симфонии. Ветер вздымался к облакам полноводной рекой – она вышла из берегов, чтобы стать свободной и продолжить свое таинственное течение к вечности. Сибелиус приводит меня в состояние, близкое к трансу, я восхищена, я словно меж сном и явью, на грани самозабвения. В такие минуты чувствуешь, что Бог духовно и ментально помогал композитору творить, что Всемогущий раскрывает свою божественную суть в музыке. Я тоже, когда пишу иконы, а особенно когда работаю над фресками и мозаиками, ощущаю в себе его силу и мощь. Только такие работы имеют художественную ценность. Апостол Иоанн свидетельствует о словах Христа: «Отец во мне, и я в нем».
Христос учит нас и такими словами:
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам».
Я понимаю, почему вы любите классическую музыку. Ваши композиции – диалог с Богом, с бессмертием. Для меня несомненно, что жизнь после смерти есть, не зря веками вместе с мертвыми хоронили вещи, нужные в повседневной жизни. Серьезные композиторы, такие как вы, бессмертны благодаря музыке. Они оставляют миру часть себя и весть о Всевышнем: и божество, и искусство всегда устремлены в будущее.
Могу себе представить, как жилось бы вам, не будь надежды, что в музыке вы обретете бессмертие. Разрушился бы весь ваш мир. И вера. Я люблю ваши композиции за веру в энергию жизни и знаю, когда вы довольны, что удалось воплотить задуманное. Тогда вы обычно напеваете арии из опер, а то и какую-нибудь народную песню, а я не могу ее узнать, не знаю, откуда она.
Спрашиваю себя: почему вы так любите Сибелиуса? А просто он затрагивает любую судьбу, даже мою, и судьбу родины. Почти у каждого народа, пережившего насилие, есть легенды, которыми он защищается от ужаса коллективной памяти. Так и с историей Финляндии: Сибелиус превратил ее в музыку, противопоставив насилию величие природы. Сколько бы мы ни слушали эти хмурые, печальные композиции, они всегда несут ощущение духовности, контрасты эмоций, с постоянным прославлением легендарного мира и благодатного северного пейзажа.
Вы любите и часто слушаете сочинения финского композитора. Мы уже прослушали вместе несколько его симфоний, думаю – пять, осталось еще две. Жаль, что он уничтожил восьмую. В первой сильно влияние романтизма Чайковского, а вторую, ту, что звучит сегодня, я чувствую, он писал сердцем и душой, без всяких посторонних влияний. Воздействует ли Сибелиус на вашу работу?
В ваших композициях тоже воплощено печальное, грустное восприятие мира, но они насыщены теплом, в них есть послание надежды и счастья. Я слышу в них колокольный звон и звук ветра.
Какой ветер вы избрали? Ведь у каждого ветра своя тональность, свой почерк и память.
Я слышу ветры этих холмов, долин и ущелий. Слушаю, как трепещут ласкаемые солнцем листья. Мне раскрывается вера в пении, в колокольчиках ягнят и народной музыке – исконном звуке этих холмов. И в ваших, порой меланхолических, сонатах, где слышна свирель.
Меня спрашивали: что побуждает вас сочинять музыку именно здесь, близ этого монастыря в уединении? А меня, что меня влечет из Америки в здешние церкви, побуждая украшать их стены фресками и иконами? Я не сержусь – ведь в любопытстве скрыта наивная любознательность, а не всезнающая гордыня.
Возможно, жажда и потребность делать то, что я делаю, эгоистичны. Работа над фресками и иконами доставляет мне удовольствие, приносит счастье, которого я долго не понимала. Ничто не могло дать душе такого утешения. Я путешествовала в прошлое через образы Сотворения мира, истории христианства – не той, о которой читала в Священном Писании, которой изумлялась на уроках закона Божия или восхищалась в произведениях старых мастеров, посещая церкви и музеи. Это путешествие рождало личные представления о прошлом. Словно и я – участница тех событий, словно и я жила в те времена и где-то в клетках мозга все они генетически сохранены, ибо и до моего рождения пребывали в клеточках далеких предков, свидетелей того, что я теперь пишу. Так рождается новый, мистический религиозный опыт – когда пишу, я переживаю его в молитвах. Эти новые образы воплощены и в других работах – не в монастырских, а в тех, что я выставляю или храню у себя дома.
Таков мой земной дар и благодарение Иисусу Христу и святым, которых я еще больше полюбила, работая над иконами, – работа метафизически приближала меня к ним.
Почти вся арка при входе в мой американский дом – в мозаике. Темы композиций – исцеления и чудеса, которые Иисус совершил до своего воскресения. Он показан как земной человек, как те, кому он помогает, даже и женщины, морально и душевно падшие. Работая, я видела его слезы и слышала плач – не от физической боли, страданий и мук, но оттого, что он свидетельствует, сколько трагедий и мук в человеческой жизни, и понимает, как нам, грешным, нужна помощь, явленная в чудесах и вере во Всевышнего. Его лицо было спокойно, не выражало тоски; но в проницательных, темных, влажных глазах поблескивали слезы. Эти глаза лучше, чем наши, человеческие, видели прошлое рода людского, его настоящее и будущее, которое не сулило избавления от ненависти, злобы, зависти, убийств, болезней и голода. Иисус из Назарета шел по Святой земле, исцелял и творил чудеса.
Это дитя было избрано Богом, чтобы родиться, хотя, мне кажется, вы так не думаете. Но уверяю вас, на меня его изображения и рассказы о Нем произвели еще в детстве сильное впечатление – и зрительное, и эмоциональное. Может, поэтому лицо одного ребенка на панно похоже на мое. Это заметили и зрители, и мои родители, хотя, работая над мозаикой, я не сознавала, что и своим запечатленным лицом свидетельствую о Его чудесах. Говорят, есть икона, на которой Христос плачет. Мне бы очень хотелось ее увидеть. Я услышала о ней уже после завершения мозаики. Хотелось бы мне ее увидеть, хотя бы на фотографии.
Я спрашивала себя, о чем он думал, когда был ребенком, и размышляла: какое детство было у него, богоизбранного? Эти сцены не покидали меня, их я охотнее всего рисовала. Видения Христа в буйной детской фантазии были многообразны. Я размышляла, как его неземная сила и чудеса действовали на старшего брата и на друзей, на простодушные игры, в которых он наверняка был непревзойденным. Для сверстников он был фокусником, который, хоть он и отрок, творит чудеса. Возможно, они даже боялись его силы? Я была единственным ребенком и не знаю, что такое отношения с братом или сестрой. В школе я слышала, как другие дети жалуются на сестер и братьев. И не могла понять их ревности и злости. Мне так хотелось, чтобы у мамы был еще один ребенок, мы бы вместе играли. Говоря с честными сестрами-монахинями о ревности в семье, я спросила, был ли ревнив старший брат Иисуса и его друзья?
– Да! – ответила честная сестра, удивленная вопросом. – Брат очень злился и ревновал, – продолжала она, – ведь отец сказал ему, что Иисус – избранник Бога, что ангелы и пастухи с дарами посетили Христа в день рождения и эта тайна еще не сообщена Христу. Иосиф и Мария не сказали ему, почему покинули Вифлеем и ушли в Египет. Скрыли, что в поисках младенца Иисуса царь Ирод приказал за одну ночь, до зари, убить всех детей. А они благополучно жили в Александрии до самого возвращения в Святую землю.
Когда Иисусу исполнилось тринадцать лет и он, согласно обычаю, стал считаться мужчиной, брат, терзаясь угрызениями совести, открыл ему тайну его избранности и просил простить его. Христос не отреагировал, из рассказа брата он не понял смысла явления ангела, но был потрясен тем, что из-за него погибли дети. Он спросил об ангеле мать и Иосифа, и мать со слезами рассказала ему, что Якова и ее посетил ангел и возвестил, что он – Сын Божий.
На моих рисунках тех лет Христос – веселый ребенок, он шутит, смеется с друзьями и совершает чудеса, которые сам считает магическими трюками. Так было, и когда я стала пользоваться красками: я изображала его веселым мальчиком, купающимся в реке Иордан, где позднее он был крещен. В окружении большой семьи Иисус пел псалмы благодарения Богу. Он был так близок мне в мечте, как будто мы всегда были вместе. Я сказала об этом честной сестре, и она ласково улыбнувшись, поцеловала меня в голову.
Вернувшись в Иерусалим, он увидел последствия погрома, руины и пепел домов и еще не восстановленных храмов. Честные сестры воспринимали мои видения, запечатленные в рисунках, как Божий дар и поощряли меня к тому, чтоб я продолжала рисовать Христа – мальчика и младенца. Если б я жила в Его время, думала я, мы были бы добрыми друзьями.
И вот однажды ночью мне было явлено чудесное видение: я легко поднималась к вершине холма, словно не касаясь земли. Но когда была уже почти у цели и обернулась на пройденный путь, я очень удивилась. Позади все сияло светом, и множество детей купались в этом свете, и моя одежка светилась, и башмаки. А впереди было все знакомо: и полевые цветы, и стволы тополей. Куда ни повернись – все наполнял мягкий, благоуханный, приветливый свет. Но вот я добралась до вершины, и все исчезло, кроме нереального света, который, подобно туману, поднимался в небо. И тут я проснулась. Наутро я хотела это написать красками, но ничего не вышло. Я не могла вспомнить, не могла перенести на холст тот необычайный свет. На полотне остались только холм, тропинка и множество цветов. А над холмом я написала домик на облаке. Я злилась на себя и не хотела показывать картину честной сестре.
Я могла бы писать рассказы о фантастических видениях своего раннего детства. Богатые верой, они были поддержаны и обрели форму во французском пансионе в Париже. Там, на стенах всех классов, в спальне и в столовой, в часовне, – везде был он, распятый на кресте. Он повседневно присутствовал в наших молитвах и разговорах. Было два образа: один – переживание Христа через мечту ребенка, в которой он беззаботен или иногда испуган, как я в детстве, другой – видение взрослого Христа, который сознательно помогал людям, творил чудеса как Сын Божий и был распят, дабы спасти нас, грешных. В позднейших моих работах отражалось то же самое.
Я думала и о его матери, о том, как она его воспитывала и растила, была ли строга к нему? Честные сестры учили, что Иисус был хорошим ребенком. Испытывала ли мать некое особое святопочитание к сыну, зная, что он избранник Божий? – продолжала спрашивать я. Как могла она жить в постоянном страхе, зная, что власти хотят убить его? Как могла, обняв его, спокойно отпускать играть и ждать дня, когда получит от ангела знак, что пора сказать ему, кто ОН, и что она его потеряет? Наверно, она была очень отважна, если Творец увидел в ней достоинства, которых мы еще не знаем вполне. Мы ведь только предполагаем, почему именно ее он избрал Богоматерью. Воспитать ребенка, тем более Христа, был ее великий долг перед Богом, а сколь удивительно и скорбно было чувство, что сын отдаст жизнь ради спасения всех людей. Избранный Всемогущим, ей он не принадлежит, думала она в печали.
Мое благоговение перед Богородицей – святейшей из женщин, избранной Богом, – выражалось в том, что в те годы я писала ее с огромным золотым нимбом, который был для меня символом особой ценности – святости, установленной Богом. Я покрывала ее тело драпировками нежной окраски, а руки выписывала особенно тщательно, ибо ими она обнимала свое дитя, Спасителя нашего. Когда я писала иконы с ее ликом, я ощущала любовь, уважение, теплоту, нежность, но и печаль.
Я постигала ее образ – образ матери с ребенком на руках. Может, потому и в Коране она прославлена, о ней идет речь в нескольких главах. Мусульмане верят в ее существование и зовут ее Марьям. Они не отрицают Христа, но не признают, что он – Сын Божий, который воскрес. Для них он – вестник Бога, его апостол на земле, посланный, дабы вершить чудеса и помогать впавшим в грех подняться.
Часть моей любви и благодарности за муки Иисуса – на стенах монастырей, которые я расписываю, в иконах и мозаиках, которые, если они не будут уничтожены врагами православия, останутся свидетелями крепкой веры того, кто их создал. Это не нарциссизм, не влюбленность в себя и свои работы, я пишу не для того, чтобы добиться славы и почитания. Знаю, что скоро после смерти буду забыта, как все до меня. Но если эта работа полезна и достойна того, чтобы не пропасть, она будет жить и после смерти моей, независимо от того, кто ее автор, ибо об этом не будет записи. Запись запечатлена в моем сердце, а когда оно перестанет биться, душа может впитать ее, если будет на то воля Божья.
Здесь, в тишине, я слушаю молитвы и наблюдаю жизнь монахинь, которые продолжают старинные богослужения и ведут аскетическую жизнь, верную завету изначального христианства. Этот завет не модернизирован в обряде, не запятнан временем и событиями в мире, где столько ненависти и зла. Я становлюсь лучше, во мне растет творческая сила, поскольку я повседневно ощущаю, что только Бог вечен и истинен. Он – не абстрактное понятие. Он близок, он – единственная реальность доброты; в нашем существовании он воплощает все самое лучшее, чистое, вечную любовь и единую истину. Всемогущий творец всей красоты и всех ветвей искусства – он в звуке музыкальных инструментов, в ритме композиций и жизни, в красках природы и картин; он ваяет, пишет, шепчет слова ободрения и поддержки. Он прощает и понимает. Он – неутомимый учитель – всегда готов выслушать и помочь. Благодаря этому пониманию, вероятно, и в моем рассказе меньше боли. Человек крепче верит, если он пережил отчаяние, ибо только тогда знает, что такое счастье.
Монастырь воздействует ирреально, мистически. В любое из четырех времен года он сообщает нам, что здесь живет вечность, а все остальное преходяще и ничтожно. Он мягко напоминает нам о бренности жизни.
Творец, Бог желает, чтобы избранные, те, кого выбрал он, на века остались в человеческой памяти. Только его мощь придает делам людским печать совершенства, долговечности и красоты. Такой мерой он измерил человека, так – одинаково – одарил художников и монахов.
Он – в инструментах изобретателей и проектах строителей. Во всяком звуке, записанной ноте и ритме, во всякой линии, начертанной живописцем. Только через него музыкант вдохновлен – как расположить ноты, применить их, создать лад и гармонию, которые возвысят душу богатством переживаний. Ученым он дал жажду совершенства, художникам – жажду космической гармонии.
Он – в каждом слове хорошо написанной книги, стихотворения, рассказа, ибо его мудрость позволяет писателю смотреть дальше и глубже, чем видит обычный человек, обогащает его мечтой и идеями, которые, возможно, когда-то были реальностью или станут реальностью в будущем. Беседы с мастерами, теми, кто делает скрипки, арфы, органы, флейты и другие инструменты, убедили меня в том, что в их благородной работе есть духовная связь с Вездесущим. То же с композиторами, художниками и писателями. Все признают, что они, когда творят, находятся в некой особенной сфере, даже преступают порог иной действительности, – особенно композиторы, ибо их язык более всего созвучен языку сакральной реальности.
В произведениях живописцев и скульпторов Бог является во множестве обликов, как если бы уже был частью полотна или мраморной глыбы, ибо всё, что мы видим, чувствуем, думаем, есть плод его творения. Особенно в религиозных работах старых мастеров: какого бы их создания в музеях и церквах наша рука ни коснулась, она восхищенно гладит его. Поэтому искусство близко всем смертным – от Адама и Евы до бесконечности. В образах борьбы веры и сомнения, ангела и дьявола, любви и вожделения, в картинах боли и страдания, преступления и наказания, униженности и оскорбленности скрыто многообразие записанных слов Христовых апостолов. В опытах искусства мы ищем не только ответа на вопрос о смысле бытия, но и обетования, о котором мечтает все человечество, искони жаждущее жизни вечной, в красоте и мире с Создателем.
А вдруг красота, окончательная, единственная, на сей раз будет найдена?
Я не льщу вам – ибо вы выше обычных людей, вы почти нереальны, – когда утверждаю и предсказываю, что музыка сделает вас бессмертным, имя ваше будут долго помнить на земле и после вашей смерти, потому что в том, что несет ваша музыка, есть нечто единственное, уникальное, неземное – в ней звучит мощь вечности.
Это вызывает у меня доверие, вот почему я говорю с вами открыто. Кто создает такую музыку, тот ближе к Богу и не может причинить мне вреда. Я знаю, это не игра моего чувственного воображения или души и не иллюзия, родившаяся в здешней тишине. Я слышу вашу музыку даже во сне и потому знаю ее силу. Сны многое открывают, если на них обращать внимание и без страха позволять им говорить с нами.
Иногда вы сутками не спите. Я слышу райские звуки, летящие через долины, ущелья – в леса. Ваш дом освещен, а когда он покрыт снегом, он похож на рождественскую елку. Зимы здесь долги и холодны, вы согреваете их звуками.
2 Черная жемчужина
Я повествую вам о своей жизни, а вы подбираете музыку, пока я раскрываю себя и свою судьбу. Аккомпанируете моему рассказу композициями для органа Сезара Франка, иногда Баха и Моцарта. После Баха и до композиций Мессиана музыка Франка для органа – величайшее явление. Франция, вторая половина XIX века… Пытаюсь понять эту музыку. Она нас, грешных, связует с церковью и славой Божьей. Словно утешает себя и нас, что все земные мучения и периодические упадки духа не стоят того, чтобы позволить душе страдать. Эта музыка сопровождает рождение моих религиозных работ. Открывает внутреннюю напряженность медитации и тревожную глубину вытесненных ощущений. Франк отдал себя и свое пламенное, святое вдохновение оратории «Искупление, или Блаженство» (где ведет нас к Нагорной проповеди). Он благословляет нас, словно посвящая в адепты симфонизма, и духовно готовит к восприятию «Трех хоралов для органа». В нем и Бах, и Бетховен, и Вагнер, но при этом у него своя, оригинальная техника ритмических переходов при передаче света и мрака, слез и улыбки, душевных страданий и восторгов; они касаются моей судьбы, становятся ее частью.
Уже несколько недель мы слушаем Сибелиуса. Что он открывает в нас? Нет ничего во мне, что смирило бы житейскую бурю в моем сердце подобно воздействию его композиций. Знаю, что вы меня понимаете.
Вы смотрите, как я работаю, наблюдаете за каждым движением, за тем, как я управляюсь с цветными камешками. Техника мозаики – это чудо! Вы наверняка не знаете: существует 650 оттенков камешков, которые используют, чтоб выразить состояние природы и человеческой души. И они тоже Божьи дети. Вы следите за движениями моих рук, когда я их выкладываю, создавая цветную картину. Чувствуете во мне веру, близость к православию, связь с монастырями, любовь и восхищение бескорыстием и скромностью монахинь. А разве это не вполне естественно? Ведь аскетизм – исходная и конечная точка искушения и у художника, и у инока.
Мы видим у них полное исчезновение физического тела. Монахини кажутся стройными кипарисами в движении или особенными, неувядающими Божьими цветами. Словно астральные ангелы с белыми спокойными лицами, избранницы Христовы ходят по этой святой земле без спешки и шума. Только молитвы, церковное пение и звон колоколов – звуки, которые сопутствуют им, где бы они ни были.
Они слушают и вашу музыку. Я часто вижу, как они, работая на винограднике или в саду, прерывают свой тяжкий труд, чтобы послушать вас.
В вашей музыке есть некая священная печаль. Какая-нибудь композиция звучит словно плач контрабаса или блуждание скрипки в космосе, но вы искусно вплетаете в нее звуки природы: пение птиц, жужжание пчел, трескотню кузнечиков, шум дождя, ветерка, журчание потока, будто показываете нам, что музыка повсюду и что она, а это действительно так, – не только создание инструмента и человека.
Природа полна интонаций, мелодий, целых симфоний – ветер разносит и впитывает их; так же и волны в нежном или взволнованном прикосновении к скалам, и океаны в своей таинственной глубине открывают ритмы звуков и тишины.
Согласитесь ли вы, что здесь, вблизи монастыря, лучшие звуки, вызванные человеком, это те, что издают церковные колокола, а природа разносит по окрестным полям и лесистым холмам? Колокольных дел мастер искусными руками воплотил эти мелодии в бронзе или другом материале, каждый колокол имеет свои особенности, свою биографию. Должно быть, и мастер молился Богу, чтоб колокол обрел свой неземной звук.
Вашу музыку особенно внимательно слушает одна из монахинь. Я знаю о ней очень мало, она появилась тут совсем недавно. Она все еще отшельница, замкнута больше, чем другие. По слухам, владеет несколькими языками, но с гостями почти не говорит. Не знаю, откуда она. Я смотрю на ее тонкое лицо: глаза похожи на большие каштаны, брови точно выписанные руны, нос будто точеный, – привлекательное лицо, милое и спокойное, и спрашиваю себя, какая радость или боль привела ее сюда. Пожалуй, очевидно: ее врожденная красота не гарантировала счастья. Красота – это искушение, мой дорогой молчаливый друг. Может статься, она наказывает себя за то, что поддалась рискованной земной любви – игре плоти, которая привлекательна, но опасна. Привлекательна, ибо ее мгновениями мы защищаемся от бренности; опасна, ибо страсть, как мираж, быстро исчезает, не переходя в покой. Если допустить, что тело стало единственным ключом к счастью, все остальное теряет смысл. Такой любви следует опасаться, она всегда ведет к одиночеству, ибо мы позволили плоти стать целью для самой себя.
Выдержит ли она отшельничество, окажется ли сильней своих человеческих слабостей, желаний, искушений, не поколеблется ли в решении отринуть все земное, даже самых родных людей?
Отчего вы поморщились? Может, не надо мне было о ней упоминать? Может, в ней – тайна вашего приезда сюда, или она напомнила вам о прошлом, о вас самом, когда вы были недовольны собой?
Я смотрю, как она спускается сверху в ущелье, то и дело оглядываясь, устремляя взор в небо. Останавливается, начинает молиться. Звук ее голоса необычен – похож на молитвенное пение, негромок, но пронзителен. Сквозь дикое ущелье она словно посылает исповедь Всевышнему – одним только пением, без какого-либо инструмента, кроме голосовых связок, данных от Бога, и словно направляет молитву кому-то еще. Ничто не мешает ей, чувствуется, как она собрана, взгляд устремлен только к Христу. Когда дождь или снег падает на ее черную рясу и платок, она молится усердней всего.
Трепет ее голоса соединяет небо и землю.
Подобно потерянной черной жемчужине, в чей дом вошел хищный нож, чтобы украсть все, что было внутри, она ищет надежду в уединении, в ином, непознанном мире, которому учится лишь теперь – впитывает веру, строит прочную, несокрушимую раковину в новом доме вечной Божьей любви. Вы спрашиваете меня, будет ли кто-то, влюбленный в ее красоту, пытаться ее найти?..
Иногда мы тянемся к любовнику из себялюбия, отдаемся его прикосновениям, потому что не можем быть одни. Но знаем, что это не любовь, а слабость. Если любовь – слабость, то не вечное ли это наше свойство, ибо, когда мы закрываем глаза или спим, совести не существует. Потому иные из нас, невзирая на пол, гонятся за сном наяву и за реальностью, которая всего лишь сон. Быть на грани, оставаясь верными своей слабости, могут лишь опытные, отважные и постоянные любовники.
Много раз я задавалась вопросом: в какой трагедии могла участвовать эта женщина? Или она была жертвой? Некрасиво, что я так думаю о ней только потому, что ее не понимаю. Ведь возможно, некая внутренняя сила, сильнее всех прочих, привела ее к Христу. Я хочу, чтобы послушница с тонким лицом осталась для нас загадкой. Это было бы справедливо.
Окруженная скромными монахинями, которые держат в узде все свои желания, я испытываю стыд. Они долго и часто постятся, не жалуясь, по внутренней потребности. Когда не постятся, питаются скудно. Поэтому они такие стройные, здоровые, подвижные и просветленные.
Я краснею, осознав, что с трудом контролирую свою жажду еды и сладостей. Мне труден долгий пост. Но я понимаю, что с молитвой становлюсь лучше и в пост лучше пишу.
В Эфиопии я непрерывно постилась и молилась, это заметно по моим иконам и фрескам. В них было что-то смиренное, они были ближе к Богу.
Я сознательно вводила в некоторые работы лица молящихся монахинь, особенно игуменьи Иеремии, и лица эфиопских детей. У ангелов были их крупные темные глаза, кудрявые черные волосы, даже их крупные рты. Ангелы были облачены в туники, украшенные местной вышивкой. Такие туники ткали и женщины, и мужчины и красили красками, состав которых веками хранился в тайне. Я научилась у них изготавливать некоторые из этих красок: кризум, синюю и золотую. Ими я писала драпировки, тоги святых и одежду людей, которые их окружали в молитве. Монахини говорили мне, что все они ощущали близость с образами моих икон, святые и ангелы были им сродни.
В каждой работе присутствовал ангел с большими темно-синими глазами и каштановыми волосами. Мать Иеремия первая поняла, почему в разных сценах я всегда пишу этого ангела, и тихо сказала мне, когда мы были одни:
– Мы молимся Ему, потому что он для вас много значит. Он хранит вас, никогда не забывайте об этом.
Только тогда я поняла, что он поистине частица всех моих работ… Нет, я не стану описывать вам в подробностях свое пребывание в Эфиопии. Предлагаю послушать тишину…
3 Синий зонт любви
В эфиопском женском монастыре, удаленном от людей и туристов, молитвы начинались в пять утра и длились часами. Не только в монастыре, но и в соседних поселениях, не меньше чем в сотне домов. Люди продолжали молиться и после захода солнца, в сумерки уходящего к Желтому Нилу. Своей красотой оно напоминает, что эта страна приняла христианство еще в ранний период соломоновой Эфиопии. Всю эту информацию вы можете найти в изданиях церковной миссии эфиопского православного христианства в Аддис-Абебе, которые я регулярно получаю, и во многих других публикациях, которые стоит почитать ради неведомых нам деталей.
Если вы посетите эти отдаленные монастыри, даже ничего не зная о прошлом, то через звон колоколов, благолепие пения, ритм молитвы, древние иконы и раннехристианские деревянные культовые предметы, через фрески и удивительные кресты, которые магнетической силой привлекут ваш взгляд, вы ощутите присутствие Христа в себе и во всем, что вас окружает.
Христианским миросозерцанием здесь возведен духовный мир, свободный от бренных земных ценностей. Сознание и Бог – духовные субстанции, а не явления физического земного бытия. Они сохраняются при утрате материального. На древних эфиопских иконах изображение человека нереально, абстрактно: тела не обнажены или частично скрыты, а украшены столь же абстрактными узорами тканей, красками, которые, как драпировки, скрывают плоть. Перспектива исчезает, тело не соприкасается с земной красотой природы. Оно парит в золотой среде, окруженное святыми и апостолами с очень выразительными лицами и глазами.
Местное население не задает вопросов о том, существует ли Бог и действительно ли Христос – сын Божий. Переживание священного начала взращивалось и упрочивалось в них веками, рожденное раньше, чем где-либо еще на свете, передаваемое из поколения в поколение. Нет силы, которая могла бы его истребить или поколебать.
Монастырь с большим погостом над ущельем, заросшим эвкалиптами, расположен вдали от городов, в глухой, беднейшей части Эфиопии и окружен маленькими племенными поселениями. Транспорт сюда не ходит – добраться можно только верхом на осле, на коне или пешком. Здесь нет ни верблюдов и слонов, как в районах, отведенных для сафари, ни железных дорог и самолетов, как в развитых частях Эфиопии. Монастырь не был отмечен на карте, его не рекламировали туристические агентства, ведь большинство туристов едут в центры сафари, мало кто интересуется посещением бедных и отдаленных женских монастырей.
Многочисленные монастыри современной постройки более доступны. Древнейшие укрыты в скалах, как церковь Святого Георгия в Лалибале, где в глубине виден огромный каменный крест, закрывающий вход в церковь. Старые христианские церкви в те времена обычно были округлыми или прямоугольными, с алтарем посредине, к нему был доступ со всех сторон. В церкви Святого Георгия двенадцать колонн. На каждой фреска с изображением одного из Христовых апостолов. Эфиопские монастыри богаты фресками, иконостасами, иконами. Они строились, когда грозила опасность вторжения неприятеля, и потому спрятаны в недоступных скалах, как наши, сербские церкви и монастыри. Христианство всегда подвергалось гонениям – а православное христианство и до сих пор. Эфиопское (абиссинское) православие во многом совпадает с православием остального мира, хотя, в сущности, они монофизиты, чье учение отличается от установлений семи вселенских соборов.
Священники эфиопской церкви вступают в брак, как все православные в мире, с той разницей, что в Эфиопии в их семьях много детей – дабы древнее христианство не погибло. У некоторых до пятнадцати детей. Клирики облачаются в роскошные многоцветные хлопчатобумажные тоги – шамасы, искусны в речи и жестах.
Монахи и монахини, как и в других христианских церквах, не женятся и не выходят замуж. Живут очень скромно, аскетически, строго соблюдая уклад своих монастырей. Монахини приветливы, помогают народу, мы встречаем их, занятых работой, которая не приносит монастырю никакой материальной пользы. Они часто молятся в одиночку или группой и в церкви, и на природе. Облачения у них одноцветные, белые или чуть темноватые. В той же одежде они и в церкви, у клироса, когда совершают дневной обряд. В ранней юности, когда я с родителями посещала Эфиопию и ее знаменитые монастыри, я всегда поражалась тому, как естественно ведут себя монахини и как они усердны.
Аксум – историческая местность, изобилующая монастырями. Она привлекает туристов, так как туда проложены хорошие дороги. Отец говорил мне, что здесь можно ощутить, насколько древнее в Эфиопии христианство. Нигде в мире, в других монастырях и музеях, я не видела таких предметов культа. Отец рассказывал, как здесь в первые века христианства переписывали Священное Писание черной и красной краской, тонкими и утолщенными линиями. Хранили книги в потайных местах. Фрески и иконы выполнены в примитивном стиле. Многовековой древности кресты необычной работы словно сделаны из золотого кружева. Однажды увидев, такое не забудешь. Узнаваемой красотой они выдают свое происхождение. Эфиопия – символ христианской изначальности, которая лишь в четвертом веке начнет на соборах оформляться в учение, огражденное правилами. Возможно, в этом причина, что эфиопских христиан официально не признают ни римокатолики, ни протестанты, ни даже православные, которым они ближе всего некоторыми чертами обряда. Эфиопская коптская церковь отделилась от христианского сообщества после четвертого, халкидонского, Вселенского собора в 451 году.
Я любила старинные иконы. Они не были трехмерными и походили на графику. Фигуру целиком писали редко, в ранний период святые словно не имели рук и ног, доминировал портрет. Нигде на свете я не видела ничего подобного. В них была графическая экспрессия – овальные лица, крупные глаза, обрамленные черной линией. Лики святых и лица молящихся священников подтверждали, что души их пребывают на небесах, там, где Всемогущий, которому мы молимся. В более поздних композициях руки с удлиненными пальцами были простерты в небо, что усиливало впечатление устремленности к Богу. Богородица всегда была очень любима и почитаема, ее лик часто писали на фресках и иконах. У нее была темная кожа, как у Христа, – вот откуда в Европе несколько культовых черных Богородиц.
Ряд типов абстрактных святых образов, совершенно антиреалистичных, особенно распространился после 726 года, когда сочли, что земные формы неуместны в сакральных изображениях. Верующий человек может легко воспринять этот образ как явление духа, в радости, что молится чистой идее Всемогущего без антропоморфических черт, ибо лишь вполне отвлеченная геометрическая форма может передать духовную истину. Возможно, и из-за запрета христианства некоторые иконы имели абстрактный вид: двойные головы ангелов, соединенные по вертикали и горизонтали, со множеством крыльев, как у бабочек; у всех крупные, темные, проницательные глаза, устремленные в запредельность, как у херувимов.
В эпоху гонений и истребления христиан Иисуса писали в облике овечьего пастыря, агнца Божьего или рыбы, у апостолов появились свои крылатые символы (тетраморф): Матвей – крылатый человек, Марк – крылатый лев, Лука – крылатый вол, Иоанн – орел.
Древнейшее православное искусство ясно выражало истину в священных словах:
Всемогущий всё видит.
Ему всё ведомо!
Только Он объемлет всё.
Неудивительно, что посвященное Богу искусство, однажды увиденное и пережитое, не забывается никогда.
Эти три изречения не только пронизывают культовые творения православной Эфиопии, но веками отзываются в созданиях гениальных творцов – писателей, музыкантов, живописцев. В их заметках о том, что вдохновляло и вело их в творчестве, всегда шла речь о божественном восторге, который охватывал их, когда творение обещало быть нетленным. Бог нашептывает во время всего процесса созидания.
С той первой встречи с монастырями Эфиопии древнехристианское православное искусство сопутствует мне. Я долго не осознавала, что оно так повлияло на формирование моей художественной концепции мотивов и цветов, – больше, чем работа любого из величайших мастеров иконописи, которыми восхищается мир. Только позднее, когда я изучила эту специфическую область искусства и особенно когда завершила большие работы, которые принесли мне признание и славу, я поняла, в чем исток красоты, привлекавшей критиков и посетителей моих выставок.
Отец сумел получить у монахов разрешение на фотосъемку в монастыре, что обычно запрещено. Хотя он никогда не занимался никаким искусством, у него был замечательный дар – видеть. Умение выбрать ракурс съемки, момент, когда освещение подчеркивает суть снимаемого предмета, усиливало суггестивное воздействие его снимков. Эти кадры были напоены мистической атмосферой, и много лет спустя после отъезда из Эфиопии я такого не встречала даже у известных мастеров фотографии. К сожалению, женщинам не разрешалось входить во многие монастыри, знаменитые раннехристианским искусством; мы с матерью только слушали описания фресок и икон и смотрели снимки, которые делал отец.
Меня восхищали высокие стелы из камня и дерева, которые мы видели по дороге. Некоторые высотой до двадцати двух метров. Как их строили без подъемных кранов, мне непонятно и сегодня.
До деталей запомнилась поездка в южный Аксум. Там, на вершине горы, в двух тысячах метров над долиной – церковь Абуна Ямата. Добраться до нее могут только опытные альпинисты. Наша семья решила совершить восхождение – фрески стоили того, чтоб на них посмотреть. После нескольких часов подъема и опасного перехода через узкий, шаткий деревянный мостик, сплетенный из ветвей, мы увидели в скале вход в монастырь. Шероховатые стены расписаны фресками святых, держащих Священное Писание. Там я ощутила дух истинного христианства, единство разума и всесильного утешения, торжествующего над иллюзией ценности земной жизни. Там я училась истории божественной симфонии, ради которой стоило рисковать жизнью. Говорят, и по сей день ни один паломник не упал в ущелье.
Подобное ощущение я пережила потом в наших скромных женских монастырях. Жаль, я была тогда слишком молода – не понимала, в чем их красота и в чем различие между тем, как строили церкви прежде и строят теперь.
Отец получил разрешение – мы будем приняты. Посетители могут добраться сюда самолетом, железной дорогой и в автомобиле, так что монастырь весьма посещаем. Моя семья решила, что и мы поедем. У нас была отличная палатка, и перемены погоды, которые в это время года нередки, нас не страшили. Изумило нас нечто другое: церковный праздник сопровождался звуками двусторонних кабаро и других барабанов, плясками, пиршеством с горячительными напитками и весьма популярной кока-колой, привезенной из ближайшего города, где был завод. Первый день был постный, а на другой все ели мясо, которое готовили монахи.
На этот праздник в город Кулуби в провинции Хараре собрались 28–29 декабря и эфиопские граждане, в основном из Аддис-Абебы, и иностранцы.
Крупнейший праздник привлек и мусульман: они тоже верили в архангела Гавриила и молились вместе с православными, которым принадлежал монастырь. Были здесь и многочисленные туристы со всех концов света.
Празднику всего около ста лет, он связан с победой Менелика в знаменитой битве под Адуа и освобождением этой части Эфиопии от итальянцев. Вот чем объяснялось то, что многие здесь говорили по-итальянски, – некогда это были оккупированные области.
Перед битвой полководец зашел в маленькую церковь Святого Гавриила в Кулуби и дал обет, если победит, выстроить в честь святого великолепный монастырь на территории, где преобладали мусульмане. Со временем в Кулуби вновь селятся христиане, что прежде были изгнаны, а кое-кто из мусульман переходит в православие. Все это напомнило мне о сербском святом Василии Острожском, поклониться которому приходят и верующие других конфессий. О том, что святые не делят верующих на конфессии, свидетельствует и биография святой Параскевы Пятницы, родившейся в Эпивате в XI веке. Султан Сулейман II перенес ее мощи из Белграда в свой дворец в Константинополе, и там она творила чудеса, потому и мусульмане часто искали ее покровительства – до тех пор, пока мощи не были возвращены в Сербию.
В течение двухдневного прославления святого Гавриила и мусульмане, и христиане молятся в одном монастыре. Христиане входят в церковь, а мусульмане, по своему желанию, молятся у церковных стен.
Крестный ход был богат и впечатляющ – во главе с патриархом Эфиопии, с большими древними золотыми крестами. Священники в живописных облачениях, с синими зонтами над головой. У некоторых белые тюрбаны. Многие священники и монахи прибыли из других монастырей и церквей. Пестрели специальные накидки – шамасы – и тоги из парчи, встречались и местные ткани ярко-красного цвета. Монахини были одеты скромнее – в белые или темные тоги. Здесь же были политики, правители не только из Эфиопии, но и из других африканских стран.
К началу литургии многолюдный праздничный крестный ход с пением псалмов и старинными золотыми крестами вошел в огромную церковь. Храм мог принять более полутора тысяч человек, для остальных, рассеянных в палатках на километры, службу транслировали по радио. В конце литургии священники с большими вывернутыми шелковыми и парчовыми зонтами, синими и цветастыми, собирали пожертвования на ремонт монастырской дороги и старой церкви.
Помнится, шел дождь, но никому это не мешало. Мокрые хлопчатобумажные шамасы – так назывались и плащи, которые носил простой народ, не только духовенство, – сохли у огня.
Скоро повсюду была грязь, но и это никому не мешало. На пол в церкви настелили солому, только на эти два дня. Множество детей было окрещено в ближней старой церкви, за женщин, которые не могли иметь детей, читались особые молитвы. Как и при всех монастырях, здесь неподалеку находилось большое кладбище, где хоронили и монахов, и мирян. При жизни разделенные – в смерти нераздельны.
Публика была пестра, как ее одежда. Дамы в красивых нарядах, бедные верующие, нищие, девочки в коротких юбках, миссионеры из разных стран мира. Звучало множество языков. Наконец из-за туч сверкнуло солнце, стало сильно припекать, и грязь быстро высохла.
Две ночи пылали костры возле исторического города, окруженного древними стенами. Повсюду жгли поленья из акации, чтоб отпугнуть многочисленных гиен, которые пытались приблизиться к людям, уснувшим в палатках. Далеко в холодной ночи разносился их зловещий вой, он снился мне еще долго, вплоть до недавнего времени.
Наутро занялся красивый жаркий день. Солнце палило нещадно. Ветви деревьев и земля перед древними стенами неодолимо напоминали зимний пейзаж. Раскаленный шар всё облекал в призрачную белизну – и здания, и людей, и животных. Гиены уже обгладывали мясо с разбросанных костей, которые священники-повара заранее вынесли в поле, подальше от сутолоки людского муравейника. Ранним утром обглоданные кости, выбеленные тропическим солнцем, сильно действовали на воображение. Эта сцена годами не уходила у меня из памяти.
Не помню, чтоб я ощутила на том празднике дух благочестия, который с детства ношу в себе и ощущаю в монастырях. Мне не хватало тихой церковной музыки, песнопений. Зрелище напоминало карнавал, гулянье, экскурсию; мои родители встретили знакомых американцев из отеля в Аддис-Абебе. Может быть, я была слишком мала, чтобы все это понять?
Едва ли не лучшие сакральные работы мы видели в монастырях и новых, современных церквах города Гоям и близ озера Тана. Один мотив меня очаровал и впоследствии повлиял на мои работы. На высоких вратах монастыря Святая Святых было множество ангельских лиц с незабываемыми огромными глазами. У каждого свое выражение и свой взгляд.
Годы спустя, когда судьба привела меня в отдаленный женский монастырь в Эфиопии, я выполнила подобный образ в мозаике. Это было в монастыре игуменьи Иеремии, где мне помогали дети. Меня удивило, что они привнесли в ангельские лица печаль и слёзы.
– Отчего плачут ангелы? – спросила я.
Одна из девочек печально ответила:
– Оттого, что убьют младенца-Христа. И мать-Богородица печальна, она раньше всех узнала, что ее сын будет убит.
Все это я пережила и видела еще очень молодой, а описываю, чтоб вы поняли, почему мне близки та уединенная тихая обитель в Эфиопии и этот монастырь. Столько святости в скромности, в том, как здесь молятся, в колокольном звоне и пении…
Здесь не было ни карнавального прославления святых, ни громкой музыки с преобладанием барабанного боя, ни пиршеств. Не было импозантного крестного хода с драгоценными старыми золотыми крестами и огромными символическими синими зонтами из парчи, которые закрывали головы священников. Здесь небо – защитник всех, здесь все живое и неживое укрыто под синим зонтом любви. Величайшим и пресветлым.
4 Гармония
И в этой тишине, среди природы, не тронутой цивилизацией и техникой, вдали от рева моторов, трое слепых детей «сочиняли» божественные песнопения, не получив ни единого урока музыкальной грамоты, а игуменья Иеремия записывала ноты, чтобы выучиться их песням, а потом учить других.
Это были счастливые дети. Хотя и незрячие. Бог наделил их даром пения. Мелодии мощно, энергично рвались из глубины их душ. Слепые глаза неустанно плакали, видя несчастья, болезни и голод, которыми дети были окружены ежедневно.
Босоногие, с тонкими ручками, кожей, полопавшейся от солнца и инфекций, с глазами, ослепшими от проказы, с пересохшими и голодными ртами – они пели Христу.
Иногда они ходили на реку с кем-нибудь из друзей, у кого не было проблем со зрением, удили рыбу, сидя в каноэ, которые сами делали из папируса, или перевозили редких путников. Тишину прерывал равномерный тихий плеск нгаши – длинного шеста, служившего им веслом. В согласии с их пением отзывались колокольчики в виде маленьких птиц или ангелов, которые их украшали. Было совсем незаметно, что дети незрячи.
Я любила эти мирные прогулки в каноэ, когда из воды выскакивали рыбы, а в небе было полно чудесных разноцветных птиц. Птиц пестрых, как местные домотканые ковры и одежда или самодельные украшения на шею и на руки, как серьги, которые носили и дети, или тонкой работы перстни. Все это передавалось из поколения в поколение, как коптское православие.
Катаясь с ними на утренней заре или в сумерках, я тоже напевала. Это вытесняло душевную боль. Освободившись хоть ненадолго от бремени, которое вовсе не должно было быть моим, я работала больше, чем когда-либо. Дети любили смотреть, как рождаются фрески, иконы, мозаики, и в конце концов по просьбе жителей мы открыли школу – мне хотелось оставить здесь частицу себя, передать им технику создания православного образа.
Лучше всего помню улыбки слепых детей – эти дети всегда улыбались. Все ли слепые люди выглядят такими счастливыми и спокойными? Не припомню, чтоб у меня был случай в этом убедиться.
Пение, связующее с Богом, которого они чувствовали так глубоко, было их ниточкой счастья, ничего другого они не требовали. Скромность питала их величайший и благодатный дар – не зрение, а свет в улыбке и голосе, гармонию души, которой жаждала и я.
Я думала: они счастливей, чем я, зрячая. Я хотела, чтоб они научили меня, как достигнуть счастья. В них не было ни ропота, ни жалоб, ни зависти к тем, кто видит. Наблюдая их почти ежедневно, я ощущала стыд и потребность через молитву и духовное пение вернуть себе утраченное эмоциональное равновесие и веру в то, что я тоже чего-то стою.
В тех краях не редкость малярия, народ выжил благодаря православию – сильной вере, глубоко вошедшей в его жизнь.
Пребывание там было слишком кратким, чтобы перемены в моей жизни оказались заметны. Однако я верю: что-то во мне изменилось. Возможно, сам взгляд на то, что такое подлинные ценности, удовлетворенность и счастье. Я сильней ощущаю присутствие Вседержителя, его творческий дух, любовь и могущество в этих отдаленных краях, среди почти дикой природы, в звонах монастырей и шелесте ветров по ущелью.
5 Сад, который еще не расцвел
Ради чего мы так блуждаем? Может быть, ради счастья и красоты, которой не умеем разглядеть? Разве она не здесь – всюду вокруг нас и в нас самих? В монастыре я поняла, что путь к красоте всегда рядом с нашей жизнью и мы к ней тем ближе, чем больше настроены на мир, свет и святость, а не на самих себя.
Монахини, которых я встречала в Эфиопии, это не просто подвижницы, которые непрестанно молятся и посвящают жизнь Богу; в той же мере они принадлежат своему народу. Они врачи, сестры милосердия, учителя, строительницы каноэ, даже матери – детям, которые потеряли родителей. Они преподавательницы закона Божия, музыки, пения, творчества, нравственности, дисциплины и доброты. Дети обретают веру через общение с ними. Монахини подают лучший пример поведения, как учит православие: помощь ближнему, честный труд, сердечность, любовь. Благодарение Богу выражается в их радости жизни, благодарности за каждый дарованный день, в радости, что эту благодарность они разделяют с другими.
Как и в других женских монастырях в мире, – не только в Эфиопии, где живо изначальное христианство, – так и здесь, в этой обители, у каждой монахини своя история, свой путь – до того, как она решила посвятить себя только Христу и молитве. Здесь я сблизилась с игуменьей Марией. Смотрю на нее – скромную, трудолюбивую, уже старенькую, сгорбленную, сморщенную, с пораженными артритом руками. Она мудра, хоть и без особого образования, не окончила никакого факультета, зато в юности восприняла наставление и науку от женщины, известной своей мудростью, прозорливой игуменьи родом из России.
Я так и не узнала, почему – так же как я, прибывшая из Америки расписывать монастырь Мртвица, или вы, приезжающий сюда сочинять музыку, – монахини выбрали именно эту уединенную обитель. Дорога с бесчисленным количеством ступеней и узких земляных террас ведет на вершину холма, к монастырской церкви. В Сербии для монастырей выбирают недоступные места, дабы затворники отдалились от мирской суеты. Богоискатели должны восходить к монастырю так же, как монашеская братия восходит через пост и молитву к божественной сути. Глубокое ущелье защищает монастырь от любопытствующих, а тяжелый подъем – и от немногочисленных обитателей окрестных сел. Здесь нет голодных, нищих и слепых, лишь молитвенная тишина, которой касается небесный свод, целуя купола и вбирая голоса монахинь. Боже, в Мртвице всё – небо, хотя в ней всё небольшое – и церковь, и надворные постройки, но всё так высоко – и голоса, и гул колоколов.
У матери Марии я многому учусь, порой чувствую себя потерявшимся ребенком, заблудшей овцой. Она всегда спокойна, излучает душевный мир. И вы и я задаемся вопросом, хоть и скрываем это друг от друга: как эти добрые, благородные, иногда совсем молоденькие монахини сумели вытеснить из себя жизнь, которая их так измучила? Они бы не оказались здесь, в монастыре, если б были счастливы в миру. В них отзывается боль вашей музыки – особенно когда в композициях доминируют орган и арфа, иной раз флейта и чембало, – боль уносит их ко Христу, туда, где земные невзгоды теряют значение и силу. Тут-то и кроется наше заблуждение, ибо их счастье не совпадает с земным. Монахи ходят по земле, но головой касаются неба. Их счастье в том, чтобы давать, а не принимать.
Какие метаморфозы претерпевает душа, когда тело очищается молитвой и постом? Когда человек уже без всяких сомнений знает: вот последнее решение – отныне я принадлежу только Христу.
Они всегда слушают, когда вы ставите кантаты Баха или «Волшебную американскую кантату» аргентинского додекафониста Альберто Гинастеры. Эта вещь написана под сильным влиянием традиционной южноамериканской музыки, с дивным сольным пением в псевдоиндейской манере. Не знаю, что они открыли в этом пении, может, кто-то из них из тех дальних краев? Тут многие родом из других стран, они перешли в православие, хотя верующими были всегда. Они любят кантаты, сами восхитительно поют и знают толк в церковных хорах. Слушают и ваше баритональное пение. Вы изучаете сербское богослужение и поете в одиночестве. Возможно, я ошибаюсь, но они вашу преданность музыке воспринимают как подвиг монаха вне монастыря.
Я спрашиваю себя, где вы познакомились с музыкой наших православных церквей? Что побудило вас изучать ее и в чем причина, что она вас так тронула и воодушевила, как чарует звездное небо, сколько б мы на него ни смотрели?
У меня накопилось к вам столько вопросов. Ваша таинственность смущает меня, пугает и, пожалуй, возбуждает. Любопытство к жизни других, даже вымысел, когда пишешь роман, ведет к тому, что вживаешься и начинаешь испытывать удовольствие; литература учит нас, что это не от красоты стиля и не оттого, что мы отождествляемся с судьбами и характерами. Мы все немного пипингтомы, почти прирожденные вуайеры – находим удовольствие в том, чтобы подглядывать за другими, хотя редко делаем это ради чувственного наслаждения. Многие так и проживают жизнь, обедненные чужими биографиями.
Однажды, может быть, и вы мне исповедуетесь, откроете хоть часть себя. Не подобает, чтоб только я повествовала о своем жизненном опыте, раскрывалась, изобличая ложь, обманы, тайны, сбрасывая клоунские костюмы, в которые нас наряжает общество и которые мы выбираем, чтоб спрятаться, и становимся хамелеонами, выдавая себя за то, чем не являемся. Я уже много месяцев стою перед вами, израненная обнаженными мыслями, но и освобожденная от навязанного бремени. Я счастлива, оттого что чувствую себя, как сад весной: он еще не расцвел, но знает, что несет в себе жизнь и красоту. Вы молчите, и я не знаю, чего вы ждете, как распорядитесь рассказом о судьбе, которая вам не принадлежит; но, будучи слушателем, вы отчасти становитесь и соучастником.
6 Свет, что никогда не гаснет
Я спрашиваю себя: зачем я здесь, на земле, чего Бог от меня ожидает? Трудно определить мою роль. Она изменялась с годами. Девочкой-подростком я помогала старикам, оставленным в богадельнях. Читала им стихи, заводила музыку их молодости, которая у них и при ослабленной памяти вызывала улыбку. Я ухаживала за ними, купала их, отмывала от запахов, характерных для этих заведений. Расчесывала и мыла их седые волосы, делала им прически по фотографиям времен их молодости.
Боже, сколько счастья было в этих старых глазах, утративших и цвет, и блеск. В праздник мы пели рождественские песни, и я видела, как в них пробуждается память. Некоторые не знали, что настало Рождество Христово, что уже несколько дней идет снег, добраться было трудно, и никто их не навестил. Я удивлялась, почему они целовали мне руки и звали меня «дитя мое». Не понимала, сколько все это значило для них, состарившихся и забытых. Однажды в доме престарелых появилась новая старушка. Она все время пела, а врачи и сестры, не знавшие церковной музыки, то и дело отвлекались от работы, чтоб ее послушать.
Я не могла пройти мимо нищего и не подать монетку из своих карманных денег. В праздники мы вместе с родителями раздавали еду, на Рождество и на Пасху паковали корзины для детей бедняков, и я никогда не была так счастлива и довольна.
Юность – время, когда начинаешь глубже размышлять об идеалах, о том, что надо отдавать, помогать, об альтруизме без корысти славы и похвал. Наши сердца полны благодарности Богу за то, что он дал нам жизнь и мы можем делиться ею с другими. Вот достоинство христианской души – ее не просят быть такой, она такова по сути. В этом ее величие и чистота.
Это было время невинности. Каждый день я спрашивала себя: что хорошего я сегодня сделала? И не ждала награды. Что происходит потом с этим идеальным ликом ранней юности нашей души? Когда возникают деформации, неодолимые искушения, себялюбие, желание успеха и славы, стяжательство, нарциссизм? Они не обогащают нас достоинствами характера и веры в себя, а ведут в пропасть, опасную для самого существования души, и по мере того, как слабеет душа, оскудевает и представление о том, кто мы, – искажается, постепенно ржавеет от неведения о произошедшей перемене. Превратно оценивая то, что видим, мы понемногу слепнем, не понимая, кем мы стали. Позднее, став детским врачом, я находила удовлетворение в том, чтобы помогать и лечить, но только в Эфиопии увидела, что же мне действительно нужно. Медицина для меня скорее профессия, чем призвание от Бога. Творчество меня привлекает сильнее, я чувствую, что все больше ему принадлежу, – лучше узнаю себя и познаю волю Всевышнего Творца. Поэтому я подчинила врачебные занятия иконописи.
Прежде чем начать работу над иконой, фреской или мозаикой, я долго пощусь, долго молюсь, каждый день зажигаю свечи, пока не приходит необъяснимый внутренний импульс – видение будущего образа. Так родник пробивается на свет и хочет стать рекой, чтоб быть еще неукротимей.
Духовный образ рождается из света, что никогда не гаснет и погаснуть не может. Этот божественный свет будит, благословляет и придает смысл творению. Знать технику недостаточно, чтобы создать нечто великое, глубоко воздействующее.
Размышляя о работе над фресками, иконами и мозаиками, я лишь отчасти нахожу ответы прежде, чем приступаю к работе. Самый трудный период – поиск, он оставляет душу в растерянности. В чем смысл бытия? Ни в чтении, ни в созерцании я не обрела ответов, которые бы меня устроили. Никто так и не смог раскрыть мне вечные людские тайны, кроме нескольких композиторов. Музыка объясняет не словами, а реакцией, переживанием слушателя – подобно вере, с которой я живу повседневно. Ответов на вопросы о бытии, осужденном на болезни и смерть, я по-прежнему ищу в природе, ибо она есть зримая часть Творца, под звездным небом, которое более побуждает задавать вопросы, чем дает ответы. Молитвы насыщают нас гармонией, когда мы жаждем теплоты, близости Бога. Для меня здесь, в этот миг, нет сомнений, что все ничтожно, преходяще и ничего не значит, если не связано с его творением. Ибо что бы ни создал Вездесущий, ничто не истлевает, но лишь меняет форму и энергию, и от творения исходит свет, отвечая нам на вопрос, кто мы, куда идем и как творить добро, чтоб заслужить всю эту окружающую нас земную красоту.
Вы смущены тем, как я рассуждаю. Моя серьезность, трудолюбие, вера и отрешенность от мира чужды вам, вызывают у вас сомнения. А вдруг я совершила некое злодеяние и теперь скрываюсь от людей и от себя, а вам исповедуюсь, как всякий грешник, который ожидает, что будет наказан и на земле, другим человеком.
Иногда в ваших проницательных, почти святых глазах я вижу электронный микроскоп: он записывает, снимает специальной камерой, анализирует все детали, даже те, что мне не заметны. Глаз – это сложный орган, состоящий из разветвленных чувствительных нейронов и клеток, часто он подвержен обману зрения и необычным восприятиям. Центр в зрительном отделе мозга должен преобразовать все, что в него поступает: получив перевернутую картину, он возвращает ей реальный облик – то, что мы видим.
Так и я годами пытаюсь увидеть объективную картину самой себя. Для этого надо полностью от себя отделиться, проникнуть в глубины психики, которая вовсе не склонна раскрываться, дойти до истинных причин реакций и устранить искажение. Желая открыть, кто я, что чувствую и почему веду себя по законам, которые сама пишу и воздвигаю на жизненном пути, я сознательно погрузилась в самонаблюдение. Как я реагирую на обстоятельства, которые сопутствуют моим отношениям с другими? Как мне совладать с этими обстоятельствами и их осмыслить? Бывает, наши внутренние законы очень строги, и суждение о том, как мы себя ведем, исходит не от других, а от нас самих.
Психика несет в себе сложные скрытые потоки из прошлого предков и наши попытки найти ответы. Она уносит нас в лабиринт, она подобна ребусу, и этот ребус пока еще никто не сумел разгадать, разве только святые, которые обладают чудотворной силой и – через Бога – понимают язык нашей души.
Я все больше склоняюсь к тому, что судьба определяет наш жизненный путь, независимо от того, даем ли мы себе труд данную нам свободу не повернуть против себя, понять самих себя и выйти на золотую тропу меры. Существует ли вообще эта мера, или счастье – уже сама жажда обрести ее?
А что, если вы – мое сверх-я, супер-эго? Оно ведь может быть очень сурово в критике нашей морали, поведения, мыслей, даже когда мы не грешим. Эта часть психики раскрывается нам во сне и карает, грозя смертью или утратой души. Быть может, вас не существует – ведь вы все время молчите, – или вы только плод моего воображения?
Ужасен сон, когда демоны обуревают нас. Они смеются от счастья, что мы душевно пали. Ужасен хохот, доносящийся из адского пламени, деформированные обличья внушают страх. Часто мы теряемся в темноте, покинутые, устрашенные тем, что опасность так близка, и рядом нет никого, кто бы нам помог. А что сказать о снах, в которых мы мертвы, хотя ведем диалог с собой? Мы потеряны, мы бежим, мы виноваты, нам грозит кара, а мы не знаем, в чем повинны. Мы в панике от того, что не можем завершить важное дело. Нас кто-то зовет, умоляет о помощи, а мы бессильны, парализованы и во мгле, сквозь пыль не видим никого.
Я часто слышу вой гиен и вновь переживаю душевную боль, вспоминая, как они терзают кости с остатками мяса, объедки, брошенные им на второй день праздника в нищей Эфиопии. Гиены жаждали и человеческой крови. В огромной массе посетителей было полно пьяных – они приходили в ярость, когда полиция приказывала им покинуть место литургии. Я ощутила на щеках кошмарный жар – не открывались ли тогда врата ада и смерти? Может, поэтому я и езжу в сербские монастыри: здесь кошмар отступает перед высокими видениями. Или я здесь благодаря чарующей мелодии родного языка, который защищает меня от кошмара?
Вы ставите Сибелиуса, дорогой друг, его вторую симфонию. Почему вы ее выбрали? Что она будит в нас, мой неведомый спутник?
7 Двойник, молчащий у реки
Быть может, и вы – человек из снов, привидение, гость, который меня сопровождает, или двойник, изменивший пол? Но зачем и куда вас все это ведет?
Какой вам прок в этих ежедневных разговорах? Вы всегда здесь: когда ненастье, и грозы, и зимние вьюги, и весна с ее буйно расцветающей красотой, и лето с полями золотой пшеницы, и осень со сбором урожая. Мы видимся вот уже четвертый сезон. А вы всегда под ту же музыку смотрите на мои картины, все так же внимательно и терпеливо слушаете мои исповеди. Мне кажется, с тех пор, как мы видимся почти каждый день, вы стали больше сочинять, а я больше пишу и рисую. В чем-то мы дополняем друг друга, заполняем в себе пустоту и вместе лечимся.
Когда вы далеко, во мне рождается ожидание. Ваши темно-синие глаза, ваши волосы, руки, улыбка… есть в вас что-то знакомое, близкое, доброжелательное и чистое. Вы пробуждаете во мне воспоминания о человеке, которого я безмерно любила, и это позволяет мне приблизиться к вам, исповедаться перед вами, я чувствую почти непреодолимое желание рассказывать вам обо всем.
Если б я верила в возвращение душ, которые мы потеряли, быть может, я нашла бы сходство ваших и Николиных темно-синих глаз. В них будто вечная полночь, они словно мерцают в лунном свете.
Мне никогда не узнать, откуда приходит то теплое, сладостное ощущение, что я переживаю во время наших бесед. Возможно, из глубины воспоминаний. Возможно, это последняя попытка побороть тяготы одиночества и ночной холод, когда рука, ласкающая подушку, ощущает пустоту. Мне не дает покоя вопрос: почему я утратила желание встречаться с людьми извне монастыря? Может быть, только они умирают и их смерть отдается в нас болью, а здесь я уверена, что со мной этого не произойдет? Здесь смерть умерла или – преобразилась.
Извините, что я плачу.
Прошло пятнадцать лет с моей последней встречи с Николой. Боль этой потери, первая встреча со смертью была невыносима, даже сегодня вполне не осознана и не принята. Надежда, что он вернется, позовет меня по имени, которое он произносил с такой теплотой, никогда не исчезала, как не исчезало желание, чтоб все это оказалось только дурным сном или шуткой судьбы.
Дружба с раннего детства и потеря друга в отрочестве – источник вечной тоски, нестираемой временем, драгоценной и мучительной. Дружба, свободная от страсти и усиленная идеализмом, оборвалась утратой моего первого, лучшего, единственного друга – Николы. И тогда время остановилось, замерло, как раскаленный шар в полдень. Оно и теперь неподвижно и мешает мне заводить новых друзей.
Я защищена, я окружила себя неприступной красотой воспоминаний о днях, проведенных в общении с ним. Я не хочу разлучаться с этой красотой, хотя она сама поселилась в моем сознании и запрещает доступ другим. Тот сгусток эмоций до сих пор питает все мои воспоминания. Я помню слова добродушного юного оптимиста Николы, его волнистые волосы, лицо – мягкое, нежное, еще мечтательное от иллюзий и идеалов, помню нашу юность, еще не знавшую коварной силы смерти, пока его не поглотил речной водоворот. Его внезапный уход принадлежит только мне, годами он был скрыт от мира.
Где-то вдали я слышу шум, говор воды, ее пленительный шепот. И плачу оттого, что слышу его. В том клубке чувств, который не хотел размотаться, был наш внутренний дневник, он принадлежал только нам. Этим сокровищем я не хотела делиться ни с кем. Считала, что, если кому-нибудь расскажу о нас, это будет изменой дружбе, обманом. Боялась, что, если поделюсь событиями, попытаюсь раскрыть красоту отношений, будет украдена и уничтожена память. Смерть похитила его, но не смогла убить воспоминание о невинной дружбе. Этого я не позволю. Буду бороться за то, чтоб оно осталось. Эмоциональное озарение стало убежищем, подземным коридором к запертой двери, ключ от нее был только у меня. Я навещала его, когда мне было одиноко, грустно и страшно. Никола был моей детской любовью и первой отроческой дружбой (через океан), а кончилось все трагедией. Он не оставил меня по человеческой слабости, никогда не покидал. Смерть, с которой я, неподготовленная, столкнулась впервые, разлучила только наши тела. Разрушила все мосты в будущее и рано пробудила страх, что все, что я люблю, может внезапно погибнуть.
До того как это произошло, я не думала о похоронах, могилах, памятниках. Смерть была для меня понятием отвлеченным, хотя и тогда вызывала слезы. Но с нами было по-другому. Все случилось внезапно, без всяких предвестий. Наши семьи были близки, мы вместе путешествовали по миру, они посещали нас в Америке, мы их – в Сербии. Не было ни признаний в любви, ни поцелуев. Помню, как однажды он нежно коснулся моей руки и покраснел. Я удивилась – почему? Я обняла бы его и поцеловала, если б знала, что он этого хочет или что он умрет. Думаю, что я хотела этого, но не спешила. Жизнь была впереди.
В молодости жизнь кажется долгой, почти вечной. Все верили, что когда-нибудь мы поженимся. Мы оба слышали об этом – родители с воодушевлением говорили о нашей дружбе. А мы не обращали внимания.
В любом возрасте тяжело потерять настоящего друга, особенно трудно, когда тебе четырнадцать лет и друг этот – первый и единственный. Встреча с нежданной, непредвиденной смертью молодого человека переворачивает взгляд на жизнь – прежде беспечный, счастливый, спокойный. В этом возрасте человек предельно раним. Пережитая тогда трагедия – утрата, расставание, смерть – оставляет глубокие шрамы.
Николину смерть никто не мог понять и принять. Он – тот, кто учил меня плавать, сам плававший как дельфин, – утонул в мелкой речушке. Как это могло случиться? – спрашивали все.
Я разделила потерю и тоску с его матерью, открыла ей наши разговоры, переписку, красоту нашей дружбы, дав ей свой дневник. О том, что я его вела, она узнала от моей мамы. Я не могла отказать, это было для нее утешением – может, благодаря этому она не покончила с собой. Теперь жалею, что не переписала, отдала насовсем, а не просто почитать. С утратой дневника я еще раз потеряла Николу. Как ангел, хоть и без крыльев, иногда, в каникулы, он прилетал навестить меня и пробуждал все лучшее во мне.
Его уход разрушил доселе беззаботную детскую жизнь – как землетрясение, паводок или муссон, разбил все мечты, поселил в моей юности печаль и пустоту.
Смерть оставила во мне одиночество, которое я, сознательно или неосознанно, не хотела заполнять новой дружбой. И пока взрослые вопрошали, почему Всевышний все это допустил, я реагировала иначе – молитвами избавлялась от тоски и страха. Судьба, как природа, подвержена переменам – на всё есть свои причины. Я посвятила себя живописи и литературе.
Его отец накануне деловой поездки, куда он взял Николу, увидел во сне неизвестную церковь. Он рассказал этот сон, который видел несколько раз, случайному попутчику в поезде. Тот внимательно выслушал и сказал, вздрогнув:
– Это монастырь святой Параскевы Пятницы, у меня есть снимок. Вот, посмотрите. Он по дороге в Крушевац, куда вы направляетесь, заверните туда.
Картина, увиденная во сне, и фотография были идентичны.
Отец Николы успешно завершил дела в Крушеваце, и они с сыном отправились в монастырь. Был жаркий летний день. Два месяца как не было дождей, земля потрескалась от засухи. Отец и сын решили освежиться в реке. Покрытое камнями русло было почти безводным. Сделав несколько шагов по дну, Никола, отличный пловец, ушел под воду и исчез – без звука и следа.
Он не вышел живым из той пересохшей реки, не увидел монастыря. Водоворот ныряющего потока втянул его под землю. Люди, живущие близ монастыря, говорили, что это знак Божий: кто-то из родителей согрешил.
Похороны помню смутно. Не знаю, был ли он похоронен при монастыре или мы приехали туда только на панихиду. Монастырь остался у меня в памяти мрачным местом – словно не было там ни икон, ни фресок, только большие лампады и восковые поминальные свечи в песке.
Почему он не пошел сначала помолиться в монастыре, носящем имя моей крестной славы, а послушался других и решил охладиться в реке?
Я смотрела на реку, которая его поглотила. Она была все такой же мелкой, по ней можно было ходить. Босая, я побежала туда, где, как думали, он утонул, и положила на камень крест и базилик. Изабелла… – слышала я свое имя и, волнуясь, звала Николу. А кричали мои родители – испугались, что и меня поглотит водоворот. Может, я этого и хотела, потому что знала: без него я останусь потерянной и не найду покоя.
Помню, как я читала свое стихотворение об этой утрате. Почему смерть выбрала его, здорового парня, хорошего пловца, хотя в реке были и другие люди? Часто звучит предупреждение об опасности, но тут его не было или Никола к нему не прислушался. Мы не знаем, когда рок смерти настигнет нас, подстережет, выбрав очередную жертву. Отсюда странные вспышки страха, даже днем, попытки предугадать, где прячется смерть, как и когда нас настигнет. Ночью я просыпалась от страха и, вся в поту, искала маму. Я слышала голос Николы, протягивала ему руки, а он не мог за них схватиться. Он звал меня по имени. И голос был все тише. Не знаю, где я была тогда во сне: во Флориде, в Каролине, в Африке…
Тогда я впервые ощутила, что мы – крошечные, слабые, легко уязвимые – не готовы принять смерть и не способны ей противостоять. Остался образ темной, долгой ночи, которая не кончается рассветом. Я слышала страдальческие стоны, а слез у меня не было – только дрожали голос и тело, и всё было неясно, размыто, почти нереально. Так я представляла себе смерть. Медитация, особенно в отрочестве, после смерти любимых, ничему не учит нас, не готовит к тому, чтоб мы приняли чей-то уход, не помогает приготовиться к собственной смерти. Не облегчает ни потери, ни ухода.
Не помню, когда мы вернулись в Америку.
Семьи наши были очень близки. Мой отец учился в Америке, а отец Николы – гениальный изобретатель и лучший студент-химик Белградского университета – получил американскую стипендию. Они говорили на одном языке, у них была одна вера, одни интересы. Позднее отец Николы, сначала в Югославии, а потом и за границей, наладил производство медного купороса. Кроме того, он владел виноградниками в Европе и на родине. Родители Николы были экспортерами изысканных вин и любителями искусств.
Мать не разрешила Николе ходить в школу, боясь, что он заболеет. Позднее я поняла, что у нее были проблемы с мужем. Она решала их, удерживая сына подле себя, как будто знала: пока сын здесь, до развода дело не дойдет. Ему было позволено дружить только со мной. Он никогда не спорил, в домашних воспитателях обрел интересных учителей и наставников и, думаю, был счастлив.
Николе было пятнадцать лет, когда он утонул. Он много путешествовал, был образован, ласков в обхождении со всеми. Знакомил меня с европейской литературой и музыкой. Был моим советчиком во всем. Я слушала друга и удивлялась его познаниям. В разлуке нас сближала переписка. В каждом его письме была картинка – какое-нибудь воспоминание о наших путешествиях, а возле подписи всегда белая маргаритка. Мне казалось, я совсем дуреха в сравнении с ним. Семьи планировали совместные путешествия по свету. Никола хорошо знал, что именно нам надо посмотреть.
Не сердитесь, я хочу побыть одна. Нет, я не буду плакать, он не хотел бы этого. Без него рухнуло все, я постоянно думаю о нем, все начинаю с его имени, особенно здесь, вблизи монастыря.
8 И смерть умирает
Вспоминаю наше последнее путешествие в Маун, центр сафари, незадолго до этой трагедии. Мы посетили Африку зимой, в мои школьные каникулы, в сезон дождей. Реки здесь только тогда полноводны, в другое время – невыносимая сушь и тропическая жара. Маун находится в верхней части дельты Окаванго, где мы, туристы, развлекались сафари.
Никогда не забуду, какая там была заря, каким светом занимался день. Солнце – огромный огненный мяч – появлялось на горизонте и, меняя цвет, постепенно уменьшалось. Мы любовались самой большой дельтой на свете. Всласть катались на длинных лодках, называемых мокорои, разглядывали растения, гиппопотамов, антилоп и бизонов. Животные не вызывали у меня страха. Вода была чистая. Заросли папируса создавали специфический колорит: все было словно заштриховано золотом. Мы наслаждались тишиной и красотой дикой природы. Когда мы добрались до края дельты, где водятся крокодилы, Никола держал меня за руку и ободрял:
– Я спасу тебя, ты же знаешь, я отличный пловец и никогда не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось.
Мне нравились эти слова. Я верила, что он от всего может меня защитить. Нас обоих удивило, что огромная дельта не впадает в океан. Мы смотрели в небо: там, прямо над нами, кружили орлы и со скоростью, неуловимой для камеры, обрушивались вниз, чтоб ловко выхватить рыбу из воды. Я дрожала и ежилась перед этой картиной.
– Смотри, Никола, природа и здесь подтверждает: позволено убивать, чтобы пропитаться и продолжить род. Один вид животных нападает на другой, совсем как мы, люди. Только мы убиваем и животных, и друг друга, – сказала я ему. – Я вижу здесь и красоту, и смерть.
– Зачем ты столько думаешь о смерти? – удивился он.
На миг мы умолкли. Мы смотрели, как эта красивая, богатейшая дельта, которая восхищает и туристов, и местных жителей, исчезает, задыхаясь в песке, словно ее никогда не бывало. Это потрясло нас обоих.
– Все умирает, даже смерть умирает, перестает существовать, – сказал Никола. – Я не боюсь, ведь мы и так преходящи. Ты пишешь об этом в своих стихах. Говоришь, что лучший цветок иногда умирает и вянет рано. Что здоровые деревья рубят, чтобы строить дома, что войны это грехи вождей, порой даже целых религий. Но ты никогда не говорила о смерти человека. Ты веришь, что душа живет и Бог решает, когда мы должны ее возвратить, ибо она, поистине, дана человеку взаймы. И эта земля, на которую мы смотрим, живет и умирает, преображается. Говорят, она создана термитами – они строят дома из прочного цемента; эта неровная поверхность, эти холмики – кладбища термитов. Я читал, многие верят, что в этой земле есть алмазы. Смертью термитов создана такая красота, и здесь же для кого-то – возможность разбогатеть. Подумай, что сотворят геологические изыскания с этой удивительной дельтой, и радуйся, что видела ее еще нетронутой.
Смерть друга привела меня в смятение, я стала всего бояться. «Все, кого я люблю, умрут», – писала я в дневнике. Я ощущала себя бессильной перед этим напором, который лишает дыхания, гасит все электрические импульсы в умирающем мозгу. Когда снимают электроэнцефалограмму, линия на бумаге регистрирует состояние мозга: прямая линия указывает, что человек мертв.
Я видела его темно-синие глаза в каждом цветке, в звездах, в глазах ангелов и святых. Это была какая-то форма бреда, транса, усиливавшего мою тягу к иконописи, фрескам и мозаикам.
Почти на каждой моей иконе или фреске есть ангел с его лицом и глазами. Если б вы знали Николу, вы бы узнали его и в нынешних моих работах. Время не измеряется календарями и тиканьем часов. Как личность я стала частью того времени, паломницей в прошлое.
Возможно, благодаря вашим замечаниям, размышлениям, музыке, я сумею себя понять. Почему, когда я уходила все глубже в себя, вера во мне росла, отражаясь не только в молитвах, но и в художественной работе? Словно все мои чувства, кроме зрения, умерли вместе с Николой. Я даже месяцами не слушала музыку, хотя она всегда была для меня приятной компанией. Или я стала неисправимой чудачкой?
Родители думали, что моя религиозная страсть – нечто вроде творческого безумия и результат депрессии… Должно быть, я хотела объявить войну этой роковой смерти, утешиться сознанием, что она не сильнее, чем Бог и душа. Смерть не может отнять душу. Она отнимает только тело, которое принадлежит ей, потому что оно земное, как сама смерть. Так, значит, и смерть умирает?!
9 Композитор
Слышите: звякают колокольчики овец в стадах, в долине играет губная гармошка. Обычно слышна свирель. Наверно, это какой-то другой пастух. Смотрите: вон группа детишек – щебечут, как стайка птиц. А как скачут, пытаются перепрыгнуть через лужицы, оставленные порывистым дождем. Дождь хлынул с неба как водопад. О чем они думают, когда видят на горизонте радугу? Они так любят ее рисовать. Потом радуга исчезает с рисунков: волшебные краски созданы преломлением света – слишком разумное объяснение. Чистая невинность детства, верящего в сказки, по мере взросления исчезает. Ускользает мечта и природная любознательность. Мы возвращаемся к ним, когда устаем от жизни, но неискренне и безуспешно. Мы старимся оттого, что перестаем мечтать, оттого, что, потеряв часть детских картинок, потеряли и естественность взгляда на мир. Хорошо старикам, не утратившим искренности: им принадлежит царство небесное.
Я думала о вас и слушала, что говорят другие, когда ходила в библиотеку.
Здешний народ не воспринимает вас как зрелое существо – вы возитесь со своей музыкой вместо того, чтоб заниматься конкретной работой. Некоторые думают, что вы отстали в развитии, хотя все говорят о музыке, которая доносится из вашего дома. Спрашивают, почему она такая серьезная и печальная, хотя окрестные села так смиренны, спокойны, красивы, а монастырь так близко? По пути в монастырь они проходят мимо моего дома и иногда останавливаются послушать. Для них смысл музыки – наслаждение, а не размышление, поэтому они вас избегают. Чудак, говорят они, но уважают ваши познания пчеловода.
Музыка – ваша любовь – восполняет рассказы о судьбах, как мои изобразительные работы, пронизанные верой, но об этом я им ничего не сказала. Может быть, в искусстве есть чуждая им печаль; непонятный звук вызывает страх, как все, что мало знакомо. Они привыкли к песнопениям и звону колоколов, к веселой свадебной народной музыке. Мы, должно быть, кажемся им странными людьми, подверженными душевным расстройствам.
Из-за вашего аристократизма в поведении и одежде (как будто вы всегда готовы пойти на концерт или в оперу), из-за стиля жизни местное население еще больше вас замечает. Вы отличаетесь от всех нас, как заплутавшая птица отличается от остальных. Здесь, вдали от цивилизации, в вас видят чужака, который блуждает в поисках неведомо чего. Может быть, музыка магически влечет вас через эти леса к таинственному приюту, которого нам никогда не открыть? Вы не подходите к этим местам своим внешним видом, но благодаря музыке вы – часть здешнего пейзажа. Думаю, монахини правы: этот мирный фон – колокольца овечьих стад, звон церковных колоколов, тишайшее пение – упорядочивает все те тона, что вас преследуют. Еще они говорят, что ваша душа в смятении и потому ваша музыка печальна. Я поверила им и подумала: хорошо, что вы не сочиняете опер, ведь, вероятней всего, жизнь и роль вашей дивы была бы трагична, как у всех героинь в операх старых итальянских, французских и немецких композиторов.
Только Пуччини своей музыкой сумел в тяжелейший эпизод внести теплую, чувственную и романтичную поэзию – вопреки либретто, трагизму сцены, когда Тоска убивает Скарпио. Даже в известной арии нет ничего трагического. Зная, что ее возлюбленного мучают в соседней комнате, Тоска решает спасти его, удовлетворив желание Скарпио. Похоже, что итальянские композиторы превыше всего ценят красоту звуков, и потому ни оркестр, ни ария Тоски не передают ее действительных чувств. Сценическое действие и музыка тут разминулись, потому что красота выше патологии. А вот Вагнер сопровождает трагические сцены столь же трагической, мрачной музыкой.
Каким было бы ваше либретто? Может быть, ваша героиня не умрет? Может быть, ее судьба не будет похожа на судьбу Мими? Ваш герой не будет нищ и голоден – как Родольфо в «Богеме» (он обогревает свою комнату, как Пуччини, когда был бедным студентом, сжигая свои рукописи). Когда я слушаю «Богему», как только поднимается занавес, я вспоминаю жизнь Джакомо Пуччини, бедного, изголодавшегося студента Миланской консерватории, замерзающего в мансарде, того Пуччини, на которого так похож Родольфо в опере. Именно эта фаза бедности, говорил он, больше всего связала его с Богом и породила незабываемую музыку.
Вы молчите, не раскрываете мне содержания своих опер, а может, вообще над операми не работаете, но я слышу их в становлении, по крайней мере такое у меня предчувствие, судя по некоторым ариям, доносящимся из вашего дома. В этих операх будут вероломные соблазны, трагедии человека в век лагерей, призыв, обращенный к небу, моление о помощи и прощении.
Иногда я подкрадываюсь и, незамеченная, заглядываю в ваше окно, выходящее в сад, на восток, где течет сельский ручей – дети перепрыгивают через него, чтобы скорей дойти до школы. Вы часто меняете маршруты своих долгих утренних прогулок и, возвращаясь с полевыми цветами, без слов оставляете их у моего порога.
Охотней всего вы собираете белые маргаритки, их белизна, с темной чашечкой, дороже вам, чем другие краски этого цветка. Поля здесь покрыты цветочной белизной, подобной чистым, невинным душам монахинь.
Почему вы так любите белый цвет? В нем столько оттенков, невидимых глазу. Белый никогда не бывает одинаков, эту иллюзию создают наши чувства. Вы всегда оставляете и свежий базилик – он растет в изобилии в вашем саду. Откуда вам известно, что именно в нем я ощущаю аромат Николиной души?
Цветы вянут, но иногда засушенный цветок живет в воспоминании того, кто его сорвал, или того, кто был счастлив, когда его получил. Мой гербарий полон. Он вроде дневника, только цветок и я изменяем его взглядом и прикосновением. В нем есть и белая маргаритка из Эфиопии, которую Никола сорвал для меня во время нашего последнего путешествия. Это был первый букет, который я получила.
Недавно меня спросили, что я буду делать, где буду жить, когда завершу работу для монастыря. Я искренне не знала, что ответить. Отъезд в Америку меня пугает, и я откладываю решение. Чего я боюсь на этом старом новом пути, спросите вы. Может быть, одиночества, неизвестности, возвращения к медицине, которая отнимает время, тогда как душа жаждет творить. Может быть, я боюсь искушений, вызывающих телесные и душевные расстройства, или понимания того, что пора собраться с силами и начать искать Андреяну, а это будет нелегко. Но вы еще не знаете, кто она и почему я ее ищу.
Ждете ли вы моей встречи с Андреяной, считая, что это положит конец разговорам-исповедям и пойдет новая жизнь, в которой «слушатель» уже не будет мне нужен? Вы уверены, что только тогда я достигну полной свободы – душа начнет ветвиться, не отягощенная прошлым, в котором она столькому научилась? Или ваше желание, точно соответствующее вашим свойствам, – исчезнуть?
Вы откроете мне, кто вы. Реальность вы или существуете только в фантазии и музыке? А пока продолжим дознание – будьте здесь. Я не способна понять себя, тем более вас, и потому вы хотите «быть только слушателем». Вот и все, что вы когда-либо сказали! Вы не спросили моего имени, но думаю, вы его знаете и, может быть, полагаете, что оно не настоящее. Я тоже не знаю вашего настоящего имени. Я зову вас Спутником, хотя знаю, что им-то вы как раз и не можете быть. Неужели и сокрытие имени – защита от прошлого, от которого мы бежим, или от настоящего, которого мы боимся? Вы молчите, молчите… я не хочу никакого ответа!
Вы кажетесь приветливей, когда занимаетесь пчеловодством. Тогда я убеждена, что вы действительно существуете. Кажется, опять я сказала что-то, что вызвало ваше недоверие. Видно по вашему лицу. Но я сказала правду.
Об увлекательном мире пчел я довольно много знаю от своего дяди. Они реагируют на жару и сушь. Если рамки, чтоб отцедить подсолнечный мед, вынуть в августе, можно вызвать у них эмоциональную реакцию, как у нас, людей. Растения перестают выделять нектар в конце лета, особенно если лето засушливое. Пчелы становятся нервозными и агрессивными. Их мучает жажда, но вода не может ее утолить. Им не хватает нектара, которого они жаждут, ради которого могут и убить. Чтобы их успокоить и предотвратить массовое убийство, надо приоткрыть один из ульев. Их привлечет запах меда, и они, громко жужжа, облепят улей черной тучей, пытаясь прорваться сквозь щели и добраться до меда. Начнется сражение. Грабеж увеличит число убийств, в этой схватке будет много жертв. Обычно пчелиная война происходит днем. Многие умирают на войне, как люди. Когда темнеет, если они не успокоятся, вы поливаете их водой. Многие гибнут и при вашем способе умиротворения. Но если вы опоздаете, начнутся нападения на другие ульи, и весь пчельник превратится в погост. Я слышала, как вы сказали: счастье, когда в войне участвует только один улей.
Войны людей немногим отличаются от пчелиных. Вся человеческая история – грабеж и защита от захватчиков. Вы остро осознаете это, но не допускаете, чтоб вами овладел хаос, не позволяете себе пасть духом. Я видела, как вы молились, здесь, возле других ульев, на которые никто не нападал. Я заметила, два раза в год вы переселяете пчелиные семьи, не трогаете лишь несколько ульев. Это происходит весной, в пору цветения акации, и позднее, когда цветут подсолнухи. Вы это называете – «новый взяток»: каждый улей дает особый мед. В это время вы меня не навещаете целыми днями, и я меньше пишу. Я не слышу музыки из вашего дома, его окна темны, призрачны, неприветливы. Весной на вашем большом участке цветет белый клевер и одуванчики. Луговые цветы, яблоневый, сливовый, липовый цвет дают взяток, богатый пыльцой. Много и других весенних цветов, фруктовых и прочих деревьев. По-моему, самый вкусный и ароматный – мед с полевых цветов и липы.
Вы заботитесь о пчелах так, словно это ваша семья. Иногда зимой подкармливаете ульи сахарномедовыми лепешками – вы делаете их, когда температура сильно падает, потому что матка начинает опять откладывать яйца, ей необходимо питание. Вы сказали игуменье, что весной хорошая матка похожа на розу. Значит, ее облик – знак красоты, здорового труда и радости в улье? Пчелы принимают облик розы – царицы цветов – только в здоровом улье. В некоторых ульях нет матки, и там заводятся ложные матки, в сущности – рабочие пчелы: они питаются маточным молочком, чтобы активизировать свои органы кладки яиц. Строят маточники над личинками трутней, поскольку у них нет гормона феромона, который есть только у маток. Значит ли это, что и у пчел есть классовые и гормональные различия, разные судьбы, обманы, неосуществленные желания – родить, изменить себя, ложно себя подать, – как у людей?
Вы лечите эту проблему, как врач, «шоковой терапией» – закладывая новый маточник на сотах с личинками пчел-работниц на ранней стадии. Мнимые матки встревожены: их игнорируют – это для них знак, что настоящая матка здесь. Это было бы почти грешным деянием, но через несколько дней вы подсаживаете молодую оплодотворенную матку, больной улей выздоравливает и дает отличный мед. Так оправданы ложь и обман. А были бы такие приемы и обман оправданы, если бы их применяли при кризисах ослабленных наций и семей? Вы избегаете моего взгляда, когда я обвиняю вас в манипуляции!
Глядя на вашу работу и читая о мире пчел, я впервые понимаю, что пчеловодство требует терпения, любви и знаний. Смотрю на вас и удивляюсь. Вы включаете им музыку, иногда и поете, когда собираете мед отдельно от каждого взятка. Они вас не жалят, любят вас, музыка их словно гипнотизирует. Ваш голос и нежное прикосновение ваших рук они принимают как влюбленная женщина; даже с нежностью касаются вашего лица и рук, часто ничем не прикрытых. Они знают вас лучше, чем я! Также они умеют выбрать лучший, ароматный цвет и его нектар усердно превращают в мед!
Есть что-то святое, чистое, богоугодное в меде, недаром им угощают гостей в знак приветствия, особенно в монастырях. Может быть, вы не согласитесь, но мне кажется, что жизнь пасеки похожа на человеческие отношения, поэтому я их сравниваю. Ведь и у пчел, если оплодотворение совершается между родственниками, происходит дегенерация, гибель всего улья. Вы пробудили во мне желание читать о пчелах. Я знаю, что не могла бы заниматься разведением пчел и добычей меда. Ведь и для этой профессии, называемой «апитехно-логия», недостаточно знаний, требуется Божий дар. Есть что-то благородное, возвышенное в разведении пчел и уходе за ними. Мне кажется, что пчеловоды, это относится и к вам, шепчут пчелам какие-то слова, которых мы, остальные, слышать не можем. Вы пестуете их, одаряя своим вниманием и музыкой. Может, и звук монастырских колоколов благословляет их полезный труд?
Вы впитываете все, что переживаете и видите, вы ходите с этой драгоценной ношей в одиночестве – лишь со своей музыкой. Вы своего рода отшельник, вам нужно уединение, ваше общество – пчелы и тишина. Мы похожи: и я люблю тишину, колокола и ветер. Я угощу вас вашим подсолнечным медом, который так люблю, не столько за вкус и цвет, сколько оттого, что люблю подсолнухи: эти цветы обращают свою корону к солнцу и небу.
Не думали ли вы когда-нибудь посвятить себя монашеской жизни? Эта мысль иногда ненадолго меня увлекает, но я знаю, что вы все еще носите в себе жажду земных страстей и у вас нет сил, а возможно, и желания от нее освободиться. Иногда мои помыслы грешны, полны злобы и зависти. Это слабость, знак того, что я еще недостаточно обращена к Богу, блуждаю во тьме, уводящей в бездну души, чтобы мучить, манить и терзать мне сердце. Я сознаю, что недостаточно научилась в монастыре тому, что есть истинные ценности. У меня все еще есть потребность в удобствах, я эгоистична, скромность монахинь и удаленность от жизни пугают меня так же, как счастье. Я не готова к счастью, не понимаю, в какой форме оно приходит. В детстве, кажется, у меня был более точный критерий ценности – давать, помогать, – чем потом, в браке, когда я ждала от жизни счастья, а от мужа – что он сделает меня счастливой, и жила в его тени. Не спрашивайте, сколько мне лет, и не говорите, сколько вам, не говорите, откуда вы и чего ищете здесь, среди сестер-монахинь, в монастыре, скрытом в лесу от шума цивилизации и людей. Какую тайну носите вы в своих проницательных глазах и душе, исповедуясь только колоколам и ветру?
10 Колокола и ветер
Не прячемся ли мы – как тени старых деревьев, которые счастливы, когда под ними пробежит олень или серна, – в ожидании, что нечто изменит ход нашей судьбы, войдет в нашу жизнь, принесет смирение, пробудит ощущение, что мы живы? Нас не страшит, что и мы уйдем, но пугает то, что мы можем принадлежать другому. Любовь – наше первое умирание, что иррационально, ведь, любя, мы передаем себя другому. Или это боязнь умереть в другом, тогда как подсознательно мы эгоистически храним свое умирание как собственность? Без этого смерть не страшит нас, хотя мы не существуем без другого. Не кажется ли вам, что верующие люди избегают всякой связи, тем самым охраняя свою веру в воскресение?
Любовь меня покидала чаще, чем я покидала ее. Вам уже известно это из моей исповеди. Вселившийся однажды страх повелевает бежать от мира, от себя, от близости человеческого бытия и тесного общения с людьми. Если б я верила, что вы действительно существуете, – я убежала бы и от вас.
Страх потерять все, что люблю, – причина того, что я здесь. Монастырь – не место разлуки, а место встречи. Здесь я чувствую, что уверена в этом, хотя не убеждена, что знаю, почему это так.
Мне хочется понять, что имел в виду Достоевский, когда сказал, что красота спасет мир. Видел ли он красоту в природе, в любви, пусть трагической, в музыке, в литературе, в пении, в колокольных перезвонах русских церквей или в вечной жизни наших душ с Богом?
В поиске ли она или в обретенной радости, и зовется ли та красота, что спасет мир, любовью?
Думаю, я еще не способна и не готова принять ни душевную связь, ни жажду открытия и встречи. Я не говорю об экстатическом слиянии двух тел, о прикосновении к коже, которое вызывает в теле, в этой бренной плоти, дрожь. Я говорю о слиянии душ, которые не могут разлучиться. Поиск многих ответов побуждает размышлять об идеях и делах, которые обычно мы пытаемся вытеснить. Здесь, в тишине, здесь, где нет грязи, в воздухе, где разносится лишь звон колоколов и зов птиц, я растворила свое добровольное изгнание. Так будет, пока я не найду решение, которое не ранит ни меня, ни других.
Несколько раз я объясняла вам это, когда вы удивлялись и спрашивали, почему я, такая молодая, отступилась от жизни, заперев себя в отдаленном монастыре. Вы смотрели на меня так, словно я не от мира сего, словно я ожившее лицо с какой-нибудь картины Рембрандта, явившееся в наш век, и мне суждено в музыке – особенно Сибелиуса – понять себя, мир и вас. Слова не раскрывают человека, а выбор музыки, которую мы слушаем, реакция наших тел и чувств, нашего сердца больше говорят о том, кто мы и чего жаждем, чем о том, какие мы. Возможно, именно поэтому вы избрали молчание, и на него может опереться исповедь моей души.
Если применить ваши критерии, я могу заключить, что вы человек верующий – быть может, больше, чем я, которая ходит в церковь. Значит ли это, что вашему творчеству нужны тишина и одиночество, бегство от всех, кто вас окружал, что вы стремитесь проникнуть в иные судьбы, когда так сосредоточенно рассматриваете мои работы? Мы тонем в музыке, она сближает нас, как в прамистерии, ибо все тайны, все пределы отступают, когда мы слушаем ее. Все прочее о вас, как о человеке, для меня туманно, словно тень лица.
Может быть, пока я не готова узнать о вас больше, хотя иногда хочу этого. Но вы, дорогой друг, мало знаете о любознательности, она не безгранична. Надежда на то, что вы хотите меня спровоцировать, чтоб я думала о вас, может превратиться в иллюзию. А что, если я вам не помогу и не открою вашей сути? Как вы соберете себя воедино, как одолеете свой внутренний разлад?
Мне страшно вас узнать. Я знаю, эти встречи и разговоры продлятся недолго и ни к чему не приведут. Боюсь, что молчание вас затопит, овладеет вами и страдание поселится в ваших нотах. Молчание не созидательно, оно обманчиво.
Вы во власти музыки и ее сочинения, все прочее подчинено совершенству ваших интересов. Может, поэтому я с вами так искренна и открыта. Ведь вы не принадлежите мне.
Знаю, что вы духовно связаны с Сибелиусом, больше, чем с другими композиторами, вероятнее всего – из-за его образа жизни. У него было громкое имя, он был популярен в Германии, еще больше во Франции и в Америке, но охотней всего пребывал в своем имении под Хельсинки. Во мне Сибелиус пробудил стремление открыть, кто я, что я на самом деле чувствую, помог вспомнить то, что скрыто в недосягаемой глубине подсознания, которое не открывает своих тайн до конца, но мощно воздействует на наше поведение, понимание фактов, истории и нашего взгляда на мир.
Реальность, о которой нам сообщает наше подсознание, приходит из непроницаемой тьмы и, может быть, поэтому всегда неопределенна, содержит много неясностей, пропусков, темных мест, иллюзий, неправд – оставляет нас встревоженными и неуверенными. Мы никогда не знаем, что есть истина, а что обман. Может быть, подсознание защищает нас, помогает привыкнуть к истине, уменьшая страх и вытесняя болезненную реальность того, что происходит, помогает не впасть в еще более глубокое отчаяние и душевную слабость, ведущую к хаосу.
Часто мы идем по жизни, обманувшиеся и слепые, уверовав, что понимаем человеческие отношения и знаем людей, которых любим. Этот самообман и ложь снижают беспокойство, неудобство и неудовлетворенность, отдаляют разрыв связей и встречу с болезненной истиной.
Открытие истины вносит бурю в омут жизни, рассеивает и уничтожает нашу веру в себя, в то, что существует любовь. К примеру, осознание того, что отношения в браке были мнимыми, а было только сокрытие лжи и тайны в страсти, часто приводит личность в душевное состояние губительной паники, тяжкой обманутости: доверие утрачено, эмоции нестойки – хочется, чтоб все прошло, как дурной сон.
Когда вы осознаете детали скрытой истины, ваша реакция даже не важна, поскольку все тайное уже случилось, уже прошло. Остается только чувство, что вы в этой связи были случайным прохожим, но и это тоже не важно, ибо и это – прошлое.
Так было со мной в браке с Андре, чья жизнь мне открылась лишь незадолго до его смерти. Сознание того, что он всю жизнь был судьбой связан с Дельтой, не давало мне права на гнев. Было бессмысленно сердиться на того, кого больше нет, осталось только ощущение, что я ранена. Все, что я могла (так оно и было), – пытаться понять, что же произошло, пытаться в любви, которая началась как измена, хотя и не была ею, пока мы любили, найти оправдание. Ведь истина и жизнь – части разных иллюзий.
К чему ожесточаться, когда человек, которому ты принадлежала, мертв? Вместо спора и диалога остается только тайна. Игнорировать ее, хотя она доверена мне во имя любви, значило бы впасть в летаргию – этого я не хотела. Я не могла ножом вырезать память, уничтожить все, что испытывала к нему, – нежность взаимного уважения, повседневное внимание, не могла забыть красоту его тела, разговоры, которые обогащали душу и мысль, – потому что этим я бы и себя убила.
Моя тревога и бессонница доказывают, что я все еще люблю его, понимаю и буду пытаться не оправдать его, а исполнить все, чего он хотел от меня, даже похоронить его в Эфиопии рядом с Дельтой. И отыскать их дочь. Поверьте, когда я перевезла его тело в Эфиопию и погребла их вместе, я тоже частью своей осталась в той могиле. И дала обет, что найду Андреяну и привезу ее сюда, где они упокоены друг рядом с другом.
Дельта была тайной, которую Андре всю жизнь скрывал от меня. Любовь к Эфиопии, ее мистическим монастырям и сокровенной легенде была предлогом, чтобы вернуться в детство, которое заворожило его в далекой и прекрасной стране. Он придумывал поводы, чтобы посетить святую Лалибелу, на самом деле желая только одного – вернуться туда, где он был с Дельтой. Андре в действительности никогда не вел изысканий в Аксуме, чтобы найти спрятанный там, по преданию, заветный ковчег. Он просто беспрерывно возвращался к себе. Теперь я знаю: он покидал Америку не потому, что ее не любил, и меня он не покидал. Просто возвращался в Эфиопию, чтобы понять, что же он потерял. Он рассказывал мне о мистериальной сцене в священном городе Лалибела, когда священники несли на головах копии каменных скрижалей с десятью Моисеевыми заповедями, и искренне переживал, что мы не были вместе там, в средоточии мистических энергий. Из страха меня ранить он не поверял мне своей прежней жизни, от которой не мог освободиться, ибо ему и не нужно было освобождаться. Я поняла это, только перенеся прах Андре – согласно воле его – в Эфиопию, когда небесный звук колоколов ближней старой звонницы объял меня и устремился к Желтому Нилу. В этом звуке тоска и дрожь постепенно угасали, уступая место смирению.
Вблизи монастыря, в тени эвкалиптов, падающей на могилу, в шуме блуждавшего по ущелью ветра, чей естественный звук сливался со звоном монастырских колоколов, и я искала гармонии. Я привезу сюда Андреяну, решила я. В беседе с игуменьей Иеремией она поймет, как родители любили ее и как страдали. Она утешится, ведь и меня игуменья исцелила от страха. Я боялась, что не найду Андреяну, но знала, что не смирюь с таким поражением. Разговоры с надгробием и их именами продолжались, пока я была там и сажала базилик и белые лилии, а потом ежедневно их поливала. В тропическом тепле они буйно пошли в рост. Я поливала их, кропила святой водой и ласково шептала, что однажды и Андреяна придет их полить.
По моему заказу привезли на ослах больше ста эвкалиптов. Я знала, что через несколько лет буду наслаждаться их прохладой. Над монастырским кладбищем постоянно веял легкий ветерок. В движениях пышных ветвей эвкалиптов звуки колоколов, казалось, еще шире расходились по ущелью, участвуя в природной симфонии. Слепые дети часто пели, словно чувствуя, что музыка смиряет мою тоску.
По всей округе говорили о любви Андре и Дельты. Матери клялись, что никогда не допустят, чтобы любовь была наказана так, как поступили с ними, – ведь у них было отнято их дитя.
После смерти Дельту уже не звали монашеским именем Благодата. В ней видели мать, чья судьба могла постигнуть и их, если б они принадлежали к племени ее отца, известному и в самых дальних уголках Эфиопии. Хотя, по правде говоря, женщины сами не верили, что их клятва может быть исполнена.
Некоторые послания разносит только звук ветра и колоколов.
11 Крест на шее младенца
Как мне хотелось ощутить в животе движения ребенка, новую жизнь в себе. Я пела бы ему – этому маленькому человеческому существу, если б дано ему было увидеть свет. Я мечтала о материнской улыбке – всей любовью, которой одарил меня Бог. Все мои мечты, как унесенные отливом, были утоплены неведомым мне решением. Я примирилась, но не понимала. До того самого момента, когда мое недоумение утратило всякий смысл. В последнем письме, которое написал мне Андре, в дневнике, что он мне оставил, а по воле его, и в завещании, которое я должна была исполнить, крылась тайна его жизни. Только теперь я осознала, почему он не хотел детей, поняла, из-за чего он не желал быть отцом.
Я смотрела на его серое, окоченевшее тело, и открывшаяся тайна будила во мне мысли о трагизме жизни, ничтожестве страсти и эгоизме мечты. Он казался мне незнакомцем, я видела его словно впервые, как будто он никогда не имел ко мне отношения. Старый, элегантный даже в гробу, а на груди – портрет молодой темнокожей девушки с крупными миндалевидными глазами и длинными, густыми, курчавыми волосами. Одетая в эфиопский костюм красивейших цветов, она улыбалась, как улыбается только счастливая женщина, когда ждет ребенка.
По возвращении из Эфиопии, за неполных сорок дней до смерти, Андре стал похож на человека, уже перешедшего на ту сторону. Попросил, чтобы я по фотографии сделала ее портрет маслом. Отказался от всякой врачебной помощи и ушел в себя. Знал, что скоро умрет. Тогда он не сказал, зачем ему портрет неизвестной мне женщины, не открыл, кто она. Я подчинилась его просьбе, и это ему, хотя бы внешне, подняло настроение. Он стал нежным существом, его преданность была трогательна.
Я заметила в нем перемену. Объясняла ее болезнью, меланхолией, тем, что долгие часы провожу на работе. Он хотел, чтоб я прекратила врачебную практику. Требовал моего неотлучного присутствия, будто предчувствуя скорую смерть. Я постоянно была рядом с ним. Мне казалось, он молится, чтобы смерть поспешила, хотя чувствовал, как я его люблю. Отказался от терапии и стал весьма набожен. Это была огромная перемена.
Андре еще в отрочестве перестал быть верующим, но никогда не рассказывал, почему так случилось. Не веровал, а любил мои работы. Мог часами смотреть на иконы, которые я завершила, часами наблюдать, как святой лик рождается на новом полотне, поставленном на мольберт. Перешел в православие. Мы вместе читали Священное Писание, он его внимательно анализировал и вскоре знал почти наизусть. Тут, со Священным Писанием в руках, мы были ближе друг к другу. Ожидание смерти освободило нас от неизвестности. Мы разговаривали не только об истории изначального христианства, православия, о потребности в вере, но и о судьбе нас, грешных, о значении и красоте жизни, о долге помогать другим в испытаниях и о неизбежности смерти. Прежде я не задумывалась, о чем говорят супруги, когда один из них обречен вскоре уйти из нашего мира.
Неужели наш интеллект не может без опыта страдания помыслить о такой возможности, подготовиться к тому, что мы захотим сказать или почувствуем? Может быть, с любимым человеком мы избегаем касаться тем, которых боимся: ведь как тут ни готовься, слово вносит страх и неуют. Как говорить о приближении смерти, чтоб не усилить боли обреченного?
Он стал мне ближе, его больше не занимали его предки и старина. С тревогой говорил о судьбе страдающих от голода и нищеты народов, о росте среди них детской смертности и болезней: СПИД, малярия, проказа… Он хотел, чтоб я продолжила его миссию денежной помощи, просил, чтоб я учила детей, особенно церковной живописи.
Я слушала его со все большим уважением и восхищением. Он забывал о своем состоянии, горевал о судьбе детей Африки и других, опаленных войной. Я впервые увидела, как он плачет навзрыд. Он говорил о больной совести человечества и о своих угрызениях – о том, что мы живем в изобилии, а так мало помогаем беззащитным и голодным. Только теперь мне понятно, что в этих разговорах – выставляя счет своей совести – он искал моего прощения и понимания, но тогда я этого не знала.
Когда я прощалась с ним, мне было страшно его коснуться. Пока не закрыли гроб, на меня смотрели с портрета янтарные глаза женщины, которую он звал Дельта, а я не могла отвести взгляда от ее живота. Я разрыдалась. Не только потому, что хоронила Андре, но и потому, что мне никогда не узнать счастья беременной женщины, которое я видела в блеске ее глаз и в улыбке, вызванной тем, что она несет в своем теле новую жизнь.
Мне не хватало Андре каждый день. Я отдала бы все, только бы он был жив, даже если бы он решил быть вместе с Дельтой. Все еще слышу его дрожащий голос.
Я с уважением отнеслась к его признанию, пусть даже в виде письменного завещания, что он всю жизнь любил единственную женщину, мать своей дочери Андреяны. Он звал любимую Дельта. Это имя – которое в Эфиопии дается девочке, приносящей удовольствие и радость, – в переводе означает: «желание». Дельта, подобно своему имени, была единственным источником желаний Андре, единственной его радостью, матерью его ребенка, той женщиной, которой он жаждал всегда… а меня только звал любимой.
В юности он писал о ней восторженные любовные стихи, сравнивал бока ее с крупом антилопы, а живот с луной. Стихи говорили о том, что вся она – ее волосы, дикие в своей красоте, и полные губы, которые он любил и целовал, – рождала в нем сладкое телесное безумие. Ласковый лепет и речь его страсти звучали на непонятном языке Эфиопии. Лишь однажды, в любовном самозабвении, он обратился ко мне на этом языке. Дикая эротика, зов Африки, поработила его. Вид их красивых молодых тел, слившихся в неистовых, жарких объятиях любви, возникал у меня в сознании по несколько раз на дню. Это усилило во мне маниакальную тревогу, трепет, желание однажды испытать неведомый экстаз. Я ощутила разницу в его отношении к ней и к себе. И не могла себе лгать.
Я приняла эту истину, призналась себе, что это две совершенно разные любви и их невозможно сравнивать. Та любовь основывалась на нарушении права на дружбу, на секс, была запрещена родителями и обществом – тогда в Америке были неприемлемы смешанные браки белых и темнокожих. Сегодня трудно понять, почему в то время, как у американских негров не было тех же прав, что у нас, мы были уверены, что мы великодушные, верующие христиане. Это позорная глава американской истории, противоречащая стремлению к передовому социальному устройству, которое требует равенства всех людей, ибо и десять Божьих заповедей для всех едины.
Дельта не была рабыней. Среди ее соплеменников были известные, образованные люди, наделенные властью, но из-за темной кожи, внешности и происхождения белая раса на Западе их не признавала. Само время было против Дельты и Андре. Они полюбили друг друга в эпоху нетерпимости и расовых предрассудков. Традиция, вера, честь и строгая мораль известного племени, к которому принадлежал отец Дельты, стали теми присяжными, которые вынесли ей приговор. Были неприемлемы ни внебрачная беременность, лишенная родительского благословения, ни брак, не подтвержденный местным церковным ритуалом. Отец назначает наказание, хотя мать возражает. Она принадлежит к прогрессивному православному племени, понимает, что возможны отроческая любовь и ранняя беременность. Она бы помогла Дельте поднять ребенка. Из-за переживаний ее разбивает апоплексический удар, перед смертью она умоляет мужа простить дочь. Отец в гневе произносит много неприятных слов, не предполагая, что Дельта слышит ссору родителей. Мать вручает ей старый эфиопский православный крест и благословляет ее. «Не забывай Христа, и он тебе поможет», – последние слова матери, которые слышала Дельта.
Дельта принимает назначенное наказание, не бунтует, ибо чувствует себя грешницей. Винит себя в смерти матери и в позоре, которым покрыла семью. Ей снятся колдуньи и мертвецы, они восстают из гробов и зовут ее с собой. После родов кошмары не прекращаются: она говорит с мертвыми и матерью, молит о прощении. Просит мать защитить дитя, которое будет у нее отнято. Из-за психического срыва она остается в больнице, а тем временем отец Дельты разрешает удочерить внучку, сохранив в тайне, кто ее новые родители. Последнее, что помнит Дельта, – как она надела свой крест на шею младенцу.
Дельта и Андре не увидят, как растет их ребенок, не будут знать, где он живет. Их любовь наказана вдвойне: они не могли видеть свое дитя и не могли больше встречаться сами. Все, что у них есть, – тени нежных встреч в далекие дни, в сгустившейся тишине. Разве кто-нибудь, кроме матери, имеет право решать судьбу ребенка? – спрашивала я себя. Кара взрослых была жестока и эгоистична. Невозможно понять разумом, какими мотивами они руководствовались, пусть даже зная, что ребенка-полукровку ждет в Америке тяжелая и трудная жизнь. Мне кажется, что мой богатый свекор, которого знали и ценили в высшем обществе, больше думал о своей деловой репутации, чем о том, как это скажется на будущем его сына. Согласившись, чтобы отец Дельты был судьей, он не интересовался, какое принято решение. О Дельте в доме больше не говорили, как если б ее никогда не было. Андре отослали на несколько месяцев к дядюшке во Францию.
Семья Андре долго жила в Эфиопии и здесь разбогатела. Здесь он родился. Его отец был послом, а до этого у него был бизнес в Африке. Отец Дельты был его переводчиком и доверенным лицом. Дети росли вместе. Между семьями завязалась дружба, но эта обманчивая связь существовала только в Эфиопии, где отец Дельты был известен как мудрый, порядочный, глубоко православный человек. Знаток многих языков, он был подготовлен для дипломатической службы, с его помощью американский посол достиг больших успехов в Эфиопии. Потом все уехали в Америку. Здесь продолжилась единственная, невинная любовь гимназиста.
Андре любил Эфиопию, знал ее языки. Детьми он и Дельта вместе посещали монастыри – те, куда дозволялось входить и женщинам. Он восхищался увиденными фресками и иконами. Дельта хорошо их знала, ведь ее семья была очень благочестива. Из поколения в поколение мужчины были священниками, как и братья ее отца. Отец Дельты возил Андре в монастыри, которые могли посещать только мужчины. Рассказывал ему о христианстве в Эфиопии, об истории византийской культуры и этих областей. Эфиопия известна именно тем, что добрая половина ее населения – православной веры. Она знаменита своими древними иконами, фресками, крестами и священными книгами, хранящимися в монастырях и церквах. В одной из областей страны монастыри были скрыты в скалах из-за оттоманского нашествия и экспансии ислама.
Христиан изгоняли, как было и в истории моей родины, на Балканах. Я рассказывала вам об этом. Вы хорошо знаете, как на наш народ из века в век нападали и отнимали наши земли. Может быть, поэтому нам так близки композиции Сибелиуса, особенно та, что была под запретом в период, когда доминировала ориентация на Россию. Эта симфоническая поэма – «Финляндия» (изначально она называлась «Суоми», а за границей была известна под названием «Отечество») – дышит любовью к родному краю, ее оркестровка прокладывает путь к каждому сердцу.
Студентом Андре изучал историю Эфиопии и Африки, которая привлекала его всегда, особенно после того, как он потерял Дельту. К нему все время возвращались воспоминания об уникальных эфиопских монастырях, о разговорах со священниками и монахами о вере, смерти и любви. В учебе он словно искал возлюбленную и находил утешение, познавая ее родину, где они были счастливы. Все его там восхищало и влекло с магнетической силой. Он любил православные крестные ходы, литургию и многоцветные рясы эфиопского духовенства, огромные цветные зонты, которые казались облаками, посланными с неба, чтобы укрыть и защитить веру и ее служителей. Никогда больше он не видел более величественных и прекрасных крестов, по крайней мере так ему казалось. Все в Эфиопии казалось ему прекрасным и величественным. Он вспоминал только хорошее, как ребенок, у которого было счастливое, мирное детство, который не видел ни голода, ни малярии, ни проказы, ни детей, умиравших изо дня в день. Об этом не говорили в доме посла и на приемах у богатых людей.
Да и отец Дельты, любивший его как сына, которого у него самого не было, не водил его туда, где были нищета и болезни. Он хотел, чтобы Андре запомнил монастыри, впитал то чудо христианства, что было важнейшей частью его жизни, его борьбы за веру. Они объездили почти всю Африку. Описания этих областей, сделанные Андре, можно печатать – до того они хороши. Отец Дельты возил Андре и дочь на сафари (он называл это «зовом дикой природы») и в Восточную Африку, что произвело на Андре особое впечатление. Он увидел здесь красоту, о которой можно тосковать, но которую невозможно запомнить и даже невозможно осознать, что такая красота существует на земле – ангельская, астральная, эзотерическая. Он возвращался в эти места и потом, как турист и по делам, а более всего как человек, плененный естественной красотой древнего коптского христианства.
Дельта была ему подругой, радостью первой невинной любви, трепетом первого поцелуя и духовной красотой тела, которая остается в памяти навсегда. Она была двумя годами старше, чем он, зрелей и мудрее. Часто она пела на приемах в посольстве. Отец Андре однажды сказал: «Дельта будет оперной певицей, если семья поедет с нами в Америку».
И через много лет Андре всегда проявлял понимание, находил оправдание всему, что относилось к Эфиопии, стране, которую он называл и своей, потому что здесь родился и жил до двенадцати лет. То были самые счастливые его годы, особенно начало юности, с первыми порывами любовной страсти в маленьких, уютных, скромных хижинах среди дикой природы. Расставание он пережил как смерть любимой и никогда не перестал тосковать.
С того момента, когда ее родня вынесла тяжкий и суровый приговор – вернуть Дельту из Америки в Эфиопию, Андре превратился в тень. Никто не знал, где Дельта. Оторванная от своих, приговоренная к тому, чтобы ничего не знать ни о своем ребенке, ни об Андре, она уходит в монастырь и становится монахиней. Ей дали имя Благодата. Монахини приняли ее без осуждения. Она писала дневник и перед смертью передала его игуменье, чтоб та послала его мне. Другое письмо было послано Андре.
Я помню тот большой конверт и тот день. Как только он получил письмо, я заметила в нем перемену, но приписала ее болезни. А он, ничего не объяснив, отправился в Эфиопию.
12 Боль женщины
Моей первой реакцией при чтении дневника было ощущение личного поражения как женщины. Обескураженная открытой тайной, я спрашивала себя: что же я значила для Андре в браке, который был счастливым, но бездетным. Выходит, наша любовь была иллюзией, решительно сказала я себе.
Возможно, первая реакция объяснялась пороком самовлюбленности. Ведь это свойство человеческой психики: мы легче принимаем сокрытие истины, даже ложь, чем поражение. Кажется, прошло довольно много времени, прежде чем я смогла вновь осмысленно воспринимать не только переживания других людей, но и самое себя.
После первого шока, читая о роковой разлуке Дельты и Андре, я постепенно пережила метаморфозу: ревность и гнев трансформировались в близость и любовь. Я больше не считала себя жертвой, а в них увидела мучеников. Неосознанно я создала ограду вокруг нашего брака, чтобы погрузиться в чтение и осознать трагедию их судьбы.
Пробужденное понимание как магнит притянуло меня к ним. Я стала частью их судеб. Вместо того чтоб ревновать, восхищалась прочностью их связи, сострадала их боли, поражалась тяжести наказания, особенно для нее как для матери.
После их смерти и похорон в Эфиопии, после того, как я поработала для монастыря, открыла школу византийской иконографии и фрески, мы подружились и стали переписываться с игуменьей Иеремией. Она мне теперь как мать, так я ее и зову.
«Благодату мучила совесть, – писала мне игуменья перед моим приездом. – Грешница, она наказывала себя и немилосердно умерщвляла плоть всеми истязаниями, известными в Эфиопии. Закованная в тяжкие вериги, с тяжелым камнем на голове, ходила за много километров в монастыри – причащаться и просить отпущения грехов. Часто ее не принимали, потому что ни женщинам, ни самкам животных не дозволялось входить на церковный двор. Она выбирала самые отдаленные монастыри, чтоб дольше ходить под грузом камня, а вернувшись – голодная, с окровавленными стопами, сразу становилась на молитву».
В агонии, физической и душевной, Дельта слагала церковные песнопения и проваливалась в сон. Иногда, в полупомешательстве из-за обезвоживания, пела колыбельные и укачивала ребенка. Как будто новорожденный был у нее на коленях. Вспоминая время, когда у нее отняли дитя, которое она кормила грудью, она звала дочь по имени – Андреяна.
Мать Иеремия с молитвой мыла и перевязывала ей израненные ноги. Колокола звонили всю ночь, ибо только этот звук постепенно вселял покой в душу той, что объявила себя грешницей.
Подавив в себе боль обманутой женщины, я сказала, что сделаю все, о чем просил Андре. Меня долго мучала совесть, что я позволила себе ревновать, в поисках выхода помышляла о самоубийстве и бегстве.
Может быть, сперва я хотела наказать их за скрытую тайну, не выполнять их желаний? Почему они избрали меня тем человеком, который возьмет на себя столь трудную обязанность – найти их дочь? Что-то во мне спрашивало: а может, избрали потому, что знали меня лучше, чем я сама знала себя? Знали, что я сумею передать их дочери, если и когда отыщу ее, чистую правду о том, почему ей было запрещено узнать своих родителей. Знали, что исполню завещанное и передам Андреяне немалое состояние, доставшееся ей от отца.
Вы спрашиваете, возможно ли, чтобы из разочарованной женщины, которая в браке не знала правды, я могла превратиться в защитницу тех, кто меня ранил?
Смерть открыла тайну, но истина была так человечна, скорбна и прекрасна, что личные страдания уменьшились, впитав их трагедию, словно она была и моей. Да, это оказалось возможно, поскольку моя боль открытия истины была несопоставима с их мученической жизнью.
Человеку тяжело принять истину. Тяжело открыть тайну, тем более ту, что подвергает испытанию его доброту и касается его непосредственно, независимо от того, хочет он того или нет.
Меня лихорадит – не знаю, оттого ли, что под вечер похолодало, или оттого, что я рассказываю вам об их судьбе, в которой теперь, после их смерти, участвую и я. Они сопутствуют мне, как ветер с Желтого Нила, врывающийся в ущелье, где монастырь и где их прах.
Музыка, которую мы слушаем, пока я рассказываю вам о своей жизни, часто вызывает во мне бурные чувства или, напротив, сильное ощущение гармонии и счастья, оттого что я здесь, рядом с этим монастырем и монахинями. Земные отношения стерты из моей памяти, ибо и монахини оставили земную жизнь, бурю человеческих отношений и обрели покой в молитве, посвятив себя Богу, как это сделала и Дельта. Я понимаю монахинь и восхищаюсь ими все больше. Чувствую причины их мистической связи с Христом – они те же, что у апостолов его.
И я – фрагмент Божьей рукописи мира – благодаря молитвам и тому, что создаю фрески и мозаики, могу рассказывать вам о земных скорбях без слез и сожаления о том, что я сама – часть повести о них. Повесть эта во мне непрестанна, она не завершена, пока я не исполню все их желания.
Возможно, для вас в этом есть противоречие, но жизнь всегда парадокс. В одной и той же комнате два мира сплетаются, сталкиваются и сосуществуют в гармонии, разве не так?
13 Мед с акации
Сегодня больше чем когда-либо я сомневаюсь, существуете ли вы вообще, или вы только музыка, которая слушает меня так же, как я ее. Вы тщательно выбираете, что мы будем слушать. Во всех композициях есть что-то неземное, мощное, иногда недоступное и тайное, как будто, создавая шедевры, композиторы общались с Богом, историей и судьбой рода человеческого, с космосом. Кто бы мог подумать, что в нотной системе из пяти тонов и хроматической лестницы полутонов кроется мистерия звуков, тайна энергии и волшебства, трагическое, скорбное, но и утешительное начало, дающее надежду на то, что мир победит жестокость и зло.
Музыка как любовь, как жизнь, даже в величайшей радости несет следы печали. Она обладает мистической гармонией мелодии, выявляет законы связи между аккордами и внушает жажду свободы, противление рабству и тирании, любовь к душе, страсть к телу. Инструменты, особенно арфа и орган, говорят об ангелах и Боге, о человеческой судьбе, борьбе добра и зла, о грехе и уповании на прощение. Очеловеченность звуков и голосов – это не избыток энергии, как полагал английский философ Герберт Спенсер, но ее открытая сублимация.
Музыка свободно перерабатывает различные события и даже сложные человеческие отношения. То, что мы не хотим читать в глазах любимого, мы вытесняем, пугаясь того, что можем найти и осознать. А музыка не скрывает ничего. Она – больше чем слово и интонация, – только истина, всегда истина.
У вас глубоко посаженные темно-синие глаза. Их цвет обнаруживается только при свете дня, при другом освещении они кажутся темными. Как эта музыка: сперва тихая и спокойная, аллегро модерато, вдруг нарастает в крещендо и вивациссимо, открывая звуки внутренней борьбы, вызванной воспоминаниями. Эти глаза привлекли меня и, наконец я это поняла, напомнили мне глаза Николы. Может, поэтому вы мне близки и я люблю ваши посещения? А вдруг и он прячется в этих глазах, и он слушает? Мои ответные визиты имеют тот же смысл.
Быть может, и вы когда-то любили, как я, и убежали сюда, чтобы в тишине и уединении найти то, чего ждете от жизни, от себя и от других, как надеюсь на это и я?
Вижу, ваш взгляд отдалился; вы больше не здесь, на нашей веранде, где мы встречаемся почти каждый день и говорим обо всем. Ваше молчание стало моим активным собеседником. Я задаю столько вопросов – не коснулась ли я чего-то, от чего вы бежите? Чувствую, как вы вздрогнули. Реагируете на то, что я вам рассказала, или я затронула в вас что-то свое? Сон, который вам снился, но ясен и свеж, как явь?
Вы молчите, значит, вы размышляете, вас этот рассказ взволновал, как волнует меня. Может, и мы встретились как две астральные сущности, блуждающие на грани реальности и грез? Ваше лицо мне знакомо и близко, но причина узнавания не вполне ясна. Иногда я думаю, что вы порождение моего одиночества, фата-моргана в человеческом облике, плод моей жажды произнести этот монолог. Существуете ли вы, или вы – моя иллюзия, воплощенная мечта? Не на краю ли я душевного надлома, не галлюцинирую ли я? А если вы, мое видение, – один из выходов из этого кошмара, контакт с внешним миром?
Слышите, как звонят колокола! Они непрестанно звучат в тихом струении воздуха, будто знают, что благодаря им я еще чувствую, что живу, что я не одна.
Сегодня я заварила чай с медом, но может быть, вы хотите абрикосового сока? Боже, сколько бессмысленных слов – только б засыпать ими мотивы исповеди. Легче выслушать жизнь другого, чем рассказать свою.
Но как бы там ни было, я хочу рассказать ее вам – здесь, в этих лесах, в уединении, вблизи монастыря, где скромные монахини напоминают нам, что Бог повсюду, хотя порой мы пытаемся скрыться от мира, от себя, от своей греховности и от совести. Или мы только прячемся от смерти, в которую не верим?
Здесь все знают, что вы сочиняете музыку. Вы играете на многих инструментах, больше всего на арфе, поете, пишете, разводите пчел и качаете мед. Вот ваш мед с весенних цветов и акации. Вы недавно мне его дали, я узнаю его запах. Пчелы трудолюбивы, как монахини, хотя смысл их труда для нас непостижим. Это закон тайны, он спасает от гордости и бренности.
Ваши внимательные глаза и ласковые слова каждый день спрашивают меня, зачем я здесь. От чего бегу? Что заставило меня приехать в этот отдаленный монастырь, где нет телевизора, радио, телефона, куда не добраться на современном транспорте, а надо часами идти через леса, луга и ручьи, правда, без всякой усталости? Вы спрашиваете, почему молодая американка, по происхождению сербка из Белграда, дочь врача, писательница, живописец фресок и мозаик, выбрала этот монастырь, где богослужение не менялось веками, где есть связь с Всевышним, но не с нынешним миром?
Время здесь измеряется чередой сезонов и праздников. Я завидую монахиням – они спокойны, всем довольны, далеки от ненависти, земных страстей и желаний. Они связаны с небом, как ангелы. На их лицах всегда улыбка, они никогда не хмурятся. Тяжелый труд – и никаких причитаний. Порхают, как мотыльки, в своих черных рясах и поют духовные гимны, как Божьи соловьи по весне. Как достигли они этой гармонии души и тела, полностью избавились от людских страстей и желаний, которые часто доводят до отчаяния?
У нас то же тело, но не душа, ибо мы, грешники, привязаны к земному, материальному. Здесь, мне кажется, в молитве больше святости, а в скромности жизни и служении Богу понимаешь Христа глубже, словно живешь в его эпоху, его время.
14 Звук далеких колоколов
В монастыре меня нарекли Антонией – по имени святого, защитника людей в опасностях и невзгодах. Вы дали мне хорошие книги о святом Антонии, я их читаю. Монахини тонко чувствуют людское страдание, ибо и сами обрели в монашестве защиту, освободились от мирского хаоса. В скромной молитвенной жизни Бог им защитник, ничто земное им ни к чему. Вы видели, они сами строят маленькую часовню, чтоб можно было молиться в зимние дни, когда снег и холод вынуждают оставить монастырскую церковь на попечение Святого Духа. Я спешу расписать часовенку и украсить ее мозаикой, словно никогда больше сюда не вернусь. Как будто это решаю я…
Использую местные материалы, обтесываю камешки, придаю им форму, необходимую, чтоб воссоздать святые лики. Кожа у меня на руках, как у монахинь, полна мелкой пыли, частиц камня и цемента. Изображая лик и тело Христово, я все время себе повторяю, что боль у меня в руках не имеет никакого значения по сравнению с той болью, что он претерпел на кресте. Почему вы так часто смотрите на мои руки, разглядывая мозаики и фрески, ставшие моей манией?
Я согласна с вами, в только что завершенной работе запечатлелось мое напряжение – усилив мощный образ Господня страдания. Христос не стенал от боли, а я, когда мозаика была завершена, вдруг заплакала. Этот плач слышали и вы. Вы ощутили мою боль.
Ничто не могло меня успокоить, пока монастырский колокол не возвестил о вечерне. Я поднималась к монастырю, чтобы присутствовать на службе, а солнце медленно исчезало за горизонтом, заливая ущелье розоватым светом.
Тогда же, в сумерки, я ощутила дуновение ветерка. Он принес звуки далеких колоколов скромного женского монастыря в Эфиопии, над горным ущельем. Это вернуло меня в прошлое, о котором я вам рассказываю.
Появилась золотая мозаика Богородицы с младенцем на руках. На устах ее играла улыбка – ведь она родила Богочеловека Христа. Все знали, что моя работа близится к концу, и удивились, когда я решила ее прервать.
Я не пережила той радости, какую испытывает мать, рожая дитя, создавая жизнь. Должно быть, это высочайшее чувство из всех, какие может испытать женщина, если она счастлива. Почему я изобразила слезы на благодатном лике? Знала ли она о той великой боли, которую ей предстоит пережить от потери единственного дитяти, сына, погибшего ради спасения душ наших? Может, ее утешало, а может, и нет, сознание того, что Бог избрал его своим сыном и что он принадлежит каждой матери, каждому отцу? Эта мозаика все еще ожидает меня.
Вы не ходите на богослужения. Я вас на них не встречала. Кажется, иногда вы беседуете с иноком, священномонахом, который присутствует здесь ради канонической точности обряда. Как известно, монахини не входят в алтарь, служат только за клиросом.
Вы атеист? К какой вере вы принадлежите? Может, вас, как и меня, терзают угрызения совести? Или веру вы переживаете как искусство, как потаенное чувство души?
Злые духи преследовали меня, пока я не обрела покой в женских монастырях, далеких от цивилизации и всего, что она несет – «прогрессивного», но безобразного и разрушительного. Из Эфиопии я приехала сюда. Останусь на зиму, пока не завершу работу. Не знаю, куда потом забросит меня судьба. Предоставляю это решать Всевидящему.
Уже приближается поздняя осень – это время года я люблю больше всего. Оно дает мне энергию, живость мысли, побуждает мечтать. В красках земли и свежести воздуха столько красоты. У каждого опавшего листа свой облик, свой полет на ветру: дивные движения, удивительная, тихая, ритмичная музыка. Оголенные ветки похожи на скульптуры. Я люблю запах осени. Не хочу его забывать. Прогулки по лесу приятны, нет духоты. Трудолюбивые животные готовятся к зиме. Небо на рассвете и на закате – нежно-розового цвета. Месяц ближе к земле, он кажется крупнее – точно хочет разглядеть эту красоту вблизи. Водопад в верхней части ущелья полноводен не от ливней, а от тихих дождей – он впитывает отсвет окружающей природы, которая хочет, чтоб река унесла ее в свой прекрасный зимний сон.
Сегодня все красиво, как природа.
Вечерний ветер дует сильнее, предвещая скорый приход зимы. Я поспешу с рассказом – сомневаюсь, что мы проведем вместе еще одну весну. Я усну вместе с ветрами и звуком колоколов.
Моя терраса украшена колокольчиками, привезенными из Эфиопии. Они беспрерывно ностальгически напоминают мне обо всех, кого я оставила там, о детях, которых полюбила, и о монахинях, особенно игуменье Иеремии, о кладбище на краю ущелья, в монастырском саду, где ветерок все так же насвистывает о человеческих судьбах. Тропические ливни с Желтого Нила гнут ветви деревьев, а те отбрасывают тени, и тогда точно духи пляшут по кладбищу и ущелью.
Колокольчики зовут меня вернуться в прекрасную Эфиопию, к людям, которые стали мне дороги. Я слышу их звон – неотличимый от звона наших колоколов, он сливается с сербской молитвой. Я слышу их, они уводят меня отсюда – туда, а потом возвращают.
Там теперь похоронены рядом Дельта и Андре, согласно их воле и с разрешения игуменьи Иеремии, с которой я до сих пор переписываюсь. Их могила станет местом паломничества и встреч. Они стали частицей святости далекого эфиопского монастыря.
Жизнь разлучила их – Андре принадлежал мне. А смерть навеки соединила, по воле их – там, где были рождены оба. Они умерли от одной болезни, в один месяц, с одним желанием.
Звук эфиопских колокольчиков похож на звон здешних колоколов. Как будто они из одного материала. Они связаны православием – это соединяет две далекие страны. Они говорят, и когда я молчу.
Пора идти в монастырь, зажечь свечи.
Ангельские голоса монахинь на службе отвлекают от тяжести пережитого. Я буду петь вместе с ними. Знаю, что услышу и голос игуменьи из Эфиопии. Она была оперной певицей в Италии. Посетив Эфиопию, перешла в православие и без всякого объяснения оставила сцену, семью и мирскую жизнь. Дети, что приходят в монастырь, кроме родного языка, говорят по-английски и по-итальянски. Она им не родная мать, но стала их матерью во Христе.
Я полюбила ее, как и она меня. Сказала ей, что и в Сербии в вечерних молитвах буду с ней, буду слушать ее небесный голос, который ныне отдан только Христу. Она улыбнулась, а в письмах сообщает, что неизменно чувствует мое присутствие – как будто я пою вместе с ней на ее службе Богу.
– Вы никогда нас не покидали, ведь вы украсили этот Божий дом фресками и мозаикой. Вы обновили и сохранили все наши старые иконы, поврежденные из-за того, что протекала крыша. Дети продолжают делать мозаики, писать иконы и фрески, как вы учили. Это лучшая у нас монастырская школа искусств. Колокола ждут вас, их голос сопутствует вам, где бы вы ни были. Я не хочу видеть слезы в ваших темных глазах. Вы заслужили счастье, дорогая моя Антония, как называют вас ваши сербские сестры-монахини. Да хранит вас Христос и наш эфиопский святой – святой Георгий.
Почему в этот вечер вы, по-прежнему молча, так проникновенно смотрите на меня? О чем размышляете? Может быть, однажды, хоть на прощание, вы откроете мне, почему вы здесь, почему проводите дни со мной – в разговорах, слушая музыку и рассматривая мои работы?
Кто вы? Посланец Бога, мой ангел-хранитель? Пока я не хочу об этом думать. Если бы вы хотели, чтоб я больше знала о вас, то назвали бы мне хотя бы свое имя. Признаюсь, я боюсь того, что мне предстоит открыть. Будьте пока только музыкой, которую мы любим и слушаем вместе. Она лечит и облагораживает душу.
15 Язык праотцев
Что у вас под подушкой? Моей подушки касаются иконы, молитвы, письма и сухие полевые цветы, которые вы дарите мне без слов. Я люблю эти цветы, выращенные Богом, свободно, без участия человеческих рук, – они омыты дождем, на них нет следов ничьих прикосновений, их краски и аромат вечны.
Я вижу сны. Живу ночью, словно именно тогда, во сне, пишется моя судьба.
Попробуйте нынче вечером положить под подушку что-нибудь дорогое вам. Полевой цветок, которого вы коснулись, перо, потерянное птицей на лету, осенний листок, что поцеловал вас, падая, что-нибудь написанное или сочиненное вами, камешек из ущелья или письмо, которое вызывает у вас улыбку или даже грусть.
Вот увидите, вы почувствуете перемену, лучше поймете себя и других. Будете вы смеяться во сне или плакать, оттого что счастливы и живы? Может быть, благодаря этому опыту вы создадите прекраснейшую музыку, которую и я смогу услышать? Так я действительно узнаю вас.
Монахини усердно трудились на винограднике. Я помогала им все утро. Они улыбались и были веселы, как все дети Христовы. Они делают хорошее вино, подают его гостям, но сами не пьют. Монахи любят иногда выпить стакан-другой. Это вино монастырь использует для причастия, монахини и просфоры пекут.
Вдруг все охватывает тьма, луна потихоньку спускается ближе к земле, наливаясь удивительным цветом, как всегда в дни сбора винограда. Говорят, и последний сбор яблок придется на полнолуние.
Нам пора расставаться. Посмотрите на небо: разве и оно – не прекрасный дар Божий? Надо прочувствовать это.
Вы хотели что-то сказать, но у вас только дрогнули губы, а зрачки стали еще выразительней и глубже – утонули в колыбели глаз, под густыми черными бровями, выдающими твердость характера.
Что будем слушать завтра? Предоставляю выбрать вам.
Я приступаю к мозаичному образу святого Георгия. Плащ будет огненно-красный, я еще не завершила набросок. В вас есть сходство с эфиопским святым Георгием. Надо смешать много красок, чтобы получить цвет красного камня. Конь будет белым, как клевер и маргаритки – они тут у нас в изобилии. Он будет изображен в движении, словно летит, подхваченный ветром из ущелья, а не своей силой.
В конце пребывания здесь я изображу в мозаике святую Параскеву Пятницу. Это моя крестная слава. С ее иконой мы покинули Сербию и переселились в Америку. Она меня всегда утешает, охраняет, дает советы. Помню, однажды я чуть не умерла от аллергии на антибиотик. Все в скорой помощи университетской клиники думали, что меня не спасти. А я была спокойна, что их пугало еще больше. Они думали, что я в шоке и не реагирую. Я не могла говорить: язык распух, а дыханию мешал большой отек в легких. Дрожащей рукой я написала перепуганным, заплаканным родителям, что не умру, потому что вижу икону святой Параскевы в церкви на Калемегдане. Только потом я осознала, что написала это по-сербски, дрожащей рукой ребенка, который только учится писать. Я видела, как улыбнулся отец и успокоилась мать.
Когда врач услышал, что я написала, он согласился, что не надо спешить с трахеотомией и подключением к искусственному дыханию. Через шесть часов вливания кортизона отек спал. Я никогда не писала родителям на языке предков – английский в обыденной жизни стал вторым родным языком. Вот видите, на родине, в моей крестной славе и любимой церкви, я обрела чудотворную защиту святой Параскевы. Когда я пишу Параскеву или делаю мозаику с ее образом, я ощущаю ее в себе и вокруг себя – беседую с ней. То же чувство у меня, когда я изображаю Христа. Так и с моим молитвенным языком, хотя Америка – земля, где прошло мое детство, да и вся жизнь.
Говорите ли вы когда-нибудь о своих невзгодах и удачах святому, которого ваши предки избрали для почитания, дабы он благословил дом и всех, кто входит в него? Вы улыбаетесь той загадочной улыбкой, которую я так люблю. Вы ничего не хотите открыть о себе, но она выдает вас. Духи не улыбаются.
Я обещала вас познакомить с историей византийско-сербской иконописи, фресок, мозаик, с секретами изготовления красок и техники. Может быть, вы будете помогать мне в работе, в приготовлении красок и подготовке основы, где тоже есть свои секреты. Но пока смотрите, как я пишу.
Во всем есть тайна, и в искусстве тоже. Лучше эти тайны не открывать, а то они потеряют очарование. «Не надо говорить обо всем, особенно если вы художник», – сказала мне здешняя игуменья.
Вы приподняли бровь. Может быть, это знак согласия со словами игуменьи, а может, вы радуетесь тому, что увидите, как возникает еще один святой образ. И сопроводите завершенные иконы и фрески музыкой, которую мы еще не слушали.
Оставляю вам решение этой сложной задачи. Трудно выбрать, когда есть столько имен и хорошей музыки. Я не делаю никаких предложений – до сих пор вы не совершили ни одной ошибки.
Вы остаетесь тайной. Я не хочу ее открывать. Открывая, всегда ждешь разочарования и банальности. Возможно, это мы, женщины, так рассуждаем.
Не меняйтесь! Я не готова, я недостаточно сильна, чтоб выслушать вашу исповедь!
Вы закрыли глаза. Знак ли это, что вы со мной согласны, что молчание пока лучше и для вас?
До завтра, слушатель!
16 Богородица с Христом
Вчера на ранней заре я смотрела, как вы идете на прогулку. Трава была еще мокрая от тумана и речной сырости. Река приносит свежесть в этот неожиданно жаркий для осени день.
Не все реки одинаковы. У каждой своя жизнь и история, как и у нас, людей. Ветви ив все еще закрывают берега этой реки, защищают от жаркого солнца. Разве не правда – каждому нужна защита от душевных промахов, которые мы держим в тайне, как реки, уходящие под землю, скрывают свою жизнь?
Вы часто смотрите на стоящие на моем столе фотографии людей со счастливыми лицами и не задаете вопросов. Но ваш взгляд глубоко проникает мне в сердце. Вы пытаетесь отгадать, почему со мной произошло все то, о чем я вам рассказываю. Где мое обручальное кольцо, снято ли оно потому, что я работаю над мозаикой, или есть другая причина? Почему я часто одета в черное – от тоски во мне самой или от тоски по утраченному?
Шутливо, но наполовину всерьез, вы жестом подтвердили мое предположение, что когда я молюсь, покрыв голову, вероятно, я похожа на монахиню. Только светлые волосы, выглядывая из-под черной косынки, выдают, что я не принадлежу к этому богоугодному кругу, еще не освободилась от земных привычек.
Когда-то я верила, что ничто не может угрожать моему счастью, радости и жизни. Страдание было мне незнакомо. Состоятельные родители обрели меня под старость и предоставили мне всё – они были счастливы, что у них есть ребенок. Они думали, что обеспечили мне главное, чтоб я была готова к жизни: забота семьи, ощущение веры, хорошее образование за границей, путешествия.
Как же мало они понимали – ведь мне нужнее всего была их близость, ласковая защита, прикосновение, голос! Сегодня я смотрела, как из школы возвращаются ученики с сумками, украшенными народной вышивкой. Счастливые, они скакали по лугам, играли в жмурки, карабкались на деревья в саду – и я поняла, почему у них такой здоровый вид, и румяные щечки, и улыбки, похожие на молодой месяц. Дети наслаждались не столько вкусом яблока и его крепким хрустом, сколько непосредственной любовью родителей. Поездки за границу были им не нужны.
Ребенком я верила, что месяц мне улыбается, когда во французском католическом пансионе смотрела в окно и мысленно посылала матери просьбы, чтоб она как можно скорей приехала меня навестить. Месяц был моим курьером, небесным письмоносцем, он составлял мне компанию в тревожные ночи в этой длинной спальне с одинаковыми кроватями (белые, с белыми одеялами, они казались мне привидениями). Мне тогда едва исполнилось четыре года.
По ночам я боялась католических честных сестер – не узнавала их во мраке, когда они снимали свои большие белые накрахмаленные чепцы, похожие на лебединые крылья. Днем эти крылья меня успокаивали, сестры напоминали ангелов, которые могут взлететь. У них была такая грациозная походка. А ночью, когда они являлись с остриженными волосами, я не узнавала их, они вселяли в меня невыразимый страх. Я хватала икону Богородицы, висевшую на белой ленте над моим изголовьем, натягивала на голову белое фланелевое одеяло и тихо призывала в молитвах маму и Божью Матерь.
Оцепенев, застыв, я старалась стать невидимой для глаз кровожадных зверей. У меня часто болел живот, я боялась, что меня вырвет. И учащенно дышала, чтоб этому помешать. Что было бы, если б я испачкала это белоснежное белье? Я тихо шептала все молитвы, какие знала, а некоторые сама придумывала, повторяя в конце мамино имя. Так и засыпала, в слезах.
В главном коридоре, перед канцелярией директрисы школы, стояли большие часы с кукушкой. Ночью, когда мне было жутко, голос кукушки словно сообщал, что вот-вот произойдет нечто страшное. Сова с широко раскрытыми глазами предупреждала: из тьмы приближается опасность. Не знаю, кто мне сказал, что совы умные птицы, но я была убеждена: сова покажет мне верный путь, потому что только она видит в темноте. Так я начала сочинять рассказы о жизни в лесу, где птицы, животные и дети могут общаться, потому что понимают язык природы. На какое-то время это помогло мне лучше спать.
Днем честные сестры навевали покой своим пением в часовне. Это были прекраснейшие создания на свете, наделенные дивными голосами. «Аве Мария» была моей любимой молитвой Богородице. В отсутствие матери Богородица была мне заступницей, как маленькому Христу, – так я размышляла, хотя меня пугало, что она не смогла спасти сына от дурных людей.
Покровительница нашего дома, святая Параскева Пятница, понимала меня и обращалась ко мне во сне. И что важнее всего, говорила на моем родном языке. Я знала: ее никто не услышит, особенно эти тени из мрака, которые не понимали по-сербски. Я знала, что она меня защитит.
Три раза в день мы ходили в часовню, а перед едой и после еды всегда молились Богу. Молитвы придавали мне уверенности.
Я испугалась, когда в часовне, справа, увидела Христа, распятого на кресте. Он был огромен. Капли крови казались свежими. Я жмурилась, чтоб отогнать видение его муки, убеждала себя, что дело тут в краске, использованной мастерами. Впоследствии я часто не хотела пользоваться красной краской, связывая ее с Христовой кровью, с его страданием.
Слева стояла статуя Богородицы с младенцем-Христом. Она излучала тепло и свет. В ее глазах я всегда видела печаль и слезы. Сестры сказали мне, что виной тому блики солнечных лучей, проникавших сквозь окна часовни. Лучи любили целовать ее лицо.
Мне хотелось увидеть иконостас и иконы православной церкви, где я когда-то молилась вместе с родителями. Там я не ощущала страха. Может быть, потому, что была вместе с семьей, но думаю, по совести говоря, что покой и надежду вселяла в меня православная иконопись: там была не только картина распятия.
Я спрашивала сестер, почему Богородица безропотно позволила истязать своего сына, не пыталась за него заступиться. Разве она не могла его защитить? Тут начались мои сомнения, защитит она меня или позволит, чтоб и со мной произошло нечто страшное. Я долго плакала, даже во сне. Сестра Матильда объяснила мне, что на все была воля Божья, ради нашего избавления от грехов. После этого разговора я совершенно убедилась, что сама грешными ночными страхами усугубляю его страдания.
Угрызения совести, как видите, появились в моей жизни очень рано, и я начала сама себя наказывать. Перестала играть с детьми, которые были старше меня. Очень мало говорила. Во мне произошла резкая перемена. Меня не интересовало ничего, кроме вопросов веры, а сестры не всегда могли на них ответить. Ела я очень мало, непрерывно постилась. Пост был не то что у католиков, которые едят мороженое, яйца, творог. Я пила только воду, едва прикасалась к хлебу и молилась, чтобы приехали родители. Пост, бессонные ночи, страх, тоска по материнским объятиям, – все привело к тому, что я стала терять в весе. Чем больше я задавала сестрам трудных вопросов, тем больше они волновались, не зная, как мне, ребенку, объяснить то, что меня тревожило, и не могли меня утешить.
Родители скоро приехали, и я вернулась в Америку. Я была самой счастливой девочкой на свете. Обласканная ими, я скоро успокоилась. Мне было пять лет.
Два года пребывания в этой, вообще-то очень хорошей, школе, жизнь под одной крышей с честными сестрами очень рано связали меня с религией, Богом, любовью к сестрам, которых я в мечтах видела невестами Христовыми. У них на руках были кольца, как у моей матери.
Ты должна быть избранной, не такой, как все, чтобы получить перстень Христа, думала я. Но мне было не ясно, поняла ли я, что надо сделать, чтоб удостоиться этого перстня. Однажды я сама сделала перстень из цветного бисера, предназначенного для изготовления декоративных корзиночек. Радостная, поспешила к сестре Матильде и с восторгом сказала ей, что теперь я так же, как и она, связана с Христом. Она улыбнулась и объяснила, что мне не нужен перстень, чтобы быть вместе с ним и чувствовать его любовь.
Сестра Матильда рано познакомила меня с духовной музыкой. Водила меня смотреть другие церкви и капеллы, где были окна с цветными витражами на евангельские мотивы. Мы даже посещали музеи и концерты. Она играла на арфе и органе и проводила со мной время, слушая духовную музыку.
Потом, когда я выросла и приехала в Париж, я навестила ее. Она была уже в летах, а носила все такой же лебединый накрахмаленный белый чепец. Я поблагодарила ее за то, что она рано ввела меня в мир церковной музыки, которую и вы, и я иногда слушаем. Я дала ей понять, как она меня духовно обогатила. В Америке католики называют их «God’s geese» – «Божьи гуси»; ни один другой орден не носит таких головных уборов, и только их жизнь так скромна и аскетична. Там многие монахини обучены гражданским профессиям. Водят машины, посещают рестораны и кинотеатры. Никогда не выглядели ни святыми, ни скромницами.
Позднее, став врачом, я трепетала оттого, что в больницах всюду белый цвет. Хорошо, что нынешние, современные больницы больше похожи на гостиницы, а врачи и медсестры носят цветные халаты. Только любви к белым цветам я осталась верна.
17 Я жила ради искусства и музыки
Родители мои были верующими, но регулярно в церковь не ходили. Обычно они посещали храм по большим праздникам и на нашу крестную славу. Но они прониклись моей любовью к фрескам, мозаикам и иконам, любовью к музыке. Дали мне возможность путешествовать, часто мы вместе посещали монастыри в Америке и за границей. Побывав в монастырях Югославии, я еще больше полюбила мастерство и технику церковной живописи и мозаики, углубились мои представления об истории византийского искусства.
В то время я не думала, что захочу жить подле монастыря, рядом с монахинями. Меня привлекало только искусство, а не их жизнь.
Мне предложили вести телевизионную передачу: я обучала группу заинтересованных людей технике иконописи и фрески, кроме того программа давала возможность обсудить известные произведения искусства на религиозные темы. Каждый участник рассказывал, что испытывает, глядя на произведение, и излагал собственную идею – как это эмоциональное и интеллектуальное впечатление перенести на полотно.
Это было креативное обучение и попытка понять психические реакции. Передача была очень популярна, даже знаменита в Америке. Многие знали меня, хотели со мной познакомиться. В то же время у меня была и врачебная практика.
Было очень мало времени на отвлечения. Я жила ради искусства и музыки. Была благодарна родителям за то, что они с детства научили меня уважать и любить книги, музыку и живопись. В юности я еще не понимала истинного значения слов о том, что книги – лучшие друзья человека, но потом увидела, насколько верны эти слова.
Меня привлекали монастыри, но я не могла объяснить себе, в чем причина такого интереса. Родные часто в шутку говорили, что, может быть, я кончу как монахиня, потому что все земное меня привлекает гораздо меньше. Ребенком я слушала классическую музыку – сама играла Моцарта, и теперь могу слушать его ежедневно. Отец любил Россию и русских композиторов, особенно Рахманинова и Стравинского, поэтому дома все выучили русский язык.
Я всегда была большой соней. Во сне я слушала музыку, великолепные видения переносили меня во времена, когда жили мои любимые композиторы, и просыпалась я освеженной и счастливой.
Дивными были те сны невинного детства и девичества. В отличие от остальной молодежи, я не обращала внимания на другой пол и не ходила на пользовавшиеся успехом школьные вечера. Многие мои подруги одевались на них как на венчание, в вечерние платья, а молодые люди – в костюмы с жилетками и галстуками. Они расстраивались и хандрили, если у них не было партнера или денег для таких выходов.
Мать беспокоилась, что я замкнута. Даже собиралась показать меня психиатру, но быстро отказалась от этой мысли, тем более что я сама стала детским врачом. «Я старая, хотела бы иметь внуков, – говорила она печально. – Если ты и дальше не изменишь стиль жизни, ты никого не найдешь, а время проходит».
Я любила мечтать о том, как у меня будет много детей, хотя никому этого не поверяла. Мне было жаль, что у меня нет ни сестры, ни брата. С коллегами, с которыми я работала в больнице и амбулатории, у меня было немного общего. На конференциях они больше всего рассуждали о том, как бы повыгодней вложить деньги. Для них я была знаменитой телезвездой, и это создавало барьер. Из ревности или из опасения, что я не приму их дружбы, они избегали со мной разговаривать, но охотно приглашали на приемы, где я должна была раздавать автографы. Возможно, мою замкнутость они принимали за зазнайство и снобизм?
Я вижу, что вы внимательно следите за историей моей жизни, с аппетитом поедая только что собранный виноград, но поглядываете на меня с недоверием – наверно, потому, что я дала вам понять, что меня тогда еще никто ни разу не поцеловал. Узнаю ваше выражение лица, вы покашливаете, когда вам что-то не ясно. Ну вот, теперь вы улыбнулись, потому что я права. Я вовсе не гордилась тем, что еще не нашла достойного мужчину, с которым мне хотелось бы разговаривать и вместе проводить время. Честно говоря, никто меня не привлекал. Я пугалась близости и избегала мужчин.
Меня всегда сопровождали темно-синие глаза. У мужчин я прежде всего обращала внимание на глаза и на руки. В каждом искала то, что любила и утратила в Николе.
В родительском доме, где я жила, часто устраивались дивные музыкальные вечера. Отец любил в теплой домашней атмосфере вместе с гостями послушать классическую музыку. Иногда, тоскуя по родине, которую, впрочем, он нередко посещал, приглашал группы известных певцов и музыкантов. Он любил оперу. Даже пел сам, наслаждаясь ариями, хотя голос у него был не из лучших.
Мама частенько плакала, слушая женские арии из «Аиды», «Тоски», «Богемы», «Мадам Баттерфляй», «Манон Леско» и многих других опер. Спрашивала, почему женские роли всегда трагичны. Ей казалось, что Пуччини, чистый лирик и настоящий наследник Верди, любил драму, сопровождаемую музыкой. Он больше адресовал музыку женщинам и лучше разрабатывал женские характеры, чем мужские.
– Мама, его жизнь с женщинами сложилась трагически. Ревнивая супруга Эльвира, которую многие не любили, обвинила бедную Дорию, жившую поблизости от Флоренции, в любовной связи с Пуччини. Она немилосердно преследовала Дорию, устраивала скандалы, пока та не отравилась. Вскрытие показало, что Дория была невинна. Эльвира несколько месяцев провела в тюрьме, а Пуччини, говорят, уединился в римской гостинице, подавленный и потрясенный. Возможно, он ощутил силу женской любви и трагизм отношений, а мужчин видел в дурном свете.
В «Тоске», чтобы подчеркнуть контраст между грязным желанием Скарпио и таинственным местом действия, он, изучив звон церковных колоколов в области Сант-Анджела, особенно большого колокола церкви Святого Петра, перенес их звучание в музыку. В «Мадам Баттерфляй» он использовал японскую музыку и, говорят, когда впервые присутствовал на репетиции, в последнем акте пролил кофе из своей чашечки на дорогое платье, специально сшитое для роли Манон. Он критиковал оперных певиц за то, что у них нет чутья в подборе платьев: ведь его героиня, Манон, в этом акте – без денег, голодная, отчаявшаяся. Оперные певицы, часто говорил он, должны ходить по облаку мелодии, чтобы быть настоящими звездами. Пуччини создал непреходящие образы нежных женских характеров, возможно, и потому, что в те времена, когда он сочинял, судьбы женщин проявлялись в великом страдании. Женщины были зависимы от мужчин и ограничены социальной иерархией.
Я не могла принять только такое объяснение и долго думала, да и сегодня думаю: возможно, женщины, по природе своей, допускают по отношению к себе некий элемент садизма, они даже терпимее к физической боли, чем к эмоциональной. Эмоциональная боль проявляется у них в слезах или в деструктивном поведении. Не знаю, то ли они глубже любят, то ли легче связывают свою жизнь с противоположным полом, поскольку это повышает их ощущение собственной ценности, но они терпят то, что следовало бы осудить, ибо психологически зависимы, невзирая на то, насколько они эмансипированы.
Мне странно и стыдно, что я излагаю вам это, тем более что художники, будучи гуманистами, вовсе не наслаждаются, терроризируя окружение, а кроме того, я мало знаю о вас. Может быть, однажды вы об этом выскажетесь, выразите свое отношение в музыке.
Во время таких разговоров мама смеялась, показывая белые зубы, и говорила, что мне не о чем беспокоиться – я рождена, чтобы быть любимой. Как мало она знала! Наверно, мать, любящая свое единственное дитя, и не может быть объективна? Но встреча, назначенная судьбой, произошла, хоть и не была запланирована.
Однажды, после большого приема в нашем доме, Андре, наш частый гость, попросил у отца моей руки. Родителей не смущала разница в возрасте, они видели в нем светского человека, зрелого, добившегося успеха, основательного, на редкость тонкого – не было лучшего кандидата, чтоб осчастливить их единственную дочь. Он приходил на мои выставки и даже когда меня не было дома, просил отца показать мои работы. Более того собирался почти все их купить, но отец посоветовал ему не говорить при мне об этом, потому что я откажусь и он потеряет возможность меня видеть.
Я знала о нем очень мало, кроме того что у него есть какие-то дела с отцом и эти дела идут весьма успешно. Андре владел несколькими банками и постоянно путешествовал, больше всего по Африке. В его серьезных делах и заботах о помощи народам Африки отец находил объяснение тому, что его не видели в женском обществе.
Образованный, вечный путник, Андре всегда был в центре внимания – все его внимательно слушали. Он был весьма уважаемым человеком, газеты часто писали о его миссионерской работе в Африке. Был очень уравновешен, в нем присутствовало некое спокойствие, редкое у деловых людей. От него веяло надежностью и заботой. Видимо, все это и послужило причиной того, что я согласилась выйти за него замуж, не зная о человеке, с которым мне предстояло провести всю жизнь, ничего, кроме того что он, как сказал отец, влюблен в мои художественные работы. Матери он признался, что любит мои темные глаза и светлые волосы. Мне же никогда этого не говорил. Он не спешил меня обнять или поцеловать, словно знал, как меня пугает близость с мужчиной.
Когда мы говорили по-французски, он обращался ко мне официально. Ему нравилось говорить на языке предков, а свой род он мог проследить до XVII века. Андре любил Францию и мечтал, что когда-нибудь мы будем жить на родине его прадедов. Он отлично знал историю и литературу, был любителем оперы. Мы часто ходили в театр, иногда летали и в другие страны, чтобы побывать на каком-нибудь выдающемся представлении. Обычно мы всюду были только вдвоем. Хотя у нас был большой дом, он не любил устраивать приемы. Мы были почти неразлучны. Однако моя телевизионная программа становилась все популярней, и Андре выражал неудовольствие и опасения.
– Изабелла, – говорил он, – это пустая трата времени. Ты работаешь с первой попавшейся публикой, не имеешь возможности ее выбрать. Пиши картины – в этом твой дар. Надо, чтобы у тебя каждый год было больше выставок за границей. Все их ждут и хотят, чтоб ты выставлялась чаще.
Воспитанная в уважении к мужу, я стала больше времени отдавать занятиям живописью, а больных принимала, с его согласия, только в клинике. Он часто звонил мне и в страхе спрашивал, не чувствую ли я, что мне угрожает опасность от тех, кто шлет мне письма через телевидение.
– Я умру, если с тобой что-нибудь случится, Изабелла, а я не сумею тебя защитить, – часто говорил он.
Только позднее я поняла, что исток его страха – чувство долга. Чувство вины, а не любовь, усиливало его потребность стать моим защитником.
18 Женщина с пышной грудью
С самого начала нашего супружества мне казалось, что ему больше нравится хвалить мои произведения, беседовать со мной, чем целовать меня. Он любовался моей работой, следил за ней. Мог читать до поздней ночи, когда я писала картины. Похоже было, что разговоры для нас обоих желанней, чем интимные отношения. Он воодушевленно говорил моему отцу:
– Ваша дочь – необыкновенный художник, ее надо поощрять к творчеству, а все остальное, что может помешать ей писать и рисовать, следует устранить, даже медицину. Я много лет искал такую жену по всему свету и не женился потому, что ваша Изабелла – единственная, кто соответствует моему идеалу.
Мы жили в комфорте, с прислугой, путешествовали, вели долгие интеллектуальные беседы, но я быстро почувствовала, что в этих отношениях чего-то недостает. Проявив страсть, он резко себя осаживал. Как будто я была ему ребенком, а не женой, гладил меня по голове и целовал в лоб.
– Прости, – часто говорил он и прятал глаза, избегая моих вопросов.
Нет, я ни о чем не спрашивала, я вознесла его на пьедестал, думая, что он знает все. Настолько была наивна. А он – он был корректен, обладал манерами человека из высшего общества, наперед знал правила любого этикета, хотя никогда их не читал. Был уверен в себе, в своей породе, деловых способностях и знании антикварной старины.
Помню первый поцелуй – он удивился моей неопытности, но она была ему приятна. Мне не с чем было сравнить наш брак, кроме романов и фильмов – и нежных отношений моих родителей. Наш союз был тихим, уравновешенным, полным взаимного уважения.
Дети моих пациентов в своих семьях наблюдали сплошные ссоры. Я воспринимала эти браки как проблемные. К моему это не относилось. Позднее я убедилась, что и мой брак был столь же проблемен, ибо мы не говорили свободно о своих желаниях и потребностях. Чего же нам недостает? – недоумевала я, а мое тело все больше обособлялось, пряталось в одиночество, и руки перестали искать его объятий.
Я посвятила себя работе и духовной живописи. Думаю, что Андре нимало не тревожился, его устраивали такие отношения.
В одной из телепередач речь шла о том, как передать образ матери и ребенка. Присутствующие должны были изобразить свои представления о семье, беременности и рождении детей. Участвовала и я, в качестве руководителя группы. Мои движения становились все быстрее, были полны каким-то скрытым желанием. Я рисовала женщину с пышной грудью. Она спала, с мягкой улыбкой, довольная тем, что ждет ребенка; а рядом с ней застыл мужчина, закрыв глаза руками, с лицом, окаменевшим от ужаса и тоски: он понял, что видит во сне его жена. И вдруг какая-то неведомая тоска, скорбь – как будто что-то умерло во мне, как будто, пока я рисовала, тело мое внутренне изменилось и опустело. Я выронила перо, тушь пролилась мне на платье. Обе руки упали на живот. Я поняла, что Андре не хочет детей, что я не буду матерью, – на глаза у меня выступили слезы. Публика, смотревшая передачу, была в восторге. Ей казалось, что эмоциональная реакция, которую вызвал у меня рисунок, – это часть программы. Никто не понял, что это была моя трагедия, моя биография, а не урок изобразительного искусства и анализа картин. Оценка программы – а опрос зрителей проводили каждый раз – была очень высокой. Публика требовала, чтобы моя программа шла ежедневно. Письма шли потоком. Я поняла, как легко люди связывают себя с телегероями, даже влюбляются в них, им начинает казаться, что они близко знакомы.
Я получала много писем, и Андре просматривал их. Сначала никак не комментировал. Но все больше боялся, что со мной что-нибудь случится. Запретил мне водить машину. Заботясь о моей безопасности, дал мне водителя, я не стала спорить. Я всегда считала, что его решения выверенные и зрелые, что они в моих интересах. Возможно, он опасался, что из-за такой популярности может меня потерять. Впервые я ощутила неудобство из-за того, что к нам приходят люди, просят автограф, хотят поговорить. Он еще больше сосредоточился на охране моего личного пространства, на изоляции, удалял из моего окружения буквально всех, даже фоторепортеров. Подруг у меня не было, и я не чувствовала, что мне не хватает общения, хотя его забота обернулась для меня потерей свободы.
– Мы счастливей всего, когда мы одни в доме, – часто повторял он. – Ты рисуешь, я пишу, мы слушаем музыку, она обогащает нас красотой.
Теперь я знаю, что заранее предчувствовала: он не хотел детей. Когда мой отец в шутку спрашивал, когда же у него будут внуки, Андре, помолчав, говорил, что он стар и не хочет повредить моей карьере, внешности и нашим удивительным отношениям. Я стала немой соучастницей скорее его жизни, чем своей. Боясь узнать истинные причины его решения, жила в безмолвии. Может, мне было страшно услышать правду, а может, я не хотела его обижать вопросами. И приняла его резоны как свои.
Может быть, я преждевременно, живя у честных сестер в Париже, создала себе идеальный образ брака – чистого, невинного, как молитва Христу: ты его любишь, уважаешь, а он дает тебе спокойствие и защиту? Это и есть любовь – я не роптала, не требовала ответа и утешения. Бывали дни, когда мне было стыдно за свой эгоистический порыв, желание стать матерью. Я просила у Бога прощения, и постепенно мое желание угасло.
19 Я рисовала детей и молилась Богу
В нашем большом доме был роскошный вход на второй этаж с двумя витыми мраморными лестницами. Стены были увешаны украшениями, в основном из Африки. Андре увлекался стариной и коллекционировал костюмы и маски из разных стран африканского континента.
Я отказывалась его сопровождать в путешествиях по Африке. Боялась, что, если я с ним поеду, он тоже умрет, как Никола. Я никогда не говорила ему о причине отказа.
Думаю, молчание помогало нам обоим верить в прочность своего положения, и каждый хранил свою тайну. Я так и не поделилась с Андре своей дружбой и утратой Николы.
На одной стене висели портреты предков Андре. Некоторые просто выглядели внушительно, у других были резкие, неулыбающиеся лица, они излучали чувство превосходства. У женщин были богатые платья тех времен и драгоценности, покрывавшие грудь и украшавшие прическу. На этой лестнице я чувствовала себя чужой и избегала подниматься в спальни и большие комнаты для приемов, расположенные на третьем этаже.
Там было несколько таких комнат. Ценная обстановка имела свою предысторию, но от нее веяло холодом. Это был дом фамильной традиции, дом прошлого, а не настоящего. Я ничего в нем не меняла, не добавляла, кроме как в своей спальне. У нас была одна общая спальня и две отдельные. Часто я спала у себя, в одиночестве, и меня охватывал страх, вернувшийся из детства. В кошмарных снах являлись лица с портретов предков Андре. Они были строгие и злые. Как повелось тут из поколения в поколение, мы в браке держали себя в соответствии с обычаями и этикетом аристократической французской семьи. Андре использовал любую возможность, чтобы поговорить по-французски, он считал Францию своей родиной. Он любил эту страну, мы часто ее посещали. Как же мало я знала о человеке, с которым собиралась провести жизнь! Он говорил о своих предках с гордостью и любовью. Теперь они принадлежали и мне, ведь я носила его фамилию.
Вспоминаю один благотворительный костюмированный бал, устроенный ради сбора средств для Африки. Андре выбрал мне эфиопский народный костюм. Все присутствующие восхищались – наряд был роскошный, яркий, украшенный шитьем с драгоценными камнями. Особенно эффектен был потрясающий тюрбан. По возвращении с успешно прошедшего вечера я впервые ощутила, каким страстным может быть Андре. Он говорил мне – одетой в этот костюм – слова, которые звучали как музыка. Был в восторге, звал меня по-эфиопски – Дельта, а я не понимала этого имени, даже не знала, что такое существует. И тогда вдруг, наверно, вернувшись в реальность, он нежно взял мое лицо в руки.
– Изабелла, – сказал он серьезно, – я хочу, чтобы ты запомнила эти слова: сегодня вечером я любил тебя. Ты подарила мне лучшие дни в моей жизни, величайшую радость и необычайный дар: ты писала прекрасные иконы и фрески, делала мозаики, которые прославились на весь мир, а я имел честь и наслаждение смотреть, как они возникают. Так родители наблюдают за ростом ребенка.
Я тогда не обратила внимания на то, что он употребил прошедшее время: «…я любил тебя», – по крайней мере теперь я иначе воспринимаю эти слова. Для него смотреть на мои произведения было все равно что воспитывать и растить детей, которых у нас не было.
Он никогда не спрашивал и не обсуждал со мной, хочу ли я ребенка. Теперь понимаю – он избегал этой темы, ведь ему пришлось бы дать приемлемое для обоих разумное объяснение. Чувствуя его неловкость, я не давала повода завести такой разговор, просто плакала по ночам. Я рисовала ангелов, и они стали моей семьей – моими детьми, а в клинике лечила больных детей, как если б они были моими. Когда матери жаловались, что кто-то из детей их не слушается, не уважает, я спрашивала, хотели бы они быть беременны этим ребенком, который теперь причиняет им столько хлопот. Я не говорила им, какие они счастливые и чего бы я только ни отдала за то, чтобы стать матерью. Дети чувствовали мою любовь и нежность и часто говорили:
– Хорошо вашему ребенку, вы просто удивительная мать.
В такие дни было труднее всего. Я писала их портреты и молилась Богу.
20 Страх одиночества
Да, теперь я понимаю всё. Это произошло, когда он последний раз вернулся из Эфиопии. Он нашел неизвестную мне женщину в монастыре; оба они знали, что умирают от одной и той же болезни. Только потом я поняла, что значит стоявшее на его рабочем столе фото беременной эфиопки, чей портрет он просил меня написать. В прощальном письме он просил положить этот портрет ему в гроб.
После вскрытия я узнала, что ему была сделана вазэктомия. Я отыскала уролога, который сказал мне, что операция была произведена перед самым нашим венчанием. Он вспомнил разговор с Андре, занесенную в карточку причину операции. Андре признался ему, что у него не было отношений ни с одной женщиной, кроме как в юности, а теперь, под старость надумав жениться, он не хочет, чтоб я оставила свое искусство ради воспитания детей.
– Необязательно нужны дети, чтобы брак был счастливым, – сказал он врачу. – Думаю, иногда они даже мешают счастью.
– Вы спрашивали, что она думает о вазэктомии? – спросил врач.
– Нет нужды специально консультировался с ней. Вы понимаем друг друга и без этих тривиальных дискуссий. Ей известно, что она для меня значит и как я люблю ее искусство, но не ее врачебную профессию, которая крадет у нее время, отрывает от живописи. По возрасту она могла бы быть мне дочерью, но, как видите, не в годах дело. Количество спермы, как вы сказали, в норме, поэтому я хочу сделать вазэктомию.
Мастер словесной эквилибристики, он представил врачу целый трактат о том, что искусство непреходяще, а жизнь бренна, и склонил его на свою сторону. Передал ему суть наших разговоров об искусстве и внушил, будто я желаю, чтоб он подвергся операции. Может, и в этом была часть правды – мне хотелось поверить в это.
После их смерти я много недель смотрела на себя в зеркало и не могла понять, почему он меня избрал и почему не рассказал мне все при жизни. В уме блуждали странные, неясные ответы, и тогда я впервые поняла, что как в разбитом зеркале осколки стекла искажают лицо, так и неосуществленная любовь Андре исказила мою жизнь. Думал ли он когда-нибудь о том, как все это на меня подействует?
В душевной агонии я обрезала себе волосы – очень коротко и неровно, а зеркало смеялось над тем, как я выгляжу.
В его дневнике ощутимы угрызения совести – не знаю, из-за нашего ли брака, из-за того ли, что он не начал искать Дельту раньше, а может, из-за дочери, которая живет где-то на свете.
Это была исповедь перед последним причастием – не духовнику и не Богу, а грешному человеку – женщине, которая несла бремя своих грехов и сомнений, искала душевного облегчения и хотела его понять и простить. Он часто говорил, что я ангел, посланный ему в жизни. Так он себя со мной и вел.
Бог и моя покровительница, святая Параскева, были со мной, когда я открыла его тайну. Не знаю, что бы я делала, если б их не было.
Тоска, разочарование, уязвленная гордость, гнев, ревность, боль открывшейся истины мучали меня. Больше всего – тоска.
Я долго не могла плакать. Как детектив, искала признаки измены во всех произведениях искусства, привезенных им из путешествий по разным уголкам Африки. Все ценные предметы старины стали моими врагами. Злодеи, сообщники, они смеялись над моей наивностью – только потому, что знали их тайну. А ведь еще недавно красота этих вещей приводила меня в восторг.
Я долго слышала во сне шум, скрежет дверей, эфиопскую речь, которая меня пугала. Темные деревянные и металлические маски, казалось, таят опасность – точно в них бормотали, готовые выскочить, духи. Костюмы спускались со стен, бродили по верандам и мрачным коридорам. Тогда я впервые поверила, что нас навещают духи умерших.
Я спрашивала себя: то ли потеря мужа наполнила мою жизнь страхом и неизвестностью, то ли что-то другое? Депрессия была скрытая, непроявленная – преобладал страх, а не слезы. Страх, который деформирует реальность, превращая ее в опасный кошмар.
Именно тогда я вступила в переписку с матушкой Иеремией. Она почувствовала мое смущение и болезненность моих реакций. Умная женщина, а теперь, когда я знаю ее лично, верю, что и ясновидящая, она давно знала истину, которую я только что открыла. Ей была известна сложная роль, выпавшая мне после их смерти, – и она хотела мне помочь.
Она каждый день молилась за меня и меня направляла к молитве. Писала, что молится и за свою душу – так как позволила похоронить их в монастыре.
Отчего вы вдруг взволновались, почти встревожились? У вас даже руки дрожат, пальцы нервозно ищут на столе клавиши, словно наигрывают возникшую внезапно мелодию. Вас бросило в жар, а на дворе прохладно. Если вам нездоровится, не держите меня в неизвестности.
Колокольчики на террасе зазвонили сильней. Ветер усилился, вот-вот пойдет дождь. Надвигается гроза, этот ветер можно узнать по звуку – он рвет и вздымает воздух, точно играет своей силой и нашей судьбой. Вы слышите голоса в этом пронзительном звуке, или только я их слышу, потому что они предназначены именно мне? Не покидайте меня – мне страшно одной.
21 Энергия любви
Верите ли вы, что нас иногда посещают не только души умерших, но и наши собственные – из прежних жизней? Многие верят, что такое случается и некоторые, особенно медиумы, контактируют с прежними жизнями своих родственников и других людей. Я читаю новую книгу врача-психиатра доктора Брайана Вайса, который использует технику гипноза и регрессии, чтобы проникнуть в прошлые жизни, с визуализацией, и будто бы вступает в контакт и разговаривает с душами умерших, предшественников своего пациента.
Он подробно пишет о своих достижениях и об известных людях, которые прошли все ступени сеанса, а больше всего – об одной женщине, медиуме из Южной Америки, из Бразилии. Ее посещают многие, от самых эксцентричных и самых богатых до обыкновенных людей со всех концов света. Все, кто обращается к ней, чувствуют себя потерянными, в них нет веры, они устали от жизни и страданий, предрасположены к тому, чтобы поддаться внушению, которое обещает им хотя бы временный покой. Она применяет массовый гипноз и утверждает, что и сама во время сеанса впадает в транс.
Я слушала этих людей по телевидению, видела демонстрацию техники.
Тела умирают несколько раз, верят они, но не души, которые всегда воплощаются в новые тела. Наши прежние души посещают нас, чтобы поведать нам незавершенную историю, подарить покой, попросить прощения и проститься, чтоб мы на земле успокоились. Эти пациенты верят, что можно общаться, вести разговор с нашими прежними душами, несущими нам любовь.
Православная церковь не приемлет такого типа проявления жизни – и не потому, что отрицает духовный мир, она лишь предостерегает против неточности и алогизма выдвигаемых тезисов. Во-первых, с чего бы это душам из прошлой жизни обременять нынешнее существо, в которое они якобы вселились и которое не принимает никакого участия, к примеру, в греховной жизни своего предшественника? Во-вторых, если души из прошлых жизней – носители любви, откуда в нынешнем существе столько тревоги?
Говорю это не потому, что я абсолютная противница теории переселения душ, но, уверяю вас, человеческое страдание в мире множится. Только христианская вера в бессмертие души по праву пробуждает мечту о том, что наша душевная сущность обретается где-то и после смерти. В этом смысле книга доктора Вайса провокационна: в технологическом, лицемерном, рациональном и потребительском мире она говорит о Душе.
Доктор Вайс трактует общение прежних душ и нового тела как «любовь Мастера», ибо у нас было много жизней, а значит, и много освобожденных душ, а не одно тело и душа. Сколько было прежних жизней, столько у нас и душ. Они никогда не умирают, но претворяются в энергию, которую он зовет любовью и которая исцеляет нынешнее бытие в его эмоциональном коловращении. Это единственная сила во вселенной.
Тут есть частица истины, ибо любовь исцеляет, она – пища нашей души. Может быть, поэтому его теории на практике так близки страдальцам, которые ищут быстрого решения проблем через гипноз и регрессию в прошлые жизни?
Гнев и ненависть – величайшее несчастье души человеческой, состояния, блокирующие эмоциональную гибкость. А причина их – страх. Для людей гнев и ненависть – защита от обид, унижений, издевательств и собственного смятения. Им сопутствуют тоска и отчаяние. Отношение к нам родителей, вообще мнение других о нас, влияет на нашу неуверенность, хотя это не единственное и не решающее влияние.
Гнев парализует способность разрешать конфликты и вызывает изменения в нейрогормонах, он вреден для всех систем организма и для здоровья в целом. Надо понимать это и избегать проявлений гнева. Они не должны транслироваться по телевидению, им не должно быть места ни в семье, ни между государственными деятелями. В гневе мы проецируем свой страх на других. Гнев приводит к психотическим состояниям, войнам, агрессиям, огромным несчастьям и проблемам. Если и не он постепенно убьет нас через нейрогормональные изменения, то нас настигнет вражеская пуля.
Понимание, прощение и любовь растапливают гнев, как и молитва, и следование десяти Божьим заповедям. Только любовь вполне объясняет любое явление и помогает здравому решению проблемы.
Я спрашиваю, кто решает превратить одно тело в другое, устраивает встречи душ из наших прежних жизней, кто освобождает эту любовь? Доктор Вайс утверждает: то, какой дух и из какого времени посетит нас, сначала постигается через гипноз, а потом и без него.
По его доктрине, и с этим согласны остальные психологи – поклонники учения гипнотической регрессии в прошлые жизни, отрицательные эмоции могут нейтрализоваться. Сторонники этого метода не веруют в единого Всевышнего Творца, как мы, христиане, и потому никак не именуют силу, определяющую сложнейшие состояния бытия. Они называют это свидание душ не религией, а встречей с «Мастерами душ» – множеством душ одного существа, переходящих из тела в тело и наделенных энергией любви и исцеления. Врач или медиум, практикующий этот метод, дает пациенту инструкцию по связи с прежними душами.
Где же Бог, наш творец? Очевидно, они его не признают. Это меня смущает, ибо я верю в единого всемогущего мастера универсума, в единого Господина до всех начал, а не в наши многочисленные души, которые решают нас посетить в новых телах и тем освободить от страданий, человеческих слабостей, гнева, страха, пороков. Бог – единственный источник энергии любви. Эти лекари и медиумы очень популярны у многих, кто ищет внутреннего покоя через регрессию в прежние жизни и не может понять, что надо жить в счастье и спокойствии человеческой доброты и веры, просто придерживаясь заповеданных Богом начал.
Неужели какие-то люди могут обрести покой и понять, кто они, в этом урагане страха, гнева, угрызений совести? Душа утрачена – она уже не знает, к кому обратиться, чтобы этот кто-то рылся в ее прошлом, надеется через регрессию, гипноз, инкарцерацию, лично или через медиума за несколько часов заимствовать и впитать любовь своих прежних жизней-душ. Могут ли прежние души исцелить нас своей любовью? Или облегчение наступает лишь в момент встречи с посредником?
Неужели в этот век технических изобретений и успехов, но и ужасов войн и ненависти мы так заблудились во тьме, страхе, во зле, одиночестве, беспамятстве? Мы быстро находим покой в гипнозе и регрессии в прошлое, вытесняем и отбрасываем значение молитвы и могущество Бога.
Раненные смертью тех, кто был нам близок и дорог, мы склонны поддаваться заблуждениям и самовнушению. Может быть, и я поддалась идее посещения духов, и вот боюсь, что они появятся и спросят, почему я не ищу Андреяну, а живу здесь, подле монастыря?
Обе матери-игуменьи меня утешают и молят Всевышнего, чтобы он подал знак, когда придет время исполнить желание Дельты и Андре. Но пока я полна страха и тревоги, у меня нет мотивации и сил, чтобы пуститься по свету на поиски Андреяны и встретиться с ее судьбой. Я еще сломлена, как ветви в моем саду, поломанные ветром.
Звук колоколов утешает меня, уводя от кошмара мыслей, и побуждает к молитве, дабы через просьбу о прощении я обрела внутренний покой.
Вдруг вы меняете музыку, теперь мы слушаем богобоязненного Сезара Франка. Взвиваются звуки органа, как мои реакции, как моя исповедь. Мне нужен покой. Вы поняли, что творилось у меня в душе лучше, чем я сознаю сама. Признайтесь, ведь вы медиум, священник-психиатр. Вы так одарены эмпатией, способны сопереживать, чувствуете потребности других, у вас есть дар слушать и лечить музыкой.
Орган возвещает о присутствии ангелов, Христа, пробуждает желание прощать другим и себе. Я больше не могу сдерживать бурю в душе.
Вы меняете музыку, мы слушаем скрипичную сонату A-dur, которую Сезар сочинил в зрелом возрасте, думаю, лет в шестьдесят. Когда вы выбираете музыку, у вас всегда есть на то глубокие причины. Не знаю, нужно ли это вашей душе так же, как моей, но ни одно его произведение не выражает такую гамму душевных настроений, как эта соната, написанная больше ста двадцати лет назад.
Пойдемте в дом, я приготовлю еду, отнесу и монахиням. Я обещала им свою знаменитую лазанью, которую часто готовила в Америке.
Странно, вы никогда не участвуете в разговоре. Ведь все-таки иногда вы поете византийские церковные песнопения: ваш голос разносится по ущелью, как небесное эхо.
Где вы научились этим песням? Я знаю – вы веруете, ведь их не может петь тот, кто не близок к Богу. Я слышала вас и в церкви. Хорошо, что вы не решаетесь заполнять своим голосом никакое другое пространство. Спасибо вам за молчание. Завтра мы продолжим «наши» разговоры. У нас всегда будет завтрашний день…
Признаюсь, меня пугает: вдруг однажды все это кончится, и вы нас покинете, ни слова не сказав и не простившись? Как луч солнца на закате.
Я боюсь этого.
22 Картина нашей души
Когда я начала рассказывать вам об Андре, погода вдруг испортилась. Не случайно. После того как Андре и Дельта умерли и их похоронили в одной могиле, вся моя жизнь – как эта гроза. Даже в день похорон вдруг примчался ветер с Желтого Нила, ломая ветви деревьев и вздымая все на своем пути. Сильнейший дождь немилосердно хлестал, точно охаживал нас бичом. Прижимаясь к земле, мы едва добрались до колокольни. Никогда еще я не видела такой грозы. Игуменья Иеремия ловко тянула за веревки. Перезвон колоколов возвестил людям, что муссон пришел раньше, чем всегда, и надо искать убежище.
Поверите ли, через какое-то время стихия утихла, оставив лишь последствия ливня да сорванные тростниковые крыши. Мы взяли лодки, чтоб добраться до затопленных сел. Жертв не было – буря длилась недолго. Под жарким тропическим солнцем вода быстро испарялась. Воздух был насыщен влагой. Висел пар, непроглядный, как густой туман.
Вы согласны, что погода может предсказывать, быть связана с событиями, нашими мыслями и чувствами? Все было не случайно. Мать Иеремия объяснила: буря – это попытка душ освободить тела. Она перекрестилась. Теперь их души будут сорок дней скитаться вместе, одни. Мы долго молились в ту ночь, в тишине. В первое посещение монастыря я чувствовала: их души рядом со мной, где бы я ни была. Когда я смотрела на кладбище ночью, мне казалось, что оно полно злых духов. До меня доносились странные звуки, свист, словно кто-то кого-то звал. Ночью я ходила по келье и молилась, пытаясь совладать со страхом и отогнать видения. И приободрилась, убедив себя, что это голоса пустынных ветров и в этом монастыре, под защитой матери Иеремии, мне нечего бояться. Она понимала меня и часто среди ночи звонила в колокола, призывая меня на молитву.
Колокола уменьшали страх. Боже, как она все понимала. Давала мне краткие разумные советы, читала Псалтырь. Утешала меня молитвами и Христовым словом, своей мудростью и добротой. Испуганный ребенок во мне постепенно приходил в себя.
Я ощущала себя беззащитным созданием, видела в ней святую мать. Стискивала ее руки, ища ответа и душевного покоя. Она выглядела мудрой и могущественной, как будто знала все ответы на земные несчастья, хотя была худощава и мала ростом, а говорила тихим голосом, почти шепотом. В моем сердце все звучат ее слова о том, что любовь – единственная истина и сила во вселенной. Небесная энергия целительна, ибо дана от Бога. А Бог – это непрестанная любовь и надежда. Мы, грешники, должны прощать, дабы и нам было прощено. Опять-таки единственно во имя любви.
Она не верила, что духи возвращаются к нам в новом телесном обличье. Верила в чудеса святых, считая, что это рука Божья, протянутая истинно святым, верующим, которых избирает Господь.
– Надо прощать, – повторяла мать Иеремия, стремясь и меня уверить в том, что это единственный путь истины и успокоения. – Молись чаще, пока не почувствуешь, что простила. Но и после этого молись, чтобы обрести душевное равновесие.
Я не знала, что вы любите музыку Малера. Уже несколько дней мы слушаем его технически совершенные симфонии: первую, шестую и восьмую. Его музыка затрагивает нечто живущее в подсознании. Может быть, потому, что в ней сплошные переходы от экстаза к отчаянию. Мы чувствуем ее мистичность. Мощная жизненная мелодия выражает многообразие кризисных душевных состояний – испытаний для веры. Композитор размышляет о судьбе и чувстве униженности, о противоречиях веры и сомнения, о смерти и примирении с неизбежным концом.
В восьмой симфонии – величественной и грандиозной – мы слышим экстатическое духовное преображение, веру и прославление Всевышнего. Жизнь предстает как борьба, бурлят водовороты страдания, сквозь веру проступает смерть. В симфониях Малера особым образом сплетены послания Моисея и Христа. Жизненная мелодия сильна, он любит природу, размышляет о судьбе, о вере и таинстве смерти. Через музыку он ищет сокровенную, сверхчувственную метафизическую истину и идеал в сверхъестественной тайне Абсолюта. Вполне сознавая, что им создано музыкальное чудо (для восьмой симфонии требуется около тысячи исполнителей), Густав Малер ставит свое великое произведение в ряд между Абсолютом («Приди, души создатель…») и «Фаустом» Гете (заключительный фрагмент).
Он неутомимо сочиняет, а жизнь проходит мимо. Кроме девяти симфоний он оставил циклы песен с клавиром и оркестровкой. Знаете ли вы, что он страдал маниакальной депрессией? Избегал женщин, сексуальные отношения не признавал любовью. От музыканта требовал совершенства. Частая его реакция – ожесточение и гнев, что выражено в незавершенной десятой симфонии. Музыка была его дыханием, и хорошо, что его жизнь угасла прежде, чем началась «музыка» Первой мировой войны.
Как музыка действует на нас, так и природа реагирует на наши жизненные перипетии. Буря была доказательством этого. Душа, как и мои мысли, успокоилась в поиске силы и прощения.
Во всех религиях существует тот же или сходный духовный рассказ о наших земных делах и прощении. Ислам говорит: прости человеку семьдесят раз на дню. А христианство: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный… Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: “до семи”, но до семижды семидесяти раз».
Иудаизм учит: лучшее, что может сделать человек, – простить зло, что ему причинили. Буддисты верят, что ненависть никогда не уменьшается ненавистью – уменьшается только любовью. Это вечный закон, которому человек должен следовать. Не знаю, достигла ли я этого состояния или меня все еще гнетет разочарование, тайна и обман. Я была уверена, что ревность и гнев меня покинули, но сегодня я в этом не убеждена.
Выражение вашего лица стало спокойней. Я вижу вашу мягкую улыбку, она успокаивает и меня: вы подтверждаете, что не верите в реинкарнацию, в посмертное преображение душ на земле.
Не знаю, интересует ли вас вообще эта тема, побуждает ли к размышлениям. Малер помогает уточнить критерии; я могу точно сказать, что и ваша музыка повествует о борьбе жизни и смерти, о душе, блуждающей в хаосе, который преследует нас, когда в нас нет молитвы, о глазах, обращенных к небу в мольбе о милости и указании пути. Это поэзия религии, оригинальная, без имитации. Может, она вносит новое течение в мир музыки? Может, наложит свою печать на развитие музыки? Сочиняйте, не тратьте времени – не слушайте рассказы о моих злоключениях, это вас только утомит.
Вы качаете головой, машете рукой – значит, отрицаете мои слова.
– Пойду, отнесу еду в монастырь. Я вижу, вам понравилась моя лазанья, хоть кому-то я сделала сегодня что-то приятное!
Поднимаясь к монастырю, я слышала, как рождается ваша новая композиция. Улыбаясь, я поспешила в гору – к монахиням. В отличие от прежних, эта мелодия была чувственна, полна страсти, как плач скрипки или виолончели. Она напоминала балладу.
Интересны причины такой перемены, но я сдержу свое любопытство до завтра, когда внимательно прочту ноты. Последнее время я старалась приглушить свои и чужие эмоции, чтоб не столкнуться с неожиданностью.
Неужели я так сильно ранена?
Мне хотелось как можно скорей добраться до монастыря, шаги мои становились все быстрее. Завтра буду думать обо всем: настанет новый день, заново проснутся и солнце, и мысли.
Надо скорей завершить образ святого Георгия. Похоже, что снег пойдет раньше, чем всегда, предсказывают морозную зиму.
Маленькая часовня должна быть готова до начала метелей, чтобы монахиням не пришлось пробираться в монастырскую церковь под сильным северо-восточным ветром по глубокому снегу, который в этих краях частый гость. Часовня примыкает к помещениям, где они спят, едят и принимают на ночлег паломников и больных.
Недавно я видела, как они сами клали камин. И подумала, что это отличная идея, поскольку ни одно помещение не отапливается.
Вечерний звон возвестил о начале службы. Я тихо открыла тяжелую деревянную дверь и вошла в церковь. Какая сильная картина! Бесконечное число раз я видела ее и всегда ощущала присутствие вечности в этом Божьем доме. В городах ни одна церковь не производит такого впечатления!
Тьма, свечи, лампады и ангельские голоса монахинь.
Я утешилась пением и молитвой и вновь поняла, какое спокойствие дает мне вера. Теоретизирования разных профессиональных целителей о собственных методах лечения внушали только страх, неуют, неизвестность и тревогу, а может, и причиняли вред тем, кто, поверив, подвергся процедурам гипнотической регрессии.
Я задала себе вопрос: кого этот врач-психиатр призовет на смертном одре? Душу из прежней жизни? Но из какой? Было достойно сожаления, что он учился в лучших университетах, известен в Майами, где живет и имеет большую практику и много последователей. Опасность в том, что он хорошо пишет, убедительно говорит с людьми, умеет очаровать. В основном его окружают женщины – завистливые, депрессивные, слабые и полные страха. Есть несколько других авторов и «медиумов» со сходными теориями и практикой.
Так же как многие верующие, я очень рано в жизни поняла, что Бог и его любовь – единственная истина. В этом монастыре ни на чем не было отсвета живой плоти – только жизнь Святого Духа, связь с Христом, звук и образ нашей души, находящей ответ и гармонию в молитвах и песнопениях. Здесь все было ясно, просто, спокойно, скромно, целомудренно, с вечной верой, без дилемм и сомнений. В вере была вечность души и любовь. И поэтому все здесь дышало божественным ритмом. С большого креста Христовы очи глядели мне в глаза и понимали мое земное волнение и страх.
23 Скрытая страсть
Я долго смотрела на него из теплой комнаты, под потрескивание камина. Завораживали движения обнаженного торса, крепкие мышцы, тонкая талия, стройное тело, которое изгибалось, как эластичный резиновый жгут, с каждым движением топора, пока он рубил толстый ствол дуба. Он был похож на древнегреческую скульптуру олимпийского победителя. Возможно ли: я не узнаю этого человека, музыканта, который регулярно меня посещает весь последний год. Он всегда был одет, в рубашке, застегнутой на все пуговицы, как бы ни было жарко. И вот сегодня, после холодной ночи и первой, слишком ранней метели, я вижу, как он, полуголый, рубит и колет дрова, и открываю страсть в движениях его тела. Какие еще неожиданные свойства я в нем открою?
Он аккуратно складывал поленья. К нему присоединился монах, чтобы вместе с ним отнести дрова в монастырь. Он что-то сказал монаху и поспешил в свой дом. Когда вернулся, на нем был лыжный джемпер и шапка. А я не могла забыть его обнаженное тело. Он взял санки, нагруженные поленьями, и повез их в монастырь. Не знаю, почему я опустила на окна шторы, как будто они могли меня защитить от нахлынувших мыслей. Только пламя освещало комнату и мое взволнованное лицо.
Он не должен заметить во мне перемену. Ведь она произошла не внезапно, лишь потому, что я увидела в нем самца. Он неожиданно появился во сне, ласково шепча самые лучшие слова. Мы были близки. Он говорил, а я слушала его рассказ о жизни и планах на будущее. Он никогда не узнает об этих снах.
Я не скажу ему, что открыла в нем и в себе. Буду молчать – я не хочу потерять ни его, ни себя. Я знала, что он скоро придет и принесет мне щепки на растопку и поленья для камина. Сварила суп, который он любил. Долго ждала. Слушала, как он ходит и рядами укладывает поленья там, где они не отсыреют от снега. И впервые начала рисовать его.
Я изобразила его земным человеком, полным желаний и скрытой страсти. Снег был все реальней и все смелее, он засыпал комнату, и мольберт, и мои мечты. Я чувствовала, как набухает грудь, по ней разлилась приятная боль расцветающих желез, из сосков потекла жидкость. Вдруг началась секреция пролактина, стимулированная сильным желанием забеременеть. В трансе желания стать матерью я коснулась того состояния, которое Бог дает женскому телу в беременности, ощутила его вкус. Желание было сильно как никогда, потому и тело реагировало. Этот случай меня испугал, хотя состояние было приятное.
– Изабелла, – сказала я себе громко, чтобы вернуться в реальность, – ты вечная мечтательница, живешь на грани реальности и неуемных желаний. Ты создаешь иллюзии. Он – твое воображаемое второе «я», ты же знаешь – нет человека, у которого были бы те же желания. А он еще и чужой, ведь ты ничего не знаешь о нем. Тебе нравятся его композиции, голос и темно-синие глаза, такие же, как у Николы. Не обманывай себя. Возможно, твоя жизнь его занимает и он любит твое искусство также, как его любил Андре. Но он только слушатель, пойми, а реальна, быть может, лишь сама музыка.
Беги отсюда, ибо ты вселила страсть и желание в своего таинственного посетителя. Ты не найдешь здесь покоя, которого искала. Избегай его, не раскрывай больше перед ним свою жизнь и намерения. Вернись к родителям, в свой дом. Не скитайся по свету! Успокойся, и тогда продолжится жизнь и осуществится миссия, которая тебя ждет!
Это был трудный диалог с самой собой. Я знала, что не готова поставить перед собой вопрос, что он для меня значит или что я значу для него, – только потому, что сегодня вдруг ощутила желание иметь от него ребенка и что мне дороги часы, проведенные с ним за этим рассказом.
…Завтра составлю план, ведь я почти завершила работу в часовне. Останусь здесь на ее освящение, а потом уеду, не говоря ни слова. Еще две недели – и перед Рождеством уезжаю!
24 Две жизни
– Да что с вами? Вы переменились. Может, вас обеспокоило появление в монастыре какого-то незнакомца? Мне сказали, что этот человек задавал много вопросов.
Вы словно разучились слушать свой внутренний голос. Потеряли ставший привычным покой, и, если ошибаюсь, не говорите мне об этом, словно в чем-то меня обвиняете… Или вас потревожил внешний мир, которому мы свидетельствуем, но которого не существует – помимо отклика в нас. Как будто мы уже умерли и воскресаем в этом отклике. Внешний мир на то и дан, чтоб нас провоцировать, будить, питать нашу суетность или доброту, выявлять в нас скрытую молитвенную монаду. Этот незримый космический луч пробуждает ваше искусство. И любое другое искусство.
Я знаю этого незнакомца, что приходил сегодня, но не хочу с ним встречаться. Я видела, как он растаял в тени деревьев. Господи, вы что, никогда не сталкивались с символическим миром? Ведь этот незнакомец – всего лишь моя тень и ничего, кроме тени.
Мне сказали, что Ненад и прежде приходил в монастырь, но только сегодня расспрашивал обо мне. Долго разговаривал с монахом, сообщил ему, что вернулся из Америки и теперь живет на баркасе, на Дунае.
Мать-игуменья говорит, как он рассказывал в селе о моих телевизионных передачах, о том, что дружил с моим мужем, что искал меня в клинике, где я работала, но ему не дали никаких сведений, потому что я им не сообщила, где я.
Ненад искал меня и раньше, писал бесчисленные письма. Многие я даже не распечатала.
Не требуйте от меня ответа за его пьянство и погоню за женщинами. Правда, он был мне в то недолгое время близок и мил. Он говорил на языке моей родины. Был опытен, любим женщинами, известен в актерских кругах. Проводил время на приемах и в ночных клубах. Как и его отец, был отличным врачом и сердечным человеком. После смерти Андре я была не уверена в себе как женщина, сомневалась даже в своем искусстве. Я больше никому не верила. Думала, что, льстя моим работам и используя свою осведомленность о болезни Андре, он хочет сблизиться со мной.
Вот, думала я, и этот человек говорит о моих картинах, и он будет меня ранить. Все это было усилено депрессией и разочарованием в браке. Ненад выглядел как человек чувственный, живущий страстями и непостоянный. Одной женщины ему было мало. Мне следовало его избегать.
Меня пугало то, что я открыла в себе, ответив на жгучие поцелуи и объятия. Я не позволила себе лучше узнать его. Видимо, у него было две жизни: в одной он был авторитетным, отличным врачом, патриотом, который помогал сербам, другая жизнь была неизвестной, темной, о ней шушукались его земляки. Я не хочу, чтобы это продолжалось. Только теперь я понимаю все. Скоро я снова уехала в Эфиопию, не отвечая на письма и телефонные звонки.
В одном из писем он сообщил мне, что возвращается на родину. В Лос-Анджелесе оставляет налаженную и известную практику. Помню этот фрагмент.
Я бегу от всего, от себя, от жизни – пью и погружаюсь в безумие. Я перестал быть врачом. Не знаю, возмездие ли это, но я в каждой женщине ищу тебя. На жизненном распутье пытаюсь найти ответ, чего же я на самом деле хочу. Беседую с монахами, потому что слышал, что и тебе монахини помогают. Начал молиться. Я, бывший безбожник, ищу прощения и покоя, посещая монастыри, и, так же как ты, живу этими посещениями, рядом с ними. Наблюдаю жизнь монахов и завидую их спокойствию…
Не знаю, была ли у вас такая краткая связь, которая вас мучает, гонит с позором – из-за которой вы себя не уважаете, даже ненавидите? Не знаю, почему я вам это рассказываю, ведь вас это не касается. Разум говорит мне: хорошо, что я не возобновила эту связь, ведь это была слабость, одна в ряду слабостей, когда хочется, чтобы кто-нибудь тебя защитил. Когда кто-то говорит на вашем родном языке, вы ощущаете близость к нему. Даже думаете, что он вас никогда не ранит. И я тоже не хотела причинять ему вреда. Ценила его как врача, но в кошмаре, в котором пребывала, не была готова к близким отношениям. Хотя, должна признаться, его речи были мне приятны.
Изабелла, у вас нет причин казнить себя! Все мы грешники и временами теряем ориентацию в жизни. Не мучайте себя угрызениями совести и упреками. Вы заслуживаете счастья, и оно найдет вас неожиданно, когда Бог так решит. Успокойтесь! Я чувствую ваш страх и тревогу. Держитесь, Изабелла, вы нужны многим.
25 Подготовка красок и основы
Вы поможете мне готовить материал для золочения икон и нимбов святых. Познакомитесь с тайнами, которые я открыла, изучая греческую рукопись «Эрминия», переведенную на русский. Это единые для всей христианской церкви правила изображения сюжетов и ликов, наставления о материалах и технике иконописного искусства. Французско-немецкий перевод соответствует оригиналу лишь в том, что касается приготовления красок и техники (мне хотелось это проверить, но ничего другого я и не ожидала). Для приготовления красок, подготовки полотна, дерева и штукатурки на стенах я использую и свои рецепты. Кое-какие масляные краски покупаю.
Вы заметили новые цвета и оттенки. Сказали, что они уникальны. Раньше вы их не видели, разве только в Дечанах и Печской патриархии. Особенно они заметны на драпировках свежих икон и фресках, которые я писала для этой часовни. Разные синие краски – индиго, лазурь – я готовила, как когда-то, по особым рецептам. Зеленую получала скоблением зеленого камня (оливина) и аугита.
Для головных уборов, оттенения лиц и раскраски фона я использую натуральную коричневую краску – умбру.
Мор – лиловая краска, вы можете видеть ее на папертях Печской патриархии. Я получаю ее смешением красной железной руды, к которой добавляю синюю и карминную, с черной и белой. Яичный белок, желток, льняное масло и воск – лучшие связующие для масляных красок, а еще смола фруктовых деревьев. Важно знать, как их готовить.
Есть свои правила и методы изображения каждой детали: драпировок, лиц, волос, бороды, усов. От Византии, а именно она в Средние века была источником знаний об искусстве, мы восприняли основные правила живописи и иконографии: чем и как писать. Я бы сказала, это непревзойденное мастерство, достигнутое верой. Правила передавались из поколения в поколение, как наша история – гуслярами, пока греческий живописец иеромонах Дионисий Фурнейский не записал в Ефтимии правила иконописи. Эти поучения, известные под названием «Наставления о живописи», опубликованы и в русском переводе, в Киеве.
Сегодня все меняется, но я еще пользуюсь кое-какими методами, описанными в этой книге, хотя добавляю и свои. Иногда опыт делает из нас больших мастеров, чем талант. Дар тратится, как всё в искусстве, если вы не подтвердили его терпеливым и благородным опытом.
Сегодня мы будем готовить материал для основы – болюс. Его делают из охры, природного красного пигмента в порошке или в пудре. К ней добавим растительный и животный жир. Для основы, которую надо покрыть позолотой, необходимы калийное мыло и яичные белки. Основу смажем кипяченым конопляным маслом с несколькими каплями нефти – она сразу притянет золотые листочки.
Если мы хотим сделать золотые стрелочки, чуть-чуть польем смесь спиртом. Потом добавим немного чеснока, предварительно прогретого, чтобы загустел, – получим своего рода клей. Теперь кисточкой наносим золото – пишем лучи в виде стрелочек. Стрелочки, сделанные вышеописанным способом, можно видеть на иконе Богородицы Елеусы в Музее сербской православной церкви в Белграде.
Тут требуется знание химии, не только живописи. И лишь тогда, когда вы молитвенно готовы, начинается работа над иконой. Сознание того, что иконы и фрески – азбука веры, послание тем, кто умеет или не умеет читать, обязывает к большему, чем создание художественных произведений. Вероятно, вы об этом не размышляли, но религиозное искусство – менее всего искусство в том смысле, как мы его понимаем. Иконопись никогда не создается, чтоб ослепить художественной ценностью, ибо она – искусство церковное, сакральное. В этом различие между церковной живописью Запада и иконописью Востока. Первая тяготеет к искусству, вторая зиждется на вере.
Дом благоухал свежеприготовленными красками.
Я открыла окно, и в меня полетели снежинки. Холода я не чувствовала. Свинцовые, желто-серые тучи почти касались крыши. Мой таинственный молчаливый посетитель от усталости заснул на диване одетый. Я укрыла его. Он казался нереальным. Ниоткуда не доносилась музыка, звучала только тишина.
Меня ждала большая заключительная работа в часовне. Я вышла из дома, тихо затворив дверь.
26 Сто огоньков
Искрящаяся белизна, дым из труб далеких домов, следы зайцев и птиц, свежий резкий воздух, а вдали звуки овечьих колокольчиков – сюрреалистический пейзаж, мир, словно не существующий. Что, если это мир нашего сна? Куда гонят овец в такой холод? – вслух спрашивала я себя. Ведь пастись негде. Может, они играют во дворах у крестьян, моют свою шерсть в снегу, греются в лучах зимнего солнца?
Снег от моего порога до самого монастыря был расчищен.
В часовне никого не было. Проходя мимо кухни, я ощутила запах приготовляемой пищи. Монахини явно готовились к освящению новой часовни. Надо поспешить: закончить последнюю икону небольшого иконостаса, нанести позолоту на подготовленный грунт на всех образах.
Золото сияло, как солнце сквозь снежное небо. Казалось, вся часовня залита солнцем – отражавшимся не только от цветной мозаики, но и от иконостаса. Я перекрестилась, попросила Божьего благословения на завершение трудов.
Колокола звучали чаще, будили и небо, и землю. Весь день и всю следующую ночь они возвещали о завершении устройства часовни и о первой литургии в ней. Мать-игуменья Мария не хотела, чтоб литургия начиналась ранним утром, на заре. Будут гости из окрестностей и из Белграда.
Еще до рассвета я взяла особые плошки со свечами и вставила в специальные бумажные футляры: сквозь них было видно, как мерцает пламя, но ветер не мог его погасить. Перед приходом гостей и началом службы я расставила свечи по обе стороны входа в монастырь, на террасе и на ступенях, ведущих к кельям и часовне.
Больше сотни огоньков сияло на ранней заре. Было много света. Головы были покрыты черными кружевными шалями. Одежда праздничная – в знак почитания святого места и первого богослужения. В переполненной часовне я увидела и своего слушателя. Он пел вместе с монахами из соседних монастырей. Глубоким, бархатным, как у оперного певца, баритоном он, сотрясая окна, пел гимн Богу. Меня не заметил.
Он ли это или мое воплощенное желание видеть его в церкви?
Когда в полдень я покинула монастырь, пригревало солнце. Игуменья поблагодарила меня, пригласила на обед и с мольбой в голосе спросила, действительно ли я скоро уеду.
– Останьтесь, отпразднуем вместе Рождество Христово, все сестры этого хотят, – сказала она.
– Мать, – сказала я взволнованно, – мне нужен долгий разговор и ваше благословение, прежде чем я вас покину. Я была счастлива здесь, но внутреннее беспокойство, о котором я вам говорила, ведет меня дальше.
Мы обнялись. Я поцеловала ей руку.
27 Благотворительный бал
– Иди туда, куда тебя ведет любовь, – советовала мама. – Не жди великого счастья в отношениях с другими, тогда неизмеримая боль, которую приносит настоящее, уменьшится. Особенно это касается страха перед новой встречей. Ты лучше, чем я, знаешь, что страх ведет к поражению, предлагает одно решение – смерть.
Я слышу эти слова – они, словно ключ из-под земли, пробиваются, размывая снег, ими звучат одежда и воздух, они срываются с деревьев и крыш. И вот – покой, будто ничего не произошло.
Сегодня вы пришли раньше, чем всегда. Вы голодны?
Я заварила вам чай из мяты – вижу, вы покашливаете. Мы постимся. Я испекла пирог со шпинатом и капустой… Разговор с матерью-игуменьей вдохнул в меня новые силы, решительно изменил планы. Она была рада услышать от меня то, о чем и сама догадывалась.
Я бежала от прошлого, настоящего и будущего, от Америки, от тоски – в объятия человека, от чьих огненных поцелуев, по крайней мере в те несколько часов, проведенных на синем кресле, была как на крыльях. Эти крылья унесли меня в страну предков – и я уже не представляла, что смогу ее покинуть. Хотя бы в те часы, ощущая его теплые, мягкие губы, я почувствовала, что все-таки для кого-то желанна. Слова восторга на сербском были как мелодии любовных песен, услышанных впервые. Сознание, что я для кого-то желанна, было мне необходимо; я утратила ориентир – не понимала, что я значила для мужа. В интимном общении Андре не дал мне пережить истинной радости, лишь позднее выдав причины своего поведения.
Во встрече с Ненадом я была наказана за эгоизм. Я не любила, как, возможно, он, а ощущала только жажду физической близости. И потому осталась еще более потрясенной, одинокой и печальной.
Верите ли вы, что кто-то может влюбиться, предложить выйти за него замуж той женщине, которую видит в телепрограмме, где речь идет о религиозной живописи, психологии, вере и беременности? Такое возможно только в Америке, где массовая информация определяет смысл и образ жизни.
Ненад знал обо мне все. Он следил за моей жизнью изо дня в день. Я получала от него множество писем – и в клинике, и на телевидении. Он просил меня давать ему уроки живописи и истории византийского искусства. Твердил о браке, угадав мое желание иметь детей. Знал все о болезни моего мужа, даже раньше, чем я.
– Я подожду, пока вы будете свободны, может быть, тогда вы примете мое предложение и ответите на письма. Андре долго не протянет. Мы оба врачи – знаем, что означает его диагноз, тем более что он отвергает терапию.
Меня напугали его осведомленность и настойчивость.
Впервые мы встретились на благотворительном балу, устроенном в помощь Африке. Андре был уже очень болен, однако настоял, чтоб мы пошли, потому что собранные средства предназначались африканским детям, на борьбу против СПИДа. Он возглавлял комитет благотворительной организации и должен был произносить речь.
Присутствовали актеры, известные певцы, телепродюсеры, послы, политики, много богатых, известных семей. Помню, что входной билет стоил тысячу долларов, кроме того, ожидались крупные пожертвовования.
Это было пышное мероприятие. Сверкали большие бриллианты и рубины. Платья специально по этому случаю были куплены в известных на весь мир домах моды, чьи владельцы также присутствовали. За нашим столом сидели несколько важных послов африканских стран и какой-то государственный чиновник высокого ранга. Андре почти весь вечер говорил по-амхарски с послом Эфиопии, родившимся в Аддис-Абебе, – ему он уделил все свое внимание. А я слушала музыку и отвечала на вопросы посольских жен, в основном говоривших по-французски.
Вдруг появился Ненад в белом смокинге. Он подошел к нашему столу и за руку поздоровался с Андре. Я увидела, что они знакомы, и только тогда поняла, что он был в команде врачей, поставивших диагноз.
– Вы позволите мне пригласить на танго вашу жену?
– Разумеется, она с удовольствием поговорит с вами на своем родном языке. А я не люблю танцевать.
Он даже не дождался моей реакции, продолжил разговор. Ненад представился:
– Изабелла, я тот самый поклонник, что пишет вам письма. Если бы я был вашим мужем, никому не разрешил бы танцевать с вами. Ночь напролет держал бы вас в объятиях.
От этих слов мне стало больно – они были правдой. Подхваченные музыкой, мы порхали по залу как мотыльки. Я ощутила его страсть, но мне хотелось, чтобы это был Андре – чтобы он укачивал меня, завороженный игрой желания. Мы не сказали друг другу ни слова. «Спасибо», – поклонился он, когда подвел меня к столу. Поцеловал мне руку и пододвинул стул, чтоб было удобней сесть. Андре, занятый разговором, даже не заметил, что я опять рядом. Одна из женщин пригласила Ненада на танец. Он отказался, заявив, что пришел только ради этого танго и теперь покидает бал.
Когда мы вернулись домой, я хотела спросить Андре, как он познакомился с Ненадом. Но не успела: муж сказал, что собраны большие средства и он лично повезет деньги в Африку.
– Разве здоровье позволяет тебе опять пускаться в долгий и трудный путь? Ты же только что оттуда вернулся. Почему ты прекратил лечение? Оно, может быть, дало бы эффект, – говорила я с горечью, которой не могла утаить. – Андре, я боюсь оставаться одна. Последнее время ты больше в Африке, чем со мной. Я чувствую, между нами что-то изменилось. Не понимаю, в тебе или во мне.
– Я должен ехать, Изабелла. Не спрашивай, почему смерть не страшит меня. Я жду ее прихода.
В Африку мы едем вместе с эфиопским послом, ты с ним вчера познакомилась. Заверну и в Эфиопию. Позвони Ненаду. Я дам тебе его рабочий телефон, пусть он пригласит тебя потанцевать, послушать музыку! Он упоминал о каком-то знаменитом сербском ресторане, говорил, что хочет сводить нас туда. Меня не будет всего несколько недель, Изабелла, если болезнь позволит. Предчувствую, это моя последняя поездка в страну, где я родился.
Его поведение в тот вечер насторожило меня и встревожило, но я все приписала болезни, которая могла убить его в любую минуту. Надо, чтоб перед смертью он испытал все, что хочет, думала я.
28 Девушка в эфиопской одежде
Печаль и одиночество коснулись его сердца прежде, чем он умер. Я убеждала себя, что меня ничто не испугает: я не могу все глубже тонуть в этой агонии, на дне которой и так окажусь очень скоро, когда его потеряю.
По его просьбе я приступила к портрету беременной женщины в эфиопской одежде. На ней была тога сине-фиолетового цвета – я использовала такой в работе над иконами, – голова повязана красным платком, длинные серьги, множество разноцветных браслетов на руках и на шее. Большой крест. Было радостно писать лицо неизвестной женщины, похожей на святую: ведь она несла во чреве новую жизнь. Мне тоже хотелось испытать это счастье. Я писала портрет, думая, что мне никогда не доведется услышать плач своего ребенка, улыбнуться после его рождения, и заливалась слезами.
Позже я поняла, кто та беременная женщина, чей портрет я писала, и ощутила тяжкие угрызения совести, словно была виновата в ее судьбе. Это чувство, смешанное со страхом, стало моей тенью.
И тогда – может быть, сработали защитные механизмы – я поверила, что этот портрет, по сути, мой автопортрет. Я была на грани психического расстройства.
Не знаю точно, сколько дней прошло после смерти Андре: ощущение времени исчезло. Я пребывала в панцире тоски – все было холодно, как лед. Открыв тайну, я стала жертвой самой себя. Начались душевные и умственные муки. Мне снились странные сны, как в каком-нибудь романе. Меня убивали, но и я была убийцей. В этом кошмаре я слышала голоса Андре и Дельты, слова утешения, просьбы о прощении. Вот я, ребенок, испугавшись диких животных, во время сафари в панике бегу от рева львов, тигров и слонов, а теперь меня окружают удивительные пестрые птицы, их хриплый клекот и шумный трепет крыльев. В вихре страха, паники и пыли, за которой ничего не было видно, я слышала голос Николы:
– Я с тобой, не бойся. Я спасу тебя и отвезу в монастырь, на нашу родину. Ты найдешь там покой, счастье и любовь. Не плачь, Изабелла, будет у тебя и сын… Утешься! Тебя еще ждут радостные дни.
И вот настал момент моего отъезда в Эфиопию. Я заканчивала сборы в рабочем кабинете. Все было готово. Гроб с телом был уже отправлен в монастырь. Андре словно стер следы нашего брака, отнял у меня даже свой прах – могилу, которую я могла бы навещать вместе с родными. Я не заметила, как вошел Ненад.
– В газетах пишут, что вы намерены перезахоронить мужа в Эфиопии, а на работе вас временно заменит коллега. Что происходит, Изабелла? Он обманывал вас? Или есть другая причина, которую вы держите в секрете? Вы убегаете от тоски, она видна у вас в глазах. Давайте поедем на родину, это нас вылечит. В Эфиопии нет ничего, кроме воспоминаний. Вы грешите, впадая в меланхолию. Укройтесь на родине – там спасение для эмигранта. Где-нибудь в кроткой Шумадии, среди виноградников!
И вдруг без всякого ответа, не размышляя, я разрыдалась на его плече. Слезы лились не переставая. Его рубашка намокла. На большом синем кресле – в моем кабинете, где я обычно отдыхала и завершала работу над картонами и отчетами, – он стал меня целовать.
Андре никогда меня так не целовал и не обнимал. Я отвечала на поцелуи, сама не понимая, что делаю. Он ласкал меня словами моей отчизны, которую я любила, где была счастлива – при всяком посещении, кроме последнего, когда умер Никола. Но неожиданно в этом физическом сближении без любви я вместо лица Андре узнала лицо Ненада и резко вырвалась. Оставила его в изумлении. Он повторял мое имя:
– Не убегай, Изабелла. Только со мной на родине ты можешь найти спасение, я возьму тебя в жены, у нас будут дети, которых ты всегда так хотела.
Неужели у меня на лице было написано желание стать матерью? Еще больше меня потрясло сознание, что он знает обо мне все. Дитя, рожденное без любви, – об этом я не могла и подумать, не говоря уж о том, чтоб желать этого теперь. Знаю, я что-то сказала ему, уходя, но не помню что.
Я вылетела из рабочего кабинета, оставив машину в гараже, и мчалась по улицам, пока не нашла такси. Поехала к родителям. Они почувствовали, что со мной что-то произошло, но ни о чем не спрашивали. Мама сказала: «Дитя мое, завтра все будет по-другому», – а отец предложил поехать со мной в Эфиопию. Он бы остановился в гостинице в Аддис-Абебе, городе, который знал и любил и где должен был завершить дела, начатые вместе с Андре. «О, знали бы вы, что меня мучает», – думала я во время нашего разговора.
– Нет, папа, – ответила я. – Наверно, я останусь там надолго. Игуменья Иеремия, с которой мы переписываемся, попросила, чтобы после похорон и панихиды я отреставрировала фрески, почти уничтоженные сыростью. Лучше мне побыть в монастыре – только рядом с монахинями я чувствую себя уверенной и защищенной. Там я становлюсь лучше, ближе к Богу. Мать Иеремия даже в письмах дарит мне понимание, открывает путь к духовному исцелению. Я знаю, что там, среди них, начну выздоравливать.
29 Письмо из Белграда
Когда я пишу иконы, время от времени мне нужна абсолютная тишина. Так и со святой Параскевой. Всю неделю мне требовалось полное одиночество, даже без музыки, которую, как вы знаете, я чувствую и люблю. Я постилась. Когда я пишу Параскеву, у меня всегда такое чувство, словно я изменяю ей, если прерываю свой внутренний монолог, особенно мешают разговоры с окружающими. На этот раз я выкладывала мозаику, и одиночество было особенно необходимо.
Я не видела вас, не открывала вам, когда вы осторожно стучались в дверь. Сердилась, что вы не понимаете: в работе мне необходимо одиночество. Не помню, говорили мы об этом когда-нибудь или нет. Бывают моменты, когда одиночество – наше самое всеобъемлющее чувство, возврат к прабытию, изначальной природе. Не надо сравнивать его с потребностью уединения, когда мы в покое осмысляем свои психологические состояния, с изоляцией от мира, когда в тишине мы разгадываем самих себя, отделившись от множества. Одиночество – это состояние, в которое мы впадаем независимо от среды и цивилизации. Вы можете испытать одиночество в гуще людей, и в городе, и в деревне. Оно только ждет, чтоб окружение его распознало и оставило вас с ним наедине. Кто видит в одиночестве потребность вернуться к началу, кто – предчувствие ухода, смерти. Ведь мы объяты одиночеством и в надежности материнской утробы, и в бесспорности того, что покинем земную юдоль. Чем бы оно ни было, когда появляется потребность в одиночестве, это – как потребность в дыхании, воде и молитве. Я люблю эти состояния, но мне показалось, что вы, художник, во мне этого не разглядели.
Моцарт и Шуберт могли творить в окружении людей, а Пуччини всегда искал тишины и сердился, когда его работу прерывали. Он сочинял медленно и долго. Музыка, которую вы громко включали, доносилась до меня и через закрытые окна, занавешенные толстыми плюшевыми портьерами. Вы выбрали оперы Пуччини. Особенно часто слушали «Тоску» и «Богему», написанные в полной изоляции. Разве вы не понимали, что и мне, может быть, нужен такой период, вне разговоров и музыки? Сколько б я ни слушала эти оперы, всегда вспоминаю слова Пуччини, что, когда он сочинял, скажем, «Тоску», он на много дней запрещал все визиты, не пускал даже священника, пораженного, что богобоязненный композитор отказывается молиться вместе с ним. Сочиняя, признавался Пуччини, он ощущал в себе силу и присутствие Бога, а соприкосновение с земным миром его раздражало, было помехой в работе.
Я не верю, что Бог открывает одному человеку больше, а другому меньше. Когда мы рождаемся, у всех нас одна связь с мощью Всевышнего. Но потом многое нас от Него отъединяет: среда, наследственность, возможности, полученное в ранние годы образование, путешествия, а особенно – воспитание в атеистическом духе. Думаю, что атеизм, нигилизм и богоборчество губительны для творческого начала. В искусстве почти нет атеистов, которые создали бы нечто имеющее непреходящую ценность. Со временем, обретая опыт, зрелость и возвышая себя через работу, мы еще больше приближаемся к мистической тайне творения, ощущаем в себе силу Бога. У меня есть полное представление о том, что я хочу сделать, прежде чем приступлю к картине и стану ее частью. Я становлюсь частью иного мира.
Я больше не сержусь, войдите. Может быть, послушаем Рахманинова? Нет? Будь по-вашему, раз вы качаете головой. Сегодня и мне больше нравится тишина. Давайте проследим за жизнью Ненада по его письмам. Вот одно, посланное из Белграда, после отъезда из Америки.
Сижу на палубе баркаса, удобного дома, который я только что построил. Поглядываю, как плещется рыба в Дунае. Эта река всегда меня манила, напоминая о молодости, поре беспричинного смеха. В студенческие годы, когда я учился на медицинском факультете в Белграде, мир казался прекрасным, хотя я часто бывал голоден и носил рваные носки. Мать безуспешно их штопала, и они натирали ноги. Пишу об этом, чтоб ты меня немного больше узнала, ведь у нас не было случая поговорить. А я столько должен тебе рассказать.
Мой отец, Радомир, был офицером королевской армии, сражался против немецких оккупантов. Попал в плен, его отправили в лагерь в Германии. После лагеря он перебрался в Америку, а мы осталисъ в Косове. Отец обосновался в Лос-Анджелесе, со временем начал посылать нам посылки, чтобы помочь матери. В Америке он считался политическим беженцем. Работал на стройке, но не мог вернуться в титовскую Югославию. Коммунисты убили бы его.
Вот мой рассказ – только тебе, Изабелла. Тот, от кого ты сбежала, вовсе тебе не чужой. Я люблю тебя!
30 Черно-белая фотография
Радомир мучался, учил язык, копил доллары. Мечтал привезти в страну, обещавшую исполнение материальных желаний – особенно тем, кто молод, – своих сыновей, высоких, стройных, наделенных яркой красотой, и жену, которая годами выбивалась из сил, чтобы прокормить детей, гнала самогон и ткала ковры с мотивами родного Косова. Он получил фотографию Ненада с торжества по случаю вручения диплома врача и увидел рядом с ним, красавцем с синими глазами и буйной черной шевелюрой, сгорбленную старушку с седыми волосами, выбившимися из-под черного платка. Радомир не мог узнать эту женщину, но предположил, что это его Даница. Она не посылала ему снимков ни с дней рождения Ненада, ни из школы. Это было не принято в ее городе, им не хватало денег даже на хлеб, не то что на фотоаппарат. Эта привилегия была достоянием меньшинства. Фотоаппараты привозили из-за границы. Когда Ненад получил диплом, они пошли к известному белградскому фотографу. Впервые Даница увидела фотографа – за аппаратом, покрытым черной тканью. Тот предварительно выбрал позу для съемки: она сидит, сын с дипломом в руке стоит над ней. На стене висел портрет Тито, который она тщетно просила снять. Ее муж, капитан королевской армии в изгнании, не мог слышать имени Броз Тито, захватившего власть на его родине, каково же ему было увидеть ненавистную физиономию на фотографии сына. Она помнила статью мужа в попавшей к ней эмигрантской газете:
«Броз не наш человек, он неизвестный чужак, неверующий, не чтит историю нашего народа, монастыри и церкви, даже мечети и синагоги, не связан с нашей родной землей. Поэтому ему легко сажать за решетку и убивать всех, кто против его диктатуры и атеизма. Вернись я на родину, его удбисты[1] меня бы прикончили, а ведь нет и дня, чтоб я не думал о своей семье, о том, как страдает мой сын. Неужели это называется – свободная, передовая страна, притом что в ней всего одна политическая партия, а население делится на граждан первого и второго сорта, – страна, для которой свои – только крестьяне, рабочие и благонамеренная интеллигенция?»
Радомир смотрел на черно-белую фотографию, присланную в одном из редких писем. Увеличил ее, вставил в рамку и повесил на стену – чтобы из постели или с кресла любоваться на сына – «принца».
– Неужели это измученное лицо старухи – лицо моей жены Даницы, некогда красавицы, знаменитой в наших краях? – сказал он, краснея перед друзьями. – Господи, не знаю, как бы я лег с ней в постель!
Приводя к себе женщин, он убирал драгоценную фотографию. Ему было стыдно, что здесь, перед сыном-врачом и многострадальной супругой, он удовлетворяет свой животный инстинкт – грешное вожделение без любви. Он не хотел, чтобы эти женщины своими взглядами и вопросами оскверняли то, что для него свято, единственно близко и в Америке, и вообще в жизни.
«Почему мой разум недостаточно силен, чтобы победить дьявольские земные инстинкты?» – спрашивал он себя, пока они разгуливали по его квартире. «Во что превратило меня отлучение от родины и семьи? Меня – мужа, отца, человека, бывшего офицера. Или я примирился с горькой судьбой и ничтожеством человека на земле, о чем столько размышляю, с тем, что мы преходящи, как все, рожденные до нас, и все, кто родится после нас? Примирился с утратой всего, что любил и ценил в жизни, – своего чувства долга и преданности отечеству и семье? Один только Бог никогда меня не покидал».
Утолив вожделение, он просил, чтоб они ушли. Принимал холодный душ. Терся мылом и щеткой. Изгонял мучительные запахи греха. Элегантно одетый, перекрестившись, целовал портрет и снова вешал на стену. Он никогда не возвращался к одной и той же женщине.
Годами отрезанный от своих, при этом полный мужской силы, крепкий, мускулистый, все еще красивый, он менял женщин, как после тяжелой работы на стройке менял накрахмаленные рубашки. По вечерам ходил в изысканный, весьма известный ночной клуб Миомира, ел там печеное мясо по-сербски, рассуждал о политике, гордясь, что был капитаном королевской армии и четником, и до поздней ночи слушал певиц, приезжавших с его родины.
Истинный джентльмен, он дарил певицам розы и почти с каждой спал. А на прощание каждой дарил золотую цепочку, на которой висел дукат. Цепочки он покупал у приятеля, ювелира Мехмеда, мусульманина; тот знал обо всех похождениях Радомира, удивлялся и даже завидовал его успеху. По возвращении певицы смутились бы, если б выяснилось, что у всех одинаковые драгоценности. Но о Радомире они говорили с восторгом. Он знал, что доставит им удовольствие, скрасит их пребывание на чужбине. Тем, кого он отличал, называл звездами, он давал большие чаевые и на французский лад целовал руки.
Счастливей всего он был, когда мог сплясать коло, а плясал он азартно. Иной раз вскакивал на стол, подбрасывал к потолку каракулевую шапку и в раже топтал ее, пританцовывая на ней, как будто был жителем Срема. Его знали и любили гости, официантки и музыканты. Прекращались разговоры, больше не подавали кушанья, даже кухарки выходили из кухни послушать, как легко и ритмично его стопы выбивают дробь по столу. Во всех он пробуждал печаль и тоску по родине.
Случалось ему и заплакать, пока он легко двигал всем телом, руками и ногами. В народные танцы своей страны он привносил еврейские, арабские, цыганские элементы. Иногда пел – задушевно, закрыв глаза. Словно для возлюбленной в пору своей молодости. Бывало, взяв у музыканта скрипку, искусно, как настоящий мастер, наигрывал мадьярские и румынские мелодии. Печальные и трогательные, они проникали в сердца присутствующих, которые тосковали, искали тепла и горевали – если умели любить. Хозяин понимал слезы вдохновенного Радомира: слезы тоски по родине, по молодости, загубленной на чужбине, слезы разлуки с семьей. Это был плач безутешный, но окрашенной гордостью за младшего сына Ненада, врача, который еще не приехал, но непременно приедет.
Публика была смешанная – из Восточной Европы, больше всего с Балкан. Многие уже вполне стали американцами, но еще помнили, что когда-то были сербами, боснийцами, греками, болгарами или евреями. Его любили все.
Здесь были музыканты и певцы – товарищи его военных лет. Когда он не появлялся в клубе, они с беспокойством спрашивали о нем. Он не зазнавался, и многие присоединялись к его волшебному танцу, в котором тело и ноги извивались, как завороженная змея перед флейтистом. Это было необычное коло. Его импровизированные движения напоминали хореографию лучших мастеров танца. Они выражали тоску, страстную жажду всего несбывшегося, непережитого, земного, грешного – что связано с молодостью и ощущением мимолетности жизни.
Он любил своих детей. Когда Гитлер напал на Королевство Югославия, Ненад только что родился. О нем он особенно тосковал. О Ненаде как о ребенке он знал меньше всего. После немецкого концлагеря, куда его бросили, как многих, Радомир эмигрировал. Через друга, который был из того же города, посылал сыну деньги и красивую одежду. Всем с гордостью рассказывал о Ненаде, дипломированном враче, служившем в армии в Нови-Саде. Знал, что он несчастлив в браке, но не знал почему. Злился на сноху Милицу за то, что та отказалась ехать в Америку и грозилась не пустить дочь. Когда Ненад познакомился с Милицей, она работала медсестрой. Она была дочерью героя, партизана, погибшего на Сремском фронте, когда Германия уже проиграла. Она любила этот режим. Как семья народного героя Милица и ее мать получили прекрасную квартиру, большую военную пенсию. От старших сыновей Радомир узнал, что Ненад критиковал режим и, если он не уедет, ему грозит тюрьма. Он отслужил в армии и мог свободно посетить отца в Америке и привезти мать.
В конце концов Ненад покинул родину, молодую жену и ребенка. Жена не захотела оставить могилу отца, мать и свой родной город.
Приезд в Америку открыл новую главу в жизни Ненада. Многие не знали, что он женат и как жил раньше.
Как и отец, он тосковал по родине, по родному городу на реке Быстрице, по детству в Косове, с его монастырями и богатейшей природой. Здесь, на чужбине, родители часто мысленно возвращались к лугам, полям, лесам, ручьям и рекам – дорогим, самым лучшим на свете. Вспоминали, как по осени в их краю цвели травы бабьего лета. Как они собирали цветы на рассвете, вдыхали их аромат. Это была здоровая роскошь природы, они дышали ею и во сне. Есть поверье, что травы, собранные в конце сентября, на Михайлов день, обладают самыми сильными целительными свойствами. Даница привезла с собой в Америку эти пахучие травы и посадила в саду, но все утверждали, что здесь у них не было того восхитительного целебного аромата.
Ненад с раннего детства полюбил иконы и фрески, часто разглядывал их часами. Особенно его поражали краски. Он посещал монастыри и вместе со своей набожной матерью регулярно бывал на молитве в церкви.
– Здесь, – говорила мать Ненаду, – ни к чему быть богато одетым, здесь люди не сплетничают.
А то ведь покроешь волосы черным платком, а соседи уж выспрашивают, не умер ли отец да по ком траур. Я вижу, ты внимательно смотришь на фрески, сын мой. Нелегко было их писать. Говорят, чтобы создать такую красоту, приглашали знаменитых мастеров из Греции и Европы. Вот мы и молимся, и дивимся красоте и прочности их трудов. Игумен говорит, что в душе художника должна быть связь с Богом, чтобы он мог создавать столь прекрасные произведения.
Ненад знал, что для иконописи недостаточно только интереса, желания и умения, знал, что сам он бесталанен, лишен живописного дара. Он воспринимал иконостасы и фрески только как искусство, подобно туристу, без веры. Не ощущал в монастырях и церквах связи с молитвой и Богом. Говорил, что верит в Бога по-своему, не вникая в смысл веры. Любил праздник славы, но не постился и не причащался. Молитва не давала ему успокоения. Он забыл «Отче наш», а в Америке перестал молиться и ходить в церковь. Это беспокоило мать – та не представляла себе жизни без молитвы.
– Боюсь я за нашего Ненада, – говорила она Радомиру. – Что с ним станется при малейшем житейском кризисе? Когда в человеке нет веры, ракия и виски действуют как дьявол.
– Не усложняй, жена, не тревожься. Он же врач, – отвечал Радомир. – Профессия может указать путь к Господу. Был бы он на родине, больше бы молился. Церкви сейчас открыты, нет удбашей, никто не составляет списки верующих, и богослужение на сербском. А здесь теперь начинают служить по-английски, никак не могу к этому привыкнуть.
31 Золотая сеть звезд
После работы Ненад вместе с отцом часто захаживал в клуб. Одни или с друзьями, они всегда сидели за одним и тем же столом, где была табличка: «Зарезервировано для королевского офицера Радомира». Слушали музыку, горячо беседовали, словно хотели наверстать годы, потерянные в разлуке.
– Ненад, – говорил отец, – ты любишь ночь, как я. Она рождает в нас некое особое возбуждение. Мы оживаем, а узость пространства, от которой днем на чужбине не спрячешься, пусть даже здесь красиво и удобно, сменяется беспредельностью. Мы словно пойманы золотой сетью звезд, и ангелы на своих крыльях несут нас над водой через океан, к заре нашего родного края.
– Возвращаясь на прежний солнечный путь, – говорил он сыну, – мы ищем себя и тепло родного дома в печальной задушевной песне. В ней берега нашего моря, реки и горные вершины, которые говорят с небом и дремлют в вековечном сне. В этом сне мы ищем ключи от своих судеб и любви, какой она могла бы быть, если б мы ее видели точно и истинно.
Он беспрерывно курил, грызя старый янтарный мундштук. С той же страстью, с какой он любил жизнь, курил, пуская колечки дыма и глядя, как они исчезают.
– Видишь ли, Ненад, жизнь – как эти кольца дыма. Вместе с дыханием они улетают в пространство, колышутся, как тело восточной танцовщицы, которая манит тебя твоей же собственной грезой о ней. Но лучше грезить и мечтать, сынок, чем не дышать от страха, что все преходяще. Может быть, и то, что мы видели и пережили, – заблуждение? Человеческие чувства и разум ограниченны, они словно в вечно зачаточном, помраченном состоянии. Кто-то в каком-то веке видит и может больше, чем обычные люди. Он запечатлен в истории шедевром или изобретением, которое, поскольку оно уже сделано, выглядит так естественно и просто, как будто его мог сделать каждый. Чудесная штука этот наш мозг, мы его не используем до предела возможностей. Может быть, так хочет Бог, потому и позволяет только избранным осветить тьму и создать, хотя бы в мелком пространстве, шедевр, который будет воздействовать на нас, остальных, и на всю жизнь на планете. Мы гордимся, что Никола Тесла – серб. Посмотри на его открытия! Он дал нам свет во тьме, и сколько б ни было других изобретений, весь мир обязан знать и его имя, и откуда он. А Михайло Пулин – он тоже родом из нашего отечества, – каков его вклад в технологию!
Я мелок, незначителен в сравнении с гениями, сынок. Я защищал родину от немцев, которые нас всегда ненавидели и завидовали нам. Я попал в плен, мне пришлось расстаться со всем, что я любил. Нас, солдат, особенно солдат проигранной войны за свободу, быстро забывают, особенно если мы живем за границей.
И здесь, на чужбине, где я даже не говорю как следует на здешнем языке, все, что мне осталось, – любить Негоша, соблюдать заветы православия, петь в церковном хоре, да еще сидеть вот в этом кафе с нашей музыкой. Это особые, любимые острова моего существования, часть родины, милой и лелеемой в душе. Я не хотел потерять ее на этой земле, где много лет живу как эмигрант. Я защищаю ее, пока умею мыслить и чувствовать.
Боюсь, даже то, что сегодня живет в душе, этом самом таинственном органе тела, постепенно начнет угасать, исчезать во тьме, прежде чем откажут сердце и легкие. Я не буду способен чувствовать, понимать речь, говорить, узнавать любимые лица, слышать песни, которые меня поддерживали здесь, далеко от родины и от семьи, не давая сломаться. Они годами подбадривали меня, давали надежду: настанет день, когда я смогу вернуться и на свободной родине зачерпнуть ладонью чистой воды из нашего родника, ощутить в свежем дуновении ветерка запах сосновой смолы и цвета акации, сорвать виноградину с лозы, которая ждет меня, став еще сильней и ветвистей. И я скажу вселенной: ради этого стоило страдать в немецком лагере и на чужбине!
Я отдал за родину часть молодости и семью. А она меня забыла, даже критиковала за то, что я был офицером нашего короля Карагеоргиевича, – говорил он.
Ненад слушал внимательно и вновь и вновь восхищался мыслями отца, его патриотизмом, привязанностью ко всему сербскому и всему человеческому.
– Старина, – нежно сказал он отцу, – твой ручей перед домом, и земля, что всегда давала плоды, и виноградники, разросшиеся с тех пор, как ты уехал, и гора, о которой ты вспоминаешь, и звоны монастырей и церквей, которые ты все еще слышишь и узнаёшь даже во сне, – все это принадлежит тебе и твоему народу. Им не хватало твоего голоса, твоей молитвы и прикосновения твоих рук, но они были твоими за сто поколений до тебя и всегда тебя ждут. Не жди от безбожника, чтобы он кого-то любил, просил прощения за то, что тебя изгнали. Он потерял себя, пытаясь доказать, что Бога нет, его занимает только доктрина, в которую он верит. Безбожники преходящи. Придут другие, они, быть может, прочтут и поймут историю и будут благодарны вашему поколению за то, чем вы пожертвовали, дабы мы как нация не были истреблены. А ты, отец, никогда не состаришься, пока слушаешь сербские песни и следишь за бейсболом!
Со временем в ресторане стали замечать, что Радомир все больше забывается. Он вел себя все развязней, особенно с женщинами. Его возбуждение было ненормальным. Он начал швыряться деньгами. Как врачу и как сыну Ненаду было тяжело сознавать, что его отец начал терять память. Ему были известны признаки слабоумия, но когда диагноз надо было поставить отцу, это слово звучало горько, трагично, рубило, как сабля: тело здорово, а клетки мозга постепенно умирают и оставляют тьму. Симптомы он знал. Знал, что под особой угрозой передний отдел мозга и что осмысленность поведения, эмоциональные реакции и память будут слабеть все больше. Вечером, после захода солнца, состояние отца ухудшалось. Радомир начал галлюцинировать, переживал войну, нападения неприятеля и страдания в лагере. Слабоумие нарастало очень быстро. Скоро он перестал узнавать даже членов семьи. Часто сердился, когда Ненад называл его отцом.
– Ты опасный грабитель, взломщик, ты крадешь мои дукаты и мои медали, – громко кричал он, а жена пыталась его убедить, что это Ненад, его любимый сын.
– А ты кто такая, чтобы мне это говорить? – еще сильней повышал он голос.
Ненад заметил, что отца успокаивает сербская музыка и церковное пение. На лице его играла широкая улыбка веселого ребенка, он казался моложе, свежее, разглаживались морщины, кожа блестела, словно озаренная солнцем родного края. Кто знает, что он думал и чувствовал, когда напевал или насвистывал мелодии. Домашние знали, что в эти мгновения он не с ними, не здесь, не в Америке. Его утешали видения и звуки былого: свирель пастуха, гнавшего стадо с горного пастбища, журчание ручья возле родного дома, голоса певчих птиц, которым он пытался подражать в детстве, звон монастырских колоколов. Его посещали старые впечатления из глубочайших отделов центра памяти, еще не поврежденных болезнью: прекрасные картины родного края, домашнего очага и счастливого детства.
Какая противоположность облику отца в мундире офицера королевской армии, молодого, красивого, гордого, – этот рано постаревший человек, за которым он теперь ухаживал, которого купал, одевал и кормил, как ребенка! Каждую ночь Радомир в горячечном бреду заново переживал войну и сражения с немцами. Часто, не узнавая Ненада и окружающих, вдруг закипал злобой, сыпал угрозами. Однажды, когда Ненад уснул, устав от работы под палящим солнцем на стройке и от подготовки к дополнительным врачебным экзаменам, отец чуть его не убил бейсбольной битой, которую всегда держал при себе. Он думал, что он на войне, а Ненад – враг, Бог знает, что он еще думал.
В прежние годы Радомир увлекся популярным американским спортом, бейсболом, и вступил в местную любительскую команду. Будучи левшой, он оказался талантливым нападающим – прославился резкими, мощными бросками: мяч, закрученный им по кривой траектории, приносил команде победу. Многие безуспешно пытались подражать ему. Публика приветствовала Радомира, когда он выбегал на поле в форме своей команды, скандировала его имя, как будто вокруг были одни сербы.
Бывали особые мгновения в его жизни: на залитом светом стадионе, слушая гимн Америки и понимая, что публика любит его, Радомир не чувствовал, что он на чужбине.
32 Пророчество
Даница не могла привыкнуть ни к этой стране, ни к мужу, который стал ей чужим. Она не хотела спать с мужем в одной кровати, избегала сближения с ним, да и разговоров.
«Он спал с другими, – говорила она себе, – я больше не могу его целовать. Буду ему верной женой и хозяйкой, это все, что я могу ему предложить».
С тех пор как он заболел, она почувствовала себя свободной от обязанностей жены. Только после этого она смогла прикасаться к его телу и делить с ним постель. Она даже клала ароматные дикие травы ему под подушку, чтобы их запах напоминал ему о молодости и о полях, по которым он гулял. Добавляла и каплю розового экстракта – ведь они поженились, когда розы были в цвету, украшали стены домов и сады. До самого ручья их сад был полон белых, красных, желтых цветов. Там была и простая скамейка, которую Радомир вытесал из дубового дерева, с их именами и датой венчания. Она была похожа на памятник из ветвей.
Когда он уехал, она часто сидела в одиночестве на этой скамейке, охлаждая босые ноги в чистой прохладной воде. Она и теперь была одинока, как тогда, хотя они вновь были мужем и женой. Ей были не по нраву скорость и стиль жизни в чужой стране. Она жалела не только о своей горькой судьбе, целыми днями горевала о том, что ее младший сын, лучший студент, которого за красоту, отменный вкус и безупречные манеры в семье звали «принцем», теперь работает столяром и каменщиком, а не врачом. А ведь мог быть профессором университета! Когда Ненад приходил домой в перепачканных рабочих сапогах, весь в грязи, с мозолями на ладонях и стопах, она ждала его с чистыми, пахучими полотенцами и расплавленным парафином, чтоб смазывать ему руки и ноги, для смягчения кожи.
– Сынок, будь осторожен, ведь ты врач, а не простой рабочий, который будет так трудиться всю жизнь.
– Мама, – нежно отвечал Ненад, – мне нравится физический труд на солнце. Когда я начну врачебную практику, мне будет его не хватать. Здесь, в Америке, уважают всякий труд. Потому это и великая страна.
На столе его ждала домашняя пища. Он любил ее супы на говяжьем бульоне, пироги со шпинатом и сыром. Она пекла вкуснейшие пончики и рождественские торты. Соседки, бывало, просят у нее рецепт, а она говорит: «Не нужны вам поваренные книги, смотрите на меня и учитесь. Так и я научилась у своей матери. Все делаю на глазок, не меряю, как другие».
– Никто не готовит вкусней, чем наша мама, – говорил Ненад братьям и невесткам. – Я научился у нее готовить наши блюда, теперь я и сам искусный повар.
Прежде чем сесть за стол, он кормил отца. Брил его, купал, расчесывал его буйные черные волосы, одевал в элегантный костюм с белой крахмальной сорочкой и платком, торчавшим из верхнего кармана. Радомир всю жизнь старался так выглядеть.
Потом сын включал музыку и только тогда садился с матерью ужинать. До поздней ночи он готовился к трудным экзаменам, учил английский. Мать варила ему кофе по-турецки и в тишине ласкала его глазами, полными любви. Только когда Ненад ложился, она мирно засыпала.
Даница не понимала, что такое симптомы «фронтальной деменции», о которой говорил ей сын. Она была твердо уверена, что мужнина болезнь – результат колдовства, порчи, завистливого дурного глаза, проклятия, настигшего их за то, что они покинули родной край и приехали сюда, на чужбину. Она развесила по дому паприку и чеснок, чтобы отвести порчу. Пригласила священника, чтоб он освятил жилье и изгнал злых духов.
Уже отчаявшись, Даница прослышала про знаменитую здешнюю знахарку родом из Валева, которая слыла прорицательницей. Она была известна и в Голливуде. Через переводчика предсказывала судьбу киноактрисам. Знахарка была умная, речистая, с пристальным взглядом, бойко и ловко толковала сны, читала судьбу по картам, по ладони, телепатически общалась с душами умерших. Клиентов она всегда просила принести что-нибудь, что им дорого и близко. Брала эту драгоценность в руки и погружалась в транс.
Даница попросила сына, чтоб он привел гадалку. Ненад сомневался в силе ворожбы, ему было жаль, что люди верят лукавым и проницательным глазам предсказателей судеб.
Он знал, что люди, теряя ориентацию в жизни, веками искали в предсказаниях опору, ответ, направление, выход из духовного и морального тупика. Целые нации были привержены оккультизму, суевериям, верили в магию, заговоры, ясновидение, гороскопы, неосознанно отдавались во власть необузданным иррациональным силам, которые и не снились школьной премудрости, непонятным и необъяснимым на основе известных законов природы.
Его интересовала парапсихология, он довольно много читал о ней. Считал ее наукой и отличал от оккультизма, хотя иногда они были схожи. Желая сделать матери приятное, Ненад позволил гадалке предсказать будущее и ему. В какой-то момент прорицательница задрожала. Она в трансе предсказывала всплеск вражды на Балканах, огонь в мире, рыдания матерей, крики детей. Держа Ненада за руку, сказала:
– Скоро ты сдашь экзамены на врача, но твоя роль шире. Ты поможешь родной стране не только как врач, будешь снабжать войско специальным снаряжением и пищей, чтоб люди меньше гибли и голодали. Вижу перепуганную, рассерженную девочку. Может быть, это твоя дочь плачет и молится, чтоб ты оказался рядом. Твой жизненный путь не завершится здесь. Ты вернешься за океан. Когда я пытаюсь увидеть твою личную жизнь, почему-то все туманно. Что ты скрываешь так глубоко в своей судьбе, что даже я не могу прочитать? Демоны сильны и незримы! – Она помотала головой и улыбнулась, чтобы уменьшить тяжесть своих слов. – Тебя ждет удача в деньгах. Многие будут тебя любить и уважать. Ты будешь тосковать об одной женщине, я это ясно вижу. Она тоже много видит – больше, чем обычные люди; словно и она читает судьбы, входит в глубины других душ. Ваши пути расходятся. Вместе вам не быть. Вижу распутье. Густая тьма разделяет вас. Она войдет в твою душу, в самую суть жизни – не только твоей, но и остальных, кто ей близок. Она будет бежать от себя, от жизни, от любви, которую рано или поздно найдет, ибо видит, что трагедии сопутствуют счастью. Она носит в себе тоску, страх и чужую тайну. Оставь ее в покое, она не твоя. Вижу букву «И» – начало ее имени. Она очень молода, много младше тебя, Ненад, она могла бы быть твоей дочерью. Солнце светит вам обоим, но я вижу вас раздельно. Вы в городе. Вижу тебя у воды, возле церкви, а она на другом континенте, в окружении красоты и покоя монастыря. Может, она паломница, монахиня или художница. Вижу ее перед иконой Богородицы с Христом. Она улыбается, но полна печали, молится Богу и плачет. Я чувствую ее присутствие в тебе, а лиц ваших не вижу. Слышу шум реки и глубокое дыхание лазури, которая вас окружает, а потом сменяется месяцем в темно-синей звездной ночи. Вас сопровождает синий свет – в нем ваши сны и желания. Я слышу звон колоколов и церковное пение, в сумерках звуки расходятся и теряются в лесах. Чувствую твое спокойствие, вижу свет во тьме ночи. Вы оба наконец обретете покой, а она – любовь.
Голос ее дрожал:
– Прошу тебя, Ненад, вернись, хоть когда-нибудь. Твое будущее меня потрясло, пробудило во мне и печаль, и радость, чего не бывает, когда я читаю судьбы других.
Тот случай не произвел на Ненада особого впечатления. Лишь позднее, вспомнив эти слова, он начал читать об оккультных силах, особенно увлекся трудами известных антропологов.
Даница успокоилась, когда ворожея твердо сказала:
– Ненад больше не будет заниматься тяжелым трудом, скоро он станет преуспевающим и уважаемым врачом.
С того дня мать больше не говорила о сглазе и порче. Ей полегчало, она даже стала ходить к парикмахеру, постриглась, покрасила волосы, сняла платок и надела брюки с красивой блузкой. Стала выглядеть современно и привлекательно. Ненад радовался, что она довольна и привыкает к Америке. Он не мог поверить: она даже начала соблюдать диету. Решила учить английский, советовалась с невестками, ходила с ними за покупками. Только не хотела покупать консервы, замороженные продукты и картофельный порошок для пюре. Для сына она готовила все свежее, избегала жирного, только бы он был здоров. Она жила для него. И теперь, накануне открытия амбулатории, решила, что должна производить на людей должное впечатление, когда они ходят в церковь.
Не прошло и полгода, как Ненад начал работать врачом. По несколько раз на дню она говорила Радомиру, что Ненад – врач в Америке и его уже все хвалят. Стирала и крахмалила его белые халаты вручную, хотя у них была стиральная машина, и показывала мужу, который в последнее время, благодаря лекарствам, слегка утихомирился.
– Видишь, Радомир, как наш Ненад преуспел – он теперь лечит и киноактеров, не только наш народ. Ты бы только поглядел на его кабинет – решил бы, что он государственный деятель, а не врач.
Считая, что и муж радуется, она продолжала монолог:
– Боже, как ему к лицу все, что бы он ни надел. Все его любят. Женщины к нему так и льнут, мужчины ищут его дружбы. Так и с тобой было. Не будет у него спокойного брака. Жизнь тут бурная – вижу, сколько вокруг разводов, лжи, наркотиков, алкоголя. Лишь бы не женился на американке! Она и славу-то не будет славить! А как я с ней говорить буду? Снохи только и твердят о скандалах. Даже наши сыновья не верны своим женам. А те помалкивают, потому что зависят от них, да еще из-за детей.
33 Зеленое кружевное платье
Однажды Даницу прорвало. Она требовала, как будто Радомир ее понимал, чтобы он ответил, с какими женщинами у него были связи за столько лет ее отсутствия.
– Я хочу их знать, не желаю, чтобы они смеялись надо мной в церкви. Какие-то приходили, спрашивали, почему тебя нет в клубе. Говорят, ты был великим джентльменом, украшения им дарил. А посмотри-ка на меня – у меня всего и есть-то что обручальное золотое колечко, уж мне-то ты, конечно, не покупал того, что покупал им! – В приступе ревности она швырнула кольцо на пол, и оно покатилось по паркету. Радомир продолжал сидеть неподвижно, а ей показалось, что он следит, как катится кольцо, и у него слезы на глазах.
– Не смей плакать, – сказала она едко. – Не надо мне богатства. Ты дал мне трех сыновей-соколов, и спасибо тебе за это. Я никогда не видела от тебя настоящей любви. Может, я и сама виновата. Я не была ни свободна, ни откровенна с тобой. Для меня ты был офицером, которого я просто уважала, но не любила всей душой. Теперь я могу тебе это сказать, мне полагается компенсация за годы ожидания и мучений, пока я растила твоих сыновей. Они для тебя значили больше, чем я как жена. А ты здесь, в Америке, кутил по кабакам и глазом не моргнув целовал своих бабенок, забыв, что где-то у тебя на родине молодая жена и у нее часто нет даже хлеба, чтоб накормить детей. Я стала им единственным родителем – мужчиной. У тебя тут было и отопление, и кадиллак, а я, особенно когда Ненад был маленький, колола дрова, чтоб не замерзнуть в зимнюю стужу. Думал ли ты хоть когда-нибудь, когда шел снег, как мы живем? Когда ты старших сыновей забрал в Америку, мы – Ненад и я – день-деньской носили продавать ракию, которую гнали сами, тем и жили. Хорошо, хоть вы оставили нам столько яблонь, груш, слив и винограда – было из чего делать ракию и вино!
Мне нравилась твоя форма, твой ум, твоя игра на скрипке. Ты знал наизусть всего Негоша, а о наших монастырях, которых так много, говорил с таким знанием дела, что куда там ученым профессорам. Все тебя уважали, ведь ты служил в королевской армии. Ты приходил домой, когда мог, я все еще помню те ночи, когда ты в восторге говорил: «Даница, у нас будет еще сын, еще один юнак. Дай мне сыновей, они нужны нам, чтобы защищать эту землю, на которую так часто нападают».
Я боялась, как ты отреагируешь, если будет дочь. Когда родился Ненад, ты был на маневрах, а люди уже шептались о войне. Я послала тебе письмо из больницы, в шутку написав, что родилась дочь. Ты не рассердился, и я была счастлива. Ты привез мне из Белграда зеленое платье с кружевами – я сохранила его. Ненад был тебе дороже всех. Наши отношения становились все нежней, я перестала бояться, что ты бросишь меня и женишься на ком-нибудь красивей и богаче, ведь женщины всегда тебя любили. Только когда ты ушел на войну, я поняла, что ты для меня значишь. Я знала, что выдержу все, только бы поднять сыновей. Надеялась, что после освобождения ты вернешься. А ты долго молчал. Мы не знали, где ты. Асим, мусульманин, мой школьный друг, не дал шиптарам убить нас – ведь нетерпимость вспыхнула еще во время оккупации и продолжалась после нее, особенно к тем, кто был связан с королем. Я знала, что ты никогда не вернешься! Хотел Асим помочь мне с детьми, приблизиться ко мне. Он знал, что я люблю тебя, и за это уважал меня еще больше. А сам так и не женился. Рассказывал мне, что слышал, будто ты гуляешь с певичками и ни меня, ни детей не собираешься звать в Америку. Я ему не верила. Чем больше он тебя ругал, тем ближе я была к тебе. Знала, что меня ты можешь забыть, но никогда не забудешь своих сыновей. Потому и ждала.
34 Капитан королевской армии
– Вот мы сидим с тобой, Радомир, в этом красивом американском доме. Ты купил его для нас. А перед глазами у меня резко высеченные, густо поросшие лесом холмы. Я вспоминаю неподвижное весеннее солнце, ветерок и вижу себя в зеленом платье – мы прощаемся с тобой.
«До свиданья, – сказал ты, – никогда не скажу тебе “прощай”, Даница. Жди меня, расти наших прекрасных сыновей и молись Богу. За короля и отечество стоит погибнуть!»
Я стояла в воротах, провожая взглядом пыль из-под колес военной машины, которая увозила тебя на фронт, и эгоистично спрашивала себя, стоит ли отдавать жизнь, жертвовать семьей ради войны. Кто тебе скажет спасибо, когда ты отдашь свою жизнь, кто тебя вспомнит? Я смотрела на небо. Солнце исчезло. Вдруг появилась большая темносерая туча и омрачила свет дня. Загремело, хлынул дождь, прибил к земле пыль за колонной войск.
Не знаю, долго ли я стояла, мокрая, дрожащая, в зеленом платье, прилипшем к телу. И теперь ощущаю тот мокрый холод.
Она испытала облегчение, сказав ему все это. Нагнулась поцеловать его еще черные волосы, которые так любила гладить, и заплакала – слезы падали на его лицо и катились по щекам. Он не пытался их вытереть. Сидел, неподвижный как статуя, бесчувственный и бессловесный.
– Я люблю тебя, Радомир, а ведь я никогда тебе этого раньше не говорила. Ты никогда не спрашивал меня, что я делала без тебя все эти годы, поэтому сейчас говорю тебе это, чтобы облегчить душу. Прости меня, если ты меня слышишь и понимаешь.
Не успела она закончить свою исповедь, как Радомир запел. Она узнала мелодию. Он пел «Журчала вода, журчала…», пел бессвязно и невнятно, все тише. Данице стало страшно. Губы Радомира искривились, дыхание пресеклось, тело похолодело. Она впервые видела, как человек умер от апоплексического удара. Умер, сидя в кресле, слегка склонившись вправо.
– Так вот она, смерть, – та, что всех нас ждет? – вскрикнула она. В первый миг она была не в силах ни двинуться с места, ни позвать сыновей.
Она смотрела на него, целовала его руки. «Как он спокоен в этом последнем земном сне, – думала она. – Его ждет лучшая, вечная жизнь». Она повторяла эти слова целыми днями, пытаясь заглушить тоску.
Думая, что виновата в его смерти, она не доверилась даже Ненаду. Только молчала, пока – очень скоро – и сама не умерла, во сне.
– Хоть в болезни не мучилась, ей и так несладко пришлось в жизни, – сказал Ненад братьям. – Но она все-таки приняла Америку – с тех пор, как я начал работать врачом, больше не жаловалась.
Многие месяцы Ненад скрывал от друзей отца, в каком тот состоянии. Хотел, чтоб они запомнили Радомира умным, образованным, полным жизни – бойцом, капитаном королевской армии. Устроил и соответствующие похороны. Пришел даже король Петр Карагеоргиевич, хоть был уже слаб здоровьем.
– Есть у меня желание, – говорил Радомир сыну перед смертью, – чтоб у меня на похоронах пели мои любимые песни и не произносили политических речей.
Он просил положить ему в гроб скрипку и мамину лесную мяту с базиликом.
Теперь ты немного представляешь и жизнь моей семьи. Я рассказал тебе о ней не в первом лице, чтоб быть объективней.
После похорон отца и смерти матери я бросился искать тебя, в Америке было одиноко. У меня была успешная врачебная практика, но я мечтал вернуться на родину. Родители умерли, и меня как магнитом потянуло в родные края. Я хотел быть возле дочери, хотя бы теперь, когда она выросла и сама вынашивала ребенка. Я верил, что найду тебя, Изабелла, здесь, у нас, ведь ты любишь монастыри, стала знаменитой мастерицей православной иконописи, фресок и мозаики.
Пытаюсь понять твое бегство от жизни, истощение психической энергии, страх и подавленность, которые нас разлучили. Я не верующий, но буду искать тебя в монастырях. Не верю, что существует высшая сила, – она бы не допустила стольких несчастий на земле. Говорю это еще и потому, что как врач, выполняя свою работу, насмотрелся на всякие трагедии. Знаю, ты веруешь, и это меня укрепляет в убеждении, что ты справишься со всеми испытаниями, в которые сплелась твоя жизнь. Возможно, в твоей набожности причина того, что я тебя больше не видел и ты не отвечаешь на мои письма.
Я буду писать тебе, искать тебя. Пойму, если ты не захочешь меня видеть. Но не запрещай мне искать тебя. Мне осталось только это утешение. Я так хотел увидеть отца, так долго ждал, когда же его увижу. Буду ждать и тебя. Хотя все проходит, течет, как река, жизнь учит нас, что река и уносит, и приносит. Над твоим и моим Дунаем полная луна – она принесет новый день.
35 Исповедь как музыка
Почему вы молчите и так пристально на меня смотрите? Неужели вы так никогда и не произнесете ни слова? Вы онемели от моей искренности? Так привидение исчезает на заре, пугаясь, что его узнают. Или вы презираете меня за то, что я причинила боль человеку, который любит и говорит на том же языке, что и я? Или вы ищете точного слова?
– Да, – говорите вы, – и произнесу его, если вы признаетесь, что изображено на холсте, который прикрыт драпировкой. Я же знаю, часовня завершена.
Я смущенно покраснела. И сказала взволнованно:
– Может быть, это подарок для вас. Вы получите его и узнаете, что там, когда я уеду. Он еще не окончен.
– Изабелла, – я слышала, как он говорит. – Придет время, и мы познакомимся лучше, если так нужно. Может быть, вы сбежите и от меня, – сказал он полушутя, – или я от вас. Я знаю, с каждым днем вы все сильнее, скоро вам будет не нужен слушатель, как вы меня зовете. Я стану воспоминанием. Таким вы меня и запомните.
Искушение мучило меня, словно неясное желание, опускалось на душу, как изморось. Но что, если его вообще не существует? Не направлены ли мои грешные мысли на кого-то, кто просто вселился в мою мечту? Я ведь хотела вывести своего таинственного друга, своего слушателя из тяжелого состояния. Возможно, он – это я, а все происходящее – лишь разговор внутри моей души, хотя он по-прежнему стоит у моего мольберта, и это доставляет мне удовольствие. Не желаю больше оправдываться: я рассказала ему все не для того, чтобы его соблазнить, а для того, чтобы облегчить тяжесть его мрачных мыслей, его угрызения совести. И что я ощутила в нем? Через мою исповедь и музыку, которую мы слушали, и он избавлялся от груза своих тайн, без слов. Исповедь, как музыка, – искренность, которой не надо обольщаться. А он, пережил ли он искушение? Он больше молился, это я знаю, чаще ходил в монастырь, дольше беседовал с монахом. И по-прежнему скрывал в церкви свое лицо. Даже его имя осталось тайной.
Я слышала колокола – их звон пробивался сквозь белизну и ветер, гулявший по зимним просторам. Я вернулась к живописному полотну, даже не заметив, что вещи в моей мастерской расположены не так, как прежде. Это станет мне ясно только после разговора с игуменьей. Мольберт больше не повернут так, чтобы свет падал слева, а отодвинут от окна. Садясь продолжить работу над картиной, я повернулась спиной к свету. Я не стыдилась своих мыслей, а только спрашивала: неужели откровенная мужская сила могла за несколько часов пошатнуть все, в чем я утвердилась, отменить причины моего приезда сюда, ослабить стремление к сути, к очищению души через молитву, пост и иконопись? Чему я поддалась, вместо того чтобы обуздать бурю, пробужденную открытием чужих тайн, и, обретя равновесие, отправиться на поиски Андреяны, дабы вручить ей завещание и дневники отца?
Я взяла масляные краски и быстро набросала на холсте монастырь, пасеку и луга, занесенные снегом. Его лицо и оголенная грудь исчезли под сугробами. На душе стало легче.
Пусть лучше он останется просто моим тайным слушателем без имени и прошлого. Рано утром за мной должны были прислать сани. И теперь, перед отъездом, больше, чем когда-либо, я сомневалась: реален ли мой молчаливый собеседник или он – производное от музыки, которая звучала и отзывалась в моей душе не только звуком, но и словом, и зримым образом. Он спасал меня от стыда, от страха и тоски. Ему я обязана тем, что точнее увидела действительность, которая была вовсе не так безотрадна.
Снег шел всю ночь и продолжался днем. Снег был глубок. Ветер вздымал облака снега с земли и деревьев. В зимней метели я не могла разглядеть его дом. Мои вещи были упакованы. Сани с конной упряжкой уже ждали меня.
Все монахини вышли проститься. Звучали колокола. А его не было. Я долго разговаривала с матерью-игуменьей Марией.
– Дитя мое, – сказала она ласково, – пиши нам из Америки. Всем будет тебя не хватать. Многие на переломе – еще большем, чем ты. Трудно противостоять искушению, когда оно вдруг настигает человека. Идет снег, но в часовне с раннего утра много молящихся. Да пребудет с тобой наше благословение за твой молитвенный труд. Вы, художники, получаете свой дар взаймы от Господа и бескорыстно отдаете его миру, несете слово Спасения. Легко поддаться поверхностной лести, ощутить обманчивый вкус сиюминутного успеха. Между тем через молитву и вопреки соблазнам человек может стать духовно богаче. Так и художник может обрести духовную полноту, не испытав потребности в любви и обожании публики. Все сотворенное им – неважно, насколько оно масштабно и имело ли успех, – принадлежит Богу по природе и человеку по благодати.
Да хранит тебя святая Параскева Пятница, твоя покровительница в девичестве, да поможет она тебе всегда возвращаться к нравственным ценностям православия, которые тебе привили твои досточтимые родители. Они – из второго поколения сербов в Америке, а все еще говорят на родном языке, и тебя ему научили. И не забудь: тебе даны и живопись, и медицина. Не отрекайся ни от одной из них. Посвятишь себя только одной – утратишь равновесие.
В испытаниях вспоминай, что ты – одна из нас. Вот твоя семья. Носи то имя, что я тебе дала, – оно направит тебя на путь истинной любви. Приезжай к нам. Эта часовня с твоей живописью благословенна в каждой нашей молитве, как и ты. Вот, даю тебе освященную икону святой Параскевы. Она принесет тебе мир и укажет путь. Славь ее в своем доме и ты, как твои родители. Иди по жизни не спеша, спешка – болезнь человечества. Если ты до сих пор падала, то потому, что хотела, чтоб завтра настало уже сегодня. Мы часто не знаем, почему это хорошо, чтоб все шло согласно некоему высшему порядку, как сменяются ночь и день, как после ливня выходит солнце. Время приходит не тогда, когда мы этого хотим, но тогда, когда мы можем его вынести и понять. Поспешность – бунт, она не на пользу ни душе, ни телу. А терпение – любовь, хотя подчас мы этого не видим. К чему спешить, когда нас ждет все то же? Вечность только с Богом, в которого ты веруешь. Когда ты чувствуешь, что теряешь почву под ногами и впадаешь в искушение, когда ты то счастлива, то удручена, помолись Параскеве. Она защищает всех, особенно женщин. Возьми этот базилик, я знаю, ты любишь его больше всех цветов. Посади его в своем саду в Америке.
Помню руки монахинь – прощаясь, они порхали, как белые мотыльки. Ветер разносил звуки монастырских колоколов, пока наши сани не затерялись в лесу за холмом.
Я долго спрашивала себя в самолете: откуда она знала, что Параскева – моя покровительница, моя девичья слава, ведь мы никогда об этом не говорили. Я увидела в этом духовную прозорливость, святую силу, данную от Бога.
36 Билет на «Аиду»
Прибыв в Америку, я несколько дней читала накопившуюся почту. Большую часть времени проводила с родителями. Они были счастливы, что я опять вместе с ними и мне душевно лучше, чем до отъезда. Я больше не чувствовала себя брошенной женой, несчастной вдовой, чье сердце распалось на части, женщиной, которую наказала судьба. Я больше не смотрела в зеркало прошлого, от которого веяло холодом, а по телу шла дрожь. У меня было новое зеркало, с лицами двух игумений и иконы, которую я носила в глубине души. Все вокруг было прекрасно, как в этом зеркале.
Родители согласились, что надо найти дом под стать моей природе и скромности моих запросов, дом с большим садом, но не огромный, каким был дом Андре. Его дом, с дворянским гербом при входе, был олицетворением состоятельности, положения, влиятельности старой американской семьи аристократических французских кровей. Это была копия какого-то дворца девятнадцатого века, от нее исходил дух маленького галльского родового замка. Сад был в том же стиле. За все три года брака я не смела, не могла сажать здесь свои цветы и базилик.
Я проводила все дни в новом доме, украшая стены мозаикой – современной стилизацией религиозных мотивов. Стену одной из комнат полностью покрывали мои и древние иконы, привезенные отцом из путешествий по России, Сербии, Болгарии и Греции. Он знал их ценность, но привозил не столько для того, чтобы создать коллекцию, сколько ради меня, зная мою любовь к иконописи и сильную веру. Ценность икон была подтверждена не только оценкой экспертов, но тем, что на них были святые, которым я молилась.
Весна была ранняя. Все дышало покоем и миром. С пробуждением природы сад дышал счастьем, ощутила это и я. Я открыла амбулаторию, готовила выставку, посещала театры и оперу, сезон в которых уже кончался. Через разные конторы и юридические агентства я искала местожительство Андреяны. Она наверняка была уже замужем.
– Она старше вас, Изабелла, – сказал адвокат. – Завещание останется в силе до тех пор, пока она не будет найдена. Мы дали объявление во всех американских газетах, а потом и в главных газетах европейских столиц, чтобы она обратилась в адвокатскую контору, так как ее ждет большое наследство. Однако до сих пор не нашли ее. Кое-кто обращался, но это были явные мошенницы, в чем мы убедились, сделав анализы ДНК. Это меня навело на мысль, что, возможно, она живет за границей, в каком-нибудь маленьком городке, но где и под каким именем? В Америке проведен поиск с помощью всех телевизионных станций, это не дало никаких результатов, из чего мы заключили, что ее здесь нет.
Я изо дня в день молилась, как и мои игуменьи, чтобы Бог дал нам возможность ее найти.
– Он подаст вам знак во сне или в молитве, – ответили обе в письмах. – Наберитесь терпения!
И вот пришла осень – время года, которое я так люблю, не только за красоту природы, но и потому, что в Америке, особенно в Нью-Йорке, Чикаго и Бостоне, это самый богатый сезон опер, концертов и драматических спектаклей, фильмов и выставок. Родители пожелали посетить Чикаго. Я хотела, хоть на несколько дней, заехать в ближайший женский монастырь в Индиане, о котором недавно услышала. Я знала, что там богатая библиотека, а игуменья Даница очень мудра. Я начала писать роман, мне требовались книги, которые были в том монастыре. Но я их даже не открыла. Хотелось только молиться и разговаривать с игуменьей. Я постилась и молилась, одна и с сестрами. Скромность, вера, молитвенная дисциплина и церковное пение стали истинным озарением. Игуменья, ощутив мою потребность в монастырском покое, пригласила меня посетить их весной и остаться подольше.
– Будь терпелива, Бог укажет тебе путь, и ты найдешь Андреяну. Привези ее в этот монастырь или еще в какую-нибудь обитель в Эфиопии или Сербии. Здесь вам обеим будет легче, вы наговоритесь, узнаете друг друга через молитву и пост.
Там, в монастырской келье, мне приснился чудесный сон. Я слушала музыку, прелюдию оперы, и видела его лицо, лицо слушателя – как дирижера.
Когда поднялся занавес, я услышала голос – он словно лился с неба. Некая красавица пела арию, очень сложную и для гораздо более известных певиц. Ее игра и движения были невероятно точны. Этот голос, трагически печальный, был мне прежде неизвестен, а я слышала много исполнений «Аиды». Дело происходило не в Египте. Я видела ее над ущельем, в Эфиопии, она пела Желтому Нилу.
37 Магдалина-Марго
Жизнь постепенно возвращалась к привычной, обыденной рутине, рабочей стабильности и сосредоточенности на пациентах. Частые дежурства были утомительны, но многолетняя практика научила меня выдерживать и по трое суток без сна. Я продолжала писать и скоро подготовила выставку. На этот раз я сознательно ушла в эксперимент; замысел выставки вызвал многочисленные комментарии. Я сопоставила реалистические и сюрреалистические образы с абстрактными, причем так, что картины под одним и тем же названием имели и свое другое «я». По принципу совмещенности сознания и подсознания, реального-нереального, рационального-эмоционального было показано одно и то же состояние в разных мирах. Для этого я выбрала портреты и пейзажи. Ничто не может более выразительно свидетельствовать о двуединстве мира, чем человеческое лицо и лицо земли.
Подобным же образом я поступила и с иконами. Святой Георгий был на белом коне, в красной одежде с золотым шитьем. Святая Параскева, которую я на каждой выставке показывала иначе, была изображена в темно-синей мантии с золотом, а на плече у нее сидела райская птица. Понятно, что в абстрактном варианте фигуративность теряется и образы святых передают только духовное переживание – на них доминируют или цвет, или штрих, или свет.
Без всяких предварительных размышлений, что именно я буду выставлять, перед самым открытием я решила, что кроме портретов других эфиопских женщин покажу и два портрета Дельты – в беременности и в монашестве. Фигуры я подчинила выражениям лиц. Я не могла пересилить потребность писать ее, она вселилась во многие женские лики. Я изменяла мимику, одежду, возраст, а на одной картине, которая привлекла взгляды многих, было представлено ее самоистязание: она была изображена идущей, в монашеской рясе и веригах, с камнем на голове. Выражение лица было почти как у святой – не столько боль, сколько покаяние.
Это была одна из самых удачных моих выставок, на ней побывало множество людей. Чем она отличается от предыдущих? – спрашивала я себя. Может быть, тем, что картинами я спровоцировала оба наших мира и обнажила скрытую тайну – любовь к земле древнего христианства, – вызвав у посетителей желание побывать там. В сущности, это была моя авантюра, пощечина миру, который во имя унылой горизонтали забросил вертикальный смысл, скатившись в пустой гедонизм, безысходную патологию, абсурд и смерть.
В сентябре та же выставка была развернута в Нью-Йорке.
Я обратила внимание на одну изящную даму – она приходила несколько раз и особенно внимательно разглядывала портреты Дельты.
– Я бы хотела купить эту картину, где она беременная, и ту, где она себя истязает, если вы их продаете, – сказала она с акцентом.
– Почему именно их? – спросила я.
– Видите ли, я не совсем уверена, но мне кажется, это лицо похоже на лицо одной женщины – она живет в Риме, и я очень ее ценю. А крест на груди этой беременной очень похож на крест моей подруги. Это редкий крест, он стоит больших денег. Она надевает его только на большие приемы, всегда боится, как бы не потерять. Верит, что он приносит ей счастье. «Когда я не ношу его, мне страшно и грустно, не понимаю почему», – сказала она мне. Думаю, она обрадуется картинам.
Я ответила по-итальянски:
– Нет, она не продается. – Почему-то я произнесла это почти яростно. А портрет назвала «она». И тут же поправилась:
– Обе картины имеют для меня особое, более глубокое значение, чем произведения искусства, которые идут на продажу. Если ваша подруга захочет увидеть эти работы, она может меня посетить.
– Дело тут не в деньгах, она весьма заметная персона, супруга влиятельного итальянского аристократа, – небрежно парировала посетительница по-итальянски, добавив: – Я понимаю, у вас действительно веские причины, если вы отказываетесь от больших денег, которые я готова предложить.
Мне вовсе не хотелось измерять ценность картин предложенной ценой, какова бы она ни была. Я повторила:
– Не хочу вас обидеть, но эти картины не продаются. Возможно, я подарю их одному человеку, если его найду. Купите портрет какой-нибудь другой эфиопки!
– Я журналистка, буду писать о вашей выставке. Магдалина-Марго, – представилась она. – Надеюсь, вы не будете против, если я сфотографирую пару картин. У вас редкостные краски и необычные лица, – сказала она, добавив, что придет завтра и, если я буду здесь, хотела бы поговорить, в том числе обо мне.
– Отлично, – ответила я. – Недавно я купила кофеварку для капучино, угощу вас кофе.
После этой встречи я долго думала. Возможно ли, что я, написавшая портрет беременной Дельты, до этого разговора не сознавала, что она носила на шее дорогой эфиопский крест, по-видимому, имеющий духовную и историческую ценность? Свое непонимание я оправдала неосведомленностью, поскольку портрет писала до поездки в Эфиопию и думала, что самые ценные реликвии хранятся только в церквах и монастырях.
Картина была почти идентична фотографии, с которой мы хоронили Андре.
38 Крест на лбу
На другой день мы увиделись с Марго.
– Я люблю иконы святого Георгия, – сказала она, – но еще никогда не видела такой красной краски и такой золотой. Краски – ваша тайна. Где вы учились?
Не знаю, что меня побудило ответить, что святой Георгий – покровитель Эфиопии, и добавить, что эфиопы любят и святого Гавриила, чью недавно написанную икону я поместила на противоположной стене. – Особенно же они почитают Пресвятую Богородицу, которую вы зовете Марией, – сказала я. – Это икона, мимо которой вы прошли при входе. Если вы как журналистка хотите писать о красоте икон и фресок, поезжайте в сербские монастыри, неважно, какой вы веры. Сербия недалеко от Италии, а историки искусства близки к мысли, что в XIII веке в христианском искусстве не создано ничего более значительного.
– Вы очень хорошо знаете церковную иконографию. Ваши иконы – исключительной красоты. А пишете ли вы фрески, работаете ли в мозаике? – спросила она дружелюбно, смягчившимся голосом. – Если хотите, приезжайте в Рим: я всегда мечтала, чтоб мой бассейн и стены вокруг него были украшены мозаикой и росписями на церковные темы.
– Я люблю Рим, бывала там много раз, но не делаю мозаик на стенах бассейнов, – возразила я. – Если хотите, в другом помещении, когда у меня будет время, я охотно приму предложение. Но сейчас нет! После выставки я возвращаюсь к врачебной практике.
– Так вы еще и врач? – спросила она удивленно. – Вы весьма интересная личность, я напишу о вас, хоть вы об этом и не заботитесь. Я вижу, вы не носите обручального кольца, – значит ли это, что вы не замужем?
Не знаю почему, но в этот миг мне стало неуютно в ее обществе. Вопросы стали меня раздражать!
– Я давно уже не даю интервью, – сказала я. – Точнее, с тех пор, как стала жить подле православных монастырей, особенно на моей родине по отцу. Теперь я иначе смотрю на мир и по-настоящему понимаю свою роль на земле. Я познала земную славу, больше мне она не нужна. Слава чуть не довела меня до смерти. Я боюсь ее. Она ведет к искушениям и привлекает мнимых любителей искусства. Я пишу, потому что у меня есть потребность поделиться своим внутренним миром с посетителями и помочь им пережить прекрасное или открыть самих себя, если они смотрят на произведения не только с творческой, а и с психологической и духовной стороны.
– Счастливая вы, – ответила она печально. – Вы говорите просто и убедительно.
– Почему вы не пишете о монастырях, о тех, кто в них обитает? Они никогда не откажут вам в помощи, – сказала я. – В них непрестанно присутствует Бог, с того дня, как монахини посвятили жизнь вере, голос – только молитве, а мысли – духовному смыслу. Они прославляют Бога и Христа как единого всеблагого Господа вселенной, у них есть время выслушивать наши исповеди. Христос повсюду, он протягивает руку всем, хотя мы часто этого не видим, а просим о помощи, увы, только когда мы в беде. Он всегда терпеливо ждет.
– Я богобоязненна, – ответила она грустно. – Когда я была девочкой, честные сестры, учившие меня в школе, почувствовали мою любовь к Христу. Думаю, прежде всего во мне была склонность к их тихой жизни. Мне казалось, что они похожи на ангелов.
Мы были сиротами. Дом был полон детей. Отец приходил пьяный, крушил все, что под руку попадется, бил маму, а та не смела даже заплакать. Я среди ночи убегала к честным сестрам: их монастырь, конвент, был через дорогу, – но не говорила им почему.
– Это только наша тайна, – часто говорила мама, – и она останется в этом доме. Если ты проговоришься о ней, Бог тебя накажет за то, что ты жалуешься на своего отца. Отец нас кормит, а ты – его частица.
Сестры объясняли мои ночные появления тем, что я тоже хочу жить в конвенте, и сообщили об этом настоятельнице. Та вызвала маму и сказала, что для нее как для католички будет честью, если я войду в конвент и стану честной сестрой. У меня на лбу, говорят сестры, они видят крест: я избрана Богом.
Она помолчала, стараясь собраться с мыслями и чувствами.
– Хотите еще капучино? – спросила я.
– Да, – ответила она, – вы хорошо его готовите.
Мне показалось, что ее лицо подошло бы для портрета. Я ничего не сказала, но мы обе ощутили близость друг к другу.
– В конвенте было спокойно. По сравнению с родительским домом, где властвовали ежедневные ссоры и драки, конвент был раем.
Не могу вам описать, что значит быть ребенком и жить в беспрерывном страхе, что пьяный отец кого-нибудь убьет или покалечит. Я пыталась защитить маму, но она вырывалась и отсылала меня спать. Я чувствовала: она меня отталкивает, сердится, что я так напугана. Я упрекала ее, что она меня бросает; мне это было больнее, чем отцовские драки и ругань. Мамина преданность отцу задевала меня больше, чем его дикие выходки. Однажды он в пьяном безумии схватил с плиты посудину с кипятком и плеснул матери на руку – почему, дескать, ужин не готов. У нее и по сей день след, большой рубец она прячет под браслетом. Также она всегда скрывала правду о том, чем был ее брак, что творилось в доме.
После бесконечных оскорблений она еще и пела, ведь ему нравился ее голос, мыла ему ноги, а нас бранила, говоря, что это мы виноваты, из-за нас ему приходится столько работать и от стресса он пьет. Я уходила в школу и возвращалась в страхе, прислушиваясь, началась ли уже ссора, будет ли папа драться. Покой был только в школе, но было все трудней сосредоточиться от страха за маму: жива ли она, а вдруг избита или ранена, а кастрюли и тарелки раскиданы по полу? А если мама опять в ярости скажет, чтоб я шла в свою комнату?
Я не могла понять отцовской ревности. Он почти всегда подозревал, что она ему изменяет, бил ее, пока из носа кровь не пойдет. Битье обычно кончалось тем, что папа силой тащил ее в ванную, пускал холодный душ. Ссора завершалась поцелуями и сексом. Несколько раз у мамы случались выкидыши от его побоев. Однажды у нее лопнул мочевой пузырь. Она так и не сказала врачам, что было причиной беды.
Позднее я поняла, отчего она так яростно гнала меня в комнату: боялась, как бы он меня не убил. Ее он никогда не забил бы до смерти, потому что любил с детства. Она не жаловалась, что ей больно, даже пела его любимые песни. По ночам они долго смеялись, а я плакала от страха. Когда я выросла, я подумала: а может, ей нравилось такое отношение? Потом я читала о садомазохизме.
Католическая церковь помогала нам деньгами, все дети ходили в частную школу. Сестры видели, что я изменилась, и однажды вызвали маму на беседу. «Что ты наделала? – закричала мама. – Я же тебе говорила – никто не должен знать, что происходит в доме! Это семейное дело, только моя забота, а не ваша, не детская», – повторяла она перед встречей в классе. Вернувшись, она обняла меня и сказала, что главная сестра сообщила ей, что меня выбрали – я пойду в конвент, чтобы стать честной сестрой и посвятить жизнь Христу. Она дала свое согласие.
– Ты самый счастливый ребенок, раз они тебя выбрали. Видят у тебя на лице знак, что ты должна посвятить себя церкви. Ты будешь жить с ними.
В тот вечер я долго смотрелась в зеркало и не видела у себя на лбу никакого креста. Может, это потому, что я грешница, вот и не могу его увидеть, решила я. И все-таки было тяжело покидать наш дом. Отец меня даже поцеловал – единственный его поцелуй, который я помню.
В конвенте было тихо, как в раю.
Повезло мне, говорила я себе, что я живу в этом покое.
В те годы раннего отрочества, когда мы только начинаем понимать мир и в его вещественном, и в абстрактном смысле – во всяком случае, Пиаже так трактует подростковый возраст, – я размышляла исключительно о конкретных делах. Младший ребенок из семьи алкоголика, я была незрелой в сравнении с остальными детьми, очень зависимой, пугливой, хотя умственно была самой развитой.
Я не понимала, что значило войти в конвент, что значило стать честной сестрой. Было довольно того, что я молилась Христу и Марии, что я послушна, ибо этого от меня ждали. Я не имела представления, кто я и что требуется от того, кто вверяет свою жизнь Христу, а ведь это подразумевает и полный отказ от телесных желаний.
Я чистила подсвечники, механически молилась, пела – делала все, что от меня требовалось. Была послушна, как дитя, которое любит мать, все принимает, слушается без возражений. Но в этой ежедневной рутине не было души.
39 Молодой священник
Был вечер. За окном вспыхивали рекламы, сверкали витрины с рождественскими елочными игрушками, хотя был только конец ноября. Мы приглушили свет в комнате. Марго курила, и, пока она рассказывала о себе, пепельница на столе наполнялась окурками. Было видно, что она нервничает. Она теребила свои длинные темные волосы, в которых проглядывала ранняя седина. Часто меняла положение тела на удобном диване. Я включила тихую музыку. Она хотела послушать рождественские песни. Сказала, что в Америке они самые лучшие, потому что звучат весело. Пока она рассказывала о своей жизни, я набросала ее портрет. Мне хотелось запечатлеть на полотне ее переживания. Я слушала, ожидая, что в конвенте с ней случится некий перелом. Предложила ей бокал вина.
– Пролетело три года, – продолжала Марго. – Мне казалось, я самая счастливая девочка на свете, в конвенте я была защищена от всего. Изредка меня посещали мать и сестры; некоторые из них мне завидовали. Еще в раннем детстве у меня стала расти грудь, а когда начались месячные, я долго это скрывала. Внушила себе, что это знак грешных мыслей, которых я не понимала. Я любила ухаживать за своими длинными волосами, но мне запретили. Одна из честных сестер показала мне, как сделать пучок.
Это был очень строгий конвент. У нас не было ни телевизора, ни радио, было запрещено разговаривать с «обычными людьми», как называли всех, кто не жил в конвенте. Мне не разрешали читать книги, которые я любила, я могла видеть их только в витринах книжных магазинов, когда мы ходили в город. Учили меня только сестры. Они скоро заметили, что я хорошо пою, что верующим нравится мой голос и игра на органе в капелле.
– Изабелла, я не надоела вам? – вдруг спросила она голосом испуганного ребенка. – Не знаю, зачем я вам все это рассказываю. Я никому не говорила о том периоде моей жизни, даже детям. Может, портрет этой грешной монахини напомнил мне о прошлом и уверил, что вы способны меня понять?
В тот день, когда я познакомилась со священником из мужского конвента и пела с ним в церкви дуэтом, начались мои душевные муки. Что-то сладостное, доселе неведомое, прошло по телу, как электрический ток, и не покидало меня после расставания с ним. Напротив, усилилось до безумия. Охватившие меня угрызения совести не погасили неопределенного желания, я даже с нетерпением ждала новой встречи, хоть и не знала, когда она состоится, ведь его конвент был в соседнем городе.
Ночи напролет я прибирала в алтаре, во всей капелле, чистила подсвечники, но не чувствовала облегчения, не обретала чистоты помыслов. Мне казалось, что всё вокруг, чего коснулась человеческая рука, особенно моя, грязно, осквернено, предвещает трагедию, твердит мне, что во всем – моя вина. Меня охватил ужас, началась депрессия. Я не могла петь перед людьми, кружилась голова. Однажды честные сестры нашли меня в тяжелейшем состоянии в капелле, у подножья статуи святой Девы Марии, и отвели к психиатру.
Я лежала в психиатрическом отделении католической больницы нашего ордена. Благодаря терапии и лекарствам я поняла, что болезненные симптомы были защитными реакциями. Душа моя грешила пробудившимся чувством к молодому человеку, а не была всецело устремлена к Иисусу, которому я обещала и обязалась служить. Что делать теперь, когда я все понимаю и ощущаю смятение? Как мне жить в мире, которого я не знаю и не готова узнать? – спрашивала я психиатра.
Ответ на мои муки вскоре дал сам молодой священник, когда услышал, что со мной происходит. Он понял, что и сам больше не готов служить Богу. Он был старше, умнее, у него было несколько дипломов. Мы оба покинули монастыри.
Мать рыдала, говорила, что я опозорила семью. Не пришла даже на наше венчание. Зато, к своей радости, я увидела на свадебном обеде настоятельницу конвента и главу священства нашей епархии.
Мой отец умер от цирроза печени. Я впервые столкнулась со смертью. Было тяжело, но веры я не утратила. Когда муж разбогател благодаря новым компьютерным технологиям, я смогла помочь вдовствующей матери. Я никогда не плакала из-за того, что не стала честной сестрой.
И не раскаиваюсь в этом, хотя жизнь вне стен монастыря оказалась очень сложна. Под старость муж решил нас покинуть. Внезапно, без объяснений уехал в Париж, когда трое наших детей уже подросли. Попросил разрешения встречаться с ними. И встретился – в обществе какой-то женщины, как сказали мне дети, вернувшись после летних каникул, проведенных с ним. Я думала, что сойду с ума, что все это наказание Божье, что я грешница, заслужившая самое страшное наказание, даже смерть.
Пребывая в таком состоянии, я познакомилась в новой церкви, где молилась, с деликатной молодой женщиной. Мы стали добрыми подругами. Летом, когда дети уезжали навестить отца в Париж, я жила у нее. Она смотрела, как я пишу, утешала меня, а ее супруг нашел мне работу журналиста. Это было время, когда я читала разные книги, в том числе эротические. Хотела пережить все, что до сих пор было под запретом. Смотрела фильмы, о которых мне теперь стыдно вспомнить. В таком состоянии душевного упадка я и встретила Дельту.
Она на миг умолкла – миг длился как вечность. Мне казалось, я слышу, как бьется сердце моей новой знакомой. Ее лицо, на которое едва падал свет, излучало доброту и нежность. Я отложила альбом для рисования и карандаш, преданно глядя на нее. И подумала: несчастье не лишило ее красоты, ибо вера не покинула ее душу. Она была мне так близка, потому что была храбрей, чем я. Не погрузилась в сплин, который почти довел меня до безумия. Пока она смотрела в глаза истине, я пряталась от себя в заблуждениях. Сгущавшуюся тишину прервал ее голос, она словно знала, что этим защитит меня от воспоминаний, от вопросов, на которые все еще не было ответа.
– Я пришла на вашу выставку, чтобы написать статью для женского журнала, увидела портрет черной монахини и не могла его забыть. Возвращалась несколько раз. Я хотела купить эту картину, но для себя. А солгала, будто в подарок подруге. Мне было необходимо это лицо с картины… Она похожа на честных сестер из Африки, но меня смутил крест. В какой-то момент я заметила на кресте распятое тело женщины… В измученном лице грешницы я увидела свое, мне захотелось его удержать.
– Приезжайте в Италию, – сказала она сердечно, – познакомитесь и с моей подругой. Внешне – она типичная итальянка. Имя Дезидерата – Желанная – дали ей приемные родители. Они долго ждали, когда им представится возможность удочерить девочку. Мое имя Магдалина, а все зовут меня Марго, вы уже знаете.
– Марго, если снова приедете в Америку, позвоните мне, – сказала я.
Я не хотела, чтоб эта встреча была последней. Мне хотелось увидеть ее, а ей – меня.
Договорились, что будем переписываться. Она обещала послать мне статью о выставке.
Впервые мне захотелось, чтоб у меня была подруга. В ней чувствовалась печаль, но и сила. Она выглядела женщиной умной, образованной. Работала, сама воспитывала детей. Это наверняка было нелегко. В ней были основательность и надежность – качества, в которых я так нуждалась и с которыми впервые столкнулась именно сейчас, здесь, на выставке. Она была нежна и красива, как мои ангелы, которых я писала, вспоминая лица детей Эфиопии.
40 Портрет
Моя врачебная практика частично была связана с детьми, которые страдали неизлечимой формой рака. Они ожидали смерти. Это было специальное отделение, где медицинский персонал готовил их к уходу из жизни и лекарствами облегчал страдания. «Не умирать от боли» – таков был девиз программы. Введение наркотиков было ее элементом. Семьи получали индивидуальную и групповую терапевтическую поддержку. Важнее всего была групповая терапия. Присутствующие утешали друг друга, рассказывали о своих детях, пытаясь вместе ослабить боль надвигавшейся утраты. Даже когда смертельная болезнь была скоротечна, безутешное горе становилось угрожающим стрессом для большинства родителей. Неизбежная трагедия влекла за собой еще одну беду: год терапии в ряде случаев стоил очень дорого. В команде были сотрудники, помогавшие семьям больных решить и эту проблему.
Родители и маленькие пациенты просили, чтобы я писала их портреты. Это еще больше сближало меня с детьми. Это были дети с окончательными летальными диагнозами, в преддверии смерти. Почти все умирали в течение трех месяцев. Я спешила, а смерть опережала движения моей руки по холсту. Все матери хотели, чтоб у них остался портрет ребенка на память. А некоторые хотели и сами присутствовать на портрете. А эти маленькие ангелы позировали так, словно собирались жить вечно. Может быть, увидев себя на холсте, они переставали видеть смерть.
Дети привыкли к тому, что у них нет волос. Одевались так, словно каждый день им предстояли концерты и вечера. К ним приезжали известные спортсмены и актеры, выполняли их предсмертные желания. Ребятишкам устраивали и экскурсии, которые до болезни родители не могли им предложить. Целыми днями они обсуждали приятные события, словно хотели сохранить эту радость на всю жизнь. Я не слышала их плача, не видела страха перед болезнью, которая с каждой секундой отнимала у них силы. Я не могу описать реакции детей, которые знают, что приближается конец. Они были набожней, чем другие дети, хотели разговаривать со своими единоверцами. Возможно, болезнь подготовила их к этому. Я скрывала слезы – мне было стыдно, что дети принимают смерть как нормальное явление.
Обритые наголо, поначалу все они казались мне похожими друг на друга. Некоторые носили платки в виде тюрбанов и этим напоминали детей Эфиопии. Они верили в ангелов, у каждого ребенка был свой ангел. Не говорили о смерти, не обнаруживали усиливающейся депрессии. Утешали родителей и нас, тех, кто ухаживал за ними. Выглядели улыбчивыми и счастливыми. Смотрели по телевизору свои любимые программы. Спортсмены и кинозвезды оставляли им на память автографы. Им мал о было нужно для счастья. До самого конца всюду слышался их смех. Улыбка была у них на устах, когда они, получив укол морфия, покидали этот мир. Горько, когда ты, врач, поутру видишь пустую кровать и знаешь, что скоро ее займет еще одно юное живое существо, обреченное на смерть.
Я научилась у них трезво воспринимать болезнь и смерть, не пугаться, ибо и у меня есть свой ангел из детской мечты.
Однажды вечером у меня нарушилось ощущение времени. Еще один ребенок умер, я была эмоционально переутомлена и заснула. Не знаю, сколько я спала. Когда проснулась, было мало света – не то сумерки, не то ранняя заря. Я не понимала, где нахожусь. Начала писать, спеша окончить портрет умершего ребенка, и посмотрела на часы. Десять, но вокруг темно. Меня охватил дотоле неведомый страх. Где солнце, где свет? – спрашивала я в тревоге. Или это конец света, пришла смерть? Всё во мраке! Зазвонил телефон. Мать ребенка благодарила меня, что я облегчила последние дни ее сыну.
– Он умер спокойно. Знаю, что он с Христом, – сказала она тихо. – Верой Бог готовит нас к последнему дню на земле. Простите, что тревожу вас так поздно! Я слышу боль в вашем голосе. Да хранит вас Бог.
– Завтра вечером я принесу вам портрет сына, – ответила я. – Сейчас я как раз над ним работаю и переживаю необычные состояния. Может быть, он нынче вечером меня посетил. Говорят, первые сорок дней дух витает везде, где бывал, среди всех, кого встречал в жизни.
– Я этого не знала, – сказала мать, приглушенно всхлипывая. – Может быть, он и меня посетит?
Я не знала, что происходит с душой в первые сорок дней после смерти, когда мы сильнее всего скорбим. Мне объяснила это игуменья в Эфиопии. После кончины одной монахини она сказала мне: «Души будут нас посещать в течение этих сорока дней до перехода в царство небесное. Надо молиться и каждый день читать несколько псалмов из Священного Писания за наших упокоившихся».
Я пришла в себя, даже посмеялась над тем, что пережила. Но все еще задаюсь вопросом, в чем причина той дезориентации во времени и пространстве, которую я испытала. Буду разговаривать со своими дорогими матушками-игуменьями. Напишу им. Хотя они и так все знают.
Вскоре после этого я у себя дома впала в кошмарное состояние. До сих пор не знаю, было это со мной наяву или во сне. Как будто близость смерти возвратила меня к новой жизни. Как будто смерть невинных детей каким-то непостижимым образом стала моей спутницей и освобождением. Видения, явившиеся мне, голоса, что я слышала, не лишали меня покоя, хотя неизменно пугали. Не из-за того, что я видела, а от сознания того, что это случилось со мной именно тогда, когда я столкнулась со смертью маленького пациента. Разговор с его матерью был реален. И я действительно пришла домой, оказалась дома после кошмарного вихря. Нереально только то, что я вообще не помню, как добралась от больницы до дома. Кто-то или что-то стер из моей головы часть пути. Словно что-то меня унесло в сон, а потом выпустило в будущее – ибо прежде, чем кончилось сомнамбулическое состояние, видение прервал голос отца. Я вернулась в реальность: все предметы в спальне были на месте, даже ваза на столе, из которой утром, перед уходом на работу, я убрала увядшие цветы. Я несколько раз закрыла глаза, все осталось по-прежнему.
Когда я уходила из амбулатории, в приемном отделении мне передали билет на «Аиду» в Чикаго. Взбудораженная, я прочла имена исполнителей. Одна певица была из Африки, из Аддис-Абебы, но она была много старше и исполняла второстепенную роль. Главную партию пела румынка.
Нигде не было ее имени.
– Не теряй надежды, – сказал отец, – следуй своему сну, он многое предвещает. Разузнай, кто в этом году в мире поет Аиду. Мы поедем с тобой.
«Аиду» давали во многих городах мира. Я все думала, как я ее найду, ведь у меня не было точных сведений. Может быть, она поет в какой-то другой опере? Я понимала смысл своих снов. Надо найти в них символы, которые помогут разгадать этот запутанный жизненный ребус.
41 Список смертников
Ежедневное, на каждом дежурстве, встречаться со смертью детей было невыносимо тяжело. Это влияло на меня больше, чем я хотела себе признаться. Но я врач, я нужна этим детям. Они не боятся приветствовать смерть, а ты плачешь, когда они ждут избавления от боли. В Божьих руках они забудут страдания. Облегчи их долю. Скажи, что это нормально: все покидают мир, когда приходит время. Пусть – беспокоясь о нас, заплаканных и печальных, – они не просят у нас разрешения.
Меня одолела усталость. Так я дождалась конца смены. Дома ждала большая корзина белых маргариток, без имени пославшего. Еще там было полное собрание Моцарта – кроме опер. Как он узнал, что я поменяла адрес? Кто принес цветы? И тут же я подумала, что адрес врача найти очень просто. Достаточно заглянуть в Интернет или позвонить в Американскую медицинскую ассоциацию, и легко получишь все сведения.
Почему я не чувствую радости, желания увидеть его и услышать? Может, это не от него? Я ощущала какую-то неловкость, угрозу, разброд в мыслях и растерянность – что-то вроде внутреннего разлада, реального и мистического, какого давно не ощущала. Я шепнула себе, словно боясь сказать это вслух: СЛУШАТЕЛЬ. А потом, снова шепотом, продолжила: Я НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ОТКРЫВАТЬ.
Вдруг, как в трансе, я услышала пение слепых эфиопских детей и голос игуменьи: «Не все, что ты видишь, дитя, обязательно реальность; поэтому ты так хорошо рисуешь и пишешь. Посмотри на святую Параскеву, свою последнюю работу. Она тебя успокоит и даст ответ, когда придет время ответа. Тебе надо отдохнуть. Отправляйся в монастырь, хоть на неделю, ищи, и найдешь ответ, почему ты работаешь врачом. Излечить тело – не менее важно, чем излечить душу, ибо тело есть дом души. Поговори с игуменьей Даницей, она давно ждет этого разговора».
На другой день я отнесла цветы детям и познакомила их с музыкой Моцарта, вселившей и в них, и в меня Божий мир. Мне не нужны цветы без подписи. Классическую музыку питает неколебимая вера в Творца, по крайней мере у лучших композиторов. Композиторы божественных сфер не сомневаются в чудесах и могуществе Господа, ибо он – единственная сила космоса: он все объемлет и все знает. Неиспорченная, не порабощенная детская душа знает ту силу, которой привержена. Взрослые ищут в ней спасения, а дети – любви. Связь с высшим смыслом позволяет творцам достичь успеха в духовной и интеллектуальной работе. Некоторые композиторы – к примеру, Моцарт и Шуман – не говорили об этой мистической связи, однако горячо веровали.
Еще две кровати опустели, но сегодня же они заполнятся. Я видела, как велик список детей, которые ждут, чтоб их приняли – не на лечение, а лишь для того, чтоб они умерли без боли и страданий. Это был список смертников.
С каждым прочитанным именем становилось все тяжелей на душе.
Из приемного покоя сообщили, что мы ожидаем на госпитализацию мальчика и девочку. Ей четыре года, у нее редкая форма рака, одна из самых опасных в детстве опухолей – мегалобластома. Мальчику восемь лет – он умирает от СПИДа. От той же болезни недавно умерла его мать, многолетняя наркоманка, она продолжала принимать наркотики и заниматься проституцией, это был единственный способ добыть деньги на зелье, в котором она себя не ограничивала и во время беременности.
42 Бог дал мне возможность молиться
И вот я в Чикаго, американском городе, где я всегда любила бывать, но теперь я в нем живу, преподаю в местном университете. И больше не сталкиваюсь повседневно со смертью.
Я послушалась игуменью. Провела много часов в посте и молитве, в монастыре соседнего штата. Мне нужен был покой, ежедневные беседы с игуменьей Даницей, возможность слиться с песнопениями монахинь.
Те края были богаты дубравами и виноградниками, разбросанными по окрестным холмам. Во время католического Рождества, когда у детей школьные каникулы, любители лыж могли воспользоваться хорошо подготовленными лыжными трассами. Даже те, кто не очень хорошо катался на лыжах, могли наслаждаться маршрутами на небольшой высоте; тут от лыжника не требовалось быть мастером спорта, как на лыжне в Колорадо или близ озера Тахо в Калифорнии. В окрестных гостиницах, построенных из дерева и камня, у камина разговаривали о прошедшем дне и достигнутых успехах. Взрослые пили горячий напиток из яблочного сока с вином и корицей, который здесь готовят в дни праздников по старинному шотландскому рецепту. Некоторые любят горячее вино похожего вкуса, но с двумя-тремя зернышками перца – оно хорошо согревает, особенно когда зимы суровы, как в этой части срединной территории Америки. А дети наслаждались горячим шоколадом и какао.
В другое время года эти места славились своими певчими птицами. Особенно много их было в окрестностях монастыря. Птиц явно привлекали пение, колокольный звон, но и молитвенная тишина, окружавшая монастырь.
Благоухание ладана, привезенного из Иерусалима, придавало особую торжественность нашим собраниям. Изнуренные и грешные, мы вели сокровенную беседу с иконами, обращались к Иисусу Христу. Больше всего я молилась ему – ощущая лучащуюся теплоту, как будто он сходил с иконостаса и купола, где были отчетливо видны ласковый и строгий лик и благословляющая рука.
Все восхищало меня, как и остальных посетителей. Здесь были и мужчины, и женщины. Они прибыли в этот женский монастырь из всех штатов Америки. На этом континенте монастырей не так уж много, между тем здесь они, быть может, нужнее всего. Единство всего христианства зиждется на вере в крест, на котором Иисус страдал ради нашего и своего воскресения. Тогда его чудесные деяния вызывали страх у сильных мира сего, а теперь у них вызывает панику даже упоминание его имени. Гордая и самовлюбленная власть инстинктивно чувствовала, что он не просто смертный, одаренный и мудрый человек, а чудотворный целитель.
Сегодняшняя отпавшая от Христа власть убеждена, что он смертен, но не уверена, что он для нее безопасен. Они верят в деньги и престиж, но все же лишаются покоя, когда звучит имя Иисуса Христа.
Их пугает сама мысль о потере власти, сознание, что кто-то сильнее, могущественнее, деятельней, чем они, – но не благодаря силе оружия и денег, количеству клинков и атомных бомб, а исключительно благодаря чудесам, совершаемым верой в Бога Отца. Их пугала Христова проповедь, сила веры и доступность примера. Его добронравие передавалось от человека к человеку, без курьеров, гонцов и компьютеров. Они высмеивали его тогда, высмеивают и теперь, и называют презрительными именами. Обрекли его на смерть, а смерть еще больше укрепила веру. Смерть не уничтожает того, что вечно, все подлежит власти Всемогущего, Христа и тех, кого они избирают посредниками между земным и небесным.
Бог обогатил меня, дав мне возможность молиться и святой Параскеве Пятнице, нашей славе, покровительнице моей семьи. Я чувствую ее целительное присутствие. Она продолжает творить чудеса и теперь, когда она не на земле, а в раю Божьем. Молюсь тебе, святая Параскева, не только в нужде, когда мне нужно указание пути, не только в скорби и кошмаре жизни, но и когда я счастлива. Люблю писать иконы с твоим ликом и крестом в твоих руках. Все эти лики различны, ибо в каждом я прозреваю твои чудеса и твою доброту.
Я чувствую, что скоро найду Андреяну. Это будет чудо Божье и чудо святой Параскевы – молюсь им, чтобы они помогли мне справиться, выполнить желание ее родителей.
Сегодня начнется работа над мозаикой с твоим ликом. Она будет при входе в мой новый дом. Я украшу тебя золотыми райскими птицами, красками эфиопских тканей. И одену тебя не в черное, а в светлый плащ зари, в цвет рождения солнца. В ущелье монастыря в Эфиопии этот цвет имеет нежный, пастельный, розоватый оттенок. Такого цвета, наверно, лилии в Божьих кущах. На заднем плане, как тень, ветвь эвкалипта будет целовать твой крест, который проступит сквозь воздух, пронизанный непостижимыми солнечными энергиями.
43 Аида
– Какое счастье, – громко сказала я, вскрыв письмо. Я долго держала в руках большой конверт с итальянскими марками, нюхала и гладила его. Я думала, она забыла о нашей встрече и разговоре, хотя казалась человеком глубоким и постоянным. «Она все помнит», – подумала я радостно. Магдалина сообщала, что приедет в Чикаго с подругой, что хочет меня видеть. Посылала свои статьи о выставке и о нашей встрече.
Сначала я удивилась, что они выбрали зиму, чтобы приехать в город, продуваемый всеми ветрами, где зима может быть суровой, хоть и красивой. Приезжают перед Рождеством. Дезидерата привезет своих детей, ее муж будет с ними. Она останется надолго, может быть, до самой весны. Меня обрадовало это известие, я решила взять краткосрочный отпуск, чтобы принять их и побыть вместе с ними. О причинах посещения я не размышляла.
Я сразу сообщила обо всем родителям, которые после моего переезда тоже переселились в Чикаго. Они были счастливы, что у нас будут гости, особенно их радовало, что я впервые хотела, чтоб меня навестила подруга.
Они не сообщили о дне приезда, но он настал скорее, чем я ожидала. Я получила букет белых маргариток с базиликом и билеты в оперу для меня и моих родителей. Гости поселились в центре Чикаго, в отеле «Четыре времени года», с видом на замерзшее светло-серебристое Чикагское озеро. Была суровая зима со знаменитым чикагским ветром. Снег вечерами поблескивал в свете лампочек, которые по случаю зимних праздников украшали деревья.
В чикагской опере всегда гастролируют самые известные в мире оперные певцы. Давали «Аиду». Марго встретила меня перед театром и пригласила зайти к Дезидерате. Только теперь я поняла, что Аиду поет она. Комната была полна цветов. Рядом с ней был супруг. Во всех его движениях сквозили нежность и любовь.
Я не могла вымолвить ни слова – настолько меня потрясло ее сходство с отцом. У нее был приятный мелодичный голос. Платье в египетском стиле украшал большой крест – похожий на тот, что я написала на портрете Дельты, но не подходящий к ее роли в «Аиде».
– Я вижу, вы смотрите на меня с удивлением, почти испуганно, словно мы уже встречались прежде. Может быть, вы слушали какую-нибудь из моих опер или я вам кого-нибудь напоминаю?
– Мне знаком ваш крест. Поговорим об этом после представления. Я была бы рада, если бы вы все смогли приехать ко мне.
– Марго столько рассказывала мне о вас и о вашей выставке, я читала статьи в итальянских газетах, – сказала она по-английски.
А потом повернулась к мужу и попросила по-итальянски, чтоб он осторожно снял с нее крест и хранил его.
– Обычно я не расстаюсь с этим крестом, – обратилась она к нам, словно хотела извиниться, – но у этого платья большое декольте, а дело, как вы знаете, происходит в Египте.
Марго заметила мое волнение. Когда мы вошли в ложу, она ласково посмотрела на меня и спросила:
– Может быть, вы думаете о том же, о чем и я подумала, когда увидела портрет беременной эфиопской красавицы с таким же крестом на груди? Я хотела купить портрет, а вы сказали, что он не продается, потому что предназначен человеку, которого вы ищете. Теперь все стало яснее, но при этом и таинственнее.
Декорации сцены, костюмы, хор и голоса певцов были на высоте той положительной оценки, которую спектакль получил во всех газетах. Особенно хвалили оперную приму, занятую в роли Аиды.
«Печальные арии были пропеты сердечно, тепло, с тоской и страстью, а не только с блестящей техникой, – писал один из ведущих оперных критиков. – Что-то происходит в ее карьере или в жизни, ведь в первый же вечер она внесла нечто новое и непреодолимо прекрасное и в свою партию, и в движения тела. Такое до сих пор ни одной Аиде не удавалось», – заключил он.
44 Женщина с лицом девочки
Была полночь, когда мы приехали ко мне. Камин излучал тепло, а тихое пение не мешало разговору.
– Вы любите белые цветы, – заметила Дезидерата, – и церковное пение!
– Да, оно вселяет в меня спокойствие и составляет мне компанию, когда я одна.
– Я вижу, у вас столько икон на стенах. И портреты здесь, и дивные пейзажи.
Она встала. Портрет Дельты был первой картиной, на которую она обратила внимание. Мы все умолкли. Почувствовали, что ей надо побыть одной в тишине. Движения ее глаз, головы и всего тела ясно выразили внутреннюю тревогу, тоску, трепет… Вдруг она зарыдала, бросилась мне на шею.
– Изабелла, это моя мама! – сказала она сквозь слезы. – Наконец-то мы встретились. – Сквозь печаль улыбка заиграла на ее лице.
Никто не был готов к тому, чтоб комментировать этот внезапный, немного экстравагантный порыв. Она не отрывалась от картины, даже попросила разрешения потрогать ее. Мы как ни в чем не бывало продолжили разговор, хотя говорили шепотом, сами о том не подозревая. Она и дальше стояла возле портрета и словно что-то ему шептала. Это было мне не в новинку, и раньше случалось, что мои картины вызывали странные реакции. Она протянула руку, словно желая снять портрет со стены, ее рука на мгновение застыла в воздухе, все следили за ее движением.
– Мама, – ласково, с дрожью в голосе сказала она по-итальянски, – я плод чрева твоего, – и поцеловала портрет.
Всю ночь мы провели, рассказывая друг другу о своей жизни. Она в деталях вспоминала свою, а я – свое хождение по мукам, брачное фиаско и открытие обмана. Мы возвращались к одним и тем же событиям, словно у обеих была та же заветная потребность – не исказить истину.
Я передала ей оба дневника и письмо от игуменьи Иеремии, в котором она приглашала ее в Эфиопию. Для меня это было такое облегчение, что, хоть я и была взволнована, мне казалось, что я летаю. Впервые я поняла, что такое выполненный нравственный урок: у тебя что-то взято, но ты ничего не теряешь.
– Не могу передать вам, Изабелла, что со мной происходит. У меня нет слов. Мне не хватает дыхания. Я одновременно и счастлива, и опечалена. Я воплотилась. Кто нами управляет и что мы сами привнесли в свою судьбу?.. Ничего не знаю. Спасибо вам за то, что вы такая, как вы есть!
…У меня была чудесная семья, все меня оберегали. Приемные родители делали все, чтоб я была счастлива. Поэтому я не могла спрашивать их о своей матери. Когда я сказала, что у каждого ребенка есть мать, которая его родила, моя мать-хранительница заплакала и сказала:
«Мать оставила тебе в пеленках этот крест. Она попросила, чтобы сестра милосердия написала на клочке бумаги: Нас воссоединит Бог и православие. Не знаю, куда делась та записка. Я не придала ей значения – ведь не она ее писала. Мы любим тебя, и ты всегда нам желанна, потому мы и дали тебе имя Дезидерата – Желанная».
Я сняла портрет со стены.
– Родители назвали тебя по имени отца – Андреяна. Этот портрет принадлежит тебе. Он сделан по фотографии, которую твой отец все эти годы держал на рабочем столе. Твою мать звали Дельта, что по-эфиопски значит Желанная, а ее монашеское имя было Благодата. Отец оставил тебе большое наследство. Все попытки адвокатов и детективов были напрасны. Они не смогли тебя найти. Тайну открыл крест. И материнская любовь. У Дельты были причины, чтобы оставить эти слова: «Нас воссоединит Бог и православие».
– Я окончу турне, и мы все вместе поедем в Эфиопию, – весело сказала она. – Изабелла, я не смогу посетить монастырь и их могилу без вас.
Когда она говорила это, она была похожа на счастливую девочку.
45 Крещение
Хотя я несколько раз ездила в монастырь в Эфиопии, ни одно путешествие не было таким трудным и в то же время таким цельным, как поездка вместе с Андреяной и Марго. Я не думала о себе и своих реакциях. Я чувствовала, что нужна Андреяне, хотя, как защитница ее интересов, должна контролировать себя. Зная силу слов игуменьи Иеремии, ее любовь и заботу, подаренную Дельте, я не беспокоилась о том, как эта мудрая монахиня примет Андреяну. Она сумеет своим тихим, смиренным голосом рассказать ей все, что знает о ее родителях, гораздо лучше и полнее, чем я. Я оказалась права.
Все время нашего пребывания в монастыре мать-игуменья старалась, чтоб мысли у нас не распылялись: она сама была с нами, посылала нас помогать на кухне, петь на клиросе, или – видя нашу любовь к детям – заниматься с детьми, которые охотно заходили в святыню.
Люди из окрестных сел приходили каждый день, приносили подарки и пищу. Андреяна была для них не просто дочерью монахини, она была, как ее мать, родом из Эфиопии, а такого красивого голоса, как у нее, они прежде никогда не слышали. Они видели в ней Божий дар. Дети трогали ее за руки и смотрели на нее как на ангела, посланного святым Георгием. То и дело какая-нибудь девочка целовала ей волосы и касалась ее креста. Они узнали в нем старинный золотой крест своих предков и целовали его, как если бы он был на алтаре.
Меня поражало Андреянино спокойствие. Первые несколько дней прошли без вопросов и разговоров о ее родителях. Говорила она мало. Проводила долгие часы в молитвах и беседах с матерью Иеремией. На могилу ходила редко. Я понимала, что к этому нужно долго готовиться и молиться.
Однажды ночью полная луна осветила все ущелье. Ветерок качал ветви эвкалиптов, колокола еще звонили, но уже тише. Слышен был ее голос – она пела на могиле родителей. Она была одна. Это ее отпевание, а потом молебен длились всю ночь, до зари. Когда луна стала серо-белым облачком, а солнце пронизало ущелье теплыми лучами, словно в воздухе разлилось золото, она пошла к игуменье и попросила благословения, чтобы я пришла вместе с ней.
– Хочу креститься по православному обряду, чтобы быть одной веры со своей матерью. Я не крещена – приемные родители решили, что я сама определю свое вероисповедание, когда стану зрелым, взрослым человеком. Я хотела бы, если возможно, чтобы крещение состоялось у гроба моих истинных родителей.
– Бог повсюду, дитя мое, – ответила мать Иеремия. – Иисус крестился в реке, а ты можешь на краю ущелья, с колокольным звоном и ветерком, который в это время года прилетает к нам с Желтого Нила. Хочешь ли ты избрать покровительницей святую Параскеву и принять мирское имя своей матери – Дельта?
– Откуда вы знаете, что именно этого я хочу? – изумленно воскликнула Андреяна.
– Дитя, не спрашивай меня, Христос знает. В моих молитвах, а я непрестанно молилась за твою радость и здоровье добрых людей, удочеривших тебя, мне казалось, что у меня недостаточно сил. Я молила Господа Иисуса Христа, чтобы он рассеял мои сомнения и духовно укрепил меня, дабы я тебя хранила своей молитвой. И так было до той самой заутрени, когда я увидела за клиросом твою мать, монахиню Благодату. Пока я опомнилась, пришла в себя от встречи с ней, за несколько месяцев до того преставившейся во Господе, я осталась в церкви одна. С тех пор я молилась за тебя не только от своего имени, произнося слова молитвы во множественном числе. Упоминая тебя в молитве, я больше никогда не говорила «молю тебя, Господи», но всегда – «молим тебя, Господи, за рабу твою Андреяну»… Твоя мать явилась мне еще однажды, указав на икону святой Параскевы Пятницы, которую написала Изабелла. Это была покровительница твоего отца. Она же – покровительница Изабеллы в девичестве.
Многие здесь тебя любят и захотят присутствовать на крещении. Крестной матерью будет местная жительница, заботившаяся о твоей матери, или твоя подруга Марго. Она уже спрашивала меня, можно ли ей перейти в православие. К своему имени Магдалина она хотела бы добавить имя Вера.
46 Чудеса, чудеса
Я принимаю это: чем я более здорова, спокойна и сильна, тем меньше мне нужен ежедневный собеседник. Привыкаю к одиночеству. Да и кому вообще интересны мои запутанные излияния? А молитва во мне всегда – даже когда я не произношу слов. То, что не высказано, принадлежит только Всемогущему. Он и без слов слышит и знает все мои мысли.
Он – в открытиях Ньютона и Теслы, в картинах Модильяни и де Кирико, в философии Декарта и Ясперса, в музыке великих композиторов. Они утверждают, что ощутили в душе неземную силу, порыв к созданию прекрасного, нечто возвышенное, – творили в ощущении мистической миссии, связующей душу с надмирной творческой мощью, которая их вдохновляла. Этот незримый, неосязаемый закон связи между художником и непостижимым для разума Творцом, обладающим абсолютным могуществом созидания красоты, ведет к пробуждению и обострению всех чувств, интеллекта и эмоций и проявляется в великих произведениях всех ветвей искусства. Мы видим проявления этого закона у Данте и Рафаэля, Бетховена и Макса Бруха, у Рихарда Вагнера и Иоганнеса Брамса, как и у многих других. Все они свидетельствуют о трепете божественной энергии в бескрайней вселенной и о том, что человек способен обрести себя в ней и в этом единении подтвердить и оправдать свое знание. Эта связь особенно заметна в религиозном искусстве, поэзии, иконописи, философии.
Чем интенсивней мы творим, тем крепче связь с божественным началом, тем более совершенные произведения мы в силах создать своим духовным и интеллектуальным трудом. В мистической, метафизической связи одни ищут полного покоя, поста, уединения, другие – духа соборности, общения. В сравнении с обыденной действительностью духовное искусство почти нереально. Это некий вид мистического транса, и потому часто кажется, что в нем осознаваемая часть психики отделяется от реальности и погружается в подсознание, что в некоторых случаях напоминает клиническую картину психоза.
Я никогда не причисляла себя к той группе художников, чьи труды надолго останутся на земле, но и я пережила мистическую, духовную, метафизическую метаморфозу. Это произошло со мной во время глубокого эмоционального кризиса: я общалась со всеми, кого потеряла, с теми, кто умер, и с теми, кого я не знала на своей родине. Похоже, я оказалась ближе к миру моих богомольных предков, среди которых были и монахи, чем к реальному миру, вызвавшему депрессивный шок. Разумные, скромные игуменьи всегда были здесь, рядом со мной, чтобы хранить меня, молиться за меня и давать мне советы. Как в трансе, я парила между лучезарным светом и цветной темнотой, которая втягивала меня, будто водоворот. Я видела, как молятся монахини, хотя не слышала их голосов. Они открывали рты, но не могли сделать так, чтоб я их слышала. Они напрягались, по их лицам тек пот, они за меня боролись. Первый звук их песнопений, донесшийся до меня, был знаком моего выздоровления.
Они чувствовали, что я переживаю душевный кризис. Их молитва была реальна, хотя я все это видела во сне.
Работая над большой мозаикой с ликом Иисуса Христа при входе в свой новый дом, я очень устала. Спаситель на ней изображен врачующим больных, он лечит чудесами, исцеляет страждущих – поэтому там очень много лиц. Это была объемная, тяжелая и сложная работа, требовавшая точного соблюдения пропорций. Меня вдохновляла картина Паоло Веронезе «Брак в Кане Галилейской», где он сумел изобразить больше сотни лиц. У меня это была первая большая композиция. Лица меня преследовали, и ничто не предвещало удачного завершения работы, пока во сне передо мной не предстал один лик. Я быстро завершила композицию, но этого лика не встречала ни на одной иконе и по сей день. Думаю, это было лицо какого-то далекого праведного предка, внявшего моей молитве.
Работая над иконой святой Параскевы, я слышала слова Христа из Евангелия от Иоанна о том, что его чудеса – лишь великий пример, но не исключение.
Чудеса повсюду вокруг нас и в нас, мы только забыли, как их распознать.
47 Светлый ангел
Никола мягко коснулся моей щеки и что-то шепнул. Как легкий ветерок, он прошелся рукой по волосам и остановился на моем плече. Я чувствовала, что он вот-вот коснется пальцами моей кожи, но он вдруг отвел руку.
Это меня разбудило, и я почти выскочила из кровати. Мне никогда не снилось ничего подобного, и я решила сохранить это сновидение в тайне, хотя оно было мне приятно. Я была уверена, что в моей неосознанной реакции была виновата книга, читать которую я закончила накануне вечером.
Читая о чудесных переживаниях верующих людей в духовном трансе, я заметила его сходство с трансом художников. Выйдя из этого состояния, они не вполне сознают, что пережили процесс преображения, но чувствуют в себе перемены – словно посвящают себя новой роли. Такое чудо они могли пережить лишь в трансе, благодаря способности, данной от Бога.
Только Иисус Христос не творил чудеса в трансе, а осознавал этот процесс, ибо был сыном Божьим.
Психика творящего субъекта связана с созидательной силой Всемогущего. Она проходит через стадию транса: художники испытывают зрительные и слуховые галлюцинации – особенно те, кто при работе над произведением и подготовке к ней обращается к Творцу с верой и молитвой. По завершении сеанса и творческой работы духовная связь угасает и покидает художника. Иногда, если стадии транса длятся дольше или возникают чаще, они могут вызвать тревогу и нарастающий страх перед тем, что происходило, что стало второй реальностью, хотя и пережитой в забытьи.
Эта тревога есть подлинная реальность, однако покой возвращается. Трансцендентальная связь становится частью завершенного произведения. Обычно именно эти работы признают исключительно ценными. Потом наступает время художественной бесплодности и опустошенности художника. После транса, когда кончается творческая коммуникация, художника охватывает чувство утраты, неудобства, тревоги, страха. Пустоту заполняют отчаяние, тоска и одиночество. Художники грешат тем, что в ситуации психической опустошенности погрязают в страхе, долго собирают энергию, идеи и не скоро вновь обретают эмоциональное равновесие. Лучший выход из пустоты – через молитвенное обновление, к духовному согласию. Невозможность выйти из духовной пустоты у любого человека, в том числе у художника, кончается нигилизмом, неврозом, психозом, безумием. Для творца или кого угодно другого без духовного обновления нет возвращения к знанию и здравому взгляду на мир. Искусство основано на метафизике: ничто не может заменить единение художника-творца и энергии ритма, высвобождаемого этой связью. Стремясь вновь услышать шепот, связующий человека и Создателя, дарующего творческую силу, художник молитвенно обращается к Богу.
Работая над евангельскими мотивами в часовне, я, возможно, часто пребывала в таком трансе. Во время кратких перерывов отмывая кисти и руки, я молилась. В долгие часы медитации и молитвы со мной были темно-синие очи ангела. Тогда я мгновенно вспоминала Николу, ощущала его присутствие. Эти глаза и теперь со мной, они приносят музыку и покой.
Сопровождают меня и видения Дельты-мученицы, воспоминания о попытках Андре скрыть угрызения совести, лица моих маленьких пациентов и картины душевного упадка их родителей. Все это втягивает меня в водоворот кошмарных видений. Не в этом ли причина того, что мы иногда ищем ответов и решений при посредстве медиумов, в области оккультного? Такой поиск ответов, любви и счастья опасен. Блуждая по неведомым тропам, если они не связаны с Богом, мы еще больше удаляемся от самих себя. Может быть, эти блуждания дают временное успокоение, но обычно они завершаются бурей усилившегося страха, новых безответных вопросов, наказаний, которых мы не только ждем, но и жаждем. Эта война идет внутри нас, она мучает нас и играет с нами, как ребенок с бумажным самолетиком. Мы должны контролировать свои реакции: когда сделанный нами змей летит по ветру, следует сознавать, что мы хотя бы отчасти управляем им с помощью тонкой веревки.
В смятении мыслей и чувств единственный ответ приходит через веру. Надо поднять голову к небу и непрестанно молиться, не слушая, как тикают часы, пока покой не вернется и не восстановится необходимое общение с Христом и святыми, которое было прервано или ослаблено. В душевной слабости мы часто теряем связь с верой и космической симфонией. Только через любовь Господа и связь с ним приходит спокойствие и ясность понимания пути.
Явления психики обусловлены мистическими, а не личными свойствами. Это подтверждает интересная книга Томсона Й. Хадсона «Законы психических феноменов». Люди, обладающие особыми свойствами, отмечены божественным даром. Они проявляют свою необычность в трансе, в бессознательном состоянии. Они даже не понимают обнаруженной ими силы, не могут ею воспользоваться осознанно. Красноречив случай слепого Тома, наделенного необычным даром: он мог безошибочно повторить сложнейший этюд Шопена, услышанный лишь однажды, и не осознавал этого в момент игры. А гениальный мальчик Зера Кольбурн решал сложнейшие математические задачи только в трансе, ибо и его необычный дар не есть обыденное, данное от природы свойство.
Творческий транс, к которому способны иные из нас, подтвержден Божьей волей, он естественно проявляется только в надлежащем пространстве – ему нет места среди хвастливых шарлатанов и медиумов.
Монастыри, эти священные очаги духа, постоянно напоминают нам, что действительно важно и в чем состоит наша роль на земле. На этой бурной, нестабильной планете каждую секунду кого-то убивают, кто-то сам себя убивает или умирает от СПИДа, других болезней, голода, от выпавших на его долю несчастий, ведущих к разрушению души и тела. Наводнения, торнадо, землетрясения, войны – следствие искаженного понимания небесных и земных законов. Звуки колокола ежедневно напоминают нам о бренности всего земного – и прекрасного, и отвратительного. Мы молимся, смиряемся и находим в себе покой, вслушиваясь в ход Божьих часов. Молимся не только за себя, но и за все грешное человечество, ибо все мы утратили свое богоподобное лицо.
Я уверена, что не моя способность, а Божья доброта связует меня с темно-синими глазами Николы – с его детской душой, которая веровала в Бога-Христа. Он, никогда не делавший зла, послан мне в заступники. Он – светлый ангел, чьи глаза провожают меня с любовью.
48 Возле Желтого Нила
Не проходит и дня, чтоб я не размышляла о твоей встрече с Изабеллой, о том, как тебе открылось прошлое, о твоем пребывании в эфиопском монастыре. Это посещение сблизило нас еще больше, и думаю, что мы все три с этим опытом стали более зрелыми. По крайней мере, я чувствую в себе перемену. Ты понимала, что я должна раньше вернуться к работе и детям, а Изабелла – к своим профессиональным обязанностям и подготовке новой выставки. Ее бескорыстие и благородство чаруют: она заботится больше о тебе, о том, как все это повлияет на твою жизнь и работу, чем о собственных чувствах, а ведь они очень сложны.
Все произошедшее – неслучайно. Судьба не могла долго оставаться сокрытой, она ведь не горшок с золотом, тайно закопанный кем-то.
Эфиопский православный крест твоих предков хранил истину и открыл твое происхождение лишь тогда, когда ты была готова это принять и разумом, и чувством. Думаю, вот причина, что ты не расставалась с ним, предчувствуя, что в нем – ключ к твоему происхождению. Меня радует и счастье твоей семьи, которая в смирении оберегает тебя.
Бывают дни, когда я спрашиваю себя, не приснилось ли мне все это: знакомство и дружба с Изабеллой, открывшаяся тайна жизни твоих родителей, поездка в Эфиопию, жизнь в монастыре. Не странно ли, что мир утратил склонность к дружбе? Благословляешь ли ты, как и я, тот день, когда все мы встретились? Я стала лучше писать, а ты поешь еще лучше, чем прежде, и неудивительно, что все газеты пишут о твоих успехах. Лично я думаю, что «Аида» Верди в Аддис-Абебе на фоне прежних постановок этой оперы – самый лучший спектакль, а ты – его украшение.
Милая моя Дельта – так я буду тебя отныне называть, – ты осталась в монастыре еще на несколько месяцев, и заметно, как помогли тебе разговоры с игуменьей.
Сегодня я получила от Изабеллы корзину белых маргариток и икону святой Параскевы Пятницы. Таких красок я еще не видела. В руке у нее, кроме креста, еще и четки, а в другой – красивый цветок из Эфиопии – белая лилия, такая реальная, что я ощутила в воздухе ее благоухание.
Помнишь, милая Дельта, как мы сажали лилии – не только возле монастыря, но и на пути к нему и во всей округе. Я впервые видела, как ты касаешься земли своими нежными, ухоженными, белыми, как снег, руками. На голове у тебя был пестрый платок в виде тюрбана, платье было сшито из мягкой пестрой ткани. Женщины и дети сшили для тебя это платье. Ты была в нем краше, чем в длинных нарядных одеяниях твоих оперных персонажей. Я не видела Изабеллу более счастливой, чем когда она писала твой портрет, а ты пела собравшимся детям песни, которым они тебя научили.
После того как тебя крестили в эфиопском православном монастыре, произошло чудо. Здесь удивительные церковные песнопения. Монахини обнаружили в тебе новый талант. Я никогда раньше не знала, что ты сочиняешь музыку. Игуменья Иеремия приняла тебя, как приняла когда-то твою мать. Она поощряет в тебе любовь к сочинению и пению церковной музыки.
Не знаю, известны ли тебе некоторые детали ее мирской жизни. Она ведь пела в миланском «Ла Скала», как теперь поешь ты. Твой голос и присутствие словно привносят частицу ее родины в суровую красоту Африки. А вера здесь крепче, нежели в городах, где церкви залиты светом, где полно туристов, но мало истинной веры и воли к молитве. С тобой она говорила больше всего, посвятила тебе много времени. Она постриглась в монахини не потому, что была несчастна или бедна, как бывает чаще всего. Напротив, ее семья была богата, а она удалилась от жизни в расцвете славы. Ощутила пустоту и услышала призыв Господа.
Она увидела в музее картину Веронезе «Шествие на Голгофу», где художник изобразил себя подле Христа, и, пережив религиозный экстаз, стала частью этой процессии. Заговорила на языке, которого никогда не слышала, на языке тех мест, и слилась с толпой, где были две группы людей: одна – те, кто был верен Христу, и другая – те, кто требовал смерти обманщика, объявившего себя Сыном Божьим. Она плакала и хотела принять на себя крестную ношу. Но услышала голос Христа:
«Не плачь обо мне из-за тяжести креста, который я несу, страдание грешника тяжелее. Молись о том, чтобы твой жизненный путь и ноша были легче, найди тихое, отдаленное место на краю ущелья, место, где ты сможешь это пережить и помогать людям. Твоя судьба – возле Желтого Нила».
Тогда она еще не знала, что есть на свете Желтый Нил. Бог укажет мне путь, убежденно сказала она себе, ибо знала только о том, что существует Голубой Нил.
В газетах писали, что она пропала. Пластинки с оперными ариями в ее исполнении расходились неслыханными тиражами. Никто не мог предположить, что она ушла в монастырь. И так же, как Изабелла открыла православную художественную школу, ты, моя дорогая Дельта, сумела своими уроками открыть эфиопской молодежи новые источники знания о музыке, особенно об операх и кантатах. В тебе на деле воплотилось чудо. По неведомым мне причинам в тебе сосредоточились мистические озарения, и ты раскрылась как композитор церковной музыки. В ней в каждом инструменте звучат колокола. После того как я стала писать об этом монастыре, о том, как поют слепые дети, как отмечают здесь праздники, после телевизионных передач, боюсь, как бы сюда не нагрянули толпы туристов. Не знаю, вдруг я создала проблему, подстегнув их любопытство, ведь в нынешней кочевой цивилизации туристы – это настоящая напасть.
Статьи о монастыре, те, что я написала и все еще пишу, пользуются большой популярностью. Редактор сказал мне, что тираж иллюстрированного журнала, где я их публикую, стал самым большим за всю его долгую историю. Читатели спрашивают, не материалы ли это к роману. Этого никто предвидеть не может, единственное, в чем я твердо уверена, так это в том, что никогда больше не переживу такого чувства всеобщего преображения во мне и вокруг.
Теперь у меня два имени: Марго-Вера. А ты, дорогая подруга, переменила имя и стала Дельтой, что тоже значит Желанная. К этому добавилась и Андреяна, как тебя назвали по отцу. В тебе – и отец, и мать. Они тебя хранят.
Теперь у всех нас трех одна покровительница – святая Параскева. В будущем году мы прославим ее вместе с Изабеллой в том укромном сербском монастыре, где наша подруга пережила душевное исцеление. Я напишу об этом, не упоминая подлинных имен. Предоставлю читателям журнала завершить нашу историю, ибо думаю, что не все тайны должны быть раскрыты.
49 Святая Параскева
Милая Вера, как красиво звучит имя, данное тебе при переходе в православие. Я внимательно слушаю тебя и так же, как ты, размышляю о событиях последнего года. У меня больше вопросов, чем ответов. Но теперь все мы можем быть больше довольны собой, не только Изабелла и я. Ты тоже пишешь теперь совсем иначе, гораздо глубже, новые мысли облагородили твою душу и интеллект.
Все мы отчасти одиноки, но велика разница между одиночеством и поиском уединения, которое бывает полезно. Уединение необходимо нам в творчестве, в духовном, интеллектуальном и религиозном росте и развитии, оно имеет совершенно иной смысл. С ним мы творим, оно позволяет достигнуть такого молитвенного состояния, когда открывается духовное зрение. Думаю, такая атмосфера возможна лишь в монастыре – благодаря молитве.
Я тоже получила сегодня большую корзину белых маргариток и писанную маслом икону святой Параскевы Пятницы. И именно в этот день пришло твое письмо. Икона сорок дней была в церкви Святой Параскевы на Калемегдане, в Белграде. Я множество раз выступала у них в опере, но яснее всего помню эту церковку в лучшем парке на свете, а я бывала во многих. Мы с детьми часто прилетаем из Рима в Белград, чтобы посетить эту маленькую церковь, набираем святой воды из источника и отдыхаем в городе, который рушили и бомбили больше, чем любой другой город на свете.
Нам нравятся рестораны над Дунаем, с музыкой и вкуснейшей рыбной солянкой. Я не упускаю случая посмотреть вместе с детьми на закат солнца. Вокруг лодки, катера и гирлянды разноцветных лампочек – это напоминает Рождество в Чикаго. Незащищенный Белград, город с душой, я узнала благодаря Изабелле. Я полюбила этот город, где мне случается петь в опере. Теперь я пою для нее – для той, кому стольким обязана. Это ее город, она всегда в него возвращается, ведь здесь родились ее предки и Никола, которого она потеряла в детстве.
Дорогая моя Вера, мне часто снится эфиопский монастырь, я слышу во сне колокола. Я просыпаюсь – во сне – и вижу родителей, но они мне чужие. Только деревья меняются. Шум их листьев нереален, как голос, который никак не можешь услышать. Я там, когда я здесь, а здесь, когда я там. Поэтому я тебе доверяюсь. Я боюсь ослепнуть или оглохнуть, если однажды глаза Изабеллы сомкнутся раньше, чем мои. Не знаю, сумела ли я, хотя бы через пение, сказать ей, как я ее люблю.
У Изабеллы в комнате часто стоят белые маргаритки. Должно быть, эти цветы имеют для нее особое значение. Не знаю почему. Похоже, ей необходимо любоваться этими свежими цветами, чтобы отогнать воспоминания: ведь все происходит в настоящем, в это мгновение, а не в прошлом. Всё в тех событиях, которые с нами случились, так прозрачно, тонко и неуловимо. Иногда я боюсь, что и моя обретенная, новая и старая, биография поистине нереальна, вроде Изабеллиного таинственного собеседника и слушателя. Меня радует ее искренность, ее потребность всем этим делиться с нами, но, по-моему, она и сама не верит, что ведет эти разговоры с кем-то, кто действительно существует. Мне даже немного хочется, чтоб его не было, чтоб это открытие не состоялось.
Может быть, потребность в слушателе – ее самозащита? Я пытаюсь разгадать секрет ее таинственного спутника. Вижу, что и ты думаешь обо всем этом, ищешь ответов, которых, в сущности, нет. Ты спрашиваешь меня, как будто я могу сказать что-то новое, а ведь я уже высказала свое суждение. Слушатель Изабеллы и меня взволновал, он вызывает дрожь – не тем, что он так таинствен, а тем, что тревожит ее. Может быть, самое интересное – как раз то, что мы никогда его не обнаружим, а будем лишь в мечтах вызывать его образ. Благодаря этому он никогда не исчезнет.
50 Голос божественной красоты
Дорогая подруга Марго-Вера, таинственные события интересней всего. Они неясны, непознаваемы, непредсказуемы, и оттого в них есть особая притягательность. Пока остановимся на этом. Быть может, он вернется в момент создания великих произведений. Я уверена, что Изабелла ощущает его присутствие, даже когда его не видит. Важно то, что он положительно влияет на ее творчество, которое все чаще относят к высшим достижениям духовного искусства двадцать первого века.
Изабелла моложе, чем я, а понимает меня лучше, чем мать, удочерившая меня, даже лучше, чем ты, дорогая подруга, которую я знаю много лет. Она богата духовно и интеллектуально. Ее рассказы всегда интересны и поучительны. Я чувствую, что Бог неотлучно рядом с ней. Где бы она ни была и что бы ни делала, она слышит ветер, который разносит звон колоколов. Теперь и я это чувствую.
Это можно назвать и воображением, фантазией, даже трансом, ибо так мы переходим в мир иной, мир спокойствия и веры, где ощущаем вечностъ только через Священное. Все прочее преходяще: наша слава, аплодисменты, одежды и красиво написанные статьи в газетах.
Мои дети очень любят ее – как говорят американцы, «эти люди за нее». А кто был бы не «за нее»? Ведь и твои читатели ее любят, просят ее электронный адрес, хотят переписываться с художницей (не знаю, почему ты скрыла, что Изабелла врач), которая посещает малоизвестные христианские святыни. Требуют продолжения серии очерков о ней. Может быть, и они жаждут установить личность слушателя, которого ищет эксцентричная художница – пусть даже она его выдумала. Он вроде фантома, вызывающего страх, а может, и эротические мысли: мы боимся его, но и хотим, чтобы он был с нами. Читателей больше занимает слушатель как ее движущая энергия, меньше – как истина. В Изабелле есть какая-то приветливая скромность, теплота и необычайно сильная связь с верой. Думаю, что она, закрыв на время свою врачебную практику, идет от монастыря к монастырю, чтобы искать, находить, собирать духовную энергию, которую в живописи оставили великие мастера. Все прочее, я убеждена, – лишь ловко упакованный маркетинг. Насколько же она мне дороже!
Изабелла известна своими изображениями библейских сцен непревзойденной красоты и мощной экспрессии. Не думаю, что она этим счастлива. В ней всегда живет какая-то печаль и надежда, что она найдет человека, который ее поймет. И которого она не потеряет. Это должен быть человек мудрый, верующий, как она сама, сходной судьбы, творческая личность – возможно, известный писатель. Что будет, не знаю. Молюсь, чтобы это случилось. В ней столько любви, которую ей некому дать.
После встречи с ней мне стало легче. Долго мне было невыносимо тяжело думать о своих родителях. Я думала, что мое рождение их разлучило. В разговоре с игуменьей я поняла, что оно их навсегда сблизило. Они выбрали Изабеллу, чтобы она исполнила их желание. Знали, что она будет необходима мне в жизни. И предана мне. Мне стыдно сказать тебе, но я не чувствую такой близости с родителями. Я не видела их улыбок, они не обнимали меня и не ухаживали за мной. Я их не знаю, хотя меня потрясла их судьба. Я люблю тех родителей, которые меня удочерили, воспитали и вырастили, но их я тоже потеряла. Эта потеря была тяжелой, вызвала депрессию. Мои дети знают их как бабушку и дедушку, помнят их и любят, за что я им необычайно благодарна.
Марго, ты заметила, что в каждой работе Изабеллы есть ангел с темно-синими глазами? Он есть и на тех иконах, которые она нам послала. Пока он с ней, она будет создавать произведения, сопоставимые с работами великих мастеров. Только у него есть ключ, который может открыть врата понимания и дать ответы на многие вопросы, которые мы вместе ставим. Мы желаем ей счастья и исполнения желаний. Я верю, что в ней еще не угасло желание иметь ребенка. Недавно она мне писала, что я заполнила эту пустоту. Хорошо тем, с кем она общается повседневно.
В ней есть еще кое-что, о чем ты знаешь: она пишет и рассказывает так же хорошо, как рисует. Но есть и кое-что, чего ты не знаешь: она сказала мне, что заканчивает роман о наших судьбах.
Все критики твердят, что в новых ролях мой голос обрел божественную красоту. До моего сознания это еще не дошло. Возможно ли, что моя глубокая вера, православие и посещения женских монастырей свершили это чудо? Скоро мы увидимся с Изабеллой. Я буду два вечера петь в белградской опере партию мадам Баттерфляй.
Знаешь ли ты, что первое представление этой оперы Джакомо Пуччини провалилось? Он сказал друзьям, что после небольших изменений опера будет иметь успех и станет очень популярной. Сочиняя именно эту оперу, он ощутил присутствие высшей силы. Доверился друзьям, сказав, что чувствует себя избранным, что его рукой водил кто-то другой, что он ощутил, как расширилась его грудная клетка и кто-то, точно воздушный шар, вошел в его сердце. Экзотическая композиция этой оперы (как и его незавершенного произведения «Турандот») подтвердила необычный духовный контакт, ибо божественное бесконечно и неограниченно. Замыкать творческую силу в пределах культуры одного народа – не что иное, как искушение и соблазн.
Звучание инструментов оркестра и арии приходило из разных центров мозга, словно участвовали все его клетки: вибрировало все – и душа, и тело. Может, и я когда-нибудь достигну такой связи с божеством. Только тогда я буду знать, что мое пение еще долго будут слушать.
Изабелла предсказывает, что этот день настанет, и предлагает, чтобы в монастырском покое, среди смиренных инокинь, в тишине и литургическом единении я подготовилась к этой встрече. Она говорит, что я открою, для чего Господь вручил мне сей дар, и мне будет указан путь, по которому он разовьется дальше. Как-то она улыбнулась и полушутливо сказала:
– Может, и тебя посетит ангел, которого ты украдкой высматриваешь в моих работах?
Я пожелала, чтоб это были мои родители, которые пока посещают меня только во сне.
51 Знаю: родители рядом
Все больше думаю об Изабелле, о ее доброте, бескорыстии и сердечности. Я благодарна, что она согласилась исполнить желание моих родителей. Молодая вдова приняла на себя весьма серьезное обязательство. Будь я на ее месте, не уверена, что я сумела бы понять юношескую любовь мужа, да еще носить его обручальное кольцо. Но любовь к детям, сильнейший материнский инстинкт заставили Изабеллу искать меня по всему свету. Мой муж не устает удивляться ей. Он еще не может понять такой самоотверженности, которая, я думаю, имеет истоком веру в Бога.
Я люблю ее и знаю, почему люди, которые видят ее впервые, хотят сохранить связь с нею. Она не знает счастья! И не может быть счастлива, потому что она – счастье для других. Это придает ее личности особый, потаенный эротизм, что привлекает многих, даже тех, кого она вообще не знает. Нечто подобное я заметила у своего дирижера, с которым мы много лет работаем вместе. Он знает Изабеллу только по моим рассказам. С тех пор, как увидел каталог ее картин и икон, жаждет с ней познакомиться. Он мне сказал то, о чем я и не подозревала. Сказал, что давно решил никого не любить – кроме музыки, которая только дает, ничего не отнимая. Так оно и было до встречи с работами Изабеллы: они привлекли его с магнетической силой. Ты, Марго, знаешь его жизнь, следишь за творчеством. Часто пишешь о нем. Когда на обложке его фотография, журнал продается в десять раз лучше, многие жаждут встретиться с ним. Да он и сам потрудился, чтобы его многочисленные похождения попали в прессу.
Есть одна вещь, о которой я тебе никогда не писала. Это случилось, когда я прочла дневники, что дала мне Изабелла. Как будто все силы природы объединились, чтобы открыть мне высший смысл. Раньше я никогда не замечала, что в космическом порядке все целесообразно: и тело, и язык искусства, и энергия любви. Я поняла – все, что со мной случилось, должно было произойти: и обретение себя, и открытие музыки, которой я служу, как истинной духовной полноты, а не только эстетического переживания гармонии. Жизнь – это не только утверждение жизни, не только тело, страсть, музыка. В гораздо большей степени – это ответ на зов. Без этого зова и этого единения мы были бы всего лишь мимолетным чувством тоски, предчувствием разума, осужденного на смерть.
Теперь же я просто знаю, что сопричастна космическим энергиям, что созиданием я заполняю бесконечное пространство и моя любовь – вместе с любовью других – соединяется в космический порядок. В этом же – и смысл искусства. Только теперь понимаю, почему мамин крестик на шее всегда меня успокаивал. Без этого энергетического послания я никогда бы не узнала вполне смысла своей жизни, даже если бы встретилась с ним. В этом и состоит тайна зова: либо ты на него отзовешься на космическом уровне, либо останешься глух к нему – по неисчислимым причинам, – даже на уровне земном.
Древний крест, которому много веков, помог мне встретиться с Изабеллой и распознать судьбу. Когда солнечный свет ласкает его, он словно посылает множество лучей прямо в небо. Потом они возвращаются с неба ко мне, и я чувствую, как вся сияю изнутри, словно стала звездой.
Я видела одну картину Паоло Веронезе, где был похожий образ. С тех пор он меня не покидает, так же как образ Иисуса, идущего на Голгофу с деревянным крестом. Этот первородный христианский символ изменил мою жизненную судьбу.
Я снова смотрела на эту работу Веронезе. Плащ Христа – серебристо-белый, со многими оттенками серого. Свет – в центре картины. Христос несет крест, чувствуется тяжесть ноши. Это не просто тяжесть огромного креста, который Христос несет на Голгофу: она символически значима – это тяжесть греха человечества от Адама и Евы. Христос простит нам и спасет нас, если мы в него веруем.
Слева испуганный конь шарахнулся от шума и суматохи тех, кто сопровождает Христа: защищающих его и нападающих на него. Возле Христа стоя запечатлен сам художник Веронезе. Я не знала, что это он; мое внимание обратила на это Изабелла.
Теперь я лучше понимаю смысл этой сцены. Изабелла пояснила мне, что и она на больших полотнах и мозаиках часто изображает себя и лица знакомых монахинь и детей. Творя, она чувствует, что присутствовала и участвовала в этих событиях.
Может быть, это моя фантазия, но, когда я смотрела на ее образ Иисуса-целителя, лицо одной женщины показалось мне похожим на лицо Изабеллы. Она не решает заранее, кто будет изображен на картине. А поскольку потом ничего не помнит, считает, что все рождено в порыве творческого восторга. Может быть, поэтому, думает она, эти ее работы имеют наибольший успех.
С момента знакомства с Изабеллой я иначе смотрю на все культовые произведения искусства. И музыку слушаю самозабвенно, как никогда. Теперь я уверена, что и мои лучшие роли, те, что вызвали взрыв энтузиазма (ты об этом знаешь, писала в своем журнале), были – когда я пела, не ощущая присутствия публики и, поверь, не вполне отдавая себе отчет в том, что нахожусь в сценическом пространстве, где всем руководит дирижер. В эти мгновения я сливаюсь со своим голосом, меня словно сопровождают ангельское пение и звуки неведомых колоколов и неведомого ветра – они помогают мне ощутить, что родители рядом со мной. Овации слушателей больше мне не важны. Мне не нужно с их помощью подтверждать свой успех и счастье.
Изабелла все меньше говорит о слушателе, своем собеседнике. Она неуверена: то ли выдумала его, то ли он действительно существовал в то время, когда она расписывала часовню в Сербии. Но при всяком приезде в Чикаго, а мы видимся часто, я вижу корзину белых маргариток с базиликом, которые ей посылает таинственный обожатель. Она часто слушает музыку – репертуар всегда один и тот же. Особенно любит Сибелиуса. Теперь и я слушаю его симфонии. Раньше я их плохо знала. Они способны вызвать восторг – вести сквозь время, ибо они бессмертны.
При последней встрече я видела у нее букет крупных белых лилий – такие растут в Эфиопии. Букет стоял на рояле, рядом с вазой, где был базилик. Увидев, как я удивлена, хотя я ничего не спросила, она сказала: «Я всегда получаю цветы с базиликом. Это священный цветок богослужения, печали и радости. Он напоминает нам, что вся красота природы есть дар Божий».
Она слушала концерт для виолончели великого французского оперного композитора конца XIX века – Эдуарда Пало. Это была вторая заметная перемена, которую мы не обсуждали. Она сказала мне, что имела честь познакомиться с лучшим в мире виолончелистом Йо-Йо Ма. Я купила все диски с его записями. Однажды мы просидели весь вечер почти неподвижно, наслаждаясь игрой виртуоза виолончели. Когда отзвучали последние аккорды, она сказала, как бы про себя:
– Должно быть, ионе трансе, когда играет без нот. Глаза у него всегда полузакрыты. Как будто он не замечает слушателей, которые его боготворят.
Кто приводит в действие эти виртуозные пальцы, кто управляет ими в их вибрации? Это отличает его от других музыкантов. Лицо его спокойно. Только когда аплодисменты возвращают его из этого транса, он улыбается и скромно кланяется.
52 Счастье вечных вопросов
Дорогая Дельта, помнишь, во время недавней встречи в Аддис-Абебе я сказала тебе:
– Каким был бы мир, если бы большинство людей ощущало жажду мистического постижения Небесного Дарителя… Он дает такую возможность всем, но лишь немногие в один век могут ощутить струение Святого Духа и наших душ сквозь его силу. Это выпадает только нам, художникам, когда мы создаем произведения искусства.
Мы молимся, ибо молитвой касаемся неба – сферы высшего порядка и непостижимого совершенства. Это готовит нас к возвращению туда, откуда началась наша жизнь. Вечный дом Святости, звук ветра, звон колоколов дают мне определение Красоты и Счастья. Психика – посредник, она меняется, благодаря чему возможно новое, оригинальное, полное фантазии, тонкое творчество. Успокаивается потрясенное сердце одиночества, некогда бежавшее в мир, которому оно отдало всю свою любовь и надежду павшей души, взыскующей спасения. Не всюду ли вокруг нас те, кто воспламенил любовь сокровенных иллюзий и тайн?
Никто не любит одиночества, на которое обречен. У каждого есть слушатель, видимый и незримый, земной и небесный, реальный и нереальный. Это может быть живое существо, звук, краска и ветер, слово, полное жизни, и пролетающее облако, дорогой нам цветок, парящий без крыльев осенний лист, молодая луна, от которой мы ждем исполнения желаний, дерево со своей тенью. Возможно, этот слушатель – воспоминание о тех, кого мы любили и забыли, мистическая духовная связь с их душами, которые нас посещают во сне и наяву, в экстатическом переживании жизни и когда мы смотрим на иконы и фрески великих мастеров. Их души – в античных изваяниях Венеры, чье сердце никогда не стареет, в классической музыке, в лазурном звуке ритмично набегающих волн моря, в снежинке, пляшущей на ветру, в кресте, что дала нам мать при крещении, в темно-синих глазах друга детства, которые всегда с нами, ибо несут в себе свет невинности.
Да, моя дорогая Дельта, если тебе нужен осознанный – и неосознанный – ответ: у всех нас есть Слушатель. Единственный СЛУШАТЕЛЬ, постоянный, самый надежный, тот, кто всегда с тобой, кто поддерживает тебя своим благородным укором. Это Христос со святителями и ангелами. Всегда обращайся к нему и к ним. Получишь ответ и прочное успокоение. А теперь спой свою новую православную песнь – божественным своим голосом, и обе возблагодарим Бога за то, что мы встретились. Эта судьбой назначенная встреча и твое крещение помогли рождению в тебе композитора. Есть причина тому, что ты сочиняешь реквиемы.
Ты первая женщина, которую Бог одарил этим талантом. Твои слушатели – земные люди, а музыка для усопших – музыка небесная. Она посвящена воскресшему Христу и твоим родителям, с которыми ты бессознательно общаешься. Эта музыка всех трогает, всем понятна – ибо мы все пережили утрату близких и молимся за них. Ты молишься звуком инструментов и голосами певцов, один из которых – твой.
Тут мы похожи, ведь и мой интерес к византийской живописи вырос из боли, которую я испытала, потеряв друга детства, первого моего настоящего друга. Ты собираешься раздать женским монастырям наследство, полученное от отца. Это справедливо. Ты уже начала ремонтировать дорогу в один из них. Строятся новая музыкальная и художественная школы. Ты пригласила эфиопских преподавателей музыки, говорящих по-итальянски, чтобы они передали ученикам опыт европейской церковной музыки. Сейчас они учат английский и французский, чтобы напомнить протестантам и римокатоликам о раннем христианстве, сохранившемся в этом – диком для них – краю. Удивительно было слушать оркестр мандолин. Эта музыка вселила радость в глаза эфиопских детей. Они одарены врожденным чувством ритма природы, о которой печется Всемогущий, даря духовное богатство всем беднякам земли. Подумай, сколько талантов в этом доселе неизвестном месте проявится благодаря твоей помощи!
Возле монастыря – и приют воспоминаний, место скорби, где все мы порой встречаемся и в беседе и молитвах высказываем свои судьбы. Здесь покоятся и твои родители, которых ты не забыла. Земля всюду одна, и ничто не мешает тому, чтоб ты молитвенно поминала их, погребенных в Эфиопии. Земля всюду одна, запомни, и не важно, что ты не похоронила их там, где живешь, в Италии. И когда ты состаришься, когда больше не сможешь посещать их вечный дом в Эфиопии, пусть это тебя не печалит, ибо ты пребудешь с ними в духе, а дух не ограничен местом земного праха.
Но здесь – и земля, на которой живут обычные люди, простые, одаренные, преданные друг другу и вере в божественный смысл. Здесь проблемы решаются рокотом святых колоколов, пением и православной молитвой. Легкий ветерок уносит небесные звуки по ущелью в ночь, освещенную звездами. Тысячи космических лампад своим светом не разгоняют тьму, но напоминают нам, что здесь, в этом малом – по сравнению с миром – пространстве верующие дарят друг другу помощь и поддержку, в отличие от остального мира, где люди грубы и равнодушны к потребностям других. Цивилизация атомной техники произвела аморальных людей, исповедующих этику каменного века. Нравственность православия – единственное, что может облагородить человека, может из всякого, даже самого ничтожного, сделать героя, неустрашимого и непоколебимого борца за любовь, истину и достоинство.
Вечность и красота пребывают в колыбели неба, они сотканы из любви, которая есть суть Создателя. Неугасимый свет молитвы – единственного языка, достойного человека, а не двуногого, – это и наша судьба. Если мы услышим послание вечности и красоты, видимое и незримое, записанное во всем, что нас окружает, тогда и мы, слабые и греховные, познаем преображающую любовь.
Когда ты пела в дуэте в первом акте «Отелло», а в последнем издала потрясающий крик «Аве Мария», я плакала. Никогда до сих пор я не слышала оперной певицы, которая вложила бы в партию Дездемоны столько красоты и извечного человеческого драматизма. Оркестр и твой голос ни на мгновение не разминулись. Оркестр сумел дать предвестие трагедии. Дирижер меня воодушевил – он знал всю оперу наизусть и не смотрел в ноты. Знаю, что прежде один Тосканини так мог. Ты воплотила в этой роли все, чего желал достигнуть Верди: комбинацию драмы, сострадания судьбе, восторга, динамики, небесного голоса. Зал оперы в Аддис-Абебе очень красивый, там прекрасная акустика. Название города в переводе значит «Новый Цветок», и ты стала вновь найденным эфиопским цветком, все были счастливы, что ты у них в гостях. В своем белом платье ты была похожа на лилию, белый цветок, придающий особую красоту этой земле. Ты ответила на духовный зов, на мгновение показалось, что небо целует землю. Я узнала в этом твой поцелуй, посланный умершим родителям.
– Изабелла, я пела эту оперу матери и отцу, особенно любовный дуэт в первом акте. Может быть, поэтому ты ощутила все по-новому: это было не похоже на прежние дуэты Дездемоны и Отелло, которые ты слышала, – ответила ты, заплакав.
Я чувствовала: ты плачешь на сцене, что придало представлению и трагический, и романтический тон. Его универсальному звучанию способствовало твое неповторимое искусство.
Дирижер – он был моих лет – восхитил публику своей динамичностью и импульсивностью. Мое внимание привлекли его глаза: возникло приятное, но странное ощущение дежавю – словно мы уже встречались когда-то. Он искал возможности со мной познакомиться, ведь вы много месяцев разговаривали обо мне. Твоей и Магдалининой любовью и дружбой со мной он был уже психологически подготовлен к нашей встрече, его любопытство было подстегнуто надеждой, что он откроет нечто, им утраченное, а по сути – никогда еще не найденное.
Могу тебе сказать, мне и самой хотелось увидеть его вблизи. Он пробудил во мне любопытство – возможно, благодаря своим проницательным глазам, которые стали почти чем-то вроде моего постоянного спутника. Мне хотелось поговорить с ним, познакомиться ближе. Дирижируя, он управлял оркестром и выглядел старше; в непосредственном разговоре казался моложе. За пультом он был частью трагедии, которая разворачивалась на сцене; с полузакрытыми глазами следил за каждым инструментом, словно сам играл на нем. Как и ты, он был вдохновенным творцом.
Во время встречи, которой он искал, я ощутила его романтическое любопытство, желание проникнуть в мою суть. Он предполагал, что в ранней молодости я прошла через разные жизненные испытания и заслужила в жизни большее, чем то, что получила. Не знаю, как ему это удалось. Ведь наружность скрывала мою внутреннюю суть, моменты света и тьмы, радости и печали.
53 Я верю в чудеса
Он подошел ко мне почти незаметно. Я тебе уже рассказывала об этом, да? Суверенностью человека, искушенного в разговорах, сразу обратился ко мне.
– Мне кажется, что мы уже встречались, – сказал он взволнованно. – Я обратил внимание на ваши картины в музеях, потом побывал на двух ваших выставках. Тогда у меня не было желания знакомиться с вами, я только хотел увидеть ваши необычные работы. Вообще, лучше не знакомиться с авторами, это всегда разочаровывает. Да, да… им не хватает не столько дарования, сколько нравственной цельности. Художники чаще всего – моральные пигмеи. Подтверждением тому – последние конфликты на Балканах. Люди искусства выступили как лакеи политиков, во всем обвинив исключительно сербов. В циничной сатанизации сербов больше всех преуспели именно они. Вацлав Гавел, Катрин Денев, Андреа Бочелли, Иосиф Бродский, сэр Питер Устинофф состязались в пресмыкательстве перед агрессорами – перед теми, кто в 1999-м грубо попрал суверенитет Сербии и обрушил на нее бомбы с обедненным ураном. Вы знаете, тогдашний корреспондент «Нью-Йорк таймс» Дэвид Байндер педантично зафиксировал эту организованную травлю, когда «антисербские настроения от Парижа и Лондона до Вашингтона и Голливуда были сильнее, чем в свое время неприязнь к нацистской Германии».
Я был убежден, что ваше искусство умело упаковано в рекламный целлофан, и не испытывал желания с вами знакомиться. Тексты в газетах, повествующие о вашей жизни, немногим отличались от моих представлений. Но чем больше я смотрел на ваши работы, тем больше предубеждение рассеивалось, превращалось в потребность познакомиться с существом, которое в анархическом, разнузданном мире пишет картины, полные гармонии и любви. Ваши картины поистине отличаются от всех, виденных мною прежде. Они отмечены чистейшей духовностью, но в них столько сказано о земном: о гордыне и лицемерии нашего века, о падении души человеческой. Душа потерялась в омуте мировых и собственных противоречий, не ведает, где найти убежище. Человечество бомбардируют всяческие веры и культы. Политики обещают потрясенной душе быстрые, но поверхностные решения, лишенные глубины. Потом мы окажемся в еще худшем положении. Этот мир приговорил искусство к смерти. Я благодарен вам за то, что вы не предались мамоне и высоким языком искусства защищаете смысл жизни. Я и сам борюсь со временем, в котором одно только искусство отстаивает божественный порядок вещей. Вероятно, я вам уже говорил: я тоже сочиняю музыку, прежде всего для церковного хора и органа. Орган помогает ощутить боль каждого века и обрести опору в вере, в размышлении и поиске смысла нашего существования и будущего. Когда я сочинял, хотя я неохотно в этом признаюсь, ваши картины и вы были моим таинственным суфлером и слушателем. Вы были частью меня, были в каждой записанной ноте, а всемогущий Бог дирижировал. Или я это вообразил.
Я сказал Дельте, что знаю вас глубже, искренней и лучше, чем любую из женщин, с которыми у меня случались любовные истории, а их было много. Иные из этих красавиц были замужем. Это были мимолетные связи. После наших оргий они быстро забывали меня, а я их. Я даже понимал их мужей: большинство знали о похождениях жен, некоторые любили об этом потолковать и наслаждались, слушая, как другие рассказывают о своих сексуальных приключениях с их женами.
Женщинам нравилось, что я знаменитый дирижер, нравилось тело, в котором они пробудили желание. Они полностью отдавались страсти, терялись в своей похоти. Наши имена и завтрашний день не значили ничего. Вожделение говорило на языке эротики, подогревало страсть без любви, толкало к эротическому исступлению. Было не важно, где мы и где соединятся наши тела. Спальня была нежелательна, она напоминала им о надоевшем браке, лишенном секса. Они искали удовлетворения в диких фантазиях, во всем запретном и необычном, и чем больше был риск, чем больше их возбуждала обстановка, тем безумней была наша связь.
Мы не разговаривали, ибо это вернуло бы нас к жизни и реальности, а у нас не было ничего общего, что нам хотелось бы обсудить. Эротическая энергия наших тел, двигавшихся в ритме дыхания, обеспечивала лишь одноактную композицию.
Это темная сторона моей жизни. Публика, которая меня обожает, не знает о ней. Вы спросите, зачем я вам рассказываю обо всем этом при первой же встрече? Дело в том, что я встречал вас в прошлом – вы были тенью, витавшей над моей жизнью, над моими нотами. Я выдумал женщину, которая отдавала свою любовь чужим делит. Я видел большие глаза детей, умиравших от рака: благодаря этой женщине они все-таки улыбались, они держались за своего ангела, хотя их руки, потеряв упругость мышц, превратились в обтянутые кожей кости. Здесь же были смеющиеся лица детей из Африки: они ловили рыбу, сидя в папирусных каноэ. Я дам вам диск с музыкой, которую написал, размышляя о вашей жизни и вашем характере. Это сонаты для скрипки и фортепиано. В них слышен ветер моей родины и запечатлена красота зимнего пейзажа. Возможно ли, спрашивал я себя, чтобы так мощно вдохновляли впечатления от ее картин – ведь я ее не знаю. Я боялся встречи, оттягивал ее, хотя знал, что не могу вас не встретить. Кто же вы в действительности, Изабелла? У меня было все больше опасений. Ведь существовала вероятность негативного открытия. Что вы за существо в реальности? – постоянно спрашивал я себя. Знаю, что я вас идеализировал.
Дельта сделала возможной нашу встречу и устроила так, что я буду дирижером оперного театра в Аддис-Абебе. Я благодарен ей за сегодняшний вечер. Теперь вы не анонимный свидетель моего дирижерского самозабвения, а самая что ни на есть подлинная реальность. Я понимаю, почему Дельта так любит вас, ведь у меня есть возможность сравнить вас с другими. Вы знаете мое сценическое имя, но я хочу попросить о том, на что не имею права. Прошу вас, зовите меня по имени, данному мне при крещении, – Драган. Я разрешаю это только тем, кого особенно уважаю.
– Понимаю вас. Когда мы работаем, нас наполняет удивительная сила. Особенно когда я пишу на духовные темы, у меня такое ощущение, будто кто-то все время рядом. Может быть, именно поэтому художники никогда не бывают одиноки.
Отчасти я хотела бы открыть истину, но к чему бы это привело? Восторг и явь требуют двух разных восприятий. В восторге все становится творчеством, все дозволено, прекрасно, близко. Совершенная мечта не подвластна цензуре. Наяву все оплетено подавлением, разочарованием, страхом ожидания, утратой и обманом. Я понимаю, почему мои работы влияют на ваше сочинение музыки. Дело не в личности, которая вас вдохновляет, а в творческом выражении мечты, требующей подтверждения и одобрения. Это большая разница, и если ее не понять, можно впасть в разочарование, замешательство, взаимное непонимание. Одиночество, которое настает, когда мы завершаем произведение, объясняется чувством, что невидимый гость покинул нас. Наверняка вы не раз в такой ситуации ловили себя на странном чувстве: словно проверяли, здесь ли еще ваш незваный гость. Быть может, ваш гость – таинственный Слушатель, но это может быть и претворенный образ, заимствованный из вашего произведения. Как бы там ни было, он существует реально, и уже невозможно отличить правду от игры фантазии. Лучше оставить его нетронутым и туманным, в вашей мечте, и не стремиться к новой встрече вне творчества.
Возможно, я слушала вашу музыку или музыку композитора, которого вы любите. Вы любите Сибелиуса? – спросила я неожиданно. – Вы упомянули о звуках ветра и белых: снегах вашей родины.
– Изабелла, такая тонкость не свойственна простым смертным. Вы меня взволновали. Я живу в Финляндии, но по происхождению я серб. Об этом говорит мое имя. Я оставил занятия нейрохирургией, открыв, что моя жизнь – музыка. Когда я работаю, мне нужна тишина. Иногда я не замечаю времени, не отдаю себе отчета в том, как рождается музыка. Только позднее туман рассеивается, но никогда до конца.
Я довольно много путешествую. Но на гастролях и в больших городах не могу сочинять. Мне хочется, чтоб у меня был постоянный дом вдали от шумных городов, чтобы однажды у меня появилась и семья. Не хочу больше жить в роскошных отелях, мне нужно больше времени, чтобы писать.
Случайность ли то, что с нами происходило? Случайно ли то, что мы встретились в этот вечер? Что такое реальность? Или вся жизнь – необъяснимый сон? Я верю в чудеса, – сказал он и перекрестился.
– Дельта, зачем я тебе все это рассказываю? Почему тебя взволновал наш разговор, особенно то, что я долго молчала? Этот разговор был нужен обоим, но не более того. Ведь оба мы принадлежим таинственному гостю. Или он нам.
Не обременяй себя моими фантазиями, сейчас я счастлива, что я одна. У меня нет никакой потребности размышлять о загадочном госте, который превращался то в слушателя, то в собеседника. Я спокойна, мои кошмары исчезли. Должна признаться, иногда я жду и очень хочу, чтобы он позвал меня и включил проигрыватель – ту музыку, которую мы слушали. В то же время я боюсь своих желаний, ведь эта встреча, вне монастыря, была бы встречей с духом в теле человека. Он принадлежит не мне, а искусству, которое нас связывает. Хотя наша связь не имеет будущего, это – мое определение счастья и красоты. Так же как они, гость не открывается полностью. В том-то и есть тайна нашей энергии и тайна рождения искусства.
54 Прислушаться к душе и телу
В Иллинойсе стояла дивная осень. Я побывала вместе с родителями в монастыре Грачаница в Либертвилле, недалеко от Чикаго. Здесь, рядом с красивым храмом, среди прекрасной природы, собираются местные православные сербы. Как обычно на таких собраниях, звучала наша музыка, подавали национальные блюда.
Праздничное богослужение было торжественным и столь благодатным, что казалось, святые лампады воссияли в сердцах присутствующих. Мы молились за спасение нашего народа и наших монастырей, где бы они ни находились.
Краски осени всегда волшебны, они будят в нас воспоминания, повелевают замечать мгновение. Каждый опавший листок несет необычайно важное послание. Коснувшись земли, он не умирает, а преображается, ибо и у него есть душа, дарованная Творцом. Может быть, мы этого не осознаём, но наша реакция на его красоту, на то, как он порхает в воздухе, есть доказательство того, что и он передает энергию. Его энергия неслышно вливается в суть природы. Адресован ли этот немой разговор и нам, потратившим время на поиски высшего смысла? Красотой природы связаны все времена, но мы не всегда замечаем и переживаем эту красоту, хотя сами принадлежим ей.
С Чикагского озера дул ветерок и колыхал листья в ритме колокольного звона, возвещая каждому листу о закате лета. На западе города месяц улыбался красоте солнечного заката, восток тонул и быстро таял в темной синеве озера. Только звезды все сильнее мерцали в наступающей осенней ночи, казалось – они дальше, чем всегда. Так было весь день, так целое мгновение летел опавший с ветки лист.
Я вошла в монастырскую библиотеку. На столе лежал журнал Белградской патриархии, последний, октябрьский номер.
Вдруг словно метеор упал с неба – я увидела на обложке фотографию Ненада. Он был в монашеской рясе, с длинной бородой. Лицо его было спокойно. В журнале был короткий репортаж о том, как он пришел к монашеской жизни и духовному преображению. Посещения монастыря внесли гармонию в мятущуюся душу – в двойника, прошедшего через искушения, блуждавшего по бездорожью, достигшего дна погибели души и тела.
Я вспомнила его последнее заказное письмо, которое так и не распечатала. И немедленно покинула монастырь, предчувствуя, что в том письме он сформулировал причины, по которым решил избрать новую жизнь. Должна признаться, его решение стало дня меня неожиданностью – ведь он был атеистом, хотя очень хотел изучать византийское искусство. Это меня и прежде удивляло, я не могла логически объяснить этот парадокс. Интерес к религиозному искусству я приписывала его желанию сблизиться со мной.
Очевидно, я недостаточно знала его как человека. Его кажущаяся элементарность, хаотичность эмоционального отношения к миру и перенятая от американцев прямолинейность заслоняли скрытую тонкость души. Он знал меня лучше.
Может быть, его преображение началось, когда он смотрел на мои работы по телевидению и в музеях? Вскоре по приезде в Америку он приобрел известность как отзывчивый, отличный врач, в последующие годы подтвердил свою репутацию как хороший сын, отец и дед, большой патриот. Он помогал своему народу и был несчастлив на чужбине. В его письмах я открыла вытесненную тоску – как у его отца, капитана королевской армии, который выстоял в борьбе с нацистами, но не сумел победить ностальгию. Они любили Косово, свой маленький город, дом над рекой, вековые дубы – свидетельство надежности родной почвы. О виноградниках Метохии мечтали, как о райском саде.
В родном краю, мальчишкой, он играл на церковном дворе, с малолетства впитывал чарующий свет монастырских фресок. Эту красоту он принес в своих глазах и в Америку. Потому и случился в нем духовный прорыв, когда он увидел мои картины и мозаики. Они напомнили ему о днях детства, проведенных рядом с набожной матерью: вместе с ней он регулярно ходил на богослужения, в которых не участвовал, но с восхищением разглядывал лики святых, краски икон и фресок. Его не смущало, что часто он голоден и бос; он был счастлив с друзьями, среди природы, которая неизменно напоминала, каков был бы рай, если бы он веровал в него. Иногда он и сам ходил в монастыри – смотреть, как живут фрески: их жизнь разворачивалась перед ним последовательно, как эпизоды в фильме,– так объяснял он мне в Америке. Однажды, усталый, он даже заснул в монастыре. Мать не могла понять, почему он отказывался креститься, поститься и причащаться и при этом как загипнотизированный, когда только мог, ходил по монастырям.
Я вскрыла не только последнее из стопки писем, пришедших из Белграда, пока меня не было в Америке. На каждой странице, дорогие Дельта и Марго, я видела, как в человеке укрепляется совесть и понимание того, что некое новое сознание повелевает ему быть с Христом, в вечной любви к Богу, которого он еще несколько лет назад высмеивал.
Он искал меня по монастырям, узнав, что я взялась расписать несколько иконостасов и стены одной часовни. Начал посещать и мужские обители. Именно здесь, в уединенных святынях и скитах, вдали от города, приятелей, от богемной жизни, в которой он топил нараставшее недовольство собой, – он нашел то, чего искал всегда, но до сих пор не знал, где отыщет.
– Наконец-то я, Изабелла, обрел гармонию тела и души. Желаю тебе всего доброго от Небесного Дарителя, – такими словами он заканчивал свои письма.
Я вздрогнула. Это были слезы радости, что Ненад обрел успокоение и свою миссию в жизни, тогда как я все еще мечтаю о земном женском счастье. Знаю, я еще не готова посвятить себя Богу как монахиня, хотя идея мне очень близка и я часто думаю об этом. Все мои мечты – о ребенке в утробе, я ношу в себе земной грех Адама и Евы, не готова его отбросить. Это заметно и в моем восхищении Богородицей как матерью, и в портретах детей, которых я пишу все больше. Во мне, в каждой клеточке, – Бог, как во всем, что нас окружает. Он понимает и принимает мои желания, ибо до сих пор ни единым знаком, пока я пишу, и даже во сне, не дал мне понять, что я должна стать монахиней. Бог решает все, в том числе и то, кто кем станет в жизни.
55 Апостолы на земле
Когда в Чикаго выпал первый снег, я полетела в Лос-Анджелес. В этом городе масса талантливых людей бредит славой и удачей, карьерой в кино, но это и город разочарований для многих – тех, кто, гонясь за суетной жизнью, безуспешно плывет за «Оскаром» по карнавальной голливудской реке. Упование на удачу – их единственная молитва. Этот город элегантно одетых, красивых, но бездушных существ больше меня не привлекал. Лишь немногие, самые одаренные люди помогали здесь тем, кто в беде. Я удивлялась им, сумевшим не опуститься душой.
В раннем детстве во время рождественских праздников и Богоявления я ждала, что ангелы явятся мне в белизне и свете, воплощенном в веселых снежинках. В ту пору зима казалась волшебством, и мнилось, что возможно все. Я каталась на лыжах, а снежинки нежно меня целовали. Я думала: когда же в небе грянет ангельская песнь и можно будет увидеть ангелов? Когда они предстанут наяву, а не во сне? Эти мысли вносили в повседневную жизнь молитвенный покой, мечта окрыляла их любовью. Сердце чуть не лопалось от счастья в ожидании, что ангелы вот-вот явятся и произойдет что-то неведомое и прекрасное.
Позже ответ пришел с земли. Все, что со мной происходило, малое и большое, все, чему я научилась и что постигла, было предопределено. Я должна была научиться дышать, страдать, бояться, плакать, быть счастливой, оставаться живой, как бы ни было тяжело. Я поняла, что ангельский мир – убежище, а вовсе не судия, который отнимает у нас красоту активного бытия, данного нам всего один-единственный раз. Ангельский мир не лишает нас в жизни ощущения беспредельной свободы. Не лишает ощущения безграничной красоты, если у нас есть сила и воля не делать того, что ограничит нашу свободу своей бессмысленностью или бесполезностью.
Бескрайнее, непознаваемое пространство психики полнилось знанием через веру. Я повторяла себе: если б я могла удерживать в себе это знание и веру ежедневно, неколебимо, что бы ни происходило в прошлом и настоящем, тогда бы все мои страхи и одиночество исчезли. Я ощутила бы вечную любовь Христа, а через нее весь мир заключил бы меня в свои объятия.
Сегодня в Чикаго шел снег. До самого вылета в Лос-Анджелес белые хлопья заполняли пространство; не было видно неба, и мне вспомнились те детские желания. На душе было спокойно, словно я вновь оказалась в белом мире детства, и я впервые поняла, как важно не потерять детскую искренность. Когда мы теряем ее, гонимые разными ветрами, часто и по своему недомыслию, мы утрачиваем ощущение любви, питающей мир. Вместо чувства радости превращаемся в чувство тоски.
Несколько звездочек проглянуло и мерцало в трепете ночного воздуха над известным всему миру городом. Меня ждали воспоминания, но они не ранили душу. Страх неизвестности исчез.
В зрелые годы, после бесед с подвижниками молитвы, я кое-что поняла. Мы рождаемся с телом и органами, с кровью, которая нас питает, и скелетом, обтянутым кожей. Мы живем рядом со смертью, данной нам в страхе и опыте, с одной стороны, но и с предчувствием духовной вечности – с другой. На пути возвращения и повторяемого исхода мы становимся тем, чем были, – бесстрастной монадой, обогащенной опытом чувственного переживания мира и космоса. Наша ограниченность очевидна, но горькое сознание этого перекрыто ощущением красоты, в которую облечена жизнь. На пути через жизнь мы растем, учимся понимать людей, ибо абсолютно не можем ни изменить их, ни спасти, точно так же, как не можем изменить и спасти себя.
Ненад жил сегодняшним днем – отвоевывая его у времени, чтобы успеть пожить, пока тело не обратилось в пепел и прах земной. Он считал, что жить полной жизнью – значит брать от жизни все, что приносит удовольствие, ибо со смертью и душа – он, правда, в нее не верил – превратится в ничто. Кончалось рабочее время, и начинался культ развлечений – празднование без праздника: пьянство, азартные игры, красивые женщины, мягкие наркотические стимуляторы заполняли пустоту, которой он не осознавал. Божественное мироустройство и космический порядок он считал чем-то отжившим, поэтому было дозволено все, без ограничений. Вожделеющее тело легко находило в этом городе все что заблагорассудится.
Стремясь оправдать свой образ жизни, человек часто доходит до душевного упадка, отрицания Бога, ценностей и чувства долга – особенно если он богат и удачлив. В этом городе похоти и развлечений, где превыше всего ценятся титулы и деньги, все толкуют законы морали на свой лад. Я думала о Ненаде – о двух его жизнях, которые шли вразрез одна с другой.
Всё в руках Всевышнего. Все слышат шепот спасения, но лишь избранные следуют его учению и отзываются на призыв стать его апостолами на земле. Ненад услышал и отозвался. Духовный человек победил в нем все страсти, сосредоточенные в одной: победил страх смерти. Первый шаг Ненада к открытию смысла бытия стал его преображением – он понял, что только Бог придает высший смысл жизни, вводит нас в литургическую небесно-земную общность. Душа бессмертна, ее духовная энергия нематериальна и не может быть уничтожена, поэтому открытие вечной истины любви ведет к успокоению.
Я хотела зайти в старый, известный сербский ресторан, где бывали многие актеры (о нем рассказывал мне Андре и писал Ненад). В район, где когда-то жила, я заходить не стала. Он отличался от остальной части города. Здесь были сплошь роскошные большие дома с садами и бассейнами, ощущался аромат Тихого океана. Везде были знаки преуспеяния тех, чье богатство перехлестывало через край.
Этот город, который многие мечтают увидеть, сегодня казался мне узилищем греха, где воздух отравлен и испоганен. Небо затянуто фиолетово-серой мглой – она крадет совесть, сердца обращает в камень. Слово «Голливуд» начертано громадными буквами под беззвездным небесным сводом. Что заметно на улицах, что написано на лицах? Загнанная в зрачки, затаилась юность – судьба ее висела на тонкой ниточке мечты. Мечта была единственным оазисом, удаленным от сплетения автострад, нависавших одна над другой. Малейшее землетрясение разрушило бы эту конструкцию как карточный домик. Так иссякли здесь многие жизни. Все было дозволено в этом городе, кроме объявленных устаревшими указателей пути. Прошлому места нет – в царстве прогресса есть только настоящее. Законом стал излюбленный лозунг реформаторов: мы передовой город, свободный от угрызений совести.
Как замужнюю женщину известие о первой измене, еще недавно меня, перемолотую отчаянием, поглотил этот омут и бросил на дно. Впрочем, все было скрыто от глаз посторонних, известно только мне. Но вот я соприкоснулась с теплом и добросердечием монахинь. Два противоположных мира, подумала я, существуют на земле. Один обещает самонадеянное наслаждение всем земным, душевные бури, эротику обыденной жизни. Другой – богобоязненным смиренномудрием, терпением и скромностью отрицает необлагороженные страсти плоти и в поисках прекрасного обращает взгляд лишь к Богу, к вечной любви Творца. Нигде противостояние двух миров не ощущается так, как в этом городе.
Сегодняшняя поездка объяснила мне, почему Ненад вдруг бросил врачебную практику, вернулся на родину, на любимый Дунай, и стал жить на баркасе в устье Савы. Качаясь на волнах, он созерцал ежедневное рождение зари и ускоренный трепет птичьих крыльев перед заходом солнца. Это его успокаивало. Иногда ему, отравленному алкоголем, мерещилось, что я рядом с ним. Он с нетерпением ждал полнолуния: лишь тогда, словно под гипнозом, он ощущал мое присутствие. Видел испуганные темные глаза, белизну лица, гладил мои светлые волосы. Только при полной луне видение было реальным. Удивительно, но это возвращало ему сон.
Потом начались кошмары, о которых он не хотел говорить. Он стал поститься. Ушел в себя и, как помешанный, беседовал только с рекой. Природа была для него единственным подлинным миром, оазисом. Он воспринимал ее как сюрреальную галактику, прибежище в разбросанном архипелаге, где никто не мог его найти. До тех пор, пока ему не стало тесно под солнечным диском со всеми его закатами и восходами. Он задыхался, не хватало воздуха, по крайней мере так ему казалось. Так продолжалось, пока он не начал искать исцеления в сербских монастырях. Здесь наконец он понял, что успокоение – и смысл жизни, которого он искал, – может дать лишь приверженность Христу, возвращение к православию предков. Безбожие вело в пропасть гедонизма, к мнимой близости без любви, к оргиям, после которых он ненавидел себя еще больше. В борьбе внутреннего ада и гармонии, познанной в монастырях, он выстоял, избрав аскетическую жизнь монаха. Прошлое исчезало в молитвах, сквозь тени тьмы проник вечный свет.
Ненад сумел вырваться из западни похитителя душ, и вот, впервые став свободным, он услышал в себе голос Христа.
56 Он понимал мою тоску
Не знаю, почему мне захотелось побывать в этом известном сербском ресторане, где собирались старые политические беженцы, патриоты, чтоб не забыть свой родной край. На родину они поехать не могли, как будто были ее изгоями, а не живой ветвью. Вот и приходили сюда послушать музыку, поговорить по-сербски о былом, хоть на несколько часов ощутить близость отчизны. Кто не пережил изгнания, тому не понять значения таких собраний одиноких людей после тяжелого рабочего дня. Большинство эмигрантов из поколения солдат королевской армии умирали, так и не увидев родины, не услышав ни единого слова утешения или благодарности за жертву, принесенную ими во имя любви.
Старый гимн Королевства Югославия и знамя – то же, что покрыло когда-то гроб короля, – были последней почестью исторической памяти о временах, промчавшихся как вихрь. Коммунизм разрушил не только легитимную систему, но и обыденную жизнь людей, создав целый архипелаг насильственно изгнанных и униженных.
Я из второго поколения сербов, родившихся в Америке, но и я люблю отечество, чувствую ностальгию и хочу вернуться на родину предков. Во сне слышу сербскую речь, говорю на родном языке. Как вечная лампочка, первородный язык согревает мою душу, оплодотворяет сердце добротой, мечту – способностью творить, слух – магнетическим гулом монастырских колоколов, глаза – ветром, уносящим в поля и леса, к звездам. Здесь, только здесь, даже когда я трепещу во тьме и страхе, душа моя поднимается к небу, а небо защищает нас Божьей любовью, которая принадлежит всем и обнимает все мироздание. Небо повсюду одно, но не везде его одинаково видно, шепчут вынужденные кочевники.
Меня влекут монастыри – священный мост нашей истории и православия. На этом метафизическом, нематериальном, незримом мосту рождены мой интерес и любовь к молитвам, живописи и кириллическим буквам, что обязаны именем одному из святителей. Мне, покоренной их любовью, было не трудно во имя любви принять второй мир как первый. Под небесным сводом мы не пришельцы, а странники, устремленные к сути. Поэтому путешествия благословенны, даже когда обретаешь новую родину, а изгнания – прокляты. Духовная почва моих предков, которую они чтили, это и моя почва, на ней росла моя связь с верой с самых ранних дней, я помню. И знаю: когда меня больше не будет, где бы ни рассеялся мой земной прах, я пребуду с верой моих предков.
Живя подле монастыря, я лучше поняла себя. Была удивительна сила пробужденной веры. В каждого, кто посетил монастырь, вера вселяет доброту, связует его с небом. Здесь меньше ощущается нестабильность и бренность земной жизни. Поэтому все, кто здесь бывал, говорят о преображении, пережитом в сокровенных святынях, где богослужения – словно дыхание Божье. В тиши монастыря песнопения и молитвы соединяют небо и землю. Вернувшись отсюда, мы жаждем новой встречи с монахами и монахинями, одаренными языком мудрой любви. Материальный мир для нас все менее важен, и скромность чаще осеняет нас. Мы хотим меньше грешить и делать больше добра.
Хотя бы на время и я становлюсь спокойней благодаря жизни подле монастыря и беседам с матерью-игуменьей. И сегодня, помня наши беседы, я могу точнее понимать происходящее со мной и с другими. Тело избавляется от сетей, сотканных лукавым невидимым врагом, из века в век искушающим человека. Духовный и душевный мир освобождается от ненависти, в нем поселяется истинная полнота любви.
Я повстречала Ненада во времена своего душевного надлома, но это была встреча с мелодичным родным языком, родным краем, родными небесами. Я помнила их и рядом с ним вновь открывала красоту тихих холмов Шумадии, мощь горных кряжей, чистоту родников, откуда пригоршней черпала вкусную студеную воду, высокие колокольни церквей… Это всегда во мне, где бы я ни была. Он был частью отчизны, которую я любила и о которой тосковала. Дрожала ли я в его объятиях лишь потому, что узнала в нем воспоминания и тоску, которые он своей нежностью пробудил во мне? Не знаю точного ответа, знаю только, что не хотела его ранить. Я убежала от него, от бытия, от жизни, как раненая серна.
Быть может, я испугалась, что и он исчезнет? Боялась, что отношения, насыщенные дыханием эротики, возникшие внезапно, в дни после измены и смерти Андре, не имеют права на жизнь и продолжение? Целуя его в синем кресле в моем рабочем кабинете, – в самозабвенном желании, которое мы оба ощутили, – я не могла избавиться от страха, что его любовь не что иное, как желание помочь мне вынести смерть мужа, своего рода предупредительность, пробуждающая особое качество страсти.
Быть может, я испугалась, что близость смерти вызвала у нас обоих телесное вожделение как защиту от физической бренности? Он понимал мою тоску, но не мой страх. Шептал, что хочет, чтоб я стала матерью его ребенка. Пока наши тела, извиваясь, льнули друг к другу, мысли мои безотчетно роились, как пчелы, которых растревожил незваный гость. Когда в безумии страсти он начал, отрывая пуговицы, расстегивать мою блузку, я вдруг ужаснулась и убежала в холодную ночь. Не знаю, сколько я мчалась, вся в поту. Не знаю, в какой части города села в такси.
Его письма и содержанием и почерком выдавали существо опустошенное. Он тонул в алкоголе, как тонут в абсурде. Не только от тоски по мне, но и от разочарования тем, что происходит в нем самом. Не мог этого ни контролировать, ни остановить.
– Я пью, – писал он, – и не могу перестать. Это как дьявол: он тебя постоянно искушает, а ты хочешь ему доказать, что ты сильней и не боишься смерти. На другой день все затянуто мглой, не вспомнить, ни где ты был, ни с кем разговаривал или спал. Руки трясутся, болит желудок, и ты снова пьешь, сперва – чтобы уменьшить физическую тяжесть, но инстинкт гонит дальше, к неизбежной смерти, и ты уже зовешь смерть составить тебе компанию. Как врач я знаю все последствия алкоголизма. Вместо того чтоб испугаться смерти, я зову ее, умоляю прийти поскорей, вызволить меня из этого ада.
В браке без любви Ненаду довелось стать отцом, но это не стало его жизненной миссией. Роль врача тоже не давала ему самореализации и удовлетворения. Он ощущал смятение в себе и в тех, кто вместе с ним предавался оргиям и пьянству. Эти люди не верили в себя, не заботились о будущем. Потерянные, они жили мгновением, жадно за него хватаясь. И не осознавали, что жизнь пресеклась, – алкоголь замутил их сознание. Освоив безысходность, они уже были по ту сторону жизни.
Ненад избрал бегство от современного хаоса и бессмыслицы. Недовольный собой и миром, он перестал отличать явь от кошмара. Так было, пока он не столкнулся с видениями, о которых не хочет говорить. Часть его личности была уже испепелена. Это кончилось бы биологической гибелью, если б не произошел тот контакт, который он таит, боясь в затертых словах растратить энергию, что возвратила его к жизни, вновь спеленала смыслом. Знаю, что он ежедневно исповедался, рассказывал об этом таинственном испытании. Видимо, он обязан жизнью неизвестному мне смелому и доброму духовнику. С тех пор его надежда устремлена к открытому небу, которое он впервые опознал как назначение человека. Теперь его слезы, покаяние и молитвы принимает духовное небо, а не просто безличный эфир, природная оболочка планеты. Пока он не веровал, он ничего не мог для себя сделать. Он прозябал в бездуховности, был человеком без свойств. Впервые он ощутил способность измениться, когда открылся молитвенной речи. И только в монашестве постиг свою душу.
Отбросил прежние привычки, цинизм, борьбу за престиж, даже одежду (прежде он наряжался, как молодая девица, желающая соблазнять). Снял золотые часы «ролекс», с которыми не расставался, даже когда ложился спать. Он вспоминает, что жил одним днем, одним мгновением. В алкогольных галлюцинациях соперничал с Фаустом. Смеялся над ним, потому что сам не верил ни в Бога, ни в черта. Смерть была для него концом, ибо он не признавал существования души. Он не боялся наказания Божьего за грехи, издевался над теми, кто верил в рай и ад. Был человеком, каких вокруг немало, удачным продуктом клонирования, воином медиократической цивилизации – сообщества посредственностей, которое Бога приговорило к смерти.
Теперь все это в прошлом. Ненад нашел себя и свою душу через молитву и мощь соборного языка. Я желаю ему всяческих радостей и счастья на пути духовного восхождения.
57 Больше я не вернулась в тот город
Некогда самый популярный сербский ресторан, куда захаживали и американцы, был расположен в той части Лос-Анджелеса, что была известна своими ночными заведениями. Светящиеся рекламы манили, в витринах блистали имена знаменитых посетителей. Ночной клуб Миомира я знала только по описаниям, точного адреса не было. Я долго искала этот уголок утешения отверженных. Уже хотела бросить поиски, как вдруг оказалась прямо перед его дверью. Горько было смотреть на название сербского клуба в зареве этого балагана. Здесь не было большой вывески, заметной издалека. Мне хотелось посидеть за столом, где когда-то сидел Ненад со своим отцом.
Когда я вошла, звякнул колокольчик. Меня никто не встретил. Ресторан был пуст, царил полумрак. Я разглядела на стене старый герб Королевства Югославия и надпись: «Само слога Србина спасава»[2]. Еще было бесчисленное множество фотографий известных певцов, выступавших здесь, и просто посетителей. Мой взгляд остановился на фотографии Радомира и Ненада. Неожиданно, словно дух, ниоткуда возник хозяин, Миомир, – худой, небритый, сморщенный. Годы взяли свое. Старик ходил неверным шагом, опираясь на палку. Руки его дрожали.
– Добро пожаловать, – промолвил он почти со слезами. – Все меняется, – печально бормотал он. – Я закрываю ресторан. Новые переселенцы, да и дети старожилов не интересуются нашей музыкой. Пока они молоды, их больше занимают дискотеки и кафе, там они убивают время. У них нет связей ни с родиной, ни с моралью родителей. Мир перевернулся, умер стыд, родился «господин доллар». В эту страну со всех концов света прибывают ветрогоны, мошенники, сторожа утраченной юности. Мы защищали ее достоинство, а эти отнимают у нее душу. Одни мечтают разбогатеть, другие – прославиться, думают, что станут знаменитыми фотомоделями или кинозвездами.
Этим пришельцам не нужны наша музыка и обычаи, они не любят нашей пищи. Они вообще не принадлежат никакой стране. Голливуд для них Мекка – не святыня веры, а храм денег, мерило славы, успеха, поражения. Этому цирку не стоит удивляться: здесь и люди, и мораль – голливудские. И политика, и музыка, и еда. С давних пор. И все-таки последнее время есть изменения к лучшему. Многие наши молодые возвращаются в церковь – во всяком случае, те, кто бывает на родине. Сербы из Боснии, Косова и Метохии, Краины, Славонии, Далмации и Хорватии, бежавшие от резни во время последней войны, похожи на нас – какими мы были, когда приехали сюда.
Больше всего этих несчастных прибыло после 1995 года, когда якобы прекратилась война против сербов.
Я уже стар. Возьму деньги, что скопил за эти годы, и вернусь к себе в Косово, если мы его еще не потеряем. Потеря Косова означала бы самоубийство, точнее – убийство, уничтожение основы нашей священной земли теми, кто хочет гибели православия. Радомир, мой лучший, единственный друг – я звал его побратимом, – слава Богу, не дожил до этого. Он не увидит сожженных, разрушенных монастырей, не услышит чужой речи в своей округе. Мы ведь были родом из одного села. Пили воду из одного родника, который веками давал жизнь реке Быстрице. Я любил его сестру, мы вместе воевали, были в германском плену…
Почему вы к нам зашли? Теперь сюда редко наведываются гости. Вы долго смотрели на фотографию моего друга и его сына Ненада – я заметил. Вот за этим столом они сидели почти каждый вечер. Та же скатерть на столе, та же пепельница. Скатерть всегда чистая, накрахмаленная, как белые рубашки Радомира. С тех пор как он умер, а Ненад уехал, я никому не разрешаю сюда садиться. Видите надпись: «Стол забронирован для капитана Королевской армии, раненного при защите Югославии от нацистов, моего побратима Радомира». Ах, удивительное прошлое – счастливое и горькое… Ради этого стоило жить!
Мы пили кофе и долго разговаривали. Не замечая, как идет время. А может, время остановилось, чтобы лучше разглядеть нас – два необычных создания: одно из нынешнего века, другое – из мира, которого больше нет. Голос хозяина звучал нереально. Осталось лишь его желание – реальное и чистое, а сам он превратился в призрак, прозрачную фреску на стене – только в голос:
– Прежде чем вы уйдете, давайте прочтем вместе «Отче наш». За наши души, за души умерших, за родину, за Косово и Метохию – сердце и душу сербского православия. Да хранит его Всемогущий!..
Больше я не вернулась в тот город.
Об авторе
Дойна Галич-Барр – сербская писательница и художница. Родилась в Бухаресте, выросла в Белграде. Жила в Париже, затем в Чикаго. Врач-невропатолог и психиатр. Специалист по лечению детской психопатологии методами искусства. Была директором психиатрической клиники для детей и взрослых в Чикаго. Много лет преподавала в университете штата Иллинойс, вела программы на телевидении и колонку в газете. Имеет частную психотерапевтическую практику в городе Джольет (Иллинойс). Автор романов, опубликованных на языке оригинала и в английском переводе: «Безликие ангелы» (2004; 2005), «Синий голубь» (2005; 2006), «Колокола и ветер» (2006; 2007), «Анна Ли» (2007), «Игра в кегли» (2008), «Дом разбитых зеркал» (2008). Лауреат ряда премий, в том числе премии белградской Академии Иво Андрича (2007).
Примечания
1
От серб. УДБА [Управление государственной безопасности].
(обратно)2
«Только согласие сербов спасает» (серб.) [национальный девиз]
(обратно)








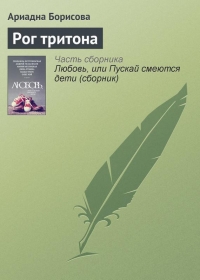


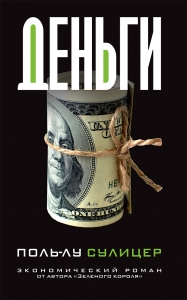
Комментарии к книге «Колокола и ветер», Дойна Галич-Барр
Всего 0 комментариев