Сигнальный экземпляр Алиса Юридан
© Алиса Юридан, 2017
ISBN 978-5-4483-0130-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
До утра
— Ты никогда ничему не научишься, — презрительно выплюнул директор Барни. — Никогда.
Себастьян стыдливо опустил глаза и увидел, что затёртый шнурок на левом ботинке снова развязался. Директор Барни проследил за его взглядом и усмехнулся.
Себастьян присел и стал завязывать шнурок, но мысли его были далеко, а взгляд блуждал, перескакивая с его непослушных рук на чёрные лакированные туфли директора, на трещины в деревянном полу его кабинета, на прожжённую дыру в дневнике, валяющемся на полу между директорскими туфлями и старыми себастьяновскими ботинками. Потому нормально завязать шнурок не получилось, и невнятный скомканный узел вызвал ещё одну усмешку сверху. Себастьян поднял глаза, и его захлестнула обида. Разве он виноват, что присутствие этого человека так на него действует? Разве он хоть в чём-нибудь виноват?
— Неужели ты думаешь, что ни в чём не виноват? Что ты особенный? — директор Барни схватил Себастьяна сзади за воротник рубашки, как щенка за шкирку. — Неужели будешь отнекиваться? Да я тебя…
Себастьян сжался, будто приготовившись к удару молнии точно в его сердце, но директор Барни толкнул его на стул, поднял с пола дырявый дневник и швырнул ему в лицо. Себастьян остался жив, и это его приободрило.
«Дьявольское отродье», — подумал Себастьян. — «Сейчас он скажет это, точно скажет. Мне этого не миновать».
— Ненавижу ложь, — прошипел директор Барни.
Себастьян молчал, считая секунды. Сколько он уже здесь? Он украдкой глянул на старинные часы, висящие на стене. Три минуты или около того. Сейчас начнётся.
— Ненавижу, — повторил директор Барни. — Ты, лживое дьявольское отродье, ты знаешь, куда попадают мальчики вроде тебя?
— Нет, — пересохшими губами прошептал Себастьян, но это было неправдой.
* * *
Себастьян оказался в этой школе полгода назад. Тогда всё и началось.
Полгода в аду.
С виду это был красивый особняк, школа-приют для мальчиков-сирот и тех, от кого отказались родители. Школа эта существовала на частные средства, а точнее, на средства директора Барни. Красивая, но скрывающая настоящее чистилище. Ни внешний фасад, ни окружающая обстановка не наталкивали сторонних наблюдателей на мысли о том, какая атмосфера царила внутри.
«Строгая дисциплина», называл это директор Барни, и это было так, хотя и с большим преуменьшением. С каждым годом эта «строгая дисциплина» становилась всё строже, и не было никого, кто мог бы остановить директора Барни. Немногочисленные учителя сами его боялись, и набраны в эту школу они были неспроста. Никто точно не знал, как они были связаны с директором Барни, но то, что они постоянно находились в диком страхе и при этом не могли уволиться или хотя бы кому-то рассказать об атмосфере в школе, наталкивало на определённые мысли.
С каждым годом становилось всё хуже и хуже — безнаказанность зла только укрепляет его. Директор Барни постепенно стал для мальчиков истинным воплощением Дьявола. В год, когда в школу попал Себастьян, потерявший родителей и волей судьбы направленный именно сюда, уже никто из учеников не пытался сбежать, как и не пытался кому-то что-то рассказать. К этому году директор Барни провёл уже достаточно показательных разговоров с провинившимися, и уже достаточно мальчиков бесследно исчезло из школы. Любой, попытавшийся сбежать или выказать неповиновение, или, боже упаси, попытавшийся хотя бы намекнуть приезжающим раз в четверть представителям комитета, что им здесь не очень нравится, вызывался в кабинет директора Барни, и больше их никто не видел. Никому не удавалось сбежать. Из ада нет дороги. С представителями комитета, заезжающими только для галочки, тоже ничего не выходило. Когда рядом был директор Барни, а он всегда был рядом, ни у кого язык не поворачивался сказать что-то не то, посмотреть как-то не так. Страх парализовывал. А представители и не вникали в дела школы. Никому не удавалось сделать хоть что-то. Все попытки были тщетны. Только лишь жертвы росли. И с каждым разом директор Барни ужесточал наказания. Выхода не было. Его действительно не было.
Поэтому к тому времени, как здесь оказался Себастьян, все уже смирились с безвыходностью и безнадёжностью ситуации, и никаких серьёзных происшествий не было. Первый месяц прошёл довольно неплохо, и Себастьяну не верилось, что всё, что ему рассказали ученики, было правдой. Да, директор Барни жёсткий и, видимо, жестокий человек, это было видно по нему, и он фанат дисциплины, но в такие невероятные россказни Себастьяну всё же не верилось.
А потом директор Барни показал себя. Ему стало не хватать этих милых сердцу развлечений, этих жестоких наказаний и унижений, к которым он так привык. Стало не хватать, как воздуха. Поганые мальчишки вели себя идеально уже довольно долго, и даже ему не к чему было придраться. Что ж, пусть получат передышку, думал он. Зато потом впечатления будут гораздо ярче.
Затаившаяся змея, выследившая добычу. Затишье перед бурей, не более того. Но мальчики этого не понимали, а если кто и понимал, не хотел об этом думать. Себастьян следовал примеру других и вёл себя безукоризненно, но в итоге этого оказалось мало.
— После урока всем собраться в спортзале, — прогремело в один прекрасный день по внутренней связи, и маленькие мальчишечьи сердца как по сигналу замерли. Кто-то заплакал, кто-то просто очень сильно побледнел, кто-то уронил ручку и тут же до смерти испугался этого. Себастьян беспокойно заёрзал на стуле. Он всё ещё не очень верил тому, что ему рассказывали, но реакция мальчиков была показательной. Он видел их страх. Он чувствовал его. И страх этот постепенно передавался и ему.
— Кажется, нам конец, — прошептал Ронни, с которым Себастьян за этот месяц почти подружился и который рассказывал ему про всё происходящее.
— Да не преувеличивай, — покачал головой Себастьян, но голос его прозвучал неуверенно.
— Сам увидишь, — ответил Ронни и отвернулся.
Себастьян глянул на часы — до конца урока оставалось пять минут. Напряжение и страх пропитали весь класс, и даже мел в руках учителя визжал, соприкасаясь с доской, визжал от ужаса.
Себастьян начал прокручивать в голове всё то, что ему рассказывал Ронни и что подтверждали другие мальчишки. Директор Барни был сущим монстром. За малейшую провинность тут же следовало наказание. От унизительного мытья унитазов голыми руками до публичного избиения до полусмерти.
«Строгая дисциплина».
Ученики сами поддерживали порядок в школе. Они намывали посуду после еды, драили полы и парты в классах, стирали постельное бельё и свою форму. Любая крошка, пылинка или пятнышко приводили директора Барни в бешенство и влекли за собой последствия.
— Я даю вам кров, еду, одежду и знания! — гремел он. — А вы, неблагодарные свиньи, устраиваете мне тут хлев! Да кому вы нужны?! Ничтожества, не способные содержать в чистоте даже себя! Всем десять дней!
Наказания, не совершающиеся разом, а длящиеся некоторое время, директор Барни называл по дням. Все отлично знали, что он имел в виду. Не было кого-то, кто бы не знал. Десять дней — это десять дней без крошки еды. Были ещё два дня без возможности прилечь, присесть или даже облокотиться на стену (два дня без отдыха, а ежели у кого-то подкашивались от усталости ноги, то судьба его была предрешена). Три дня без сна (и если кто-то вдруг засыпал, то лучше ему было не просыпаться: да, и в этом случае за нарушение он оказывался в директорском кабинете, откуда, как известно, никто не возвращался). Пять дней без воды (водоснабжение на эти дни перекрывалось, а если кто-то в отчаянной жажде осмеливался пить мочу, это каким-то невиданным образом тут же становилось известно директору Барни, и последствия были привычные). И так далее.
Себастьян мотнул головой, отгоняя мысли. Он не мог не признать — Ронни и другие вряд ли стали бы его запугивать, придумывая такие подробности. Но ему настолько не хотелось верить во всё это, и этот месяц, проведённый в школе, вполне себе спокойный месяц… Но прозвенел звонок, и желудок Себастьяна свернулся в узел так же, как и у всех остальных. Страх был заразен и распространялся всё быстрее.
Как во сне толпа мальчишек побрела в спортзал. Директора Барни там ещё не было, и они начали вставать перед скамейками, попутно машинально проверяя, в порядке ли их форма и вычищены ли ботинки. Всё было идеально. Они и правда очень старались, чтобы этот месяц провести спокойно, но, похоже, спокойствие закончилось.
— Добрый день, директор Барни, — стройным хором прозвучало на весь зал.
— Можете садиться.
Мальчики сели так, что ни один звук не нарушил стоящую в зале тишину.
— Я очень огорчён. Очень, очень огорчён, — начал директор Барни, и ему не нужно было придавать тону зловещности, его голос всегда был пропитан ею. — Я долго закрывал на это глаза, но моему терпению пришёл конец.
Гробовая тишина.
— Тим. — Палец директора указал на пухлого, трясущегося от страха мальчишку.
— Да, директор Барни, — прошелестел несчастный, вскочив со скамьи.
— Ты ведь понимаешь, о чём я тут толкую?
Мальчики зажмурили глаза. Тим пропал, это ясно.
На такой вопрос нет правильного ответа.
— Д-д-директор Барни…
— Ну же, Тимми, не бойся, — ласково сказал директор Барни, и эта ласковость прозвучала ужаснее всего, что они слышали.
— Я-я… — Тим громко сглотнул, мечтая только лишь о том, чтобы всё это закончилось. Закончилось для него.
— Понимаешь или нет?
— Н-н-нет…
— Нет? Нет?!
— Простите, дир…
— ЗАТКНИСЬ! ЗАТКНИСЬ И СЯДЬ! — заорал директор Барни, и Тим рухнул на скамейку без чувств. Тело его соскользнуло, завалилось на бок, но никто не пошевелился, чтобы ему помочь. Никто не мог.
— А толкую я вот о чём. Вы, паршивцы, совсем распустились. Посмотрел я ваши дневники. Вы не только непроходимые тупицы, но к тому же и омерзительные лентяи. Только в таком сочетании можно получать столь скверные оценки. Это пренебрежение к учёбе меня БЕСИТ! — Тим вздрогнул и пришёл в себя. Ровно сел на скамейке и уставился в пол. Он не верил, что всё обошлось, но счастлив был неописуемо. Однако у остальных даже не было сил порадоваться за него.
Катастрофа. Одно слово — катастрофа, это знали все. Даже Себастьян.
— Лень непростительна. Пренебрежение — тем более. Я очень, очень разочарован. Вы оскорбляете человеческий род. — Половицы спортзала скрипели под ботинками директора Барни, медленно прохаживающегося перед мальчиками. — Вы оскорбляете эту школу. — Директор Барни остановился, и в зале повеяло холодом. — Вы оскорбляете меня.
Рубашки мальчиков пропитались потом. Оскорбить директора Барни было чистой воды самоубийством, и хотя никто никогда не пытался этого сделать, сейчас все поняли, что это страшное преступление стоит наравне с попыткой побега, если не хуже.
«Кажется, нам конец», — всплыли слова Ронни в голове Себастьяна, и сейчас он был с ними согласен.
— Мы поступим так. С этой минуты вы возьмётесь за ум. Если у кого-то будет хоть одна тройка, пеняйте на себя, неблагодарные бездари. Не говоря уже о двойке.
Себастьян похолодел, а вместе с ним и все остальные. Практически у каждого были тройки. У кого-то даже двойки. И справиться с этим было заданием невыполнимым.
— Вы поняли меня?
— Да, директор Барни, — хор, но уже не такой стройный. Страх делает голос неуправляемым.
— Отлично. Надеюсь, это правда.
Директор Барни вытащил из кармана смятый дневник, расправил и раскрыл его.
— Так-так… Хм-м… Письмо — тройка… Физкультура — тройка… Математика — двойка. Двойка! Какой позор! — Мальчики вжали головы в плечи, каждый молясь, чтобы это относилось не к нему. — Какой позор, Тимми…
Тим не поднял глаз. Его спасение было слишком неправдоподобным, можно было догадаться.
— Зайди-ка в мой кабинет, Тимми, — снова эта ласковость, и Тим не выдержал. Пальцы его вцепились в колени. Он поднял голову на директора Барни, и глаза его, полные слёз, молили о пощаде. Директор Барни уже сбился со счёта, сколько раз он видел эту картину. Она доставляла ему не меньшее удовольствие, чем всё остальное. Всё всегда было одинаково. Все они ломались.
Рано или поздно.
Остальным было жаль Тима, но они знали, что ему уже не помочь, и каждый был рад, что в этот раз выбрали не его. Себастьян сидел в оцепенении, не в силах оторвать взгляда от директора Барни. Они не врали. Не врали, чёрт побери. Это было очевидно в каждом движении, в каждом звуке, в каждой миллисекунде взгляда директора Барни.
— П-п-пожалуйста…
— Что-что?
— П-п-пожалуйста, простите меня… Я исправлюсь, клянусь, — голос Тима сорвался на шёпот, но в тишине зала был слышен каждый звук.
— О, я не сомневаюсь, — улыбнулся директор Барни. — Не сомневаюсь. Жду тебя в моём кабинете, и третий раз я повторять не буду, Тимми. Остальные — марш на занятия, олухи!
Мальчишек как ветром сдуло. Только Тим остался сидеть на скамье, не в силах подняться.
Они вбежали в класс, расселись за парты и достали учебники. Все были подавлены. Так всегда бывало после общения с директором Барни, но в этот раз он дал им новую и весьма сильную угрозу, и каждый теперь думал, что же ему делать с чтением, письмом, физкультурой, географией или математикой.
— Что с ним будет? — шёпотом спросил Себастьян у Ронни, сидевшего перед ним.
Прозвенел звонок, и все встали, приветствуя учителя. Тот кивнул, и все сели на свои места. Учитель стал копаться в столе, пытаясь выудить оттуда географическую карту. Себастьян же никак не мог выбросить из головы Тима, оставшегося в зале.
— Что будет с…
— Забудь про него, — оборвал его Ронни.
Тим не вернулся.
* * *
После спортзала Себастьян с ужасом убедился, что всё, о чём ему говорили, было правдой. Бедный Тим всё никак не выходил у него из головы. Себастьян пытался верить в то, что Тима просто выбросили на улицу, что он теперь бродит где-то там под дождём, без крова, голодный, замёрзший, но живой. Однако в глубине души он знал, что это не так. Все знали. Все знали, что тому, кого вызвали в кабинет, уже не суждено было встретить новый день. По крайней мере, не на этом свете. Как это происходило, никто точно не знал, но каждый, закрывая ночью глаза, невольно представлял себе то, чего никогда и не хотел бы узнать. Кто-то ясно видел, как задний двор, на который им категорически запрещалось выходить, заполняется маленькими телами, и травы на дворе постепенно становится совсем не видно. Кто-то видел, как ученики исчезали в подвальной печи, и пеплом директор Барни удобрял цветы в своём кабинете. Кто-то был уверен, что директорский кабинет заставлен чучелами учеников. Как было на самом деле, знал только тот, кто имел несчастье быть вызванным в кабинет директора Барни. Но рассказать об этом он уже не мог.
Потянулись мрачные дни. Директор Барни бушевал по каждому поводу, и ярость его повергала всех в подобие комы. Страх достигал своего максимума, а потом превышал и его. Ко всем обязанностям прибавились ещё эти оценки, и все из кожи вон лезли, чтобы их исправить. Нескольких учеников вызывали, и больше их никто не видел. Страх проник в каждую клеточку мозга каждого, кто имел несчастье находиться в этой школе.
— Надо бежать, — вырвалось у Себастьяна, в очередной раз проснувшегося посреди ночи от кошмара.
— Ты что, совсем тупой? Отсюда не сбежать, сколько раз тебе можно говорить? — Ронни недовольно повернулся на другой бок, изображая из себя разбуженного, но на самом деле он и не засыпал. Его мучили предчувствия, что новую тему по математике он так и не поймёт. А это грозило двойкой. Двойкой, как сказал директор Барни.
— Нет, ну неужели никому так и не удавалось сбежать?
— Нет. Мы тебе уже всё рассказывали.
— А закончить школу?
Ронни повернулся на спину и вздохнул.
— Нам всем здесь от двенадцати лет. Чтобы закончить эту школу, нужно достичь шестнадцати. Нужно было, до прошлого года.
— А теперь?
— А теперь — восемнадцати. Нереально. Нереально дожить здесь до восемнадцати. Если тебе не семнадцать, конечно. А таких среди нас нет.
Себастьян похолодел.
— Но почему…
— В прошлом году двое счастливчиков выпустились. Представляешь, попали сюда в тринадцать и дожили до шестнадцати. Не знаю, как им это удалось. Хорошие были ребята.
— И что, он их просто так отпустил? На самом деле?
— Да. Ему больше ничего не оставалось. Парни закончили школу, так что он не мог их больше здесь удерживать.
— И они рассказали, что тут происходит? Пошли в полицию?
Ронни ничего не ответил.
— Хоть что-то сделали?
Кровать скрипнула, и Себастьян увидел спину Ронни. Тот отвернулся к стене, зажмурив глаза и надеясь, что Себастьян не станет продолжать разговор. Слишком горьким он был.
— Ронни?
Тишина.
— Почему ты молчишь?
— Отсюда не сбежать, — зло сказал Ронни. — Даже если ты отсюда вышел, это место никогда тебя не отпустит.
— Что ты имеешь в виду?
— Да, они что-то сделали. Да, они ходили в полицию. Но, как видишь, мы всё ещё здесь, всё продолжается, а эти двое гниют в земле, как и все остальные. Нам всем одна дорога.
— Что ты име…
— Три года. Они продержались три года. Никому это не удавалось. Но за эти три года они изменились. Всё в них изменилось. Такое не проходит бесследно для психики. Вышли отсюда уже не они.
— Но ведь…
— Один из них и правда пошёл в полицию. Но перед дверью в полицейский участок остановился, долго стоял, а потом развернулся и бросился под ближайший автомобиль. Директор Барни нам сказал, размазало его знатно. Он сам себя наказал за свою неблагодарность, сказал он.
— Боже, — вырвалось у Себастьяна.
— Но я-то знаю, в чём дело. Бедняга представил, что ему придётся всё это в подробностях рассказывать, всё это снова переживать, и, наверное, даже снова переступить порог школы, и он понял, что не вынесет этого. Не сможет. Но и жить, зная, что мы тут продолжаем коптиться в аду, а он вроде как свободен, но нас не вытаскивает, жить, ощущая вину, жить, каждую ночь мучаясь кошмарами и воспоминаниями… Разве это жизнь? Из двух зол он не смог выбрать меньшее. Лучше было умереть. Для него в тот момент так было лучше. И я его понимаю. У меня уже крышу начинает сносить, а за три года-то…
— Но это же был единственный шанс прекратить всё это!
— Не единственный. Был ещё один, и второй парень его использовал. Попытался, по крайней мере. Отсюда невозможно пролезть на улицу, но вот с улицы сюда… Ночью он залез в окно кабинета директора Барни, и цель у него была одна — воплотить в жизнь нашу мечту. У всех у нас она общая — чтоб этот сукин сын сдох. Но директор Барни не исключал возможности такого поворота, и нельзя сказать, что он был застигнут врасплох. В общем, закончилось для директора Барни всё несколькими ранами, а для парня того — сломанной шеей. Ублюдок столкнул его с лестницы. Потом было разбирательство, суд признал это самозащитой, долго тянулась какая-то ерунда, а в итоге порог повысили до восемнадцати лет. Мол, в шестнадцать умы наши ещё неокрепшие, да и контролируем мы себя плохо. Но на самом деле директор Барни просто не хотел повторения этой ситуации. Если до шестнадцати ещё можно было как-то протянуть, и эти двое это доказали, то до восемнадцати… Он просто не хотел никого больше выпускать. Никогда.
Повисла гнетущая, тягучая тишина. Себастьян закрыл глаза, не в силах совладать с болью, заполнявшей его сердце. Ронни лежал, уставившись в потолок немигающим взором. Так прошло около получаса.
— А в его кабинете есть телефон?
— Чёрт, Себастьян, я откуда знаю? Я похож на того, кто был в его кабинете? Да даже если бы телефон стоял посреди столовой, к нему бы никто не притронулся. Кому звонить? В полицию? Ну приедут они, начнут расспрашивать, ничего не обнаружат и уедут, а нас всех потом порвут на части. Родственникам или знакомым? Так у нас никого нет. Если бы мы хоть кому-то были нужны, нас здесь бы не было.
— Что же нам делать, Ронни? Что же нам делать? — в отчаянии вырвалось у Себастьяна.
— Не знаю, дружище. Но, похоже, выхода нет. Я что-то сомневаюсь, что мы продержимся тут до восемнадцати. А если вдруг такое произойдёт, то мы уже будем такими психами, что лучше было бы сдохнуть. Тут уже через год все становятся психами, проверено. В большей или меньшей степени. Ах да, ещё есть вариант прикончить себя.
— Не хотелось бы… — поёжился Себастьян.
— Это пока. Тут и до такого кошмарного состояния доходили. За последние восемь лет здесь произошло девять самоубийств, и два из них — при мне. Очень сильно подкашивает, надо сказать, а ещё наталкивает на определённые мысли.
— Кошмар, — покачал головой Себастьян. — Просто кошмар. Я бы не смог на это смотреть. Надеюсь, этого больше не произойдёт.
— Произойдёт, будь уверен. Всё же какое-никакое, а это решение. Кто знает, может, гораздо лучшее, чем подняться по этой чёртовой лестнице в его кабинет, чтобы не вернуться.
Себастьян промолчал. В глубине души он знал, что Ронни прав.
— Оконная реформа. Однажды мы сидели на уроке математики, и учитель, мистер Степлтон, посреди урока просто выронил книгу на пол, подбежал к окну и выпрыгнул. Просто в какой-то момент он сломался. А упал он очень неудачно, хотя это как посмотреть. Всё же он в итоге умер. На окнах с тех пор стоят решётки. Не знаю, как директор Барни искал ему замену, но математики у нас не было довольно долго, поэтому теперь нагоняем такими бешеными темпами. А ещё был Льюис.
— Хватит, — сказал Себастьян, но оба они знали, что просто так разговор не закончится.
— Льюиса так довело это всё, что он устроил реформу столовых приборов. Знаешь, как это было? Зрелище то ещё. Думаю, никто из нас этого никогда не забудет. Во время обеда он с самым спокойным лицом взял три вилки и воткнул себе в сердце. Только вот он промахнулся и попал в лёгкое, отчего стал дико задыхаться, плеваться и захлёбываться кровью, истекать кровавыми слюнями, при этом пытаясь кричать от боли. Корчился он на полу довольно долго, и мы уже готовы были сами его прикончить, чтобы он не мучился так. Но побоялись. Было просто ужасно. Чёрт, этого не забыть. После этого все вилки были изъяты, и у нас остались только ложки.
Себастьян отвернулся к стене и натянул на себя с головой одеяло. Он не хотел больше этого слышать. Не хотел знать. Всё и так было хуже некуда, а с каждым словом Ронни кровь в жилах стыла всё сильнее. Это просто какой-то кошмар.
Который никогда не закончится.
* * *
Следующая неделя прошла относительно спокойно. Директор Барни, казалось, был занят каким-то другими делами, нежели подыскиванием себе новой жертвы или проверкой их оценок. За неделю они выбились из сил, пытаясь исправить свои оценки, и почти всем это удалось. Учителя шли им навстречу. Хоть все они и были в положении, похожем на их, хоть они и подчинялись директору Барни, всё же никому не хотелось, чтобы кого-то из учеников вызвали в кабинет из-за оценки по их предмету. Математик, мистер Дэвидсон, так вообще им прямо сказал:
— Слушайте, я не собираюсь брать лишний грех на душу. Да и математика моя, скажем прямо, вам не особо нужна, особенно здесь и сейчас. Так что вы не бойтесь. Просто старайтесь, ладно? А с оценками я улажу.
Ребята были безмерно ему благодарны. Именно с математикой, как это водится, проблем было больше всего. Особенно учитывая, что они шли быстрыми темпами и загружались большими объёмами. Но поняв, что все учителя, и особенно математик, на их стороне, бедняги вздохнули с облегчением.
Следующую неделю директор Барни также не выказывал особого интереса к их учебным успехам. Казалось, он чего-то ждёт, но никто не мог понять, чего именно. За две недели все оценки были исправлены. Даже у самых безнадёжных учеников больше не было троек, не то что двоек. Даже по математике.
Казалось, все вместе они успешно миновали разразившийся было кризис.
В одну из бессонных ночей (хоть вроде всё и было нормально, чутьё подсказывало, что что-то не так, и всё это сильно давило на психику), ворочаясь в своей кровати, Себастьян снова и снова прокручивал в голове давний разговор с Ронни. Тогда Себастьян удивился, почему никто не интересуется, куда пропадает столько учеников.
— Как такое возможно?
— Легко, — отозвался Ронни. — Как и всё тут.
— Но почему?
— По бумагам всё сходится. Всегда. Уж не знаю, что он с ними делает, с именами нашими и нашим количеством, но только когда приезжает проверка, которой плевать на то, что здесь происходит, всё всегда сходится.
— Но это же просто невозможно!
— Почему?
— Но… Но как? Что значит «почему»?
— Кому какое дело? На нас всем плевать. Всем плевать, понимаешь? Думаешь, они запоминают хоть кого-то из нас, когда приезжают сюда? Думаешь, им интересно хоть что-то, кроме того, что бумаги в порядке, а директор Барни дружелюбен и приветлив с ними, как всегда? Да даже если бы что-то было не так, не уверен, что им было бы хоть какое-то до этого дело. Впрочем, этого мы не знаем наверняка, потому что всегда всё сходится. Живые мы сходимся с нами бумажными. Всё идеально. И все довольны.
— Это просто невероятно.
— Забудь эту фразу, Себастьян. Здесь она не имеет смысла. Здесь возможно всё. — Ронни горько усмехнулся, потом добавил: — Кроме побега.
И теперь, несколько недель спустя, Себастьян забыл эту фразу, как и многое из своей прошлой, теперь казавшейся ему далёким сном, жизни.
Здесь возможно всё.
Обстановка медленно, но верно накалялась. К постоянному страху теперь стало примешиваться постоянное ожидание подвоха. Ну не могло всё быть хорошо так долго. Просто не могло. Исправленные, а чаще — просто нарисованные учителями оценки перестали давать чувство спокойствия. В этой школе оно никогда не задерживалось. Все чувствовали, что директор Барни неспроста оставил их в покое — все ждали. Ждали очередного кошмара. И чем дольше они ждали, тем хуже становилось. О, директор Барни прекрасно знал, что они чувствуют. И он умело и с удовольствием этим пользовался.
Неизвестность страшит всегда, особенно, если дело касается директора Барни. Зная, за что последует наказание, можно попробовать его избежать. Можно с упоением отдраивать школу, вести себя тише воды, ниже травы, не нарушать ни единого правила, безукоризненно следовать им, не иметь больше двоек и троек — можно. Таким образом пережить очередной день без потерь — можно. Но не зная, к чему придерутся на этот раз — невозможно. Ведь это может быть что угодно, и ты не узнаешь, что, пока не настанет наказание. Наказание за то, чего ты и в мыслях не отнёс бы к тому, чего делать не следовало. А когда узнаешь, уже будет поздно.
Каждый уже понимал, что грядёт что-то ужасное, если после разговора в спортзале директор Барни практически оставил их в покое. Каждый понимал, что это неизбежно. И каждый хотел бы узнать, в чём будет заключаться новая угроза. Но, конечно, не на своём опыте.
И так было всегда. Поэтому дружба ни у кого из них как-то не складывалась. Какая уж тут дружба, когда ты всё время хочешь, чтобы на этот раз кара директора Барни пала не на тебя, а на кого угодно другого? Когда ты готов смотреть, как уводят другого, только бы узнать, за что, и чего теперь опасаться? Когда каждый озабочен лишь своим выживанием, и жизнь другого не имеет значения? Когда ты постоянно боишься за себя, и бояться за кого-то ещё попросту не остаётся сил? Когда, даже если ты вдруг всё-таки подружился с кем-то, ты в любой момент можешь лишиться своего друга? Какая уж тут дружба? Не в ходу она была в этой школе. Так было не всегда, но постепенно так само собой сложилось. И так было, наверное, правильно. Но Ронни так не считал. Как и Себастьян.
— В одиночку быстрей с ума сойдёшь, — сказал ему как-то Ронни, и он был прав. Когда есть хоть кто-то, кто разделяет с тобой твой страх — действительно разделяет с тобой, а не просто тоже чувствует его, — когда есть кто-то, кто своим взглядом, словом, перешёптыванием перед сном доказывает тебе, что ты не одинок в этом аду так, как все остальные, — тогда у тебя есть якорь. Якорь значительно упрощает задачу не сорваться и не уплыть в пучину безумия и ожесточения.
Они оба знали, что дружба напоказ приведёт лишь к тому, что директор Барни лишит их этой дружбы. Он бы не потерпел такого. Оба бы пострадали. Поэтому они отчуждённо, как и все тут, держались на виду, но каждый, только кинув мимолётный взгляд на другого, чувствовал поддержку и облегчение. Эта была не совсем обычная, хрупкая, возможно, недолговечная, но дружба.
Страх и ожидания давили всё сильнее и сильнее. Нервы не выдерживали. Ночная тишина потихоньку сводила с ума, и почти никто не мог заснуть. Кто-то ворочался, кто-то просто изо всех сил зажмуривал глаза, кто-то шептался.
— Как думаешь, завтра что-то будет? — спросил Себастьян, только чтобы что-то спросить.
— Не знаю, — пожал плечами Ронни. — Вариантов немного: или да, или нет.
Себастьян замолчал, чувствуя, что сегодня разговор не клеится. Около минуты он думал, стоит ли ещё что-то сказать, или лучше попробовать хоть немного поспать.
— Правда, есть ещё вариант, — еле слышно добавил Ронни.
— Да? — встрепенулся Себастьян.
— Помнишь, я говорил тебе, что у нас тут общая мечта на всех? И это не мечта выйти отсюда, уже нет. Такой мечты уже недостаточно после всего, что тут переживёшь.
Себастьян помнил. «Ночью он залез в окно кабинета директора Барни, и цель у него была одна — воплотить в жизнь нашу мечту. У всех у нас она общая — чтоб этот сукин сын сдох», — зазвучал у него в голове голос Ронни.
— Помню, — прошептал Себастьян, чувствуя, что что-то может измениться.
— Думаю, это неплохой вариант.
— Но как?! — сорвалось с губ Себастьяна. — Ты же рассказывал…
Да, Ронни рассказывал, что на директора Барни уже не раз покушались. Но каждый раз безуспешно. Они были слишком слабы, слишком напуганы, страх въелся в них и мешал действовать. Когда-то пытались привлечь на помощь взрослых — учителей, но из той затеи ничего хорошего не вышло, и с тех пор ни один учитель не соглашался иметь с ними дела. Такого дела. К тому же поговаривали, что директор им весьма неплохо платит, а кого-то и шантажирует. Без взрослых справиться было сложно. Нет, если бы они, всё чётко распланировав, все вместе стали бы осуществлять задуманное, у них бы получилось. Получилось бы, и никого из них здесь не было бы, как и не было бы, наверное, самого этого места. Но в том и была проблема — чётко всё распланировать не удавалось. Но даже не это было самой главной проблемой. Ею было то, что они не могли действовать все вместе.
Страх им не давал.
После нескольких неудачных попыток, после того, что директор Барни сделал с теми, кто осмелился задумать против него что-то нехорошее, любая решимость и отвага угасли бы. Постепенно почти каждый пришёл к мысли, что никогда не свяжется ни с чем таким — слишком опасно. Слишком страшно. Почти каждый, и поэтому даже если и находились отчаянные, им никак не удавалось сколотить хоть маленькое войско. А в одиночку действовать было бессмысленно, в этом они тоже успели убедиться.
— Да, рассказывал, — кивнул Ронни.
— Что-то изменилось?
— Ты, — бросил Ронни, и у Себастьяна похолодело сердце.
— Что?
— Я всегда был за то, чтобы прикончить его. Всегда. Даже строил планы, которые могли бы сработать. Могли бы, правда. Но мне никогда не удавалось убедить в этом остальных. Они слишком запуганы. Забиты. Они уже почти мертвы, Себ.
— Бояться здесь — нормально, — пробормотал Себастьян.
— Они бесполезны.
— Но…
— Но! — Ронни повернулся лицом к Себастьяну. Глаза у него горели. Себастьян впервые увидел в них огоньки вдохновения и решимости. — Не все!
— Ты думаешь…
— Хочешь прикончить его или нет? Хочешь остановить всё это?
Себастьян не отвечал. Не мог ответить. Сердце колотилось слишком быстро, слишком громко, ему казалось, что директор Барни слышит его. Что он знает, о чём они говорят. Что сейчас он войдёт сюда, и…
— Чёрт! — внезапно вырвалось у Себастьяна. Но не от страха, а от злости. Оттого, что он так запуган. Оттого, что сердце предательски доказывает это. И от дерзости озвученных мыслей. Оттого, что это и правда шанс. — Чёрт…
— Полагаю, это значит «да», — усмехнулся Ронни.
— Я сомневаюсь, что смог бы, — решимости у Себастьяна и так почти не было, а после озвученного «да» её не стало совсем. — Думаю, что…
— Я не спрашиваю тебя, что ты думаешь, — внезапно жёстко оборвал его Ронни. — Не спрашиваю, смог бы ты или нет. Я спрашиваю: хочешь остановить всё это?
— Да, но… Но почему ты говоришь об этом именно сейчас?
— Потому что появился шанс справиться с этим.
— Тебя же никто не слушает! Никто не хочет рисковать, ты сам говорил!
— Кроме Саймона.
— Саймона?
Ронни кивнул.
Саймон, этот невзрачный паренёк, ничем не выделялся среди остальных. Только держался, пожалуй, ещё отчуждённее других. Себастьян не знал, когда и как Ронни успел с ним договориться, но понимал: для Ронни это победа. Наконец-то кто-то поддержал его идею. Это даже немного пугало.
— Ну так что?
— Что? — тупо переспросил Себастьян, хотя уже всё понял. Понял, но не хотел признаваться Ронни в том, что чувствует. Не хотел душить его зародившуюся надежду.
— Нас двое. Я и Саймон. Мы настроены решительно, но двое — тоже мало. Для моего плана. Нам нужен третий, понимаешь? Нужен, — с нажимом повторил Ронни. — Втроём мы точно справимся. Подумай только, мы сможем это сделать!
— Мы. Ты, Саймон и я.
— Конечно, — кивнул Ронни. — И неважно, что ты там думаешь. Важно — хочешь ли ты. Готов ли ты. Вот что важно. И поверь мне, мы справимся. Пора положить этому конец. Пора! И согласие Саймона полностью меня убедило в том, что подходящий момент наконец настал. Вопрос лишь в том, согласен ли ты. Мы с Саймоном очень надеемся, что да. Не ломай нам жизни, возможно, это наш единственный шанс, Себ.
— А если не получится? Ты хоть представляешь, что с нами сделают?
— Получится, — твёрдо ответил Ронни, и уверенность в его голосе не оставляла сомнений.
Сомнения Себастьян испытывал лишь по поводу себя.
Он сомневался, что сможет убить человека. Даже такого, как директор Барни. Он знал, что слаб. Он знал, что запуган не меньше других. И больше, чем Ронни. Знал, что может в любой момент подвести их. Знал, что может провалить их план. Не по своей воле, но так может случиться. Последствия неудачи пугали его так же сильно, как и всех остальных. Он понимал их. Понимал, почему они не соглашаются. Он сам чувствовал то же самое. Он не такой, как Ронни. Но он не мог признаться ему в этом, не мог разочаровать его. По крайней мере, не сейчас.
— Ну что — ты согласен?
Себастьян посмотрел на Ронни, воодушевление которого не угасало, и выдавил из себя:
— Я… В общем, тут надо подумать.
— Подумай, — кивнул Ронни, и Себастьяну полегчало.
Он отвернулся к стене, но знал, что теперь-то уж точно заснуть не сможет. В голове непрестанно возникали картины одна ужаснее другой, но все они были итогом их неудачного покушения.
— Подумай и прими единственное правильное решение, — добавил Ронни и тоже отвернулся к стене.
Себастьян закрыл глаза. В ту ночь он так и не смог заснуть.
* * *
Следующий день принёс им то, чего они так долго боялись, то, что они хотели узнать, то, с чем им теперь предстояло бороться. Нелёгкий был день. Никто из них и не догадывался, что всё повернётся именно так — хотя ход довольно-таки логичный.
Конечно, во всей этой истории с оценками был подвох.
Они сидели на уроке математики, бледные, напряжённые, честно пытающиеся понять новую тему. Честно, но тщетно. Математик, мистер Дэвидсон, старался объяснять как можно понятнее, но это не помогало. Тема была сложная, возможно, её следовало преподавать ученикам постарше. Сейчас же перед ним сидели напуганные мальчишки от двенадцати до пятнадцати лет, меньше всего нуждающиеся в этой новой теме по математике. Мистер Дэвидсон вздохнул. Со своей стороны он делал всё, что мог. За последнее время ни у кого из учеников не было ни двоек, ни троек по математике — он пытался хоть как-то уберечь их от гнева директора Барни. Другие учителя тоже шли ребятам навстречу, но если по географии или письму мальчики действительно подтянули свои оценки, и завышать их почти не приходилось, то по математике эти четвёрки в большинстве случаев были не просто натянутыми — они были нарисованными. Ребята были счастливы, но мистера Дэвидсона это беспокоило. Сейчас, вглядываясь в их бледные лица, он ясно чувствовал, как хрупка выстроенная ими защита. Он решил ещё раз максимально повторить тему с самого начала.
Ронни сидел и с ненавистью смотрел на листок, лежащий перед ним. Исписанный цифрами. Непонятными цифрами. Почерк у него был аккуратный, но смысл переписанного с доски ему никак не давался. Ронни хотелось разорвать этот листок на мелкие кусочки, уничтожить свидетельство его слабости, брешь в его знаниях, брешь в его оценках. Ронни злился. Не на себя, не на мистера Дэвидсона. На математику. На эти бессмысленные, ненавистные цифры, буквы и линии. И на директора Барни. Схожие чувства испытывало больше половины класса. Себастьян снова и снова обводил ручкой уже написанные формулы, как будто если бы они стали жирнее, то стали бы понятнее. Саймон упорно смотрел на доску, ожидая, что ему откроется истина и новая тема сама проникнет к нему в голову. Кто-то беззвучно повторял за мистером Дэвидсоном все его объяснения. Кто-то их записывал. Кто-то с таким нажимом водил ручкой по бумаге, что та прорывалась. Но никто не думал о своём, не смотрел по сторонам, не ожидал с нетерпением конца урока. Все старались понять. Все правда старались. Но это не помогло.
Где-то за десять минут до окончания урока, когда все уже почти выдохлись от тяжёлой информации и попыток её понять, в кабинет зашёл директор Барни. Все, включая мистера Дэвидсона, мгновенно напряглись. Появление директора Барни не сулило ничего хорошего. Абсолютно ничего.
— Здравствуйте, директор Барни, — мальчики встали, как и было положено.
Директор Барни кивнул, но не сказал им садиться. Это был плохой знак.
— Урок скоро закончится, но мы тут ненадолго задержимся, — бесстрастно сказал директор Барни. Затем он подошёл к столу мистера Дэвидсона и взял в руки журнал. — Так, так… Хм… Ого!
Ребята застыли как вкопанные, по многим спинам пробежали мурашки. Мистер Дэвидсон кашлянул.
— Да вы молодцы, — сказал директор Барни, и в голосе его явно слышалась издёвка. — Подумать только, ни одной тройки, да! А тема-то, как я погляжу, не из лёгких. Верно, мистер Дэвидсон?
— Верно, — кивнул математик. Ничего другого ему не оставалось.
— Н-да… Я прямо-таки восхищён. В своё время эта тема даже мне давалась нелегко.
В классе повисла убийственная тишина.
— Наверное, вы очень хорошо объясняете, мистер Дэвидсон? Может, ещё как-то помогаете…
— Стараюсь, чтобы было понятно, — негромко отозвался учитель, уже зная, что произойдёт дальше.
— И как? Понятно? — обратился директор Барни уже к классу. Никто не произнёс ни слова, хотя все знали, что нужно что-то ответить. Но что именно? Пока они лихорадочно соображали, опустив глаза в пол, директор Барни сам выбрал жертву.
— Энди?
Высокий светловолосый парень медленно поднял глаза.
— Что? — довольно-таки дерзко спросил он. По крайней мере, так показалось всем, кто находился в классе. Всем, кроме директора Барни. Он не обратил на это никакого внимания.
— Мистер Дэвидсон понятно объясняет?
— Даже очень. — Это тоже прозвучало дерзко.
— Я так и думал. Настолько понятно, что даже ты, непроходимый тупица, ещё недавно имеющий сплошные трояки, написал все последние работы на четвёрки.
— Я старался, — голос Энди был твёрд, но дерзости в нём поубавилось.
— Не сомневаюсь.
Директор Барни взял в руки учебник. Пробежав глазами несколько страниц, он вздохнул, поднял глаза на по-прежнему стоящих ребят и сказал:
— Можете садиться. А ты, Энди, иди-ка к доске. Продемонстрируй мне своё старание, будь любезен.
Класс шумно сел, словно выдохнув накопившееся напряжение. Энди замялся.
— Не отнимай у нас время, Энди.
Все уже поняли, что сейчас произойдёт. Это было неожиданно, но в то же время вполне ожидаемо. Директор Барни дал им расслабиться, позволил решить, что они выполнили условия, что они в безопасности. А потом, как и следовало ожидать, нанёс удар. Удар столь логичный, что каждый удивился: как же он раньше не догадался?
Несчастный Энди медленно поплёлся к доске. Очень медленно. Так, словно шёл на виселицу. И он, и мистер Дэвидсон понимали, что это было недалеко от истины. А лучше всех это понимал директор Барни.
— Простейший пример из этой темы. Просто элементарный. Легче, чем те, за которые ты получил четвёрки. Просто детский сад. — Директор Барни взял мел и написал на доске пример. Все таращились на доску, как на дверь в ад. Никто не рискнул бы дотронуться до неё.
Мистер Дэвидсон знал, что это и правда самый лёгкий пример из темы. Что его решение умещается в одну строчку, и оно написано в учебнике. Чтобы спастись, Энди должен был воспроизвести ровно то, что написано в решении. Это удовлетворило бы директора Барни. Но мистер Дэвидсон знал, что он не сможет. Знал это и Энди.
— Вперёд, — кивнул на доску директор Барни и вложил в холодные руки Энди кусочек мела.
Энди повернулся спиной к классу, бесконечно ему сочувствующему. Каждый хотел бы, чтобы Энди решил пример. Чтобы что-то сломалось в системе директора Барни. Чтобы на этот раз обошлось без жертв.
Прозвенел звонок, но никто не шелохнулся. Мистер Дэвидсон неотрывно смотрел на Энди, мечтая взглядом передать ему решение, но не мог никак ему подсказать.
Себастьян благодарил Бога, что директор Барни выбрал не его. Он ненавидел себя за это. Но ничего не мог с собой поделать. А ещё Себастьяна нещадно тошнило. Казалось, он проглотил весь страх, который копился с того момента, как директор Барни вошёл в класс, и теперь желудок его распадался на молекулы. Страх пожирал его изнутри. Себастьян подумал, что с ним будет, если его всё-таки стошнит. Прямо на парту.
— Ну что же ты медлишь? — голос директора Барни отвлёк внимание Себастьяна от тошноты. — Ещё немного, и я подумаю, что ты понятия не имеешь, как его решать.
У Энди было два варианта: просто ответить «так и есть», что явилось бы чистой правдой, или попытаться что-то накорябать на доске. Хоть что-то. Ему жутко хотелось выбрать первый вариант и покончить с этим, но он не хотел подставлять мистера Дэвидсона. Ему и так достанется. Может, чуть меньше, если Энди изобразит хоть какую-то умственную деятельность.
И Энди начал выводить на доске какие-то цифры и символы.
Класс смотрел на это, затаив дыхание. Надежда затеплилась в них, но поверить в неё было сложно. Впрочем, как оказалось, никакой надежды и не было. То, что написал Энди, было просто набором чисел и знаков, весьма отдалённо напоминавшим правильное решение.
— Ну-ну-ну, что же ты, Энди, — разочарованно протянул директор Барни, глянув в учебник.
— Ну что же ты?
Энди промолчал.
— Он просто разволновался, у него такое бывает, — попытался как-то защитить беднягу мистер Дэвидсон. Он понимал, что это чревато, но молча стоять не мог.
— Разволновался, значит?
Энди кивнул.
— Никогда не думал, что можно разволноваться настолько, чтобы напрочь потерять всякое представление о теме.
Директор Барни захлопнул учебник с громким хлопком. Все вздрогнули.
— Что ж…
Он снова взял в руки журнал и долго его изучал. Потом повернулся к математику и неестественно дружелюбно спросил:
— Уж не завышаете ли вы им оценки, мистер Дэвидсон?
Бедный мистер Дэвидсон растерялся от такого прямого вопроса.
— Я… Ну, понимаете… В каждом отдельном случае…
— О, понимаю.
Директор Барни повернулся к классу и сказал, указывая на доску:
— Если вы думаете, что вот это вам сойдёт с рук, то вы ошибаетесь. Не стоит злоупотреблять моим доверием. Это понятно?
— Да, директор Барни, — отозвался класс. Вышло надтреснуто и жалко.
— Хорошо. А ты, Энди… — директор Барни повернулся к парню. — Ничего не поделать, придётся побеседовать с тобой в моём кабинете. Может, там ты научишься решать элементарные примеры. И не врать, — добавил он, глянув и на мистера Дэвидсона.
Энди молчал. Сказать было нечего. Было бы окно — можно было бы подбежать к нему. Но именно в этом кабинете один раз уже выбросились из окна, и теперь это, увы, невозможно. Энди просто проиграл. Проиграл математике. Проиграл директору Барни. Что тут скажешь? Умолять он не собирался, да это и бесполезно.
— Марш отсюда, — бросил директор Барни, и ребят как ветром сдуло.
— Может, вам стоит немного пересмотреть методику преподавания? — обратился он к мистеру Дэвидсону, многозначительно взглянув на окно с решёткой. Мистер Дэвидсон знал, что предыдущий математик выбросился из окна. Знал и многое другое. Но отвечать директору Барни не стал. Ему было горько и омерзительно. Ему было по-настоящему плохо.
Директор Барни, так и не дождавшись ответа, усмехнулся и пошёл в свой кабинет. Энди поплёлся за ним. Выбора у него всё равно не было.
Себастьяна тошнило в туалете. Он отравился страхом и пытался от него избавиться. По крайней мере, так, и довольно ясно, он себе это представлял. Себастьян знал, что если директор Барни начнёт проверять их реальные знания, численность учеников резко поубавится. Он думал о своём последнем разговоре с Ронни. Думал о Саймоне. О том, что они предлагали сделать. Себастьян настолько ослаб, что еле поднялся с колен. Похоже, вариантов нет. Они должны это сделать, иначе в следующий раз у доски может оказаться сам Себастьян, или Ронни, или Саймон. Себастьян медленно пошёл в комнату отдыха, где они спали. Идя по коридору, он представлял себе Тима и Энди, которые так же шли по этому коридору, но за директором Барни. В его кабинет. И не возвращались.
Пошатываясь, он вошёл в комнату и сказал Ронни только два слова:
— Я согласен.
* * *
Выборочные проверки продолжились. Учителей это здорово припугнуло, и бог знает, что именно имел против них директор Барни, но идти против него они не стали. Никто больше не завышал оценки. В том числе и мистер Дэвидсон. Потому что учителя математики у них снова временно не было. Поговаривали, что он уволился.
— Уволился? Отсюда так просто не уволиться, — покачал головой Ронни. — Боюсь, он пострадал из-за нас.
— И что с ним теперь? — в голове у Себастьяна сразу возникло много разных, испуганных мыслей, но он старательно их отгонял.
— Кто знает…
Себастьяна передёрнуло.
— Господи, как можно быть таким… Таким, как директор Барни. Как?!
Ронни понимал, что это скорее риторический и отчаянный вопрос, но всё же задумался.
— Знаешь, говорят, когда-то давно он сам здесь учился. Раньше это здание было обычной школой. Спустя годы она стала совсем запущенной, её собирались закрывать и сносить. Но в то же самое время один из её бывших учеников как нельзя кстати получил наследство. Это был директор Барни. Он выкупил и отреставрировал здание, сохранив школьный профиль по желанию властей, но добавив ещё один по собственной инициативе. Он стал полновластным хозяином в своём личном мире, своей школе-приюте, единолично контролирующим всё и вся. Говорят, к тому времени, как он стал здесь директором, он уже немного тронулся. И не факт, что на это не повлияло его обучение здесь. Похоже, это место никогда не отличалось доброжелательностью.
— Кто говорит?
— Ну-у… Мы как-то подслушали разговор бывшего математика с учителем физкультуры. Они это обсуждали. Заметив, что мы всё слышали, они так струхнули, что всем понаставили пятёрок. Как будто мы бы рассказали директору Барни. Хотя, по идее, мы должны были.
— Кошмар. Если это правда, то сколько же это всё длится?
— Не знаю. Наверное, вечность. И наверняка кто-то из нас тоже двинется настолько, что сменит директора Барни на его посту, — усмехнулся Ронни. — Но чёрта с два это буду я, — добавил он жёстко.
— И уж точно не я, — Себастьяна передёрнуло. — А что значит «должны были»?
— То и значит. Доносить друг на друга — неписаное правило, хотя мы редко им пользуемся.
— Ненавижу это. Вот уж чего я точно никогда не сделаю.
— Не зарекайся, Себ. Захочешь жить — сделаешь что угодно. Точно тебе говорю. Не зарекайся.
Себастьян лишь покачал головой.
Энди больше никто не видел, как и тех, кто также не прошёл проверку директора Барни. В школе воцарилось безмолвное отчаяние, как туман обволакивающее несчастных ребят. Только Себастьян, Ронни и Саймон не поддавались ему. Потому что у них была надежда.
У них был план.
План этот они обсуждали пять дней. Каждый день любого из них могли вызвать к доске, и маловероятно, что это обошлось бы. Но им нужно было всё продумать. До мелочей. Ночами они шептались, спорили, каждого то и дело не устраивала какая-либо деталь плана, но в итоге они сошлись во мнениях. Каждому была отведена конкретная роль. Важная роль. Только втроём, только вместе они смогли бы осуществить свой план. Они были довольны.
Себастьяна всё ещё тревожила эта затея — он не сомневался в Ронни, почти не сомневался в Саймоне. Но в себе сомневался. Он не знал, как поведёт себя в случае, если что-то пойдёт не так. Не мог за себя поручиться. Но искренне решил сделать всё, чтобы план удался. Ронни и Саймон верили в него.
Когда план был готов, им оставалось лишь ждать удобного момента. Саймон хотел сделать всё как можно скорее, он рвался в бой, но Ронни, который безоговорочно был признан главным, выжидал. Ему самому страсть как хотелось действовать, но необходимо было ждать. Ждать приезда представителей комитета. Он был неотъемлемой частью плана. Без них они не могли действовать. В разговоре учителей они подслушали, что это будет на днях.
Остальные ребята что-то заподозрили, но вида не подавали. Так было безопаснее. Для всех. На следующую ночь после того, как план был готов, Себастьян и Ронни шептались о том, что они будут делать, когда выйдут отсюда. Когда всё это закончится. Когда они это закончат. Таких приятных размышлений стены этого заведения ещё не слышали — ведь они были подкреплены верой в свой успех. Верой и надеждой. Саймон в разговоре не участвовал, предпочитая держаться особняком, как и раньше.
Ближайшие несколько дней у них не было математики или какого-либо ещё предмета, за который им стоило волноваться. Директор Барни сейчас уделял внимание именно их оценкам, остальное его не волновало. Он вошёл во вкус. Но все знали, что стоит кому-то провиниться в чём-нибудь ещё, он тут же переключит своё внимание на этот проступок. Поэтому все старательно избегали нарушения правил. Не сосредотачивались только на оценках. Вели себя осторожно. Почти безукоризненно.
Представители комитета должны были приехать через два-три дня. И тогда Себастьян, Ронни и Саймон сразу начнут действовать. Ронни был уверен, что всё получится. Мысленно они уже были готовы. Даже Себастьян забыл про свои сомнения.
Отсидев уроки (сегодня обошлось без жертв), они отправились в столовую. Еда здесь была безвкусная, что неудивительно. Директор Барни не стал бы тратиться на хорошие продукты для них. Доев, каждый мыл за собой посуду и вытирал её насухо. Мыл, естественно, дочиста — были прецеденты и по этому поводу. Себастьян, Ронни и Саймон держались далеко друг от друга. Чем ближе было исполнение плана, тем больше они боялись, что их заговор раскроют. Поэтому они сторонились друг друга как никогда.
Из них троих Саймон доел первым. Неловко встав из-за стола, отправился мыть посуду.
А потом…
Потом произошло то, что Себастьян не забудет никогда. Звук, с каким стакан, выскользнувший из рук Саймона, разбился об пол, будет сниться Себастьяну ещё много ночей. Звук разбившейся надежды.
Все знали, что директор Барни приходит в ярость от порчи имущества школы. Для кого угодно разбитый стакан, тем более казённый, был бы невесть каким событием. Но только не для директора Барни.
А ещё все знали, что директор Барни узнает, кто это сделал. Он просто задаст вопрос, и если ты не ответишь, то пеняй на себя. Так уж тут было заведено. Поэтому все стремительно отвернулись, как будто бы это снимало с них печать свидетелей преступления. Кое-кто успел выскочить из столовой, тем самым обезопасив себя.
Саймон смотрел на осколки у его ног, не понимая, как это могло случиться. В голове его лихорадочно билось две мысли: первая — хоть бы директор Барни этого не услышал и не узнал об этом, и вторая — нужно скорее убрать эти проклятые осколки. В голове Себастьяна билась только одна мысль — хоть бы это осталось незамеченным. Пусть им повезёт ещё раз. Ронни же побледнел и чуть не бросился помогать Саймону, но вовремя остановился. Ронни чувствовал, что их план на грани краха.
Саймон попытался собрать осколки, но услышал приближающиеся шаги. Шаги, которые невозможно было спутать ни с чьими.
Директор Барни. Коршун, мчащийся к своей жертве.
Разумеется.
Саймон выпрямился, посмотрел на Ронни и Себастьяна и с горечью покачал головой. Он понимал, что натворил. Он не хотел этого, но теперь уже ничего не сделать.
Зная, что это вряд ли поможет, Саймон взял свою тарелку, которую ещё не успел вымыть, сел на свободный стул и сделал вид, что его это не касается. Сел он далеко от Себастьяна, но напротив него. Себастьян и Ронни уткнулись в свои тарелки.
Директор Барни вошёл в столовую, где царила предательская тишина. Тишина, выдававшая преступление. Он посмотрел на осколки стакана, на всех, кто находился в столовой, поцокал языком.
— Кто это сделал? — обратился он к Себастьяну, ибо тот был к нему ближе всех.
Себастьян стиснул зубы и посмотрел на разбитый стакан. Боже, ну почему он?
— Себастьян?
Ну почему это придётся сделать именно ему? А как же их план? Их надежда? Себастьян молчал, не в силах издать ни звука.
— Себастьян? — с нажимом повторил директор Барни, и нажим этот не сулил ничего хорошего.
Внутри Себастьяна всё кричало, всё его существо противилось тому, что он должен был сделать. Но, чёрт побери, жить ему ещё хотелось. Ронни был прав. Горько прав.
— С-с-са… — слетело с его губ. Он не был уверен, что сможет. Но он должен был это сказать. Сказать полностью, как того всегда требовал директор Барни. Но видит Бог, он этого не хотел.
— Что? Громче!
— Это сделал Саймон, директор Барни, — выдавил из себя Себастьян и опустил глаза. Ему было больно и гадко. Он чувствовал невыносимую вину, чувствовал себя палачом. Но по-другому он поступить не мог. Как и не мог теперь посмотреть на Саймона, хотя чувствовал, что тот смотрит на него.
— Хорошо, Себастьян, — кивнул директор Барни. — Можешь идти. Все вы можете идти. А ты, Саймон, убери-ка за собой.
Столовая мигом опустела. Саймон принялся ползать, собирая острые стеклянные осколки. Собрав все, он встал и осторожно выкинул их в мусорное ведро. Директор Барни удовлетворённо кивнул, повернулся и вышел из столовой.
Саймон перекрестился и упал на колени. Пресвятая Богородица, которой он молился ежечасно, не оставила его. Он склонил голову, мысленно произнося молитву благодарности.
Директор Барни шёл по пустому коридору, и шаги его гулко раздавались по всему этажу. Пройдя половину коридора от столовой до лестницы, ведущей в его кабинет, он, не останавливаясь, небрежно бросил через плечо:
— И зайди в мой кабинет.
Сказал он это негромко, но слова разнеслись по всей школе, достигнув каждого уголка, каждого испуганного ученика, каждого сердца. Убийственные слова, не оставляющие надежды.
Саймон с минуту продолжал стоять на коленях. Затем медленно поднялся, подошёл к мусорному ведру, выудил самый острый осколок и резким, уверенным, словно бы хорошо отрепетированным движением перерезал себе горло.
* * *
Себастьян и Ронни на какое-то время перестали общаться. Все знали, что у Себастьяна не было выбора, а Ронни знал это лучше всех, но дело было не в этом. План спасения рухнул, обнажая ждущую их впереди бездну. Вдвоём им было не справиться, они это знали. Потеряв Саймона, они потеряли надежду. Остальные стали бояться ещё больше. А впереди приближалась пора контрольных работ и «сбора урожая», как все это окрестили. Да, с их успехами на контрольных работах директор Барни соберёт неплохой урожай. Если только… Если только приезд представителей не спасёт ситуацию.
Когда вежливые, но равнодушные люди из комитета переступили порог школы, Себастьян почувствовал слабую надежду. Всё-таки что бы там ни было до этого, может, сегодня у них появится шанс на спасение. Однако когда все ребята, умытые, в начищенной одежде, с вымученными улыбками на лице выстроились в одну показательную шеренгу, атмосфера словно налилась свинцом. Представители, закончив беглый осмотр помещений и чиркнув что-то в своих бумагах, подошли к ребятам и директору Барни. Было видно, что они знакомы с ним не первый день. На лице директора Барни застыла доброжелательная, почти искренняя улыбка — как и на лицах представителей. Всё происходящее было настолько фальшиво и приторно, что Себастьян невольно таращился на представителей, широко распахнув глаза. Ему не верилось, что всё может быть так. Директор Барни вёл себя как пример добродетели и благодушия. Ученики, буквально парализованные возможностью изменить что-то в своей жизни и страхом перед директором Барни (а ещё больше — страхом, что ничего не изменится, даже если кто-то из них рискнёт что-то сделать; так зачем тогда вообще рисковать? К тому же неудачный опыт в прошлом уже был, как им рассказывали), стояли, как деревянные, и непрестанно улыбались. Представители улыбались в ответ и что-то говорили. Кажется, хвалили учеников и директора Барни и говорили о том, как им с ним повезло. Себастьян с ужасом понимал, что все они вмиг стали ещё беспомощнее, чем прежде. Что никто, в том числе и он сам, не в силах открыть рот и сказать, как им на самом деле повезло с директором Барни. Никто. Доброжелательный вид директора Барни внушал им больший страх, чем его ярость. Потому что они знали, что скрывается под этой доброжелательностью.
Всё это время Ронни незаметно переминался с ноги на ногу. С тех пор, как не стало Саймона, он почти не спал. Надежда, зародившаяся в нём вместе с планом, который рухнул, покинула его сердце, оставив там огромную, зловещую дыру. Дыру, которая теперь была наполнена усталостью и отчаянием. Но что самое страшное — смирением. Ронни знал, что в тот момент, когда он смирится не внешне, но душою со всем происходящим, для него всё будет кончено. Он смотрел на директора Барни и не чувствовал ничего. Смотрел на представителей комитета и не чувствовал ничего. Так не должно было быть. Ненависть, ярость, презрение, да хотя бы страх — всё было бы лучше, чем это смиренное равнодушие. Но всё же кое-что ещё осталось. Ронни смотрел на испуганных ребят, на поражённого происходящим Себастьяна, единственного, кто ещё что-то значил для него, и ему было невыносимо грустно. Грустно оттого, что они не могут разбить эту непроницаемую стену страха и хотя бы попробовать если не помочь себе, то как минимум немного сбить спесь с директора Барни, отвыкшего от того, что кто-то может посметь ему перечить.
Но он ещё верил в них. По крайней мере, в одного из них.
— Ну как, ребята, вы всем тут довольны? — прозвучал традиционный формальный вопрос, который уже не раз здесь задавался и на который в присутствии директора Барни был только один правильный ответ.
И только они собрались выразить жалкое и запуганное, но, главное, ожидаемое всеми согласие (все, кроме Себастьяна — он всё ещё не мог прийти в себя от горького непонимания), как Ронни, отлично зная, чем ему может это грозить, громко и звонко отчеканил:
— Вообще-то, нет. Вы даже не представляете, что тут творится.
Себастьян с ужасом уставился на Ронни. Страх холодом пополз по его затылку. Это же самоубийство! Зачем? Зачем, зачем Ронни это сделал? От предчувствия непоправимой беды внутри у него всё буквально заледенело.
— И что же, мой мальчик? — сладко пропел директор Барни, и всех захлестнула новая волна ужаса. — Расскажи, что тебя не устраивает, и мы все вместе попробуем решить проблему.
Ронни, хотя и ожидал чего-то подобного, аж поперхнулся воздухом.
— Да вы… Да ты… Не делай вид, что ничего не происходит! Признайся уже во всём! — с каждой секундой Ронни проклинал себя всё больше. Нет, он вовсе не жалел, и уверенности у него не убавилось, но слова… Нужные слова никак не приходили к нему. Он разволновался, и столько всего нужно было рассказать, что в итоге получалось что-то неубедительное, и от этого он себя ненавидел. Так загубить этот шанс!
— В чём же мне признаться, скажи? — директор Барни и представители комитета смотрели на него ласково и с вниманием. Это окончательно взбесило Ронни.
— Строгая дисциплина! — выкрикнул он в бешенстве, и голос его чуть не сорвался. — Расскажи-ка, как ты над нами издеваешься!
— Ах, кажется, я понял, о чём пытается сказать этот милый молодой человек. Недавно я решил усилить контроль за успеваемостью, и некоторым это не понравилось, понимаете, — доверительно обратился директор Барни к представителям комитета. Те в ответ сочувствующе закивали.
— О нет, так просто ты не отделаешься, — зловеще сказал Ронни, постепенно терявший способность себя контролировать. — Отвечай, куда пропадают все те, кто уходит к тебе в кабинет и потом никогда не возвращается? Что ты с ними делаешь? Куда они бесследно исчезают? Отвечай, ты, грёбаный убийца! — голос Ронни сорвался на беспомощный фальцет, и директор Барни улыбнулся.
— Да из тебя вырастет писатель, друг мой. С фантазией у тебя просто отлично, — усмехнулся он и, повернувшись к представителям комитета, выразительно пожал плечами.
Представители, хоть и не восприняли слова Ронни всерьёз и даже не насторожились, всё же почувствовали за собой обязанность развить эту ситуацию. Поэтому они, скорее, для порядка, нежели оттого, что засомневались в директоре Барни, обратились к шеренге почему-то побледневших ребят:
— Это правда?
Было слышно, как кто-то шумно сглотнул, кто-то неосознанно защёлкал костяшками пальцев, но никто не ответил.
— Ну же, ребята, — подбодрили их представители. — Это правда, или он немножко нафантазировал?
— Это вполне безобидный вопрос, — добавил директор Барни. — Верно?
Щёлканье костяшками прекратилось. Тишина стояла такая, словно всё здесь вымерло сотни лет назад. Но что творилось у них внутри!
Ронни с каждой секундой всё отчётливее осознавал, что они никогда не смогут противостоять кому-либо. Что страх настолько въелся в них, что даже самый очевидный и самый простой шанс будет казаться им неосуществимым и потому бессмысленным. Что они вряд ли когда-нибудь смогут его перебороть. И всё равно он продолжал в них верить, потому что это единственное, что у него теперь осталось.
Себастьян боролся с желанием схватить каждого из них и отхлестать по щекам за это убийственное молчание, и начал бы он с себя. Но он словно прирос к месту, и ничто не могло заставить его открыть рот. Ему оставалось лишь стоять, поражаясь своему бездействию и бездействию других, без какой-либо надежды на спасение Ронни. А ведь если бы они, хоть кто-то из них открыл рот и сказал простые, на самом-то деле, слова, Ронни ещё мог бы спастись! И, возможно, не только он. Но никто ничего не мог сделать. Себастьян подумал, что не зря сомневался в себе — если бы с Саймоном ничего не произошло и они трое всё же начали бы осуществлять свой план, Себастьян запросто бы мог всё испортить. Своим чёртовым бездействием и страхом.
— Ну же, если это правда, просто так и скажите. Или кивните, в конце-то концов!
Бесполезно. Процесс страха был необратим.
— Очевидно, что они дали бы вам знать, если бы было хоть что-то отдалённо похожее на то, что сказал нам этот милый молодой человек?
— Ну же, не молчите! — отчаянно вырвалось у Ронни. — Скажите всё! Просто скажите!
Ответом ему было тягостное молчание, и только директор Барни выразительно кашлянул.
Ронни хотелось плакать от досады, от обиды и от злости. Их молчание он понимал, но принять его было слишком больно. «Себастьян», — чуть было не сказал Ронни, но вовремя понял, что этим может его подставить. Потому что даже если тот промолчит, его озвученное имя директор Барни запомнит. Поэтому Ронни лишь выразительно посмотрел на Себастьяна, ожидая поддержки хотя бы от него. Но когда Себастьян опустил глаза в пол, не выдержав его взгляда, в Ронни что-то оборвалось.
В Себастьяне тоже.
Но Ронни его не винил. Не винил никого из них. Он просто решил рискнуть и проиграл. Хотя время покажет, так ли это на самом деле. Жаль только, что он этого уже не увидит.
— Думаю, с этим мы закончили. Спасибо, что немного разнообразил наш вечер, — сказал директор Барни.
А потом он рассмеялся, и все остальные засмеялись вместе с ним, потому что (и это они тоже когда-то выяснили только опытным путём) так было принято. Все ребята смеялись, но на самом деле им хотелось разрыдаться и рыдать так несколько часов подряд. Они ненавидели себя.
Ронни чуть-чуть улыбался краешком губ, но лишь потому, что вся эта картина была донельзя идиотской. Фальшивой. Настолько бредовой, что даже слегка забавной. Особенно со стороны. Особенно для того, кто знает, что тут к чему.
Сердце Себастьяна разрывалось от происходящего. Оттого, что он не смог помочь Ронни. Оттого, что не смог побороть свой страх. Оттого, что теперь он потеряет своего единственного друга — и единственного из них, кто не побоялся хотя бы что-то предпринять. Теперь Себастьян останется совсем один.
Как он смог это допустить?
Так и закончился очередной визит представителей. Почти так же, как и многие до этого.
За небольшим исключением.
Распрощавшись с директором Барни, учителями и ребятами, представители комитета покинули здание, и понурая шеренга мальчишек побрела по коридору. Никто из них не смел посмотреть Ронни в глаза. Перед входом в комнату отдыха директор Барни, за которым они все плелись, остановился и повернулся к ним. Все замерли. Все знали, что сейчас произойдёт. И никто из них не ошибся.
— Ронни, кажется, нам есть о чём побеседовать, — чуть задумчиво сказал директор Барни. И потом, словно бы поразмыслив, добавил: — Жду тебя в своём кабинете.
— И я приду, можешь не сомневаться, — с вызовом ответил Ронни, которому уже нечего было терять. — Приду, но только для того, чтобы размозжить тебе башку какой-нибудь статуэткой с твоего стола, чёртов ублюдок!
Все стояли в немом ужасе и восхищении. Себастьяну казалось, что время останавливается, и слова Ронни эхом отдаются в голове каждого из них. Так оно и было. И это приводило их в восхищение и давало намёк на какую-то слабую надежду. Это было волшебство. Но длилось оно недолго.
Директор Барни и бровью не повёл.
— Ну-ну, — усмехнулся он и жестом пригласил Ронни за собой.
Миг волшебства закончился. Ронни как-то обмяк, опустил плечи и поплёлся за директором Барни. Все опустили глаза в пол, не в силах смотреть ему вслед. Себастьяна трясло.
Когда он всё же поднял глаза, Ронни уже почти дошёл до лестницы, ведущей в кабинет директора Барни. Замедлив шаг, Ронни расправил плечи и обернулся. Он улыбнулся Себастьяну из конца коридора, пытаясь его подбодрить, а потом стал подниматься по лестнице. Всеобщий тяжкий вздох, сдерживаемый всеми силами, вырвался на свободу. Потом все разбрелись по своим кроватям.
Ронни не вернулся.
* * *
С уходом Ронни из сердца Себастьяна ушла и надежда. Если до этого в нём худо-бедно держался какой-то стержень, то теперь он сломался. Окружающее просто перестало существовать. Себастьян постоянно прокручивал в голове то, что произошло, ненавидел Ронни за то, что тот решил высказаться и бросил его одного, ещё больше ненавидел себя за то, что не смог помочь ему и не смог сбросить с себя оцепенение страха, но ещё больше он ненавидел директора Барни. Но ненависть эта не давала сил — она опустошала. Она была безнадёжной. Без Ронни уже ничто не имело смысла. Себастьян остался один, сломленный, бесконечно чувствующий себя предателем — он ещё не отошёл от того, что произошло с Саймоном, а про Ронни и говорить нечего.
Себастьян был не против того, чтобы умереть.
Но он не мог.
Потому что в тот день, когда Ронни поднялся по той проклятой лестнице, Себастьян обнаружил на своей постели маленькую потёртую бечёвку, которую Ронни носил, не снимая, и смятую записку — всего семь слов:
Ты сможешь. Ты должен. За всех насРонни оставил их на его кровати, потому что знал, что вряд ли вернётся. Что вряд ли кто-то поддержит его. Что вряд ли что-то получится. И всё равно он поступил так, как поступил.
Маленькая потёртая бечёвка. Всё, что осталось от Ронни. Себастьян поклялся себе не снимать её до самой смерти, и он сдержал клятву.
Время тянулось медленно, наряжённые дни сменяли депрессивные ночи, Себастьяну становилось всё хуже, а директор Барни вскоре вызвал к себе очередного провинившегося. Это была первая жертва после Ронни, и Себастьян, впервые повинуясь какому-то нелепому упрямству, а не голосу разума, не вполне отдавая себе отчёт в том, что он делает, прокрался следом за несчастным почти до самого кабинета. Когда за тем закрылась дверь, Себастьян, не чувствуя ничего, кроме нездорового азарта, стал подслушивать. Он даже зачем-то засёк время.
Поначалу был слышен лишь нравоучительный, но спокойный голос директора Барни, что-то втолковывающий нерадивому ученику. Но минуты через три голос стал звучать жёстче, и Себастьян расслышал слова «дьявольское отродье». И в них было столько яда, что сомневаться не приходилось — шансов выйти из кабинета у несчастного уже не было. Больше Себастьян ничего не смог расслышать, кроме интонаций директора Барни, от которой кровь стыла в жилах.
Увлекшись подслушиванием, Себастьян забыл обо всём. А потом, словно бы интуитивно что-то почувствовав, он обернулся и чуть не вскрикнул от неожиданности. На лестнице, застыв от изумления, стоял учитель физкультуры.
Учитель смотрел на Себастьяна, а Себастьян смотрел на учителя. В глазах обоих был неприкрытый ужас. Себастьян, наконец, осознал, где он находится и что делает, и спина его покрылась липким потом. Учитель, явно находящийся в шоке от неслыханной дерзости (и смелости, чего уж скрывать), приоткрывал и закрывал рот, не зная, что сказать. Себастьян воспользовался его замешательством и бесшумно, но стремительно рванул мимо него вниз по лестнице, в коридор. Он бежал, не оглядываясь, до самой комнаты отдыха. Отдышавшись, Себастьян сел на кровать и подтянул под себя ноги. Он чувствовал себя протрезвевшим. Ему это было нужно.
Но главное — он успел услышать из уст директора Барни нечто, заставляющее его сердце биться чуть быстрее. Себастьян не считал себя сильнее или лучше других, или, тем более, Ронни, но он, кажется, был удачлив. И вынослив. Себастьян не знал, поможет ли ему это в самом крайнем случае, как и до сих пор не знал, что происходило за дверью кабинета Барни (да и не горел желанием это узнать), но услышанная фраза с того дня постоянно вертелась у него в голове. Фраза, обращённая к несчастному, который, конечно, не вернулся.
— Просто дотяни до утра. Если продержишься — выйдешь отсюда и вернёшься к остальным. Попробуешь?
Через несколько дней Себастьян уже не был уверен, было ли там «дотяни» или всё-таки «доживи» (что, несомненно, звучало более страшно), но сути это не меняло.
Учитель физкультуры не стал брать очередной грех на душу, и директор Барни так никогда и не узнал о дерзком поступке Себастьяна. Все были сосредоточены на контрольных работах и оценках за них, потому что директору Барни понравилась его новая система строгой дисциплины. Рано или поздно кто-то получал плохую отметку, как бы он ни старался — потому что проверки стали проводиться всё чаще, и учителя больше не рисковали, завышая ребятам оценки. Особенно после того, как якобы уволился мистер Дэвидсон. Так что выбрать себе очередную жертву особого труда директору Барни не представляло. Уяснив, что учителя достаточно напуганы, он мог иногда просто пролистывать дневники, даже не утруждаясь проверять соответствие оценок реальным знаниям — теперь они действительно совпадали.
А потом кто-то из учителей раздобыл жидкость, с помощью которой можно было подправлять оценки в дневниках, и подправлять почти профессионально. Но жидкость эта требовала огромного внимания и аккуратности. Пузырёк с ней стал ходить по ребятам, для которых он был спасением. Хотя пока мало кто из них мог начисто исправить оценку, они усердно тренировались. В большинстве неудачных случаев жидкость прожигала в бумаге дыру. По сути, мало кто из них мог похвастаться удачным применением, но находились и те, кто успешно освоил эту технику. Хотя пока у них снова не было математики, опасаться было почти нечего, но они развивали свой навык впрок. На всякий случай.
Учителя понимали, что при желании директор Барни сможет отличить подделанную оценку, но даже если нет — если ему захочется проверить их знания или соответствие оценок в дневниках оценкам в журнале (чего он почти никогда не делал), то ему сразу всё станет ясно. И тогда несчастному ученику не поможет исправленная циферка в дневнике. Как бы то ни было, до тех пор, пока расслабившийся, убедившийся в запуганности учителей и довольный своей новой системой директор Барни пролистывал только дневники, проблем не должно было быть. Зато у учеников появилась небольшая надежда, их маленькая тайна. Но даже не это главное — главным было то, что учителя снимали с себя ответственность. Ведь они, как и должны были, ставили реальные оценки, а что с ними произошло дальше — уже не их вина. Зато ребятам было спокойнее.
До тех пор, пока у них снова не началась математика. Новый учитель был нервным, угрюмым и внешне чем-то напоминал директора Барни. Он им сразу не понравился. Он внушал им какое-то тревожное чувство. С первого же урока они поняли, что началась тяжёлая пора. Объяснял он отвратительно, но спрашивал редко. Однако за первую же проверочную работу треть из них получила тройки. И то, потому что ему не хотелось сразу всех подставлять. Директор Барни к тому времени придумал новую стратегию, и пока периодически прощал несчастным тройки, заставляя их трястись то от ужаса, то от счастья. Он хотел, чтобы они снова расслабились. На время.
Двоек директор Барни по-прежнему не прощал.
Ребят постоянно бросало то в жар, то в холод, в голове у них была одна только математика. Как обезумевшие, они всё свободное время пытались понять то, что не удалось понять на уроке. А ещё продолжали тренироваться в исправлении оценок. Когда особо искусный из них исправил полученную двойку на тройку, и директор Барни, пролистав его дневник, ничего не заметил, они беспредельно воодушевились. Из непреодолимого страха быть уличённым зазря, никто из них не рисковал помочь другому, так что каждый оттачивал своё мастерство в силу своих возможностей.
Себастьяну не давались ни математика, ни искусство волшебной жидкости. Он со страхом думал о том дне, когда получит двойку. В том, что он её получит, он почти не сомневался. В последнее время он нервничал и боялся больше обычного. Как и все остальные. Это мешало ему думать, и все попытки разобраться с новой темой были тщетны, что пугало его ещё больше. Страх замкнул свой круг.
Окрылённые первым успехом, ребята тяжело восприняли первую неудачу. Хотя она и была ожидаемой. Когда один из несчастных, получивший двойку, в отчаянии попытался хоть что-то с ней сделать, ему не повезло. Дрогнувшая рука — и вот уже вместо двойки растёкшееся пятно, с которым уже ничего не сделать. Чтобы хотя бы не подставлять остальных и не раскрывать их маленький секрет, бедняга вырвал испорченную страницу, но пятно протекло гораздо глубже. И именно в тот момент, когда он рвал на кусочки с десяток вынужденно вырванных страниц, рядом очутился директор Барни — как всегда вовремя. И он отлично понял, что к чему. Возможно, он давно уже об этом догадался, просто не подавал вида. Но к всеобщему удивлению он только рассмеялся.
— Даже это вы нормально сделать не можете, — улыбнувшись, сказал он. — Даже это.
Он отметил маленькие, капельные ожоги на руках у некоторых, но ничего не сказал. Ему было интересно, что они будут делать теперь — теперь, когда он знает об их маленькой хитрости.
— Я не советую вам больше так делать, — назидательно сказал он. — Лучше основательно подготовьтесь к годовой контрольной.
И он просто ушёл. Ушёл, оставив их в безмолвном отчаянии. Тот факт, что несчастного даже не вызвали в кабинет, не укладывался у них в голове. Это значило, что у директора Барни на них другие планы. Гораздо более жуткие. А слова «годовая контрольная» прозвучали для них как приговор. Себастьян понял, что шансов у него практически нет.
Пока другие денно и нощно повторяли пройденный за год материал, Себастьян по большей части тупо смотрел в какую-нибудь страницу своей тетради, исписанной формулами, и крутил на запястье потёртую бечёвку Ронни. Он много думал, и мысли эти были далеки от математики. С ней у него шансов не было. Себастьян вспоминал Ронни, Саймона, мистера Дэвидсона. Приезд представителей комитета. Он словно провалился в пучину отчаяния и безнадёжности и не мог из неё выбраться. Не было рядом того, кто мог бы его вытащить. Отрешённо смотря на остальных, зубрящих примеры, он снова продолжил тайные эксперименты с жидкостью, и к годовой контрольной даже добился некоторых успехов, но недостаточных. Себастьян совсем отчаялся. Он почти сдался. И это «почти» было очень хрупким, готовым вот-вот сломаться.
Однако новый, пугающий их учитель математики, несмотря ни на что, был неплохим человеком. Составив контрольную по большей части из примеров, уже когда-то написанных у них в тетрадях или аналогичных им, он значительно облегчил им работу. Буквально спас их.
Но не всех.
Несколько человек настолько разволновались от присутствия в классе директора Барни, решившего лично поприсутствовать на контрольной, что перепутали все формулы, какие только можно было. В итоге на весь класс было шесть двоек. Одна из них досталась Себастьяну, даже не удосужившемуся выучить записи в тетради, считая это бесполезным. А ведь если бы он последовал примеру остальных, а не сидел в унылой депрессии, мог бы вытянуть на тройку! От злости на самого себя Себастьян даже не чувствовал страха.
Не чувствовал до того момента, как директор Барни, тут же при них просмотревший выставленные оценки, не подошёл к его парте.
— Так-так, — многозначительно сказал он, и слова эти не сулили ничего хорошего. — Так-так.
А потом он положил перед Себастьяном его дневник, раскрытый на странице с оценкой за годовую контрольную. Небольшая, но жирная двойка таращилась на них, но Себастьяну было не до неё. Он смотрел на директора Барни, смотрел в его абсолютно ничего не выражающие глаза и думал о Ронни. Он подвёл его.
— К математике у вас, молодой человек, способностей нет, как я понимаю.
Себастьян не ответил, но и глаз не отвёл.
— Что ж…
Директор Барни помолчал. Остальные застыли, боясь лишний раз вдохнуть.
— Ты хотя бы готовился? — спросил вдруг он. Он, знающий всё. Видящий людей насквозь.
— Конечно, — еле слышно ответил Себастьян и опустил глаза.
— Лжёшь, — хлёстко сказал директор Барни. — А ложь я… — и он сделал такое лицо, что у Себастьяна скрутило живот. Все знали, что директор Барни ненавидит ложь. Он её не приемлет.
— Хоть что-то ты можешь сделать нормально? Хоть что-то ты умеешь, чёрт тебя побери?!
Себастьян молчал, почему-то думая о том, достаточно ли острая бумага дневника.
— Дайте-ка сюда эту вашу химическую чушь, — сказал вдруг директор Барни. — Ну же, я знаю, чем вы пользуетесь, и знаю, что она у вас ещё осталась. Несите. Ты, — указал он вдруг на одного из смертельно бледных учеников. — Неси. Быстро. А то хуже будет.
И тот повиновался.
Меньше чем через минуту в руках у директора Барни оказался флакон с «химической чушью». Он опустел уже больше чем наполовину, и львиная доля потраченной жидкости ушла на их тренировки. В том числе и тренировки Себастьяна.
— Хотя бы это ты умеешь? — директор Барни потряс перед носом Себастьяна бутыльком. — Хотя бы это?
— Да, — второй раз за несколько минут солгал Себастьян и сразу почувствовал, что сделал это зря.
— Надеюсь. Очень на это надеюсь. А иначе…
Ему можно было не продолжать.
Флакон со стуком опустился на парту перед Себастьяном. Там же вдруг оказалась стеклянная пипетка, которой они пользовались. Директор Барни положил руку Себастьяну на плечо.
— Исправишь сейчас эту двойку — и я забуду о ней, можешь мне поверить.
И Себастьян верил, но от этого ему было не легче. Руки у него дрожали. Он сглотнул, взял флакон и открыл его. Набрал пипеткой чуть-чуть жидкости и занёс её над дневником. Он не надеялся, что ему повезёт, особенно в таком состоянии. Себастьян смотрел на дневник, словно гипнотизируя его.
А потом прожёг в нём дыру.
* * *
Так Себастьян и оказался в кабинете директора Барни. Пока тот сыпал оскорблениями и проклятиями, в голове у Себастьяна вихрем носились мысли, из которых чётче всех вырисовывалась одна: просто дотяни до утра. Он не хотел думать о том, что ему предстоит. Он сосредоточился только на этой мысли. На этой — и ещё на одной.
Ты сможешь. Ты должен. За всех нас.
Чем дольше он смотрел на директора Барни, что-то ему говорящего, тем дальше уходил страх. Уходил, уступая место злости. Да, желание жить и непомерная злость пересиливали страх. Себастьян думал о том, что Ронни, и Энди, и Тим, и все остальные точно так же стояли здесь, и никто из них не вернулся. Думал о том, как подвёл Саймона. О том, кого из всех них сделал директор Барни. И чем больше он думал, тем сильнее становилась злость, к которой медленно примешивалась ярость. И ненависть — на этот раз придающая ему сил.
Но главное — он не подведёт Ронни. Не сделает этого снова.
Ни за что.
Себастьян твёрдо решил выдержать всё. Что бы ему ни пришлось выдерживать. И пока он набирался уверенности в том, что он сможет это сделать, пока он непрестанно слышал в голове голос Ронни, придающий ему сил, директор Барни закончил свои нравоучения.
— …мои условия, — словно через вату долетело до Себастьяна. — Ты ведь слышал мои условия?
Себастьян не слышал ни слова, но кивнул. Ничего другого ему не оставалось. Какие ещё условия мог поставить директор Барни… в принципе, уже не имело значения.
— Продержишься до утра — и я тебя отпущу, — пожал плечами директор Барни. — Может, хоть это тебе удастся сделать. Хотя я очень в этом сомневаюсь, никчёмный бездарь, — едко добавил он.
— Очень зря, — так же едко ответил ему Себастьян.
— Хм. Пожалуй, надо преподать тебе пару уроков, — усмехнулся директор Барни.
А потом начался ад.
* * *
Всё его пребывание здесь вело к тому, что происходило сейчас. Все его поступки и всё его бездействие были лишь кусочками итоговой мозаики. Мозаики, в центре которой были горькие паззлы того, что произошло с Саймоном и Ронни. Горькие, но необходимые — обязательные условия успешного складывания мозаики. И мозаикой этой был сам Себастьян.
Он и не подозревал, сколько в нём скрытой силы. Даже не мог себе этого представить. И никогда бы не узнал, если бы не всё, что здесь произошло. Ронни знал. Он видел, чувствовал эту скрытую силу. Верил в неё. Он поставил на неё.
И не прогадал.
Себастьян чувствовал, что внутри него что-то меняется, что всё к этому и шло. Происходящее в кабинете директора Барни казалось нереальным. Большинство тех, кто был здесь до Себастьяна, не сдавались — боролись до последнего, но почти всегда терпели неудачу. Все они хотели жить, все они были напуганы и одновременно наполнены ненавистью — но этого было недостаточно. Их мозаики не были сложены полностью.
Жажда жить, злость, ненависть и ярость пересилили страх Себастьяна. Ронни и Саймон наполнили его жаждой отмщения — жаждой, которую необходимо было утолить, а для этого нужно было выйти из кабинета директора Барни живым.
Ронни и Саймон наполнили его силой.
Стиснув зубы, Себастьян в который раз подумал о записке и бечёвке на его руке. Ронни стал последним и главным фрагментом мозаики.
Ронни стал последней каплей.
Себастьян посмотрел на большие белые часы в кабинете директора Барни и закрыл глаза. Ад растянулся во времени.
Ад был бесконечен.
Когда Себастьян почувствовал, что силы его на исходе, что воля его полностью сломлена, а ярость и ненависть втоптаны в самую глубину его искалеченной души, наполненной болью, он понял, что проигрывает. Что всё-таки проигрывает, и что конец уже близок. И в тот момент, когда он уже готов был сломаться, на лицо ему упал луч света.
Рассвет.
Всё время, что Себастьян находился в кабинете директора Барни, он не кричал. Не плакал. Возможно, это и были условия директора Барни? Себастьян уже никогда об этом не узнает. Сейчас он знал только одно — утро наступило окончательно и бесповоротно.
И он выдержал всё.
Себастьян не слышал, говорил ли что-нибудь директор Барни или нет. Он даже не чувствовал стука собственного сердца, хотя на самом деле билось оно нещадно. Себастьян потерял контроль над происходящим, он думал только о том, как поступит с ним директор Барни. После всего, что он вытерпел. Себастьян почувствовал, что теряет сознание, ноги его подкосились, и он понял, что упустил свой шанс в самый последний момент. Но когда колени его опустились не на мягкий ковёр, а на старый холодный пол, сознание постепенно стало возвращаться к нему. Себастьян обернулся — и сердце его наполнилось радостью. Он успел. Себастьян рухнул на колени уже после того, как директор Барни выставил его в коридор. И эта лестница перед ним, лестница, по которой давно уже никто не возвращался, была самым прекрасным, что он видел в последнее время. Себастьян с трудом поднялся и доковылял до неё. Он посмотрел на дверь кабинета директора Барни, и взгляд его мог бы прожечь дыру в двери, если бы он не был настолько обессилевшим. Вцепившись в холодные перила, он стал спускаться по лестнице.
Себастьян еле держался на ногах, но он был жив.
И он возвращался из кабинета директора.
* * *
Никто не издал ни звука, когда он вернулся. Десятки пар глаз смотрели на него, но никто не произнёс ни слова. Никто не мог. Недоверие, радость победы одного из них, страх того, что происходило с Себастьяном в кабинете, снова недоверие. Всё это было у них на лицах. Они смотрели на Себастьяна, но это, конечно, был уже не он.
Не тот Себастьян, которого они знали. В нём изменилось всё, и это чувствовалось. Внешность прежнего Себастьяна теперь скрывала под собой кого-то другого. Кого-то, кто смог вернуться. До самой своей смерти Себастьян не расскажет о том, что происходило в кабинете. До самой своей смерти он будет помнить каждую деталь происходившего там.
Себастьян вернулся к учёбе. Больше его не трогали. Конечно, директор Барни не то чтобы зауважал его, конечно, нет, но… Оставил его в покое. Хотя Себастьян и так не совершал ничего из ряда вон выходящего. Он просто хотел выйти отсюда и сделать то, что должен.
Себастьян ни с кем не общался. Он равнодушно относился к тому, что кого-то опять вызывали в кабинет директора. У него просто не было сил переживать из-за этого. Так и продолжалось. Себастьян всё больше замыкался в себе, даже когда казалось, что больше уйти в себя невозможно. Кто-то периодически не возвращался из кабинета. Изредка появлялись новые ученики, такие же, каким был когда-то сам Себастьян. Поначалу не верившие в россказни о директоре Барни. Иногда появлялись представители комитета. Никто не выступал и не пытался рискнуть. Никто не пытался сбежать. Никто не ждал спасения.
А спасение было, и оно просто ожидало своего часа, угрюмо сидя в углу своей кровати, смотря на окружающих мало что выражающим взглядом. Себастьян стал своего рода символом. Он был старожилом. Он был выжившим. Он был немного не в себе — но он скоро должен был выйти отсюда. Кто-то уважал Себастьяна, кто-то побаивался его, кто-то упорно предпочитал не обращать на него внимания, но в душе все признавали, что он не такой, как они. Что-то в нём внушало им надежду, но они старались не думать об этом. Кто-то ещё помнил, чем закончились предыдущие выпуски из школы. Кто-то, смотря на отрешенного Себастьяна, попросту терял эту надежду.
И зря. Потому что Себастьян был твёрдо намерен довести дело до конца. Он просто ждал.
Ждать пришлось долго.
* * *
— Поздравляю, — сказал директор Барни бесцветным голосом. Он знал, что скоро ему светят как минимум неудобства.
— Удачи во взрослой жизни, Себастьян.
День, когда Себастьян покинул школу директора Барни, был пасмурным и дождливым. В душах учеников затаилось ожидание, в душе директора — настороженность, в душе Себастьяна — решимость и неповторимая свобода. Он вышел на улицу, подставил лицо холодному дождю и долго стоял так, смывая с себя всю мерзость, всю грязь, все грехи последних лет.
А потом направился в полицию.
Его внимательно выслушали, но и задали кучу вопросов. На некоторые из них Себастьян имел ответы, на некоторые — нет. Но больше всего их поразило то, что за все годы это было первым обращением в полицию по поводу директора Барни.
— Если, конечно, это правда, — добавили они, и сердце Себастьяна упало.
Он снова и снова, со всеми подробностями, рассказывал нескольким людям о том, что происходило в школе, потом писал об этом на бумаге.
— Мы поговорим с представителями комитета, учителями и ребятами, — сказали они в конце концов. Себастьян пытался объяснить им, что это вряд ли что-то даст, но его не слушали. Если его история (странная, надо сказать, история) не выдумка, то они это подтвердят, сказали они.
Они не брали в расчёт страх. Они в него не поверили.
Они верили только фактам.
Когда они вместе с Себастьяном появились на пороге школы, директор Барни только рассмеялся. Себастьян боялся своего поражения, боялся настолько, что запрещал себе о нём думать. Он надеялся, что кто-то заговорит. Хотя бы один. А за ним — и остальные.
Он надеялся, что выиграет финал этой беспощадной битвы.
Взбудораженные появлением полиции ребята настороженно смотрели на Себастьяна, ещё недавно бывшего одним из них, и ждали развязки. Ждали, что сейчас всё закончится. Полиции в их школе ещё не бывало — и это внушало надежду.
Полиция нарушений не обнаружила.
Полиция побеседовала с учителями. Позвонила в комитет. Перекинулась парой слов с излучающим радушие директором Барни. Осмотрела ребят.
Полиция не получила нужных им фактов.
Себастьян словно окаменел. Страх настолько завладел ими, что даже полиции никто ничего не сказал. Они настолько привыкли к этой жизни, что не могут пойти против неё. Против директора Барни.
Себастьян в отчаянии что-то доказывал, но его слова, не подкреплённые ни фактами, ни свидетельствами других, просто растворялись в воздухе. Он проигрывал важнейшую битву в его жизни.
— Двор! — крикнул он с последней надеждой. — Перекопайте двор, там полно трупов!
Полиция застыла в нерешительности, но директор Барни буквально уговорил их сделать то, что просит Себастьян.
— Чтобы убедиться, так сказать, — добавил он.
Полиция ничего не нашла.
— Куда ты их девал? Куда, сволочь?! — в исступлении закричал Себастьян.
— Кого? — удивился директор Барни.
— Покажи! ПОКАЖИ ИХ!
— Себастьян, я ровным счётом ничего не понимаю. О чём вообще ты говоришь?
— О них! О них! Ронни, и Тим, и Саймон, и… И… Все они! — Себастьян смотрел то на ребят, то на директора Барни. — Я же вам рассказывал, всё это уже рассказывал! — в отчаянии повернулся он к полиции.
— У нас никогда не было учеников с такими именами, Себастьян.
Себастьян ошарашенно уставился на директора Барни. Столько твёрдости и убеждённости было в его голосе… На какое-то мгновение Себастьяну даже показалось, что тот прав — и всё это лишь плод его перекосившейся психики. Но потёртая бечёвка Ронни на запястье его отрезвила.
— Лжёшь! Лжёшь, сукин сын! Не было, значит?! Но вы-то, вы… Скажите! Это же при вас было! — бросился он к ученикам, на лицах которых была написана чистейшая паника.
Но ответом ему было лишь молчание. Страх, обитающий в этих стенах, было невозможно побороть. Себастьян понимал их, понимал прекрасно, потому что сам когда-то был в такой же ситуации. Но в то же время не мог в это поверить.
— Это же ваше спасение… Не молчите, Бога ради! Вам нечего бояться — только не сейчас! Не молчите! — с ужасом и мольбой взывал к ним Себастьян.
Но никто не произнёс ни звука. Директор Барни снова выиграл.
— Пойдём, парень, — похлопали его по плечу, и Себастьян, последовав за полицией, переступил порог школы, а потом побежал от них так быстро, как только мог.
Отдышавшись, он сел на мокрую траву и обхватил голову руками. Они теперь думают, что с ним не всё в порядке, может, захотят отправить его на лечение или покопаться у него в голове. А может, им вообще плевать на него. В любом случае, безопаснее было бы сейчас держаться от них подальше. После всего, что он им наговорил. После всего, что для них не подтвердилось. Полиция, на которую Себастьян так надеялся, не дала желаемого результата. Его вера в успех дала крупные трещины, но сдаваться было ещё рано. У него ещё был последний шанс.
Ему оставалось только одно.
* * *
В последний год пребывания Себастьяна в школе директора Барни поблизости построили супермаркет. Из некоторых окон школы было видно его парковку, которая почти всегда пустовала. Директор Барни, проводивший большую часть своей жизни в помещении школы, стал иногда захаживать в этот супермаркет — для него это было очень удобно.
Для Себастьяна это тоже было удобно.
За последние годы он стал выглядеть гораздо старше своего возраста. Застывшее на его лице серьёзное, чуть угрюмое и одновременно печально выражение вместе с обнаружившимися способностями к заговариванию зубов, быстрому бегу и ловкостью рук дало Себастьяну необходимое условие выполнения его последнего плана. Денег, чтобы купить оружие, у него не было, поэтому он его украл. Смог, потому что был обязан сделать это.
Себастьян никогда не стрелял из револьвера, и хотя ему стоило бы потренироваться, он не мог этого сделать. Не мог привлекать к себе внимание раньше времени. Не смел. Поэтому у него не было права на ошибку. Себастьян не один раз прокрутил в голове свои действия и свой план, но всё могло в любую минуту пойти не так, как запланировано.
Себастьян отдавал себе отчёт и в том, что будет, если он снова потерпит неудачу, и в том, что будет, если он достигнет успеха. Оба варианта сулили ему мало хорошего, особенно учитывая его недавний не совсем удачный опыт общения с полицией и его возраст. Но из двух вариантов лучше уж было сесть за убийство, чем за покушение на него. По крайней мере, в случае с директором Барни.
Хотя, конечно, лучше всего было бы сбежать с места преступления и навсегда затеряться где-нибудь далеко. Себастьян мало надеялся на это, но всё же надеялся.
В конце концов, когда-то ему посчастливилось выйти из кабинета директора Барни.
Два дня Себастьян наблюдал за супермаркетом, а на третий день увидел свою мишень. Директор Барни направлялся за продуктами. Было непохоже, что он чего-то боялся — хотя Себастьян сомневался в обратном. Но самоуверенности ему было не занимать, и не в последнюю очередь благодаря всем им.
Себастьян ждал, пока директор Барни выйдет из магазина, и руки его словно приросли к украденному револьверу. Он рассчитывал, что тот пойдёт обратно в школу кратчайшим путём — через парковку, и там бы его и настиг конец. Однако Себастьян кое-чего не учёл.
Краем уха он услышал смутно знакомые звуки, и чем дольше он пытался их разобрать, тем сильнее холод сжимал его горло.
Патруль.
Ну конечно. Директор Барни обезопасил себя. Не важно, что он наплёл про Себастьяна полиции, важно, что они решили поддержать его и какое-то время поприглядывать за ним. Директор Барни был уверен, что патруль его спасёт. Если вдруг какой-то психованный мальчишка решит на него напасть.
Себастьян усмехнулся. Он продумал всё, кроме этого. Но, в сущности, это не сильно меняло дело. Просто ограничивало варианты исхода.
Себастьян уже сомневался, что сможет убежать от них второй раз. Он кинул взгляд на решётчатые окна школы. Отсюда они казались совсем маленькими, но от этого не менее зловещими. Когда-то он не мог подумать, что увидит их с улицы. И вот он здесь.
У него не было выбора. Он сделает то, что должен.
А потом сдастся, если придётся.
Директор Барни с пакетом продуктов в руках вышел из магазина и направился к парковке, срезая угол. Себастьян выполз из своего укрытия и встал во весь рост, оказавшись совсем рядом с ним. Он мог бы выстрелить директору в спину, и тот никогда бы не узнал, что произошло. Но, видимо, патрульные заметили его, потому что звуки патруля стали ближе и громче. И, кажется, они что-то говорили.
Это они ещё не видели револьвера в его руках.
Директор Барни обернулся и увидел подъезжающую патрульную машину и Себастьяна с револьвером, направленным прямо на него.
Директор Барни усмехнулся и кивнул в сторону машины. Конечно, стрелять в человека на глазах у полицейских было бы не очень умно.
Себастьян ведь не глуп, и директор Барни знал это.
А Себастьян знал, что у него нет выхода. И действовать надо было прямо сейчас, пока его самого не подстрелили. Другого шанса у него не будет, это он знал точно. Теперь уже не будет.
— Ну же, Себастьян. Лучше тебе поскорее убраться отсюда, — спокойно, уверенный в силе своего воздействия, сказал директор Барни.
Себастьян не стал ничего говорить. Он просто выстрелил директору Барни в голову, навсегда стерев с его лица гадкую ухмылочку, преследовавшую их все эти годы.
Директор Барни дёрнулся и рухнул на колени. Пакет из его рук упал на асфальт, и из него через лужу, расползавшуюся под директором Барни, покатились помидоры, оставляя за собой кровавые следы.
В ту же секунду патрульные выскочили из машины, затормозившей перед Себастьяном.
— Брось оружие! — заорали они.
Себастьян кивнул и выронил револьвер на асфальт.
— Руки за голову! Руки за голову! — заорали они, но Себастьян не слышал их. Я это сделал. Сделал это, Ронни. Сделал, чёрт его бери! — ликовал он в душе.
— Руки! — продолжал орать кто-то, и Себастьян на автомате поднял руки за голову. Он улыбался. Опустив глаза на асфальт, он увидел валяющийся револьвер, отлично сделавший своё дело, а рядом… Бечёвку Ронни.
Слетевшую с его запястья ровно в тот момент, когда он выстрелил в директора Барни.
Себастьян с удивлением смотрел на неё, будто бы не понимая, что она там делает. Кровь из лужи под директором Барни медленно растекалась в стороны и подбиралась к его ногам. К револьверу и к бечёвке. Себастьян дёрнулся и почувствовал во рту металлический привкус.
Я только… Только подниму её… — застучало у него в голове, и он, совершенно не отдавая себе отчёта в том, что делает, потянулся рукой к бечёвке Ронни, к которой уже подступала кровь директора Барни.
— Эй, не двигаться! Руки за голову! Я буду стрелять! — завопил патрульный, увидев, что парень, вопреки здравому смыслу, тянется к оружию на асфальте.
Себастьян поднял на него глаза, как бы давая понять, что он не собирается делать ничего такого, чего делать не следовало бы, но рука его тем временем уже сжала заветную бечёвку, и у патрульного, видевшего не совсем то, что происходило на самом деле, сработал инстинкт самосохранения. Он выстрелил в Себастьяна быстрее, чем тот выстрелил бы в них. Быстрее, чем сам того ожидал. Себастьян повалился на асфальт, зажав в руке старую замусоленную бечёвку. Револьвер валялся там же, где его и бросили.
— Чёрт, — вырвалось у патрульного. — Вот чёрт…
И он, и его напарник беспомощно смотрели на Себастьяна, распростёршегося на асфальте неподалеку от убитого им директора. Глаза Себастьяна, в которых застыло чуть удивлённое выражение, навсегда распахнулись в небо.
— Чёрт, — всё повторял патрульный, и руки у него тряслись.
А в школе тем временем начал царить радостный хаос. Оторвавшись от уроков, ребята повскакивали с мест. Выстрел привлёк их внимание, и теперь они облепили окна, сквозь решётки пытаясь разглядеть, что произошло. И весть о директоре Барни, ничком лежавшем в луже своей крови, мигом облетела всю школу. Весть о спасении. Весть об освобождении. Никто из них и мечтать не мог о таком. Они улыбались, они смеялись, они обнимались, они торжествовали. Они праздновали победу.
Движение в окнах отвлекло внимание патрульного от застреленного им Себастьяна. Кто-то разбил стёкла, и сквозь прутья решёток стали просовываться руки. Даже отсюда стал слышен радостный гул и счастливые возгласы.
Патрульный и его напарник в недоумении смотрели на эту странную картину.
— Бог ты мой, и чему они все так радуются?
Остров
Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я понимаю — мои лёгкие бунтуют от морской воды. И как только я осознаю этот факт, начинаю задыхаться. Лицо моё упирается во что-то мягкое, и вместе с водой в лёгкие засасываются песчинки. Я тону, однозначно, но в то же время и нет. Я захлёбываюсь водой и песком, не понимаю, что произошло. Я пытаюсь выплыть на поверхность… и оказывается, что я лежал у самого берега, на мелководье. Лежал, уткнувшись лицом в дно и хлебая мелкую воду. Захлебнуться и умереть в такой ситуации было бы гораздо обиднее, чем утонуть где-нибудь в центре океана.
Я выползаю на берег, оглядываюсь. Без понятия, где я, но, похоже, это какой-то остров. Недалеко от меня, тут и там, люди. Такие же, как я — промокшие, напуганные, озирающиеся. И почему-то очень знакомые.
— Эй! — кричу я и машу им рукой, но на деле из лёгких вырывается лишь слабый хрип с остатками воды, а отяжелевшая рука и не думает подниматься. Мне нужно ещё чуть-чуть времени, чтобы прийти в себя.
Первое, что меня волнует — как я здесь оказался. Память бешено мечется в лабиринте картинок, но я не могу понять, какие из них к какому времени относятся. Я сжимаю голову руками, как будто это может помочь, и это действительно помогает. Потому что голова болит нестерпимо, а от сжатия ладонями просто пульсирует от боли — и я вспоминаю, что сильно ударился ею, и не один раз. Пожалуй, это и правда последнее, что я помню. А ударялся я…
О господи.
Вихрь картинок налетает на меня, доводя до тошноты. Лица бродивших по берегу людей накладываются на бесцветные туманные улицы, пепельные растения, обвалившиеся дома, мутную воду, грязное небо, небо… Небо, которое рассекает самолёт. Самолёт, в котором были все мы. Самолёт, который рухнул в океан.
Из горла вновь вырывается хрип, и я отчётливо вспоминаю, как мы терпели крушение. Как меня бросало по салону, и я нещадно бился головой обо всё подряд. Как все мы кричали, кричали от ужаса, как стало очень жарко, а потом стало всё равно.
Я поднимаюсь на ноги, еле на них держась, и бреду к другим людям, уже успевшим сбиться в кучку. Всего человек десять.
В самолёте нас было сорок.
Пока я иду, оставляя на влажном песке не слишком ровные следы, в голове носятся обрывки диалогов, эмоций, жестов… Всех этих людей. Я знаю их. Знаю каждого из них. А они знают меня. Я даже чуть улыбаюсь, потому что среди воспоминаний есть и приятные, хотя и смутные. Мы хорошо друг к другу относимся, очень хорошо, и я рад, что они выжили.
Я рад, что сейчас я с ними. С ними я в безопасности, и с ними я и хотел бы быть. Только одно обстоятельство немного омрачает мою радость.
Я понятия не имею, кто они.
* * *
Когда я дошёл до их сплочённой кучки, один из них выступил вперёд.
— Привет, — сказал он.
— Привет, — ответил я, однозначно узнавая его голос.
— Ты… — наступила короткая, но неловкая пауза, и он поспешно добавил: — Ты как?
— Живой, — пожал плечами я и внезапно понял, почему он замялся. — Что ты хотел спросить?
Он смутился, посмотрел на песок под ногами. Потом обвёл глазами всех остальных. Потом вновь посмотрел на меня, и во взгляде его было столько тоски, что сердце у меня сжалось.
— Ты… Кто?
И вот тут меня пробрало. Занятый воспоминаниями о крушении и этих людях, я упустил один момент. Важный момент. И этот парень попал в точку.
Я… Кто?
— А ты? — глупо спросил я, не желая признавать, что совершенно не помню даже своего имени.
Он развёл руками.
— Никто из нас не помнит. Но при этом…
— Но при этом мы все знакомы.
Он кивнул.
— Что ж… — я не знал, что тут сказать. — Что ж…
— Все мы помним крушение, но не помним, куда и зачем мы летели. И кто мы. Откуда друг друга знаем.
— И знаем хорошо, — добавил я.
Он снова кивнул.
— И ещё про наш мир, — подала голос одна из девушек — всего их было четыре. И пятеро парней.
— Про наш мир? — удивлённо спросил я, но и сам всё вспомнил, не успев закончить вопрос. Она увидела это по моему лицу, потому просто молча кивнула.
Наш мир.
Мир, из которого не сбежать на самолёте. Потому что бежать просто некуда. Те картинки, крутившиеся у меня в голове, были обрывками нашего мира. Мира, который начал разлагаться. Мира, превратившегося в тусклое, тоскливое место. Давно, ещё до нашего рождения. Все мы родились уже в нём, сером, промозглом, лишённом каких-либо красок, каких-либо надежд. В мире, где у полностью синтетических продуктов нет вкуса, а мутность воды не очищается ни одним фильтром. Где растения сухие и почерневшие, небо всегда затянуто серой пеленой, повсюду разрушенные дома, пыль и пепел.
Мы родились в мире, в котором фотографии и открытки из прошлого с сочными цветами, зеленью, синими морями и солнечными долинами с разноцветными фруктами — просто куски картона, на которых изображено что-то из области фантастики. Что-то, чего мы никогда не видели, во что никогда не сможем поверить.
Да, это наш мир.
— В общем-то, это всё, что мы помним, — вырвал меня кто-то из воспоминаний.
— Давно вы пришли в себя?
— Все по-разному. Последний из нас очнулся совсем недавно.
В голове у меня забился неприятный вопрос. Я закашлялся, ибо не все песчинки ещё вышли из моих лёгких, и резко спросил:
— Почему же вы не вытащили меня на берег? Я чуть не умер в паре метров от вас!
— Мы думали, ты уже мёртв. Как и остальные, — и они указали на торчавшие из воды тела.
Я не нашёлся с ответом. По сути, они правы. Откуда им было знать, что я, лежавший лицом в песке, был жив не меньше, чем они. Ладно.
— Ладно, — сказал я. — Что будем делать?
— Наверное, нужно исследовать остров.
— Пожалуй.
Кто-то из них мог быть моим лучшим другом. Кто-то — девушкой. Бог мой, может быть, даже братом или сестрой! Вяжущее, тянущее чувство окутывало меня с ног до головы, когда я смотрел на них. Уверен, так же было с каждым. Ощущать связь, но не помнить даже своих имён — нелегко. Нелепо.
Песок под ногами был серым, холодным и колючим, как и всё в мире. Вглубь острова уходили бесцветные, трухлявые деревья. Идти туда не было никакого желания. Мы пошли вдоль берега, намереваясь обойти остров, но через какое-то время наткнулись на скалы. Судя по пройденному пути, увиденному окружающему миру и моим подсчётам, скалы делили остров пополам, начинаясь в том месте, куда мы дошли, от кромки берега, и уходя вглубь острова — полагаю, пересекая его и заканчиваясь у кромки берега с противоположной стороны.
Интересно.
Карабкаться по скалам было небезопасно, но из других вариантов было лишь идти дальше, в глубину острова, где нас могло ждать неизвестно что, или же вернуться к месту, где мы начали наш путь, и пойти в другую сторону.
Проголосовали за второй вариант. Мои высказывания по поводу того, что там мы наткнёмся на эти же скалы, пересекающие весь остров, особого энтузиазма не вызвали. Все устали, все были напуганы и при этом хотели быть чем-то занятыми. Шаганье по берегу, пусть даже и бессмысленное, было подходящим вариантом. Успокаивающим. Но в итоге я оказался прав — там мы наткнулись на другой конец скал.
— И что теперь? — не знаю, кто задал этот вопрос, но он явно вертелся на языке у каждого из нас.
— Полезем, — отозвался парень, который первым заговорил со мной.
— И как ты себе это представляешь? — вырвалось у одной из девушек.
— Уж как получится, — буркнул он в ответ, и все замолчали.
Я посмотрел на скалы, которые и скалами-то не были в полной мере — в принципе, если очень постараться, то вскарабкаться на них вполне может получиться. Другой вопрос, как спускаться на ту сторону — скорее всего, это будет намного опаснее.
— Они тёплые! — прозвучало у меня над ухом, и я инстинктивно отшатнулся. Девушка прижимала ладонь к скалам, и лицо у неё было по-детски удивлённым.
— А что, должны быть холодными? — спросил кто-то, и все засмеялись, но как-то нервно.
— Не знаю. Наверное, — пожала плечами девушка. — Солнца-то… — она запнулась и опустила глаза. — Солнца-то нет.
И не было уже много лет, и никогда уже не будет. Солнце для нас также было лишь пятном на древних открытках.
— Конечно, нет. Но почему бы им не быть тёплыми?
— А почему бы им быть тёплыми? — девушка начала злиться. Нотки в её голосе были настолько знакомыми, что она запросто могла оказаться моей подругой. Или сестрой. Которая часто злилась на своего брата.
— Ладно, проехали. Лучше лезь давай.
— И полезу, — с вызовом ответила она, и действительно начала карабкаться.
Мы просто стояли и смотрели. Каждый раз, когда у неё чуть соскальзывала рука, сердца у нас с ужасом замирали. Наконец она долезла до верха. Видимо, там было более-менее плоское пространство (наверное, это и правда были не совсем скалы), или какой-то перевал, потому что она встала во весь рост и приложила руку к глазам, смотря на то, что находилось по ту сторону скал.
— Ну, что там? — крикнул всё тот же парень.
Девушка звонко рассмеялась, и смех её эхом разнёсся по ставшему вдруг необычно тихим острову.
— Залезай и посмотри сам, умник.
Парень в сердцах плюнул на песок.
— На самом деле здесь туман и ни черта не видно. Надо спускаться и смотреть, — крикнула она сверху.
— Подожди нас, — почему-то вырвалось у меня, и я крикнул ей уже громче: — Подожди нас!
— Ладно, жду! — отозвалась она. — Лезьте давайте, это не так уж и сложно!
И мы полезли. Это и правда оказалось не слишком сложно — как будто скалы и сами хотели, чтобы мы на них вскарабкались. А ещё они как будто не просто так здесь находились волею природы и рельефов, а словно предназначались для того, чтобы делить остров на две части. Теперь, когда мы все стояли наверху, это стало отчётливо видно. Та часть острова, на которой мы очнулись и по которой бродили, отлично просматривалась. Противоположная же часть была сокрыта от наших глаз непроницаемым туманом. Как будто мы оказались посреди двух разных миров. Это завораживало и пугало одновременно.
Скалы возвышались и над нами, но выше лезть мы бы не смогли — сейчас мы находились на одном из их уровней, с которого уже можно было спускаться на другую сторону. Мне не очень-то хотелось спускаться в неизвестность — кто знает, что скрывает этот странный туман? Может, там сплошь вода, и это ещё не худший вариант.
Ребята, подбадривая друг друга, начали спускаться. Я всё никак не мог заставить себя последовать за ними и начал чувствовать себя идиотом.
— Давай, спускайся! — ободряюще крикнул мне последний из них, а потом и его голова скрылась в тумане.
Делать было нечего — не ночевать же мне на скалах.
И когда я только собрался с силами и сделал шаг ближе к краю, я услышал какие-то шорохи слева. Учитывая, что все уже спускались, и кроме меня здесь никого не должно было быть, сердце у меня ушло в пятки. Потом я услышал чей-то шёпот, и отпрянул вправо. Ко мне приближались двое людей!
Я успел спрятаться за выступ, и они меня не заметили. Двое присели на корточки, настороженно всматриваясь вниз, в туман.
— Спускаются?
— Спускаются.
— Спасибо, Господи. Это наше спасение, — хрипло и низко сказал один из них.
Второй кивнул.
— Займёмся ими ночью, — добавил он.
— Непременно. Тем более, что как раз пора… Пора.
— Девять лет спокойной жизни, девять лет, Господи… Как я этого ждал…
— Они даже пикнуть не успеют.
Меня прошиб пот. Эти двое, в странной оборванной одежде, сидели прямо передо мной и планировали что-то против нас. Что-то… Но, чёрт побери, двое против всех нас — на что они надеются?!
— Даже если что-то пойдёт не так, мы всегда можем воспользоваться этим, — один из них вытащил из-за пояса старый револьвер.
— Да и острова они совсем не знают. Совсем…
Они хрипло рассмеялись.
Я застыл, понимая, что если выдам себя, стану первой жертвой этих убийц. И не последней… Надо было дождаться, пока они уйдут, а потом скорее спускаться и предупредить всех. Подумать только, если бы я не задержался, мы бы даже не догадывались о нависшей над нами опасности!
Наивно было полагать, что мы здесь одни…
Двое продолжали шептаться, сопровождая разговор жестами, — явно строили план захвата новоприбывших жертв. Господи, ушли бы поскорее… Я уставился в камень и постарался не думать ни о чём, но тут в голову снова полезла мысль, что я даже не знаю своего имени. Проклиная всё на свете, я периодически косился на тех двоих, которые словно приросли к месту.
А потом я чихнул.
Дальнейшее происходило с удивительной быстротой, словно бы нажали кнопку перемотки. Большую часть происходящего я осознавал плохо. Сердце неистово билось в груди, из горла вырывались какие-то хрипы.
Передать удивление тех двоих невозможно — они словно окаменели. В первые секунды — потом, конечно, набросились на меня, причём настолько беззвучно и слаженно, словно делали так уже не раз. В чём я перестал сомневаться, когда на моей шее сомкнулись крепкие пальцы одного, а в живот стал нещадно бить другой. Небо над моей головой начало окрашиваться в чёрный цвет, и я почти уплыл в темноту, но тут перед глазами снова замелькали разные картинки из моей жизни, и я понял, что не могу так поступить. Не могу бросить ребят. Не могу предать их и подставить под удар. Кем бы мы ни были, мы связаны, и предательство не про нас.
Я просто не мог позволить им пострадать от рук этих ублюдков.
Вслепую я нашарил рукой камень, надо сказать, очень удачно подвернувшийся, и со всей силы опустил его на голову душившего. На счастье, попал прямо в цель, ибо хватка на моей шее значительно ослабла. Темнота перед глазами постепенно начала отступать, но тут меня потащили за ноги, и сердце у меня заледенело — я понял, что меня тащат к краю скалы. И, конечно, не к тому краю, где моё тело сразу же увидят ребята и запаникуют. Зрение окончательно вернулось, и я увидел, что один из них стоит на коленях, закрыв лицо ладонями, сквозь которые просачивалась кровь. Уж не глаз ли я ему выбил тем потрясающим камнем? Меня пронзила настолько сильная злоба, что всё остальное перестало существовать.
Я немыслимо забрыкался и смог вырваться из цепких лап второго. И очень вовремя — мы были уже на краю. Что должно было произойти дальше, думаю, оба из нас поняли в тот же миг. Направив всю свою ярость против него, я изо всех толкнул вмиг ставшего испуганным парня в бездну. Он был выше меня, и, наверное, сильнее, но в ту минуту против меня ему было не выстоять. Момент, когда он падал за край, растянулся до бесконечности. Только что всё происходило с немыслимой быстротой — и вот пошёл обратный процесс. Когда он всё-таки исчез, я подошёл к краю скалы и посмотрел вниз.
От него мало что осталось.
С удовлетворением я повернулся к первому парню. Как я и подумал, я выбил ему глаз, и теперь его окровавленное лицо, обращённое ко мне, выглядело настолько жалко, что я со злостью усмехнулся. На самом деле инстинкт самосохранения и самозащита превратили меня в какую-то дикую смесь ненависти, злобы и силы. На какое-то время.
— Ты даже не представляешь, что тебя ждёт, — прошептал он.
— Ты тоже, — кивнул я. Потом подобрал тот самый камень и закончил с ним. Он даже не сопротивлялся, что меня немного удивило.
Обернувшись, я увидел валяющийся неподалёку револьвер. И они собирались втихую ночью подкрасться и застрелить кого-нибудь из нас, чёртовы ублюдки!
Револьвер оказался ржавым и незаряженным.
Это немного не вязалось с образом кровожадных и хладнокровных убийц, от которых я спас остальных, но мне было всё равно. Впервые за последние годы я ощущал невероятный душевный подъём. Я праздновал победу. Свою победу. Настоящую.
Я был героем. Спасителем. Это было великолепно.
Я упивался произошедшим.
Начисто забыв о страхе, я решительно стал спускаться к остальным.
Представляя, как я расскажу им о том, что спас их (и что при этом было двое на одного), я нащупывал ногами наиболее безопасные выступы и слишком уж воодушевлённо переступал с одного на другой.
А потом нога моя соскользнула, и от мгновенного страха я не сумел удержать равновесие.
Издав свой предсмертный вопль, я полетел со скал в туманное небытие.
Те секунды, что я летел вниз, были самыми страшными в моей жизни. Я уже успел убедить себя в том, что меня постигнет участь первого убитого мной, когда почувствовал удар и сгущающуюся вокруг меня тьму. Хотя… То была не тьма, а вода. И не просто вода, а вода, которой я в жизни не чувствовал и не видел. Прозрачная, с голубоватым оттенком, мягкая… В противовес нашей бесконечно мутной, отдающей падалью жидкости, которую в нашем мире также именовали водой. Меня настолько восхитило это чудо природы и то, что я не превратился в кучу мяса и костей, а очень удачно рухнул прямо в воду, что я даже забыл о том, что неплохо было бы вынырнуть на воздух. Вспомнил, когда ощутил резь в лёгких.
Вынырнув, я почувствовал непривычную невесомость внутри. Воздух был настолько чистым и богатым кислородом, что в это даже не верилось. Никогда в жизни мне не дышалось так легко. А потом я увидел то, что ещё в детстве сводило меня с ума, когда я смотрел фотографии из прошлого. Это было невероятно.
Водопад.
Настоящий водопад, прямо передо мной!
Захлебнувшись восторгом, я просто пялился на него, слушая его шум, и не мог думать ни о чём другом.
— Эй, — услышал я через какое-то время и неохотно оторвался от своего божества. Обернувшись, я увидел на берегу ребят и обрадовался. Все живы и здоровы, в том числе и я, прямо перед нами — источник сказочно чистой воды и водопад, чего можно ещё же…
Желать.
Чего можно ещё желать…
Челюсть у меня отвисала всё больше. Оторвав взгляд от ребят, я наконец стал осматриваться вокруг. И это было действительно непостижимо. Я не был уверен, что мы всё ещё живы.
В наших жизнях такого быть не могло.
Нас окружали могучие, манящие сочно-зелёной, свежей листвой деревья. У их подножий росли необычные растения, в прошлом именуемые цветами — красные, синие, жёлтые, оранжевые, розовые… Глаза мои, за всю жизнь привыкшие только к серым и тусклым оттенкам, не могли сфокусироваться на этом буйстве красок. Более того, от цветов исходил сладчайший, прекраснейший аромат.
Слух, привыкший к механическим и унылым звукам, впал в ступор от потрясающего, красивейшего пения птиц. Мимо пролетела бабочка, и я понял, что по щекам моим текут слёзы.
Если я умер, то надо было сделать это давным-давно.
Но самое главное…
Я медленно вышел на берег к ребятам, чтобы насладиться самым чудесным чудом из всех невозможных. Я поднял голову, и ноги мои подкосились. Я стоял на коленях и смеялся от счастья.
Солнце.
Тёплое, яркое, ласковое Солнце.
Никто из нас раньше не чувствовал солнечного тепла.
Никогда.
Все ещё не веря, что такое вообще возможно, я с надеждой смотрел на остальных и видел, что это действительно правда. На лицах их было написано то же самое, что и, вероятно, на моём. По крайней мере то же, что я чувствовал. Но было на них и что-то ещё…
— Представляете, — вспомнил я, — пока вы спускались, на скалах появились двое людей, и они…
— Двое людей? — оживились они, но как-то странно.
— Да, и они задумали… То есть решили, то есть собирались подкрасться к нам ночью и убить всех. У них даже был револьвер. — Некоторые подробности я решил умолчать. — И ловушки по всему острову, или что-то в этом роде. В общем, психи какие-то. И подумать только, если бы я не задержался, это, возможно, был бы наш последний день в живых!
— А что…
— Они меня заметили, напали на меня. Двое против одного — было нелегко, — небрежно продолжил я, — но я справился. Не хотел, чтобы кто-то из вас пострадал, и это придало мне сил, — добавил я, глядя на девушку, которая забралась на скалы первой. — В общем, друзья мои, как бы пафосно это ни звучало, я вас спас. Нас спас.
Повисло молчание. Девушка нахмурилась, остальные стали переминаться с ноги на ногу.
— Каким же образом? — спросил парень, который заговорил со мной первым, и от его голоса почему-то побежали мурашки.
— Ну… Скажем так: я победил в неравной борьбе.
— Ты… Убил их?
— Да, — подтвердил я спокойнее, чем думал.
— Ты убил их?! — а вот в его голосе была только зарождающая паника. — Они уже мертвы?!
— Я…
— О ГОСПОДИ! — крикнул кто-то. — Зачем ты это сделал, зачем, ЗАЧЕМ?!
— Что вы… — пробормотал я, ничего не понимая. — Почему…
Я отвернулся, недоумевая. Подставил лицо непривычному солнцу, погрелся в его лучах. Солнечный свет, казалось, проник даже в мои мысли. Полюбовался диковинной голубизной неба. Это действительно райское место.
— Да ладно вам, я же спас вас. Говорю же — они собирались подкрасться к нам ночью и убить… — я поднял глаза, и фраза моя резко оборвалась. Люди, ради которых я рисковал жизнью, люди, ради которых я сделал бы что угодно, люди, освещённые солнечным светом, эти прекрасные, родные и неизвестные мне люди смотрели на меня. Каждый из них.
И во взгляде каждого открыто читалась недоброжелательность.
— В чём дело? — прямо спросил я, чувствуя, как внутри всё наливается свинцом.
— Они были нашим шансом, — процедил сквозь зубы парень, который всё больше казался мне моим братом. — Ты лишил нас шанса.
— Ты о чём вообще? — поразился я. Какая-то мысль неустанно скакала в моей голове, но я никак не мог её ухватить. — В чём дело-то?
— Он же не знает, — подала голос та самая девушка. — Он должен узнать…
— Узнать что? — резко спросил я. Мне всё это не нравилось.
— Всё.
И она указала на землю.
Я просто оторопел. Я не понимал, чего от меня хотят и что происходит. О чём и заявил, возможно, чуть более резко, чем собирался.
— Как ты видишь, это не обычное место. И оно рассказывает о себе, потому что находясь здесь, ты должен знать то, что оно хочет рассказать.
— А, ну конечно, — сказал я, понимая, что от избытка кислорода всем нам, кажется, стало не по себе.
— Ты не понимаешь. Просто дотронься до земли.
Я вспомнил, как она дотрагивалась до тёплых скал с той стороны острова, и промолчал. Просто решил сделать то, что она говорит.
Я дотронулся до тёплой, прогретой солнцем, мягкой земли. Настоящей земли. Такой в нашем мире не было уже лет пятьдесят, насколько мне известно. Дотронулся, и в тот же миг история этого места проникла в мои вены, заполняя меня собой без остатка. Она просто вливалась в меня, словно я смотрел фильм, и фильм этот был до боли прекрасен. Словно все фотографии и пейзажи из прошлого сошлись в прекрасном сне. Но…
Но лучше бы я ничего этого не знал.
Случайно ли наш самолёт разбился прямо над этим островом?
Случайно ли в катастрофе, в которой никто не выживает, выжили десять человек?
Случайно ли никто из них не может вспомнить даже собственного имени, зато отлично помнит всю разруху и бесцветность своего мира?
Случайно ли люди без какой-либо подготовки забрались на скалы и слезли с них, обойдясь без каких-либо происшествий?
Случайно ли…
Разумеется, нет.
Остров даёт то, чего уже нет в нашем мире. Даёт то, о чём люди уже давно перестали мечтать. Но не просто так. Взамен он забирает то, чего нет у него. Острову нужна энергия. Пища.
Острову нужна жертва.
Каждый год.
Так было, и так будет.
Здесь и до нас было не много людей, часть из них перебила друг друга, часть была принесена в жертву. Каждый год острову требовалась новая. Зато остальные наслаждались этим местом. Здесь было всё. Здесь было солнце, вода, воздух, ягоды, фрукты, грибы. Здесь были птицы и животные. Здесь были цветы. Здесь была жизнь.
Жизнь за жизнь.
Но один человек — небольшая плата за наслаждение этим райским уголком мира. Особенно для тех, кто был лишён даже намёка на такой мир задолго до своего рождения. Для тех, чей мир и чьи жизни были серыми насквозь.
Из последних людей, бывших на этом острове, остались лишь те двое. И мы были бы им неплохим подспорьем, если бы им удалось взять кого-то из нас в плен и убить, соблюдая необходимый острову ритуал. Но они для нас были бы подспорьем ещё лучшим… Я понял это одновременно с осознанием того факта, что именно я и никто другой решил судьбу как минимум двоих из нас. Ведь я просто убил их, без соблюдения каких-либо условий.
Но откуда же я мог знать?
— Господи, — выдохнул я, когда калейдоскоп в моей голове прекратился. Поднял глаза на ребят. Почувствовал, как желудок сворачивается в узел. Теперь во взгляде каждого было лишь одно: враждебность. Неприкрытая, опасная, тёмная враждебность.
Девять против одного — не лучший расклад.
— Такие вот дела, — сказала девушка. — И нам надо сделать свой взнос прямо сейчас. На этот раз соблюдая ритуал, — с нажимом добавила она.
— Взнос? — я не поверил своим ушам. — Ты имеешь в виду…
— Извини. Мы решили это единогласно.
— Решили что?
— Ты знаешь.
— Вы что, серьёзно хотите отдать меня этому грёбаному острову? — рассмеялся я, не веря в абсурдность ситуации.
— Ты сам лишил нас шанса.
— Я спас вас!
— Ты лишил нас двух лет.
Я лишь покачал головой. Не знал, что ещё сказать. А они стали говорить по очереди, один за другим:
— Здесь есть всё, о чём мы только мечтать могли.
— Этот мир чист. Богат. Прекрасен. Мы остаёмся.
— Нам нужно это место.
— Нам нужен этот мир.
— Нам нужен этот год.
И это люди, которые мне почти или действительно родные! Которых я хотел спасти и мысль о которых помогла мне не погибнуть. Хотя, похоже, не помогла… Я истерически рассмеялся.
— Да бросьте, вы так и будете год за годом по одному отдавать своих друзей? Своих, может быть, родных! Будете жребий тянуть, или как?
— Месяцев через девять мы решим этот вопрос, — сказала одна из девушек, и я на мгновение решился дара речи.
— Серьёзно? Вы что, серьёзно? Будете рожать детей и отдавать ему младенцев? Да вы просто спятили!
— Почему же? — спросил кто-то, и я не смог ничего ответить. То, что они решили мою судьбу за меня, меня больше поражало, чем пугало или злило. Я решил потянуть время, чтобы придумать хоть что-то.
— Я же не чужой вам! Вы и сами прекрасно это знаете! Знаете же!
— Да, но это всё, что мы знаем. Может, это и к лучшему.
— Хотите стать убийцами? Да вы уже убийцы!
— Как и ты.
— Я? Я?! Да как вы… А если этому расчудесному острову не подходят младенцы? Может, ему нравится упиваться вполне себе зрелыми особями! — выкрикнул я, не в силах совладать с собой. Обстановка была накалена до предела. Мне стало трудно дышать. — А если ему станет мало одной жертвы? Может, он и парочкой не ограничится!
— В любом случае, целый год жизни в этом прекрасном месте стоит того, чтобы за него умереть. Каждый из нас уже решил это для себя.
— В любом случае, ты можешь за это не волноваться.
— В любом случае, мы остаёмся.
— А ты…
И тут я услышал хруст ветки сзади, и меня ударили по голове чем-то невероятно тяжёлым.
* * *
До чего же приятное ощущение — ощущение тепла на моём лице. Никогда не думал, что солнце настолько приятно. Но что-то не так…
Ах, ну конечно. Я вспоминаю последние события и с трудом разлепляю глаза. Не привыкшие к яркому свету, они закрываются, но я успеваю увидеть кости, разбросанные по земле.
Очевидно, мои предшественники.
Пытаюсь пошевелиться, и тут меня пронзает боль. Глаза распахиваются и таращатся на буйство зелени передо мной. Отдышавшись, я опускаю взгляд вниз, хотя по ощущениям уже понял, что я там увижу.
Я крепко привязан к чему-то, думаю, к пресловутому жертвенному столбу или его подобию. Я обездвижен, солнце светит прямо на меня, но смерть от перегрева мне не грозит. Для острова этого было бы недостаточно.
Вокруг меня — адские создания. Я никогда их не встречал и лишь из старых книг знаю, кто они. Именно кто, а не что. Они медленно, очень медленно, но шевелятся около меня. Дотрагиваются до меня.
Лианы.
Словно услышав мои мысли, лианы просыпаются, давая понять, что я прав. Шевеление усиливается. В голове бешено мелькают кошмарные картины того, что со мной будет. Лианы чувствуют мой страх. Я знаю это. Знаю, но не могу контролировать его. Сердце от ужаса вот-вот пробьёт грудную клетку. Нежное, осторожное, любящее прикосновение лиан вызывает тошноту — я понимаю, что их уже не остановить. Они медленно, бесшумно обвивают мои ноги, словно смертоносные змеи. Я буквально вижу маленькие змеиные головки и слышу змеиное шипение. Я снова и снова пытаюсь вырваться, пытаюсь изо всех сил. Мои вопли, уверен, разносятся по всему острову. Лианы лишь поскрипывают, будто ядовито усмехаясь. Скрип такой, словно на одну из них наступили здоровенным тяжёлым ботинком. Мне страстно хочется сделать именно это, но я не могу. Их плавное движение продолжается, и я слышу нежный шёпот. Я уверен, что я его слышу, что это не плод моего помутившегося от ужаса сознания. Упругие стебли обвивают моё тело, скользят всё выше и выше, шепчут что-то на своём лианском языке. Пытаются убаюкать. Я уже совсем без сил, и потому почти смиряюсь. Словно почувствовав, что я сдаюсь, откуда-то сверху в предвкушении выползают новые воодушевившиеся лиа-ны — в отличие от нижних, с листьями. Вокруг шеи начинает затягиваться вечнозелёная петля. Лучше бы я сдох в этом чёртовом самолёте. Я больше не могу.
От бессилия и отчаяния я снова начинаю кричать, но из горла вырывается только какой-то чужой хрип. Теперь уже везде — и снизу, и посередине тела, и у шеи и головы — я чувствую только их. Проклятые лианы незаметно, медленно, но верно опоясали меня целиком. Шёпота я уже не слышу. Может, его всё-таки и не было. Не знаю. Слышу только поскрипывание.
Я жду, когда лиана на шее затянется настолько, что можно будет не думать об этом. Я правда жду, я уже хочу этого, но ничего не происходит. Внезапно я понимаю — я же просто сгнию здесь заживо! Словно ледяной водой окатили. Глупец, на что я надеялся?! Каждый год… Я буду разлагаться медленно, очень медленно, уж они-то постараются… Потешатся со мной вдоволь. Всё же у них ещё целый год впереди до следующей жертвы. Словно в подтверждение моих мыслей петля на шее ослабевает. От перспективы предстоящих мучений у меня вырывается громкий, горестный стон. Лианы по всему телу чуть ослабляют хватку, и на какой-то момент у меня мелькает мысль — может, удастся их уговорить. Может, они сжалятся. Я уже открываю было рот, чтобы умолять о пощаде, но взгляд снова натыкается на обломки костей. Можно подумать, те, кто был до меня, не умоляли. Я буквально слышу их крики, стоны и мольбы. Но их не пощадили. Никого. Ещё бы, остров хочет жить не меньше других. Я усмехаюсь. Вкладываю в свои слова весь свой страх, всю свою злость и отчаяние. И ору изо всех сил:
— Будь проклято это место! Будь проклято это место! Будь проклято!
Я закашливаюсь. Думаю о проклятиях, о том, что ведь это всё может быть правдой. Как будто от того, что я прокляну этот остров, станет легче. Как будто мне это чем-то сейчас поможет. Но я точно знаю — если это всё правда, то остров теперь точно проклят. Так я этого хотел. Столько искренней жажды проклятия было в моих словах. Кажется, лианы это тоже почувствовали. Зашевелились. Твари. Чтоб вы в аду сгнили, твари.
До меня долетает отголосок смеха. Эти сволочи, отдавшие меня на прокорм острову, смеялись! Я рисковал жизнью, я их защищал, я спасал их, а они меня предали, принесли в жертву! Меня охватывает поистине дьявольская злоба. Мне хочется выбраться уже не ради того, чтобы выжить, но ради того, чтобы размозжить головы предателей о прибрежные камни. Такие жертвы вам подойдут? Вместе со злобой я ощущаю невиданный прилив сил. Как тогда, когда те двое чуть не угробили меня. Я даже думаю, что с такими-то силами смогу вырваться из цепких объятий лиан. Думаю — и начинаю вырываться. Я чувствую, что смогу. Злость и жажда мести заслонили собой все остальные чувства. Заслонили боль и усталость. И смирение. Я рвусь на волю, и встревоженные лианы, словно почувствовав, что на этот раз мне может хватить сил, переходят в наступление. Сжимаются вокруг меня так сильно, что я начинаю задыхаться. Конечно, ослабляю попытки выбраться. Наверное, с минуту я захлёбываюсь кашлем. Силы покидают меня. Я понимаю, что больше у меня не будет шансов освободиться. Этот был последний, и мне не удалось его использовать. Издалека снова доносится счастливый смех. Я вспоминаю наш мир, сломленный, серый и пыльный, вспоминаю великолепие этого острова, по крайней мере, части его. Я буду гнить здесь, обмотанный погаными стеблями, а они будут наслаждаться райской чистотой и красотой. В обмен на мою жизнь.
— Сволочи! — реву я. — Сво-о-олочи-и-и!
Лианы снова начинают шевелиться, и на этот раз они ползут по моему лицу.
О боже. Боже. Я знаю, что они собираются сделать.
Может, это лучше, чем гнить здесь неделями, но точно хуже, чем тугая петля на шее.
Стебли и листья лезут мне в уши, в нос, в глаза. Я ору от невыносимой боли. Ору, как резаный. Я чувствую, как лианы проникают в мою голову, я отчётливо вижу, что совсем скоро они обволокут мой мозг, я…
Какого чёрта я выжил?! Какого чёрта?! Для этого?! Предатели…
Я плачу, но слёз не чувствую. Я уже ничего не вижу. Почти ничего не слышу. Лианы всё так же медленно и спокойно наслаждаются моим лицом. Я знаю, что на этот раз всё уж точно кончится. Меня предали и мучительно убили — таковы факты.
— Чтоб вы сдохли! Все до единого!!!
Лианы не замедляют полезть мне в рот, в горло. Становится жарко, как будто меня подожгли. Я уже не обвит лианами — они стали мной. Я стону, плююсь, кусаю их изо всех сил, но разве может это заставить упругие, нежные, но настойчивые стебли остановиться? Конечно, нет.
— Будьте вы прокляты! Будьте вы прок…
Первый день после смерти
Каждую минуту на Земле умирает около ста пятидесяти человек. В одну из таких минут умер и я.
Было это совсем недавно. Совсем, совсем недавно. И в то же время — вечность назад.
Радоваться тут нечему, скажете вы, и будете правы, но лишь отчасти. Как бы то ни было, этого уже не изменить, зато если вы это читаете, то случилось то, чего я хотел.
Моё желание исполнили.
* * *
Первый день после смерти всегда очень суетливый. И для тех, кто остался там, и для тех, кто попал сюда. Дальше, наверное, поспокойнее. Не знаю.
Сказать вам, какой он был, мой первый день? Одно слово.
Изумление.
В жизни я нечасто испытывал изумление. Этот день не только восполнил всё с лихвой, но ещё и лет на сто вперёд хватило бы.
Неважно, как умер я, сколько мне было лет.
Неважно, как и в каком возрасте умрёте вы или кто-то ещё. Неважно, что вы делали и во что верили. Вы всё равно окажетесь здесь. И у вас тоже будет ваш первый день.
Попав сюда, понимаешь, что время стало течь по-другому. Что пространство перестало вести себя привычным образом. И что всё, чему нас учили всю жизнь, было неописуемо поверхностным.
Но обо всём по порядку.
Даже не знаю, с чего начать. Однако на размышления нет времени, поэтому начну с желания. Каждый, попавший сюда (то есть, каждый вообще), получает право выразить своё желание. И оно будет исполнено.
Одно желание. Это закон. Если где и существуют истинные законы, которые исполняются всегда и которые невозможно нарушить, потому что это законы, так это здесь.
Правда, как и во всех законах, есть несколько исключений — нельзя, конечно, попросить вернуться обратно и продолжить жить. Нельзя просить провести ещё хоть час, хоть минуту там, куда уже нет пути, раз уж ты здесь. Нельзя просить увидеться с живыми или как-то им показаться. Нельзя просить увидеться с умершими родственниками или друзьями, а вот на животных, кстати, этот пункт не распространяется. Нельзя просить дать тебе второй шанс и всё в этом роде. Нельзя желать смерти кому-то, кто ещё там. Нельзя просить приглядывать за кем-то, то есть кого-то оберегать, отсрочивать чей-то переход. То есть всё это просить, конечно, можно, но исполнено такое желание не будет. А возможность уже будет потеряна — выразить своё желание можно только один раз. Поэтому Они советуют всем хорошенько подумать, прежде чем поспешно что-то ляпнуть. Хотя мало кто внимает этому совету. Пытаются хитро сформулировать запретное желание или надеются как-то Их всё же упросить — совершенно зря, только лишаются своей единственной возможности.
При мне выражали разные желания. Часть из них не была исполнена, но те, которые соответствовали закону, были исполнены в ту же секунду. Не буду тратить время на их перечисление, но многие из них были похожими.
Я довольно долго пытался придумать своё желание. На что бы ни пал мой выбор — всё казалось незначительным, не тем. Животных у меня никогда не было, чтобы как эта девочка в паре метров от меня радостно броситься на шею горячо любимому умершему питомцу. Но упускать возможность что-то пожелать было бы слишком глупо.
А потом я огляделся, и меня осенило. Да всё же было ясно как день!
Я сформулировал желание предельно чётко, но формулировку тут же забыл. Поэтому скажу лишь, что я попросил дать мне возможность как-то сообщить людям, что происходит по крайней мере в первый день после смерти, и как они все ошибаются на этот счёт. Это не было запрещено законом. Я ведь не просил связываться с живыми или как-то с ними контактировать. Просто… Написать послание. Послание без обратного адреса. Написать столько, сколько успею, и так, как смогу, о том, о чём смогу.
И Они согласились.
Заметили, что слова исчезают по мере их прочтения? Свойство этого места. Всё, что пришло отсюда, не может существовать там, у вас. Слова вообще должны были перестать быть, как только попали к вам. Но в связи с моим желанием мы с Ними пришли к соглашению — текущий вариант удовлетворил обе стороны. Собственно, поэтому нельзя просить о возвращении — отсюда просто нет пути обратно к вам никому и ничему.
Когда я спросил, сколько экземпляров этого письма попадёт к вам, Они только рассмеялись. Числительные здесь не в ходу. Поэтому я не знаю, сколько людей сможет это прочесть, но я знаю, что оно точно попадёт, куда я хочу. Как и сколько — что ж, меня должно волновать не это, а то, что я успею написать.
Последние десять минут я просидел в полнейшем ступоре. В конце концов меня постигло глубокое разочарование — глупец, разве можно было надеяться? Словами просто не передать всего, что я хотел сказать. Всего происходящего. Не описать. Человеческий язык не подходит для этого. На каком-то внутреннем, мысленном уровне я не только осознаю всё происходящее, но и чувствую его. Я всё знаю. Более того, я всё понимаю. Всё естественно, всё так, как и должно быть. Но в данный момент ощущаю себя той самой пресловутой собакой, которая всё понимает, но сказать ничего не может.
Глупец. Несомненно, глупец, но… Но что-то, хоть малейшую часть, я всё же смогу донести.
Я не могу облечь мысли в человеческий язык и сказать, кто есть Они, но все мы ошибались. Я не могу описать, как здесь всё выглядит, но прекраснее ничего быть не может. Не могу рассказать, как здесь всё устроено, но уж точно не так, как мы могли бы представить: ни одна из многочисленных версий разных людей разных эпох не соответствует истине. Верхние и нижние миры, параллельные измерения и прочее — даже близко нет.
Иисус Христос, Будда, Аллах, святые, грехи, Рай и Ад… Вопиющие заблуждения. Религии теперь кажутся настолько смешными, что мне стыдно за наш род. Всем, кто сюда попадёт, будет стыдно. За религии и за войны, и за религиозные войны. А если честно — то вообще за всё, что мы делаем. Абсолютно за всё.
Эволюция теперь кажется не менее смешной, чем религии. Попадёте сюда, сами всё поймёте. Эволюция, тоже мне.
Всё настолько просто, что иное кажется чем-то оскорбительным.
Здесь открывается суть всего.
Здесь есть ответы на всё. Вопросов без ответов просто не существует.
Да взять хотя бы к примеру противоречивый и заставляющий надолго задуматься вопрос — предельна ли Вселенная. Что понятие о Вселенной мы имеем, мы с горем пополам заставили себя поверить. Но конечна ли она? Над каким бы ответом мы не размышляли, он не укладывается в голове. Если да, то… То как это? Нет, серьёзно, как это? То есть она как какая-то коробка, ограниченное пространство, пусть и безумно гигантское, но всё-таки ограниченное? Смириться с этим никак нельзя. Нельзя представить это. И то, что вытекает из такого ответа, тоже. А если она бесконечна, то… Даже не знаю, что хуже. Но в наших головах не укладывается ни то, ни другое. Мы не можем себе это представить. До какого-то момента получается, а потом… Внутри всё переворачивается. Как это?
Я скажу вам. Я узнал ответ. У нас довольно извращённое представление и о Вселенной, и о космосе, и о всех таких вещах. Кардинально неверное. Отсюда всякие противоречия, которые мы не можем разрешить. И если продолжать называть это Вселенной, то здесь вы поймёте, что есть эта самая Вселенная, вы поймёте про неё всё. И так со всем. Представления рушатся, привычные знания рассыпаются в прах, незыблемые человеческие истины, придуманные нами, тают на глазах.
Просто знайте, что в конце вы всё поймёте. Не только узнаете, но именно поймёте. Всё. И это настолько потрясающе, что вы даже перестанете жалеть о своей потерянной жизни. Это стоит того. Поверьте.
Да, безумно жаль, что я не могу конкретно и точно передать, что и как тут всё, что и как обстоит на самом деле, а могу лишь сказать, чем и каким оно не является, могу лишь снова и снова повторять, что мы ошибаемся, но и это уже кое-что, верно? Знание своих ошибок и слабостей всегда чего-то да стоит. Кстати, про знания — недостаточно мы к ним стремимся, ох, недостаточно, хотя нам кажется, что всё как раз-таки противоположно. Если бы нам намекнули, какой объём и каких потрясающих знаний нами не охвачен, мы бы отбросили всё. Свою занятость, свою лень, свою убеждённость в том, что всего постичь нельзя. О, какая глупая убеждённость — и придумана она нами же, чтобы оправдать свою неспособность быть настоящими людьми, такими, какими мы все должны быть, а не единицы из нас. Убеждённости и стереотипы — глупейшие наши бичи, поражающие сейчас своей немыслимостью, и сильнейшие наши враги, поражающие сейчас своей действенностью. Наше лучшее изобретение, направленное нами же против нас самих.
Да, в моих глазах наш род сейчас пал так низко, что сложно поверить в то, что он сможет когда-либо подняться. Мнения Их на наш счёт я не знаю, но чувствую, что оно противоречиво, — тем и живём.
Злоба, ненависть, зависть, жадность, предательства, лживость, трусость переполняют нас больше, чем мы думаем, сидят в нас прочнее, чем нам хотелось бы. Это не эмоции и не чувства. Это, скажу я вам теперь, наши качества. Это не то, что мы испытываем в какие-то моменты, но то, что обосновалось в нас самих пожизненно. Но не те качества, какими мы привыкли хвалиться и за какие хвалить других, да? Они как злокачественные опухоли. И их много больше, все перечислять не вижу смысла, думаю, каждый может продолжить список самостоятельно. Прямо сейчас я вижу нашу нелестную картину, и как бы мне вам её описать? О, представьте себе географическую карту человечества, на которой красным цветом обозначены вышеперечисленные качества и их ближайшие сородичи, а пресловутым зелёным — то, что именуем мы добродетелью, да или хотя бы то, что нельзя отнести к красному цвету. Хотя бы так. И знаете, что мы собой представляем? Все семь миллиардов, или сколько нас там уже, в совокупности? Кровавая карта, скажу я вам. Будто одного из нас крепко приложили к ней головой и смачно резанули по сонной артерии. Не знаю, как вам, а мне не по себе. До этого я как-то не представлял, что мы отвратительны настолько масштабно. Эти малые зелёные островочки не меняют всей картины.
Но что-то мне подсказывает, что у нас ещё есть шанс. Точнее, у вас.
Жёстким каким-то стал мой тон, да и отвращение захлестнуло, но вот стоило сейчас оглядеться, и всё прошло. Надежда — спасение всего и вся, и это место дарит её. Нет, правда, здесь невыносимо потрясающе. И… Меня внезапно посетила мысль, которую я поначалу отбросил, но теперь с каждой секундой она всё упорнее ко мне возвращается. Сдаётся мне, что каждый увидит это место по-своему. Нет, основы наверняка вечны и незыблемы, но остальное… Теперь я почти уверен, что все мы попадаем в одно и то же место, но каждый из нас — в разные. Хотя, может, я и ошибаюсь. Почему-то этот вопрос ещё открыт для меня, хотя, как я уже говорил, здесь не остаётся ничего неизвестного. Наверное, просто у меня уже не осталось сил воспринимать ответы. Что ж, может, вы выясните этот вопрос. Хотя каким бы ни был ответ, факт того, что стоило жить, чтобы в итоге оказаться здесь, останется несомненным.
Ещё кое-что.
Особо выдающиеся экземпляры человечества, своей жизнью сумевшие что-то показать и доказать Им, получают право на второй день, который может длиться десятками или сотнями лет. А потом они получают ещё один шанс. Люди, особо достойные зваться людьми, изменившие жизни других людей и даже целых поколений, люди, затронувшие умы и сердца других, совершившие открытия — то, чем на самом деле должны заниматься настоящие люди, — они возвращаются. Конечно, они ничего не помнят ни о своей предыдущей жизни, ни о смерти, ни о первом и втором дне, они просто начинают с нуля. И никогда не разочаровывают.
Гениальные учёные, первооткрыватели, философы, борцы за справедливость, художники, музыканты, писатели — да всех не перечесть — возрождаются спустя века. Они держат всех нас. Держат человечество сквозь время. Если бы не они, то в Их глазах человечество давно бы утратило ценность и причину на существование.
Такие парни, как я, не представляют собой ничего ценного или выдающегося. Обычный материал, как бы грубо и неприятно это ни звучало. Я знал это и при жизни, и не сказать, что это меня очень сильно заботило. Я смирился со своей никчёмностью, как это делают тысячи других, таких же, как я, и занимался чем угодно, только не пытался изменить себя. Просто жил, работал, развлекался, как мог, не делая ничего, что могло бы хоть кому-то принести хоть какую-то пользу. Сейчас я думаю, возможно, я и родился, и жил, и умер только затем, чтобы теперь попытаться приоткрыть завесу над тем, что много лет интересует человечество. Наконец попробовал сделать что-то полезное. И сдаётся мне, что так и должно было быть.
Я хотел бы написать больше, гораздо больше. Поверьте, тут есть о чём написать, даже учитывая, что о многом напрямую рассказать нельзя. И я бы написал, но, как я уже говорил, я с неба звёзд не хватал. Поэтому лично для меня первый день после смерти является единственным и последним.
Я не могу описать, что меня переполняет сейчас, когда я дописываю последние строки, зная, что осталась какая-то пара минут. Это не чувства — это что-то неподвластное словам. Как и всё здесь.
Я не знаю, что выйдет из моей затеи — возможно, сотня людей прочтёт это и расскажет ещё сотне, а та передаст дальше, и в конце концов ваш мир изменится. А возможно, какой-то пьяный бродяга с трудом прочитает мои ускользающие слова, выругается, не поверит ни слову, конечно, бросит бумагу на землю и ещё и наступит на неё. Не знаю. Но попытаться стоило.
Я не знаю, что будет дальше. Но страха нет. Здесь он просто не может существовать. Так что не бойтесь. Правда, не бойтесь. Здесь нет ничего страшного. Может, впереди меня ждут жутчайшие муки (что я заслуживаю, по правде-то), или же непостижимое счастье (куда ж без надежды), может быть, пустота, или холод, или свет, или тьма, или вообще абсолютное ничто, или абсолютное всё, или что-то, чего никто не мог даже вообразить за тысячи лет, — я не знаю.
Я просто знаю, что первый день даётся всем без исключения. А дальше…
Остановка по требованию
За любое развитие приходится платить.
Не за эволюционное, заложенное природой, но за не предусмотренное ею.
Научно-технический прогресс хорош ровно до тех пор, пока не начинаются жертвы. Впрочем, когда они начинаются, уже поздно что-либо менять, поэтому приходится развиваться дальше и дальше, пытаясь как-то залатать допущенные ошибки.
Научно-технический прогресс хорош ровно до тех пор, пока природа не начинает злиться. Природа или… Вселенная. Всё должно идти своим чередом. Всегда.
Открытие новых лекарств сопровождается их побочными эффектами, создание новых машин и технологий — новыми неисправностями и проблемами с окружающей средой, овладение новыми знаниями — осознанием недостатков и маниакальным желанием всё усовершенствовать, и так далее.
Всё должно идти своим чередом.
Людям не стоило бы высовываться и менять ход и природу событий. Но они почему-то упорно продолжают это делать, несмотря ни на что.
Зря.
* * *
Люди на удивление быстро привыкают к хорошему. Стоит только ему появиться в их жизнях, и вот они уже воспринимают это как данность. Хорошее и удобное воспринимается на ура и внедряется в обычную жизнь просто моментально. Мало кого теперь интересует, как работает та или иная технология. Главное — что работает и облегчает им жизнь.
Раньше было по-другому. Люди интересовались. Но после той Войны, о которой не принято теперь говорить, после применения того Оружия, о котором также не принято говорить, люди изменились. На генетическом уровне.
Но зато и возможностей для потрясающих открытий и научных прорывов стало гораздо больше. И стоит ли так горевать, если обычные люди, пользующиеся плодами этих открытий, не интересуются их природой? Стоит ли их винить, если каждую неделю теперь совершается что-то невиданное, что-то, при этом столь быстро вливающееся в общую колею, что кажется, так было всегда?
Последняя открытая технология взбудоражила всех.
Правда, как и всё, ненадолго. Её поразительное удобство застило её поразительную природу, и вскоре все уже привыкли к ней, как к чему-то само собой разумеющемуся.
Беспрецедентное удобство. Лозунг современного мира.
Действительно, что может быть удобнее мгновенных путешествий? Куда угодно, правда, в пределах планеты. На работу? Банально, но чаще всего используется, особенно по будням. В подпольное казино, на скачки, в бордель? Пожалуйста. На Гавайи, на Аляску, в Новую Зеландию? Запросто. Все развлечения и все места к вашим услугам, дамы и господа.
Просто сосредоточьтесь на том месте, где вы хотели бы оказаться.
Так просто.
Технология уникальная, но сложная, поэтому пока курсировал только один состав. Но это пока, а в планах было повсеместное введение чуда и отказ от самолётов и вообще каких-либо средств передвижения. Банальных, медлительных средств передвижения. Пока же и один состав успешно облегчал жизнь тысячам людей. День за днём люди в одно мгновение оказывались там, где хотели. Установились внутренние правила, очерёдность, даже своеобразная этика. Новая технология успешно влилась в жизнь общества и незаметно меняла её изнутри.
В поезде не было разделения на вагоны. Он был единым целым. Машиниста, конечно, тоже не было. Абсолютно типичный поезд метро длиною в три-четыре вагона, внешне и внутренне выглядевший абсолютно обычно. И нёсся по тоннелю метрополитена тоже совершенно обычно. Только внутри каждый раз происходило что-то совсем не обычное.
Поезд с новой технологией отходил с каждой платформы в определённое время. Люди просто спускались в метро там, где им было удобно, и дожидались состава. Поезд не пустовал, конечно, но и битком никогда не был набит. Людей вообще стало гораздо меньше, чем раньше, Война даром не прошла. Вслед за новым поездом продолжали ходить обычные поезда, и если кто-то совсем не вмещался в новый, мог ехать на обычном. Или ждать нового. Среднего интервала не было, в этом плане поезд был нестабилен. Пока.
Как бы то ни было, приняв пассажиров, поезд закрывал двери и устремлялся в бесконечную тьму тоннеля. Очерёдность всегда устанавливали пассажиры — в зависимости от срочности, возраста, состояния здоровья и прочего. На этой почве ссор не было почти никогда. Потому что сам процесс занимал не более пары секунд. Нужно было лишь подойти к дверям — таким же обычным, как и в стандартном поезде, — поднести ладонь к сенсору у дверей, увидеть, как на нём загорается небольшой синий треугольник, давая понять, что личность идентифицирована и можно сосредоточиться на месте, и затем… Просто подумать, куда тебя должен доставить поезд. Представить это место. Через пару секунд двери разъезжались, и за ними была уже не пустота тоннеля, а именно то место, которое тебе нужно.
Поезд-мечта.
* * *
Поезд наконец подошёл.
Парень в зелёной футболке, а следом за ним ещё человек пятнадцать, ввалились внутрь. Сегодня пункт назначения у Парня был самый что ни на есть обыденный — он ехал на работу, а быть там ему нужно было через полчаса. Целых полчаса на то, чтобы заняться любимым делом! Целых полчаса на то, чтобы глазеть и пытаться угадать, кто куда направляется. Поезд не отправится на станцию, пока все пассажиры его не покинут. Что ж, можно посмотреть всех и выйти последним.
В этот раз, почти как и всегда, очерёдность установилась следующая: женщины, старики и дети, мужчины. Сверхсрочных пунктов назначения вроде бы ни у кого не было.
Первой к сенсору у дверей подошла женщина с коляской. Из коляски выглядывало маленькое личико и доносилось напряжённое сопение. Треугольник загорелся, двери раскрылись. Ничего особенного, какой-то скверик. Хотя чего ещё можно было ожидать? Не казино же, в самом деле!
Следующей к дверям направилась молодая девушка. Опять ничего. Библиотека. Можно было бы что-нибудь повеселее.
Мужчина с дипломатом и в явно недешёвом костюме частично оправдал ожидания Парня в зелёной футболке — дорогой ресторан. Всё же лучше библиотеки.
Следующие десять минут были более увлекательными: пляж, кинотеатр, футбольный стадион, аквапарк, бар, египетские пирамиды, бильярд, Альпы, парк аттракционов, поражающий своей свежестью и яркостью лес, окрестности Эйфелевой башни, чья-то свадьба на Гавайях.
Осталось три человека: Парень в зелёной футболке, довольно крупный мужчина (Здоровяк, как окрестил его Парень) и смешно смотрящийся на его фоне тщедушный молодой человек в очках (Очкарик, милостиво решил Парень).
Очкарик подошёл к дверям. Парень в зелёной футболке хмыкнул — наверное, сейчас их взору предстанет какой-нибудь ботанический сад.
Двери разъехались, однако за ними была только пустота, чёрная и зловещая.
— Эй, ты что там сделал? — недовольно спросил Здоровяк.
Очкарик сосредоточился и предпринял ещё одну попытку. Ничего. Ещё одну. Ничего. Он беспомощно развёл руками.
— Дай мне! — заорал Здоровяк.
Очкарик отступил. Однако у Здоровяка тоже ничего не вышло.
— Может, ты попробуешь? — обратился он к Парню в зелёной футболке.
Тщетно. Всё та же пустота.
В душе у них нарастала тревога. Никто, кроме них самих, их оттуда не вытащит.
Парень в зелёной футболке нервничал всё больше. И дёрнуло же его остаться! Надо было раньше выходить, а сейчас, похоже, и выходить-то некуда!
От страха у него перехватило дыхание. Мобильный не работал, да и какой толк кому-то звонить? Да и кому?
Парень постепенно приближался к грани истерики. Только этого не хватало. Впрочем, этим мог похвастаться не только он. Очкарик стал раскачиваться и подвывать, иногда всхлипывая. Так продолжалось минуты три. Вдруг Здоровяк выхватил из кармана складной нож и в одно мгновение разложил его. Накинувшись на Очкарика, он попытался успокоить его. Тот завизжал. В висках застучало.
— Хватит! Не хватало нам только крови! — крикнул Парень в зелёной футболке.
— Ну да, ну да, об этом я не подумал, — согласился Здоровяк. — А что, если нам попробовать оказаться на станции?
— Поезд направится туда, когда все выйдут, — возразил Парень.
— Поезд направится туда сам, когда все выйдут. А так мы этого потребуем.
— Можно попробовать, — Парень шагнул к сенсору.
Двери разъехались. Ничего. Опять пустота. Очкарик завыл ещё громче. Тут Здоровяк рванулся и с силой толкнул его. Очкарик полетел во тьму. Парень в зелёной футболке и Здоровяк затаили дыхание. Через несколько секунд раздался душераздирающий визг. Затем всё стихло.
— Его истерика действовала мне на нервы. Заодно и проверили, что там, — бесстрастно сказал Здоровяк.
— Что? — глупо спросил Парень.
— Смерть, — коротко ответил Здоровяк, и на том разговор оборвался.
Прошло несколько часов — несколько мучительных часов ожидания. Парень в зелёной футболке ещё несколько раз пробовал что-то предпринять, но всё было тщетно. Он совсем потерял веру в спасение. Надеялся только, что умрёт раньше, чем сойдёт с ума, и раньше Здоровяка, ибо наедине с трупом лишится рассудка прежде. Хотя, может, оно было бы и к лучшему?
Через какое-то время оба почувствовали нечто, в чём не хотели себе признаваться. Однако это становилось всё очевиднее. Здоровяк даже закашлялся.
— Воздух… Исчезает… — прохрипел он.
Парень в зелёной футболке молча кивнул.
Да, кислорода определённо становилось всё меньше.
Окна в поезде не открывались, да и в любом случае за ними была та же безжизненная темнота, которая ничем им бы не помогла. Поезду явно надоели его нерешительные пассажиры, и он подталкивал их к действиям.
Собственно, он предоставлял им выбор: мучительная смерть от удушья или шаг в смертельную тьму за пределами поезда. Правда, у них был ещё один вариант — складной нож Здоровяка всё ещё валялся на полу.
Оба они это понимали, как и понимали — других вариантов нет. Им не выбраться. Это их конец.
Не самый радостный факт для осознания.
Тем временем Здоровяк продолжал кашлять. Парень в зелёной футболке держался гораздо лучше — плавание отлично развило его дыхательную систему. От страха, от переживаний, от постепенного убывания кислорода Парню нестерпимо захотелось спать. И он смиренно согласился на такой, внезапно ему подаренный, вариант. Всё же это гораздо лучше того, что они имели. Смерть во сне — лучшее, что ему могло бы выпасть.
И он отрешённо, как будто это всё происходит не с ним, погрузился в сон.
Но всё-таки проснулся.
Здоровяк валялся на полу рядом с ножом, протягивая к нему руку. Вероятно, хотел прекратить мучительные судороги удушья, но не успел.
Свет в поезде стал тусклым, призрачным, почти тёмным. Мутным. Одна лампа вовсе не горела, две треснули. Кислорода практически не осталось — собственно, проснулся Парень оттого, что начал хватать ртом воздух. Двери были раскрыты, словно приглашая нырнуть в адскую темноту за ними. Снаружи не доносилось ни звука. Ни малейшего дуновения. Ни малейшего отблеска света.
Полная безжизненность.
Этот лампочный полумрак, плавное покачивание поезда, тело Здоровяка на полу, боль в груди и манящая тьма окончательно свели Парня в зелёной футболке с ума. Как будто это могло помочь, он ринулся к дверям и начал выпихивать Здоровяка во мрак. Это оказалось не так-то просто. Наконец Здоровяк покинул поезд.
И теперь Парню в зелёной футболке оставалось только выбрать, как умереть, и выбрать поскорее. Уже невероятно близкая, невероятно мучительная смерть от удушья?
Нож?
Или неизвестность и, возможно, ужаснейшая из смертей? Может, ещё и с бесконечными страданиями перед ней.
Или всё-таки нож?
Или позволить поезду задушить себя?
Парень в зелёной футболке сделал выбор. Решил последовать за Очкариком и Здоровяком в бесконечную темноту. Он здраво рассудил, что это, вполне вероятно, наилучший вариант, если уж приходится делать такой выбор. Применять на себе нож или исходиться хрипами, задыхаясь, ему не хотелось. Нельзя сказать, что ему хотелось окунаться в безжизненность за пределами поезда, но это было неважно.
И в тот момент, когда Парень в зелёной футболке принял это решение, двери поезда резко закрылись. Парень дёрнулся, подбежал к сенсору. Попытался что-то сделать.
Двери не шелохнулись.
Его пронзил ужас. Он попробовал ещё раз, и ещё, и ещё. Он испинал двери, исколотил сенсор, но ничего не изменилось. Двери оставались закрытыми. Парень медленно осел на пол.
Теперь, когда его лишили возможности закончить жизнь так, как он решил, он с ещё большим ужасом осознал, насколько кошмарны оставшиеся возможности.
Он остался запертым в этом адском поезде, который продолжал высасывать из него жизнь, и теперь даже не было шанса вырваться отсюда, прекратить это безумие. Поезд подпрыгнул, свет в нём погас. Сердце Парня в зелёной футболке колотилось так бешено, что могло бы стать ещё одной причиной его смерти. В полной темноте, закупоренный в поезде-убийце, жадно хватающий практически закончившийся воздух, испытывая при этом сильнейшую боль в груди, Парень в зелёной футболке ползал по полу и пытался найти нож. Пусть будет так. Хотя бы так. Только бы так! Нет сил больше терпеть эту боль, перерастающую в агонию. Чёртов поезд издевается над ним, наслаждается его муками, торжествует над его страданиями. Душит его, как наверняка душил многих до него. Наверняка у него уже обширная коллекция пассажиров, не доехавших до пункта назначения. Возможно, они даже спрятаны под открывающимися сиденьями.
Но всё было не совсем так.
Поезд просто играл с ним, забавлялся его ужасом, становящимся всё большим даже тогда, когда казалось, что большего ужаса испытать невозможно.
Поезд, конечно, не мог допустить, чтобы в нём оставались пассажиры. Ему ведь ещё нужно было ехать на станцию, принимать новых, которые могли бы испугаться, увидев тело. Могли бы что-то заподозрить.
Поезд наигрался.
Поезд смилостивился, и свет вновь загорелся.
Поезд смилостивился и открыл двери.
Парень в зелёной футболке испытал неописуемую радость, казалось бы, невозможную в его обстоятельствах. Он уже считал тьму снаружи спасением, а не гибелью. Уж всяко лучше того, что ему оставалось до этого.
К тому же… Может, всё-таки есть шанс. Может, всё-таки есть…
С затаенной надеждой Парень в зелёной футболке дополз к дверям и бросился в ужасающую тьму.
Шанса, конечно, не было.
С чистого листа
Рассел бродил по супермаркету как во сне
Походы в магазин всегда нагоняли на него скуку, если не апатию, но в этот раз всё было действительно как во сне. Тщетно пытаясь вспомнить, что же его просила купить жена, он бродил по рядам, скользя взглядом по полкам, видя, но не читая зазывающие рекламные таблички, борясь с искушением позвонить Донне и спросить, что же ей всё-таки нужно.
«Опять ты забыл. Опять. Ты всегда забываешь.»
Нет уж, звонить и снова слушать это он не будет.
Лучше будет шататься по супермаркету в надежде, что визуальный образ необходимой вещи разбудит память. Ведь это так просто — увидеть и понять: «Чёрт, да вот же оно, именно то, что просила Донна!» Рассел угрюмо прошёл бакалею, молочные продукты, мясной прилавок. Не то. Совсем не то. Напитки, овощи, рыба. Не то. Одежда, средства гигиены, бытовая химия…
Бытовая химия!
Рассел остановился, почувствовав, что нашёл то, что нужно. Только вот что именно?
Пройдя в ряд, Рассел ошарашенно уставился на полки. На него набросилось пёстрое изобилие стиральных порошков, средств для прочистки труб и мытья посуды, полов, окон, унитазов и ванн, средств от ржавчины и против микробов, кондиционеров для белья… господи, да чего тут только не было. Расположенные по фирмам-изготовителям, некоторые средства имели рядом с собой маленькие таблички с незамысловатыми слоганами. Рассел подошёл к ярко-оранжевой табличке рядом со средством для прочистки труб:
Если Вы найдёте средство эффективнее «Кометы», мы вернём Вам Ваши деньги до монеты!Рассел хмыкнул. Высокая поэзия, чтоб её. Читать характеристики товара под слоганом он не стал, зато пошарил взглядом по полкам в поисках другой яркой таблички. Увидел. Ярко-зелёная, рядом со средством для мытья посуды, с истеричными строчками:
Не может быть! Не может быть! У Вас тарелок грязных гора?! «Фея» поможет о них забыть! Купите флакон — получите два!Несомненно, с двумя-то флаконами о грязной посуде точно можно будет забыть. Рассел обернулся — голубая табличка со строгим шрифтом притянула его к себе:
Это не трюк и не пустая реклама, Удалит любые пятна без помех Наш супер-порошок «Без обмана» — Лучший из всех.Рассел покачал головой. Слишком нескладно и читается тяжелее «Феи». Рассел прочитал ещё пару безвкусных слоганов, совершенно забыв, зачем он здесь находится, а затем сердце его ёкнуло. Нашёл. Нашёл, мать его!
В самом конце ряда, на нижней полке примостились товары фирмы «Тысяча из ста». Наследница фраз типа «Двадцать пять часов в сутки» и «Одиннадцать баллов из десяти», фирма облачила все свои продукты в белые, спокойные упаковки, выглядевшие вполне добротно. Никаких кричащих табличек и кислотных цветов. Все товары обошлись без слоганов, только рядом с одним скотчем был приклеен белый листок с карандашной надписью:
Начните с чистого листа с новинкой «Тысячи из ста»!Далее следовало описание товара.
Отбеливатель.
Вот оно. Да. Да! Именно то, что нужно.
Наконец-то.
Он потратил почти полчаса, чтобы найти чёртов отбеливатель! С карандашной рекламой.
Рассел кинул бутыль в корзинку, думая об этой рекламке и о том, что Донна опять начнёт пилить его за столь долгие хождения по магазинам.
Воистину, надо бы начать с чистого листа.
* * *
— Аллилуйя.
Донна выхватила у него из рук бутыль с отбеливателем и устремилась в ванную.
— Хоть бы спасибо сказала, — буркнул Рассел, внезапно ощутивший ужасную усталость.
— Иди к чёрту, — донеслось из ванной, и Рассел ушёл в свою комнату, предварительно пнув валявшуюся у него на пути туфлю Донны.
Он прилёг на кровать, намереваясь полежать минут пять, не больше, но внезапно сон сморил его. Ему снились танцующие глянцевые таблички со слоганами, зажимающие в круг бедный листок бумаги с карандашными строчками. Проснулся Рассел оттого, что на лицо ему капнула вода. Открыв глаза, он увидел на потолке два здоровенных мокрых пятна, из центров которых падали крупные капли.
— Мать твою, — Рассел вскочил с кровати, зацепившись ногой за тапок. Споткнулся, налёг на тумбочку. Та пошатнулась, стакан, стоявший на ней, упал и разбился. Громко разбился.
— Что там опять? — раздался недовольный голос Донны.
— У нас нехилая протечка, — отозвался Рассел, сгребая ногой осколки в одно место.
Донна зашла в комнату.
— Какая ещё протечка? — она не отрывала взгляда от осколков на полу, и взгляд этот выражал какое-то мутное презрение. Как и её голос. Раньше Рассел такого за ней не замечал.
— Обыкновенная, — огрызнулся он и показал на потолок.
На чистый, абсолютно сухой потолок.
— Хм, — Донна подняла бровь.
— Но ведь… Тут только что…
— Ты бы пил поменьше.
— Не так уж много я и пью, — Рассел почувствовал, как подкатывает волна бешенства, что бывало очень редко. — Говорю тебе…
— Мне пора.
И она вышла из комнаты.
Рассел уселся на кровать. Посмотрел на сухой потолок. На разбитый стакан. Чёрт, что это было?
Хлопнула входная дверь. Донна ушла. Рассел направился на кухню, достал стакан и бутылку джина. Наполнил стакан и одним махом влил в себя его содержимое.
Что?!
На столе вместо бутылки джина стояла бутыль отбеливателя. Того самого, который Рассел принёс из супермаркета.
Рассел бросился к раковине и стал вызывать у себя рвоту, но ничего не выходило. Он видел, буквально чувствовал, как выпитый стакан отбеливателя разъедает его изнутри. Рассел неловко дёрнул рукой, и бутыль слетела со стола на пол, наполнив кухню звоном разбитого стекла. Стекла бутылки из-под джина.
Никаких пластиковых бутылей с отбеливателем на столе не было.
Рассел вытер со лба пот. С ним явно что-то не так, и началось всё с протечек на потолке. Или раньше… Но что же ему делать? Собрав с пола осколки, Рассел выбросил их в мусорное ведро. Задумался, сходил в комнату и поступил так же с теми, что остались от стакана. Покончив со стеклом, Рассел увидел, что по ладони стекает маленький ручеёк крови. Только идиот может порезаться, собирая осколки.
Рассел идиотом себя не считал.
Ручеёк становился всё больше, и Рассел увидел, что ладонь нехило рассечена. Как можно было так умудриться?! Чертыхнувшись, он полез в коробку с медикаментами. Выбирать между пластырем и бинтом не пришлось, ибо там не было ни того, ни другого. А ведь Донна должна следить за этой чёртовой коробкой. И что, следит? Нет, чёрт возьми. Видимо, даже не думает об этом. А между тем рассечённая ладонь требовала немедленных действий. В коробке валялись лишь рассыпанные таблетки от головной боли, полупустые капли для глаз и (удивительно!) нераспечатанная перекись водорода. Рассел схватил флакон, радуясь, что нашлось хоть что-то. Перекись — то, что нужно.
Да, конечно, — услышал он в голове свой же голос. — Но ты же не хочешь, чтобы вместо перекиси в рану залился чёртов отбеливатель?
— Что за идиотизм, — пробормотал Рассел.
Посидев с минуту, он достал блюдце, открыл флакон и вылил немного жидкости на блюдце. Похоже, обыкновенная перекись водорода. Да и чем ещё это может быть?
Однако Рассел мог поклясться, что пахла она отбеливателем.
Рисковать он не стал. Решив, что руку надо хотя бы чем-нибудь замотать, Рассел провёл минут пять в поисках подходящего материала. Ничего не найдя, он громко выругался и пошёл в комнату Донны. Рвать вещи ему не хотелось, поэтому он взял её колготки и крепко замотал рану. Сама виновата, надо следить за тем, чтобы в доме были бинты.
«А я говорила тебе их купить. Конечно, говорила. Ты вечно всё забываешь.»
Рассел порадовался, что Донны нет дома, потому что если бы была, то непременно сказала бы что-нибудь в таком духе, и тогда он непременно заехал бы ей по её недовольной…
— Скотина! — собственный возглас прервал его размышления. Идя по коридору, он снова наткнулся на туфлю Донны, и на этот раз чуть не приложился головой к дверному косяку. Второй раз за день Рассел с упоением пнул туфлю, убеждая себя в том, что не представляет на её месте задницу своей жены.
Улёгшись в кровать, он поверил в необходимость хотя бы короткого сна. Кровь из руки просачивалась сквозь колготки, но Рассела это не волновало — гораздо больше его внимание привлекали пятна на потолке. Те самые, которые исчезли, когда Донна зашла в комнату. С ним абсолютно явно что-то не то, но если он немного поспит, то всё пройдёт. Обязательно.
Рассел действительно заснул. Ему ничего не снилось, он только чувствовал, как ноет рука, а ещё где-то рядом едва уловимо мелькал запах отбеливателя. Проснулся он резко, как от удара, и сразу понял — где-то течёт вода. Просто-таки льётся ручьями. Только потопа ещё не хватало. Неужели Донна ушла, не выключив воду? Если так, то…
Рассел встал и быстрым шагом направился в ванную.
Вода не текла.
На раковине стояла нераспечатанная бутыль
(начните с чистого листа с новинкой «Тысячи из ста»)
с отбеливателем. Рассел едва заметно покачал головой. И какого чёрта надо было срочно гнать его в магазин, если Донна всё равно даже не удосужилась открыть бутыль? Рассела частенько раздражала жена, но сегодня раздражение прямо-таки выплёскивалось
(как отбеливатель из чашки)
через край. Но во всём этом был какой-то подвох. Разозлившись неизвестно на кого, Рассел, заведя забинтованную окровавленными колготками руку за спину, второй рукой умылся ледяной водой. Ему заметно полегчало. Правда, ненадолго.
Рассел снова включил холодную воду и подставил голову под струю. Ледяная свежесть замораживала мысли, недовольство, раздражение. Рассел даже подумал, что Донна, в сущности, ничего плохого ему не сделала. Подумал, что просто устал, и что всё это скоро пройдёт. Потом ещё раз умылся, только…
— Только не это, — вырвалось у него, но поздно — глаза уже нестерпимо жгло, а лицо горело. На сей раз вместо водопроводной воды из-под крана лился отбеливатель. Рассел завопил, вытирая полотенцем обезумевшие глаза. Полотенце не помогло — глаза нужно было срочно промыть. Сощурившись, Рассел почти на ощупь шарил здоровой рукой в холодильнике. Там имелась бутылка воды, но кто знает, вода ли там окажется, когда он начнёт промывать ею глаза? Недоверие к прозрачным жидкостям мёртвой хваткой уцепилось за него. Рассел схватил пачку яблочного сока — лучше, чем ничего. Слава богам, там и правда всё ещё был яблочный сок. С грехом пополам промыв им глаза (что бы на это сказала Донна?), Рассел застонал. Всё это какое-то сумасшествие. Пошатываясь, он зашёл в ванную, с трудом разлепил глаза и посмотрел в зеркало. Лицо было бледным, а глаза — красными, с кровавыми прожилками, чего и следовало ожидать. Кроме того, при моргании мир через раз становился расплывчатым и мутным. Рассел со злостью посмотрел на всё ещё мирно стоявшую на раковине бутыль с отбеливателем.
Что-то было не так. Нет, это Рассел уже давно понял, но что-то было не так с самой бутылкой. В мозгу у него засвербило, и он знал — пока не поймёт, что же именно не так, это свербение не пройдёт. Рассел внимательно смотрел на периодически расплывающуюся перед глазами бутыль, и тут его как током дёрнуло. Он отчётливо помнил, что приносил домой литровую бутыль. Совершенно отчётливо.
Теперь же на невзрачной этикетке значилось «1,25 л». Да и сама бутыль немного увеличилась. Наверное. Рассел не мог сказать точно. Он поморгал, отгоняя туман из глаз, и снова посмотрел. На этот раз сомнений в увеличении размеров бутыли у него не было — а на этикетке значилось «1,5 л». Рассел зажмурился и подумал, что пора звонить психиатрам. Потом открыл глаза.
«1,75 л».
Он снова зажмурился
(это просто невозможно)
и снова открыл глаза.
«2 л».
Чёртова бутыль росла на глазах, и останавливаться, похоже, не собиралась. Рассел в панике схватил её
(боже, как жжёт руки)
и стал выливать в ванну. Прошло секунд тридцать, прежде чем он осознал, что бутыль не становится легче, и около минуты, когда он понял, что она и не станет. Отбеливатель лился бесконечным потоком, и Рассел растерялся от этого больше, чем от чего-либо за сегодняшний день. Выронив бутыль в ванну, он попятился в коридор. Звонить? Кому? В полицию? В психушку?
Что делать?
Рассел дёрнулся и бросился в ванную с одной только мыслью — схватить это отродье и выбросить в окно, и плевать, что будет дальше. Однако бутыли в ванне уже не было, зато была здоровенная прожжённая дыра в том месте, куда Рассел выливал её содержимое.
И в этот момент прямо за спиной у него раздался скрип и какое-то скворчащее шипение. Рассела прошиб холодный пот. Он словно окаменел. Рубашка прилипла к телу, раненая ладонь перестала подавать признаки жизни, из носа закапала кровь, но всё это было ничто по сравнению со страхом. Рассел был уверен, что за ним находится гигантская бутыль с отбеливателем, готовая выплеснуться прямо на него, поглотить его заживо. Ничто на свете не могло заставить его обернуться.
— Что это с тобой?
Против своей воли Рассел резко обернулся и с облегчением вздохнул. Донна вернулась домой… Когда? Он даже не заметил. Да неважно.
— Слава богу, — вырвалось у него.
Донна смотрела на него с подозрением. Белое лицо, сильно покрасневшие глаза, кровь из носа капает на рубашку, а из ладони — на пол… Но самое дурное — этот его безумный взгляд. Совершенно безумный.
— Что тут произошло? — осторожно спросила она.
— Ты не поверишь, — хрипло рассмеялся Рассел, и в его смехе звучали нотки безумия, — но нам придётся покупать новую ванную.
— Рассел? — в голосе Донны уже слышалось беспокойство.
Он молча ткнул пальцем в прожжённую дыру на дне ванной.
Которой там, конечно, уже не было.
— Давай ты приляжешь, — мягко сказала Донна, и Рассел понял — она считает его сумасшедшим.
Но он не был сумасшедшим. Всё дело было в чёртовом отбеливателе.
— Где он? — рявкнул Рассел, и Донна отшатнулась от него.
— О чём ты?
Рассел чувствовал страх в голосе жены, но приписал его тому, что она не ожидала от него, что он догадается. Конечно, это она вынула из ванны и спрятала бутыль. Но он с ней ещё не закончил.
— Куда ты дела этот чёртов отбеливатель?!
— Я не понимаю, о чём ты говоришь, — испуганно и жалобно ответила Донна, и он всё-таки врезал ей по её вечно недовольной физиономии.
— Рассел! — воскликнула она и заплакала.
Рассел повёл плечами и молча протиснулся мимо неё в коридор. Плач жены немного отрезвил его. Наверное, он слегка перегнул палку. В любом случае, он знает, что делать дальше. Рассел собрался вернуться в супермаркет и
(и что дальше?)
уничтожить
(интересно, как?)
оставшиеся дьявольские бутыли.
(да ладно, ты просто хочешь убедиться, что они действительно будут там, и что всё это не плод твоего тронувшегося воображения)
(нет, это не так, я знаю, что всё было по-настоящему)
(отлично, а ещё ты по-настоящему разговариваешь сам с собой)
(нет, это не так)
(именно так)
(перестань)
(что бы на это сказала Донна?)
(Донна?)
(Донна)
Донна! Рассел осознал, что из ванной не доносится ни звука.
А ещё ощутил сильный запах отбеливателя.
Он вернулся.
Оно вернулось.
И сейчас оно наверняка пожирает его жену. Рассел рванул в ванную и увидел Донну, стоящую на коленях, раскачивающуюся из стороны в сторону, закрывшую лицо руками. Сверху на неё капала вода, и Рассел увидел на потолке уже знакомые ему пятна. А на раковине — бутыль с отбеливателем. На этот раз — «2,25 л».
И на этот раз их было уже две.
И их нужно было немедленно уничтожить. Рассел уже знал, что выбросить их не получится, а ещё он знал, что нужно делать. Он ясно представил, как острое лезвие одним махом разрезает пластмассу, и бутыль распадается на несколько частей, истекая своим смертоносным содержимым.
О да.
Рассел рванул на кухню,
(спаси её, пока ещё не поздно)
выдвинул ящик с ножами,
(этот слишком маленький, идиот)
выбрал самый подходящий
(разрежет пластмассу, как масло)
и вернулся в ванную.
Бутыли были уже литров под пять.
Донна, увидев у него в руках тесак, пронзительно заверещала, и Рассел от неожиданности прижался к стене. То, что он увидел, больно резануло по сердцу. Он опоздал.
Отбеливатель тек по её лицу, оставляя после себя кровавые полоски, затекал ей в глаза, выжигая их, словно кислота, капал на пол, с шипением пузырился на белом кафеле.
Рассел шагнул в ванную, обеими руками сжимая тесак. По лицу у него текли слёзы. Всё-таки он любил свою жену.
Любил.
— Пожалуйста, пожалуйста, не надо! Умоляю! — кричала Донна, забиваясь в угол.
— Пожалуйста, пожалуйста, помоги! Умоляю! — слышал Рассел.
— Я помогу, милая, — он сделал ещё шаг навстречу жене. — Помогу.
Рассел с силой опустил тесак на одну бутыль, затем на вторую. Увернувшись от брызнувшего отбеливателя, засмеялся. В ушах у Рассела стоял непрерывный визг, но он знал — эти звуки издаёт не Донна. Это звуки умирающих бутылей, их дьявольские крики на грани между жизнью и смертью. Ядовито шипя, отбеливатель стекал по стенам ванной, оставляя за собой
(кровавые)
следы. Рассел в последний раз с упоением опустил тесак, и наступила тишина. Дно ванны было тёмно-розовым
(кровь, смешанная с отбеливателем)
и манило к себе, как магнит. Рассел против своей воли наклонился к нему, почувствовал жар и уже слабеющий запах проклятого средства. А потом запах исчез совсем.
Рассел победил.
Он обернулся и обмер от радости: с гибелью бутылей действие отбеливателя прекратилось. Глаза Донны были на месте, да и сама она была почти в норме.
— Всё закончилось, дорогая. Всё закончилось, — с облегчением сказал Рассел, прижавшись лбом к её лбу.
Донна улыбнулась, а потом его заволокло темнотой.
* * *
Очнулся Рассел за кухонным столом. Он понятия не имел, сколько времени прошло с момента событий в ванной и как он вообще оказался на кухне. Где Донна, он также не знал.
Рассел чувствовал, что в голове у него не хватает каких-то частей мозаики, но не сильно удивился этим пробелам. Пережив то, что пережил он, это не удивительно.
Но где же всё-таки Донна?
Внезапно Рассел ощутил голод. Открыл шкаф, где обычно стояли консервы, но не увидел ни одной банки. Даже захудалой фасоли не было. Донна даже за этим уследить не может. В сердцах Рассел стукнул кулаком по хлипкой дверце шкафа, и она отвалилась. Это было уже чересчур. Рассел почувствовал, как в нём закипает ярость. С каменным лицом он поднял дверцу и с размаху шибанул ею по стойке с посудой. Звон разбивающихся тарелок принёс облегчение. Рассел подумал, что ему надо учиться держать себя в руках или пить какое-нибудь успокоительное. Не обращая внимания на куски тарелок, разлетевшиеся по всей кухне,
(Донне бы это не понравилось)
Рассел выдвинул нижний ящик шкафа и с радостью обнаружил в нём большой белый
(белее белого)
пакет с попкорном для приготовления в микроволновой печи.
Лучше, чем ничего.
Микроволновка зашумела, пакет с будущим попкорном завращался на стеклянном блюде, Рассел сел за стол, смахнул с него осколки тарелок и обхватил голову руками. Голова болела, а кухня периодически расплывалась у него перед глазами. С ним снова творилось что-то неладное. И на этот раз дело было не в отбеливателе.
И ему это очень не нравилось.
Зерна кукурузы под воздействием микроволн постепенно превращались в ароматный попкорн. Процесс этот сопровождался звучными хлопками. Хлоп! Хлоп!
Рассел привык к этим звукам. Донна любила хрустеть свежеприготовленным попкорном.
Хлоп! Хлоп!
Воспоминание о Донне вызвало обострение головной боли. Куда же она всё-таки подевалась? Рассел застонал, и тут у него в голове в довершение ко всему что-то щёлкнуло.
Щёлк!
Хлоп! Хлоп!
Боже. Расселу на мгновение показалось, что он положил в микроволновку не пакет с кукурузой, а голову Донны, и теперь эти звуки — Хлоп! Хлоп! — издавал её мозг, исходящийся маленькими взрывчиками.
И пусть на мгновение, но ему стало страшно, так страшно, как никогда в жизни.
Хлоп! Хлоп! Хлоп!
Хлопки участились. По инструкции, когда интервал между хлопками уменьшается до одной-двух секунд, пора выключать микроволновку и доставать готовый попкорн.
Рассел медленно подошёл к микроволновке и ткнул пальцем в кнопку остановки. Он был уверен, что там всего лишь пакет с попкорном, а вовсе не голова Донны с кашей из её мозга, конечно, он был уверен, но открывать дверцу ему не хотелось.
Очень не хотелось.
Постояв в нерешительности пару минут, Рассел собрался с духом и дёрнул дверцу микроволновки на себя. Крепко зажмурившись.
И теперь, когда дверца уже была открыта, а глаза его закрыты, — теперь страх парализовал его. Он снова был уверен, что перед ним окажется не пакет с попкорном, а голова его жены. Он снова был уверен, и оттого открыть глаза было невыносимо сложно.
(я ни в чём не виноват)
(неужели?)
(я бы не причинил ей вреда)
(невиновные не оправдываются)
Хлоп! Хлоп! — резко и неожиданно прозвучали остаточные хлопки не успевших раскрыться вовремя зёрен. Рассел вздрогнул и непроизвольно открыл глаза.
Слава богу. Ничего.
Только раздувшийся пакет с попкорном.
Рассел потянулся за пакетом, но тут в дверь забарабанили так, что он от неожиданности отдёрнул руку. Рассел услышал какие-то крики, но не мог разобрать, что именно кричат. И кто.
Рассел поднял с пола здоровый осколок тарелки и крепко сжал его в руке. Что бы ни пыталось сейчас попасть в его квартиру, он не сдастся без боя.
Ни за что.
* * *
— Парень не хотел нас впускать, а когда мы выбили дверь, набросился на нас с куском тарелки. Но преимущество было не на его стороне, и он попытался порезать себе вены. Ну что, мы скрутили его, поволокли. Когда проходили мимо ванной — а там просто жуть, скажу я, — он заорал, как резаный, а потом отключился.
— Кто вызвал полицию?
— Сосед. Услышал дикие, нечеловеческие крики, женский плач, ещё какой-то шум. Сначала стучал к ним, но никто не отозвался, поэтому он позвонил и сказал, что, похоже, парень в соседней квартире убил свою жену. Когда мы приехали, сказал, что он, наверное, её зарезал. Почти угадал.
— Адвоката он не требует?
— Адвоката? Даже если бы потребовал, ему никто не помог бы. Очевиднее улик просто быть не может. Его отпечатки повсюду. Абсолютно. На жертве, на орудии убийства, в залитой кровью ванной — обезглавленное тело даже меня проняло, — бог мой, даже на микроволновке! Этот псих засунул в неё голову своей жены, ты можешь себе представить? Не хочу думать, что он собирался с ней делать и что было бы, если бы мы приехали позже.
— Боже. Невменяемость или состояние аффекта?
— Похоже, тут и то, и другое.
— На этом можно было бы сыграть.
— Вполне, но он отказался от адвоката. И несёт какую-то чушь. И ещё пытается написать признание — там вообще всё не для слабонервных. Сага про вред бытовой химии и её воздействие на семейные отношения.
— Да уж… Ладно, удачи тебе с ним. Мне пора.
— Вечером всё в силе?
— Конечно. Ждём тебя на ужин. Убедишься, что моя жена готовит лучше всех в этом чёртовом городе.
— С удовольствием.
— Ну, пока. Мне ещё в супермаркет надо заскочить.
— Давай, а я попробую побыстрее закончить с этим психом.
* * *
Чёрт побери, почему их так много? Перед ним стояло минимум десять сортов подсолнечного масла, в бутылках одна красивее другой. В любом случае, надо было поскорее брать любую и нести домой — иначе приготовление ужина может затянуться, а они уже обо всём договорились. Да и жена будет недовольна.
Он пробежал глазами по бутылкам и кинул в корзинку какую-то, выбранную просто наугад: улыбающийся подсолнух в больших солнечных очках, нарисованный на тёмном фоне.
Улыбка подсолнуха была ехидной, но он этого не заметил.
Сигнальный экземпляр
Господи, совершенно нет вдохновения. Не представляю, о чём писать. Если честно, я даже не знаю, что это такое — вдохновение. Анна знала. Я — нет. Говорят, когда нет вдохновения, надо просто писать о том, что знаешь. Но я… Я просто не могу. Не моё это. Совсем не моё, и мне кажется, что по мне это сразу видно. Что любой встретивший меня сразу поймёт — я не умею писать. С Анной всё было по-другому. Говорили, что она лучилась вдохновением, чем бы оно ни было.
Но я — не Анна.
— При таком письме у тебя весьма неплохие шансы в будущем, — говорит мне в трубку главный редактор, и я понимаю, как же он ошибается.
* * *
Мы с Анной жили вместе уже лет пять. Ей давно пора было бы подыскать себе отдельное жильё, а не жить у меня, но нормальную работу ей следовало подыскать ещё раньше. С этим у неё были вечные проблемы. Я честно терпела, и она была мне благодарна. Но оставшись одни, наедине друг с другом, мы поняли, насколько же мы всё-таки разные. Хотя и сёстры. В Анне было слишком много беззаботности и лёгкости. А во мне же, считала она, их не было вовсе. Видимо, при делёжке качеств наша общая порция целиком досталась Анне. Она была как ребёнок. Мне же иногда бывало неловко за её детскую непосредственность.
Но так или иначе, а однажды Анна вдруг стала писать романы. И писать с увлечением. С таким увлечением, что забывала искать работу. Но вот есть еду, купленную на мои сбережения, не забывала. Так продолжалось день за днём, неделя за неделей, и когда я уже была готова взорваться и выгнать её из своей квартиры, она дала мне прочесть только что законченный роман. Я не большой ценитель литературы, но мне было интересно, на что потрачено столько времени и моего терпения.
И трудно в это поверить, но Анне удалось. У неё и правда был талант. Талант, который раскрывался с каждым новым романом. Талант, который сверкал всеми своими гранями и обещал засверкать ещё ярче. Однако постепенно становилось ясно, что это был просто талант, не Талант. Да, её письмо было гораздо лучше похабных книжонок для чтения в дороге, безусловно. Но вряд ли кто-то захотел бы прочесть её романы дважды. В них чего-то не хватало.
Как и в самой Анне.
Вообще я из тех людей, кто не понимает интеллектуального труда, или как там это назвать. Отпахать восемь часов на складе или на кассе — это труд. Притащить домой купленный на заработанные деньги мешок картошки и приготовить из него еду — труд. А проваляться в кровати весь день, поесть всё готовое, к вечеру заявить, что наконец-то явилось вдохновение и полночи клацать по клавиатуре в своё удовольствие, мешая окружающим спать — это ли труд? Оказывается, да. Ещё и с напыщенным названием «интеллектуальный».
Меня всегда это бесило.
Но это стало приносить доход, и я смирилась со всем. С тем, что Анна становилась всё капризнее, воображая себя гением литературы. С тем, что она не собиралась съезжать. С тем, что у меня в квартире царил её творческий беспорядок. С тем, что она таскала меня на все мероприятия и конференции, пусть и местного масштаба, и там я острее всего чувствовала себя её тенью. Но она была моей сестрой, и я любила её. Наверное.
Анна всегда была болтлива, но с началом своего писательства стала просто невыносимой. Однако её разговоры давали плоды — людям нравилось, как она говорит. Нравилось, как она выглядит. Как ведёт себя. И хотя постепенно её книги стали неуловимо просвечивать посредственностью, людям было всё равно. Если им нравишься ты, то они могут убедить себя и в том, что им нравится твоё творчество. Люди любили Анну. Пожалуй, это её и сгубило.
Когда к нам приходил Аннин любимый главный редактор, проталкивающий все её писательские изыскания в массы, я забывала свои недовольства, забывала, что последнюю книгу Анны с трудом осилила лишь до половины. Я чувствовала себя частью какой-то литературной тайны. Это было необычно.
Издательство, занимающееся книгами Анны, имело амбициозное название «Лучшие книги». Название это было выбрано не только для того, чтобы заявить, что у них лучшее исполнение и качество книг, но и чтобы намекнуть: мол, самые лучшие книги у нас, покупайте и читайте, не пропускайте! Хотя на самом деле отбор у них был так себе. Взять хотя бы Анну. Это скорее было привлечением авторов, ведь каждому приятно видеть на своей свеженькой книге почти что штамп «Лучшие книги». Многие велись именно на это. Анна не была исключением.
И я бы не удивилась, если бы Анна создала в квартире своеобразный алтарь своих шедевров, отвела бы им специальное место. Я бы даже не разозлилась, наверное. Но нет же. Будь я на месте Анны, хранила бы свои книги как минимум на отдельной полке, все вместе, этакие наглядные доказательства моей успешности. Анна же всегда ставила свои книги вперемешку с признанными авторами и даже классиками. Этим она как бы ставила себя на один уровень с ними.
Это чуть-чуть, совсем ненавязчиво, но раздражало.
Сама же Анна продолжала с упоением посещать различные творческие встречи, непременно вместе со мной. Ей так было спокойнее, говорила она, но думаю, это была лишь половина правды. Вторая, конечно, заключалась в том, что ей хотелось покрасоваться передо мной. Что-то мне доказать. Учитывая, что она всё ещё не собиралась съезжать, — довольно рискованная идея. Но я терпела и относилась ко всему снисходительно. Любезно улыбалась и кивала, слыша в свой адрес очередное вежливо-равнодушное «как дела?» от людей, которых я знать не знала и которые понятия не имели, кто я. Но раз я пришла вместе с Анной, надо же проявить любезность! Чёрт, но зачем? А если обобщить — зачем в принципе спрашивать, как дела? Анна, её редактор, знакомые и незнакомые мне люди постоянно это делают, но зачем? Ведь я могу ответить всё, что угодно, и никто не узнает, как оно на самом деле. Да и вряд ли это кому-нибудь интересно. Ненавижу, когда что-то делается только для проформы. Ненавижу, когда поддакивают вместо того, чтобы просто слушать. Ненавижу, когда смеются, хотя на самом деле не смешно — смеются просто потому, что того требует ситуация.
Анна с лёгкостью изображала внимание, беседуя с литературными критиками, хотя я знаю, что ей было плевать на их мнение. Анна — признанный в своих кругах автор, но ей было сказано соблюдать определённые литературные приличия, и вместо того чтобы плеснуть в лоснящееся лицо зажравшегося критика чашку горячего чая, она кивала и поддакивала. Только Анна умела так смеяться над безвкусными и пошлыми шутками главного редактора, что даже он, видевший своих писателей насквозь, верил в её искренность. Анна могла быть хамелеоном, существующим в рамках, устанавливаемых в определённых кругах и определённых ситуациях, чтобы добиться желаемого и выглядеть своей. Она могла стерпеть что угодно ради достижения цели.
Но я — не Анна.
И кстати, я — сова. Стопроцентная, матёрая сова. По утрам меня лучше не трогать. Лучше было бы для всех, но живя вместе с Анной, о компромиссах можно было забыть. Каждый раз, разбуженная Анной, я подавляла в себе утреннее желание кого-нибудь убить и напоминала себе, что сама же и решила мириться со всеми неудобствами, которые доставлял мне литературный гений. Помогало плохо. Но помогало.
Нет, ну серьёзно, как можно писать что-то в девять утра? Как вообще можно что-то делать раньше полудня? По крайней мере, что-то продуктивное. Даже если тело моё делало вид, что бодрствует, мозг спал первую половину дня, а вторую пытался раскочегариться, что получалось только к вечеру и особенно к ночи. Анна же своим щебетаньем и активной деятельностью убивала меня с раннего утра. Она и писать садилась часов в девять, когда нормальные люди спят или мечтают оказаться в постели и доспать. Анна была жизнерадостным жаворонком.
Это действовало на нервы.
Так всё и продолжалось какое-то время. Я работала, Анна писала. Постепенно гонорары её уменьшались, потому что большая часть от них уходила на рекламу книг, которые стали покупать уже не так рьяно, как поначалу. И у Анны, и у меня в душе накопилась какая-то усталость от всего этого литературного бытия. Хотелось бы сказать, что постепенно всё наладилось, но этого не произошло. Наоборот.
С Анной становилось всё тяжелее. Последний её роман не вызвал особых восторгов, и она бросилась писать новый. Была она при этом мрачнее тучи. По-моему, она отдавала ему все свои силы. Она стала плохо спать, и в итоге где-то достала снотворное. Мне это не нравилось, редактору, который был в курсе, тоже, но она больше не засыпала, не приняв таблетки. Просто не могла. Анна отказывалась от еды, неустанно продолжая писать. Она перестала появляться на публике, и это плохо сказалось на всём. Люди стали её забывать. Продажи стали падать. Анна ничего этого не знала, поглощённая новой книгой, но мы с редактором знали, что ей будет тяжело это принять.
Наконец Анна закончила роман, который станет её последним романом. Я его не читала, но вроде он вышел неплохим. Однако недостаточно неплохим, чтобы снова вознести Анну на пьедестал любви читателей и критиков.
Между редактором и Анной, казалось, что-то произошло. Или он просто не хотел больше заниматься её бесперспективными книгами. Он говорил, что у Анны действительно есть талант, но она как-то неправильно его использует. Говорил, что надо начать писать что-то другое. Что-то, что запомнилось бы людям. Анна, почуяв скрытое оскорбление всех её уже написанных романов, устроила скандал. Редактор был непреклонен. Потом он, возможно, пожалел об этом, но не тогда.
Похоже, Анна и сама поняла, что стоит сделать перерыв или хотя бы перейти с крупной формы на менее ёмкую. Она начала работу над сборником рассказов, и, по её словам, это было то, что нужно. Она говорила, что этот сборник поможет сделать ей серьёзный шаг. Что он будет действительно хорош и совсем не похож на её предыдущие книги. Редактору она не сказала ни слова, зато меня посвятила в свой полный надежды план литературной реабилитации. Никто, кроме меня, не знал, что Анна переключилась с романов на рассказы. Она просила пока не говорить, и я сдержала слово.
А потом…
Может, она перенервничала. Может, виной была рассеянность. А может, она слишком устала, и это было осознанное решение. В одно прекрасное утро Анна не проснулась. Передозировка злополучного снотворного. Чёртовы книги! Чёртовы люди. Чёртово забвение.
«Не понимаю людей, которые не любят читать. Просто отказываюсь понимать! Это что-то за гранью. Как?! Как можно не любить читать?! Как вообще можно не читать?» — не раз сокрушалась Анна, с раннего детства поглощавшая книги одну за другой. «Это же волшебство! Как можно добровольно отказываться от волшебства?! Не понимаю!»
Волшебство, значит. Ну и где же ты теперь со своим волшебством, Анна?
Со своим чёртовым волшебством.
* * *
…Я не могу определиться. Но надо сформулировать всё словами, надо, потому что пора перестать притворяться, что ничего не произошло. Но как обозначить всё это словами, я не знаю. Знаю лишь, что как только это произойдёт, как только все мои неясные объяснения обретут чёткую словесную формулировку, я уже не смогу отрицать случившееся. Выразив всё простыми словами, я вынесу себе приговор. Но я больше не могу. Я хочу ясности.
И ясность приходит.
Слова, обычные слова, слишком бедные для того, чтобы выразить мои настоящие чувства, слишком однозначные, чтобы объяснить мои действия, слишком беспощадные, чтобы оставить возможность для оправдания, звучат в моей голове предельно ясно.
Я убила Анну.
Она была слишком легкомысленной. Слишком успешной. Ей всё давалось слишком просто. Она слишком раздражала меня. С ней было тяжело, и я от неё избавилась.
Завидовала ли я ей? Судя по тому, что сейчас печатается книга с её текстами и моим именем на обложке, выходит, что да. Хотя мне и не хочется это признавать.
Три слова. Три простых слова — «я убила Анну», и стало легче. До этого как будто ощущалась какая-то ломота в теле, а теперь всё прошло. Потому что всё встало на свои места. Нужно было лишь признаться себе в том, в чём так отчаянно не хотелось признаваться.
Кажется, это произошло в тот день, когда она, сияющая, сообщила мне, что сборник наконец-то закончен. И что завтра она принесёт его редактору. И он поймёт, что Анна ещё в строю. Что её талант ещё при ней.
Анна никогда бы не выпила снотворного больше, чем нужно. В этом вопросе она была очень щепетильна. Жутко боялась переборщить и не проснуться. Но кто, кроме меня, мог об этом знать? Может, если бы она сама готовила себе еду, ничего бы не произошло. Но нет, она же была творческой, лёгкой облачной нимфой, которой следует обдумывать главы нового романа, а не чистить картошку. Готовила для нас всегда я, и это тоже меня раздражало. Но это же и дало мне возможность.
Я вспоминаю, как я нашла ключ от ящика стола Анны, как достала альбом с её рассказами, записанными на плотной белой бумаге. Как медленно, очень медленно у меня в голове оседали разные мысли. Сколько же всего было у меня в голове… И в то же время в ней не было ничего. Без Анны в квартире стало непривычно пусто. Непривычно тихо. Но я не могла позволить себе думать об этом. Только не тогда, когда дело уже сделано. Думать надо было раньше. Сейчас я понимаю, что не планировала ничего такого, что всё случилось как-то само собой, что недовольство, раздражение, и, что уж скрывать, зависть, которые копились во мне, просто приняли это решение за меня. Я была сыта по горло, но не отдавала себе в этом отчёта. Поняла это, когда было уже слишком поздно. Анна не стала жертвой расчётливого убийцы. Всё произошло само собой.
Анна рассказывала мне, как работала над этими рассказами. «Это похоже на торренты», — говорила она. У неё в работе было одновременно несколько рассказов, уж не представляю, как она могла совмещать написание совершенно разных по духу текстов. «Это как будто одновременно скачиваешь несколько фильмов. Закачка идёт, и каждая постепенно приближается к завершению. Но иногда стоит остановить загрузку одного или нескольких фильмов, чтоб быстрее закончить процесс для какого-то одного. С рассказами то же.»
И вот теперь все эти истории, полностью загруженные-написанные, были в моей власти. На моей совести.
Как же я намучилась, пытаясь изменить её такие узнаваемые тексты! С каждым часом, проведённым в попытках их переписать, я ненавидела себя и свою беспомощность всё больше. Как Анна могла такое написать? Как вообще можно такое написать? Мне этого просто не дано, и я всегда знала об этом. И ни одной строчки ведь не выкинуть, все слова сидят как влитые, всё идеально выписано и вписано в формы, каждая буква на своём месте.
Измученная, разозлённая, я плюнула на всё и понесла рассказы Анны в издательство. Я всерьёз собиралась встретиться с главным редактором, чтобы выдать непеределанные рассказы Анны за свои. Он меня отлично знал (ещё бы, ведь я сестра Анны, её верная тень), и наверняка не отказал бы в публикации. Но, слава богам, дойдя до двери редакции, я одумалась. Ведь уж кто-то, а он поймёт, чьи это тексты на самом деле, а там и до размышлений «а было ли это самоубийством» недалеко. И я повернула домой.
Строго говоря, любой бы понял, чьи они. Так я думала, но это оказалось не совсем так. Романы Анны и её рассказы были совершенно разными, что показывало, насколько многогранна её способность (ладно, талант) писать. Для меня это было хорошо.
Я потратила ещё несколько дней и в конце концов смогла изменить рассказы Анны так, чтобы её рука там не просматривалась, но смысл и хороший слог остались нетронутыми. Мне казалось, что смогла.
Я встретилась с редактором, мы долго говорили (в основном, об Анне), а под конец беседы я вручила ему якобы мои тексты. За пару дней они и правда стали моими, я в это почти поверила. Прочтя их, он позвонил мне и сказал, что сборник будут готовить к выпуску и что при таком письме у меня неплохие шансы в будущем.
* * *
Повесив трубку, я чувствую тошноту, и следующие минуты провожу в обнимку с унитазом. Слова редактора выбивают меня из колеи, хотя я их и ожидала. Не ожидала только, что они на меня так подействуют.
Следующие несколько дней я думаю только об этом сборнике. О сборнике рассказов моей сестры, который выйдет под моим именем и, возможно, принесёт мне какую-то известность и деньги. Но только потому, что Анны больше нет. Об этом я тоже думаю.
Постепенно я чувствую, что Анна снова победила, как побеждала меня всегда и во всём — даже после смерти она не оставляет меня в покое. А иногда мне кажется, что я и Анна — на самом деле один и тот же человек. Что я и есть Анна. Страдающая диссоциативным расстройством. Может, так оно и есть? По крайней мере, это лучше, чем убийство сестры. Наверное.
Я сожалею, бешусь, ненавижу, скорблю, я схожу с ума.
У меня впереди много интересного, и мне надо радоваться тому, как удачно всё сложилось, а не заниматься самокопанием и не культивировать чувство вины. Но к тому времени, как мне снова звонит редактор, я сдаюсь.
— Приезжай завтра, посмотрим сигнальный экземпляр, — говорит он.
— Конечно, — отвечаю я. На большее нет сил. Я уже знаю, что скажу, когда приеду.
Мы с Анной всегда ездили смотреть её сигнальные экземпляры — уже полностью готовые книги, предназначенные для окончательной проверки качества. Каждый сигнальный экземпляр — трепетное чудо для автора, если ему, конечно, удаётся его увидеть. Нам с Анной позволяли это сделать. Сигнальный экземпляр — дитя, первенец, которого хочется обласкать и забрать с собой навсегда. Этот миг, когда автор впервые видит свой труд в виде готовой, настоящей книги, не сравним ни с чем. Это таинство.
Но меня оно не волнует. Эта проклятая книга мне не нужна, потому что она не моя, и всю жизнь она будет мне напоминанием о том, что я сделала. О том, что я сделала с Анной.
Я приезжаю в редакцию, и прежде чем редактор успевает мне что-то сказать, киваю в сторону его кабинета:
— Надо поговорить.
Мы заходим, я аккуратно, бесшумно закрываю дверь, поворачиваюсь к редактору, смотрю на него, смотрю на его стол, заваленный бумагами, смотрю на него, на стопки переплётов на полках, смотрю на него, смотрю на него, на него…
— Это не было случайной передозировкой, — говорю я, и чувствую себя свободной. Свободной от Анны.
— Я знаю, — спокойно отвечает редактор, и я падаю в какую-то бездну.
— Она была та ещё стерва. Диктовала условия. Талантливая, конечно, но зазналась со временем. Устал я от неё. Ну, ты-то понимаешь.
Я стою, не в силах вымолвить ни слова. Он знал.
Он. Знал. И ничего не сделал. И, видимо, не собирается. Конечно, он давно понял, чьи это тексты. И что произошло с Анной на самом деле. Я открываю рот, чтобы что-то сказать, но он меня перебивает:
— Думаю, с тобой у нас проблем не будет.
Я не верю. Просто не верю. Но когда он открывает дверь кабинета и жестом приглашает меня выйти, повинуюсь.
— Пошли, посмотрим на нашу красоту.
Я медленно плетусь за ним. Такое чувство, что к моей шее привязан большущий камень, и я медленно иду ко дну. Я твёрдо решаю отказаться от печати тиража. Твёрдо решаю оплатить издательству все расходы, но не дать этой чёртовой книге выйти в свет. А сигнальный экземпляр уничтожить сразу же, как увижу его.
Но когда мы наконец приходим в нужное нам место, и я вижу эту новенькую, сиящую, пахнущую свежим клеем и бумагой книгу, решимость моя поутихает. Я вожу пальцами по гладкому переплёту, как когда-то делала Анна, и не могу поверить, что держу в руках свою книгу. Она потрясающа. О том, чтобы уничтожить её, не может быть и речи. Она действительно великолепна. Внутри неё неплохие тексты, а на красивом, оформленном в моих любимых цветах переплёте — моё имя. Моё, не Анны. И я понимаю, что если откажусь от тиража, предам своё дитя.
Я листаю книгу, натыкаясь на своё имя на титульном листе, его обороте, на последней странице — и улыбаюсь. Это получается само собой. Анна тоже всегда улыбалась.
— Ну как тебе? Нравится? — слышу я, киваю в ответ, и, без сомнения, впервые за долгое время чувствую себя счастливой.



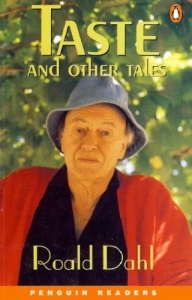

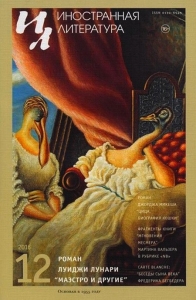







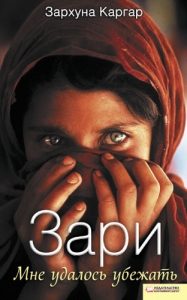
Комментарии к книге «Сигнальный экземпляр», Алиса Юридан
Всего 0 комментариев