Блонди Елена СКАЗКИ ЛЕТЫ сборник рассказов
Предисловие 2014
Я собрала эти рассказы по просьбе друга, и условие было — пусть это будут реалистические рассказы «за жизнь». Многое из написанного сюда не вошло сразу, когда перечитывала, увидела — не справилась, тексты слабые. Затем по ходу редактирования выкинула каждый второй из отобранных, и об этом не жалею, если появятся другие — они напишутся, и я надеюсь, будут более настоящими. Так что идея собрать все и — пусть будут, потерпела неудачу. Да и ладно, так думаю.
Сначала рассказы шли от более ранних к поздним, теперь наоборот, сборник начинается самыми новыми текстами, и эти новые мне нравятся (пока что). А в самом конце отдельно собраны миниатюрки о вещичках и тряпочках, писались они в разные годы и, может быть, я туда допишу еще что-то кроме «Кримплена», «Люрекса», «Батников» и тд. Серию назвала «Лоскутики» и планировалась она как дополнение к роману «Ателье».
ДАЙ МНЕ…
Поезд уходил в странное время — за пять минут до начала суток, и Лете казалось, он спит между временем и, проснувшись, встраивается в жизнь на ходу.
Ей и самой страшно хотелось спать, перед дорогой были спешно переделаны сто неотложных дел, да еще полста остались незаконченными. Застегивая молнию на толстой сумке, нервно-сонная Лета в очередной раз удивилась: никто от их незавершенности не умер, но все равно, будет еще поездка, и она снова кинется торопливо утрясать и заканчивать, заранее зная — не сумеет успеть всего.
Купе, темное и прохладное, напоминало новенькую шкатулку, без шелковой обивки, неуютно-деревянную. Как в такой ехать, непонятно. Садясь и придвигаясь к занавесочке, куце отгораживающей пустые соседние рельсы и недреманный высокий фонарь, Лета знала: шкатулочное время коротко. Через десять минут фонарь дернется, колеса застукают, будто они закат или восход, такие же неизменные. Включится мертвенький свет, хмурая проводница проверит билеты и раскидает по кожаным полкам хрустящие пакеты с бельем. Можно будет постелиться и лечь, и вдруг повезет — сразу заснуть, чтоб половину дороги проехать в снах, а после долго-долго пить утренний кофе, продлевая его в белесый зимний день за мутным окном.
Но вместе с бельем и проводницей придут попутчики, и Лете как всегда стало немного жалко неуютного шкатулочного времени, в котором она невидима, одна и — фонарь-занавеска… А надо будет улыбаться, говорить отмеренные незначащие слова, чтоб не ехать сутки букой, чтоб непринужденно попросить мужчин, например, выйти, пока дамы переоденутся. Или спрашивать — а это мы где? И кивнув, снова утыкаться в книжку.
Знакомиться Лета умела, но не любила. И садясь в поезд, как делала это по разным причинам десяток раз в году, вот же Лета-путешественница, уже знала по опыту, хороший попутчик — дело редкое. Но и ехать безмолвно, тихой тенью, не получалось, для этого, видимо, нужен совсем другой характер. Так что, бывало всякое…
Мужчина, что плавно и как-то вдруг весь ввалился в узкие двери, высокий, красивый, забелел ранней сединой на вьющихся волосах, которые хорошо видны, будто он своими шагами и улыбкой включил в купе свет. Но следом за высокой фигурой и светом протиснулась проводница, огляделась хозяйкой, метнув два пакета с бельем на нижние полки, и Лета поняла, совпало. Свет включила эта — фигурой похожая на коробочку.
Мужчина улыбнулся так, будто Лета ему внезапное, но долгожданное сокровище. И она, конечно, улыбнулась в ответ, стараясь одновременно и сесть попрямее, и досадуя на слишком тесные джинсы, а то могла бы ногу подобрать, и другую под столик, чтоб не спотыкался.
Тот пятился, втаскивая сумку на колесах, и уже махал в коридор широкой ладонью, а оттуда празднично шумело, смеялось, нежно вскрикивало, и каблучково стуча, чем-то звенело.
Тут кончается первое начало рассказа, а вы-то подумали, наверное, будет путешествие Леты с прекрасным незнакомцем… Вот и нет.
Женщина была так же высока и красива. И тоже плавная, мягко и точно собранная одновременно. Будто бы оба — прекрасно сшитые куклы из страшно дорогих тканей, прикинула Лета, совсем подбирая ноги с занывшими коленками и послушно улыбаясь в ответ на нежные жемчуга в розовом блеске помады.
Настолько прекрасно сшиты, спохватилась Лета, додумывая мысль, что вдруг ожили и заговорили.
Женщина была красива и знала это. Посмеялась, морща тонкий носик, провела пальцем по деревянной раме верхней полки, показала мужу, куда ставить сумку, распахнула дубленку, показывая пуховую плавную грудь с золотой цепочкой и медальончиком, нагибаясь, устроила на столике квадратный пакет с продуктами, тут же вынимая из него красную кружку, суя в нее чайную ложку и расстилая клетчатую салфеточку с кружевной оторочкой. И все время что-то говорила, пристукивала каблучками высоких сапожек, покачивала головой, убирая с плеча блестящие темные волосы, блестела зубами.
— А вы куда едете? Ох, как хорошо, Вадим, ты видишь, какая девочка едет, и прямо в Москву, чудесно, чудесно, сюда вот поставь, жаль, против хода поезда, но нет-нет, не жаль, тогда ведь Леточке были бы сквозняки, ну если что, тут можно одеялом прикрыть, я сейчас спрошу у Нади. Надя, да, я уже узнала. Нет, Вадим, спроси ты, тебе она быстрее даст, одеяло еще одно. Ах, наверху есть? Вадим, не ходи, Лета показала, смотри, можно взять сверху. Ах…
Всплеснула красивыми руками и замолчала на время одного взгляда, с юмором глядя на Лету и на мужа.
— Вадим, ты все же пойди, милый, — передумала решительно и мягко, — а то вдруг еще кто сядет, а мы одеяло забрали.
Дама не сказала, как ее зовут, видимо, пока просто не успела, подумала Лета, послушно улыбаясь в ответ на улыбку, ведь только зашли, а она уже будто тут сто лет живет и будто вокруг нее — настоящий дворец. Надо же, подумала Лета еще, такие оба — скрипачи, чистые душистые интеллигенты, будто картинка из журнала. Попозже придется самой спросить, как зовут, эх. А могла бы и представиться, когда спрашивала имя, ведь сутки вместе ехать.
— Петя, — вдруг воскликнула дама, мягко смеясь и отступая к самым Летиным коленкам, — ну, наконец-то! Вот твоя полка, Петенька, белье лежит, папа сейчас принесет одеяло, закроешь окно, а вообще ложись головой к двери, понял? Что там смотреть, ночь целая впереди. Это вот Лета, знакомься, полдороги вы будете вместе.
Петенька оказался таким же высоким, тонким и темноволосым, со светлым хмурым лицом. Лете он кивнул и тут же что-то шепотом возразил матери, которая тоже шепотом увещевала его, иногда поворачиваясь к Лете и извинительно мягко ей улыбаясь.
— Зубную щетку я тебе положила… — долетали из тихого разговора слова.
— Да хватит уже…
— А утром не забудь…
— Мама…
Дама-мама рассмеялась, и совсем повернувшись к Лете, развела руками.
— Вот такой уже, большой, слушать не хочет. Вы уж за ним приглядите, Лета, пожалуйста.
Большой Петя с досадой вздохнул, и Лета, улыбаясь, кивнула:
— Конечно, не волнуйтесь.
В дверях с одеялом возник муж Вадим, оказавшийся папой, и трое засуетились, неловко переступая, мешая друг другу. Петя отмахивался от материнского поцелуя, и дама, оттолкнув его изящной рукой, вышла в коридор, где топала проводница Надя, хлопая дверями пустых купе. Зимний поезд, почти без пассажиров.
Петя чуть нагнул красивую голову, когда отец похлопал его по плечу, притягивая к себе. Не стал целовать в щеку, а так же нагнул свою, сверкнув ранней сединой, ласково боднул сына в лоб, оттолкнул как давеча мать и вышел, мягко топая в коридоре сильными мерными шагами.
Через пару минут фонарь качнулся и уплыл, из-под потолка, скрипуче проснувшись, радио сыграло марш славянки. И слегка ошеломленная Лета вытянула, наконец, замлевшие ноги. Сдвинула занавеску и тактично уставилась на белые полосы снега, расчерченные желтыми фонарями и черными рельсами.
Петя сел напротив и замолчал. Поезд шел тихо, и Лета слышала, как мальчик дышит. Это казалось неправильным, будто она подглядывает за чем-то очень личным. Хрустнул и зашуршал пакет под рукой мальчика. Сколько же ему? Красивой маме, подумалось Лете в первые секунды, лет тридцать пять, и папа старше на два-три года. Но мальчишка такой высокий. На отца похож. А волосы, кажется, мамины у него.
Фонари кончились, колеса застучали ровнее. Лета вздохнула. Она тут старшая и дама просила ее приглядеть, за ребенком.
— Так ты до Харькова едешь?
— Да.
У Пети был хороший глубокий голос. Не хватало ему отцовской вальяжности, но откуда она у мальчишки, мал еще.
— Стелиться будешь сейчас?
— Нет.
Они помолчали. Свет был скучным и падал сверху, серовато-белый. Лета подумала, что дама-мама была прекрасна, и в купе стояли еще те, шкатулочные сумерки. Теперь ее нет и нет красивого мужа Вадима, Лете достался этот мертвенький, нелюбимый свет из пластмассовых панелек. А еще в спешке найденная цветная рубашка поверх серой футболки и тесные джинсы, которые давно пора снять, и надеть вместо них тонкие черные штанишки в обтяжку. Трикотажные, в них и спать, укутавшись простыней.
— Слушай, тогда давай я, постелюсь и заодно переоденусь, — она отодвинулась от окна, беря в руки пакет.
Петя кивнул и остался сидеть, разглядывая свои коленки.
Лета разозлилась немножко.
— Тогда ты выйди. Я позову.
Шумно вздохнув, мальчик вскочил и, отворачиваясь, вышел, цепляясь за косяки длинными руками. Лета тихонько повернула на двери защелку. Вот же кролик какой, не понял сразу и после рассердился, что выглядит дураком. А может быть, она это придумала. Может, он и не хотел выходить, а злится просто так, из-за того, что она командует. Не влезай в чужую шкуру, Лета, особенно если путаешь ее со своей.
Она кинулась поднимать свою полку, подставляя плечо, вывернула шею, возя руками по молнии. Вот дурында, надо было штаны положить в пакет с продуктами. Ага. И тапки сверху. Чтоб на пряниках лежали и на апельсинах. Вытащила одежду, наведя в сумке беспорядок, отодвинулась. Полка хлопнулась на место. Лета неловко и быстро переоделась, дежурно завидуя женщинам, что умеют ездить в поездах. Она всегда им завидовала, когда поезд трогался и набирал скорость. Тогда эти, в непоездной жизни часто совсем невидные дамы, вставали и говорили повелительно:
— Ну, дорогие мужчины, идите в коридор, я буду переодеваться.
У такой дамы обязательно имелись вышитые тапочки, крупная косметичка, и спортивный костюм — ярко-розовый или оранжевый. Еда такой дамы занимала весь крошечный столик, а на разостланной постели громоздились пудреницы, щетки для волос, шарфики, кошельки и россыпь цветных журналов. Такая дама могла полчаса занимать туалет, а после сидеть на своей полке (обязательно нижней), запрокинув голову и внимательно глядя в зеркальце, долго красить глаз, совершенно не комплексуя, что другой пока ждет — скромный и ненакрашенный. Попутчики носили им кипяток и бегали за пирожками.
Потом наступал вокзал, такая дама в последний раз выгоняла мужчин, и снова превращалась в обычную серенькую тетку, обвешанную баулами, а локоны, которые она так любовно чесала и навивала, сидя в своем временном нижне-коечном королевстве, упрятывались под страшноватую меховую шапку-норочку. И Лета, идя следом в распахнутой ярко-голубой куртке и спортивных сапожках, переставала завидовать ловким поездным дамам.
В купе становилось жарче и жарче, а может быть, она слишком торопилась переодеться, снова по своей привычке выскальзывая из себя, чтоб устроиться в чужом сознании, вот он стоит там, уперев лоб в холодное стекло, скучно смотрит в заоконную темноту и ждет, пока она тут возится со своими бебехами.
Сунув джинсы под подушку, Лета громко щелкнула задвижкой на двери и чуть ее приоткрыла. Чтоб знал, можно входить.
Петя вернулся не сразу. Или еще постоял, чтоб не кидаться обратно, или ушел в туалет. Ясно, высовывать голову и проверять Лета не стала. Но хорошо бы он там не заснул в коридоре, она уже легла бы и спала, а так надо, наверное, тоже выйти, чтоб он тоже переоделся.
Почти потеряла терпение, и потому, когда вошел, диковато покосившись на нее, сказала сразу, радуясь мысленно, что вот она старше и ей можно. И надо же кому-то говорить первому.
— Тебе надо переодеться? Я выйду.
— Мне? А… Ну, да. Наверное.
Она взяла сумку с полотенцем и зубной щеткой и вышла в пустынный качающийся коридор. Хорошо бы туалет уже открыли.
В тесном промозглом закуте туалета медлила, водя щеткой по мокрым зубам и одновременно разглядывая себя в узком зеркале. Пусть уж он там постелит и нарядится, чтоб не скакать ей туда и снова в коридор. Волосы от рывков поезда ссыпались на плечо и закрывали скулы, лезли по запястью следом за щеткой. Путаясь в полотенце, Лета сложила все в сумочку. Еще раз оглядела темные глаза, блики на вьющихся волосах. Попудрила нос, чтоб не блестел. А есть она не будет. Яблоко разве что. И спать.
Петя лежал, закинув под голову руки, острые локти в темноте белели рукавами какой-то трикотажной рубахи. Лете стало немножко смешно, она увидела, как мама неумолимо сует Петеньке пижаму в пакет, и заклинает его обязательно ее надевать, ну и что, что утром уже приедет, надо выспаться… А, может быть, он так вырос, может у них принято так — где бы ни был, вот моя пижама, вот мои тапочки, вот мой дворец моих личных привычек. Ей бы так.
Она села на свою койку, в самый уголок к окну, вынула наощупь яблоко и, примерившись, откусила, стараясь не хрустеть. Ей стало уютно. И приятно сонно. Мальчик Петя, кажется, заснул. Других пассажиров нет, и вряд ли подсядут ночью.
…Началось Летино время, которое только для нее одной. Южный город, засыпанный суровым скудным снежком, остался там, а огромная Москва еще далеко. Вокруг ночь и можно не общаться с попутчиками, не отгораживаться книгой или тетрадкой. Можно вообще ничего не делать, потому что Лету везет поезд, сейчас он решает, когда двинуться и когда остановиться. А она, вдруг, уже не дочь и не мамочка маленького Тимофея (провожать ночной поезд не получалось, потому попрощалась Лета еще дома и села в такси), но еще и не жена, и будет ею только через сутки.
Поезд покачивался, пришептывал, топал проводницыными шагами, и где-то далеко хлопал дверями в другой вагон, отчего на пару секунд появлялся внешний обрывистый шум и вдруг исчезал, отрезанный новым хлопком. Покачиваясь, Лета видела, как поезд члененной на вагоны змеей проползает через реальности, созданные из тумана или темного пламени, вдвигается в страшные заросли, полные чего-то прыгающего и ползающего, а ей не страшно, потому что броня крепка и колеса быстры. И жаль, что нет на крыше такого специального прозрачного купола, куда можно подниматься по узкой лесенке в три витка, чтоб после, спустившись, рассказывать тем, кто жует бутерброды, о том, что пропустили…
— А ты куда едешь?
Яблоко дернулось в руке, свет скользнул по необкусанному зеленому боку.
— К мужу, — ее немного покоробило, сразу на ты, но, с другой стороны, тебе ли быть в печали, Лета, мальчик, наверное, решил — почти ровесница? Но вот твой сын Тимофей, в свои пять лет обращается на вы к посторонним барышням и Лета страшно веселится, видя, как это действует на девушек даже детсадовского возраста. Глупые мужчины, не понимают, как все просто. Хотя… Можно ведь еще проще и все равно они будут в выигрыше.
— Ты замужем? А лет сколько? — Петя заворочался, обминая простыню вокруг худых боков.
— Двадцать семь, — честно сказала Лета, убавив себе год. Ну, ладно, почти два.
— Да, ну! — Петя сел, под простыней обозначились согнутые колени, — я думал, тебе лет двадцать! — подумал и добавил, — вам…
— Давай уж на ты будем. Если не против.
— Давай. А мне… — он немного подумал и решительно закончил, — восемнадцать.
Лета быстро произвела в уме нехитрые вычисления. Ну, пару лет наверняка прибавил себе. И ладно.
— Учиться едешь? Или к бабушке?
В Харьков из Южноморска вечно ехали студенты и студентки. Везли с собой пузатые пакеты, набитые быстрой лапшой и домашними харчами, чтоб не тратить во время сессии деньги на еду. Шумели и смеялись.
— Я пианист, — сказал Петя и повел перед собой длинными руками, раскидывая в темном воздухе пальцы. Тонкие запястья были чуть темнее белоснежных рукавов, но терялись на фоне белой простыни. Поезд качнуло, пальцы четко обозначились в темноте над полом, — учусь в музыкальном, последний курс.
— Надо же. В первый раз вижу живого пианиста.
Мальчик хмыкнул. Лета откусила от яблока, небольшой кусочек, чтоб прожевать быстро. Она едет в ночном поезде, в одном купе с пианистом. И, похоже, в вагоне кроме них — только круглобокая проводница Надя. И та наверняка спит. Во всем этом было немножко сказки.
— Расскажешь?
— А? Что рассказать?
Она села напротив так же, как сидел он — скрестив под простыней ноги и откинувшись на прохладный пластик стены.
— А все. Как это — быть пианистом? Тебе нравится?
— Ну. Да, нравится. Раньше тоскливо было, когда был мелким, а сейчас так, кайфово. У меня руки хорошие, видишь, пальцы какие?
— Вижу…
В полумраке белело красивое лицо, именно так, подумала Лета, и должен выглядеть пианист, с тонким лицом под темными густыми волосами. И глаза темные, глубокие, с тайным в них блеском.
— Это называется «широкая ладонь», когда рано начинаешь играть, с детства, то при такой длине пальцев, ладонь кажется шире, чем она есть. Мне легко играть, все достаю, но постоянно нужно упражняться, чтоб гибкость не терять. Так что, фифти-фифти, иногда прям ненавижу всю эту механику. А потом, когда уже все влет, сажусь и просто играю. И знаешь, вот тогда это отлично. Играю, конечно, Шопена, мне нравится, прозрачная такая у него музыка и очень удобная для рук. Ноктюрн до-диез люблю, ну многое. Еще джаз играю. А ты любишь джаз?
Лета кивнула. Вынула из пакета яблоко, протянула Пете и он, тоже кивнув, подхватил его в ладонь. Вертел, подставлял свету, рассказывал, сам увлекаясь, и иногда вдруг останавливался и взглядывал на нее, требуя подтверждения тому, о чем говорил. И она кивала в ответ. Тогда он хрустел, жевал, и снова говорил.
Лета слушала, иногда уплывая в дремоту и, просыпалась, когда мальчик окликал, чуть обиженно:
— Ты не слушаешь, да?
— Слушаю. Устала просто очень, две ночи не спала, перед поездкой.
— Почему?
— У нас почти не платят, в музее. Я реставратором работаю. Так что я дома шью на заказ. А тут ехать надо, значит, нужно все вещи доделать, а то вернусь, получается, через месяц. Вот и трудилась ударно.
— Тебя там муж ждет, да?
Светлое лицо накрывала тень и уползала, потом по скулам чертились серые линии — тени от занавески, и тоже уползали. Лета кивнула.
— Ждет. Я скоро, наверное, уеду к нему совсем. Немного страшно, тут работа, все привычное. А там все заново.
— Ну, он же любит тебя. Да?
Лете стало легко. Будто поезд уже не ехал, летел и она с ним.
— Да. И я его люблю.
— А мне вот нравится, когда все новое. Мы пару раз в год ездим, фестивали, конкурсы.
Лета подумала о мягких, уверенных, красивых родителях. Оба как теплые дубленки, вокруг своего мальчика. Конечно, ему хочется, чтоб сам.
— У тебя получается?
— Да-а-а… Я вот думаю, ну кто я был бы? — он снова вытянул руки и пошевелил длинными пальцами, блеснули ровные зубы в улыбке, — я музыкант, это вот мое.
— Замечательно. Ты молодец.
— И зря говорят, что если не композитор, то фигня, — улыбка исчезла, в голосе прозвучала обида, — хороший исполнитель значит очень много. Ты чего веселишься?
— Никогда не думала, что деление такое — композитор, исполнитель. Мне кажется, композиторов изначально меньше и всегда будет меньше, чем тех, кто их музыку играет. Ну, смотри, ты живой. И пианино, ну, фортепиано, да? Оно настоящее. Не запись. И это совершенно прекрасно. Я бы хотела послушать тебя.
— А я тебе сыграю. Вот вернемся в Южноморск, договоримся, придешь к нам в гости. Хочешь? Сыграю. Выберу для тебя специально.
На квадратном столике лежал обкусанный огрызок, подрагивал, незаметно сползая к металлическому бортику. И с Летиной стороны — хвостик от ее съеденного яблока.
— А девочка у тебя есть?
Петя помолчал, размышляя. Он снова лег, поднятой к потолку рукой водил, что-то там чертя пальцем. Потом кивнул, обращая к Лете прекрасное лицо ангела, под шапкой темных вьющихся волос.
— В Харькове. Она скрипачка.
— Жалко, что в Харькове. А то познакомил бы.
— Я тебе сыграю Рахманинова. А еще Дюка. Мою любимую песенку.
— Эллингтона?
— Знаешь да?
— Еще бы!
Они снова завозились, каждый на своей полке, разминая уставшие спины. Лета лежала на боку, кинув поперек угол простыни, и ей было весело и покойно. Такой славный мальчишка, да и неудивительно, вон какие мама-папа, надо же, бывают такие. Веселые красавцы, мягкие, добрые. Наверняка, умницы. Давно так здорово не ехалось ей.
Ночь текла за окном, повиливая черным хвостом, в золотых и бледных перьях света. Уркала под столиком печка, набирая тепла. Лета легла навзничь и тихо засмеялась. И умолкла, услышав посторонний скрипучий голос, от которого по спине мурашки и сразу глаза скосились на все так же плотно закрытую дверь купе.
— Может, хватит уже? Спать давно надо.
Она повернулась. Петя лежал, глядя в потолок, вытянув руки вдоль боков, упакованный в простыню, как свежая мумия. По хмурому лицу ползли полосы света. И тени. И снова свет.
Лета подавила глупое желание спросить — а ты слышал, это кто тут еще с нами? Было ясно, сказал он, этот вот ангел, пять минут тому выбирающий, чего бы ей сыграть, чтоб была ее — Летина сердечная музыка.
— Да, конечно.
Она помолчала, прислушиваясь и тоже глядя в свой собственный потолок. Не услышала ничего и добавила:
— Спокойной ночи.
Петя молчал. И она отвернулась к стене, закрывая глаза и теряясь, а что случилось-то. Перебрала в памяти последние сказанные ею слова, да ничего вроде и не сказала обидного, разве что по незнанию. Или просто — устал мальчишечка, вон как дама-мама за него волновалась. Ну, будем считать, Лета-путешественница, что ее просьбу ты выполнила, приглядела за ребенком. Утром уже Харьков…
Прислушалась к себе, проверяя, не придется ли сбегать в туалет, чтоб не ворочаться остаток ночи. Успокоилась. И внезапно ужасно захотела есть. В пакете, что притулился на краешке столика, сложены были бутерброды с ветчиной, мама еще нажарила курятины, как всегда, но Лета, как всегда, от нее отказалась, чтоб не грызть неудобные, пачкающие пальцы жиром куски. Но вот ветчина. Она представила, как зашуршит сейчас пакетом, станет жевать под простыней, и все купе наполнится мясным пряным запахом. Ей стало смешно и немножко сердито. И она строго вспомнила, что джинсы неприятно сюрпризно стали тесны, а вот тебе повод, Лета, слегка поголодать.
И опять успокоившись, укрылась и смежила веки, придумывая, что бы увидеть во сне.
— Ты спишь?
Глаза резко открылись сами, руки натянули простыню к подбородку.
В смутном сумраке прямо над ней висело бледное лицо под темными взлохмаченными волосами. Темнели глаза без блеска. Раскрылся рот и снова этот напряженный, чуть поскрипывающий голос.
— Совсем, что ли, спишь?
«Я что, сплю? Нет…»
— Нет. Не сплю. Тебе чего?
Снизу поднялась бледная рука, с длинными пальцами, качнувшись, ушла к виску и прошлась по темным волосам. Широкая ладонь, вспомнила Лета, лежа неподвижно, это называется «широкая ладонь» у них, у пианистов.
— Как это чего мне? Не понимаешь, что ли?
Лицо висело, бледной луной в темных пятнах кратеров. И Лета, разглядывая, увидела вдруг, как плывут красивые черты, перетекая с места на место, и смигиваясь, изменяются.
— Петя, ложись спать. Сам захотел. Спи.
— Ну, захотел… А сейчас вот…
Лете захотелось сесть, дернуть из-за головы тощую поездную подушку и треснуть изо всех сил по темной голове. Но побоялась, что садясь, треснется сперва сама, об это вот, что меняется, перетекая.
— Петя. Я еду к мужу. Я его люблю. Когда у тебя будет жена, и она будет ехать в поезде, к тебе… Ты будешь знать, что она…
Смешалась, подыскивая слова. Слишком напыщенно звучало то, что должен бы он понять. Что он будет встречать ее, свою женщину, ловить, когда та спрыгнет с подножки, кинется его целовать. А следом выйдет попутчик, раскланяется и канет в неизвестность. И он, бывший мальчик Петя, должен знать тогда, что бывает так — ее просили, а она не согласилась. Несмотря на то, что купе и в нем двое, и далеко от них каменным сном спит проводница, и никто ведь не узнает. Он должен знать, что даже так — и не было ничего! Может быть это — та самая девочка, скрипачка из Харькова, которую Лета никогда не увидит. А скорее всего, будет другая. Но все равно. Значит, все равно, тогда уже, как сейчас прозвучат ее слова.
— Ты будешь знать, что ей можно верить. Понимаешь?
Голова молча покачивалась над ней, будто он змей, встал и качается, ожидая, давит темными пятнами глаз. Нет, не понимает. Но поймет потом.
— Иди спать.
Она отвернулась и закрыла глаза, ставя между своими лопатками и немигающим взглядом прочную стену из нынешней злости на него, и спокойного знания будущего — его будущего.
«Это мой кирпич в твое мироздание, мальчик-змей»
Она заснула, не услышав, как он сел на свою постель, потер коленки широкими ладонями. И тоже лег, согнувшись, сунул руки между колен, собрав складками измятую простыню.
Утром был Харьков, Петя проснулся позже, к удовольствию Леты, она успела сходить в туалет, умыться и почистить зубы. Расчесалась, заколола волосы на темени, так что падали красиво. И заварив себе кофе в кружке, съела, наконец, бутерброд с ветчиной, который ей умудрился дважды присниться.
Мальчик нахмурился на ее «доброе утро» и разговаривать не стал. Молча собрал вещи и постель, вышел, зашел, теперь вышла Лета, качаясь, рассматривала бегущие в окне серые дома и всякие столбы. Вернулась и подвинула Пете раскрытый пакет:
— Есть не хочешь?
— Нет.
Он упорно отворачивался, и видно было — откровенно злится. Потом, когда в коридоре затопали и стали перекрикиваться, потащили сумки, звякающие ручками и колесиками, вывернул из-под койки свою, тяжелую, неповоротливую. Оглянулся растерянно, пытаясь сообразить, как управиться с вещами.
— Тебя не встречают?
— Нет.
Лета встала и накинула куртку.
— Пойдем, я внизу посторожу, а ты вернешься за второй.
Молча вышли, так же молча он ушел снова в купе, а Лета стояла, пожимаясь от холода и уже ругая себя за излишнюю заботу. Ну и тащил бы сам, скажите какой цаца. Мороз, оказывается, вполне себе кусачий тут, в купеческом городе Харькове.
Петя спрыгнул, перекашиваясь от второй сумки на плече. Подошел, все так же делая кислое лицо. Лета улыбнулась, и взял его за рукав, встала на цыпочки, чмокнула в щеку, а он, прикусывая губу, с совершено детской злостью дернулся, уворачиваясь.
— Счастливо, — сказала.
В купе уже топтались супруги, в одинаковых серых дутых куртках, мужик-медведь, и жена его — серая медведица. Пыхтя, закидывали сумки на багажную полку, пахли жареным луком. Вытерев пот, скинули куртки, дружно сели на полку пианиста Пети, дружно посмотрели на Лету.
— Вы до Москвы едити? — вежливо осведомилась медведица, поправляя покосившийся берет козьего пуха, из которого сбоку торчал уголок белой косынки — для пышности подложена, значит.
Медведь в это время раскатывал на столике газетный сверток, ловя убегающие вареные яйца и загоняя их за палку копченой колбасы.
— До Москвы, — кивнула Лета.
И выложила на столик апельсины и яблоки.
— Угощайтесь.
СЧАСТЬЕ
Memento
Посвящается Маше africa_burundi — с любовью
— Как ты сказала? Повтори еще…
— Снова не слышишь? Прижми наушник.
— Да.
— Он сидел в кухне и очень стеснялся. Потому откидывал голову назад, поднимал подбородок и смотрел в углы потолка, там паутина. А я смотрела на его шею. У него хорошая шея, красивая. Знаешь, там, где начинается затылок, такой крепкий изгиб. Наверное, это и есть — хорошая посадка головы, да?
— Наверное. Вы пили вино?
— Пили. Зеленая бутылка и рядом еще одна, нет, две, в них стояли свечи. А ты знаешь, что можно насыпать песок в трехлитровую банку, поставить туда огарок и саму банку повесить за горлышко? Будет лампа.
— У вас была такая?
— Нет, это я вспомнила, когда-то ночевали в пещере, на берегу моря. И там снизу дул ветер, трепал волосы, легко-легко. А банка висела, как люстра, там был вбит в потолок старый крюк. Костер в середине и все стены закопченые. Камни в изголовье и еще камни, на которые можно сложить мелкие вещи. Такая общая комната для тех, кто пришел и ушел. Я все думала, а как это выглядит с моря? Если с корабля кто смотрит, то видит огонь в скале? Потому что пещера была высоко, мы туда залезали. Я ободрала руки…
— Вы были с ним?
— Нет.
— А с кем?
— Неважно.
— Тогда я хочу про него. Ты почему не говоришь, как его зовут?
— А у него дурацкое имя. Валера. Разве это имя для мальчика?
— А что в нем такого? Нормальное имя.
— Нет. Оно кружевное и мокрое. Как рифленая медуза.
— Как ты сказала? С ума сойти! Рифленая медуза. Слушай, я его увидел.
— Валеру?
— Нет, я увидел имя.
— Ага, я знаю. Если на каждое слово быстро посмотреть и сказать сразу, на что оно похоже, то и увидишь портрет слова.
— Ты виляешь.
— Нет.
— Виляешь.
— Да нет же!
— Ты не хочешь рассказывать!
— Хочу. Я расскажу. Только я сразу вспоминаю много всего.
— А ты главное вспоминай.
— Улицы были серые и блестели от мороза. Это главное?
— Конечно! Ты мерзла?
— У меня колени мерзли. Я не стала надевать джинсы, потому что шла, туда. И подумала — добегу в платье. Колготки на коленях были, как те улицы — ледяные и потрескивали.
— А туфли? Ты бежала в туфельках?
— Ну, что ты. Гололед, вечер и кривые улицы на склонах горы. Я надела сапожки, а туфли несла в сумке. И вино я несла. И две банки лосося. Он студент…
— Понятно. Страшно было?
— Врать было страшно. А идти уже нет. Я бы летела, но подошвы скользили, и я боялась упасть.
— Дышала тяжело?
— Глубоко, до самого низа.
…………………………….
— Ты где?
— Сигарету взяла.
— Кури поменьше.
— Да я и так мало!
— Не отвлекайся, говори.
— Главное… Что дальше главное… Из дома уже выехали все, два пустых этажа. И черные стекла. Только его окно угловое под крышей — желтое. И соседнее почему-то темно-красное, тусклое совсем.
— А он не выехал?
— Нет.
— Почему? Ему не давали комнату?
— Откуда я знаю.
— Он тебя ждал, да? Знал, что придешь. Когда-нибудь.
— Ну, может быть.
……………………….
— Ух ты!
— Что?
— Дождь пошел. Я открыл балкон и видно под фонарем, как асфальт дымится. Пар идет.
— Жарко.
— Да.
— Он меня встретил внизу и шел по лестнице, держал за руку. Понимаешь, там все было черное. Все-все.
— А чем пахло?
— Не помню.
— Придумай.
— Да не хочу! Я волновалась очень. Я была старше его на три года. Мне казалось, это ужасно. И весело. Постой. Когда уже зашли и там коридор, темный. Но дверь в кухню такой желтой полосой светила. Он шепотом говорил. Что внизу, оказывается, бабка-сторожиха и потому — шепотом. Дверь закрыта, чтобы тепло не выпускать.
— И что?
— Там пахло сперва мокрыми тряпками и вымытым полом. А потом — чаем. Резкий такой запах, будто он прорезал эту желтую полосу в темноте.
— Ты чай не любишь.
— Да.
— А пила? С ним пила чай?
— Да.
— Я думаю, он был красивым мальчиком.
— Наверное. Да. Но тогда мне нравились совсем другие мальчики. Высокие смуглые черноволосые, но не восточные мужчины. Скорее монгольского типа. Чтоб узкие глаза.
— О Господи!
— Ну и что!
— Да ничего, говори…
— Кухня. Она старая совсем и пустая. Я сидела на табуретке и нога на ногу. Так что колготки натянуты сильно, блестят. А он напротив, на маленькой скамейке. С гитарой…. Не смейся!
— Я не смеюсь.
— Ты смеешься! Ты ржешь там, я слышу, и прикрываешь трубку рукой!
— Какая же ты дура! Что он играл тебе? Свои песенки?
— Нет. Он пел Щербакова. Смейся, Левканоя, разливай вина, знать, что будет, ты не вольна.
— …Но можешь мне поверить, по всему видно, что тебя не тронет война… А он умен. Спел это — тебе…
— Не думаю. Мы совсем молодые были. Вовсе. Он просто пел то, что ему нравилось.
— А еще?
— «Вишневое варенье».
— Ах, вот оно что!
— Да вот…
— Н-ну. Ладно, говори давай.
— Ты знаешь, что можно вскипятить чай в кружке половинкой лезвия?
— Кто же не знает.
— Я не знала. Вода зарычала и вскинулась, а свет сразу потускнел. Почти ночь и стенки из желтых стали цвета старой горчицы. Я ойкнула, а он выдернул проводки из розетки и сжал мне колено. Внизу заходила бабка, скрипела ступеньками и стала кричать что-то. Мы сидели тихо-тихо и она ушла. Он сказал, что так и пьет чай, внезапно, чтоб бабку застать врасплох.
— Холодно там было?
— В кухне я не заметила, вообще. Мне трясло сначала сильно, так что я зацепила колготки за гвоздь на табурете и порвала их.
— Бедная.
— А потом выпили по стакану вина и стало хорошо. Молчи, пожалуйста!
…………………
— Во-от… Мы ели рыбу. С тарелки. Там не было воды, ведро на столе. Клеенка с уголками грязными. Я сказала, что свет мы погасили, и он пел, когда горели свечи в бутылках?
— Нет. Но я догадался.
— Ты пойми, мне было совсем наплевать, что это как-то вот — гитара, свечи. Как угодно оно могло быть.
— Да.
— А потом он опустился на пол и поцеловал мне колено. Это было ужасно.
— Почему?
— Я все думала, что там эти колготки и он по ним ртом. А я не знаю, как это, наверное, неприятно губам.
— Ты писать ходила?
— Вопрос. Вино, два стакана, чай с лимоном, огромная такая кружка. Да.
— Там был туалет?
— Неа. Он выводил меня по лестнице в дворик, там кусты сирени стояли и за ними — беленый сортир. Это же без удобств было общежитие, старое очень. Он мне фонарик дал.
— Эх.
— Не хочу догадываться, про твой эх.
— Ты рассказывай!
— Он ждал у дверей, и мы снова шли наверх тихо-тихо. В общем, когда он спросил, пойдем ли в комнату, я кивнула и мы пошли. У него там обогреватель стоял. На полу. И на полу лежали матрасы, два рядом и на них чистое белье, я не знаю, где он его взял. Сперва большая комната — вся черная, кровати пустые, как скелеты. А в маленькой — тепло и свет только от спиралей раскаленных. Ну, и свечу взяли еще с собой.
………………..
— Ты опять, что ли, куришь?
— Я вторую всего.
— А ко мне кот пришел. Говорит, соскучился.
— Я слышу. Он не говорит, орет.
— Он по-другому не умеет.
— Потому что он — это ты.
— Ага. И рыжий такой же.
— Да.
— Ты мне все расскажешь, все-все?
— Нет. Я не могу. Простыни были холодные. Подушка плоская, он положил две, и я все сваливалась головой.
— Он…
— Он в большую комнату принес ведро с водой и ковшик, для меня. И волновался, что вдруг она холодная, и я простыну.
— А ты?
— А я не чувствовала холода.
— А потом?
— А потом он сидел сбоку, прислонясь к железной кровати, и снова играл. Опустил голову и смотрел на свои пальцы. Свеча светила на его колено и на гитару, темным желтым светом. И немножко в лицо.
— А ты?
— Я лежала и слушала. Он взглядывал на меня и спросил еще, помню, да, спросил, знаю ли я, что у меня тело, как у античной богини. Не смейся!
— Я знаю, я и сам спросил бы. Но ты знаешь, сейчас.
— Он еще спросил, быстро так и невнятно, не снималась ли я на фото. И тогда я поверила, что нравлюсь.
— Подожди, я закрою балкон, дождь брызгает.
— Он же теплый.
— Мешает слушать.
— Ага.
………………….
— Хочешь, я включу музыку? «Вишневое варенье», хочешь?
— Нет!
— Не кричи.
— Прости.
……………………
— Мне нужно было домой к часу ночи. Я наврала про день рожденья и что муж подруги нас всех развезет на машине, и потому я не смогу раньше. И мы вдруг захотели спать и поставили на деревянный пол будильник, чтоб не проспать вдруг. Просто отрубались, представляешь?
— Ну так, с семи вечера, на простынях.
— Вообще-то с шести… Мы поставили будильник, он поставил. И лег рядом.
— И заснули?
— Нет.
— Я так и думал!
— Он зазвонил в то самое время, когда. А я как раз собралась плакать. Слезы стояли уже у век. Знаешь, как говорят, настоящая женщина та, что долго и вдумчиво плачет после оргазма.
— Какая ерунда.
— Ну, я слышала, шутка такая есть. А тут звон, и мы расхохотались. Он лежал сверху, тяжелый и теплый, придавливал. И я задыхалась от смеха под ним.
— Я тебя убью.
— Да. Я знаю.
— И что потом?
…………. — А потом он поднял голову. И я увидела свет вокруг. На секунду я подумала — утро! Раннее утро. Но будильник показывал четверть первого. А голые окна светились, тихо-тихо, будто шепотом. И он сказал «снег пошел».
— Увидел?
— Я повернула голову и в окне, за стеклами — тихие хлопья, медленно-медленно и густо. Тогда он просунул под меня руки и подхватил. Встал. Он был такой широкий, коренастый, и я почувствовала, как напряглись его бедра, сильно. Он меня поднял плавно, ни разу не дернув, прижал к себе и понес. Шел босиком и открыл дверь ногой, в большую комнату. Там в ней — окна. Все в переплетах, старые. И кругом свет, как темная такая белизна. Будто льется молоко в чай. Он подошел к окну и встал боком, чтоб было видно и мне и ему. А там — сплошное белое. Мягкое и летит, без остановок, вниз и вниз, будто кто-то тянет перед глазами редкую марлю. И все кусты, что были черные, стали как коралловые белые ветки. И все тихое, шепотом.
— Вы там у окна, с ним…
— Нет. Он прижимал меня к своему животу. И щека его у моего лица. Я вдыхала, когда он выдыхал. Дышала им. А ногами обхватила его спину, чуть выше попы.
— И что?
— Все. Пришло счастье.
— Понимаю.
— Ага.
— Ты счастливица. Да?
— Конечно!
………………..
— Ты не кури сейчас.
— Не буду.
— Я боюсь, но спрошу.
— ?
— Скажи, в тот раз, все кончилось хорошо?
— В тот раз — да.
СКАЗКИ ЛЕТЫ
Были мужчины, с которыми она ощущала себя девочкой, почти тупой, и тогда такой и становилась, злясь на себя, но не имея желания что-то изменить. Проще сменить мужчину, ведь ни к чему превращать течение воды в прогрызание камня.
А еще бывают другие, с ними она была матерью, и в кармашке передника всегда наготове платок для утирания носа, а на языке мудрые утешающие слова…Еще есть те, с которыми вечно шестнадцать.
Эти, с которыми шестнадцать, ей нравились. Что-то тонкое, то, что сейчас разобьется, если неловко двинуться, было в общении с ними. Что-то похожее на две косички, которые в свои шестнадцать плела на ночь, чтоб волосы на следующий день легли красивой волной. А днем не плела, нет-нет, ведь не девочка, а — девушка уже. Каблук повыше: значит — взрослая. И — помада.
Помаду накладывать не умела, губы пухлые, рифленые, чуть поярче сделаешь и сразу рот в пол-лица. Смотрела в зеркало, где отражение медлило с ответом. Не дождавшись, принимала решение сама — уголком салфетки стирала, сильно, жестко, оставляя на полотне красные разводы. После этого отражение говорило ей — да.
Хотела ли она вернуться в шестнадцать? Да ни за что. Хорошая память тут же листала страницы, вела по строчкам насмешливым пальцем. Помнишь, как ненавидела себя? А это помнишь, как он сказал, издеваясь, и ушел, обнимая за плечи подругу? А мелкие недостатки, что казались огромными, чудовищно видными всем, и заслоняли собой жизнь. И хотелось, пусть бы она скорее кончилась, эта дурацкая жизнь. Пусть смерть все прекратит.
Пока однажды, лежа и глядя в смутный беленый потолок, не поняла, с холодеющим сердцем, вот прожито почти два десятка лет. И после этого будет еще несколько. И все?
Я рядом, я тут, я никуда не денусь из твоей жизни, сказала ей тогда смерть, в первый раз в полный голос, хоть и неслышным для других шепотом. Не та, что может прийти внезапно, а другая — неумолимая. Которая суждена всем, даже если доживешь до ста лет. И потом — какая жизнь в сто? И в девяносто. Даже в сорок — разве жизнь?
Знание спеленало ее тогда прозрачной пленкой, показывая все, но не давая дышать. К знанию пришлось привыкать.
Так что в реальные шестнадцать возвращаться ни к чему. А вот снова ощутить это хрупкое, как елочный шарик, красивое расписное, с тонким звоном внутри — это можно в любом возрасте, так поняла.
Так ли у других, не знала. У нее было именно так.
Иван появился на Острове, когда Лета лечилась там от развода. Хорошо было лечиться на острове, где все ходили почти голые, спали, где придется, ели вечером одну большую уху на всех и выставляли на облезлый деревянный стол привезенные консервы. Она тоже ходила в купальнике, жарила плечи и спину, вечером Танька мазала ее кефиром и, хихикая, рассказывала, лучше всего на спину пописать, все и пройдет. На что Лета мрачно советовала подруге пройти дальше по песку к палаткам, и отдаться студентам института физкультуры, всем сразу.
— Вон они какие здоровые и глядят голодными глазами. Твои извраты как раз там сгодятся.
— Дура. Это ж народное лечение! — обижалась Танька, щедро шлепая на горящую спину холодный кефир. Лета ежилась от удовольствия.
Иван был женат, Лета знала, работали в одном институте. Время от времени появлялся в гулких коридорах, ходил медленно, никогда не видела, чтоб торопился. Наклонял русую голову, здороваясь или слушая. Пару раз мельком на нее посмотрел, без всякого интереса.
Как-то в обед Лета сидела у стола, застеленного исчирканным старым ватманом, разглядывала полустертые карикатуры на сотрудников (некоторые сделали карьеру, а тут, на старой бумаге, все еще с тощими волосатыми коленями пьют портвешок, запрокидывая острые подбородки, и держат под груди хохочущих дамочек а-ля модный художник Бидструп) и слушала заведующую лабораторией Нателлу Ашаловну. Нателла красила ногти багровым лаком и под каждый палец рассказывала что-нибудь новое, выпячивая такую же багрово-красную губу.
Большой палец (туфелька скинута, полная ножка в золотистом чулке согнута на сиденье стула):
— Наш Ванечка женился, как дурак, на побывку пришел из армии, она залетела. Вот и свадьба. Она, конечно, потом его в институт, трали-вали, и сама в пед пошла. Теперь училка.
Указательный (повернувшись к низкому окну, в котором мелькали ноги прохожих, и закусив губу, невнятно):
— За ним девки всегда увивались, красавчик, еще бы. Что? Как это как сказать, да ты поглянь глазки какие.
— Синие, — сказала Лета, глядя через плечо крахмального халатика заведующей на мелькающие ноги и ножки, — синие, как у ваньки.
— Пф. А какие должны быть, по-твоему? (средний, растопырив руку в сторону собеседницы)
— Ну. Серые. Чтоб холодные такие. Или вот карие еще. Серо-зеленые хорошо. А то, как в кино, честное слово. И — кудри. Ужас.
Безымянный (составив вместе стройные ноги и положив руку на колено, между распахнутыми крахмальными полами халатика):
— У нас в том году курсы были, англичанка вела, такая роскошная дама. Оглядела наших мальчиков, по списку проверила и в шоке «такие все молоденькие и по двое детей, когда же успели». И Ван из угла «дык свет отключают, телевизор не смотрим»…
Сейчас Лета сидела на деревянной лавке, ерзала, морщась, ну вот же дурында, спалила даже задницу, и смотрела, как Иван во главе стола улыбается, принимая полный стакан, налитый черным, будто ночной кровью. А вокруг девы, дамы, пляжницы — тянут к нему свои посудинки, поют трелями, как стайка разноголосых птичек. Слева от Леты сидел маленький коренастый студент, пловец. Сопел, копаясь в открытой банке, тащил оттуда вилкой размятую рыбу и ронял на стол, чертыхаясь шепотом.
— Дайте, — сказала Лета, не выдержав, отняла у него краюху, нашлепала рыбы, придавила вилкой и подала аккуратный бутерброд. Пловец пихнул подношение в рот. Жуя, благодарно блестел маслеными черными глазами.
Лета допила вино из своего стакана. Выбралась из-за стола, хватаясь за чьи-то горячие плечи.
Уходила на песок, проминая босыми ногами поскрипывающую прохладу, шла от мертвенно-белых фонарей к черному невидному морю, на звук тихо плескающей воды. И дойдя до щекотных сухих водорослей, села, укрывая колени белым подолом юбки. Черное ничто перед глазами делила цепочка дальних огней, еле видных, будто просыпали тонкой полоской золотой песок, и его чуть размыло водой.
Ей было плохо. И казалось, было плохо всегда. И, наверное, будет.
Смотрела на огни, слушала дальний гомон и смех за спиной, откуда никто не пришел за ней, потому что никто не заметил, ну ушла и ушла. Но представила, вдруг из темноты покажется приземистый пловец. Стала прикидывать, куда убежит. И улыбнулась.
Закрыла глаза и взмолилась о чуде. Ну, разве это так сложно? Вот летняя горячая ночь, вот в ней Лета — с выгоревшими волосами до попы, с тонкой талией и коричневым лицом. Зеркало говорит — очень. И что, никому не надо? Такому, чтоб и ей хотелось, чтоб именно этот. Заскрипит песок за спиной, выйдет из темноты высокая фигура, сядет рядом и скажет. А Лета будет смотреть сбоку на еле видный профиль, и знать — пришел к ней. Увидел, что ушла, отправился искать. И нашел.
А потом…
Мечты были совсем взрослые, с продолжением, и Лете это нравилось.
За спиной пробежал кто-то тяжелый, спотыкаясь и шумно валясь на рыхлый песок, а следом смеясь, кто-то легкий. И возня… Стихли, потом «пусти, дурак», потом шепотом «пойдем, а то сидит».
Когда юбка стала влажной от ночной росы, Лета поднялась и снова пошла к бледному свету, под которым маячил опустевший большой стол. Села на уголок лавки, придвинула к себе полупустую банку и печально доела рыбу, скребя чайной ложкой по жести. Напротив полузнакомая парочка замерла, сплетясь с закрытыми глазами, да сбоку кто-то спал, согнув ноги и по-детски положив кулак под щеку.
Лета нащупала в кармане ключ. Надо идти, утром все вместе на скалы, за мидиями, если проспит, то весь день одна. Там тоже одна, но хоть вокруг будут люди.
Из-за спины протянулась рука, подхватила стакан с черным вином на донышке. Длинная нога рядом, перешагнув лавку, перенесла мужское тело.
— Кажется, все упали и умерли, — Иван глотнул и поставил стакан, — а нам с Васькой спать негде.
Лета оглянулась. Васька, лет на вид пятнадцати, спал стоя, покачивался как водоросль, хлопал бессмысленными глазами. Короткая футболка наискось открывала блестящий впалый живот.
— Замучил парня, — упрекнула Лета мужчину. И добавила, — у меня в комнате три койки. Две с бельем. Ну, покрывало еще есть, можно на матрас постелить. Если хотите…
— Еще бы, да.
Он снова поднял длинную ногу, перенося ее через лавку. Подтолкнул мальчика в плечо, направляя, и оглянулся вопросительно. Лета показала, куда идти.
Шли под черными кружевами маслин, через равные промежутки смазанных светом фонарей. Догоняли медленно шагающие тени, наступали на них и смотрели, как те вырастают снова, черными живыми стволами на светлой плитке…
Васька шел обок, Иван время от времени придерживал его, чтоб не убредал в кусты.
— Спит, — шепотом удивилась Лета.
— Ага, — сказал Иван.
Профиль у него был такой, как ей виделось, там на песке. Хороший, с ровным носом и четким подбородком. Усы вот только. Зачем усы…
— Я ж казак, — вполголоса ответил Иван, она поняла, что вопрос задала вслух и покраснела.
— Он тебе кто? — спросила мысль уже вслух.
— … брат… — хотел, видимо, сказать дальше, но не стал. Лета поняла, что брат жены и уточнять не стала.
В дощатой комнате спала дневная жара, налитая под самую крышу. Лета не стала зажигать свет, отдернула на окошке реденькую занавеску и в свете фонаря, как-то мгновенно устав, медленно постелила на старый матрас пляжное покрывало, кинула сверху еще одно. Взяла зубную щетку и шепотом сказала:
— Ложитесь, я сейчас.
Сунув ноги в шлепанцы, ушла к туалету. Чистила зубы над старой раковиной, вода текла звонко, ударяясь о жесть, верещала, казалось, на весь погруженный в глухой сон пансионатик.
Когда вернулась, они уже спали, Иван завернулся в покрывало, а мальчик, раскидав по белой простыне черные ноги, с черным под задранной майкой животом, дергался, поскуливая, как щенок.
Лета постояла над ним, дрогнув сердцем, протянула руку и поправила длинные волосы на влажном лбу, чтоб не лезли в глаза. Задернула занавеску на окне, и тихо сняв юбку и маечку, улеглась на скрипучую кровать, накрываясь теплой простыней. Стала смотреть в потолок. Туда падал невнятный свет от фонаря и черные листья пролезшего в щель винограда казались стаей пауков. Сон ушел, остался глухой стук сердца и болезненно обостренный слух, ловящий неровное дыхание Васьки и редкие скрипы кровати под тяжелым мужским телом.
Спят. Нагулялись. Завтра последний день и последняя ночь на острове. Через утро Лета вымоет всю посуду, выметет пол, выплеснет из таза, что на крылечке, морскую воду. Отнесет в бытовку белье, отдаст ключ и вернется в город, где плавленый от жары асфальт и мамины трагические взгляды.
А как ты хотела? Спросила себя и повернулась к стене, не заботясь о том, что кровать запела старыми пружинами. И сон, будто ждал, спустился от черного винограда, слетел к ресницам. Трогая каждую по очереди, прошелся мягкой лапкой по щекам, коснулся верхней губы. Щекотно, удивилась она и замерла, с мужской рукой, легшей на шею и основание плеча.
В охвостье утекающего сна ей показалось, что мир явил в черноте скважину, куда был вставлен ключ, и повернут. И открываясь, мир повернулся сам, не становясь светлее, но все равно — другой стороной, как другая сторона черного куба. Не зная, что делать с этим, она лежала и думала о мальчике, который вот сейчас что-то проговорил во сне, и, кажется, даже чуть-чуть засмеялся. Была бы вместо него Танька. Или. Или… Но не этот, с щенячьим поскуливанием.
Иван наклонился и, еле касаясь ее уха, шепнул:
— Может, ну его — спать. Пойдем?
Лета кивнула и села, следуя за ускользающей ладонью. Прикрывая простыней грудь, нащупала на спинке кровати майку. Иван встав, отошел к своей кровати, нагнулся, собирая покрывало в охапку.
Они вышли в ночь, и эта ночь была совершенно другая, та кончилась или ушла на дальнюю грань, унося с собой одинокую Лету на прибое, дочек Ивана и его жену-учительницу, Нателлу с растопыренными крашеными ногтями, Таньку с кефиром.
Стараясь не греметь, Лета повернула в замке ключ. Встав на цыпочки, прошептала Ивану в ухо:
— Я его повешу внутри, на гвоздь у форточки. Вдруг он захочет ночью…
— Подожди, — ответил Иван и повернулся к соседней двери. Эта комната стояла пустая, молчала, запертая.
Он покопался в кармане шортов, блеснул чем-то и, закрывая окно спиной, что-то стал делать. Стекло повизгивало, потом звякнуло. И сверкнуло, оказавшись в его руках. Лета нервно оглянулась. Вокруг было тихо, только поодаль тарахтел генератор, перекрывая плеск воды. Иван аккуратно прислонил стекло к стене. И уже знакомым движением занес длинную ногу на подоконник, по-змеиному нырнул внутрь, шлепнул, шмякнул, зашипел сквозь зубы, видимо, стукнувшись там внутри об стол, заскрежетал, отодвигая. И протянул из низкого окна руки.
— Иди сюда.
Лета встала на перевернутый таз, ухватилась за руки и шагнула внутрь, неловко валясь и обдирая бедро о край рамы.
— Вот, — сказал Иван и, стащив матрас на пол, кинул на него покрывало, — вот. Иди сюда.
Потом Лета все боялась заснуть, чтоб не пришло утро, показывая дыру пустого окна и стекло рядом у стенки. Говорили шепотом, спрашивали и отвечали, замолкали, обдумывая ответы.
— Я думала, ты меня вовсе не замечаешь.
— Скажешь тоже. Я ж знал, ты замужем.
— Была.
— Ага. Мне как вчера днем сказали, что пока я в рейсе был, ты развелась, ну я сразу на Остров. Пока ты тут не успела, ни с кем.
— А вдруг бы успела?
— Нет, — в темноте блеснули зубы.
— Ничего себе! Это почему же?
Он повернулся и вытянулся, длинный, как узкая рыба, и свет качался на груди и животе, послушный дыханию. Тронул пальцами медальон на лохматом шнурке, свисавший к плечу.
— Это мой покровитель. Я с ним договорился.
— И помогло?
— Ну, так. Сама видишь.
Лета тоже легла на бок, ей было приятно, что свет падает на них обоих, и ему ее видно, а ей его. Между двумя телами воздух стоял тонкой прослойкой, только чтоб вдохнуть и коснуться друг друга, ничего не делая, просто дыша. А потом, как полчаса назад, он снова положил руку ей на шею, притянул к себе, мягко вдавливая.
Вот я, думала Лета, подаваясь к нему, вот его тело, вот красивый мужчина, чужой, но пока что мой. И большего не надо, и думать не надо ни о чем, кроме сейчас. Потому что сейчас…
За стеной скрипнуло и загремело. Зашевелилось, зашлепало босыми ногами.
— Иван? — сказал сонный хриплый голос, — Иван!
Лета смотрела, как мужчина, красиво вывернувшись, сел и сразу встал, не прекращая движения, оказался у дощатой стены, освещенный смутным светом фонаря, приложил ладони к некрашеным доскам. Сказал негромко и внятно:
— Вася, ложись, я скоро.
— Иван?
— Я тут. Спи.
После короткого молчания зазвенели пружины, смолкли, и мальчишеский голос заговорил невнятное, стих, уходя в сон.
Иван вернулся, сел по-турецки, сгибая высокую шею, как лебедь-самец, не поворачиваясь, нащупал шорты и, вынув пачку, вытряхнул сигарету. Закурив, отдал Лете, и она легла навзничь, держа на отлете красный горячий огонек. Засмеялась тихо-тихо, почему-то совершенно счастливая.
Затягивалась, горяча губы, выдыхала горький дым, а мир медленно и торжественно вращался, показывая прямые бока. Поворот и она идет по гулкому коридору, смотрит издалека на Лету, чьи каблучки дробно считают мраморные ступени, а коленки натягивают при каждом шаге узкую юбку. Поворот и она лежит на горячей летней простыне, открывает глаза и, не понимая, где и что, встает, чтоб позвать брата. Еще поворот, и Лета снова Лета, а может быть она — темная ночная вода, или полоска огней, что делит черное пространство для глаз молодой женщины, сидящей на песке. А может она — мир. Огромный.
— Ты что?
— Я? — она не знала что ответить, чтоб не выглядеть полной дурой, потому пожала плечами и, затушив окурок в жестяной крышке, легла у ног сидящего мужчины, просовывая руку под его колено, прижалась, дыша. Было утро, и пора уходить, чтоб успеть поставить на место стекло.
ТАНЬКИН СЫН
Танька работала младшим научным. Чудовище, а не Танька. Горластая, как базарная торговка, руки вечно указующе вытянуты — то правая на пробегающего мимо курящих дам Антона Вадимыча в белоснежных брюках:
— Та то было как раз када я от Антошки аборт делала!!!
Антон Вадимыч пригибался и проскакивал белой мышью, краснея над воротничком парадной рубашки;
то левая — в сторону маленького извилистого Афанасия Петровича, у которого вся голова состояла из лысины и тоже извилистой улыбки:
— Та отэтот геморройный Фонька! — в сердцах орала Танька, и переключалась на другой предмет, резко прикладывая к алому рту сигарету, будто собралась ее проглотить.
Афанасий Петрович, извиваясь улыбкой и тщедушным телом, кивал и с достоинством удалялся по коридору, а дамы тихо давились дымом, с упреком глядя вслед его маленькой заднице.
Так вот, Танькин сын был толстячком десяти лет, очень деловитым, посапывающим — быстро уставал, поднимаясь ко мне на третий этаж. Читал все. Книг набирал, сколько влезало в разболтанный портфель и в короткие ручки. Забывал уходить, присаживаясь на нижнюю ступеньку старой деревянной стремянки, клонил соломенную, чуть потную голову, совсем еще детскую, и, посапывая, утыкался в верхнюю, в стопке лежащих на коленях, книжку. Иногда поднимал ко мне круглое лицо, похожее на белый подсолнух и, в упор глядя таким же круглыми, очень темными глазами — мамиными, — что-нибудь спрашивал.
Я отвечала.
Было нам с ним мирно и покойно. Иногда он досиживал до конца рабочего дня, и мама Танька приходила за сыном.
Просовывала в фанерную белую дверь голову, падали черные на фоне белого богатейшие кудри, сверкали круглые глаза, открывался красный рот.
— Толя!!! Ты тут Елени Александровни все мозги уже проел! Лена, проел? Ведь проел же!!!
— Нет, нормально, видишь, читает сидит.
— Пойдем уже!!! — Танька с любовью смотрела на белявенького сына, подхватывала падающие из его рук книжки, вытирала платком нос, и он стоял смирно, не вырывался, думая о своем. Иногда, дергая головой, выныривал из-за платка, чтоб еще спросить.
— А крокодилы у вас есть? Мне много надо! Чтоб все.
— Есть «Крокодилы». Завтра придешь, достанешь. Лет за семь скопились.
Назавтра я показала Толе на верхнюю полку, где плотно лежали стопки пожелтевших журналов.
— Лезь. Там они.
Толя смерил глазами семь широких ступенек. И вдруг предложил:
— Та вы сами слазийте.
— Еще чего, — возмутилась я, отрываясь от стопки карточек. Натянула на бедро край мини-юбки.
— Ты мальчик, ты и лезь.
Толя вздохнул. Посопел. Оглядел круглыми глазами полки, с которых на него сурово смотрели корешки перечитанных книг. И снова вздохнул.
Я ничего не понимала. Посмотрела на часы и поторопила мальчика:
— Толичка, у меня обед через полчаса.
— Лучше б вы… сами бы… — в голосе его прозвучала тоскливая и безнадежная укоризна.
Встал и поднялся на вторую ступеньку. Вцепился руками в третью и, закрыв глаза, вспотел, так что по лбу побежали крупные капли. Ноги затряслись на широкой деревянной поверхности.
— Ты что? Ты высоты, что ли, боишься? — ахнула я.
Толя с закрытыми глазами совершил восхождение еще на одну ступень. Осталось четыре…
Я тихо подошла, чтоб не свалился от моих резких движений, хотя, ну куда падать, топчется в полуметре от пола. Взялась одной рукой за край стремянки, другой придержала его щиколотку в цветном носке под задравшейся штаниной.
— Я тебя держу, — предупредила и встала на нижнюю ступень, — ты поднимайся, а я тебя буду держать.
Толя гулко вздохнул. Под самым потолком маячили стопочки старых журналов. Всего три ступени. Две…
Я лезла за ним, пальцами касаясь прохладной кожи между носком и штаниной. Дождалась, когда глотнув, он вцепился руками в полку, и обмяк, упираясь животом в верхнюю площадочку лестницы. Отдохнул и, бережно сняв с полки аккуратную стопку, положил перед собой.
Потом мы спускались…
Потом Толя сидел на своем месте, на нижней ступеньке, листал широкие страницы, фыркал, иногда хмурил светлые бровки и спрашивал требовательно:
— А космополит это что? А летка-енка?
И еще дважды сам совершал восхождение, таща пролистанные журналы и меняя их на другие. Я наклоняла голову над формулярами, делая вид, что не замечаю, как лезет, сопя и вздыхая.
Потом в коридоре заорала мама Танька. Шла забирать своего героя.
УРОК
Королевам можно все. Это Лёка знала точно. Потому что вот — королева настоящая. Только у нее, у Натки Семиступовой может быть такая фигура и такие ноги. И платьице короткое настолько, что пацаны всю перемену ждут под лестницей, толпясь и гыгыкая, но ни один не крикнет вслед, когда поднимается, ровно, как лошадка, ставя платформочки старых ботиков, не крикнет, как орут вслед всем прочим, делая непристойные жесты руками и двигая бедрами.
Натка — королева. Она может догнать любого пацана и, захватив твердым локтем лохматую голову, прижать щекой к колену, чтоб выкрутить ухо железными пальцами. У Лёки тоже руки не самые слабые, но попробуй она такое проделать — да просто изобьют, в этой школе порядки суровые.
— Финика летом подрезали, — сопя вечно забитым носом, рассказал в сентябре двоечник Вдовицын по прозвищу Гуга, — за то, что пару влепил в аттестат!
Финик, краснолицый мужчина с дерганой походкой, был учителем физики. Любил язвить на уроках, высмеивая старшеклассников, и охотно подсаживался к девочкам, наваливаясь на отставленный локоть и тыча в тетрадку белым от мела пальцем. Но физику Финик любил больше старшеклассниц и спрашивал строго. Вот и доспрашивался…
— Прикинь, во! — гордый Гуга оглядел небольшую толпу, засопел и сглотнул, — Пятаку в бурсу ж надо, а Финик опа — н-на тебе пару, козел. Пятак прихуярил вечером, с Лысым и Рыгой, сунули пару раз ножик в ребро. А потом заставили Финика спич… спичками дорогу мерять. Ну, мимо стадиона.
— Как спичками? — недоверчиво спросила Натка, доставая из пластикового дипломата учебники.
Гуга радостно засопел и Натка поморщилась.
— Ко… коробком. До… до ос-тановки, прикинь, Семка!
Он назвал ее Семкой и замер, даже сопеть перестал. Сёмой, Семкой и Семачкой называл Натку только один человек — Санька Середкин. Но королева милостиво не обратила внимания. Сказала деловито:
— Вышел уже с больницы? А то навестим. Я торт бы спекла.
Лёка представила быстрого дерганого Ивана Юрьевича, как он ползет на коленях, прикладывая к асфальту коробок, а Пятак и Рыга идут сверху, следя, чтоб не сачковал и не делал промежутков. Пятак был ровесником, из параллельного, учителя еле дождались, когда восьмой закончит и в бурсу уйдет.
Так что хватать одноклассников за шею и тыкать их носом в колено, закручивая ухо, этого лучше не надо, чревато. Это только Натка могла.
Еще ей позволялось иметь толстые запястья и коротковатые пальцы, часто с обкусанными ногтями, Натка страшно переживала и руки прятала, стараясь однако, чтоб никто переживаний не видел. А Лёка удивлялась. Чего переживать — она же королева, ей все можно и ничего ее не портит. Даже когда Натка приходила в школу с дикими кудрями, после ночи на бигудях, вместо прекрасной своей светло-соломенной гривы, как у латышской красавицы, Лёка вполне ее понимала: просто ждала, когда кудри распрямятся и Натка снова станет безупречной и восхитительной.
Иногда Натка просила помочь с сочинением, и это было счастье. Лёка тогда особенно радовалась тому, что сочинения пишутся у нее одним махом и ей, что два, что три, а что пять их — чистый пустяк.
А еще Натку любили. Всерьез. Санька Середкин даже и не скрывал. На перемене подходил к ней и, падая на колено, кричал так, что спотыкалась завуч, пробегая мимо.
— Семачка! Я тебя люблю!
— Встань, Середкин, не позорься, — говорила Натка, не поворачиваясь от подоконника, но встряхивала головой, и свеженакрученные кудри прыгали по широкой спине с прямыми плечами.
Даже из десятого пацан любил Натку. Вечный клоун Геня с удивительно подходящей фамилией Шутилин. Невысокий, странно мосластый и будто расшатанный в суставах, Геня был наркоманом и алкашом. Лёка не слишком вдавалась в детали, но видела — иногда стоя у стены в школьном коридоре, говорит странное, и глаза с черным точками вместо зрачков. А однажды на улице они, гуляя с подругой Алькой, обнаружили совершенно пьяного Геню, оторвали его от дерева и, движимые порывом милосердия, притащили в квартиру, закрыли в комнате и поили кофе, пока не пришла с работы мама. Тогда ничего не понимающего ополоумевшего Геню вытолкали обратно на улицу и посадили в автобус. На следующий день он кричал, выкатывая глаза и маша руками перед лицом:
— Ни хуя не поэл, смарю — книги книги, названия, буквы золотые. Та думаю, еба где я! А то оказывается Катковой хата! А я смарю буквы, золотые!
— Это энциклопедия, — сказала Лёка, покраснев от всеобщего смеха. Натка стояла рядом и тоже смеялась, кидая на нее изучающие взгляды. А после вдруг взяла под руку, как подружки друг друга таскают по коридору, прижимаясь грудью к локтю спутницы, и сказала:
— Геньчик говорит у тебя дисков много. А можно послушать, а?
— Конечно, — с восторгом ответила Лёка, — конечно!
И они ходили по коридору и Натка, подумать только, Натка Семиступова рассказывала Лёке про то, какой Геньчик дурак со своей любовью.
Лёка чувствовала локтем круглую наткину грудь, слушала, как ровно цокают ее каблуки и кивала. Геню было жалко, конечно. Наверное, все эти наркотики и водка, это все от любви, думала Лёка, это ведь самое в жизни главное, чтоб ты любил и тебя любили.
Нельзя сказать, что Лёка была дура, нет-нет, и недостатки королевы она видела и кое в чем была даже умнее ее. Но королевой была Натка. И Лёка считала — по праву.
А уж красивее ног не видела она ни у кого. Ни на картонках с импортных колготок, ни в истрепанных от перелистывания каталогах, что привозили отцы-загранщики, ни в прибалтийских, тоже получается почти иностранных журналах мод.
Отчаянные были у Натки ноги. Школьное коричневое платье было обрезано и подшито так высоко, что когда Лека узнала — Натка носит чулки, а не колготки, то поразилась страшно. Да где можно спрятать застежки — под подолом, что только-только прикрывает попу? Но именно чулки. В туалете Натка выставляла ногу и, задирая коричневый шерстяной подол, натягивала чулок, перестегивая повыше черной широкой резинкой. Пояс был перешит из материного, простой сатиновый, черный. Наткина мать была разведенкой, жила с двумя детьми, но зато работала начальником отдела кадров, и дома у них всегда было вкусное и всякие дефициты.
И еще хлеще — на физкультуре. Форма была — красные футболки и черные трусы. Трусы полагалось носить сатиновые спортивные, шортиками. Но кто ж по своей воле наденет такое позорище, и пятнадцатилетние барышни приходили на физкультуру в крошечных черных плавочках. Спортивная форма Лёке шла. Не более того. Потому что рядом всегда была королева — с круглой, по-настоящему женской грудью, с попкой совершенной формы. И с ногами, как у породистой лошадки, такими узкими в колене, и с такими икрами, что Лёка даже и позавидовать не могла. Только смотрела издалека, как Натка ставит рекорды, прыгая, бегая, и бросая мяч в корзину. Очень спортивная девочка была Ната Семиступова. И все мальчики поголовно были в нее влюблены.
В начале двойного урока выходили на стадион, который с одной стороны упирался в бетонный ажурный заборчик школьного двора, а с другой проваливался в камыши большого пустыря. Строились под ленивые свистки Гелены Леонидовны, могучей физручки, затянутой в синий шерстяной костюм. И повернувшись в затылок, трусили обязательные три круга, переговариваясь и смеясь. После мальчики шли играть в футбол, а девочки к прыжковой яме. Гелена не утруждала себя, и, дав задание, садилась на лавку, вытянув ноги с чудовищно вздутыми икрами. Поправляла шишку черных волос, утыканную шпильками, и погружалась в беседу с присевшим рядом трудовиком.
Сегодня урок был вроде бы такой же, как всегда. Но Лёка, погруженная в мысли о том, что же ей в субботу одеть на дискотеку, услышала выкрик и все мысли вылетели из головы. Она ерзнула по деревянной лавке, нагретой осенним солнцем. Что-то не так. Кричал Санька Середкин. Он ушел с футбольного поля, встал рядом с перекладиной для прыжков в высоту и, скрестив руки, выставил вперед мускулистую ногу, покрытую темным пухом волос.
— Что, Семиступова, жопа тяжелая? Слабо, да?
Лека вцепилась в лавочку потными руками и посмотрела на дорожку. Там стояла Натка. В красной футболке, ушитой так, что все швы лифчика были видны через тонкий хлопковый трикотаж. В черных плавочках, обтягивающих круглую попу. И не глядя на Саньку, переминалась с ноги на ногу, приминая шлаковую крошку обрезанными старенькими полукедами. Это все так срезали — верхний край у обычных кедов, чтоб не натирал щиколотку. И оставляли лохматым.
Натка смотрела на перекладину, сузив глаза. А потом, чуть согнув руки в локтях, побежала вперед, сперва медленно, а потом все быстрее, мелькая круглыми бронзовыми коленями, перед самой перекладиной развернулась чуть боком, и косо прыгнула, красиво занося ногу и подтягивая вторую. Шлепнули резиновые подошвы по блестящей коже лежащего за стойками мата. И тихо звеня, перекладина свалилась следом за Наткой.
Королева встала с колен, тряхнула светлой гривой. И пошла обратно, все так же сузив глаза и твердо сжав обычно улыбчивые светлые губы.
— Я ж сказал — сраку нажрала! — Санька встал на ее место, рванулся вперед и, добежав к стойкам, на которые уже вернули перекладину, прыгнул, легко перенося длинные ноги. Выпрямился, шутовски поклонился, сцепив руки над головой. С поля подходили мальчики, молча, без обычных шуточек. Глядели на санькино темное лицо, белый оскал и вздыбленные желваки. И быстро взглядывали на королеву, которая, не обращая внимания на выкрики и не глядя на Саньку, снова становилась на дорожку.
— Еще две попытки, — сказала лучшая подруга Натки, толстенькая Эмма, с вечным освобождением от физкультуры, она потела на лавочке в шерстяном платье. И нервно хихикнула.
Натка на дорожке согнула локти и сжала кулаки. Чуть пригнулась, неотрывно глядя на перекладину.
— Что теперь, снова наебнешься? — когда Санька кричал, лицо его вытягивалось по-волчьи вперед и, кажется, еще темнело под летним загаром.
— У нее еще две попытки, — крикнула Эмма.
— Да пошла ты!
— Сам пошел!
Натка медленно побежала и Эмма тут же замолчала.
Лека открыла рот, не отрывая глаз от бегущей. Сколько будет жить, знала она, столько будет помнить это ледяное лицо и глаза, похожие на две морских гальки под полуприкрытыми веками, такие же блестящие и холодные, неживые. Согнутые локти перед красной футболкой и круглую крепкую грудь. Ноги. Одна и другая, поочередно, вытягиваясь и показывая напряженные мышцы, и звук шагов по хрустящей черно-лиловой крошке. Натка бежала и Лека понимала — не перепрыгнет. И сама Натка знала это. Но откидывая маленький подбородок, сверкнув крошечными золотыми сережками, снова чуть развернулась и закинула вверх ногу, вторую. Упала на бок, вминаясь в ласковую кожу мата, блестящего радостно, как улыбка дурака. Тихо извиняясь, зазвенела, падая на девочку, перекладина.
Встав, Натка отшвырнула ее ногой и пошла обратно, при каждом упругом шаге сжимая и разжимая маленькие кулаки.
Пацаны, тихо переговариваясь и хихикая, установили планку чуть выше, подчиняясь резким командам Саньки. Уже все бросили мяч и встали за его спиной, одновременно поворачивая головы, когда он, продолжая глумиться, тыкал в сторону любимой руку с пальцами, свернутыми в похабных жестах. А девочки собрались с другой стороны, скучились на деревянной лавке, снизу вверх глядя на одиноко стоящую обок дорожки Натку.
Тяжело дыша, она дождалась, когда Санька снова пробежал по дорожке, медленно, лениво, с большим запасом задирая красивые ноги, перепрыгнул дрожащую планку. И кланяясь, прихватывая себя растопыренной ладонью за пах, делая те же похабные жесты, которыми другие сопровождали насмешки над смертными, над Лёкой, Эмкой, шклявой Аленой, прыщавой Танюхой, сестрами-мартышками Зитой и Гитой, все орал и орал матерные слова, волчьи вытягивая морду-лицо.
— Наташа, опустить? — крикнула Алена, держа рукой конец поднятой для Саньки перекладины.
— Нет.
Натка рванулась вперед.
Лека закрыла глаза. Шаги прохрустели рядом и удалились. Шлепок. Тихий звон планки. Взрыв Санькиных криков. Лека вздохнула с облегчением. Три попытки. И вот — от школы прозвенел, наконец, звонок. А урок последний. Можно уйти, и сделать вид, что не было ничего, начать потихоньку отодвигать во времени, ну мало ли, с кем не бывает, через полчаса это уже будет полчаса назад. А завтра вообще — вчера. И Санька успокоится, что же она такое ему сделала или сказала, что он мучается так…
Приподнимаясь, она открыла глаза. Звонок заливался, тарахтел издалека, белое здание школы зажужжало ульем, наполнилось смутным топотом и вот уже выкрики проклюнулись наружу, в жаркий по-летнему полудень.
Натка снова стояла на дорожке. Смотрела только на перекладину. И снова пригнулась, готовясь бежать.
— Что блядь, мало припозорилась? — крик Саньки был похож на стон. На миг замолкнув, он снова заорал, выташнивая из себя натужную матерщину, и голос, сперва хриплый, становился звонче, быстрее, слова сами низались одно на другое, выскакивая и шлепаясь на дорожку и выгоревшую траву.
— Сука блядь, шалава, коза драная, выблядка толстожопая…
Никто не ушел. И Лёка покорно села рядом с сопящей и ахающей Эмкой, которая шепотом бессильно и зло материла орущего Середкина.
А Натка прыгала. С остановившимся лицом, сжав кулаки и сведя губы в линию, тонкую как край бумажного листа, бежала, красивая до невозможности, высоко поднимая колени, мелькая подошвами стареньких кедов, белыми, с прилипшими к ним колючими крошками. За откинутой головой ветер трепал гриву соломенных волос. Прыгала и волосы вскидывались над прямыми плечами, над нахмуренным лбом. Падала на блестящее черное мягкое. И планка, звеня и снова извиняясь, слетала и падала сверху.
Санька, отпрыгав свои три попытки, встал перед небольшой толпой мальчишек, скрестив руки, поворачивал голову вслед Натке и комментировал, язвил, насмехался. Потом сказал севшим голосом.
— Ладно, пошли отсюда, пацаны.
Развернулся, как в танце. И глядя на темное лицо, вывернутое наизнанку чем-то, о чем только догадываться, Лёка влюбилась в чужие страсти. В него и в Натку Семиступову, у которой, несмотря на мать — начальницу отдела кадров, чулки вечно зашиты и не по одному разу, а на платье даже заштопан локоть, еле заметно, очень аккуратно. Влюбилась в сопящую Эмку, при каждом падении подруги комкающую край подола и шепотом проговаривающую самые похабные слова, а знала их Эмка много. И даже в Леху Посельского, классически рыжего и веснушчатого распиздяя из десятого Б, которого любила Натка, королева, безнадежно и беззаветно. Никому и никогда не говоря о своей любви.
А что говорить, о ней и так все знали.
— Пойдем, — решительно сказала Эмка, встала и потянула лёкину руку своей, горячей и влажной, — пойдем, заебала, хай прыгает.
Лёка огляделась, вставая.
Все ушли. Ушла Гелена, прижимая локтем к крутому боку красный журнал и смеясь ужимкам трудовика. И все девчонки исчезли тоже.
Остались только они с Эмкой на лавочке. И Натка на беговой дорожке. Тяжело дыша, она вытерла ладонью мокрую щеку, сплюнула на траву и пригнулась, готовясь. На девочек не смотрела.
Лека отняла руку и кивнула.
Вместе с Эмкой они медленно пошли к боковому входу в раздевалку.
— Видеть не могу, — ворчала Эмка, схватив Лёку под локоть и прижимаясь к ее руке пышной грудью, тупала короткими толстыми ножками, — жалко ее. Ведь не перепрыгнет. А если даже, то ушел ведь, не узнает, ка-азел. Тебе жалко жеж ее, да?
Лека улыбнулась. Позади зазвенела упавшая планка.
— Нет. Не жалко.
Там, посреди дрожащего нагретого воздуха, на фоне качающихся метелок камышей — прыгала королева. Которая всех победила.
ИЗ ОКНА
А лучше всего были волосы — так красиво, когда вывернулась из машины, отражаясь в черном лаке белым коротким плащиком, побежала, мелькая блестящими колготками. Навстречу, навстречу, ближе, ближе и вот…
Он ждал, разводя руки, смеясь. Когда ткнулась ему в грудь лицом, обхватил бережно и эдак, для всех, кто смотрел — поддержав под гибкую спину, перегнул, поцеловал долго и сладко. А волосы свесились до самого асфальта. Темно-рыжие, великолепные, живые, будто сами по себе.
Света, глядя сверху в окно, машинально тронула свои — темные, аккуратно стриженые под японскую девочку прямые блестящие пряди. У нее раньше тоже были такие — рыжие, только светлее, перевязывала зеленой лентой, сама придумала, прочитала в журнале, что к рыжему нужно зеленое. Нашла в старом чемодане мамино недошитое платье, посмотрела на него полсекунды, и отрезала от подола полосу. И сколько носила потом, столько бабка кляла вдогон — одними и теми же словами.
— Ах ты, стервь паршивая! Тебе, что ль, отец вез? Тебе? По году по заграницам, лишь бы вы тута наряжались! Тьху!
Света смеялась, громко. Чтоб бабка не поняла, — обидно про стервь. Уходила, нарочно потряхивая светлой гривой, стянутой по лбу и вискам переливчатой изумрудной лентой из лас-пальмасского бархата.
— О! — сказала за спиной Маленькая Катерина — жена босса, отпихнула Свету, как всегда пощекотав подмышками, как младенца. И уставилась в окно на сквер, расчерченный прямыми дорожками.
— Это его новая. Третья. Или — четвертая?
Оглянулась и закричала мужу:
— Романчик! А эта рыжая, она какая по счету?
— Да бес ее знает.
Роман Петрович размахнулся и ударил молотком по костылю в стене. Посыпалась известка, пыльным снежком припорашивая ступени стремянки. Маленькая Катерина устремилась к мужу, протягивая ржавый наган с висящим на нем ярлычком.
— Романчик, ну глянь, какой пиздалет! Ну, пусть же лежит в первой витрине! Будет красиво! Во!
Роман Петрович закатил глаза и сказал с терпеливым упреком:
— Катя… Не в красоте дело.
Внизу пара, обнявшись, медленно пересекала сквер по центральной дорожке. Рыжая девочка по-жирафьи бережно ставила высокие каблуки, приноравливаясь к мужской походке. И на нем плащ, усмехнулась Света, отходя от окна. Как в кино, длинный, модный, распахнут, полы развеваются.
Он всегда любил красиво одеться.
— Четвертая, — сказала тихо, сама себе, укладывая в плоскую витрину истертые солдатские треугольники писем.
Первая была не красива. Наверное, потому что и он тогда красавцем не был. Слишком молод.
— Я женился, когда в армию забирали, так что была у меня одна мартышка, сейчас вот две. Дочке восемь уже.
Они лежали на сбитых скомканных простынях, и Света все тащила на голый живот белый краешек. Стеснялась, грудь маленькая такая, и вообще. А он смеялся и стаскивал.
— Жарко ведь, убери. Чего стремаешься, меня про тебя уже спрашивали, а что за статуэточка к тебе на Ленте подходила. Я сказал, соседка. Сказал, не замайте, она еще дитё.
— А ты ее любишь?
Он свесился с кровати, достал запотевший высокий стакан с белым вином, сунул ей в руки.
— Кого? Эльку?
— Да.
— Не твое дело. Эх. Жарко. Надо на море ехать. Ты как, с нами?
Света отпила глоточек. Вино отдало холод стакану, стало теплым и невкусным.
— У меня вторая смена. Мне уже собираться надо.
— Ну ладно. Довезем.
Он поцеловал ей живот, боднул головой, щекочась колючими темными волосами на висках. И вскочил, потягиваясь и хлопая себя по мускулистым ляжкам. Прошелся по старому ковру, загорелый, большой, с длинными чуть обезьяньими руками. Открыл дверь и крикнул в коридорчик.
— Сашок! Звони блядям, поехали на маяк. Скупнемся.
Света, сидя на постели, дернула к себе простыню, вспотевшими руками прижала ее к животу, слушая приближающиеся шаги. Спросила севшим голосом:
— Он что? Он тут был? Все время?
— Угу. Ты когда прибежала, я его в кухню отправил. Журнальчики посмотреть. Наверное, удачно посмотрел, пока мы тут с тобой.
И захохотал, над ней, над ее мгновенно покрасневшим лицом и полными слез глазами.
— Сашок, не входи. Свет-свет тебя боится! Ну, ты чего, щенчик? Ну? Ну?
Присев рядом, улыбался, вытирал с красных щек сердитые слезы и, нашарив ее смятые тряпочки — трусики, сарафан, сунул на голые колени.
— Давай, пока Сашка машину заводит, в темпе вальса.
Спускаясь за ней по грязной лестнице, сказал озабоченно:
— Сядешь сзади, чтоб тебя в его машине не видели, поняла? Нечего гусей дразнить.
Когда высадили ее у проходной, выскочил из блестящей сашкиной лады следом, огляделся. Вокруг тянулись беленые заборы — цех был дальний, и автобус только что ушел, выгрузив партию эмалировщиц и художников в цех деколи. Оскалился, облапив ее, прижал к себе и, поднимая на сильных руках, закружил, целуя в лицо и глаза.
— Не обижайся, щенчик. Ты ж знала, я говорил. У меня такая вот жизнь. Завтра придешь?
— Не знаю. Пусти, — мрачно ответила она, вися и вырываясь, впрочем не сильно.
— Позвони сперва. А то мало ли.
Саша сидел за рулем, выставив белый жирный локоть. Усмехался, стараясь, чтоб цинично. Но получалось — с мелкой завистью. Света вспомнила, как он попробовал к ней подкатиться, когда сидели на песке, у костра, ели мидии. Тронул за ногу, перебирая пальцами от щиколотки выше и выше. И она, поглядев на Петра, дождалась, когда рука ляжет на бедро и сказала внятно, прервав рассказываемый Петром анекдот:
— Руку убери. Не твое.
Петр замолчал. Посмотрел на краснеющего Сашу и опять захохотал, по своей привычке хлопая себя по бедру сильной ладонью.
— Светильда! — закричала над самым ухом Маленькая Катерина и Света уронила гильзу. Та запрыгала по полу, стуча.
— Ну, скажи ты ему! Смотри, какой пиздалет! А он не хочет, говорит попса и спекуляция! Он тебя послушает, ты же разумница у нас!
Света подняла гильзу, пачкая руки в ржавчине. В ответ на ее взгляд Роман Петрович снова закатил холодные серые глаза, улыбаясь тонкими губами. Сорокалетняя Катерина была старше мужа на пять лет, шумно опекала и преклонялась. Одновременно.
— Катя, он, и правда, в центральной витрине не нужен. Вот сюда его хорошо, в угол. Чтоб когда человек наклоняется, рассмотреть письмо, а тут незаметно так, просто лежит. Будто из кобуры.
— Из кобуры! — закричала Катерина, — ты слышишь, Романчик? Ну что бы ты делал без нашей Светильды? Сплошная разумность и спокойствие! Не то, что мы, пропойцы. Ладно, вот вам пиздалет, а я к девкам, мы там обмываем нового научного сотрудника.
Маленькая Катерина снова сунула накрашенные ноготки Свете подмышки, пощекотала, как ребенка, и деловитым шагом направилась к выходу из зала.
Роман Петрович, наконец, спустился со стремянки и, тряпкой вытирая холеные руки с длинными пальцами, подошел к окну.
— На совещание собрались. К «Папе». Машины все подъезжают.
Девочки столпились рядом, что-то спрашивая, ахая и хихикая. Света подошла тоже.
Внизу Петр усаживал в машину свою четвертую. Поправил ей белый плащик. Наклонился, сунувшись внутрь, стоял смешно, видимо целовались.
— Мама рассказывала, ей восемнадцать всего, — доложила Маша, — говорила, та-а-кая свадьба была, сняли весь «Меридиан» на три дня! А потом еще по проливу на яхтах катались, все гости. Наперегонки!
— Ой. Это ж он ее старше, на сколько? — озадачилась Наталья, тараща синие глаза и пылая нежными щеками, — он ей, как папа же!
— Сорок два ему сейчас, — сказала Света из глубины комнаты, не заботясь, услышат или нет.
Она тогда была на год младше четвертой. А Петр был старше на двенадцать лет. Сам сказал, в первый же вечер.
— Мне, щенчик, двадцать девять. Я уже большой дядька.
Она пожала плечами, стараясь выглядеть взрослой.
— Я думала младше. Выглядишь на… двадцать восемь.
Он тогда отступил и повернул ее лицом к фонарю, рассматривая с демонстративным восхищением.
— Ого, как шутишь! Я думал — ребенок совсем.
— Я и есть ребенок. Но умненькая и развитая девочка. Так все говорят.
Он подошел вплотную, облапил ее длинными руками и мягко прижал к себе, втянул воздух над рыжей копной волос, будто цветок нюхал.
— Ты еще и прелестная девочка неимоверно! Этого тебе не говорили? Нет?
— Нет.
— Никто?
— Никто, — сказала она ему в широкую грудь. И поверила. Потому что знала — он не врет, так и есть.
— Вот это письмо положите наверх, Светлана, — Роман Петрович подошел неслышно, но она знала, что он за спиной, по запаху дорогого, очень хорошего одеколона. Это она ему посоветовала, именно его купить. Катерина принесла целую сумку, согнала всех лаборанток и девочек-экскурсоводов, велела нюхать и высказываться. Потому что у Романчика день рождения и надо! Нюхали, ахали, рассуждали о брендах и фирмах. Света тогда отставила длинный флакон, похожий на мужскую фигуру с узкими бедрами и широкими плечами.
— Этот.
— Светильда, у тебя что гайморит, что ли! — закричала Катерина, морщась, — он же воняет. Как. Как я не знаю что! Почему этот-то?
— У меня на него стоит, — не краснея, ответила Света и посмотрела на шефа. Покраснел он. А после дня рождения пришел на работу в новой рубашке, с новыми часами. И с запахом, выбранным Светой. Так до сих пор и пользует его. И ведь не соврала, подумала Света, развеселясь, действительно запах такой, что голову теряешь.
— Вы читали? Вот это письмо?
— Нет.
Роман Петрович оглянулся и махнул рукой, подзывая сотрудниц. Когда столпились вокруг непокрытой витрины и замолчали, прочитал, выделяя слова хорошо поставленным баритоном.
— «А если, милая моя жена Настасия, вдруг случится страшное и подлые звери-фашисты снасилуют тебя, лишая твоей женской чести, то лучше умри, чем дальше жить в таком позоре с нашими детками Танечкой и Витюшей. С тем прощаюсь с тобой, до самой победы, любящий тебя твой муж Николай»
В коридоре слышался голос директрисы галереи, она шла в зал, останавливаясь и милостиво беседуя со старыми смотрительницами. Фраза-другая и медленный хозяйский стук каблуков, отдающийся в пустоте крашеных стен и натертого паркета.
За окнами порыкивали автомобили, разъезжаясь от сквера, заполненного можжевельниками и барбарисом.
— Ничего себе, — возмутилась Наталья, — какой козел! Тебя значит изнасилуют и ты тут же и умри! Лишь бы ему не позорно было!
Возмущенно крича, девчонки замахали руками, соглашаясь. Роман Петрович взял другое письмо, улыбнулся.
— Вот еще. «Тата, дорогая, если же будут вас вербовать на работу в Германию, сразу же соглашайтесь. И ты и мама. Это единственный способ вырваться. И не думай ради Бога, не сомневайся! А то я тебя знаю. Бабушке и дедушке привет, надеюсь, свидимся. Лариса»
Держа в руках желтый листок, Роман Петрович оглядел сотрудниц.
— Ничего себе, — растерянно сказала все та же Наталья.
Он посмотрел на Свету. Она кивнула.
— Их рядом хорошо положить, чтоб одно чуть перекрывало другое, но чтоб видны оба.
— Я так и хотел.
Девочки, переговариваясь, разошлись по углам, вешать, раскладывать, протирать стекла.
Света расправила обгоревшую ленточку от бескозырки, положила ее на плоскую поверхность, затянутую шинельным сукном. Как хорошо, что сукно старое, побитое молью, очень удачно на нем смотрятся письма… Милая жена Настасия… Тата, дорогая…
Болтая и смеясь, девчонки разбирали сумки и торопились на выход. Коридор полнился стуком каблучков и возгласами. Света протирала укрепленные в витринах над письмами стекла. Не торопилась. Роман Петрович стоял в центре зала, оглядывая выставку.
— Кажется, хорошо получилось. А, Светлана?
— Очень хорошо. Вы большой молодец, Роман Петрович, — с искренним восхищением сказала.
В углах зальчика молча стояли огромные снарядные гильзы, в одной, среди разорванных кусков старого железа, клонились в стороны колосья и красные живые маки. Висели по стенам плакаты, на которых мужчины со свирепыми одухотворенными лицами били и гнали врага.
— Вы идете? — Роман Петрович положил на табурет полотенце, придирчиво оглядывая ладони и пальцы, сколупнул налипшие кляксы клея.
Света смотрела в окно. Там Петр, смеясь, как он умел, запрокидывая красивую голову с хорошо подстриженными темными волосами, прощался с «папой». Керзон, и тоже в плаще. Падает с узких плеч, а голова торчит из воротника, как указательный палец из дырявой перчатки. Однажды он провожал ее с дискотеки, шел рядом молча и у подъезда взял ее руку чуть влажными пальцами, склонился и поцеловал торжественно. Света тогда чуть не присела в реверансе от неожиданности. У него уже тогда были жидкие волосы, облепившие узкую голову. Но тонкое лицо с красивыми чертами, большие глаза, сумрачные. На следующий день Петр наорал на нее, ходил по комнате, полосатый от света, падающего через старую портьеру, как тигр в клетке.
— Даже не думай, с ним! Он девчонок кадрит, потом продает зекам откинувшимся, поняла? А такое ты глянь, тоже мне, ручки целует.
Света лежала на боку, натянув на себя простыню, следила, как ходит туда-сюда, и тени ползут по мускулистой спине.
— Тебя послушать, так все, прямо, свиньи!
— Да, свиньи!
— И ты?
— Я?
Он остановился, осмотрел себя, оглаживая по голой груди. Улыбнулся, как мальчик, испорченный, знающий, не накажут. Присел на пол и потащил ее на себя, свалил, путаясь в простыне.
— И я. Конечно. А ты сегодня на Олю Курочку похожа. Знаешь, как она трахалась, м-м-м-м… Я ее забыть не могу.
— Ты ее любил? Пусти. Любил?
— Наверное. Да подожди!
— А меня?
— Что?
— Ну, если она на меня похожа. Ты меня тоже любишь?
— Не она на тебя. А ты на нее.
Он ответил на вопрос через три месяца. Когда привез ее в ресторан и, оставив за столиком, куда-то ушел. А она сидела одна, среди шума, смеха и оценивающих взглядов. И вдруг увидела, стоит у другого стола, с мужчиной, лет сорока, темным с лица, мрачным. Говорит ему что-то, встряхивая руками, и вдруг оба оглянулись, на нее. И темный, не отводя глаз, общупал взглядом, всю, от копны светло-рыжих волос до положенных на стол рук с серебряным колечком на безымянном пальце. И кивнул, соглашаясь.
Когда отвернулись, о чем-то договаривая, она тихо встала. Взяла потной рукой сумочку, и, криво улыбаясь жадным мужским взглядам, прошла между столов, ни разу не оглянувшись. Шла к выходу, музыка орала, толкая в спину. И внутри все от ужаса леденело, комкаясь и сваливаясь вниз живота, промораживая непослушные ноги.
На работу не вышла, уволилась по телефону, выслушав крики старшей про статью и наказания. Месяц не подходила к телефону. А после уехала на полгода к тетке, поступала и провалилась. Вернулась. Пришлось.
— Светлана, вы идете? Мне еще Катю забирать, они там опять нагрузились, всем отделом.
Внизу шофер открыл дверцу машины, вдернулась внутрь пола дорогого плаща. Черный джип потыкался в бордюр, сминая ветки барбариса. Уехал.
— Да, Роман Петрович. Идемте.
Через год Петра убили. Он выходил из своего офиса, свеженького, только отремонтированного, на первом этаже красивого дома с белыми колоннами. Шел к машине, расстреляли в упор, в клочья изорвав очередной плащ, длинный, светлый, что он носил нараспашку.
Маша передавала мамины рассказы о том, что четвертая была диво как хороша, бледненькая, вся в черном кружеве и с черной бархатной лентой на бронзовых волосах. С маленькой дочкой.
— Весь «Меридиан» сняли, прикиньте, девки! Полгорода там было!
ВИНОГРАД
Все частные дома были похожи, видно строились по одному утвержденному плану, и потому — два высоких окна смотрели на прохожих через зеленый или синий штакетник, рябящий меж толстых, сложенных из «камушка» (пиленого известняка) тумб, похожих на квадратных белых медведей. Ворота, тоже зеленые или синие, имели в себе отдельную дверь, чтоб не открывать их всякий раз для человека. Но чаще — без ворот. Личных автомобилей тогда было меньше, намного. Так что — высокая калитка и кнопочка звонка на побелке тумбы. Звонок тоже не у всех и это всегда меня мучило. Потому что, приходя к подружке, нужно было высматривать через копья штакетника, а есть ли кто во дворе, и хорошо, если этот кто — был. Или кричать что-то, в надежде, что услышат в доме, через непрерывный гул телевизора. А что кричать? Я даже в магазин зайти не могла, если от холода и ветра дверь внутрь была прикрыта. Все представляла себе, как подхожу, дергаю ручку, а вдруг закрыто и мне придется обратно, на глазах у всех. — Грузчиков, выпивающих на бетонных блоках в траве, бабок на дальней лавочке, — да все припали к окнам и из-за занавесок следят, ухмыляясь за моим топтанием у закрытой двери! Тогда я приходила домой, неся в кулаке зажатую мелочь на хлеб, и врала, что в магазине обед, а мама удивлялась, — переучет, что ли, у них…
Однажды на вранье меня поймала бабка, схватила потную руку с мелочью своей огромной ладонью и потащила через дорогу, к закрытой двери магазина. Рванула ее на себя и повернулась, обдав черной ненавистью в глазах.
— Уу, идиотка, — прошипела почти без голоса. И ярость смяла в глубокие морщины большое лицо с бульдожьими брылами. Она ненавидела меня так, будто я взрослая, а она беспомощна передо мной. Сейчас понимаю, да, беспомощна. Потому что я существовала, и этого уже не отменить. Разве что через убийство, но это нельзя; и волевая старуха, вырастившая троих сыновей без погибшего на войне мужа, построившая сама дом вместо сгоревшего от спички, запаленной моим папой в четыре года, она, умеющая все преодолеть, — ничего не могла сделать с тем, что я была — младшая дочь ее самого младшего сына. Это корежило. Я читала это на большом яростном лице и боялась ее до немоты.
Так что, стоя у чужих ворот, я всегда думала, ну что кричать-то? Подружку по имени? И снова что-то внутри отбегало, показывая со стороны меня — маленькую, с набитым портфелем, у высокой калитки, с которой к осени отваливаются стрелки краски с острейшими концами, открывая серое дерево под ней. И все соседи в огородах и на летних кухнях поднимают головы, слушая:
— Ооооляааа…
Кричать «тетя Людаааа» или «дядя Мишааа» — лучше убейте, думала я, и снова:
— Оооляаа!..
Наконец, хлопала в доме дверь, распахивалась дверь на застекленной веранде и выбегала Олька — тощенькая, как олененок, с такими же большими темными глазами. Моталась по плечу растрепанная темная коса. Улыбаясь и кивая, совала ноги в огромные тапки и шаркала, теряя их и прыгая на одной ноге по трем ступенькам крыльца. А я с покоем в душе смотрела на нее через частокол синих штакетин. Все хорошо…
Над асфальтированным двором плелась по железным прутьям виноградная зелень, гроздья свисали над нашими головами. На небольшой веранде стол под старой клеенкой в клетку был загроможден кастрюлями и банками — время закаток. Олька отбирала у меня портфель и совала его в дальний угол на стул. Трехлитровые банки стояли вверх дном и внутри в желтом и красном сиропе, просвеченном солнцем, оседали горками алыча и персики. Через открытую форточку со стороны летней кухни плыла сладость, будто и там, на заднем дворе за домом — вместо воздуха ранней осени — алычовый сироп.
— Компоту хочешь?
— Покорми ее лучше, — выглядывая из комнат, улыбалась Олькина мама, похожая на оленуху, с такими же, как у дочери, влажными, чуть раскосыми глазами, и здоровалась:
— Здравствуй, Лёшенька!
Называя так, как прозвал меня папа. И была очень красивой, но я сейчас думаю, не такой красивой, как потом выросла ее дочь.
Но есть было некогда, потому что в частных домах не перекусывали и не перехватывали, тут наливали тарелку борща, громоздили на другую горку картофельного пюре с мясом и овощным салатом из банки прошлого года, что всегда назывался «сотэ», а уж имел ли отношение к настоящему соте — да кто его знает, но очень вкусно, и от кислоты сводило скулы. Ставили высокий стакан — бокал, или фужер желтого или синего стекла. Почему-то гостям в частных домах обязательно наливали компот в эти копеечные, важные с виду «бокалы», у нас дома таких не водилось.
Мы пили теплый компот, остатки того, что не вошел в приготовленные бабушкой банки. Я сидела на табуретке, застеленной круглой сидушкой, связанной крючком из длинных тряпичных полосок (много лет спустя видела такие в модных журналах, брошенные на беленые выступы-лежанки — мексиканский стиль). Разглядывала ромбики стекол в окошках веранды. Они очень волновали меня, эти маленькие, размером с книгу, стекла. Ведь это, как в сказке, можно поставить — цветные, и они будут бросать на полы и клеенку прозрачные квадраты синей и розовой тени. Однажды я видела такие стеклышки, проходя мимо чужого домика. С тех пор волновалась, примеряя их ко всем знакомым верандам.
И шли во двор, к сарайчику, у которого торчала из круглой земляной дырки в асфальте черная перекрученная виноградная лоза. Это она заплетала все небо меж домом, сараем и забором. И она свешивала над нами, на уровне лиц взрослых, сизые гронки изабеллы, протяни руку, отщипни и в рот. «Специально не опрыскивали» — смеялась тетя Люда, сламывая кисти в эмалированную миску. А дядя Миша пытался поймать ртом виноградину с висящей гронки, но ягоды сидели так плотно, что та уворачивалась и мазала его по лицу. Мы смеялись и он смеялся тоже — высокий, с русыми, плотно вьющимися стрижеными волосами и жестким красивым лицом. Они были — не местные. Тетя Люда врач, а дядя Миша, тоже, но он — нарколог. Приехали из Осетии, и как шепотом рассказала одноклассница (мы тогда были в четвертом):
— Выгнали его, поняла? За то, что он сам, ну, этот. Которых он лечит!
Они были так красивы и счастливы в залитом солнцем дворе под виноградной беседкой. И дядя Миша не пил, смешно ухаживал за тетей Людой, целуя ей руку, и маленькая чернявая бабушка любила нас с Олькой одинаково, а старший брат Вадик никогда не дрался с сестрой и не дразнил ее, а даже защищал, что было удивительно для нас, местных. Потому что, ну, кто такая младшая сестра, фу, пацанка, мелочь, лучше сделать вид, что нет ее. И было у Ольки пианино, светло-коричневое, с нотами на крышке. Когда я просила, она морщилась, но послушно садилась и, раздав в стороны тощие руки, ставила длинные взрослые пальцы, как надо, опускала их на блестящие клавиши.
— Тада-дада-дада, та. Да-да-да-да-а. Та-дадада, та-дадада…
Отыгрывала «К Элизе» и мы шли к сарайчику. Там, под навесом, на отдельном маленьком столе было наше, девочковое. И взрослые никогда не трогали коробочек с бусинами, жестяных банок с фантиками, затрепанных тетрадей с карандашами, перетянутыми резинкой, и кукольной мебели.
Так что я не поверила однокласснице про «выгнали» и про то, что дядя Миша — виноват.
МИДИИ ПО-КЕРЧЕНСКИ
Алевтина приехала с таким фарфоровым лицом, что я, разговаривая, все присматривалась, удивляясь. На светлой коже раньше полыхал румянец во все щеки, из-за которого тринадцатилетняя Алька меня изрядно насмешила когда-то.
— Я знаю, — похоронным голосом сказала она, покачивая раздутым ранцем с обрезанными лямками (на спине мы их не носили, не дети, а модные в те времена дипломаты появились у нас только в классе девятом), — я знаю… У меня диабет!
— Алька, какой диабет, ты что?
— Видишь, — ткнула себя длинным пальцем в щеку, заставив нежную розу заполыхать, — а? Я вчера прочитала, бывает «диабетический румянец».
— Да ну тебя, — успокоилась я, что Алька не умрет, оставив меня без подруги.
И вот мы снова в насмерть знакомой кухне блочной пятиэтажки, из окна которой виден автовокзал с древним курганом в центре. И я вспоминаю, как пятнадцатилетняя Алька, спохватываясь, бежала из кухни, суя ноги в босоножки-стукалки, хлопала дверью, крича из коридора:
— Сиди, я щас, за хлебом!
Я сидела за кухонным столом, смотрела в окно, как она, резко отмахивая одной рукой, а другой по-дамски прижимая к боку старую кошелку, проходит далеко внизу. И вечный керченский ветер путает каштановые волосы.
Сейчас она блондинка и волосы по цвету ничем не отличаются от лица. Только карие глаза светят неспокойным блеском, да горят накусанные губы. В этом она не изменилась, хотя слишком лихорадочен блеск и слишком часто прикусывает она нижнюю губу.
— Ну, расскажи, как ты там, на северах?
— Андрюшик, — зовет она вместо ответа и, вытерев нос трехлетнему белобрысенькому мальчику, подталкивает снова в комнату.
— Иди, поиграй, мама разговаривает.
Теперь она смотрит в окно, так же, как когда-то смотрела вниз я, наваливаясь боком на край пластикового стола. Понукаемая молчанием, неохотно говорит:
— Ну как, как. Нормально. Сашка директор дома быта сейчас. Фотографом он там еще.
— Ого! А чего не приехал с вами?
— Работы много.
Она замолкает. Слышно, как оскальзываются по жести балконного навеса голуби. Будто те же самые, что и десять лет назад. И вдруг поднимает голову. У нее такой взгляд, будто там, в Омске или Томске, я все путала, куда же увез ее огромный медлительный Сашка, с ней что-то очень сильно не так.
— Лёк, а катер на косу ходит?
— Да, лето же. Ходит.
— Слушай! А давай завтра, вместе, туда! Покупаемся?
Говорит это, как хватается за веревку или спасательный круг. И глаз не отводит, поправляя пальцами с алым маникюром белую прядь на фарфоровой щеке. Я смотрю вглубь коридора, там ее сын методично возит игрушечный трактор, туда-сюда. Наверное, в папу. Точно — в папу.
— А малые?
— Берем их!
— Аль, не знаю… Мой-то, ему пять уже, и загореть успел. А вы белые, как смерть.
— Не хочу я его с матерью оставлять. На полдня, ну, Лёка, давай!
Она сидит напротив, моя сердечная подружка, с которой влюблялись в одних и тех же мальчиков на дискотеке, пили сухое вино из бутылки, запрятанной в подвале в трубу, и одалживали друг другу платья и кофточки — поносить. Смотрит, будто я должна ее спасти.
За окном пятого этажа ярится ветер, такой же белый, как новые алькины волосы, только весь состоящий из летней радости.
— Поехали, — говорю.
И на следующий день мы с мальчиками и сумками, из которых торчат горлышки бутылок с холодным компотом, сидим на корме старого катера, на жесткой скамье из деревянных планок. Алька держит в кулаке натянутый подол андрюшкиной футболки и вертит головой, поедая глазами все вокруг.
— А помнишь, мы босиком бежали, опаздывали, а причал железный, горячий, как сковородка?
— Бежим, орем, береговые смеются. Пальцами показывают.
Алька хохочет и отпускает футболку, прикладывая пальцы к нижним векам, по привычке. Она всегда смеялась до слез, и боялась — тушь потечет. Туши сейчас нет, но глаза мокрые.
— На катере нас Витька ждал, да? Махал рукой, то нам, то в рубку, рулевому, чтоб подо-жда-ал дур!
— Не Витька, Санька!
— Длинный такой, да? Ходил все время в вельветовых штанах, драных, и рубашке с розами.
— Ага. Он. Еще нам дал порулить, помнишь?
— Это, когда я крутила, а ты кричала, что след виляет? За нами который: «пена-пена неправильная!»
— Ты та-акой капитан прям была. Отдавать штурвал не хотела. Кричала «моё колесо!»
— Угу, а Санька за голову схватился и тоже кричал, что его с работы, из-за нас.
— А сам виноват, чего разрешил-то.
— Ну, он же не знал, с кем связался.
Она вскакивает и, лавируя среди пассажиров, сидящих яркими кучами одежд и сумок, успевает зацепить сына за подол у ступеней трапа, ведущего в салон. Снизу показывается голова Тимки, он находит меня глазами и, успокоенный, скрывается в люке. Пока он там, в салоне, я тоже спокойна. Алька возвращается, таща сына за вытянутый край футболки. Андрюшка упирается, методично цепляясь за чужие баулы, и заунывно воет себе под нос.
— Подожди, сынок, мама разговаривает, — машинально реагирует Алька. И снова поворачивается ко мне, убирая с лица перепутанные ветром волосы:
— А Виталика ты видишь?
Перед именем делает еле заметную паузу. Мне не надо уточнять, что за Виталик. Влюблены были обе, в шестнадцать лет. У меня прошло быстро, потом в городе здоровались, кивали друг другу.
— Он в рейсы ходит. После института. Привез жену, Лена зовут. Ничего так девочка, спортивная такая.
Спортивные девочки, с крошечными попками и длинными загорелыми ногами, меня болезненно волнуют. Уж очень, как мне кажется, велика разница между моими плавными округлостями и их мелькающей, такой недостижимой худобой. Алька тоже худая, но у нее при длинных модельных ногах очень широкие бедра и потому кажется, что талия шире, чем на самом деле, и не похудеешь ее, разве что кости обтесать.
— А, — равнодушно говорит она на новости о Виталике, и нагибается через железные перила, посмотреть, как заворачивает вода белое кружево по зеленому мармеладу. Очень красиво, движется и движется. Только клетки перил мешают, ложась поверх живого рисунка черной решеткой.
— Говорят, у них не слишком хорошо все…
Мне очень хочется, чтобы Алька улыбалась и трещала, как она умеет. Нет, улыбаться она как раз не умела, сразу смеялась. Икала потом, вытирая пальцами мокрые щеки. Отсмеявшись, делала специальное лицо и пищала дежурную шутку «у меня рожа не в семачках?». Вопрос про рожу и семачки сталкивал нас в новый приступ хохота. А потом надо было уже мне, поддержав ослабевшую подругу под локоток, предупредить, показывая на асфальт «Алевтина Андревна, осторожно, тут, пардон, лужа». Работало всегда…
Скамья давит под коленями. Тимкина голова время от времени показывается над ступенями в салон, катер качает и сбоку налетают горстями брызги. Андрюшик, выкручивая подол, зажатый в алькином кулаке, копается в сумке, вытаскивая свой трактор. Я думаю, может быть, спросить ее сейчас, про семачки, пусть рассмеется. Но боюсь, что она промолчит в ответ. И молчу. Звенит и чирикает солнечный свет, перемешанный с морем, солидно тарахтит двигатель, кричат дети и родители, размахиваясь хлебом в хохочущих чаек. А у меня муж в рейсе, где-то в Италии, придет через два месяца в новых, колом стоящих джинсах, привезет сервизы «Мадонна» и одеяла с тиграми — сдавать в комиссионку. Ну, и мне джинсы привезет. Тимке рубашки и курточки. Пять раз забухает с дружбанами, два раза сводит меня в кафе. Месяц пролежит на диване перед телевизором. И снова в рейсы, на полгода. Я — молодая жена загранщика, с хорошеньким личиком и стройными ногами. Мне завидуют. Похудевшая и очень красивая Алька — жена директора дома быта. Солидно и состоятельно. Я ее потом спрошу, что там не так. Когда пацаны будут купаться…
Сойдя с трапа на узкий пирс острова, Алька прерывисто вздыхает и, оглядываясь, хватает меня за руку.
— Стой!
Я привыкла к алькиным резким движениям и покорно останавливаюсь, пока Тимка тянет другую мою руку — скорее к воде, на песок. Она цепляет на длинноватый точеный нос дымчатые очки и, шипя на сына, стряхивает с ног ажурные босоножки. Вешает их на ремень сумки, — мы так ходили когда-то по городу, босиком. Пальцы на ногах тоже покрашены красным лаком и мне становится неловко, я свои никогда еще не красила. Она замечает взгляд.
— Да, в доме быта, девчонки же знакомые, маникюр-педикюр. Это так, когда работы нет, мы там сами себе.
— Ага, — говорю, но она уже не слышит. Делает первый шаг босой ногой, морщась от мелких камушков под ступнями. Снова вздыхает прерывисто и, наконец, улыбается, чуть-чуть.
Над воротами пансионата вертит руками деревянный морячок-флюгер, шлепают по дорожкам загорелые и красные, обваренные солнцем, люди. Около общей кухни кто-то чистит кастрюлю пучком травы. И мы переглядываемся на ходу, обе вспомнив, как нечаянно украли начищенный для чужого борща чеснок, просто взяли, болтая, и бросили в нашу кастрюлю. Потом Алька, сделав ангельское лицо, мешала воняющий чесноком бульон под угрюмым взглядом хозяйки борща.
— К старому причалу?
— Да, там нормально, мелко и…
— Лек, и мидий да? Надерем мидий! И костер!
— Да там же мелочь одна, Аль! Мы же с дитями на баржу не пойдем. Глубоко.
— Пусть мелочь!
Потом мы ходили по пояс в воде, у останков затопленной баржи, той, что лежала у самого берега, высоко, как цапли, поднимая ноги и аккуратно, чтоб не порезаться о рваные края железа, ставили их среди мягких водорослей. Нагибались, шарили руками во взбаламученной течением воде, наощупь находя полуоткрытые, сразу же захлопывающиеся узкие створки. Без ножей и перчаток, не ныряя, а просто — бродя по мелкоте, где раньше стыдно было, что же мы, нормальных мидий не надерем! И забирались мы с ней — и на старую баржу, торчащую в сотне метров от берега, и на сваи заброшенного причала…
Нагибаясь к воде до самого подбородка, Алька замирает, сощурив глаза от солнечных бликов. Только иногда, вытягивая нижнюю губу, делает «пыфф», чтоб улетела с носа легкая челка. И вынимает из воды открученную раковину, блестяшую черным бочком. Повертев гордо, складывает в пакет, привязанный к торчащей ржавой железке. Я стараюсь рядом. Пакет пузырит и потихоньку опускается под воду.
— Эй, барышни! Че лазите, где не надо, а ну напоретесь на железяку?
Жилистый, черный над закатанными штанами, с удочками и армейским вещмешком, дядька, покрикивая, идет мимо, не останавляваясь. И кивает, когда Алька кричит в ответ, как положено.
— Та лана! Нормально все.
— Ну смари…
Что-то сказав и нашим мальчикам, строящим на песке кривую башню, уходит, крепко ставя на песок прокаленные босые ноги.
Костер мы развели в очажке, сложенном из старых закопченых камней, и дырявый железный лист обнаружился в ближайшем кусте лоха. А за спичками сбегал Тимка, попросившись — сам. И я помахала в ответ на вопросительные взгляды семьи, валяющейся на коврике поодаль, все нормально, спички для нас, косу не сожжет.
Огонь был маленький и почти не видный, все у нас было немного игрушечным в тот день, будто детским. Да еще дети рядом. Но большая жара была настоящей, и выцветшее небо стояло перевернутой мытой банкой над узким островом с песчаными ящеричными охвостьями. По-настоящему прыгали вдалеке с края пирса блестящие коричневые люди, и с катера громко кричал в мегафон капитан, настоящий капитан маленького катера по имени «Рейд». Белые алькины ноги были зарыты в настоящий раскаленный песок, пряча в нем алые крашеные ногти.
Когда ракушки на противне, зашипев, раскрывали створки, и стягивалось в комочки на перламутре желтое мясо с коричневой каймой, Алька подтаскивала их к краю, нетерпеливо задирая рукав тонкой рубашки (я силком заставила маму и сына накинуть рубашки от солнца), зубами, чтоб не обжечь губы, хватала горячий комочек и, покатав во рту, жевала. Одну за другой. Изредка совала остывшее мясо сыну, он раскрывал послушно рот, сморщившись, выплевывал на песок, но тут же открывал рот снова. Алька ругалась, жалея «продукт», с упреком качала головой:
— Весь в папу, блин. Все до сэбэ, шо не зъим, то понадкусюю!
Жара становилась сильнее и гуще, стискивала горячий воздух в дрожащее марево, и он колыхался, наколотый на пучки высокой травы. Прозрачная вода поплескивала на желтом песке, и время от времени кто-то из нас вставал, чтоб зайти по пояс и окунуться, смывая пленку зноя с горячей кожи. Полосатая алькина рубашка высыхала на глазах, отлипая от локтей и трепеща на ветру рукавами.
— Аль?
— М-м?
— У вас там с Сашкой-то все в порядке?
Она бросила пустую скорлупку в растущую на песке кучку и сосредоточилась над противнем, выбирая другую. Подцепила палочкой и стала дуть, вертя осторожно, чтоб не уронить.
— Мы с тобой их даже без соли, да? А все равно, вкусно как.
Море сверкало и, чуть правее, далеко за вторым причалом, торчала в воде корма завалившейся старой баржи. Там мы были, с Виталиком и его другом, как же его… Сережа, да. Я с ним поцеловалась, зачем-то. А Виталик все время поддевал Альку, подшучивал, но улыбался так хорошо, что мне было по-хорошему грустно и немножко завидно. А потом она сказала, раз она такая длинная дылда, ну, разве можно встречаться с таким невысоким мальчиком. И влюбляться в него — нет-нет, нельзя. По пятнадцать лет нам с ней было…
— А помнишь, на барже какие мидии были, Лёка, помнишь? Огромные просто! Я раньше таких никогда и не видела. Да и потом… никогда.
Я, обхватив колени руками и устроив подбородок поверх колен, смотрела через ресницы, как блестит мир вокруг. Алька, не переставая шуршать и скрести по противню, вывалила на него последнюю порцию сырых ракушек. И сказала:
— Да все в порядке у нас. Все, что надо — в порядке. Квартира хорошая, денег он приносит. Сына знаешь, как любит, готов, прям, умереть за него.
Швырнула скорлупу, далеко размахнувшись и выворачивая худое запястье. И передразнила мужа:
— Андрюшик, Андрюшик! Иди ко мне, мое золото, иди, мой мужичок!
Будто сам Саша, большой и медлительный, с северными белыми волосами и северной же обстоятельностью, появился и сел у невидимого дневного костра.
— И меня он любит. Говорит, самая красивая. Во всем доме быта.
— Чума…
— Да нет, там, правда, знаешь, какие девахи работают? Все здоровые, длинноногие и глазищи зеленые, серые. Молодые, не рожали еще. Вокруг него прям вьются. А он только на меня смотрит. Говорит, в следующем году квартиру сменяем, на трехкомнатную.
— А ты его?
— Что? А… Люблю, конечно. Я же не поехала бы, Лек, если бы не любила? Да?..
Молчание повисло еще одним маревом над сухой травой. На каленом песке, обернувшись к нам, сидела маленькая серая ящерка, красивая до невозможности. Дышала маленьким горлом.
— Ну-у…
— Слушай, хватит, а?
Она поворошила хворост и подкинула в костер веток. Повертела головой, следя за Андрюшиком. Я сидела, подбородок давил на колени, вспоминала, как Алька и какие-то ее новые подружки, что появились в выпускном классе, убежденно и горячо рассказывали о том, что «из этой дыры — нет-нет, только уезжать, да куда угодно, только бы не тут, а чего тут ловить-то?»
Она всегда была скрытной, моя Алька. То, что ей плохо, я поняла. А от чего — толком понять не могла. Ведь не из-за того, что там нет мидий. И этого солнца, которое везде…Блеска морской воды под криками нахальных чаек.
Молодые и все еще от молодости глупые, отделенные неполным десятком лет от другой, юной глупости, что, уйдя в прошлое, все-таки проросла в этот день, бесцветный и яркий от зноя одновременно.
Алька еще погремела ракушками, через силу сунула в рот последнюю. Отползла от погасшего костра и, складывая руки на груди крестом, легла навзничь, сказав торжественно:
— Вот. Всё.
Немедленно подскочила опять — убедиться, что пацаны не утопли и не испеклись в песке. И снова легла, сохраняя торжественность.
Я сидела, тень моего плеча ложилась на похудевшее красивое лицо, розовое от солнца, на рассыпанные по высокой шее пряди белых волос. И за торжественным спокойствием исполненного желания я вдруг увидела чужой город, весь из длинной зимы и короткого лета, из чужих разговоров и взглядов, большой квартиры, что будет покинута ради еще большей, друзей мужа, приходящих в гости по праздникам.
…Не походить босиком по песку, не нырнуть, перебирая руками по ржавчине старой сваи. Не выскочить на испеченный солнцем балкон, где ходят и ходят тяжелые голуби, царапая когтями тонкую жесть. Те же самые, что десять лет назад.
Не развести маленький костер, на котором — старый железный противень, непременно спрятанный в ближайших кустах. Не поесть мидий.
Такие пустяки…
АКВА ТОФАНА
Лелька посмотрела на него: в лицо, в глаза, на нос, пальцами взяла за подбородок и повернула голову так, чтоб заглянуть в ухо. Максим рассмеялся:
— Проверка-проверка. Штамп поставлен?
— Нет еще.
Встала на цыпочки и прижала губы к его рту. Сказала невнятно, не прерывая поцелуя:
— Штамп стоит, на попе. Не помнишь, утром поставила.
— Я тебя люблю, — он подхватил ее подмышки, приподнял и поставил крепко.
Щелкнул замок, пискнула старая дверь.
— Макс…
Из коридора слышался топот сверху и быстрое «здрасс» соседского мальчишки.
Он рассмеялся снова, с небольшой досадой.
— Ты опять? Все было и прошло, все, поняла?
— Да. Но ты скажи еще раз.
— Никто мне не нужен. Только ты. Я тебя люблю.
— Я тебя люблю, — ответила она замку и пошла в комнату.
Форточка впускала крики и ветер, надувала занавеску. Качалась висящая на потолке подвеска с большими гранеными бусинами и по стенам скакали искры.
Лелька села в продавленное кресло и осмотрелась. Можно покурить, сделать, наконец, обещанный чертеж, снова покурить, посмотреть кино, скачанное месяц назад…Покуривая сигаретку.
Можно сходить погулять. Постоять у поливалок на зеленом газоне, они так здорово делают маленькие радуги, а она все бегом и бегом и каждый раз обещает себе, что придет специально, смотреть. Можно напиться кофе на ночь и долго-долго читать книжку, самую нелепую, из тех, которые Макс терпеть не может. А потом лечь спать на узкой тахте, потому что одна и даже взять и не раздеться, кинуть на себя плед и заснуть, как в смерть. Потому что завтра еще целый день одна. Встать поздно, принести себе кофе в постель, взять лаптоп и болтать там с кем. И после еще придумать что-нибудь.
— Ну, не получилось, в следующие выходные получится.
В носу защекотало и, шмыгнув, она повернулась боком, так, чтоб неудобно сидеть. Работа, срочная, да еще интервью это. Макс говорит, полезное, с работой сейчас вон как тяжело, а там — старые связи. Она вытянула ноги и скинула тапочки, прижала ступни к холодному полу. Связи… Слово-то какое ужасное. Красавчик Макс, любимчик всего коллектива, записной ухажер гламурных дамочек с местного телевидения. Но бросил все, уволился и вот они теперь вдвоем, живут на копейки. Любовь. Жить надо, а работы мало. Вот у него срочный заказ и выходные пропали. Все бы хорошо, она потерпит, но приедут с телевидения, снимать его фрески. Может и эта приедет, которая Гала. Или мадемуазель Порфирьева. Она звонила несколько раз, прямо на домашний телефон, и Макс, скорчив страшное лицо, замороженно-вежливым голосом сначала что-то ей отвечал, а потом Лелька вырвала у него трубку, но сказать ничего не успела. Да и не сказала бы. После сильно поругались. И помирились. Лежали друг в друге, она шмыгала носом, мочила ему волосы на груди. Сказали о любви. Снова. Вот почему, когда лежат вот так, она ему верит-верит. А как только уходит, так и все…
Макс уходил.
Через солнечные зеленые пятна, мимо чужих блестящих автомобилей и черненьких собачек с беленькими старушками на поводках. Жаль, что так вышло, собирались с Лелькой на море, бархатный сезон, вечером уже прохладно и так хотели последнего солнышка. А тут весь день висеть на лесах и стремянке, и краска ляпает в лицо. Ругаться с завхозом, чтоб заменил истрепанные кисти. Правда, приедет съемочная группа. Макс усмехнулся, и девушка, сидящая на скамейке, подалась навстречу, с готовностью улыбаясь. Отвернулся поспешно. И так всю жизнь, вот повезло же! Ничего не надо делать, посмотрел и сразу. А сколько лет пользовался, пока не остановился и не посмотрел назад, задавая себе вопрос, и к чему везение привело? Не первой молодости красавчик, высокий блондин с голливудским взглядом, путешественник по чужим постелям. Легкие связи, душистые розы, завистливые взгляды ребят из программы. Нет уж, теперь у него есть Лелька, принцесса Лелиа, рыжая земляника, упрямая лошадка Лели. А пусть смотрят, зато Лелька будет знать, что он у нее самый-самый! Лишь бы не приехал никто из бывших. Нет сил снова объясняться, пожимать плечами, улыбаться успокаивающе.
Лелька заснула в кресле, как раз когда Макс, изогнувшись, пытался достать с лесов угол фрески. Деревянные ноги помоста скрипели, площадка раскачивалась.
— Эй, художник, свалишься!
Вахтерша в тесном халате поверх цветастого платья светила белыми зубами снизу, показывала на часы — обед.
— Слазь, чаем угощу.
— Спасибо, Мариша, некогда, — ответил привычно ласково. Лелька услышала бы это «Мариша», убила бы. Через полчаса воскресила бы, любовью. Он осмотрел яркую, блестящую свежей краской фреску. Рыжая красавица в синей короткой тунике, смеется, прижимая к животу корзину с черными гроздьями. Босая. Будет принцессе Лелиа сюрприз, когда приедет смотреть в следующий раз. Пусть бы обрадовалась, как запрокинуто к солнцу лицо над белой шеей, и медные пряди падают по круглым плечам. Ко дню рождения успеет.
Проснувшись, Лелька посмотрела на часы и поднялась, держа рукой занывшую спину. До вечера еще сто лет. А позвонит он, когда станет вовсе темно, и при лампах нельзя будет работать с красками. Надо сходить в магазин и купить себе пирожное, огромное, с кремовой розой. Съесть сразу, чтоб заболел живот.
Она прошла через тень комнаты к свету и встала перед большим зеркалом. Белое лицо с темными глазами и рыжие спутанные волосы. Прихватила руками подол халата и потащила вверх, прижимая к ногам. Вот такой длины надо пошить себе платье. Нет, еще короче. Или — вот так. Наклонила голову, разглядывая светлые ноги. Если еще короче, то никуда не выйдешь, зато Максу понравится. Решено, короткое, и никому, кроме Макса, носить дома, когда приходит с работы, и она подает ему ужин. Игра для двоих…
По голым коленкам прыгали зеленые зайчики — подвеска покачивалась на тонкой струне, сверкала зеленая бусина, длинной каплей блеска. Делали вместе и Макс, вешая, вдохновенно плел что-то о защите от злых мыслей и духов.
— Она примет удар, вот увидишь. А мы будем счастливы.
— Тогда сделаем еще. Пусть примут все удары.
— Конечно, сделаем!
И, правда, еще две подвески лежали на полке, почти готовые.
Лелька бросила подол халата и побрела в кухню. Аквариумный день. Она так называла, когда ноги не идут и руки не держат. Валяться бы на песке, смотреть в высокое небо с перьями облаков. А так, будто в тяжелой воде идешь, и мешает идти.
Макс все-таки чаю попил, Мариша принесла ему прямо к стене, и он сидел на земле, на тряпках, улыбался поверх горячего края, кивал, слушая, как рассказывает о кактусах. А потом она на полуслове остановилась. Сказала:
— Вон, приехали ваши, Максим.
Оглядела его мешком висящие штаны, заляпанные краской, майку, порванную на плече:
— Вы бы переоделись, в телевизоре ж покажут.
— Ну и хрен им с редькой, я на работе, — беззаботно отозвался Макс, возвращая чашку. Встал, думая с легкой злостью, бравада его улетучивается с каждым шагом небольшой толпы, в которой все в трендовых рубашечках и летних дорогих туфлях. Кто-нибудь обязательно подденет, насчет оборванства, и после будет подмигивать, жирно хохоча, мол, шучу, свои люди, это же наш Максик!
Дева, мелькающая коленями из-под светлой юбки, оказалась молода и незнакома. Макс выдохнул с облегчением. И прекрасно, не будет смотреть выразительно и говорить ледяным голосом двусмысленные слова. Он просто улыбнется ей, официально. И пусть берет свое интервью.
— Ах, какая дивная прелесть!
Его передернуло. Положил кисть и стал кивать, подставляя плечо под фальшивые дружеские полуобьятия. Дева стояла перед незаконченной фреской, разглядывала, восторгалась и говорила кромешные глупости. Гриша, еще полысевший за год, что не виделись, вытер со лба пот носовым платком и, ухмыльнувшись, показал глазами на ее мини. Понятно, с такими ногами можно плести любую чушь.
— Старик, а ты, оказывается, талантище, Леонардо ты наш кучерявый! — Гришин хорошо поставленный баритон с легкостью перекрыл щебет и восклицания. И тут же:
— Денег-то платят?
— Да как тебе…
— Ладно, не дрейфь, вытянешь. Ты жилистый. И кстати, — Гриша затоптался совсем рядом, обдал запахом одеколона щеку, — тебе от Мадемуазель отдельный привет, со значением. Квартира у нее теперь своя, развелась. Адресок сказать?
— Не надо.
— Ага. Разошлись, значит, как в море корабли…
— Господи, Грига, ну хоть ты не хохми по-дурацки!
— Молчу, молчу, начальник!
Лелька не стала выходить в магазин за пирожным. Оделась и даже себе понравилась в зеркале. Сунула ноги в плетеные сандалетки, взяла с полки ключ. Протянула руку к двери и представила, что там, за тенью подъезда, светит солнце, лезет в глаза и надо соседкам улыбаться и кивать. А потом идти по асфальту, для каждого шага поднимать ногу, сгибать в колене, ставить на серое и поднимать другую. Уронила ключ на пол и ушла в комнату, бросилась в кресло и поджала обутые ноги. Ремешки больно впивались в кожу. Зеленая бусина подвески расплылась в слезах. Она сердито тряхнула головой и вытерла глаза кулаком. Да что же это? Совсем злой день и совсем бесконечный.
Деревянные часы на стене показывали время работы. Он там, наверное, как раз стоит перед камерой, слушает вопросы, отвечает. Улыбается дамочке в дорогом костюмчике. А дамочка и рада. И, как всегда с ним, думает — ей, ей одной улыбается.
— Леля ревнивая дура, — сказала часам. Но ведь не просто ревнивая, видит же, к нему даже на улице подходят. Черт, и с ней дамочки знакомились, улыбались конфетно, и после как бы невзначай спрашивали о Максе. Соседки все прибегают за солью. И лампочки им вкрути. У них с Максом теперь это так и называется, пойдем, Лелиа, лампочку вкрутим.
Фотография рядом с часами показывала Лельке тихое море и закат без солнца, оно за легкими облаками. Потому вода совсем жемчужная. Макс, когда увидел, как у Лельки получилось, сам побежал печатать, потом повесил так, чтоб лежали, и было видно. Лелька тогда придумала к ней слова, про Аква Тофану. Он требовал, чтоб записала, но она отмахнулась, смеясь. Слова падали Лельке в рот, как лепестки с цветущей вишни, сами. Что их записывать, не роман ведь и не рассказ, просто несколько слов.
Наконец, свет за окном стал желтым и тихим. А она с утра и шторы не открывала. В комнату пришли сумерки. Только зеленая бусина держала на кончике себя искру солнца.
Там, куда они не попали сегодня, это море и в нем такая же тихая вода.
— Максим, вы уходите? Приглашаю на ужин. Там все свои, развлечетесь.
Макс повернулся, вытирая тряпкой руки. Интервью прошло, проехало, проскочило за полчаса, народ побросал свои камеры и треноги, сумки в комнатке строгой Мариши и убежал на море купаться. Звали и его, но аврал и было легко отказаться, да он и был весь там, в свете солнца, что грело круглые плечи рыжей земляники в синем коротком платье. Смешная фреска, на ней девушки собирают виноград, сидит пастух сбоку, играя на флейте пана барашкам и овечкам, а далеко среди кудрявых листьев сверкает полуденное море. Но Макс сделал шедевр. Так что, и правда, хрен с редькой на рваную майку.
— Потом покажете мне море, Макс… Сегодня будет большая луна.
Ее зовут Соня, Софья. Когда сказала ему, перед интервью, то вздернула подбородок, прищурилась. Он кивнул:
— Царское имя.
И она улыбнулась, как девочка. Дразнят ее что ли, из-за имени? Поправила белые прямые волосы и все поглядывала на него. А он писал рыжую в синем на фоне листвы.
— Спасибо, София. Устал и домой надо позвонить, жене. Так что я в номер.
— У вас, говорят, красивая жена. И вообще, все так романтично. Мне рассказывали.
— Не сомневаюсь, — он усмехнулся, уже уходя и с силой продирая светлые волосы рукой, измазанной высохшей краской.
— Простите, — сказала в спину. Так потерянно, что Макс повернулся, погладил улыбкой.
— Да ничего.
В номере выяснил, что забыл дома зарядное для телефона. Стукнул кулаком по стене и обругал себя разными словами. Пока стоял под душем, все шептал о себе гадости, а потом рассердился на Лельку. Тоже мне, жена, могла бы проверить, с чем муж уходит. Сидит, небось, с ногами в кресле, и смотрит на картинку на стене. Или на часы. Может, плачет, глупая. Глупая Суламифь в синей тунике. Собирала виноград, смеялась с подругами, блестела зубами. И вот поймалась, как рыба-ребенок, на его крючок. И ей с ним больно. Храбрая, все говорит, что ничего, выдержит, но иногда плачет, по пустякам.
Он покопался в шкафу, нашел легкие шорты, чистые, белую тишотку. Надел и вышел из номера, прикидывая, у кого бы попросить телефон, на пару минут разговора.
На вахте было пусто. Макс заглянул в длинный коридор. Сезон кончился, корпус закрыли и уже не селили в него отдыхающих, а дежурная, видно, убежала на лавочку, болтать с подругами. И телефон унесла с собой.
Вечер шел на цыпочках, прикладывал к губам палец черных листьев и потому свет становился мягче, серел жемчужной пылью над тихим морем. По песку бродили редкие люди и тоже слушались вечера, не кричали и не смеялись. Только в столовой светились нахальным электричеством окна, свет их орал и взрывался. Слышался голос Гриши, анекдот, хохот следом.
Макс прошел поодаль, чтоб не заметили курящие на крылечке телевизионщики. Прислушался и рассердился на себя, поняв, что ищет голос Софьи. Просто интересно, смеется ли она тем чудовищным пошлостям, которые конвейерно выдает Грига.
За низким парапетом море переливало себя серым шелком, медленно и сонно. Макс повернул к парусиновому киоску у парапета, там уже закрыто, но изнутри свет и бормотание. Если молодежь не успела залечь на ложе из картонок в углу, то, может, дадут телефон. Он поежился, вспоминая. Сто лет тому приезжал сюда, и в этом самом киоске работала, как же ее звали… Маленькая, как воробей, волосы стрижены коротко, нос с конопушками. От коробок пахло ванилином и специями, маленькая все волновалась, вдруг охрана заметит, что они жгут свечку. Тогда свечку погасили, и выяснилось, что через парусиновый потолок сочится лунный свет. Ему потом пришлось менять симку в телефоне: собралась разводиться с мужем, а муж — мальчишка, в два раза его моложе. Потом Максу рассказали, когда через год приехал, она подожгла киоск, и ее уволили, зарплату забрали в счет сгоревших чипсов и пакетиков с орешками.
— Максим…
Макс чертыхнулся, останавливаясь в тени большого платана. Тонкая фигура на фоне серого шелка, стоит, отвернувшись, смотрит на море. А позвала. Или ему показалось? Подойти? Или сделать вид, что не услышал? Получится — испугался…
Он прошел рядом, на расстоянии вытянутой руки. Кашлянул, замедлив шаги. Софья быстро повернула лицо. В размытых светлых сумерках, в рамке белых волос оно было темным, с неразличимыми чертами.
— А, это вы? Как хорошо, что вышли. Смотрите, как тут!
В женском голосе услышалась Максу давешняя глуповатая восторженность и он разозлился. На то, что крался мимо столовой, пытаясь услышать ее. Что остановился на оклик, который был ли? Или он сам себе его выдумал, чтоб — повод заговорить…
— У вас есть мобильник? — спросил почти грубо, — домой надо позвонить, а мой сел.
— Жена волнуется?
— Да.
Софья протянула ему мобильник и положила пустую руку на парапет. Темная рука и ногти белеют. Макс потыкал в кнопки.
— Черт!
— Что?
— Забыл номер. Он же записан в телефоне, а я вот не помню его, длинный.
Покивала, пересыпая по прямым плечам волосы, цветом сливающиеся с тканью сарафана. И спросила врасплох:
— Шея болит?
— Да… А как ты, вы…
— Давай на ты. Я же видела, как на лесах изгибался, это нам — постояли и ушли, а ты потом несколько часов на деревяшках.
Он смотрел на светлые ногти. Над головами зажегся тусклый высокий фонарь, скупо уложил размытый кружок света на шероховатый камень и там еле видно заблестели крошки слюды…Хоть бы шевельнула пальцами. Или на него глянула, а то снова отвернулась и смотрит на воду.
— Да мне в кайф, там ведь стенка была, серая, грязная. А потом еще ругались с директором, он, когда стал рассказывать, чего хочет, меня просто перевернуло всего. Я свое хотел. Но он уперся, и пришлось вот. Винограды и овечек.
— Не жалеешь?
Он вспомнил рыжую, с полной корзиной, и круглыми коленками под коротким синим подолом.
— Теперь нет.
Стал ждать новых восторженных восклицаний, но она просто сказала, так и не глядя на него:
— Красиво. Очень.
На указательном пальце, на круглом ногте чернело пятно. Макс протянул ей мобильник.
— Возьми, спасибо.
И она подняла руку, повела ее легко, по серому воздуху, в свете заката, что никак не кончался, перевернула ладонью кверху, сказала негромко:
— У тебя в номере ведь симка. Можно пойти. К тебе. Поставишь в мой. Позвонишь…
Он положил телефон на ее ладонь и тоже стал смотреть на море. Ему казалось, их взгляды, что протянулись рядом через перламутр закатной воды, можно увидеть, и там, вдалеке, как и положено, они смыкаются, сливаясь в одно.
По воде побежали, одна за другой, маленькие длинные волны цвета графита, и Макс понял, он смотрит на фото, что висит на стене их комнаты. Они всегда смотрят на него вместе, горячие и слабые после его криков и бешеных глаз.
— Ты знаешь, что такое Аква Тофана, София?
— Нет. Расскажи. Макс…
— Раз в несколько лет, когда вечер так тих, что в толще его, никуда не летя, недвижно висят пушистые соцветия степных цветов, сумеречные пчелы развертывают дурман твердыми крыльями. И тогда, волнами цвета графита, одна за одной, без ветра, приходит Аква Тофана, припадает к песку, холодящему босые ноги, и забирает неосторожных. Аква Тофана, яд без вкуса, цвета и запаха. Навсегда.
— Навсегда, — повторила она.
Солнце ушло, оставив лишь мягкий серый свет над водой.
— Тебя можно полюбить только за эти слова, знаешь? Навсегда.
— Это… — он остановился и не стал договаривать. Протянул руку и положил поверх ее неподвижной ладони. Хриплым голосом спросил:
— У тебя на ногте пятно…
— Дверью прижала.
— Больно было?
— Да. Плакала.
Держал свою руку поверх ее ладони, ждал, чтоб шевельнулись пальцы, пусть она первая, ведь окликнула. И предложила в номер. Или не предложила? Но пальцы не шевелились, просто лежали, теплые. И тогда он придавил, прижал покрепче. Развернул ее к себе. Глянул сверху в смуглое лицо, отделенное от вечера светлыми волосами. Подумал, ну, скажи, сама скажи! Ну!
Но Софья стояла молча, только смотрела снизу вверх, и ее тело было так же параллельно ему, как взгляд на воде. Вот если бы она, еще на полшага к нему, плотнее, и — на цыпочки, как Лелька, когда тянется губами к лицу…
От напряженного злого ожидания внутри будто соскочила пружина и пошла развертываться, биясь острым концом и роняя освобожденные картинки, одну за другой: он сжимает ее, твердая спина становится мягче, тает под руками; он идет рядом, направляя, подталкивая и ноги их иногда натыкаются друг на друга; закрывает дверь в номер и усаживает на смятую постель, где до сих пор пахнет краской и валяется майка с рваным рукавом, нажимает на плечи и лямочки платья скользят по загару. Темное долгое тело на светлых в луне простынях.
Навсегда, била пружина внутри, попадая в точки болезненные и все понимающие, навсегда, вот сейчас, ты пойдешь, и все изменится, навсегда, потому что пришла Аква Тофана, без вкуса и запаха, и ничто не станет, как прежде. Принцесса Лелиа, ее рыжие глаза-янтари, будешь смотреть в них, а видеть, как луна светит на белые пряди волос на подушке, или — черные пряди, иголочки стрижки, мелкие кудряшки… Упрямая лошадка Лели и ее слова обо всем, о чем можно спеть словами, сплетая их в невиданной красоты ленту, которую он сейчас взял, чтоб связать чужие пальцы, на ногте одного — темное пятнышко. И никогда уже не будет их двое, всегда рядом его Аква Тофана, яд, сидящий внутри и давно. Понукающий к острому наслаждению сломать то, что есть, что ценно — в одно мгновение.
Как взорвать мою стену, подумал невнятно. Вместо фрески обломки, на одном — рыжие косы и гроздь винограда.
И поднял руки, готовясь обнять. Внутри, где уже все исколото пружиной, занималась нежная песня прощания с Лелькой, так сладко знать, что это было — только он и она. Было. Она и теперь будет рядом, он ведь не скажет ничего, но все станет по-другому.
Надо только решиться, вот, сейчас кивнуть самому себе, согласен и принимаю.
В темной комнате, блеснув, зазвенела подвеска и звякнула об пол граненая бусина, разлетевшись на части. Лелька вскочила с пола, где сидела, подбородком на низкий столик и смотрела в лаптопе снимки, скосив глаза к носу. Вцепилась взглядом в темные осколки на полу. Нащупала выключатель и щелкнула. Подвеска покачивалась перед неподвижной шторой, и на кончике блестящей стальной пружины вертелся обломок граненой капли.
Она постояла, глядя то на подвеску, то на часы. И увидела стрелки. Губы задрожали, стрелки плыли перед глазами, но упрямо возвращались на место, показывая — ночь, не позвонил, ночь. Утра не будет.
Подошла к полке, потянула тонкую упрямую пружину другой подвески. Нашарила пакетик с гранеными бусинами — синими, бронзовыми, гранатовыми. Подвеска выворачивалась, колола пальцы острым кончиком, сверкали нанизанные на нее маленькие бусины.
— Я, конечно, глупая дура, — сказала себе и выбрала продолговатую, как тяжелая капля, хрусталину кобальтового цвета. Надела на конец подвески.
— Но пусть так, я ведь больше ничего не могу сейчас.
Добавила темно-янтарную, с гранями-зеркальцами. Повертела и нацепила на самый кончик зеленую, как виноградный листок. Загнула проволоку плоскогубцами, что лежали тут же на полке.
Встала на табурет и повесила ажурную пружину, унизанную прозрачными каплями, на место той, что приняла на себя удар. Слезла с табурета, посмотрела на искры, бегущие по белому потолку и улыбнулась. Расстелила постель, почистила зубы в маленькой ванной и расчесала рыжие волосы, заплела их в две косы. Легла, положив руки поверх одеяла, как в детском саду заставляли когда-то.
— Спокойной ночи, Макс, я тебя люблю.
Настольную лампу гасить не стала и, уплывая в сон, сквозь ресницы видела, как покачиваются на потолке маленькие мягкие огни.
Серое море без света стало черным, как нефть. По жирному полотну его побежали, извиваясь, дорожки редких фонарей. И лицо Софьи потемнело так, что одни лишь волосы были еле видны.
Макс откачнулся, держа ее плечи. Темное лицо, обрамленное белым, напомнило ему картонные силуэты пляжных фотографов, куда становилась — любая, втискивая себя в безупречный выверенный силуэт.
— На самом деле, Соня, Аква Тофана — венецианский яд, которым Теофания ди Адамо, женщина изрядно в летах, судя по портрету, грузная и злая бабища, травила тех, кто ей неугоден. Да и просто продавала смерть, всем подряд. А слова, что вам так понравились, сказала моя жена, о таком же закате.
Он опустил руки и отошел на шаг.
— Спокойной ночи, спасибо за разговор.
— Звонить не будете?
Голос ее стал деловит и колюч.
— Расстроится ведь ваша бесценная. Подозревать начнет. С вашей-то славой, Максик…
— Мы разберемся сами, Соня.
КОМНАТА МИЛИЦЫ
О смирении
Милицу ее новая квартира вполне устраивала. Конечно, метро с двумя пересадками и по вечерам надо смотреть не на светлые сумерки, что могут длиться почти до утра, а почаще на часы, чтоб не оставаться ночевать у приятельниц. Но, во-первых, за полгода учебы Милица так и не припасла себе мест для вечерних развлечений, а, во-вторых, у нее не было подруг, у которых хотелось бы остаться.
Конечно, никто из девочек не отказал бы, но общежитие, встать утром с пересохшим ртом и заспанными глазами, и знать, что кто-то рассматривал тебя раньше…
У Милицы были два тайных недостатка во внешности. И множество явных. С явными, так-то, некрасивый прикус, поры на висках, скучный разрез глаз и широкие крестьянские колени, Милица смирилась, поняв лет в пятнадцать, что это все — она сама, как бы не хотелось, хлопнув дверью, выйти в свет людских взглядов капризной походкой Анджелины Джоли и поплыть, улыбаясь равнодушно, рассекая красотой волны мужского внимания. Но она Милица Латовски, среднего роста, со средней фигурой, с не самыми густыми каштановыми волосами, с плечами, чуть вздернутыми, будто все время собирается ими пожать. И потому — или умереть, исчезнуть, или примириться с тем, что не Анджи.
Примирилась. Но тайные недостатки берегла от чужого взгляда. Левая грудь Милицы была больше правой, заметно больше. Много часов перед зеркалом, сесть то так, то эдак, но как ни сядь — видно. Ночные слезы и злость, — никогда-никогда не пройтись по комнате перед будущим Ним голой, чтоб следил глазами.
Тайком от матери Милица несколько раз откладывала карманные деньги на пластическую операцию, да-да, когда-нибудь, когда она станет самостоятельной, и ее не будут пугать зеленые халаты медсестер и их безликие теплые улыбки, похожие на застывшее в формочках желе, она изменит себя — для Него. Пока же деньги из тайного кошелечка внезапно тратились на сумочку и удивительной красоты колготки.
Чтоб заглушить раскаяние Милица перестала смотреть в зеркало в ванной и сшила себе просторные рубашки, хипповые и независимые.
А еще в пять лет Милица спрыгнула с дивана и ударилась босой ногой о край тумбы. Сломанный мизинец остался кривым и ноготь на нем вырастал некрасивый, загибался птичьим коготком.
Так что нынешнее жилье, полутемная комната на втором этаже старого дома, под самой крышей, была ей мила. И с недостатками комнаты Милица разобралась быстро, разделив их на вполне исправимые и личные, комнатины, которые — пусть будут.
Единственное, с чем Милица не могла определиться, фонарь на углу. Считать ли его недостатком, как она сгоряча и с разочарованием решила?
Он стоял длинный, на черной ноге, и, наклонив шею, держал на весу большую каплю тревожного света. За низкой крышей Милице был виден кусок старого асфальта и мусорные баки в углу двора. Черной заплатой, мигавшей, когда по соседней улице медленно проезжали машины, налеплен на желтую стену проход — узкий и угрожающий. Кроме этого промелька фар ничего не было видно с той улицы, ее заступали высокие старые дома.
Фонарь мешал Милице видеть ночами небо. А она так радовалась, идя за хозяйкой в первый раз и невнимательно осматривая будущее жилье, что над полосами шифера, отмеченными бутылками и смятыми пачками — столько неба. Это перевесило сырое пятно на потолке, скрипучую лестницу и темный туалет, в котором локти стукались о неровные стены. И вот…
Маленький телескоп теперь стоял на подоконнике просто так, опираясь на крепкие худые лапы, смотрел в дневное небо широким глазом. В первые вечера Милица, утомившись крутить его так и сяк, разозлилась и даже хотела сунуть обратно в чемодан. Но потом стала мечтать, пойдет вечером, или нет, ранним утром, когда уже светло, но сонно, и разобьет фонарь из рогатки. Мечтала и смеялась над собой: где тебе, Милица, мамина-бабушкина ягодка, тоже мне, секретный агент с рогаткой наперевес.
Но телескоп остался стоять, и Милица даже заглянула в спортивный магазин. Выслушала лекцию красивого продавца о рогатках.
— Ей и от хулиганов можете, — сказал, разглядывая Милицу темными глазами. Она не застеснялась, все на ней в тот день было хорошо и проверено перед зеркалом — от сапожек до берета с цветным хвостиком. Сказала, смеясь, — не себе, для брата, в подарок. Обещала подумать и ушла, веселая. Потому что продавец темноволос, губы красивые и напоследок, уже в спину, сказал негромко:
— А защитить вас я и сам смогу. Хотите?
Шла, покачивая вздернутыми плечами, и — хотела, конечно. Но представила, как лезет горячей рукой к ней под широкий свитер и — останавливается. Надо будет что-то говорить. И ждать ответа…
Вечером она наклонила телескоп и стала рассматривать место будущей диверсии. Крошечный дворик, видимо, изнанка старого кафе, на баках полустертые надписи «кухня» и «Олимпик». Но дверь заколочена, пусто. Даже кошки не пробегают. И попасть в закуток можно только через узкий проем, перекрытый сверху нависающими крышами. В нем мелькают и мелькают медленные фары машин.
В желтом свете старательный телескоп показывал все близко и четко, даже хлопья старой краски были видны на круглой ноге фонаря.
Милица оторвалась от объектива и закрыла его крышкой. Нащупала под табуретом тапочек. В приоткрытое окно пролезал ветер. Скоро осень из ласковой превратится в злую, заноет тоскливыми ветрами и станет похожей на квартирную хозяйку, желчную старуху, что таким же ноющим голосом рассказывает о своих болячках и неблагодарном сыне. И солнышко будет появляться так же редко, как улыбка на ее серых морщинах. У хозяйки — только в день, когда жильцы приносят ей плату.
Милица отогнала тоску и собралась перейти на диван, заняться ногтем на проклятом мизинце. Он рос быстро и от того, что торчал вбок, рвал колготки.
Подняла руку, закрыть окно и задернуть штору.
В тусклом круге света под самым фонарем шевелились фигуры. Двигалось светлое пятно головы, и жирно блестела черная спина в кожаной куртке. Свет падал равнодушно, растекался по верхам и не шел ниже, потому второй силуэт был черен и неразличим. А потом невнятное шевеление поймало ритм и из черноты стали появляться длинные пряди волос. И пропадать. Снова появляться…
Заболели от напряжения глаза и ныла вытянутая шея. Тапочек мягко свалился с заледеневшей ступни.
То, что шевелилось под фонарем, походило на странного и страшного зверя, который еще не проснулся полностью в своей берлоге и ворочается, двигая лапами, зевает, выпуская когти. Пятна света ползали по черноте, мешая увидеть точные очертания. И это злило.
Задние стены домов громоздились над смутным шиферов ближних построек. Редкие квадратики окон желтели и пахли жареным луком — хозяйка внизу готовила ужин. Запах поднимался по лестнице, лез в щель под дверью: это было одним из исправимых недостатков комнаты, да все руки не доходили. Холодный ветер из окна лапал лицо и выжимал слезу. Пусть они там сами, под своим фонарем, — подумала Милица и захлопнула створку.
А чуть позже, заворачиваясь в кусачее одеяло на диване, выставив из тепла его голую ступню, чуть не порезалась ножничками — телескоп! Можно все разглядеть!
Одним ухом она слушала лестницу, как хорошо, что скрипучая, а то вдруг — хозяйка и увидит, куда смотрит Милица вместо неба.
В круглом экране мужчина в кожаной куртке отдавал девушке с длинными волосами деньги. Несколько смятых бумажек, видно даже — у одной надорван уголок. Пальцы короткие и на фалангах волосы такие же черные, как его куртка.
Милица подправила резкость и чуть уменьшила картинку. Девушка, переступая высокими каблуками, видно устали ноги, пересчитала бумажки, подняла бледное лицо и что-то сказала мужчине. Мелькнула в тусклом свете кожаная рука, дернулись длинные волосы. И он ушел, закрывая спиной огни в проходе.
Девушка крикнула вслед, держась за скулу. Постояла немного и совершила женскую последовательность действий: спрятала деньги в сумочку, поправила колготки и короткую юбку, убрала за уши волосы, достала пудреницу и бережно попудрила скулу с ярким пятном удара. Снова погасли огни в проходе, — вышла.
Милица тихо закрыла окно и задернула штору.
Ночью она плохо спала, видела то фонарь над своей головой, то хлопья краски на его столбе. Выворачивая неудобно голову, посмотреть вверх, видела искаженное лицо с красивыми губами и темными глазами продавца из спортивного магазина. Во всем мире не было звезд и ночь пропахла жареным луком.
Раз проснулась от мысли, что телескоп остался стоять мордой вниз, как собака перед миской с едой, теперь хозяйка поймет, куда смотрела Милица. Босиком побежала по холодному полу, поправила телескоп, уставив его в серое утреннее небо, и снова испугалась, вдруг хозяйка заглянет сейчас, подумает, что Милица всю ночь провела у окна, дежуря и высматривая. Бросилась на смятые простыни и замерла, стиснув коленями край одеяла.
— Гелена Леонидовна, — спросила утром, споласкивая чашку в сырой кухне, — я что-то никак не пойму, что за улица там, за четырехэтажками? Куда мое окно выходит?
Следила, чтоб голос оставался равнодушным.
Хозяйка перестала размешивать чай и посмотрела на Милицу водянистыми глазами.
— А тебе к чему?
— Ну, так. Может, мне той стороной ближе. А то две пересадки в метро.
Хозяйка позвенела ложечкой, облизала ее и положила на облезлое блюдечко. Взялась за ручку чашки костлявыми пальцами, унизанными золотыми «маркизами» с янтарем и фальшивыми рубинами. Отхлебнув, поставила. И сказала наставительно:
— Ты девочка чистая, тихая. Не надо тебе той стороной. Проститутки там стоят, шалавы. Уже и милиция гоняла их, да все видно куплено, поездят, погудят, и снова те стоят, как стояли. Хорошо, самый край, там уже склады начинаются и старый завод. А главное веселье — за два квартала от нас. Ты мне батарейки-то в пульт купи сегодня.
— Куплю, Гелена Леонидовна. Там на моей полке конфеты в коробке, вы берите, с чаем.
— Возьму, спасибо.
И вдогонку добавила:
— Сегодня окна заклею, на зиму. И твое.
— Хорошо…
Осенние улицы тосковали от неуюта, будто обижались на прошедшее лето и не хотели верить в будущую весну. Милица бежала к метро, мысли скакали в такт шагам. Она назвала зимний ветер «разочарование» и повезла вниз по эскалатору тоску близкой зимы и заклеенных окон. На душе было неудобно и ветрено. Толкаясь и толкая, она двигалась к сонным лекциям, перекурам и сплетням однокурсниц, и не могла решить — жалеть ли о том, что окно заклеено и телескоп будет запакован — до весны.
В тот же день с Милицей случился Он.
И жалеть стало некогда. Там, где раньше были только гулкие коридоры, бубнящие голоса преподавателей и резкий, как чаячьи крики, смех подружек, — зажглось внезапное солнце и стало светить и греть. Везде, все время.
Милица ни на секунду не расставалась с Ним. Сидя напротив, в третьем ряду, она обожала Его и время летело так быстро. Три часа, так мало для того, чтобы снова и снова рассмотреть улыбку и как волосы, отливая серебром, за левым ухом закручиваются трогательным колечком. Слушать голос, в котором птицы. И легкая хрипотца, ведь курит такие крепкие сигареты! Синие, уже чуть выгоревшие глаза, которые иногда прямо на нее, на Милицу!
И снова его улыбка…
Потом она бежала по стылым улицам мимо дворников и машин, через странный на морозе запах горячих мясных пирожков и вела с Ним блестящие, остроумные беседы. Тонко шутила, следя, как раскрываются в изумлении его глаза, и появляется на красивом лице улыбка. Ах… И Милица знала, он — с ней.
Стоит рядом, когда она варит кофе в кастрюльке с обломанной ручкой. Теперь она пила такой, как любит он — черный, много и с одной ложечкой сахара.
И выходные они проводили вместе, всегда. Ездили кататься на лыжах, и он бережно стряхивал снег с ее волос. А то, вот надоело все! — прыгали в самолет и через пару часов рука в руке, купались в ослепительном море.
Однажды она даже привела его в тот самый магазин, купила рогатку и, церемонно склонившись, преподнесла ему. Хохотал до слез. А продавец был — тот самый.
И ночами он был с ней. В первый же раз, медленно стягивая с нее широкий свитер, остановился и она замерла в шерстяной темноте, веря ему. Слушала. Но не сказал. Ни слова. Только поцеловал — одну грудь, другую. Сжал ладонями. И все было хорошо. Удивительно хорошо, да просто — прекрасно!
— Наша Милица влюблена, — сказала королева курса Лорка, разглядывая очерченные карандашиком перламутровые губы и новые туфли на высоких каблуках.
— И мне это идет, — мягко ответила Милица, не боясь сбиться или покраснеть. Потому что Он стоял позади и дышал запахом ее волос.
Ах, да, у него теперь было имя! Его звали Эдуард Мост.
Приходилось мириться с именем Эдуард, но хоть какие-то недостатки должны уравновешивать безоблачное счастье любви! Милица назвала его Ардо. А история искусств стала ее любимым предметом.
Лучшая зима в жизни Милицы сверкала, искрилась, сыпала снежную пудру на каштановые локоны. И кусалась ветром иногда, — так Гелена Леонидовна, поджимая сухие губы, нет-нет да и куснет злыми словами, ни с того, ни с сего. Но Милица уже не боялась ни укусов ветра, ни жесткого взгляда шляхетной польки и ее ветхого высокомерия.
Сырым весенним вечером Гелена Леонидовна спросила, глядя в телевизор в темной гостиной, куда никто из жильцов не входил, только заглядывали, поздороваться с хозяйкой:
— Ты на каникулы когда? В мае? Приберешься как следует, уедешь, я окна расклею.
— Я сама, — ответила Милица, стоя в проеме двери. Вошла и села в продавленное кресло, тоже стала смотреть в телевизор.
— Скажи-ка…
— Завтра сделаю. Мне надо по учебе, за небом смотреть.
Встала, так ничего в телевизоре не увидев, и пошла вверх, скрипя ступенями. Сердце приятно стукало.
Ардо улыбнулся ей, сидя на широком подоконнике, отсалютовал виктори. Мальчишка. Все мужчины — мальчишки, даже профессора.
Полоски старой бумаги отскакивали от рам, пылили в нос и сваливались на пол, шурша. Закатанные рукава домашней рубашки давили под локти. Милица протерла рамы, отскребла кусочки старого клея и остановилась. С мокрой тряпки капало в ведро. Сейчас она вымоет стекла, до скрипа. Как будто вымоет небо. А потом? Вытаскивать и ставить на прежнее место телескоп? А как отнесется ее Ардо к тому, на что ей хочется смотреть?
— Не хочется, — и шлепнула тряпкой по стеклу. Мыльные змейки потекли вниз, таща пузырьки, цветные от весеннего солнца.
— Совсем не хочется!
Стекло взвизгивало и покалывало глаза яркими бликами. Снова было, как осенью, будто все разорвалось по швам, схваченным слабыми нитками, и поплыли вокруг цветные лоскуты, гладя руки, подставляясь глазам.
Ты можешь собрать меня, как хочешь, Милица, — шептал мир и кружился. Осенью это пугало и приносило тоску. А сейчас — солнце, радость и смешное могущество. Сшить мир, как рубашку. Чтоб по себе и ни у кого такого нет.
Она вынула чехол с телескопом из пыльного чемодана под кроватью. Поставила у весеннего невидимого стекла. Подняла прибору круглую морду и щелкнула фиксатором. Вот и все. Гелена, шаря по комнате без нее, увидит, что наблюдения за небом возобновились.
Что касается Ардо, то… Ну, она еще подумает, как быть.
С ним очень хорошо и он Милицу любит, любит-любит! Но вот каково ей было узнать после зимних каникул, что существует Анна Мост и весной она появится в университете.
— Наш котик, наконец, накушается сметанки, — накрашенные глаза Лорки ползали по лицу, как муравьи, щекотали, — его никто еще в постель не уложил, знаешь, да? Очень свою Аннушку любит. А она год как в командировке, негров обмеряет и песни их записывает. Может и за хоботы их держит. Не знаешь, Милица, какие у негров хоботы? Никогда не держала?
Стоящие за спиной Лорки девчонки уменьшились ростом, стали, как крупа, из которой она ложкой торчит. И хихикают. А в горле Милицы шелуха вместо слов, хочется кашлянуть, но нельзя. Поймут, все поймут сразу. Есть жена, а он выбрал для любви Милицу, бедный, бедный, как же мучается он и со страхом ждет приезда чужой теперь, постылой женщины!
Но она его сбережет.
— Я, кого надо, того и держала, и кого надо, того и подержу, Ларис. У тебя не буду спрашивать. Вкусы разные.
Повернулась и пошла, стукая каблучками, радуясь, что волосы мытые и шарф новый, огромный, нет такого ни у кого, его уже три раза купить хотели, но ей надо, чтоб ее Ардо любовался.
Анна… Плохое имя, похожее на нитку скользкую. Что за имя такое, Аннна! Как она выглядит? Спрашивать Милица не будет. Сама узнает, увидит, как смотрит на незнакомку ее Ардо. Как потемнеют его глаза, и на лицо набежит тень. И только Милица будет рядом, держать его за руку, обещать новую, лучшую жизнь, всю из любви. Уже скоро. Он жене скажет, конечно. Он смел и честен. Не сможет с двумя.
А сейчас — поспать.
Холодно в комнате. В щелку меж штор светит желтый фонарь и кажется это свет такой холодный, сквозит. А Гелена уже отключила отопление, не стала думать, что дует в комнате в расклеенные окна. А может и подумала, потому и отключила.
Милица ворочалась, поджимая ледяные ноги, и от холода их мерзла еще больше. В шкафу есть одеяло, но надо встать и идти, как по льду, пересекая собой полосу желтого света. Еще хорошо бы на подоконник положить старое покрывало. Свернуть поплотнее.
Она встала и быстро, чтоб не передумать, пошла к шкафу. Бросила на кровать одеяло и понесла к окну покрывало, сворачивая его в рыхлый жгут.
Под фонарем стояли. Надо же, всю зиму никого и вот, опять. Милица осторожно отвела штору и прислонилась лбом к чистому стеклу.
На этот раз никто не скрывался в нижней темноте. Невысокая девушка стояла прямо, заведя за спину руку и держась ею за фонарный столб. Белое личико окружала копна темных кудряшек. Чернел рот, наверное, помада яркая, красная. Другой рукой стягивала на груди плащ. Он расходился книзу и открывал ноги.
Мужчин двое. Один поодаль, почти у баков, курит. И второй, стоит перед девушкой, не заслоняя ее от Милицы. Вот затрясла головой, схватилась за плащ второй рукой. Но третья рука, мужчины, и четвертая его же — рванули плащ, черный на светлом платье. И что-то сделал, быстро совсем, но очень сильно. Как ударил в живот.
Милица прижала к груди покрывало, будто оно тот плащ. Ударил. В живот. Девушка переломилась пополам, тыкаясь в грудь мужчины кудрявой головой и он оттолкнул ее. Милице показалось, что качнулся круг света, падающий на асфальт. Не может так сильно, показалось, наверное!
Девушка сползла по черному столбу, задирая на спине плащ, голова ее свесилась на плечо. И второй мужчина, откинув руку в сторону, видно, бросая окурок, подошел ближе, держа руки у пояса, что-то делая там с собой. Заслонил от Милицы сидящую девушку. Снова качнулся свет фонаря. Покрывало пахло лавандой и мешало дышать, пыль с него лезла в глаза. И казалось, что в голове тоже все запылилось и невозможно ни о чем думать, тем более быстро, пока они там делают это.
Надо рвануть окно и крикнуть им туда, на улицу, в свет фонаря. Про телефон, про то, что уже звонит и сейчас приедут. Она бросила на пол покрывало.
Две спины и за ними облитые светом темные кудряшки. Никто никого не бьет. Тихо. Только движется и движется широкая спина, согнуты локти.
Милица переступила и занемевшая от холода нога подломилась. Она ухватилась за подоконник. Подумала, вот еще немного и выбила б головой стекло. А еще немного и полетела бы туда, к ногам, рядом с девушкой.
Перебирая руками, она нащупала телескоп и плавно опустила его линзой вниз.
В картинке, прыгнувшей в глаза (как вымыла стекло, даже через него все видно), было что-то… Странное что-то… Девушка, стоящая на коленях, откидывала голову и улыбалась. Улыбка появлялась на лице и гасла, но снова вспыхивала, с готовностью. Она там, с этой улыбкой, делала вещи, о которых Милица, конечно, знала, но никогда не видела так. В кино раза два. Но там не было телескопа, в котором — даже размазанная по щеке помада. Плащ валялся на серой земле, подернутой желтизной.
Когда девушка встала, вернее, ее подняли под руки и прислонили к столбу, Милица оторвалась от резинового ободка окуляра и положила руку на живот. От того, что она навалилась на край подоконника, под рубашкой вспухала боль. И надо досмотреть…
…Они не оставили ее тут, как боялась Милица и не убили. Подхватили черноволосую под руки, повели к выходу, сунув ей перед тем за пазуху деньги. И над ее головой Милица видела их смеющиеся лица и шевелящиеся губы. А между крепко ступавших темных ног — слабые, еле нащупывавшие асфальт, путались в каблуках женские, почти не ступая, когда она повисала на их руках.
…Под одеялом быстро стало тепло и пришел сон, желтый и темный, пропитанный сырым ветром. Не будет лета, сказал ей сон, трогая губами ухо, не будет. Будет тебе, свет-Милица, одна лишь весна и в ней — Анна. И Ардо не пришел тебя согреть сегодня.
Я сама не звала его, возразила Милица, отворачивая ухо от сырого ветра сна, не надо ему это видеть. Не надо видеть, что я — смотрю туда. Но заплакала, не проснувшись.
На следующий день она села на свое место в третьем ряду, напротив. Смотрела сквозь туман головной боли в любимое лицо. Вместе с ней смотрело солнце, наискось бросая лучи через пыльные зимние стекла. Наверное, из-за него у Ардо такое светлое лицо сегодня. Конечно, из-за солнца. И улыбается так — просто радуясь весеннему свету.
«Она его под каблуком держит», «он с нее глаз не сводит», «за руки держатся, как дети»… Шепотки, которые она раньше отгоняла одной лишь своей улыбкой, не хотели уходить, летели сквозняками, сваливались на пол и ползли, шурша, как сброшенные змеиные шкурки.
На светлый день наплывал тусклый свет фонаря и в нем, то, что видела ночью, из-за чего не могла спать. Только думала, все время крутя в голове — а он, как он с ней? Ждет приезда. Встречает. Трогает ее и целует. Жена…
Видеть его вдруг стало невмоготу. Милица пошла по ряду, задевая ноги и подолы, путаясь в чужих сумках и бормоча извинения. По ней скользнула его улыбка, просто так, как тряпка по стеклу, когда его трешь, задумавшись.
«Ну и что, ну и пусть, ну и что, ну и пусть» — стучали каблуки весенних сапожек, пока не проглотило их стук метро. Там внизу ей стало легче, она шла, раздавая боль спешащим вокруг людям и они, не оглянувшись, разве что, иногда поводя плечами или поморщившись, забирали, будто отщипывали за столом кусочки хлебной мякоти, не съесть, а так, покатать шарики.
Вечера ждала долго. Приготовленный телескоп смотрел вниз, на погасший фонарь и серый внутренний дворик старого кафе. А зайдет Гелена, пусть попробует что-то сказать. И Ардо зря следит за ней печальными глазами, сидя на неразобранной постели. Сам виноват, разве можно так улыбаться и не ей! Чего он ждет? Вот и пусть увидит, что она, из-за него, собралась сменять небо на помойку.
Милица пошла к постели, глядя на любимого. Вот он поднимает лицо, когда она все ближе, ближе. И остановилась резко. Закрыла глаза, так что стало больно векам. Переждала оранжевые на черном круги и открыла снова. Посмотрела на пустую постель и повалилась, переворачиваясь на спину, закинула руки за голову. Так и лежала, следя за небом в окне, как оно постепенно теряет синеву и становится серым, а после черно-синим.
И зажегся фонарь.
Тогда встала, распрямляя ноющую спину… И села у окна, ждать, баюкая затекшую руку. Фонарь равнодушно светил вниз, в серую нору внутреннего дворика. На фоне темной синевы неба зубцами щетинились башенки и шпили старых домов, будто вырезанные из черной бумаги.
Мелькали в проеме медленные фары машин, и Милица подумала, они там стоят, смелые накрашенные женщины, а мимо едут и едут покупатели того, что в них есть. Не самые, наверное, богатые покупатели, раз Гелена сказала, что тут уже окраина. И девушки, наверное, особенные. Те, что уже совсем отличаются от, как это говорят — порядочных. Ей захотелось туда, узнать как там, с той стороны фонаря. Пройти или проехать в машине, разглядывая.
Она подумала, ей все равно придется пойти той улицей, если решила разбить фонарь, ведь по-другому в дворик не попадешь. И решила — разобьет. И пусть Ардо не думает, что она такая вот слабая или плохая. Она обязательно станет хорошей и посмотрит в небо. Только попозже.
Под фонарем еще никого не было. Но фары перестали мелькать в черном проеме. Милица сглотнула и взялась за телескоп, придвинула ближе. Руки не слушались, потому увидела сначала мужские туфли, отличные дорогие туфли, блестящие кремом. И рядом женские лодочки, беленькие, из лета. Щиколотки затянуты колготками и на одной сверкает рисунок — звездочки.
«Скажи-ка» подумалось Милице словами Гелены Леонидовны, когда от дорогих колготок она двинула телескоп повыше, где круглые колени натягивали и отпускали при ходьбе узкую юбку. Не мини. Бежевая, наверное, юбка, но в свете фонаря — грязно-желтая, и блузка цвета старой крови, атласная, втугую обтягивающая грудь. Короткий плащик разлетается при каждом шаге, а у горла пристегнут красивой пуговицей.
Женщина шла ровно, мелькая коленями, полы плаща отмечали шаги. Милица навела резкость и увидела ее лицо.
Длинные золотые волосы рассыпались по плечам и спереди были убраны со лба под дешевую заколку. Ярко и жирно накрашенные глаза. Темная, наверно, вишневая помада, от которой полные губы блестели, будто ела и не вытерла рот салфеткой. Широкие скулы и маленький подбородок. Не молода, зрелая дама, но красивая, очень. И как идет.
Картинка скакнула и Милица увидела лицо мужчины. Дернула рукой, чуть не сбив телескоп на пол. Кольцо объектива больно ударило по лицу. Она закрыла глаза ладонями и зажмурилась, крепко-крепко.
Видишь, Милица, сказала себе, стараясь — спокойно. Ты обидела его здесь, в темной и старой, но своей комнате, прогнала. И вот куда он пошел. Туда, куда хотела уйти ты сама. Поделом тебе!
Вот открою глаза, посмотрю снова и рассмеюсь, потому что не может быть — Он. И еще потому что я так не хочу, а хочу по-другому. Пусть там под фонарем — другой, не Ардо! Ее Ардо, светлые глаза цвета летнего неба, серебристые волосы и улыбка на резко очерченных губах.
Она открыла глаза и быстро, чтоб не передумать, прильнула к резиновому ободку глазом. Женщина стояла под фонарем, прямо и спокойно. Лишь чуть поворачивала лицо, следя за мужчиной. Он, засунув руки в карманы плаща, прохаживался взад и вперед, что-то говорил, бросая в нее слова. Она покачала головой и рассмеялась, приоткрывая рот, блестя зубами. Тогда мужчина остановился, хорошо, чуть сбоку, так что Милице был виден его профиль, такой родной. Вынул руку из кармана и протянул женщине сверкнувшую фляжку. Она, цепляя ноготками, отвинтила крышечку. Глотнула и протянула ему, закрывая рот ладонью. Но он, снова руки в карманах, сказал резкое, дернул подбородком. И она послушно стала пить, глотая с трудом и останавливаясь. Когда пауза затянулась, он почти опрокинул ей в лицо фляжку, придерживая затылок другой рукой. Исказив лицо, говорил резкое, нет, кричал. И когда она рванулась, мешая на лице остатки жидкости со слезами, схватил за ворот плаща и… Ударил.
Милица приблизила его лицо почти вплотную к своему. Как для поцелуя. Сведенные злобой брови, оскаленный рот, ненависть в глазах. Мелькал кулак, разжимаясь для пощечины и снова стягиваясь в белый комок — для удара в живот и под ребра. Золотые локоны метались по столбу и на них оставались хлопья краски.
Фляжка упала и откатилась к черной решетке на асфальте. Она ей снилась, эта решетка, тогда, после двоих мужчин, что держали девушку с короткими кудряшками. И во сне черная кровь, собираясь ручейком, медленно утекала в живот старого города.
Ее Ардо схватил женщину за локти и развернул к себе спиной, задирая плащ. Упала к беленьким лодочкам узкая юбка, разорванная по застежке.
Когда ее голова стукалась о столб, Милице казалось, что вслед за каждым ударом приходит медленный, с опозданием, звон. Будто железо стонет. Он двигался, мерно, как машина. И останавливался, чтобы снова ударить. Милица закрывала глаза и мельком думала, что надо в туалет, быстро, а то ее вытошнит на подоконник. Но открывая, видела, внизу что-то меняется, женщина уже не спиной, а на коленях, с поднятым вверх лицом и помада размазана по скуле, а может, это уже кровь.
И Милица не уходила.
Время шло само по себе, забыв о Милице. И кажется, про утро оно тоже забыло, потому что происходящее длилось и длилось, целую вечность, а небо все черное и фонарь светит и светит.
А потом все кончилось. Снова открыв глаза, Милица держала на сетчатке его лицо, похожее на морду воющего волка, только не к луне обращен был его вой, к фонарю. И, глядя сквозь мутные слезы напряжения на то, как стоит он, руки в карманы, и смотрит на лежащую в круге света, изломанную им так, что кажется, человеческого в очертаниях женской фигуры не осталось, Милица подумала, — теперь эта морда навсегда перед глазами и все остальное через нее.
Ее Ардо постоял, покачиваясь на носках ботинок, и блик бегал по ним туда-сюда, как суетливое насекомое. Закурил, щурясь и выпуская дым в желтый свет. Три минуты (время-то спохватилось и снова пришло, взяв Милицу за руку), три минуты курил и рассматривал неподвижно лежащую под фонарем фигуру. А после отбросил окурок и подошел, сел на корточки, наклонился. В круге объектива слабая рука падала и падала с мужского плеча. А он бережно устраивал ее снова. Приподнял обвисшее тело, и стал целовать опухшее лицо в темных пятнах помады и крови. И Милица увидела, как шевельнулась рука на его плече, обняла шею, сминая воротник. Мужчина укачивал женщину, гладил по голове осторожно, как звериного детеныша гладят пальцем по меху. Помог встать. Пошли к выходу, и он, чтоб не спотыкалась, поддерживал поверх короткого плащика. Мгновение нарисованные светом фигуры были схвачены рамкой проема и скрылись в темноте.
У черной решетки осталась лежать разорванная светлая юбка.
Лорка пришла на третий день. Милица из своей комнаты сначала услышала ее голос внизу, и как отвечает хозяйка, а потом — скрип старых ступеней. Подумала тускло, что неприбрано и воняет старыми окурками, повернулась спиной и закрыла глаза. Дверь на стук открывать не хотела, но по голосу Лорки, требовательному и громкому, поняла, та сейчас пойдет за Геленой, и это было, как зубная боль. Встала. Покачиваясь, подошла, шевельнула задвижку и снова легла, пока Лорка входила, оглядываясь.
— У тебя миленько, — сказала та в лежащую спину и зашуршала пакетами, зацокала каблуками, треснули, раздвигаясь, шторы и загремели оконные шпингалеты.
— Ого, какой приборчик! Звезды считаешь? Вставай, я кофе сделаю, где у твоего крокодила кухня?
— Не надо кофе, — голос был глухой, за три дня забыла, как пользоваться.
— Тогда молоко пей, я принесла. И печенье.
— Я, больная, что ли?
— Жива и ладно. Ну, поздоровайся со мной!
— Иди к черту!
— Хорошо, выживешь.
Заскрипела кровать, подаваясь, лежать стало неудобно. Милица повернулась и ткнулась лицом в протянутую чашку. Сладко пахло ванилью и еще — лаком для ногтей от лоркиных рук. Пока она обреченно глотала, Лорка совала ей в рот печенье и говорила, мало и больно. Но это было, как теплые носки после горячей горчицы.
— Конечно, больная. Я знала, что не придешь, день-два, а тут уже три, я стала волноваться.
— Ты? Ой, извини.
— Ладно, проехали. Зря ты так, сильно. Не помирать же каждый раз. Тем более, из-за него.
Она сделала губами презрительно:
— П-фф… — и добавила, — да не красней, все видели. Ты ж летала просто.
Милица отодвинула чашку и сунулась лицом в угол подушки. Спросила оттуда:
— А что, она уже там?
— Приехала. Но приболела наша Аннушка, будет через пару недель. Так что, не глупи, пойдем проветришься, хочешь?
— Нет. Спасибо тебе.
— Ну, я пойду, меня там мальчичек ждет, о-о-о ты бы видела, красавчик. А ты подмети и окурки выбрось, воняют! Постой, я сама.
Милица села на постели и смотрела, как на близкие крыши веером разлетаются окурки и пепел.
Лорка от дверей подмигнула ей, сложила губы в поцелуй. И застучала-заскрипела по лестнице вниз, к весне и голубому небу, которое для всех.
На следующий день в коридорах и аудиториях университета Милица начала еще одну жизнь, вдруг понимая, а ничего не изменилось вокруг. И даже люди не кусали взглядами, как ей думалось, когда застыла на входе, глядя на огромные деревянные двери, будто в первый раз.
Она не пошла на лекцию Эдуарда Моста. И на следующий день не пошла. Изредка видела, как идет он по коридору своей легкой походкой и раскланивается с коллегами, слушает студентов и смеется.
А через две недели, когда собирались домой, и Лорка сидела на подоконнике, красила губы, протягивая их поцелуйно к карманному зеркальцу, к ним подошла невысокая женщина с приятным лицом, держа на руке плащ.
— Анна Георгиевна! — шумно обрадовалась Лорка, незаметно пихнув локтем Милицу, — как ваше здоровье? Мы соскучились, правда!
— Не верю, Лариса, но все равно приятно.
Милица изо всех сил следила за своим лицом. Так все близко, не денешься никуда, вот дура, Лариску ждала, надо было сразу уйти.
Анна Мост переступила дорогими туфельками-лодочками, натягивая коленями узкую юбку из темной шерсти.
— Ларисочка, вот пакет, я там брала у девочек кое-что по приезду. Для любительской постановки. Возвращаю в целости.
— Хорошо, я отдам.
— Встретимся на лекции, — и она пошла, к дальнему свету окна в конце коридора, расправив плечи, четко ступая изящными каблуками. На ходу поправила коротко стриженые пепельные волосы, кинула на плечи короткий плащик с разлетающимися полами. Милица смотрела ей вслед.
— Ну, пойдем? Увидела? Как тебе она?
— Дай мне пакет.
— Что?
Милица дернула к себе пакет, отданный Лорке профессорской женой.
— Мне посмотреть. Дай!
— Да там мелочевка всякая, она ведь тетка уже, а ей понадобились всякие девчачьи штучки, вот и попросила.
В пакете перекатывались тюбики дешевой губной помады, сверкали яркими квадратиками синие и зеленые тени с блестками. И заботливо завернутый, лежал в прозрачном целлофане парик в длинных золотых локонах.
— Особо не ройся. Слушай, а ты видела, у нее синяк на виске, видела? И ссадина через скулу. Упала, что ли.
Лорка хихикнула, отбирая у Милицы пакет:
— Если б кто другой, я б подумала, муж поймал на горячем, наставил синяков. К нам поедешь сегодня? Или снова будешь свои звезды считать? Что молчишь?
Милицу ждал фонарь, он спал днем, но знал, что вслед всегда приходит ночь, которой нужен его свет. Даже такой. Недаром фонари есть везде и их так много. Может быть, каждому — свой фонарь…
— Не могу, дело у меня. Завтра, может быть.
— Отлично!
Лорка чмокнула воздух и убежала.
Этой ночью под фонарем никого не было и — хорошо. Потому что теперь, глядя на черную ногу, толстую внизу и тонко изогнутую кверху, на каплю тяжелого света над серым асфальтом, Милица видела фонарь, а не тех, кто приходит к нему. И когда устали глаза рассматривать сто раз крашеный металл, грубые чугунные завитушки на узкой тумбе, щербатый асфальт и черную решетку в углу двора, сказала шепотом:
— Ты тут всегда, правда? И для всех. Для них и для меня тоже.
Фонарь молчал. Светил, раскинув паутину тусклого света в ночи.
Утром Милица долго копалась в вещах, нашла подаренный мамой свитерок, тугой, в обтяжку. Она тогда разревелась и обиделась на мать, а объяснять не стала ничего, если она такая — не понимает сама.
Перед зеркалом натянула на себя, чувствуя, как тонкая плотная шерсть обхватывает груди, рисуя их, не пряча. Влезла в любимые джинсы. А курточку надевать не стала, просто кинула на руку и повесила на плечо сумку с бахромой.
Продавец в спортивном магазине обрадовался:
— Решила купить рогатку?
— Решила тебя пригласить в кино. Помнишь, сказал, ты лучше рогатки.
— Я лучше, чем сто рогаток! Говори, где и когда.
С ним было спокойно, и потому хорошо. И в кино, где они больше обнимались, чем смотрели на экран, и после, когда гуляли по ночным улицам в совсем другом районе, и она знала, что безнадежно опоздала на метро.
— Вот тут я живу, — показал он на старый подъезд, — ну что, зайдешь?
— Подожди. А тут что у вас?
Проем мед двух домов смотрел на них большим, будто нарисованным сажей, глазом и крыши над ним смыкались.
— А-а-а, это такое особенное место. Хочешь посмотреть?
— Да.
— Только не пугайся, хорошо?
Они пошли через душную черноту, спугнув неразличимую кошку, навстречу тусклому свету фонаря, что стоял, держа на весу тяжелую каплю света и смотрел сверху, равнодушно.
— Ты не бойся, тут никого не бывает. Почти. Иди сюда.
Милица смотрела на щербатый асфальт, решетку в углу старого дворика, тройку мусорных баков у заколоченной двери. Ноги ослабели, и невозможно было сделать шаг. Тогда он прошел вперед, встал, прислонившись к столбу. Развел руки, зовя ее к себе:
— Иди сюда, Милица. Видишь, я тут — для тебя.
— Ты? У столба — ты? Не я?
Свет падал на темные волосы, оставляя в тени глаза, и Милица не знала, что думает он, вставший к столбу — для нее.
Но подошла, через старый двор, в котором запахи превратились в промельки воспоминаний о том, что тут было, и все еще продолжает происходить. Ощущая щербатые трещины в асфальте через тонкие подошвы легких мокасин, вступила в круг тревожного света. И, слушая себя, чтоб не ошибиться и сделать все правильно с первого раза, положив руку ему на плечо, надавила. Смотрела, как запрокидывается его лицо, пока он съезжает спиной по столбу, не отрывая от нее глаз.
И, наконец, увидев его глаза и то, что в них, кивнула, поняв. Медленно размахнулась, вливая движение руки в текущую через них вечность, и ударила по открытой щеке. Слушая звон старого металла, о который — затылок.
СЕРДЦЕ СТЕПИ
О бесполезном
Лета шла по белой дороге, прорезающей степь, как брошенный в траву каменный нож и злилась. Злиться тут было хорошо. Ветер дул прямо в лицо и шумел в ушах, заглушая все вокруг, кроме мыслей. Лезвие дороги, отточенное майским солнцем, плотно лежало под мерными шагами. Никого. Можно размахивать руками и не следить за лицом. Длинная тень шла впереди, ударяла по ступням снизу, подол короткой юбки мотался из стороны в сторону, показывая бедро, другое. Красиво. Ловко.
Веселая злость молчала внутри. Ее нужно было унести в степь, щедро сбрызнутую огромными маками — что росли не куртинками, а сразу — в половину поля, за ней алыми полосами, унести еще дальше — и там оставить.
Лета не оглядывалась, это тоже было частью злости — ушла и ушла, шаги ровные, быстрые, так можно уйти дальше, чем убежать, потому что долго не устаешь. Злость на степной дороге устанет быстрее. Она смотрит вперед Летиными глазами, видит бескрайнее, где травы уже выстрелили из мякоти весны колосья и острыми остями зацепились за лето. Через травы плоскими змеями брошены дороги, и смотреть на них хорошо.
Асфальт отстал, когда свернула на проселок. В кустах на обочинах, схваченные колючими ветками дерезы, по одному оставались проговоренные злые слова. А рядом и по краям шла только степь с каменными проплешинами, на которых крошечные свечки чабреца горят фиолетовым запахом.
Шаг-шаг-шаг и еще, и дальше. Так хорошо. Никого. Сама. Чуя спиной — там, может быть, что-то происходит. Связанное с ней, если все-таки двинулся следом и маячит точкой далеко позади. Может быть, кричит вслед. Но ветер дует в лицо, затыкая уши сладким, отшвыривает звуки далеко-далеко за спину.
Не буду оглядываться! Так думает Лета в такт быстрым шагам. И не вернусь. Пока бензин злости гонит и гонит вперед, пока на километры вокруг — никого. Одна!
…Шаги замедляются сами, когда дорога, вильнув, прячется за ровную полосу деревьев. Степные акации — крутолобые, как зеленые овцы, упрямые, одинаковые. Если свернуть за деревья, то уж совсем одна, без всякого притворства. И если не увидит, то…
Сворачивает.
Какое-то время дорога ведет вдоль полосы деревьев, купает Лету в запахе цветущей акации. Цветов так много, что листья лишь кое-где выглядывают, выпрастываясь, кажется, тоже злятся. Сочная каша тяжелыми гроздьями, хоть ешь ее, зачерпывая руками ко рту. Через дни подсохнут, станут легче и тоньше. Умрут. Свалятся вниз маленькими теплыми ворошками. И только упрямые листья продолжат пятнать ветер круглыми кончиками пальцев.
Слева деревья, справа широкий, будто присевший, холм. Дорога, наверное, свернет за него. Так и есть.
Лета смотрит на дорогу, держа на краю глаза пятна маков на боку холма и высокие, как кактусы, чертополохи. Чуть погодя, щурясь от солнца, поднимает голову на мелькнувший перед глазами блик — птица там? Машина?
И останавливается. Посреди степной чаши, в самом, кажется, центре ее, хотя вдаль все без краев, стоит что-то. Они с ним стоят. Быстрая женщина в легком платье — на узкой дороге. И это, мелькнувшее по прикрытым от солнечного света глазам — далеко впереди.
Пока стоят, говорит только ветер и предлетняя жара. Горячими пальцами шевелит волосы, раскладывает на лбу пробор, наверное, некрасиво, но кто видит? — Никто…А, вот и кузнечики заскрипели. Лета поворачивается к ветру ухом, их так лучше слышно. И птиц. Позади, в кроне, ворочаясь среди каши цветов, щелкает соловей, он, наверное, сошел с ума и за это Лета его любит, тоже мне, нашел курскую глубинку, когда еще тут, в широчайшей степи были соловьи? Но вот есть же!
А над головой дежурят жаворонки. Если не смотреть, то о них знаешь правду: нашли старую коробку с пуговицами и бусинами, откинули жестяную крышку и роются в сокровищах короткими клювами, подхватывают и роняют на тонкую жесть, а поддельные хрустали и стеклянные бриллианты говорят трррррррррр, рассыпаясь. Не то ласточки, которые сидят на проводах рядком и все, как одна, перебирают старые деревянные четки, такие сухие, что дерево звенит. Перебирают быстро, старая нитка не выдерживает и рвется. Сыплются одинаковые бусины. Махнув хвостами, ласточки смеются, цвикая. И достают следующие низки. Наверное, в их пиджаках есть специальные кармашки.
Лета стоит и слушает, кажется, даже поводя ухом, как делают то степные рыжие лисы, но кроме голосов птиц и кузнечиков, ветер не принес ничего. То, что стоит посреди степи — молчит. И оказывается, пока они стояли, вдвоем, злость вся улетела, но еще осталась обида, села на дно и покачивается чайной заваркой.
Лета переминается с ноги на ногу. А ноги-то уже устали. И устали глаза смотреть вдаль на ветру, а может — от слёз, а еще больше устала голова, потому что, как бусы с разорванной нитки, одно за другим придуманные предположения не подходят.
— Ведь это не дом? — Лета может спрашивать только у себя или у ветра, и, потому идет, держась прищуренными от солнца глазами за огромное белоснежное полотнище, подпирающее голубой свод. Оно стоит на узком основании, как воткнутый в землю лепесток дикого шиповника. Расширяется вверх и, кажется, волнами по верхнему краю — широкие плавные зубцы… И вообще, оно странно изогнуто все. От непонимания ноет в голове.
Соловей затих. Конечно, просто деревья остались там, позади, но можно решить, что он наелся цветочной каши, упал в траву и заснул, раскрыв сытый клюв. Но тогда надо быстро подумать, чтобы не пришла к нему степная лиса. — Нет, спит прямо на дереве, свернул себе из травины петельку для лапы, чтоб не упасть во сне, и сидит, свесив хвост. Да, так хорошо.
Степь плавно поворачивается, показывая себя. Вот, вместо маков, подернулась ледком дикого льна. Лепестки нежные, удивительно, как уживаются с ветром, ведь он тут каждый день. Наверное, ночью, пока ветер спит, цветы выдергивают льняную нитку из своего же подола и пришивают лепестки покрепче, покачивая синими.
После лужиц ленкА, на каменных плитах торчит полынь. Еще маленькая, мягкими толстыми ежами на коротких крепких ножках. Ладонь положить и примять, выжав из упругой подушки запах абсента. Ветер присаливает его морем и от того становится понятно — здесь тоже все правильно.
Ноги устали и болят. Но позади все увеличивается, щекоча лопатки, пространство. И белая штука, держащая небо, стала больше, но почти не приблизилась, так кажется. Дойти надо. Раз уж пошла и одна. Устав смотреть вперед, Лета вертит головой на ходу. Седые волосы ковыля, все в одну сторону, послушные ветру, такие, что тоже хочется провести по ним ладонью, но для этого надо вырасти, стать доброй и ласковой, как огромная пестрая птица. Лета про нее знает, из сна. Птица живет на опушке леса, сухого и звонкого, краем выбегающего к плоским маленьким дюнам. В ее гнезде всегда есть птенцы. От этого перья на груди ее мягки, а крылья огромны. Она не слишком хорошая мать, потому что, когда приходит Западный Ветер, ей надо лететь с ним, но птенцы смирные и дождутся.
Сказки помогают идти. И полотнище уже близко, и видно, конечно, это не дом. Это, наверное, скульптура такая? Одна, посреди степи, подрезанной сбоку возделанным полем. Белая.
И подойдя совсем близко, Лета вспоминает про шею, она ноет, — вот уже сколько минут идет, задирая голову, не имея сил оторвать глаз от лепестка белого каменного пламени, лижущего небо.
А еще — музыка. Не свист и не ноты, а плавное гудение, переплетается лентами, разматывается и снова скручивается. Уже стоя в тени огромного каменного полотнища, изогнутого широкими плоскостями, Лета видит отверстия в краях. В них можно засунуть руку. Ветер набивается в дыры и, протекая камень, гудит.
Эолова арфа.
Она идет вокруг, поднимая голову, оступаясь и скользя по высушенной солнцем траве. Мощный перекрученный ствол — кажется, бетон… Побелен… Давно, вон побелка осыпалась. А на краю, где ствол расширяется, вверх бежит трещина. В нее нанесло земли, и теперь оттуда кивают метелки дикого овса, просвеченные солнечным светом. И два мака — такие красные на белом фоне.
…Человек стоял на другой стороне, на границе света с тенью, спиной к ней. Темный от степного загара, в выгоревших штанах мешком и серой, когда-то, наверное, зеленой рубахе с погончиками на плечах. Один потерял блестящую пуговицу и свешивался на худое плечо, елозя по закатанному рукаву. Темные волосы, длинные и очень густые, заколоты деревянной шпилькой на затылке и несколько прядей свисали на шею, одна на лоб. У ног, обутых в растоптанные пыльные сандалии, — кривое ведро, заляпанное известкой. Он макал в ведро мочальную круглую кисть и широко водил по серым пятнам, где облезла побелка.
Лета переступила с ноги на ногу. Скрипнула и зашелестела под ступнями трава, но ветер и мягкое гудение арфы — не услышит ведь. Кашлять? Или сразу сказать что? А он дернется и уронит кисть, и после будет недоволен, что испугался, а она…
— Устала?
Дернулась и испугалась она. А мужчина смотрел. Улыбка сверкнула на темном лице, будто ее тоже нарисовали кистью и сразу стерли.
— Поможешь?
— Д-да. Конечно! А что надо?
Он махнул кистью. На штанах загорелись белые точки.
— Помажь пока. А я принесу воды. Попить и добавить в побелку, а то одна гуща осталась. И отдохнем.
Она водила кистью по камню, глядя, как загорается на солнце белый цвет и тут же набирает в себя желтизну. Подступал вечер. Еще далеко до заката, до его мерных и медленных безумств в ближнем к нам космосе. Но уже в воздухе растворена легкая, красная с желтым, медь и оттого звонче раскатываются бусины птичьего пения.
С невидимой стороны хлопнула дверь, заскрипело, звякнуло. Темноволосый вышел из-за стены, неся в руках банку с водой, большую, трехлитровую, у нас такие называют «баллонами» и закатывают в них на зиму огурцы и кабачки. Вода под самый край, плескалась от шагов и на рубахе темнели мокрые пятна.
— Попей, чистая.
Лета глотала, постукивая зубами о стекло. Он придерживал дно и улыбался, рассматривая поверх круглого края. Пила и думала, что здесь, вот сейчас, любую мне воду. Нестрашно. И очень вкусно.
…Оторвалась и вытерла мокрые губы и щеки. И тоже улыбнулась. В ответ по его лицу с округлыми детскими щеками, красивым ртом, из углов глаз веером разошлись щурки. Прикрытые черными прядями волос на потном лбу тонкие морщины говорили: не двадцать пять, как по глазам, скорее уж к сорока, а, может, и к тем еще несколько. Когда поворачивал голову, глаза просвечивали желтым насквозь. Смотрел прямо — зрачки тонули в карей темноте.
Познакомиться… Всегда проблема, когда прошли первые разговоры и надо дурацкое «дакстатименяЛетаавас». И она спросила:
— А это что?
— Это? — он поднял голову и посмотрел на каменное белое крыло, от которого по загорелому лицу скользнула тень.
— А как думаешь?
— Я не знаю.
— Тогда придумай.
Присел на корточки и стал подливать воду в ведро. Поставил банку на траву, поворочав, чтоб не упала, и помешал жижу палочкой.
Одна рука у Леты уже была испачкана белым и она вытерла ее о подол, запачкав и ногу. Потом подняла голову и стала смотреть на плавные изгибы, уводящие глаз в небо. Хотела сказать, конечно, это крыло. Или цветок. Потому что похоже. И еще — эолова арфа…
— Это Сердце степи, — сказала. Голос получился уверенным.
Сидя, он поднял лицо, сверкнул улыбкой и не стал ее стирать.
— Ага. Так. Как узнала?
— Само сказалось.
— Вот и молодец оно. Правильно сказалось. Да ты сядь, устала ведь? Я домажу, что осталось, и будем чай пить. Хочешь?
— Да.
— Не торопишься?
— Нет.
Она села, вытянув ноги по колючей сначала, но, если потерпеть, то быстро приминавшейся, становясь хорошей для тела, траве. Расправила подол, подвернув края потуже, чтоб нигде не задирался. И, кажется, покраснела, когда он заметил и улыбнулся.
Степь приблизилась. Если лечь, то перестанет ныть спина, а ковыль встанет на уровне глаз и в него можно будет пойти и заблудиться. Пока лежишь… смотришь…
— Не засни там, голову напечет.
Она вышла из зарослей ковыля, чувствуя, как тянется он напоследок провести по спине тонкими нитками, опушенными белым мехом, и моргнула.
— Кажется, уже…
— Иди сюда, тут можно прислониться.
На солнечной стороне он постелил старый ватник, чтобы сидеть, опершись спиной о стебель бетонного крыла. Солнце висело чуть выше напротив, опушенное лучами, как ковыльным мехом. И уже загорались от брошенных ниже лучей верхушки травы. Чуть в стороне от вытянутых ног был круглый очажок из обломышей ракушечника и теперь там скакал и сердился еле видный огонь. Просился за камни. Но прихлопнули сверху старый железный лист, придавили чайником. Серый алюминий в царапинах, на крышке оплавилась и стерлась черная пуговица из пластмассы.
— Чабрец, мята, немножко зверобоя, чуть-чуть, чтоб горечи не было. Сахар нужен?
— Не-а.
Подав мятую кружку, завернутую в тряпицу, чтоб не ожечь руки, взял такую же и себе, привалился к бетонному основанию чуть поодаль и разворошил пакет с ломаным печеньем.
Чай, похожий на горячую степь, в которую уже пришла ночь. В ней не задают вопросов, молчат и глотают степь, а после, так же молча — что-то делают. Или просто сидят и смотрят в одну сторону, вместе. И это — как делать.
Допив, он отставил кружку и сказал:
— Закат посмотрим сверху.
Под гудение ветра в отверстиях открыл маленькую дверь, забеленную и почти невидимую. Внутри безо всякого волшебства громоздились у подножия узкой лесенки ведра, стояла швабра и лежали на куске мешковины пыльные инструменты — топор, молотки, плоскогубцы. На стеллажике у стены лежала стопка рваных газет, стояли мутные стаканы и посеревшие от пыли бутылки.
— У тебя тут, как у папы моего в гараже было.
— Обычное. Мужское.
Стоял совсем рядом, и Лета прижала к бокам опущенные руки, чтоб дать ему место повернуться.
— Я первый полезу. Дверь прикрой плотно. Станет темно, так что вытяни руку, куда шагнуть.
— Хорошо.
Поднялся, загораживая свет сверху. А Лета, притянув дверь, за которой осталась степь, взялась руками за круглые прутья сварных ступеней. Потом, держась за сухую, в царапающих трещинах ладонь, вылезла через круглый люк, держа юбку у бедра. Встала. Пришел ветер, сразу же, и поднял волосы над головой, взметнул. И она, держа юбку, старалась другой рукой прижать волосы, чтоб не лезли в рот и глаза.
— Вот, — сказал он.
Ветер вытрепал из-под деревянной шпильки густые длинные волосы, они стояли над головой черной живой короной, вились, как змеи, падали и снова вздымались.
— Иди сюда, на край, тут удобно, — и он пошел по круто и плавно уходящей в желтое небо плоскости, нагибаясь и иногда касаясь пола пальцами.
Посмотрев на оставленные им рядом с люком сандалии, Лета скинула свои. Стало странно, будто разделась. Подняла голову, и сразу увидела, как двигаются лопатки, натягивая выгоревшую рубаху, напрягается жила на щиколотке над твердой пыльной пяткой.
Идти вверх было удобно. Пологий подъем принимал босые ноги шершавой плотью, а после начиналась почти плоская площадка — огромной ладонью над травами далеко внизу. Лета шлепала босыми ступнями, прикасаясь к шершавой, нагретой солнцем белизне, каждый шаг прокатывался от колена, через живот, шёл к груди, напрягая плечи. И отдавался в голове. Другие шаги тут, не такие, как внизу, тем более — далеко, вначале. Когда еще не знала о Сердце степи. А было ли это? Было ли что-то до этого места, поднятого над всем, и над временем тоже? Лета шла, мерно толкая себя к близкому небу, и злость, сплавленная с обидой, увиделась ей остывшей пластиной тусклого старого цвета, что при каком-то из новых шагов вытряхнулась из души, канула вниз, и застряла в сизых клубках полыни, таких тугих, что и не прозвенела, уткнувшись в глину скошенным краем. Лета улыбнулась: когда-нибудь, проезжая на косматой маленькой лошади, скифский воин увидит в траве тусклый блеск и спешится — подобрать. Покрутит в руках и спрячет в сыромятный мешочек у пояса — сменять на базаре на что-нибудь нужное.
На самом верху, подойдя к ветру, что гулял тут свободно, поняла — уже подобрал. Спрятал и увез совсем. И хорошо.
Сидеть, где круглились волны закраины, было уютно. Ноги висели над степью, две пары босых ног. Ветер трепал краешек юбки, и Лета, плотнее завернув подол под бедро, заплела косу, забрав в нее все-все непослушные пряди.
— Завяжи, а то распустится, — он протянул затрепанное махровое колечко, девчачью штуковинку, и она взяла, искоса посмотрев на его спутанную ветрами гриву. Вместе рассмеялись, когда сказала:
— Только у тебя черные, да?
Солнце над горизонтом взбило для себя облака и теперь, плавясь, протекало сквозь те, что повыше. Хотелось помочь и подставить руку, но страшно обжечься. Справилось само, улеглось, окрашивая все, подсвечивая, зажигая спокойное медленное пламя. Может быть, там у него вовсе другое время и, может быть, бешено всё вертИтся, взрывы один за другим, но, за синевой, тут оно просто ворочается, уходя, приходя, держа время для всех людей, нас.
— Я сделал его сам. Давно. Сперва заболел просто, видел во сне и когда ходил по улицам, тоже видел перед собой. Один раз чуть грузовиком не сбило, шофер высунулся сверху, обложил меня матом. Таким, что я восхитился просто.
…Красное небо не отпускало, мир по новому виднелся отсюда, он не имел краёв, и казалось совсем простым соскользнуть в бесконечность с плавного края, так, на минутку, чтоб мягко вывернувшись в тихом воздухе, подплыть обратно, или повиснуть, как в воде, держась рукой за каменный край. Но голос его звучал, звучал, и Лета вернулась, чтобы видеть, как сел, поджав ногу и стал закручивать волосы, собирая в тугой пучок. Шпильку держал во рту, говорил чуть невнятно.
— …Потом чертил, рассчитывал. Там арматура внутри, хорошая, прочная, но надо было еще, чтоб не подвел бетон, не посыпался через время. И форма. Чтобы она вырастала из пространства, понимаешь? Как будто она тут — всегда. И навсегда.
— Понимаю.
— Хорошо. Денег не было сначала. Я ходил, как дурак, предлагал, показывал эскизы. Говорил. А мне — о бесполезности. Хотели, чтобы станция метео или дом отдыха, чтоб вода и электричество. А я…
Он оперся руками и повернулся. От стянутых на затылке волос стал похож на японского самурая со старого рисунка, на кончике шпильки зажглась красная солнечная капля.
— Польза все бы убила. Ты должна понимать. Ты же дошла! Увидела!
— Да.
— Ну, вот. Именно! Вещь, на нашем уровне изначально бесполезная вовсе. Но на других… Или — не нам. Главное, чтоб задумывалась и делалась в чистоте — не для толпы, и не для пожить в ней, не для чего-то. Как бы — ни для чего! А — вот этому…
Стоя на самом краю, поднял руки, разводя в стороны, и улыбаясь. Далеко внизу его тень повторила все, кроме улыбки. Тени не улыбаются.
— Нет в мире пользы, понимаешь? Все сделанное люди делали просто так. Просто затем, что кому-то нравится. Деньги придуманы после. Нету их. Нравится — и всё. Другого нет. Это я тут только понял. Потому оно здесь. Сердце…
Помолчал, опустил руки, сел…
— Тогда набрал заказов, делал барельефы в клубах и на площадях, ходил от поселка к поселку. Жил, как бродяга, не тратился почти, люди кормили.
Он рассмеялся, глаза и зубы блеснули закатным светом.
— Думали, сумасшедший, но безвредный и даже полезный. Потом нашел это место и говорил с директором колхоза. Тут вокруг поля, а этот кусок — по плану долго еще не тронут. Воду к нему не подвести и линия далеко. Директор никак не хотел, ему понять надо было — зачем. Пришлось придумать. Показывал журналы, вот говорю, за границей так делают. Нашел вырезки из фантастики, там все равно текст на шведском, и показал, врал, что это все уже построено и стоит там, в Швеции. Для туристов.
Лета представила директора, по летнему времени обязательно в бежевых льняных брюках и пиджаке с пропотевшей спиной, как он перебирает фото странных прекрасных зданий, что никогда не будут построены. Улыбнулась. Смотрела, как в его глазах отражаются красные солнца. И как шея смугла в распахнутом вороте старой рубахи.
— Я ему еще памятник сделал, директору, на центральной площади. Ужас и ужас, но всем понравилось. Там девушка как бы летит и держится за плавник дельфина. Дочка его позировала. Да…
К Лете вдруг пришла ревность. Девчонка… Шла после школы в пустой ангар, садилась на возвышении, вытягивала руку и болтала, стреляя глазами; вздыхала, жаловалась, что рука затекла, пили чай и снова он усаживал ее.
— У тебя с ней, наверное, был роман…
— Нет, что ты. Ей скучно было. Сначала интересно, а после скучно.
Лета обрадовалась и отвернулась, чтоб не заметил радости. Стала смотреть на закат, что, покручивая прутиком, шел к земле.
— Не с ней.
— А…
— Директор потом все комиссии привозил, на площадь, к скульптуре, хвалился. Меня еще просили, другие, оно же — если есть у одного, то и другому надо. Из домов отдыха стали приезжать. Но мне надо было уже скорее, потому что деньги есть, а технику и бригаду мне дали. И я строил. Счастливый был. И все время боялся. Что арматура плохая, бетон не качественный. А потом как-то вдруг — оно и готово. Все покурили последний раз, выпили прямо тут. И уехали. Я остался один. Бетон еще серый, сохнет. Пахнет землей и пылью, сыростью от него. Ночевал прямо на траве, свернулся и ватник на себя. Под утро ноги закоченели совсем. Сел, смотрел, как солнце выходит и светит на Сердце — первый раз. И тогда встал и закричал. Орал, дурак дураком, пел, руками махал.
— Да.
— И тогда, утром, первый раз играла арфа. Я ведь не хотел ее делать. Потому что нет лампочек и нет воды — ничего нет, кроме степи и ветра. И пусть бы пел только ветер вокруг. Но сделал, не знаю до сих пор — надо ли было. Ты не знаешь?
Лета сосредоточилась. Очень хотелось ответить так, как надо, чтобы прямо в сердце. Но и она не знала. Так и сказала ему. Он кивнул:
— Наверное, должны быть вещи, о которых нет нам точного знания. Во-от… А было это, дай посчитаю, четырнадцать лет назад. Кажется, вчера только, а уже выросли мальчишки, что помогали таскать ведра с песком.
Солнце ушло. Светлые сумерки излились со светлого еще неба, спокойные и вечные, казалось, ночи не будет. Лета оглянулась на теплую ладонь Сердца и подумала о мальчишках. Им теперь почти по тридцать? Он услышал и кивнул:
— Они потом сюда водили девчонок. Тут на ладони, наверху. Ты представляешь? Ты только представь! И уже бегают по поселку их дети, те, что здесь.
— Да…
Его согнутая фигура постепенно темнела, и не было видно, что на лице. И ее лица он тоже не видел, потому спросила о личном:
— Ты сказал — не с ней?
— А, это… Да. Сердце сперва было серое. Я так и думал, пусть будет, как солнечный свет сквозь облака, высохнет, будет светлеть и светлеть. А потом, когда возвращался в поселок, увидел, как она белит стенку. Домик на два окна, палисадник с маками. У нее маки росли не только красные, еще фиолетовые такие, как кульки из гофрированной бумаги, только живые. Дом старенький и все забелено сто раз, углы, как подушки — плавные, круглые. Я встал у забора, а там опереться не на что, одни колья. Руку просунул и повис, устал очень. Стою, смотрю. Она высокая, плотная, платье выгорело, подмышками от жары мокро, и с боков юбка подвернута, чтоб подол не мешал. Ходит на загорелых ногах, шлепает на стенки побелку, мажет. И рука на фоне стены — черная почти. Ну, я стоял-стоял и свалился. Устал сильно, оказывается, три недели, пока строили, не спал почти, только курил. Марина меня забрала. Отлежался у неё, борщи ел и рыбу. Жареную. Знаешь, когда выспался, спросил, — на руках, наверное, принесла в хату? Смеялась. А оклемался, взяли мы с ней ведра и пошли. Известь гасили прямо там. Белили. И Сердце стало такое, как надо. Запело.
— А где она сейчас?
— Живет. Сын у нее, тринадцать лет пацану, лучше всех ныряет и плавает на ту сторону залива.
— Твой…
— Думаю, да. Я к ним, когда приезжаю, прихожу обязательно. Толку от меня в жизни никакого, денег, видно, дано было только на Сердце собрать. Но они радуются. Марина кормит борщом. А потом мы с Пашкой идем за ракушками и на берегу жарим. Едим. Пацаны его приходят. И девочки.
— А потом?
— Я уезжаю. И снова возвращаюсь. За Сердцем ведь надо смотреть. Ребятня сюда часто приходит. Пару бутылок воды с собой и костер жгут. Ты не заметила, там с одной стороны все закопчено и пишут на стенках. Всякое.
— Вот поганцы.
— Да нет, что ты. Пусть. Ведь ты и не заметила.
Свет плавился сам в себе, растворялся и ложился на травы. Чиркали серый воздух летучие мыши и далеко, сквозь тихое пение арфы, ухнула сова. Сверчки сменили кузнечиков, заплели свои картавые ри-ри-ри вокруг спящих стеблей. И стало так сладко одиноко, так раскрыто и можно все. Лета сказала:
— Я тебя люблю.
Потому что больше и лучше пока не могла сказать. А сказать надо было. Он покивал, понимая:
— Да, я знаю. Ты — да.
И после этого еще посидели, каждый в своем проеме плавной закраины, а ветерок, ложась спать, напоследок потрогал босые ноги.
Арфа стихала, и это было правильно. Здесь, в степи, очень тихие ночи. Уже скоро, через земных полчаса будет совсем темно и только вдалеке засветится горсть огоньков, как глазки креветок под темной соленой водой. Наступит время идти, тихо прижимая ногами светлую в ночи дорогу. А после устать так, что не достанет сил говорить. И лечь спать, чтобы проснуться в другое время — в утро завтрашнее или вчерашнее, это уж, как выберешь сама, Лета.
— Ты должна еще посмотреть со всех сторон. Я рад, что увидишь.
— Тогда пойдем, пока свет.
Останавливаясь, обошли Сердце, глядя, как меняется оно через каждые несколько шагов. В светлой темноте растворялся легкий язык белого пламени до самого неба, крыло большой птицы, оплывшая набок свеча, наполненный ветром парус, лепесток белого шиповника с черными уже в темноте проушинами арфы, и снова язык белого пламени… Ладонь, протянутая, чтобы взойти на нее… Сердце дикой степи.
Обратно шли долго и молчали. Свет не уходил и, когда подошли к поселку, снова случилось так, что солнце только что село. Он кивнул в сторону домика с оранжевыми окнами и за одним — плавный женский силуэт:
— Вот, Марина там.
— Иди. Спасибо тебе.
— И тебе.
Дальше шла одна, и — он налетел из-за угла, топорщась от беспокойства, взмахивая руками:
— Коза! Ты знаешь, что ты — коза! Где тебя носит? Фыркнула, нос задрала и пошла, только пятки мелькали. Я уж фонарь взял, в степь собрался, думаю, стемнеет. Ко-за!
— Ага, — Лета споткнулась, и он подхватил, заглядывая в лицо, хмуря светлые брови:
— Набродилась, бродяжка? Ногу стерла, да? Как всегда! Ну-ка, держись за меня крепче. Пойдем, я тебе молока, хочешь?
— Да.
Сумерки почесали серой лапой за ухом, встряхнулись и снова стали наступать, показывая: все помнят, и обязанности чтут. Спотыкаясь, сказала:
— Ты знаешь, что я тебя люблю?
— Еще бы! Меня да не любить! Меня любит даже соседский кот, чтоб вам, женщина, было завидно.
— Я тебе завтра покажу. Одну вещь.
— Далеко?
— Да.
— Ну, как всегда. Хорошо. Проснемся, покажешь.
И уже в почти полной темноте, замедлив шаги, спросил вдруг:
— А я увижу?
— Ты — да.
OLD SPICE
Ее будил запах сирени из темного окна, но через щель в двери карабкался по нему мелкими зверями, как по лиане опоссумы, вечный аромат яичницы с колбасой.
Она повернулась, вытаскивая рукой из-под щеки прижатые волосы, расправляя их по одеялу. Вытянула шею, чтобы уйти от жареного и надышаться цветами. Не получилось.
— Опоссумы по лиане… Будто ты знаешь, дорогуша, как это.
— По телику видела, — ответила сама себе, — как пахнут, не знаю.
Через запах смененных вчера простыней она, медленно пересекая сирень, волнами лежащую в комнате, ходила от зеркала, где ругались кукольными голосками початые парфюмчики — к платяному шкафу, выставляющему перед собой пальцы лаванды и подсушенных апельсиновых корок. Запах лаванды она не любила.
Ванная пахла мылом и дезодорантом, в туалете слоем висел освежитель, как деревенский дурак на свадьбе — толстый, шумный и — везде.
— Мам, ты бы болгарского перца положила, он так пахнет, когда жарится!
— Ох, доча, дорогой, красный, желтый, уж такой красивый. Вот схожу на рынок сегодня…
— Ладно, я просто так.
Порадовал чай, жестковатый, сильный и темный. Киплинг… Ах, да, Индия. Только пыль-пыль-пыль от шагающих сапог. Маугли на марше… Как-то по-другому он солдатиков называл.
Мама, не поворачиваясь, скрежетала железной лопаточкой, подчищая сковороду. Снова накидает себе в тарелку одних остатков, кушай, доча, я много не хочу.
Когда заметила, что мать стареет, очень боялась: изменится запах, появится это, старушечье, о чем читала, да и в доме у бабки Нади… Но там побелка и старое все, может это и не стариковский запах? И поймала себя на том, что подходила к ней, взять за руку, или поправить косынку, все реже, а когда подходила — задерживала дыхание. Поцеловать на пасху. Не надо бы и слова этого — поцеловать.
Мать вытянулась у окна к форточке, заслоняя свет, став на время прежнего роста, когда приносила с работы пирожное с красными розами на макушке кремовой горки. Впустила в кухню запах моря с залива. И хорошо. Счастье. Почти счастье. Чай и морской ветер.
— Ты что улыбаешься? Понравился чаек? Это я новый нашла, недорогой, а крепко заваривается.
— Мам, а ты знаешь, что римские патрицианки приглашали к себе воинов, сразу из похода, и чтоб те не мылись, ни-ни. Чтоб пахли всем этим, с дороги и войны. Платили им за то сестерциев кучу.
Против света не видно, что там у матери на лице.
— Замуж тебе надо. Сколько можно-то? А?
Кружка встала криво, донцем на смятую салфетку:
— Так, все, спасибо, я опаздываю.
— Ты посмотри, ты же извелась вся! Ну, пока еще смотрят и все такое, так и пошла бы! А то будешь на старости лет…
Дверь прищемила словам хвост. Скорее отсюда, из клубка привычных запахов, которые день изо дня все одинаковые, и хочется принести ведро с масляной краской, выплеснуть на пол, чтоб воняло ремонтом.
Утренняя улица встретила чем и всегда. Сегодня ее интересовали запахи, а несколько дней назад она смотрела только на цвета. Та игра тоже была прекрасной. И тоже становилась злой и причиняла боль. Все на свете иногда причиняет боль.
Замуж, значит. У Ник Степа сегодня день рождения. Ах… романтикЭ, тужур, абажур…
«Дорогой наш усатый и глуповатый Николай Степаноувич, мы, все дамы вверенного вам коллектива, па-здрав-ля-ем! А главное, желаем!»
В почти пустом супермаркете, с потолками высокими и просторными, будто для ласточек, пахло ничем, хотя должно бы — теплым хлебом с кофе, но утро, и положенные для привлечения покупателей ароматы подгонят, когда народу будет побольше.
И тут, среди мягкого мерцания новеньких мелких вещей на бесконечных полках, знакомые силуэтики влезли в игры запахов. Подошла, протянула руку к флакону. Было странно, что их тут, наверное, тысяча, одинаковых.
А в ее ванной стоял один, блестел глянцем на кругленьком животе под этикеткой с иностранными словами.
…Подходя, она прижималась к голой спине, слушала, как мычит ртом, полным зубной пасты и ждала, когда поднимет руку. Тянулась носом к подмышке и умирала. Как римская патрицианка.
Он утаскивал ее в комнату, сваливал на неубранную постель, как мешок с картошкой. Кусал за шею. Пах зубной пастой и тем самым «Олд спайсом» и после, ниже и плотнее, — свежим деревенским творожком со сметаной. Удивительно.
Потом она лежала тихо-тихо, в ощущении чистоты, будто они вступили в море и омылись друг другом, смыли все-все, кроме себя. И дышала. Чуть поводила носом, рассматривая запах с разных сторон — вот его глаза, вот хвост, а тут маленькая сильная лапа упирается в нос, а вот гладкая спина с гребешком шерсти. И он лежал головой там, в низу ее живота и, важно раскатывая слова, говорил, одно и то же всегда:
— Селледка с ананасом…
…
— Женщина, берете дезодорант?
И — подружке, в халатике таком коротком, как рубашка на кукле:
— Полчаса стоит, в руках крутит.
Захихикали вместе и сквозь запах дезинфицирующего средства в пластиковом ведерке, с которым прогуливали по рядам свое почти несовершеннолетие послышалось «склероз». Злые маленькие дети. Еще не знают, что время течет в одну сторону.
— Касса работает вон та, дальняя.
Округлый флакон лег в руку удобно, как тот пляжный голыш, на всякий случай, от этих, что залегли поодаль, посматривая. Черт занес их с подружкой тогда на этот пляжик, думали — одни и поскидывали лифчики. И этих черт занес… С тяжелыми руками и крутыми затылками, и улыбками, как щеренные акульи пасти.
Если бежать к тропинке, то придется прямо через них. Верка поднывает от страха, да и у самой щекотно внизу живота, хоть уписайся. Но одновременно крепко взят голыш в потной ладони, сразу запахший двойной солью — ее и моря. И не страшно. Вернее, сразу — все равно. Пролететь на этом запахе, как злая чайка, цепляя одной рукой дрожащую Верку, клюнуть взглядом желтого злого глаза с черным зрачком. Сжимая в другой руке круглую тяжесть для удара.
И вот, не пропала же. Живет свою жизнь.
Она улыбнулась владелицам ведерочка, ставя на полку прохладную пластмассу:
— Этот не возьму. Вот с верхней полки подайте, там, где он же в стекле.
Барышня обвела ее взглядом, проверяя по внешнему виду размеры кошелька дамы мамкиного возраста.
— Что, весь набор возьмете? Он стоит.
— Весь возьму.
Корзинка потяжелела от холода, синим ядом сверкающего под прозрачным стеклом.
— Это хороший подарок для мужчины, — заворковала ведерочница, вытирая об фартучек пахнущие дезинфектантом ручки. Видимо, в прочее время — продавец-консультант и получит свои комиссионные за эту гору роскоши.
— Хорошо, детки.
Она пошла к кассе, тяжелая корзинка била в бедро. На ходу вытащила, найдя по очертаниям, знакомый флакон, сжала в потной ладони. Повернулась, проверяя расстояние, и, размахнувшись до боли в вывернутом плече, ахнула об задумчивый пол стеклянный голыш. Во все стороны, под девичий визг, брызнул фонтан стекла и радостного запаха — моря, соли, денег, счастья.
— Разбила случайно, — сказала прибежавшему охраннику, и, не стараясь изобразить голосом раскаяние, — заплачу на кассе, извините.
Из благостной начищенной темноты вслед ей смотрели девочки. У одной на локте — красное ведерко с мыльным раствором.
РЫБНЫЙ РЫНОК
А раньше он был на открытой территории городского базара, и самым страшным местом в рядах была яма под листами железа в крупную дырку, вся в горстях чешуи. Туда сливали тузлук — рыбный рассол. Сейчас рыбный рынок в длинном павильоне с толстыми каменными стенами. Вход в него прячется среди ларечков, где продают запчасти, — сразу и не заметишь.
Я захожу туда через день, купить полкило соленой хамсы. Стараюсь много не есть ее, а то ведь, как в поговорке «рыбка посуху не ходит» и глаза наутро, как у китайца. Но дома в холодильнике, пусть она будет, вдруг захочется.
Высокий потолок с застекленными окошками в крыше украшен цветными блескучими гирляндами, и они свешиваются, зеленые, синие, красные, почти касаясь рыб, серых, желтых, черных, — лежащих на прилавках.
Знатная рыба пиленгас, ловится он сейчас хорошо и потому каждый день килограмм стоит на гривню меньше, чем стоил вчера. Кучами, навзничь, сверкая чешуей размером с гривенник, лежат одинаковые рыбы, нежно показывая белые брюшки, припачканные кровью. Такой же красной, как наша.
Из-за того, наверное, что лежат они на спинках, откинув головы с полуоткрытыми ртами, есть в них что-то женственное, — зрелое, томное. Кровь не мешает. Не делает рыбу мертвой. Да и как может быть мертвым то, что настолько вкусно? Белое мясо, прижарил огромными кусками, и — еда. Вернее — Еда.
А дальше тот же пиленгас, чуть поменьше, вяленый. Висит рядами, брюхо распялено деревянной палочкой и тушки такие прозрачные, что кажется, не рыбы висят, ангелы крылышки раздали в стороны. Что ушло из рыбы, превратив ее в бестелесного духа? Нет смерти в ней, висящей, и лучи солнца из окошек под потолком проницают крылья с тонкими ребрышками легкой желтизной.
Женщины в навернутых на себя ватниках и кофтах, — нежарко в похожем на длинную пещеру павильоне, — стоят, смотрят внимательно, сложив руки на фартуках, захватанных рыбьей кровью. Кричат, уговаривают. Или беседуют друг с другом, по южной привычке — громко, подробно о жизни своей и соседской. Гулкие голоса бьются, шевеля цветную фольгу новогодних гирлянд.
Бычки. Вяленые, похожие на сушеных огромных головастиков, скалят мелкие зубы, а выкручены так, будто плясали, высыхая. Лежат горой. И рядом, мокрой кучкой — мороженые. Раньше бычки только рыбаки продавали, сами ловили с набережной или уезжали на дальние пляжи. Счет пойманной рыбы шел на ведра. Теперь из морозильника, кучей, горой в обтаявших обломочках серого льда. Но и взятые на самолов, свежие, лежат рядочками, продаются десятками. От маленьких совсем, тех, что только на уху или любимой кошечке, до больших, в которых все равно самое большое — голова.
И глядя на серые, черные и совсем светлые мокрые тельца, помню — мама жарила, укладывала дровишками на блюдо, хвостики в одну сторону. Прибежав с улицы, надо было успеть раньше брата потихоньку обкусать все хрустящие хвостики.
Никакие легендарные бычки в томате, заключенные в плоскую банку, какого бы завода они не были, не сравнятся с жареными свежими, только с базара.
— Та на Новый Год, как раз перед празником, вышли у море, ну сети уже сняли, но как хотелося бичков! — говорил черный от загара береговой матрос в пансионате на Тузле. Он был так худ, что пояс изношенных до ветхости брюк лежал на талии зигзагами, цепляясь отчаянно за выступы костей. Уже принял самогону из бутылки с длинным горлом и, несмотря на сорокаградусную жару, пошел ему самогон хорошо, закусился выскальзывающей из пальцев соленой хамсичкой, и лицо подернулось теплой дымкой воспоминаний.
— Так мы с лодки, да, натаскали ротанов и пещаника, как рас на уху. И на Новый Год — уха у нас, с бичка! О-о-о…
И я киваю. Знаю, о-о-о… И не забываю брать хамсу «с мисочки», выставленной закуской ему и угощением мне.
Она, соленая хамса, такое вот дело, чем тряпошнее, тем вкуснее. Есть любители «дубового» посола. Рыбка крепкая, черноспинная, жиру в ней мало, но чересчур солона. А вымочить — терпения не хватает. Лучше всего, конечно, малосол. Нежная, жемчужного серебра, одинаковая, длиной и толщиной в палец взрослого мужчины. Слегка мягкая, потому что, как только голову ей оторвешь, отделяя от тушки по низу животика, пачкая пальцы в мизерных кишочках, сразу каплет из надрыва светлый жир.
Маленькая была, не ела хамсу. Да ну ее, руки пачкаются, а потом пахнут и пахнут. Но выросла и поняла — вот так и надо, чтоб текло по пальцам; и на куске хлеба оставлять жирные серые пятна. Ничего, руки вымоются.
Помню, как пригласили меня в рыбцех, угоститься. Заставили мешок взять с собой полиэтиленовый с половину меня размером. Ехала, стесняясь, прятала в холстинную сумку через плечо.
Из жары спустились втроем по каменным ступеням в полумрак, где ходил тихий серый кот. А на длинном разделочном столе, обитом цинком, прямо в центре — опрокинут бочонок и из него, ивовым листом — светящиеся рыбки, кучей на стол.
За котом вышел откуда-то сбоку бесшумный дядько в майке-тельнике и кивнул черной головой, увидев наши лица. Достал из шкапчика на стене буханку мягкого хлеба, сунул к рыбе, на газету, махнул рукой приглашающе. Как мы ели! Один из немногих случаев полного исполнения желаний.
….
— Берите камсичку, берите! То жеж все думают, что ее много, а нет, эта с путины осталася, смотри какая! Крупная, вкусная! Пробуй, пробуйте! Это муж из бочки вчера, а там уже тока на донышке, во-от, придете завтра, а уже не будет, такой вот!
Продавщица с тщательно подведенными глазами, но с выпавшими из-под берета тонкими прядками волос (а как поправишь, если руки в рыбе, к крану не набегаешься каждый раз), проводит рукой над черно-серебряной кучей. А потом дергает подбородком в сторону соперницы, стоящей на углу каменного соседнего прилавка. У той испитое лицо и комок смятой газеты — вытирать руки. Она внимательно слушает мелкого мужичка, который, покачиваясь, смеется, размахивая взятой с кучи хамсиной.
— Ты же глянь, та разве то рыба? — моя продавщица презрительно кривит губы. Губы ее в оранжевой помаде. Я киваю с готовностью. И слушаю.
— Ее уже и гнали. А такая была женщина раньше! И вот!
— А что случилось?
— Пьет… И — с мужем! А то любовник стоит ее.
Я смотрю на пьяненького любовника в распахнутой куртке. Он уже доел хамсу и побежал на кривых коротких ногах к выходу, где в самых дверях плотно стоят грузчики в шапках-петушках, курят на улицу и шутливо кланяются каждой входящей выходящей продавщице.
Скорбно смотрят глаза на меня из-под съехавшего вязаного берета. Но спохватывается:
— Да вы пробуйте, пробуйте!
Пробовали пробовать на базаре соленую рыбу? У некоторых продавцов распластанные рыбешки уже приготовлены прямо на куче. Можно подцепить пальцем, съесть, кивнуть и, выбросив хвост в отдельную коробочку или раскрытый пакет, взять кусочек салфетки. Если нет салфеток, любая торговка предложит засаленную, всю в жире от рук предыдущих покупателей, тряпочку. Сервис! Но раз уж он такой, сервис, то лучше взять целую рыбку и совершить над ней знакомую последовательность действий. Оторвать головку, надкусить у хвостика и потянуть зубами, отпластывая половинку маленькой тушки. Снова надкусить и съесть вторую половинку, оставив только скелетик. И сказать, прожевав:
— Полкило, пожалуйста!
Пока продавщица вешает, я спрашиваю:
— А греческого посола сейчас продается хамса?
Она в недоумении хмурит брови, окруженные точками выщипанных волосков, и я поправляюсь:
— С грибком.
— А-а, с грибком! Та одна женщина приносит, вон там стоит, видите? Де умывальник, с угла, но то надо с утра, разбирают ее быстро. А любите да? Я тоже люблю.
То еще удовольствие, черпать из неаккуратной кучи полуразваленную рыбку, покрытую белыми пятнышками. Жир в ней от долгого хранения не горкнет, и появляется специфический привкус. Гурманство. Мама смеялась, вспоминая северное «печорского засола рыбка, с душком». Это, видимо, как с плодами дуриана. Если себя превозмочь, то становишься поклонником этой мерзости на всю жизнь.
Унося пакетик с хамсой, заботливо вложенный продавщицей в еще один пакетик, а тот еще в один — свой, я прохожу мимо вываленной на прилавок песчанки, мелкой, ее на котлетки берут или котам, мимо лопухами распластанной камбалы, есть большая, а есть маленькие размером с ладошку «глосики» или еще проще «лосики» (из справочника я узнала правильное красивое название, вполне литературное, кстати, — «камбала глосса»). Мимо желтой, как послеполуденное солнце, копченой скумбрии, пахнущей так, что лучше быстрее пройти, а то останусь тут, и без денег. Мимо темно-багровых, языками вытянутых лепешек вяленой икры пеленгаса. А тут еще мидии, приваренные, в пакетах по килограмму. Беловатое с серыми оторочками мясо рапана… И треугольнички брюшек скумбрии, состоящие из одного только жира, прихваченного серебряной кожицей с одной стороны, — их так и называют «пузики» и продают поштучно…
Скорее, домой, там сварится картошка и можно будет сесть в кухне, без книги, потому что по пальцам будет течь светлый, свежий жирок.
И после, пять раз вымыв руки, — три чашки крепкого чая, с лимоном.
КЫЗ-АУЛЬСКИЙ МАЯК
Ехать до него — десяток километров по разбитому проселку, пылящему пересохшей до белизны глиной. Трава вокруг выжжена и неудобна даже на вид. Суставчатые звонкие стебли, колючки всех видов и размеров, а дальше, за ними, щетина стерни.
Шли пешком, так захотелось, когда приехали в большой поселок Заветное первым автобусом. Жара проснулась позже нас, полдороги успели пройти хорошим шагом, пуская взгляд камушком по плавным холмам, уткнувшимся в дымку на изогнутом горизонте.
И одолев длинный подъем, чувствуя входящую в силу жару, что устроилась на рюкзаках, хозяйственно и увесисто, увидели — плавно вниз, к синеве моря, что дразнила открыточностью цвета — вот он, вот!
Казалось — разве бывает так? Как на тех картинках из детства, в тонких книгах, которых не жалели и что валялись среди поздних игрушек.
Безупречно белая башня, расписанная черными полосами. И ниже колен ее, к самой рыжей земле прижавшись — домики вокруг одного двора и приземистые, упрямо зеленые деревья.
Белая, с черными полосами, не теряющая белизны своей башня… Мы все ближе. Ближе к домам и деревьям, и кажется, мы все ниже. Растет в блеклое от жары небо — белая, с черными полосами.
Ветер наконец-то встречает нас. Он еще слабее жары, мягкий, но уже здесь, шепча, что море — там, за обрывом. Мы видим маяк и синеву. Но еще не видим моря, того, что будет у ног босых. Но знаем — есть. Ветер сказал и с каждым шагом говорит об этом все громче, сильнее. Хлопая по горячим щекам и развевая пыльные волосы. Но уже понятно, сильнее жары ему не стать. Она смеется, тяжко давит на мокрые плечи, держит на голове сухую жесткую ладонь.
Но дошли. Удивив встречающих — дошли. И несколько от удивления этого стесненно…
— Что же вы, надо было сказать, мы бы вас встретили на машине…
Маяк вблизи — белый, безупречно белый. Ослепительно. Это кружит голову. Я держу его ладонью за прохладный побеленный бок. Отрываться не хочется. Но ведь еще море. И еще можно — внутрь. Хоть и нельзя по правилам, но мы приехали пожить дня три, потому — можно.
Он никуда не денется. Но все равно, побросав рюкзаки, смыв с лица глиняную пудру, сперва — на маяк. А потом уж — остальное.
— Обувь оставьте. Я там полы мою каждый день.
Лена — золотистая девушка с гибкой спиной и глазами, полными степной жары над морем. — Медленными глазами степнячки, чей взгляд от рождения следовал плавным подъемам и спускам, на которых лежит огромное разбавленное травяным воздухом небо.
Спиральная лесенка. Игрушечная. Маленькое окошко, неожиданное, на середине подъема. Ниша в стене, толщина которой размеры окошка превосходит. Если дотянуться и запрыгнуть на широчайший подоконник, скруглить спину и подобрать босые ноги — получается Елена в корОбке… А на лесенке сразу становится темнее…
Зеленоватые крашеные стены. Босые ноги шлепают по прохладным ступеням. Девушка Лена идет впереди, прямо держит плечи, чуть изгибает коричневую спину. Над штопаными велосипедными шортами, в прогибе талии — солнце осторожно трогает золотой пушок вдоль позвоночника. Плавно подпрыгивают по плечам тяжелые гладкие волосы. Сильные бедра мерно считают ступени. Не могу оторвать глаз от узких и четко рисованных мыщц, что при каждом шаге появляются и пропадают. Лена оглядывается на мой взгляд, улыбается — медленно. И от степи и неба над морем, что пОлнят ее глаза до самых краев, краска на стенах становится цвета зеленого солнца.
Лена выводит нас в небо. Просто — отступает и молчит. После зеленоватого узкого лабиринта и неразмашистых ступенек — белое, сумасшедше просторное в простоте своей — небо. Ему ничего не надо. И потому ничего не замечаешь — круглой крыши, огромных окон, узенькой галерейки снаружи. Даже облаков не надо. Даже сердце маяка — большое, граненое из сомкнутых цветных стекол — пока ждет. Потом-потом, не главное.
В старых фильмах я всегда узнаю кадры, снятые в наших местах, по особому белесоватому свету. Только здесь, где царит жара и соленые ветра, есть эта солнечная пыль. Не от высохшей до порошка глины, а будто сеется она с самого солнца и, растворяясь в небе, забирает сочную синеву. Бледность жары. Будто южное небо над степью — выгорело, полиняло в крепко подсоленном ветре, выполоскалось в запахе выжатых жарой трав. И стало таким, как в самом начале.
Прозрачный фонарь маяка летит в изначальном небе, чертит макушкой глубокую синеву моря внизу, стремительно разворачивает древний пергамент скифской степи.
— Хотите наружу? Только осторожнее!
Ветер здесь главный. Запахи трав и моря тяжелее его и остались ниже. А он тоже изначально пуст и от этого легок до головокружения. Жара тянет сквозь него жесткие пальцы, но они слабеют и лишь касаются слегка, через сильные руки ветра. Он здесь — треплет волосы, рвет с плеч рубашку, входит в раскрытый для разговора рот и затыкает его. Зачем говорить? Дыши, живи… летай!
ИССАМ-ГЭССЕНЬ
— Иссам-гэссень! — кричит она, будто это начало песни, и шлепает мокрым полотенцем по спине кота, что забрался на стол — к жареной рыбе. Смеется, показывая мелкие зубы — сбоку три золотых коронки.
— А-ахх, иссам! — доносится со двора, и он знает, приехала внучка и, может быть, останется ночевать. Мама отпустила, такое нечасто.
Значит, через час будут пирожки с шелковицей и ему открыта бутылка домашнего вина. Он порасспросит беленькую, в него, девочку о пятерках и четверках и задремлет у телевизора. А она, крепко взяв внучку за руку, пойдет к соседке через двор. Пирожков прихватит с собой, чтоб той некуда было деться, а только кивать и восхищаться талантами ребенка.
Потом разговор за открытым окном будет мешаться с голосом диктора. И, прерывая скороговорку ее на русском привычном — так, что и слушать не надо, в спящие уши его снова, грозно:
— Иссам-гэссень! — чтоб девочка не убегала за кусты сирени или на улицу, чего доброго. Машины там. А ребенку — седьмой только пошел.
Он подхватит сползающую газету и прослушает прогноз погоды перед тем, как снова — в дремоту. Но не заснешь, свет тянет за ресницы, заглядывает. Жена, перекрывая большим телом нахальную лампочку, легко пройдет туда-сюда, и снова, сквозь сон не сосчитаешь. Бормоча, понесет охапкой в маленькую комнату пуховое одеяло, свежайший пододеяльник и любимую внучкину подушку с ушками, как у медведя. Бу-бу-бу — заговорят на два голоса там, где старые ходики тычут двумя пальцами стенку — как дырку не продолбили за столько лет?
Столько… Он потянет газету на глаза, очки снимет и положит под кресло, чтоб не раздавить. Уплывая, увидит ее — молодую до спазма в груди, с огромными черными глазами. А ноги такие… не бывает таких ног! Не похожая совсем на славянку, в паспорте имела запись «русская», а кровей намешано — не сосчитать вдвоем. Но бабушка — армянка. Чистокровная. Потому язык знала, пела на вечеринках под гитару змеей вьющиеся непонятные песни. Понятно лишь было — о любви. Жаркой до общего пота всех, кто — в креслах и на ковре. После, кто-нибудь парой, обязательно исчезал в темной комнате.
И ночью, в одну из их узаконенных браком ночей, замучившись от навязчивой мысли, не выдержал и шепотом хриплым, краснея в темноте, попросил говорить на армянском. Что угодно, но о любви. Хотел еще попросить, чтоб — все-все говорила. Не смог.
Она засмеялась тихонько и не смолкала до утра. А он восставал с каждым новым предложением, сказанным быстро и жарко. И брал-брал-брал, думая клочками, что ведь, может, честит его на все корки, а он и не знает. Оттого снова брал, заставляя ее смеяться удивленно. В утро без солнца она, потянув длинное тело, примяла его потный бок большой грудью и сказала первый раз:
— Иссам-гэссень…
— Это что? — спросил ревниво. Кусал черную прядь волос, тыкался коленом в горячее.
— Придумала. Тебе вот. Дарю…
Поверил и не поверил. Но искал потом часто. И спрашивал. И книги листал. То злился, думая «обругала ведь, сволочь такая». Или ревновал, представляя, как до него. Или, идя по улице, швыряя ногой сверточки листьев, вдруг спотыкался: «Мне только. Придумала — мне. И — подарила!».
Приносил тогда красные розы. Три или пять. Она, подхватив располневшими руками охапку колючек на твердых палочках стеблей, улыбалась крупным ртом. И, пронося вазу мимо окна — медленно, чтоб видели на лавочке соседки, восклицала торжествующе:
— Иссам-гэссень!
Теперь говорила это всегда. И, когда, совсем пьяного, приехавший на два дня брат приволок и опустил у дверей, на глазах у всех соседок… Упал рядом сам и заснул… — То сказано ею было «иссам…». И обоим попало мокрым полотенцем так, что до самого отъезда брат вздрагивал, в сторону вешалок косился. Больше не приезжает.
А еще, когда грохнула об стену таз с вареньем, — ой, дура, сама наварила и потом самой белить вишенную сладкую кровь, — убежала к подруге. И не ночевала!
…День провозился с дочкой, сбивал температуру уксусом по маленьким розовым ступням. Ухо сворачивал на каждый стук за дверями. Не выдержал, посадил у кроватки счастливую соседку, что кивала жалостно, ела глазами осунувшееся лицо, и рванул по квартирам подруг. Вытащил пьяную, с размазанной по щеке помадой, по дороге дав по загривку из туалета вышедшему единственному мужчине. Оказалось — брат хозяйки, десятиклассник. Дома прогнал со спасибом соседку. А ее — чуть за волосы не оттаскал, дочку потом еле уложил. Кричали…
И ждал, отвернувшись к пахнущей сырой известкой стене. Ждал, ждал… Пришла. С мокрым лицом. Взяла через одеяло за пятку. Молчала. А потом, шепотом:
— Иссам…
…Теперь он, и так невысокий, на полголовы ее ниже. Легка, но широка спиной, лицо покрупнело, мочки вытянуты цыганскими серьгами, над верхней губой — черные усики. Полные руки провисают мякишем, когда прихватывает в пучок низанные сединой жесткие волосы.
— Баба твоя, Андреич, не баба — конь! — сказал как-то старпом с его буксира и плюнул, потирая зашибленное плечо: из гостей выпроводила, бутылку допить не дала — кинула следом. И добавил,
— Как жив ты еще, не понять…
Он стаскивает газету с лица. Не шурша, складывает нечитаной страницей вверх. Идет в темную спальню. Старые брюки и майку наощупь кладет на стул у кровати, вытягивается под тонким покрывалом. Глядит в темно-белый ночной потолок с угловатой трещиной от люстры. Старается не спать.
Она закончит петь внучке длинную, змеей, непонятную песню. Скажет шепотом, целуя пушок у виска:
— Иссам-гэссень.
И — придет. И — ему скажет.
ФЛЕЙТА
Двое шли по песку, подгоняемые жестким полуденным солнцем. Разные, насколько могут быть разными двое мужчин в плавках. Двое некрасивых мужчин.
Высокий и очень плотный, с обваренной солнцем белой кожей и — руки врастопырку, из-за бицепсов-трицепсов к бокам не прилегают. Лобастый, с коротким ежиком белых волос. Светлые ноги в рыжеватом пуху.
И — маленький, загорелый до хлебной корки — из-за чего светлая голубизна глаз — оплавленным стеклом. Грязноватые тощенькие волосы закрывали бы шею, но ветер и — треплются нитками вокруг головы. Тонкие руки в кожаных феньках, на груди пара медальонов на лохматых веревочках и металлические очки на кожаном шнурке. — Общего, кроме определенной и точной некрасивости — детские улыбки. Будто весенний дождик, падающий на всех, без разбора.
Когда высокий смотрел на маленького, улыбка его становилась нежной.
Свету больше всего поразили плавки маленького. Вырезанная из куска дерюжки набедренная повязка сзади переходила в грубо скрученную веревку. Понятное дело, парень… Но все-таки…
Сама Светка привезла четыре купальника. Наплевала на — кто что подумает. И меняла. Купальники копеечные, по случаям разнообразным купленные, но фигура Светкина любую скучную тряпочку облагораживала. И потом — надо же чем-то развлекаться одинокой женщине в самом что ни на есть соку?
— Двадцать семь! — уверенно сказала ей старшая подруга года три назад, — самый лучший женский возраст — двадцать семь! Еще не стареешь, но уже почти все знаешь! И выглядишь на двадцать два…
Тогда Светку это радовало. Выходило, что лучший возраст еще впереди. А теперь она в нем. Лучше не думать, что дальше. Хотя, конечно, невыносимо представлять, что через два года — двадцать девять. Катастрофа!
…Парочка проследовала над ней, перекрыв на секунду солнце. И пошли дальше, оставив Светку любоваться загорелыми тощенькими ягодицами маленького.
Светка любовалась и думала, повернут ли к спасателям? Если повернут, то — к Витюшке приехали.
К Витюшке каждый день кто-то приезжал. Это было интересно и для Светки неутомительно. Сама она была барышней приходящей, жила в домике лоцманов по путевке, на пару дней привозила из города сына, а потом увозила его бабушке-дедушке. Вольничала. Особо не гуляла, потому что особо не разгуляешься — все парами. В основном, накупавшись, торчала в тени у домика и вышки спасателей. Или чистила картошку к ужину. Два часа картошки в день — совсем не в тягость посреди сверкающего морского безделья. Но из принципа пришлось прекратить, когда директор пансионата, маленький, замученный хлопотами мужчина в белоснежной рубашке, вдруг взял крепко за плечо и повел куда-то от ведра с очистками. Светка пошла, на ходу вытирая мокрые руки полотенчиком — было любопытно.
Подведя к боковой мощеной дорожке, директор плечо отпустил и, указывая на страшноватого деревянного ежа размером с овчарку, сказал:
— Вот…
Светка смотрела на директора заинтересованно. На ежика она уже насмотрелась. И на лису с колобком и на всяких красных шапочек. По ее мнению, скульптора еще десяток лет назад надо было в психушку запереть.
— Что вот?
— Покрасить надо, — сказал директор и вздохнул тяжело. — А краски и кисточки возьмешь у кастелянши, — добавил, поворачиваясь уходить.
Светке стало весело.
— Я у вас не работаю, — сказала в крахмальную спину.
— Как не работаешь? А картошка?
Пожала плечами. Директор извинился и побрел за домики. Верно, снова искать, кто бы ежика покрасил.
Спасателей было четверо — делили две ставки на всех. И каждый привечал жену, детишек, родственников, друзей и знакомых. Те, кто существовал от этого веселого лагеря отдельно, посматривали с завистью. А Витюшка был не дурак. Время от времени приводил новеньких, жаждущих морской экзотики. Экзотика сводилась к утомительной чистке рыбы на большую вечернюю уху. Но все были счастливы — северные горожанки, в чешуе и слизи процесса, и гости, радушно угощаемые, и Витюшка — хлебосол.
Однажды он так основательно взял шефство над юной парой, проводившей на Острове медовый месяц, что даже забрал их на дачу — показать, как растут абрикосы. Собрав немаленький урожай, молодожены заодно и варенье ему сварили. — Витюшка был хозяином.
Пока она размышляла, раздетые мужчины повернули к вышке спасателей. Светка порадовалась.
День ушел спать, таща за собой коротенький вечер. Теплая тьма загладила горящую кожу. Если, наклонив голову, лизнуть плечо — языку солоно. — Хорошо! — Заперев свою комнатку, Светка отправилась к спасателям, прихватив консервов и кулек с леденцами.
Ждали ужина, ленясь от души. Новеньких всего оказалось трое. Большой — Вяч — приехал с женой, и теперь сидел на длинной скамейке, умостив на белых коленях ее ноги. Гладил рассеянно, улыбался, ловя взгляд. Влюблен спокойно и красиво. Светка позавидовала.
Гвоздем вечера — маленький, Олег. Стесняясь, рассказывал, как добирался в Крым автостопом. Сверкали очки в гнутой оправе.
Замолкал, прячась в тени, но Витюшка с безжалостным любопытством снова и снова задавал вопросы, как бы поворачивая гостя, угощая остальных. От его напоказ требовательности Светке стало неловко. Олег отвечал с готовностью, тихим голосом, но сам предпочел бы помалкивать, видно было.
— Ты, Олег расскажи, как ты на Острове зимовал! — потребовал Витюшка.
— Как зимовал? — загомонили за столом…
— А так! Он же бездомный. Вот эту зиму целый месяц жил здесь.
Олег улыбнулся, опустив глаза. Пожал легонько плечами.
— Рассказывай, рассказывай! — понукнул хозяин.
— Я на барже пожил, — сказал Олег, — там рубка хорошо сохранилась. Утеплил и спал там.
Светка зачарованно глядела на смуглое лицо. Зимой ей часто хотелось попасть туда, где летом каленый песок, лодки и навесы от солнца. Но все как-то не получалось. Бывшее благополучное замужество не предполагало бесполезных поездок. Странных — тем более. Все было, как у всех. И на свадьбу, помнится, хрусталь дарили. Злорадно припомнила, что последнюю рюмку из набора свадебного раскокали недавно. Она ее выбрасывать не стала. Хотела колокольчик хрустальный.
Олег прищурился близоруко на Светкин приоткрытый рот, заблестевшие глаза. Улыбнулся. И сказал — ей:
— Ко мне вечерами мыш приходил. Маленький. Я кормил его крошками. Так и жили…
— Нет, подожди! — деловито вмешалась большая Оля. Была она крупна, очень мясиста и говорила непререкаемым тоном. Прозвище — Деловая Колбаса.
— Как ты выжил — в холоде таком? Один? А продукты?
— Он не один, — сказала Светка, — у него был мыш.
— Пф!…
Олег кивнул Светке, а Оле сказал:
— Керосинка была. Рубка маленькая, нагревалась быстро. До утра хватало. Там ведь не так уж холодно, просто щели заткнуть, чтоб ветер не выдувал. А за продуктами ходил к рыбакам. Давали рыбы, хлеба. Сухарей, сахара.
Улыбнулся:
— Спирту давали, но я не пью.
— Баржа почти в километре от берега! — Оля успокаиваться не собиралась.
— Там мелко, лед стоял хороший. Я пешком туда-сюда ходил.
И снова — Светке:
— Песок весь под снегом, а на нем — черные птицы.
Светка представила щемящую пустоту, тощий снежок по закаменевшему песку, торчащие из него сухие стебли трав. Птиц.
Обрадовалась — представленная, картинка осталась, не уходила, в ней появлялись звуки и запахи.
… - А перед Новым годом рыбаки поехали сети снимать, меня взяли. Болтало сильно, я укачался. На праздник зато уха горячая.
— Ты и Новый год здесь отпраздновал? — поставив жалостью оценку безумцу, спросил кто-то из темноты.
Олег улыбнулся.
Разговор как-то скис, и Витюшка забрал гостя, устраивать на ночлег. Все было занято, и они полезли по деревянной лесенке на вышку. Вернулся хозяин один. Подоспела жареная картошка, все засуетились, двигали по столу посуду, кричали в темноту, вызывая детей. Запах вкусной еды наполнил ночь, отпихнув запахи песка и моря.
…Зазвенели вилки.
— А что же Олег не спускается? — спросила Светка у Витюшки, смотря, как ловко большим ножом вскрывает консервные банки.
— Оне отказались, — ответил тот. И фыркнул:
— Со странностями мальчик. Навыдумал хрени хипповской. Небось, жена выгнала из дома, а он теперь всем лапшу на уши. Путешественник.
Одобрительно промычала с набитым ртом что-то Оля Деловая Колбаса. Со всех сторон раздались смешки.
Светка оглядела белые пятна лиц — мужских и женских. Благополучных. С квартирами, где наверняка — хрустальные рюмки в полированных шкафах. Не колокольчики. Увидела опущенные к столу глаза Вяча. Разглядела то, что беспокоило ее с начала ужина, возвращаясь снова и снова, прилетая, трогая сердце холодным пальцем — на запястьях маленькой уютной жены Вяча — множество тонких шрамов поперек голубых венок. Выпуклыми нитками цвета топленого молока на незагорелой еще, светящейся коже. А сначала думала — показалось…
Встала, взяла чистую тарелку. Под общими взглядами положила картошки — от души, горой. Добавила из консервных банок — понемногу из каждой. И пошла к лесенке.
Придерживая подол широкой юбки одной рукой, и, держа на второй полную тарелку, стала взбираться по скрипящим ступеням. Позади, уже внизу, кто-то что-то нерасслышанное сказал. Хихикнули.
Стукнула в фанерную дверцу, сказала весело:
— Эй-эй.
И вошла.
Ночью на вышке она никогда не была. Три стены с огромными, почти от самого пола окнами, размылись в звездном небе. Олег сидел среди звезд — на спальнике, брошенном на пол. Маленький, скрестив ноги по-турецки, блестел согнутыми коленями. Держал у губ белую в темноте флейту. Играл тихонько, шепотом.
— Я принесла ужин, — сказала Светка тоже шепотом. Поставила тарелку на краешек скамьи. Стояла неловко, стесняясь.
Олег опустил флейту.
— Спасибо, не надо было…
— Надо-надо! — отличить голодного мужчину от сытого Света могла и, угощая, чувствовала себя увереннее.
Олег потянулся под скамью, зашуршал сумкой:
— Вот. Вы возьмите вниз, пусть там — с чаем, — завертывал углы газетного большого свертка. На пол упали пара конфеток и сушки.
— Не надо, — сказала Светка, — обойдутся. А вам еще завтра и вообще.
— Нет-нет! Я не остался, потому что у меня нечего — на общий стол. Пусть хоть это. Так будет правильно.
Светка приняла в руки рассыпающийся куль. Выгребла половину горкой на скамью:
— Это снова в сумку положите, — распорядилась, — а это отдам. Только вы сами приходите чай пить. Поешьте и приходите.
— Спасибо. Я лучше тут.
И помолчав, объяснил, поведя вдоль звезд рукой:
— Мне тут — хорошо…
Светка открыла дверь и стояла, слушая флейту, что вела мягкую нитку звуков через распахнутые окна — к звездам. Наполняла ночь тихим счастьем.
— Олег, а вы, когда жили там, на барже, у вас была флейта?
— Да. Я играл мышу. А он — слушал. И даже не ел крошек.
Светка кивнула. Так и должно быть. Улыбнулась и пошла вниз.
За столом торжественно водрузила кулек рядом с чайником:
— Вам приветы и подарки. Сверху…
Олег ушел рано утром, еще до завтрака. Больше Светка никогда его не встречала.
ПОПУГАЙЧИКИ
С попугаями Блондиному семейству не очень везло.
Ее собственное полудеревенское детство прошло в окружении всякого зверья. Соседские куры, утки и гуси. Родные собаки и кошки. Ловимые старшим братом чижики, щеглы и синицы. Быстро, впрочем, отпускаемые. Транзитных животных вообще было много. В квартире без удобств сменяли друг друга ежи, ужи, черепахи, перепелки, суслики — все, кого можно было изловить в просторных степях за барачным поселком. Жили недолго. Не потому что умирали, а, под маминым мягким давлением, возвращалась им утраченная свобода.
Блонди с братом не особо переживали по этому поводу. Знали, бесхозного степного зверья еще много.
При переезде на новую квартиру — пятиэтажка, три комнаты! Ванная!! Туалет!!! — не взяли с собой любимую дворняжку Тузю.
Восьмилетняя Блонди очень по ней скучала. Но Тузька была созданием дворовым, всю жизнь имела собственную будку, да и Злая Бабушка не пожелала терпеть ее присутствия в роскошных новых пенатах.
Тузю отдали в рай. На территорию столовой паромной переправы. Пенсионерка Тузя получила персональную будку и паек от пуза. Очень потолстела. Но о Блонди не забыла. Каждый раз, когда родители приезжали в столовую, чтобы навестить заведующую Надежду Ивановну, Бло бежала к будке. Седенькая Тузя, облизав Блондины ладошки, с трудом поднимала на задние лапки-спички раскормленное туловище и дрожала в воздухе по-заячьи сложенными передними лапками. Служила.
Прибегала мама и, говоря утешительные слова про сытую Тузину долю, уводила зареванную Блонди.
На новой цивильной квартире сменяли друг друга, в основном, коты и кошки.
А когда стал входить в сознательный возраст Блондин сын Игрек, семья задумалась о прочих домашних любимцах.
Был хомячок. Игрек отнесся к нему без особого интереса. Маленький. Живет в банке, прячется в рваных газетах. Какает. Только и радости — дать кусочек яблока и смотреть, как ест он его, по-человечьи держа черными ручками.
Вот Блондиному папе хома полюбился. Дед Саша торжественно нарек зверька Фомичком и с удовольствием занимался его ежедневным выгуливанием на письменном столе.
Равновесие нарушила мама Блонди, склонная по-человечески общаться со всей живностью. Могла обидеться на комара, например.
Жалостно глядя на Фомичка, она произносила пылкие речи о необходимости свободы передвижения и равных правах для всех. Добилась своего. Фомичок был отпущен свободно бегать по квартире. Месяц все были счастливы.
Потом маме понадобилась какая-то вещичка с нижней полки в кладовке. И тут выяснилось, что Фомичок времени даром не терял. Все тряпочное, что находилось в квартире на уровне ниже колена, превратилось в ажурные кружева. Два покрывала, полная коробка шерстяных носков, старые платья и брюки в шкафу…
Потрудился Фомичок славно.
Разгневанная мама тут же на него обиделась. И Фомичок был сослан в частный домик, где жила подружка Игрека белобрысенькая Кристина.
Вскоре после изгнания выяснилось, что Фомичок был не только трудолюбивым, но и запасливым. В ящике раскладного дивана, в сложно выгрызенных тайниках старого полосатого матраса он скопил массу яблочных огрызков, арбузных корочек, сухарей и семечек. Вместе с останками матраса добро потянуло на десяток мусорных ведер.
Грызунов решили больше не заводить.
И тут Блонди заинтересовалась попугаями.
В детстве говорящий попугай был ее заветной мечтой. Перед каждым рейсом она, умильно заглядывая папе в лицо, пыталась такого попугая выпросить. Но папа лишь отшучивался. Даже не обещая. Провозить животных строго запрещалось.
На рынке продавались только волнистые попугайчики. Но все уверяли, что говорить их не научишь. Попугай и вдруг — не говорящий. Неинтересно…
Так и пребывала бы уже ставшая юной мамой Блонди в заблуждении, если бы однажды, за воспитательским обедом в детском саду, где она тогда работала, чтобы Игрек там воспитывался, не зашел разговор о домашнем зверье.
— Наш Петька вчера свое имя выучил! Наконец! — похвасталась нянечка Наташка, поедая сэкономленную котлету. У малышей не отбирали, нет. Просто с утра надо было нечаянно забыть подать на кухню список тех деток, которых родители не привели. И в обед с аппетитом съесть лишние котлеты.
Подробнее расспросив Наталью, Блонди вспомнила о детской мечте.
И — загорелась.
Два дня она, водя сына в сад и обратно, рассказывала ему о сказочных птичках — волнистых попугайчиках
На третий день ребенок торжественно заявил за ужином:
— Хочу попугая!!!
На семейном совете было решено, что попугайчик — птичка маленькая, красивая, живет в клетке. И вообще — идеальный подарок младенцу на пятилетие.
В ближайшие выходные счастливая Блонди потащила Игрека на рынок.
Вернулись они с парой попугайчиков, большой клеткой, специальной поилкой, каруселькой, звоночком и зеркалом. И коробкой ромашки.
Маме, в смысле — бабушке Нине было объяснено, что выбранный попугай оказался мужчиной семейным. Разлучать его с ярко-зеленой красавицей женой было бы жестоко.
— А ромашка зачем? — спросила бабушка Нина, подозрительно оглядывая облезлого голубого женатика.
— Продавец сказал, надо искупать, потому что могут быть паразиты-пухоеды на них, — ответила Бло, примеряя клетку к углам комнаты.
— Н-да, судя по этому — синенькому, на нем их немало обосновалось. Игрек! — воззвала бабушка Нина, — ты покрасивее не мог выбрать птичку?
— Он — бедный. Болеет. Мы его вылечим, — сказал мальчик, с горшка воспитанный в правилах христианского милосердия.
Бабушка закатила глаза и вздохнула.
— Самого паршивого, небось, выбрал? — вполголоса спросила у Бло, — вот сдохнет — реву будет!
— Ну, мам… — отозвалась Блонди с табуретки.
Клетка обосновалась на шкафу.
Возмущенные Кеша и Ксюша были бережно вымочены по самые шеи в крепком растворе ромашки и заселены в проволочный дворец. Потекла спокойная семейная жизнь. Попугайчики сидели рядышком, переговаривались на непонятном языке, ели, пили, мусорили на шкаф. Говорить с Блонди не желали.
Игрек подсыпал им корм, менял воду. Интересовал их мало.
Птичкам вполне хватало друг друга.
Через пару недель бабушка спохватилась и произнесла речь о свободе и равных правах.
— Посмотри, какие скучные! — наступала она на Блонди, жестикулируя посудным полотенцем, — они же птицы! Им полетать надо! Эх, вас бы так — в клетку!
И, смерив Блонди с Игреком возмущенным взглядом, уходила в кухню. Сильно гремела тарелками.
В конце-концов Блонди уступила и выпустила пленников. Парочка полетала по комнате, обследовала закоулки. Облюбовала себе угол мебельной стенки. И часами Кеша с Ксюшей сидели там, неодобрительно обсуждая перипетии жизни людей. Говорить по-прежнему не желали.
Но жить в квартире стало веселей.
Попугайчикам понравилось гадить по периметру стенки, свешивая с нее хвосты. Накаканное они заботливо засыпали мелкими обрывками газет, которыми бабушка Нина в незапамятные времена стенку застелила.
Каждый день приходилось по три раза соскребать с пола какашки. Блонди поражалась, как много могут нагадить две крошечные птички.
Попытка согнать пару со стенки закончилась не слишком хорошо. Они обосновались на люстре и какали оттуда более кучно — в центр журнального столика.
Вскоре Кеша открыл для себя, что обои — тоже из бумаги! А так как со стенки все газеты были срочно убраны, то он коротал время, обгрызая бордюр вдоль всей комнаты. Порядка это не прибавляло. К тому же Кеша оказался туповат, и увлекшись, частенько сваливался в узкий промежуток между шкафами и стеной. Застряв, поднимал дикий крик. Ксюша, топчась по книжной полке, испуганно причитала.
Блонди, молясь и ругаясь вслух и про себя, метровой линейкой осторожно поддевала и, провезя по стенке, вытаскивала страдальца. Бабушка Нина пила корвалол. Игрек, прибежав с улицы за пистолетом или брызгалкой, довольно равнодушно заглядывал в комнату и убегал обратно.
Изрядно помятый Кеша возвращался к жене. Жалостно делился с ней впечатлениями. Ксюша опять причитала, чирикала, взмахивала зелеными крыльями. И парочка снова усаживалась рядом, сурово посматривая на людей сверху вниз и ругаясь.
Попытки снова заселить попугайчиков в клетку заканчивались пронзительными криками на целый день. И разбитыми в процессе ловли фамильными вазочками.
А тут еще Блонди с некоторым запозданием узнала, что пару попугаев говорить не научишь. Им и вдвоем не скучно.
На очередном семейном совете было решено попробовать вернуть попугайчиков продавцу. Уж, как-нибудь.
Продавец, разнеженным взглядом осмотрев похорошевшего Кешу, предложил обменять пару на — и махнул рукой в сторону большой клетки — да на любого из этих красавчиков!
Игрек пленился ярко-желтым птичиком с рубиновыми глазками.
На удивление смирный попугай был торжественно заселен в клетку и наречен Лимончиком. Игрек от клетки не отходил.
Пару дней Лимончик смирно сидел на жердочке. Становясь все скучнее.
На третий день прибежавшую с работы Бло встретил горестный рев. Умер Лимончик. Игрек был безутешен. Не в силах слушать громкие страдания сына, Блонди понеслась на рынок.
И купила белоснежного с голубыми крыльями Снежочка.
Игрек обиделся. На маму, на бабушку, на Ксюшу с Кешей. Пытался обидеться и на Снежка. Но не получилось. Снежок оказался очень обаятельным птичиком. Меньше чем в три дня влюбил в себя всех домашних.
Встречал, радуясь, каждого. Садился на плечо. Топчась, легонько покусывал мочку уха. И — разговаривал. На своем попугаячьем языке. Но исключительно понятно. Произносил длинную радостную тираду, замолкал, вопросительно глядя на собеседника и, взмахнув крыльями, сам же на нее отвечал, меняя интонации.
Через пару недель в его чирикании можно было явственно различить укоризну бабушкиных монологов, тон, которым подшучивал над Игреком дед, воспитательные нотки Блонди и захлебывающиеся рассказы Игрека о дворовых происшествиях.
Семья умилялась и гордилась. Ни одно чаепитие не обходилось без Снежка. Он суетился среди чашек, радостно ахал над вкусностями, изнемогал, не зная с какого края откусить любимого сыра, выложенного на тарелку куском — с пять птичиков размером. Внимательно выслушивал чей-нибудь рассказ. И обязательно комментировал услышанное.
А через месяц заговорил без переводчика. Блонди ликовала. Умиляло то, что птичик не выговаривал звук «О».
— Снежучик, — говорил он ласково, съезжая по Блондиным волосам в попытке заглянуть ей в лицо, — Снежучик хурушая птичка! Игрик! Ну, ма-а-ма-а! Печенька хучит Снежук!
А там, где слов не хватало, виртуозно дополнял сказанное интонациями.
Дед Саша гордо ходил по квартире с попугаем на макушке и с беломориной в руках. Посмеиваясь, поддерживал с птичиком беседу.
Снежок прожил в семье год, неизменно радуя домашних. А потом случилось то, что нередко и грустно случается. С попугаем на голове дед пошел открывать кому-то входную дверь. И Снежок вылетел. Пометавшись испуганно по лестничной клетке, выпорхнул из подъезда и улетел в сторону соседней пятиэтажки.
Все горевали. Несколько дней бегали по району, крича птичика по имени и перечисляя все выученные им слова. На весь день распахивали окна в кухне и комнатах. Расспрашивали детей в песочницах и бабушек на лавочках. Бесполезно…
А еще через месяц история с птичиком получила мистическое завершение.
Блонди, отчаянно зевая, вышла из комнаты рано утром — получить вожделенную чашку кофе. И — на работу.
Мама стояла у окна и внимательно на что-то смотрела.
— Блонди, — сказала она, убедившись, что дочь сделала пару глотков и уже почти проснулась, — поди сюда, посмотри.
Блонди встала рядом с мамой, держа в ладонях чашку.
На скамейке, освещенная косым утренним солнышком, сидела красивая черно-белая кошка. Сидела спокойно, с королевским достоинством, аккуратно составив лапки в белоснежных чулочках. Поглядывала вокруг желтыми глазищами. На земле Блонди углядела знакомую алюминиевую мисочку. Из набора, что они в походы с собой брали.
— У-у, какая!
— Это наша кошка, — сказала мама.
— Как наша? И давно?
— Нет, но — наша.
— Ага, и уже из моей любимой миски ест. Мам, мы же договаривались, если заводить, то — сибирского кота. Чтобы с котятами не было проблем. Помнишь?
— Помню, — согласилась мама. И повторила, — это теперь наша кошка. Она к нам пришла. Зовут — Катя.
И ушла на рынок.
Блонди махнула рукой и смирилась. Кошка действительно была хороша.
Ночевала Катя в семье. Всем понравилась.
А на следующий день, когда Блонди была дома одна, Катя ушла. И пропадала несколько часов.
Высунувшись в кухонное окно на требовательное мяуканье, Бло глянула в палисадник и застыла.
Катя стояла среди растрепанной зелени и смотрела на Блонди. В зубах она держала задушенного белого попугайчика.
— Катя, — растерянно сказала Бло, ухватившись за подоконник вспотевшей рукой. И чуть расслабилась, увидев желтые перья на вывернутом крыле. Не Снежок.
— Катя, ты что, с ума сошла? Уноси немедленно, пока никто не увидел!
Катя еще мяукнула сквозь мертвое тельце, повернулась и скрылась в кустах.
«Я теперь — ваша кошка!», — так поняла Блонди.
Вечером Катя уютно сидела на коленях бабушки Нины и мурлыкала, заглушая телевизор.
МАДАГАСКАР ДЛЯ ДВОИХ
— Лерка! — закричала бабушка из летней кухни.
Лера заерзала шортами по круглому стволу старого абрикоса, обернулась. Уперлась ладошками в лощеную древесину около голых бедер. Жаркий ветерок пузырил занавеску на распахнутой двери. Иногда хлопал ею беленую стенку. Изнутри гремели кастрюли. Что-то шипело и пахло горячей едой. Мясом. Жарко, невкусно.
— Иди есть! Иди, борща налила уже.
— Я не хочу борща. Компоту налей, ба.
— Компот не еда, иди ешь.
Бабушка возникла в дверях и тут же получила занавеской по распаренному лбу. Чертыхнулась. Задрала голову и посмотрела на абрикос. Огромное дерево наклонилось и почти легло кроной на шиферную крышу сарая. Верхняя полоса ствола давно потеряла кору, — по дереву, как по лесенке, лазили на крышу несколько поколений детей.
Лерка сидела высоко над крышей, свесив загорелые ноги. Бабушке были видны растоптанные шлепки, висящие почти отдельно от пыльных ступней внучки.
— Ты одна там? — бабушка вытянула шею и попыталась разглядеть выгоревшую русую Леркину голову.
— Одна, — вредным голосом крикнула внучка. Хихикнула. Сверкнула темными глазами на Колю. Коля подобрал опущенную было ногу. Насупился. Лерке весело, а он будет краснеть потом, как маленький, если бабка застукает. Ну да, залез по стремянке со стороны своего огорода. Так, сидят же просто, ничего не делают. Что такого? А получается, вроде как виноват. А — ничего такого.
Коля скосил глаз на тонкую шею девочки, на отставший воротник выгоревшей рубашки в мелкий цветочек. Покраснел, увидев, как отошла безрукавая пройма, показав сгиб подмышки и маленькую грудь. Совсем маленькую, лифчик не на чем носить. Но — острый сосок, темненький, упирается в ткань рубашки изнутри. И не поймешь — нравится ему или не нравится так. Вон, позавчера, Надька с ними ходила на море. Купалась в одних трусах. Визжала. Их трое, она одна. Ей нравилось, все лезли ее топить, за грудь хватали, а у нее большая грудь, круглая. Трясется, прыгает, вокруг сосков кожа аж прозрачная, так натянута от тяжести. Голубая почти. Тоже непонятно, вроде должно быть кайфово, он за талию ее схватил, скользкая, вырывается, — повернулась и упала на него, на руки прямо грудью, хохочет. И балдеж, но какой-то сознательный, от мыслей — «вот телка голая почти». А голубое это — брезгливо как-то. Геныч тогда его оттолкнул, типа, мое, руки не распускай. И утащил Надьку в кусты. Коля с Никусом полчаса сидели на жаре, ждали, пока они там елозили. Надька хихикает, Геныч бормочет что-то. Если б Геныча не было, Надька, может, с Никусом ушла бы тискаться. Геныч говорит, она ему дает. Кто его знает, может и дает, Колька их не проверял. Надька как бы общая — то с одним ходит, то с другим. Разговоров полно и Колька даже верил почти. А когда сам подкатился к ней, она зашипела, как змея. И снова в толпу и снова ржет. Он тогда подумал, может, она просто дура такая — поржать и потискаться на людях. А остальное — разговоры только. Кому охота признаваться, что тебя отшили.
— Ты о чем думаешь? — Лерка покачала ногой. Шлепок сорвался и громко упал на белесый шифер. Заскакали крошки по желобкам — вниз, вниз…
Лерка потянулась, сорвала зеленый абрикос и пульнула его вслед каменным крошкам.
Зеленый шарик с оранжевым бочком крепко стукнулся и высоко запрыгал в темную глубину двора.
— Ну, быстро, не готовься, о чем?
Колька покраснел:
— Так.
— Ага, гадости всякие, да?
— Почему сразу гадости?
— А у меня брат на три года старше, я знаю. Они как соберутся в комнате, так и терок — только про баб. Слушать противно — телки-телки-этому дала-этому не дала… Мама говорит, возраст такой, гормоны.
— Больно умная у тебя мама! — Колька отвернулся и сплюнул в сторону своего двора, на грядки с буряками.
— Умная. И плюешься ты от этого. У вас в организме сейчас бурная перестройка идет и повышенное слюноотделение. Вот и харкаете, как верблюды. Так что, знаю я, о чем ты думал. Думал, наверное, что я лифчик не ношу.
— Не думал я про твои лифчики! — озлился Колька, — если хочешь знать, я вообще про тебя не думал!
— Н-да? А чего ж тогда каждый день на крышу залазишь?
— А что, не нравится?
— Нравится, Коль, — Лерка поелозила серыми шортами по кусачему дереву, подтянула босую ногу и уперла подбородок в коленку. На коричневой натянутой коже — тонкие золотистые волоски. Еле заметные.
— Я ведь тебе нравлюсь, а то б не ходил, так?
Колька промолчал.
— Ну?
— Что ну?
— Скажешь?
— Че ты прицепилась, как репей? Че сказать-то?
— О ком думал.
«Вот скажу сейчас правду, что думал о Надьке» — мстительно приготовился Колька. И сказал:
— О Мадагаскаре.
— О чем???
— Остров такой есть. Возле Африки.
— Да знаю я, знаю. У нас карта на стене висит. Мы с братом все детство играли в нее.
— Как это?
— Ну так, — Лерка извернулась и потянула руку вверх, в листья. Покачнулась и, ойкнув, схватилась за Колькино плечо. Второй шлепок упал, перевернулся и остался лежать на крыше.
Колька вспотел мгновенно, представив, как девочка с грохотом падает на рифленую крышу и туда, вниз, за абрикосом. Дернулся, неловко обхватил ее за спину, натянув рубашку.
— Пусти дурак, шею режет, задушишь!
— Свалишься ведь, балда!
Лерка выпуталась из его каменно скрюченной руки, поправила рубашку. Снова опустила ноги висеть. Бедра у кромки задранных шортиков плотно оплыли на жесткую кору.
— Не свалюсь, не боись. Я тут живу, можно сказать, с пеленок, на этом дереве. А раньше мама тут сидела. Тоже с мальчишками. Она рассказывала. Пока не переехали на новую квартиру.
— Ага, а до нее — бабушка.
— Нет, бабушка потом приехала, уже, когда я родилась. Ну, ты говори, давай, дальше.
— Про что?
— Про Мадагаскар. Что ты там про него думал?
— Ну, — осторожно сказал Колька, — думал, там — лемуры. Знаешь, такие, с полосатыми хвостами. Они прыгают смешно на задних ногах.
— Да, я видела по телику. И что?
— Что-что. И все.
— Да-а, — Лерка сама ухватилась за его плечо и снова потянулась в листья. Сорвала крупный абрикос, надкусила аккуратно. Сморщила конопатый нос:
— Кислющий какой! Скорее бы поспели уже. Вкусные! А ждать еще недели две. Вот я и говорю, да-а, мыслитель ты, Колька. Про лемуров думаешь!
— А что? Не имею права? Че ты все подкалываешь меня?
— Да так, — Лерка обгрызала зелень, стараясь не прокусить белую, мягкую еще косточку. С детства пугали друг друга, что там внутри — синильная кислота. Кто его, знает, лучше не рисковать.
— Мне иногда, знаешь, хочется чего-то, чтоб не отсюда. А то у вас разговоры — или о телках или о машинах. Такие деловые все, аж плюнуть хочется.
— А разве это плохо, что деловые? Я думал, тебе нравится, когда деловые. Вон, Геныч, к примеру, — и Колька осторожно посмотрел на Леркин профиль.
— Ой, что ты мне суешь своего Геныча! Тоже мне, шишка на ровном месте!
Лерка размахнулась и швырнула в листву белую косточку. Отвернулась.
У Кольки упало сердце. Сердится. Нравится ей Геныч. А как по-другому? Красивый. Девки так думают почему-то. И — «табуретка» у него есть. Японский мопед, — яппонский городовой. Отец купил на день рождения. Теперь вообще от девок проходу нет — «Геныч, ах-ах, покатай!». Надьку он часто катает. И далеко. А Лерка раньше редко приезжала, а сейчас — каждые выходные, да еще на неделе пару раз. Иногда ночевать у бабки остается. На море ходят, в степь. Все вместе. Вот если б вдвоем…
Колька зажмурился, представив — он и Лерка в степи. И видно, что вокруг — на километры никого. Уже ковыль цветет в Широкой балке. Он и сидит здесь с ней — позвать хотел. Но боится, она согласится и назовет народу. И пойдут, как осенью тогда за грибами на дюны в лесопосадки. Человек пятнадцать собралось, сухаря набрали два ящика, потом понапились все. Сонька рыгала два часа, Колька с ней дурак-дураком провозился — зеленая вся, свитер воняет, потом ушла в кусты ссать и упала — подняться не может, ревет. Стыдно ей, видите ли, щеки грязью измазала, слезы текут, все жаловалась, что Геныч ее не любит. Колька тогда аж присел от удивления. Отличница, блин, а тоже в Геныча влюбилась, и не знал никто. Теперь вот, Лерка.
Колька снова поглядел на щеку в золотистом пушке, на вздернутую верхнюю губу, на обиженно припухшую нижнюю. Переживает. Блин.
— Антананариву, — сказал громко. Помолчал и добавил:
— Анцирабе. Мурундава…
Лерка повернулась. Смотрела внимательно и удивленно. Губы приоткрылись, показав влажные зубы. С левой стороны в промежутке верхних зубов остался маленький кусочек зеленой мякоти.
— Там растут огромные баобабы, — мрачно поведал Колька, — они похожи на толстяков с раскинутыми руками.
По спине его полз холодок.
— Там в мангровых зарослях ходят цветные крабы и бегают рыбы.
— Рыбы не бегают, — неуверенно заперечила Лерка.
— Там — бегают. Илистые прыгуны. Они выскакивают во время отлива и скользят по гладкому илу. Будто на коньках. Там яркое солнце и никогда нет зимы. Там женщины смуглые, как… Как ты — летом. Только волосы у них черные и вьющиеся. И океан грохочет огромными валами, а солнце вечером большое и красное, как кровь.
— Коль, — Лерка не сводила с него глаз.
— Оно садится прямо в океан и тогда дует ветер. Прохладный, после дневной жары. Можно ходить по теплому песку босиком.
— И я обязательно туда уеду, — закончил он севшим голосом.
Отвернулся. Даже глаза прикрыл от стыда, спрятал себя за веки.
Минуту молчали. Колька, чувствуя мурашки по спине, боялся повернуться.
Бабушка гремела посудой, но почему-то не выходила больше звать внучку. В Колькином огороде истерично закричал петух, собирая своих пернатых женщин.
— Коль? — Лерка протянула руку и потрогала его ладонь. Взяла покрепче. Потянула к себе. Он повернулся нехотя. Раскрывая глаза, — понимая, что еще больше смеяться будет, если увидит — зажмурился, как маленький.
И увидел восхищение на лице девочки.
— Коля… Ты возьмешь меня?
— Куда?
— С собой, на Мадагаскар?
— Так я ж еще не скоро поеду, — неуверенно сказал Колька, — а ты что, поедешь со мной?
— Конечно! Мне еще никто так не рассказывал! С тобой, да, поеду.
Колька заулыбался.
— А на Чукотку? Со мной поедешь?
— А ты и на Чукотку собрался? Там же холодно. И баобабов нету.
— Нет, ты скажи, поедешь?
Лерка засмеялась:
— Да, да! Конечно, поеду! Только, давай уж лучше на Мадагаскар, хорошо?
— Хорошо.
— Поклянись!
— Ты что?
Она требовательно дернула его руку:
— Ну, поклянись же, что без меня не поедешь! А я поклянусь, что, как только ты придешь и скажешь, я все-все брошу, в любое время и — уеду с тобой!
— Хорошо. Я клянусь, что приду и заберу тебя.
Лерка засияла глазами:
— Да! А я клянусь, что поеду. Вот!
— Лера!!! — закричала бабушка снизу и так рядом, что ребята вздрогнули, — с кем ты там?
— Бабушка, я с Колей! — Лерка сжала Колькину руку и наклонилась, показывая бабушке загорелое лицо, — мы разговариваем. Про Мадагаскар!
— Н-да? Ну, говорите, чего уж. Компот-то будете?
— Да, сейчас Коля спустится.
— Чего это я, — насупился Колька, — сама иди.
— Нет уж, она тебя любит, даст вишневого банку. А ты его сюда тащи, хорошо? Будем пить на крыше.
Тихий послеполудень желтил дневной свет. Сидели на засаленном матрасике, притащенном Колькой из своего сарая, и пили компот прямо из холодной трехлитровой банки, стукаясь зубами о край. Смеялись красноусыми щеками.
А напившись, отставили банку и притихли.
Смотрели вокруг, на лемуров, прыгавших по лианам с пронзительным птичьим верещанием. Слушали мяукание попугаев, что доносилось из пальчатых и веерных листьев. Видели, как за крышей Колькиного дома, за разъезженной грунтовкой и крошечными фермами в степи — красное солнце плавно готовилось сесть в океан. Оттуда тихо-тихо, но все-таки слышался мерный грохот океанского прибоя.
Счастье распустилось орхидеей на лохматом искрученном стволе перед глазами.
Колька потянулся — сорвать цветок и отдать Лерке — навсегда. Но вдруг тарахтение мотора цепкими крючочками побежало по спине. Сороконожка ненужных звучков — добежала до ушей, до мозга, стихла, но осталась мыслью — Геныч приехал. На «табуретке» своей японской.
Орхидея съежилась, лепестки свернулись, на глазах теряя упругость и свежесть.
— Лерк? — требовательно из-за забора, — Лерок, ты где там? Не забыла? Давай быстренько, я жду.
— Коль, — Лерка смотрела растерянно, — я обещала ему. Он на рыбалку меня хотел взять сегодня. Сам попросил.
— Ну и едь.
— Коль, ты не сердись, ладно? Я и не поехала бы, но обещала.
Она на коленках заелозила по матрасику, пытаясь заглянуть в опущенное Колькино лицо:
— Ну, Коль, ну, пожалуйста! Я ведь только на пару часов. А больше никогда ему ничего обещать не буду.
— Ага
— Ты мне не веришь, что ли?
— Лерка, ты совсем дура, да? — Коля поднял голову, — совсем-совсем дура? Будто ты не знаешь, зачем он тебя туда, на рыбалку… будто ты Геныча не знаешь!
— Коль, ну я же не Надька! Ничего со мной не будет, я знаю. И потом, тебе-то какое дело!
— Да, мне-то что, иди, куда хочешь. Может он тебя, на Мадагаскар!
— Ну, знаешь! На Мадагаскар ты мне пообещал. Нет, поклялся! А теперь что, из-за какого-то дурацкого Геныча от клятвы отказываешься?
Колька не нашел слов. Смотрел на Леркино возмущенное лицо. Молчал.
— Ле-рок!!!
— Иду! — и исчезла, прихватив полупустую банку.
Колька посидел еще немного, послушал обрывки разговора с бабушкой. Калитка хлопнула. И он полез по стремянке на свою сторону. За крышей и абрикосом огромный мопед, взрыкивая динозавром, сминал пальмы, вдавливал в песок мангровые заросли, распугивая смешных рыб и цветных крабов.
Маленький краб с панцирем ярко-зеленого цвета наскочил с размаху на Колькину ногу и остановился, поводя клешнями. Боялся идти в заросли буряка и щавеля. Колька нагнулся и подхватил дурака на ладонь:
— Иди сюда, бестолковый, а то ведь, куры склюют.
Он аккуратно поместил краба в карман рубашки.
Посидел с отцом за столом в виноградной беседке. Даже о чем-то поговорили. Потом отец ушел на вахту.
Колька побродил по двору, вздыхая. На дискотеку в клуб не хотелось. Все там будут, а дурынды этой с Генычем не будет — думай про них, что да как. Эх…
— Коль? — шелестнуло из темноты у забора. Темнота не заходила во двор, опасаясь лампочки под виноградом, до поздней ночи стояла, облокотившись на посеревший штакетник. Вроде, и рядом и — не заходит. Ждет.
— Коль, ты там?
Колька всмотрелся в темноту. Похоже, Лерка. И — сердце бухнуло, краб завозился в кармане, разбуженный.
— Ты чего тут? А рыбалка?
— Не поехала я, — Лерка стояла, ухватившись за серые деревяшки, — мы на дорогу выехали, а там впереди — солнце садится. Красное.
— И что?
— Ну, я и… В общем, я сказала остановить и побежала обратно. А он меня дурой обозвал вдогонку. Вот ты мне скажи, Коль, почему вы меня все время дурой обзываете?
Колька, радуясь, смотрел на белые в свете лампочки пальцы, на нос короткий, глаза, а всего остального и не видно в темноте.
— Ладно, я не буду больше, — мирно сказал. И спохватился:
— Заходи, а то, что ты там, на улице.
— А твои дома?
— Не, мама у сестры, отец на вахте.
— Ага, зайду, мне еще два часа можно гулять, я же — как бы на рыбалке. А потом через крышу — домой. Или, хочешь, сейчас туда полезем и будем сидеть?
— Хочу.
Они сидели на том же матрасике. Вдыхали запахи ночных тропических цветов, слушали крики зверей, что доносились из джунглей.
Колька полез в карман. Достал сонного краба:
— Вот.
— Ой, — Лерка погладила шершавую спинку, — это мне?
— Ну уж. Его выпустить надо. Завтра пойдем к морю утром, хорошо?
— Да. А он приживется у нас в море?
Колька пожал плечами в темноте. Но сказал уверенно:
— Куда он денется.
Джунгли жили своей загадочной и таинственной джунглевой жизнью, вздыхали, поскрипывали, ухали, журчали ручьями.
И далеко-далеко, среди огромных баобабов, раскинувших в звездное небо руки-ветви с растопыренными пальцами, бегал маленький заблудившийся Геныч. Всхлипывал, пинал кроссовкой упавший набок японский мопед и, дрожа, слушал рыканье ночных неизвестных зверей. Ждал утра.
ЛОСКУТИКИ
КРИМПЛЕН
Неснашиваемые вещи — кошмар начала 70-х…
Кот Ирвинг Стивенс, ЭсквайрРасцвет эпохи кримплена закончился давно. Но, несмотря на угасание всекримпленства, помню, как его было много, и какой он был. Одна из причин — его полная несносимость. В шкафу у мамы до сих пор висит нежное пальтишко персикового цвета на полупрозрачной нейлоновой подкладке. Когда-то, еще в эпоху фотоаппаратов «Смена» в каждой второй семье, мама юзала его долго и успешно. Пыталась юзать его и я, но постоянное несовпадение мешало сотрудничеству — когда входили в моду изячные пальтишки по колено, то либо память о засилии кримплена была еще свежа чрезмерно, либо я крутила роман с джинсой-коттоном и не желала отвлекаться на персиковые нежности.
Вот сейчас, казалось бы, процветает любовь к винтажу — раз; у самых продвинутых дизайнеров в последних коллекциях мелькают именно эти пальтишки — два; замученные собственным статусом московские заказчицы тащат подруге отрезы чего-то кримпленоподобного и с упоением рассказывают страшные истории о цене и супермоднявости привезенной из самой Италии новой (?) коллекции тканей — три…. Короче, именно сейчас можно было бы притвориться, что, да — последняя коллекция, да — вчера последнее в Ветошном переулке, нет, что вы, не пятьсот, я так дорого не покупаю — двести всего, угу, да, спасибо, сама знаю, что идет! Но шкаф, в котором висит эта спящая тряпочная принцесса, находится за полторы тыщи километров. Да, наверное, и пусть себе висит. Места много не занимает.
Основная идея предыдущих абзацев — оно, это пальтишко, новое. То есть, вообще без следов использования! Это вызывает уважение. Особенно в наше время, когда износ специально закладывают во все техрасчеты, чтобы увеличить товарооборот.
С другой стороны, это пальтишко — единственная на моей памяти вещь, которая действительно была хороша и мила. А остальное?
Что представлял из себя кримплен? Это — для тех, кто не застал. Абсолютно, бескомпромиссно и нескрываемо, можно сказать — победно — синтетическая ткань, на ощупь — шершавый полиэтиленовый пакет с рельефным узором. Узоры выдавливались по готовой ткани, поэтому могли быть абсолютно разными. От сдержанного диагонального рубчика до сумасшедших завитков всех размеров. Цвет ткани, как правило, самый ошарашивающий. И если вам в музее текстиля попадется манекен в кримпленовом платье, якобы модном в те далекие годы — не верьте и не спешите удивляться извращенности вкусов ваших предков! Эти безумные капустные розы попугайных расцветок среди угольно-черных орнаментов, белоснежных кругов на ползадницы и ярко-синих треугольников (это все одно платье, а вы что подумали?) в те годы тоже вызывали заикание и нервный тик. Но везли в город отрезы моряки-мужчины, не особо разбиравшиеся в оттенках и полутонах. Да и знойные южанки по-сорочьи не могли устоять перед ярким, блестящим, побрякушечным.
Пошитое из кримплена платье не мялось, не выгорало, не линяло. Не фалдило, а картонно торчало в разные стороны, как платьячко принцессы на детском рисунке. Не пропускало пот и мощно воняло под мышками, набродившись вместе с хозяйкой по злой жаре керченского базара. Искрило фиолетовыми искрами. И не снашивалось.
Помню учительницу математики — женщину достаточно молодую и даже, насколько понимаю сейчас, симпатичную. У нее были каштановые волосы, уложенные а-ля Маргарет Тэтчер, каштановый парик, уложенный в точности, как ее собственные волосы, стройные невыразительные ноги и десяток кримпленовых платьев разных цветов, но одного фасона. Фиолетовое, ярко-зеленое, коричневое, салатовое, в мелкий бирюзовый цветочек по алому фону, в крупный канареечный цветок по угольному фону… Но все — приталенные, с торчащим в стороны подолом, выше колена (фи, как это было немодно! Тогда как раз носили миди!), с треугольным вырезом и короткими облегающими рукавчиками. Дизайнер одежек, тогда еще мирно во мне дремлющий, просыпался и корежился от сорокапятиминутной эстетической пытки.
Еще на платьях иногда бывали зацепки. Выдернутую занозистым стулом нитку надо было аккуратно обрезать маникюрными ножницами — и можно форсить дальше. Кримплену эти миниэкзекуции совершенно не мешали.
Время шло. Несносимость кримплена стала действовать на нервы даже самым бережливым и упрямым южанкам. Каждая базарная торговка памадорами могла почувствовать себя аристократкой, т. е. выкинуть платье не потому что дырки, а потому что надоело!!! Выкидывали не в помойку, конечно. Не аристократы, чай. Платье перемещалось из шкафа в угол кухни на стул, где всегда кучей свалены фартуки и косынки. И становилось домашним. Теперь в нем, не потерявшем режущей глаз яркости, чистили картошку, мыли полы, белили потолки. И пугали друг друга рассказами о том, как «Дуся, ну та, шо огород у ней через два от нас, так газ запаливала, и спичка, ага — на подол прям! Так — эта — гадось — ка-ак — увспыхнет! Поплавилося все-о-о! И руки, и нога! Доктор ей сказал, женчина, то ж слава Богу, шо на подол, а не на грудь, а то б я не знаю, шо б и было б тагда!!! Не, ну какая же ж гадось! Синтетика!». И, качая головами, прижимали руки к мощной груди, обтянутой шершавой «гадосью», закатывали глаза и долго жалостно цокали.
А несносимое платье переселялось в летнюю кухню, чтобы хозяйке было в чем «увскапывать» картошку. Приятное глазу зрелище — могучая райская птичка с лопатой среди рыжей перекопанной земли — спина при каждом движении распирает потрескивающую импортную ткань. А кримплену — хоть бы что!
Конечно, если платье пошито сразу после замужества и не отставало от хозяйки уже двадцать лет, то существовала опасность, что раздобревшая мать семейства в него перестанет помещаться. На каком-то этапе сосуществования. И если пристроить наряд никуда не удавалось — дочки закатывали глаза и возмущенно фыркали, а все тетки и сестры, свояченицы и соседки давно обогнали эту самую мать габаритами, то, все равно, добраться до помойки утомленному жизнью платью не позволяли.
Тихими зимними вечерами в угол комнаты усаживали старенькую свекровь, вооружали ножницами (есть еще такие — с зубчиками) и бабушка, поглядывая в телевизор, нарезала бесконечное количество разноцветных кримпленовых язычков. Язычки укладывались в рядок на суровую ткань, пристрачивались. Сверху — второй ряд язычков. Ну и так далее. Потом из этого шилась тряпочная сумка. Когда внутри находились пара бутылок молока, булка хлеба и коробка рафинада, сумка напоминала гигантскую разноцветную шишку, которую стукнуло током — так что вся чешуя встала дыбом.
И по сей день для меня совершенная загадка — почему именно так, язычками, а не просто квадратиками или еще, ну, хоть как-нибудь, но по-другому!!!
Но так было…
КОТТОН
Да-да, те самые джинсы, которых сейчас так много. Таких разных. Хотя — не совсем те.
Были времена, когда готовые штанишки не варили. Привозились они сложенные в прозрачном пакете с огромной нарядной этикеткой — жесткие, как противень. Почти черные. С белой изнанкой. И при стирке щедро отдавали лишнюю краску. Вытирались при носке именно в тех местах, что сейчас наводят еще на фабрике — передняя поверхность бедер, «усы» от промежности, задница. «Левис», «Вранглер», «Монтана».
Новый коттон или, в просторечии джинса, по виду от сырья некоторых молдавских и грузинских производителей и отличить было нелегко. Но — был способ!
Взять спичку, послюнить кончик без серки. И потереть ткань. Если посинеет — о счастье! Значит, трется! Значит — не техасы (юмористически-уничижительно — «чухасы»), которые можно было прикупить по случаю в сов торговле. На них даже заклепки были. С надписями по кругу «Друг» или «Пионер». Извиняюсь, букву не помню, но дух соблюла.
Импортные джинсы, вожделенная «фирмА» от носки хорошели — синели, голубели. Чухасы же, теряя изначальный цвет (если он был), становились грязно-серыми.
Ну, какие еще? «Вайлдкэт», «Мильтонс»… Буду вспоминать по ходу.
Коттоновые джинсы — вещь неимоверно статусная. Есть одни — можно жить спокойно. Танцевать спокойно. Не заботясь о прочем гардеробе. Моя соседка и подружка-дискотечница Галка одна из нашей троицы имела фирменные вранглеры, привезенные отцом из загранрейса. За два года танцулек не могу вспомнить ее в другой одежке. Менялся верх и обувь. То — пуховый леопардовый свитерок и сапоги на шпильках, то — марлевая маечка и босоножки на шпильках. Центр всегда — вранглер. Были они на Галку чуть велики. И перед каждым диско выходом она их мочила в ванной и вешала сушить на балкон. Так три раза в неделю они и болтались там, размахивая штанинами.
На протертые места любимых (читай «единственных») джинсов ставились латки. Не стыдно. Даже если цвет не очень совпадал. Из штанов, уже не годных к латанию, шились сумки, куртки, рубашки, юбки. Даже купальники! Маячившие вытертыми «усами» в самых неожиданных местах. Это сейчас — модно и дизайнерский изыск. А тогда — жаль, умерли штанишки. И статус — нечто среднее между гордым владельцем фирмЫ и человечком безджинсовым. Бывший владелец, короче. Такой же, как те, что подкрашивали истертые добела штаны медицинской синькой. Цвет, скажу я вам, получался офигительно красивый. Но — отличался. А отличаться нельзя. Надо было, чтоб фирмА, чтоб, как у людей.
В нашем портовом городе все промысловые суда ходили в одну и ту же «заграницу». Привозили одни и те же тряпки. Одевали семьи и сдавали в «комки» (комиссионные магазины). Или перепродавали спекулянтам. Фарцовщикам. Фарце.
Мальчики-фарцовщики. У нас они были, как правило, ребятками криминальными и спортивными. Каратисты, дзюдоисты, боксеры. Может, сказывалась необходимость защищать нетрудовые доходы? Именно из них потом сформировалась первая мафиозная элита города. Именно они «держали» толкучку, рынки. Именно их отстреливали и взрывали в автомобилях. Человек пять, ныне покойных, могу припомнить еще по медленным танцам на дискотеке.
И весь город одевался одинаково. Те, кто мог себе это позволить. Помню тусовку «каменюжников» у городского почтамта. Сильные парни, работающие на заготовке строительного камня-известняка. Крепкошеие и мускулистые ребятки предкачкового поколения зарабатывали на «камушке» очень хорошие деньги. И, не чинясь, все, как один, покупали на «толчке» или «толкучке» (одно и то же) у фарцы джинсы «Монтана» и короткие курточки-радикулитки (потому что в спину дуло) «Сильвер». Так и тусовались быковатые — черный верх, синий низ. Стоила «Монтана» у фарцы 250–280 рублей. Две зарплаты инженерских.
Чуть позже — извращения всякие. Для совсем богатых. Коттоновые юбки, халаты, сарафаны. Белый коттон летом. Вельветовые джинсы всех вышеперечисленных фирм — разных цветов. Чуть дешевле, но тоже уважаемо.
Целая наука распознавания настоящей фирмЫ. Цепной шов на изнанке, форма заклепок и надписи на них. Строчка на карманах. Количество лейблов или лэйбочек.
Появляются новые фирмы. Джордансы. «А на карманах — во-от такие петли выстрочены!»
И не успел народ отслюнить 300 руб за две штанины, как завалили толкучку штаны с петлями на карманах разных непонятных фирм. Штаны с металлическим (жестяным) долларом, вклепанным в задний карман. «Суперперрис», «Суперпеннис». Я не виновата, они и правда так назывались.
Время идет. Законодатели мод загранщики привозят странные какие-то джинсы мышасто-серого цвета. Разные. Куча карманов, пуговиц, петель, клапанов, сеточек. Объясняют — «варенки» — модно. К ним — курточки, опять же покрытые карманами сверху-донизу. И, о чудо, у них отстегиваются рукава! И куртка превращается. Правильно — в элегантный жилет. А рукава занимают всю сумку. Или теряются в шкафу.
Джинсы-бананы. Счастье для толстоногих и бесформенных. И практичных. «Там такие карманы! В каждый входит пузырь шампанского!» Карманы-книжки на попе и на бедрах. И — на коленях. Чем больше (размер кармана), тем моднее. Чем больше (их количество) — тем дороже!
И, одновременно, первые вареные синие джинсы и куртки. Легенды о том, как именно их варят. И недоумение поначалу — зачем? Гневный вопль подружкиного папы «Ты отдала двести рублей за поношенную юбку, дура!!». И, в подтверждение легенд, обкатанные кусочки пемзы в карманах новых вещичек. И попытки дома в стиральной машине воспроизвести технологический процесс. Машина в мастерской, бабушка — в мозолях без любимой пемзы.
Вершина масспошива — джинсы-бананы «Пирамида» с тремя складками на животе с каждой стороны. В джинсы изящно заправлялся толстый турецкий свитер с узорчиками. Все затягивалось дерматиновым или строповым ремешком. На ноги — мокасины. Сказать «ужос»? А ведь было — красиво-о!
Дальше-дальше… Жена приятеля — длинноногая, в облипку сидящих голубеньких джинсиках. Сидит на полу — ноги по-турецки. И даже пуговицу не расстегивает! Как это? Объясняет «они резиновые».???… Стащив с попы, демонстрирует, как растягивается в руках вареный коттон. На этикетке непривычное слово — лайкра. Счастье для стройных и красивопопых!
Что-то пропустила? Наверняка. Вспомню — добавлю.
Наступило сейчас. И каждый волен выбирать себе джинсы по фигуре и по карману. И — хорошо.
ГИПЮР
Из рейсов моряки привозили. Синтетического ажурного кружева кофточки простейшего покроя, но, о чудо! — по кружевным цветочкам — золотая и серебряная ниточка простенькой вышивкой. Красота! И наплевать, что колюче, зато — красота!
У мамы была кофточка, беленькая, в серебряную нитку. Пошила она ее сама и потому мне остались два драгоценных лоскутка, размером с ладошку каждый. Я, кстати, на кукол не шила никогда и на себя стала шить сразу, в тринадцать лет, первую же сшитую вещь надела и носила долго и счастливо.
А тогда вынимала из коробки лоскуты (у нас назывались «лоскУтики», расправляла и смотрела. Брала пластмассовую девочку, имени не помню, размером с указательный палец взрослого человека, волосы на пластмассовой голове и тапочки на длинных палочных ножках нарисованы, и снимала с нее тремя стежками схваченные магазинные одежки. Я про кукол потом напишу, тема еще та. И делала ей индийское сари. Куколка была русявая, глазки — голубыми точками. Сари на ней странно смотрелось, но зато сверкает и блестит серебряная ниточка по белым цветочкам…
В общем, рейс полгода, пара заходов в иностранные порты, жене потом из чемодана: три отреза цветного гипюра, упаковку прозрачных косынок с люрексом, пару кусков кримплена и нам-нам нам — банки с ананасовым компотом!
У нас в городе по гипюровым кофточкам сразу определялся статус женщины, жена загранщика, не иначе!
А больше ничего о гипюре не припомню, была я совсем маленька.
Красивым я его особенно не находила, вернее, казался он мне красивым сам по себе, чтоб не надевать, а полюбоваться. А вот видеть торчащие из гипюровой жесткой пены знакомые головы соседок за праздничным столом или — в город поехала (мы на окраине жили), — весело было и как-то неловко, будто они куклы-вырезалки с набором смешных одежек.
А вот пуговки на маминой кофточке были восхитительные. Жемчужины с золоченой петелькой, за которую надо было пришивать. Застегивались неудобно, выворачивались из пальцев, но за мягкий перламутровый блеск и кажущуюся настоящесть мною прощались и продолжали восхищать.
Когда кофточка перекочевала в чемодан на шкафу (не из-за того, что сносилась, гипюр, как и кримплен, был вечен и неубиваем, надоела просто), я залезла на табурет и маленькую скамеечку, и, удерживая тяжелую чемоданную крышку просунутыми внутрь руками, выкопала кофточку и отрезала одну пуговку, самую нижнюю, которая все равно держалась на одной нитке.
Но вне кофточки пуговка потеряла ценность, осиротела. Она лежала в круглой коробке с моими «драгоценностями» и я не знала, что с ней делать? Носить в кулаке разве что. Потом она поцарапалась и потускнела. А остальные были более счастливы, я срезала их много позже и пришила к шелковой белой рубашке, которую носила с мини-юбкой и шпильками. Нам всем вместе — мне, юбке, шпилькам, рубашечке и пуговкам с маминого гипюра, — было хорошо.
ЛЮРЕКС
Соседку звали Алина и была она по виду — десятиклассница. Только с пятилетней беленькой дочкой. Ходила по однокомнатной квартире в маленьких белых трусах, а грудь такая, почти детская, какую сейчас запретили, в Австралии, кажется.
— Ты ничего? Что я так хожу? Жарко…
И шлепала босыми ногами в кухню, где вечно что-то жарилось и парилось.
Муж Алины, белобрысый и широкоплечий Геныч, сидел, согнувшись, над поставленной боком скользкой плитой и мелко стучал молотком по зубилу. Денежная работа — портреты на кладбищенских памятниках высекать. Как ни придешь, все время в коридоре или в комнате торчит черная плита с припыленным серым лицом. То мужской квадратный подбородок и роскошная (всегда почему-то) шевелюра, то взбитые букли над очками в роговой оправе. Вечная память…
Алина Люшу любила. А то как же — муж-загранщик.
— Ну? — спрашивала, шлепая от двери, прикрывая рукой маленькие груди с коричневыми сосками, — что там? Когда уже твой Саньчик появится?
— Телеграмма пришла, через неделю будут в Союзе.
— Вот тебе чай, зеленый.
— Порт захода — Бердянск.
— Бердя-а-анск? — она расстраивалась и морщила длинный прямой носик, убирала рукой в муке белые соломенные волосы за ухо, — ну, Люшка, ты же все привезешь, да? И сразу мне, поняла?
И Люша привозила. Укачавшись, сходила по трапу крылатой кометы, тащила домой сумку с тряпьем для комиссионки. И звонила в Алинину дверь. Та, сверкая серыми глазами, прибегала, но смотреть хрустящие пакеты, разложенные на диване, стеснялась и, подхватывая их под локти, роняя, шептала горячо, несмотря на плотно закрытую в комнату дверь:
— Пойдем, пойдем к нам, Генка умотал на кладбище, в контору, все посмотрим.
— Аль, ну что все тащить?
— Да! А то я папу вашего, знаешь, как боюсь, он строгий.
У себя Алина бегала, заваривая чай, кричала что-то из кухни. Прибегала, оставив на пластиковом столе забытые чашки и тарелку с домашним печеньем.
— Ой… А это что?
— Колготки. С люрексом. Сказал, так носят сейчас.
Из пакета с нарисованными длинными ногами выползали, шурша и блестя, золотые колготины, сверкали так, что Люша впадала в оторопь. Как же такое носить-то? С чем?
А полуголая Алина уже натягивала на худые ноги блеск и сверкание.
— Колючие, черт! Смотри, Люшка, как мне?
Она крутилась перед зеркалом, поворачиваясь к нему тощей длинной спиной, перехваченной по талии тугой резинкой так, что на белых боках наползали смешные складочки, а потом скользила руками по шершавому нейлону, пытаясь подтянуть красоту.
— Щас, Кристина! Кристина!!! Неси мои туфли, они за шкафом в коридоре.
Приходила Кристина, такая же, как мать, беленькая, сероглазая, с прямым носиком и бледными губами. Стукала по полу каблуками, подворачивая маленькие ступни, тонувшие в лодочках. Сбросив материны туфли, садилась с ногами на диван и копала одной рукой шуршащие пакеты. Смотреть на взрослых было интереснее, чем на новое тряпье.
— Беру. Эти вот, золотые. И еще вон те, где зеленые блискучие змейки.
— Мам, вот еще возьми, — Кристина тянула из пакета что-то ужасное, ярко-синее, режущее глаз серебряными поперечными полосами. Но это было чересчур даже для Алины.
— Нет, эти не с чем. Хотя… Черную юбочку, Люшка, помнишь, с кружевом? Если синенькие туфли купить, то и ничего.
Дома Люша спрятала деньги и вытащила из надорванного пакета сверкающие колготки. От них резало глаз и кололо ладони. Осторожно натянув шершавый нейлон на ноги, постояла перед зеркалом. При каждом шаге коленки взблескивали, будто загорались от спички.
На следующий день все добро было снесено в комиссионку. Одни колготки, совсем золотые, плотно упакованные в хрустящий целлофанчик, Люша покрутила в руках и оставила, пусть лежат. Через полгода подарила умирающей от восторга семиводокисельной племяннице из степной деревни, приехавшей в город «скупляться».
БАТНИКИ
Они сидели на лавочке во дворе, смеялись и слушали, как играет на гитаре Серега.
Ах, Серега!.. Кудри до плеч, расклешенные джинсы до середины двора и
батники. Ушитые так крепко, что еле выдерживали пуговицы, и похож Серега в любимом своем батнике на расписанную красными розами змею.
Батник, по словарю, приталенная блузка или кофта, мужская и женская, с
застежкой-планочкой и отложным воротником.
Как строен Серега в своем цветастом батнике, сидящий на лавочке со
взрослыми девочками! И планочка-застежка была и дырки между пуговицами светили. А воротничок не просто отложной, концы его были длинными, как уши спаниеля и острыми, как уши овчарки — так надо. Когда задувал ветерок, воротниковые уши хлопали Серегу по щекам, и их приходилось придерживать руками, а руки-то заняты! В них — гитара.
Тише люди ради бога тише… Голуби целуются на крыше…и дальше не помню, не помню и вдруг:
Палюбил Ромео — сын Мантеее-еки дочь врага — Джульетту Капу-летти!И после перерыва, во время которого, отдав гитару Светке в мамином парике
из стоячих скорлупой белых волос и в платьице таком коротком, что сейчас и нет таких (даже в Керчи — нет уже такого мини, какое носили взрослые девочки тогда, эхехе, и мини было минимальнее и клеша расклешеннее)), так вот, отдав мини-Светке с макси-ногами на супер-платформах гитару подержать, Серега встряхивал кудрями, пробегал пальцами по планочке батника, проверяя — не улетели ли пуговки, те три, что застегнуты в районе талии, потому что расстегивать батник принято почти до пупа, забирал обратно гитару, и…
В гавань заходили корабли, корабли Большие корабли из океана В та-аверне веселились моряки, моряки и пили за здоровье атамана!Нежный возраст не мешал мне задумываться, а к чему в таверне — атаман, ведь
не степь казацкая. Но я была занята, я ушивала клетчатую рубашку, делая на спине ее две длинные вытачки. И спереди тоже. Чтоб и у меня — батник. А вдруг я пройду по двору в своих первых взрослых босоножках на танкетке (до этого только сандалеты, те, что с первого класса меняли лишь размер) и Серега увидит…
Но я понимала — не увидит. Ведь моя рубашка из «Детского Мира», даже ушитая вручную до невозможности вдохнуть, не имела воротника, чтоб висел длинными собачьими ушами. Увы и увы. И нет у нее таких чудесных острых манжет, которые надо заворачивать, чтоб края торчали углами. Да и вообще, Серега Король на малявок не смотрел. У него вон Светка в мини. И Галка в клешах. И Ирка в огромных красных бусах…
В дверях стоял наездник молодой, молодой Глаза его, как молнии сверкали Наездник был красивым сам собой, сам собой пираты в нем узнали юнгу ГарриВот снова! На чем же он ездит, если — юнга? Может, просто в отпуске решил
поездить, на лошади… А в дверях стоял, прям с лошадью, что ли? А если он был наездником еще до морей, то сколько же лет юнге Гарри?
Дальше приходила в песню любовь, и юнга оказывался не таким уж и юным,
видимо, туповат был Гарри — карьера на флоте ему никак не светила, так в юнгах и прозябал.
Но за первую строчку о гавани — прощалось Гарри и Сереге все.





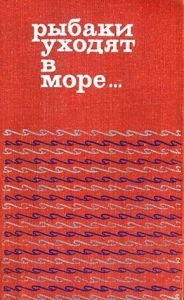
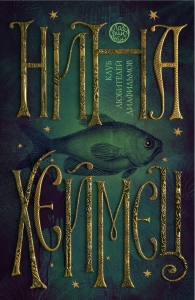


Комментарии к книге «Сказки Леты [СИ]», Елена Блонди
Всего 0 комментариев