Луиджи Лунари Маэстро и другие Роман Перевод с итальянского Валерия Николаева
Безмерно почитаемому мною Маэстро Джорджо Стрелеру, без которого этот роман никогда не был бы написан.
Л. Л.Этот маленький роман был написан в 1990 году, и начинался он, скорее, как спонтанная запись забавных воспоминаний о тех двадцати годах, что я провел в стенах миланского «Пикколо Театро». Что из этого получится, я понятия не имел, может быть, история одного любительского театра. Но вскоре внутренняя сила персонажа, именуемого Маэстро, повлекла меня за собой. Сами собой возникли очертания романа, где главным стал портрет этого великого человека — Джорджо Стрелера. Портрет ироничный, порой саркастичный, что ни в малой степени не отменяло моего громадного к нему уважения и нисколько не повредило его артистичному и поэтичному образу, показанному в моменты человеческой слабости и уязвимости, отчего личность героя приобретала объем, вызывая симпатии намного большие, нежели вызывала в реальности…
Уже первое издание книги имело огромный успех и значительное одобрение читателей. Книжная лавка по соседству с «Пикколо Театро» в мгновение ока распродала все книги, доставленные издательством…
Однако — и это вполне понятно в нашей юдоли печали, где свобода выражения часто увязывается с дозволением свыше, — немногие отважились открыто положительно оценить текст. Практически не было рецензий. А те, что появились, были явно написаны с оглядкой на Милан. Театральные критики, столь великодушные со мной за кулисами, исчезли с горизонта со скоростью, обратно пропорциональной их близости к Маэстро…
Было немало и тех, кто с возмущением принялся обвинять меня в оскорблении Его Величества. Эти люди были абсолютно неспособны понять, что нет ничего необычного в том, что в одном человеке могут сочетаться величие на театральных подмостках и достойная сожаления личность за их пределами, или как мог преданный ученик, каким являлся я, критиковать неприкасаемого Учителя в духе Данте, поместившего своего учителя, Брунетто Латини, в Ад…
В самом «Пикколо Театро» рабочие и сотрудники разделились на две группы. Первые обиделись, узнав себя в персонажах книги, вторые были рады, что не попали в их список.
А что Стрелер? Читал он книгу или нет? По мнению многих, наверняка читал. По-моему, что более вероятно, он нервно пролистал ее, выхватывая отдельные фразы то там то тут. Это больше соответствовало его характеру: не зацикливаться на том, что было ему не по нутру, изгоняя это из своего мира, построенного исключительно из собственных представлений и желаний. Разумеется, книга ему не понравилась. И вместо того чтобы — как советовали ему многие — махнуть на нее рукой и дать читателю самому оценить ее, он затеял судебный процесс, требуя с меня и директоров трех газет, опубликовавших отрывки из книги, утопическую сумму морального ущерба в 9 миллиардов лир. Я написал ему, что мы с ним умрем, так и не дождавшись, когда улитка итальянского правосудия доползет до того или иного решения. Мое предсказание сбылось наполовину: Стрелер умер, и дело закрыли…
Возвращаясь к роману, я хотел бы подчеркнуть одну из главных его особенностей: абсолютную достоверность всех деталей, составляющих эту невероятную, кажущуюся неправдоподобной историю. Все, что написано в романе, — практически хроникальная запись реальных событий. Мне нравится вспоминать, как Жак Лассаль, тогдашний директор «Комеди Франсез» и восторженный читатель этой книги еще в рукописи, позвонил одному из давних друзей «Пикколо», чтобы узнать, все ли правильно в ней изложено. Последовал замечательный ответ: нет, не все, одно из приведенных автором имен начинается не с V а с W!
Луиджи Лунари
* * *
Участвуют:
Маэстро
и другие[1]:
Паоло Нуволари, Сильвия, Тина Нинки, Джованни Солерци, Мария Д’Априле, Адольфо, Эрнесто Паницца, Дольяни, Карло Валли, Сюзанна Понкья, Грегорио Италиа, Джузеппина Карулли, Франкино, Карло Баттистоцци, Энрико Дамико, Ламберто Пуджотти, Андреина Ди Джиона, Джулия Де Ладзари, Реджина Димидо, Анни Сойя, Долорес Равелли, Милена, Терезита, Ахиле Пирано, Лучиано Черонни, Прела, Ренато Дель Кардине, Луиджи Лунари, Хеннинг Дуден, Мариза Минетти, Луиза Спаньятелли, Омелия, Анджеда, Виничио Кьети, Пьервиллани.
А также еще другие[2]:
Михаил Горбачев, Раиса Горбачева, Паоло Поли, Джакомо Леопарди, Сандра Мило, Эудженио Монтале, Кирк Дуглас, Кармело Бени, Тони Куртис, Валли Тосканини, Джованни Рабони, Федор Достоевский, Бертольт Брехт, Иоганн Вольфганг Гёте, Паоло Грасси, Агата Кристи, Жак Ланг, Джованни Спадолини, Исаак Ньютон, Миттеран, Массимо Раньери, Умберто Эко, Норберто Боббио, Вильджельмо, Пьетро Читати, Галилей, Раффаэлла Кара, Мао Цзэдун, Мисс Италия-1990, Мария из Магдалы (Магдалина), Рихард Вагнер, Джорджо Фантони, Дуглас Макартур, Бернар Дорт, Умберто Босси, Альберто Арбазино, Алессандро Маньо, Маурицио Порро, Джанни Версаче, Франсуа Тальма, Ахиле Оккетто, Альфред Хичкок, Чарльз Линдберг, Паоло Пиллиттери (по прозвищу Брадаринло), Марко Дзанузо, Алессандро Манцони, Гуидо Алминази, Марио Мерола, Франческо Петрарка, Лука Ронкони. Джованни Баттиста, Назареец (Исуус Христос), Питер Брук, Патрик Шеро, Александер Моисси, Гюнтер Роджерс, Одоардо Бертани, Константин Станиславский, Уго Ронфани, Карло Рипа ди Меана, Сократ, Кризия (Дучия Манделли), Гастон Джерон, Мария Грация Грегори, Франко Куадри, Джованни Гуарески, Паоло, Паганини, Генри Киссинджер, Дуизон Бобе, Вергилий, Иво Кьеза, Лучио Арденци, Джорджио Альбертацци, Тино Карраро, Морис Шевалье, Хулио Иглесиас, Фред Астер, Валентина Кортезе, Мемо Бенасси, Андреина Паньяни, Элеонора Брильядори, Архимед, Сильвио Берлускони, Дио Падре, Моцарт, Петер Шаффер, Антонио Сальери, Джотто, Витторио Гассман. Паола Борбони, Мольер, Джанни Аньелли, Марсель Пруст, Чезаре Ромити.
Глава первая
Это был один из тех редких случаев, когда Маэстро явился в театр в свободный от репетиций день. В такие моменты он, как обычно, сидя за девственно чистым письменным столом, с нарастающим раздражением выслушивал доклады обо всем, что произошло в Театре за время его отсутствия. Сотрудники, выстроившиеся перед столом полукругом, с преданностью и затаенным страхом в глазах вываливали на него свои проблемы. Много же их накопилось, пока он находился в Марокко, где в суперпродвинутой арабско-американской клинике проходил курс лечения по специальной технологии, возвращающей натуральный блеск волосам.
Времени у него было в обрез: уже вечером его ждал рейс в Рим, где предстояло важное голосование в Сенате, а следующим утром еще один перелет — в Париж. Нуволари, в прошлом знаменитый чемпион «Формулы 1», а нынче — шофер Театра, который в полдень забирал Маэстро в Малпенса[3], уже был на пути во Францию, везя в багажнике машины два чемодана с книгами и одеждой (главным образом, свитера с высоким горлом). В Париже он прямиком из аэропорта доставит Маэстро в министерство культуры, где у него назначена встреча с министром, а оттуда — сразу же в Киберон, в знаменитую клинику Луизона Бобе, где, накануне нового театрального сезона, он собирался пройти курс очистки организма с помощью каких-то чудодейственных водорослей.
Иными словами, дорога была каждая минута. С самого утра Маэстро находился в том лихорадочном возбуждении, которое охватывало его всякий раз, когда предстояло сделать кучу дел в кратчайшее время. Он примчался в Театр ровно в час дня, что, естественно, означало для всех отмену обеденного перерыва. Распахнув дверь решительным движением вечно спешащего человека, он понесся по коридору в свой кабинет, где исполнил обычный ритуал: бросил тренч на диван, аккуратно выровнял складки оконной шторы, выстроил по размеру шариковые ручки и карандаши на письменном столе и, усевшись наконец в любимое кресло из стали и кожи и заранее обессилев оттого, что ему предстояло, откинулся на спинку. После чего, обведя глазами сотрудников, которые тем временем уже заполнили кабинет, принялся сообщать им новости о своем пребывании в Марокко: врачи — хамы, еда — дерьмо, спать совершенно невозможно.
Тем не менее было очевидно, что он пребывает в хорошем настроении, которое не испортила даже бестактная оговорка Тины Нинки, почтительно именуемой сотрудниками Старой Синьорой, многолетней, бессменной и неувядаемой руководительницы его секретариата, которая, запутавшись в пройденных им курсах лечения, принялась расхваливать… блеск его кожи.
В целом совещание проходило спокойно. Руководители отделов дирекции и служб Театра по очереди докладывали Маэстро о положении дел и формулировали свои срочные потребности. Он выдавал моментальную реакцию, изрекая сентенции, приглушая страсти, поторапливая, ставя в тупик, делая пометки в блокноте. Все это производило впечатление максимальной эффективности процесса: «Да!», «Нет!», «Завтра!», «Этим займусь я лично!», «Я ему позвоню!», «С этим ничего не поделать», «Пусть идет в задницу!», «Вот увидишь, согласится, никуда он не денется!». Подумать только, в одно мгновение решалось то, что так долго, напрягаясь, не мог решить каждый из них самостоятельно! Ну и кто они после этого, если не кучка ни на что не годных бестолочей? Покончив подобным образом еще с парой щекотливых вопросов, он поднялся и, разведя руки жестом Христа на кресте, воскликнул:
— Друзья мои! Я только что прилетел из Рабата, сегодня вечером я должен быть в Риме, завтра — в Париже, послезавтра, если не умру от усталости, в Кибероне! Любой другой из живущих на этой земле после столь тяжелого перелета и ужасной ночи остался бы дома и спал, а я здесь, с вами! К тому же сейчас уже половина второго, в это время все нормальные люди обедают, расслабившись, вытянув ноги под столом, я же сижу в своем кабинете, где вы морочите мне голову софитами, которые кто-то не привез, деньгами, которых не хватает, пожарными, которые неизвестно чего хотят! Если вы желаете моей смерти, так мне прямо и скажите, я хотя бы подумаю, как мне вести себя в этой ситуации! И побойтесь Бога, не можете же вы претендовать на то, чтобы я все за вас делал, иначе это действительно означало бы, что вы хотите моей смерти!
И, поселив тем самым в душах присутствующих комплекс вины, он взмахом руки заставил умолкнуть хор протестующих голосов и продолжил:
— Братцы мои, вы большие молодцы, только вам осталось научиться самой малости — решать все проблемы самостоятельно! Трения со спонсорами, перенос сроков строительства — это все материя, в которой вы прекрасно разбираетесь, не хочу сказать, лучше меня, но, по меньшей мере, не хуже. И посему, поимейте совесть, делайте все са-ми! Собирайтесь, обсуждайте и предлагайте мне решения. Так мы с вами должны работать! А сейчас, простите, мне надо к портному, затем к парикмахеру, а ровно в восемь у меня самолет. Согласитесь, разве ж это жизнь?
И т. д. и т. п.
Но на этом все не кончилось. Голос подала Старая Синьора, которой в этот день выпала участь служить источником мелких неприятностей. Как это было демократично заведено Маэстро, вместе с другими сотрудниками она стояла перед его письменным столом, невзирая на свои восемьдесят лет (точнее, Маэстро не принимал во внимание ее восемьдесят лет), и трясущейся от старости рукой протягивала ему свернутый вчетверо лист бумаги:
— Это письмо от профкома технических сотрудников, они требуют встречи с тобой…
Маэстро с изумлением уставился на нее: профком технических сотрудников?! У него что, мало дел, чтобы еще встречаться и с его членами?! С этими болванами, которые только и умеют что требовать прибавки жалования и просить пристроить на работу их родственников!
— Но почему именно со мной! — начал заводиться Маэстро.
— Потому что ты директор, Джорджо, — приторным тоном напомнила ему Нинки.
Это уточнение примирило Маэстро с обстоятельствами.
— Да-да, конечно… я директор… понятное дело, — буркнул он, с довольным видом поправляя ворот свитера. — Но все-таки надо иметь хоть чуточку уважения к несчастному старику. Хотя бы один из вас, кто доставал меня своими проблемами, подумал, что я сегодня, вероятно, даже не успею поесть?
С удовлетворением отметив выражение сочувствия, проявившееся на физиономиях присутствующих, Маэстро смилостивился: как-никак, профком технических сотрудников представлял рабочий класс, и пусть его руководители были теми еще засранцами, как, впрочем, и те, кого они представляли, встретиться с ними было политически целесообразно.
— Ладно, — сказал Маэстро, снова широко разводя руками. — Скажите им, что, как только я вернусь… во время одной из репетиций… или как только выпустим спектакль… в общем, скажите, что хотите… я их приму.
Но вместо привычного гула одобрения сошедшей благодати, в кабинете стояла удивившая Маэстро тишина. Он посмотрел на Нинки.
— Это срочно… — проговорила дребезжащим голосом Старая Синьора. — И к тому же это предусмотрено соответствующим пунктом внутреннего регламента Театра…
— А не пошли бы вы все в жопу вместе с вашим внутренним регламентом! — взорвался Маэстро, красный от вспышки внезапного гнева.
И скрылся в туалете.
Глава вторая
Профком, представлявший различные технические службы Театра, состоял из четырех человек: троих мужчин и одной женщины. О том, что Маэстро согласился принять их, они узнали в ту минуту, когда, сидя в баре под сценой, смотрели по телевизору повтор давнишнего теннисного матча, комментируемого последней Мисс Италия.
— Он сильно разозлился? — спросила Мария Д’Априле (отдел связей с предприятиями), как всегда в широченной цыганской юбке и просторных жилетках, скрывающих ее избыточные формы.
— Не больше, чем обычно, — ответил принесший это известие. — Он сказал, что примет вас у Адольфо.
— Как это у Адольфо?! — изумился посыльный Эрнесто Паницца, худой коротышка в синем выходном костюме в белую полоску и белой рубашке, из огромного воротника которой торчала тонкая шея. — Почему не в театре? Почему не в его кабинете?
— Потому что у него нет времени: в восемь у него самолет…
— А если в семь придет почта?! — взорвался Паницца, настроенный воинственнее и непримиримее других: — Нет, я туда не пойду! Это неуважение к нам! Директор — это директор, и наши законные требования он должен выслушивать в своем кабинете, где принимает своих подруг в шикарных шубах и своих гребаных друзей-политиков!..
Однако верх взяло мнение, что необходимо смирить гордыню.
— Хотя, конечно, — признал вахтер Дольяни, тощий дылда с хриплым прокуренным голосом, — это не дело — принимать представителей профкома в парикмахерской, когда тебе делают маникюр, а Адольфо красит волосы. Но Мария права: главное — это поговорить с ним, а где — у парикмахера или в сортире — не имеет особого значения.
Договорились, что Мария представит директору членов профкома; телефонист Карлетто Валли как наиболее толковый и к тому же чаще других имеющий дело с дирекцией, сформулирует их требование; Дольяни вступит, когда потребуется поддержка; Паницца откроет рот, только если его о чем-нибудь спросят.
Решительно поднявшись, они двинулись по узкой лестнице, ведущей из бара наверх, и перешли через улицу. Витрину парикмахерской Адольфо целиком занимала гигантская фотография Маэстро, снятого во время репетиции: правая рука вытянута вперед, рот разинут в крике, львиная грива слегка растрепана.
Четверка цепочкой прошествовала мимо портрета, Дольяни, Валли и Мария, не сговариваясь, уважительно склонили перед ним головы.
— Хорошенькое начало! — презрительно буркнул Паницца.
В специальном зальчике для самых уважаемых клиентов Маэстро чувствовал себя как дома. Облаченный в элегантную накидку из натурального льна, Маэстро сидел в массивном кресле, словно на троне. Огромные зеркала на стенах возвращали многократно его образ во всех ракурсах, что доставляло ему явное удовольствие. Сидящая на скамеечке у его ног ангелоподобная блондинка-маникюрша держала его руку, своим смиренным видом напоминая Магдалену, отдающую всю себя Христу. В этой замкнутой Вселенной Маэстро преображался, наконец-то обретя космический покой, являясь единственным объектом всеобщего внимания и забот. На ближайшие пару часов никаких внешних раздражителей: никакого Театра, никаких критиков, актеров, политиков… все забыто, все вне его, все далеко-далеко отсюда…
Стоя за спиной Маэстро, Адольфо демонстрировал ему в зеркало какие-то пузырьки и баночки, поясняя то, что собирается с ними делать. Маэстро было приятно наблюдать, как Адольфо с ненавязчивым достоинством подает себя в качестве царствующей здесь особы, как режиссирует собственное физическое пребывание в предлагаемых обстоятельствах. Не то что в Театре, где всеми постановочными деталями приходится заниматься ему, только ему одному, потому что никто ни хера не понимает, и если ему требуется добиться нужного светового эффекта, то он должен бежать наверх, в будку осветителя, и собственноручно выставлять прожекторы, как надо! А здесь он в конце концов обретал все понимающую, почти равновеликую ему фигуру, Адольфо, которому достаточно лишь объяснить «идею голубого сюда, на виски», чтобы он нашел этому адекватное решение, всегда с большим вкусом, новое, необычное и очень дорогое…
На пороге парикмахерской нарисовались представители профсоюза.
— Проходите, дорогие, проходите, — подбодрил их Маэстро. — Проходите, располагайтесь, чувствуйте себя здесь как дома. Что, некуда сесть? Ладно, неважно, тогда постойте, тем более что мы сейчас быстренько решим все ваши проблемы.
— Добрый день, Маэстро, как поживаете? — вступила Мария.
— Сама не видишь? — ответил печально Маэстро. — Я вынужден работать, даже когда мне моют голову. Вот такая моя жизнь…
Он обвел глазами вошедших и понял, кого они ему напоминают: комический квартет из шекспировского «Сна в летнюю ночь». Господи, и на таких людей он должен тратить свое драгоценное время!
И, верный своей тактике в подобных случаях, ринулся в атаку:
— Нинки сказала, что вы хотели видеть меня. Вот он я, вы меня видите. Не знаю, с чем вы пришли, давайте послушаем. Вдруг ваше дело не такое срочное, а? Вдруг оно может подождать, пока этот несчастный старик, воспользовавшись, как и все, законной неделей отпуска, вернется из Киберона. У вас есть отпуск? А вот у меня его нет. Но это неважно. Главное — другое: до тех пор, пока я жив, пока вы все меня не угробили, я с вами и, как всегда, в вашем полном распоряжении. Только не подумайте, что я жалуюсь. Я сам так захотел! Театр — это дом для всех, кто в нем работает, и самый последний из засранцев должен иметь возможность пообщаться со своим директором. И директор примет последнего из засранцев. У вас есть, что мне сказать? Говорите, я слушаю.
— В общем так, Маэстро… — откашлявшись, начал Валли.
— Джорджо! Пожалуйста, зови меня Джорджо! Мы среди товарищей, это ведь профсоюзное собрание… В театре, понятно, при посторонних мы еще можем поиграть в субординацию, раз уж так необходимо. Там вы можете обращаться ко мне «маэстро» или «сенатор», это будет как раз то что надо. Но здесь, среди соратников, товарищей по работе, вы можете обращаться ко мне на «ты» и звать по имени. Итак?..
— Итак… Джорджо… Мы позволили себе побеспокоить тебя…
Повисла долгая пауза, потому что в этот момент Адольфо попросил Маэстро наклонить голову над раковиной для первого ополаскивания волос. Лившаяся вода явно помешала бы Маэстро слышать, и Валли посчитал правильным прерваться.
— Ну так все-таки можно узнать, чего вы хотите? — спросил Маэстро, выпрямляясь.
Но прежде чем Валли вновь открыл рот, голова Маэстро исчезла под огромным пушистым полотенцем, которым Адольфо принялся энергично вытирать его шевелюру.
Спустя некоторое время голова появилась вновь.
— А, вы еще здесь? — воскликнул приветливо Маэстро. — Так что дальше?.. Я слушаю! Говори, говори!
— Итак, Маэстро… Мы позволили себе потревожить вас… поскольку… по просьбе нескольких технических работников театра…
— Понял, только… извини, что перебиваю тебя, давай ближе к делу, ладно? Я согласился принять и выслушать вас, но и вы будьте милосердны! Если вам наплевать на человека, который через три часа должен быть в Риме, а завтра уже в Париже, то, по крайней мере, проявите хоть немного уважения к вашему директору!..
— Хорошо, Маэстро… Короче, группа рабочих театра хотела бы создать…
Глава третья
Челюсть у Маэстро отвалилась, и какое-то время он, не веря собственным ушам, с изумлением глядел на Валли.
— Не понял, — произнес он наконец спокойным тоном. Слишком спокойным.
Валли снова откашлялся и, стараясь сдержать сердцебиение, вынуждавшее дрожать голос, повторил:
— Группа рабочих театра хотела бы создать… любительскую труппу…
— Любительскую труппу?!.
— Да, любительскую труппу, — с твердостью в голосе подал реплику Дольяни.
— Любительскую, — чуть слышно подтвердила Мария.
— Любительскую!! Я слышу! Я что, по-вашему, глухой? — начал заводиться Маэстро. — Но… но… на хрена она нужна, эта ваша любительская труппа?!.
— В лапту играть, — нарушая уговор не открывать рта, буркнул Паницца.
Но Маэстро не услышал его — Адольфо был высококлассным профессионалом, прекрасно чувствующим, когда надо вмешаться. Включив фен, он направил его на волосы Маэстро, давая тому возможность выиграть время для осмысления новости.
Собственно, Маэстро вовсе не нуждался в ответе на свой вопрос: он сразу же понял, что взбрело в головы этим мудакам. Они возжелали играть на сцене! Подражать ему! Любительская труппа театра! Естественно, с Марией Д’Априле в примадоннах, с Дольяни в роли благородного отца и Паниццей в роли придворного шута!
Он мазнул взглядом по квартету, отметив грубый грим Марии, костлявые мозолистые руки Дольяни, тупую физиономию Валли, голубой, в белую полоску, костюм Паниццы с бельевыми прищепками на обшлагах брюк, чтобы они не попадали в спицы велосипеда… и представил себе всю смехотворность ситуации: как они на сцене «Театро Студиа»[4] играют отрывки из «Фауста» перед сидящими в первых рядах лауреатами Нобелевской премии и членами королевских семей; как после спектакля призрак Томаса Манна с «Лоттой в Веймаре» под мышкой настигает его в гримуборной и, тряся за руку, говорит со слезами на глазах: «Спасибо! Спасибо! Наконец-то, я понял Гёте!»… и как потом уже на главной сцене «Пикколо Театро», или хрен знает где еще, для публики, состоящей из друзей и родственников от мала до велика, потных и вонючих, жующих бутерброды с вареной колбасой, доставая их из лежащих на коленях промасленных бумажных пакетов, эти актеры любительской труппы «Веселые селяне» играют трехгрошевый водевильчик или какую-нибудь дурацкую пьеску о таких же дебилах, как сами, или хрен знает, что еще…
Ему захотелось заорать, вскочить на ноги, сорвать с себя льняную накидку и пинками спустить с лестницы этот похабный квартет… Но он заставил себя сдержаться.
Спокойно. Главное, не терять хладнокровия. Сделать вид, что слушаешь их с интересом, согласно кивать, может быть, даже поздравить с прекрасной идей… затем показать, что тебя гложет сомнение, поселить в их душах смятение, страх стать посмешищем, выставить себя идиотами… а увидев их подавленность и готовность распрощаться со своей дурацкой затеей, великодушно предложить им достойный выход из положения: поскольку идея любительской труппы, как вы уже поняли, хреновая идея, почему бы вам не создать хорошую футбольную команду, или провести конкурс любительского кино, или устроить выставку фотографий своих родственников и друзей?.. При этом важно ничем не унизить этих представителей трудящихся, не дать им понять, кем он их считает на самом деле, и не позволить им вернуться к своим с пустыми руками, ничего не добившись! Но, слава богу, он умел вести себя с массами.
Маэстро отвел рукой фен, который направил на него Адольфо.
— Значит, любительская труппа… Что ж, ребята, должен признать: неплохая задумка! Неплохая! Только вот что интересно… как эта странная задумка пришла вам в голову?..
— Очень просто, маэстро… — оживился Валли. — Ничего странного в этом нет. На многих предприятиях сотрудники коллективно создают…
— Это мне понятно, — перебил его Маэстро. — Но почему именно театр, вот что мне интересно. Вы — работники, скажем так, предприятия, продукция которого — театральный спектакль. И вы, честно говоря, должны быть сыты театром по горло! Логичнее было бы от вас услышать: «Театр? Ну уж нет, ни за какие коврижки! В то время, как мы думаем о том, чтобы вкусно поесть, выпить хорошего вина и расслабиться, мы и слышать не хотим о театре! Оставим заниматься театром этому старому пердуну, который посвятил ему всю свою жизнь, и мы видим, чего это ему стоило!» Вот это было бы понятно. И справедливо. Вам так не кажется? Вам должно хотеться все, что угодно, но только не театр! Ты что об этом думаешь, Адольфо?
— Гхм… — ответил Адольфо.
Дольяни поспешил на помощь Валли:
— Видите ли, Маэстро, все дело в том, что нам нравится театр…
— В это я могу поверить, — согласился Маэстро, уже почти совсем успокоившийся. — Иначе и быть не может. Имея перед глазами в течение стольких лет прекрасный его образец… Вам не кажется, что именно по этой причине ваша затея может оказаться… несколько рискованной?
— Рискованной? В каком смысле, сенатор? — вежливо спросила Мария.
— Ну… — ответил Маэстро, отведя глаза в сторону, как делал всякий раз, собираясь обвести собеседника вокруг пальца. — Скажем… вы рискуете тем, что вас будут сравнивать… Меня, городской театр Милана, один из лучших в Европе, и вас, любительскую труппу этого театра… Хотя… о, Господи, ведь может неожиданно статься, что вы все гении, что Дольяни талантливее Лоуренса Оливье, а Мария может ставить спектакли лучше меня!.. Но будем честными друг с другом, может случиться и наоборот, все окажется не так, и публика будет тыкать в вас пальцами и обзывать дерьмом, неблагодарными псами, засранцами, осмелившимися выступать на сцене в доме самого великого режиссера мира… Да-да, есть люди, которые обо мне такого именно мнения! Они будут говорить: что себе позволяют эти придурки, педерасты, шлюхи и… и… А я, как вы сами понимаете, не смогу постоянно быть рядом, чтобы объяснять зрителю: да нет, вы что, они вовсе не такие, они просто вышли на сцену, чтобы от души позабавить вас, сделайте скидку на то, что они всего-навсего бедные, малообразованные работяги, а, в сущности, они славные ребята, которые, вместо того чтобы думать только о вкусной еде, выпивке и развлечениях, посвящают себя благородному делу по имени Театр, и т. д и т. п. Я много работаю, все время в разъездах и не могу быть вам защитой в вашем деле. Я не прав, Адольфо? Или я чушь несу?
— Гхм… — сказал Адольфо.
Четверка переглянулась. Профсоюзные посланцы были явно обескуражены, что не ускользнуло от глаз Маэстро, наблюдавшего за ними в зеркале. «Ну вот и пришло время пряника», — подумал он с удовлетворением.
— Так что, — сказал он, поднимая правую руку жестом утешения и отпущения грехов, — может, вам и правда лучше подумать о хорошей футбольной команде? Я мог бы заказать вам форму… хотите, у Армани? Или у Версаче? Я позвоню ему и скажу: Джанни, сделай мне одолжение. Он мне не откажет… Или же организуйте ежегодную выставку семейных фотографий: дети с мороженым в руках, теща, принимающая душ… А? Что вы на это скажете?
Он опять скосил глаза в зеркало: квартет выглядел растерянным, но все еще не сдавшимся.
— Видите ли, Маэстро, — вновь подал голос Валли. — Мы обо всем хорошо подумали. И решили создать именно любительскую театральную труппу.
— Вот дьявол!.. Но почему?! — лицо Маэстро начало наливаться краской, а руки задрожали, что означало предвестие гнева. — Почему именно театральную? Театр здесь делаю я, понятно? Я!!
— Но мы хотим создать совсем другой тип театра, Маэстро… — вмешался Дольяни.
— Другой тип театра?! — Изумление, словно ведро ледяной воды, мигом остудило закипающую ярость Маэстро: — То есть? Повторите, какой театр вы хотите создать? Другой? И что это значит — «другой театр»? Объясните мне, что это значит. Авангардный театр, со сцены которого зрителю сначала показывают голую задницу, а потом на него еще и мочатся? Такой? Или театр мимики и жеста, где актеры мычат, скулят и разговаривают так, словно блюют: агкх… гггурх… Другой тип театра, видите ли! Хотите сказать, что мой вам не подходит, да? Что он вам неинтересен? Ну давайте, объясняйте!.. Валли!..
— Видите ли, Маэстро… — проговорил Валле и закашлялся.
— Дольяни!..
— Нет, Маэстро, все не так, как вы сказали!
Но и Дольяни на этом остановился.
— Мария!
— Маэстро, я обожаю ваши спектакли… — прошептала та и на этом умолкла.
— Паницца, — повернулся к нему Маэстро, — может, ты мне скажешь, что за гребаный театр вы хотите создать?
Паницце был задан вопрос, следовательно, ему было разрешено открыть рот.
— Мы, мать твою, — сказал он, четко выговаривая слова, чтобы до Маэстро дошло все, что он скажет, — мы хотим создать театр, в котором не будут дохнуть от скуки те, кто придет смотреть наши спектакли.
Глава четвертая
«Театр, в котором не будут дохнуть от скуки те, кто придет смотреть наши спектакли!»
Сидя на заднем сидении лимузина, который вез его в Киберон, Маэстро расковыривал рану, нанесенную ему сорок восемь часов назад в Милане.
Завершившееся долгими аплодисментами его выступление в Сенате, показанное в теленовостях, комплименты президента и коллег-сенаторов, автограф, выпрошенный командиром авиалайнера, доставившего его в Париж, встреча с молодым куртуазным французским министром культуры, который уважительно обращался к нему «Cher Maître» («Дорогой Мэтр»), — все это явилось для раны слабым и коротко действующим бальзамом, малоэффективным, как арабские духи на руках леди Макбет.
Из-за телекамер, не сводивших с него объективов, из-за спин поздравлявшего его председателя Сената, любезничающего с ним французского министра культуры и командира корабля, такого мужественного в своей черной форме с золотыми шевронами, перед глазами то и дело вставало подлинное в своей осязаемости, подобно призраку Банко[5], видение Паниццы. Ужасный в своем синем в белую полоску костюме, в рубашке, большей, чем нужно, на пару размеров, с бельевыми прищепками на лодыжках, он бросал Маэстро в лицо невероятное: «Театр, в котором не будут дохнуть от скуки те, кто придет смотреть наши спектакли».
Если следовать логике Паниццы, это должно было означать, что в его театре, театре Маэстро, публика дохнет от скуки!
Он передернул плечами, ругая себя последними словами за то, что все время думает об этом мерзавце. В конце концов, кто такой этот Паницца! Какое отношение он может иметь к Иоганну Вольфгангу фон Гёте! Только у таких, как он, с их менталитетом и лексиконом фанатиков-коммунистов времен холодной войны, может вызывать смертную скуку высочайшая поэтика «Фауста». Да пошел он!..
— Иди ты в жопу, Паницца! — вырвалось у него.
— Простите? — спросил Нуволари, ведя машину с обычной невозмутимостью. — Вы что-то сказали?
— Нет, ничего.
— Вы обратили внимание, как красиво смотрится сегодня этот замок?
Маэстро механически повернулся, чтобы взглянуть на замок, прекрасный и ужасный, хранитель мрачных средневековых тайн, пропитанных кровью и ядами. Но тут же из-за окруженной башнями громады выплыла огромная гротескная фигура Паниццы, который кричал прямо ему в уши: «Театр, в котором не будут дохнуть от скуки те, кто придет смотреть наши спектакли!..»
Что более всего изумило Маэстро, так это отсутствие реакции остальных членов профсоюзной делегации. Он ожидал, что они немедля открестятся от сказанного Паниццей, выгонят его пинком под зад, обольют безоговорочным презрением, шарахнутся, как от прокаженного. Но эти три мерзавца, наоборот, даже ни на полшага не отодвинулись от него! Мало того, они принялись объяснять, прежде всего Мария, что Паницца, выразившись в своей привычной манере в духе коммунистической «Униты» 50-х годов, в сущности, хотел сказать, что они собрались сделать театр… э-э-э… менее серьезный, что ли… чуть более развлекательный… «Нет-нет, пусть Маэстро не подумает, что его театр не развлекательный! — поспешила пояснить Мария. — Театр Маэстро может еще как развлекать! „Арлекино“, например, был очень смешной спектакль, даже если смотреть его сорок раз подряд, но… как бы это сказать?.. в некоторых местах — очень смешных — немного не хватало… неожиданности»… Хотя она, Мария, которая была с этим спектаклем в Аддис-Абебе, прекрасно помнит, что эфиопы просто катались со смеху…
Увы, объяснение не успокоило его. Оно лишь опередило крепкое ругательство, уже готовое было вырваться, как пробка из бутылки, высвобождая содержимое, слишком долго находившееся под сильным давлением. Сказанное Марией потрясло все его существо и теперь травило душу, как всепроникающий яд.
— Ты тоже помирал от скуки на «Фаусте»? — обратился он неожиданно к Нуволари.
— Я нет, потому что…
— Потому что — что?
— Потому что я его еще не видел, — извиняющимся тоном проговорил Нуволари.
— Твою мать! Он уже целый год как идет!
— Да, но на него до сих пор невозможно достать билет… — на лету сочинил Нуволари.
Фраза прозвучала лестно, и Маэстро решил принять ее за чистую монету.
— При первой же возможности напомни, чтобы я оставил тебе два места на мое имя. Сходишь вместе с женой, а потом расскажешь мне, заела тебя тоска или нет.
— Да, сенатор, спасибо, — поблагодарил Нуволари, не слишком уверенный, что Маэстро запомнит свое обещание.
Приказав себе выбросить из головы Паниццу и всю эту историю с любительским театром самонадеянных придурков, Маэстро принялся думать о своих последних спектаклях, как делал всегда, когда нуждался в подпитке чем-то успокаивающим и ободряющим, что могло бы восстановить его душевное равновесие. Взять, скажем, «Великую магию». Выдающийся спектакль, что говорить! Хотя пьеса — так себе, пусть все и твердили, что это шедевр. И разве спектакль не оказался очень смешным? И все благодаря тому, что он собственной рукой вымарал из истории девушки это авторское занудство. Вырезал именно для того, чтобы зрители не умирали от скуки! Так что, синьор Паницца… или ты собери побольше информации, прежде чем открывать рот, или иди в задницу, говнюк!
«Киберон» — известил о приближении к цели дорожный знак. Еще несколько километров — и огромный синий лимузин, подарок «ФИАТ’а» театру, окажется у въезда в обширный парк клиники Луизона Бобе.
Маэстро начал мысленно настраиваться на предстоящее. Неделя отдыха и курс очистки организма от токсинов с помощью специально подобранных водорослей приведут его в форму к началу нового театрального сезона, и он будет полон сил для возобновления напряженных репетиций новых фрагментов «Фауста».
Этим вечером, сразу же после визита врача, он поужинает в роскошном павильоне на дамбе, над морем, за столиком, навсегда закрепленным за ним. На столике хрусталь, серебро. Издалека будет доноситься шум моря и будут мерцать огни разбросанных вдоль берега многочисленных деревушек, знаменитых своими устрицами и рыбой, где Нуволари сможет обжираться, как свинья, с типичным пролетарским безразличием к деликатесам, за счет театра и, следовательно, налогоплательщиков.
Что до него, то ему из монастыря доставят протертый до абсолютной прозрачности potage de légumes[6] и — основной элемент диеты — нечто вроде зеленоватой, волокнистой, влажной, холодной, желеобразной поленты с запахом подопревшего мускуса и разложившейся медузы. Ее ему предстоит поглощать в течение всей ночи и следующего утра, пока не подоспеет новое обеденное меню.
А в этот самый момент, за тысячу пятьсот километров от Киберона, в миланской остерии «Пулиро ди Лакьярелл», пышущие здоровьем технические сотрудники Театра праздновали создание группы драматического искусства «Пикколи дель Пикколо»[7]. Фирменные закуски, три первых блюда, тележка ассорти вареностей-копченостей, перец, запеченный с луком и помидорами, жареная картошка, овощной салат, тирамису и свежие фрукты. Любезно званная Старая Синьора Нинки холодно отвергла приглашение, однако послала туда в качестве представителя дирекции свою правую руку — Сюзанну Понкья, поручив ей внимательно слушать все, что можно будет позже передать Маэстро.
Глава пятая
— Сюзанна?.. Перезвони мне!
Маэстро положил трубку и стал ждать звонка из Милана. Небольшая банальная уловка из соображений экономии, которой теперь он мог бы позволить себе не заморачиваться, но которой продолжал пользоваться скорее по инерции, чем из скупости.
Сюзанна перезвонила.
— Ну и?.. — спросил Маэстро.
Очевидно, Сюзанна спросила: «Вы о чем, сенатор?» или что-то в этом роде, потому что Маэстро ответил с легким раздражением:
— Как все прошло? Я имею в виду эту, мать их… сходку! Нинки сказала мне, что послала туда тебя. Это так или нет?.. Тогда, черт тебя побери, почему ты мне до сих пор не позвонила?
— Я… мне в голову не пришло, сенатор, что вас это так интересует! — воскликнула, стоя у телефона в Милане, Сюзанна.
— Разумеется, мне интересно, дура ты набитая! Проснись, Сюзанна! Как, по-твоему, это может меня не интересовать, когда четверкой мерзавцев овладела похоть лицедейства! Кого, как не меня, больше всего заботит доброе имя моего Театра! Поэтому мне не просто интересно, мне супер важно знать, что творится за моей спиной! Потому что если что, это мне придется разгребать те кучи дерьма, которые на нас повалятся… Что ты молчишь? Ты начнешь наконец говорить или нет? Можешь сказать мне, какую еще хренотень они там замутили?!.
По ходу доклада Сюзанны все нюансы этого доклада один за другим отражались на физиономии Маэстро. «Сходка» открылась сообщением Марии Д’Априле о встрече с шефом. Мария сказала, что Маэстро встретил их задумку с большим удовлетворением, даже поздравил, назвав молодцами, потому что, вместо того чтобы только и думать о еде и развлечениях, люди решили посвятить свое свободное время искусству и т. д. и т. п. Не давая слова Паницце, который собирался что-то возразить, Мария добавила, что Маэстро, как им почудилось, несколько встревожился, скорее всего, тем, что они могут показать себя не с лучшей стороны. Точку хотел поставить Дольяни, сказав, что Маэстро в результате благословил их. Однако упрямый, как мул, Паницца все-таки вставил свое, прорычав, что у Маэстро не было ни права, ни власти сказать им «нет», потому что речь идет о трудящихся, которые в свое свободное время могут делать все, что придет им в башку, не спрашивая ничьего дозволения. После чего раздались аплодисменты в адрес Маэстро, и все принялись есть.
— Надо же, они еще и аплодировали! — хмыкнул Маэстро в Кибероне.
— Да-да, — подтвердила в Милане Сюзанна. — Они были вам очень признательны!
— Ну что же, вообще-то они замечательные люди! — с теплом в голосе заметил Маэстро, в ушах которого еще звучало эхо аплодисментов. — Но ведь должна же быть среди них черная душонка, которая подбила их на это, как ты думаешь? Кто-то же вбил им в башку эту паскудную идею!..
— Не знаю. Мне показалось, что они все заодно.
— А ты сказала им насчет футбольной команды, фотоконкурса, кинофорума…
— Да, но…
— Они тебя и слушать не захотели, я понял.
— Нет, — возразила Сюзанна в Милане. — Они сказали, что все это замечательно, но они чувствуют в себе влечение именно к сцене.
— Вот как! И кто же из них сумел произнести эту фразу? Неужто Паницца? — И поскольку Сюзанна в Милане замешкалась с ответом, прикрикнул на нее: — Ну, кто это был? Боишься назвать? Нет? Тогда говори. Кто это сказал?
— Грегорио.
— Грегорио?!
Маэстро потерял дар речи. Грегорио! Грегорио Италиа, прозванный Страусом Оскаром за худющую физиономию на длиной шее и здоровенный кок над очками, один из самых верных его сотрудников, ответственный за паблик-релейшн, паразитирующий на Театре, то есть человек, которому целыми днями не хрена делать, разве что иногда поприсутствовать в качестве представителя Театра на каком-нибудь дурацком мероприятии, где, как правило, он сидел, набравши в рот воды.
— Интересно, — обрел дар речи Маэстро. — Стало быть, это именно он, вместо того чтобы вправить им мозги, наплевал на мои принципы и взял их сторону, подтверждая правильность их поступка…
— Скорее, он выступил с политических позиций. Он сказал, что как марксист не может не поддержать их…
— Как марксист?! — ахнул в Кибероне Маэстро. — Нет, ну наглец! Вы только посмотрите, синьор Грегорио Италиа преподает мне урок марксизма! Этот тип, одевающийся у Армани и жрущий на халяву на любом сборище всевозможных засранцев! И он еще учит меня марксизму! Меня, который участвовал в Сопротивлении в Женеве! Меня, являющегося коммунистом сегодня, а не десять лет назад, когда коммунистами были все, кому не лень! Только не говори мне, что Оккетто[8] — коммунист! Или Горбачев! Этот Горбачев — самый настоящий реакционер, империалист, предатель… жопа с ушами!.. Да-да, в том, что он жопа, у меня ни малейшего сомнения! Потому что тот, кто не пускает «Великую магию» в Ленинграде, не может быть никем, кроме как большой жопой… Две больших жопы: он и Паницца!..
Сюзанна в Милане терпеливо ждала, когда Маэстро в Кибероне закончит метать громы и молнии. Она хорошо знала эту забавную особенность его ars rhetorica[9]: любое уловленное ущемление достоинства Его Величества, типа дерзкой выходки Грегорио, вызывало у Маэстро бурный поток исполненного патетики словоизвержения, которое иссякало лишь тогда, когда он считал окончательно заклейменными позором тех, кого он больше всего ненавидел в тот или иной конкретный исторический момент. Сейчас это были: Паницца — по известной нам причине, и Горбачев, виноватый в том, что ограничил — хотя, быть может, не лично сам — гастроли Театра по Советскому Союзу несколькими спектаклями в Москве под предлогом их дороговизны и трудностей, переживаемых советской экономикой.
Как бы то ни было, у Сюзанны имелся достаточный опыт управления настроением Маэстро. Поразив стрелой Грегорио, которого терпеть не могла, она выдернула ее: «Нет, в принципе, вряд ли ‘черной душонкой’ мог быть Грегорио Италиа. Возможно, это кто-то другой». И пообещав Маэстро заняться выяснением, кто бы это мог быть, она стала готовить новость, которая вне всякого сомнения, должна была доставить ему огромное удовольствие.
— Во время ужина они разговаривали обо всем понемногу, в том числе, о ближайших планах. Они хотели бы начать репетиции уже завтра, чтобы выйти на сцену еще до Рождества.
— Вот как! И с чем же они собираются на нее выйти? Кто будет ставить? Кто оформит сцену? Кто что будет играть? Что за пьеса? Театр, черт побери, — дело серьезное!.. Они не называли пьесу?
— Ну… так… походя…
— И это все, что ты можешь мне сказать? Ты вообще собираешься рассказывать или мне надо вернуться в Милан и клещами вытаскивать из тебя по словечку?
— Я… — Сюзанна в Милане сделала вид, что замешкалась. — У меня не хватает храбрости сказать вам это…
— Что? Это так ужасно? — спросил Маэстро в Кибероне.
— Как сказать…
— Они ставят «Отверженных» Гюго?
— Нет-нет!..
— «Грозу» Островского? Или брехтовскую «Матушку Кураж»?
— Если бы что-то из этого — Бог в помощь!
— Не угадал. Что-то еще ужаснее? — подпустил ехидства Маэстро.
В его тоне Сюзанна уловила перелом в настроении в лучшую сторону и заранее предвкушала тот неописуемый момент, когда тайна откроется.
Она ловко оттягивала этот момент, потворствуя нарастанию восторга у Маэстро, в который он упоенно бросался, очертя голову, всякий раз, когда угроза опасности или даже легкая неприятность исчезали с его горизонта. Это было своеобразным садомазохистским петтингом, связывающим хозяина и рабыню невидимыми узами сообщничества, независимо от различия их ролей. Обмен репликами, настойчивыми, с одной стороны, и уклоняющимися, с другой, взаимное притворство с одной-единственной целью: рассеять без следа дурное настроение Маэстро, вознести его победителем на вершину пирамиды из черепов поверженных врагов, опьянить сладостью собственного триумфа и унижения других… и вот тогда, только тогда, бросить ему это абсурдное, гротесковое название, распахнуть перед ним несуществующую дверь и дать выход животному хохоту, сопровождающему космическую вакханалию, когда кажется, что человек навсегда покинул свою телесную оболочку.
— Сюзанна, ты должна, наконец, сказать мне это!
— Не могу, сенатор, не настаивайте!
— Сюзанна, мать твою, говори!..
— Нет, сенатор, это выше моих сил!
— Доставь мне это удовольствие! Я жду!
— Сенатор…
— Сюзанна, не будь такой сукой, ты что, не хочешь порадовать меня?
— Сенатор, я вам скажу это, но…
— Давай, Сюзанна, говори, черт тебя побери! Я больше не могу терпеть!
— Ладно, сенатор… они задумали ставить…
Глава шестая
Когда закончился приступ безудержного веселья, вызвавшего панику у примчавшихся дежурного врача и медсестры, Маэстро отправился обедать.
Пребывая в приподнятом настроении, он радушно поприветствовал всех присутствующих в обеденном зале и уселся за свой стол, всякий раз всхлипывая от смеха, едва перед глазами вставала картина того, как этот ансамбль придурков будет измываться над «Добрым человеком из Сезуана», одним из лучших его спектаклей, поставленных в «Пикколо».
Именно эту пьесу они выбрали для своего дебюта. Брехтовского «Доброго человека из Сезуана»! Господи, кто их надоумил? Ну и кто, интересно, выйдет в главной роли? Неужели Джузеппина Карулли, эта помесь амебы с верблюдом, все части тела которой — плечи, шея, задница — живут каждая своей жизнью? А кто будет играть летчика? Франкино из исследовательского отдела с его повадками церковного служки?.. Вот с кем проблем не будет, так это со шлюхами, точнее, одна-таки будет: проблема выбора, поскольку их-то как раз полным-полно вокруг!
Он прыснул, представив себе, как Франкино в летном комбинезоне распевает «Песню о восьмом слоне», стараясь произвести впечатление на Карулли в костюмчике и боевой раскраске китайской шлюхи, а затем, отставив мизинец, жадно поглощает завтрак, состоящий всего лишь из огурца и корки сухого хлеба.
Явившееся ему на смену видение троицы: Паниццы с прищепками на отворотах брюк, Дольяни с его выговором портового грузчика и Валли с его постной физиономией пономаря — вызвало у Маэстро такую садистскую эйфорию, что он почти с удовольствием проглотил шестьдесят граммов безвкусного разваренного риса, служившего первым блюдом его обеда… Но протертые до атомов водоросли — это омерзительное зеленоватое пюре, которое мы уже имели возможность описать, — вернули его к более реалистичному взгляду на жизнь. Радость угасла, в голову полезли неприятные вопросы, и, прежде чем обед завершился ритуальной вываренной сливой, мрачная хандра овладела им.
О Маэстро можно сказать все что угодно, и кое-что мы действительно сказали, но только не то, что он не знает театра со всеми его темными сторонами, не исключая извращенную психологию тружеников сцены, истинно служащих ей верой и правдой или притворяющихся, что так служат, а таких немало, как и тех, кто стремится войти в их число, вроде этих профсоюзных придурков.
Все, стоп! Спокойно. Проанализируем ситуацию.
Если они возжелали делать «развлекательный» театр, то почему взяли для этого «Доброго человека»? Только потому, что он, да-да, он смог сделать очень веселый спектакль или, точнее, достаточно веселый, во всяком случае, никто на нем не помирал со скуки! Но пьеса сама по себе, такая, как ее написал бедняга Брехт, — типичный образец чисто немецкого юмора, типа вюрстеля с пивом и второй дырки в заднице, ja ja, ach so, рассчитанного на конченного мизантропа!
«Вот пусть они объяснят мне это сами!»
Нервным жестом он отодвинул стоящие перед ним тарелки.
«А может быть, мелькнуло в его голове подозрение, а может быть, эти бляди что-то скрыли от меня? Я им сейчас сам позвоню!»
Он поднялся и с решимостью на лице, сменившей сияние, с каким он появился в зале, быстро вышел.
В этом месте я считаю необходимым дать кое-какие пояснения по поводу манеры выражаться нашего героя, особенно, что касается определений, которыми он всегда сопровождал имена и фамилии цитируемых персон. Было бы ошибочным полагать, что эти определения являются плодом продуманных умозаключений или достоверных личностных характеристик. Например, в последней приведенной реплике «…эти бляди что-то скрыли от меня…» сказанное явно относилось к Нинки и Сюзанне. Но любой, имеющий хотя бы слабое представление о ситуации в итальянском театре, знает, насколько нелепо толковать подобные выражения буквально.
Взять Тину Нинки. Многолетняя и беззаветно преданная Театру, глава его секретариата, она служила в нем практически с момента его основания, и никто, включая Маэстро, не мог похвастаться более длительным пребыванием в его стенах. По всем законам ее уже давным-давно следовало отправить на пенсию, но для нее власти сделали исключение. Никто не желал взять на себя неприятную обязанность хотя бы намекнуть ей на то, что пора бы и на покой. У кого-то даже родилась мысль об уходе с почетом — а для этого назначить ее директором театра, зная, что это ненадолго. Но у Маэстро это предложение вызвало прямо-таки аллергическую реакцию: для него это было подобно тому, как если бы кто-то предложил Богу Отцу разделить с ним его миссию! Таким образом, Старая Синьора оставалась символом Театра, несменяемой Весталкой, к сожалению, все менее дееспособной.
Кое-что из сказанного можно было отнести к Сюзанне Понкья, воспитаннице и преданной тени Нинки: пройдя все ступени административной лестницы, Сюзанна заслуженно стала правой рукой Нинки. Тонкая интриганка, пресекающая любую конкуренцию с чьей-либо стороны, эксплуатируемая эксплуататорша, она частенько засиживалась в театре и после окончания рабочего дня, вызывая восхищение много-терпением, с каким принимала на себя вспышки чувств Маэстро, как по телефону, так и въяве, то есть была человеком, целиком отдававшим себя работе.
Если вслушаться в дефиниции, которые Маэстро так щедро раздавал — с симпатией друзьям и с тяжелой антипатией к остальным, — его словарный запас представлял собой одну бесконечную сексуальную метафору, в большинстве случаев, как определил бы ее Фрейд: садоанального характера. И не было ни единого чувства, поступка, какого-либо действия или конфликта с повседневной реальностью, которые в его лексиконе не преображались бы в конфигурацию камасутровского толка. Например, выигрывая в карты, он говорил о партнере: «я оттрахал его в задницу». Стало быть, когда проигрывал сам, следовало понимать, что теперь партнер поступил с ним подобным же образом. Состояние тоски у него называлось «яйца щемит»; тягомотина переводилась как «за хер тянуть»; проявляемый кем-то интерес к какому-либо делу или поручению ассоциировался у него со страстным желанием «подставить задницу»; доброжелательность и человеческая расположенность трактовались как готовность «отсосать или вылизать»; пустомеля или многословный писатель — «ссыт себе на голову»; трус — «наложивший в штаны»; выпендривающийся актер — «горшок с дерьмом под крышку», а если кто-то Маэстро не понравился, то «пусть идет в жопу»; и т. д. и т. п. И тем не менее…
И, тем не менее, чего только не намешано в человеческой природе! Никто в мире не читал Леопарди или Монтале так, как Маэстро. Однажды, когда он читал на публике стихи Леопарди, постепенно понижая тон, кто-то с балкона крикнул уважительно и чуть слышно: «Громче!», — он остановился и, покачав головой, сказал, улыбаясь: «Дружище, ты, конечно, прав, но как можно произносить громко слова: „Покой объемлю мыслью — странный холод подходит к сердцу?“»[10].
Ни Леопарди, ни Монтале никогда не были в Кибероне, в клинике Луизона Бобе, где взбитые протертые водоросли стоили 250 франков.
Покинув обеденный зал, Маэстро вошел в свои апартаменты, снял трубку и нервно набрал телефон театра. Сюзанны на месте не было. Он набрал домашний номер Нинки. Старая Синьора отдыхала.
— Чем занята? Спишь, как всегда?
— Чего?.. — спросила та, плохо соображая со сна.
— Я позвонил в театр, а Сюзанны нет.
— А где она? — спросила Нинки.
— А почем я знаю! Может, вышла перекусить! А вот где ты, мне известно: дома и спишь без задних ног! Несчастный мой театр! Я здесь дохну от тоски, пытаясь восстановить силы, чтобы хотя бы еще один годик волочь эту ладью, а вы там жрете от пуза и дрыхнете! Прекрасно! Молодцы! Большое вам спасибо! Продолжайте в том же духе!
Почувствовав, что проверенный фокус удался и комплекс вины вызван, он поинтересовался:
— Ты слышала об этой истории с «Добрым человеком из Сезуана»?
— Ну да…
— Ах, ну да! И что скажешь по этому поводу?
— А что сказать?.. Сказать нечего…
— Тебе нечего сказать?! Тебе все ясно?! Мне, например, ничего не ясно! За этим, мать их, что-то стоит! И тебе это известно! И Сюзанне тоже! Всем известно, только я один ничего не знаю, единственный в этом гребаном театре… Значит, ничего не хочешь мне сказать? Мне, старому мудаку, тебе больше нечего сказать, кроме того, что тебя все это устраивает?
— Джорджо, — простонала в трубку Старая Синьора.
— Что Джорджо? Почему тебя не волнует, что эти засранцы поставят «Доброго человека», да еще, быть может, в режиссуре Паниццы?
— Потому что я уверена, Джорджо, что твой спектакль навсегда останется самым лучшим!
Маэстро запустил трубкой в стену.
Неужели лучше, чем у Паниццы?!.
Такого ему еще никто никогда не говорил. Дожил. Он задохнулся от отчаяния. Только этого ему и не хватало: чтобы его сравнивали с Паниццей!!.
Глава седьмая
В семь вечера, проехав без единой остановки путь, начатый в пять утра в Кибероне, Нуволари прибыл в Милан. Поставив машину во дворе Театра, он уже собрался было отправиться домой, когда Паницца сообщил, что его хочет видеть Нинки.
— Что ты так поздно? — спросила Старая Синьора, едва грузная фигура шофера возникла у нее на пороге.
Эта фраза не удивила и не возмутила Нуволари: ею Нинки встречала его всякий раз, независимо от того, откуда он приезжал и сколько бы ни провел времени в пути. Поэтому он не стал напоминать ей, как далеко отсюда находится этот треклятый Киберон, и ответил, как отвечал всегда: «На автострадах полно пробок».
— Понятно, — сказала, как всегда, Старая Синьора. — В другой раз будь осторожнее.
— Хорошо, синьора, — сказал Нуволари, как под копирку. — Я могу идти?
— Нет, Паоло, к сожалению, не можешь, — заявила Нинки. — Нужно срочно ехать забрать Маэстро.
Нуволари, как нам известно, только вчера вечером оставил Маэстро в Кибероне. Видимо, тот вернулся самолетом.
— Так он уже вернулся? — спросил Нуволари.
— Нет, — ответила Нинки. — Возвращается.
Голова у Нуволари пошла кругом.
— Возвращается? Откуда?
— Из Киберона. Откуда еще он может возвращаться? Ведь это ты отвозил его туда. Тогда чего спрашиваешь? Так что тебе надо ехать в Киберон и забрать оттуда Маэстро. Давай, Паоло, уже поздно, я устала. Не заставляй меня сто раз повторять одно и то же!
— Да, но я тоже с ног валюсь!
— Что значит с ног валишься? Рано, ты еще такой молодой, — сказала Нинки. — А если устал, отдохни. Выпей кофе покрепче, съешь бутерброд… сейчас всего половина восьмого, до восьми у тебя полно времени.
— Твою… пардон… он что, не может прилететь самолетом?
— Бог мой, Паоло, ты часом не выпил по дороге? Разумеется, он прилетит самолетом завтра утром из Парижа. А до Парижа как он доберется, а? Может, ты мне скажешь, как он может оказаться в Париже, если его никто туда не отвезет?
Старая Синьора, подчеркнуто терпеливо выговаривая слова, словно имела дело с туповатым ребенком, принялась объяснять, что из-за неожиданно возникших срочных дел Маэстро должен быть в Милане завтра вечером, что самолет вылетает из Парижа в 16:30, поэтому необходимо доставить Маэстро из Киберона в аэропорт «Шарль де Голль» не позже 16:00, естественно, затем его надо будет встретить в Линате[11]в 18:30. Как все это организовать, думай сам.
Взбешенный Нуволари покинул кабинет Нинки, едва не плача. В коридоре он встретил Сюзанну Понкья, которая, услышав, что он отправляется в Киберон, со словами: «Имей в виду, это очень срочно!» — передала ему пакет с книгами для Маэстро. Нуволари поискал глазами кого-нибудь, кому можно было бы поплакаться в жилетку, но не увидел никого, кроме Паниццы. Тот, стоя во дворе, закреплял прищепками обшлага брюк, собираясь сесть в свой трехколесный мопед-фургончик и отправиться домой. Уж ему-то Нуволари вовсе не хотел изливать душу. Сплюнув в сердцах, он залез в машину и отправился в Киберон. По мере того как он ехал, подсчитывая сумму, которую получит за сделанную сверхурочную работу, равную настоящему подвигу, настроение у него улучшалось.
Глава восьмая
Маэстро вернулся в Милан. Прервав лечение водорослями, призванное снизить триглицериды, отказавшись от гидромассажа ионизированной атлантической водой, столь благотворной для функционирования кишечника, и растираний дол меновым порошком, повышающим мышечный тонус, он, сломя голову, помчался в Милан, потому что… затем чтобы…
А собственно, зачем? Никаких неожиданно возникших срочных дел, на что намекала Нинки, не существовало. Виной всему были эти придурки, возомнившие себя артистами, с их непостижимым выбором «Доброго человека из Сезуана» и с их смехотворными претензиями на «другой» театр, развлекательный, в котором зрители не будут дохнуть от скуки…
Душу Маэстро грыз маленький червячок сомнений. Время от времени он выползал из глубин подсознания, перемещаясь в его черепную коробку, где верещал, подобно Говорящему Сверчку у Пиноккио. Маэстро отказывался, просто от-ка-зы-вал-ся прислушиваться к нему, загоняя его обратно матерным словом или круша кулаком и пинком все, что оказывалось под рукой или ногой.
Вот и сейчас, сидя на заднем сидении лимузина, который вез его в Париж, он нервно листал книги, которые переслала ему Сюзанна: «Добрый человек из Сезуана», «L’anima buona di Sezuan», «La bonne âme de Setchouan», «Der gute Mensch von Setzuan», «Materialien zu ‘Der gute Mensch von Sezuan’»… Прочитав несколько строк, он бросал книгу на пол или вышвыривал ее в окно, хватал следующую, которую некоторое время спустя ждала та же участь, искал первую, перечитывал, сравнивал, фыркал, матерился и снова отбрасывал… Нуволари, с видом оскорбленной добродетели, вел машину, не снисходя до обычного в таких случаях вопроса: «Что-то не так, сенатор?»
В Париже, в аэропорту «Шарль де Голль», Маэстро сразу же укрылся в зале для ВИП-пассажиров. В другом случае тот факт, что его никто не узнает, надолго испортил бы ему настроение, но сейчас ему было не до того. Подойдя к телефону, он набрал номер Театра.
— Алло, соедини меня с Нинки.
— Кто ее спрашивает?
— Валли, твою мать!..
— Ах, это вы, сенатор, простите не узнал! Соединяю.
Нинки сняла трубку.
— Слушай, Валли у нас совсем охренел от безделья?
— Почему?
— Потому что он спросил, кто я такой!
— Он немного глуховат…
— Тогда какого черта мы держим глухого телефониста! Хороши дела в моем театре: глухой сидит на телефонах, технические работники создают свой театр, а я… я, судя по всему, уже могу отправляться на свалку!..
— Ну, Джорджо, прекрати… — простонала в трубку Нинки.
— Да-да, я все понял! В театре — заговор против этого старого мудака, который с потной жопой носится по аэропортам, в то время как вы там спокойно сидите по своим домам… ты, Горбачев, Паницца! Ну что же, вы правы, спасибо вам!..
— Джорджо, умоляю, прекрати, у меня полно работы!..
— Ну, разумеется, у нее полно работы! А у меня — никакой, я целыми днями яйца себе чешу!..
Но поскольку Маэстро позвонил не затем, чтобы препираться с Нинки, он перешел к делу, приказав ей, кровь из носу, найти Баттистоцци, велеть взять телевизионную запись «Доброго человека из Сезуана» и доставить кассету ему в аэропорт. Бросив трубку, он стал ждать приглашения на посадку. Сегодня вечером, у себя дома, в спокойной обстановке, он посмотрит запись спектакля. Спокойно, стараясь смотреть глазами человека, который видит спектакль впервые, ничего не зная ни об истории, ни о Брехте с его долбаным эпическим театром!.. Проклятый червяк, терзающий его душу последние двадцать четыре часа, опять зашевелился в складках сознания. Он прогнал его матюком и пинком по атташе-кейсу, стоящему рядом с креслом. Извинившись перед владельцем кейса, он пошел забрать свой, забытый им в телефонной кабинке.
Еще один комментарий к поведению Маэстро. Читателя может поразить, насколько наш герой встревожен, стараясь не признаваться в этом самому себе, инициативой своих сотрудников.
Режиссер с мировой славой, сенатор, кавалер ордена Почетного легиона, человек, награжденный дюжиной самых престижных театральных премий, почетный маэстро многочисленных университетов по всему миру, Бог Отец и Святой Дух театра! Возникает вопрос: почему его так раздражает тот факт, что небольшая группка любителей решила создать свой любительский театр и начать с постановки «Доброго человека из Сезуана» достопочтенного Бертольта Брехта, которую когда-то осуществил он.
Смешно думать, что это может хоть как-то нанести ущерб репутации театра. Достаточно создать вокруг спектакля информационный вакуум, чтобы загнать его в небольшие приходские зальчики, где его могла бы видеть «избранная» публика, состоящая из друзей и родственников.
Тогда в чем дело?
А в том, что Маэстро считал театр своей полной и исключительной собственностью — чувство вполне патологическое. Оно проявлялось в безграничной ревности и в мучительных приступах паники перед лицом любого события, которое могло бы хоть как-то поколебать тотальность и эксклюзивность его власти. «Пикколо Театро» принадлежал ему и только ему.
Поэтому, с учетом всех психологических координат, инициатива даже малочисленной группки его сотрудников прозвучала как вызов и скрытая угроза его власти. Пренебрежительные определения, какими он наделял инициаторов: придурки, шлюхи, засранцы, «Ансамбль недоумков», компания «Итальянские говнюки» и пр., не должны никого вводить в заблуждение: все они отвечали логике элементарной охранительной тактики, как это бывает у зверей, которые рычат и скалят зубы, защищая свою территорию, или как у боксеров, которые, стоя нос к носу во время представления их публике, строят друг другу зверские рожи, служащие скорее для поддержки тонуса верных болельщиков, чем для самоутверждения. Тем более что в своем видении идеального театра, состоявшего лишь из преданных и поклоняющихся ему «рабочих лошадок», он привык остерегаться разве только тех, кого относил к элите: амбициозных помощников режиссеров, чересчур усердных ассистентов и иных самовлюбленных сотрудников… в этом случае искать свою контригру его вынудила дурацкая инициатива снизу, из темной среды чернорабочих офиса и двора.
Вот потому-то он и примчался обратно в Милан, как мчатся, когда чувствуют угрозу своему трону или когда горит твой дом. Именно это он и ощущал и по этой причине торопился оказаться там, чтобы самому видеть и слышать все, что происходит. Кроме того, инстинкт подсказывал ему, что кто-то должен стоять за всем этим, тот, кто высек искру и теперь раздувает из нее пламя. И эти две потаскухи, несомненно, в курсе дела! Недаром гнусный червяк весь день не оставляет его в покое, словно призраки в последнюю ночь жизни Ричарда III!
В аэропорту его встречала Сюзанна Понкья. Не поздоровавшись, Маэстро сунул ей в руку свой чемодан и быстрым шагом пошел к машине с высоко поднятой головой и решимостью на лице, как делал всякий раз, когда хотел продемонстрировать окружающим превосходство своей психологической позиции.
Сюзанна положила чемодан в багажник, села в машину и завела мотор. Все это время Маэстро сидел, нервно барабаня пальцами по стеклу и покачивая закинутой на левую ногу правой ногой.
— Хорошо долетели? — поинтересовалась Сюзанна, не надеясь на ответ.
И только в этот момент Маэстро заговорил. Решительным тоном, не допускавшим возражений:
— А теперь, Сюзанна, мать твою, ты и Нинки прекратите валять дурака и скажете мне, что за сволочь стоит за всей этой историей!
Глава девятая
— Энрико, — едва слышно выговорила Сюзанна.
— Энрико?! — повторил Маэстро.
— Энрико!
— Какой еще Энрико?
— Дамико.
— Дамико?!
— Да, Энрико Дамико.
— Не может быть!!
У Маэстро редко голова шла кругом, но на сей раз отвисшая челюсть и полуоткрытый рот не оставляли никаких сомнений, что так и произошло. За этой невероятной идеей театра в Театре, за этим безумным революционным почином, за этим расколом, за этой угрозой возникновения государства в государстве, которую Маэстро сравнил бы с провозглашением независимости республик в Советском Союзе, видя в этом к тому же что-то общее между Паниццей и Горбачевым, — за всем этим безобразием стоял Энрико Дамико, один из самых преданных, когда-то его неутомимый и целеустремленный, теперь уже бывший, помощник, диоскур[12] из тандема Энрико Дамико — Карло Баттистоцци, опустившийся под давлением обстоятельств до скромной должности директора школы-студии…
— Теперь мне все ясно! — воскликнул Маэстро после не слишком долгой паузы.
Словно в силу внезапного озарения, из тех, что прославили кольцо Архимеда и яблоко Ньютона, все в этой странной истории стало на свои места. Как же он раньше до этого не додумался! Ну конечно же! Подобное могло родиться именно в свихнутых мозгах Энрико Дамико, битого жизнью, разочарованного шестидесятивосьмилетнего интроверта.
Кто он такой, этот Энрико Дамико? Толковый, довольно образованный, среднего роста, с бородкой а-ля испанский придворный XVII века, предпочитавший модным костюмам куртки военного образца 60-х или ветровки, популярные в следующем десятилетии. Он служил в Театре почти с двадцати лет. Актер и режиссер, Энрико Дамико вместе с Карло Баттистоцци и Ламберто Пуджотти являли собой «святую троицу» визирей Маэстро, его ближайших сотрудников, в обязанности которых входило претворять в жизнь некоторые идеи, которыми Маэстро одаривал их с барского стола с одной только целью: продемонстрировать безопасным для себя образом демократическую полифонию Театра. Они же выполняли тягостные для него обязанности ставить пьесы современных итальянских драматургов на злобу дня, детские и «датские»[13] спектакли и т. д. и т. п.
Но Пуджотти допустил ошибку: его постановки начали пользоваться слишком большим успехом, и дело кончилось тем, что их стали поручать ему все реже, пока они не сошли вовсе на нет. Дамико и Баттистоцци остались вдвоем доедать скудный хлеб искусства: маленькие мышки, рожденные горой — по одному спектаклю на нос раз в три года, восстановление старых спектаклей, вводы новых актеров, сопровождение спектаклей Маэстро во время гастролей в неблагодарной роли надзирателей за их режиссерской целостностью. Зато при этом — спокойная жизненная перспектива, может, не столь богатая творческими достижениями, но хорошо оплачиваемая, теплая, уютная и надежная, как дом третьего поросенка, какую только может гарантировать государственное учреждение, «не ставящее целью извлечение дохода».
Позже непредвиденные обстоятельства сильно подпортили жизненную перспективу Энрико Дамико. Дело в том, что программки театральных спектаклей, как всегда было принято в Италии, составлялись с учетом актеров, занятых в тех или иных спектаклях театра. Это были актеры и актрисы, живущие в том же городе или приглашаемые из других мест и поддерживающие с режиссерами дружеские или просто уважительные отношения. В Театре, хотя и следовали той же норме, особое внимание при составлении программок уделялось актрисам, связанным с Маэстро или членами его «святой троицы» в качестве законных жен или дам сердца. Их имена печатали крупным шрифтом и ставили первыми в списке занятых актеров.
У Маэстро такой актрисой являлась звезда первой величины — очаровательная и суперталантливая Андреина Ди Джиона; у Баттистоцци это была изящная, ангелоподобная, само совершенство, с загадочно-страдальческим ликом вечной девственницы Марии, матери Христа, Джулия Де Ладзари. Присутствие их имен в театральной программке уже обеспечивало успех.
А что же насчет дамы Энрико Дамико? Увы, Энрико Дамико был менее удачлив, может быть, потому, что менее благоразумен. Сначала он влюбился в Риа Раме, которая не только не была актрисой, но еще ее и угораздило оказаться родственницей Дарио Фо[14], главы конкурирующего прихода, затем в Анни Сойя, симпатичную, но второразрядную, и к тому же с плохой дикцией, актрисульку, а после нее еще в какую-то бедняжку, не сравнимую с примами Театра. Неотвратимо, как тележурналист, отлученный от аппаратуры, он оказался сдвинут на обочину и выведен из игры, акции его обесценились, а шансы на будущие победы на любовном фронте с течением времени становились все призрачнее. В итоге он оказался в кресле директора учебной студии при Театре, где мог с рвением и усердием оттачивать на беззащитных студентах свои педагогические способности, походя одновременно на прусского офицера, сержанта из американских фильмов и старшего санитара больнички в стране третьего мира.
Но в глухих закоулках сознания Энрико Дамико тлело тайное, изматывающее душу и отравляющее жизнь желание реванша. Речь шла вовсе не о стремлении к успеху. Классического интроверта, замкнувшегося в себе, ходившего размашистым шагом вечно спешащего человека, не замечая людей, его не манили ни вспышки фотокамер, ни выходы под свет рампы с тягостным для него ритуалом поклонов перед благодарной публикой. Нет, его тайным желанием было продемонстрировать Маэстро, но прежде всего себе самому, свои блестящие творческие способности, свое превосходство над другими и — где-то на донышке души — свою равновеликость самому Маэстро.
Мог бы конвертировать собственное либидо в изложение на бумаге своих режиссерских идей и разработок, или в постановки, где были бы заняты ученики школы-студии, заключенные в тюрьмах, пациенты психушек… Так нет же, он взялся за создание любительского театра в театре! Это в его духе! Замечательно!
Уверенность вернулась к Маэстро. Как уже было сказано, психология людей театра была для него открытой книгой, а уж чем дышит режиссер, он знал лучше содержимого своих карманов. И, словно следуя французской пословице «tout comprendre c’est tout pardonner»[15], Маэстро ощутил даже нечто сродни братской солидарности с этим бедолагой, который, для того чтобы вернуться в режиссуру, придумал этот гротесковый крестовый поход невинных. Так, наверное, вор не может в глубине души не сочувствовать тому, кого он обкрадывает.
Маэстро представил себе, как Дамико, сидя согнувшись и уперев локти в колени, сжав голову руками (в одной — телефонная трубка), глубокой ночью звонит Паницце или Марии Д’Априле и, говоря с ними бархатным, хорошо поставленным убедительным баритоном, сулит им неведомые райские кущи и славу, которые всегда достаются только «господам актерам», в то время как они — подлинная движущая сила Театра! — должны трястись в непогоду на трехколесном мопеде-фургончике или прозябать в безвестности во мраке офисных помещений.
Энрико Дамико! Маэстро, конечно, мог бы прихлопнуть его, как муху, выставить на всеобщее осмеяние, но, странное дело, он не испытывал к нему никакой неприязни! Что его коробило так это выбор пьесы. Этот засранец не должен был касаться «Доброго человека из Сезуана» даже пальцем! Хотя нет, так даже лучше: пусть синьор Дамико подставит свою задницу, и, дай бог, в этот момент рядом не найдется даже капли вазелина! Если только ему не удастся…
И снова оживший сатанинский червяк сомнений принялся буравить его душу.
Машина стала в очередь на красный свет светофора. Маэстро пнул дверцу ногой, и Сюзанна повернулась к нему, думая, что он раздражен пробкой на дороге.
— Значит, это Энрико Дамико? Отлично! А синьор Дамико не соблаговолил сообщить, когда начнутся репетиции?
— Они начались вчера вечером, — ответила негромко Сюзанна Понкья, трогая машину и делая вид, что сосредоточена на движении.
— Ага! Все интереснее и интереснее! — с притворным удовольствием, исполненным сарказма, проговорил Маэстро и подумал: в помещении школы, небось, ну конечно же, мать его, он же там директор! И спросил вслух:
— Небось, в помещении школы?
— Да, — подтвердила Сюзанна, не отрывая глаз от дороги.
— Стало быть, дело двинулось! Этот Энрико Дамико умеет выстроить всех по струнке! Не то что ваш покорный слуга, которому, чтобы начать репетиции, надо раскачиваться целый месяц, и все равно потом оказывается, что для репетиции ни черта не готово! Превосходно! И с песней вперед! Молодцы! Спасибо вам!
Машина снова остановилась у светофора.
— Простите за бестактность, а синьор Энрико Дамико не снизошел до объявления распределения ролей? Кто будет играть главную роль? Карулли? Долорес де Панца или Милена? В общем, черт возьми, можно ли узнать, кто будет играть Шен Де?
Сюзанна не отвечала. Маэстро посмотрел на нее. Она сидела, вцепившись в руль, в глазах ее стояли слезы, губы и руки дрожали.
— Я, — наконец выговорила она, проглотив комок в горле.
Глава десятая
Оказалось, что Цюрихский Гном, как стал называть возмутителя спокойствия Маэстро, уже давно приступил к задуманному, действуя с осторожностью, хитростью, терпением и решимостью записного конспиратора. Если быть точным, работа началась месяцев шесть назад: обмен короткими, тщательно продуманными репликами, намеками, вопросами и ответами, лесть, скандалы, сегодня одно, завтра другое, поиск подходов, выбор момента — все это постепенно подготовило в высшей степени благоприятную почву. И когда вернувшаяся из отпуска, морально травмированная проигрышем сборной Италии в финале футбольного чемпионата мира и неудачным для любимой команды началом национального чемпионата высшей лиги Мария Д’Априле, настроенная Дамико нужным образом, вбросила идею создания любительского театра, идея была встречена с нескрываемым энтузиазмом. Хватило пары собраний в обеденный перерыв — и любительский театр родился практически без дискуссий.
Единственной проблемой оставался Маэстро. Говорить ему или нет? Нужно ли просить у него разрешения? После короткого обсуждения всех за и против была принята линия поведения, предложенная Паниццей: мы, конечно, попросим его разрешения, в смысле, мы скажем ему, что хотим сделать, если он будет не против, хорошо, а если против, пусть катится ко всем чертям, куда он посылает нас, когда строит из себя демократа, потому что свободное время трудящихся принадлежит вышеназванным трудящимся, и точка!
Дамико согласился стать художественным руководителем и режиссером первого спектакля и, открыв толстую папку, полную записей и графиков, предложил начать с пьесы, о которой давно думал: «Добрый человек из Сезуана» Бертольта Брехта. И рассказал о собственном видении спектакля, который будет отличаться от поставленного в свое время Маэстро. О распределении ролей ему надо будет еще подумать, и он сделает это, как можно скорее.
— А чем он будет отличаться? — спросил мало что понявший Паницца.
— Тем, что будет менее заумным, более непосредственным, более гуманным, более поэтичным, — уточнил Дамико.
— И более коротким? — поинтересовался Нуволари.
— И более коротким, — подтвердил Дамико.
После этого заверения вопросов больше не было.
То, что Цюрихский Гном еще не решил вопрос с распределением ролей, было неправдой, но, поскольку речь шла о людях, достаточно близких к дирекции Театра, он предпочел удвоить осторожность. Он подождал, пока Маэстро уедет в Киберон, дал отметить событие праздничным ужином, от участия в котором предпочел отказаться, дипломатично сославшись на головную боль, и днем позже пригласил на обед Сюзанну Понкья под предлогом обсудить с ней один важный вопрос.
Это был тот самый день, когда Сюзанна позвонила в Киберон, о чем подробно рассказано в пятой главе. Положив трубку, она отправилась на встречу с Энрико Дамико в ресторан экологически чистой пищи, где Цюрихский Гном имел привычку питаться. Шестое чувство подсказало ей ослушаться Маэстро и не называть ему имя таинственной персоны, стоявшей у истоков инициативы. И правильно сделала: Дамико, прекратив жевать непонятно из чего приготовленную закуску, напоминающую яичницу из чуингама, предложил ей роль Шен Де. На что Сюзанна ответила коротким смешком. Но достаточно было ему сказать: подумай хорошенько, как в тот же миг она согласилась. Искус сработал еще быстрее, чем тот, которого ведьмы запустили в душу леди Макбет, и бессмысленно здесь рассуждать о загадках психики, сближающих отчаяние античных героев с современными внезапными надеждами на реванш, душу рабыни — с мечтой о славе. К салату из фиников Понкья уже была согласна на все; к бифштексу из сои созрела для высказывания своих требований к актеру, которого хотела бы видеть своим партнером.
— Кто будет играть летчика? — спросила она тоном примадонны.
И, как в старых комедиях семнадцатого века, ровно в эту минуту дверь ресторана распахнулась.
— А вот и он, собственной персоной! — сказал Дамико, широким жестом указывая на вошедшего.
С плащом, переброшенным через руку, и с новым фуляром на шее к ним шел, лавируя между тесно стоящими столами, Грегорио Италиа.
— Все в порядке! — тотчас объявил ему Дамико.
И Грегорио Италиа, который обычно отделывался коротким «привет», на этот раз, склонившись, поцеловал руку Сюзанне, как поступал в одном из виденных им фильмов Фред Астер с рукой Джинджер Роджерс[16].
Маэстро, которому Сюзанна рассказала все в подробностях, сидел молча, переваривая информацию. Первым импульсом было желание немедленно набить морду Италия, Понкья, Дамико, предать их анафеме, уволить, выбросить коленом под зад, осудить общественным мнением Театра, короче, послать их в задницу. Но он понимал, что это вряд ли будет встречено одобрением остальных участников той же авантюры, всякими там Паниццами, Дольяни, Валли… Вторым побуждением было уйти самому, бросить Театр, уволиться, отступить, короче говоря, послать всех к гребаной матери. Но он моментально остыл, оценив ситуацию: он слишком стар, чтобы начинать все сначала, маловероятно, что Париж немедленно предложит ему возглавить «Комеди Франсез» или что Берлускони даст ему денег на новый театр… В сущности, он не сказал бы, что ему плохо жилось в этом на протяжении долгого времени благоприятном для Театра климате, несмотря на царящий в стране политический и административный хаос. В конце концов, Маэстро принял решение не предпринимать ровным счетом ничего, сублимируя чувство бессилия что-либо изменить в глубокое презрение, в укрепившееся осознание собственного безграничного превосходства над этим говенным миром, который — для него это было очевидно — совсем не изменился с тех пор, как осудил на смерть Сократа, унизил Галилея, предпочел Моцарту Сальери. Хотя, надо признать, удар, нанесенный ему, был довольно чувствительным: эпидемия сценического эксгибиционизма захватила не только трудящиеся массы, но и самых преданных людей из администрации Театра. Отчего он внезапно почувствовал себя королем Лиром, преданным не только придворными лизоблюдами, но и кроткой Корделией, добряком Эдгардом и глупцом Кентом. Бальзамом на обожженную разочарованием душу пролилась пришедшая на память брехтовская максима, согласно которой «любое разочарование есть плод ошибки расчета», и он вновь пообещал себе впредь никогда не забывать о дистанции, отделяющей его от этих кусков дерьма, которые считают себя его современниками. Утешила мысль о потомках, которые — да придет такой день! — будут с благодарностью вспоминать не только о Сократе, Галилее и Моцарте, но и о нем — великом режиссере постреалистического и эпико-поэтического театра, вынужденного сосуществовать с любительской труппой каких-то мудаков.
Сидя в одиночестве в своей квартире, он позвонил Нинки, чтобы поплакаться ей в жилетку. Но едва она сняла трубку, ему в голову пришло, что и она тоже может быть втянутой в эту авантюру… и, охваченный яростью, он брякнул первое, что пришло на ум:
— Какая там у тебя погода?
Старая Синьора жила всего в пятистах метрах от Маэстро, поэтому вопрос поставил ее в тупик. Не дожидаясь ответа, он сделал вид, что взбешен, прокричал что-то типа «вы все держите меня за дурака», с сарказмом попросил ее не беспокоиться, он сам посмотрит в окно, и с силой бросил трубку.
Потом взял кассету с «Добрым человеком» и нервно сунул ее в плеер. Сейчас он успокоится, внимательно просмотрит спектакль и придавит, наконец, каблуком червяка сомнения, уже два дня терзавшего душу: а вдруг и вправду «Добрый человек» может быть представлен как разухабистая развлекательная комедия, в соответствии с линией, прагматично выраженной Паниццей, а не как полный муки и скорби плач о мире нищеты, осуществленный им много лет назад, где трагические смыслы многократно усиливались благодаря использованию «эффекта отстранения».
Глава одиннадцатая
Маэстро спокойно просмотрел первую сцену, в которой водонос Ван представляется публике и говорит, что ходит молва: трое богов спустились на землю и, быть может, заглянут в Сезуан, привлеченные большим количеством жалоб, порождаемых крайней нищетой и социальной несправедливостью, которые ежедневно поднимаются к небесам. Напрягая зрение, чтобы разглядеть в полумраке сцены лицо Ренато Дель Кардине, играющего водоноса, Маэстро внимательно следил за его монологом. Дель Кардине играл превосходно! Еще бы, именно в его, Маэстро, руках он был тем самым пластичным материалом, из которого в ходе многонедельных изнурительных репетиций он постепенно вылепил персонаж, с абсолютной точностью воплотивший в себе основные авторские идеи, выраженные уже в начальном монологе. Слегка сгорбленный, что демонстрировало всю тяжесть жизни угнетенного народа, он двигался по сцене, временами дергаясь, подскакивая, подпрыгивая, — отсыл к «дзанни»[17], которые двигались так же, словно уклоняясь от вечной угрозы быть битыми палками, — но Ван достигал еще большей выразительности, изображая непомерную усталость, характерную, скорее, для нашего мрачного времени, будто подчеркивая, что нужно быть постоянно начеку, чтобы избежать палочных ударов неокапитализма! «В нашей провинции царит большая нищета, и все говорят, что только боги могут помочь нам…» Ключевая фраза здесь вот эта: народ констатирует, что «царит большая нищета», но он не может выдвинуть никаких конструктивных предложений: «все говорят, что только боги могут помочь нам…». Обратите внимание: не народ это говорит! Все говорят!.. Включая и сильных мира сего, тех, кто насаждает мысль о неспособности человека самому решать какие-либо жизненные проблемы! Вот она — реакционная манипуляция информацией! Но как здорово выходит это у Вана, когда он, делая акцент на фразе: «больша-а-а-а-а-я нищета-а-а», драматически тянет гласные, и затем, возводя руки к небу: «то-о-олько бо-о-оги смо-о-огут по-о-о-о-омо-о-о-очь на-а-ам», после чего, сгибая колени и еще сильнее выгибая спину, он опять взваливает на плечи свой тяжеленный бурдюк с водой, словно подчеркивая этим горькую иронию своего наивного метафизического ожидания, столь характерного для пролетариата, еще не обретшего классового сознания.
А Ван продолжает: «Представьте себе мою радость, когда я узнал, что несколько виднейших наших богов уже в пути… Уже третий день, как я ожидаю их здесь, у городских ворот, особенно под вечер, чтобы первым поприветствовать гостей…» Тут Дель Кардане превзошел самого себя, и это естественно, поскольку точно выражено все, что он, Маэстро, взрастил в нем. На словах «мою радость» — подскок, выражающий нетерпение, акцент на вытянутую шею; в словах «виднейшие наши боги» — вибрация голоса, свидетельство неизбывной веры народа в мифы… И затем сразу же грусть в словах «три дня», произнесенных с прописных букв, — демонстрация страстного атавистического ожидания всех обездоленных, и наконец, «чтобы первым поприветствовать гостей…» — тут промельк плутовства в глазах, мгновенный неожиданный подъем на цыпочки с вытянутым вверх указательным пальцем правой руки. Вот оно! Это уже народ, который пробуждается: у него еще нет никакой последовательной политической программы, но он уже готов, еще по-плутовски, — как Арлекин, подглядывающий из-за чуланной двери, — подбирать пусть жалкие крошечные возможности, которые в ходе истории предоставляют ему противоречия капитализма.
Боги, придуманные власть имущими в качестве опиума для народа, в фантазиях того же народа виделись теми, кто поможет им облегчить его судьбу, потому он и стремится первым встретить богов, надеясь получить за это что-то взамен, какое-то вознаграждение…
Сценический образ с абсолютной точностью воспроизводит заложенное в актера им, Маэстро, на одной из первых застольных репетицией, где подробно разбиралась вся ситуация.
— Ты понял, Ренато? Понял, сколько всего там, внутри?
— Да, Джорджо, — отвечал Ренато. — В этой сцене Ван думает, что на этот раз победит он.
— Правильно! — Пауза. — А на самом деле — все не так! Потому что власть имущие пронюхают раньше, когда появятся боги, и встретят их первыми со всеми почестями, а за это получат от богов по полной программе! Ван этого не знает, не может знать, но мы-то знаем, мы обязаны это знать! Поэтому Ван улыбается, но нам, зрителям XX века, ты должен дать понять, что эта улыбка — плод иллюзии! Ты улыбаешься, но!.. Да, это улыбка, но!.. Ты понял, Ренато? Verstehst du?[18]
— Да, Джорджо, — отвечал Ренато. — Нам известно, что как только боги появляются, богатые моментально заключают с ними союз.
— И ты опять прав! — Пауза. — Но на этот раз не так, на этот раз боги появятся, а богачи пошлют их в задницу! А почему? Что ими движет?.. Эгоизм, жлобство, глупость и нравственная слепота, все те пороки капитализма, которые приближают вынесение исторического приговора капитализму. И в этом случае, да, шанс, который предоставляется народу, реален и реализуем. Ты понял, Ренато? Поэтому ты, Ван, улыбаешься, ибо уверен, что сможешь обхитрить богатеев, но ты, Дель Кардине, должен улыбаться так, чтобы нам стало ясно: эта твоя уверенность — иллюзия, и в то же самое время ты должен дать нам понять своей улыбкой, что, только представь себе, иллюзия эта — уже вовсе и не иллюзия с того самого момента, когда противоречия капитализма приведут к воплощению ее в жизнь! Поэтому ты улыбаешься, но не улыбаешься, и тем не менее улыбаешься! Ты понял Ренато? Verstehst du?
— Да, Джорджо, — отвечал Ренато. — То есть противоречия капитализма начинает осознавать трудовой народ, который превыше богов и которого боги поддержат…
— Верно! — Пауза. — Но в данном случае все не так! Потому что народ еще не созрел для того, чтобы воспользоваться таким шансом! Смотри сам, богов приютит бедная проститутка Шен Де, они даже дадут ей денег, но что станет с ней? Чтобы защитить свалившееся на нее благополучие, она, поскольку не знает иного способа взаимодействия с окружающим миром, будет вынуждена вести себя в рамках логики капитализма, взяв на себя все его пороки, и так далее, и так далее! Ты понял, Ренато? Ты понял глубину марксистского анализа, Ренато, понял, в чем гениальность Брехта? Все ждут, что богачи заработают на богах, однако хрен им! Такое могло бы еще быть в эпоху палеокапитализма, но не сегодня! И когда публика уже думает: все, теперь, в этот раз, у нас получится, — Брехт предупреждает: «нет, народ не готов, шанс будет упущен, мы еще по уши в дерьме!». Понимаешь, сколько всего в одной реплике этого чертова старика-водоноса? Поэтому так: ты улыбаешься, но как бы не улыбаешься, и тем не менее у тебя улыбка, но в конце реплики она незаметна! Ты понял, Ренато? Verstehst du?
Маэстро остановил изображение, отмотал пленку назад, чтобы пересмотреть сцену еще раз. Он почти успокоился, бегущие кадры окончательно убедили его в его правоте. Какого хера! «Добрый человек из Сезуана» не может быть поставлен иначе, чем это сделал он в далеком 1979 году, раскручивая на всю катушку заключенную в нем диалектику смыслов и посылая к дьяволу Луиджи Лунари, подлого предателя, который то и дело доставал его своим нытьем: здесь бы чуть-чуть облегчить, а тут бы смягчить… Но текст говорил сам за себя, хотя его жанр и был обозначен как «поэтическая притча», на самом деле, каждое его слово воспринималось как удар кувалдой по зданию капитализма! Не зря же в зале стояла мертвая тишина, словно в церкви: публика, затаив дыхание, внимала происходящему на сцене, точно считывая тонкие диалектические нюансы улыбки и полуулыбки Вана…
Спокойствие сменилось бодрящей радостью, которая охватывала Маэстро всякий раз, когда он одерживал даже маломальскую победу. Выключив экран, он улегся в постель, предвкушая, как трио Дамико — Понкья — Италиа будет погребено под горой дерьма, порожденного их же собственными идиотскими амбициями и невежеством.
Слишком возбудившись, он долго ворочался в постели, дрейфуя между сном и бодрствованием, пока, наконец, не заснул.
…А на заре ему неожиданно привиделся кошмарный сон: в лохмотьях Вана, еще более живописных, чем на сцене, с пластиковыми прищепками на лодыжках, с тонкой шеей, болтающейся в воротнике а-ля Мао Цзэдун, на пару размеров больше, Эрнесто Паницца торгует водой в ожидании появления богов под веселые смешки битком набитого зрительного зала, а в первом ряду сидит Бертольт Брехт, который то и дело восклицает: «Ах, наконец-то!», и рядом с ним Горбачев довольно кивает: «Вот это да, это я возьму и повезу по всей России: в Ленинград, в Иркутск, во Владивосток!..»
Глава двенадцатая
— Валли, мать твою, почему, когда я звоню на твой сраный коммутатор, у тебя всегда занято?.. Дай мне Нинки!
— Мигом, сенатор!
В трубке послышалось блеянье Старой Синьоры.
— Алло!
— Привет! Не знаю как, но на этот раз великий глухой на коммутаторе меня узнал! Прекрасно, делаем успехи! Как идут репетиции?..
— Но… — испуганно проблеяла Нинки, ничего не понимая. — Разве ты не перенес их на следующую неделю?
— Нет-нет, я имею в виду не мои репетиции. Кого могут интересовать репетиции этого старого пердуна, который рвет свою задницу, напрягаясь с этим дерьмовым «Фаустом»! Я спрашиваю про репетиции синьора Дамико, про самое значимое культурное событие века — постановку «Доброго человека из Сезуана» в сногсшибательной интерпретации компании недоумков. Я знаю, знаю, что теперь в Театре уже никто ни о чем другом и не думает! Салюта по этому поводу еще не устраивали? Ну уж афишу-то неоновыми буквами наверняка изготовили! Театр Придурков, «Добрый человек из Сезуана» в исполнении Компании миланских говнюков, в главных ролях звезды — Сюзанна Понкья и Грегорио Италиа!.. Какого черта молчишь? Отвечай!
— Что с тобой, Джорджо? Что ты несешь? — завопила Нинки, думая, как бы обратить ситуацию в шутку.
Но Маэстро уже завелся:
— А мамашу летчика кто играет, а? Неужели синьор Дамико до сих пор не предложил эту роль тебе? Или ты еще раздумываешь? Или уже согласилась? Если да, правильно сделала!.. Ну так что, он тебе предлагал роль или нет? И не юли!..
Оказалось, действительно предлагал, выдавая робкие авансы, но она категорически отвергла предложение: во — первых, ее оскорбил сам факт такого предложения, а во-вторых — этого она, разумеется, не сказала Маэстро, — потому что оно показалось ей не очень деликатным намеком на ее преклонный возраст, поскольку в спектакле Маэстро эту роль играла дряхлая Барбони.
— Дура старая, ты должна была согласиться! Ты что, не знаешь, что всегда нужно вставать на сторону того, кто сильнее? А сегодня сильнее всех? Синьор Дамико! Сегодня он может посылать к чертям собачьим кого угодно! Так что сейчас нужно вылизывать задницу именно ему! Все идет к тому, что и я попрошу у него какую-нибудь рольку, почему нет? Может быть, Полицейского? По-моему, прекрасная мысль! А что остается делать, если этим людям плевать на то, что старый мудак лучше всех читает стихи гнусного безумца Гёте!..
Презрительное равнодушие, с каким Маэстро в глубине души решил впредь относиться к этой шайке недоумков, было легче сформулировать в теории, чем реализовать на практике. Патологическая ревность ко всему, что вторгалось, прикасалось, задевало его королевство, переполняло его яростью, которая при первой же возможности взрывалась сарказмом, ехидством, желчью. Теперь он, отдавая кому-либо распоряжение или указание, обязательно добавлял фразу типа: «если ты, конечно, не занят в гениальном проекте великого Дамико…», или «не могла бы ты, великая актриса труппы Дамико, снизойти до…», или «надеюсь, в этом театре найдется местечко и для меня…» — и т. д. и т. п.
Вечером он позвонил Нинки и, закончив ставший уже привычным сеанс садомазохизма, заявил, что начало репетиций «Фауста» откладывается еще на неделю, поскольку, по его ощущению, ему необходимо набраться сил, тем более что на середину месяца назначено еще и заседание административного совета театра. Нинки хотела было сказать Маэстро, что это его решение означает закрытие театра и лишение актеров работы, а это огромные деньги, пущенные на ветер, но, учитывая ситуацию, предпочла промолчать. Послезавтра, продолжил Маэстро, он летит в Зальцбург, где потомок Вагнера (sic!) открыл новую клинику, специализирующуюся на лечении каменной солью, прекрасно укрепляющем волосяные луковицы. Там он пробудет дней десять, не больше… Ну а пока он здесь, то хотел бы встретиться с ней, чтобы выслушать ее соображения по поводу сложившейся ситуации. Так что пусть она пришлет за ним Нуволари часов в…
— Сейчас у нас без пятнадцати семь… мне надо умыться, одеться, сделать пару покупок, перекусить… скажем, в семь пятнадцать…
— Да, но… — заныла Нинки, — в семь Нуволари заканчивает работу…
— И что с того? Получит за внеурочную! Какого хрена ты мне засоряешь мозги такими пустяками?..
— Нуволари просил, ссылаясь на внутренний регламент, больше не привлекать его к внеурочной работе… за исключением экстренных случаев, разумеется…
— Здрасьте! Это что еще за новости? Почему?..
— Потому что… потому что вечером он занят…
— Занят?! Что на этот раз приключилось? Опять корь у девочки, как в прошлый раз?..
— Нет-нет, девочка чувствует себя прекрасно, она уже замужем, и у нее ребенок…
— Тогда в чем дело, черт побери? Будьте любезны, просветите старого засранца!..
Внезапно до него дошло, и он обозвал себя идиотом за то, что сам не догадался, в чем дело, раньше, чем Нинки открыла рот.
— Он занят на репетиции… он играет Водоноса… Ты мог бы вызвать такси…
Маэстро только что проснулся и чувствовал себя слишком усталым, чтобы препираться с Нинки.
— Ладно, — сказал он тоном, не предвещавшим ничего хорошего. — Сиди на месте и думай, что будешь мне докладывать. А я приму душ, оденусь, закончу все дела и в половине восьмого буду в Театре. Если, конечно, раньше не покончу с собой.
Естественно, Маэстро появился в Театре не в половине восьмого, а без четверти одиннадцать. Тем временем Нинки успела побывать на концерте в «Ла Скала», перекусить на скорую руку в театральном кафе в компании старого друга-издателя и, вернувшись в свой кабинет, имела в своем распоряжении еще полчаса, которые использовала, как было велено, для того чтобы продумать свои «соображения по поводу сложившейся ситуации».
С учетом особенностей поведения и психологии Маэстро его опоздание было делом обычным. У него вообще были своеобразные отношения со временем, которое он воспринимал как нечто растягивающееся и сжимающееся в соответствии с его личными потребностями. Ему нужно было принять душ, одеться, заглянуть в парфюмерный магазин, перекусить, сделать несколько звонков, добраться до Театра — и все это за полчаса? Да, в его сознании эти полчаса растягивались настолько, что становилось возможным спокойно проделать все это. Маэстро всегда опаздывал, но, поскольку все это знали, каждый принимал собственные контрмеры, и в результате не случалось ничего серьезного.
Два слова о его угрозе покончить с собой. К ней Маэстро прибегал регулярно, правда, лишь в качестве инструмента давления на других или протеста против чего-либо, то есть вовсе не намереваясь претворить угрозу в жизнь, и с течением лет все реже и реже.
В ту минуту, когда Маэстро прибыл в театр, Нинки находилась в туалете. Маэстро, стоя, с нетерпением ждал ее возвращения из туалета, нервно раскладывая на письменном столе свои многочисленные карандаши и ручки. Старую Синьору он встретил довольно грубо и голосом, полным сарказма, попросил не заставлять его терять время, если она допускает, что он еще что-то значит в этом говенном театре. После чего обессиленно рухнул в кресло, закрыл глаза и произнес:
— Послушаем! Послушаем, что умного пришло в голову синьоре Нинки, принимая во внимание, что в голове этого несчастного старого засранца нет ни одной стоящей мысли…
Глава тринадцатая
Когда Маэстро понял, что, по мнению Нинки, ничего предосудительного в этой акции компании недоумков нет, как нет и никакого смысла подавлять ее в зародыше, он прервал Старую Синьору, заявив, что этот вопрос его абсолютно не интересует и нечего заставлять его терять время на такую чепуху.
— Зарубите себе на носу, вы все, черт бы вас побрал: плевать я хотел на ваши забавы, когда я веду диалог с «Фаустом» и на короткой ноге с самим Иоганном Вольфгангом Гёте, да если я сейчас позвоню министру культуры Франции и скажу ему: Жак, приезжай ко мне, поужинаем вместе, — он примчится, посчитав это за честь! Или вы думали, я спать перестану, узнав, что четверо душевнобольных, лопаясь от амбиций, собрались в кучку, чтобы онанировать на несчастного Брехта? Да бога ради! Пусть делают это, пусть развлекаются, пусть подставляют свои жопы!..
На этой фразе он скрылся в туалете, откуда вернулся спустя несколько минут уже совсем спокойным, всем своим видом являя неизбежный памятник самому себе, такой, каким он себе его представлял: суровое лицо, голова поднята, губы сжаты, подбородок выдвинут вперед, над воротом черного свитера без единой складки…
Старая Синьора, более чем за сорок с лишним лет осторожного лавирования между реальными и фальшивыми бюджетами, развила в себе несомненный талант древнего искусства: добывать деньги, воспитав в себе навык автоматической реакции на любые жизненные обстоятельства, состоявший в том, что первый вопрос, который она себе задавала, что она может из этого извлечь, естественно, не для себя, для Театра, для прокорма этой прожорливой конторы, постоянно выходящей за пределы своих финансовых возможностей в постоянной попытке приблизиться к идеалу…
В истории с любительским театром она моментально учуяла шанс получить финансовые вливания. Например, от Европейского экономического сообщества. Ни больше ни меньше! Как это прекрасно сработало в случае с Европейской школой театральных техников. В тот раз, едва услышав о каких-то, неизвестно каких, мероприятиях Европейского сообщества по стимулированию неизвестно чего в Европе, она принялась уговаривать Маэстро создать при театре нечто типа школы, где молодежь могла бы изучать секреты старинной итальянской театральной техники, и запросила на это у ЕЭС приличную сумму с семью или восемью нулями…
ЕЭС вообще оказалась манной небесной для италийских придумщиков: в течение нескольких десятилетий Страсбург сохранял твердые цены на итальянские оливки, платя, скажем, тысячу лир за килограмм, в связи с чем итальянские производители оливок валом валили в Алжир, где скупали их за двести лир. Или, на Сицилии, где кто-то решил, что необходимо сохранять и приумножать поголовье традиционных для этих мест ослов, и каждой семье, имевшей хотя бы одного осла, ЕЭС выделял субсидию на его содержание. Разумеется, распределение денег контролировалось страсбургскими чиновниками, но ни один из них так ни разу и не заметил, что члены широко разветвленной организации перемещали одного и того же осла из стойла в стойло все то время, пока контролеры, наконец, не убрались восвояси.
Что до любительского театра, то заявленное, как «практическая реализация моральных обязательств театра по эстетическому воспитанию трудящихся и привлечению их к соучастию в творческом процессе, в форме своеобразного акционерного участия рабочих в деятельности предприятия», дело могло бы быть представлено как блестящая инициатива Маэстро, безусловно заслуживающая финансовой поддержки со стороны ЕЭС.
На лице Маэстро, слушавшего Старую Синьору, не было заметно ни скуки, ни нетерпения, с какими он обычно слушал, когда говорили другие. Расценив это как благоприятный знак, Нинки попросила разрешения пригласить Грегорио Италиа, который уже успел сделать кое-какие шаги в этом направлении. Ища подходящий момент реабилитироваться за участие в авантюре Дамико, Грегорио Италиа помогал Нинки составить текст документа, цитата из которого была приведена выше, и с восьми часов утра ожидал вызова к Маэстро, сидя в кабинете Сюзанны Понкья. Когда он вошел, Маэстро встретил его ледяным презрением, как Макар-тур — японцев, прибывших подписывать пакт о безоговорочной капитуляции, который положил конец Второй мировой войне.
— Привет-м-м-м, Джорджо-м-м-м, — начал Грегорио Италиа, который, когда хотел выглядеть непринужденно, всегда говорил так, будто в конце каждого слова у него реверберировала носовая кость.
Маэстро выслушал его сообщение, ни разу не оторвав взгляда от окна, за которым уже было совсем темно.
— Вообще-м-м-м, Джорджо-м-м-м, я-м-м-м…
По правде говоря, Грегорио Италия успел не так уж много. Сделал пару звонков кое-куда и договорился о встрече с итальянским представителем в Страсбурге, или, выражаясь в характерной для него манере, «установил соответствующий телефонный контакт и взял на себя обязанность подготовить встречу, с целью обсудить проблему, пока гипотетическую, но с хорошей перспективой выхода на результат, по крайней мере, в пределах…»
— Нет! — отрезал Маэстро, оторвав взгляд от окна и испепеляя им сразу обоих: Грегорио Италия и Нинки. — Извините, нет! — прорычал он, едва сдерживая негодование, подняв подбородок и выпятив грудь, чем-то напоминая монумент павшим героям. — Это недостойно меня! Вам должно быть стыдно только за одно то, что вы вздумали предложить мне такое!
— Но это вариант получить сто пятьдесят миллионов, — проблеяла Нинки.
— Я не намерен предоставлять мое имя в качестве гарантии этой убогой инициативы и тем более, простите, спекулировать на похоти шайки мерзавцев, которым, видите ли, мало чести работать со мной!.. Театр, который готов выбросить серьезные деньги на черт знает что!.. Это недостойное предложение, Тина! Ты меня изумляешь! Я не продаю душу Театра на глазах всей Европы, всего мира, истории за сто пятьдесят жалких миллионов…
— Но, Джорджо!.. — заныла Нинки. — Ты все не так понял! Деньги полностью пошли бы на любительский театр, а Театру оставалось бы только оплачивать счета за отопление, свет, телефон…
— Так ты все это видишь, да? — прервал ее Маэстро. — И ты, полагаю, тоже? — обратился он к Италиа, впервые глянув ему прямо в глаза. — По-вашему, справедливо, законно и богоугодно поступать таким образом? И плевать вам на имя, на репутацию Театра? Отлично! Молодцы! Благодарю вас! Что я могу сказать вам? Вы в большинстве…
— Не надо, Джорджо, не говори так! — притворно возмутился Италиа. — Ясно же, что все всегда решаешь ты!
— Нет уж, помилуйте, — театрально развел руками Маэстро. — У нас демократия. Простите, но в этом вопросе я в меньшинстве. Я умею проигрывать! Да, синьоры, и я умею признавать поражение! Поступим так, как говорите вы! Явите божескую милость, давайте сделаем, как вы задумали: пошлем заявку на субсидию в ЕЭС… только давайте округлим сумму до миллиарда… Да-да, это единственное, на что может согласиться старый мудак, хотя бы для того, чтобы не выглядеть нищебродом, побирающимся на углу… А в остальном смиренно склоняю голову перед большинством. Прошу лишь о самой малости: это последний раз, когда вы выедаете мне печень этой гребаной историей!..
И вышел из кабинета, громко хлопнув дверью.
Глава четырнадцатая
Каждый день, по мере того как работа в театре приближалась к концу, необычайное рвение овладевало сотрудниками. Атмосфера возбужденного ожидания — почти как в «Деревенской субботе»[19] — захватывала каждого: каждый ощущал прилив энергии, действия его ускоряли ритм, становились максимально эффективными, словно каждый старался сделать так, чтобы к тому моменту, когда прозвучит сигнал об окончании работы, не осталось неоконченных дел, какие вынудили бы его задержаться еще на несколько минут в кабинете или за кулисами.
Ровно в семь все стекались к служебному выходу, чтобы, толпясь у компостера, отметить рабочий табель, затем выходили во двор, а оттуда на улицу. Кто-то шел один, кто-то парами или небольшими группками, но все — бодрым шагом по направлению к Театру-студии, расположенному в нескольких сотнях метров. По пути заскакивали в тот или иной бар, чтобы перекусить бутербродом, и спешили дальше. Призрак обыденной работы, которая ждет их уже завтра с утра, маячил где-то далеко, а сейчас пришел момент сбросить с себя деловое платье или комбинезон рабочего сцены и, надев сценические костюмы, наконец-то окунуться в магический мир театра, превратившись в персонажей другой жизни, богатой волнующими моментами и красивыми вдохновенными словами!
Энрико Дамико поджидал их у дверей школы-студии, будто отмечая, кто пришел, а кто нет. Это был тот редкий случай, когда на лице Цюрихского Гнома можно было видеть улыбку. Всего несколько минут назад он был озабочен проблемами школы — но теперь его лицо сияло от предвкушения начала репетиции с ее такими волнующими коллизиями. В этот краткий миг он чувствовал себя счастливым, встречая своих товарищей, не менее счастливых, отозвавшихся на его призыв, обуреваемых желанием творить, и не было в них даже намека на тоскливую вялость и лень, с какими обычно собирались на репетиции Господа Профессиональные Актеры. Троица богов прибегала вместе, объединившись в терцет уже в повседневной жизни; с соответствующим выражением лица, которое предписывала ему роль, возникал Полицейский, единственный, кто приезжал на велосипеде; родители Шен Де являлись всем скопом, в экзотических одеждах, в каких так и выходили на сцену. И, наконец, последними, как подобает «примам», всегда на такси прибывали Грегорио Италиа и Сюзанна Понкья. Грегорио по-голливудски выпрыгивал из машины, не дожидаясь ее полной остановки, быстро обегал вокруг, чтобы открыть дверь Сюзанне, и галантно протягивал ей руку, помогая выйти, хотя в этом не было никакой нужды. Сюзанна благодарила его кивком головы и переступала порог театра. Церемонно уступив ей дорогу, Грегорио Италиа следовал за ней, а уже за ним — Дамико. Удостоверившись, что все здесь, он запирал дверь на ключ, как бы фиксируя барьер между вселенской действительностью и фантазийной реальностью сцены.
Репетиция началась. Некоторое время все шло нормально. Дамико, еще не ведающий о драматических событиях, которые очень скоро поломают его планы, усадив всех за стол, принялся читать пьесу, по ходу анализируя то или иное ее событие и приглашая всех к обсуждению. Это вызвало, однако, неудовольствие собравшихся. Менее интеллектуально продвинутые начали проявлять следы нетерпения, кое-кто заворчал, что пришел сюда играть, а не выслушивать доклады, Валли и Дольяни, давно бросив слушать, резались в карты под столом… Так бы и продолжалось, если бы тлеющее недовольство не решился выразить Паницца. Прервав тираду Дамико по поводу «коммерциализации консенсуса» — по его словам, основного ключа к прочтению «Доброго человека», — Паницца поднялся со своего места и сказал, что, если смысл этой посиделки в том, чтобы слушать байки братьев Гримм, тогда стоило пойти на репетиции Маэстро, уж он-то сочиняет байки намного лучше, чем Дамико, который обещал не морочить головы, а сам морочит, да еще как; и что он, Паницца, просит прощения, если выражается в своей обычной манере, но он не умеет пользоваться вазелином, а то, что он сказал — это всеобщее мнение, кто-то должен был его озвучить, и он его озвучил, и точка!
— А поэтому предлагаю, — закончил Паницца, жестом останавливая аплодисменты, — чтобы мы прекратили митинг типа культурного воспитания и на худой конец прямо сейчас начали бы разыгрывать роли. Повторяю, я прошу прощения за то, что говорю так же, как ем, но ты, Дамико, знай, что я такой, каким создан, я даже могу считать тебя засранцем, но не по злобе, а от всего сердца, и только потому, что не умею врать!
Дамико попытался возражать, но безуспешно. Тогда, сделав хорошую мину при плохой игре и посчитав, что идеологическое просвещение может оказаться действеннее в малых дозах по ходу репетиции на сцене, моментально перешел к ней. С этого момента никаких инцидентов больше не было: актеры были полны энтузиазма, раскованы и послушны. Все знали свои роли наизусть, даже если некоторые интонации выдавали неточное понимание текста и были слишком укоренены в сознании, что затрудняло любые попытки их коррекции. Хуже обстояло с произношением: так, у всей тройки богов, Валли, Дольяни и Панницы, была сильно выраженная каденция, характерная для падуанского и ломбардского диалектов, что явно не вязалось не только с провинцией Сезуан, но, также и прежде всего, с Царствием Небесным, откуда, предположительно, и спустилась эта божественная троица; Грегорио Италиа, вероятно, попав в плен придуманного им сценического образа, заговорил вдруг с неожиданным французским акцентом, отчего в его Летчике стала проглядывать некая педерастия, которая приводила всех в восторг, но у Дамико вызвала полное неприятие столь радикальной трактовки; в свою очередь, Сюзанна Понкья имела склонность к напевности и неаполитанской мелодичности, что делало образ Шен Де излишне милым, домашним, начисто лишенным классового содержания представителя эксплуатируемых слоев третьего мира, что, по мнению Дамико, являлось основным в этом персонаже. Но все это в какой-то степени были предвиденные трудности, с которыми Дамико пообещал себе справиться за шесть недель репетиционного периода.
Менее ожидаемыми, а точнее, вовсе неожиданными, стали периодические выходки Паниццы. Из вялого противника выбора «Доброго человека» он превратился в самого горячего сторонника пьесы. Зная назубок текст роли, он постепенно начал проникаться смыслом всей пьесы и однажды воскликнул:
— Ну, мать твою! Теперь да, теперь-то я понял: здесь Бертолбрек хочет сказать этим, что если кто-то не выпустит когти, то может протянуть ноги, то есть оставить всякую надежду чего-то добиться полезного для себя! А когда я слушал Маэстро со всеми его бла-бла-бла и Verstehst du, то думал: господи, что за хреновина! Да здесь нужно иметь университетский диплом, чтобы чего-нибудь понять! А оказывается-то, на самом деле все очень просто и ясно, как при ярком солнце! Это все правда и святые слова, как те, что в Евангелии, что могут понять даже мусорщики городских окраин…
— Я согласен с тобой, Паницца, — перебил его Дамико. — Однако это не имеет никакого отношения к тому, чем мы занимаемся. Сейчас мы говорим о том, что ты, и Валли, и Дольяни должны попытаться четче произносить гласные и звонкие звуки, говорить «полиция», не «палисыя», понятно?
— А я считаю, — настаивал на своем Паницца, — что каждый должен говорить так, как научила его мать. Эта история должна быть понятна в кварталах, населенных простым народом. Если мы все начнем разговаривать, как Марчелло Мастрояни, люди скажут: что это они нам тут показывают? На хрен нам сдался их Китай… Что, ты думаешь, скажут люди, если я или Дольяни будем произносить «полиция», как требуешь ты? Что это за два придурка тут выдрючиваются, скажут они!
— Знаешь, Паницца, какое твое слабое место? — опять перебил его Дамико. — Фри-ка-тив! У тебя фрикатив, который…
— Ты чо, парень, на ругань перешел? — взорвался Паницца, впервые услышав слово «фрикатив» и принимая его за оскорбление. — Ты эту похабень своей сестре говори, понял?
С налитым кровью от ярости лицом, он двинулся было к режиссерскому столику, когда все вдруг вскочили с мест и замерли.
Из глубины зала к ним шел Маэстро.
Глава пятнадцатая
— Сидите, сидите, ради бога, не вставайте!
Маэстро двигался по проходу широким шагом. За ним, отставая на пару шагов, двигался Баттистоцци, как и Дамико, бывший диоскур, постепенно доросший до ранга Первого придворного, и не столько за фантастическое постоянство, с каким сопровождал Маэстро повсюду, в кино или за покупками, сколько за присущий ему циничный, слегка вульгарный юмор, с каким он имел привычку высмеивать в итальянском театре все, что не было связано с именем Маэстро, а это нравилось Маэстро не менее его собственных издевок в разговорах с Сюзанной Понкья.
— Вы мне позволите посидеть немного на репетиции? Я вам не помешаю?
Дамико довольно хмыкнул и повторил, к замешательству всех, что для них большая честь продемонстрировать Маэстро скромные плоды их усилий.
— Давайте, ребята, покажем, что мы успели сделать!.. С самого начала!
Маэстро уселся в последнем ряду, рядом устроился верный Баттистоцци, и репетиция продолжилась. Актеры выходили на сцену со всех сторон, как попало, в явном беспорядке, напевая финальный хор из «Швейка во Второй мировой войне»:
Течет наша Влтава, мосты омывает, Лежат три монарха в червивых гробах. Порою величье непрочным бывает, А малая малость растет на глазах.Цюрихский Гном, сидевший двумя рядами ниже, с довольной физиономией обернулся к Маэстро, словно наслаждаясь сюрпризом, от которого у последнего отвалилась челюсть.
— Признайся, такого ты не ожидал, правда? — спросил он, подсаживаясь к Маэстро.
— Н-нет, такого я действительно не ожидал… Но… я толком не пойму мотива этой… так сказать…
— …контаминации, — подсказал Гном. — Ну, прежде всего, это необходимая цитата из твоего брехтовского спектакля… мы этим как бы говорим, что все мы вышли из него… подчеркивая, что всем обязаны тебе…
— Нет, ну это понятно, — сказал Маэстро, слегка приходя в себя. — Однако…
— То есть, — продолжил напирать Дамико, — мы обозначаем преемственность ситуации. В «Швейке» с нацизмом покончено, ведь так, а на самом деле притеснения продолжаются… Только не говори мне, что ты этого не понял!
— Нет, почему же, что тут непонятного, я сразу понял… Это Влтава слегка сбила меня с толку…
— Ну правильно! — вскричал Гном. — Влтава — то же, что Сезуан… преемственность ситуации, невзирая на географическую отдаленность, которая, впрочем, в настоящее время практически ничего не значит, ведь так?..
— Так-так, продолжайте.
Закончив петь, актеры покинули сцену, все, за исключением Нуволари, который играл водоноса Вана. Он не прыгал по сцене, как Дель Кардине, напротив, он, скорее, был скуп в движениях и разговаривал в подчеркнутой простонародной манере.
Затем появились Паницца, Валли и Дольяни, и только колдовская магия театра позволяла поверить в то, что Ван признал в них тройку ожидаемых им богов. Кроме всего прочего, они вышли на сцену из боковой двери с броской табличкой «Туалет».
Гном снова подсел к Маэстро.
— Дверь туалета — это моя режиссерская находка, — сказал он, сияя от удовольствия. — На твой взгляд, это не выглядит слишком сильной пощечиной метафизике и не оскорбительно для религиозных чувств? Чего-чего, а этого не хотелось бы.
— Да нет, по-моему, все в рамках… — выговорил Маэстро, возвращая челюсть на место. — Ты что на это скажешь, Карло?
— А что, — хмыкнул Баттистоцци, — по-моему, неплохо!
Дамико спустился вниз, действо шло своим путем. Трое богов перемещались по сцене подобно марионеткам сицилийского кукольного театра. Свой текст они произносили по очереди, и было заметно, как каждый, ожидая конца реплики партнера, чтобы вступить со своей, слушал его, порой сопровождая последние слова немым движением губ.
— Черт побери, ты видишь то же, что и я? — почти не разжимая губ, едва слышно спросил Маэстро, обращаясь к Баттистоцци.
— Думаю, да, — ответил тот, рискуя задохнуться от сдерживаемого хохота.
— Это какое-то безумие… это полное… — закатил глаза Маэстро.
— Джоджо, уйдем, а, у меня уже нет сил, еще чуть-чуть, и меня инфаркт хватит…
В моменты наивысшего напряжения Баттистоцци произносил не Джорджо, а Джоджо.
— Нет, скажи мне, что это не так!.. Твою мать, скажи, что мне это только кажется!..
— Джоджо, умоляю, пошли отсюда скорее… Или ты хочешь, чтобы я умер?
После сцены Вана с богами, должна была появиться Шен Де, но присутствие Маэстро настолько потрясло Понкья, что она была на грани обморока.
— Ничего серьезного-м-м-м, — заверил всех подошедший Григорио Италиа. — Слегка закружилась голова-м-м-м… скоро пройдет-м-м-м. А пока не будем терять время, перейдем к моей роли-м-м-м… Заранее прошу прощения за небольшие провалы в памяти-м-м-м…
У Грегорио Италиа не было никаких проблем с памятью, но он сгорал от желания показать Маэстро зонг «Песня о восьмом слоне» в своей интерпретации: разумеется, не такой сильной с вокальной точки зрения, как у Массимо Раньери в спектакле Маэстро, но, быть может, именно по этой причине, на его взгляд, более тонкой и богатой интересными нюансами. Помахивая тросточкой, он вышел на сцену в бабочке и канотье и запел, имитируя Мориса Шевалье[20].
— Мне кажется, эффект демистификации заметен невооруженным взглядом, — сказал Гном, снова возникая рядом с Маэстро.
— Ну… да… скажем, да, — пробормотал тот. — Ты что скажешь по этому поводу, Карло?
— А что, — хмыкнул тот. — По-моему, неплохо!
— Это, естественно-м-м-м, Джорджо-м-м-м, — пояснил подошедший к ним усталый, но довольный Грегорио. — Я вложил в образ свое французское воспитание-м-м-м…
— И что, ты точно так же исполняешь и «Песню о дне святого Никогда»? — спросил Маэстро, на этот раз с искренним любопытством, обнаруживая свои вкусовые пристрастия.
— Ни в коем случае! — вскричал Гном, обрадовавшись вопросу. — У нас каждый зонг служит для разоблачения конкретного мифа западного песенного ширпотреба.
Судя по подбородку Маэстро, тот не совсем понял, что Дамико имеет в виду.
— Ты можешь еще что-нибудь спеть для Маэстро? — обратился Дамико к Грегорио Италиа:
— С удовольствием-м-м-м! — кивнул Италиа.
Он отложил в сторону канотье и тросточку, снял бабочку, расстегнул три пуговицы рубашки и повязал на шею атласный фуляр. Потом поднялся на сцену и, прикрыв глаза и едва разжимая губы, сладчайшим, интимнейшим голосом запел зонг «Песня о дне Святого Никогда».
Удовольствие сочилось из всех пор Гнома.
— Этим мы разрушаем миф о Хулио Иглесиасе, — сказал он с саркастической улыбкой кровожадного ниспровергателя. — Это пощечина мировой попсе! Только не говори мне, что это непонятно!
Глава шестнадцатая
Репетиция длилась еще какое-то время в том же духе. Сюзанна Понкья окончательно пришла в себя, и теперь, наоборот, была озабочена тем, чтобы Маэстро по достоинству оценил ее трактовку образа Шен Де, и понял, что если она и оказалась вовлеченной в любительский спектакль, то не потому, что внезапно ослабела ее преданность ему, а потому, что на самом деле ей было, что сказать. Она создавала образ китайской проститутки, какой ее можно себе представить в культурных координатах западного Средиземноморья: домашней, милой, немного наивной, однако готовой мгновенно обернуться негодяем-кузеном Шой Да, жестоким тираном, холодным садистом с горячей порывистостью неаполитанского мафиозо. В глубине души она — подобно Грегорио Италиа — питала тайную надежду, что, увидев ее, Маэстро поймет, что глупо держать такой талант в четырех стенах офисного кабинета, и выведет ее под яркие огни рампы.
Дамико был на вершине блаженства. Приход Маэстро он воспринял как полное признание и безусловное окончание периода охлаждения, причиной которого и явился сам факт рождения любительского театра. Конечно, не стоило ждать от Маэстро похвал, разве что двусмысленных, произнесенных так, что сказанное следовало понимать совсем наоборот, — оружие, которым Маэстро владел виртуозно. Кто бы не упустил случая высмеять некоторые шероховатости актерской игры, так это Баттистоцци, всегда готовый подбросить полешек в костер язвительности своего босса. Но Дамико знал и то, что Маэстро не так глуп, как его жополизы, и уж в чем в чем, а в театре он разбирался, дай бог каждому! И даже в те сладостные для его сердца моменты, когда он поливал ядом другие театры, что так забавляло его клевретов, он прекрасно отличал зерна от плевел, пропуская мимо ушей саркастические вульгарности всяких там Баттистоцци.
Вот и сейчас он не мог не заметить гениальную смелость некоторых сценических решений, как, например, красный цитатник Мао, который торчал из карманов всех персонажей. Смысл этой находки состоял в том, что у него, Дамико, брехтовский текст был очищен от плоского марксистко-ленинского прочтения и переосмыслен в свете маоистской культурной революции.
И еще, что безусловно должно было понравиться Маэстро, это использование столь любимого им «эффекта отстраненности», порождаемого подчеркнутым зазором между всеми без исключения актерами и создаваемыми ими образами.
Взять Нуволари: он легко избегал малейшего психологизма в интерпретации роли Водоноса. И никто на свете, даже самый разстаниславский, и вообразить не смог бы, что перед ним люмпен-пролетарий из Сезуана! То же самое относилось и к трио богов. Никаких попыток отождествления с персонажами, ни одного из тех нервических жестов, тех мелких характерных красочек, с помощью которых профессиональные актеры создавали своих так называемых персонажей аристотелево-натуралистического плана. С продуманными скупыми движениями, статичные, а лучше сказать, застывшие во времени-пространстве сцены-понимаемой-как-реальное-место, Нуволари, Валли, Паницца и Дольяни произносили свои реплики и вели себя с такой степенью отстраненности, какой Дель Кардине и компания добивались лишь в краткие и случайные мгновения. Дамико помнил, как Маэстро на репетициях своих эпических спектаклей (а не психологических а-ля Станиславский, основанных на обязательном тождестве актера и его персонажа) то и дело кричал из партера: «И он говорит!..», «а здесь Ван восклицает!..», напоминая актерам, что они лишь «показывают персонаж извне», а не «проживают его жизнь изнутри», что они не Гамлеты, а только показывают Гамлета в тех или иных обстоятельствах. А сейчас он, Дамико, не прикладывая особых усилий, создавал спектакль, быть может, самый «отстраненный», то есть истинно брехтовский, который когда-либо видели в Италии, и не только в Италии!
— Я так толком и не понимаю, зачем он тут, — сказала с недоумением Мария Д’Априле, когда Дамико объявил десятиминутный перерыв.
— Может, в качестве взаимного обмена опытом, чтобы и мы приходили на его репетиции, — рискнул предположить Дольяни.
Но в это мало кто поверил. Особенно после того, как Паницца припомнил случай такого «обмена». Тогда они сбросились и преподнесли Маэстро рождественский подарок, он его взял, сказал: «спасибо, я опаздываю, сейчас у меня нет времени купить подарки вам, но как только освобожусь…» Это случилось восемь лет назад, а они до сих пор ждут!
Прерваться на десять минут попросил Маэстро, которому нужно было уходить, и он хотел сказать пару слов. Все сгрудились в центре зала, окружив Маэстро, который стоял с серьезным видом, подобающим для важных моментов.
— Молодцы! — начал он, разглаживая ворот свитера и глядя по привычке вдаль: — По крайней мере… интересно… Должен сказать, я не очень-то верил, что у вас что-то получится. Признаюсь, к моему стыду, что я пришел сюда, убежденный, что буду присутствовать при полном обломе… Однако нет! Текст не предполагает такого результата. Он сопротивляется. Пьеса — шедевр, и даже компания самых плохих актеров в мире не в силах испортить ее. Так что с этой точки зрения вы надежно защищены! Молодцы! Хотя есть еще много чего, что стоит довести до ума… Может быть, даже все… И многое переделать… Тоже, может быть, все… Впрочем, у вас еще… сколько месяцев до премьеры?
— Пятнадцать дней, — уточнил Дамико.
— Пят… — Маэстро поперхнулся, но быстро взял себя в руки. — Гхм… думаю, месяца два-три или, скажем, четыре было бы лучше. Пятнадцать дней!.. Это ж как надо работать, ребята! И при этом помнить, что, возможно, ничего не получится. Тогда, будь я на вашем месте, я бы застрелился! Но на своем… я — совсем другое дело, я привык жить с нацеленными на меня ружьями критиков! Вы — любители, и можете всегда ими оставаться, даже если все обернется полным дерьмом, плевать вам на это, вы сделали это ради развлечения, и если кто-то развлекается тем, что его бьют молотком по голове и он при этом доволен, то флаг ему в руки!
Завершив эту любезную преамбулу, Маэстро объявил, что будет отсутствовать несколько дней, что ему надо, чтобы Нуволари отвез его в Зальцбург, в связи с чем он покорнейше просит синьора Дамико отпустить Водоноса на пару дней.
Обведя присутствующих взглядом, в котором читалось: до сих пор мы обменивались любезностями, а сейчас пришло время поговорить серьезно, — он сказал:
— Есть кое-что, с чем нельзя шутить. Я имею в виду, что вы для своих репетиций используете общественный театр, это значит, что он несет расходы, а вам известно, насколько я щепетилен в этом вопросе. Вы жжете свет, отапливаете зал, занимаете его… Мой театр всегда в эпицентре циклона: представляете, что будет, если завтра мои политические противники примутся обвинять меня в том, что я потворствую вам в незаконной трате средств театра! Следовательно, необходимо, чтобы, по крайней мере формально, любительский театр сам оплачивал свои расходы. Вы знаете, что мы запросили финансирование у Европейского сообщества, это была моя идея, и я рад, что она пришла мне в голову. Чтобы ускорить выделение денег, я уже позвонил в Страсбург нашим депутатам в Европарламенте, переговорил с Миттераном и некоторыми авторитетными друзьями. Аренда зала стоит дорого, и, уверен, дирекция не пойдет на то, чтобы снизить цену, не говоря уже о том, чтобы предоставить ее вам бесплатно, как хотелось бы мне. Не хватает еще миллионов пятьдесят. Но я попробую уговорить административный совет помочь найти недостающую сумму. Еще не знаю, как… но мы ее найдем. Однако если это выйдет наружу, если, не дай бог, разразится скандал, знаете, что со мной будет? Меня посадят!..
Глава семнадцатая
Лежа в шезлонге в обширном солярии клиники Миконоса[21], Маэстро смотрел на раскинувшееся перед ним Средиземное море. Он оказался здесь, сбежав из клиники в Зальцбурге, которая на деле обернулась вонючей дырой и директор которой, мудак-немец из Германии, ja! ja! родственник Вагнера по нисходящей линии, имел наглость сказать, что его «Лоэн-грин», поставленный несколько лет назад в «Ла Скала», показался ему слишком мрачным!
Новая клиника славилась своей терапией укрепления мышц шеи, но Маэстро, скорее, желал напитаться здесь аурой, способной вдохновить его на работу над следующими фрагментами «Фауста», к репетициям над которыми он должен приступить, как только вернется в Милан. Уставившись в это греческое море, он повторял про себя стихи Монтале, постепенно проникаясь их духом и все больше ощущая себя их протагонистом. Как бы ему хотелось стать тем «незыблемым негладким камнем, что неподвластен едкой соли моря… осколком вечности», но — увы! — он всего лишь «человек, что вглядывается зорко в себя, в других, в кипение жизни быстротечной»… Образ ему понравился и, скрестив руки на груди и устремив наполненный мудростью взор к самому горизонту, он представил себе, как с находящегося под солярием рифа его в такой позе запечатлевает бродящий среди камней фотограф. Но с рифа ему посылали свой ю-ху! всего лишь двое «голубых» скандинавов. Маэстро отвел глаза, поудобнее устроился в шезлонге и попытался сосредоточиться на работе.
Все было напрасно! Сколько бы он ни взывал к здравому смыслу, сколько бы раз в день ни клал на одну чашу весов свое имя и свой авторитет, а на другую — Цюрихского Гнома с его недоумками, ничто не помогало: Компания итальянских говнюков вонзилась в него, как заноза под ноготь, лишая покоя, вдохновения, фантазии, желания работать!
— Да брось ты, Джорджо, это уже смешно! — сказал ему по телефону вчера вечером Баттистоцци.
— Я знаю, что смешно! Но так оно и есть, ети их мать! Я — идиот! И уже понял, что до тех пор, пока эти ублюдки не выйдут на сцену, не оттрахают публично сами себя в задницу, пока я не увижу, как они один за другим потонут в своем дерьме, я не смогу работать!.. Ты что сейчас делаешь?
Баттистоцци в ту минуту, когда из Театра ему велели позвонить Маэстро, смотрел по телевизору футбол.
— У нас тут тоже полная жопа, Джорджо! — пожаловался он. — «Рома» проигрывает ноль — один!
— Ну ты посмотри, а! Ты еще можешь смотреть телевизор! Я — идиот! Ты — гений! Для тебя главная проблема, что «Рома» пролетает ноль — один! Мои комплименты! Браво! Счастливчик!
— Джорджо, ну ты же сам понимаешь: спектакль — полное говно! Плюнь и разотри!..
— Хорошо-хорошо, смотри свой футбол дальше. До завтра. Чао!
В ярости он бросил трубку, едва не разбив ее, что с ним случалось всегда, когда он не мог найти выхода своему дурному настроению.
Несколько минут спустя позвонил Ламберто Пуджотти.
— Ты что так поздно? Тебе разве не сказали, чтобы ты перезвонил немедленно?
— Да пока я добрался до Театра…
— А из дома ты не мог позвонить?
— Джорджо, у меня и без того счет за телефон кого угодно до инфаркта доведет! Мариза меня точно потом придушит…
Мариза Минетти, жена Пуджотти, вела домашнюю бухгалтерию. Как только она услышала, что Маэстро просил перезвонить ему на Миконос, она взяла все три телефона, что были в квартире, и заперла их в туалете, а ключ спрятала у себя на груди. Пуджотти был единственным, кто в искусстве доставать собеседника по телефону мог конкурировать с Маэстро: та же страсть к монологам, та же способность никогда не отвечать прямо на вопрос, а лишь пропустив через мозг все возможные варианты ответа, и — не последнее — аналогичная склонность к длинным, задумчивым паузам, полным вздохов и покашливаний и часто являющимся следствием того, что каждый из двоих, рассчитывая, что его собеседник думает, держал паузу, уважая мыслительный процесс другого… Один его телефонный разговор из Милана на Миконос, да еще когда на том конце провода Маэстро с его бешенством матки, мог стоить, как хорошая стиральная машина.
— На твой взгляд, чем все кончится у этой компашки придурков?
— Кончится согласно логике, — спокойно ответил Пуджотти.
— Что ты имеешь в виду, можешь объяснить по-человечески? — психанул Маэстро, уязвленный его спокойствием. — Просвети старого засранца, в чем здесь логика, учитывая, что этот старый мудак самостоятельно своим утлыми извилинами до этого не дотумкается!
— Нет проблем. Спектакль — или дерьмо, или не дерьмо. С точки зрения результата, это не имеет абсолютно никакого значения, ибо, как учит нас история, может случиться, что он не является ни тем ни другим…
— Да, и что, твою мать?..
А то, что, если бы ты был способен угадывать результат, ты должен был бы зарабатывать больше, чем Берлускони, и получить Нобелевскую премию года, а за тобой следом — и я. Так что логика не исключает ни одной из возможностей. Может получиться, что спектакль дерьмовый, но будет иметь успех, как несмотря на то что он дерьмовый, так и вопреки тому, что он действительно дерьмовый. Или же, напротив, провалится как дерьмовый, будучи дерьмовым, или же вопреки тому, что он дерьмовый! Короче говоря, чтобы узнать, чем все кончится, нужно подождать и посмотреть, чем все кончится. История, как учитель жизни, не предлагает нам ничего иного…
Но этим утром ни безразличие Баттистоцци, ни декартовский фатализм Пиджотти не принесли Маэстро никакого облегчения. Он позвонил в Театр и опять попросил, чтобы ему перезвонили. Ему перезвонили.
— Дай мне Нинки!
— Ее нет, сенатор.
— Где это она шляется?
— Не знаю, она еще не приходила.
— Найдите кого-нибудь, кто знает что-либо и кто сможет мне сказать, окажут ли мне честь…
— Простите, сенатор, за то, что перебиваю, она появилась.
— Тогда дай мне ее, черт тебя побери, чего ты тянешь?
Но ему ничего не оставалось, как безропотно ждать, когда Нинки доковыляет до своего кабинета, усядется за письменный стол, устроится поудобнее и снимет трубку…
— Уже одиннадцать часов, а в театре никого! Отлично! Молодцы! Я здесь рву себе задницу, ища способ свести концы с концами, чтобы оправдать те деньги, какие нам платят, чтобы людям было ясно, что я не из тех, кто ест свой хлеб задарма! А вы гуляете себе до одиннадцати утра! Превосходно! Браво! Спасибо вам! Далеко пойдем!
— Джорджо, я… — заблеяла Нинки.
Но Маэстро еще не закончил свой монолог:
— …Во всяком случае, если вам плевать, что этот старый мудак здесь, один, как собака, терзается, представляя Елену Троянскую со всей ее женственностью и ее титьками на острове, полном педерастов, хотя бы поимейте совесть перед рабочими. Мы требуем от них не терять ни одной минуты, чтобы иметь возможность заниматься хрен знает чем в компании недоносков Дамико, а сами какой пример им подаем, а? Молодцы! Отлично! Мои комплименты! Большое спасибо!
Нинки подождала, пока он закончит, и вступила:
— Этим утром я немного проспала, потому что вчера допоздна была занята на репетиции…
— Какой репетиции? Ах, да, естественно, Репетиции! Единственной, которой живет сегодня театр! Разумеется! К тому же освященной присутствием Генерального секретаря… еще один кинжал в спину старого дурака! Превосходно! Молодец! Спасибо!.. И как прошла репетиция?
— Довольно хорошо, — ответила Нинки. — Но есть одна новость…
— Какая? — спросил нетерпеливо Маэстро.
Стараясь унять дрожь в голосе, Старая Синьора произнесла:
— Дамико… исчез…
Глава восемнадцатая
Исчез — сказано слишком сильно, но, по сути, верно. Действительно, вот уже три дня, как Дамико не являлся на репетиции, не отвечал на телефонные звонки, не показывался в школе. В конце второго дня курьер экспресс-почты доставил короткое письмо «Моим товарищам актерам и техникам любительского театра», которое свидетельствовало о серьезном и неожиданном душевном срыве. В письме Дамико выражал уверенность, что его товарищи смогут довести до успешного конца работу, начатую в таком счастливом духе единения, и просил не предпринимать никаких попыток заставить его изменить свое решение, и так далее. На следующий день Дамико прислал в дирекцию Театра справку от врача, где говорилось, что ему предписан пятнадцатидневный отдых в связи с острой формой депрессии. Так что в течение пятнадцати дней его в Милане не будет.
Ничто не предвещало подобного развития событий. Репетиции шли замечательно, благодаря способности Дамико приспосабливаться к особенностям характеров членов труппы, горящей желанием работать, но мало профессиональной. К тому же она сразу разделилась на две группы: элиту, которая объединила премьеров и более культурно продвинутых членов труппы, и массу, в которой собрались все остальные. Последние открыто демонстрировали свое решительное неприятие теоретических умствований, едва Дамико рисковал открыть рот. Рупором массы в этом вопросе стал, разумеется, Паницца, который то и дело перебивал Дамико, говоря ему, что такие вещи надо писать в программках, там им самое место, потому что все равно их никто не читает, а сейчас надо не тратить время на ерунду, а репетировать роли, поскольку об этом договаривались, когда заваривали всю эту кашу! Как мы уже знаем, Дамико блестяще справился с этой проблемой, перенеся ее решение в область практической работы над ролями.
Еще одним неожиданным поводом для трений стали сценические костюмы. Но если относительно костюмов большинства персонажей все сошлись во мнении, что они должны быть достаточно реалистичны, выполнены в пролетарско-простолюдинском стиле и с некоторым налетом чужестранной экстравагантности: потертые куртки, мятые рваные штаны и юбки и всякие там прибамбасы третьего мира, то серьезные схватки начались, когда Дамико попытался надеть на троих богов длинные, почти до пола атласные балахоны и украшенные бубенчиками широкие шляпы в форме нимба. Естественно, бунт возглавил Паницца.
— Разрази меня гром, но я на себя это не напялю! — заявил он решительным тоном, увидев грустную физиономию Дольяни, одетого таким образом. — Это разве бог, вот это вот? Это ряженая обезьяна с карнавала в Рио-де-Жанейро!
Дамико принялся терпеливо объяснять ему, начав с коннотативной концепции костюма, что, переводя с дамиковского языка на более или менее человеческий, означало: цель театрального костюма состоит в том, чтобы выявить психо-социополитический образ персонажа, но Паницца не дал ему развить эту тему.
— Слушай, Дамико! — сказал он. — Кончай нести эту культурную пургу, она только сбивает тебя с толку, ты лучше свои мозги включи. По-твоему, Иисус Христос ходил в такой одежке, да? Или одетый так, как ты и твои костюмерши? Или как все остальные? Поэтому мы оденемся так, как если бы мы были тремя иисусхристами, которые ходят среди людей!..
— Но это в жизни, Паницца! А в театре костюм… это как… форма… мундир что ли…
— Видишь, не сечешь! В мундирах ходят епископы! А если некто есть бог, он одевается, как ему взбредет в голову, лишь бы удобно было! Ты что, никогда не видел картины в церквях? Все или в типа простынях, или халатах! Я, например, в этой истории бог, которому совсем не хочется, чтобы над ним насмехались. Так что, прости, давай договоримся: разве есть кто-то в этой истории, кто важнее меня?.. Поэтому надену куртку, и точка!
Но не эти мелкие, так или иначе преодолеваемые неприятности стали причиной депрессии Дамико. Кризис Цюрихского Гнома начался в тот самый день, когда на репетицию заглянул Маэстро. Когда прошла первая радость от показа ему необычайно эффектных сцен, от начального хора из «Швейка» до зонгов в исполнении Грегорио Италиа, Дамико показалось, что он расслышал в сказанных напоследок словах Маэстро ноту щемящей тоски, и это заставило его задуматься. После краткого наставления, в котором нашлось место и упоминанию о субсидиях ЕЭС, Маэстро попросил их продолжить репетицию, а сам, сопровождаемый Баттистоцци, отошел к входной двери в зал, где простоял, опершись о косяк, еще не менее десяти минут. Дамико повернулся посмотреть на него и увидел, что тот сильно изумлен, походя на человека, пораженного молнией: отвисшая челюсть, приоткрытый рот, уставленный в бесконечность взгляд…
Он подбежал к Маэстро, чтобы проводить его к выходу.
На пороге Маэстро сказал ему:
— В этом спектакле много всего… Клянусь, я никогда бы не сделал такого… И уж никогда бы не додумался до Хулио Иглесиаса…
С тем и ушел, ничем больше не сопроводив свои слова: ни сарказмом, ни даже простой ухмылкой, ничем из разряда своих жестоких двусмысленных комплиментов, с головой, почти утонувшей в плечах, но не из-за холода, — о, нет! — не из-за холода!..
Побежденный!
Превзойденный!
Именно это прочитал Дамико в его молчании, исполненном боли и печали! Побежденный или превзойденный в глазах общественного мнения или в свете прожекторов театральной критики не в сравнении с лучшими спектаклями Бродвея или «Ла Скалы», или с каким-нибудь пиротехническим действом Мадонны! Нет! Превзойденный в самой сути театрального искусства, сравненный с новым способом строить театральную игру без опоры на великие актерские имена или дорогостоящие технические трюки, да еще в придачу на той же самой территории, и с текстом, который он сам ставил дважды! Второй раз с привлечением известных имен и огромных средств. А здесь оказавшийся нос к носу с новым методом, бедным и голым, как бедна и гола истинная философия, однако эффективным, необычайным, ярким и сущностным, как круг Джотто[22], решительным, как меч Александра Македонского, рассекшего гордиев узел! В воображении Дамико возникла сцена из «Амадеуса» Петера Шаффера, когда Моцарт берет в руки ноты бравурного марша, написанного для него старым Сальери, и с веселой гениальной виртуозностью превращает этот безвкусный слабый музыкальный текст в бессмертный шедевр! Дамико ничуть не сомневался: именно это понял Маэстро, увидев собственными глазами, во что он, Дамико, превратил «Доброго человека»! И не только понял, но и признал с высоты своего величия тот факт, что ученик превзошел учителя. И в этот момент истины ни на миг не подумал скрыться, или скрыть это, или восстать против этого, используя силу и авторитет своей власти! Нет, Маэстро признал то, что наверняка воспринял как приговор Истории. Скипетр выпал из его руки, эстафетная палочка передана другому, старый слон изгоняется на мифическое кладбище переживших самих себя, руки засунуты в карманы, голова вжата в плечи, и кудахтающий радом Баттистоцци…
Именно в этот миг Дамико и впал в депрессию. Быть может, в упоении от результата демонстрации собственного успеха, он не нашел в себе силы нанести последний смертельный удар старому Маэстро, ощутив его печаль и одиночество, и представив, как тот, завернутый в белую тогу, говорит ему, пряча лицо: «И ты, Энрико, сын мой!»[23]
Спустя два дня и две бессонные мучительные ночи, описать которые под силу лишь Достоевскому, он пришел к выводу, что никогда не смог бы совершить святотатственный акт убийства своего Отца и Учителя, хотя и обязан был сделать это, согласно долгу, предписываемому атавистическим законом природы. Он должен поехать к Маэстро, покаяться в собственной дерзости и вымолить его прощение.
И на рассвете третьего дня он отправился в Зальцбург, в то время как Маэстро, ничего не ведая обо всем этом, уже перебрался на Миконос.
Глава девятнадцатая
Репетиции шли, день премьеры приближался семимильными шагами.
Исчезновение Дамико, после того как стало ясно, что с ним ничего серьезного не приключилось, не сказалось на настроении коллектива «Доброго человека». Постановка была обречена быть показанной публике. Дамико успел объяснить актерам, когда и откуда им выходить, в чем актеры-любители, как правило, путаются больше всего, и в общих чертах наметил их перемещения по сцене по ходу спектакля. Все, от Грегорио Италия до Сюзанны Понкья, от Нуволари до Валли и Паниццы, чувствовали себя абсолютно готовыми, зная свой текст и свои действия, и даже полагали, что в отсутствие Дамико смогли обогатить образы своих героев теми маленькими индивидуальными придумками, которые не всегда ему нравились, и он решительно их отвергал, поскольку они нарушали общий рисунок роли. Благодаря сложившимся обстоятельствам — сирота (труппа «Доброго человека»), покинутая ее духовным отцом (Дамико), — в театре сам собой сложился дух солидарности: технические службы, давно маявшиеся без дела, поскольку начало репетиций «Фауста» неоднократно переносилось, принялись охотно сотрудничать с новым творческим коллективом. А так как технический штат Театра был представлен суперпрофессионалами, в течение многих лет и даже десятилетий привыкшими к сложным и четким требованиям Маэстро, «Добрый человек из Сезуана» в исполнении самодеятельных актеров оказался обеспечен высококачественным техническим сопровождением, характерным для лучших спектаклей Маэстро. Многие из служб в большей или меньшей степени прямо участвовали в работе над спектаклем, с невиданным усердием экспериментируя со светом, звуком, сценическими эффектами, наконец-то, на свой страх и риск, без указаний и понуканий Маэстро или его помощников.
Та же радостная атмосфера соучастия распространилась и на кабинеты Дирекции, где ее воспринимали с внешним безразличием и с «no comment» в качестве официальной формы поведения. Постоянно крутясь среди политиков, Грегорио Италия ни упускал случая упомянуть о приближающейся премьере как о событии «я бы сказал-м-м-м… в определенной степени-м-м-м… новом-м-м…» в славной истории театра и, раздавая налево-направо приглашения, выбил обещание мэра, членов городского совета и секретарей политических партий присутствовать на премьере. Тем же самым занималась и Понкья: тесно общаясь с театральным людом, она, как бы между прочим, сообщала о «небольшом сюрпризе, который может оказаться не таким уж и небольшим… всё-всё-всё, больше не скажу ни слова, приходите и увидите сами!», и, таким образом, заручилась обещанием чиновников Министерства культуры и почти всех руководителей итальянских театров посетить премьеру.
Первые звонки начали одолевать пресс-службу: критики, хроникеры, обозреватели, колумнисты требовали хоть какой-нибудь информации о спектакле, о котором уже вовсю идет молва, а нет еще никакого официального релиза… какое отношение имеет к нему Маэстро?.. есть ли linkage[24] между этим спектаклем и постоянным откладыванием репетиций «Фауста»?.. Сотрудники службы — Джованни Солерци (Брадобрей в «Добром человеке») и Долорес Равелли (одна из лучших «шлюх») — отвечая, отделывались полунамеками, словно специально для того, чтобы еще больше распалить любопытство.
— Это спектакль, в котором занят состав… скажем так, набранный из сотрудников театра…
— Но пьеса — «Добрый человек из Сезуана»! Один из самых великих спектаклей Маэстро!
— Ну да! В этом и состоял смысл выбора!
— И Маэстро не возражал?
— Скажем… он согласен, что и такое имеет право на существование…
— А как соотносится спектакль… с эстетической и идеологической платформой Театра?
— Судите сами, все, кто занят в спектакле, актеры, технический персонал, все они прекрасно знают театр Маэстро, что естественно. Так что в этом смысле очевидно, что это спектакль Театра. И, тем не менее, он, скажем так… сам по себе… оригинальный…
— Маэстро следил за репетициями?
— Простите?..
— Я спросил, Маэстро следил за репетициями?
Пауза.
— Алло?..
— Да-да, я здесь… Я просто думаю, как ответить… Сказать, что Маэстро следил за репетициями, будет преувеличением. Посещал, да. И много о них говорил. С синьорой Нинки, со всеми…
— Но в итоге, это его спектакль или нет?
— Простите?
— Я спросил, можно ли сказать, что это спектакль Маэстро, по крайней мере официально, даже если его имя и не упомянуто?
— Нет-нет, ни в коем случае этого сказать нельзя! Не дай бог!
— Ничего не понимаю!..
— Вы придете на премьеру?
— Конечно! Не позволю лишить себя такого…
— Вам два места?
— А четыре можно?
— Хорошо. Четыре места на ваше имя. Я записал. Будем ждать.
Все, казалось, двигалось, как надо. Но с исчезновением Цюрихского Гнома остро встала проблема Госпожи Янг, матери летчика Суна. Роль большая, персонаж почти все время на сцене, ее Энрико Дамико, после вежливого, но твердого отказа Нинки, оставил за собой: маленькая особенность, по поводу которой с ехидством не замедлил пройтись Паницца, но она позволила бы Дамико не только расписаться под собственным спектаклем, как это делал Хичкок[25], но и наблюдать за его ходом изнутри. К слову говоря, Дамико был превосходный актер и уже с большим успехом играл Мадам Пернель в мольеровском «Тартюфе». Он, вне всяких сомнений, был бы прекрасной Госпожой Янг, хотя представить его матерью Грегорио Италиа никто из участников спектакля не мог, как ни старался. Так что однажды, в половине восьмого вечера, синьора Нинки увидела, как в ее кабинет входят Грегорио Италиа, Сюзанна Понкья и Этторе Паницца, последний в своем синем в белую полоску костюме с неизменными прищепками на отворотах брюк.
Троица явилась к ней по поручению всех остальных членов «Пикколи дель Пикколо» умолять ее согласиться сыграть роль Госпожи Янг. Все они говорили по очереди, каждый на свою тему.
Сюзанна Понкья заверяла ее, что веселая, проникнутая духом братства и взаимной любви атмосфера, в которой готовился спектакль, столь непохожая на ту, напряженную, драматическую обстановку, что царила на репетициях Маэстро, позволит ей отвлечься от занудства повседневной кабинетной работы и отдохнуть душой.
Паницца рассказал о ценности театрального эксперимента в свете классовых отношений: «в том смысле, что в театре человек играет определенного персонажа и учится понимать точку зрения других, скажем, как если бы Рокфеллер играл Водоноса, а его жена — шлюху, они поняли бы, что значит быть бедными и крутиться пропеллером, чтобы выжить, но такое может случиться только в театре, потому что в реальности ни один богач не играет водоноса, а если его жена и играет шлюху, то делает это не по нужде, а по призванию и бесплатно!..»
Последним выступил Грегорио Италиа. Он был конкретен. Осталось очень мало времени, поэтому ничего не поделаешь, на первых порах Госпожа Янг могла бы играть с текстом в руках… Его взгляд упал на томик «Доброго человека из Сезуана», чудесным образом оказавшийся на столе Нинки. Взяв книгу, он протянул ее Нинки, как бы подкрепляя этим жестом свою мысль. Но Старая Синьора решительно отодвинула его руку:
— Уберите. Я знаю роль назубок.
Глава двадцатая
Сойдя с самолета в Малпенса в 18:45, Маэстро увидел ожидающего его Баттистоцци.
— А почему нет Нуволари? — спросил он, даже не поздоровавшись.
— Джорджо, завтра у них премьера!
— Какая премьера?! Ах, да, Пре-мье-е-ера!
В ожидании багажа Маэстро явно нервничал.
— А что же Нинки?.. Не могла встретить меня вместе с тобой? Мы могли бы поговорить по дороге…
— Джорджо… ты же знаешь…
— Ах, черт, прости несчастного старого маразматика! Синьора Тина Нинки дебютирует как актриса! Как же я осмелился забыть это!..
Они забрали багаж и пошли к машине.
— Тебя отвезти домой или заглянем куда-нибудь перекусить? — спросил Баттистоцци.
— Когда это у меня было время перекусить! — пожалел сам себя Маэстро. — Давай заскочим на минуту в Театр.
— Но Джорджо, театр закрыт, все заняты…
— Пардон! Видимо, моей утлой головенке никак не запомнить, что нас ждет величайшее культурное событие года! Нижайше прошу прощения!.. Вези меня домой.
Они ехали в сторону Милана, двигаясь медленно из-за опустившегося на шоссе тумана.
— Еще только тумана не хватало! — процедил Маэстро и саданул ногой дверцу. — Прекрасно! Молодцы! Спасибо вам! Вперед с песнями!
После небольшой паузы он заговорил о Дамико. Сначала с удовлетворением констатировал полное фиаско Цюрихского Гнома, а дальше, даже с некоторым состраданием, высказался по поводу неблагоразумного и рискованного путешествия того автостопом по трассе Зальцбург — Афины, в которое Дамико пустился, надеясь настичь Маэстро на Миконосе, так, по крайней мере, Маэстро понял из полученной телеграммы. Мысль о том, что Дамико, подобно тому еврею, что был обречен никогда не достичь своей Каноссы[26], отправился в странствие по клиникам половины Европы, подействовало на Маэстро самым умиротворяющим образом: раздражение, вызванное предательством «отступника», утихло, уступив место великодушию.
— Все же, Карло, тебе стоило бы поинтересоваться, что там со спектаклем, — неожиданно сменил тему Маэстро. — Глянь хотя бы одним глазом… не слишком ли большая мура получается в итоге? То, что спектакль — дерьмо, мне понятно, но… Знаешь, у меня из головы не выходит бедная старуха Нинки. Не хотелось бы, чтобы и она утонула во всем этом дерьме…
— Я думаю, мы можем не дергаться, Джорджо, — успокаивающе заметил Баттистоцци. — В театре им все помогают: Кьети поставил им свет, Пьервиллани — звук, Черрони руководит рабочими и машинистами сцены…
— Ух ты, все мои орлы!.. Отлично! Этим засранцам не на кого будет жаловаться, кроме как на самих себя. Театр недоумков, но с несомненным стилем! Благодаря этому старому кретину, которому никак не удается начать репетиции «Фауста», группа дебилов пользуется мастерством искусника, синьора Кьети, который всему, что умеет, научился у меня! Прекрасно! Стало быть, даже такой отстой, как я, может представлять кое-какую ценность!
Он опять пнул дверцу, но моментально взял себя в руки.
— Как бы там ни было… поскольку в этом спектакле заняты лучшие люди Театра, мне не хотелось бы, чтобы он опустился ниже определенного уровня убожества… Ты не в курсе, там что-нибудь сделано… ну ты понимаешь… не знаю что… но чтобы хоть кто-нибудь пришел посмотреть спектакль?
— Думаю, да, Джорджо.
— Совсем не хотелось бы, чтобы эти дебилы оказались нос к носу с пустым залом…
— Я полагаю, что и в этом отношении ты можешь не волноваться, Джорджо.
— Хорошо, по крайней мере, могут быть довольны, если после спектакля кто-нибудь скажет им: молодцы, спасибо за то, что рискнули…
— Все билеты проданы, Джорджо. Вчера даже задержали билетного спекулянта.
Удар был болезненным, но Маэстро удалось удержать себя в руках.
— Вот как? Здорово! Билетные спекулянты! Такую честь они мне оказали только в случае с «Королем Лиром», но, видимо, времена меняются. Наверное действительно этому старому пню пришла пора идти в задницу! Ну что же, — продолжил он, не снижая градуса великодушия, — будем надеяться, что какая-нибудь газетенка напишет о спектакле пару строчек. «Ла Нотте», например, она же у нас пишет обо всем без разбору, включая кошек и свиней. Может быть, она даже пришлет какого завалящего хроникера…
— Про «Ла Нотте» ничего не знаю, Джорджо, — отозвался спокойно Баттистоцци, не отрывая взгляда от дороги, — но мне известно, что «Коррьере делла Сера» присылает заместителя главного редактора и съезжаются театральные критики со всей Европы.
Это была сущая правда. Непостижимая игра случая, подобная той, что сделала портрет Джоконды самой известной картиной в мире, а «быть или не быть» — самым знаменитым монологом, сделала и то, что «Добрый человек из Сезуана» в постановке самодеятельной труппы «Пикколи дель Пикколо»; день ото дня становился все более ожидаемым театральным событием года…
Так что, когда в половине девятого этого туманного вечера огромный зрительный зал Театра-студии погрузился в темноту, а на залитую светом сцену вышли актеры и зазвучала бессмертная «Течет наша Влтава…», все места в зале, независимо от их расположения, были заполнены публикой, не ниже качеством той массы депутатов и активистов, что заполняют залы партийных съездов и голосуют по отмашке партийного руководства.
Высадив Маэстро перед его домом и прервав таким образом неизбежный монолог шефа о самоубийстве, Баттистоцци успел в театр к сцене встречи Вана с богами. Нуволари использовал для роли свою старую шоферскую униформу, которую носил, когда весил килограммов на восемь меньше: китель из хорошей синей ткани подчеркивал прошлое благополучие, а ставшие ему узкими мятые штаны, подвязанные обрывком веревки, символизировали тяжелую жизнь в настоящем. Каждый из богов выбрал собственный наряд для сцены: Паницца щеголял в бриджах и велосипедной шапочке, что слегка контрастировало с костюмами двух других богов, но во время споров на репетициях он сумел отстоять свой выбор, доказав, что один из членов святой троицы не может быть похож на двух других. В движениях персонажей, казалось, ожили старинные учебники актерского исполнительского искусства: испуг — два шага назад, удивление — шаг вперед. Их реплики звучали сухо, отчетливо и громко, каждая с точно обозначенным риторическим смыслом: вопрос подчеркивала соответствующая интонация до самого последнего слова фразы, утверждение передавало целую гамму чувств — от досады до отчаяния. Эффект отстраненности лучше всего проявлялся в репликах с идеологическим и политическим подтекстом, придавая им легкий комический оттенок, моментально вызывающий одобрительную реакцию зала.
Наконец, под неизвестно где откопанную звукорежиссером китайскую колыбельную, появлялась Шен Де, проститутка-домохозяйка с кротким взглядом и доброй душой, как всякая Мими[27], которая «на мессу не ходит, но Господу молится часто». С выходом главной героини спектакль обогатился новыми красками: печаль в глазах и душевные переживания брали зрителя за душу. Затем последовали: живописное явление шебутных родителей героини, смачная сцена со Столяром, праздничный хоровод проституток в парке, шумный выход Грегорио Италиа, одетого Линдбергом[28]… и вот финальная сцена первого акта, когда Сюзанна Понкья, с опрокинутым лицом, прижав руки к лону, словно показывая, что именно заставляет ее плюнуть на суровую логику классовой борьбы, кричит: «Я хочу уйти с человеком, которого люблю!» — и все актеры возвращаются на сцену, чтобы пропеть «свете» в психоделической игре света, навеянной «кухней ведьмы» из первой постановки «Фауста» Маэстро, которую злые языки ехидно переименовали в «дискотеку» и «ночной клуб».
И как только зал взорвался бурными аплодисментами, Баттистоцци бросился звонить Маэстро.
— Джоджо! — взволнованно прокричал он в трубку, пропуская мимо ушей хрюканье, каким был встречен. — Я не понимаю, что за дьявольщина здесь творится, но ты обязательно должен срочно приехать в театр!..
Глава двадцать первая
Вопреки ожиданиям Баттистоцци, Маэстро в темно-сером двубортном кашемировом пиджаке и в модном серебристом галстуке уже ждал его. Не говоря ни слова, Маэстро сел в машину. Кто-то, должно быть, уже рассказал ему по телефону подробности.
— Значит, — произнес он после долгой паузы, — спектакль оказался не таким уж дерьмом, как вы все утверждали! Прекрасно! Хороши помощнички! Здорово вы держали меня в курсе дела! Отлично! Молодцы! Спасибо вам!
— Джорджо, речь не о том, дерьмовый спектакль или нет… но он нравится… он доходит… имеет свой стиль… и что самое главное…
— И что же оно, самое главное?
— Самое главное… только прошу, не пойми меня буквально, но он… он как бы сделан тобой…
— В смысле, настолько дерьмовый!
— Брось, тебе же ясно, что я не это имею в виду! Я говорю, что он… он в твоем стиле, как если бы…
— Ах, вот оно что!..
— Джорджо, ты, конечно, меня прости, но знаешь, что углядит в этом спектакле любой знаток? Что сцена организована, как в «Галилее», режиссура света — как в «Буре», а задник — так просто копия из «Кьоджинских перепалок»!..
Пока Баттистоцци вез Маэстро к Театру-студии, спектакль катился как по рельсам к финалу без единой технической накладки, благодаря сверхпрофессиональной работе вспомогательных служб, в великолепном световом оформлении, на фоне прекрасно изготовленного, без единой морщинки, задника.
И с миланской элитарной публикой, собравшейся в зале, случилось невероятное: она поверила в то, что наивная игра богов, патетические порывы Шен Де, зубовный скрежет ее мерзкого кузена, Тина Нинки в роли матери Грегорио Италия в его немыслимом канотье, скачки по сцене летчика Суна в преследующем его луче софита — все это не фейк, слепленный на скорую руку актерами-любителями и неизвестно каким режиссером, а вовсе даже зрелый плод четкого замысла, исполненного мудрейшей иронии. Тем более что история, очищенная, даже в деталях, от идеологических построений в редакции Маэстро, в этой постановке представлялась простой и понятной, словно красивая сказка, полная людской нежности и доброго юмора, неспешно рассказанная старым мудрым поэтом.
Едва Маэстро выбрался из машины у входа в Театр-студию, как наткнулся на мэра, покидавшего театр в сопровождении свиты. При виде Маэстро лицо мэра, прозванного Кузеном, поскольку он был назначен на этот пост по протекции нынешнего главы правительства, женатого на его сестре, засияло.
— Джорджо, какая жалость, что приходится уходить в антракте! — запричитал он, с необычайной теплотой пожимая руку Маэстро. — Я получил огромное удовольствие!.. Но через несколько минут у меня совещание… Уверяю тебя, я обязательно приду еще! Это чудо я должен посмотреть спокойно и до конца!
— Ну-ну, — ехидно ухмыльнулся Маэстро.
Следом руку пожал директор департамента культуры:
— Ну ты и хитрец! Твои уши торчат отовсюду! И это прекрасно!
— Ну-ну, — снова ехидно ухмыльнулся Маэстро.
Третьим был секретарь городского комитета правящей партии:
— Нет слов! У меня действительно нет слов! Мои поздравления!
— Ну-ну, — в третий раз ехидно ухмыльнулся Маэстро.
Он вошел в театр. Находившийся в баре министр культуры, бывший помощник морского министра, бывший заместитель министра внешней торговли, бывший министр сельского хозяйства, бывший всем подряд, поставил на стол чашку с ромашковым чаем и, разведя руки, со счастливым выражением лица двинулся навстречу Маэстро.
— Джорджо, ты хочешь меня уморить! Я уже в том возрасте, когда некоторые эмоции мне противопоказаны! Мог бы, черт тебя возьми, предупредить, что ты сделал такой спектакль!
— Ну-ну, — опять ехидно ухмыльнулся Маэстро, пытаясь увернуться от объятий министра.
Но тот взял его под руку и повел по фойе.
— Браво! — сказал он Маэстро доверительным тоном. — Вот видишь, можно ведь сделать прекрасный спектакль без всех этих политических кунштюков и идеологической тягомотины, которая сегодня уже никому не интересна? Сколько лет я тебе это твердил! Браво!
— Ну-ну, — ехидно ухмыльнулся Маэстро. — Что поделать, дорогой министр… как говорит Евангелие… никто не совершенен!
Чуть отодвинув тяжелую бархатную портьеру, Маэстро вошел в зал и встал у задней стены, спрятавшись за спинами стоящей публики. Спектакль уже вышел на коду, и он не увидел ни сцены разоблачения Шен Де, представлявшейся еще и своим ужасным кузеном, ни ликующих богов, которых Нуволари увозил за кулисы на своей тележке водоноса… Но той малости, что он успел увидеть, ему хватило, чтобы все понять и убедиться в точности интуиции Баттистоцци! Все в этом спектакле дышало его, только его способом строить театр! В прямом следовании или отталкивании, в подражании или отрицании, в копировании или пародировании, в уважительном цитировании или в вульгарной издевке, все, вольно или невольно, воспроизведенное этими недоумками в мизансценах, образах, жестах, интонации, было взято ими из того или иного его спектакля, украдено и приспособлено для собственных нужд и потребностей, точно так же, как мистики эпохи гуманизма грабили Виргилия, воруя целыми кусками фрагменты его «Энеиды», чтобы лепить из них свои гимны Мадонне.
И проделано все это было здорово! Здорово, в бога, душу мать!!! Гнусное скопище вызванных из заклятья и сорвавшихся с цепи сил не только не расплющило в лепешку эту компашку ворья, а, напротив, понесло ее на волне успеха, градус которого крепчал с каждой минутой! И когда, в самом конце, в соответствии со сценической придумкой, победившей в результате острых споров на репетициях, Сюзанна Понкья и Грегорио Италиа венчали неожиданной свадьбой любовный сон Шен Дэ и Суна, и на заднике высвечивалась выложенная веточками оливы фраза: «Делайте любовь, а не войну» — скандальный отсыл, равносильный плевку, — мать их! — в его «Пролог к небу» из «Фауста», — успех обернулся самым настоящим триумфом.
Свет в зале погас. И вновь вспыхнул, когда на сцену вышли все исполнители. Группками по три-четыре-пять человек они повторили гвоздевые моменты спектакля. Но когда, сияя от радости они взялись за руки и вышли к рампе, чтобы поблагодарить публику за теплый прием, странное оживление в зале отвлекло внимание от сцены. Щурясь от яркого света, актеры пытались разглядеть сквозь световой занавес, отделявший сцену от зала, что там творится. Все зрители, не прекращая аплодировать, повернулись к тыльной стороне зала: там, прислонившись к стене, стоял Маэстро. Публика уважительно раздвинулась. Раздались крики «браво». Актеры, счастливо улыбаясь, приглашающим жестом звали его на сцену. Сюзанна Понкья легко спустилась по ступенькам, подбежала к нему, взяла за руку и, преодолевая его сопротивление, с нежным насилием потянула за собой на сцену, к актерам, продолжавшим аплодировать ему.
Справившись с мгновением растерянности, если у него оно когда-либо было, Маэстро привычно поднялся на сцену, поцеловал руку Нинки, пожал руку Грегорио Италиа, по-отцовски приобнял Понкья, затем повернулся к публике. Актеры отступили на несколько шагов назад, оставив его наедине с собственным апофеозом. Аплодисменты переросли в овацию. Маэстро поднял обе руки и отрицательно покачал головой, как бы обуздывая энтузиазм зала, потом широким жестом переадресовал овацию актерам, заслужившим этот успех, и пригласил их встать рядом. А когда они вышли к самой рампе, как это было у него заведено, отступил назад и ушел за кулису, оттуда к выходу со сцены и дальше, на улицу, где в машине с работающем двигателем его ждал верный Баттистоцци.
Маэстро уже открывал дверцу машины, когда какой-то незнакомец, один из осчастливленных этим вечером, покинувший театр, чтобы успеть на метро, подошел к нему и, пожимая ему руку, словно вдохновленный Немезидой, нанес сокрушительный удар.
— Мои поздравления! — выкрикнул он растроганно. — Наконец-то я побывал в театре, в котором не дохнут от скуки те, кто пришел посмотреть спектакль!
Глава двадцать вторая и последняя
Лежа на полке сауны в финской клинике Уусикаупунки, куда Маэстро прибыл для прохождения короткого курса лечения березовыми настойками, убирающими воспаление десен, он просматривал корреспонденцию, пришедшую утром из Италии. В основном это были вырезки из газет с рецензиями на «Доброго человека». На спектакле побывали, за редким исключением, все ведущие театральные критики. Словно сговорившись, они, прежде всего, отмечали в своих отчетах восторженную реакцию публики. Маэстро не мог не заметить, что никто из них не придал слишком большого значения заявлениям, которые он сделал на следующий день после спектакля во время краткой встречи с журналистами, как бы случайно организованной пресс-службой в перерыве демонстрации мод из новой коллекции Армани.
Маурицио Порро из «Коррьере дела Сера», которому Маэстро традиционно предоставлял право задавать удобные для себя вопросы, спросил: что конкретно принадлежит мастеру в этой постановке?
— Абсолютно ничего. А что бы ты хотел, чтобы принадлежало? — последовал ответ.
Новый вопрос был уточнением: почему мастер не захотел подписаться под этой постановкой?
— Что я могу тебе на это ответить? — проговорил задумчиво Маэстро, засовывая руки в карманы и пожимая плечами. — Подписаться. А что, по-твоему, значит подписаться? В каком случае человек, художник, может осмелиться сказать о чем-либо «это мое» или «это сделано мной», ты об этом никогда не задумывался? Спроси любого, кто написал «Бесконечность» и «Панцири каракатиц», и он тебе ответит: Леопарди и Монтале. И это так. Однако вся итальянская поэзия, она или в духе Петрарки, или не в духе Петрарки, что означает: ни Леопарди, ни Монтале не существовало бы, не будь до них Петрарки. Это относится и к так называемым «моим» спектаклям. Моему успеху в них я во многом обязан Мейнингерскому театру[29], Тальма, Кину[30], Станиславскому, тому же кабуки и даже сицилийским марионеткам, почему бы нет! Так что не исключаю, что, начиная с этого момента, я и впредь буду отказываться от эгоистического, несправедливого, по сути, обычая ставить свое клеймо на любом своем спектакле, будто это бык, которому выжигают тавро на заднице! Нет, господа! По большому счету мое то, что есть «также и мое»! Иными словами, нет ничего исключительно моего, а есть одновременно всехнее! Моим является только мой вклад. Verstehst du? Поэтому, прости меня, Маурицио, но твой вопрос поставлен неверно. Есть спектакли, в которых все можно было бы назвать моим, но под которыми могли бы подписаться и Ронкони, и Питер Брук, и Шеро. А есть спектакли, которые мои, или их можно назвать моими, но которые так же смело можно было бы приписать Моисси, Лоуренсу Оливье и Станиславскому. Поэтому и здесь, когда ты меня спрашиваешь, что в этом спектакле моего, я тебе отвечу «ничего», и это будет правдой. Но столь же законно я мог бы сказать «все», и это тоже будет правдой. И потом, что такое правда?..
И т. д. и т. п.
Стало быть, критика ничуть не сомневалась в авторстве Маэстро.
«Рука Маэстро чувствуется в том, как необычайно использован человеческий материал в форме гротеска, хотя и не выходящего за рамки общепринятых типологических критериев, но поднятого здесь до вершин экспрессивной функциональности» («Коррьере дела Сера»). «„Добрый человек из Сезуана“ — свидетельство того, что наш самый знаменитый режиссер в результате обратился к авангардному, по сути, сценическому языку, в котором язык жестов (как говорят) превалирует над банальностью конкретного содержания (что хотят сказать), заменяя тем самым, если вовсе не отвергая, явно устаревший парадоксальный материалистический идеализм, столь типичный для прославленного миланского Театра» («Риволюцьоне культурале»). И, наконец, категоричный «табель успеваемости» «Гадзетта дель Пополо»: 10 за спектакль, 10 за актерскую игру, 10 за режиссуру.
Всех превзошел в своей оценке Джованни Рабони, наиболее авторитетный итальянский критик, который превознес «жест этого старого синьора сцены, который, уже будучи на пути к неизбежному закату, вдруг обрел юношеский порыв, поставив на кон всего себя, иронически переосмыслив собственное прошлое, и, как в случае с Прустом, который, едва закончив ‘Поиски’, принялся за переписывание романа уже в комическом и пародийном ключе, так и в этом случае, переосмысление старой знаменитой постановки ‘Доброго человека’ привело в результате к наиболее точному и убедительному его прочтению».
Все хорошо, что хорошо кончается. Телефонный звонок от Нинки добавил к вышеизложенному лишь некоторые конкретные детали, начиная от разошедшихся цитат из спектакля и кончая прогнозом о предстоящих аншлагах. Еще Нинки упомянула о кое-каких мелких проблемах, в частности, ту, что многие из занятых в спектакле не хотели бы возвращаться к своим прежним скромным обязанностям, что стоило бы обсудить в ближайшее время. Зато неожиданный успех спектакля переменил общее настроение в Театре, делая не столь ощутимой многомесячную бездеятельность Театра и уже ставшую привычной для него нехватку спектаклей, если не считать ритуальных возобновлений «Арлекино» по случаю каких-нибудь турне по Лапландии или странам Магриба.
— Знаешь, Джорджо, — блеяла Нинки, — поскольку спектакль прошел на ура, то, если хочешь, можешь отложить репетиции «Фауста» еще на несколько дней…
— Ну конечно, почему нет! Мы вообще можем отложить их навсегда! Кому может быть интересен этот занудный «Фауст», да еще в постановке этого несчастного старого маразматика!..
Вопреки обязательным для него в таких случаях садомазохистским причитаниям по поводу своей жалкой судьбы, он был доволен тем, как складывается ситуация. Поскольку сразу же после Уусикаупунки он собирался перебраться в новую немецкую клинику в Фридрихсруэ, где, как рассказывали, замечательно восстанавливали эластичность суставов с помощью черничных примочек. Нинки предложила включить «Доброго человека» в репертуар Театра, отдав ему абонементные купоны номер три, четыре, пять, шесть, семь и восемь, умолчав, естественно, о том, что многие настаивали отдать «Доброму человеку» также и купон номер два, зарезервированный за «Фаустом». Хотя Маэстро и дал свое согласие с обычным для себя выражением высокомерной скуки, в глубине души он был рад представившейся возможности прекратить работу над спектаклями, уже заявленными на вторую половину сезона, как-то «Замужество Франчески», по его поводу у Ламберто Пуджотти имелись неплохие идеи, но ничего, кроме геморроя, они Маэстро не доставляли! На первом же заседании административного совета он решит этот вопрос. Понятно, что связь между успехом «Доброго человека» и отменой других спектаклей выглядит притянутой за уши, но вряд ли у кого-нибудь из членов Совета хватит мозгов постичь эту несоразмерность. Так что никаких проблем не будет.
Маэстро вытерпел истязание березовым веником в исполнении санитарки, которая наверняка понятия не имела ни о театре, ни о человеке театра, распластавшемся перед ней, пулей вылетел из сауны, бросился в снежный сугроб, побарахтался в нем и, наконец, растянулся на топчане, позволив себе заслуженную релаксацию. Швейцар принес ему две телеграммы. Первой телеграммой Генри Киссинджер, председатель комитета по празднованию 500-летия открытия Америки, приглашал Маэстро с его новой редакцией «Доброго человека» в Нью-Йорк. Второй, пришедшей из Миконоса, Энрико Дамико информировал Маэстро о своем прибытии в Уусикаупунки дня через три-четыре. По его расчетам столько времени займет поездка на перекладных по маршруту Афины — Вена — Гамбург — Стокгольм.
На хрена, подумал Маэстро, через два дня я должен быть в Фридрихсруэ.
И хотя спина, иссеченная веником, еще горела, он задремал, что с ним всегда случалось после сауны. Во сне череду успокаивающих картин в пастельных тонах постепенно вытеснило кошмарное видение: в страшной, грязной миланской лачуге, его помощничек, более того, его alter ego, Луиджи Лунари, жалкий предатель, когда-то осмелившийся насмехаться над его управленческими талантами, дерьмовый переводчик, практически безграмотный писатель, иуда и цареубийца и, вне всякого сомнения, жопа с ушами, включил свой гребаный компьютер, создал новый файл и написал:
Глава первая
Это был один из тех редких случаев, когда Маэстро явился в театр в свободный от репетиций день…
Примечания
1
Те, с кем Маэстро контактирует на страницах этого романа. (Здесь и далее — прим. перев.)
(обратно)2
Те, кто играл какую-либо роль в жизни главного героя этого романа.
(обратно)3
Миланский аэропорт.
(обратно)4
В то время у театра, руководимого Маэстро, было две сценических площадки: основная — «Пикколо Театро» и «Пикколо Театро Студиа».
(обратно)5
Одна из жертв леди Макбет, постоянно являвшаяся ей в снах.
(обратно)6
Овощной суп (франц.).
(обратно)7
В переводе с итал. «Малыши из Пикколо».
(обратно)8
Акилле Оккетто (р. 1936) — лидер Итальянской коммунистической партии (1988–1991).
(обратно)9
Искусство красноречия (лат.).
(обратно)10
Перевод Т. Стамовой.
(обратно)11
Еще один аэропорт Милана.
(обратно)12
Диоску́ры — буквально «отроки Зевса» — в древнегреческой мифологии братья-близнецы — дети Зевса и Леды.
(обратно)13
Спектакли к торжественным датам.
(обратно)14
Дарио Фо (р. 1926) — итальянский драматург, режиссер, лауреат Нобелевской премии по литературе, теоретик сценического мастерства. Руководитель театра «Труппа Дарио Фо — Франка Раме».
(обратно)15
«Понять причины чьего-то проступка уже означает готовность простить совершившего его» (франц.).
(обратно)16
Легендарная танцевальная пара голливудских звёзд 40-х гг. прошлого века.
(обратно)17
Дзанни — персонажи (маски) итальянской комедии дель арте, среди которых самые важные Панталоне, Тарталья, Бригелла, Арлекин, Труффальдино, хорошо известные российскому зрителю по вахтанговской «Принцессе Турандот».
(обратно)18
Ты понял? (нем.).
(обратно)19
Одна из поэм Джакомо Леопарди, в которой говорится о радостном возбуждении, которое всякий раз охватывает крестьян при мысли о том, что после шести дней тяжелого труда их ожидает воскресный праздник.
(обратно)20
Морис Шевалье (1888–1972) — известный французский шансонье, щеголявший в канотье и с тросточкой.
(обратно)21
Греческий остров, крупный международный курорт.
(обратно)22
Легенда о том, как Джотто одним движением кисти нарисовал абсолютно правильный круг.
(обратно)23
Аллюзия на фразу Цезаря: «И ты, Брут, сын мой!»
(обратно)24
Связь (англ.).
(обратно)25
Альфред Хичкок (1899–1980) — известный американский режиссер, имевший привычку сниматься в своих фильмах в крошечных ролях, как бы помечая фильм собственным фирменным знаком.
(обратно)26
Ссылка, в которой автор соединил две легенды. Первая — о еврее, который оскорбил Иисуса, за что заслужил проклятье вечного скитания в нищете и одиночестве. Вторая — об императоре Генрихе IV, который, проиграв Папе борьбу за абсолютную власть над христианским миром, был вынужден явиться в город Каноссу, где тогда гостил Папа, и униженно просить его о прощении.
(обратно)27
Имеется в виду главная героиня оперы Пуччини «Богема».
(обратно)28
Чарльз Линдберг (1902–1974) — знаменитый американский летчик, первым перелетевший в одиночку Атлантический океан.
(обратно)29
Немецкий драматический театр, основанный в 1831 году.
(обратно)30
Франсуа-Жозеф Тальма (1763–1826) — французский актер, реформатор театрального искусства. Чарлз Джон Кин (1811–1868) — английский актер и театральный режиссер.
(обратно)




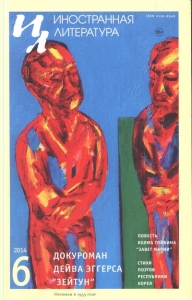

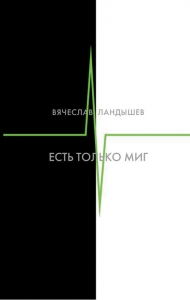


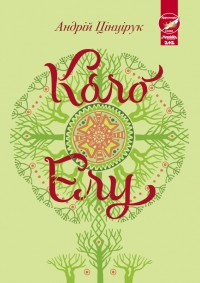


Комментарии к книге «Маэстро и другие», Луиджи Лунари
Всего 0 комментариев